Избранное. Компиляция. Книги 1-11 [Ирвинг Стоун] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Ирвинг Стоун МУКИ И РАДОСТИ
Часть первая «Мастерская»
1
Он сидел в спальне на втором этаже, смотрел в зеркало и рисовал свои худые, с резко проступавшими скулами щеки, плоский широкий лоб, сильно отодвинутые к затылку уши, спадающие к надбровью завитки черных волос, широко расставленные янтарного цвета глаза с тяжелыми веками. «Как скверно у меня построена голова, — сосредоточенно размышлял тринадцатилетний мальчик. — Все не по правилам. Линия лба выступает вперед гораздо дальше рта и подбородка. Видно, кто-то забыл воспользоваться отвесом». Он слегка подвинулся к краю кровати и, стараясь не разбудить четырех братьев, спавших тут же, за его спиною, навострил уши: с Виа делль Ангуиллара вот-вот должен был свистнуть ему приятель Граначчи. Быстрыми взмахами карандаша он принялся исправлять свой портрет — увеличил овалы глаз, придал округлую симметричность лбу, чуть раздвинул щеки, губы сделал полнее, а подбородок крупней и шире. «Вот теперь я выгляжу гораздо красивей, — решил мальчик. — Очень плохо, что лицо, если оно тебе уже дано, нельзя перерисовать, как перерисовывают планы фасада нашего собора — Дуомо». Из высокого, в четыре аршина, окна, которое мальчик отворил, чтобы впустить свежий утренний воздух, послышались звуки птичьей песенки. Он спрятал рисунок под валиком кровати в изголовье и, бесшумно спустившись по каменной винтовой лестнице, вышел на мостовую. Франческо Граначчи исполнилось уже девятнадцать лет; это был русоволосый юноша с бойкими голубыми глазами, ростом выше своего младшего друга на целую голову. Граначчи уже с год как снабжал мальчика карандашами и бумагой, не раз давал ему приют у себя дома, на Виа деи Бентаккорди, дарил ему гравюры, стянув их потихоньку в мастерской Гирландайо. Хотя Граначчи был из богатой семьи, его с девяти лет отдали в ученики к Филиппино Липпи, в тринадцать лет он позировал для центральной фигуры воскрешаемого юноши в фреске о «Чуде святого Петра» в церкви дель Кармине, — эту фреску Мазаччо оставил незаконченной, — теперь же Граначчи пребывал учеником у Гирландайо. К своим замятиям живописью Граначчи относился не слишком серьезно, но у него был острый глаз на чужие таланты. — Ты в самом деле не струсишь, пойдешь со мной? — нетерпеливо спросил Граначчи у вышедшего к нему приятеля. — Да, это будет подарок, который я сделаю себе к дню рождения. — Чудесно! Граначчи взял мальчика под руку и повел его по Виа деи Бентаккорди, огибающей огромный выступ древнего Колизея; позади высились стены тюрьмы Стинке. — Помни, что я говорил тебе насчет Доменико Гирландайо. Я состою у него в учениках уже пять лет и хорошо его знаю. Держись с ним как можно смиренней. Он любит, когда ученики оказывают ему почтение. Они повернули уже на Виа Гибеллина, чуть выше Гибеллинских ворот, обозначавших черту второй городской стены. По левую сторону оставалась могучая каменная громада замка Барджелло с многоцветным каменным двором правителя — подесты, затем, когда друзья, взяв правее, вышли на Виа дель Проконсоло, перед ними возник дворец Пацци. Мальчик провел ладонью по шершавым, грубо обтесанным камням стены. — Не задерживайся! — подгонял его Граначчи. — Теперь самое удобное время, чтобы поговорить с Гирландайо, пока он не углубился в работу. Торопливо отмеряя широкие шаги, друзья продвигались по узким переулкам, примыкавшим к улице Старых Кандалов; тут подряд шли дворцы с резными каменными лестницами, ведущими к дверям с глубоким навесом. Скоро друзья были уже на Виа дель Корсо; по правую руку от себя, сквозь узкий проход на улицу Тедалдини, они разглядели часть здания Дуомо, крытого красной черепицей, а пройдя еще квартал, увидели, уже с левой стороны, дворец Синьории — арки, окна и красновато-коричневую каменную башню, пронзающую нежную утреннюю голубизну флорентинского неба. Чтобы выйти к мастерской Гирландайо, надо было пересечь площадь Старого рынка, где перед прилавками мясников висели на крючьях свежие бычьи туши с широко раскрытыми, развороченными вплоть до позвоночника боками. Теперь друзьям оставалось миновать улицу Живописцев и выйти на угол Виа деи Таволини — отсюда они уже видели распахнутую дверь мастерской Гирландайо. Микеланджело задержался на минуту, разглядывая Донателлову статую Святого Марка, стоявшую в высокой нише на Орсанмикеле. — Скульптура — самое великое из искусств! — воскликнул он, и голос его зазвенел от волнения. Граначчи удивился: ведь они знакомы уже два года, и все это время друг скрывал от него свое пристрастие к скульптуре. — Я с тобой не согласен, — спокойно заметил Граначчи. — И хватит тебе глазеть — дело не ждет! Мальчик с трудом перевел дух, и вместе они переступили порог мастерской Гирландайо.2
Мастерская представляла собой обширное, с высоким потолком, помещение. В нем остро пахло красками и толченым углем. Посредине стоял грубый дощатый стол, укрепленный на козлах, вокруг него сидело на скамейках с полдесятка молодых учеников с сонными лицами. В углу, около входа, какой-то подмастерье растирал краски в ступе, а вдоль стен были свалены картоны, оставшиеся от написанных фресок: «Тайной Вечери» в церкви Оньисанти и «Призвания Первых Апостолов» в Сикстинской капелле в Риме. В дальнем, самом уютном, углу сидел на деревянном возвышении мужчина лет сорока; в отличие от всей мастерской его широкий стол был в идеальном порядке — карандаши, кисти, альбомы лежали на нем один к одному, ножницы и другие инструменты висели на крючках, а позади, на полках вдоль стены, виднелись аккуратно расставленные тома украшенных рисунками рукописных книг. Граначчи подошел к возвышению и встал перед учителем. — Синьор Гирландайо, это Микеланджело, о котором я вам рассказывал. Микеланджело почувствовал, что на него устремлен взгляд тех самых глаз, о которых говорили, что они видели и запоминали в одно мгновение гораздо больше, чем глаза любого другого художника в Италии. Мальчик тоже поднял свой взгляд: его глаза вонзились в Гирландайо, это были не глаза, а пара карандашей с серебряными остриями: они уже рисовали на воображаемом листе и лозу сидящего на помосте художника, и его васильковый кафтан, и красный плащ, наброшенный на плечи для защиты от мартовской стужи, и красный берет, и нервное, капризное лицо с полными пурпурными губами, и глубокие впадины на щеках, и сильные выступы скул под глазами, и пышные, разделенные прямым пробором черные волосы, спадающие до плеч, и длинные гибкие пальцы его правой руки, прижатой к горлу. Микеланджело припомнил слова Гирландайо, которые, как передавал Граначчи, он произнес несколько дней назад: «Прискорбно, что теперь, когда я начал постигать суть своего искусства, мне не дают покрыть фресками весь пояс городских стен Флоренции!» — Кто твой отец? — спросил Гирландайо. — Лодовико ди Лионардо Буонарроти Симони. — Слыхал такого. Сколько тебе лет? — Тринадцать. — Мои ученики начинают в десять. Что ты делал последние три года? — Тратил понапрасну время в школе у Франческо да Урбино, зубря латынь и греческий. Углы темно-красных, как вино, губ Гирландайо дернулись — это означало, что ответ мальчика ему понравился. — Умеешь ты рисовать? — Я умею учиться. Граначчи, горя желанием прийти на помощь другу, но не смея признаться, что он таскал потихоньку у Гирландайо гравюры и давал их перерисовывать Микеланджело, сказал: — У него прекрасная рука. Он изрисовал все стены отцовского дома в Сеттиньяно. Там есть такой сатир… — А, мастер по стенным росписям, — усмехнулся Гирландайо. — Соперник для меня на склоне лет. Все чувства Микеланджело были в таком напряжении, что он принял слова Гирландайо всерьез. — Я никогда не пробовал писать красками. Это не мое призвание. Гирландайо что-то хотел сказать в ответ, но тут же поперхнулся. — Я тебя мало знаю, но если говорить о скромности, то ты наделен ею в должной мере. Значит, ты не хочешь быть моим соперником не потому, что у тебя нет таланта, а потому, что равнодушен к краскам? Микеланджело скорее почувствовал, чем услышал, как укоризненно вздохнул за его спиной Граначчи. — Вы не так меня поняли. — Ты говоришь, что тебе тринадцать лет, а посмотреть — так ты очень мал. Для тяжелой работы в мастерской ты выглядишь слишком хрупким. — Чтобы рисовать, больших мускулов не требуется. И тут Микеланджело понял, что его поддразнивают, а он отвечает совсем невпопад и к тому же повысил голос. Все ученики, повернув головы, уже прислушивались к разговору. Через минуту Гирландайо смягчился: у него, по сути, было отзывчивое сердце. — Ну, прекрасно. Предположим, ты для меня делаешь рисунок. Что бы ты нарисовал? Микеланджело оглядел мастерскую, пожирая ее взглядом, как деревенские парни на осеннем празднике вина пожирают виноград, засовывая его в рот целыми гроздьями. — Могу нарисовать вот хоть вашу мастерскую! Гирландайо пренебрежительно рассмеялся, словно бы найдя выход из неловкого положения. — Граначчи, подай Буонарроти бумагу и угольный карандаш. А теперь, если вы ничего не имеете против, я снова примусь за свою работу. Микеланджело сел на скамейку около двери, откуда мастерская была видна лучше всего, и приготовился рисовать. Граначчи не отходил от него ни на шаг. — Зачем ты выбрал такую трудную тему? Не спеши, рисуй как можно медленней. Может, он и забудет о тебе… Глаза и рука, трудясь, помогали друг другу, они выхватывали из просторного помещения мастерской и заносили на бумагу самое существенное: длинный дощатый стол посредине с сидящими по обе его стороны учениками, помост, на помосте возле окна Гирландайо, склоненного за работой. Только теперь, впервые с той минуты, как Микеланджело переступил порог мастерской, он начал дышать ровно и спокойно. Вдруг он почувствовал, что кто-то подошел и встал у него за спиной. — Я еще не кончил, — сказал он. — Хватит, больше не надо. — Гирландайо взял листок и минуту разглядывал его. — Не иначе как ты уже у кого-то учился. Не у Росселли? Микеланджело знал, что Гирландайо давно питает неприязнь к Росселли, своему единственному во Флоренции сопернику: у того тоже была художественная мастерская. Семь лет назад Гирландайо, Боттичелли и Росселли по приглашению папы Сикста Четвертого ездили в Рим расписывать стены только что отстроенной Сикстинской капеллы. Росселли добился расположения паны, угодив ему тем, что применял самую кричащую красную, самый яркий ультрамарин, золотил каждое облачко, каждую драпировку и деревцо, — и таким путем завоевал столь желанную им денежную награду. Мальчик отрицательно покачал головой: — Я рисовал в школе Урбино, когда учитель отлучался с уроков, рисовал и с фресок Джотто в церкви Санта Кроче, и с фресок Мазаччо в церкви дель Кармине. Потеплев, Гирландайо сказал: — Граначчи говорит правду. Рука у тебя крепкая. Микеланджело протянул свою ладонь прямо к лицу Гирландайо. — Это рука каменотеса, — с гордостью сказал он. — Каменотесы нам не нужны, у нас в мастерской пишут фрески. Я возьму тебя в ученики, но при условии, как если бы тебе было всего десять лет. Ты должен уплатить мне шесть флоринов за первый год… — Я не могу вам уплатить ничего. Гирландайо бросил на него пронзительный взгляд. — Буонарроти — это не какие-нибудь бедные крестьяне. Если твой отец хочет, чтобы ты поступил в ученики… — Мой отец порол меня всякий раз, как я заговаривал о живописи… — Но я не могу тебя взять до тех пор, пока он не подпишет соглашения цеха докторов и аптекарей. И разве он не выпорет тебя снова, если ты заведешь разговор об ученичестве? — Не выпорет. Ваше согласие взять меня послужит мне защитой. И к тому же вы будете платить ему шесть флоринов в первый год моего ученичества, восемь во второй и десять в третий. Гирландайо широко раскрыл глаза: — Это неслыханно! Платить деньги за то, чтобы ты соизволил учиться у меня! — Тогда я не буду на вас работать. Иного выхода нет. Услышав такой разговор, подмастерье, растиравший краски, оставил свое занятие и, помахивая пестиком, изумленно глядел через плечо на Гирландайо и Микеланджело. Ученики, сидевшие у стола, даже не притворялись, что работают. Хозяин мастерской и желающий поступить в ученики мальчишка словно бы поменялись ролями: дело теперь выглядело так, будто именно Гирландайо, нуждаясь в услугах Микеланджело, захотел поговорить с ним и позвал его к себе через посыльного. Микеланджело уже видел, как складывались губы Гирландайо, чтобы произнести решительное «нет». Он стоял не шелохнувшись, всем своим видом показывая и почтительность к старшему, и уважение к себе. Его устремленный в лицо Гирландайо взгляд словно бы говорил: «Вы должны взять меня в ученики. Вы не прогадаете на этом». Прояви он малейшую слабость и неуверенность, Гирландайо тут же повернулся бы к нему спиной. Но, наткнувшись на столь твердый отпор, художник почувствовал невольное восхищение. Он всегда старался поддержать свою репутацию обходительного, достойного любви человека и поэтому сказал: — Совершенно очевидно, что без твоей бесценной помощи нам никогда не закончить росписей на хорах Торнабуони. Приведи ко мне своего отца. На Виа деи Таволини, где с самого раннего часа суетились и толкались разносчики товаров и шел оживленный торг, Граначчи ласково обнял мальчика за плечи: — Ты нарушил все правила приличия. Но ты добился своего! Микеланджело улыбнулся другу так тепло, как редко улыбался, его янтарные глаза с желтыми и голубыми крапинками радостно блеснули. И эта улыбка сделала то, что так неуверенно нащупывал карандаш, когда мальчик рисовал себя перед зеркалом в спальне: раскрывшись в белозубой счастливой улыбке, его губы словно бы налились и пополнели, а подавшийся вперед подбородок оказался на одной линии со лбом и уже отвечал всем требованиям скульптурной симметрии.3
Идти мимо родового дома поэта Данте Алигьери и каменной церкви Бадиа для Микеланджело было все равно что идти по музейной галерее, ибо тосканцы смотрят на камень с такой же нежностью, с какой любовник смотрит на свою возлюбленную. Со времен своих предков-этрусков жители Фьезоле, Сеттиньяно и Флоренции ломали камень на склонах гор, перевозили его на волах вниз, в долины, тесали, гранили, созидая из него дома и дворцы, храмы и лоджии, башни и крепостные стены. Камень был одним из богатейших плодов тосканской земли. С детских лет каждый тосканец знал, каков камень на ощупь, как он пахнет с поверхности и как пахнет его внутренняя толща, как он ведет себя на солнцепеке, как под дождем, как при свете луны, как под ледяным ветром трамонтана. В течение полутора тысяч лет жители Тосканы трудились, добывая местный светлый камень — pietra serena, и возвели из него город такой удивительной, захватывающей дух красоты, что Микеланджело, как и многие поколения флорентинцев до него, восклицал: «Как бы я мог жить, не видя Дуомо!» Друзья дошли до столярной мастерской, занимавшей нижний этаж дома на Виа делль Ангуиллара, в котором жило семейство Буонарроти. — До скорого свидания, как сказала лисичка меховщику! — усмехнулся Граначчи. — О, с меня наверняка спустят шкуру, но, не в пример лисичке, я останусь живым, — мрачно ответил Микеланджело. Он завернул за угол Виа деи Бентаккорди, помахал рукой двум лошадям, высунувшим головы из дверей конюшни на другой стороне улицы, и по черной лестнице пробрался домой, на кухню. Мачеха стряпала здесь свое любимее блюдо torta — кулебяку. С раннего утра цыплята, зажаренные в масле, были изрублены в фарш, куда добавлялись лук, петрушка, яйца и шафран. Затем из ветчины с сыром, крупчаткой, имбирем и гвоздикой готовились равиоли — пирожки наподобие пельменей, — которые укладывались в цыплячий фарш вместе со слоями фиников и миндаля и аккуратно завертывались в тесто. Всему изделию придавалась форма пирога — его надо было лишь испечь, поместив на горячие угли. — Доброе утро, madre mia. — А, Микеланджело! У меня для тебя сегодня приготовлено что-то особенное — такой салат, что слюнки потекут. Полное имя Лукреции ди Антонио ди Сандро Убальдини да Гальяно занимало на бумаге куда больше места, чем список ее приданого, иначе зачем бы такой молодой женщине выходить замуж за сорокатрехлетнего седеющего вдовца с пятью сыновьями и стряпать на девятерых человек, составлявших семейство Буонарроти? Каждое утро она вставала в четыре часа и шла на рынок, стараясь поспеть к тому времени, когда на мощенных булыжником улицах начинали громыхать крестьянские повозки, наполненные свежими овощами и фруктами, яйцами и сырами, мясом и птицей. Если она и не помогала крестьянам разгружаться, то облегчала кладь, выбирая себе товар прежде, чем он попадет на прилавок, — тут были самые нежные, сладкие бобы и piselli — горошек в стручках, превосходные, без малейшего изъяна, фиги и персики. И Микеланджело, и его четыре брата звали свою мачеху la Migliore, Несравненной, ибо все, что поступало к ней на кухонный стол, должно было быть только самым лучшим, несравненным. К рассвету она уже возвращалась домой, ее корзинки были полны добычи. Она не заботилась о том, как она одета, и не обращала никакого внимания на свое простое, смуглое лицо с еле заметным пушком на щеках и верхней губе и тусклыми, гладко зачесанными к затылку волосами. Но когда она ставила на уголья свою кулебяку и, вся разрумянившись, с волнением в глазах, важно и в то же время грациозно ступала, идя от очага к глиняным кувшинам с пряностями, чтобы взять горсть корицы или мускатных орехов и присыпать ими корочку пирога, когда любое ее движение говорило, что для нее драгоценна каждая минута этого утра и что все у нее рассчитано до тонкости, тогда Микеланджело казалось, что она излучает сияние. Микеланджело прекрасно знал, что мачеха была послушнейшим существом в семействе до тех пор, пока дело не касалось кухни: тут она превращалась в драчливую львицу, словно олицетворяя собой воинственного Мардзокко, геральдического льва республики. В богатую Флоренцию со всего света текли разнообразнейшие заморские редкие товары и пряности — алоэ, желтый имбирь, кардамон, тимьян, майоран, грибы, трюфели, молотый орех, калган. Увы, все это требовало денег! Микеланджело, спавший вместе с четырьмя своими братьями в комнате рядом со спальней родителей, не раз слышал, как еще до рассвета отец и мачеха, одевавшаяся к выходу на рынок, бранились друг с другом. — Послушать тебя, так каждый день тебе нужен бочонок сельдей и не меньше тысячи апельсинов! — Брось же скаредничать и выгадывать на корках от сыра, Лодовико. Тебе бы только складывать деньги в кошелек, а семья ходи с пустым брюхом. — С пустым брюхом! Да ни один Буонарроти еще ни разу не оставался без обеда вот уже триста лет. Разве я не привожу тебе каждую неделю по теленку из Сеттиньяно? — А почему мы должны каждый божий день есть одну телятину, когда на рынке полно молочных поросят и голубей? В те дни, когда Лодовико приходилось сдаваться, он хмуро листал свои приходо-расходные книги, проникаясь уверенностью, что никогда уже не позволит себе съесть хотя бы кусок браманджьере: ведь птица, миндаль, свиное сало, сахар, гвоздика и дьявольски дорогой рис, закупаемые для этого блюда его легкомысленной супругой, разоряли семейство вконец. Но как только соблазнительные запахи из-под кухонной двери начинали прокрадываться через гостиную в его кабинет, он забывал свои страхи и дурные предчувствия, забывал свой недавний гнев, и к одиннадцати часам утра у него пробуждался зверский аппетит. Лодовико поглощал сытнейший обед, отодвигал стул от стола, растопыренными пальцами хлопал себя по вздувшемуся животу и произносил ту сакраментальную фразу, без которой прожитый день казался тосканцу тусклым и бесцельным: — Ну и хорошо же я поел! Выслушав столь лестное для себя признание, Лукреция прятала остатки обеда, чтобы сохранить их для сравнительно легкого ужина, приказывала служанке вымыть тарелки и горшки, затем шла к себе и спала до самого вечера: ее день был закончен, все его радости исчерпаны. Иное дело Лодовико: весь крут его утренних размышлений и последующего грехопадения повторялся в обратном порядке. По мере того как время шло, а пища переваривалась и соблазнительные запахи выветривались из памяти, его опять начинали грызть тягостные мысли о дороговизне изысканного обеда, и он снова впадал в мрачную ярость. Микеланджело прошел через пустую общую комнату с тяжелой дубовой скамьей перед камином, около которого у стены стояли воздуходувные мехи и несколько кресел с кожаными спинками и сиденьями: все эти чудесные вещи некогда смастерил своими руками родоначальник семейства Буонарроти. Рядом с этой комнатой, выходя окнами тоже на Виа деи Бентаккорди и на конюшни, был расположен кабинет отца: заполняя острый, в сорок пять градусов, угол кабинета, — ибо именно под таким углом тут, у каменного изгиба Колизея, пересекались улицы, — стоял треугольный стол, сделанный на заказ в столярной мастерской этажом ниже. Лодовико сидел за этим столом и терзался над своими пожелтевшими от старости пергаментными счетными книгами. Сколько Микеланджело помнил, единственным делом отца было раздумывать о том, как избежать лишних затрат и убытков и как сберечь жалкие клочки родового имения, основанного в 1250 году; от него оставалось теперь лишь четыре десятины земли в Сеттиньяно да городской дом. Дом этот находился неподалеку отсюда, права Лодовико на него юристы оспаривали, и семья жила в наемной квартире. Услышав шаги сына, Лодовико поднял глаза. Природа щедро одарила Лодовико лишь одним даром — пышными волосами: их обилие позволило ему отпустить великолепные усы, сливавшиеся с широкой, падавшей на грудь бородою. Седина уже заметно тронула голову Лодовико, лоб его прорезали четыре глубокие морщины — следы долгих и тяжких дум над счетными книгами и фамильными документами. В маленьких карих глазах проглядывала тоска по утраченному богатству рода Буонарроти. Микеланджело знал, что отец его принадлежит к тем осторожнейшим людям, которые запирают дверь сразу на три ключа. — Доброе утро, messer padre. Лодовико тяжело вздохнул: — Я родился слишком поздно. Сотню лет назад Буонарроти перевязывали свои виноградники колбасами. Микеланджело ждал, что он еще скажет, но отец вновь погрузился в мечтательные раздумья, перебирая фамильные финансовые бумаги, этот Ветхий завет всей своей жизни. Лодовико подсчитывал до последнего флорина, сколько именно извлекало дохода каждое поколение Буонарроти из принадлежавших земель, домов, различных предприятий и денежных капиталов. История рода стала поистине специальностью Лодовико, все семейные легенды и предания он хотел вбить в головы и своим сыновьям. — Мы — знатные горожане, — говорил им Лодовико. — Наш род столь же древен, как Медичи, Строцци или Торнабуони. Фамилию Буонарроти мы носим уже три сотни лет. — Голос его наполнялся горделивой энергией. — Триста лет мы платим налоги Флоренции. Микеланджело запрещалось сидеть в присутствии отца без особого на то разрешения; выслушав какое-либо приказание, он должен был всякий раз кланяться. Скорей по обязанности, чем из интереса, он постепенно узнал, что в середине тринадцатого века, когда гвельфы захватили власть во Флоренции, род Буонарроти быстро возвысился: в 1260 году один из Буонарроти был советником при армии гвельфов; другой Буонарроти в 1392 году был даже предводителем гвельфов; с 1343 по 1469 год род Буонарроти десять раз давал членов флорентинской коллегии приоров или городского совета — это были самые почетные посты в городе; между 1326 и 1475 годами восемь Буонарроти служили гонфалоньерами или старшинами квартала Санта Кроче; между 1375 и 1473 годами еще двенадцать Буонарроти числились среди buonuomini, советников этого квартала, включая самого Лодовико и его брата Франческо, назначенных в совет в 1473 году. Последнее официальное назначение, которым был отмечен увядающий род Буонарроти, состоялось тринадцать лет назад, в 1474 году, когда Лодовико получил пост подесты, или управляющего, двух городков — Капрезе и Кьюзи ди Верна, расположенных в суровых Апеннинских горах. Там, в городской ратуше, где шесть месяцев жила семья Лодовико, и родился Микеланджело. Отец внушал Микеланджело, что труд — низкое занятие для благородного горожанина, и сам мальчик видел, что все старания Лодовико были направлены к тому, чтобы не тратить денег, а не к тому, чтобы их заработать. В руках Лодовико еще были кое-какие средства, дававшие ему возможность жить как благородному человеку, но лишь при условии — не тратить лишнего. И однако, несмотря на всю изворотливость Лодовико и его решимость придерживаться этого правила, родовой капитал, иссякая капля по капле, был на исходе. Стоя в углублении стены подле высокого окна и чувствуя, как нежные лучи мартовского солнца греют его худые плечи, мальчик мысленно перенесся в старый дом в Сеттиньяно, стоявший над долиной Арно, к тем временам, когда была жива его мать. Все тогда дышало у них любовью и весельем, но мать умерла, когда Микеланджело было шесть лет, и мрачный, погруженный в горькие думы отец с отчаяния укрылся в своем кабинете. Домом в течение четырех лет управляла тетка Кассандра, и одинокий мальчик был никому не нужен, кроме бабушки монны Алессандры да семейства знакомого каменотеса: тот жил поблизости, за холмом, его жена в свое время кормила Микеланджело грудью, когда мать заболела и лишилась молока. Все эти четыре года, пока отец не женился во второй раз и Лукреция не настояла на переезде во Флоренцию, мальчик при первом удобном случае убегал в семейство Тополино. Он шагал по полю пшеницы, потом среди серебристо-зеленых олив, перебирался через ручей, служивший границей участка, и, поднявшись на холм, виноградниками спускался вниз, во двор каменотеса. Здесь он молча садился на место и принимался тесать светлый камень, добываемый в соседней каменоломне; обтесанные глыбы этого камня шли на постройку нового дворца во Флоренции. Словно бы заглушая тоскливое чувство одиночества, ребенок бил по камню точными, размеренными ударами, к которым был приучен здесь с самого раннего возраста, когда каменотес дал ему в руки, как давал своим собственным сыновьям, маленький молоток и острое стальное зубило. Усилием воли Микеланджело заставил себя подавить воспоминание: покинув двор каменотеса в Сеттиньяно, мальчик вернулся к действительности, в каменный дом на Виа делль Ангуиллара. — Отец, я только что был в мастерской Доменико Гирландайо. Он согласен взять меня в ученики.4
Наступила тревожная, бьющая по нервам тишина, и Микеланджело услышал, как на той стороне улицы, в конюшне, заржала лошадь, как ворошит угли в очаге на кухне Лукреция. Опершись обеими руками, Лодовико поднялся с кресла и грозно шагнул к мальчику. Это необъяснимое желание сына сделаться ремесленником может стать последним толчком, который ввергнет пошатнувшийся род Буонарроти в бездну! — Микеланджело, я сожалею, что вынужден отдать тебя учиться в цех шерстяников, где ты станешь скорей купцом, чем человеком благородного образа жизни. Но ведь я послал тебя в хорошую школу, из последних средств платил за твое учение большие деньги, и все лишь для того, чтобы ты получил образование и завоевал себе видное место в цехе. Потом у тебя будут свои собственные мастерские и лавки. Ведь именно так начинали первейшие богачи Флоренции, даже сами Медичи. Голос Лодовико зазвенел еще тверже: — Неужели ты думаешь, что я позволю тебе погубить свою жизнь и стать художником? Опозорить наш род? Ведь за триста лет еще ни один Буонарроти не докатился до того, чтобы зарабатывать на хлеб собственными руками. — Это верно, — сердито ответил мальчик. — Мы ведь ростовщики. — Мы принадлежим к цеху денежных менял, одному из самых уважаемых цехов во Флоренции. Давать деньги в рост — это почетное занятие. Микеланджело почувствовал, что самое лучшее для него сейчас сказать что-нибудь смешное. — Видали ли вы, как дядя Франческо свертывает свою лавочку возле Орсанмикеле, когда начинается дождь? Такой ловкой работы руками больше нигде не увидишь. Едва Микеланджело помянул дядю Франческо, как тот сам вошел в кабинет. Ростом Франческо был крупнее Лодовико, в выражении лица у него сквозила куда большая бодрость, чем у брата, — он как бы являл собою деятельную, рабочую половину семейства Буонарроти. Два года назад он отделился от Лодовико, сколотил немалое состояние, купил несколько домов и зажил на широкую ногу; потом его втянули в разорительные денежные операции с иностранцами, он потерял все и должен был возвратиться в дом брата. А ныне, как только в городе начинался дождь, он снимал со своего складного столика бархатную скатерть и, подхватив мешок с монетами, стоявший у него на земле между ног, бежал по мокрым улицам к приятелю, закройщику Аматоре, который разрешал ему разместиться с меняльным столиком у себя под навесом. Голос у дяди Франческо звучал хрипло. — Микеланджело, ты еще столь зелен, что не видишь вороны в чашке молока, — сказал он племяннику. — Неужели тебе доставляет удовольствие унижать род Буонарроти? Мальчик пришел в ярость. — Я горжусь своим родом не меньше, чем вы оба. Но почему я не имею права учиться и исполнять прекрасную работу, которой гордилась бы вся Флоренция, как она гордится дверями Гиберти, статуями Донателло и фресками Гирландайо? Флоренция — хороший город для художника. Лодовико положил руку на плечо мальчика, назвав его ласкательным именем — Микеланьоло. Из всех пяти сыновей это был его любимый сын, на него он возлагал самые светлые свои надежды: именно поэтому Лодовико нашел в себе мужество целых три года платить за учение мальчика в школе Урбино. Учитель был слишком горд, чтобы сообщить отцу, что его сын, с виду столь смышленый, больше рисует в своей тетрадке, чем заучивает тексты из греческих и латинских манускриптов. Что же касается логики, то у мальчика были собственные правила, опровергнуть которые Урбино не мог при всем своем красноречии. — Микеланджело, все, что ты говоришь насчет художников, сплошная глупость. Мне бы надо просто побить тебя, чтобы ты набрался разума. Но тебе уже тринадцать лет; я платил деньги за то, чтобы тебя учили логике, и я хочу теперь убедиться, как ты с нею ладишь. Гиберти и Донателло начали свою жизнь ремесленниками, ремесленниками они ее и кончили. Тем же кончит и Гирландайо. Такая работа не возвысит человека в обществе ни на один локоть, а твой Донателло под старость столь обнищал, что Козимо де Медичи пришлось из милости назначить ему пенсию. Услышав это, мальчик вспыхнул. — Донателло разорился потому, что держал свои деньги в проволочной корзинке, подвешенной к потолку, и из нее брали все его друзья и помощники, когда им было надо. А Гирландайо уже и теперь почти что богатый человек. — Заниматься художеством — все равно что мыть ослу голову щелоком, — сказал Франческо, вставляя пословицу, ибо сея тосканская мудрость была целиком вплетена в пословицы. — Пропадут попусту и труд и щелок. Каждый надеется, что в его руках и булыжник обернется чистым золотом. Напрасная мечта! — А у меня нет другой мечты! — воскликнул Микеланджело. Он повернулся к отцу: — Лиши меня искусства, и во мне ничего не останется, я буду пуст, как гнилой орех. — А я-то всем говорил, что мой Микеланджело сделает род Буонарроти вновь богатым! — кричал Лодовико. — Уж лучше бы мне об этом и не заикаться. Но я из тебя этот плебейский дух вышибу! И, оттопырив локоть, он начал правой рукой, как палкой, колотить мальчика по голове. Желая помочь воспитанию племянника, который мог свихнуться в эти опасные годы, Франческо тоже отвесил ему несколько тяжелых затрещин. Микеланджело пригибался и покорно втягивал голову в плечи, как животное, застигнутое бурей. Вырываться и бежать прочь не было смысла, ведь разговаривать с отцом пришлось бы снова не сегодня, так завтра. Все время он твердил про себя слова, которые любила повторять ему бабушка: «Терпи! Когда рождается человек, с ним рождается и его работа». Краешком глаза он увидел, что в дверь кабинета вломилась тетя Кассандра — тучная, раздувшаяся, как тесто на опаре, женщина. Широкая кость, пышные бедра, груди и ягодицы, басистый, вполне под стать ее дородности, голос не делали, однако, тетю Кассандру счастливой. Заботиться о счастье других она тоже не считала нужным. «Счастье, — твердила она, — бывает только на том свете». Густой, утробный голос Кассандры, требовавшей объяснить ей, что происходит, отдавался в ушах Микеланджело гораздо больнее, чем оплеухи ее мужа. Но вдруг все крики и удары оборвались, и мальчик понял, что в комнату вошла бабушка. По-старушечьи одетая во все черное, с чудесно изваянной головой, хотя, пожалуй, и некрасивая, бабушка применяла свою родительскую власть только в минуты острых семейных раздоров. Лодовико не любил ее обижать. Он сразу отошел в сторону и тяжело опустился в свое кресло. — Ну, спор, можно сказать, кончен, — сказал он. — Я воспитал тебя, Микеланджело, не затем, чтобы ты заносился и мечтал о чем-то великом, — тебе надо лишь наживать деньги и поддерживать честь рода Буонарроти. Не вздумай еще раз заговорить о каком-то там ученичестве у художников! Микеланджело был рад тому, что мачеха усердно хлопотала над своей кулебякой и не могла отлучиться из кухни: в комнату отца и без того набилось слишком много зрителей. Монна Алессандра сказала, обращаясь к Лодовико, сидевшему у стола: — Пойдет ли мальчик в цех шерстяников и будет сучить там пряжу или вступит в цех аптекарей и будет смешивать краски — какая разница? Ведь на те деньги, которые останутся от тебя, не прокормить даже пятерых гусей, не то что пятерых сыновей. — Старуха говорила это без всякого упрека: она хорошо знала, что причиной разорения семьи послужили опрометчивость и неудачи ее покойного мужа, Лионардо Буонарроти. — Всем пятерым твоим сыновьям, Лодовико, надо где-то пристраиваться: пусть Лионардо идет в монастырь, если он хочет, а Микеланджело в мастерскую к художнику. Раз мы не можем им помочь, то зачем же мешать? — Я пойду в ученики к Гирландайо, отец. Вам надо подписать соглашение. Это будет на благо всей семьи. Лодовико недоуменно посмотрел на сына. Неужели в него вселился злой дух? Уж не отвезти ли мальчишку в Арецио, чтобы изгнать этого духа? — Микеланджело, ты несешь такую чушь, что внутри у меня все переворачивается от злости. — И тут Лодовико привел последний, решающий довод: — Ведь у нас нет ни единого скудо, а за ученичество у Гирландайо надо платить. Это была минута, которой Микеланджело давно ждал. Он сказал тихо и мягко: — Никаких денег не потребуется, padre. Гирландайо согласен, если я буду у него учиться, платить деньги вам. — Платить мне! — подался вперед Лодовико. — Почему он должен платить лишь за то, что ты соизволишь у него учиться? — Потому что он считает, что у меня крепкая рука. Откинувшись на спинку кресла, Лодовико долго хранил молчание. — Если господь не поддержит нас, — сказал он наконец, — мы будем нищими. Право, не могу понять, в кого ты такой вышел? Уж конечно, не в Буонарроти. Видно, порча идет от твоей матери. Тут кровь Ручеллаи! Он произнес эту фамилию с такой гримасой, будто выплюнул кусок червивого яблока. Микеланджело еще не слыхал, чтобы в доме Буонарроти когда-нибудь называли вслух род его матери. А Лодовико сразу же перекрестился, видимо, больше от растерянности, чем из благочестия. — Воистину я одержал столько побед над собою, сколько не одерживал ни один святой!5
Боттега Доменико Гирландайо была самой многолюдной и самой процветающей во всей Италии. Помимо двадцати пяти фресок, которые надо было написать на хорах Торнабуони в церкви Санта Мария Новелла в оставшиеся два года из условленных пяти, Гирландайо заключил контракт еще на фреску «Поклонение волхвов» для Воспитательного дома и на мозаику для портала кафедрального собора. Несколько раз в неделю художник отправлялся верхом в соседний город, где его просили написать небольшой запрестольный образ для герцогского дворца. Никогда не искавший заказов, Гирландайо не умел от них и отказываться. В первый же день, как Микеланджело приступил к учению в мастерской, Гирландайо сказал ему: — Если тебе принесет крестьянка простую корзину и попросит раскрасить ее, приложи к работе все старание: как эта работа ни скромна, но по-своему столь же серьезна, сколь и роспись стены во дворце. Мастерская показалась Микеланджело очень шумной, но, несмотря на суету, все работавшие в ней относились друг к другу доброжелательно. Надзирал за учениками Себастьяно Майнарди, мужчина двадцати восьми лет. У него были длинные черные волосы, постриженные в точности так, как постригался Гирландайо, бледное длинное лицо, острый хрящеватый нос, торчащие зубы; он приходился Гирландайо зятем, хотя, как уверял Якопо делль Индако, озорной малый, сын пекаря, женился Себастьяно без малейшего на то желания. — Гирландайо женил его на своей сестре, чтобы он работал на их семейство, — рассказывал Якопо. — Остерегайся, Микеланджело, и ты! Будь начеку! Как почти во всех шутках Якопо, доля правды была и в этой: семья Гирландайо составляла, можно сказать, целую фирму художников; все они учились в мастерской отца, золотых дел мастера, придумавшего модный венок-гирлянду — флорентинские женщины украшали такой гирляндой волосы. Два младших брата Доменико — Давид и Бенедетто были, как и он, живописцами. Бенедетто, миниатюрист, любил с кропотливостью изображать лишь ювелирные дамские украшения и цветы; Давид, самый младший из братьев, вместе с Доменико заключил контракт на роспись в Санта Мария Новелла и помогал ему. Доменико Гирландайо в свое время ушел из мастерской отца, поступив к Бальдовинетти, мозаичисту, и работал у него до двадцати одного года, после чего без особой охоты покинул учителя и открыл собственную мастерскую. «Живопись — это рисование, а живопись, рассчитанная на века, — это мозаика», — говорил Гирландайо, но, поскольку спроса на мозаику почти не было, ему пришлось заняться фресками: на этом-то поприще он и добился успеха, обратив на себя внимание всей Италии. Он впитал в себя и изучил буквально все, чему только могли научить старые мастера фрески, начиная с Чимабуэ. Мало того, он с блеском привнес в это искусство нечто свое, присущее только его натуре. Гирландайо в самом деле женил Майнарди на своей сестре после того, как юноша-ученик помог ему написать чудесные фрески в церкви соседнего городка Сан-Джиминьяно, в котором числилось семьдесят шесть башен. Майнарди, принявший теперь под свое крыло Микеланджело, многим удивительно напоминал своего патрона Гирландайо — такой же добросердечный, одаренный, прошедший прекрасную выучку в мастерской Верроккио, он любил живопись больше всего на свете и, как Гирландайо, считал, что в фреске важны прежде всего красота и очарование. В картинах приходится изображать что-нибудь из Библии, из священной истории или греческой мифологии, но живописец не должен заглядывать в смысл сюжета, раскрывать его значение или судить о его истинности. — Цель живописи, — объяснял Майнарди своему новому ученику, — быть украшением, воплощать сюжет зримо, наглядно, приносить людям счастье, — да, да, счастье, если даже они видят перед собой печальные образы святых, отданных на мучения. Никогда не забывай об этом, Микеланджело, и ты станешь признанным живописцем. Если Майнарди был поставлен над учениками в качестве управителя, то, как скоро понял Микеланджело, вожаком у них был Якопо, тот самый шестнадцатилетний подросток с обезьяньим лицом, который постоянно отпускал шутки. У него был особый дар прикидываться занятым по горло даже тогда, когда он бил баклуши. Едва тринадцатилетний новичок появился в мастерской, как Якопо разъяснил ему с важным видом: — Отдаваться одной лишь тяжкой работе и не видеть ничего, кроме работы, — это недостойно христианина. — Повернувшись к столу, за которым сидели ученики, он весело добавил: — Во Флоренции бывает в среднем девять праздников в месяц. Если учесть, что есть еще воскресенья, то выходит, что мы должны трудиться только через день. — Не понимаю, какая тебе разница, Якопо, — ядовито отозвался Граначчи, — ведь все равно ты бездельничаешь и в будни. Незаметно прошло две недели, и наступил тот дивный день, когда Микеланджело должен был подписать контракт и получить первое жалованье. И тут мальчик вдруг понял, как мало он сделал, чтобы заслужить два золотых флорина — свой первый аванс у Гирландайо. Ведь до сих пор он лишь бегал за красками к аптекарю да просеивал песок и промывал его через чулок в бочке. Проснувшись еще затемно, он перелез через маленького брата Буонаррото, спрыгнул с кровати и нащупал на скамейке свои длинные чулки и длинную, до колен, рубашку. Проходя замок Барджелло, он увидел, что вверху, на крюке, укрепленном в карнизе, висит мертвое тело: должно быть, это был тот человек, который, когда его повесили две недели назад, остался жив, но наговорил властям таких дерзких слов, что восемь приоров решили повесить его вторично. Заметив мальчика на пороге мастерской в столь ранний час, Гирландайо удивился, и его «buon giorno» прозвучало сухо и отрывисто. Уже несколько дней он сосредоточенно работал над этюдом, рисуя Святого Иоанна, совершающего обряд крещения над Иисусом, и был в дурном настроении, так как все не мог ясно представить себе образ Христа. Скоро он омрачился еще больше; его побеспокоил брат Давид, принеся пачку счетов, по которым надо было платить. Резким движением левой руки Доменико оттолкнул счета, продолжая энергично рисовать правой. — Неужели ты не можешь, Давид, распорядиться сам и оставить меня в покое, когда я работаю? Микеланджело следил за этим разговором с угрюмым опасением: вдруг они не вспомнят, какое дело на сегодня назначено? Граначчи по лицу Микеланджело видел, как он тревожился. Поднявшись со своей скамьи, Граначчи подошел к Давиду и что-то шепнул ему на ухо. Давид развязал кожаный мешочек, висевший у него на широком поясе, прошел через всю мастерскую и протянул Микеланджело два флорина икнигу договоров. Микеланджело быстро начертал в ней свое имя, подтверждая, что во исполнение Соглашения докторов и аптекарей он получил все положенное, затем вывел дату: «6 апреля 1488 года». Микеланджело трепетал от радости, мысленно уже видя ту минуту, когда он отдаст эти два флорина отцу. Два флорина — это, конечно, не богатство Медичи, но и они, может быть, немного рассеют мрачную атмосферу в доме Буонарроти. И тут только до сознания мальчика дошло, что все вокруг него о чем-то шумно и горячо спорят. Перекрывая голоса товарищей, Якопо говорил: — Ну, значит, условились! Рисуем по памяти фигуру карлика, ту, что на стене за мастерской. У кого карлик выйдет самым похожим, тот будет и победитель. Он же платит за обед. Чьеко, Бальдинелли, Граначчи, Буджардини, Тедеско — вы готовы? Микеланджело почувствовал глухую боль в сердце. Рисовать вместе с другими его не пригласили. До того как Микеланджело познакомился с Граначчи, признавшим в своем соседе по кварталу хорошего рисовальщика, все детство его прошло в одиночестве, без близких друзей. Затевая свои игры, дети часто его даже не замечали. Почему? Потому что он был малорослым и болезненным? Потому что в нем чувствовалось нечто угрюмое, безрадостное? Потому что он с трудом вступал в разговор? Ему так страстно хотелось сойтись и подружиться с компанией подростков, работавших в мастерской, но оказалось, что это далеко не просто. В конце первой недели Граначчи стал ему внушать, как надо вести себя с учениками Гирландайо. Джулиано Буджардини, крепкий, весьма простодушный мальчуган лет тринадцати, дружественно встретивший Микеланджело, когда тот появился в мастерской, однажды начал делать рисунок, набрасывая фигуры женщин. Мальчик не умел рисовать обнаженную человеческую фигуру и не очень-то хотел научиться. — Ради чего ее рисовать? — спрашивал он. — Ведь мы всегда пишем открытыми только лицо и руки. Видя, какие бесформенные, мешковатые фигурки выходят у Джулиано, Микеланджело, не раздумывая, схватил огрызок пера и провел им несколько линий, прорисовав под одеждой тела женщин и придав им ощущение движения. Тяжелые веки Буджардини дрогнули, он, прищурясь, долго глядел на исправленный рисунок, дивясь тому, как ожили его фигуры. Он был независтлив и не думал протестовать против вмешательства Микеланджело. Однако острый на язык Чьеко, учившийся в мастерской, как это полагалось, с десяти лет, — а сейчас ему было тоже тринадцать, — не удержался и крикнул: — Ты, наверное, уже рисовал голых женщин! — Где это я мог бы рисовать голых женщин во Флоренции? — возразил Микеланджело. — У нас это не принято. Тедеско, костлявый рыжеволосый парень, потомок давних германских завоевателей, вторгавшихся на землю Тосканы, спросил с оттенком враждебности: — Тогда откуда же ты знаешь, как придать движение грудям и бедрам женщин, где ты научился, как показывать тело под одеждой? — Разве я не видел женщин, когда они собирают бобы в поле или идут по дороге с корзинами на головах? Что видят глаза, может нарисовать и рука. — Гирландайо это не понравится! — паясничая и кривляясь, возвестил Якопо. В тот же вечер Граначчи предупредил друга: — Держись осторожней, Микеланджело, не вызывай к себе зависти. Чьеко и Тедеско учатся здесь давно. Разве они могут примириться с тем, что ты, полагаясь только на чутье, рисуешь куда лучше их, хотя они обучаются уже не один год? Расхваливай их рисунки при каждом удобном случае. А что у тебя на душе, держи про себя. И вот теперь, сидя за столом вместе с остальными учениками, Якопо уточнял правила затеянной игры: — Времени на рисунок отпускается десять минут, не больше. Выигравший состязание объявляется победителем и угощает всех остальных обедом. — Якопо, а почему не играю я? — громко сказал Микеланджело. Якопо нахмурился. — Ты зеленый новичок, тебе не победить в таком состязании. И, значит, угощения с тебя не получишь. Принимать тебя в игру будет несправедливо: каждый из нас теряет шанс пообедать за счет победителя. Подавив обиду, Микеланджело просил: — Прими меня, Якопо. Я вас не подведу, вот увидишь. — Ну, хорошо, — небрежно ответил Якопо. — Но дополнительного времени мы тебе не дадим ни минуты. Ребята, вы готовы? Волнуясь, Микеланджело схватил уголь и бумагу и стал проворно набрасывать причудливые очертания не то юноши, не то сатира, которого он много раз видел на каменной стене позади мастерской. Он мог припомнить линии и формы любого нужного в эту минуту предмета, подобно тому как ученики в школе Урбино удивительным образом припоминали, когда этого требовал учитель, стихи из «Илиады» Гомера или из «Энеиды» Вергилия. — Время истекло! — объявил Якопо. — Кладите рисунки на середину стола один к одному. Микеланджело подбежал к столу, положил свой рисунок и оглядел чужие рисунки. Он был поражен: все они показались ему недорисованными и жалкими. А Якопо, взглянув на рисунок Микеланджело, изумленно открыл рот. — Не верю своим глазам! — вскричал он. — Кто хочет, подходи и смотри: победил Микеланджело. Посыпались горячие поздравления. Чьеко и Тедеско одарили его улыбкой, впервые с тех пор, как поспорили с Микеланджело о женских фигурах. Микеланджело сиял, преисполненный гордости. Ведь едва он поступил в мастерскую — и вот, смотрите, уже завоевал себе право угощать всех обедом… Угощать обедом! У него похолодело под ложечкой, словно он проглотил те два флорина, которые сегодня были получены. Он сосчитал своих товарищей — их было семь человек. Да они выпьют два штофа красного вина, будут есть суп, жареную телятину, фрукты… отщепив порядочный кусок от одной из тех золотых монет, которые он так мечтал преподнести отцу. Когда вся ватага, шумя и озорничая, с веселым смехом направилась в остерию, у Микеланджело, шагавшего позади, зародилось тревожное подозрение. Он еще раз хорошенько продумал все от начала до конца и, поравнявшись с Граначчи, спросил: — Ведь меня одурачили, правда? — Правда. — Почему же ты не предупредил меня? — Так у нас заведено. Это твое посвящение. — А что я скажу отцу? — Ну, а если бы ты и догадывался, что тебя дурачат, разве ты мог бы заставить себя рисовать хуже? Микеланджело застенчиво улыбнулся: — Да, они били без промаха!6
Какой-либо определенной методы обучения в мастерской Гирландайо не придерживались. Вся учительская мудрость была выражена на дощечке, которую Гирландайо прибил на стене позади своего стола. Самый лучший наставник — это природа. Рисуйте непременно каждый день! Микеланджело должен был учиться, приглядываясь к любой работе, какая делалась в мастерской. Никаких секретов от него не скрывали. Гирландайо задумывал план фрески, разрабатывал композицию каждой части и добивался стройности в их общем звучании. Он же писал и большинство центральных фигур, остальные фигуры писались кем-либо из подмастерьев; но случалось и так, что над одной и той же фигурой, спеша покрыть подготовленную штукатурку, работало несколько человек сразу. Если фреска помещалась в церкви на хорошем месте, была на виду, то Гирландайо писал ее собственноручно. Обычно же основную работу выполняли Майнарди, Бенедетто, Граначчи и Буджардини. Плохо просматривающиеся боковые люнеты мастер позволял расписывать для практики Чьеко и Бальдинелли, — этому Бальдинелли было тоже всего тринадцать лет. Микеланджело ходил от стола к столу, выполняя случайные поручения. Ни у кого не было времени, чтобы оторваться от своего дела и что-то показать ему. Он смотрел, как Гирландайо заканчивал портрет Джованны Торнабуони, писавшийся по частному заказу; этот же портрет Гирландайо перерисовывал на картон для фрески «Встреча девы Марии с Елизаветой». — Женские портреты лучше писать маслом, — насмешливо говорил Гирландайо, — но эта фигура вполне подойдет и для фрески. В человеческих фигурах ничего не надо выдумывать, Микеланджело; переноси на фреску лишь то, что ты рисовал с натуры. Давид и Бенедетто работали вместе с Майнарди за одним длинным столом, стоявшим в углу мастерской. Бенедетто никогда не позволял себе рисовать свободно, импровизировать. Как замечал Микеланджело, он заботился больше о том, чтобы математически точно разбить лежавший перед ним лист на квадраты, и почти не думал о характере и особенностях изображаемых лиц. Но во всем, что касалось квадратов и измерительных инструментов, он был истинным знатоком. — Запомни, — поучал он Микеланджело, — что лицо делится на три части: сначала волосы и лоб, затем нос, потом подбородок и рот. И заучи пропорции мужской фигуры. Я не беру в расчет женскую, потому что нет ни одной женщины, сложенной вполне пропорционально. Рука вместе с кистью, если опустить ее вниз, доходит до середины бедра… вот видишь? Длина мужской фигуры равна длине лица, взятого восемь раз; если человек встанет с раскинутыми в стороны руками, то длина этой линии тоже будет равна длине лица, взятого восемь раз. Никогда не упускай из виду, что в левом боку у мужчины на одно ребро меньше, чем у женщины. Микеланджело пытался рисовать по геометрической схеме Бенедетто, придерживаясь неукоснительно прямых линий и точных, выведенных циркулем кругов и полукружий, но скоро увидел, что все эти жесткие предписания — своего рода гроб, куда можно втискивать только мертвые тела. А у Майнарди была твердая, очень уверенная рука, придававшая его работе дух подлинной жизни. Он расписывал важнейшие участки всех люнетов и стен, самостоятельно искал колористическое решение для фрески «Поклонение волхвов». Он показал Микеланджело, как работать темперой, прописывая обнаженные части тела дважды. — Первый слой темперы, накладываемой на фреску, в особенности когда пишешь людей молодых, со свежей кожей, надо готовить на яичном желтке, взятом от городской курицы; желток у деревенской курицы яркий, он годится только для тела людей пожилых или смуглых. Майнарди научил Микеланджело оставлять под телесной краской просветы зеленого, показал, как класть светлые блики на брони и кончики носов, как обводить веки и ресницы черной линией. Что касается Якопо, то никаких технических наставлений Микеланджело от него не получал, зато слышал множество городских сплетен. Все, в чем крылось гадкое и подлое, вызывало у Якопо самый жгучий интерес. Если бы он сталкивался в жизни только с проявлениями добра и доблести, он наверняка не замечал бы их, но темные стороны человеческой натуры он унюхивал инстинктивно и налетал на них, как ворона на навоз. Всяческие слухи и новости были нужны Якопо точно воздух; каждый день обходил он гостиницы, винные лавки, цирюльни, кварталы проституток, заговаривал со стариками, отдыхавшими у своих домов на каменных скамьях, ибо старики были первыми поставщиками сплетен и пересудов об очередных скандалах. Утром он шел в мастерскую обычно кружным путем: это давало ему возможность что-то зачерпнуть из своих источников на ходу; являясь к Гирландайо, он уже располагал ворохом самых свежих новостей: кому наставила рога жена, кому из художников предстоит получить новый заказ, кого собираются посадить в колодки у стен Синьории. В мастерской Гирландайо хранился рукописный список трактата Ченнини о живописи. Хотя Якопо не умел прочесть ни слова, порой он, усевшись за ученический стол и скрестив ноги, делал вид, что читает манускрипт: в действительности он знал из него несколько отрывков наизусть. «Если вы занимаетесь искусством, то ваш образ жизни должен подчиняться такому же порядку, как если бы вы изучали богословие, философию или какую другую науку; иначе говоря, вы должны есть и пить умеренно, по крайней мере дважды в день… вы должны всячески оберегать ваши руки, избегая поднимать камни или железо. Существует и другая причина, способная вызвать в вашей руке такую немощь, что она будет дрожать и трепетать сильнее, чем листья дерева, колеблемые ветром, — это чересчур частое общение с женщинами». Якопо откинул голову и захохотал, брызгая слюной в потолок, затем повернулся к ошарашенному Микеланджело, который знал насчет общения с женщинами не больше, чем насчет астрономии Птоломея. — Ну, теперь тебе понятно, Микеланджело, почему я больше не расписываю стен: я не хочу, чтобы фрески Гирландайо дрожали и трепетали, как листья на ветру! Добродушный и веселый Давид, младший брат Гирландайо, прекрасно умел увеличивать до нужного масштаба отдельные части рисунков и переносить их на картон, который изготовлялся уже в размере будущей фрески. Это была не столь уж творческая работа, но она требовала мастерства. Он показывал, как надо разбивать на квадраты небольшой рисунок, затем — на соответствующее количество крупных квадратов — картон, как потом скопировать, перенести изображение с малого квадрата на большой. При этом, говорил Давид, ошибки, еле заметные в маленьком рисунке, при увеличении на картоне будут бросаться в глаза. Буджардини, казавшийся таким неловким и неуклюжим, что вряд ли мог бы побелить у себя дома какой-нибудь амбар, умудрялся тем не менее вкладывать тонкую одухотворенность в фигуры, которые он рисовал для фрески «Встреча девы Марии с Елизаветой», хотя в них и были анатомические погрешности. Однажды он заставил Микеланджело просидеть перед собой в качестве натурщика все обеденное время. Через два часа, когда рисунок был закончен, Буджардини сказал: — Взгляни на портрет. Я уловил-таки выражение твоего лица. Микеланджело расхохотался. — Буджардини, ты нарисовал меня так, что один глаз оказался где-то на виске. Погляди сам! Буджардини еще раз всмотрелся в лицо Микеланджело, затем перевел взгляд на рисунок. — Мне кажется, что я нарисовал твой глаз верно, — тут все так, как в натуре. — В таком случае отнесем это за счет несовершенства природы, — улыбнулся Микеланджело. Идя домой кружной дорогой, Микеланджело и Граначчи вышли на площадь Синьории, где толпилось множество народа, и поднялись по ступеням Лоджии делла Синьориа. Отсюда был хорошо виден внутренний двор Синьории — турецкий посол в тюрбане, похожем на яйцо, в ниспадающих зеленых одеяниях дарил сейчас Синьории привезенного им жирафа. Микеланджело хотелось зарисовать эту сцепу, но он чувствовал, что ему не охватить всей широты зрелища, и он сказал Граначчи, что сейчас его разум можно уподобить шахматной доске, на которой перемежаются черные и белые квадраты невежества и знания. На следующий день, в обед, он наскоро поел приготовленной Лукрецией жареной телятины и возвратился в мастерскую, в тот час совершенно пустую, так как и Гирландайо, и все его ученики предавались послеобеденному отдыху. Микеланджело пришла в голову мысль рассмотреть получше, как рисует учитель. Под столом у Гирландайо он разыскал связку рисунков — эскизы к фреске «Избиение младенцев», перенес их на ученический стол и разложил по порядку, составив целую фреску. Микеланджело показалось, что Гирландайо плохо передает движение, — воины с поднятыми мечами, женщины и дети, бегущие в страхе, оставляли в его душе смутное ощущение беспорядка. Но в этих эскизах, однако, была и простота, и большая твердость. Мальчик принялся перерисовывать их и быстро, один за другим, сделал пять-шесть рисунков, как вдруг почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной. Микеланджело повернулся и увидел нахмуренное лицо Гирландайо. — Зачем ты роешься в этой связке? Кто тебе разрешил? Микеланджело робко положил карандаш на стол. — Я не думал, что тут какие-то секреты. Я хотел поучиться. — Он собрался с духом. — Чем раньше я научусь, тем скорее буду помогать вам. Я получаю у вас золотые флорины, мне их надо отработать. Горячий, умоляющий взгляд мальчика действовал на Гирландайо сильнее его доводов: он подавил свой гнев. — Очень хорошо, — сказал Гирландайо уже спокойным тоном. — Сейчас я немного займусь с тобою. — Научите меня, как рисовать пером. Гирландайо провел новичка к своему столу, расчистил там место и положил перед собой два одинаковых листа бумаги. Затем он подал Микеланджело перо с затупленным копчиком, сам взял другое и нанес на бумагу несколько четких перекрестных линий. — Вот моя каллиграфия, — пояснил он. — Кружочками я рисую глаза, вот такой уголок — это нос, маленькая поперечная черта — рот, это отметина — подбородок, а вот, зарубкой, и нижняя губа. Микеланджело смотрел, как учитель быстрыми движениями набрасывал фигуру, не заботясь о том, чтобы закончить ее, дорисовать ноги — суживаясь книзу, их контур вдруг обрывался. Двумя-тремя штрихами Гирландайо мог прекрасно показать, как облегают тело складки одежды, как, с отменной грацией, придерживает женщина подол своего платья; все линии, обрисовывающие тело, были у Гирландайо полны лиризма и в то же время придавали фигурам индивидуальность и характер. На лице Микеланджело светился восторг. Никогда он не был так счастлив, как теперь. С пером в руках он чувствовал себя художником и жаждал что-то высказать, напрягал ум и все свои чувства, чутко прислушиваясь, что же они подскажут руке, готовой воплотить увиденное. Ему хотелось рисовать и рисовать, не отрываясь от этого стола часами, воспроизводя взятый предмет или фигуру в сотне новых поворотов. От Гирландайо не укрылось, как горит лицо мальчика и как трепещут его руки. — Микеланджело, ты не должен рисовать ради самого рисования. Вот эту твою фигуру — разве мыслимо перенести ее на фреску? Видя интерес ученика к делу, Гирландайо вынул из стола еще два своих рисунка: на одном из них с грубоватой силой была вылеплена почти в натуральную величину голова мужчины лет тридцати, с гладкими полными щеками, с задумчивым взглядом широко открытых глаз и эффектно разметавшимися волосами; второй рисунок изображал обряд крещения в римской базилике и был превосходно выполнен по композиции. — Великолепно! — проговорил Микеланджело, потянувшись к листу. — Вы овладели буквально всем, чему только мог научить Мазаччо. Смуглое лицо Гирландайо побледнело — должен ли он обидеться на то, что его расценивают как некоего подражателя и копииста? Но в голосе мальчика звучала такая гордость! И при мысли, что желторотый ученик отваживается на похвалы учителю, Гирландайо стало смешно. — Сами по себе рисунки ничего не значат, — сказал он, забирая их у Микеланджело. — Важна лишь написанная фреска. А эти листы я уничтожу. За дверью мастерской послышались голоса Чьеко и Бальдинелли. Ученики еще не успели войти, как Гирландайо поднялся из-за стола, а Микеланджело спрятал перо и наброски, живо убрал со стола серию рисунков «Избиение младенцев», связал их в пачку и отнес на место. В большом запертом ящике своего стола Гирландайо хранил папку с рисунками, которые он изучал и перерисовывал, задумывая очередную фреску. Граначчи говорил Микеланджело, что Гирландайо многие годы собирал эти рисунки и что они принадлежали тем мастерам, которых Гирландайо высоко ценил: Таддео Гадди, Лоренцо Монако, фра Анжелико, Паоло Учелло, Поллайоло, фра Филиппе Липпи и многим другим. Микеланджело часами как завороженный разглядывал алтари и фрески, созданные этими мастерами, — ведь их работы так щедро украшали город. Но ему ни разу не приходилось видеть ни одного чернового этюда, ни одного рисунка этих прославленных художников. — Разумеется, нельзя, — решительно отрезал Гирландайо в ответ на просьбу Микеланджело посмотреть его папку. — Но почему же? — взмолился Микеланджело в отчаянии: у него исчезала поистине золотая возможность хоть немного проникнуть в секреты техники лучших рисовальщиков Флоренции. — Каждый художник обзаводится собственными коллекциями образцов по своему суждению и вкусу, — сказал Гирландайо. — Я собирал эту коллекцию двадцать пять лет. Ну, а ты в свое время соберешь свою. Несколько дней спустя, когда Гирландайо долго сидел, разглядывая рисунок Беноццо Гоццоли — «Обнаженный юноша с копьем», в мастерскую зашли трое мужчин и позвали Гирландайо поехать в соседний город. Он ушел с ними, забыв убрать рисунок со стола и запереть его в ящик. Дождавшись, когда все ушли обедать, Микеланджело поднялся на помост и взял рисунок Гоццоли. После многих попыток он скопировал рисунок так, что считал свою работу достаточно близкой к подлиннику. И вдруг у него в голове мелькнула мысль: не подшутить ли над Гирландайо, подсунув ему свой рисунок? Работа Гоццоли была тридцатилетней давности, от времени она загрязнилась и пожелтела. Прихватив несколько свежих листков, Микеланджело вышел во двор, намазал землей палец и, осторожно потирая бумагу вдоль волокон, постарался придать ей такой вид, какой был у бумаги с рисунком Гоццоли. Затем он вынес свою копию этого рисунка и тоже обработал ее измазанным в земле пальцем. Ветхая рисовальная бумага по краям была словно бы обкурена дымом. Микеланджело, вернувшись в мастерскую, для опыта подержал над горящим очагом натертые землей листки, а потом закоптил и свою подделку. После этого он положил ее на стол Гирландайо, а оригинал спрятал. Не одну неделю следил он за каждым движением Гирландайо; всякий раз, когда учитель забывал положить какой-нибудь рисунок в папку, будь это набросок Кастаньо, Синьорелли или Верроккио, мальчик был тут как тут и не упускал случая скопировать его. Если он заканчивал свою копию к исходу дня, то уносил ее домой, а дома, когда все спали, разжигал в нижнем этаже очаг и обкуривал изрисованный лист, чтобы он выглядел старым и обветшалым. Через месяц у Микеланджело скопилась дюжина чудесных чужих рисунков. Если бы дело шло таким образом и дальше, папка у него скоро стала бы не менее объемистой, чем у Гирландайо. По старой привычке Гирландайо иногда приходил в мастерскую, не дожидаясь, пока истечет обеденное время, и учил Микеланджело, как пользоваться черным мелом или как работать серебряным карандашом, применяя для подцветки белый мел. Микеланджело спрашивал учителя, будут ли они когда-нибудь рисовать с обнаженных натурщиков. — Зачем же тебе учиться рисовать обнаженные фигуры, если мы всегда рисуем людей одетыми? — удивлялся Гирландайо. — В Библии не так уж много обнаженных, и на них не заработаешь. — Но ведь помимо Библии есть еще и святые, — возражал мальчик. — Святых надо изображать почти что голыми — когда их пронзают стрелами или жгут на решетке. — Это правда, но кто требует верной анатомии у святых? Главное, что в них надо показать, — это дух, характер. — Но разве верная анатомия не поможет выразить характер? — Нет. Все характерное, если это так необходимо, вполне можно показать в лице… и еще в руках. Обнаженное тело не рисовал ни один художник со времен язычников-греков. А ведь нам приходится писать для христиан. Кроме того, наше тело безобразно, оно лишено пропорций, полно недугов, слизи и всякой мерзости. Сад с пальмами и кипарисами, апельсинные деревья в цвету, построенная архитектором каменная стена, ступени, спускающиеся к морю… вот настоящая, бесспорная красота. Живопись должна чаровать, освежать и ласкать душу. Кто мне докажет, что тут годится голое тело? Я люблю рисовать человека, когда он в изящном одеянии… — …А я хотел бы рисовать его в том виде, в каком господь бог сотворил Адама.7
Наступил июнь, и летний зной тяжким гнетом лег на Флоренцию. Микеланджело спрятал свои чулки и рейтузы и носил теперь сандалии на босу ногу и легкую бумажную рубашку. Выходившие во двор двери мастерской Гирландайо были распахнуты настежь, а столы вынесены наружу, под сень зеленых деревьев. В день праздника Святого Иоанна мастерскую заперли на замок. Микеланджело встал рано и вместе с братьями пошел на реку Арно, пересекающую весь город, — там он хорошенько выкупался, резвясь в коричневатой илистой воде, и пошел к Собору, на условленную встречу с товарищами по мастерской. Над всей площадью у Собора был сооружен широкий голубой навес, разрисованный золотыми лилиями, — он изображал небесный свод. Каждый цех города украсил навес своим облаком, поверх облака, на устланной шерстью деревянной решетке, в окружении херувимов сидел святой — покровитель цеха, вокруг него были рассыпаны огни и звезды из фольги. Внизу, на железном настиле, стояли мальчики и девочки, одетые в виде ангелов, с цветными яркими поясами на талиях. Впереди торжественного шествия несли запрестольный крест Собора, затем, распевая, шли стригали, сапожники, одетые в белое дети, потом показались великаны на ходулях высотой в шесть локтей, с чудовищными масками на головах, вслед за гигантами выехали две повозки с башнями — на башнях были актеры, разыгрывающие живые картины из Священного писания: на одной архангел Михаил с ангелами бился против Люцифера, свергая его с небес; на другой показывали, как бог сотворил Адама и Еву и как появился между ними змий; на третьей — как Моисей получал скрижали завета. Микеланджело эти живые картины из Библии казались бесконечными. Он не любил таких представлений и собрался уже уходить. Но Граначчи, зачарованный красочными декорациями, уговорил друга дождаться конца уличных торжеств. В Соборе, как только началась обедня, поймали некоего вора — болонца; тот срезал кошельки и золотые пряжки с поясов у прихожан, сгрудившихся перед кафедрой. Толпа людей и в церкви и на площади сразу озверела. «Повесить его! Повесить!» — этот крик звучал всюду, и толпа увлекла Микеланджело и Граначчи к дому начальника городской стражи: там, в проеме окна, преступник был тотчас же повешен. А скоро в этот день поднялся страшный ветер — ураган пролетел над всем городом, разрушил пестрые навесы, залил потоками воды усыпанные песком дорожки. Буджардини, Чьеко, Бальдинелли и Микеланджело стояли среди прохожих, укрывшихся в дверях Баптистерия. — Эта буря разразилась потому, что проклятый болонец дерзнул грабить людей в Дуомо в святой день, — негодовал Чьеко. — Нет, дело тут совсем не в этом, — возразил Буджардини. — Господь послал бурю в наказание за то, что мы повесили человека в святой праздник. Друзья спросили, что думает об этом Микеланджело, — тот был весь погружен в созерцание золотых рельефов Гиберти, которыми были отделаны двери Баптистерия, — десять знаменитых панелей, украшенных, поле за полем, изображениями упоминавшихся в Ветхом завете людей, животных, городов, гор и дворцов. — Что я думаю? — переспросил Микеланджело. — Я думаю, что вот эти двери — воистину Врата Рая.Картон «Рождение Святого Иоанна», над которым трудились в мастерской Гирландайо, был закончен, теперь можно было расписывать по нему стену в церкви Санта Мария Новелла. В назначенный для этого день Микеланджело пришел в мастерскую очень рано, но, как оказалось, там собрались уже все до последнего ученика. Он только широко раскрывал глаза, видя, какая царит в мастерской суматоха, как все спешат и мечутся, хватая картоны, связки рисунков, кисти, горшки и бутылки с краской, ведра, мешки с песком и известью, костяные шильца. Все это было уложено на маленькую тележку, в тележку впрягли ослика, и художники двинулись прочь от мастерской. Гирландайо, словно полководец, шел во главе процессии, а Микеланджело, самый младший из учеников, правил осликом, сидя на тележке; скоро это шествие, продвигаясь по Виа дель Соле, было у Знака Солнца — это означало, что художники уже вступили на землю прихода церкви Санта Мария Новелла. Микеланджело повернул ослика направо — перед ним открылась площадь Санта Мария Новелла, одна из старейших и самых красивых площадей города. Вот ослик уже остановлен: прямо впереди вздымалось здание церкви. Церковь строили долго, ее кирпичные стены оставались ничем не украшенными с 1348 года, пока Джованни Ручеллаи, дяде Микеланджело, не пришла в голову счастливая мысль пригласить в качестве архитектора Леона Баттиста Альберти, — он-то и создал из великолепного черного и белого мрамора этот дивный фасад. При мысли о семействе Ручеллаи Микеланджело всегда испытывал какое-то странное волнение — ведь в доме Буонарроти эту фамилию было запрещено произносить. Хотя мальчик никогда не бывал в родовом дворце Ручеллаи на Виа делла Винья Нуова, но, проходя мимо него, он неизменно замедлял шаг и старался заглянуть в обширные сады, где скрывались античные греческие и римские статуи, и как следует вглядеться в архитектуру величественного здания, построенного по проекту Альберти. Долговязый Тедеско был назначен распорядителем по разгрузке; получив такую власть, он с упоением командовал тринадцатилетними мальчишками. С рулоном рисунков в руках Микеланджело вошел в бронзовые двери и сразу почувствовал прохладу воздуха, пропитанного ладаном. Спланированная в форме египетского креста длиной более сорока саженей, церковь открылась ему вся сразу; под тремя стрельчатыми арками шли ряды величественных колонн, словно бы уменьшавшихся по направлению к главному престолу, позади которого боттега Гирландайо трудилась уже три года. Боковые стены храма были покрыты яркими фресками, прямо над головой Микеланджело стояло деревянное распятие работы Джотто. Он медленно ступал по главному нефу, и каждый шаг доставлял ему новое наслаждение — перед ним страница за страницей раскрывалось все итальянское искусство. Вот Джотто, живописец, скульптор, архитектор — легенда гласит, что Чимабуэ встретил его, когда Джотто был пастушонком и рисовал на скале. Чимабуэ ввел его в свою мастерскую, и этот пастух стал освободителем живописи от византийского мрака, византийской мертвенности. В течение девяноста лет после Джотто художники лишь подражали ему, но вот наконец — по левую сторону от себя Микеланджело видел живое сверкающее чудо его «Троицы» — явился Мазаччо. Поднявшись из глубин, ведомых только господу, он явился и начал писать, и флорентинское искусство как бы родилось вновь. В левой стороне нефа Микеланджело осмотрел распятие Брунеллески; фамильную часовню рода Строцци с фресками и изваяниями работы братьев Орканья; переднюю часть главного алтаря с бронзовыми украшениями Гиберти; и еще, как венец всей этой красоты, — часовню Ручеллаи, возведенную родом матери Микеланджело в середине тринадцатого века, когда Ручеллаи разбогатели и прославились, разведав на Востоке, как вырабатывать чудесную красную краску. В прежнее время Микеланджело не находил в себе силы взойти на ступени, ведущие к часовне Ручеллаи, хотя эта часовня была украшена самыми драгоценными сокровищами искусства во всей церкви Санта Мария Новелла. Мальчика сковывало чувство страха перед родными. Теперь, когда он вышел из повиновения отцу и собрался работать здесь, в этой церкви, разве он не обрел право посмотреть часовню? Подняться в нее, даже не думая о том, что нарушит зарок и вторгнется во владения семьи, которая со смертью матери порвала всякие отношения с Буонарроти и совсем не интересуется, как живут пятеро сыновей Франчески Ручеллаи дель Сера, приходившейся дочерью Марии Бонда Ручеллаи? Он положил рулон на пол и, медленно ступая, поднялся по лестнице. В часовне, увидя «Пресвятую деву» Чимабуэ и мраморную «Богородицу с Младенцем», изваянную Нино Пизано, он встал на колени: ведь здесь молилась в юности мать его матери, и здесь же, в те светлые дни семейного мира и счастья, молилась сама мать. Слезы жгли ему глаза и стекали на щеки. С младенчества он учил молитвы, но, читая их, произносил лишь пустые слова, без мысли и чувства. Теперь горячая молитва сама срывалась с его уст. Кому он молился — этой прекрасной Богородице или своей матери? И было ли различие между ними? Разве образ его матери не сливался воедино с ликом Пресвятой, сиявшим на стене? Все, что мальчик смутно помнил о своей матери, как бы воплотилось в чертах Пречистой. Мальчик встал, подошел к изваянию Пизано и своими длинными худыми пальцами провел по мраморным одеждам Святой девы. Потом он повернулся и вышел из часовни. Спускаясь вниз но ступеням, он думал о том, как не похожи друг на друга семья его матери и семья отца. Ручеллаи построили эту часовню около 1265 года, в те самые времена, когда разбогатели Буонарроти. У семейства Ручеллаи хватило чутья оценить и призвать к себе замечательных мастеров, почти основоположников искусства: в конце тринадцатого века живописца Чимабуэ и в 1365 году скульптора Нино Пизано. Даже теперь, в 1488 году, Ручеллаи как бы дружески состязались с Медичи, скупая древние мраморные статуи, выкапываемые в земле Греции, Сицилии и Рима. Буонарроти не построили ни одной часовни, хотя часовню обычно строило любое семейство подобного достатка. Почему же проявляли такое равнодушие Буонарроти? Мальчик смотрел, как в глубине хоров его товарищи тащат на подмостки ведра и кисти. Может быть, Буонарроти не строили часовен потому, что были холодны к религии? Лодовико каждый раз вставляет в разговоре изречения из Библии, хотя монна Алессандра и говорила про своего сына: «Лодовико чтит все законы церкви даже тогда, когда нарушает их». Буонарроти постоянно тряслись над каждым флорином, у них была природная скаредность и жадность к деньгам, свирепое упорство скупцов. Может быть, желание вкладывать свои средства только в дома и земли — единственный источник богатства, с точки зрения тосканца, — удерживало Буонарроти от того, чтобы затратить хоть скудо на искусство? Насколько помнил Микеланджело, никогда в доме Буонарроти не бывало ни одной, самой простенькой, картины или статуи. Разве это мало значит, если речь идет о богатом семействе, в течение трех веков проживавшем в городе, в котором искусство процветало, как нигде в мире, и в котором даже у скромных, бедных людей предметы религиозного культа, созданные художниками, переходили от поколения к поколению? Мальчик вернулся и вновь оглядел покрытые фресками стены часовни Ручеллаи, с тоской осознавая, что Буонарроти не только скупцы и скряги, но и враги искусства — они презирают людей, которые создают искусство. Буджардини, уже взобравшись на подмостки, громко окликнул Микеланджело, зовя его к себе. Оказалось, что все уже дружно работают, без толчеи и спешки. Буджардини еще вчера расчистил и оштукатурил ту часть стены, которую надо было расписать, теперь он накладывал свежий слой раствора. Вместе с Чьеко, Бальдинелли и Тедеско он стал помогать Гирландайо, поддерживая прислоненный к стене картон. Гирландайо переносил очертания фигур на стену, прокалывая картон длинным шильцем из слоновой кости и припудривая отверстия тампоном с угольной пылью, — затем он дал знак, чтобы картон убрали. Ученики сошли с лесов, а Микеланджело остался наверху, следя, как Гирландайо размешивал минеральные краски в маленьких горшочках с водой и как потом, отжав пальцами кисть, начал роспись. Он должен был работать уверенно и быстро, ибо фреску следовало закончить сегодня же: ведь штукатурка, оставленная на ночь, засохнет. Если роспись отложить, не доведя до конца, то нетронутый грунт покроется жесткой корочкой, а впоследствии на этих местах фрески проступят пятна и появится плесень. Если же художник не сумеет рассчитать время и не исполнит за день того, что предполагал, то высохшую штукатурку назавтра надо будет со стены сбить и заменить свежей, причем по стыку свежей и старой штукатурки на фреске останется заметный шов. Переписывать и исправлять живопись нельзя: в красках, наложенных позднее, неизбежно проступают соли, от которых фреска обесцвечивается или темнеет. Микеланджело стоял на помосте, держа в руках ведро с водой, и прямо перед летающей кистью Гирландайо обрызгивал штукатурку, чтобы она оставалась влажной, впервые он осознал истинный смысл поговорки, что еще ни один трус не отваживался писать фреску. Он смотрел, как кипит и спорится работа у Гирландайо, — сейчас художник писал девушку с корзиной плодов на голове, в модном в ту пору раздувающемся платье, которое делало флорентинских девушек похожими на беременных матрон. Рядом с Микеланджело стоял Майнарди, он писал двух пожилых, степенных тетушек из семейства Торнабуони, пришедших к постели Елизаветы. Бенедетто, взгромоздясь на помосте выше всех, писал чудесный, с проступавшими дугами нервюр, сводчатый потолок. Граначчи трудился над изображением служанки, — она в середине картины, на втором плане, протягивала Елизавете поднос. Фигуру самой Елизаветы, откинувшейся на пышную резную спинку деревянной кровати, писал Давид. Буджардини, которому было поручено написать окно и дверь, окликнул Микеланджело и показал ему движением руки, чтобы тот спрыснул водой штукатурку, затем отступил назад и замер в восхищении, любуясь только что написанным маленьким окошком над головою Елизаветы. — Ты видел когда-нибудь столь прекрасное окно? — спросил он. — Окно великолепное, — отвечал Микеланджело. — В особенности это пустое место за рамой. Буджардини, несколько озадаченный, еще раз вгляделся в свое произведение. — Тебе нравится и это место за рамой? Странно? Ведь я еще и не притрагивался к нему кистью. Работа над фреской достигла разгара, когда Гирландайо, которому помогал Майнарди, начал писать юную и прелестную Джованну Торнабуони. На ней были самые лучшие, самые изысканные флорентинские шелка и драгоценности, смотрела она прямо в лицо зрителю, не проявляя внимания ни к Елизавете, сидевшей на своей кровати с высокой спинкой, ни к Иоанну, который сосал грудь другой красавицы Торнабуони, поместившейся на низкой скамеечке. Вся композиция потребовала пяти дней напряженного труда. Писать красками не позволяли одному только Микеланджело. Его терзало двойственное чувство: хотя он пробыл в мастерской всего три месяца, он знал, что мог бы работать красками не хуже остальных тринадцатилетних юнцов. В то же время какой-то внутренний голос говорил ему, что эта суматошная работа на лесах чужда его сердцу. Даже в минуты, когда его особенно мучила обида на то, что ему не давали писать, его не покидало желание оставить и эту церковь, и мастерскую, уйти куда-то в себя, в свой собственный мир. К концу недели штукатурка начала просыхать. Углекислота воздуха, проникавшая в известь, закрепляла краски. Сначала Микеланджело опасался, что краски на влажной штукатурке уйдут вглубь, но теперь увидел, что он ошибался, — краски остались на поверхности, они подернулись кристаллической пленкой углекислой соли, которая покрывала изображение столь же плотно и надежно, как покрывает кожа мышцы и вены у атлета. Этот плотный, с металлическим блеском, покров защищал красочный слой фрески от влияния жары, холода и сырости. Еще одно обстоятельство поразило Микеланджело: любая часть фрески, просыхая, приобретала именно те цветовые оттенки, какие замыслил для нее в своей мастерской Гирландайо. И все-таки, когда в первое же воскресенье Микеланджело направился в церковь Санта Мария Новелла к обедне и, пробившись сквозь толпу прихожан, разодетых в короткие бархатные колеты, пышные камлотовые плащи, отороченные мехом горностая, взглянул на фреску, он был разочарован: в ней недоставало той свежести и силы, которая ощущалась в подготовительных рисунках. Восемь женских фигур композиции выглядели как бы застывшими, их словно выложили из кусочков цветного стекла. И, конечно же, это было не рождение Иоанна в скромном семействе Елизаветы и Захарии, — вся сцена напоминала скорее свидание дам в доме итальянского купца-богача и была совершенно лишена религиозного духа. Разглядывая сверкающую красками фреску, мальчик понял, что Гирландайо любил Флоренцию преданной любовью. Флоренция была его религией. Всю жизнь, с ранней юности, он писал ее граждан, ее дворцы, ее изысканно отделанные палаты и горницы, ее храмы и чертоги, кипящие жизнью улицы, религиозные и политические шествия и празднества. А какой у Гирландайо был глаз! Ничто не ускользало от его внимания. Коль скоро ему не заказывали писать Флоренцию, он изображал ее под видом Иерусалима; палестинская пустыня была Тосканой, а все библейские персонажи — его земляками флорентинцами. И так как Флоренция по своему характеру была скорее языческим городом, чем христианским, то эти искусно подделанные кистью Гирландайо портреты и сцены нравились всем без исключения. Микеланджело вышел из церкви в тяжелом раздумье. Формы были великолепны, но где сущность? Когда он пытался найти слова, чтобы выразить теснившиеся в голове смутные мысли, глаза у него заволокло туманом. Ему тоже хотелось научиться достоверно и искусно передавать то, что он видел. Но для него всегда будет гораздо важнее показать не сам предмет, а вызываемые этим предметом чувства.
8
Он медленно шел к Собору, где на прохладных мраморных ступенях собиралась молодежь — повеселиться и поглазеть на красочно разодетую праздничную толпу. Без ярмарки не обходился во Флоренции ни один день, а в воскресенье этот богатейший в Италии город, вытеснявший из торговли с Востоком даже Венецию, весь выходил на улицу, словно бы желая показать, что тридцать три действующих в нем банкирских дома изливают свои щедроты на каждого жителя. Флорентинские девушки — белокурые, стройные, голову держат высоко, волосы у них всегда покрыты чем-нибудь ярким, платья с длинными рукавами, с глубоким вырезом у шеи, широкие юбки в мелких складках спускаются колоколом, под тонкой цветной материей рельефно проступает грудь. Пожилые люди в темных плащах, но юноши из знатных семей расцветили собой все пространство между ступенями Собора и Баптистерием: рейтузы на них разноцветные — одна нога одного цвета, другая — другого, по цветному полю узор, на котором вышиты фамильные гербы. Каждого молодого человека сопровождала свита, одетая точно так же, как и их патрон. Якопо сидел на крышке древнеримского саркофага — несколько таких саркофагов белело подле темного кирпичного фасада Собора. Якопо то и дело отпускал замечания по адресу проходивших девушек, время от времени его алчные глаза останавливались на одной из них, и он награждал ее одобрительным отзывом: — Ах, как годилась бы эта крошка для постели! Микеланджело подошел к Якопо и нежно провел ладонью по саркофагу, ощупывая очертания рельефа, на котором была представлена сцена воинских похорон, с мечами и лошадьми. — Ты только тронь, — эти мраморные фигуры еще живут и дышат! В голосе его звучало такое волнение, что друзья, как один, взглянули на Микеланджело. А он словно бы исповедовался, открывал свою тайну этим прохладным флорентинским сумеркам, этому низкому солнцу, заливавшему своим огнем купола Баптистерия иСобора. Тайная страсть, владевшая им, прорвалась наружу, обнажив все лучшее, что только было в его душе. — Господь был первым скульптором; он изваял первую фигуру человека. И когда он захотел дать человеку свои законы, какой он применил для этого материал? Камень. Десять заповедей, открытых Моисею, начертал он на каменной скрижали. Из чего были сделаны первые орудия человека? Из камня. Ты только взгляни, сколько тут художников точит лясы на ступенях Собора. А много ли среди них скульпторов? Товарищи Микеланджело были ошеломлены. Даже Якопо перестал разглядывать девушек. Никогда еще не говорил Микеланджело с такой убежденностью — глаза его горели в гаснущем свете сумерек, как янтарные угли. Он сказал своим приятелям, почему, по его мнению, перевелись на свете скульпторы: напряжение, которого требует работа с молотком и резцом, истощает у человека мозг и мышцы, действовать же кистью, пером и карандашами живописцу не в пример легче. Якопо только присвистнул. Граначчи возразил: — Если тяжесть работы — это мерило в искусстве, то, выходит, рабочий, добывающий мрамор в горах с помощью клиньев и рычагов, куда более благородная фигура, чем скульптор, а кузнец важнее ювелира, и каменщик значительнее архитектора. Микеланджело покраснел от смущения. Он допустил промах в споре и теперь видел, как ухмыляются Якопо, Тедеско и другие его собеседники. — Но вы все же признаете, что труд художника тем выше, чем яснее художник выражает истину. А скульптура подходит к истине ближе других: ведь изваянная фигура высвобождается из мрамора со всех четырех сторон сразу. Обычно скупой на слова, Микеланджело говорил теперь не смолкая. Живописец накладывает краски на плоскую поверхность и с помощью перспективы старается убедить люден, что они видят изображенное во всей его полноте. Но попробуй обойти вокруг человека, написанного живописцем, или же вокруг дерева! Разве не очевидно, что это лишь иллюзия, колдовство! А возьми скульптора — ах, он высекает подлинную действительность, всю как она есть! Скульптура и живопись — это как истина и обман… Если живописец ошибается, что он обычно делает? Латает свою работу, покрывая ее новым слоем краски. Скульптор же должен заранее увидеть в глыбе мрамора именно ту форму, которую он заключает. Скульптор не в силах склеить сломанные части. В этом-то и лежит причина того, что нынче не стало скульпторов. Работа требует от скульптора в тысячу раз больше, чем от живописца: и точности глаза, и рассудка, и прозорливости. Он внезапно оборвал свою речь, тяжело дыша. Якопо спрыгнул с саркофага и поднял обе руки вверх в знак того, что он не может слушать такую чепуху. Он весь горел от возбуждения — он любил живопись и понимал ее, хотя и был слишком ленив, чтобы всерьез заниматься ею. — Скульптура — это скучища. Что может создать скульптор? Мужчину, женщину, льва, лошадь. Потом снова то же самое. Разве это не нудно? А живописец способен изобразить всю вселенную: небо, солнце, луну и звезды, облака и дожди, горные выси и деревья, реки и моря. Нет, скульпторы повывелись оттого, что у них скучное дело! К спорщикам подошел и стал прислушиваться Себастьяно Майнарди. Он вывел было на воскресную прогулку и жену, но скоро отправил ее домой, сам вернувшись к ступеням Собора, к компании молодых друзей, обществом которых, подобно всем флорентинцам, он дорожил куда больше, чем обществом женщин. На его обычно бледных щеках алели пятна румянца. — Так оно и есть! — подхватил Майнарди слова Якопо. — Скульптору достаточно сильных рук, а голова у него может быть пустая. Да, пустая; ведь после того, как скульптор набросал свой рисунок и сотни часов колотит молотком и рубит камень, — о чем ему надо думать? Ровным счетом ни о чем! А живописец должен обдумывать тысячу вещей каждую секунду, согласовывать все элементы и части картины. И создать иллюзию третьего измерения — неужто это не высокое мастерство? Вот почему жизнь художника интересна и богата, а жизнь скульптора — скучна. От досады у Микеланджело навернулись слезы. Он проклинал себя за неумение выразить в словах те мысли, которые мог бы выразить ваятель в самом камне. — Живопись подвержена гибели: пожар в часовне или слишком сильная стужа — и фреска начинает темнеть, обсыпаться. Но камень вечен! Ничто не может его уничтожить. Когда флорентинцы разрушили Колизей, что они сделали с его камнем? Построили из него новые стены. Лишь подумайте о греческих статуях, извлекаемых из земли, — ведь им по две, по три тысячи лет. А кто мне покажет живопись, которой было бы две тысячи лет? И поглядите на этот римский мраморный саркофаг: он так же чист и крепок, как в тот день, когда его изваяли. — И так же холоден! — вставил Тедеско. Майнарди поднял руку, прося внимания. — Микеланджело, — мягко начал он, — не приходило ли тебе на ум, что скульпторы перевелись сейчас совсем по другой причине: слишком дорог у них материал. Скульптор нуждается в богатом покровителе или в каких-то людях, которые снабжали бы его мрамором или бронзой. Цех шерстяников во Флоренции сорок лет давал деньги Гиберти, пока тот работал над порталом Баптистерия. Козимо де Медичи снабжал Донателло всем, в чем только он нуждался. Кто доставит тебе камень, кто будет поддерживать тебя, когда ты трудишься над этим камнем? Краска дешева, заказов на живопись вдоволь — поэтому-то мы и нанимаем учеников и содержим их. Ну, а что касается опасности роковых ошибок в работе скульптора, то разве лучше обстоит дело у живописца, когда он пишет фреску? Если скульптор должен видеть форму, заключенную в камне, то разве не должен живописец заранее знать, каким именно будет цвет на его фреске после того, как штукатурка высохнет и тона красок подвергнутся изменению? Микеланджело ничего не оставалось, как покорно согласиться с этим доводом. — Существует еще одно обстоятельство, — продолжал Майнарди. — Все, чего можно было достичь в скульптуре, все уже сделано трудами Лизано, Гиберти, Орканьи, Донателло. Возьми Дезидерио да Сеттиньяно или Мино да Фьезоле: они создавали лишь милые, очаровательные копии с творений Донателло. А Бертольдо, который помогал Донателло отливать статуи и мог бы проникнуть в секреты великого мастера, усвоенные тем у Гиберти, — что создал этот Бертольдо, кроме нескольких мелочей, представляющих собой слабый отзвук идей Донателло? А сейчас Бертольдо болен и стар, творчество его замерло. Да, скульптор способен создавать лишь копии, ибо сфера скульптуры весьма ограниченна. Микеланджело понуро опустил голову. Если бы ему было дано побольше знаний! Он сумел бы убедить этих людей, какое это великолепие — статуя, образ человека, воплощенный в камне. Граначчи успокаивающе тронул мальчика за плечо. — Ты забываешь, Микеланджело, что говорил Пракситель. У живописи и скульптуры одни родители: эти искусства — сестры. Но Микеланджело отверг эту компромиссную формулу. Не говоря больше ни слова, он спустился с прохладных мраморных ступеней Собора и по вымощенным булыжником улицам побрел домой.9
Ночью он не мог заснуть, все ворочался с боку на бок. В комнате было душно: Лодовико постоянно твердил, что воздух, проникающий в окно, не менее опасен, чем выстрел из арбалета. Буонаррото, спавший с Микеланджело в одной постели, дышал ровно и спокойно: он был спокоен всегда и во всем. Несмотря на то что Буонаррото был на два года младше Микеланджело, он опекал всех четырех своих братьев. На кровати, которая стояла ближе к двери, за занавеской, спали два других брата — добро и зло потомства Буонарроти, Лионардо и Джовансимоне. Первый, полутона годами старше Микеланджело, всеми своими помыслами стремился к одному — стать святым; второй, на четыре гола младше Микеланджело, был ленив и вечно дерзил родителям; однажды он устроил пожар на кухне у Лукреции только потому, что та за что-то его наказала. Младший из братьев, Сиджизмондо, спал на низенькой кроватке, стоявшей в ногах у кровати Микеланджело, под которую ее на день и задвигали. Микеланджело опасался, что из Сиджизмондо никогда ничего не выйдет — столь он был простоват и не способен к какому-либо учению. Осторожно соскользнув с кровати, Микеланджело надел короткие штаны и рубаху, сунул ноги в сандалии и вышел из дому. Он шел по Виа делль Ангуиллара, по только что вымытым переулкам с блистающими чистотой верандами, по площади Санта Кроче, где в предрассветном сумраке высились недостроенные кирпичные стены францисканской церкви. В полуоткрытой галерее он различил очертания саркофага Нино Пизано, поддерживаемого четырьмя аллегорическими фигурами. Микеланджело повернул налево, на Виа дель Фоссо, которая шла по второй черте городских стен, миновал тюрьму, затем дом, принадлежавший племяннику Святой Екатерины Сиенской, и в конце улицы, на Углу Ласточек, прославленную на весь город аптекарскую лавку. Отсюда он вышел на Виа Пьетрапьяна, или улицу Плоских Камней, которая вела на площадь Святого Амброджио, — в церкви на этой площади были похоронены скульпторы Верроккио и Мино да Фьезоле. От площади мальчик направился на Борго ла Кроче, пока не вышел на сельскую дорогу под названием Виа Понтассиеве; дорога эта встречалась с притоком Арно, речкой Аффрико, по берегам которой росли пышные деревья и кусты. На перекрестке у Виа Пьяджентина перед Микеланджело встал крошечный поселок Варлунго — ко времена древних римлян тут был удобный брод, — потом мальчик снова свернул налево и стал подниматься по бугру к Сеттиньяно. Он шел уже не меньше часа. На небе разлилась яркая, светлая заря. Взобравшись на вершину бугра, Микеланджело остановился, глядя, как похожие на женские груди холмы Тосканы, просыпаясь, вставали из мрака. На те красоты природы, которые так трогают живописцев, он почти не обращал внимания — его не волновали ни красные маки в густой зеленой пшенице, ни почти черные силуэты стройных кипарисов. И все-таки он любил долину Арно, словно бы изваянную мудрым скульптором. Господь бог был бесподобным ваятелем: холмы, гряда за грядой, уходили вдаль, к горизонту, радуя глаз нежной пластичностью очертаний. И чудесные их гребни, и округло вылепленные склоны, и виллы, и рощи, вплоть до отдельных дерев, видимых за много верст, выступали в необычайно прозрачном воздухе четко, осязаемо, — казалось, их можно было тронуть рукой. Естественная перспектива здесь была будто перевернута: чем дальше отстоял предмет, тем ближе и доступнее он казался. Всякий тосканец — прирожденный скульптор. Завладевая местностью, он возводил каменные террасы, разбивал виноградники и оливковые сады, умело вписывая их в холмистый ландшафт. Ни один стог сена у тосканца не был похож на другой: он придает ему то круглую форму, то овальную, то очертания зонтика, то шатра — форма стога служила здесь как бы личным знаком владельца. Шагая по холмам, Микеланджело выбрался на проезжую дорогу, огороженную крепкими стенами — этой опорой всей жизни тосканца, дающей ему чувство уединения и безопасности, защитой его земли и его власти. Стены, сдерживая оползни со скатов холмов, достигали пяти с половиной аршин в высоту и были построены на века. Камень господствовал в здешней жизни: тосканец строил из камня дома и виллы, огораживал им свои поля, укреплял возделанную на крутых склонах почву, чтобы она не осыпалась. Местность изобиловала камнем; каждый холм представлял собой еще не открытую каменоломню. Стоило тосканцу поцарапать почву ногтем, как он находил столько строительного материала, что можно было громоздить целый город. А когда тосканец возводил стену, складывая ее из сухого дикого камня, она стояла так прочно, будто ее глыбы скреплялись самым надежным раствором. «По умению людей обращаться с камнем можно судить, насколько они цивилизованны». Микеланджело свернул с дороги в том месте, где она поворачивала к каменоломням Майано. В течение четырех лет, после того как у него умерла мать, Микеланджело бродил по этим местам, хотя по возрасту в ту пору ему надо было уже учиться в школе. Но в Сеттиньяно не оказалось учителя, а отец был слишком занят собой, чтобы думать об этом. И вот мальчик снова шел по старым тропинкам, где он прекрасно помнил каждый камень, каждое дерево, каждую борозду. Он поднялся еще на один гребень и увидел поселок Сеттиньяно, полтора десятка домиков, обступавших по кругу серую каменную церковь. Это было сердце земли, вырастившей не одно поколение скальпеллини — лучших в мире каменотесов, тех самых мастеров, которые построили Флоренцию. Они издавна жили здесь, в трех верстах от нее, на первой возвышающейся над долиной горной гряде, откуда так легко было доставлять камень в город. Про вереницу холмов, которые окружали Сеттиньяно, говорили, что у них бархатная грудь и каменное сердце. Пробираясь по маленькому поселку к имению Буонарроти, Микеланджело шел мимо десятка дворов, где обрабатывался камень, — эти дворы-мастерские примыкали к домам и всем хозяйственным постройкам каменотесов. Скоро он был у просторного двора, на котором вырос и возмужал Дезидерио да Сеттиньяно. Смерть вырвала из его рук молоток и резец, когда ему исполнилось только тридцать шесть лет, но уже тогда он был знаменитым скульптором. Микеланджело хорошо знал изваянные им мраморные, с прелестными ангелами, надгробья в Санта Кроче и в Санта Мария Новелла и «Богоматерь», высеченную с таким искусством, что она казалась только что заснувшей, живой. Дезидерио принял в ученики Мино да Фьезоле, который был тогда молодым камнерезом, и научил его высекать из мрамора статуи. Когда учитель скончался, Мино с горя переехал в Рим. Теперь во Флоренции не осталось ни одного скульптора. Гиберти, воспитавший Донателло и братьев Поллайоло, умер тридцать три года назад. Донателло, руководившего скульптурной мастерской почти в течение полустолетия, тоже не было в живых уже двадцать два года, и скончались все его последователи: Антонио Росселлино — девять лет назад, Лука делла Роббиа — шесть, Верроккио — совсем недавно. Братья Поллайоло вот уже четыре года как переселились в Рим, а Бертольдо, любимец Донателло и преемник его мастерства, человек широких познаний, был безнадежно болен. Андреа и Джованни делла Роббиа, выучившиеся у Луки, забросили скульптуру из камня, отдавшись глазурованным рельефам на терракоте. Да, скульптура совсем умерла. В отличие от своего отца, который хотел бы родиться на сотню лет раньше, Микеланджело было бы достаточно сорока — тогда он мог бы учиться под руководством Гиберти — или тридцати, чтобы попасть в ученики к Донателло; родись он на двенадцать, десять или пять лет раньше, его обучали бы работе по мрамору братья Поллайоло, Верроккио или Лука делла Роббиа. Он родился слишком поздно, а на его родине, во Флоренции, и во всей долине Арно за два с половиной столетия, с тех пор как Николо Пизано нашел в земле несколько греческих и римских мраморов и начал ваять сам, были созданы такие величайшие богатства скульптуры, каких мир после Фидия и его Парфенона еще не видел. Таинственная чума, напавшая на тосканских скульпторов, вымела их всех до последнего; род ваятелей, некогда процветавший так пышно, исчез. Чувствуя, как тоска сжимает его сердце, мальчик двинулся дальше.10
Вниз по извилистой дороге, за несколько сот саженей от поселка, на участке земли в десятину с четвертью, стояла вилла Буонарроти, — теперь она была сдана на долгий срок в аренду чужим людям. Микеланджело не бывал здесь уже много месяцев. Но, как и прежде, его поразила сейчас красота обширного дома, построенного двести лет назад из лучших сортов майанского светлого камня. Линии виллы были изящны и строги, широкие портики ее смотрели на долину, где, подобно серебряной кайме, нанесенной рукой ювелира, поблескивала река. Мальчик помнил, как когда-то ходила по этому дому его мать, как она спускалась по витым лестницам, как целовала и прощалась с ним на ночь в большой угловой комнате: из окон ее открывались владения Буонарроти, речушка, бегущая в низине, и усадьба каменотесов Тополино на ближнем холме. Он прошел по заднему дворику виллы, ступая по чудесному камню выложенной дорожки, мимо каменного водоема, на котором был высечен изысканный решетчатый узор, — с этого узора Микеланджело делал первые в своей жизни рисунки. Затем он стремглав кинулся бежать вниз по скату — по одну сторону от него было поле пшеницы, а по другую почти вызревший виноградник — и оказался в лощине у речки, скрытой буйной листвой кустов. Он скинул с себя рубашку, штаны и сандалии и нырял и перевертывался в воде с боку на бок, радуясь прохладе всем своим усталым телом. Потом он вылез, полежал на солнышке, чтобы обсохнуть, оделся и начал взбираться на противоположный склон холма. Завидя двор Тополино, он остановился. Перед ним была картина, которую он любил и которая всегда давала ему ощущение прочного домашнего покоя: отец семейства обтачивал стальными резцами круглую, с продольными желобками, колонну, младший сын тесал лестничные ступени, один из старших сыновей вырезывал изящный наличник, а другой обрабатывал плиту для пола; подсыпая мелкий речной песок, дед на пемзовом круге полировал колонну. Сзади, в стене, виднелись три ниши, подле них разгуливали куры, утки и поросята. В глазах мальчика разницы между каменотесом и скульптором не существовало, ибо каменотесы были великолепными мастерами и от них зависело, как раскроется и заиграет фактура и цвет светлого камня. Разница могла быть в степени мастерства, но не в существе работы: каждый камень, пошедший на дворцы Пацци, Питти или Медичи, вырубался, обтесывался и обтачивался так, будто это было произведение скульптуры. Как на произведение скульптуры и смотрел на него каменотес-сеттиньянец. Мастера послабее изготовляли строительный камень для обычных домов и для мощения улиц. Флорентинцы кичились своими каменными мостовыми — весь город с гордостью говорил, что однажды, когда ко дворцу Синьории везли осужденного человека, чтобы там его повесить, и телега начала подпрыгивать и трястись на камнях, этот человек с возмущением крикнул: — Ну что за болваны тесали эти плиты? Тополино-отец услышал шаги Микеланджело. — Buon di, Микеланджело. Добрый день. — Buon di, Тополино. — Come va? Как дела? — Non с'е male. E tu? Неплохо. А у тебя? — Non с'е male. Как поживает почтенный Лодовико? — Спасибо, хорошо. В действительности Тополино не очень уж интересов вались жизнью Лодовико: ведь не кто иной, как именно Лодовико запрещал Микеланджело посещать дом каменотесов. Семейство по-прежнему сидело на своих местах и не прерывало работы: каменотес не любит нарушать уже налаженный ритм. Двое старших сыновей и один младший, ровесник Микеланджело, ласково сказали ему: — Benvenuto, Микеланджело. Привет. — Salve, Бруно. Salve, Джильберто. Salve, Энрико. Слово каменотеса всегда скупо и кратко, оно произносится в лад с ударом молотка, за ту же секунду. Работая над камнем, мастер избегает разговаривать: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь — летят секунды, и ни одного звука не срывается с губ, лишь в едином ритме качаются плечи и движется рука, сжимающая резец. Затем, в течение короткой паузы между двумя очередями ударов, каменотес может заговорить: раз, два, три, четыре. Все, что он скажет, должно уложиться в этот счет — раз, два, три, четыре, иначе фраза останется недоговоренной. Если высказываемая мысль сложна, ее приходится делить, прибегая к паузам, и подчиняться тому же четырехтактному ритму, в два или три приема. Однако каменотес умеет выразить свою мысль, ограничившись теми необходимыми словами, которые точно входят в один четырехтактный промежуток. В детстве каменотес не знает никаких школ. Заключая договоры, Тополино буквально все подсчитывал на пальцах. Когда кому-либо из его сыновей исполнялось шесть лет, он вручал мальчику, как вручил однажды и Микеланджело, молоток и резец; в десять лет мальчишки трудились уже полный рабочий день, как взрослые. Браки у каменотесов заключались только в своем кругу. Контракты с подрядчиками и архитекторами передавались по наследству, из поколения в поколение, — тот же порядок царил и в каменоломнях Майано; ни один сторонний человек не мог получить там работы. Около ниши стояла большая овальная плита, на ней были насечены образцы обработки светлого камня: в елочку, ямкой, рустом, перекрестным штрихом, в линию, скосом, прямым углом, возвратной ступенькой. Это была первая азбука, с которой познакомился Микеланджело, — он до сих пор ладил с нею куда лучше, чем с той, буквенной, по которой его учили читать Библию и Данте. Тополино заговорил вновь: — Ты пошел в ученики к Гирландайо? — Пошел. — Тебе нравится там? — Не очень. — Peccato. Жаль. — Браться не за свое дело — все равно что варить суп в корзине, — отозвался дедушка. — Почему же ты не уходишь оттуда? — спросил средний брат. — А куда мне уходить? — Мы могли бы взять резчика. — Это произнес Бруно, старший сын. Микеланджело перевел взгляд с сына на отца. — Davvero? — Davvero. Правда. — Вы возьмете меня учеником? — По камню ты давно уже не ученик. Ты войдешь в долю. У него екнуло сердце. Все молча работали, пока Микеланджело в остолбенении смотрел на Тополино-отца: ведь тот предлагал ему хлеб, часть рациона своей семьи. — Мой отец… — Ecco! Э, нет! — Можно мне поработать? Дед, вращая круг, ответил: — «Даже самая малая помощь и та на пользу», — так говорил один человек, ступая в воду Арно, когда у его сына в Пизе села лодка на мель. Микеланджело пристроился у шероховатой, неотделанной колонны, взяв в одну руку молоток, а в другую резец. Он любил ощущать тяжесть инструмента, любил камень. Камень — это весомая, конкретная вещь, а не какая-то абстракция. Никто не мог спорить и рассуждать о камне вкривь и вкось, с разных точек зрения, как рассуждают о любви или о боге. Ни один теоретик никогда еще не выломал ни одной каменной глыбы из ее земного ложа. У Микеланджело была природная сноровка в работе, она не исчезла и теперь, хотя он не держал в руках молотка уже несколько месяцев. Под его ударами светлый камень откалывался и отлетал, словно сухое печенье. Был естественный ритм между движением его груди, вдохом и выдохом, и движением молотка вверх и вниз, когда он вел свой резец поперек ложбины. Прикосновение к камню, молчаливая работа над ним наполняла его чувством уверенности, что все на свете опять хорошо; удар, нанесенный по резцу, приятно отдавался в руках и волной шел к плечам и груди, потом эта волна скатывалась вдоль живота вниз, порождая радостную тяжесть в ногах. Светлый камень, над которым трудились Тополино, был тяжел на вес, живого голубовато-серого цвета, он лучился и мерцал на свету, на нем отдыхал глаз. При всей своей прочности он был упруг и хорошо поддавался резцу, нрав у него был такой же веселый, как и цвет: камень одарял ясностью итальянского голубого неба всех, кто к нему приобщался. Тополино научили Микеланджело работать, испытывая к камню дружеское чувство, раскрывая его естественные формы, его горы и долины, даже если с первого взгляда он мог показаться сплошным монолитом. Тополино говорили мальчику, что никогда не надо серчать на камень, раздражаться на него. «Камень работает вместе с тобою. Он раскрывает себя. Но ты должен бить и резать его правильно. Камень не противится резцу. Резец его не насилует. Перемена, изменение формы лежит в природе камня. Каждый камень обладает своим, особым характером. Его надо постигнуть. Обращайся с камнем осторожно, иначе он расколется. Никогда не доводи камень до того, чтобы он погибал от твоих рук». «Камень отзывается на любовь и уменье». Первый урок, который усвоил Микеланджело, сводился к тому, что сила и крепость заключены в самом камне, а не в руках каменотеса или в его инструменте. Господином был камень, а не мастер, обрабатывающий его. Если даже резчик и вообразит, что он господин, то камень сразу же начнет противиться и перечить ему. А если каменотес будет бить камень, как невежда мужик бьет свою скотину, то наполненный светом, дышащий материал сделается тусклым, бесцветным, уродливым — он умрет под рукой каменотеса. Сталкиваясь с грубым ударом и руганью, с нетерпением и ненавистью, он закутывает свою мягкую внутреннюю сущность жестким каменным покрывалом. Камень можно разбить вдребезги, по подчинить его себе насилием нельзя. Он уступает только любви и участию — тогда он сияет и искрится особенно празднично, делается гибким и текучим, являет глазу свои соразмерности. С самого начала Микеланджело научили, что у камня есть одна тайна — его надо закрывать на ночь, ибо он непременно даст трещину, если на него упадут лучи полной луны. Внутри любой каменной глыбы есть рыхлые места и свищи. Чтобы они не давали себя знать, камень необходимо держать в тепле, укрывая его мешковиной — при этом мешковина должна быть влажной. Зной придает поверхности камня такую же грубую шершавость, какая у него была в горах, до того, как его выломали. Лед является врагом камня. «Камень может разговаривать с тобой. Послушай, как он отзывается, когда ты ударяешь по нему молотком». Камень называли тем словом, которое обозначает самую лучшую, самую дорогую пищу: carne, мясо. Сеттиньянцы чтили камень. Для них это был самый прочный, самый долговечный материал в мире; из камня они строили свои дома, дворы и амбары, церкви, города, камень давал им в течение тысячелетия занятие, мастерство, независимость, пропитание. Камень был не царем, камень был богом. Они поклонялись камню, как поклонялись ему их предки-язычники этруски. Они прикасались к нему с благоговением. Микеланджело знал, что каменотесы — народ гордый: ухаживать за коровами, свиньями, виноградниками, оливами, пшеницей — это была работа как работа, и они делали ее хорошо для того, чтобы хорошо питаться. Но работа над камнем — о! это уже совсем другое: человек вкладывал в нее свою душу. Разве не жители Сеттиньяно добыли камень в горах, обработали его, построив из него самый очаровательный город в Европе, жемчужину камнерезного искусства — Флоренцию? Красоту этого города создавали не только зодчие и скульпторы, ее творил и скальпеллино — не будь каменотеса, город никогда не обрел бы своего удивительного разнообразия в формах и в убранстве. Монна Маргерита, расплывшаяся, толстая женщина, заботам которой были отданы в хозяйстве, не считая печки и корыта, скот и посевы, вышла во двор и, задержавшись у ниши, стала прислушиваться к разговору. Именно о ней с такой горечью говорил недавно Лодовико, когда Микеланджело признался, что хочет работать руками: — Ребенок, которого отдают кормилице, с молоком впитывает и ее представления о жизни. Два года Маргерита кормила грудью Микеланджело вместе со своим мальчиком, а с того дня, как у нее пропало молоко, она поила детей вином. Водой мальчиков она только обмывала, собираясь вести их к мессе. Микеланджело любил монну Маргериту почти так же, как и монну Алессандру, свою бабушку, он верил в неизменную ее доброжелательность и готовность помочь. Он поцеловал ее в обе щеки. — Добрый день, сын мой! — Добрый день, милая бабушка. — Будь терпелив, — сказала монна Маргерита. — Гирландайо — хороший мастер. Кто владеет искусством, тот не будет без хлеба. Тополино-отец поднялся с места. — Мне надо ехать за камнем в Майано. Ты мне не поможешь, Микеланджело? — С удовольствием. До свидания, дедушка. До свидания, Бруно. Джильберто, Энрико, до свидания. — Addio, Микеланджело. Тополино-отец и Микеланджело сидели бок о бок на телеге, которую тянули два белых вола с великолепными мордами. В полях было видно, как сборщики олив взбирались на легкие деревянные лесенки с тонкими поперечинами. У каждого сборщика к животу веревкой была подвязана корзина. Сборщики притягивали к себе ветви левой рукой, а правой обдирали с них маленькие черные плоды, делая движение сверху вниз, как при дойке коров. Сборщики олив — народ разговорчивый: сидя по двое на дереве, они постоянно переговаривались друг с другом, ибо молчание для них было почти равнозначно смерти. Тополино сказал сквозь зубы: — Голубю только бы слушать, как воркует другой голубь. Извилистая дорога, огибая гряду холмов, спускалась в долину, затем исподволь шла вверх к горе Чечери, к каменоломне. Когда повозка объезжала Майано, Микеланджело увидел ущелье, где уже поблескивал серо-голубой светлый камень с темными железистыми прожилками. Светлый камень лежал горизонтальными пластами. Именно в этой каменоломне Брунеллески выбирал себе материал, возводя прекрасные церкви Сан Лоренцо и Санта Спирито. Высоко на скале несколько человек вгоняли в камень металлические буры, обозначая глыбу, которую следовало выломать. Микеланджело видел знаки, оставленные орудиями камнеломов на горе, — слои камня сдирали здесь с поверхности так, как отделяют лист за листом от пачки пергамента. Наверху, где шла работа, в жарком воздухе мерцала пыль, — там камень рубили, кололи, обтачивали: мокрые от пота люди, низкорослые, худые, жилистые, неустанно трудились тут от зари до зари; с помощью молотка и резца они могли отсечь кусок глыбы с такой же точностью, с какой рисовальщик проводит пером линию на бумаге, приложив линейку; их упорство, сила и выдержка были столь же тверды, как и скала, которую они разрабатывали. Микеланджело знал этих людей с шестилетнего возраста, когда он начал ездить сюда на белых волах с Тополино. Они здоровались с ним, справляясь, как у него дела: древний народ, всю свою жизнь имеющий дело с самой простой, самой элементарной силой на земле — с камнем гор, созданных в третий день творения. Тополино осмотрел свежевыломанные глыбы, бросая на ходу те ворчливые замечания, к которым давно привык Микеланджело. — У этого камня явный свищ. А в этом чересчур много железа. А тут сланец: он будет выпадать кристаллами, как сахар на булочке. А в этом непременно есть пустоты. И, перелезая через глыбы и оказавшись уже где-то на краю утеса, громко крикнул оттуда: — А! Вот чудесный кусок мяса! Существует способ шевельнуть, стронуть камень с места, надавливая на него сверху в разных местах. Микеланджело умел делать это, не прибегая к помощи рук. Взобравшись на камень, он раскачивался, перемещая свою тяжесть с одной ноги на другую, — камень чуть шелохнулся, а Тополино сразу же подсунул в образовавшийся под ним зазор железный ломик. Подталкивая глыбу, они выкатили ее на открытую площадку, затем, с помощью рабочих, каменный блок был погружен в повозку. Подолом рубашки Микеланджело вытер с лица пот. Дождевые облака плыли с гор над долиной Арно к северу. Он стал прощаться с Тополино. — До завтра, — сказал Тополино, хлестнув волов и трогаясь в путь. «До завтра, — подумал Микеланджело. — Завтра — это тот день, когда я займу свое место в семействе Тополино, хотя и не знаю, когда он настанет — через неделю или через год». Он стоял на холме, ниже Фьезоле, каменоломни были теперь позади. Теплый дождь кропил ему лицо. Силуэты ветвистых олив отливали серебристо-зеленым. Крестьянки в цветных платках на голове жали пшеницу. Там, внизу, виднелась Флоренция — кто-то словно бы обсыпал ее мелкой сероватой пылью, обесцветив красный ковер черепичных кровель. Но четко рисовался похожий на женскую грудь купол Собора и горделиво взлетала к небу башня Синьории — оба эти здания, под сенью которых расцветала и разрасталась Флоренция, как бы олицетворяли собою город. Микеланджело стал спускаться с холмов на дорогу, сердце его ликовало.11
Пропустив без разрешения целый рабочий день, Микеланджело пришел в мастерскую спозаранок. Гирландайо на этот раз не уходил домой и трудился при свечах всю ночь. Он был небрит, синеватая щетина на подбородке и впалых щеках придавала ему вид отшельника. Микеланджело подошел к помосту, на котором величественно, словно бы господствуя над всей мастерской, возвышался стол Гирландайо, и стал ждать, когда учитель заговорит с ним. Не дождавшись этого, он спросил: — Что-нибудь не ладится? Гирландайо встал, поднял руки и вяло помахал ими, как бы отгоняя от себя заботы. Микеланджело подошел к столу и бросил взгляд на десяток незаконченных набросков Христа, которого крестил Иоанн. И Христос и Иоанн выглядели на рисунках хрупкими, почти изнеженными. — Прямо-таки робею перед этим сюжетом, — тихо, словно разговаривая с самим собой, сказал Гирландайо. — Боюсь, что Иисус чересчур смахивает у меня на какого-то флорентинца. Он схватил перо и стал поспешно набрасывать новый рисунок. На листе бумаги появилась неуверенная фигура, казавшаяся еще бесцветней и слабей оттого, что рядом был уже твердо и смело очерчен Иоанн, стоявший с чашей воды в руке. Гирландайо с отвращением бросил перо и пробормотал, что идет домой отсыпаться. Вслед за ним вышел и Микеланджело. Он прошел на задний двор и при ясном свете занимавшегося летнего утра принялся рисовать, делая набросок за наброском. Он упорно работал всю неделю, стараясь найти то, что хотел. А потом взял свежий лист бумаги и запечатлел на нем фигуру с могучими плечами, мускулистой грудью, широкой поясницей, упругим овальным животом; ее сильные, большие ноги упирались в землю прочно, будто вросшие: это был человек, который мог одним ударом молота расколоть глыбу светлого камня. Когда Микеланджело показал своего Христа Гирландайо, тот возмутился: — У тебя был натурщик? — Каменотес из Сеттиньяно, который помогал меня вырастить. — Вот тебе на — Христос и каменотесы! — Но Христос был плотником! — Флоренция не примет Христа-мастерового, Микеланджело. Она привыкла видеть его благородным, изящным. Микеланджело едва заметно улыбнулся. — Когда я только начинал у вас учиться, вы мне сказали: «Живопись, рассчитанная на века, — это мозаика». И велели посмотреть в церкви Сан Миниато мозаику десятого столетия — «Христа» Бальдовинетти. Он показался мне совсем не похожим на торговцев шерстью из Прато. — Надо отличать грубость от силы, — возразил Гирландайо. — Юноша всегда это может спутать. Я тебе расскажу одни случай. Однажды, совсем еще молодым, Донателло потратил уйму времени, вырезывая деревянное распятие для церкви Санта Кроче. Кончив распятие, он понес показать его своему другу Брунеллески. «Сдается мне, — сказал ему Брунеллески, — что ты поместил на кресте какого-то пахаря, а не Иисуса Христа, который был весьма нежен во всех своих членах». Донателло, огорченный замечанием старшего друга, воскликнул: «Сделать распятие не так легко, как судить и рассуждать о нем… Попробуй-ка сделать сам!» В тот же день Брунеллески принялся за работу. Потом он пригласил Донателло к себе пообедать, а по дороге друзья купили яиц и свежего сыра. И вот когда Донателло увидел в доме Брунеллески распятие, он так восхитился им, что всплеснул руками и выпустил фартук с покупками, уронив на пол и сыр и яйца. Брунеллески, смеясь, спросил его: «Что же теперь будет с обедом, Донато, — ведь ты разбил все яйца?» Донателло был не в силах оторвать свой взгляд от великолепного распятия и сказал Брунеллески так: «Да, ты можешь изваять Христа, а мне надо ваять лишь пахарей». Микеланджело знал оба распятия, о которых говорил Гирландайо: распятие Брунеллески находилось в церкви Санта Мария Новелла. Запинаясь, он стал объяснять учителю, что предпочитает Донателлова пахаря неземному, возвышенному Христу Брунеллески: тот такой хрупкий и слабый, словно его для того и создали, чтобы распять. Для Донателлова же Христа распятие явилось ужасающей неожиданностью — такой же бедой, как и для Марии и всех других, кто был у подножия креста. Микеланджело склонялся к мысли, что возвышенную одухотворенность Христа надо связывать не с телесной его хрупкостью, а с непреложностью и вечностью его учения. Богословские премудрости ничуть не интересовали Гирландайо. Нетерпеливо отмахнувшись от ученика, он погрузился в работу. Микеланджело вышел во двор и сел на горячем солнце, опустив голову. Он надоел самому себе. Через несколько дней вся мастерская гудела от возбуждения. Гирландайо закончил своего Христа и теперь переносил рисунок на картон, в полную величину, в красках. Когда Микеланджело допустили взглянуть на готовую работу, он был поражен до глубины души: перед ним оказался его Христос! Ноги, жилистые, с узловатыми коленями, чуть вывернуты, в неловком положении; грудь, плечи и руки работника, таскавшего бревна и рубившего дома; округлый, выпуклый живот человека, не чуждавшегося земной пищи, — по своей жизненной силе этот образ Христа далеко превосходил все те скованные и застывшие фигуры, которые Гирландайо создал для хоров Торнабуони. Если Микеланджело ждал, что Гирландайо признает, кто именно повлиял на его работу, то он глубоко заблуждался. Гирландайо явно забыл и свой недавний спор с учеником, и его набросок. На следующей неделе вся боттега, как один, двинулась в церковь Санта Мария Новелла, чтобы начать работу над «Успением Богородицы», — эту фреску надо было вписать в полукруглый люнет над левым крылом хоров. Особенно радовался работе Граначчи: Гирландайо поручил ему фигуры апостолов. Он карабкался на подмостки, напевая себе под нос песенку о любви к Флоренции — героине всех любовных флорентинских баллад. Поднялся на леса и Майнарди — ему предстояло работать над фигурой женщины, склонившейся на коленях слева от распростертой Марии; с правого края пристроился Давид: он писал свой излюбленный мотив — тосканскую дорогу, лентой вьющуюся между гор по направлению к белой вилле. Церковь в этот ранний час была пуста, лишь несколько старушек в черных платках молились перед статуей божьей матери. Холщовые полотнища, занавешивающие хоры, были сейчас раздвинуты, чтобы впустить свежий воздух. Микеланджело стоял в нерешительности под лесами, никто не обращал на него внимания. Потом он побрел по длинному центральному нефу на сиявший впереди яркий солнечный свет. Он повернулся и еще раз взглянул на поднимающиеся к потолку леса, на тусклые в этот ранний час витражи на западной стене, на мерцавшие краски нескольких уже законченных фресок, на учеников и помощников Гирландайо, сгрудившихся вверху у люнета, на подмостки, где лежали холсты, мешки с известью и песком, на дощатый стол, заваленный инструментами и материалами, — все, что различал в храме глаз, было окутано мягким сиянием. Посредине церкви стояло несколько деревянных скамеек. Он поставил одну из этих скамеек на удобное место, вытащил из-под рубахи бумагу и угольный карандаш и принялся зарисовывать все, что видел перед собой. Он очень удивился, заметив, как по лесам поползли тени. — Время обедать! — крикнул наверху Граначчи. — Это странно, но, когда пишешь духовный сюжет, у тебя разыгрывается зверский аппетит. — Сегодня пятница, — отозвался Микеланджело, — и вместо говядины ты получишь рыбу. Иди один, я есть не хочу. Когда церковь опустела совсем, он мог без помех зарисовывать устройство хоров. Но художники вернулись и вновь полезли на леса гораздо раньше, чем он предполагал. Солнце зашло теперь с запада, глянуло в окна и залило храм густыми красноватыми лучами. Микеланджело вдруг почувствовал, что кто-то сверлит его сзади взглядом, он обернулся и увидел Гирландайо. Мальчик не произнес ни слова. — Я не могу поверить, чтобы у такого юнца, как ты, и вдруг открылся подобный дар, — хрипло прошептал Гирландайо. — В твоем рисунке есть вещи, которые недоступны даже мне, а ведь я работаю больше тридцати лет! Приходи завтра в мастерскую пораньше. Быть может, теперь мы придумаем для тебя что-нибудь более интересное. Когда Микеланджело шагал домой, лицо его пылало от восторга. Граначчи подтрунивал над ним: — Ты сейчас похож на прекрасного святителя с картины фра Анжелико. Ты словно паришь над мостовой. Микеланджело лукаво взглянул на приятеля. — Парю как — на крыльях? — Никто не посмеет назвать тебя святым хотя бы из-за твоего сварливого характера. Но всякое честное усилие пересоздать то, что уже создано господом… — …есть своеобразный способ поклонения Господу? — …есть любовь к Божьему творению. В противном случае зачем бы трудиться художнику? — Я всегда любил господа, — просто ответил Микеланджело. Утром он еле дождался, когда над Виа деи Бентаккорди начала светлеть узкая полоса неба. По мостовой Виа Ларга стучали копыта осликов и волов, а их деревенские хозяева подремывали в своих тележках, везя всякую снедь к Старому рынку. В лучах зари мраморная колокольня Джотто сияла белым и розовым. Как ни спешил Микеланджело, шагая по улицам, он все же посмотрел и подивился на купол, возведенный гением Брунеллески после того, как недостроенное здание Собора стояло открытым небу и стихиям больше сотни лет, ибо никто не знал, как завершить его, не прибегая к горизонтальным затяжкам. Когда Микеланджело явился в мастерскую, Гирландайо уже сидел за своим столом. — Скучнее сна занятий не придумаешь, — сказал он, поздоровавшись. — Возьми-ка вот этот стул и садись. Мальчик уселся перед Гирландайо, а тот, стараясь лучше осветить мастерскую, отдернул на северной стене занавес. — Поверни голову. Еще, еще, чуть больше. Мне надо нащупать образ юного Иоанна, покидающего город и уходящего в пустыню. Я все не находил подходящую натуру, но вот вчера увидел, как ты работаешь в церкви. Микеланджело едва проглотил пилюлю. И это после стольких бессонных ночей, после всех его дум и мечтаний рисовать целые картоны для фресок, которых еще ждет церковь Санта Мария Новелла!12
Но Гирландайо и не думал обманывать своего ученика. Однажды он кликнул Микеланджело, показал ему весь план фрески «Успение Богородицы» и небрежно добавил: — Мне хочется, чтобы ты вместе с Граначчи поработал над этой сценой с апостолами. Испытай свою руку на фигурах слева, заодно нарисуй и ангелочка, который будет сзади. Граначчи не ведал чувства зависти и работал с Микеланджело охотно. Скоро у них были готовы фигуры двух апостолов: один из них поддерживал рыдающего Иоанна, другой, выше ростом, стоял, понуро склонив лысую голову. — Приходи завтра после заутрени в мастерскую, — сказал Граначчи. — Я дам тебе урок, как работать на стене. Граначчи в самом деле вывел Микеланджело во двор мастерской и не один час учил его готовить стену под роспись. — Заметь, что стена у тебядолжна быть прочной, ибо, если она начнет крошиться, погибнет и твоя фреска. Следи, чтобы нигде не было и грана селитры: малейшее селитряное пятнышко съест всю роспись. Избегай применять песок, добытый близко от моря. А известь чем старее, тем лучше. Теперь я покажу тебе, как надо пользоваться мастерком, штукатуря стену. Помни, что известь надо замешивать как можно гуще, она должна быть не жиже сливочного масла. Микеланджело покорно выполнял все, что приказывал друг, но потом взмолился: — Граначчи, я хочу рисовать, мне надо в руки перо, а не мастерок! — Художник обязан знать свое ремесло во всех его низменных подробностях, — резко заметил Граначчи. — Как ты можешь требовать, чтобы подмастерье затер и выровнял для тебя стену, если сам не умеешь приготовить штукатурку? — Ты прав. И раз это так, я буду мешать известь еще и еще. Когда раствор был готов, Граначчи сунул в одну руку Микеланджело деревянный соколок, а в другую — упругий, длиной дюймов в пять, мастерок, которым надо было набрасывать раствор на стену. Скоро Микеланджело приноровился к мастерку и работал не без удовольствия. Когда штукатурка достаточно просохла, Граначчи приложил к стене старый картон с рисунком, а Микеланджело длинным шильцем из слоновой кости стал протыкать по очертаниям фигур отверстия, затем припудрил эти отверстия толченым углем. Потом картон убрали, и Микеланджело соединил угольные отметки, проведя по ним линию красной охрой. Теперь оставалось только дождаться, когда высохнет охра, и птичьим крылышком счистить толченый уголь. В мастерской появился Майнарди и, увидя, что происходит, тоже начал поучать Микеланджело. — Ты должен помнить, что густота свежей штукатурки изменяется. Если ты работаешь утром, следи, чтобы твои краски были пожиже и не закрывали наглухо поры грунта. Под вечер краски тоже должны быть жидкими: штукатурка к тому времени плохо впитывает их. Лучшее время для письма — середина дня. Но прежде чем писать красками, необходимо научиться их растирать. Ты знаешь, что существует всего-навсего семь естественных красок. Давай начнем с черной. Краски покупались в аптеке кусками величиной с грецкий орех. Растирались они на порфировой плите пестиком из того же порфира. Хотя считалось, что на растирание их достаточно получаса, Гирландайо для своих фресок брал только такую краску, которую растирали не менее двух часов самый тщательным образом. — Мой отец прав, — сказал Микеланджело, посмотрев на свои запачканные черной краской пальцы. — Быть художником — это прежде всего работать руками! Дверь мастерской отворилась, и вошел Гирландайо. — Стой, стой! — воскликнул он. — Микеланджело, если тебе нужен просто черный цвет, пользуйся сажей; если же ты хочешь, чтоб и в черном играли какие-то отливы — добавь к черной краске малость зеленой, — вот так, прямо с ножа! — И, словно разогревшись от этих речей, он сбросил с головы берет. — Для того чтобы получить телесные тона, ты должен взять две части красного железняка и одну часть извести. Давай-ка я покажу тебе пропорции. Теперь на пороге появился Давид, держа в одной руке пачку счетов, а другой прижимая к боку большую бухгалтерскую книгу. — Ну какой толк рассказывать ему о красках, — заявил он, — если парень не знает, как изготовить кисть? Ведь хорошую кисть где попало не купишь. Вот эти кисти, Микеланджело, сделаны из щетины белой свиньи, но свинья должна быть непременно домашняя. На одну кисть берется фунт щетины. Щетину надо плотно перевязать, вот так — видишь?.. Микеланджело поднял свои запачканные руки вверх и воскликнул с насмешливым отчаянием: — Караул! Видно, вы решили за одно воскресное утро обучить меня всему тому, на что уходит три года!Наконец стена для фрески Граначчи была готова, и Микеланджело поднялся к нему на леса, чтобы занять место подручного. Гирландайо еще не разрешал Микеланджело браться за кисть, но мальчик уже неделю работал, накладывая штукатурку и смешивая краски. К тому времени, когда Микеланджело закончил собственный рисунок для «Успения Богородицы» и мог приступить к первой своей настенной росписи, настала осень. Стояли светлые, ясные дни начала октября. Урожай был уже всюду собран, вино выжато, оливковое масло слито в огромные кувшины; сельский люд рубил в лесу дрова и свозил сучья, заготовляя топливо на зиму, поля лежали под паром, а древесная листва сплошь стала рыжевато-коричневой, напоминая теплые краски каменных зубцов башни Синьории. Друзья поднялись на подмостки, где уже были расставлены ведра с известью и водой, заготовлены кисти, плошки, картоны и цветные эскизы. Микеланджело покрыл штукатуркой небольшой участок стены, потом прижал к ней картон, на котором был изображен седовласый святой с большой бородой и огромными глазами. Затем было пущено в ход костяное шильце, толченый уголь, красная охра для соединительных линий, птичье крылышко, чтобы счистить следы угля. И вот уже Микеланджело смешал краски, добиваясь зеленого тона, и мягкой кистью наложил на стену первый красочный слой. Потом взял заостренную, с тонким кончиком кисть и, обмакнув ее в более темную краску, очертил лицо святого: крупный римский нос, глубокие глазницы, белые волосы, волной спускавшиеся до плеч, усы и пышную, окладистую бороду. Легко и свободно, едва взглянув на рисунок, он прописал шею старика, плечи и руки. Теперь, намереваясь продолжить работу, он вопрошающе посмотрел на Граначчи. — Нет, милый Микеланджело, я тебе уж ничем не могу помочь, — ответил на его немой вопрос Граначчи. — Все теперь зависит от тебя самого и от бога. Buona fortuna! Желаю успеха! И с этими словами он спустился с лесов. Микеланджело стоял на высоких хорах один, — под его дощатым насестом, далеко внизу, была и церковь, и весь мир. На какое-то мгновение у него закружилась голова. Как странно выглядела церковь сверху — она была такая огромная, глубокая, пустая. Запах свежей, волглой штукатурки и едких красок щекотал ноздри. Он крепко ухватил кисть. Пальцами левой руки он тщательно выжал ее, помня, что утром краски должны быть пожиже, потом взял на кисть немного темно-зеленой и начал прописывать затененные места на лице, под подбородком, у крыльев носа, в уголках рта, в надбровье. За все время, пока Микеланджело работал над фреской, он лишь однажды обратился к учителю, попросив совета: — Как мне смешивать краски, чтобы они были точно такой же яркости, что и вчера? — А ты каждый раз взвешивай на кончике ножа кусок краски, который отковыриваешь. Рука в этом деле куда чувствительней, чем глаз. Целую неделю он работал один. Вся боттега могла прийти на помощь, если бы он захотел, но без зова никто к нему не приближался. Это было его крещение. Однако уже на третий день все хорошо видели, что Микеланджело нарушает правила. Пользуясь зарисовками, которые он сделал на Старом рынке, наблюдая там двух мужчин, Микеланджело писал обнаженные фигуры и лишь потом набрасывал на них одеяния, тогда как все художники обычно писали человеческую фигуру сразу в одежде, показывая тело только движением складок. Гирландайо и не пытался остановить ученика, он даже не делал ему замечаний, а лишь бормотал потихоньку: — …я рисую их в том виде, в каком Господь Бог сотворил Адама! Микеланджело ни разу в жизни не видел ангелов, поэтому он не знал, как их рисовать. Еще затруднительнее было решить, как изображать крылья: никто не мог ему сказать, были ли они из плоти и крови или из какого-то прозрачного, просвечивающего материала, вроде тех тканей, что изготовляют шерстяной или шелковый цехи. И никто не мог ему разъяснить, из чего состояли светящиеся нимбы, — было там что-то твердое, наподобие металла, или воздушное, как радуга? Сотоварищи безжалостно издевались над Микеланджело. — Ты мошенник, — нападал на него Чьеко. — Ведь это у тебя не крылья… — И обманщик, — добавлял Бальдинелли. — Ты затемнил крылья так, что никто их и не разглядит. — А что касается нимба, то даже не поймешь — нимб это или случайное пятнышко на стене, — изощрялся Тедеско. — В чем же дело? Или ты не христианин, Микеланджело? — А может, ты ни во что и не веруешь? Микеланджело страдальчески улыбался: — Мой ангел — это сын столяра, он живет внизу под нами. Я уговорил столяра, и он вырезал парню крылья… Две фигуры, над которыми трудился Микеланджело, составляли как бы отдельную картину. Помещались они в нижнем углу люнета, под остроконечной горой, увенчанной рыцарским замком. Остальное пространство люнета было заполнено двадцатью фигурами, окружавшими смертное ложе богородицы с высоким изголовьем, лики святых и апостолов были изображены почти с одним и тем же горестным выражением. Самое Марию было трудно разглядеть. Когда Микеланджело, закончив работу, спустился с лесов, Якопо взял в руки маленькую черную шляпу Давида и обошел с нею мастерскую по кругу: все бросали в шляпу по несколько скуди, чтобы купить в складчину вина. Якопо провозгласил первый тост: — За нашего нового товарища, который скоро будет учиться у Росселли! Микеланджело был горько обижен. — Зачем ты так говоришь? — Затем, что ты погубил люнет. Вино Микеланджело не правилось никогда, но этот стакан кьянти показался ему особенно кислым. — Замолчи, Якопо, я не хочу тебя слушать. И не хочу никаких ссор. Когда день был уже на исходе, Гирландайо подозвал Микеланджело к своему столу. Он не сказал ему ни слова по поводу фрески, не похвалил, не побранил — будто мальчик никогда и не поднимался на леса и не писал этих святых. — Вот все говорят, что я завистлив, и, пожалуй, не ошибаются, — начал он, уставясь своими темными глазами на Микеланджело. — Но только я завидую не тем двум твоим фигурам — они незрелы и грубы. Может, они по-своему и примечательны, но отнюдь не тем, что исполнены лучше, чем пишут в нашей мастерской, — нет, они сделаны совсем в другом духе. Мой шестилетний Ридольфо — и тот выдергивает стиль боттеги точнее, чем ты. Но я хочу сказать без обиняков: понимая, какие у тебя способности к рисованию, я завидую твоему будущему. Микеланджело слушал его с чувством смирения, которое испытывал редко. — Что я собираюсь с тобой сделать? Отослать тебя к Росселли? Нет и еще раз нет! Нам предстоит уйма работы над новыми фресками. Ты будешь готовить картон с фигурами для правой стороны. Только, будь добр, ничего не выдумывай, не лезь на рожон. Поздно вечером в тот же день Микеланджело вернулся в опустевшую мастерскую, вынул из стола Гирландайо свои копии старых рисунков и положил туда подлинники. А наутро, проходя мимо Микеланджело, Гирландайо тихонько сказал: — Спасибо, что ты вернул мне рисунки. Надеюсь, они были тебе полезны.
13
Зима в долине Арно выпала в тот год едва ли не худшая на всю Италию. Небо было свинцового цвета, стужа, проникая сквозь камень и шерстяную ткань, больно кусала тело. Вслед за холодами пришли дожди, вода текла по замощенным булыжником улицам целыми реками. А все, что было не замощено, покрылось грязью, превратилось в болото. Единственным памятным зрелищем для флорентинцев был в эту зиму приезд Изабеллы Арагонской: она остановилась в городе, направляясь в Милан, чтобы обвенчаться там с герцогом; ее сопровождала обширная свита дам и кавалеров, разодетых на деньги отца Изабеллы, герцога Калабрийского. В мастерской Гирландайо был всего-навсего один камин. Художники усаживались подле него, лицом к огню, за полукруглый стол и сидели, прижимаясь друг к другу, — спины их были на холоде, но руки все же согревались, и можно было работать. Церковь Санта Мария Новелла вымерзла и того сильнее. На хорах держался морозный сумрак, будто в подземелье. По церкви гулял ветер, раскачивая доски и кожаные ремни лесов. Писать там было немыслимо: жгучий, словно ледяная вода, воздух затруднял дыхание. Но как ни сурова была зима, стояла она недолго. В марте северный ветер стих, солнце стало горячей, а в небе проглянула голубизна. На второй день после того, как установилась теплая погода, Граначчи влетел в мастерскую, обычно задумчивые его глаза горели. Микеланджело редко видел своего друга в таком волнении. — Идем со мной. Я тебе что-то покажу. Граначчи попросил у Давида разрешения отлучиться, и через минуту друзья были на улице. Граначчи повел Микеланджело через весь город, к площади Сан Марко. Однажды им пришлось остановиться: преграждая путь, по улице двигалась процессия с мощами Святого Джироламо, взятыми из алтаря Санта Мария дель Фиоре, — челюстью и костью руки, богато оправленными в серебро и золото. Друзья вышли на Виа Ларга — тут, напротив церкви, были ворота. — Вот сюда я тебя и веду, — сказал Граначчи. Он распахнул ворота. Микеланджело сделал несколько шагов вперед и в смущении остановился. Перед ним был обширный, продолговатый в плане сад с небольшим — типа павильона — зданием посредине; прямая дорожка вела к пруду — там был виден фонтан и мраморная статуя на пьедестале: мальчик вытаскивал из ноги занозу. На просторной террасе павильона, за столами, работало несколько молодых людей. Вдоль всех четырех стен сада тянулись открытые лоджии, где стояли античные мраморные бюсты — императора Адриана, Сципиона, императора Августа, матери Нерона Агриппины, там же стояло множество изваяний спящих купидонов. Прямая, как стрела, дорожка, ведущая к павильону, была обсажена кипарисами. К зданию павильона шли тропинки ото всех четырех углов сада — они были тоже обсажены деревьями, а меж тропинок зеленели широкие, как поле, лужайки. Микеланджело был не в силах оторвать свой взгляд от террасы, где двое юношей трудились над каменной глыбой, обмеривая и размечая ее, в то время как несколько других молодых людей орудовали крупными резцами-троянками. Заикаясь, Микеланджело спросил у Граначчи: — Кто… что… что же это такое? — Сады скульптуры. — Но… для какой цели? — Это просто школа. — …школа? — Для обучения скульпторов. Мальчик так и присел. — Каких скульпторов?.. — Сад этот — владение Клариссы Медичи. Его купил для Клариссы Лоренцо, чтобы в случае его смерти Кларисса здесь жила. В июле прошлого года Кларисса скончалась, и Лоренцо открыл тут школу скульпторов. Главным наставником в школе он назначил Бертольдо. — Да Бертольдо же умер! — Нет, он не умер, хотя и был при смерти. По приказу Лоренцо его перенесли сюда из больницы Санто Спирито на носилках. Лоренцо показал ему сады и сказал, что Бертольдо должен добиться того, чтобы скульптура во Флоренции снова достигла великого расцвета. Бертольдо поднялся с носилок и обещал Лоренцо, что эпоха Гиберти и Донателло наступит вновь. Микеланджело жадно оглядывал сад, обошел все лоджии, любуясь статуями, греческими урнами, вазами, стоявшим подле ворот бюстом Платона. — Бертольдо сейчас на веранде, — сказал Граначчи. — Я знакомился с ним однажды. Хочешь, мы подойдем к нему? Микеланджело в знак согласия энергично мотнул головой. Они прошли по усыпанной гравием дорожке, обогнули пруд и фонтан. Несколько человек самого разного возраста — от пятнадцати до тридцати лет — работали на широких столах. Бертольдо выглядел таким слабым, что неизвестно, в чем держалась его душа; его длинные седые волосы были закутаны тюрбаном. Румянец пламенел у него на щеках, когда он объяснял двум подросткам, как первоначально обрабатывать мрамор. — Маэстро Бертольдо, разрешите вам представить моего друга Микеланджело. Бертольдо поднял взор. У него были бледно-голубые глаза и мягкий голос, который странным образом не могли заглушить постоянно звучавшие удары молотка. Он пристально посмотрел на Микеланджело. — Кто твой отец? — Лодовико ди Лионардо Буонарроти Симони. — Я слыхал это имя. Ты работаешь по камню? Микеланджело стоял молча, мозг его сразу будто оцепенел. В эту минуту кто-то позвал Бертольдо. Он извинился и отошел в другой угол лоджии. Граначчи взял Микеланджело за руку и повел его по комнатам павильона — там были выставлены собранные Лоренцо коллекции камей, монет и медалей, а также произведения всех художников, работавших на семейство Медичи: Гиберти, который некогда победил в конкурсе на двери Баптистерия, объявленном прадедом Лоренцо; Донателло, который был любимцем Козимо Медичи; Беноццо Гоццоли, который поместил на своей фреске «Волхвы на пути в Вифлеем» в часовне Медичи всех членов этого семейства. Тут же была модель собора работы Брунеллески, рисунки святых, сделанные фра Анжелико для церкви Сан Марко, рисунки Мазаччо для церкви дель Кармине — всем этим мальчик был ошеломлен. Граначчи снова взял его за руку и повел по тропинке к воротам; скоро они оказались на Виа Ларга. На площади Сан Марко Микеланджело сел на скамейку, у ног его расхаживали голуби. Судорожно прижимая ко лбу ладонь, он опустил голову, потом взглянул на Граначчи, глаза его лихорадочно блестели. — Ну, а кто там в учениках? Как туда поступают? — Их выбирают Лоренцо и Бертольдо. — А мне надо еще больше двух лет томиться у Гирландайо! — стонал Микеланджело. — Боже мой, я сам себя погубил! — Терпение, — утешал его Граначчи, — ты еще не старик. Когда пройдут годы твоего ученичества… — Терпение, терпение! — вспыхнул Микеланджело. — Мне надо поступить туда, Граначчи. Сейчас же! Я не хочу быть живописцем, я хочу быть ваятелем, хочу работать по мрамору. Да, да, сейчас же! Как мне туда попасть? — Надо ждать, когда тебя пригласят. — А что надо сделать, чтобы меня пригласили? — Не знаю. — А кто же знает? Ведь кто-то же должен знать! — Не толкай меня, пожалуйста. Скоро ты совсем спихнешь меня со скамейки. Микеланджело утих. На глазах его выступили слезы досады. — Ох, Граначчи, бывало у тебя, чтобы ты хотел чего-нибудь так сильно, что уже нельзя вынести? — Нет. Мне всегда все давалось легко. — Какой ты счастливый. Граначчи посмотрел в лицо приятеля и прочел на нем лишь тоску и безудержное желание. — Может быть, — сказал он задумчиво.Часть вторая «В садах Медичи»
1
Его тянуло к Садам на площади Сан Марко так неотступно, словно там в древних каменных статуях были запрятаны магниты. Иногда он даже не отдавал себе отчета, каким образом он вдруг оказывался у Садов. Он проникал за ворота и втихомолку заглядывал в сумрак лоджии. Он ни с кем не заговаривал и никогда не осмеливался пройти по дорожке через зеленое поле к павильону, где работал Бертольдо с учениками. Он лишь недвижно, будто не дыша, стоял и смотрел, в глазах его был голодный блеск. Глубокой ночью, ворочаясь с боку на бок и стараясь не потревожить спавших рядом братьев, он думал: «Должен же быть какой-то выход. Сестра Лоренцо Медичи Наннина замужем за Бернардо Ручеллаи. А если я пойду к Бернардо, скажу ему, что я сын Франчески, и попрошу его поговорить обо мне с Великолепным?..» Но ни один Буонарроти не мог пойти к Ручеллаи с протянутой рукой. Гирландайо был терпелив. Он говорил Микеланджело: — Мы должны закончить фреску с «Крещением» за несколько ближайших недель, а затем перенести леса ниже, к фреске «Захария пишет имя своего сына». Времени остается уже в обрез. Может быть, тебе пора начать рисовать, а не шляться по улицам? — Можно мне в фигуре неофита изобразить одного натурщика? Я видел подходящего человека, он разгружал на Старом рынке тележку. — Что ж, изобрази. И Микеланджело нарисовал этого крестьянского парня — только что с поля, обнаженный по пояс, в коротких штанах, он опустился на колени; тело у него было загорелое, янтарного тона, фигура коренастая, с грубыми, узловатыми мускулами, но лицо юноши, глядевшего на Иоанна, вдохновенно светилось. Позади него Микеланджело поместил двух седобородых старцев, помогавших Иоанну, — у них были красивые, благородные лица, и крепкие тела. Граначчи смущенно вертелся около приятеля, наблюдая, как у того из-под карандаша возникал образ за образом. — Такие фигуры Гирландайо не нарисовать! — Скажешь, лезу на рожон, да? Гирландайо был настолько занят разработкой остальных шести фресок, что не обращал на ученика внимания. Когда Микеланджело, поднявшись на леса, встал перед влажной штукатуркой, он уже не чувствовал никакого страха. Он смело смешивал краски в горшках, подбирая нужный оттенок для обнаженного тела, с наслаждением водил кистью, вызывая к жизни людей, набрасывая на них лимонно-желтые и розовые, теплого тона одежды. Но где-то в глубине сознания он все время говорил себе: «Еще два долгих года! Ну разве можно это вынести?» Гирландайо впрягал его в работу, не давая отдыха. — Теперь мы поставим тебя на левые хоры, к «Поклонению волхвов». Приготовь картон вот для этих двух фигур, которые будут справа. Композиция «Поклонения» и без того была загромождена фигурами — рисовать две новых у Микеланджело не поднималась рука. Как-то после обеда Граначчи сказал, обращаясь к столу учеников: — Сегодня исполняется ровно год с того дня, как к нам поступил Микеланджело. Я запасся бутылкой вина, мы устроим на дворе пиршество. Никто не произнес ни слова в ответ Граначчи, мастерская замерла. Склонив головы, ученики уткнулись в работу. Гирландайо сидел на помосте прямой и неподвижный, будто сойдя с мозаики своего учителя: взор его потемнел, небритые щеки ввалились. — Меня вызвал к себе Великолепный и спросил, не отдам ли я в его школу двух своих лучших учеников, — сказал Гирландайо. Микеланджело стоял не шелохнувшись, словно прирос к полу. — Разумеется, я не хотел бы отпускать двух лучших учеников! — воскликнул Гирландайо. — Ведь это значит опустошить всю боттегу! Да еще сейчас, когда Бенедетто зовут работать в Париж, на французского короля. А мне надо спешно закончить полдюжины фресок! — Он метнул взгляд вниз, на учеников и помощников. — Но кто осмелится отказать Великолепному? Буонарроти, ответь мне — ты хотел бы пойти? — Я бродил около Садов Медичи и глядел на них, как голодная собака на мясную лавку. — Баста! — Гирландайо был вне себя, таким его Микеланджело еще никогда не видел. — Граначчи, ты и Буонарроти отныне свободны от всяких обязательств, вы уже не мои ученики. Сегодня вечером я подпишу у старшин цеха нужные документы. А теперь все за работу! Может быть, вы считаете, что я Гирландайо Великолепный и способен содержать на свои миллионы академию? Радость пробирала Микеланджело до самых костей, словно холодный дождь, когда дует трамонтана. Граначчи стоял пасмурный. — Граначчи, caro mio, что с тобой? — Я люблю живопись. Я не могу работать с камнем. Это слишком тяжело. — Нет, нет, дружище, из тебя выйдет замечательный скульптор. Я буду помогать тебе. Все будет прекрасно, вот увидишь. Граначчи печально улыбнулся. — О, я пойду с тобой, Микеланджело. Но что мне делать с молотком и резцом? Ведь камень вымотает у меня все силы. Микеланджело уже не мог сосредоточиться и продолжать работу. Он встал из-за ученического стола и поднялся на помост к Гирландайо. Ему хотелось поблагодарить человека, который лишь год назад взял его в ученики, но он стоял перед Гирландайо с горящим взором и немыми устами: как выразить благодарность тому, кто позволяет беспрепятственно уйти от себя? По лицу мальчика Гирландайо видел, какие чувства в нем борются. Он заговорил с Микеланджело мягко, негромко, явно не желая, чтобы его слышали другие. — Ты прав, Буонарроти: фреска — не твое ремесло. Тот неофит, которого ты нарисовал для меня, выглядит так, будто он высечен из скалы. У тебя дарование рисовальщика; с годами, набираясь опыта, ты, возможно, применишь этот талант к камню. Но никогда не забывай, что Доменико Гирландайо был твоим первым учителем. Дойдя этим вечером до отцовского дома, Микеланджело сказал Граначчи: — Лучше бы тебе зайти к нам. Когда в одном мешке двое, его трудней сбросить с моста. Они поднялись по парадной лестнице и, минуя кухню, чтобы не тревожить Лукрецию, тихо прошли к отцу: тот сидел, нахохлившись, в углу за своим треугольным столиком; высокий, почти в пять аршин, потолок делал его фигуру до смешного маленькой. В комнате было холодно: чтобы прогреть каменные стены, даже флорентинскому солнцу надо трудиться большую часть весны. — Отец, у меня есть новости. Я ухожу от Гирландайо. — А, великолепно! Я так и знал, что ты рано или поздно образумишься. Ты теперь вступишь в цех шерстяников… — Я ухожу от Гирландайо, но поступаю учеником по скульптуре в Сады Медичи. Чувство радости у Лодовико тотчас сменилось недоумением. — Сады Медичи?.. Какие сады? — Я тоже туда поступаю, мессер Буонарроти, — сказал Граначчи. — Мы будем учениками Бертольдо и попадем под надзор Великолепного. — Каменотес, несчастный каменотес! — судорожно вскину руки Лодовико. — Я буду скульптором, отец. Бертольдо последний наш мастер скульптуры, который еще жив. — Когда не повезет, то уж не знаешь, где этому конец, — так все, петля за петлей, и раскручивается, и жалит, как змея. Если бы твоя мать не упала с лошади, тебя не послали бы ради кормилицы к Тополино, а не попади ты к Тополино, ты и не вздумал бы сделаться каменотесом. Микеланджело не посмел ответить на это. Заговорил Граначчи: — Мессер Буонарроти, многие дети тоже могли бы попасть к Тополино и никогда не заразились бы страстью к камню. У вашего сына влечение к скульптуре. — Ну, а что такое скульптор? Еще хуже, чем художник. Даже не принадлежит ни к какому цеху. Мастеровой, вроде дровосека. Или сборщика олив. — С одной только существенной разницей, — вежливо, но твердо возразил Граначчи, — что из олив выжимают масло, а дрова жгут, чтобы сварить суп. И масло и суп поедают — и тут им конец. А у искусства есть волшебная особенность: чем больше умы впитывают его, тем оно долговечнее. — Это пустая поэзия! — взвизгнул Лодовико. — Я толкую о благоразумии, о том, как прокормить семейство, а ты мне читаешь какие-то басни. В комнату вошла монна Алессандра, бабушка. — Скажи своему отцу, Микеланджело, что тебе сулит Лоренцо Великолепный. Ведь он богатейший человек в Италии и славится щедростью. Долго ли ты будешь в учениках? И сколько тебе положат жалованья? — Не знаю. Я не спрашивал. — Он не спрашивал! — усмехнулся Лодовико. — Ты думаешь, что мы такие же богатые люди, как Граначчи, и можем потакать всем твоим глупостям? На бледных щеках Граначчи проступили пятна. — А я спрашивал, — с вызовом сказал он Лодовико. — Нам не сулят ничего. Договор с нами не заключают и не дают никакого жалованья. Лишь бесплатно учат. Микеланджело покрепче уперся ногами в пол и наклонил голову, чтобы встретить самый бурный взрыв ярости Лодовико. Но тот, звучно шлепнувшись о жесткую кожаную обивку, лежал, не двигаясь, в кресле, на глазах у него выступили слезы. И с чувством какой-то отрешенности Микеланджело подумал: «Странные люди мы, флорентинцы: сентиментальность нам чужда, ею не заражена ни одна капля нашей крови, и, однако, мы легко плачем, глаза у нас на мокром месте». Он подошел к отцу, положил ему на плечо руку. — Отец, позвольте мне воспользоваться выпавшим случаем. Лоренцо Медичи решил создать во Флоренции новое поколение скульпторов. Я хочу стать одним из них. Лодовико поднял взор на своего самого многообещающего сына. — Лоренцо попросил в школу именно тебя? Он полагает, что у тебя есть талант? «Как легко стало бы всем, если бы я решился немножко солгать», — подумал мальчик. — Лоренцо попросил у Гирландайо двух лучших учеников. Были выбраны Граначчи и я. Стоя у двери, мачеха молча слушала разговор. Теперь она вошла в комнату. Лицо у нее было бледно, черные, расчесанные на пробор волосы четко обрисовывали голову. — Микеланджело, я не хочу сказать про тебя ничего худого, — начала она. — Ты добрый мальчик. Ты хорошо кушаешь. Но я должна, — тут она повернулась к мужу, — подумать и о своей родне. Мой отец говорил, что войти в семью Буонарроти, — это большая для нас честь. А что останется на мою долю, если ты позволишь мальчонке разорить весь дом? Лодовико вцепился в подлокотники кресла. Вид у него был очень усталый. — Я тебе не даю своего согласия, Микеланджело, и никогда не дам. И он вышел из комнаты. Вслед за ним вышли Лукреция и монна Алессандра. Наступило мучительное молчание. Первым заговорил Граначчи: — Отец хочет лишь исполнить свой долг по отношению к тебе, Микеланджело. Разве старый человек способен признать, что он не прав, а прав четырнадцатилетний подросток? Нельзя требовать от него слишком многого. — Выходит, я должен упустить такую возможность? — вскипел Микеланджело. — Нет, не должен. Но ты пойми, что отец хочет действовать из лучших побуждений, а его упрямый сын подсовывает ему такую задачу, разобраться в которой — извини меня — у него не хватает разума. Микеланджело моргал глазами, не отвечая ни слова. — Ты любишь своего отца, Граначчи? — Люблю. — Я завидую тебе. — Значит, ты должен быть добрее и по отношению к своему отцу. — Добрее? — Да, если ты хочешь, чтобы он не делал тебе зла.2
В Садах Медичи в отличие от боттеги Гирландайо никто не гнался за заработком. Доменико Гирландайо вечно спешил: ему надо было не только кормить большую семью, но и выполнять множество заказов с твердо установленными сроками. Как далека была от этой спешки и суеты атмосфера, в которую попал в один прекрасный день Микеланджело, начав работу у Лоренцо Великолепного и Бертольдо. Здесь царил совсем иной дух, все было пронизано одной заботой: «Не торопитесь, работайте тщательно. У нас здесь одна-единственная цель — учиться. Мы постоянно говорим вам: упражняйтесь! Мы стремимся довести до совершенства лишь ваше искусство, ваше мастерство. Вам надо добиться одного: зрелости. Наберитесь терпения. Готовьте себя к тому, чтобы стать пожизненно скульпторами». Первым в Садах заговорил с Микеланджело Пьетро Торриджани, зеленоглазый блондин, силач и красавец. Сверкая белозубой улыбкой, он сказал вкрадчиво: — Так вот кто, оказывается, подглядывал за нами. Мы прозвали тебя Привидением. Ведь ты все время бродил у ворот. — Я и не догадывался, что на меня смотрят. — Не догадывался. Да ты пожирал нас глазами! — рассмеялся Торриджани. Помимо скульптуры Бертольдо обожал две вещи: веселую шутку и кулинарию. Однако в юморе его было гораздо больше остроты, чем в колбасах, приготовленных им по охотничьему способу. Бертольдо даже написал свою поваренную книгу и сейчас, поселившись во дворце Медичи, сетовал лишь на то, что у него нет возможности прославить свои кулинарные рецепты. Но скульптуру он прославлял с редкостной настойчивостью: этот изможденный, слабый человек с белоснежными волосами, воспаленными, в красных пятнах, щеками и бледно-голубыми глазами был истинным наследником знаний золотого века тосканской скульптуры. Положив свою худую тонкую руку на плечи кому-нибудь из новичков, он говорил: — Конечно, не все тайны мастерства можно передать. Донателло сделал меня своим наследником, но он не смог сделать меня равным себе. Он влил в меня свой опыт и свое мастерство, как вливают расплавленную бронзу в форму. Ни один человек не может сделать большего. Не будь Донато, я был бы простым ювелиром; проработав с ним бок о бок свыше полувека, я стал всего лишь скульптором-миниатюристом. Как бы он ни старался, он не мог отдать мне свои пальцы, вселить в меня пылавшую в нем страсть. Все мы таковы, какими нас создал бог. Я вам покажу все, чему Гиберти научил Донателло и чему Донателло научил меня; ну а что вы извлечете из моих уроков — это зависит от ваших способностей. Учитель — все равно что повар: когда у него жилистый цыпленок или жесткая телятина, то никакой самый расчудесный соус не сделает их мягче. Микеланджело громко расхохотался. Довольный своей шуткой, Бертольдо повернул всю ватагу учеников к павильону. — А сейчас за работу. Если у вас есть какой-то талант, он проявится. Микеланджело подумал: «Только дайте мне в руки молоток и скарпель! Увидите, как от камня полетят осколки и пыль». Но Бертольдо и не собирался давать новичку молоток и скарпель. Он посадил Микеланджело за рисовальный стол на террасе между семнадцатилетним Торриджани и двадцатидевятилетним Андреа Сансовино; раньше Андреа учился у Антонио Поллайоло, в церкви Санто Спирито можно было видеть исполненные им работы. Принеся из внутренних комнат рисовальные принадлежности, Бертольдо сказал Микеланджело: — Рисование для скульптора — совсем особое дело. И человек и камень — трехмерны, у них гораздо больше общего, чем у человека и стены или деревянной доски, на которых приходится писать живописцу. Микеланджело скоро понял, что ученики здесь во многом похожи на учеников у Гирландайо. Сансовино как бы играл роль Майнарди: он уже давно был профессиональным художником, зарабатывая на жизнь изделиями из терракоты, и так же, как Майнарди, с большой теплотой и благородством относился к начинающим, отдавая им свое время. Самым неумелым в Садах, как Чьеко у Гирландайо, был Соджи: ему тоже исполнилось всего лишь четырнадцать лет; здесь, среди скульпторов, он казался случайным человеком и, на строгий взгляд Микеланджело, был лишен всякого таланта. Не обошлось в Садах и без своего Якопо: это был двадцатилетний Баччио да Монтелупо — легкомысленный, как птичка, распутный тосканец. Подобно Якопо, он любил собирать всяческие слухи о грязных ночных скандалах и подробно пересказывал их утром. В первый же день, когда Микеланджело приступил к работе, Баччио с жаром поведал товарищам самую свежую и потрясающую новость: в Венеции родился урод, глаза у него не на том месте, где им полагается быть, а за ушами; а в соседней с Флоренцией Падуе родился другой уродец: у него две головы и на каждой руке по две ладошки. На следующее утро он рассказывал об одном флорентинце, который якшался с дурными женщинами ради того только, чтобы «сохранить целомудрие своей супруги». Особенно комичными были побасенки Баччио из быта контадини, крестьян: как-то раз, уверял он, одна флорентинская дама из патрицианской семьи, вся в шелках и жемчугах, спросила у крестьянина, выходившего из церкви Санто Спирито: — Скажи, обедня для сиволапых уже кончилась? — Да, синьора, — отвечал крестьянин. — А обедня для шлюх только начинается, советую не опаздывать. Бертольдо заливался тонким старческим смехом и аплодировал. Был в Садах и ученик, чем-то похожий на Граначчи, — пятнадцатилетний паренек Рустичи, сын знатного и богатого тосканца. Он занимался скульптурой из одного только удовольствия и почтения к искусству. Лоренцо высказывал желание, чтобы ученик жил во дворце Медичи, но Рустичи предпочитал свой дом на Виа де Мартелли. Микеланджело пробыл в Садах всего неделю, как Рустичи пригласил его к себе на обед. — Подобно Бертольдо, я очень люблю всякую стряпню на кухне. С утра я буду жарить для тебя гуся. Как убедился Микеланджело, образ жизни Рустичи оправдывал деревенское звучание его фамилии: в доме у него было полно животных. Там жили три собаки, прикованный к жердочке орел, скворец, которого крестьяне в сельском имении научили выкрикивать фразу: «Провалитесь вы все в тартарары!» Но еще больше смутил Микеланджело живший в комнате Рустичи дикобраз: зверек постоянно залезал под стол, сопел и возился там, укалывая своими иглами ноги гостя. После обеда хозяин провел Микеланджело в тихую комнату, где висели портреты его предков. На фоне этой роскоши Рустичи словно бы преобразился: в нем проглянуло уже нечто аристократическое. — Ты хорошо рисуешь, Микеланджело. Может быть, именно это позволит тебе стать скульптором. В таком случае разреши тебя предупредить: никогда не соглашайся жить в пышных дворцах. Микеланджело недоуменно фыркнул: — По-моему, это мне не грозит. — Послушай, мой друг: роскошь, нега и уют так приятны, к ним так легко привыкнуть. А когда к этому пристрастишься, то уже совсем легко и просто стать лизоблюдом, угодником, всегда и во всем поддакивать, чтобы только не лишиться привычных благ. Потом ты начинаешь подлаживаться под вкусы власть имущих, а это для скульптора означает смерть. — Я ведь простак, Рустичи. Едва ли все это меня касается. Гораздо ближе, чем с другими учениками, Микеланджело сошелся с Торриджани: этот молодой человек выглядел в его глазах скорее бравым воином, чем скульптором. Микеланджело был очарован Торриджани; в то же время он страшился его, стоило тому лишь нахмурить брови и заговорить своим раскатистым, зычным голосом. Торриджани происходил из старинной семьи виноторговцев, давно уже выбившейся в знать, с Бертольдо он держался так смело, как никто из учеников. Рассердившись на кого-либо из товарищей по мастерской, он учинял шумные ссоры. Он быстро отличил Микеланджело своей горячей дружбой и постоянно разговаривал с ним — их рабочие столы были рядом. Микеланджело еще не доводилось встречать столь красивого человека, как Торриджани; эта физическая красота, стоявшая на грани человеческого совершенства, обескураживала его: он всегда сознавал, насколько некрасив и невзрачен он сам. Граначчи видел, как крепнет дружба Микеланджело с этим юношей. Когда Микеланджело спросил Граначчи, считает ли он Торриджани выдающимся человеком, тот осторожно ответил: — Я его знаю с детства. Наши семьи связаны друг с другом. — Но ты уклоняешься от ответа, Граначчи. — Прежде чем называть человека другом, Микеланджело, съешь с ним пуд соли. Микеланджело работал в Садах уже больше недели, когда туда в сопровождении юной девушки явился Лоренцо Медичи. Впервые в жизни Микеланджело увидел вблизи человека, который, не занимая никакого поста и не нося никакого титула, правил Флоренцией и сделал ее могущественной республикой, где процветали не только ремесло и торговля, но и искусство, литература, наука. Лоренцо де Медичи было сорок лет, его грубое лицо казалось высеченным из темного гранита; все черты его были неправильны, лишены какой-либо привлекательности — нечистая кожа, выступающая нижняя челюсть, выпяченная нижняя губа, длинный массивный нос, вздернутый кончик которого был гораздо мясистее и толще, чем спинка, большие темные глаза, щеки с темными провалами около углов рта, кошт темных волос, разделенных прямым пробором и крыльями ниспадающих к бровям. Одет он был в длинную охристого цвета мантию с пурпурными рукавами, на шее виднелся краешек белого воротника. Роста он был чуть выше среднего, крепкого сложения; верховая езда и охота с соколами, которой он отдавался порой целыми днями, поддерживала его телесные силы. Он был также знатоком классических языков, жадным читателем греческих и латинских манускриптов, поэтом, которого Платоновская академия сравнивала с Петраркой и Данте, создателем первой в Европе публичной библиотеки, для которой он собрал десять тысяч рукописных и печатных книг, — подобной библиотеки не было нигде со времен Александрии. Лоренцо был признан «величайшим покровителем литературы и искусства из всех владетельных принцев, которые когда-либо существовали»; его коллекция скульптуры, живописи, рисунков, резных гемм была открыта для всех художников, для каждого, кто хотел изучить ее и почерпнуть в ней вдохновение. Для ученых, стекавшихся во Флоренцию, чтобы сделать ее научным центром Европы, он предоставил виллы на склонах Фьезоле: там Пико делла Мирандола, Анджело Полициано, Марсилио Фичино и Кристофоро Ландино переводили недавно найденные греческие и древнееврейские рукописи, писали стихи, философские и богословские сочинения, способствуя тому, что Лоренцо называл «революцией гуманизма». Микеланджело слыхал немало рассказов о Лоренцо, в городе это была излюбленная тема разговоров: ему было известно, что у Лоренцо слабое зрение, что он родился лишенным обоняния. Теперь, слушая, как Лоренцо разговаривал с Бертольдо, он убедился, что голос у него хриплый и неприятный. Но казалось, что этот голос — единственная неприятная особенность Лоренцо, так же как слабость его глаз — единственная его слабость, а отсутствие обоняния — единственный прирожденный недостаток. Ибо у Лоренцо, богатейшего во всем мире человека, перед которым заискивали правители итальянских городов-государств и такие могущественные монархи, как турецкий и китайский, — у Лоренцо был открытый, мягкий характер и полное отсутствие высокомерия. Правитель республики — в том же смысле, в каком гонфалоньер справедливости и Синьория были хранителями законов и порядка в городе, — он не располагал ни армией, ни стражей, расхаживал по улицам Флоренции без всякой свиты, разговаривал со всеми гражданами, как равный, вел простую семейную жизнь, играя со своими детьми на полу и держа свой дом открытым для художников, писателей и ученых всего мира. Таков был этот человек. Он пользовался абсолютной властью в делах политики, но правил Флоренцией, проявляя такой здравый смысл и такую прирожденную учтивость и достоинство, что те люди, которые могли быть врагами, жили и трудились при нем в полном согласии. Столь счастливого результата не достигали ни его одаренный отец, Пьеро, ни гениальный дед, Козимо, прозванный всей Тосканой отцом отечества за то, что после кровопролитной гражданской войны между партиями гвельфов и гибеллинов, бушевавшей во Флоренции не одно столетие, он создал республику. Флорентинцы могли напасть на Лоренцо Великолепного и, не дав ни часа на размышление, разграбить его дворец, изгнать владыку из города. Он знал это, знал это и народ, и благодаря тому, что такую возможность чувствовали все, Лоренцо сохранял свою неофициальную, не освященную законом власть. Ибо так же, как в нем не было ни тени высокомерия, в нем не было и малодушия: отчаянным военным натиском в семнадцать лет он спас жизнь своему отцу и, чтобы оградить город от вторжения неприятеля, рискнул собственной жизнью, напав на военный лагерь Ферранте в Неаполе с таким же ничтожным числом людей, с каким он разгуливал по улицам Флоренции. Этот-то человек стоял теперь близ Микеланджело и оживленно беседовал с Бертольдо о каких-то античных скульптурах, только что привезенных из Малой Азии, ибо скульптура в глазах Лоренцо была столь же важным предметом, как и его флотилии, плававшие по всем морям мира, как его банки, опутавшие своей сетьювсю Европу и Средиземноморье, как те оценивающиеся в миллионы золотых флоринов товары Флоренции — шерсть, оливковое масло и вино, — которые обменивались на экзотические благовония, пряности и шелка Востока. Одни уважали Лоренцо за богатство, другие за то, что он обладал властью, а ученые и художники уважали и любили его за страсть к знаниям, за то, что он дал свободу мысли, уже более тысячи лет замурованной в душной темнице. Вот Лоренцо остановился поговорить с учениками. Микеланджело перевел взгляд на девушку, шедшую рядом с правителем. Она казалась моложе Микеланджело, хрупкая, в платье из розовой шерстяной материи, с длинными рукавами: это была гамурра с широкой юбкой, ниспадавшей мягкими, свободными складками, и плотно зашнурованным корсажем, под которым проглядывала бледно-желтая кофточка с низким, оставляющим открытой шею воротом. Туфельки на девушке были из желтой парчи, а на густых черных ее волосах алела атласная шапочка, украшенная жемчугами. Девушка была такой бледной, что даже алая шапочка и цветное платье не могли придать живости ее впалым щекам. Когда Лоренцо, чуть заметно кивнув, проходил мимо стола учеников, Микеланджело внезапно встретился взглядом с глазами девушки. Он замер, прервав работу. Она замедлила шаг, потом остановилась. Он не мог отвести взгляда от этой тоненькой девушки с милым, нежным личиком. А она напугалась: такое свирепое исступление было написано на лице Микеланджело, когда он водил карандашом по бумаге. На ее щеках цвета слоновой кости пятнами вспыхнул румянец. Микеланджело почувствовал, с каким острым любопытством она посмотрела на него, дышать ему стало трудно. На секунду он подумал, что она хочет заговорить с ним. Но она лишь облизала свои бледные губы, затем с трепетной дрожью ресниц отвела от него взгляд и шагнула, догоняя отца. Лоренцо обнял девушку за талию. Они медленно двинулись к фонтану, обогнули его и потом исчезли в воротах. — Кто это был? — спросил Микеланджело у Торриджани. — Ты что, болван, не знаешь? Лоренцо Великолепный! — Да нет же, я говорю — кто эта девушка? — Девушка? О, Контессина. Его дочь. Единственная дочь, которая у него осталась. — Контессина? «Маленькая графиня»? — Да, именно. Всех своих других дочерей Лоренцо называл «контессиной» в шутку. А когда родилась эта худышка, он ее и в самом деле окрестил Контессиной. Что тебя, собственно, интересует? — Ничего, ровным счетом ничего.3
Разрешения на то, чтобы Микеланджело поступил в Сады Медичи, Лодовико так никогда и не дал. Хотя все слышали, что Микеланджело оставил Гирландайо и начал заниматься скульптурой, дома открыто признать этот факт не желали и делали вид, будто ничего не случилось. К тому же мальчика в семье видели редко — он уходил из дому на рассвете, пока все еще спали, а мачеха была на рынке, и возвращался ровно в двенадцать, когда Лукреция ставила на стол жареную говядину или утку. После обеда он работал в Садах дотемна и брел домой, стараясь задержаться где только можно, чтобы дома к его приходу все уже легли спать: обычно лишь брат Буонаррото, лежа в кровати, дожидался его и расспрашивал о всяких новостях да в кухне сидела бабушка — она кормила его скудным ужином. — Ты совсем вырос из своих рубашек, Микеланджело, — говорила монна Алессандра. — И чулки у тебя изорвались. Твои отец говорит, что, раз ты не зарабатываешь… ну да бог с ним. Вот я отложила немного денег. Купи, что тебе надо. Он шутливо целовал ее в морщинистую щеку; они любили друг друга, но оба не очень-то умели выразить эту любовь. Нетребовательный по натуре, Микеланджело был совершенно равнодушен к одежде. — Скоро я начну рубить камень и буду весь в пыли, с головы до ног. Никто и не разглядит, что на мне надето. Бабушка оценила гордость внука и вновь упрятала монеты в кошелек. — Ну, как хочешь. Эти деньги всегда будут твои. Граначчи не считал нужным вставать рано утром и возвращаться с работы поздно вечером; получалось так, что он теперь гулял по улицам с Микеланджело только в полдень. Настроение у Граначчи было самое скверное; он шагал, сильно сутулясь, и казался выше своего младшего друга всего на дюйм или на два. — Ох, какая холодная и липкая эта глина! — жаловался он. — Я ненавижу ее. Я стараюсь лепить как можно хуже; надеюсь, Бертольдо не допустит меня до работы по камню. Десять раз приступал я к граниту, и всегда молоток словно бил прямо по мне, а не по камню. — Граначчи, милый, а ты берись за мрамор, мрамор прекрасно поддается удару, — утешал его Микеланджело. — Мрамор очень чуток. А гранит — это вроде черствого хлеба. Подожди, придет время, и ты будешь работать по мрамору: пальцы в него погружаются, словно в тесто. Граначчи с удивлением посмотрел на приятеля: — Ты всегда тверд и сух, как кремень, но стоит тебе заговорить о мраморе — и ты поэт! Теперь Микеланджело с головой ушел в рисование. Одно из первых поучений, с которым обратился к нему Бертольдо, звучало так: — Если ты у нас не будешь работать над рисунком — знай, ты погибнешь. Прошу тебя, каждый день, как приходишь сюда, рисуй свою левую руку, потом снимай башмаки и рисуй ноги; это очень помогает брать нужный ракурс. — А что вы скажете, если я нарисую и правую руку? — Еще один остряк в нашей компании, — весело отозвался Бертольдо, приняв слова Микеланджело за шутку. Микеланджело с равной легкостью и уверенностью работал, держа молоток то в правой, то в левой руке, уже в те времена, когда тесал светлый камень у Тополино. Теперь, нарисовав в разных положениях левую руку, он стал рисовать левой правую — сначала ладонь, потом тыльную сторону кисти, с вытянутыми пальцами. Однажды, проходя мимо стола, Бертольдо взял у Микеланджело лист, который тот заполнил множеством набегающих друг на друга рисунков. — Что ж, какое вино в бочку нальешь, такое из нее и вытечет. Ведь это я тебя подзадорил, — мягко заметил он. — А я не в обиде. Гляньте, где я рисовал правой, где левой — не отличишь. Пользуясь влиянием Лоренцо, натурщиков для работы учеников брали в любом квартале Флоренции: тут были ученые в черном бархате; солдаты с бычьими шеями, широкими лбами и густыми дугообразными бровями; головорезы и бандиты; жители деревень, приехавшие в город; плешивые старцы с крючковатыми носами и костлявыми подбородками; монахи в черных капюшонах, из-под которых выбивались седые волосы; флорентинские юноши, красавцы и модники, — у них были греческие, идущие прямо от надбровья носы, кудрявые, по плечи, волосы, круглые пустые глаза; красильщики шерсти с запачканными руками; грязные, с мозолями на огрубелых ладонях, торговцы скобяным товаром; силачи носильщики; дородные кухарки; знатные господа в красных и белых шелках, унизанных жемчугом; гибкие подростки в фиолетовом; полнощекие младенцы, с которых лепили и рисовали путти. Однажды, когда Бертольдо свирепо раскритиковал нарисованный Микеланджело торс, тот хмуро заметил: — Разве можно рисовать, глядя на человека только снаружи? Что выпирает из-под кожи, лишь то мы и видим. Если бы мы могли изучить человеческое тело внутри: кости, мускулы… Пока не знаешь внутренностей, кишок и крови, не знаешь человека. А я внутрь тела ни разу не заглядывал. — Вот дьявол! — тихо выругался Бертольдо. — Вскрывать покойников разрешается только врачам и то в один-единственный день в году, перед лицом городского совета. Иначе это расценивается во Флоренции как тягчайшее преступление. Лучше выкинь такие мысли из головы. — Выкинуть не могу, хотя молчать буду. Никогда мне не изваять человеческое тело точно и верно, если я не посмотрю, как оно устроено внутри. — Даже греки не вскрывали покойников, хотя у ник не было церкви, которая это запрещает. И Донателло не нуждался в рассечении тел, но знал человека великолепно. Неужто ты хочешь стать лучшим скульптором, чем Фидий и Донателло? — Лучшим — не хочу. А непохожим на них — хочу. Микеланджело еще не видал, чтобы Бертольдо так волновался. Мальчик притронулся к высохшей руке старика, моля его успокоиться. Несмотря на подобные споры, они стали большими друзьями. Пока остальные ученики лепили из глины или рубили камень, Бертольдо уводил Микеланджело в павильон и часами наблюдал за его работой: тот в это время копировал египетские амулеты, греческие медальоны, древнеримские монеты. Бертольдо брал в руки то одну драгоценную вещь, то другую и объяснял Микеланджело, чего хотели добиться старинные мастера. К своему удивлению, Микеланджело завоевал и горячую привязанность Торриджани: тот уже придвинул свой рабочий стол вплотную к столу Микеланджело. Торриджани покорял своим обаянием — Микеланджело был ошеломлен, очарован, потрясен знаками его внимания, его веселыми шутками. Щеголь по натуре, Торриджани носил шелковые рубашки и широкий ремень с золотыми пряжками; каждое утро перед работой он заходил на Соломенный рынок к цирюльнику, брился там и намазывал свои волосы благовонными маслами. А Микеланджело во время работы ужасно пачкался: руки у него вечно были в угле, который он, забывшись, размазывал по лицу, рубашка закапана красками, чулки в чернильных пятнах. Торриджани, проведя целый день на работе, умудрялся сохранить в безупречной чистоте свою ярко-желтую полотняную камичу — доходившую до поясницы рубашку с пышными рукавами, зеленую тунику с буквой Т, вышитой на плече желтым шелком, темно-голубые вязаные рейтузы. Рубя камень, он выбирал такую позу, что каменная пыль и крошка совсем не летела на него и не забивала одежды и волос, — этой хитрости не знал ни один из его товарищей: к концу рабочего дня они обычно были белы, как мукомолы. Микеланджело постоянно восхищался Торриджани и таял от удовольствия, когда тот, обнимая, клал свою мускулистую руку ему на плечи и наклонял великолепную голову, заглядывая мальчику в глаза. Осматривая его новый рисунок, он восклицал: — Микеланджело mio, ты делаешь чистую работу, а пачкаешься так, что грязней тебя я никого не видел. Торриджани был всегда в движении, — он хохотал, паясничал, отпускал остроты, нес чепуху, не смолкая ни на минуту, размахивал руками, на которых сверкали перстни с жемчугами и изумрудами, — ему всегда было надо занимать своей особой всех окружающих и первенствовать среди них. Его сильный, певучий голос разносился по пышным весенним лужайкам, где пестрели цветы, и каменотесы, возводившие в дальнем углу сада здание библиотеки для книг и манускриптов Лоренцо, приостанавливали работу, чтобы послушать, как хохочет Торриджани. Нередко ученики Бертольдо отправлялись в церковь Санта Кроче, чтобы полюбоваться фресками Джотто в лучах утреннего солнца, или в церковь Санто Спирито — посмотреть при свете полудня на «Юного Иоанна и Двух Святых» Филиппино Липпи; порой они выходили взглянуть, как закат освещает изваяния на Кампаниле, — эти изваяния замыслил тот же Джотто, а исполнил его ученик Андреа Пизано. И хотя в таких случаях все тихо стояли, словно зачарованные, Торриджани не унимался и тут: он ни на шаг не отпускал от себя Микеланджело и, подхватив его под руку, громко говорил: — Ах, если бы я был воином, Микеланджело! Сражаться в смертельных битвах, повергать врага мечом и пикой, завоевывать новые страны и всех женщин, какие там есть. Вот это жизнь! Искусство? Ба! Это занятие для евнухов в султанском гареме. Нет, amico mio, мы должны с тобой объехать весь свет, мы грудью встретим и опасности и битвы и найдем несметные сокровища! Микеланджело испытывал к Торриджани глубокую привязанность, почти любовь. Он считал себя простоватым, скучным: завоевать дружбу и восхищение такого красивого, блистательного юноши, как Торриджани… это было слишком хмельное вино для того, кто его никогда не пробовал.4
Теперь ему пришлось многому учиться заново, отказываясь от тех навыков, которые он приобрел у Гирландайо: столь разнился рисунок для фрески от рисунка для скульптуры. — Нельзя рисовать ради самого рисунка, — поучал мальчика Бертольдо, в точности так, как поучал его в свое время Гирландайо. — Такое рисование годится лишь для тренировки руки и глаза. Бертольдо упорно вдалбливал Микеланджело, в чем разница между рисунком художника и скульптора. Скульптор должен показать трехмерность фигуры, ему нужна не только высота и ширина, но и глубина. Художник рисует, чтобы заполнить пространство, а скульптор — чтобы его воспроизвести. Художник заключает в раму нечто остановившееся, скульптор же, рисуя, схватывает движение, вскрывает каждое усилие, каждый изгиб напрягшегося человеческого тела. — Художник рисует, чтобы показать особенное, а скульптор ищет всеобщее, универсальное. Понятно? — спрашивал учитель. Микеланджело отмалчивался. — А самое важное то, что художник рисует, как видит, фиксирует на бумаге внешнее впечатление. Скульптор же подходит к форме изнутри и, взяв ее, как она есть, пропускает всю ее плоть и материальность через свое существо. Кое-что из этих наставлений Микеланджело постигал разумом, но гораздо больше заставлял его оценить советы учителя тяжкий рабочий опыт. — У меня теперь в голове какое-то месиво, — извинялся Бертольдо. — Там застряла тьма разных мыслей, до каких додумались тосканские скульпторы за двести лет. Ты прости меня, если я вспоминаю всякую всячину. Задавшись целью воспитать новое поколение скульпторов, Бертольдо в отличие от Гирландайо, у которого на учеников попросту не хватало времени, стал самоотверженным учителем. Переговариваясь между собой, скульпторы ограничиваются в лучшем случае односложной фразой; стук молотка и удар резца — их истинная речь, заменяющая всякие объяснения; лишним словам тут не было места. Однако на Бертольдо это правило не распространялось. — Микеланджело, рисуешь ты хорошо. Но важно также знать, зачем надо хорошо рисовать. Рисунок — это свеча, которую зажигают для того, чтобы скульптор не спотыкался в темноте; это схема, с помощью которой легче разобраться в видимом. Попытка понять другое человеческое существо, постигнуть его сокровенные глубины — это одно из самых опаснейших человеческих дерзаний. У художника, который отваживается на это, есть одно-единственное оружие — перо или карандаш. Этот фантазер Торриджани рассуждает о военных походах. — Бертольдо пожал плечами. — Детская забава! Трепет перед лицом смертельной опасности, — разве он может сравниться с трепетом одинокого человека, который дерзает создать нечто такое, чего еще не было на земле! Микеланджело держал в руках сделанные за день наброски и разглядывал их, словно это помогало ему лучше понять, что говорил Бертольдо, или отыскать в своей работе хоть часть тех достоинств, каких Бертольдо требовал. — Рисование — это превосходный путь к тому, чтобы познать предмет и рассеять мрак невежества, утвердить на своем законном месте мудрость, как утверждал ее Данте, когда он писал терцины «Чистилища». Да, да, — продолжал старик, — рисовать — это все равно что читать Гомера и таким образом увидеть Приама и Елену, читать Светоння и по его книгам понять цезарей. Микеланджело опустил голову. — А вот я невежда. Не читаю ни по гречески, ни по-латыни. Урбино три года мучился со мной, но я был упрям и не хотел учиться. Я хотел только рисовать. — Глупая голова! Ты не понимаешь, что я тебе говорю. Не удивительно, что Урбино мучился с тобой. Рисование есть познание. Это искус и дисциплина, это точная мера, которой ты будешь измерен, чтобы сказать, насколько ты честен. Рисование словно исповедь: оно разоблачит тебя до конца, хотя тебе будет казаться, будто разоблачаешь кого-то ты. Рисунок — это строчка поэта, нанесенная на бумагу с тем, чтобы воочию убедиться, достоин ли вдохновения взятый предмет и есть ли у автора та правда, которая достойна строки. Голос старика звучал теперь мягко и задушевно. — Запомни это, сын мои. Рисовать — что быть богом, вкладывающим душу в Адама; только душа художника и сокровенная, тайная душа изображаемого, сливаясь вместе, и создают новую, третью жизнь на листе бумаги. Акт любви, Микеланджело, акт любви — вот что порождает все сущее на земле. Да, рисование есть слияние души, дыхание жизни, он это знал, но для него рисование было не конечной целью, а только средством. Таясь ото всех, он стал теперь оставаться в Садах на вечер, — хватал скульптурные инструменты и работал, подобрав валявшийся где-нибудь обломок камня. Здесь был изжелта-белый травертин из римских каменоломен, диорит из Ломбреллино, шероховатый импрунетский известняк, темно-зеленый мрамор из Прато, пятнистый красно-желтый мрамор из Сиены, розовый мрамор из Гаворрано, прозрачный мрамор чиполино, с синими и белыми разводами, похожими на цветы, гипсовый камень. Но радости Микеланджело не было границ, когда кто-нибудь по забывчивости оставлял без присмотра кусок снежно-белого каррарского мрамора. В детстве ему не раз приходилось стоять перед мастерами, рубившими этот драгоценный камень. Как он изнывал тогда от желания прикоснуться к нему, получить его в собственные руки! Но это казалось немыслимым: белый мрамор был редок и дорог, его привозили из Каррары и Серавеццы так мало, что он шел лишь на выполнение важных заказов. Теперь же он втайне начал орудовать шпунтом, троянкой и скарпелью, обрабатывая поверхность мрамора теми приемами, какими он работал над светлым камнем у Тополино. Обычно к вечеру наступал для него самый чудесный час — он оставался один-одинешенек во всех Садах, на него смотрели лишь белые статуи. Скоро, скоро он получит эти инструменты в свои руки навсегда; каждое утро первым делом он будет браться за молоток и резец — ведь он ощущал их, как руки и ноги, органом своего тела. Когда в Садах становилось темно, он скалывал обработанное им место на камне так, чтобы никто не догадался, что он тут делал, и подметал пыль и крошку, ссыпая их на свалку. Как и следовало предполагать, его застигли на месте преступления, и соглядатай был самый неожиданный из всех возможных. Контессина де Медичи появлялась теперь в Садах почти ежедневно, ее сопровождал то отец, то кто-нибудь из ученых Платоновской академии — или Полициано, или Фичино, или Пико делла Мирандола. Девушка разговаривала с Граначчи, с Сансовино и с Рустичи, которых, по-видимому, знала уже давно, но никто не представил ей Микеланджело. С ним она не заговорила ни разу. Он безошибочно улавливал миг, когда Контессина показывалась в воротах, хотя еще и не видел ни ее подвижной фигурки, ни огромных глаз, сиявших на бледном лице. Все окружающее он воспринимал в эти минуты с необычайной остротой — и все, даже воздух и свет, казалось, куда-то летело в стремительном вихре. Именно Контессина избавила Граначчи от опостылевших ему занятий скульптурой. Он поделился с ней своими печалями: она передала разговор отцу. Однажды, придя в Сады, Лоренцо сказал: — Граначчи, я мечтаю о большой картине — «Триумф Павла-Эмилия». Ты не согласился бы ее написать? — Как не согласиться! И чем сильнее нужда, тем быстрее услуга. Когда Лоренцо отвернулся в сторону, Граначчи прижал пальцы левой руки к губам и послал в знак благодарности воздушный поцелуй Контессине. Никогда она не останавливалась, чтобы посмотреть на работу Микеланджело. Обычно она задерживалась около Торриджани, став сбоку от его стола, напротив Микеланджело, так, что он мог следить за каждым ее движением, мог слушать, как она смеется, тронутая шутками забавлявшего ее красавца. И хотя Микеланджело словно зачарованный не спускал с нее глаз, взгляды их ни разу не встретились. Когда, наконец, она исчезала, он чувствовал тоску и опустошение. Он не мог понять, почему это происходит. О девушках он не помышлял. Не помышлял даже после того, как Якопо, просвещавший Микеланджело в течение года, научил его распознавать тех, которые «годятся для постели». У него не было девушек ни дома, в семье, ни в том узком кругу друзей, который был ему знаком. Он не помнил, разговаривал ли он хотя бы раз с кем-нибудь из девушек. У него никогда не появлялось желания даже рисовать их! Они были чужды ему. Тогда почему же он так страдал, когда Контессина, всего в нескольких шагах от него, весело смеялась и разговаривала с Торриджани, держась с этим юношей как равная. Почему он так злился и на Торриджани, и на Контессину, что она могла значить для него, эта принцесса благородной медичейской крови? Все это походило на какую-то таинственную болезнь. Ему хотелось, чтобы девушка больше не появлялась в Садах, оставила его в покое. Рустичи говорил, что раньше она редко приходила в Сады. Почему же теперь она проводит здесь каждый день по часу, а то и больше? Чем упорнее он отдавался работе, приникал к своим листам, заполняя их рисунками, тем острее чувствовал присутствие Контессины: остановившись у стола Торриджани, она любезничала с этим красавцем и атлетом, исподтишка подглядывая за Микеланджело и воспринимая каждый взмах его карандаша как личную обиду. Время шло, наступил разгар лета, цветы в Садах увяли от зноя, лужайки выгорели и побурели — и только тогда Микеланджело понял, что он ревнует. Ревнует к Торриджани. Ревнует к Контессине. Ревнует к ним обоим сразу. Ревнует каждого из них в отдельности. И тут ему стало страшно. А теперь она застала его совсем одного, когда в Садах было пусто. Она пришла со своим братом Джованни, толстым, слегка косоглазым подростком, — он был, как догадывался Микеланджело, его же возраста, лет четырнадцати, и уже предназначен в кардиналы; кроме Джованни, вместе с Контессиной явился и ее кузен, побочный сын Джулиано, любимого брата Лоренцо, который был заколот в Соборе заговорщиками из семейства Пацци. Когда произошло это убийство, Микеланджело было всего три года, но флорентинцы до сих пор рассказывали, как висели казненные заговорщики в проемах окон Синьории. Первые слова прозвучали неожиданно: — Buona sera. Добрый вечер. — Buona sera. — Микеланджело. — Контессина. — Come va? — спросила Контессина. — Non c'e male. — Ответ звучал кратко, как у сеттиньянского каменотеса. Микеланджело рубил кусок светлого камня, отделывая его в елочку. Он и не думал прерывать работу. — Этот камень пахнет. — Только что сорванными винными ягодами. — А этот? — Она указала на глыбу мрамора, лежавшую на скамье рядом с ним. — Этот пахнет свежими сливами? — Нет, едва ли сливами. — Он отколол от глыбы кусочек. — Понюхай сама… Она наморщила нос и засмеялась. Он сел перед мраморной глыбой и начал рубить ее с таким рвением, что осколки брызнули, как дождь. — Почему ты бьешь так… так яростно? Разве ты не устаешь? Я давно бы выдохлась. Он знал, что она очень болезненна, знал, что чахотка унесла ее мать и сестру за один прошлый год. Поэтому-то, говорил Рустичи, Лоренцо так нежен с нею: ей суждена недолгая жизнь. — Нет, нет, что ты! Когда рубишь камень, то силы не убывает, а только прибавляется. Вот попробуй-ка поруби этот белый мрамор. Увидишь, как он оживет в твоих руках. — Не в моих, а в твоих руках, Микеланджело. Может, ты закончишь для меня этот узор на светлом камне? — Да это же всего-навсего простая елочка. Мы насекаем ее, когда строим ограду или обкладываем колодцы. — Она мне нравится. — Тогда я закончу ее. Она стояла не двигаясь прямо над ним, а он, согнувшись, продолжал работать. Когда он натыкался на особо твердое место, то искал глазами ведро с водой и, не найдя, сплевывал на камень, чтобы сделать его более мягким, и вновь с молниеносной быстротой врубал и врубал свой резец. Она засмеялась: — А что ты будешь делать, когда во рту совсем пересохнет? Он поднял голову, лицо его залилось румянцем. — У хорошего скальпеллино слюны на плевок всегда найдется.5
С наступлением духоты и зноя Сады понесли первую утрату: это был Соджи. Его бодрость и воодушевление увядали подобно тому, как увядала в то лето на лужайках трава. Соджи не получал в Садах ни премий, ни заказов, и, хотя Бертольдо выплачивал ему время от времени кое-какие ничтожные суммы, заработок его почти равнялся заработку Микеланджело, а тот не зарабатывал ничего. По этой-то причине Соджи считал, что Микеланджело присоединится к нему. Однажды вечером, в августе, когда от духоты нечем было дышать, он дождался в Садах тишины и безлюдья, отшвырнул свой инструмент и подошел к Микеланджело. — Микеланджело, давай-ка уйдем отсюда совсем — и ты и я. Вся эта возня с камнем… это так глупо. Давай спасаться, пока не поздно. — Спасаться? Что же нам грозит, Соджи? — Не будь слепцом, Микеланджело. Нам тут никогда не дождаться ни заказов, ни заработков. Ну, кому нужна скульптура? Все прекрасно живут и без скульптуры. — А я не могу. На лице Соджи были написаны отвращение и страх — такой силы чувства он не достигал ни в одном из своих восковых или глиняных изваяний. — Где же мы потом найдем себе работу? Если Лоренцо умрет… — Но он еще молод, ему всего сорок лет. — …тогда у нас не будет ни покровителя, ни этих Садов. Неужто нам бродить по Италии, как нищим, и протягивать шляпу, прося милостыню? Не надо ли вам мастера по мрамору? Не нужна ли вам «Богоматерь»? Не пригодится ли «Оплакивание Христа»? Я могу вам изготовить и то и другое, только дайте мне кров и пищу. Соджи яростно засовывал свои пожитки в мешок. — К черту! Я хочу заниматься таким ремеслом, чтобы ко мне люди приходили сами. Каждый день! За кулебякой или окороком, за вином или рейтузами. Люди не могут обойтись без этих вещей, они должны покупать их каждый божий день. Значит, каждый день я буду что-то сбывать. А на то, что я сбуду, я буду кормиться. У меня деловая натура, мне надо знать в точности, что сегодня или завтра я заработаю столько-то сольди. Скульптура — это уже роскошь, о ней вспоминают в самом крайнем случае. А я хочу торговать чем-то таким, что спрашивают в первую очередь. Что ты скажешь на это, Микеланджело? Ведь здесь тебе не платят ни единого скудо. Посмотри на себя, какую рвань ты носишь. Ты что, хочешь жить как побирушка до конца своих дней? Пойдем со мной. Вместе-то мы найдем работу. Было ясно, что за вспышкой Соджи крылись твердые убеждения, что Соджи размышлял обо всем этом не одну неделю. И все же в глубине души Микеланджело воспринимал его бурную горячность чуть насмешливо. — Скульптура для меня — самое важное дело, Соджи. Меня даже не интересует, нужна она кому-то в первую очередь или в последнюю. Я говорю «скульптура» — и ставлю на этом точку. — Ты верно говоришь — надо поставить на этом точку! — подхватил Соджи. — На Старом мосту у отца есть знакомый мясник, он ищет подручного. Резец — ведь это все равно что нож… Когда на следующее утро Бертольдо узнал об уходе Соджи, он пожал плечами: — Что ж, обычная в нашем деле потеря. Все люди рождаются с задатками таланта, но у большинства так быстро тухнет этот огонь! С покорным видом он провел рукой по своим жидким седым волосам. — В мастерских это бывает сплошь и рядом. Учитель, конечно, знает, что в какой-то мере его усилия пропадут, но он не может бросить свое дело, иначе пострадали бы все ученики до одного. У таких людей, как Соджи, молодой порыв еще не означает любовь или привязанность к скульптуре, это лишь избыток юных сил. Как только этот буйный напор начинает спадать, юноши говорят себе: «Довольно мечтаний. Поищем-ка надежных путей в жизни». Когда ты сам будешь владельцем боттеги, ты увидишь, что я говорю правду. Скульптура — это тягчайший, зверский труд. Человек должен быть художником не потому, что он может им быть, но лишь потому, что он не может не быть им. Искусство — это удел тех, кто без него всю жизнь испытывал бы страдания. На другой день в Сады в качестве нового ученика явился круглолицый, как луна, Буджардини: он стал еще толще, хотя вверх не вытянулся. Микеланджело и Граначчи обнялись с ним, как со старым другом. Граначчи, закончив свою картину для Лоренцо, выказывал такую распорядительность и умение ладить с людьми, что Лоренцо поставил его в Садах управляющим. Граначчи с удовольствием исполнял свои обязанности: хлопотал целыми днями о том, чтобы в Сады был вовремя завезен камень, чугун или бронза, устраивал состязания учеников, доставал им скромные заказы в цехах. — Оставь-ка ты эти дела, Граначчи, — уговаривал его Микеланджело. — У тебя такой же талант художника, как у любого из нас в этих Садах. — Но мне нравятся всякие хлопоты, — мягко возражал Граначчи. — Пусть тебе это и нравится. Если нам нужны будут карандаши или натурщики, мы найдем их сами. Почему ты должен бросать свою работу только затем, чтобы помогать нам? Граначчи заметил эту косвенную похвалу своему таланту, хотя Микеланджело и высказал ее со злостью. — Времени хватит на все, caro mio, — успокаивал он друга. — Я уже занимался живописью. Придет час, я займусь ею снова. Но когда Граначчи действительно вновь взялся за кисть, Микеланджело стал злиться еще больше, так как Лоренцо заставил своего управляющего малевать декорации для пьесок-моралите и расписывать знамена и арки для праздничных процессий. — Граначчи, глупец, как ты можешь петь и веселиться, расписывая карнавальные декорации, которые выбросят на свалку сразу же после праздников? — А я люблю делать подобные пустячки — так ведь ты их называешь? Не все же на свете должно быть глубоко и вечно. Праздничные шествия или вечеринки тоже очень важны, так как они доставляют людям удовольствие, а удовольствие — одна из самых важных вещей в жизни, столь же важная, как еда, питье или искусство. — Ты… ты — истинный флорентинец!6
Осенние дни становились все прохладнее, а дружба Микеланджело с товарищами по работе — горячее. В праздники и церковные дни, когда Сады наглухо запирались, Рустичи приглашал его на обед, а затем вывозил за город, где он всюду выискивал лошадей; за право порисовать их в поле или в конюшне он платил деньги крестьянам, конюхам, грумам. — Лошадь — это самое красивое из всех божьих творении, — говорил Рустичи. — Ты должен рисовать ее снова и снова, всякий раз, как только увидишь. — Рустичи, я никогда не думал ваять лошадей. Меня интересуют только люди. — Если ты знаешь лошадь, ты знаешь целый мир. Сансовино, который происходил из крестьян Ареццо и был вдвое старше Микеланджело, высказывал еще един взгляд на жизнь: — Художнику надо время от времени возвращаться к земле; он должен пахать, должен сеять, полоть, убирать урожай. Прикосновение к земле обновляет нас. Быть только художником — это значит сосать собственную лапу и докатиться до бесплодия. Вот почему я, что ни неделя, сажусь верхом на мула и еду домой в Ареццо. Тебе надо поехать со мной, Микеланджело, и ощутить вспаханное поле своими ногами. — Я с радостью поеду с тобой в Ареццо, Сансовино. Если там найдется мрамор, я действительно могу пропахать в нем борозду. И только дома Микеланджело чувствовал себя несчастным. Лодовико ухитрился, пусть не совсем точно, разведать, сколько денег получают ученики в Садах в виде премий, наград и платы от заказчиков; он понял, что Сансовино, Торриджани и Граначчи зарабатывают приличные суммы. — Ну, а ты? — допрашивал он сына. — Ты не получил ни скудо? — Пока нет. — За все восемь месяцев? Почему? Почему все остальные получают деньги, а ты нет? — Я не знаю. — Я могу заключить из этого только одно: по сравнению с другими ты никуда не годишься. — Это неправда. — А считает ли Лоренцо, что у тебя есть какие-то способности к скульптуре? — Несомненно. — Но он никогда не заговаривал с тобой? — Никогда. — Allora! Я даю тебе сроку еще четыре месяца, чтобы вышел целый год. А потом, если Лоренцо по-прежнему будет считать тебя бесплодной смоковницей, ты пойдешь работать. Однако терпения Лодовико хватило всего на четыре недели. Однажды в воскресное утро, зайдя в спальню к Микеланджело, он учинил новый допрос, буквально прижав его к стенке: — Хвалит ли Бертольдо твою работу? — Нет. — Говорит он, что у тебя есть талант? — Нет. — А дает ли он тебе хоть какие-нибудь заверения на будущее? — Он дает мне советы. — Это не одно и то же. — Ammesso. Согласен. — Хвалит ли он других? — Иногда. — Что ж, значит, ты самый безнадежный? — Этого не может быть. — Почему же? — Я рисую лучше, чем остальные. — Рисую! Какое это имеет значение? Если там тебя учат, чтобы ты стал скульптором, почему же ты не занимаешься скульптурой? — Бертольдо не разрешает мне. — Почему? — Говорит, что еще рано. — Ну, а другие что-нибудь лепят, высекают? — Да. — Так неужели тебе не ясно, что все это значит? — Нет. — Это значит, что у них больше способностей, чем у тебя. — Все будет ясно, когда я приложу руки к камню. — Когда это будет? — Не знаю. — А пока ты не станешь работать с камнем, у тебя не будет никакого заработка? — Не будет. — А говорят тебе, когда ты начнешь работать с камнем? — Нет, не говорят. — Ты не думаешь, что все это выглядит безнадежно? — Нет. — Что же ты думаешь? — Я в недоумении. — И долго ты будешь пребывать в недоумении? — Пока Бертольдо не скажет своего слова. — Куда же делась твоя гордость? Что с тобой случилось? — Ничего. — Это все, чего ты добился в Садах, — «ничего». — Учиться — это не значит утратить свою гордость. — Тебе уже почти пятнадцать лет. Ты что, так никогда и не будешь зарабатывать? — Я буду зарабатывать. — Когда же и каким способом? — Не знаю. — Двадцать раз ты сказал мне «нет» или «не знаю». Когда же ты будешь знать? — Я не знаю. Выбившись из сил, Лодовико вскричал: — Да мне надо отдубасить тебя палкой! Когда в твоей башке будет хоть капля разума? — Я делаю то, что должен делать. Разве это не разумно? Лодовико повалился в кресло. — Лионардо хочет идти в монахи. Кто и когда слышал, чтобы Буонарроти стал монахом? Ты хочешь сделаться художником. Кто и когда слышал, чтобы Буонарроти были художниками? Джовансимоне, видно, будет уличным шалопаем, бродягой, завсегдатаем мостовых. Проходимец из семьи Буонарроти — это немыслимо! Урбино выгнал из школы Сиджизмондо и говорит, что я бросаю деньги на ветер — парень не научился даже читать. Слыхано ли, чтобы Буонарроти был неграмотен? Уж и не знаю, зачем господь бог дает человеку сыновей? Микеланджело подошел к Лодовико и легонько притронулся к его плечу: — Не сомневайтесь во мне, отец. Стричь шерсть на осле я не собираюсь. Дела Микеланджело в Садах не улучшились, они шли теперь даже хуже, чем прежде. Бертольдо жестоко тормошил его и все же никогда не был доволен тем, что делал ученик. Нервно переступая с одной ноги на другую, он кричал: «Нет, нет, ты способен сделать это гораздо лучше. Рисуй снова! Рисуй!» Он заставлял Микеланджело набрасывать эскизы, глядя на модель сначала сверху, с лестницы, потом распластываясь на полу, велел ему приходить в Сады и работать там по воскресным дням, рисуя композицию, в которой были бы слиты воедино все этюды, сделанные за неделю. Идя вечером домой вместе с Граначчи, Микеланджело тоскливо воскликнул: — Ну почему меня так обижают в Садах? — Тебя не обижают, — ответил Граначчи. — Обижают, это видно всем и каждому. Мне не разрешают участвовать ни в одной конкурсной работе на премию Лоренцо, не дают выполнять никаких заказов. Мне не позволяют ходить во дворец и смотреть там произведения искусства. Ты теперь управляющий в Садах. Поговори с Бертольдо. Помоги мне! — Когда Бертольдо сочтет тебя подготовленным для участия в конкурсах, он скажет об этом сам. А до тех пор… — О боже! — простонал Микеланджело, стискивая зубы. — Да к тому времени мне придется ночевать в Лоджии делла Синьориа — отец выгонит меня из дома палкой. Было еще одно горестное обстоятельство, о котором Микеланджело не мог сказать Граначчи: с наступлением сырой погоды Лоренцо запретил Контессине выходить из дворца. А Микеланджело она не казалась ни сильной, ни хрупкой. Он чувствовал в ней страсть, чувствовал такое пламя, перед которым отступает и смерть. Теперь, когда девушка не появлялась в Садах, они стали для него странно пустыми, а без трепетного ожидания встречи дни тянулись уныло и однообразно. В своем одиночестве Микеланджело еще больше тянулся к Торриджани. Они стали неразлучны. Микеланджело прямо-таки бредил Торриджани: он был без ума от его остроумия, его проницательности, красоты. Граначчи в недоумении только поднимал брови. — Микеланджело, я перед тобой в трудном положении: что бы я ни сказал, ты можешь подумать, что я говорю это из зависти или обиды. Но я должен предостеречь тебя. С Торриджани бывало это и раньше. — Что бывало? — Расточал свою любовь, пленял кого-нибудь без остатка, а потом впадал в ярость и резко рвал все отношения, если на горизонте появлялся кто-то другой, кого можно было увлечь и очаровать. Торриджани нуждается в поклонниках, в поклонниках ты у него и ходишь. Пожалуйста, не думай, что он тебя любит. Бертольдо оказался не столь мягким. Когда он увидел рисунок, в котором Микеланджело подражал только что законченному этюду Торриджани, он изорвал его на сотню мелких клочков. — Стоит только походить с калекой хотя бы год, как сам начинаешь прихрамывать. Передвинь свой стол на то место, где он стоял прежде!7
Бертольдо понимал, что терпение Микеланджело вот-вот лопнет. Он положил свою хрупкую, как осенний лист, руку мальчику на плечо и сказал: — Итак, приступим к скульптуре. Микеланджело закрыл лицо ладонями, его янтарного цвета глаза горели, на лбу проступили капли пота. Внезапная радость, боль и горечь слились в едином ощущении, от которого колотилось сердце и дрожали руки. — А теперь зададим себе вопрос: что такое скульптура? — назидательным тоном произнес Бертольдо. — Это искусство отсечь, убрать все лишнее с взятого материала и свести его к той форме, которая возникла в воображении художника. — Убрать с помощью молотка и резца! — воскликнул Микеланджело, стряхивая с себя оцепенение. — Или добавить какую-то долю материала еще, как это мы делаем при лепке из глины или воска, накладывая их часть за частью. Микеланджело энергично замотал головой: — Это не для меня. Я хочу работать прямо на мраморе. Я хочу работать, как работали греки, высекая сразу из камня. Бертольдо криво улыбнулся. — Благородное стремление. Но чтобы итальянец достиг того, что делали древние греки, потребуется еще много времени. Первым делом ты должен научиться лепить из глины и воска. До тех пор, пока ты не овладеешь методом добавления, нельзя прибегать к методу усекновения. — И никакого камня? — Никакого камня. Восковые модели должны быть у тебя не больше двенадцати дюймов высоты. Я уже велел Граначчи закупить для тебя воска — вот он, посмотри. Чтобы сделать его более податливым, мы добавляем в него немного животного жира. Вот так. С другой стороны, для прочности и вязкости надо добавить еще и скипидара. Тебе ясно? Пока воск растапливался, Бертольдо показал мальчику, как делать из проволоки и деревянных планок каркас, потом, когда воск остыл, он научил его раскатывать воск в шарики. Вот уже готов и каркас. Микеланджело начал накладывать на него воск, желая убедиться, насколько точно можно воспроизвести плоский рисунок в трехмерной фигуре. Ведь именно в этом и заключалось то чудо, о котором он когда-то кричал на ступенях Собора. Именно это он имел в виду, когда утверждал в споре с друзьями превосходство скульптуры над живописью. Истинные цели скульптора — глубина, округлость, размер; обо всем этом живописец может только намекнуть, прибегая к иллюзорной перспективе. В распоряжении скульптора твердый, ощутимый мир реальности; никто не может шагнуть в глубь его рисунка, но любому и каждому доступно обойти вокруг его изваяния и оценить его со всех сторон. — Это значит, что изваяние должно быть совершенно не только спереди, но с любой точки обзора, — говорил Бертольдо. — А отсюда вытекает, что любое произведение скульптуры создается как бы не один раз, а триста шестьдесят раз, потому что при изменении точки обзора хотя бы на один градус оно уже становится словно бы другим, новым изваянием. Микеланджело был заворожен; проникая в его сознание, слова Бертольдо жгли, будто пламя. — Понимаю. Он взял в ладони воск и почувствовал его теплоту; для рук, которые жаждали камня, катышек воска не мог быть приятным. Но наставления Бертольдо побудили Микеланджело задуматься, может ли он вылепить голову, торс или всю фигуру так, чтобы она в какой-то мере передавала рисунок. Задача была не из легких. — Но чем скорее я начну, — сказал он себе, — тем скорее кончу. Плотно облепив каркас воском, Микеланджело, как приказал ему Бертольдо, стал действовать металлическими и костяными инструментами. Добившись грубого приближения к замыслу, он начал отделывать модель своими крепкими пальцами. Статуэтка обрела какую-то, правдоподобность и печать неуклюжей силы. — Но в ней нет и тени изящества! — возмутился Бертольдо. — Помимо того, здесь полностью отсутствует портретное сходство. — Я не делаю портрета, — ворчливо говорил Микеланджело: указания Бертольдо он впитывал, как сухая губка, брошенная в Арно, но все, что пахло критикой, возбуждало в нем строптивость. — Тебе придется делать портреты. — Могу я сказать откровенно? — А к чему бы тебе кривить душой? — Черт с ними, с портретами. Я их, видно, не полюблю никогда. — «Никогда» в твоем возрасте гораздо дольше, чем в моем. Если ты подыхаешь с голода, а герцог Миланский просит тебя отлить свой портрет в виде бронзового медальона… Микеланджело вспыхнул: — Я еще не дошел до такой нищеты. Бертольдо настаивал на своем. Он толковал ученику о выразительности и изяществе, о силе и равновесии. О взаимосвязанности тела и головы: если у фигуры голова старика, то и руки, корпус, бедра и ноги должны быть тоже как у старика. Если же у изваяния голова молодого человека, то надо стараться придать фигуре округлость, мягкость и привлекательность, а складки одежды расположить таким образом, чтобы под ними чувствовалось юное, крепкое тело. Волосы и бороду следует отделывать всегда с особенной тщательностью. Баччио былконоводом во всяких проказах. Нападала ли скука и уныние на Торриджани, рвался ли вдруг, изнывая от тоски, в свое Ареццо уставший Сансовино, требовал ли в раздражении дать ему в руки уже не воск, а глину Микеланджело, или Бертольдо отчитывал Рустичи за то, что тот рисует лошадей, когда следует рисовать специально приглашенного натурщика, или у Граначчи раскалывалась голова от боли, когда кругом беспрестанно стучали молотками, или Бертольдо заходился в кашле и жалобно говорил, что он был бы избавлен от многих страданий, если бы умер до своего прихода в Сады, — всегда в такие минуты Баччио спешил на выручку и спасал положение своими неистощимыми шутками, почерпнутыми в винных лавках и непотребных притонах. — Маэстро, слыхали ли вы историю, как купец жаловался на дороговизну платьев, которые он покупал жене? «Каждый раз, когда я ложусь с тобой спать, это обходится мне в одно скудо золотом». А молодая жена ему отвечает: «Если ты будешь спать со мной чаще, это будет обходиться тебе каждую ночь гораздо дешевле». — Нет, я держу его в Садах не в качестве клоуна, — оправдывался перед учениками Бертольдо. — У него есть проблески таланта, и он очень понятливый. Он, как и все остальные в Садах, твердо решил посвятить себя искусству. Он только не любит учиться, думает об одних удовольствиях. Но он еще излечится от этого. Брат его, монах-доминиканец, ведет исключительно строгий образ жизни; может быть, потому-то Баччио такой распущенный. Время шло неделя за неделей. Бертольдо по-прежнему требовал, чтобы Микеланджело лепил лишь восковые фигурки, стараясь в них как можно точнее передать карандашный рисунок. Когда Микеланджело не мог уже больше выдержать, он бросал костяные инструменты; уходил в дальний угол Садов, подхватывал там молоток и резец и укрощал свой гнев, обтесывая строительный камень для библиотеки Лоренцо. Десятник, будучи не вполне уверен, что должен попустительствовать такому бунту, спросил Микеланджело на первый раз: — Зачем ты к нам явился? — Мне надо как-то очистить пальцы от воска. — А где ты научился тесать камень? — В Сеттиньяно! — А, в Сеттиньяно! Так каждый день в течение часа или двух он стал работать вместе со скальпеллини. Ощущая под руками твердую глыбу камня, зажатую между колен, он и сам становился словно тверже, прочнее. Бертольдо капитулировал. — «Alla guerra di amor vince chi fugge», — сказал он. — «В любовном сражении побеждает тот, кто пускается в бегство». Ныне мы принимаемся за глину… Запомни, что фигура, слепленная из мокрой глины, усыхает. Поэтому накладывай глину понемногу, не спеши. Подмешивай в нее мягкие стружки и конский волос с тем, чтобы в работах крупного размера потом не появлялось трещин. Покрывай свое изваяние мокрой тканью примерно такой влажности, какая бывает у густой грязи; заботься, чтобы ткань аккуратно окутывала всю фигуру. Позднее ты узнаешь, как увеличивать модель до того размера, в каком ты хочешь вырубать ее из камня. — Вот это уже настоящее дело, — усмехнулся Микеланджело. — По мне, чем ближе к камню, тем лучше. Наступил февраль, с холмов поползли туманы, дождь сплошной сеткой заволакивал раскинувшийся в долине город, улицы превратились в реки. Сумрачный серый свет позволял работать лишь несколько часов в сутки, в церквах и дворцах была такая сырость, что срисовывать там работы старых мастеров стало невозможно. В Садах все были прикованы к комнатам павильона, ученики работали, сидя на высоких стульях, под которыми стояли жаровни с горячими углями. Нередко случалось так, что Бертольдо был вынужден лежать целый день в постели. Мокрая глина казалась еще более липкой и холодной, чем обычно. Микеланджело работал, зажигая масляный светильник, иногда, по вечерам, он оставался в вымерзшем павильоне совершенно один — на душе у него было нерадостно, тем не менее он чувствовал, что лучшего места, чем Сады, ему теперь нигде не найти. Пройдет еще два месяца, и наступит апрель. У Лодовико было решено, что в апреле он возьмет Микеланджело из Садов, если тот по-прежнему не будет зарабатывать ни скудо. Когда, поднявшись с постели, закутанный в шерстяные платки, Бертольдо вновь пришел в Сады, он еле держался на ногах и был похож на привидение. Но Микеланджело знал, что поговорить с учителем ему необходимо. Он показал Бертольдо почти законченные глиняные модели и попросил разрешения перевести их в камень. — Нет, сын мой, — сиплым голосом отозвался Бертольдо, — тебе еще рано. — Все работают по камню, а мне рано? — Тебе еще надо многому учиться. — Да, от этого не уйдешь. — Терпение! — ободрял его Граначчи. — Господь слепил нам спину как раз для того, чтобы тащить ношу.8
Его язвило и жгло несколько заноз сразу. Самую острую из них вонзал Бертольдо: он постоянно обрушивал на Микеланджело поток придирчивых замечаний, и как тот ни старался, он не мог заслужить от учителя ни одной похвалы. Ныла и другая незаживающая рана — его до сих пор не пускали во дворец. — Нет, нет, — ворчал Бертольдо. — Эта фигурка у тебя чересчур заглажена. Когда ты увидишь статуи во дворце ты поймешь, что мрамор любит выражать только самые заветные, самые глубокие чувства. Микеланджело думал: «Ну что ж, позови меня во дворец, и я увижу!» Когда Бертольдо приглашал во дворец Буджардини, Микеланджело злился. На кого? На Бертольдо или на Лоренцо? Или на самого себя? Если бы его спросили об этом, он не мог бы ответить. Было похоже, что его отвергают навсегда. Он чувствовал, что попал в положение осла, который везет на себе золото, а ест колючий чертополох. Однажды в конце марта, в холодный, но ослепительно, яркий день Бертольдо оглядывал только что законченную глиняную модель Микеланджело — древнего полубога, наполовину человека, наполовину животного. — Во дворец доставили недавно найденного «Фавна», — сказал Бертольдо. — Вчера вечером мы его распаковали. Грек и язычник, вне всяких сомнений. Фичино и Ландино считают, что это пятый век до рождества Христова. Тебе надо посмотреть находку. У Микеланджело перехватило дыхание. — Сейчас самое время идти. Бросай-ка свою работу. Они перешли площадь Сан Марко и повернули на Виа Ларга. Защищаясь от пронизывающей стужи, Бертольдо прикрыл рот и нос концом тяжелого шерстяного шарфа, которым была закутана его шея. Под фундамент дворца Медичи со стороны Виа де Гори пошла часть второй стены, некогда окружавшей город. Здание это построил архитектор Микелоццо тридцать лет назад для Козимо. Оно было достаточно просторным, чтобы в нем разместилось большое, разветвлявшееся на три поколения, семейство, правительство республики, банкирская контора, отделения которой были раскиданы по всему свету, убежище для художников и ученых, съезжавшихся во Флоренцию; это был одновременно жилой дом и государственное учреждение, лавка и университет, художественная мастерская и музей, театр и библиотека; и все тут носило печать строгой, величавой простоты, свойственной вкусам Медичи. — В этом дворце нет плохих произведений искусства, — сказал Бертольдо. Мастерство, с которым был отделан камень, восхищало Микеланджело; любуясь дворцом, он даже задержался на минуту на Виа Ларга. Хотя мальчик видел дворец сотни раз, ему всегда казалось, что он оглядывает его впервые. Ах, какие же чародеи были эти скальпеллини! Каждый камень рустованных у основания стен был отделан так, как отделывают драгоценное изваяние; выпуклая поверхность блоков была хитроумно прострочена насечкой, а по их скошенным краям вырезаны тонкие и изящные завитки — большущие каменные глыбы словно бы пели. И не было среди них двух таких, которые бы походили друг на друга в большей степени, чем две разные статуи, изваянные Донателло. В тяжелые блоки был ввинчен ряд железных колец, к которым посетители дворца привязывали своих лошадей, по углам были укреплены массивные бронзовые петли — на ночь в них вставлялись факелы. Вокруг цоколя, по обеим прилегающим улицам, тянулась высокая каменная скамья, на которой общительные флорентинцы могли вволю поболтать и погреться на солнышке. — Любой камень этой рустики так прекрасен, что его можно перенести в лоджию и поставить там на пьедестал, — сказал Микеланджело, нарушая молчание. — Может быть, — согласился Бертольдо. — Но, на мой взгляд, они слишком громоздки. От этого здание стало похоже на крепость. Мне больше нравятся вон те плоские каменные панели на втором этаже, а еще красивее мелкие камни третьего этажа — в их резьбе есть изящество гемм. По какой-то причине дворец кажется столь легким вверху, а внизу он тяжеловесен. — До сих пор я не знал, что архитектура почти такое же великое искусство, как и скульптура, — заметил Микеланджело. Бертольдо снисходительно улыбнулся. — Джулиано да Сангалло, лучший архитектор Тосканы, сказал бы тебе, что архитектура есть не что иное, как скульптура: искусство создать форму, занимающую пространство. Если архитектор не является одновременно и скульптором, то все, что он создаст, будет не больше чем покрытые крышей стены. Если ты останешься без работы, ты можешь предложить вместо «Оплакивания» еще и проект дворца или храма. Перекресток Виа Ларга и Виа де Гори занимала открытая лоджия — в ней семейство Медичи собиралось в дни торжеств и праздников. Флорентинцы считали, что они имеют право смотреть, как веселятся Медичи, — это служило для них развлечением, от которого они не собирались отказываться. Сюда, под величественную, в четыре с лишним сажени высотой, аркаду из серого камня приходили горожане, купцы и политики доверительно побеседовать с Лоренцо, а художники и ученые обсудить свои проекты. Для всех тут был припасен стакан сладкого белого греческого вина — «великолепное питье благородных людей» — и для всех гостеприимно ставилось печенье. Микеланджело и его учитель прошли в большие ворота и оказались в квадратном дворе: здесь с трех сторон тянулись аркады, их поддерживали двенадцать великолепных колонн, увенчанных резными капителями. Бертольдо с гордостью указал на восемь круглых барельефов, которые были расположены над аркадой, ниже окон. — Это мои изваяния. Я сделал их по античным геммам. Геммы ты увидишь в кабинете Лоренцо. Сколько людей принимало эти барельефы за произведения Донателло! Микеланджело нахмурился: как только может Бертольдо идти на столь рабское подражание своему учителю? Тут он увидел две великие статуи Флоренции — «Давида» Донателло и «Давида» Верроккио. Он с радостным криком бросился к ним, ему хотелось потрогать их руками. Бертольдо стоял рядом с Микеланджело и гладил своей искушенной рукой великолепное бронзовое литье. — Я помогал отливать эту вещь для Козимо. Так и было тогда задумано — поставить статую здесь на дворе, чтобы ее было видно со всех сторон. Как мы волновались в ту пору! Веками в Италии были только барельефы или скульптура, прикрепленная к какой-то плоскости. «Давид» явился первой круглой статуей из бронзы — их уже не отливали тысячу лет. До того как пришел Донателло, скульптура служила лишь украшением архитектуры — она ютилась в нишах, на дверях, на хорах, на кафедрах. Донателло стал ваять круглые скульптуры первым после древних римлян. Раскрыв рот, Микеланджело смотрел на Донателлова Давида: он был юный и нежный, с длинными кудрями волос, с четко обозначенными сосками на обнаженной груди; тонкая рука сжимала огромный меч; левой, изящно согнутой ногой в легкой сандалии он попирал отсеченную голову Голиафа. Тут, думал Микеланджело, воистину двойное чудо — и удивительно гладкая, атласная фактура литья, чему, как он знал, немало способствовал Бертольдо, и почти девическое, как у Контессины, изящество и хрупкость Давида, который тем не менее сумел убить Голиафа! Едва он успел бегло оглядеть три римских саркофага под арками и две реставрированные фигуры Марсия, как Бертольдо уже повел его вверх по большой лестнице в часовню, где перед ним засияли своими красками такие фрески Гоццоли, что мальчик ахнул от удивления. А потом Бертольдо стал водить его из комнаты в комнату, и у Микеланджело буквально закружилась голова: это был настоящий лес изваяний, необъятная кладовая картин. Ему теперь словно бы не хватало ни глаз, ни силы в ногах, чтобы осмотреть и обойти все, что тут было, он изнемогал от волнения. Здесь были представлены все достойные художники Италии, начиная с Джотто и Николо Пизано. Мраморы Донателло и Дезидерио да Сеттиньяно, Луки делла Роббиа и Верроккио, бронза Бертольдо. Во всех коридорах, залах, жилых комнатах, кабинетах и спальнях дивные картины — «Святой Павел» и «Площадь Синьории» Мазаччо; «Сражение при Сан Романо», «Битва Драконов и Львов» Паоло Учелло; «Распятие» Джотто на деревянном столе; «Мадонна» и «Поклонение Волхвов» фра Анжелико; «Рождение Венеры», «Весна», «Мадонна Магнификат» Боттичелли. Помимо того, тут находились произведения Кастаньо, Филиппо Липпи, Поллайоло и сотни венецианских и брюггских мастеров. Вот уже они вступили в studiolo — кабинет Лоренцо: это была последняя комната в веренице прекрасных покоев, носивших название «благородного этажа». Кабинет был совсем не парадный и не деловой — скорее небольшая горница для работы с пером и бумагой; свод в ней был изваян Лукой делла Роббиа; письменный стол Лоренцо стоял у задней стены, а над ним были полки, где хранились сокровища хозяина; изделия из драгоценного камня, камеи, небольшие мраморные барельефы, древние рукописи с миниатюрами. Уютное, заставленное множеством вещей помещение, пожалуй, больше располагало к удовольствиям, нежели к работе, — здесь лучились красками маленькие столики, расписанные Джотто и Ван-Эйком, на каминной доске стояла античная бронза и фигура обнаженного Геракла, над дверями темнели бронзовые головы, тут и там поблескивали стеклянные вазы, отлитые по рисункам Гирландайо. — Ну, что ты думаешь? — спросил Бертольдо. — Ничего. И в то же время много. Голова у меня уже не работает. — Не удивляюсь. А вот тот самый «Фавн», которого привезли вчера из Малой Азии. Глазки у него такие, что сразу ясно, что он не отказывал себе в плотских радостях. Это, наверное, древний флорентинец! А теперь я оставлю тебя на несколько минут, мне надо пойти и взять кое-что в своей комнате. Микеланджело подошел к «Фавну». Он поймал себя на том, что смотрит в его мерцающие, злорадные глаза. Длинная борода Фавна была в пятнах, словно залита на пирушке вином. Он казался совсем живым, Микеланджело даже почудилось, что Фавн вот-вот заговорит, хотя сейчас он только улыбался порочной своей улыбкой, вдруг словно бы спрятав зубы. Микеланджело притронулся кончиками пальцев к зиявшему его рту, желая нащупать там зубы, — но зубов действительно не было. Микеланджело откинул голову и захохотал, смех его эхом прокатился по комнатам. Кровь снова заструилась у него по жилам. — Ты что, старик, стер начисто зубы? И хвалишься своими похождениями? Мальчик вытащил из-под рубашки бумагу и красный карандаш, отошел подальше в угол, сел там и принялся рисовать Фавна. Он нарисовал у него и губы, и зубы, и дерзко высунутый язык: ему казалось, что именно таким создал Фавна греческий скульптор две тысячи лет тому назад. Вдруг он почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной, ноздри его уловили легкий запах духов. Он резко обернулся. Много недель прошло с тех пор, как он видел ее в последний раз. Она была такая тоненькая, хрупкая, что, казалось, не занимала собой никакого пространства. Сияли ее огромные всепоглощающие глаза, в теплой коричневой влаге их зрачков будто растворялись и исчезали все остальные черты ее бледного личика. Она была одета в голубую гамурру, отороченную коричневым мехом. Белые звезды были нашиты у ней на сорочке и рукавах. Она держала в руках греческий пергамент с речами Исократа. Он сидел, не шевелясь, и смотрел ей в глаза как завороженный. — Микеланджело. Как много радости может быть в простом звуке твоего имени, хотя целыми днями ты внимаешь ему равнодушно. — Контессина. — Я занималась в своей комнате. Потом услышала, что кто-то здесь ходит. — Я не смел и подумать, что увижу тебя. Меня привел сюда Бертольдо, мы смотрим статуи. — Отец не хочет брать меня с собой в Сады, пока не наступит весна. Ты не думаешь, что я умру? — Ты будешь жить и родишь много сыновей. Яркий румянец залил ей щеки. — Я тебя не обидел? — спросил он извиняющимся тоном. Она покачала головой. — Все говорят, что ты очень груб. — Она шагнула, приближаясь к его стулу. — Когда я стою рядом с тобой, я чувствую себя крепкой. Это почему? — А когда я рядом с тобой, я смущаюсь. Это почему? Она засмеялась, весело и непринужденно. — Я скучаю по Садам. — Сады скучают по тебе. — Я и не думала, что там замечают мое отсутствие. — Замечают. Он сказал это столь горячо, что она нашла нужным переменить тему. — Как идет у тебя работа — хорошо? — Non с'е male. — Ты не очень-то разговорчив. — Не стремлюсь быть говоруном. — Тогда почему ты даешь говорить за себя глазам? — А что они говорят? — Они говорят такое, что мне очень приятно. — Хорошо, если бы ты мне пересказала. У меня нет с собой зеркала. — То, что мы думаем о других, — наша личная тайна. Он догадывался, что его видят насквозь, что он выказал ей чувства, которые не сумел бы назвать и сам, — в этом было что-то унизительное. Он опустил голову и взял в руки свой лист с рисунком. — Мне надо работать. Она топнула ногой. — С Медичи так не разговаривают. — В глазах ее вспыхнул гнев, они вдруг потемнели, утратив свою прозрачность, затем по лицу ее скользнула слабая улыбка. — Больше таких глупых слов ты от меня не услышишь. — Non importa. Я и сам не скуплюсь на них. Она протянула ему руку. Рука была маленькая, с хрупкими пальцами, будто птичья лапка. Он понимал, что стискивать такую руку в своей грубой ручище нельзя. Но через секунду он уже чувствовал, как горячо, порывисто и сильно сжимает ее и как она отвечает ему столь же крепким пожатием. — Addio, Микеланджело. — Addio, Контессина. — Удачи тебе в работе. — Grazie mille. Спасибо. И она вышла из отцовского кабинета, а он все еще чувствовал легкий запах ее духов, чувствовал, как рука его упруго наливается кровью, будто он долго работал превосходно пригнанным увесистым шпунтом из шведского железа. Его красный карандаш вновь упрямо чертил по бумаге.9
Всю эту ночь он метался в постели, не в силах заснуть. Истек уже почти год с тех пор, как он начал работать в Садах. Что будет, если Лодовико пойдет к Лоренцо, как он грозился, и потребует, чтобы отпустили его сына? Захочет ли Лоренцо затевать ссору с уважаемым флорентинским семейством? Из-за какого-то ученика, которого он даже не замечает? Но уйти из Садов, не получив ни разу в свои руки кусок камня, он был попросту не в силах. Руки его изнывали от жажды камня. Он вскочил с кровати, кое-как оделся при свете луны и решил тотчас же идти в Сеттиньяно, чтобы быть там к рассвету и весь день рубить светлый камень, обтесывая блоки и колонны. Но, бесшумно спустившись по винтовой лестнице и выйдя уже на Виа деи Бентаккорди, он вдруг замер на месте. В мозгу его вспыхнуло воспоминание о том, как он иногда тайком работал со скальпеллини на задворках Садов, где хранились все запасы камня. Он видел там один камешек, не такой уж большой кусок чудесного белого мрамора, — камень валялся в траве неподалеку от строительных блоков, предназначенных для библиотеки. Сейчас ему пришло на ум, что этот обломок по своим размерам прекрасно подходит к тому изваянию, которое ему грезилось: «Фавн», подобный древнему «Фавну», что был в кабинете Лоренцо, — и, однако, совсем особый, его собственный «Фавн»! Вместо того чтобы повернуть налево и идти вдоль рва за город, он взял направо, прошел по Виа деи Бенчи с ее красивыми, погруженными в сон дворцами Барди, добрался до деревянных ворот городской стены, попросил разрешения у стражи и пересек мост Всех Милостынь, а затем поднялся на развалины форта Бельведер и сел там на парапет, глядя на мерцавшую внизу Арно. Вся Флоренция светилась в лучах полной луны, город, казалось, лежал так близко, что можно было пальцами тронуть и Собор и Синьорию, — несказанная красота этой картины сжала ему сердце. Стоит ли удивляться, что флорентинские юноши распевают песни, полные любви к этому городу, с которым не может сравниться ни одна девушка. Ведь все истинные флорентинцы говорят: «Как бы я мог жить, не видя Дуомо!» Флоренция казалась теперь необъятной глыбой светлого камня; словно резцом каменотеса были вырублены в ней и темные, как реки, улицы, и сверкающие под луной белые площади. Дворцы стояли, как часовые, возвышаясь над скромными строениями, которые теснились вокруг них; рассекая золотисто-палевое небо, мерцали острые верхушки церквей Санта Кроче и Санта Мария Новелла, легко распознавалось громадное, в сорок три сажени высотой, здание Синьории. Друг подле друга поблескивали колоссальный красный купол кафедрального собора и небольшой белый купол Баптистерия, благородным красно-розовым телесным светом отливала Кампанила. И гигантским кругом опоясывала широко раскинувшиеся кварталы городская стена, усеянная множеством башен и башенок. Сидя здесь и оглядывая свой любимый город, Микеланджело уже знал, что ему надо делать. Луна плыла теперь совсем низко, опускаясь за холмами, остатки тумана, похожие на светящуюся серую пыль, таяли на кровлях домов. Свет на востоке все разгорался и усиливался, затем хлынул мощным потоком, словно бы солнце, ревниво прячась за горизонтом, ждало только сигнала, чтобы ворваться в долину Арно и стереть без следа, истребить этот таинственный, мистический свет луны и тем явить свою способность освещать, согревать и делать все ясным и доступным разуму. Где-то вверх по реке, близ болот и озера, на крестьянских усадьбах запели петухи; сторожа у городских ворот, перекликаясь друг с другом, вынимали из скоб тяжелые засовы. Микеланджело стал спускаться с холма, прошел берегом до Старого моста, где сонные мальчишки-подручные только что начали открывать мясные лавки, и скоро был уже на площади Сан Марко, в Садах. Он прошел прямо к тому куску мрамора, лежавшему в траве близ будущей библиотеки, поднял его на руки и, задыхаясь от тяжести, потащил в самое глухое, отдаленное место. Здесь он разыскал валявшийся без присмотра комель толстого дерева и положил на его срез свой камень. Он знал, что он не вправе касаться этого мрамора, что подобное своеволие означает мятеж, бунт против власти и отвергает ту железную дисциплину, которую утверждал в Садах Бертольдо. Что ж, иного пути нет — он все равно не отступит, если даже отец и исполнит свою угрозу; если же Бертольдо прогонит его из Садов, пусть это будет после того, как он закончит «Фавна», — ведь именно ради работы с камнем его и взяли сюда в свое время. Руки его нежно оглаживали камень, выискивая в нем каждый затаенный выступ, каждую грань. За весь год он еще ни разу не прикасался к белому, пригодному к делу мрамору. «Почему, — спрашивал он себя, весь дрожа, — почему я так волнуюсь?» Белый, как молоко, мрамор был для него живым, одухотворенным существом, которое ощущает, чувствует, судит. Он не мог себе позволить, чтобы его застали врасплох и видели, как он томится и жаждет. Это был не страх, а благоговение. Где-то в глубине своего сознания он слышал: «Это любовь». Он не испугался, он не был даже удивлен. Он просто принял это как факт. Самое важное для него, чтобы любовь не осталась без ответа. Мрамор был героем его жизни, его судьбой. До этой минуты, пока его руки ласково и любовно не легли на мрамор, он влачил свои дни словно бы в смутном сне. Только к одному он стремился все эти годы: ваять из белого мрамора, быть скульптором. Ничего большего он не хотел, но он не согласился бы и на меньшее. Он принес инструмент Торриджани и начал работать — без предварительных рисунков, без восковой или глиняной модели, даже без каких-либо пометок углем на жесткой поверхности камня. Им двигал голый инстинкт, в его воображении стоял лишь один образ — прочно врезавшийся в память «Фавн» из дворца, лукавый, пресыщенный, порочный, злой и в то же время бесконечно обаятельный. Он прижал резец к камню и нанес по нему первый удар молотком. Вот где его настоящее дело. Разве не срослись, не слились воедино и он сам, и мрамор, и молоток, и резец?10
«Фавн» был закончен. Три ночи работал Микеланджело, скрываясь на задах, подальше от павильона, три дня он прятал свое изваяние под шерстяным покрывалом. Теперь он перенес его на свой верстак, в мастерскую. Теперь он хотел услышать, что скажет Бертольдо, — смотрите, вот его «Фавн», с полными, чувственными губами, с вызывающей улыбкой, зубы у него сияют белизной, а кончик языка нахально высунут. Микеланджело усердно полировал макушку «Фавна», смачивая ее водой и натирая песчаником, чтобы уничтожить следы от ударов инструмента, как вдруг в мастерскую вошли ученики, а следом за ними Лоренцо. — Ах, это «Фавн» из моего кабинета! — воскликнул Лоренцо. — Да. — Ты лишил его бороды. — Мне казалось, что без бороды будет лучше. — А разве не должен копиист копировать? — Скульптор — не копиист. — А ученик? Разве он не копиист? — Нет. Ученик должен создавать нечто новое, исходя из старого. — А откуда берется новое? — Оттуда же, откуда берется все искусство. Из души художника. Мальчику показалось, что в глазах Лоренцо что-то дрогнуло. Но прошла секунда, и взгляд их принял обычное выражение. — Твой Фавн очень стар. — Он и должен быть старым. — В этом я не сомневаюсь. Но почему ты оставил у него в целости зубы — все до единого? Микеланджело посмотрел на свою статую. — Да, рот я ему сделал совсем по-иному. У вашего Фавна он не в порядке. — Но ты, разумеется, знаешь, что у людей в таком возрасте что-нибудь всегда не в порядке? — У людей — да. Но у фавнов? — И, не в силах сдержать себя, Микеланджело мальчишески улыбнулся. — Все считают, что фавны наполовину козлы. А у козлов выпадают зубы? Лоренцо добродушно рассмеялся: — Я этого не видал. Когда Лоренцо ушел, Микеланджело принялся переделывать у Фавна рог. Наутро Лоренцо появился в Садах снова. Погода была в тот день теплая, и вместе с Лоренцо пришел в мастерскую и Бертольдо. Лоренцо направился прямо к верстаку Микеланджело. — Твой Фавн, по-моему, постарел за одни сутки лет на двадцать. — Скульптор — властитель над временем: в его силах прибавить лет своему герою или же убавить. По-видимому, Лоренцо был доволен. — Видишь, ты срезал ему верхний зуб. И еще два зуба на нижней челюсти с другой стороны. — Для симметрии. — Ты даже сделал гладкими десны в тех местах, где были зубы. Глаза у Микеланджело прыгали. — Ты проявил большую чуткость, переработав у Фавна весь рот. Другой бы выбил у него несколько зубов и на том кончил дело. — Нет, тут все вытекало одно из другого. Лоренцо молча посмотрел на Микеланджело, взгляд его глубоких карих глаз был мрачен. — Я рад убедиться, что ты не варишь суп в корзине. С этими словами Лоренцо повернулся и вышел. Микеланджело взглянул на Бертольдо: тот был бледен и даже чуть вздрагивал. Он не произнес ни слова и в ту же минуту тоже вышел из мастерской. На следующее утро в Садах появился паж из дворца — на нем были разноцветные чулки и алый кафтан. Бертольдо крикнул: — Микеланджело, тебя зовут во дворец. Сейчас же иди вместе с пажом. — Вот и достукался! — заметил Баччио. — Попадет тебе, в другой раз мрамор красть не будешь. Микеланджело посмотрел сначала на Бертольдо, потом на Граначчи. Выражение их лиц ничего ему не сказало. Он двинулся вслед за пажом; под старой стеной с зубцами они прошли в прилегающий ко дворцу сад, где Микеланджело поразили диковинно подстриженные самшитовые деревья — им была придана форма слонов, оленей, кораблей с поднятыми парусами. Он стоял как застывший перед фонтаном с бассейном из гранита, над которым возвышалась бронзовая Донателлова «Юдифь». — Пожалуйста, синьор, — торопил Микеланджело паж. — Нельзя заставлять ждать Великолепного. С огромным усилием мальчик оторвал взгляд от могучей поверженной фигуры Олоферна и от меча, занесенного над его шеей Юдифью. Паж провел Микеланджело по деревянному настилу около каретника, и скоро они уже поднимались по узенькой задней лестнице. Лоренцо сидел за своим письменным столом в библиотеке — большой, загроможденной множеством полок комнате, где хранились книги, собирать которые начал еще его дед пятьдесят лет назад. Здесь было только два скульптурных изваяния: мраморные бюсты отца и дяди Лоренцо работы Мино да Фьезоле. Микеланджело живо подбежал к бюсту Пьеро, отца Лоренцо; щеки у мальчика пылали. — Как это чудесно отполировано — внутри камня будто горит тысяча свеч! Лоренцо поднялся из-за стола и встал перед скульптурой рядом с Микеланджело. — У Мино на это был особый талант: он умел придать мрамору трепет живого теплого тела. — Волосы он обрабатывал полукруглой скарпелью. Но посмотрите, как бережно резец входил в мрамор! Микеланджело пропел пальцами по волнистым волосам изваяния. — И, однако, линии обозначены четко, — сказал Лоренцо. — Это называют «след железа»: инструмент сам собой делает круговое движение, воспроизводя рисунок волос. — Камнерезы называют это «длинный ход», — заметил мальчик. — У Мино была тонкая душа, — продолжал Лоренцо. — Техника у него отнюдь не подменяла чувство. Но этот бюст отца — первый мраморный портрет, который был изваян за всю историю Флоренции. — Первый! Ну и смельчак же этот Мино! Затем последовала секунда молчания, и вдруг лицо Микеланджело залилось пунцовой краской. Сгибаясь в пояснице, он неуклюже поклонился. — Я забыл приветствовать вас, мессере. Меня взволновала скульптура, и я тут же начал трещать, как сорока. Лоренцо приподнял руку. — Я прощаю тебя. Сколько тебе лет, Микеланджело? — Пятнадцать. — Кто твой отец? — Лодовико ди Лионардо Буонарроти Симони. — Слыхал это имя. Лоренцо открыл стол, достал из него пергаментную папку и вынул из нее, раскладывая на столе, десятка три рисунков. Микеланджело не верил своим глазам. — Да ведь эти рисунки… мои. — Именно так. — Бертольдо мне сказал, что он уничтожил их. Лоренцо слегка наклонился над столом, чтобы взглянуть в глаза мальчику. — Мы ставили на твоем пути немало препятствий, Микеланджело. Бертольдо — тяжелый по натуре человек, он постоянно придирается и редко хвалит, еще реже что-либо обещает. Мы просто хотели убедиться… крепок ли ты в кости. Нам было ясно, что ты с талантом, но мы не знали, есть ли у тебя упорство. Если бы ты покинул нас из-за того, что тебя обходили похвалой и не платили никаких денег… В чудесной комнате, пропитанной запахом пергаментных свитков, кожаных переплетов и свежеотпечатанных страниц, наступила тишина. Микеланджело блуждал взглядом по стенам и полкам, видел надписи на дюжине языков, ничего не разбирая в них. С чувством отчаяния он стиснул зубы, язык у него словно прирос к небу. Лоренцо поднялся из-за стола и стал сбоку от мальчика. — Микеланджело, у тебя есть задатки ваятеля. Мы с Бертольдо убеждены, что ты способен стать наследником Орканьи, Гиберти и Донателло. Мальчик молчал. — Я хотел бы, чтобы ты переехал к нам и жил в моем дворце. Как член семейства. Отныне тебе надо сосредоточиться только на скульптуре. — Больше всего я люблю работать с мрамором. Лоренцо усмехнулся: — Никаких благодарностей, никакой радости по поводу переезда во дворец Медичи. Только и речи, что о твоей любви к мрамору. — Разве не поэтому вы и пригласили меня? — Разумеется. Можешь ли ты привести ко мне отца? — Хоть завтра. Как я вас должен называть? — Как тебе хочется. — Только не Великолепный. — Почему же? — Какой смысл в комплименте, который можно слышать днем и ночью… — …из уст льстецов? — Я не говорю этого. — Как ты меня называешь мысленно? — Лоренцо. — Ты произносишь это с любовью. — Так я чувствую. — Не спрашивай меня в будущем, чем именно ты должен заниматься. Я склонен ожидать от тебя неожиданного.Граначчи снова вызвался замолвить за друга слово перед Лодовико. Тот никак не мог уразуметь, о чем Граначчи хлопочет. — Граначчи, ты толкаешь моего сына в пропасть. — Дворец Медичи — отнюдь не пропасть, мессер Буонарроти; говорят, это самый прекрасный дворец в Европе. — Ну, а что это значит — каменотес в прекрасном дворце? Он там будет все равно что грум. — Микеланджело не каменотес. Он скульптор. — Ничего не значит. На каких условиях поступает он во дворец? — Вы не совсем понимаете, мессере; жалованья платить ему не будут. — Не будут платить жалованья! Значит, еще год пропадает. — Великолепный пригласил Микеланджело жить у него во дворце. Микеланджело будет там на положении члена семейства. Он будет есть за одним столом с великими мира сего… — Кто ест за одним столом с великими, тому рано или поздно выбьют глаз вишневой косточкой! — Он будет набираться знаний в Платоновской академии, у самых мудрых ученых Италии, — невозмутимо продолжал Граначчи. — И он получит для работы мрамор. — Мрамор, — простонал Лодовико, как будто это слово означало проклятие. — Вы не можете отказаться и не пойти разговаривать с Великолепным. — Я, конечно, пойду, — согласился Лодовико. — Что мне остается делать? Но не нравится мне это, ох, как не нравится. Во дворце, когда отец стоял перед Лоренцо бок о бок с сыном, он показался Микеланджело смиренным, почти жалким. И Микеланджело было больно за него. — Буонарроти Симони, нам хотелось бы, чтобы Микеланджело жил с нами здесь и стал скульптором. Он будет обеспечен у нас буквально всем. Согласны ли вы отдать мальчика? — Мессере Великолепный, я не мыслю возможности отказать вам, — ответил Лодовико и низко поклонился. — Не только Микеланджело, но все мы душой и телом в вашей воле, ваше великолепие. — Хорошо. Чем вы занимаетесь? — Я никогда не занимался ни ремеслом, ни торговлей. Я жил на свои скудные доходы с небольших имений, которые мне оставили предки. — Тогда воспользуйтесь моей помощью. Подумайте, нет ли чего-нибудь такого, что я могу для вас сделать. Я буду отстаивать ваши интересы во Флоренции всеми своими силами. Лодовико посмотрел сначала на сына, потом куда-то в сторону. — Я ничего не умею, я умею лишь читать и писать. В таможне только что скончался один из компаньонов Марко Пуччи, и я был бы рад занять его место. — В таможне! Да ведь там платят всего восемь скуди в месяц. — Насколько я понимаю, такой пост мне будет вполне по силам. Лоренцо вскинул руки и замахал ими, словно стряхивал с пальцев воду. — Я ожидал, что вы запросите значительно больше. Но если вы хотите сделаться компаньоном Марко Пуччи — что ж, вы будете им. И он повернулся к Микеланджело, который стоял, закусив губы. Теплая улыбка озарила его грубоватое смуглое лицо. — Сегодня исполнилось шестьдесят лет с того дня, как мой дед Козимо пригласил в свой дом Донателло, чтобы изваять большую бронзовую статую Давида.
Часть третья «Дворец»
1
Паж провел его по парадной лестнице в коридор, а потом в покои, выходившие окнами на главный двор. Паж постучал в дверь. Ее отворил Бертольдо. — Рад тебя видеть, Микеланджело, в своем убежище. Великолепный полагает, что дни мои сочтены и поэтому мне надлежит заниматься с тобой даже в те часы, когда я сплю. Комната, в которой оказался теперь Микеланджело, имела форму буквы Г и как бы распадалась на две половины. Здесь были две деревянные кровати с белыми нарядными одеялами, поверх которых стлались красные, в ногах у каждой кровати стоял сундук. Кровать Бертольдо помещалась в длинной части буквы Г; над изголовьем ее, покрывая стены, пестрели шпалеры с изображеньями дворца Синьории. На сгибе буквы Г, с внутренней стороны, возвышался большой поставец: он был наполнен книгами Бертольдо, включая его собственные сочинения по кулинарии, переплетенные в свиную кожу, тут же хранились бронзовые подсвечники, работать над которыми он помогал Донателло, и восковые и глиняные модели большинства его скульптур. Кровать Микеланджело стояла в короткой части буквы Г: отсюда он мог видеть скульптуры на поставце, но постель Бертольдо была от него скрыта выступом стены. На стене, напротив кровати, висела доска с изображением сцены Крещения, ближе к окну, выходившему на Виа де Гори, помещались вешалка и стол, на котором поблескивали ваза и кувшин с водой. — Тут все устроено так, что мы можем не мешать друг другу, — сказал Бертольдо. — Спрячь свои вещи в сундук у кровати. Если у тебя есть что-нибудь ценное, я могу запереть в этот античный ларец. Микеланджело глянул на свой узелок с платьем и заштопанными чулками. — Все, что есть у меня ценного, — это пара рук; прятать их под замок мне бы не хотелось. — Руки у тебя такие, что прятать их было бы грех. В постель они легли в тот вечер рано. Бертольдо зажег свечи в бронзовых подсвечниках; лучи от них, словно пальцы, дрожа, тянулись через всю комнату. Микеланджело и Бертольдо не видели друг друга, но кровати их стояли так близко, что они могли спокойно разговаривать. И обоим хорошо был виден четырехугольный поставец с моделями работ Бертольдо. — Ваши скульптуры при свете свечей выглядят очень красиво. Бертольдо минуту молчал, потом тихо ответил: — Полициано говорит так: Бертольдо — не скульптор миниатюры, он просто миниатюрный скульптор. Микеланджело шумно, будто обжигаясь, втянул губами воздух. Услышав этот протестующий звук, Бертольдо продолжал мягким тоном: — В жестокой остроте поэта есть доля правды, Микеланджело. Разве не горько думать, что ты со своей подушки одним взглядом можешь обнять весь труд моей жизни? — Ну, кто же измеряет достоинства скульптуры на вес, Бертольдо! — Как ни измеряй, а мой вклад в искусство очень скромен. Талант достается недорого, дорого обходится служение искусству. Оно будет тебе стоить всей жизни. — А на что же иное нужна наша жизнь? — Увы, — вздохнул Бертольдо, — порой мне казалось, что она нужна на многое: на охоту с соколами, на удовольствие отведать новое блюдо, поволочиться за красивыми девушками. Разве ты не знаешь флорентинскую пословицу: «Жизнь дана для наслаждений». А скульптор должен создать целое полчище статуй. Он должен трудиться и обогащать искусство лет сорок, а то и шестьдесят, как Гиберти и Донателло. Ему надо сделать столько, чтобы его произведения знал весь мир. Усталость одолевала Бертольдо. Прислушиваясь к его глубокому, размеренному дыханию, Микеланджело скоро понял, что старик засыпает. Сам он, закинув руки под голову, лежал, не смыкая глаз, и думал над словами учителя. Ему все казалось, что в этих поговорках — «Жизнь дана для наслаждений» и «Жизнь есть труд» — нет никакой разницы, что в них один смысл. Вот я живу здесь, во дворце Медичи, думал Микеланджело, и наслаждаюсь созерцанием бесконечного множества шедевров искусства, изучаю их, а там, в Садах, целый угол завален прекрасным мрамором, над которым можно работать. Когда Микеланджело все-таки уснул, на губах его блуждала улыбка. Он встал с первыми лучами рассвета, оделся потихоньку и пошел бродить по залам дворца. Он гладил руками античную статую Марсия, изваяния Фаустины и Африкана, разглядывал яркую венецианскую живопись в комнате, которая оказалась прихожей; сравнивал портреты, написанные Поллайоло, с мраморными портретами Мино да Фьезоле; долго стоял в часовне, восхищаясь фресками Беноццо Гоццоли, на которых были изображены три евангельских волхва, спускавшиеся по холмам вниз от Фьезоле; потом, предварительно постучавшись в дверь, он прошел к Донателлову «Вознесению», «Святому Павлу» Мазаччо, «Сражению при Сан Романо» Учелло — он стоял и с благоговением смотрел на них, широко открыв глаза, забыв все на свете, пока у него не закружилась голова: на миг ему показалось, что он бредит, что все это видится ему во сне. Часам к одиннадцати он вернулся в свою комнату; дворцовый портной уже позаботился о его новой одежде, она лежала на кровати. В радостном волнении он накинул на себя шелковую рубашку и замер, разглядывая себя в зеркале. Удивительно, как он похорошел, одевшись в богатое платье: алый берет словно нарумянил его щеки, откинутый на плечи капюшон фиолетового плаща придал более изящные очертания даже его голове, а золотистого цвета сорочка и чулки будто излучали веселое сиянье. Микеланджело вспомнил тот день, когда он, два года назад, сидя в спальне на кровати, набрасывал карандашом свой портрет и, мучительно исправляя его, все ждал условленного свиста Граначчи. Зеркало говорило ему, что он сильно изменился к лучшему. Он не только подрос дюйма на два, почти догнав невысоких взрослых мужчин, но и прибавил в весе. Скулы уже не выпирали, как у скелета, рот и подбородок стали крупнее, и от этого было не так заметно, что уши у него отодвинуты слишком далеко к затылку. Чтобы немного прикрыть чересчур широкий лоб, он начесал на него сбоку прядь своих волнистых волос. Даже его небольшие, с тяжелыми веками глаза словно бы открылись шире, и смотрели они уверенно, как у человека, который нашел свое место в жизни. Теперь уж никто не подумает, что голова у него построена в нарушение всяких правил, без линейки и отвеса. Он боготворил красоту, встречая ее в других людях, но сам был наделен ею до обиды скупо. Уже в тринадцать лет он осознал, насколько он мал ростом и невзрачен. Горячо восхищаясь мощью и стройностью мужского тела, он с грустью смотрел на свои худые руки и ноги. Сейчас, в этом платье, он, конечно, не так уж дурен… Погруженный в свои мысли, он не заметил, как вошел Бертольдо. — О, Бертольдо… Я лишь на минутку… — Как вижу, ты не можешь налюбоваться на себя, обрядившись в эту роскошь. — Я и не думал, что могу быть таким… — А ты и не можешь. Такое платье положено носить только по праздникам. — Разве воскресный обед — не праздник? — Надевай-ка вот эту блузу и тунику. Скоро день Непорочной Девы,тогда и пофрантишь. Микеланджело вздохнул, снял с себя фиолетовый плащ, расшнуровал чудесную желтую рубашку, потом с озорством взглянул на учителя. — Я понимаю: когда запрягают лошадь в плуг, надевать на нее расшитую сбрую не годится!Они поднялись по широкой лестнице наверх, миновали антресоли и обширный зал, потом, круто повернув направо, вошли в столовую. Микеланджело был удивлен, увидя строгую комнату, лишенную картин и статуй. Края панелей, наличники окон и дверные косяки в ней были обиты листовым золотом, стены выкрашены в кремовый цвет, сдержанный и спокойный. Стол, вернее, три отдельных стола, был поставлен буквой П; перекладина этой буквы представляла собой стол самого Лоренцо; подле него было двенадцать легких золоченых стульев, а у боковых столов, с внешней и внутренней стороны, стояло по двадцать четыре стула, — таким образом, все обедавшие, общим числом шестьдесят, оказывались неподалеку от хозяина. Микеланджело и Бертольдо явились к обеду почти первыми. Задержавшись на секунду у двери, Микеланджело увидел Лоренцо, по правую руку от него Контессину, а по-левую — какого-то флорентинского купца. — А, Микеланджело! — сказал, заметив его, Лоренцо. — Проходи и садись подле нас. Места тут заранее не распределяются; кто первым придет, тот ближе и садится, — было б свободное место. Контессина тронула рукой соседний стул, приглашая Микеланджело сесть рядом с нею. Он сел, взгляд его сразу же был привлечен великолепными столовыми приборами: здесь были граненые хрустальные бокалы с золотой каемкой, серебряные блюда с флорентинскими золотыми лилиями, серебряные ножи, серебряные ложки с родовым гербом Медичи — шесть шаров, расположенных друг под другом: три, два и один. Едва Микеланджело успел учтиво поздороваться с Лоренцо, как дворцовые пажи начали отодвигать вазы и горшки с цветами, за которыми в нише, напоминавшей раковину, был скрыт оркестр: клавикорды с двойной клавиатурой, арфа, три большие виолы и лютня. — Рада тебя видеть во дворце, Микеланджело, — сказала Контессина. — Отец говорит, что ты будешь членом нашего семейства. Могу я называть тебя братом? Он чувствовал, что его поддразнивают, и досадовал: «Ну почему я родился таким неловким на язык?» Минуту размыслив, он ответил: — Наверно, лучше звать меня не братом, а кузеном? Контессина рассмеялась. — Как хорошо, что ты обедаешь здесь в первый раз в воскресенье. Ведь в другие дни женщин за этот стол не допускают. Мы обедаем в верхней лоджии. — Значит, я не увижу тебя целую неделю? — вырвалось у Микеланджело. Глаза у нее сделались такими же круглыми, как вошедшие в пословицу круги Джотто. — Разве дворец так уж велик? Микеланджело смотрел, как длинной чередой, будто в тронный зал короля, все в ярких цветных одеждах, входили приглашенные на обед. Встречая гостей, музыканты играли «Испанского Кавалера». На обед явились дочь Лоренцо Лукреция со своим мужем Якопо Сальвиати; двоюродные братья Лоренцо — Джованни и Лоренцо де Медичи, которых Великолепный воспитывал с тех пор, как они остались сиротами; настоятель Бикьеллини, остроумнейший человек, в очках, глава капитула августинцев при церкви Санто Спирито, в которой хранились личные библиотеки Петрарки и Боккаччо; Джулиано да Сангалло, создавший проект замечательной виллы в Поджо а Кайано; ехавший в Рим герцог Миланский со своими приближенными; посланник турецкого султана; два кардинала из Испании; члены высоких семейств, правящих в Болонье, Ферраре и Ареццо; ученые, привезшие древние рукописи, трактаты и произведения искусства из Парижа и Берлина; члены флорентинской Синьории; некрасивый, но обходительный Пьеро Содерини, которого Лоренцо готовил на пост главного магистрата Флоренции; эмиссар венецианского дожа; профессора из Болонского университета; богатые флорентинские купцы и их жены: заезжие коммерсанты из Афин, Пекина, Александрии, Лондона. Все они явились сюда, чтобы выразить почтение хозяину. Контессина рассказывала Микеланджело о людях, рассаживающихся за столом. Тут был Деметрис Халкондилес, глава греческой академии, основанной Лоренцо, и редактор первого печатного издания Гомера; Веспасиано да Бистиччи, крупный библиофил, доставлявший редкие манускрипты в библиотеки папы Николая Пятого, Алессандро Сфорца, графа Ворчестера и самих Медичи; английские ученые Томас Линакр и Вильям Грокин, занимавшиеся под руководством Полициано и Халкондилеса; Иоганн Рейхлин, немецкий гуманист, ученик Пико делла Мирандола; монах фра Мариано, для которого Лоренцо по проекту Джулиано да Сангалло выстроил монастырь за пределами ворот Сан Галло; дипломат, привезший весть о внезапной кончине Матиаша Венгерского, восхищавшегося «князем-философом Лоренцо». Пьеро де Медичи, старший сын Лоренцо, и его элегантно одетая жена Альфонсина Орсини немного запоздали, и им пришлось сесть на последние места за одним из длинных столов. Микеланджело заметил, что они были обижены. — Пьеро и Альфонсина не одобряют эти республиканские нравы, — сказала Контессина шепотом. — Они считают, что у нас должен быть такой порядок, при котором на главных местах сидят только Медичи, а уж ниже их пусть рассаживаются плебеи. В столовую вошел второй сын Лоренцо Великолепного, Джованни, со своим двоюродным братом Джулио. На макушке Джованни поблескивала свежевыбритая тонзура, один глаз у него постоянно дергался и мигал. Он был высок ростом, дороден, с тяжелыми чертами лица и пухлым подбородком; от матери он унаследовал светло-каштановые волосы и приятный цвет лица. В Джулио, побочном сыне погибшего брата Лоренцо, было что-то зловещее. Красивый, черноволосый, он зорко оглядывал собравшуюся компанию, не пропуская никого и стараясь понять, в каких отношениях между собой находятся гости. Он примечал всякое обстоятельство, которым мог бы воспользоваться для себя. Последней явилась Наннина де Медичи; ее вел под руку изящный, изысканно одетый мужчина. — Моя тетка Наннина, — шепнула Контессина. — А это ее муж Бернардо Ручеллаи. По словам отца, он хороший поэт, пишет пьесы. Иногда в его саду устраивает свои собрания Платоновская академия. Микеланджело во все глаза разглядывал двоюродного брата своей матери. О том, что Ручеллаи приходятся ему родственниками, Контессине он не сказал. Музыканты заиграли «Коринто» — эта музыка была написана по одной из идиллий Лоренцо. Два лакея, стоявшие у подъемников, стали принимать блюда с угощением. Слуги разносили на тяжелых серебряных подносах речную рыбу. Микеланджело был потрясен, увидев, как один из гостей, моложавый мужчина в многоцветной яркой рубашке, схватил с подноса маленькую рыбку, поднес ее к уху, потом ко рту, сделал вид, что разговаривает с нею, а затем вдруг разрыдался. Все, кто сидел за столом, не спускали с него глаз. Микеланджело обратил недоумевающий взгляд к Контессине. — Это Жако, дворцовый шут. Он здесь напоминает: «Смейся. Будь флорентинцем!» — О чем это ты плачешь, Жако? — спросил Лоренцо шута. — Несколько лет назад мой папаша утонул в Арно. Я и спрашиваю у этой маленькой рыбки, не видала ли она его где-нибудь. А рыбка говорит, что она слишком молода и не встречала моего папашу; советует мне спросить об этом рыбу постарше, может быть, она что-нибудь скажет. Лоренцо, казалось, был доволен. Он сказал: — Дайте Жако большую рыбину, пусть он ее спросит. Все рассмеялись, испытывая некое облегчение; иностранцы, сидевшие за одним столом с Лоренцо, — а эти люди впервые встречались друг с другом и, вероятно, привыкли к совсем иным правилам, — начали беседовать с теми из гостей, кто находился ближе. Микеланджело, не понимавший такого рода веселья и весьма удивленный присутствием шута за столом Лоренцо, тоже почувствовал, что его хмурая недоброжелательность утихает. — Ты что, не любишь посмеяться? — спросила не спускавшая с него глаз Контессина. — Я не привык. Дома у нас никогда не смеются. — Таких людей, как ты, мой учитель-француз называет un homme serieux. Но мой папа тоже серьезный человек; он только считает, что посмеяться очень полезно. Ты сам увидишь, когда поживешь с нами побольше. Речная рыба сменилась жарким. Микеланджело даже не ощущал вкуса пищи, взгляд его был теперь прикован к Лоренцо, который разговаривал то с одним из своих гостей, то с другим. — Неужели Великолепный ведет деловые переговоры все время, пока тянется обед? — Нет, ему просто нравятся эти люди, нравится шум, болтовня и шутки. Но в то же время в голове у него тысяча замыслов, тысяча дел, и, когда он кончает обед и выходит из-за стола, все эти дела оказываются уже решенными. Слуги у подъемников приняли молочных поросят, зажаренных на вертеле, — в пасть каждому поросенку был вставлен цветок розмарина. Появился певец-импровизатор с лирой; перебирая струны, он мастерски пел песню за песней, в которых в язвительном тоне говорилось о самых свежих новостях и событиях, о слухах и сплетнях. После десерта гости вышли прогуляться в просторный зал. Контессина взяла Микеланджело под руку. — Понимаешь ли ты, что это значит — быть другом? — спросила она. — Мне старался растолковать это Граначчи. — У Медичи все друзья, все, кто угодно, — и вместе с тем нет ни одного друга, — тихо сказала она.
2
На следующее утро Микеланджело вышел из дворца вместе с Бертольдо. Воздух был чудесен, небо нежно голубело, камни мостовых напоминали расплавленное золото, словно впитали в себя все флорентинское солнце. Вдали, на холмах Фьезоле, каждый кипарис, каждая вилла и монастырь четко рисовались на серовато-зеленом фоне сливовых рощ и виноградников. Учитель и ученик прошли в дальний угол Садов, где хранились запасные глыбы мрамора. Этот глухой угол был похож на старинное кладбище, мраморные блоки казались здесь поверженными, побелевшими от солнца надгробьями. Когда Бертольдо заговорил, в его бледно-голубых глазах проглянула робость. — Что верно, то верно: я не великий ваятель по мрамору. Но, может быть, обучая тебя, я стану великим учителем. — Ах, какой чудесный кусок мяса! — пылко воскликнул Микеланджело. Услышав это излюбленное среди рабочих каменоломен выражение, Бертольдо улыбнулся. — Фигура, которую ты хочешь высечь, зависит от выбранного блока. Ты должен прежде убедиться, подходящее ли в нем зерно; для этого надо сделать несколько ударов резцом и посмотреть осколки. А чтобы узнать, как идут в блоке жилы, плесни на него воды и вглядись, как она растечется. Крошечные темные пятна на мраморе, пусть даже на самом хорошем, — это вкрапления железа. Если ты ударишь по железной жиле, ты сразу же почувствуешь, потому что она гораздо тверже, чем вся остальная глыба; железо инструмента тут натыкается на железо, которым прошит камень. — Прямо зубы ломит, когда подумаешь об этом. — Каждый раз, когда ты врезаешься шпунтом в мрамор, ты давишь в нем кристаллы. Помятый кристалл — это мертвый кристалл. А мертвые кристаллы губят статую. Ты должен научиться рубить мрамор так, чтобы не разрушать кристаллы. — Когда я буду учиться? Сейчас? — Да нет же, потом. Еще успеешь. Бертольдо рассказывал Микеланджело и о воздушных пузырьках, которые бывают в глыбе мрамора и в результате выветривания становятся пустотами. Снаружи их не распознаешь — нужен известный навык, чтобы угадать, есть они в камне или нет. Это все равно что выбрать яблоко: знаток сразу скажет, что яблоко цельное, без пустот, если оно ровно круглится и поверхность у него гладкая, ничем не попорченная, а гнилое яблоко всегда будет с ямками, безупречной круглоты у него нет. — С мрамором надо обращаться как с человеком: прежде чем начать дело, следует постигнуть его существо, как бы влезть к нему внутрь. Если ты весь изъеден, полон таких воздушных пузырьков, я зря на тебя трачу время. Микеланджело скорчил озорную мальчишескую гримасу, но Бертольдо не обратил на это внимания, а направился в сарай и принес оттуда набор инструментов. — Вот это эакольник. Им устраняют в блоке все лишнее. А вот троянка и скарпель — ими уже высекается форма. Бертольдо тут же объяснил, что, даже освобождая блок от лишнего материала, работать надо ровными, ритмичными ударами и ссекать камень сразу со всех сторон, по окружности. Сам он никогда не работал над какой-нибудь одной деталью, а одновременно над всем изваянием, добиваясь впечатления целостности. Понятно ли это Микеланджело? — Будет понятно, как только вы оставите меня наедине с этим мрамором. Меня больше учат руки, чем уши. — Ну, тогда бросай свои восковые модели. Твой Фавн недурен, но ты высек его вслепую, благодаря одной интуиции. Чтобы достигнуть серьезных результатов, надо знать, что и как ты делаешь. Скульптурная мастерская в Садах была в то же время кузницей и столярной. Здесь, громоздясь по всем углам, хранились брусья, балки, клинья, деревянные коалы, рамы, пилы, молотки, стамески. Пол, для прочности упора, был зацементирован. Рядом с горном стояли бруски недавно привезенного шведского железа: Граначчи закупил их только вчера с тем, чтобы Микеланджело мог изготовить себе полный набор резцов. Бертольдо велел ему разжечь в горне огонь: на дрова здесь шел каштан — из каштана получался лучший уголь, дающий ровный и сильный жар. — А я знаю, как закалять инструменты для работы со светлым камнем, — сказал Микеланджело. — Меня научили Тополино. Когда огонь разгорелся, Микеланджело, чтобы усилить тягу, тронул крышку вентилятора, в котором вращалось металлическое колесико. — Достаточно, — командовал Бертольдо. — Постучи-ка этими шведскими брусками друг о друга, и ты убедишься, что они звенят, как колокол. Бруски оказались великолепными, за исключением одного, который тут же отбросили. Огонь в горне запылал вовсю, и Микеланджело начал делать свой первый набор инструментов. Он хорошо помнил: «Тот, кто не сам готовит себе инструмент, тот не сам высекает и статую». Время летело незаметно. Ни Бертольдо, ни Микеланджело не прерывали работу даже на обед. Только когда наступили сумерки, Бертольдо почувствовал, что он очень утомлен; лицо его сделалось пепельно-серым. Он пошатнулся, чуть было не упал, но Микеланджело подхватил его на руки и отнес в павильон. Бертольдо показался ему удивительно легким, легче брусочка шведского железа, который они ковали. Дотащив учителя до павильона, Микеланджело бережно усадил его в кресло. — Ну зачем я позволил вам столько работать? — упрекал он себя. На худых щеках Бертольдо появился слабый румянец. — Мало уметь обращаться с мрамором; надо, чтобы в твою кровь и плоть вошло и железо. Утром Микеланджело поднялся затемно и, стараясь не разбудить Бертольдо, потихоньку вышел на улицу: ему хотелось прийти в Сады на рассвете. Он знал, что только первые утренние лучи солнца заставляют мрамор рассказать о себе всю правду. Пронизывая мрамор, они делают его почти прозрачным: безжалостно раскрываются и проступают все его жилы, все полости, все пороки. Чего не выявит в камне испытующее раннее солнце, того не разгадать уже ни днем, ни вечером. Он переходил от глыбы к глыбе, постукивал по ним молотком. Хорошие, без пороков, блоки звенели, как колокол, блоки с изъяном издавали глухой звук. У одного камня, давно валявшегося под открытым небом, поверхность была шероховатая, грубая. С помощью резца и молотка Микеланджело стесал эту тусклую пелену, под которой сиял чистотой молочно-белый мрамор. Желая проследить, куда ведет в нем одна жила, Микеланджело покрепче зажал в руке молоток и ловко отколол углы камня. Теперь ему камень очень нравился: взяв уголь, он нарисовал на нем голову — бородатого старца. Затем подтащил скамью, сел на нее, сжимая камень коленями, и вновь взялся за молоток и шпунт. Всем своим телом он прилаживался к ритму ударов. С каждым осколком, отлетающим от блока, движения Микеланджело обретали все большую свободу. Камень отдавался ему, шел навстречу; Микеланджело и инструмент были теперь как бы единым целым. Руки его делались все проворнее и сильнее. Железо резца, которое он стискивал ладонями, будто облекало их в прочный панцирь. Он ощущал себя несокрушимо крепким. «Торриджани любит чувствовать в своих руках оружье, — думал он, — Сансовино — плуг, Рустичи — шерстистую шкуру собаки, Баччио — женское тело, а я испытываю наивысшее счастье, когда между моих колен зажата глыба мрамора, а в руках у меня — молоток и резец». Белый мрамор — это душа мироздания, чистейшая сущность, сотворенная господом; это не просто символ бога, а отблеск его лика, средство, которым господь являет себя. Только господня рука способна создать эту благородную красоту. Микеланджело ощутил себя частью той белоснежной чистой плоти, которая сияла перед ним, он безраздельно сливался с нею. Он вспомнил, как Бертольдо цитировал слова Донателло: «Скульптура — это искусство убрать с обрабатываемого материала все лишнее, сводя его к той форме, которую замыслил художник». Но разве не столь же верно и то, что скульптор не может навязать свой замысел мрамору, если этот замысел ему не под стать? Микеланджело чувствовал, что даже при самых честных намерениях скульптор не добьется решительно ничего, если пойдет наперекор природе камня. Никогда скульптор не будет таким властителем своей судьбы, каким «является» живописец. Живопись — искусство гибкое, там всегда можно уклониться от препятствия, обойти его. Мрамор — эта сама прочность. Скульптор, имеющий дело с мрамором, обязан подчиниться непререкаемой дисциплине сотрудничества. Камень и человек здесь сливаются воедино. Они должны разговаривать друг с другом. Что касается Микеланджело, то для него нет ничего выше, как чувствовать мрамор, осязать его. Вкус, зрение, слух, обоняние — ничто не может доставить ему такую радость, как именно это всепоглощающее чувство. Он уже срезал всю внешнюю оболочку блока. Теперь он врубался в сердцевину камня, открыл наготу его, как выражается Библия. Это был акт творения, и он требовал напора, проницательности, требовал того пыла и трепета, который, нарастая, завершается неотвратимым бешеным взлетом, полным обладанием. Это был акт любви, безраздельное слияние: обручение брезживших в его сознании образов с природными формами мрамора; творец как бы изливал семя, из которого вырастало живое произведение искусства. Бертольдо вошел в мастерскую и, увидя Микеланджело за работой, воскликнул: — Нет, нет, ты делаешь все не так. Оставь это, брось сейчас же… Так работают одни любители. Сквозь стук молотка Микеланджело еле слышал голос Бертольдо и не сразу сообразил, кто и зачем его тревожит: он по-прежнему методично и мерно действовал своей троянкой. — Микеланджело! Ты пренебрегаешь всеми правилами. Микеланджело, словно оглохнув, не обращал на учителя внимания, когда Бертольдо в последний раз взглянул на своего ученика, тот прокладывал борозду в камне с такой отвагой, будто перед ним был не мрамор, а фруктовое желе. Учитель удивленно покачал головой: — Это как извержение Везувия — его не остановишь.3
Вечером он вымылся в ушате горячей воды, которая была приготовлена для него в маленькой комнате в конце коридора, надел темно-синюю рубашку и рейтузы и вместе с Бертольдо пошел на ужин в кабинет Лоренцо. Он волновался. О чем он там будет говорить? Ведь Платоновская академия слыла интеллектуальным центром Европы, университетом и печатней, источником всей литературы, исследовательницей мира — она поставила своей целью превратить Флоренцию во вторые Афины. Если бы он только слушал своего учителя Урбино, когда тот читал ему древнегреческие манускрипты! В камине потрескивал огонь, бронзовые лампы на письменном столе Лоренцо струили теплый свет, во всем чувствовалась приятная атмосфера содружества. К невысокому столу было придвинуто семь стульев. Полки с книгами, греческие рельефы, ларцы с камеями и амулетами придавали комнате уют и интимность. Ученые встретили его просто, без всяких церемоний и снова заговорили о сравнительных достоинствах медицины и астрологии как науки, тем самым дав Микеланджело возможность хорошенько вглядеться во всех четырех собеседников, считавшихся выдающимися умами Италии. Марсилио Фичино, которому было теперь пятьдесят семь лет, основал Платоновскую академию для Козимо, деда Лоренцо. Это был тщедушный, невысокий человек, страдающий ипохондрией; несмотря на недуги, он перевел всего Платона и стал живым справочником по древней философии; изучив и многое переведя из мудрости египтян, он проштудировал затем всех древних мыслителей от Аристотеля и александрийцев до последователей Конфуция и Зороастры. Отец готовил его к врачебному поприщу, поэтому Фичино был хорошо осведомлен в естественных науках. Он способствовал появлению книгопечатания во Флоренции. Его собственные труды славились по всей Европе, ученые многих стран ехали к нему послушать лекции. В своей прекрасной вилле в Кареджи, которую для него по приказу Козимо построил Микелоццо и которой распоряжались теперь его племянницы, он зажег негасимую лампаду перед бюстом Платона. Он пытался канонизировать Платона как «самого лучшего из учеников Христа» — это было одновременно и ересью, и извращением истории, за что Рим едва не отлучил его от церкви. Племянницы Фичино ядовито говорили про него: «Он может прочитать наизусть целый диалог из Платона, но вечно забывает, где оставил свои домашние туфли». Затем Микеланджело обратил свое внимание на Кристофоро Ландино. Ландино исполнилось шестьдесят шесть лет, когда-то он был еще наставником отца Лоренцо. Пьеро Подагрика. Впоследствии учитель самого Лоренцо, блестящий писатель и лектор, он способствовал освобождению умов флорентинцев от оков догмы и ратовал за применение научных знаний в жизни. Когда-то он играл роль доверенного секретаря Синьории, был опытным политиком и главой кружка ближайших сторонников Медичи при всех трех правителях. Выдающийся знаток творчества Данте, он снабдил своим комментарием первое издание «Божественной комедии», напечатанное во Флоренции. Всю жизнь он занимался преимущественно изучением разговорного итальянского языка. Почти единоличными своими стараниями он превратил его из презираемого наречия в уважаемый, полноправный язык, переведя на него сочинения Плиния, Горация, Вергилия. Во Флоренции был широко известен выдвинутый им революционный девиз: «Самым законным основанием для действия является высокая идея и знание». В лице Лоренцо он видел героя Платоновой республики: «Идеальный правитель города — это ученый». На краешке жесткого кожаного кресла сидел, нахохлившись, Анджело Полициано. Ему было всего тридцать шесть лет: недруги Лоренцо говорили, что правитель держит его при себе с той целью, чтобы казаться рядом с ним непригляднее. Однако все считали Полициано самым удивительным из ученых: десяти лет он опубликовал свои сочинения на латинском языке, а двенадцати был приглашен во флорентинскую общину ученых, где с ним занимались Фичино, Ландино и те греческие ученые, которых призвали Медичи во Флоренцию. В шестнадцать лет он перевел несколько песен Гомеровой «Илиады»; Лоренцо взял его во дворец и назначил учителем своих сыновей. Один из самых безобразных по внешности мужчин, он владел таким прозрачным и ясным стилем, какого не было ни у одного поэта со времен Петрарки; его «Стансы для турнира» — пространная поэма, прославлявшая турнирные успехи младшего брата Лоренцо Джулиано Медичи, павшего жертвой заговора Пацци, — стали образцовым произведением итальянской поэзии. Взгляд Микеланджело остановился теперь на самом молодом и самом красивом из присутствующих — на двадцатисемилетнем Пико делла Мирандола. Этот человек читал и писал на двадцати двух языках. Собратья-ученые поддразнивали его, говоря: «Пико не выучил двадцать третий язык только потому, что не мог отыскать такого». Пико делла Мирандола прозвали «великим мужем Италии»; добродушную и искреннюю натуру ученого не извратила даже его редкая красота — мягкие золотистые волосы, глубокие синие глаза, безупречно белая кожа, стройная фигура. «Прекрасный и милый» — так отзывались о нем флорентинцы. Пико делла Мирандола считал, что все человеческое знание представляет собой нечто целостное и единое; он стремился примирить и слить все религии и все философские системы, какие только существовали с начала времен. Подобно Фичино, он хотел овладеть всеми знаниями, доступными человеку. С этой целью китайских мыслителей он читал по-китайски, арабских — по-арабски, еврейских — по-еврейски: различные языки, по его мнению, были только закономерными ответвлениями единого универсального языка. Самый одаренный из всех итальянцев, он, однако, не нажил себе врагов, так же как безобразный Полициано не мог приобрести себе друзей. Дверь вдруг отворилась. Прихрамывая от подагрических болей, в комнату вошел Лоренцо. Он кивнул ученым и сразу обратился к Микеланджело. — Вот ты и в святая святых: почти все знания, какие только есть у флорентинцев, зародились в этом кабинете. Когда ты находишься во дворце и ничем не занят, не забывай заходить к нам. Лоренцо отодвинул резной щит и постучал в дверцу подъемника, из чего Микеланджело заключил, что кабинет находится прямо под столовой. Затем он услышал скрип движущегося механизма, и через несколько секунд ученые уже принимали блюда с сыром, фруктами, хлебом, орехами, медом и расставляли их на низком столе, который стоял посередине комнаты. Никаких слуг не было, не было и напитков, кроме молока. Хотя беседа текла весело и непринужденно, Микеланджело понял, что люди здесь собирались для работы, а вино после ужина чересчур пьянит головы. Вот уже стол очищен, тарелки и блюда, кожура от фруктов и скорлупа от орехов удалены в подъемник. Разговор сразу принял серьезный характер. Сидя на низком стуле рядом с Бертольдо, Микеланджело услышал резкие слова в адрес церкви, которую ученые отнюдь не смешивали с религией. Недовольство церковью во Флоренции было особенно сильным, потому что сам Лоренцо и большинство горожан считали, что заговором Пацци, в результате которого погиб Джулиано и едва не был заколот Лоренцо, тайно руководил папа Сикст. Папа отлучил от церкви Флоренцию, запретив флорентинскому духовенству отправлять какие-либо службы. Флоренция в свою очередь тоже отлучила папу, заявив, что папские притязания на светскую власть основаны на такой фальшивке восьмого века, как Дар Константина. Пытаясь сокрушить власть Лоренцо, папа направил в Тоскану войска — они жгли и грабили тосканские селенья, дойдя до соседнего с Флоренцией города Поджибонси… В 1484 году, когда папой стал Иннокентий Восьмой, между Флоренцией и Римом был восстановлен мир; но, как мог заключить Микеланджело из беседы за столом, большинство тосканского духовенства вело себя все разнузданней и исполняло свои обязанности весьма небрежно. Блестящим исключением являлся лишь орден августинцев с его монастырем Санто-Спирито: настоятель монастыря Бикьеллини поддерживал там безукоризненный порядок. Пико делла Мирандола поставил локти на стол и, сцепив пальцы, уперся в них подбородком. — Мне сдается, что я нашел ответ на все наши недоумения относительно церкви: его подсказал мне один доминиканский монах из Феррары. Я слушал его проповедь. Он прямо-таки потрясал стопы Собора. Ландино, длинные седые волосы которого прядями падали на лоб, склонился над столом так низко, что Микеланджело разглядел все морщинки вокруг его добрых глаз. — Этот монах такой же невежда, как и остальные? — Напротив, Ландино, — отвечал Пико. — Он великолепно знает и Библию, и Святого Августина. И нападает на разложение духовенства еще решительнее, чем мы. Анджело Полициано, жесткие волосы которого, прикрывая грубую кожу щек, тесемками нависали на уши, облизал свою чрезмерно красную, оттопыренную нижнюю губу. — Дело не только в разложении. Невежество — вот что меня ужасает прежде всего. Фичино, бледнолицый, с веселыми всепонимающими глазами, с крошечным ртом и носом, громко воскликнул: — Давно уже не бывало на церковной кафедре во Флоренции истинного ученого! У нас есть только фра Мариано и настоятель Бикьеллини. — Джироламо Савонарола посвятил наукам долгие годы, — твердо сказал Пико. — Он знает Платона и Аристотеля, знает и учение церкви. — Чего же он хочет? — Очистить церковь. — И не меньше того? А посредством какой силы? — Только посредством той, которая внутри него. — Если бы этот монах стал действовать заодно с нами… — тихо молвил Лоренцо. — Если только ваша светлость попросит ломбардских братьев отпустить его к нам. — Я подумаю об этом. Дело было решено; теперь старейший из присутствующих, Ландино, и самый молодой, Пико, обратили свое внимание на Микеланджело. Ландино спросил, читал ли он, что говорит Плиний о прославленной греческой статуе «Лаокоон». — Я ничего не знаю о Плинии. — Тогда я прочитаю тебе это место. Ландино взял с полки книгу, быстро ее перелистал и начал читать описание знаменитой статуи во дворце императора Тита. «Эту скульптуру можно считать лучшей из всех произведений искусства, идет ли речь о живописи или ваянии. Вся она высечена из одного куска, — и главная, большая фигура, и фигуры детей, так же как и змей с его удивительными кольцами и изгибами». Подхватив разговор, Полициано начал пересказывать описание «Венеры Книдской», оставленное Лукианом: по мнению этого писателя, Венера была изображена стоящей перед Парисом, в то время как он награждал ее за ее красоту. Затем в беседу вступил Пико: он заговорил об изваянии на могиле Ксенофонта, выполненном из пентеликопского мрамора. — Микеланджело, ты должен почитать Павсания в оригинале, — сказал Пико. — Я тебе принесу собственную рукопись. — Я не умею читать по-гречески, — с чувством неловкости ответил Микеланджело. — Я научу тебя. — У меня нет ни малейших способностей к языкам. — А это не имеет значения, — вмешался Полициано. — Через год ты будешь писать сонеты по-латыни и по-гречески. «Позвольте мне усомниться», — подумал Микеланджело, но вслух ничего не сказал. Ведь было бы слишком неучтиво, если бы он стал охлаждать пыл своих новых друзей, которые уже спорили, по каким именно книгам лучше его обучать. — …Гомер. У него чистейший греческий. — Аристофан занимательней. И учишься, и смеешься. Скоро Микеланджело почувствовал облегчение: ученые заговорили совсем о другом и оставили его в покое. Насколько он мог уловить из торопливых и порой чересчур мудреных фраз, ученые толковали о том, что вера и знание могут существовать рядом друг с другом и даже обогащать друг друга. Греция и Рим до появления христианства создали великолепное искусство, литературу, науку, философию. Затем на целую тысячу лет вся эта красота и мудрость была сокрушена, предана проклятию и ниспровергнута в могильный мрак. А теперь эти одинокие и слабые люди — чувственный, красногубый Полициано, престарелый, весь в морщинах, Ландино, худой, маленький Фичино, златоволосый Пико делла Мирандола, — этот узкий, замкнутый кружок, опираясь на помощь своего вождя Лоренцо де Медичи, стремился вызвать к жизни и утвердить новый дух, новый разум и начертал на своем знамени слово, которое Микеланджело никогда не слыхал: ГУМАНИЗМ. Что же это слово значило? Шел час за часом, и он уже с интересом вслушивался в разговор ученых. И когда Бертольдо подал знак, что он собирается уходить, а потом потихоньку вышел, Микеланджело все сидел и слушал. Платоники, делясь мыслями друг с другом, рассуждали все горячее, и постепенно Микеланджело стал осознавать, за что они выступают. Мы отдаем мир снова во владенье человека, а человека отдаем самому себе. Человек не будет больше ни низким, ни подлым, он должен быть благородным. Мы не будем попирать и теснить его разум, чтобы взамен дать ему бессмертную душу. Не владея свободным, могучим и созидательным разумом, человек будет не более как животным и будет умирать, как животное, лишенное души. Мы возвращаем человеку его искусство, его литературу и науку, возвращаем его право мыслить и ощущать себя как личность, а не быть опутанным оковами догмы, подобно рабу, который заживо гниет в цепях. Поздно вечером, когда Микеланджело вернулся в свою комнату, Бертольдо еще не спал. — Слушая их, я чувствую себя таким глупым! — жаловался Микеланджело. — Это самые блестящие умы во всей Европе. Они заставят тебя думать, подскажут тебе великие темы для работы. — Затем, чтобы утешить приунывшего юношу, Бертольдо добавил: — Но они не умеют ваять из мрамора, а ведь это столь же выразительный язык, как и любой другой. Наутро Микеланджело явился в Сады спозаранок. Торриджани разыскал его в сарае, около статуи бородатого старца. — Ну, я сгораю от любопытства! — говорил он. — Сделай милость, расскажи, как живут во дворце. Микеланджело рассказал своему другу про комнату, которую он занимал вместе с Бертольдо, про то, как он блуждал по залам и мог прикоснуться руками ко многим сокровищам искусства, о гостях, присутствовавших на воскресном обеде, о вчерашнем ужине с платониками в кабинете Лоренцо. Торриджани интересовался только людьми, посещавшими дворец. — А как выглядят Полициано и Пико делла Мирандола? — Как выглядят? Полициано безобразен до тех пор, пока не заговорит, в разговоре он прекрасен. Пико делла Мирандола такой красавец, что я не видал подобных, и вообще человек блестящий. — Ты очень впечатлителен, — ядовито заметил Торриджани. — Стоит тебе завидеть новую пару голубых глаз, волнистые золотые волосы, и ты уже совсем очумел. — По ты только подумай, Торриджани, — человек читает и пишет на двадцати двух языках! А мы едва можем выразить свои мысли на одном. — Ко мне это не относится, — огрызнулся Торриджани, — я получил благородное воспитание и могу поспорить с любым из этих ученых. Я не виноват, если ты такой невежда. Микеланджело почувствовал, сколь раздражителен стал его друг. — Я не хотел тебя обидеть, Торриджани. — Переночевал одну ночь во дворце Медичи, и уже вся Флоренция тебе кажется невежественной и дикой. — Я просто… — …ты просто хвастаешь своими новыми друзьями, — сказал Торриджани. — Они такие чудесные и умные, а мы, твои старые друзья, мы уже замухрышки, хотя столько времени страдали здесь вместе с тобой. — У меня и в мыслях этого не было. Зачем ты так говоришь? Но Торриджани его не слушал, он отвернулся и пошел прочь. Вздохнув, Микеланджело вновь принялся обтачивать свой мрамор.4
В вербное воскресенье, теплым весенним утром, Микеланджело обнаружил у себя на умывальнике три золотых флорина: Бертольдо сказал, что эти деньги каждую неделю будет выдавать ему секретарь Лоренцо мессер Пьеро да Биббиена. Показаться дома во всем блеске — устоять против такого искушения Микеланджело не мог. Он разложил на кровати еще одно свое праздничное платье — белую тунику с вышитыми на ней листьями и гроздьями винограда, короткий колет с пышными рукавами, перехваченными серебряными пряжками, винного цвета чулки. Он улыбался про себя, воображая, какую мину скорчит Граначчи, когда они встретятся на площади Сан Марко, откуда, как было решено, вместе пойдут домой. Едва завидев Микеланджело на улице, Рустичи выпучил глаза, а подойдя поближе, начал паясничать и передразнивать приятеля. — Простак, настоящий простак, — усмехнулся он, намекая на давний разговор, и прибавил еще более язвительно: — А ну-ка распусти свой хвост пошире! — Хвост? — Ведь всякий павлин хвастает своим пестрым хвостом. — О, Рустичи, — оправдывался Микеланджело. — Ну, разве нельзя так нарядиться хотя бы раз? — Разве нельзя нацепить на себя это ожерелье хотя бы раз? Разве нельзя выпить этого дорогого вина хотя бы раз? Помыкать и распоряжаться этими слугами хотя бы раз? Швырнуть, не считая, эти золотые монеты, хотя бы раз? Поспать с этой красивой девушкой хотя бы раз? — Все земные искушения в одном страстном куплете. Сказать по правде, Рустичи, я и сам чувствую, будто я вырядился для карнавала. Но мне хочется поразить свое семейство. — Vai via, — проворчал Рустичи. — Иди своей дорогой. На улице показался Торриджани. Он шел покачиваясь, одетый в огненно-красный плащ, на его черном бархатном берете развевались оранжевые перья. Подойдя к Микеланджело, он резко остановился и схватил его за руку. — Мне надо поговорить с тобой с глазу на глаз. — Почему же с глазу на глаз? — отступая, спросил Микеланджело. — Разве у нас есть какие-то секреты? — Раньше у нас всегда было чем поделиться с глазу на глаз. До тех пор, пока ты не перебрался во дворец и не заважничал. Сомневаться не приходилось: Торриджани был чем-то разозлен. Стараясь его успокоить, Микеланджело говорил тихо и миролюбиво: — Торриджани, ты ведь тоже живешь во дворце, только в своем собственном. — Да, но я не пускаюсь на дешевые трюки вроде того, чтобы выбить у фавна зубы и тем войти в милость к Медичи. — Неужели ты ревнуешь? — Ревную? Это к какому-то самодовольному юнцу? — Самодовольному? Что ты хочешь сказать этим? — А то, что ты понятия не имеешь ни о настоящем счастье, ни о настоящей дружбе. — Я сейчас чувствую себя гораздо счастливее, чем раньше. — Уж не потому ли, что каждый день держишь в своих грязных руках уголь и мажешь им какие-то рисунки? — Но ведь рисунки-то у меня — хорошие! — возразил Микеланджело, все еще не принимая всерьез нападок Торриджани. Торриджани побагровел: — Значит, по-твоему, у меня плохие? — Почему ты всякий разговор сворачиваешь на себя? Ты что, центр вселенной? — Для самого себя — центр. И для тебя был центр, до тех пор пока тебе, лизоблюду, не вскружили голову. Микеланджело изумленно взглянул на Торриджани. — Я никогда не считал, что ты для меня центр вселенной. — Выходит, ты обманывал меня. Ты просто подлаживался из выгоды, ты хитрил со мною уже давным-давно! Лицо у Микеланджело сделалось холодным, словно бы весеннее солнце вдруг потухло. Он отвернулся и почти бегом побежал прочь; скоро он уже был на улице Кольчужников. Столяр и бакалейщик, сидевшие у своих домов на солнышке, почтительно сняли перед ним шляпы; только у них и вызвал восторг Микеланджело, ибо на домашних праздничное его платье подействовало не более благоприятно, чем на Рустичи. Лодовико был уязвлен, будто в этом пышном наряде сына он чувствовал некий упрек себе. Микеланджело вынул из кошелька три золотых флорина и положил их на стол перед отцом. Лодовико смотрел на деньги, не произнося ни слова, но Лукреция горячо расцеловала своего пасынка в обе щеки, глаза у нее сияли от счастья. — А теперь скажи мне, Микеланджело, какой там готовят соус к макаронам? Микеланджело напряг свою память, желая потрафить Лукреции. — Я не припомню. — Тогда скажи, что они там делают с мясом? Любят ли дворцовые повара желтый имбирь? И как там жарят морской язык — с кожурой от бананов или с кедровыми орешками — об этой рыбе идет такая слава! — Прости меня, madre mia, но я не знаю. — Ты не можешь припомнить, какую еду ты ешь? Тогда войди в дружбу с поварами. И спиши у них для меня рецепты! В комнате Лодовико, представлявшей собой контору и гостиную вместе, сейчас собралась вся семья. Бабушка была счастлива за Микеланджело, потому что он встречается с великими людьми Флоренции. Братец Джовансимоне любопытствовал по поводу званых обедов. На тетку и дядю особенно подействовал тот факт, что, получив золотые монеты, Микеланджело принес их домой. Буонаррото все хотел дознаться, на каких условиях поставлено там дело: будет ли Микеланджело получать три золотые монеты каждую неделю и в дальнейшем? Вычитается ли из его жалованья стоимость затраченного на работе мрамора? Отец шикнул на всех, требуя тишины. — Ну, а как с тобой обращаются Медичи? К примеру, Великолепный? — Хорошо. — Пьеро? — Он надменен; таков у него характер. — Джованни, будущий кардинал? — Он со всеми одинаков. На любого человека смотрит так, будто впервые его видит. — Джулиано? Микеланджело улыбнулся: — О, Джулиано любят во дворне все без исключения. Лодовико подумал минуту, затем объявил: — В будущем с тобой все будут обходиться не лучше, чем обходится Пьеро. Тебя держат во дворце как простого мастерового. — Он покосился на три золотые монеты, поблескивавшие на столе. — Скажи, что это за деньги? Подарок? Или плата за работу? — Мне положено три флорина каждую неделю. — А что они сказали, когда ты получал эти деньги? — Деньги лежали на умывальнике. Когда я спросил Бертольдо, он сказал, что это мое недельное содержание. Дядя Франческо не мог скрыть своего восторга. — Чудесно! Если у нас постоянно будут в руках эти деньги, мы можем держать меняльный столик. Мы примем тебя в компанию, Микеланджело, ты получишь свою долю доходов. — А может, благодаря нашему Микеланджело мы опять выйдем в настоящие коммерсанты! — почтительно вставила тетя Кассандра. — Нет! — отрезал Лодовико, лицо его густо покраснело. — Мы не жалкие попрошайки, но бедняки. — Но Медичи дают эти деньги Микеланджело как члену их семейства, — возразила мужу Лукреция. — Хм! — фыркнул Лодовико. — Почему это он член семейства Медичи? Из-за этих-то трех золотых монет? — Так вы полагаете, что это милостыня! — возмущенно сказал Микеланджело. — Знайте же: я тружусь с утра до вечера. — Но ведь с точки зрения закона ты там даже не ученик. Разве я подписывал цеховой договор? — Лодовико повернулся к брату Франческо. — Подарок — это только прихоть, не больше. А вдруг на следующей неделе парню вместо денег покажут кукиш? Микеланджело на миг показалось, что сейчас отец швырнет ему деньги прямо в лицо. А ведь он принес отцу эти флорины, этот свой заработок, как послушный сын, который осознает свой долг… ну, и, быть может, ему хотелось чуть-чуть похвастаться. Однако три флорина — это сумма, далеко превышающая все то, что мог бы заработать Лодовико на своей таможне за целый месяц. Микеланджело понял теперь, как неделикатно он поступил, принеся эти деньги. Опустив голову на грудь, Лодовико произнес: — Только подумать, какая прорва золота у Медичи, если они могут давать пятнадцатилетнему ученику каждую неделютри флорина! Затем, сделав быстрое движение рукой, он смахнул со стола деньги в выдвинутый ящик. Уловив этот момент, Лукреция тотчас объявила, что пора обедать. После обеда семейство снова собралось в комнате Лодовико. До сих пор молчавший Лионардо сел напротив Микеланджело и непререкаемым, как у римского папы, тоном сказал: — Искусство есть грех. — Искусство… грех? — удивленно поглядел на брата Микеланджело. — Но почему же? — Потому, что это чистейшее баловство, удовлетворение греховной страсти творить что-то собственное, в то время как следует лишь созерцать те чудеса, которые создал Господь Бог. — Лионардо, да ведь наши церкви сплошь заполнены искусством. — Это дьявол нас попутал. Храм — не ярмарка; люди должны стоять на коленях и молиться, а не глядеть на размалеванные суетными картинами стены. — По-твоему, во всем мире уже нет места для скульптора? Лионардо, заломив руки, набожно поглядел куда-то сквозь потолок. — Мой мир — иной мир, тот, где мы воссядем по правую руку от господа. Лодовико поднялся со своего кресла и мрачно буркнул: — Ну, я вижу, на меня свалились сразу два фанатика. И он вышел из комнаты, чтобы вздремнуть после обеда; вслед за ним удалилось и все семейство. Осталась одна только монна Алессандра, тихо сидевшая в углу. Микеланджело тоже хотел было идти: он чувствовал себя очень усталым. Весь этот день, с самого утра, был сплошным разочарованием. Но Лионардо не хотел отпускать своего грешника-брата. Он начал гневно изобличать Лоренцо и Платоновскую академию в безбожии, называя ее ученых язычниками, врагами церкви, антихристами. — Уверяю тебя, Лионардо, — миролюбиво отвечал ему Микеланджело, — что я не слыхал во дворце Лоренцо никаких кощунственных слов, никакого богохульства; религию там не трогают. Там осуждают только извращения. Лоренцо реформатор, он желает лишь очищения церкви. — Очищения! Так всегда говорят неверные, когда хотят погубить церковь. Любое нападение на нее есть нападение на христианство. Придя в ярость, Лионардо уже обвинял Лоренцо де Медичи в грязном разврате: правитель, говорил он, выезжает по ночам из дворца со своими дружками и предается беспутству, бражничает и соблазняет молодых женщин. — Ничего подобного я не слыхал, — спокойно ответил Микеланджело. — Но он вдовец. Неужто любовь для него запретна? — Он волочился за каждой юбкой еще при жизни жены. Это всем известно. От похоти он и обессилел и расстроил здоровье. Микеланджело удивлялся, как мог его брат возводить такие обвинения на Лоренцо. Он не считал Лоренцо святым; он помнил, как тот со страхом сказал однажды Ландино: «Я грешу не потому, что порочен, а скорей потому, что какой-то частью своей натуры люблю удовольствия»; он помнил и другую фразу Великолепного, брошенную им Фичино: «Я не могу сожалеть, что люблю чувственные удовольствия: ведь любовь к живописи, скульптуре, литературе по природе своей тоже чувственная любовь». Но все это казалось Микеланджело чисто личным делом полнокровного, крепкого человека. — Только такие лизоблюды, как ты, не хотят замечать, что Лоренцо — настоящий тиран, — продолжал Лионардо. «Вот уже второй раз за день меня назвали лизоблюдом», — подумал Микеланджело. И ему вдруг стало очень горько, его праздничное платье показалось ему теперь жалким и нелепым. — Он уничтожил свободу Флоренции! — визжал Лионардо. — Он смягчил тяготы жизни, сделал народу все доступным! Он дал ему хлеба и зрелищ… Он не надел на себя корону и не стал королем только потому, что чересчур бесчестен; ему нравится управлять всеми делами в городе исподтишка. Тосканцы теперь низведены на положение простых кукол… Микеланджело не успел еще ответить брату, как послышался голос монны Алессандры: — Да, Лионардо, это правда: он смягчил нас. Он отвратил нас от гражданской воины! Годами мы избивали друг друга, род воевал с родом, сосед сражался против соседа, и кровь потоком текла по улицам. А теперь мы единый народ. Только Медичи способны удержать нас от того, чтобы мы не схватили друг друга за горло. Лионардо молчал, не отвечая бабушке. — Микеланджело, я хочу тебе сказать на прощанье еще одно слово. Микеланджело пристально посмотрел через стол в лицо брата. Никогда он не мог подолгу беседовать с этим странным парнем, никогда не чувствовал удовольствия от общения с ним. — Я прощаюсь с тобой. Сегодня вечером я ухожу из дому к Джироламо Савонарола в монастырь Сан Марко. — Значит, Савонарола уже приехал? Это Лоренцо его вызвал. При мне в его кабинете Пико делла Мирандола предложил вызвать Савонаролу, и Лоренцо согласился написать в Ломбардию. — Ложь! Выдумки Медичи! Зачем бы Лоренцо вызывать его, если Савонарола намерен низвергнуть Медичи? Я покидаю этот дом точно так, как фра Савонарола покинул свое семейство в Ферраре: в одной холщовой рубашке. Я ухожу навсегда. Я буду молиться за тебя, стоя в моей келье на коленях до тех пор, пока на них будет держаться кожа и пока из них будет сочиться кровь. Может быть, этой кровью я искуплю твои грехи. Глядя в горящие глаза Лионардо, Микеланджело понял, что отвечать ему нет никакого смысла. С насмешливым отчаянием он покачал головой и подумал: «Отец прав. И как это благоразумное, здравомыслящее семейство менял Буонарроти, в котором целых двести лет вырастали только смиренные, покорные обычаям люди, — как такое семейство могло породить двух фанатиков сразу?» Обращаясь к Лионардо, он пробормотал: — Мы будем неподалеку друг от друга. От меня до тебя через площадь Сан Марко рукой подать. Если ты выглянешь из окна своей монастырской кельи, то наверняка услышишь, как я в Садах обтесываю камень.5
В конце следующей недели, когда Микеланджело вновь обнаружил на умывальнике три золотые монеты, он не понес их домой. Он стал искать Контессину и нашел ее в библиотеке. — Мне надо купить какой-нибудь подарок. — Для дамы? — Для женщины. — Может быть, драгоценный камень? — Нет, не годится. — И добавил угрюмо: — Это мать моих друзей, каменотесов. — Ну, а что ты скажешь насчет льняной скатерти, вышитой ажурной гладью? — Скатерть у них есть. — А много у этой женщины платьев? — Одно, в котором она венчалась. — Тогда, может быть, купим ей черное платье, — ходить в церковь? — Прекрасно. — Какого она роста? Микеланджело был поставлен в тупик. — Ну, нарисуй мне ее портрет. Он улыбнулся: — Пером я нарисую что угодно, даже покажу, какого роста женщина. — Я попрошу свою няню отвести меня в лавку, и мы купим кусок черной шерстяной материи. А моя портниха сошьет потом платье по твоему рисунку. — Ты очень любезна, Контессина. Она досадливо отмахнулась: ей не надо никаких благодарностей. Микеланджело отправился на рынок на площадь Санто Спирито и накупил подарков для всех остальных Тополино, затем договорился с грумом, служившим во дворце, выпросив у него лошадь и седло. В воскресенье утром, отстояв обедню в дворцовой часовне, он сложил купленные вещи в отдельную сумку и выехал в Сеттиньяно. Яркое солнце пригревало его открытую голову. Сначала у него была мысль надеть свое старое, домашнее платье, чтобы Тополино не подумали, что он важничает, по потом он быстро понял, что такой маскарад был бы для них обидным обманом. Помимо того, эта темно-синяя рубашка и рейтузы так ему нравились… Тополино сидели на террасе, с которой открывался вид на долину и на дом Буонарроти, стоявший на гребне противоположного холма. Только что придя с мессы в маленькой деревенской церквушке, они отдыхали, пользуясь единственным во всю неделю часом, когда не было никаких дел. Завидев на дороге Микеланджело, скакавшего на серебристо-сером жеребце, в отделанном серебром седле, они так растерялись, что даже забыли поздороваться с ним. Микеланджело тоже молчал, не находя слов. Он слез с коня, привязал его к дереву, снял седельную сумку и вынул из нее покупки, положив их на грубый широкий стол. После минутной паузы отец семейства спросил, что это значит и к чему такие вещи. — Это подарки, — ответил Микеланджело. — Подарки? — Отец с недоумением посмотрел на трех своих сыновей по очереди: тосканцы никогда не преподносили никаких подарков; что-либо дарить было принято только детям. — День феи Бефаны уже прошел. Это ты даришь на минувший или на будущий? — На тот и другой сразу. Я ел ваш хлеб и пил ваше вино не один год. — Ты ел у нас не даром, ты тесал камень, — сурово возразил ему отец. — Первые свои деньги я отнес домой, к Буонарроти. Потом я получил деньги во второй раз и вот сегодня принес их к Тополино. — Ты получил заказ! — воскликнул дедушка. — Нет. Лоренцо выдает мне каждую неделю кучу денег. Тополино внимательно посмотрели друг другу в лицо. — Кучу денег? — переспросил отец. — Это твой заработок? — Нет, мне не платят за работу. — О, значит, платят на содержание: на жилье, на еду. — Жилье и еда у меня бесплатные. — Тогда это деньги на покупки? На штаны, на мрамор для работы? — Нет, я работаю на всем готовом. — Так на что же это дается? — На что пожелаешь. — Если у тебя есть еда, жилье, мрамор, что же можно еще желать? — Удовольствий. — Удовольствий? — Тополино покатали это слово на языке, словно бы это был какой-то новый для них плод. — К примеру, какие же это удовольствия? Микеланджело на секунду задумался. — Ну, поиграть в карты, например. — Ты играешь в карты? — Нет. — Так, может, назовешь другие удовольствия? Еще секунда размышления: — Ну, побриться у цирюльника на Соломенном рынке. — У тебя растет борода? — Пока не растет. Но я могу мазать маслом волосы, как Торриджани. — А ты хочешь, чтобы у тебя волосы пахли маслом?. — Нет. — Тогда это не удовольствие. А что еще? Микеланджело был в отчаянии: — Ну, женщины, которые гуляют в субботу по вечерам в капюшонах с прицепленным колокольчиком… — Тебе нужны эти женщины? — Я говорю это только к примеру. Я могу купить свечей и поставить их перед Богородицей. — Это тоже не удовольствие, это твой долг. — Выпить стаканчик вина в воскресный вечер? — Это обычай. Микеланджело подошел к столу: — Удовольствие — это преподнести какую-нибудь вещь своим друзьям. Медленно, среди воцарившейся вдруг тишины, он начал раздавать свои подарки. — Это тебе, mia madre, — ходить в церковь. Бруно, это тебе, — кожаный пояс с серебряной пряжкой. Это желтая рубашка и чулки для тебя, Джильберто. А тебе, дедушка, тебе шерстяной шарф, чтобы было что надеть на шею в зимние холода. Отцу Тополино — высокие сапоги; пригодятся, когда будешь работать в каменоломнях Майано. Энрико, ты говорил, что, когда вырастешь, заведешь себе золотое колечко. Держи его! Тополино долго глядели на Микеланджело, не произнося ни слова. Затем мать ушла в дом, чтобы примерить платье; отец натянул на ноги высокие сапоги; Бруно надел пояс и застегнул пряжку; Джильберто нарядился в свою золотистую рубаху; дед, не присаживаясь на место, наматывал на шею и разматывал тяжелый шерстяной шарф. Энрико влез от радости на козлы и, отвернувшись в сторону, любовался своим перстнем. Первым заговорил отец: — Все эти… подарки… ты купил их на деньги, которые тебе там дали? — Да, на эти деньги. — Выходит, что же? Значит, Лоренцо дает тебе деньги на подарки для нас? — Да. — Тогда он воистину Великолепный. Микеланджело только сейчас заметил, что на столе от всех его вещей остался еще один сверток. Недоумевая, он развернул его и вынул скатерть из прекрасной льняной ткани. Он сразу припомнил, как его спрашивала Контессина: «Ну, а что ты скажешь насчет льняной скатерти?» Контессина тайком от него положила свой подарок в седельную сумку, эта скатерть — личное ее приношение. Румянец залил его щеки. Dio mio! Как это объяснить Тополино? Он кинул скатерть на руки матери. — Вот подарок от Контессины де Медичи. Для тебя. Тополино обомлели. — Контессина де Медичи! Да как только ей пришло на ум подарить нам скатерть? Неужели она знает, что мы живем на свете? — Да, знает. Я рассказывал ей про вас. Твое платье, mia madre, кроила и шила портниха Контессины. — Это настоящее чудо! — перекрестился дедушка. «Аминь. Воистину так», — подумал Микеланджело.6
Все четверо ученых из Платоновской академии располагали собственными виллами в сельской местности близ Флоренции. Несколько раз в неделю они приезжали в город — прочитать лекцию, поговорить и поработать с Лоренцо в его кабинете. Лоренцо настаивал, чтобы Микеланджело не упускал возможности поучиться у этих людей, и тот ревностно посещал их собрания. Платоники старались приохотить Микеланджело к латинскому и греческому; они даже чертили схемы, убеждая ученика в том, что выводить греческие или латинские буквы — это все равно что рисовать человеческие фигурки. Микеланджело уносил в свою комнату манускрипты и письменные задания, часами сидел над ними… и почти ничего не усваивал. — Все тут же вылетает из памяти, — жаловался он Бертольдо. Оставив классические языки, ученые заставляли Микеланджело читать вслух стихи на итальянском: Данте, Петрарку, Горация, Вергилия. Это нравилось Микеланджело; особенно занимали его те философские споры о Данте, которые разгорались после чтения «Божественной комедии». Платоники хвалили Микеланджело за его все более отчетливую дикцию, а затем познакомили своего подопечного с Джироламо Бенивиени; по их словам, это был «самый горячий поклонник поэзии на итальянском языке», и он должен был научить Микеланджело писать стихи. Когда Микеланджело пытался возражать, заявив, что он хочет быть скульптором, а не поэтом, Пико сказал: — Композиция сонета требует такой же неукоснительно строгой дисциплины, как и композиция мраморного рельефа. Обучая тебя искусству сонета, Бенивиени развивает твой разум, логику, хочет придать твоим мыслям последовательность. Ну как не воспользоваться его талантом! Ландино уверял: «Мы отнюдь не хотим, чтобы рука ваятеля ослабела, держа вместо молота и резца перо и лист бумаги, — нет!» Полициано твердил: «Ты не должен оставлять изучение поэзии. Тебе надо, как и прежде, все время читать вслух. Для настоящего художника мало быть живописцем, скульптором или архитектором. Чтобы полностью выразить все, что он хочет, художник должен быть поэтом». — У меня выходит такая дрянь, — пожаловался однажды вечером Микеланджело своему наставнику в поэзии Бенивиени, битый час просидев над несколькими рифмованными строчками. — И как вы только можете читать мои неуклюжие вирши? Глядя на огорченную физиономию Микеланджело, Бенивиени улыбался и напевал им же сочиненную веселую песенку — он был также и одаренным композитором. — Первые опусы у меня выходили не лучше, — отвечал он. — Пожалуй, они звучали гораздо хуже. Ты будешь считать себя плохим поэтом до тех пор, пока у тебя не возникнет потребность что-то выразить. И вот эти самые орудия поэзии — метр и рифма — окажутся тут как тут, под рукой, подобно тому как у тебя всегда под рукой молоток и резец. В праздники, когда Лоренцо приказывал закрывать Сады, Микеланджело, сев на лошадь, уезжал на виллу Ландино — вилла была расположена в Казентино; ее подарила ученому Флорентинская республика за комментарии к «Божественной комедии». Ездил Микеланджело и на виллу Фичино в Кареджи — это был настоящий замок с зубчатыми стенами и крытыми галереями; бывал он и на вилле Пико под названием «Дуб», и на вилле Полициано Диана — они были построены на склонах Фьезоле. На вилле «Диана» гости и хозяин обычно сидели в садовом павильоне, напоминавшем те, в которых герои «Декамерона» Боккаччо рассказывали свои бесконечные истории. Полициано читал новое стихотворение:7
Пришла пора выбрать для работы тему. Но какую именно тему? Что его интересовало, что влекло? Платоники настаивали на том, чтобы Микеланджело взял древнегреческий мотив. — Разве мало чудесных мифов, — сказал Полициано, не вытерев со своих темно-красных губ сок дыни-канталупы. — Геракл и Антей, битва с амазонками, троянская война. — Уж очень мало я знаю об этом, — посетовал Микеланджело. Ландино, с важной миной на лице, заметил: — Дорогой Микеланджело, вот уж несколько месяцев мы в качестве официальных наставников только и делаем, что стараемся пополнить твои знания о Древней Греции и ее культуре. Пико делла Мирандола засмеялся: голос его звенел, будто звуки виолы и клавикордов. — Мне кажется, что мои друзья хотят прямо-таки перенести тебя в золотой век язычества. Ученые принялись рассказывать Микеланджело о двенадцати подвигах Геракла, о страдающей по своим погибшим детям Ниобе, об афинской Минерве, об Умирающем Гладиаторе. Но тут Лоренцо умерил пыл платонистов, сказав несколько жестким тоном: — Не надо предписывать нашему юному другу тему для работы. Пусть он изберет ее по своей доброй воле. Усевшись поглубже, Микеланджело откинул голову на спинку кресла; при свете свечей его янтарные глаза поблескивали, в темно-каштановых волосах вспыхивали красные блики. Он прислушивался, что говорит ему его внутренний голос. Одно он ощутил теперь со всей определенностью: тема его первой работы не может быть заимствована из Афин или Каира, Рима или даже Флоренции. Она должна родиться в нем самом, из того, что он знал, чувствовал, понимал. Иначе всякая попытка будет напрасной. Произведение искусства — не школьное упражнение, в него надо вложить что-то сугубо личное, присущее только тебе. Его должно подсказать твое сердце. Лоренцо спрашивал его: «Что бы ты хотел выразить в своей скульптуре?» И сейчас Микеланджело мысленно отвечал ему: «Что-то очень простое, глубоко затрагивающее мои чувства. Но что я постиг, что я знаю на свете? Только то, что я хочу быть скульптором и что я люблю мрамор? Чтобы создать изваяние, этого очень мало». И вот под гул оживленного разговора ученых он увидел себя на ступеньках часовни Ручеллаи в тот день, когда он вместе с учениками Гирландайо впервые вошел в церковь Санта Мария Новелла. Часовня была сейчас словно перед глазами: он видел богородиц Чимабуэ и Нино Пизано и вновь почувствовал, как он любил свою мать и как тосковал, когда она умерла, почувствовал свое одиночество, свою жажду любви. Было уже поздно. Ученые разошлись, но Лоренцо все еще сидел в своем кресле. Хотя и считалось, что Лоренцо временами был груб и резок на язык, сейчас он говорил очень сердечно и просто. — Ты должен простить нашим платонистам эту восторженную любовь ко всему греческому. Фичино возжигает светильник перед бюстом Платона. Ландино в память Платона ежегодно дает великолепный литературный вечер. Платон и греки вообще служат для нас как бы ключом, которым мы пользуемся, чтобы вырваться из темницы религиозных предрассудков. Мы стараемся здесь, во Флоренции, установить новый век Перикла. Ты должен учитывать это и понять нас, когда мы превозносим все греческое. — Если вы не очень устали, Лоренцо, — сказал Микеланджело, — то хорошо бы пройтись немного по дворцу и посмотреть на изображения божьей матери с младенцем. Лоренцо взял в руки чудесно отполированную бронзовую лампу. Они прошли по коридору и оказались близ приемной Лоренцо: там находился мраморный рельеф Донателло, такой безликий и невыразительный, что можно было усомниться, действительно ли это работа великого мастера. Лоренцо повел Микеланджело в спальню Джулиано. Самый младший из семейства Медичи спал, укрывшись с головой, и даже не проснулся, когда Микеланджело и Лоренцо начали обсуждать написанную на деревянной доске картину Пезеллино — «Богоматерь с Младенцем и двумя ангелочками». Потом Великолепный вновь вывел Микеланджело в коридор, и у алтаря капеллы они смотрели Богородицу с Младенцем работы фра Филиппо Липпи; Лоренцо сказал, что моделями художнику послужили монахиня Лукреция Бути, которую любил Филиппе Липпи, и их ребенок, Филиппино Липпи, теперь тоже художник, прошедший выучку у Боттичелли, подобно тому как в свое время Боттичелли учился у фра Филиппе. Затем они остановились перед «Богородицей» Нери ди Биччи и «Божьей матерью с Младенцем», созданной Лукой делла Роббиа, — обе эти картины отличались яркостью красок; наконец, Микеланджело переступил порог спальни Лоренцо: здесь висела «Мадонна Магнификат», написанная Боттичелли для отца и матери Великолепного лет двадцать назад. — Эти два ангела, стоящие на коленях перед богородицей и младенцем, — это мой брат Джулиано и я. Когда Пацци убили Джулиано, из моей жизни ушло все самое светлое… Мой портрет, как ты видишь, слишком идеализирован. Я некрасив и не стыжусь этого, а все художники думают, что мне нравится, когда они мне льстят. В нашей часовне писал Беноццо Гоццоли и тоже польстил мне — сделал мою смуглую кожу светлой, курносый нос прямым, а мои жидкие волосы такими же прекрасными, как у Пико. Лоренцо испытующе взглянул на Микеланджело, губы его были сжаты, брови нахмурены. — Мне кажется, тебе ясно, что я не нуждаюсь в лести. — Граначчи говорит, что я строптив и тверд, как кремень, — смущенно сказал Микеланджело. — Ты словно закован в алмазные латы, — отозвался Лоренцо, — таким ты и оставайся. Лоренцо рассказал легенду о Симонетте Веспуччи, служившей Боттичелли моделью для «Мадонны Магнификат», — «самой целомудренной красавице во всей Европе». «Это неправда, что Симонетта будто бы была любовницей моего брата Джулиано, — говорил Лоренцо. — Он любил ее, как ее любили все во Флоренции, но чисто платонически. Он посвящал ей длинные чувствительные поэмы… но моего племянника Джулио он прижил с настоящей своей любовницей Антонией Горини. А вот Сандро Боттичелли воистину боготворил Симонетту, хотя, как мне кажется, лично с ней никогда не разговаривал. Симонетта присутствует на всех картинах Боттичелли — она и Весна, и Венера, и Паллада. Ни один художник не писал еще такой удивительно красивой, ослепительной женщины». Микеланджело молчал. Когда он думал о своей матери, он видел ее тоже красивой молодой женщиной, но красота ее была совсем иная, она шла откуда-то изнутри. Нет, его мать — это не та женщина, которой жаждали все мужчины и которую любил Боттичелли; в его глазах это была женщина, которая любила бы сына и была бы любима им. Он посмотрел в лицо Лоренцо и с полным доверием сказал ему: — Я ощущаю в богородице что-то очень близкое. Только в ее образе я и вижу свою мать. Поскольку мне еще надо вырабатывать мастерство, может быть, самое лучшее для меня — сказать свое слово именно о Пречистой? — Вполне возможно, что это самое лучшее, — ответил Лоренцо, задумчиво глядя на Микеланджело. — Может быть, то, что я чувствую по отношению к матери, чувствовала по отношению ко мне и она сама. Он бродил по дворцу и делал рисунки с работ художников; порой его сопровождали Контессина или Джулиано. Но скоро копирование чужих картин надоело ему, и он стал уходить в город, в самые бедные его кварталы. Здесь на улице перед домами обычно сидело множество женщин; держа младенца у груди или на коленях, они плели из тростника сиденья для стульев и корзины для бутылок, этих женщин можно было рисовать сколько душе угодно. Он шел и за город, к крестьянам, жившим близ Сеттиньяно: те знали его с младенческих лет и не думали ничего дурного, если он рисовал женщин, когда они купали детей или кормили их грудью. Он не старался создать какой-то портрет, он хотел запечатлеть дух материнства. Он зарисовывал мать и дитя во всех позах, в каких только их заставал, стремясь к тому, чтобы карандаш и бумага верно передавали те чувства, которые он улавливал в модели; затем, предложив несколько скуди, он уговаривал женщину изменить положение, передвинуться, посадить ребенка по-иному: он искал все новый угол зрения, искал что-то такое, что не высказал бы словами и сам. Вместе с Граначчи, Торриджани, Сансовино и Рустичи он ходил по церквам Флоренции и усердно зарисовывал всех мадонн с младенцем, слушал объяснения Бертольдо, часами беседовавшего с ним перед произведениями старых мастеров, вникал в тайны их творчества. В своей приходской церкви Санта Кроче Микеланджело видел «Богоматерь с Младенцем» работы Бернардо Росселлино — эта богоматерь казалась ему слишком тучной и невыразительной; в той же церкви была «Святая дева» Дезидерио да Сеттиньяно, похожая на крестьянку: младенец ее был изображен завернутым в тосканские пеленки, а сама она выглядела обычной деревенской женщиной, принарядившейся ради праздника. В Орсанмикеле находилась «Богородица Рождества» Орканьи — в ней была и нежность и сила, но Микеланджело считал ее примитивной и очень скованной. Статуя Нино Пизано в Санта Мария Новелла явно выделилась по мастерству, но ей недоставало одухотворенности, пропорции были нарушены: богоматерь была похожа на раскормленную супругу какого-нибудь пизанского коммерсанта, а разнаряженный младенец выглядел чересчур земным. Терракотовая богородица Верроккио — женщина средних лет — недоуменно смотрела на своего сына, а тот уже стоял на ногах и благословлял рукою мир. У «Богоматери и Младенца» работы Агостино ди Дуччио были изысканные одеянья и пустые, растерянные лица. Однажды утром Микеланджело пошел вдоль Арно по направлению к Понтассиеве. Солнце сильно припекало. Подставляя живительному теплу голую грудь, он скинул рубашку. Голубые тосканские холмы были в дымке, они шли гряда за грядой, сливаясь вдали с небом. Он любил эти горы. Взбираясь на холм и чувствуя, как круто поднимается под ногами тропа, он понял теперь, что еще не знает, какую именно мысль он выразит в своей Марии с Младенцем. Ему хотелось одного — достигнуть в изваянии свежести и жизненной силы, и дальше этого его стремления не простирались. Он начал размышлять о характере и судьбе Марии. Излюбленной темой флорентинских живописцев было Благовещение: архангел Гавриил спускается с небес и возвещает Марии, что она понесет Сына Божьего. На всех изображениях, какие Микеланджело помнил, весть, полученная Марией, изумляла ее полной своей неожиданностью — Марии оставалось лишь смириться с предназначенным. Но могло ли это произойти так, как обычно изображают? Можно ли было столь важный урок, самый важный из всех, какие только выпадали на долю человеческого существа со времен Моисея, возложить на Марию, если она ничего не знала заранее и не давала на то согласия? Чтобы избрать ее для столь дивного дела, господь должен был возлюбить Марию превыше всех женщин на земле. В таком случае разве он не поведал бы ей свой замысел, не известил о каждом будущем ее шаге, начиная с Вифлеема и кончая подножием креста? И, в мудрости и милосердии своем, разве он не дал бы Марии возможность отказаться от тяжкой миссии? А если у Марии была возможность согласия или отказа, то в какой момент она могла высказать свою волю? В Благовещение? В час, когда она рождала дитя? Или в дни младенчества Иисуса, когда она вскармливала его грудью? А если она согласилась, то разве она не должна была нести свое тяжкое бремя вплоть до того часа, когда ее сына распяли? Но, зная будущее, как она могла решиться и предать свое дитя на такие муки? Как она не сказала: «Нет, пусть это будет не мой сын. Я не согласна, я не хочу этого?» Но могла ли она пойти против воли Бога? Если он воззвал к ней, прося о помощи? Была ли когда-нибудь смертная женщина поставлена перед столь мучительным выбором? И он понял теперь, что он изваяет Марию, взяв то мгновение, когда она, держа у своей груди дитя и зная все наперед, должна была предрешить будущее — будущее для себя, для младенца, для мира.Ныне, уже твердо зная, каким путем ему идти, он мог рисовать, ставя перед собой определенную цель. Мария будет доминирующей фигурой изваяния, центром композиции. У нее должно быть сильное тело героини — ведь этой женщине дано не только решиться на мучительный подвиг, но и проявить при этом отвагу и глубокий разум. Дитя займет второстепенное место; его надо представить живо, полнокровно, но так, чтобы он не отвлекал внимания от главного, существенного. Он посадит младенца на колени Марии — лицом дитя приникнет к материнской груди, а спина его будет обращена к зрителю. Для ребенка это самая естественная поза, и дело, каким он занят, для него самое важное; помимо того, младенец, прижавшийся к груди матери, создаст впечатление, что наступила такая минута, когда Мария с особой остротой чувствует: пора сделать выбор, решиться. Насколько знал Микеланджело, никто из скульпторов или живописцев не изображал Иисуса спиной к зрителю. Но ведь драма Иисуса начнется гораздо позднее, лет через тридцать. А пока речь шла о его матери, о ее страданиях. Микеланджело просматривал сотни зарисовок матери к ребенка, которые он сделал в течение последних месяцев; ему надо было отобрать и выделить все, что так или иначе соответствовало его новому замыслу. Теперь, склонившись над столом с разложенными рисунками, Микеланджело пытался выработать основу будущей композиции. Где именно должна сидеть Мария? Вот рисунок — мать с ребенком сидит на скамье, у подножия лестницы. Кто же был тогда, помимо ее ребенка, с нею у этой лестницы? Микеланджело наблюдал множество маленьких детей, множество матерей. Фигуру Марии можно было изваять, вдоволь наглядевшись на крепкие тела тосканских женщин. Но как быть с головой богородицы, с кого высекать черты ее лица? Отчетливо представить себе, как выглядела его собственная мать, Микеланджело не мог: почти через десять лет, прошедших с ее кончили, в памяти остался лишь туманный, расплывчатый облик. Он отложил рисунки в сторону. Разве мыслимо разработать композицию скульптуры, не зная того мрамора, который составит ее плоть? Микеланджело пошел к Граначчи — тот занимался живописью в одной из самых больших комнат павильона — и спросил, нельзя ли вместе побродить по лавкам, где продавался мрамор. — У меня быстрее бы двинулась работа, если бы мрамор, из которого придется высекать изваяние, был под рукой. Я применился бы к нему, изучил его нутро, его структуру. — Бертольдо велел закупать мрамор лишь тогда, когда рисунки и модели уже готовы, — так проще выбирать соответствующий блок. — Тут возможен и другой взгляд на вещи, — задумчиво сказал Микеланджело. — Ведь это же, по-моему, вроде венчания… — Ну, раз так, я совру что-нибудь Бертольдо, и завтра мы сходим в лавку. Во Флоренции, в районе Проконсула, было множество складов, где хранились камни всяких размеров и всякого назначения: гранит, травертин, цветные мраморы, готовые строительные блоки, дверные косяки и притолоки, подоконники, колонны. Но разыскать такой кусок каррарского мрамора, о каком мечтал Микеланджело, не удавалось. — Давай-ка съездим к каменотесам в Сеттиньяно, — предложил Граначчи. — Там-то уж найдем, что нам надо. На старом дворе, где Дезидерио некогда обучал Мино да Фьезоле, Микеланджело увидел глыбу мрамора, которая его пленила в первую же минуту. Глыба была средних размеров, но каждый ее кристалл словно сиял и лучился. Микеланджело лил на нее воду, чтобы обнаружить малейшие трещины, колотил по краям молотком и слушал, как она звучит, выискивал любой порок, любое пятнышко или полость. — Вот это камень! — радостно сказал он Граначчи. — Из него выйдет Богородица с Младенцем. Но надо посмотреть на него утром, при первых лучах солнца. Тогда уж я твердо скажу, что это не камень, а совершенство. — Не сидеть же мне здесь до утренней зари и любоваться на твой камень… — Нет, что ты! Тебе надо лишь условиться о цене. А я выпрошу у Тополино лошадь, и ты доберешься до дому и будешь спать в своей кровати. — Знаешь, дружище, не очень-то я верю в это колдовство с первыми лучами солнца. По-моему, это одни пустые слова, глупость. Ну что ты можешь разглядеть на утренней заре, если все видно и сейчас, при дневном свете? Я думаю, это какой-то языческий обряд: с восходом солнца умилостивляют и благодарят духов гор. Разостлав одеяло на дворе у Тополино, Микеланджело проспал там ночь и поднялся до рассвета; когда первые лучи солнца тронули гребни холмов, он уже сидел перед своим камнем. Тот весь был пронизан светом. Его можно было видеть насквозь, во всех направлениях, проникая взглядом в самую толщу. В нем не было никаких изъянов: ни трещин, ни полостей, ни затемнений;вся поверхность глыбы сияла, как бриллиант. — Ты — благородный камень, — сказал Микеланджело негромко. Он расплатился за мрамор золотыми монетами, взятыми им у Граначчи, погрузил камень на повозку и тронулся в путь: в повозку были запряжены те самые волы, на которых он ездил в каменоломни Майано еще шестилетним мальчиком. Он перевалил через холмы, повернул вправо у Варлунго, затем поехал по берегу Аффрико, миновал древние ворота При Кресте, обозначавшие четвертую границу города, и, пробираясь по Борга ла Кроче, оказался у больницы Санта Мария Нуова; близ дворца Медичи повернул вправо, на Виа Ларга, и через площадь Сан Марко подкатил к воротам Садов — гордый и счастливый, будто привез не камень, а невесту. Двое каменотесов помогли ему снять мрамор и уложить его под навесом. Затем он перетащил сюда из павильона столик для рисования и весь нужный инструмент. Обнаружив Микеланджело в столь глухом уголке Садов, Бертольдо был крайне удивлен: — Неужели ты хочешь сразу же браться за резец? — Нет, до этого еще далеко. — Тогда зачем ты вынес свои вещи из павильона? — Потому что я хочу работать в тишине. — В тишине? Да ведь здесь целый день слышны звуки молотков: скальпеллини работают совсем рядом. — Я люблю эти звуки. Я слышал их почти с пеленок. — Но я должен проводить большую часть времени в павильоне. А если бы я был подле тебя, я бы мог что-то подсказать тебе, при нужде что-то исправить. Микеланджело подумал минуту, потом сказал: — Бертольдо, мне надо побыть наедине с самим собой, поработать без всякого присмотра — даже без вашего. Если мне нужно будет что-то спросить, я сам к вам приду. Губы Бертольдо дрожали. — Так ты наделаешь гораздо больше ошибок, caro, и тебе нелегко будет исправить их. — Разве это не лучший способ обучения? Довести свою ошибку до ее логического конца? — Но добрый совет помог бы тебе сберечь время. — Времени у меня достаточно. В усталых бледно-голубых глазах Бертольдо мелькнуло что-то отчужденное. — Ну, конечно — улыбнулся он. — У тебя достаточно времени. Если понадобится помощь, приходи ко мне. Вечером, когда почти все уже покинули Сады, Микеланджело обернулся, почувствовав на себе пылающий взгляд Торриджани. — Значит, ты так загордился, что уже не хочешь рисовать рядом со мной? — Ах, это ты, Торриджани! Я хотел немного уединиться… — Уединиться! От меня? От своего лучшего друга? Тебе не надо было никакого уединения, пока ты был новичком и нуждался в помощи товарищей. А теперь, когда тебя отличил Великолепный… — Торриджани, поверь мне, все остается по-старому. Ведь отсюда до павильона не больше двадцати саженей… — Это все равно что двадцать верст. Я говорил тебе, что, когда ты начнешь ваять, я поставлю твой рабочий верстак рядом со своим. — Я хочу сам делать свои ошибки и сам отвечать за них. — Не означает ли это, что ты боишься, как бы мы не воспользовались твоими секретами? — Секретами? — Микеланджело уже не на шутку сердился. — Какие могут быть секреты у скульптора, который только еще начинает работать? Ведь это первое мое изваяние. А у тебя их, наверно, с полдюжины. — И все-таки не я тебя отвергаю, а ты меня, — упорствовал Торриджани. Микеланджело замолк. Нет ли какой-то доли истины в этом обвинении? Да, он восхищался Торриджани, восхищался его красотой, его анекдотами и рассказами, его песенками… но сейчас ему не хотелось уже ни разговоров, ни анекдотов, его мысли были заняты одним — камнем, который с вызовом стоял прямо перед его глазами. — Ты предатель! — сказал Торриджани. — Когда-то я сам был под покровительством старшего. Но тот, кто предает старшего, обыкновенно плохо кончает. Через несколько минут явился Граначчи, вид у него был сурово-озабоченный. Он осмотрел все, что было под навесом: наковальню, грубый широкий стол на козлах, скамьи и доску для рисования на подъемной платформе. — Что стряслось, Граначчи? — Торриджани скандалит. Он вернулся в павильон туча тучей. Сказал несколько злых слов про тебя. — Я слышал их и сам. — Имей в виду, Микеланджело, я сейчас смотрю на это дело совсем по-иному. Год назад я предупреждал тебя, чтобы ты не очень-то льнул к Торриджани. А теперь я говорю, что ты несправедлив. Не отталкивай его так резко… Твои мысли и чувства поглощены теперь мрамором, я знаю, но Торриджани не способен это понять. Ничего волшебного в мраморе он не видит. Он объяснит твое охлаждение — и это будет с его стороны вполне естественно — только тем, что ты попал ныне во дворец. Если мы будем отвергать друзей лишь потому, что они нам надоели, с кем же в конце концов мы будем дружить? Ногтем большого пальца Микеланджело чертил на камне какой-то силуэт. — Я попробую помириться с ним.
8
Мрамор — это греческое слово, оно означает «сияющий камень». В самом деле, как он сиял в лучах утреннего солнца, когда Микеланджело ставил свою глыбу на деревянную скамью и с упоением вглядывался в мерцавшую поверхность камня: пронзая внешние слои, свет, дробясь, отражался и играл где-то в сердцевине, в самых глубинных кристаллах. Микеланджело не расставался со своим камнем уже несколько месяцев, разглядывая его то при одном освещении, то при другом, поворачивая под разными углами, выставляя то на жару, то на холод. Мало-помалу он постиг его природу, постиг лишь силой своего разума, еще не вторгаясь резцом внутрь блока; он был уже уверен, что знает каждый слой, каждый кристалл этого мрамора и сумеет подчинить его своей воле, придать ему те формы, какие замыслил. Бертольдо говорил, что эти формы надо сперва высвободить из блока, а уж потом восхищаться ими. Но мрамор скрывал в себе множество форм: не будь этого, все скульпторы высекали бы из взятого камня одно и то же изваяние. Теперь с молотком и зубилом в руках, Микеланджело легко и быстро начал рубить мрамор; он постоянно прибегал к colpo vivo — проворным, живым ударам, укладывавшимся в один такт «Пошел!»; вслед за зубилом, без минуты перерыва, пускался в ход шпунт — он, словно пален, осторожно вдавливался в мрамор, выколупывая из него пыль и осколки; затем Микеланджело брал зубчатую троянку — она, как ладонь, сглаживала все шероховатости, оставленные шпунтом; затем наступала очередь плоской скарпели; подобно кулаку, она сшибала все заусеницы и бороздки, сделанные зубчатой троянкой. Он не обманулся насчет этого блока. Врезаясь в него и раскрывая слой за слоем, чтобы обозначить будущие формы фигур, Микеланджело чувствовал, что камень покорен ему, что он отвечает на каждое его усилие. Мрамор как бы осветил самые темные, самые неведомые уголки его сознания, заронил в нем семена новых замыслов. Он уже не работал сейчас по рисункам или глиняным моделям — все это было отодвинуто в сторону. Он ваял, стремясь вызвать из блока лишь те образы, которые рисовались в его воображении. Его глаза и руки уже знали, где возникнет та или иная линия, выступ, изгиб, на какой глубине появится в камне Мария с младенцем: изваяние должно было представлять собою рельеф, фигуры выступят наружу только на четверть своего объема. Микеланджело трудился под своим навесом, когда к нему пришел Джованни. Этот пятнадцатилетний подросток, которому вот-вот предстояло сделаться кардиналом, не появлялся в Садах уже год, с тех самых пор, как его привела сюда однажды Контессина. Несмотря на то, что судьба жестоко обделила Джованни красотой, лицо его казалось Микеланджело и умным и живым. Флорентинцы говорили, что мягкий в обращении и любящий удовольствия второй сын Лоренцо способный юноша, но что все способности его остаются втуне, так как главное, чего он хочет в жизни, — это избегать всяческих хлопот. Джованни явился, сопровождаемый своей мрачной тенью — кузеном Джулио. Природа словно старалась создать из двоюродного брата и ровесника Джованни полную его противоположность: он был рослый, худощавый, с суховатым лицом, прямым носом и костистым раздвоенным подбородком. Этот красавец с круто выгнутыми черными бровями отличался большой энергией и на всякие дела и хлопоты смотрел как на свое естественное призвание, но был холоден и тверд, словно труп. Хотя Лоренцо считал Джулио членом семейства Медичи, Пьеро и Альфонсина презирали его, как незаконнорожденного, и молодой человек мог завоевать себе место под солнцем, лишь добившись расположения одного из своих кузенов. Он прилепился к пухлому добродушному Джованни и интриговал так искусно, что скоро принял на себя все его заботы и начал делать за него буквально все — он оберегал кузена от неприятностей, думал о его удовольствиях и забавах; любой вопрос он решал за него так, как его решил бы в случае необходимости сам Джованни. Считалось, что, когда Джованни станет настоящим кардиналом и переедет в Рим, Джулио тоже последует за кузеном. — Я благодарен тебе за визит, Джованни. Это такая любезность, — сказал Микеланджело. — А я к тебе не с визитом, — ответил Джованни; голос у него был густой, низкий. — Я пришел позвать тебя на охоту, которую я устраиваю. Во дворце это самый веселый день во всем году. Микеланджело уже слышал об этой охоте: он знал, что лучшие ловчие Лоренцо, его грумы и вершники заранее посылаются в горы, в те места, где в изобилии водятся зайцы, дикобразы, олени и кабаны; там огораживается парусиной большое пространство, а жители близлежащих деревень следят, чтобы олени не перепрыгивали через изгородь, а кабаны не делали в ней дыр и тем не нарушали бы всего замысла охотников. Микеланджело никогда еще не видал, чтобы флегматичный Джованни был так возбужден и радостен. — Прости меня, но, как ты видишь, я весь ушел в мрамор и не могу от него оторваться. Джованни сразу приуныл. — Но ведь ты не какой-нибудь мастеровой. Ты можешь работать, когда хочешь. Тебя никто не неволит. Микеланджело сжал и разжал пальцы, охватывающие стержень резца, который он отковал восьмигранником с тем, чтобы инструмент не выскальзывал из руки. — Ну, об этом еще можно поспорить, Джованни. — Кто же тебя удерживает? — Я сам. — И ты действительно предпочитаешь свою работу нашей охоте? — Если хочешь знать, действительно предпочитаю. — Странно! Прямо не веришь своим ушам. Ты что, хочешь только работать и работать? И уж не признаешь никакого развлечения? Слово «развлечение» было столь же чуждым Микеланджело, как слово «удовольствие» семейству Тополино. Он стер ладонью мраморную пыль с мокрой от пота верхней губы. — А не считаешь ли ты, что каждый смотрит на развлечение по-своему? Меня, например, мрамор волнует нисколько не меньше, чем охота. — Оставь в покое этого фанатика, — вполголоса сказал Джулио своему кузену. — Почему это я фанатик? — спросил Микеланджело, впервые за все время обращаясь к Джулио. — Потому что ты интересуешься лишь одним своим делом, — ответил за кузена Джованни. Джулио что-то вновь тихонько сказал Джованни. — Ты совершенно прав, — согласился тот, и оба молодых человека удалились, не произнеся больше ни слова. Микеланджело опять погрузился в работу, позабыв весь разговор с братьями Медичи. Но скоро ему пришлось вспомнить его. Вечером, когда уже смеркалось и стало прохладно, в Сады явилась Контессина. Оглядев мрамор, она мягко сказала Микеланджело: — Мой брат Джованни говорит, что ты напугал его. — Напугал? Чем я мог его напугать? — Джованни говорит, что в тебе есть что-то… жестокое. — Скажи своему брату, чтобы он не смотрел на меня безнадежно. Может быть, я еще слишком зелен, чтобы предаваться удовольствиям. Контессина бросила на него пытливый, ищущий взгляд. — Этот выезд на охоту — любимая затея Джованни. Важнее этого у него ничего нет. Готовясь к охоте, он на какое-то время становится главой дома Медичи, и его приказы выслушивает даже отец. Если ты откажешься участвовать в охоте, ты как бы отвергнешь Джованни, поставишь себя выше его. А он добрый, он не хочет никого обидеть. Почему же ты его обижаешь? — Я не собирался его обижать, Контессина. Мне просто не хочется портить себе настроение и прерывать работу. Я хочу рубить мрамор целыми днями, все время, пока не кончу. — Ты уже сделал своим врагом Пьеро! Неужели тебе надо ожесточать и Джованни? — воскликнула Контессина. Он ничего не мог сказать ей в ответ. Затем, почувствовав, что работа уже не пойдет, положил на место троянку и, намочив большое белое покрывало в воде у фонтана, закутал им мрамор. Наступит день, когда он не позволит отрывать себя от работы никому! — Все в порядке, Контессина. Считай, что я еду.Чтобы придать своим движениям нужный ритм, ему пришлось научиться наставлять резец и заносить над ним молоток единовременно, в один и тот же миг; резец при этом надо было держать свободно, без напряжения, так, чтобы он не скрадывал и не уменьшал силу удара молотка, большой палец должен был плотно обхватывать инструмент и помогать остальным четырем пальцам руки, глаза надо было закрывать при каждом ударе, когда от камня отлетают осколки. При работе над низким рельефом камня отсекается не так уж много, и Микеланджело даже умерял свою силу. Он врубался в мрамор, держа резец почти под прямым углом, но, когда обтачивал наиболее высокие детали рельефа — голову богоматери, спину младенца, угол следовало сразу же изменять. Приходилось думать о множестве вещей в одну и ту же минуту. Надо было направлять силу ударов в главную массу блока, в его сердцевину, с тем чтобы камень выдержал их и не раскололся. И фигуру богоматери, и лестницу Микеланджело решил высекать по вертикали блока, заботясь о том, чтобы он не треснул, но скоро убедился, что камень не так-то легко поддается напору внешней силы — на то он и камень. Пределы прочности камня Микеланджело так до конца и не выяснил. С каждым новым ударом он проникался все большим уважением к мрамору. На то, чтобы вызвать к жизни изваяние, Микеланджело должен был затратить долгие часы и дни: камень приходилось обтачивать медленно, снимая слой за слоем. Нельзя было торопить и рождение замышленных образов: нанеся серию ударов, Микеланджело отступал на несколько шагов от мрамора и смотрел, оценивая достигнутый результат. Всю левую часть барельефа занимали тяжелые лестничные ступени. Мария сидела в профиль на скамье, направо от лестницы; широкая каменная балюстрада словно бы обрывалась где-то за правым бедром Марии, у ног ее ребенка. Оглядывая свою работу, Микеланджело почувствовал, что, если левую руку Марии, крепко приживавшую ноги младенца Иисуса, чуть подвинуть вперед и повернуть ладонью кверху, Мария будет держать на руке не только своего сына, но и боковую доску балюстрады, которая превратилась бы в вертикальный брус. Тогда Мария держала бы на своих коленях не только Иисуса: решившись послужить господу, как он о том ее просил, она приняла бы на свои колени и тяжесть креста, на котором ее сыну суждено было быть распятым. Микеланджело не хотел навязывать зрителю этой мысли, но при известном чутье ее мог уловить каждый. Вертикальные линии были определены, теперь, в противовес им, надо было найти горизонтальные. Микеланджело еще раз просмотрел свои рисунки — чем бы дополнить композицию? Он вгляделся в мальчика Иоанна, играющего на верхних ступенях лестницы. А что, если положить его пухлую руку на балюстраду? Он зафиксировал свою мысль, набросав углем рисунок, и начал глубже врезаться в плоть камня. Медленно, по мере того как Микеланджело ссекал глубинные слои, фигура мальчика с его правой рукой, обхватившей балюстраду, все явственнее напоминала собой как бы живую крестовину. Собственно, так оно и должно быть: ведь Иоанну предстояло крестить Иисуса и занять свое бесспорное место в Страстях Господних. Когда Микеланджело высек силуэты двух мальчиков, играющих на верху лестницы, изваяние было закончено. Под придирчивым взглядом Бертольдо он приступил к следующему делу, в котором у него не было никакого опыта: полировке. Бертольдо заклинал его не усердствовать и не «зализывать» мрамор — это придало бы всей работе сентиментальную сладость. Поскольку Микеланджело трудился над рельефом у южной стены навеса, он попросил теперь Буджардини помочь перенести изваяние и установить его у западной стены: полировать надо было при свете, падавшем с севера. Прежде всего Микеланджело срезал рашпилем все лишние шероховатости, затем промыл изваяние, очистив его даже от самой мелкой мраморной пыли. При этом он обнаружил на рельефе неожиданные углубления, которые, как объяснил ему Бертольдо, образовались на первой стадии работы, когда резец проникал в камень слишком глубоко, сминая лежавшие ниже слои кристаллов. — Протри свои рельеф мелкозернистым наждаком с водою, но только легонько, — велел ему Бертольдо. Микеланджело исполнил наказ учителя и потом снова промыл изваяние. Теперь поверхность мрамора напоминала на ощупь матовую неотделанную бумагу. Кристаллы засветились и засверкали лишь после того, как Микеланджело протер весь рельеф кусочком пемзы, — мрамор стал, наконец, совсем гладким и лоснился под пальцами словно шелк. Микеланджело захотелось рассмотреть свою работу во всех подробностях, и он сбил несколько досок навеса с северной и восточной стороны. Теперь, под сильным светом, рельеф выглядел совсем по-иному. Микеланджело понял, что изваяние надо мыть еще и еще, протирать губкой, сушить… а потом снова пускать в ход наждак и пемзу. Вот постепенно появились уже и блики: солнце заиграло на лице богородицы, на волосах, левой щеке и плечах младенца. На складках одеянья, облегавших ногу богоматери, на спине Иоанна, обхватившего рукой брус балюстрады, на самом этом брусе — значение его в композиции рельефа свет только подчеркивал. Все остальное — фон за плечами Марии, ступени, стены — оставалось в спокойной тени. Теперь, думал Микеланджело, зритель, взглянув на задумчивое и напряженное лицо богоматери, не может не почувствовать, какие решающие минуты она переживает, держа у своей груди Иисуса и словно бы взвешивая на ладони всю тяжесть креста.
Лоренцо созвал четверку платоников. Войдя в комнату, Микеланджело и Бертольдо увидели, что барельеф поставлен на высоком постаменте, затянутом черным бархатом. Платоники были в самом лучшем расположении духа. — Что ни говори, а скульптура твоя — чисто греческая! — с ликованием воскликнул Полициано. Пико, с несвойственной ему серьезностью, заявил: — Когда я смотрю на твое изваяние, Микеланджело, то мне кажется, что веков христианства будто не бывало. В твоей богоматери и героизм, и непостижимая возвышенность творений древних греков. — Верно, — отозвался седовласый Ландино. — В рельефе есть то спокойствие, красота и высокая отрешенность, которые можно назвать только аттическими. — Но почему же аттическими? — растерянно спросил Микеланджело. — Почему? Да потому, что ты ощутил Акрополь во Флоренции, — ответил Фичино. — В душе ты такой же язычник, как и мы. Великолепный, нельзя ли принести из твоей приемной ту античную стелу — надгробный рельеф с сидящей женщиной? Дворцовый грум без замедленья притащил в кабинет не только эту античную стелу, но еще и несколько небольших изваяний Богородицы с Младенцем: глядя на них, платоники старались доказать Микеланджело, что его работа не имеет ничего общего с христианской скульптурой. — Я и не думал кому-либо подражать, — уже немного сердясь, говорил им Микеланджело. — Я хотел сделать нечто оригинальное. Лоренцо следил за этим спором с большим удовольствием. — Друзья, Микеланджело добился синтеза: в его работе слилось греческое и христианское начало. Он чудесно сочетал ту и другую философию в едином сплаве. Вы должны это видеть совершенно ясно: ведь вы всю жизнь только и стараетесь примирить Платона с Христом. «А что Мария изображена в момент, когда она решает свою судьбу и судьбу сына, об этом никто и не обмолвился, — думал Микеланджело. — Может быть, эта мысль запрятана в рельефе слишком глубоко? Или они считают, что и это от греков? Поскольку дитя еще не принесено в жертву?» — Allora, давайте поговорим о самой скульптуре, — ворчливо заметил молчавший до сих пор Бертольдо. — Хорошо это сделано? Или плохо? Никто не опасался задеть самолюбие Микеланджело, как будто его и не было в комнате. Он понял, что его первая большая работа нравится платоникам потому, что они рассматривают ее как плод гуманизма. Они восхищены смелостью Микеланджело, повернувшего младенца Христа спиной к зрителю, восхищены благородной мудростью образа Марии. Их радовали достижения Микеланджело в области перспективы: ведь скульптура в ту пору перспективы почти не знала. Ее пытался применить, высекая своих богородиц, Донателло, но и у него дело сводилось к тому, что за спиной главных фигур едва проступали изображения ангелов и херувимов. Всех подкупало, с каким напряжением и силой высек Микеланджело образы Марии, Христа и Иоанна; ученые согласились, что этот полный жизни рельеф — один из самых лучших, какие им приходилось видеть. Однако ученым нравилось в этой работе далеко не все. Они напрямик говорили Микеланджело, что лицо богородицы слишком стилизовано, а обилие складок на ее платье отвлекает внимание зрителя. Фигура младенца выглядит чересчур мускулистой, рука его подогнута некрасиво и неловко; Иоанн изображен слишком крупным, в нем чувствуется что-то грубоватое… — Стойте, стойте, — воскликнул Лоренцо, — ведь наш юный друг трудился над своим проектом не меньше полугода… — …и разработал его вполне самостоятельно, — перебил Великолепного Бертольдо. — Советы, которые я ему давал, касались только техники. Микеланджело встал, ему хотелось, чтобы его слушали все. — Во-первых, я ненавижу и одеяния и складки. Мне хочется ваять только обнаженные фигуры. И здесь я просто запутался со складками. Что касается лица Богоматери, то я его не нашел. Я хочу сказать, не нашел в своем воображении и потому не мог ни нарисовать его ни изваять с большей… реальностью. Но теперь когда работа закончена, я должен объяснить, чего я хотел добиться. — Мы полны внимания, — улыбнулся Полициано. — Я хотел сделать фигуры такими подлинными, такими живыми, чтобы вы чувствовали, что они вот-вот вдохнут в себя воздух и двинутся с места. Затем, робея и смущаясь, он объяснил, какую минуту переживает его Богоматерь, как тяжело ей решиться на жертву. Лоренцо и четверо платоников, смолкнув, смотрели на изваяние. Он чувствовал, что они размышляют. И вот медленно, один за другим, они отводили свой взгляд от мрамора и смотрели уже на него: в глазах их светилась гордость. Возвратясь к себе в комнату, он обнаружил на умывальнике кожаный кошелек. Кошелек был набит новенькими флоринами — их было так много, что Микеланджело сбился со счету. — Что это такое? — спросил он Бертольдо. — Кошелек от Лоренцо. Микеланджело взял кошелек из комнаты и зашагал по коридору к лестнице, поднялся на следующий этаж и потом, миновав еще коридор, был уже в спальне Лоренцо. Лоренцо сидел за маленьким столиком, перед масляной светильней, и писал письма. Как только слуга назвал Микеланджело, Лоренцо поднял голову и повернулся. — Лоренцо, я не могу понять, зачем… — Спокойнее, спокойнее. Садись. Ну, а теперь начинай сначала. Микеланджело глотнул воздуха, стараясь привести свои мысли в порядок. — Я по поводу этого кошелька с деньгами. Вам не надо покупать мой мрамор. Он принадлежит вам и так. Пока я работал над ним, я жил у вас во дворце на всем готовом… — Я и не собираюсь покупать твой рельеф, Микеланджело. Это твоя собственность. А кошелек с деньгами я даю тебе как бы в качестве премии, вроде той, которая была выдана Джованни, когда он закончил курс богословия в Пизе. Я считал, что тебе, может быть, захочется поездить по разным городам, посмотреть там произведения искусства. К примеру, отправиться на север, через Болонью, Феррару и Падую — в Венецию? Или на юг — через Сиену в Рим и Неаполь? Я дам тебе рекомендательные письма. Несмотря на поздний час, Микеланджело бросился бежать домой, на Виа деи Бентаккорди. Там все уже спали, тем не менее, встав с постелей, быстро собрались в гостиной: каждый шел, держа в руках свечу, со съехавшим набок ночным колпаком на голове. Размашистым движением Микеланджело высыпал на стол отца кучу золотых монет. — Что… что это? — задыхаясь, спросил Лодовико. — Моя премия. За окончание «Богородицы с Младенцем». — Целое богатство! — изумился дядя. — Сколько же тут денег? — Да я и сосчитать не мог, — горделиво ответил Микеланджело. — …тридцать, сорок, пятьдесят, — пересчитывал флорины отец. — Вполне достаточно, чтобы безбедно прожить всему семейству целых полгода. Микеланджело решил не портить игры и, сохраняя тот же горделивый тон, сказал: — А почему я не могу кормить семейство полгода, если я работал над камнем столько же времени. Это было бы лишь справедливо. Лодовико торжествовал. — Давно мои руки не прикасались с таким деньгам: пятьдесят золотых флоринов! Микеланджело, раз тебе так щедро платят, ты должен приниматься за новую скульптуру сейчас же, завтра же утром. Микеланджело усмехнулся. Только подумать: ни одного слова благодарности! Лишь нескрываемая радость оттого, что можно погрузить свои руки в эти россыпи золотых монет, поблескивавших при свете свечи. И тут он, иронизируя над собой, припомнил, с какой страстью он тянулся к мрамору, как жаждал его, когда впервые ступил во дворец Лоренцо. — Теперь мы поищем себе еще один участок, — говорил Лодовико. — Земля — это единственное надежное место для помещения капиталов. А потом, когда доходы возрастут… — Я не уверен, что у вас будет такая возможность, отец. Великолепный сказал, что эти деньги я должен потратить на путешествие — побывать в Венеции или Неаполе, посмотреть там скульптуру… — Путешествовать! Посмотреть там скульптуру! — поразился Лодовико. Новые десятины земли, о которых он мечтал, поплыли у него перед глазами. — Да зачем глядеть на эту скульптуру? Ты поглядишь, поедешь дальше, а деньги уже и растаяли. А вот если у тебя новый участок… — Ты в самом деле хочешь путешествовать, Микеланджело? — спросил его брат Буонаррото. — Нет, — рассмеялся Микеланджело. — Я хочу только работать. — И, обратясь к Лодовико, он добавил: — Эти деньги ваши, отец.
9
Подчиняясь настояниям Бертольдо, ученики несколько раз в неделю ходили то в одну церковь, то в другую копировать старых мастеров. В церкви освещение меняется быстро: приспосабливаясь к нему, надо было часто пересаживаться — для этого ученики захватывали с собой деревянные стулья. Сегодня они работали в церкви дель Кармине, в капелле Бранкаччи. Торриджани поставил свой стул рядом со стулом Микеланджело, поставил так близко, что задевал своим плечом его локоть. Микеланджело встал и отодвинул свой стул чуть в сторону, Торриджани обиделся. — Я не могу рисовать, если рука у меня стеснена, — сказал Микеланджело. — Не слишком ли ты привередлив? Пока мы тут корпим, я хочу вам доставить маленькое удовольствие. Вчера я слышал сногсшибательную песенку… — Позволь мне, пожалуйста, сосредоточиться. — Фу, какая скука! Мы уже рисовали эти фрески пятьдесят раз. Чему тут еще можно научиться? — Тому, чтобы рисовать, как Мазаччо. — А я хочу рисовать, как Торриджани. Меня это вполне устраивает. — Но это не устраивает меня, — резко сказал Микеланджело, отрывая глаза от своего рисунка. — Ты, видно, забываешь, с кем говоришь! В прошлом году я получил за рисование три премии. Сколько получил ты? — Ни одной. Вот почему тебе лучше бы не мешать мне и дать возможность поучиться. Торриджани почувствовал, что ему нечем крыть. Криво улыбаясь, он промолвил: — Не могу взять в толк, почему это любимый ученик до сих пор должен, как раб, делать школьные упражнения. — Копирование Мазаччо — не школьное упражнение, если только человеку даны не куриные мозги. — Значит, теперь и мозги у тебя лучше, чем у меня. — И, кипя от гнева, добавил: — Раньше я думал, что у тебя лучше лишь руки. — Если тебе понятна суть рисования, ты должен знать, что это одно и то же. — А если, кроме рисования, тебе понятно еще что-то, ты должен знать, какое ты ничтожество. Недаром говорят: ничтожный человек — ничтожная жизнь, большой человек — большая жизнь. — Чем больше человек, тем больше от него вони. Торриджани был взбешен. Микеланджело отвернулся от него, оборотясь всем телом к стене с фреской Филиппино Липпи: «Святой Петр воскрешает из мертвых царского сына», — именно для этой фрески позировал художнику Граначчи, когда ему было тринадцать лет. Торриджани передвинул свой стул по кругу, так, чтобы заглянуть Микеланджело в глаза. — Ты хотел оскорбить меня! Затем он вскочил со стула, схватил правой ручищей Микеланджело за плечо и рывком пригнул его к своим коленям. Микеланджело успел заметить, как исказилось от ярости лицо Торриджани, и мгновенно почувствовал, что тот ударит его со всей своей силою, — уклониться или избежать удара у него не было возможности. Кулак Торриджани взломал ему кость носа: удар раздался в ушах Микеланджело, будто взрыв в каменоломнях Манайо, когда там порохом подрывают светлый камень. Он ощутил вкус крови во рту, в крови катались кусочки раздробленной кости. Потом, откуда-то издалека, донесся страдальческий голос Бертольдо: — Что ты наделал? В черном небе вспыхнули звезды; но Микеланджело расслышал ответ Торриджани: — Кость и хрящ носа хрустнули у меня под кулаком, как трубочка со взбитыми сливками… Микеланджело, как подкошенный, рухнул на колени. Голубые звезды, кружась, плыли по стенам капеллы. Он почувствовал под щекой холодный и шершавый цемент, увидел перед собой на фреске зеленое, мертвое лицо Граначчи и потерял сознание. Он очнулся в своей постели во дворце. Лицо и нос у него были закутаны мокрыми повязками. Голова раскалывалась от боли. Как только он пошевелился, кто-то сдвинул у него на лице повязку. Он попытался открыть глаза, но понял, что это ему не удастся: свет еле проникал сквозь узкие щелки между веками. У кровати его сидели Пьер Леони, врач Лоренцо, сам Великолепный и Бертольдо. Послышался стук в дверь. Кто-то вошел в комнату и сказал: — Ваша светлость, Торриджани бежал из города. Через Римские ворота. — Послать за ним самых быстрых всадников. Я забью его в колодки и выставлю у стен Синьории. Микеланджело почувствовал, что веки его вновь плотно закрылись. Доктор оправил его подушку, вытер рот, потом кончиками пальцев осторожно ощупал лицо. — Кость носа раздроблена. Приблизительно через год она совсем срастется. Дыхательные пути сейчас закрыты полностью. Позже, если ему повезет, он будет снова дышать носом. Доктор просунул руку под плечи Микеланджело, слегка приподнял его и прижал к губам чашку со снадобьем. — Выпей. Это поможет тебе заснуть. Когда проснешься, боль немного утихнет. Раздвинуть губы и выпить горячий травяной отвар было истинной пыткой, но он все же осушил всю чашку. Голоса у его кровати постепенно смолкли. Снова он погрузился в сон и снова слышал язвительные слова Торриджани, видел кружащиеся голубые звезды, чувствовал холодный и шершавый пол под щекой. Проснувшись, он понял, что в комнате никого нет. Голова уже не болела, только где-то глубоко в глазах и в носу сильно жгло при каждом ударе пульса. В окне он увидел дневной свет. Он скинул с себя одеяло, встал с кровати и, шатаясь, пошел к умывальному столику. Затем собрав все свое мужество взглянул в стоявшее на столе зеркало. Чтобы не упасть от мгновенно подступившей тошноты, он вновь ухватился за край стола: в зеркале на него смотрел почти незнакомый человек. Распухшие глаза напоминали собой два голубых гусиных яйца. С усилием он раскрыл веки как можно шире и стал рассматривать дикую мешанину красок на лице: пурпур, лаванду, желтый кадмий, жженую сиену. Предугадать полностью последствия удара Торриджани он не мог до тех пор, пока держалась опухоль. Пройдет, вероятно, много недель и месяцев, прежде чем появится возможность судить, насколько удалось его бывшему другу по-своему исполнить то, о чем мечтал Микеланджело: перерисовать лицо заново. Один-единственный удар могучего кулака Торриджани, и оно сдвинулось и преобразилось так, будто было слеплено из мягкого воска! Весь дрожа, он еле дошел до постели и с трудом закутал себя одеялом, спрятав под ним и голову: ему хотелось забыть и людей, и белый свет. Ужасная тоска сжимала сердце. До какого унижения и позора довела его гордость! Он услышал, как отворилась дверь. Он не хотел никого видеть, не хотел ни с кем разговаривать и по-прежнему лежал без единого движения. Чья-то рука тронула постель, откинула одеяло с его головы. Он встретился глазами с Контессиной. — Микеланджело, дорогой… — Контессина. — Я так сожалею обо всем, что случилось. — Я сожалею еще больше. — Торриджани скрылся. Но отец клянется, что поймает его. В знак отрицания Микеланджело слегка двинул головой и сразу же почувствовал боль. — Это бесполезно. Я виню только себя. Я насмехался над ним… и вывел его из терпения. — Но начал-то он. Мы слышали всю историю. Микеланджело чувствовал, как по его глазам, обжигая, текут горячие слезы, и, весь напрягшись, произнес самые жестокие слова, какие только могли сорваться с его уст: — Я теперь безобразен. Лицо Контессины было совсем близко от его лица: говорить приходилось почти шепотом, чтобы их не услышала няня, стоявшая у открытой двери. Не меняя позы, Контессина прижала свои губы к его распухшей, искалеченной переносице; он ощутил что-то влажное, теплое, и это было для него как целительный бальзам. Потом она вышла из комнаты. Дни тянулись один за другим. Он все еще не мог отлучаться из дворца, хотя опухоль и боль шли ни убыль. Прослышав о случившейся беде, Лодовико явился требовать возмещения. Тот факт, что у его сына испорчено лицо, Лодовико не очень печалил; старик испытывал скорей чувство злорадства: ведь его предубеждение против художников и скульпторов, оказывается, было не напрасным. Отец был весьма озабочен тем, что сейчас, когда Микеланджело прикован к постели, обычные три золотых флорина ему не будут выданы. — Не задержит Лоренцо тебе плату? Микеланджело покраснел от гнева. — Мне не выдают никакой платы. И потому ее нельзя задержать, если я и не работаю. Может быть, просто никому не приходит в голову, что мне нужны деньги, пока я сижу в этой комнате. — Я рассчитывал на эту сумму, — проворчал Лодовико и с тем оставил сына. — Он не вправе упрекать меня, — вздыхая, говорил Микеланджело брату Буонаррото, когда тот пришел навестить больного, доставив миску куриного бульона с жареным миндалем от Лукреции. Буонаррото был теперь отдан к Строцци, учился торговать сукнами. На лице у него была написана сама серьезность. — Мужчинам, Микеланджело, всегда надо располагать хоть небольшими, но своими собственными средствами. Теперь у тебя самое удобное время отложить несколько флоринов для себя. Позволь, я буду порой заходить к тебе и позабочусь о твоих деньгах. Микеланджело был тронут этим вниманием брата и подивился его неожиданной прозорливости в финансовых делах. Каждый день на несколько минут заходил к Микеланджело Лоренцо: он приносил с собой драгоценную камею или древнюю монету, и они с Микеланджело за разговором вместе рассматривали ее. Заглядывал к больному и певец-импровизатор; бряцая на своей лире, он пел соленые куплеты о последних происшествиях во Флоренции, включая и несчастный случай с Микеланджело. Ландино приходил почитать Данте, Пико показать новонайденные египетские рельефы, которые свидетельствовали о том, что греки переняли основные принципы скульптуры у египтян. По вечерам, когда надвигались сумерки, заходила в сопровождении няни Контессина — поболтать, почитать книгу. С коротким визитом были даже Джованни и Джулио. Пьеро прислал свои соболезнования. Из мастерской Гирландайо пришли чертенок Якопо и рыжий Тедеско; они заверили Микеланджело, что, попадись им Торриджани на улице, они будут гнать его, швыряя в него каменьями, до самых ворот Прато. Граначчи сиживал у Микеланджело часами — он приносил в комнату друга свои папки и карандаши и рисовал. Доктор иглами зондировал нос Микеланджело и в конце концов заявил, что хотя бы через одну ноздрю, но дышать носом он будет. Бертольдо, покой которого нарушало столько посетителей, был всегда отменно любезен; он старался сделать все, чтобы развлечь и утешить Микеланджело. — Торриджани своим кулаком хотел приплюснуть твой талант, чтобы низвести его до уровня собственного. Микеланджело качал головой: — Граначчи предупреждал меня. — И, однако, я говорю истину: тот, кто завидует таланту другого, всегда хочет его уничтожить. А ты должен приниматься за работу. В Садах нам тебя не хватает. Микеланджело разглядывал свое лицо в зеркале на умывальном столике. Эта вмятина под переносьем останется навсегда. Что за ужасный бугор на самой середине спинки носа, и как он весь покривился! Он шел теперь вкось от уголка правого глаза к левому углу рта: былая симметрия, при всем ее несовершенстве, исчезла бесследно. Микеланджело съежился, плечи его опустились. «Какой скверный, сплошь залепленный латками обломок скульптуры! Видно, камень был мягкий, в свищах и проточинах. При первом же ударе молота он развалился, дал трещины. Теперь он загублен, в нем не осталось ни ладу, ни смысла, он исчерчен рубцами и шрамами, словно покинутая каменоломня в горах. Никогда я не был приятен на вид, но с каким отвращением я смотрю сейчас на эту разможженную, искалеченную рожу». Микеланджело был полон отчаяния. Теперь он действительно станет уродливым ваятелем, который хочет создавать прекрасные мраморы.10
Опухоль на лице спадала, синяки и кровоподтеки исчезали, но показаться на люди таким изменившимся и искалеченным Микеланджело все еще не решался. Однако, не отваживаясь выдержать встречу с Флоренцией днем, он покидал дворец ночью и вволю бродил по стихнувшим улицам, давая выход своей накопившейся энергии. Как необычно и странно выглядел темный город с масляными фонарями на дворцах, какими громадными казались каменные здания, задремавшие под звездами ночного неба! Однажды в комнату Микеланджело явился Полициано и, не обращая внимания на Бертольдо, осведомился у больного: — Могу я присесть? Микеланджело, я только что закончил перевод Овидиевых метаморфоз на итальянский. Когда я переводил рассказ Нестора о тучеродных кентаврах, мне пришло на ум, какое чудесное изваяние ты мог бы сделать, показав битву кентавров с лапифами. Микеланджело сидел в кровати и разглядывал Полициано, мысленно сравнивая свое уродливое лицо с его лицом. Ученый покачивался в кресле, склонив голову и поблескивая крохотными, как бусины, глазками; маслянисто-черные космы волос Полициано производили впечатление таких же влажных, как и его темно-красные, омерзительно чувственные губы. Но как ни безобразен был Полициано, теперь, когда он говорил об Овидии и Овидиевых переложениях древнегреческих мифов, его лицо будто озарял какой-то внутренний жар. — Сцена открывается такими строками:В первое же утро, как он, вернувшись в город, вышел из дворца, его остановил какой-то монах, переспросил имя, вытащил из-под своей черной сутаны письмо, сунул ему в руки и тотчас исчез, столь же неожиданно, как и появился. Микеланджело развернул бумагу и, увидев подпись брата, начал читать. Брат умолял Микеланджело оставить мысль о языческом, богохульном изваянии, которое навлекло бы на его душу страшную опасность; а если он уж так упорствует и хочет по-прежнему высекать каменных кумиров, то ему следует думать лишь о сюжетах, освященных церковью. «Битва кентавров, — заканчивал свое письмо Лионардо, — это дьявольское сказание, и мысль о нем нашептал тебе злой, порочный человек. Откажись от этого замысла и вернись в лоно Христовой церкви». Микеланджело еще раз перечитал письмо, не веря своим глазам. Откуда может знать Лионардо, укрывшийся за монастырскими стенами, над какой темой работает его старший брат? И как он пронюхал, что эта тема подсказана ему Полициано? Ведь он, Микеланджело, пока всего-навсего ученик. Кому какое дело, над чем работает подмастерье, и разве это может стать предметом пересудов и уличных толков? Микеланджело на минуту даже устрашился: как хорошо осведомлены монахи Сан Марко обо всем, что творится в городе! Он понес письмо брата в кабинет Лоренцо. — Если я причиняю вам какой-то ущерб, выбрав эту тему, — тихо сказал он Великолепному, — то, может быть, мне лучше взять другую? Лоренцо выглядел очень усталым. Вызов Савонаролы во Флоренцию оказался ошибкой, монах доставлял одни огорчения. — Да, именно этого хочет добиться фра Савонарола — всех запутать, навязать нам свою цензуру. Дай ему волю — и он превратит наш великолепный Собор в душную тюрьму. Но мы не будем ему потакать. Уступить ему в одном, даже в самом малом, значит помочь ему вырвать у нас и следующую уступку. Продолжай свою работу, как задумал. Микеланджело разорвал письмо Лионардо и бросил его в бронзовый этрусский горшок, стоявший под столиком Лоренцо.
11
Он взял корчагу чистого пчелиного воска и поставил ее на огонь, в горящие уголья. Затем, остудив расплавленный воск, он размял его и раскатал на тонкие полоски. Утром, начиная работу, он смачивал пальцы скипидаром: воск тогда делался более податливым. Поскольку он задумал высечь горельеф, фигуры на переднем плане должны были сильно выдаваться. Круглолицый Буджардини, питавший к резьбе по мрамору такое же глубокое отвращение, как и Граначчи, теперь проводил под навесом почти целые дни: на нем лежала вся подсобная работа, и он стал у Микеланджело как бы правой рукой. Тот попросил его вырубить деревянный блок точно такого же размера, как предполагаемый мраморный, и натянуть на дерево проволочный каркас. Потом, пользуясь своими подготовительными рисунками, Микеланджело начал лепить восковые фигуры, крепя их на проволоке: предстояло найти положение каждой руки, каждого торса и головы, каждого камня, которые будут высечены в мраморе. Мраморную глыбу, вполне пригодную для работы, он обнаружил близ дворца Лоренцо, не выходя за ворота. Буджардини помог перетащить глыбу в Сады, под навес; там, чтобы не обламывались и не крошились углы, камень огородили деревянными брусьями. Микеланджело ощущал особую бодрость и силу только от того, что он стоял подле мрамора и смотрел на него. Когда он приступил к первоначальной, самой грубой обработке глыбы, он наваливался на инструмент всем своим телом; широко расставя ноги для упора, он крепко бил молотком, заботясь лишь о золотом правиле скульптора: сила удара должна быть равной силе сопротивления того камня, который надо отсечь. Он вспомнил, как визжит кастрюля, когда по ней скребут металлическим предметом, или как болезненно отзываются зубы, столкнувшись с железом, — с такой же остротой он всеми своими нервами чувствовал теперь, что испытывает под резцом мрамор. Он стремился выразить себя, свою сущность в объемных формах, в пространстве. И поскольку он жаждал этого, он твердо знал, что должен быть скульптором: ему хотелось заполнить пустоту величественными статуями — они будут высечены из благородного мрамора и явят перед миром самые заветные, самые высокие чувства. Слои кристаллов шли в глыбе витыми кругами, как в срезе дерева, и расширялись по направлению к той стороне камня, которая была обращена у него когда-то к востоку; Микеланджело установил, откуда всходит солнце, и повернул блок так, чтобы он занял то самое положение, в каком лежал в горах, в дикой породе. Он будет рубить эту глыбу поперек зерна, направляя удар с севера на юг или с юга на север, иначе слои начнут шелушиться или обламываться. Он сделал глубокий вдох, набирая в легкие воздуха, и, готовый к атаке, поднял молоток и резец. Скоро его руки и лицо покрыла мраморная пыль, она стала проникать и в одежду. Как хорошо прикоснуться к своему лицу и ощутить на нем эту пыль — пальцы тронули словно не лицо, а самый мрамор. В эту минуту у Микеланджело было такое чувство, будто он и его камень — это одно существо, одно неразрывное целое. В субботу по вечерам дворец пустел. Пьеро и Альфонсина уезжали с визитами в знатные дома Флоренции; Джованни и Джулио тоже бывали где-то в гостях; Лоренцо, если верить слухам, предавался разврату и пьянству в компании молодых повес. Микеланджело так и не знал, насколько правдивы были эти слухи, но наутро Лоренцо обычно казался вялым и изнуренным. Подагра, унаследованная Лоренцо от отца, нередко заставляла его лежать в постели, а когда он поднимался и, прихрамывая, ходил по дворцу, то был вынужден опираться на тяжелую палку. В такие вечера Микеланджело ужинал с Контессиной и Джулиано наверху, в открытой лоджии. В мягком вечернем сумраке горели на столе свечи, Контессина и Микеланджело ели холодный арбуз и дружески болтали. Она рассказывала ему, что ей удалось вычитать у Боккаччо о кентаврах. — А знаешь, от традиционного изображения битвы кентавров в моем рельефе почти ничего не осталось, — со смехом признался Микеланджело. Он вынул из-за пазухи бумагу, вытащил из кошелька коротенький угольный карандаш и, живо сделав набросок, объяснил Контессине, как он видит свою будущую работу. Камень был основой жизни человека, он же приносил ему и гибель. Надо выразить в изваянии, что человек и камень слиты воедино: пусть куски камня, которыми швыряются лапифы и кентавры, и их головы будут показаны как бы на равных правах. Все двадцать мужчин, женщин и кентавров сомкнутся в единую массу; каждая фигура отразит лишь какую-то грань многоликой природы человека, ведь в любом мужчине есть что-то от зверя, от животного, в любой женщине — что-то от мужчины, — эти противоположные начала насмерть борются друг с другом. Энергичными линиями Микеланджело показал на бумаге, какие чисто скульптурные задачи он перед собой ставит: один за другим высечь три яруса фигур, все глубже отступающих внутрь рельефа; все персонажи должны быть живыми и полнокровными, рельеф ничуть не скует и не поглотит форм, каждая фигура будет изваяна свободно и внушит зрителю ощущение силы. — Однажды ты сказал, что для того, чтобы высечь изваяние, надо чему-то поклоняться. Чему же поклоняешься ты сейчас, высекая свою битву лапифов и кентавров? — Самому высокому и совершенному, что только есть в искусстве: человеческому телу. Его красота и выразительность неисчерпаемы. Контессина машинально посмотрела на свои тонкие ноги, на едва развившуюся грудь и с усмешкой встретила взгляд Микеланджело. — А ведь я могу немало повредить тебе, если стану всюду рассказывать, что ты боготворишь человеческое тело. Платон, может быть, и согласился бы с тобой, но Савонарола сжег бы тебя на костре как еретика. — Нет, Контессина. Я восхищаюсь человеком, но я благоговею перед Господом за то, что он создал человека. Они весело рассмеялись, заглядывая друг другу в глаза. Заметив, как Контессина неожиданно посмотрела на дверь и сделала резкое движение, отстраняясь от него, а ее щеки покрылись красными пятнами, Микеланджело обернулся и по позе Лоренцо понял, что тот стоял и наблюдал за ними не одну минуту. Для стороннего человека все здесь было проникнуто духом особой, интимной доверительности, хотя Микеланджело не отдавал себе в этом отчета. Сейчас, когда уединение было нарушено, атмосфера сразу стала иною: эту перемену ощутили все — и Микеланджело, и Контессина, и Лоренцо. Лоренцо стоял молча, сжав губы. — …мы… мы тут обсуждали… я сделал несколько набросков… Суровая складка, лежавшая меж бровей Лоренцо, разгладилась. Он прошел к столу и осмотрел рисунки. — Джулио мне докладывает о ваших встречах. То, что вы дружите, — это хорошо. Это не повредит вам, ни тому, ни другому. Очень важно, чтобы у художника были друзья. В равной мере важно, чтобы они были и у Медичи.Несколько дней спустя, вечером, когда в небе сияла полная луна и воздух был насыщен запахами полей, они сидели у окна в библиотеке, глядя на Виа Ларга и далекие окружные холмы. — Флоренция при лунном свете прямо-таки волшебна, — вздохнула Контессина. — Мне хочется забраться куда-то высоко-высоко и увидеть ее всю сразу. — Я знаю такое место, — отозвался Микеланджело. — Это за рекой, на том берегу. Когда смотришь оттуда вниз, возникает ощущение, что стоит протянуть руки, и ты обнимешь весь город. — А можно туда пойти? Вот сейчас же? На улицу мы проберемся через задний сад. Сначала выйдешь ты, а потом я. Чтобы меня не узнали, я надену глухой капор. Микеланджело повел ее своей обычной дорогой; они повернули к мосту Всех Благодатей, вышли на противоположную сторону Арно и поднялись к старой крепости. Сидя на парапете, они опустили ноги вниз и болтали ими, будто окуная их в серые каменные воды города. Микеланджело показал Контессине виллу Лоренцо в Фьезоле, а чуть пониже виллы — Бадию; показал стену и восемь башен, охраняющих город у подножия холмов Фьезоле; поблескивавшие под луной здания Баптистерия, Собора и Кампанилы; золотистую громаду Синьории; плотный овал всего города, стянутого поясом стен и рекою. Здесь, на этой стороне Арно, мерцал в лунных лучах дворец Питти, построенный из камня, добытого совсем близко, в садах Боболи, которые темнели позади парапета. Микеланджело и Контессина сидели рядом, почти касаясь друг друга; они были заворожены и луной, и красотою города: холмы гряда за грядой обступали их, замыкая со всех сторон, как стены замыкали Флоренцию. Блуждая по шершавому камню парапета, руки Микеланджело и Контессины тянулись все ближе друг к другу; наконец пальцы их, встретясь, переплелись. Последствия не заставили себя долго ждать. Лоренцо, возвратясь из Виньоне, где он в течение некоторого времени принимал лечебные ванны, вызвал Микеланджело среди дня, оторвав его от работы. Лоренцо сидел за большим столом в своей приемной; на стенах висели карта Италии, карта мира, изображение замка Сфорца в Милане; в шкафах виднелось множество драгоценных ваз, изделия из слоновой кости, книги Данте и Петрарки в багряных кожаных переплетах, Библия в багряном же переплете из бархата, с серебряными украшениями. Рядом с Лоренцо стоял его секретарь, мессер Пьеро да Биббиена. Говорить Микеланджело, зачем он вызван, оказалось излишним. — Она была в безопасности, ваша светлость. Я не отходил от нее ни на минуту. — Я так и полагаю. Но неужто вы считали, что за вами никто не следит? Когда Контессина выходила из сада через задние ворота, ее видел Джулио. Чувствуя, как к горлу подкатывает горький ком, Микеланджело ответил: — Я поступил неблагоразумно. — Потом, отведя взгляд от пышного персидского ковра, он воскликнул: — Там было так красиво! Флоренция лежала под луной, как мраморный открытый карьер, все ее церкви и башни были словно изваяны из единого каменного пласта. — Я не сомневаюсь в твоих добрых намерениях, Микеланджело. Но у мессера Пьеро есть серьезные сомнения, мудро ли ты поступил. Ты ведь знаешь, сколько во Флоренции злых языков. — Кому придет в голову сказать дурное о маленькой девочке? Лоренцо на секунду задержал свой взгляд на лице Микеланджело. — На Контессину уже нельзя больше смотреть как на маленькую девочку. Она выросла. До сих пор я сам не сознавал этого. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать тебе, Микеланджело. Теперь можешь возвращаться в Сады и работать — я знаю, что ты только об этом и думаешь. Несмотря на такое разрешение, Микеланджело не двинулся с места. — Чтобы исправить дело, может быть, от меня требуется что-то еще? — Я уже принял все нужные меры. — Лоренцо вышел из-за стола и положил обе руки на дрожащие плечи Микеланджело. — Не огорчайся. Ты не хотел поступить дурно. Приоденься к обеду, там будет один человек, с ним тебе надо познакомиться. В том угнетенном состоянии духа, в котором пребывал Микеланджело, ему меньше всего хотелось обедать в обществе шестидесяти гостей, но ослушаться Лоренцо сейчас было невозможно. Он хорошенько вымылся, надел красно-коричневую шелковую тунику и направился и обеденный зал; грум усадил его на специально отведенное место рядом с гостем, Джанфранческо Альдовранди. Гость этот принадлежал к одному из самых знатных семейств Болоньи; Лоренцо назначил его подестой Флоренции на 1488 год. Микеланджело никак не мог сосредоточиться на разговоре, его голова и желудок мутились. Но Альдовранди не спускал с него глаз. — Его светлость весьма любезно показал мне твои рисунки и мраморную «Богоматерь с Младенцем». Я был взволнован. — Благодарю вас. — Я говорю это не ради пустых комплиментов. Дело в том, что я страстно люблю скульптуру и вырос подле великих творений Якопо делла Кверча. — Ах, — воскликнул Альдовранди, — именно поэтому я просил Великолепного дать мне возможность побеседовать с тобой! Якопо делла Кверча не знают во Флоренции, хотя это один из величайших ваятелей, какие только жили в Италии. Он был драматургом в скульптуре, как Донателло был поэтом. Я надеюсь, что ты приедешь в Болонью и у меня будет случай познакомить тебя с его работами. Они могут оказать огромное влияние на тебя. Микеланджело чуть было не сказал в ответ, что именно чьего-либо влияния, да еще огромного, он хочет избежать в первую очередь, но, как оказалось впоследствии, слова Альдовранди были пророческими. В течение нескольких дней после этого обеда Микеланджело не раз слышал, что Пьеро и Альфонсина упорно возражают против того, чтобы «плебею нахлебнику позволяли общаться на короткой ноге с дочерью Медичи», а мессер Пьеро да Баббиена послал уехавшему на воды Лоренцо записку, в которой содержалось глухое предупреждение: «Если относительно Контессины не будет предпринят известный шаг, то, возможно, вы пожалеете об этом». Прошло еще два-три дня, и Микеланджело понял, что имел в виду Лоренцо, когда говорил, что он принял все нужные меры. Контессина была услана в деревню, на виллу Ридольфи.
12
Микеланджело получил известие от отца. Дома беспокоились о Лионардо, — был слух, что он лежит больной в монастыре Сан Марко. — Не можешь ли ты воспользоваться своими связями с Медичи и проникнуть к Лионардо? — спросил Лодовико, когда Микеланджело явился домой. — В монастырские покои не допускается ни один посторонний. — Монастырь и церковь Сан Марко семейству Медичи не чужие, — заметила бабушка. — Ведь их выстроил Козимо, а Лоренцо поддерживает монастырь деньгами до сих пор. Прошла неделя, и Микеланджело убедился, что все его просьбы насчет того, чтобы проникнуть в монастырь, не возымели никакого действия. Затем он узнал, что в ближайшее воскресенье в церкви Сан Марко будет читать проповедь Савонарола. — На проповедь придут все монахи, — говорил Бертольдо приунывшему Микеланджело. — Там ты можешь увидеть и своего брата. Вы даже сумеете перемолвиться с ним. А ты нам потом расскажешь, что за человек этот Савонарола. В церкви Сан Марко тем ранним утром была восхитительная прохлада. Микеланджело рассчитывал встать у боковой двери, ближе к монастырю, чтобы Лионардо, идя на проповедь, оказался с ним рядом, однако этот план сразу же рухнул. Еще до рассвета в церковь набилось немало монахов; все в черном, они стояли плотной толпой, молясь и напевая псалмы. Капюшоны у них были низко опущены и закрывали лица. Был ли среди молящихся его брат, Микеланджело не мог решить. Несмотря на многолюдие, свободные места в церкви еще оставались. Когда всеобщий гул возвестил о появлении Савонаролы, Микеланджело пробрался поближе к кафедре и сел на краешек деревянной скамьи. Савонарола медленно ступал по лестнице, поднимаясь на кафедру; внешне он почти ничем не выделялся среди тех пятидесяти с лишним монахов, которые теснились в церкви. Капюшон доминиканца закутывал его голову и лицо, тонкую фигуру облегала сутана. Микеланджело успел разглядеть лишь кончик носа и темные, полузавешенные капюшоном глаза. Когда он начал проповедь, Микеланджело ясно почувствовал у него грубоватый северный выговор; в первые минуты голос его был спокоен, потом в нем зазвучали властные нотки; Савонарола излагал свой тезис о коррупции духовенства. Во дворце, когда там рьяно нападали на священников, Микеланджело не слыхал и малой доли тех обвинений, которые предъявлял им теперь Савонарола: священники преследуют скорее политические, чем религиозные цели; родители отдают своих сыновей церкви по чисто корыстным соображениям; все священники карьеристы и соглашатели, они ищут лишь богатства и власти; на их совести и симония, и непотизм, и лихоимство, и торговля мощами, и жадная погоня за бенефициями — «Грехи церкви переполнили мир!» Все больше распаляясь, Савонарола откинул капюшон, и Микеланджело впервые увидел его лицо. Оно показалось ему таким же напряженным и резким, как и те слова, что с нарастающим жаром и стремительностью слетали со странных, не похожих одна на другую губ Савонаролы: верхняя губа была у него тонкая, аскетическая, заставлявшая вспомнить о власянице, а нижняя — мясистая и чувственная, еще более чувственная, чем у Полициано. Его горящие черные глаза, обшаривая церковь вплоть до самых дальних углов, словно сыпали искры; худые, провалившиеся щеки с четко обозначенными выступами скул свидетельствовали о длительном посте; широкие, крупные ноздри большого горбатого носа трепетали и раздувались. Такое трагическое лицо не мог бы замыслить ни один художник, если бы он не был самим Савонаролой. Микеланджело любовался энергичной пластикой лица Савонаролы и невольно думал о том, что вот этот твердый, будто высеченный из темного мрамора подбородок монаха слеплен из той же плоти, что и его чувственная, жирная нижняя губа, — его только отполировали корундом и пемзой. Микеланджело оторвал взгляд от лица Савонаролы, чтобы внимательней вслушаться в речь, которая лилась, как поток расплавленной бронзы: голос проповедника наполнял церковь, отдавался в пустых капеллах и летел оттуда назад; заставив напрячься и покраснеть правое ухо, он уже стучался в левое. — Я вижу, как гордыня и суета захлестывают Рим и оскверняют на своем пути все, что ни встретят, — Рим теперь стал размалеванной, тщеславной шлюхой! О Италия, о Рим, о Флоренция! Ваши мерзостные деяния, нечестивые помыслы, ваш блуд и жадное лихоимство несет нам несчастье и горе! Оставьте же роскошь и пустые забавы! Оставьте ваших любовниц и мальчиков! Истинно говорю вам: земля залита кровью, а духовенство коснеет в бездействии. Что им до Господа, этим священникам, если ночи они проводят с распутными женщинами, а днем лишь сплетничают в своих ризницах! Сам алтарь уже обращен ныне в подобие торговой конторы. Вами правит корысть — даже святые таинства стали разменной монетой! Похоть сделала вас меднолобой блудницей. Если бы вы устыдились своих грехов, если бы священники обрели право назвать своих духовных чад братьями! Времени остается мало. Господь говорит: «Я обрушусь на ваше бесчестье и злобу, на ваших блудниц и на ваши чертоги». Савонарола стыдил и бичевал жителей Флоренции, он говорил им, что именно Флоренция послужила прообразом города Дата, который описан у Данте:Он считал, что долг перед Лоренцо обязывает его пойти на проповедь в день Всех Святых. Церковь на этот раз была переполнена. Савонарола начал свою речь опять в спокойном, поучающем тоне, объясняя верующим таинства мессы и непреложность господнего слова. Те, кто слушал монаха впервые, были разочарованы. Но пока он лишь взбадривал себя, готовясь к наступлению; скоро он пустил в ход все свое искусство и стал говорить с неистовым жаром; звуки его могучего голоса словно хлестали толпу. Он атаковал духовенство: «Нередко слышишь речение: „Благословен дом, где есть богатая паства“. Но придет время, когда скажут: „Горе этому дому!“ Острие меча будет занесено над вашими головами. Печаль и невзгоды поразят вас в сердце. Этот город уже не назовут больше Флоренцией, его назовут логовом, где царят грабежи, разбой и позорное кровопролитие». Он бичевал ростовщиков: «Вы повинны в жадности, вы подкупаете всех выборных лиц, вы расстраиваете управление. Никто не в силах убедить вас в том, что давать деньги в рост — тяжкий грех; напротив, вы смеетесь над теми людьми, которые не делают этого, и называете их глупцами». Он глумился над нравами флорентинцев: «Глядя на вас, сознаешь, что сбылись слова Исайи: „О грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают: горе душе их!“ И вы оправдали слова Иеремии: „У тебя лоб блудницы, — ты отбросила стыд“. Воистину вас устыдить невозможно!» Он заявил: «Я было поклялся воздержаться от пророчеств, но голос в ночи сказал мне однажды: „Безумец, разве ты не видишь, что твои пророчества — воля всевышнего?“ Вот почему я не могу, не имею права замолкнуть. И я говорю вам: знайте же, неслыханные времена близки, страшные беды вот-вот грянут!» В церкви все усиливался шум и ропот. Многие женщины рыдали. Микеланджело поднялся с места и через боковой неф стал пробиваться к выходу: гневный голос проповедника настигал его даже в дверях. Он пересек площадь Сан Марко, вошел в Сады и укрылся под своим навесом: его всего трясло, будто в лихорадке. Он твердо решил: в церковь он больше не пойдет — какое ему дело до всех этих исступленных обличений разврата, лихоимства и жадности?
13
Контессина нашла его в библиотеке, где он, листая старинный манускрипт, срисовывал иллюстрации. Она только что вернулась из деревни, прожив там несколько недель. Лицо ее было пепельно-серым. Микеланджело вскочил со стула. — Контессина, ты больна? Садись же, пожалуйста. — Я должна тебе сказать… — Она опустилась на стул и протянула руки к холодному камину, будто стараясь согреться. — Контракт уже подписан. — Контракт? — Контракт о моем браке… с Пьеро Ридольфи. Я не хотела, чтобы ты узнал это, слушая дворцовые сплетни. Помолчав мгновение, он жестоко сказал: — Ты думаешь, это может меня поразить? Ведь всем известно, что Медичи выдают своих дочерей замуж лишь по политическому расчету: Маддалену за папского сына Франческето Чибо, Лукрецию за Якопо Сальвиати… — Я и не думала, что это поразит тебя, Микеланджело, в большей мере, чем поразило меня. Он твердо и прямо взглянул ей в глаза, впервые за весь разговор. — А тебя поразило? — Нет, почему же? Ведь всем известно, что Медичи выдают своих дочерей замуж лишь по политическому расчету. — Извини меня, Контессина. Мне было очень больно. — Не беспокойся, Микеланджело, теперь все хорошо. — Она задумчиво улыбнулась. — Теперь я знаю тебя. — Ну, а когда… свадьба? — Не скоро. Я еще слишком молода. Я попросила год отсрочки. — И все-таки теперь все меняется. — Не для нас. Во дворце мы по-прежнему друзья. После недолгой паузы Микеланджело спросил: — А Пьеро Ридольфи — он не сделает тебя несчастной? Он любит тебя? Взглянув на него, она потупилась. — Мы не входили в такие подробности. Я сделаю то, что должна сделать. Но мои чувства останутся моими. Она встала и подалась к нему всем телом. Он стоял, опустив голову, как зверь, застигнутый бурей. Когда он, наконец, поднял взгляд, он заметил, что на глазах ее блестели слезы. Он протянул руку и медленно, неловко стал сплетать свои пальцы с ее пальцами, пока они не переплелись совсем крепко. Потом она вышла, оставив за собой еле слышный запах мимозы; в горле у него была горячая сухость.Невольно вспоминал теперь Микеланджело грозный, звенящий голос Савонаролы и его заклинания: все, о чем предупреждал брат Лионардо, сбывалось. Читая вторую свою проповедь о прегрешениях флорентинцев, Савонарола, в самой середине речи, вдруг обрушился на Лоренцо, объявив его величайшим злом Флоренции; он предсказывал скорый крах власти Медичи и более того — свержение римского папы. Платоновская академия спешно собралась в кабинете Лоренцо. Микеланджело рассказал о тех двух проповедях Савонаролы, которые он слушал, потом о предостережениях Лионардо. Хотя Лоренцо вел в свое время не одну памятную битву против Ватикана, ссориться с папой Иннокентием Восьмым ему не хотелось: через несколько месяцев Джованни будет утвержден кардиналом и, переехав в Рим, станет защищать там интересы дома. А сейчас папа вполне мог вообразить, что поскольку Савонарола вызван во Флоренцию по воле Лоренцо и проповедует в церкви, которой покровительствуют Медичи, то и на папскую власть он нападает с ведома и согласия Лоренцо. — Это не плохо, что он выступил не только против папы, но и против меня, — говорил Лоренцо печально-равнодушным тоном. — Надо заточить его в тюрьму — отозвался Полициано. — Нет, но мы должны положить конец его пророчествам, — продолжал Лоренцо. — Пророчества чужды нашей религии и отнюдь не входят в его обязанности. Пико, тебе надо принять соответствующие меры. Ущерб понесли в первую очередь Сады. Граначчи докладывал, что шаловливый Баччио вдруг впал в задумчивость, почти не разговаривал, потом начал исчезать, пропадая иногда на день или на два. С некоторых пор он дурно отзывался о Медичи, затем стал превозносить достоинства Савонаролы и расхваливать уединенную жизнь в монастыре. Наступил день, когда он сбежал к доминиканцам. Проповеди Савонаролы в церкви Сан Марко привлекали теперь такие толпы людей, что в конце марта, на второе воскресенье великого поста, он выступил уже в Соборе. Там сошлось десять тысяч флорентинцев, но Собор был столь высок и огромен, что и такое множество прихожан будто терялось под его сводами. С тех пор как Микеланджело слушал Савонаролу в церкви Сан Марко, монах сильно изменился. От строгого поста и долгих молитв на коленях в монастырской келье он ослабел; чтобы подняться по лестнице на кафедру, он должен был напрячь все свои силы. Савонарола полностью принял теперь на себя роль Иисуса Христа. — Неужели вы не видите воочию, что всевышний глаголет моими устами? Я семь глас господен на земле! Молящихся охватывала холодная дрожь. Сам Савонарола впадал в такой же трепет, как и его поклонники. Микеланджело явился в Собор незадолго до конца службы: ему хотелось увидеться с отцом и родственниками, встретить товарищей, сбежавших с работы в церкви Санта Кроче, чтобы послушать нового пророка. Он стоял в дверях и смотрел вверх, на хоры: там, по обе стороны алтаря, тянулись резные перила, украшенные Донателло и Лукой делла Роббиа; там резвились, пели, танцевали, смеялись, играли на музыкальных инструментах мраморные мальчики, истинные эллины в своей радости и любви к жизни, в своей телесной красоте и грации. Эти мраморные мальчики говорили Микеланджело: «Люди добры!» А внизу, с кафедры, гремел Савонарола: «Человечность есть зло!» Кто же прав? Донателло и делла Роббиа? Или Савонарола? Мрак, навеянный церковной проповедью, витал и над обеденным столом Буонарроти. Лукреция чуть не плакала. — Ну прямо не человек, а чистый дьявол! Из-за него подгорела такая чудесная белая телятина. Лодовико, если ты опять захочешь идти слушать Савонаролу, то пусть это будет после обеда, а не до обеда. Хотя религиозная смута встревожила всю Флоренцию, Микеланджело продолжал спокойно работать. В отличие от Савонаролы Микеланджело не мог убедить себя в том, что господь говорит его устами, но он чувствовал, что если бы бог увидел его работу, то он бы одобрил ее. Он испытывал к Савонароле чувство ревнивого восхищения. Разве это не идеалист? И он, Микеланджело, разве он тоже не идеалист, если Рустичи говорит ему: «Ты как Савонарола: все время постишься, потому что не можешь заставить себя прервать работу, когда наступает полдень!» Вспомнив это ядовитое замечание, Микеланджело скорчил гримасу. Разве он не чувствует в себе решимости безраздельно отдаться своему делу и преобразовать скульптуру, как некогда преобразовал ее Фидий, который в искусство древних египтян, боготворивших смерть, вдохнул эллинскую человечность? Иразве он не готов, если это необходимо, к посту и молитве, к любому искусу, лишь бы у него достало сил хоть ползком приползти в эти Сады, в эту мастерскую? И неужто не может господь возвестить слово своим чадам? Разве у него нет такого права? Нет такого могущества? Микеланджело верил в Бога. Если Бог сотворил землю и человека, почему же он не может создать пророка… или скульптора? Синьория предложила Савонароле выступить перед нею в Большом зале своего дворца. Лоренцо, четверо платоников, все зависящие от Медичи важные должностные лица заявили о своем желании послушать монаха. Микеланджело сел на длинную скамью, заняв место между Контессиной и Джованни, и пристально посмотрел на Савонаролу. Тот стоял на возвышении, перед деревянным аналоем; позади него сидели члены городской управы. Когда Савонарола в первый раз назвал Лоренцо де Медичи тираном, Микеланджело заметил, что на губах правителя мелькнула слабая улыбка. Сам Микеланджело в речь Савонаролы почти не вслушивался; глядя на огромные стены зала, покрытые белоснежной штукатуркой, он думал, какими великолепными фресками можно было бы их расписать. Скоро Лоренцо уже перестал улыбаться: Савонарола шел в открытое наступление. Все дурное и хорошее, что только есть в этом городе, говорил он, зависит от правителя. Отсюда понятно, как велика ответственность этого человека. Если глава города стоит на верном пути, благословен и весь город. Но тираны неисправимы, ибо они объяты гордыней. Они передают все дела в руки дурных сановников. Они не внимают просьбе бедного, они не обличат и богатого. Они подкупают выборщиков и взваливают все более тяжкое бремя на плечи народа. Теперь Микеланджело уже слушал гораздо внимательней: Савонарола обвинял Лоренцо в том, что он захватил Кассу Приданого — деньги, вносимые бедными жителями Флоренции в городскую казну с тем, чтобы их дочери всегда располагали приданым, без которого ни одна тосканская девушка не могла и мечтать о замужестве; Лоренцо, утверждал Савонарола, потратил эти деньги, скупая кощунственные манускрипты и произведения искусства; на эти же средства он устраивал омерзительные вакханалии, превращая тем самым народ Флоренции в добычу дьявола. Темное лицо Лоренцо позеленело. Но Савонарола высказал еще не все: он потребовал, чтобы Лоренцо, этот развратный тиран, был свергнут. Бесчестная Синьория, члены которой сидели позади Савонаролы, должна быть распущена. Судьи и все официальные лица должны подать в отставку. Должно быть создано совершенно новое правительство, действующее по совершенно новым и строгим законам, — оно сделает Флоренцию Божьим Городом. Кто будет править Флоренцией? Кто будет устанавливать новые законы и следить за их исполнением? Савонарола. Так повелел Господь.
14
Явившись в кабинет Лоренцо, Микеланджело застал там настоятеля монастыря Сан Галло фра Мариано. Этот проповедник-гуманист быстро терял теперь паству, переходившую к Савонароле. Микеланджело пододвинул свой стул к низенькому столику, положил на тарелку яблоко и молча стал вникать в беседу. — Мы не будем опровергать клевету, которую Савонарола возводит лично на нас, — говорил Лоренцо. — Такие факты, как дело с Кассой Приданого, ясны каждому флорентинцу. Но пророчества Савонаролы о грядущих бедах вызывают в городе истерию, и она все усиливается. Фра Мариано, я полагаю, что именно вы дадите ответ Савонароле. Могу ли я предложить вам выступить с проповедью на тему седьмого стиха главы первой Деяний святых апостолов: «Он же сказал им: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти»? Лицо фра Мариано просияло. — Я коснусь в этой проповеди всей истории пророчеств и объясню, каким образом Господь возвещал свое слово людям. Я докажу, что Савонароле не хватает лишь котла, над которым колдуют ведьмы… — Не горячитесь, — сказал Лоренцо. — Ваша проповедь должна быть спокойной и неопровержимой. Вы должны привести такие факты и изложить их с такой убедительностью, чтобы разницу между откровением и колдовством увидели все. Разговор далее пошел о том, какие материалы из Библии и других источников надо будет взять фра Мариано для проповеди. Микеланджело доел свое яблоко и потихоньку удалился. Весь последующий месяц он работал в полном покое. Он почти отгородился от мира, мало спал, мало ел, упорно высекая из своего блока двадцать сгрудившихся в схватке фигур. Дворцовая челядь оповестила верующих, что они должны явиться в день Вознесения в церковь Сан Галло, — фра Мариано произнесет там речь против Савонаролы. Придя к самому началу проповеди, Микеланджело увидел, что в церкви присутствуют почти все знатнейшие семьи Тосканы: тут были дворяне, богатые землевладельцы, купцы, ученые, путешественники из Европы и Англии, члены Синьории, судьи и юристы со всех четырех концов Флоренции. Фра Мариано поднялся на кафедру; говорил он изысканно, как ученый, и начал свою проповедь, процитировав Козимо де Медичи: «Черные сутаны управлять государством не могут»; слова эти вызвали среди слушателей одобрительный смешок. Потом фра Мариано стал основательнейшим образом доказывать необходимость разделения церкви и государства, отметив, что в противном случае свобода человека окажется под угрозой. Начало было вполне удачным. Лоренцо, сидя на своей скамье, блаженствовал. Прихожане внимательно слушали проповедника и были особенно довольны, когда он, переходя от одного логического довода к другому и постоянно ссылаясь на Писание, старался показать истинную роль церкви и ее место в духовной жизни народа. Затем произошло что-то нелепое. Густо покраснев, фра Мариано вдруг вскинул руки вверх с тем же неистовством, с каким это делал Савонарола. Когда он впервые упомянул имя Джироламо Савонаролы, выплюнув это слово из уст, как что-то нечистое, голос его резко изменился. Все тщательно продуманные и взвешенные аргументы были отброшены прочь: награждая Савонаролу самыми бранными эпитетами, фра Мариано назвал его «коноводом всех смут и бесчинств». Раздумывая над тем, что случилось, Микеланджело решил одно: фра Мариано проявил слабость и позволил возобладать своему чувству зависти к Савонароле, пожертвовав доводами благоразумия. Фра Мариано еще не закончил проповеди, как Лоренцо, прихрамывая, двинулся к выходу: вслед за ним шло все его семейство. Впервые на памяти Микеланджело во дворце воцарился такой гнетущий мрак. Превозмогая острый приступ подагры, Лоренцо еле ковылял по залам. Потрясенный происшедшим, Полициано льнул к Лоренцо, будто ребенок, забыв все свои остроты и ученые рассуждения. Фичино и Ландино с горечью видели, что дело их жизни находится под ударом: Савонарола грозился сжечь во Флоренции все книги, кроме книг признанных церковных комментаторов. Хуже всех было положение Пико: он не только посоветовал в свое время пригласить Савонаролу во Флоренцию, но до сих пор разделял многие пункты его программы и по своей честности не мог скрыть этого от Лоренцо. Лоренцо решил снова перейти в наступление и с этой целью пригласил в свой кабинет настоятеля монастыря Санто Спирито Бикьеллини. Микеланджело давно знал этого человека, познакомившись с ним во дворце на воскресных обедах; иногда он провожал настоятеля в церковь и срисовывал там прославленные фрески, в том числе изображение Иоанна Крестителя. Настоятель, энергичный мужчина лет пятидесяти, славился во Флоренции тем, что в отличие от всех остальных жителей города ходил по улицам в очках. — Лица прохожих, когда все спешат, — сказал он однажды Микеланджело, — напоминают мне мелькающие страницы книги, которую листает ветер. Пользуясь этими могущественными линзами, я вижу и выражение лиц, и их характерные особенности. Настоятель сидел теперь перед низеньким столиком, а Лоренцо спрашивал его, не может ли он выписать из Рима «самого блестящего проповедника-августинца с тем, чтобы вправить мозги жителям Флоренции». — Мне кажется, я знаю такого человека. Я сегодня же напишу в Рим. Скоро Флоренции пришлось слушать августинского монаха, который, не выходя из чисто богословских рамок, нападал на крайности учения Савонаролы и указывал на его опасность: люди шли в церковь Санто Спирито, вежливо ждали конца проповеди и уходили, на испытав никаких чувств. Микеланджело вновь укрылся в своей мастерской под навесом, стараясь не отрываться от работы, но дурные вести проникали и сюда. Так, например, Пико тщетно убеждал Лоренцо не подсылать шпионов к Савонароле и не надеяться подловить его на каком-нибудь «плотском грехе» — монах, по словам Пико, был слишком фанатичен и предан своему делу, чтобы поддаться соблазнам. В результате шпионы Савонаролы выследили шпионов Лоренцо и разоблачили их. Фра Мариано изменил Лоренцо и на коленях ползал перед Савонаролой, вымаливая прощение. В Платоновскую академию на лекции явилась лишь горстка студентов. Флорентинские печатники отказывались что-либо печатать без одобрения Савонаролы. Сандро Боттичелли тоже перешел к Савонароле и публично объявил, что все его изображения обнаженных женщин непристойны, бесстыдны и безнравственны. Микеланджело все еще в душе одобрял поход Савонаролы за реформу, ему только не нравилось, что монах нападает на Медичи и на искусство. Когда он пытался высказать свои взгляды и сомнения, Бертольдо гневался, а когда Микеланджело показал ему свой новый рельеф, он заявил, что Микеланджело совсем не проник в сущность темы. — Твой рельеф чересчур беден и прост. Как будто ты и не изучал мою «Битву римлян» в Пизе. У тебя утрачена вся роскошь и богатство. Это, по-моему, явное влияние Савонаролы. Где тут кони, где развевающиеся одежды, мечи и копья? Что же ты, в конце концов, хочешь изображать? — Людей, — пробормотал Микеланджело. — Твоя вещь убога, ужасно убога. Если ты спрашиваешь мое мнение, я тебе скажу: этот мрамор надо выкинуть, как неудавшийся, и попросить Граначчи найти новую глыбу. После этого разговора Бертольдо не заглядывал в убежище Микеланджело несколько дней. Зато пришел другой посетитель: брат Лионардо. Он был в плаще с капюшоном, щеки у него совсем провалились. — Рад тебя видеть у себя в мастерской, Лионардо. Стиснув зубы, Лионардо смотрел на «Битву кентавров». — Я пришел по поводу твоей скульптуры. Мы хотим, чтобы ты подарил ее Господу Богу. — Как я могу это сделать? — Уничтожив ее. Вместе с картинами Боттичелли и другими непристойными произведениями искусства, которые добровольно сданы нашему духовному братству. Это будет первый костер, который зажжет Савонарола во имя очищения Флоренции. Так Микеланджело выслушал уже второе предложение уничтожить свою работу. — Ты считаешь, что этот рельеф непристоен? — Он кощунствен. Перенеси его к нам в Сан Марко и брось в костер своими руками. В голосе Лионардо звучало такое лихорадочное исступление, что Микеланджело еле сдерживал себя. Наконец он взял Лионардо за локоть, поразившись при этом, несмотря на весь свои гнев, как костлява и безжизненна рука брата, и задами вывел его по тропинке на улицу. Микеланджело предполагал, что, затратив еще несколько недель, он хорошенько отполирует свое изваяние, добившись на фигурах игры света. Но теперь он решил по-иному: он попросил Граначчи помочь ему переправить мрамор во дворец сегодня же вечером. Граначчи раздобыл тачку, и Буджардини покатил ее через площадь Сан Марко на Виа Ларга. С помощью Буджардини и Граначчи Микеланджело перенес мрамор в гостиную Лоренцо. Лоренцо не видел рельефа уже целый месяц, с тех пор как фра Мариано выступал со своей проповедью. Морщась от боли и прихрамывая, с тяжелой тростью в руке, он вошел в гостиную: лицо у него было желтое, глаза потускнели. Увидев рельеф, он изумился. Опустившись в кресло, Лоренцо долго смотрел на скульптуру и не произносил ни слова: он разглядывал мрамор часть за частью, фигуру за фигурой, на щеках у него проступил румянец. Его большое, расслабленное тело, казалось, заново оживает. Микеланджело стоял рядом с Лоренцо и тоже вглядывался в изваяние. Наконец Лоренцо повернул голову и посмотрел Микеланджело в лицо, глаза у него блестели. — Ты правильно сделал, что не стал полировать мрамор. Такая фактура, когда заметны следы резца, лучше передает анатомию. — Ваша светлость, выходит, рельеф вам нравится? — Что значит нравится? Я чувствую тут каждый мускул, каждый камень, каждую кость, — посмотри, как прижал ко лбу руку тот раненый юноша, что высечен внизу справа, — в другой руке у него камень, но кинуть его он уже явно не в силах. Нет, ничего подобного я еще не видал. — Насчет этого мрамора уже было одно предложение. — Что, нашелся покровитель? Кто-то хочет купить твою работу? — Не совсем так. Мне предлагали ее пожертвовать. Брат Лионардо передал мне, что Савонарола хочет, чтобы я подарил этот мрамор господу, кинув его в их костер. Наступила короткая, почти неуловимая пауза, после которой Лоренцо сказал: — И что ты ответил? — Я ответил, что распоряжаться этим мрамором я не вправе. Он принадлежит Лоренцо де Медичи. — Но мрамор твой. — Мой? И я могу даже отдать его Савонароле на костер? — Если ты пожелаешь. — Но предположим, ваша светлость, что я уже посвятил этот мрамор Господу Богу? Тому Богу, который создал человека по своему образу и подобию, наделив его своей добротой, и силой, и величием? Савонарола твердит, что человек подл и низок. Но разве Бог сотворил нас в гневе и ненависти? Лоренцо вдруг поднялся с места и начал ходить по комнате, на этот раз почти не прихрамывая. Вошедший слуга накрыл маленький столик на две персоны. — Садись и ешь и послушай, что я тебе скажу. Пожалуй, мне надо тоже закусить, хотя до сих пор у меня не было никакого аппетита. — Лоренцо потянулся к слегка поджаренной, хрустящей корочке хлеба. — Знай же, Микеланджело, что разрушительные силы всегда идут по пятам созидания. Каждая эпоха дает свой чудеснейший цветок — искусство, но наступает новое время, и, глядишь, этот цветок уже вырван из почвы, сломан, сожжен. Порой, как ты можешь убедиться на примере нашей Флоренции, его ломают и жгут твои былые друзья, соседи, которые еще вчера делили с тобой все заботы. Савонарола выступает не только против светского искусства и не только против «непристойности», он хочет уничтожить всякую живопись и скульптуру, если она чужда его воззрениям: он уничтожит фрески Мазаччо, Филиппе Липпи и Беноццо Гоццоли, которые находятся в нашей дворцовой часовне, уничтожит произведения Гирландайо, все греческие и римские статуи, большую часть флорентинских мраморов. Уцелеет очень немного — может быть, одни лишь ангелы фра Анжелико, украшающие кельи в Сан Марко. Если Савонарола возьмет власть в свои руки и укрепится, Флоренция будет обесчещена и опустошена, как были обесчещены и опустошены Афины, когда их захватила Спарта. Флорентинцы — народ, легко поддающийся настроению; если они пойдут за Савонаролой до конца, то все, что накопила Флоренция с тех пор, как мой дед объявил конкурс на двери Баптистерия, — все это будет превращено в пепел. Флоренцию снова окутает глубокий мрак. Потрясенный словами Лоренцо, Микеланджело воскликнул: — Как я ошибался, когда думал, что Савонарола хочет изгнать из жизни Флоренции одно лишь злое. Нет, он уничтожит и все доброе. Я как скульптор буду превращен в раба, мне отрубят обе руки. — Когда кто-то теряет свободу, других это не беспокоит, — печально сказал в ответ Лоренцо. Он отодвинул от себя тарелку. — Я хочу пригласить тебя пройтись со мной. Надо тебе кое-что показать. С тыльной стороны дворца, миновав небольшую, замкнутую с четырех сторон площадь, они подошли к родовой церкви Медичи — Сан Лоренцо. Здесь подле бронзовой кафедры, отлитой Бертольдо по проекту Донателло, был погребен Козимо, дед Лоренцо; в Старой сакристии, построенной Брунеллески, стоял саркофаг с останками родителей Козимо, Джованни ди Биччи и его жены; тут же помещался порфировый саркофаг Пьеро Подагрика, отца Лоренцо, — саркофаг был работы Верроккио. Но главный фасад церкви оставался пустым и неотделанным, — неровный, землистого цвета кирпич стены будто ждал руки мастера. — Микеланджело, это последний труд, который я намерен предпринять ради моего семейства, — покрыть фасад мрамором и поставить в нишах двадцать скульптурных фигур. — Двадцать фигур! Ровно столько же, сколько украшают фасад Собора. — Для тебя это не слишком много. Сделаешь фигуры в полный рост, в духе твоей «Битвы кентавров». Мы должны создать нечто такое, чему радовалась бы вся Италия. Микеланджело не знал, от чего у него что-то дрогнуло под сердцем — от счастья или от страха. — Лоренцо, я обещаю вам, я сделаю это! — порывисто ответил он. — Но мне потребуется время. Еще так многому надо учиться… Ведь я пока не высек ни одной круглой скульптуры. Придя к себе в комнату, Микеланджело увидел, что Бертольдо закутался в одеяло и сидит, скорчившись, над горящей жаровней, — глаза у него были красные, лицо мучнисто-белое. — Вам не по себе, Бертольдо? — Да, не по себе. Потому что я глупый, нелепый и слепой старик, которому давно пора убираться со света. — Что же вас так огорчает, маэстро? — полушутливо спросил Микеланджело, стараясь развеселить Бертольдо. — Твой мрамор в гостиной у Лоренцо. Когда я увидел его там, я с ужасом вспомнил, какую чушь я говорил о нем раньше. Я был неправ, глубоко неправ. Я подходил к нему как к вещи, отлитой из бронзы, а ведь твой рельеф — это именно мрамор, и перевести его в бронзу — только испортить. Ты должен простить меня, Микеланджело! — Дайте-ка я уложу вас в постель. Он укрыл старика пуховым одеялом и побежал вниз на кухню, чтобы согреть на углях кувшин вина. Прижимая к губам Бертольдо серебряный кубок, он говорил ему в утешение: — Бертольдо, если «Битва кентавров» хороша, то это только потому, что вы научили меня хорошо работать по мрамору. Ну а если она мало чем напоминает бронзу, то ведь вы сами внушали мне, что твердый камень и текучий металл — совсем не одно и то же. Так что не волнуйтесь и будьте довольны. Завтра мы начнем новую вещь, и вы станете учить меня дальше. — Да, завтра, — вздохнул Бертольдо. Глаза его закрылись, потом он быстро открыл их и сказал: — А ты уверен, что будет еще и завтра? Он снова закрыл глаза и стал засыпать. Через минуту дыхание его резко изменилось. Бертольдо дышал теперь тяжело, с огромным усилием. Микеланджело пошел будить мессера Пьеро, тот сейчас же послал слугу за личным врачом Лоренцо. Всю ночь Микеланджело держал Бертольдо на руках, стараясь облегчить ему дыхание. Доктор признался, что предложить какие-либо меры для спасения больного он не в силах. С первыми лучами рассвета Бертольдо открыл глаза, посмотрел на Микеланджело, на доктора, на мессера Пьеро и, поняв, в каком он состоянии, прошептал: — …отвезите меня в Поджо… там так красиво… Когда явился грум и объявил, что карета готова, Микеланджело поднял закутанного в одеяло Бертольдо на руки и держал его на коленях всю дорогу. Карета катила в направлении Пистойи, на самую изысканную из вилл Медичи, в прошлом принадлежавшую родственникам Микеланджело Ручеллаи; позднее Джулиане да Сангалло еще пышнее украсил виллу, возведя великолепные галереи. В пути беспрерывно хлестал дождь, но когда Бертольдо перенесли в его любимую комнату и уложили на высокую кровать, в окнах засияло солнце, осветив расстилавшуюся внизу реку Омброне и буйную зелень тосканского пейзажа. Желая утешить своего старого друга, прискакал Лоренцо; вместе с ним приехал маэстро Стефано да Прато и привез для больного новые лекарства. Бертольдо скончался поздним вечером на второй день. После того как священник соборовал его, он, чуть улыбаясь, произнес свои последние слова, будто желая покинуть этот мир не как ваятель, а как остроумец. — Микеланджело… ты мой наследник… как я был наследником Донателло. — Да. Бертольдо. Я горжусь этим. — Я хочу передать тебе все свое состояние… — Если такова ваша воля, Бертольдо. — Оно сделает тебя… богатым… знаменитым. Это моя поваренная книга. — Я буду хранить ее как сокровище. Бертольдо вновь слегка улыбнулся, словно бы он по секрету шепнул Микеланджело что-то шутливое, и закрыл глаза уже навсегда. Микеланджело молча простился с ним и вышел. Он потерял своего учителя. Другого учителя у него уже не будет.15
Беспорядок в Садах был теперь ужасный. Всякая работа прекратилась. Граначчи оставил свои почти уже законченные декорации для карнавала и целыми днями хлопотал и метался, нанимая натурщиков, изыскивая мраморные блоки, добиваясь мелких заказов на какой-нибудь саркофаг или изваяние богородицы. Заглянув как-то в конце дня к нему в мастерскую, Микеланджело сказал: — И к чему ты стараешься, Граначчи? Все равно нам здесь больше не учиться. — Перестань болтать. Нам надо лишь найти нового учителя. Лоренцо сказал вчера, что я должен ехать в Сиену и поискать там такого человека. Со скучающим видом зашли в мастерскую Сансовино и Рустичи. — Микеланджело прав, — сказал Сансовино. — Я хочу воспользоваться приглашением португальского короля и уехать в Португалию. — Мы уже выучились здесь всему, чему могли, — поддержал его Рустичи. — А я никогда и не собирался рубить этот камень, — говорил Буджардини. — Для такой работы у меня чересчур мягкая натура: я люблю кисть и краски. Пойду к Гирландайо и попрошусь, чтобы он взял меня к себе снова. Граначчи в упор посмотрел на Микеланджело: — Ну, а ты? Может быть, ты тоже уходишь? — Куда же мне уходить? Граначчи запер мастерскую, юноши разбрелись по своим делам. Провожая Граначчи, Микеланджело зашел к себе домой: надо было сообщить родным о смерти учителя. Поваренная книга растрогала Лукрецию почти до слез; некоторые рецепты она даже зачитывала вслух. Лодовико отнесся к кончине Бертольдо равнодушно. — Микеланджело, эта твоя новая скульптура — она окончена? — Вроде бы окончена. — А Великолепный, он ее видел? — Да. Я перевез скульптуру к нему. — И она ему понравилась? — Да. — Что ты долбишь, как дятел: «Да! Да!» Может быть, он изъявил свое удовольствие, одобрение? — Да, отец, изъявил. — Тогда где же деньги? — Какие деньги? — А пятьдесят флоринов. — Отец, вы просто… — Не увиливай, Микеланджело! Когда ты кончил «Богородицу с Младенцем», разве Великолепный не дал тебе пятьдесят флоринов? Выкладывай свои деньги. — Да никаких денег у меня нет. — Нет денег? Это за целый-то год работы? Ведь у тебя на эти деньги все права. — У меня нет никаких прав, отец; что мне раньше давали, то просто давали. — Великолепный заплатил тебе за одну скульптуру и не заплатил за другую. — Лодовико повысил голос: — Это значит, что она ему не понравилась. — Это может значить и то, что он болен, обеспокоен множеством дел… — Выходит, еще есть надежда, что он тебе заплатит? — Не имею представления. — Ты должен напомнить ему. Микеланджело горестно покачал головой; когда он в задумчивости шагал во дворец, на улицах было холодно и сыро. Художник без творческих замыслов в голове — все равно что нищий: бесплодно слоняется он, чего-то ожидая и вымаливая у каждого часа. Впервые за семь лет, с тех пор как Микеланджело начал учиться в школе Урбино, у него исчезло желание рисовать. О том, что на свете существует мрамор, он старался вообще не думать. Сломанный нос, совсем не беспокоивший его последние месяцы, вдруг начал болеть: одна ноздря плотно закрылась, дышать было трудно. Снова Микеланджело с горечью сознавал, как он безобразен. В Садах теперь стало необыкновенно тихо. Строительство библиотеки Лоренцо велел приостановить. Каменотесы ушли; замер размеренный стук их молотков, долго служивший Микеланджело таким естественным аккомпанементом, когда он трудился у себя под навесом. Назревали перемены, они будто носились в воздухе. Ученые-платоники бывали теперь в городе и читали лекции очень редко. По вечерам в кабинете Лоренцо они больше уже не собирались. Лоренцо решил уехать на виллу и основательно полечиться, оставив на полгода и дворец, и все свои обязанности. В деревне он рассчитывал не только покончить со своей подагрой, но и обдумать план неминуемой схватки с Савонаролой. Это будет борьба не на жизнь, а на смерть, говорил Лоренцо, и ему надо отдохнуть и набраться сил, чтобы действовать потом со всей энергией. Для предстоявшей битвы в руках Лоренцо было могущественное оружие: богатство, мощь, власть над местной администрацией, договоры с городами-государствами Италии и чужеземными державами, надежные друзья из царствующих династий соседних стран. А все земное достояние Савонаролы сводилось к потрепанному плащу, который был у него на плечах. Но Савонарола вел жизнь святого; одержимый своей идеей, он был непоколебим и неподкупен; блестящий проповедник, он уже добился серьезных реформ в быте тосканского духовенства и сильно повлиял на психологию тех богатых флорентинцев, которые, встав на его сторону, ратовали за строгую жизнь и осуждали потворство изнеженной плоти. Казалось, все это давало Савонароле шансы взять верх. Стремясь навести порядок в делах, Лоренцо не забыл принять меры к тому, чтобы наконец возвести Джованни в сан кардинала; Лоренцо опасался, что папа Иннокентий Восьмой, глубокий старец, может умереть, не выполнив своего обещания, а его преемник на троне, как это уже было с его предшественниками, может занять по отношению к Медичи враждебную позицию и не дать согласия на то, чтобы шестнадцатилетний юнец был допущен в круг высших лиц, правящих церковью. Лоренцо понимал также, что успешный исход дела с кардинальством Джованни будет стратегической победой и в борьбе с флорентинцами. Зная, что Лоренцо собирается уехать в Кареджи, Микеланджело был весьма озабочен: он видел, что Лоренцо мало-помалу уже передает все важнейшие дела управления в руки Пьеро. Как-то сложится его жизнь, если Пьеро станет полным хозяином во дворце? Ведь Пьеро без церемоний может и выставить его отсюда. Ибо теперь, когда работа в Садах фактически прекратилась, положение Микеланджело во дворце стало еще более неопределенным. Относительно каких-либо денег в связи с окончанием «Битвы кентавров» никто не говорил ни слова, поэтому Микеланджело даже не навещал пока своих домашних. Те три флорина на карманные расходы, которые Микеланджело обычно находил у себя на умывальном столике, тоже больше не появлялись. Микеланджело не нуждался в деньгах, но такая перемена встревожила его. Кто распорядился не выдавать ему денег? Лоренцо? Или, может быть, мессер Пьеро да Биббиена, полагая, что нет никакой необходимости платить ученику, поскольку Сады бездействуют? Или это приказал Пьеро? Томясь такими мыслями, Микеланджело все чаше искал общества Контессины и часами беседовал с нею; среди разговора он нередко доставал с полки «Божественную комедию» и вслух зачитывал из нее особо нравившиеся ему места — читал он и отрывок из одиннадцатой песни Ада:16
Прошло уже две недели с того дня, как уехал Лоренцо. Сидя у себя в комнате, Микеланджело услышал однажды тревожные голоса за дверями. Оказалось, что в купол Собора ударила молния и сбила фонарь, упавший в сторону дворца Медичи. Сотни флорентинцев выбегали на улицы и смотрели на разбитый фонарь, затем они отворачивались и с похоронным видом шли ко дворцу. Савонарола не упустил случая и на следующее же утро выступил с проповедью, предвещая городу всякие беды: нашествие врагов, землетрясение, пожары и наводнения. Судорожно сжимая руку Граначчи, Микеланджело стоял в плотной толпе слушателей. В тот день, уже вечером, Микеланджело узнал и другое: прискакал грум, посланец секретаря Лоренцо, и сказал, что состояние здоровья правителя отнюдь не улучшилось, более того, ему стало совсем плохо. В Кареджи направили еще одного врача — Лаццаро из Павии, тот прописал Лоренцо порошок из толченого алмаза и жемчуга. Это, как считали, всемогущее средство оказалось на сей раз бесполезным. Лоренцо вызвал к себе Пико и Полициано, чтобы они помогли ему одолеть боль, читая вслух его любимые книги. Охваченный мрачными предчувствиями, Микеланджело весь остаток ночи ходил взад и вперед по коридорам дворца. Пьеро уехал в Кареджи, взяв с собой Контессину и Джулиано. На рассвете Микеланджело бросился ни конюшню, оседлал лошадь и поскакал на виллу Лоренцо: вилла находилась за шесть верст от города, в предгорье, — великолепный дом с высокой башней, голубятней и обширными садами и огородами, которые тянулись по склону холма к долине. Микеланджело подъехал к стенам усадьбы с самой глухой стороны и, проникнув в ворота, оказался на дворе. Из кухни доносился плач. Микеланджело тихо поднялся по широкой лестнице, не желая, чтобы его заметили. Вверху, на лестничной площадке, он шагнул налево, постоял минуту, все еще не решаясь войти в спальню Лоренцо, потом медленно повернул шарообразную ручку двери. Спальня представляла собой просторную комнату с высоким потолком, по обе стороны двери спускались тяжелые занавеси — они задерживали жар камина, в котором горели поленья. Микеланджело увидел Лоренцо: тот лежал на кровати, под головой у него было множество подушек. Доктор Пьер Леони пускал из руки больного кровь. В ногах Лоренцо сидел Полициано, слезы текли по его лицу. Пико тихим голосом читал свое сочинение «Бытие и личность». Микеланджело укрылся у двери за портьерой и смотрел, как духовник, стоявший у изголовья, сделал знак врачу и всем остальным отойти от кровати. Он исповедовал Лоренцо и дал ему отпущение грехов. Микеланджело стоял за портьерой, не шевелясь. Пико и Полициано вновь подошли к Лоренцо. Тот слабым голосом попросил, чтобы позвали из библиотеки Пьеро. Вошел слуга и стал с ложки поить Лоренцо горячим бульоном. Полициано спросил: — Радует ли тебя земная пища, Лоренцо Великолепный? На измученном лице Лоренцо Микеланджело уловил тень улыбки. — Как любого умирающего, — ответил он беззаботно. — Мне надо набраться сил, чтобы прочитать лекцию сыну. Смиренно склонив перед лицом смерти голову, в спальню вошел Пьеро. Все слуги тотчас вышли. Лоренцо начал говорить: — Пьеро, сын мой, ты будешь располагать в государстве такой же властью, какой располагал я. Но ты должен помнить, что Флоренция — республика и что в ней множество умов. У тебя не будет возможности вести себя так, чтобы угодить всем одновременно. Строго придерживайся того пути, который диктует честность. Учитывай в первую очередь интересы всех людей, а не выгоды и довольство какой-то части. Если ты будешь поступать таким образом, ты защитишь и Флоренцию и Медичи. Пьеро поцеловал Лоренцо в лоб. Лоренцо перевел взгляд на Пико и Полициано, те сразу же приблизились к нему. — Пико, я сожалею лишь о том, что был не в состоянии достроить нашу библиотеку в Садах: ведь я хотел поставить во главе ее тебя. В прихожей послышались чьи-то торопливые шаги. В дверях появился Савонарола — он прошмыгнул мимо изумленного Микеланджело так близко, что его можно было схватить за руку. Секунда — и Савонарола был уже у кровати Лоренцо. Чтобы умирающий увидел его лицо, монах резко откинул свой капюшон. Все, кто стоял подле кровати, отошли в сторону. — Ты звал меня, Лоренцо де Медичи? — Звал, фра Савонарола. — Чем могу служить тебе? — Я хочу умереть в мире со всеми. — Тогда я заклинаю тебя быть твердым в вере. — Я всегда был тверд в вере. — Если ты будешь жив, я заклинаю тебя исправить все свои прегрешения. — Обещаю тебе это, отец. — И наконец, призываю тебя, если это будет надо, мужественно встретить смерть. — Ничто не доставит мне большего удовольствия, — слабеющим голосом ответил Лоренцо. Савонарола сделал поклон, повернулся и пошел к двери. Приподнявшись на подушках, Лоренцо хрипло сказал: — Благослови меня, отец, пока ты не ушел. Савонарола вернулся, склонился и начал читать отходную. Лицо Лоренцо приняло набожное выражение, он повторял вслед за монахом слова молитвы, от стиха к стиху. Убитые горем Полициано и Пико стояли словно в оцепенении. Савонарола опустил свой капюшон, благословил Лоренцо и вышел. Лоренцо лежал неподвижно, собираясь с силами, затем велел позвать слуг. Когда они встали вокруг кровати, он попрощался с ними, прося извинить, если он в прошлом кого-то обидел. Микеланджело дрожал, едва сдерживая себя, чтобы не откинуть тяжелый занавес и не броситься к Лоренцо. Ему хотелось стать перед ним на колени и крикнуть: «Я тоже любил вас! Проститесь и со мною!» Но Микеланджело явился сюда самочинно. Он был здесь незваным, о его присутствии никто здесь не знал. Он зарылся лицом в жесткую изнанку бархатного занавеса; дыхание Лоренцо тем временем уже пресекалось. Доктор Леони склонился над Лоренцо, закрыл ему глаза и накинул на лицо простыню. Микеланджело вышел через полуоткрытую дверь, сбежал вниз по лестнице и скрылся на огороде. Он чувствовал, что сердце его вот-вот разорвется. Странно, что люди думают, будто легко заплакать. Слезы жгли ему глаза откуда-то изнутри, и он, как слепой, спотыкался, шагая через грядки и борозды. Лоренцо умер! В это нельзя было поверить. Нет, недаром его имя было Великолепный! Как мог погибнуть, уйти навсегда этот великий дух, великий разум и талант, столь живой и сильный всего несколько месяцев назад? Зачем он позвал Савонаролу, своего смертельного врага? Чтобы тот увидел и возрадовался тому, что все его угрозы и пророчества сбываются! Вся Флоренция скажет теперь, что Савонарола победил Лоренцо и что сам бог захотел, чтобы это произошло столь просто и быстро. Он сидел где-то в углу на огородах; мира для него не существовало. Лоренцо лежал в своей комнате мертвый: исчез великий друг Микеланджело, тот человек, который по своей преданности и сердечному вниманию заменял ему в сущности родного отца, Лодовико Буонарроти. Он встал и, шатаясь, побрел к дому. В горле у него давило и жгло. Вот уже и широкий двор виллы. Дойдя до колодца, Микеланджело спустил на веревке ведро и заглянул вниз, желая убедиться, наполнилось ли ведро водой. В колодце, лицом верх, плавал утопленник. Цепенея от ужаса, Микеланджело вгляделся во влажную темень. Через минуту он уже знал, кто был этот утопленник. Доктор Пьер Леони. Он покончил с собой. С глухим воплем Микеланджело отпрянул от колодца и бросился бежать; он бежал до тех пор, пока не выбился из сил и не упал. И только теперь из глаз хлынули слезы; жгучие, мучительные, они текли на тосканскую землю и смешивались с нею.Часть четвертая «Побег»
1
Снова он спал теперь на одной кровати с Буонаррото. Завернутые в мягкую шерстяную ткань, под кроватью хранились два мраморных рельефа. Рельефы принадлежали ему — ведь так сказал Лоренцо. Уж конечно, думал Микеланджело, криво улыбаясь, взять их во дворец Пьеро не захочет. После двух лет жизни в просторной, комфортабельной комнате, откуда в любое время можно было выйти и спокойно разгуливать по всему дворцу, приспособиться к этой тесной каморке, где, кроме него, жили еще три брата, оказалось не просто. — Почему ты не идешь во дворец, чтобы работать на Пьеро де Медичи? — спрашивал отец. — Меня не хотят там видеть. — Но ведь Пьеро ни разу не сказал напрямик, что ты ему не нужен. — Напрямик Пьеро никогда не говорит. Лодовико провел обеими руками по своей пышной шевелюре. — Забудь свою гордость, Микеланджело, — это для тебя непосильная роскошь. В кошельке-то у тебя пусто. — Кроме гордости, у меня сейчас ничего не осталось, — тихо отвечал Микеланджело. Истощив свое терпение, Лодовико отступился. Микеланджело не рисовал уже целых три месяца — такого перерыва в работе он еще не помнил. Безделье сделало его раздражительным. Лодовико тоже был не в духе, хотя и по другой причине: Джовансимоне, которому исполнилось тринадцать лет, где-то сильно набедокурил, и у пария были неприятности с Синьорией. Когда наступили знойные июльские дни, а Микеланджело по-прежнему хандрил и бездельничал, Лодовико возмутился: — Никогда я не думал, Микеланджело, что ты просто лентяй. Я не позволю тебе больше слоняться по дому как неприкаянному. Я уже говорил с дядей Франческо: он устроит тебя в цех менял. С твоей образованностью, после двух лет учения у тех профессоров… Вспомнив, как ученые-платоники, усевшись вокруг низкого стола в кабинете Лоренцо, вели споры об иудейских корнях христианства, Микеланджело печально улыбнулся. — Извлекать прибыли они меня не учили. — …и когда-нибудь ты вступишь в компанию с Буонаррото. Из него, надо думать, выйдет хитрый делец. У вас будет капитал! Он шел вверх по Арно, на поросший ивами берег. Искупавшись в мутной реке и освежив накаленную зноем голову, он мучительно думал: «Что же мне теперь делать? На что решиться?» Он мог жить и работать у Тополино. Он уже и ходил к ним несколько раз, молчаливо усаживался во дворе и принимался за работу, обтесывая строительный камень, но то было временное облегчение, а не выход. Неужели же ему бродить по тосканской земле, от дворца к дворцу, от церкви к церкви, от селения к селению, и кричать, подобно точильщику ножей: «Высекаю мраморные статуи! Эй, кому мраморные статуи!»? В отличие от платоников он не получил в свое распоряжение ни виллы, ни каких-либо средств для продолжения работы. Лоренцо просил Лодовико уступить ему сына, но он не сделалМикеланджело членом своего семейства. Лоренцо, по сути, приказал Микеланджело украсить фасад незавершенной церкви Медичи двадцатью мраморными изваяниями, но он даже не заготовил для этого материалов. Микеланджело натянул на влажное тело рубашку; подолгу валяясь на речном берегу, он загорел сейчас не хуже каменотесов Майано. Дома его ожидал Граначчи. Вскоре после похорон Лоренцо Граначчи и Буджардини вновь перешли в боттегу Гирландайо. — Salve, Граначчи. Как идут дела у Гирландайо? — Salve, Микеланджело. Дела в мастерской идут чудесно. Заказ на две фрески для монастыря Сан Джусто в Вольтерре, заказ на «Поклонение» для церкви в Кастелло. Гирландайо желает тебя видеть. В мастерской были точно те же запахи, какие ему помнились по прежним временам: запах только что истолченного угля, запах красок и извести. Буджардини радостно прижал Микеланджело к груди. Тедеско хлопал его по плечу. Чьеко и Бальдинелли, вскочив со своих мест, справлялись о его здоровье. Майнарди горячо расцеловал его в обе щеки. Давид и Бенедетто жали ему руки. Доменико Гирландайо сидел за своим тщательно прибранным столом на возвышении и с теплой улыбкой смотрел на всю суматоху. Глядя на своего старого учителя, Микеланджело думал, как много изменилось в жизни за четыре года, прошедшие с того дня, когда он впервые вошел в мастерскую. — Может, ты все-таки снова поступишь к нам и завершишь свое ученичество? — спросил Гирландайо. — Я буду платить тебе двойную плату по договору. А если тебе покажется мало, мы потом поговорим об этом, как друзья. Микеланджело стоял будто онемелый. — У нас теперь, как ты видишь, полно заказов. И не надо мне говорить, что фреска — не твое дело. Если ты даже и не сумеешь писать по мокрой стене, то все равно в разработке фигур и картонов ты нам окажешь очень ценную помощь. Он вышел из мастерской и, оказавшись на площади Синьории, слепо уставился на статуи в Лоджии: блеск и сиянье солнца кололо глаза. Да, Гирландайо предложил ему место вовремя: теперь не надо будет сидеть целыми днями дома, а двойная плата как нельзя лучше умилостивит Лодовико. С тех пор как закрылись Сады, Микеланджело чувствовал себя одиноким. В мастерской у него снова будут товарищи. Вновь он станет на твердую профессиональную стезю, как это и положено семнадцатилетнему юноше. Сейчас он вял и бездеятелен, а Гирландайо окунет его в самую гущу хлопот и неотложной работы. Быть может, это выведет его из оцепенения. Невзирая на палящий зной, он отправился в Сеттиньяно. Миновав поле вызревшей пшеницы, он сошел в овраг и хорошенько вымылся в ручье: ручей теперь сильно обмелел и стал не таким быстрым. Во дворе у Тополино он уселся под нишей и начал тесать камень. Он жил у каменотесов несколько дней, прилежно работал, спал вместе с подростками тут же на дворе, на тюфяках из соломы. Тополино видели, что он чем-то озабочен. Но они ни о чем не спрашивали его и ничего ему не советовали. Пусть он вволю потрудится над камнем и все решит сам, без посторонней помощи. Крепко стискивая молоток и зубило, его пальцы сжимались и разжимались; рука ощущала привычную тяжесть инструмента, все ее мышцы и сухожилия, от кисти до плеча, были напряжены; мерно, в устойчивом ритме, наносил он удар за ударом — летели и падали осколки, камень обретал все более правильную форму. Микеланджело дивился: как пусто бывает у него на душе, если только не заняты руки. В Сеттиньяно говорили: «Тот, кто работает с камнем, сам похож на камень: снаружи груб и темен, а внутри светел». Обтесывая и граня камень, он в то же время гранил и свои мысли. Взлетает молоток, начиная серию ударов, — раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь: все ушло в работу, мысль не блеснула даже на мгновение. Раз, два, три, четыре — вот уже, пока наносишь остальные удары, в мыслях сделан какой-то шажок, что-то обдумано. Дух Микеланджело становился здесь спокойным и ясным, его внутренние силы крепли. И по мере того как трудились руки, придавая нужные очертания камню, зрела и чеканилась мысль: он уже знал, что к Гирландайо он не пойдет. Вновь заняться ремеслом, к которому у него не лежит душа, стать подмастерьем у живописца только потому, что во Флоренции нет скульптурной мастерской, — это было бы отступлением. Работа над фреской потребует изменить манеру рисования, сам подход к рисунку — все, чем он овладел за три года скульптурной работы, будет утрачено. Спор между двумя искусствами в его душе все равно не утихнет: скрывать это от Гирландайо было бы нечестно. Да и вообще из всего этого ничего хорошего не получится. Он попрощался с Тополино и стал спускаться с холмов, шагая к городу.На Виа де Барди он встретил очкастого отца Николо Бикьеллини — приора ордена Пустынников Святого Духа. Этот высокий, кряжистый человек вырос в тех же кварталах, где жил и Микеланджело; когда-то он мастерски гонял мяч на широком пустыре напротив церкви Санта Кроче. Теперь, когда ему перевалило за пятьдесят, в его черных, коротко подрезанных волосах блестела седина, но телесные силы у него были поразительны. Облаченный в черный шерстяной подрясник с кожаным ремнем, он буквально с рассвета и до поздней ночи бодро хлопотал, доглядывая за своим обширным монастырем-вотчиной, где было все, что требовалось для обители: церковь, больница, постоялый двор, пекарня, библиотека, школа и четыре сотни молчаливых монахов. Увидев Микеланджело, он очень обрадовался; его искрящиеся голубые глаза казались под очками огромными. — Микеланджело Буонарроти! Какой счастливый случай! Я не видел тебя с самых похорон Лоренцо. — С тех пор, отец, по сути, я не видел никого и сам. — А ведь я помню, как ты рисовал в Санто Спирито еще до того, как стал работать в Садах Медичи. Ты убегал от учителя Урбино прямо из класса и копировал у нас фрески Фиорентини. Знаешь ли ты, что Урбино жаловался мне на тебя? В душе Микеланджело шевельнулось теплое чувство. — Как это трогательно, отец, что вы все помните. И тут же в его воображении встали библиотека и кабинет Лоренцо, груды книг и манускриптов в великолепных переплетах — теперь этих чудес ему уже не увидеть. — А можно мне читать в вашей библиотеке, отец? Ведь доступа к книгам у меня сейчас нет. — Ну разумеется, можно. Наша библиотека открыта для всех. Если ты простишь мне мое хвастовство, то я скажу, что наша библиотека — старейшая во Флоренции. Нам завещал свои рукописи и книги Боккаччо. То же сделал и Петрарка. Приходи ко мне прямо в кабинет. Впервые за много месяцев Микеланджело почувствовал себя счастливым. — Благодарю вас, отец. Я захвачу с собой карандаш и бумагу — порисовать. На следующий день, рано утром, Микеланджело пересек мост Святой Троицы, направляясь к церкви Санто Спирито. Он зарисовал здесь фреску Филиппино Липпи и саркофаг Бернардо Росселлино. Это был первый рисунок, который он сделал после смерти Лоренцо. Он чувствовал, что в нем пробуждаются прежние силы; исчезло постоянное ощущение беды, сжимавшее горло; дыхание обретало теперь глубину и спокойный ритм. Потом он, наискось перейдя площадь Санто Спирито, вышел к монастырю; монастырское подворье открывалось сразу же за площадью, строение, в котором помещался кабинет настоятеля, было с краю. Настоятелю приходилось часто разговаривать с мирянами, встретиться с ним мог кто угодно. Но входить в самый монастырь посторонним было воспрещено; монахи жили в своей обители совсем обособленно, блюдя строгий порядок. Посмотрев на рисунки Микеланджело, отец Бикьеллини воскликнул: — Прекрасно! Прекрасно! Только знай, Микеланджело, что внутри монастыря у нас есть фрески куда лучше и древнее. В покое Мастеров, например, фрески работы семейства Гадди. А зал Капитула великолепно расписал Симоне Мартини. Янтарные глаза Микеланджело загорелись — казалось, в них проник ласковый взгляд настоятеля, блеснувший сквозь его огромные очки. — Но ведь попасть внутрь монастыря нельзя… — Мы можем тут помочь. Я тебе составлю расписание и укажу часы, когда в покоях и зале Капитула никого не бывает. Я давно думал, что эти произведения следует показать художникам. Но пока тебя интересуют книги. Пойдем же. Настоятель провел Микеланджело в библиотеку. Углубившись в старинные тома, здесь сидело несколько мирян, а в уютных нишах скрипели перьями переписчики-монахи: они изготовляли копии рукописей и книг, которые заимообразно шли в монастырь Санто Спирито изо всех стран Европы. Настоятель показал Микеланджело полки, заполненные сочинениями Платона, Аристотеля, древнегреческих поэтов и трагиков, римских историков. — Ведь у нас тут настоящая школа, — говорил Бикьеллини, сохраняя суховато-наставнический тон. — Цензоров в Санто Спирито не существует. Никаких книг мы не запрещаем. Мы даже настаиваем, чтобы все, кто у нас учится, мыслили, сомневались, допытывались. У нас нет боязни, что от такой свободы католицизм пострадает: чем зрелее умы наших ученых, тем крепче наша вера. — Поневоле тут вспомнишь Савонаролу! — усмехнувшись, сказал Микеланджело. Как только он произнес это имя, добродушное, румяное лицо настоятеля омрачилось. — Ты хотел посмотреть рукописи Боккаччо. В них много любопытного. Большинство людей думает, что Боккаччо был врагом церкви. Это неправда. Он даже любил церковь. Он не любил извращений. Тут он был подобен Святому Августину. Мы скромно питаемся, не владеем никаким имуществом, кроме одежды на теле; строгость и чистота нам столь же дороги, как и наша любовь к Богу. — Я это знаю, отец. Ваш орден — самый уважаемый орден во Флоренции. — А разве стали бы нас уважать, если бы мы боялись науки? Мы считаем, что человеческий мозг — одно из самых дивных творений господа. И искусство, на наш взгляд, неотделимо от веры, потому что человек в нем выражает высшие свои стремления. Поганого, языческого искусства не существует, есть только хорошее и плохое искусство. — Настоятель помолчал минуту, с гордостью оглядывая свою библиотеку. — Приходи ко мне в кабинет, когда кончишь читать. Мой секретарь начертит тебе план монастыря и даст расписание, когда в каком покое можно работать. Микеланджело трудился в монастыре уже не одну неделю, и никто ему не мешал. В те часы, когда он был в покое Усопших или во Втором покое, где находились фрески трех поколений художников Гадди, в зале Капитула, где сиенский художник Мартини написал «Страсти господни», — в эти часы здесь никто не появлялся. Если случайно проходил какой-нибудь монах или послушник, он делал вид, что не замечает Микеланджело. Тишина тут была поразительная; у Микеланджело было такое чувство, словно он оставался один на один со всей вселенной — он да его карандаш и бумага, да гробница, которую он рисовал, или фреска Чимабуэ под сводами. Если Микеланджело не рисовал, он сидел в библиотеке, читая Овидия, Гомера, Горация, Вергилия. Настоятелю нравилось, что Микеланджело не упускает для работы ни одного часа, который был выделен ему по расписанию. Он не раз беседовал с Микеланджело о последних событиях во Флоренции. Раньше Микеланджело политикой интересовался мало. При жизни Лоренцо правительственные дела шли во Флоренции так гладко, а связи с другими государствами были так прочны, что ни во дворце, ни на улицах, ни в мастерской Гирландайо, ни на ступеньках подле Собора политических разговоров Микеланджело почти не слышал. А теперь он испытывал жгучую потребность в собеседнике, и настоятель, чувствуя это, охотно с ним разговаривал. Со смертью Лоренцо все изменилось во Флоренции. Если Лоренцо постоянно встречался с членами Синьории и убеждал их одобрить свои распоряжения и действия, то Пьеро не хотел знать избранный Совет и принимал решения самовластно. Если Лоренцо запросто разгуливал по улицам в сопровождении одного-двух своих друзей, здороваясь и разговаривая с кем угодно, Пьеро появлялся на улицах лишь верхом, окруженный наемной стражей, — не видя и не признавая никого, расталкивая пешеходов, тесня кареты, груженые повозки и осликов, горделиво проезжал он по городу, держа путь на виллу или, наоборот, из виллы во дворец. — Даже это можно было бы простить ему, — тихо говорил Бикьеллини, — если бы он с толком делал свое дело. Но такого неумелого правителя Флоренция не видела со времен несчастной войны гвельфов и гибеллинов. Когда, желая восстановить старые связи, во Флоренцию приезжают государи из других итальянских городов, они убеждаются, что Пьеро совершенно бездарен. Он им не нравится. Все, что он умеет, это отдавать приказы. Если бы у него хватило ума начать открытые переговоры о Синьорией… — Это не в его характере, отец. — Пора ему задуматься и что-то предпринять. Оппозиция смыкает свои ряды: Савонарола и его последователи; кузены Медичи, Лоренцо и Джованни, и их сторонники; старинные флорентинские роды, которых он не хочет признавать; раздраженные члены городского Совета; горожане, обвиняющие его в том, что он, пренебрегая самыми неотложными государственными делами, устраивает состязания атлетов, находит время для турниров, где все подстроено так, чтобы только он и выходил победителем. Да, настало тревожное время…
2
— Буонаррото, сколько у тебя хранится моих денег? — спросил Микеланджело брата тем же вечером. Заглянув в свою счетную книгу, Буонаррото тотчас ответил, сколько флоринов он отложил из сбережений Микеланджело, когда тот жил во дворце. — Чудесно. Этого хватит на глыбу мрамора. И еще останется, чтобы снять комнату для работы. — Значит, у тебя есть какой-то замысел? — Нет, у меня есть пока только желание. Ты должен помочь мне обмануть отца. Я ему скажу, что получил небольшой заказ и что заказчики сами купили мрамор и платят мне по нескольку скуди каждый месяц, пока я работаю. Мы будем давать эти деньги Лодовико из наших сбережений. Буонаррото уныло покачал головой. — Я скажу, — продолжал Микеланджело, — что заказчики имеют право принять или не принять работу, когда она будет кончена. Это на тот случай, если продать статую мне не удастся. При таком положении дел Лодовико, казалось, будет доволен. Но перед Микеланджело стояла еще одна задача. Что ему высекать? Он чувствовал, что пришло время высечь первое свое объемное изваяние. Но какое именно? На какую тему? Один вопрос влек за собой другой, ибо все то, что творит художник, рождается из первоначальной идеи. Нет идеи, нет и произведения искусства — эта взаимосвязь в глазах художника столь же проста, сколь и мучительна. Любовь и скорбь, жившие теперь в сердце Микеланджело, толкали его к одному: сказать свое слово о Лоренцо, раскрыть в этой работе всю сущность человеческого таланта и отваги, ревностного стремления к знанию; очертить фигуру мужа, осмелившегося звать мир к духовному и художественному перевороту. Ответ, как всегда, вызревал медленно. Только упорные, постоянные думы о Лоренцо привели Микеланджело к замыслу, который открыл выход его творческим силам. Не раз вспоминались ему беседы с Лоренцо о Геракле. Великолепный считал, что греческая легенда не дает права понимать подвиги Геракла буквально. Поимка Эриманфского вепря, победа над Немейским львом, чистка Авгиевых конюшен водами повернутой в своем течении реки — все эти деяния, возможно, были лишь символом разнообразных и немыслимо трудных задач, с которыми сталкивается каждое новое поколение людей. Не был ли и сам Лоренцо воплощением Геракла? Разве он не совершил двенадцать подвигов, борясь с невежеством, предрассудками, фанатизмом, ограниченностью и нетерпимостью? Когда он основывал университеты и академии, собирал коллекции предметов искусства и манускриптов, заводил печатни, когда он воодушевлял художников, ученых, знатоков древних языков, поэтов, философов заново объяснить мир, рассказав о нем свежими, мужественными словами и тем расширив доступ к интеллектуальным и духовным богатствам, накопленным человечеством, — разве во всем этом не чувствовалась у Лоренцо поистине Гераклова мощь! Лоренцо говорил: «Геракл был наполовину человеком, наполовину богом; он был рожден от Зевса и смертной женщины Алкмены. Геракл — это вечный символ, напоминающий нам, что все мы наполовину люди и наполовину боги. Если бы мы воспользовались тем, что в нас есть от богов, мы могли бы совершать двенадцать Геракловых подвигов ежедневно». Да, необходимо изобразить Геракла так, чтобы он был в то же время и Лоренцо; пусть это будет не просто сказочный силач древнегреческих сказании, каким он показан на Кампаниле Джотто или на четырехаршинной картине Поллайоло, — нет, надо представить Геракла поэтом, государственным мужем, купцом, покровителем искусств, преобразователем. А пока Микеланджело надо было оставить дом отца и найти собственную мастерскую. Сейчас он смотрел не только на свои старые барельефы, но и на миниатюрные изваяния Бертольдо как на прошлое. Он уже мыслил высекать Геракла или Лоренцо не иначе как в натуральную величину. Его надо было изваять даже выше обычного человеческого роста — полубоги могли родиться только из величественного, крупного камня. Но где такой камень взять? Сколько надо будет заплатить за него? На это потребуется денег вдесятеро больше, чем он сумел скопить. Он вспомнил мастерские при Соборе — обширный двор, где шла работа и хранились материалы еще с тех пор, как Собор строили: теперь там всегда находился десятник со своими подручными. В ворота постоянно въезжали и выезжали подводы с лесом и камнем, и, глядя на них, Микеланджело сообразил, что те глыбы мрамора, которые он когда-то видел на дворе, вероятно, и сейчас еще лежат на прежнем месте. Он вошел внутрь двора, прошелся по нему. Десятник с лысым, будто выточенным из розового мрамора, черепом и вздернутым, как торчащий палец, носом подошел к Микеланджело и осведомился, чем он может быть полезен. Микеланджело назвал себя. — Я был учеником в Садах Медичи. Теперь мне приходится работать в одиночку. Мне нужна большая глыба мрамора, а денег у меня мало. Я и думаю: вдруг власти города согласятся уступить мне какой-нибудь камень, который им не нужен. Десятник, каменотес по профессии, плотно прищурил глаза, будто оберегая их от летящих из-под зубила крошек. — Зови меня, пожалуйста, Бэппе. Так какой тебе нужен камень? У Микеланджело перехватило дыхание. — Да вот хотя бы та большая колонна. Над нею уже кто-то работал. — Мы зовем ее колонной Дуччио. Привезена из Каррары. В ней будет семь-восемь аршин длины. Строительная контора закупила ее для Дуччио: тот хотел высечь из нее Геракла. Чтобы сэкономить труд, Дуччио приказал обрубить ее еще в каменоломне. Там ее, видно, и испортили. Мне тогда было двенадцать лет, я был еще учеником. — Бэппе энергично почесал себе зад резцом о шести зубьях. — Дуччио трудился над камнем не меньше недели. И, как видишь, у него не вышло ни большой фигуры, ни маленькой. Микеланджело обошел огромный камень, испытующе ощупал его пальцами. — Бэппе, а это правда, что блок повредили в каменоломне? Слов нет, он обезображен, но, может быть, Дуччио искалечил его сам, вот этими ударами зубила, как тут, на середине. Согласится ли контора продать мне камень? — Едва ли согласится. Был слух, что его когда-нибудь пустят в дело. — В таком случае не продадут ли вон тот камень, поменьше? Он тоже поврежден, хотя не так сильно. Бэппе оглядел блок, на который указывал Микеланджело, — в нем было почти четыре аршина длины. — Я разузнаю про этот камень. Приходи завтра. — Постарайся, пожалуйста, Бэппе, чтобы было подешевле. Десятник улыбнулся, широко открыв беззубый рот. — Чтобы скульптор был при деньгах — я такого еще не видывал. Дело решилось лишь через несколько дней, но Бэппе исполнил просьбу Микеланджело на совесть. — Считай, что камень твой. Я сказал им, что это никудышная глыба, и они рады избавиться от нее, освободить место. Мне же поручили и назначить справедливую цену. Что ты скажешь насчет пяти флоринов? — Бэппе! Да тебя надо прямо-таки расцеловать! Сегодня же вечером я принесу тебе деньги. Пусть пока камень лежит как есть, не двигай его с места. Кончиком троянки Бэппе в раздумье почесал свою лысую голову. Теперь, когда у Микеланджело был мрамор, ему оставалось только найти мастерскую. Тоска по прошлым дням завела его в Сады Медичи. Они пустовали со дня кончины Лоренцо, всюду разрослась пожелтевшая от зноя, не тронутая косой трава, разоренный павильон зиял пустыми окнами, лишь на задах, в том месте, где хотели возводить библиотеку Лоренцо, по-прежнему белели груды камня. «А не начать ли мне работать в старом сарае? — думал Микеланджело. — Я там никому не помешаю, не нанесу никакого ущерба. Может быть, Пьеро и даст мне на это разрешение, если узнает, что я высекаю». Но он не мог заставить себя пойти на поклон к Пьеро. Уже выходя из Садов через задние ворота, уголком глаза он заметил две фигуры, появившиеся в Садах у главного входа, примыкавшего к площади Сан Марко. Это были Контессина и Джулиано. После смерти Лоренцо Микеланджело не видел их ни разу. Теперь он подошел к ним в тот момент, когда они были близ павильона. Контессина, казалось, ссохлась и стала меньше; даже на ярком июльском солнце ее лицо поражало своей желтизной. Лишь под шляпой с широкими полями по-прежнему сняли огромные карие глаза. Первым заговорил Джулиано: — Почему ты не заходишь к нам? Мы уже соскучились по тебе. — Да, мог бы, конечно, и заглянуть, — в голосе Контессины звучал упрек. — …но Пьеро… — При чем тут Пьеро? Ведь я тоже — Медичи. И Джулиано — Медичи. — Она говорила теперь с раздражением. — Дворец — это наш дом. И мы рады видеть там своих друзей. — Я постоянно спрашиваю Контессину, почему ты не приходишь к нам, — сказал Джулиано. — Меня никто не приглашал. — Я тебя приглашаю! — порывисто сказала она. — Джованни завтра снова уезжает в Рим, и мы будем опять совсем одни. А Пьеро и Альфонсину мы почти и не видим. На секунду смолкнув, Контессина продолжала: — Папа Иннокентий умирает. Джованни придется ехать в Рим — там надо оградить наши интересы и помешать тому, чтобы папа был избран из семейства Борджиа. Она обвела взглядом Сады. — Мы с Джулиано гуляем здесь почти каждый день. Нам казалось, что ты работаешь, а где ты можешь работать, если не в Садах? — Нет, Контессина, я не работаю. Но сегодня я купил кусок мрамора. — Значит, нам можно приходить сюда и смотреть на твою работу? — с живостью отозвался Джулиано. Микеланджело, моргая, смотрел в глаза Контессины: — У меня нет разрешения здесь работать… — А если я получу тебе такое разрешение? Микеланджело встрепенулся. — Это колонна в четыре аршина высоты, Контессина. Очень старая, сильно попорченная. Но внутри вполне хорошая. Я хочу высечь Геракла. Это ведь любимый герой твоего отца. Он дотронулся до ее руки. В столь жаркую погоду ее пальцы были удивительно холодны. Он с нетерпением ждал ее день, второй, третий и четвертый, приходя в Сады на закате. Но она не являлась. И вот на пятый день, сидя на крылечке павильона и покусывая бурую травинку, он увидел, что в главные ворота входит Контессина. У него замерло сердце. Вместе с Контессиной была ее старая няня. Микеланджело вскочил и бросился бежать по дорожке навстречу Контессине. Глаза у нее были красные. — Пьеро отказал! — воскликнул он. — Он не сказал ни да, ни нет. Я его спрашивала сто раз. Молчит, не отзывается. Это его обычная манера. Чтобы потом никто не упрекнул, что он отказывает. Планы Микеланджело снова работать в Садах рухнули. — Я опасался, что так оно и будет, Контессина. Вот почему я ушел из дворца, и не возвращался туда, хотя мне очень хотелось увидеться с тобой. Она шагнула, приблизившись к нему вплотную. Их губы теперь были лишь на дюйм друг от друга. Няня отошла в сторону и отвернулась. — Пьеро говорит, что семейство Ридольфи рассердится, если мы будем снова встречаться… По крайней мере до тех пор, пока не сыграна моя свадьба. Они стояли, не двигаясь, их губы не сближались, их тонкие юные тела не касались друг друга, и все же ощущение у Микеланджело было такое, словно бы он слился с Контессиной в любовном объятии. Контессина медленно пошла по тропинке к середине сада, миновала умолкший теперь фонтан с фигурой бронзового мальчика, вытаскивающего занозу из ноги. Потом исчезла, выйдя вместе с няней на площадь Сан Марко.3
Снова его выручил краснощекий, с синими прожилками, безобразный, как безобразны все потомки этрусков, старик Бэппе. — Я сказал в конторе, что мне нужен на время подручный и что ты согласен работать бесплатно. Ну, а если что-нибудь предлагают бесплатно, то настоящий тосканец от этого никогда не откажется. Устраивай свою мастерскую вон там, у задней стены. Флорентинцы, дающие своим детям по полдюжине имен и верящие в то, что простое короткое имя знаменует короткую жизнь и скудное счастье, назвали этот двор Опера ди Санта Мария дель Фиоре дель Дуомо. И двор оправдывал такое громоздкое название — он занимал целую площадь, оттесняя дома, мастерские и конторы, полукругом выстроившиеся позади Собора. Именно здесь, в этом месте, Донателло, делла Роббиа и Орканья высекали свои мраморы, здесь раздували горн, отливая бронзовые статуи. У полукружья деревянной стены, ограждавшей двор, был навес, под которым укрывались рабочие, когда их загонял туда палящий летний зной или зимний дождь, приносимый в долину Арно тучами с предгорий. Тут-то Микеланджело установил горн, притащил сюда несколько мешков хорошего каштанового угля, отковал из шведских брусков полный набор — двенадцать штук — резцов, два молотка и сколотил стол для рисования, использовав для этого горбыли и доски, валявшиеся на дворе, казалось, с тех самых пор, как Брунеллески возводил купол Собора. Теперь у Микеланджело было место, где он мог без помех трудиться с утра до вечера. Снова он мог работать под привычный стук молотков скальпеллини. Усевшись за стол и вооружившись угольными карандашами, перьями, цветными чернилами и бумагой, он был готов приступить к делу. И вновь его терзали недоумения, ибо результат всего труда зависел от множества вопросов, на которые надо было ответить, — круг этих вопросов становился все шире, а сами они — все сложнее и сложнее. Каким должен быть изваянный им Геракл — юным или старым? Совершил уже герой свои двенадцать подвигов или находится на середине жизненного поприща? Носит ли он на плечах шкуру Йеменского льва — знак своей победы, своего триумфа — или предстает перед зрителем нагим? Воплощает ли он собой дух величия, свойственный полубогу, или, напротив, в нем надо яснее показать обреченность земного существа, которому предстоит умереть от ядовитой крови кентавра Несса? За последние месяцы Микеланджело все больше убеждался, что обвинения против Лоренцо, будто бы развратившего флорентинцев и уничтожившего их свободу, — несправедливы, что после Перикла, который более двух тысяч лет назад утвердил золотой век в Греции, Лоренцо был, вероятно, величайшим в мире человеком. Каким же образом внушить зрителю, что деяния Лоренцо были столь же героическими, как и подвиги Геракла? Прежде всего, Лоренцо был настоящим мужчиной. Именно мужчину, истинного богатыря, надо было вызвать к свету дня из этого обветренного, старого блока, который стоял перед ним на деревянных подпорах. Надо было замыслить человека такой мощи, какую только знала земля. Здесь, в Тоскане, в стране мелких, невзрачных, отнюдь не героических людей, где здесь можно было найти модель для подобного изваяния? Он бродил по Флоренции, оглядывая бочаров с их тяжелыми деревянными молотками, красильщиков шерсти, руки которых были испачканы синей и зеленой краской, кузнецов, торговцев скобяным товаром, каменотесов, строивших дворец Строцци, носильщиков, что, согнувшись, таскали свои грузы по улицам, юношей-борцов, показывающих свое искусство в парках, полуголых возчиков песка, лопатами черпавших его со своих плоских лодок на Арно. Неделями он околачивался в деревне, наблюдая, как крестьяне собирают хлеб и виноград, грузя мешки и корзины на телеги, как молотят цепами пшеницу, крутят каменные колеса давильни, выжимая оливковое масло, подрезают фруктовые деревья, возводят каменные ограды. Потом он возвращался в свой угол во дворе Собора и тщательно вырисовывал на листе бумаги мускулы рук и ног, напруженные крепкие плечи, вздувшиеся при подъеме тяжести бицепсы, выкинутый в ударе, стиснутый кулак, напрягшееся в усилии бедро — скоро папка Микеланджело была полна разнообразных набросков. Он мастерил каркас, покупал запас чистого пчелиного воска, начинал лепить… и отступался, разочарованный. «Как я могу создать даже грубый эскиз фигуры, если я не знаю, чего именно я добиваюсь? Что в таком случае я могу показать, кроме внешнего облика, вздутий и изгибов тела, очертаний костей, нескольких приведенных в действие мускулов? Все это лишь следствия. А что я знаю о причинах? О внутреннем устройстве человека, которое скрыто под внешним покровом и которого не видит мой глаз? Откуда мне знать, как то, что находится внутри, придает форму наружному, которое я только и вижу?» Когда-то ответ на эти вопросы он пытался получить у Бертольдо. Теперь он знал его сам. В глубине души он знал его давным-давно. Сейчас пришло время внять ему. Это неотвратимо, иного выхода нет. Никогда он не станет таким скульптором, каким хотел стать, пока не решится на вскрытие трупов, не постигнет назначение каждого органа внутри человеческого тела, не поймет, какова его роль и действие, пока не разберется, как переплетены и взаимосвязаны в теле все части — кости и кровь, мозг и мышцы, кожа и сухожилия, кишки и почки. Круглая скульптура должна быть завершенной, должна смотреться под любым углом. Скульптор не может выразить движение, не зная, чем это движение вызывается: он не может показать мощь, напряженность, конфликт, драму, если не видит в мельчайших подробностях, как действует и работает тело, олицетворяющее силу и порыв, если не знает, какое мускульное движение скрывается за тем или иным внешним жестом, — короче говоря, если он не может охватить своим взором весь организм сразу. Да, ему необходимо изучить анатомию! Но как? Стать хирургом? На это потребовались бы годы. И к чему столь долгий искус, если тебе будет позволено вскрыть всего-навсего два мужских трупа за год в компании других студентов на площади Синьории? Нет, чтобы видеть вскрытие трупов, надо искать другую возможность. Микеланджело вспомнил, что Марсилио Фичино был сыном личного врача Козимо де Медичи. Марсилио учился у своего отца медицине, но впоследствии Козимо сказал, что юноша «родился врачевать людские умы, а не тело». Скоро Микеланджело был уже в Кареджи, на вилле Фичино. Шестидесятилетний ученый день и ночь сидел в заваленной рукописями библиотеке, спеша закончить свое сочинение о Дионисии Ареопагите. Две хорошенькие племянницы Фичино встретили Микеланджело и провели его в библиотеку. Тщедушный основатель Платоновской академии сидел под бюстом Платона; в запачканных чернилами пальцах он держал перо, его худое, плотно обтянутое кожей лицо было изборождено морщинами. Микеланджело без лишних слов изложил суть дела, по которому он явился. — Вы сын врача и сами учились медицине; вы, должно быть, знаете, как выглядит тело человека внутри. — Я не закончил своего медицинского образования. — А как вы полагаете, сейчас где-нибудь производится вскрытие трупов? — Разумеется, нет! Разве ты не знаешь, что за надругательство над мертвым телом грозит тяжкая кара? — Пожизненная ссылка? — Казнь. Наступило молчание. Затем Микеланджело спросил: — А если бы кто-нибудь рискнул и решился на это? Куда бы ему надо было пойти? На кладбище для бездомных? Фичино воскликнул в ужасе: — Мой юный друг, неужто ты можешь помыслить о хищении мертвецов на кладбище? Да ведь это верная и скорая смерть! Тебя поймают с изрезанным трупом и без разговоров повесят в проеме окна на третьем этаже Синьории! Давай-ка побеседуем о более приятных вещах. Как обстоят дела с твоей скульптурой? — О ней-то мы только что и говорили, Фичино.Он неотступно размышлял, что ему делать. Где можно найти трупы? Богачей хоронили в семейных склепах; могилы всех состоятельных покойников оберегались с чувством религиозного почитания. За какими могилами во Флоренции не присматривали, кто из покойников был брошен в небрежении? Только бедняки, одинокие люди, нищие, бродяги, во множестве скитавшиеся по дорогам Италии. Когда подобный люд болел и валился с ног, его подбирали и помещали в больницы. В какие именно больницы? В те, что находились при церквах: больных там лечили бесплатно. А та церковь, что содержит большую больницу, содержит и самый большой приют, пристанище для бездомных… Санто Спирито! Он замер от этой мысли, чувствуя, как у него шевелятся на голове волосы. Санто Спирито — он знал там не только настоятеля, но каждый коридор, он бывал там в библиотеке, и в ночлежном доме, и в садах, и в больнице, и в монастырских покоях. Нельзя ли будет попросить у настоятеля Бикьеллини те трупы, до которых никому нет дела? Да, но если настоятеля уличат в таком преступлении, его постигнет наказание худшее, чем смертная казнь: он будет изгнан из ордена, отлучен от церкви. И тем не менее настоятель — отважный человек, он не побоится ничего на свете, если только будет уверен, что он не оскорбил Господа Бога. Как он гордился тем, что его предшественник, прежний настоятель, дружил с Боккаччо и, невзирая на то что никого в ту пору не преследовали и не поносили ожесточенней, чем Боккаччо, принял его в свою обитель, покровительствовал ему и воспользовался его библиотекой с тем, чтобы она служила развитию человеческих знаний. Когда эти августинцы уверены в своей правоте, они не ведают страха. И кто совершил что-нибудь выдающееся без риска? Разве вот теперь, в этот самый год, в поисках нового пути в Индию не пустился на трех суденышках в Атлантический океан итальянец из Генуи, хотя ему и говорили, что поверхность океана совершенно плоская и в некоем месте он сорвется со своими утлыми кораблями и упадет вниз, в тартарары. А если настоятель и решится на этот ужасающе смелый шаг, то имеет ли право он, Микеланджело, быть настолько эгоистичным, чтобы подвергать его такой опасности? Оправдывает ли цель этот риск? Он мучился целыми днями и не спал по ночам, ища решения. Он пойдет к настоятелю Бикьеллини и изложит ему свою просьбу в прямых, достойных выражениях, ничего не скрывая и не допуская никаких уловок. Он не будет обижать настоятеля, прибегнув к какому-либо лукавству или взывая к его чувствительности: ведь тот мог поплатиться за все это отлучением от церкви или даже головою. Но прежде чем идти к настоятелю, Микеланджело решил обдумать, как ему исполнить свой план в целом. Он разрабатывал его тщательно, шаг за шагом. Дрожа от волнения, он колотил молотком по зубилу и, как свойственно каменотесам, машинально отбивал семь тактов, чтобы отгранить в своем сознании несколько слов за те четыре, которые приходились на краткую паузу перед следующей серией ударов. Он бродил по монастырю, его покоям, садам и огородам, по проулочкам и аллеям, осматривал все ворота, все места, откуда видно было входящих, приближался к часовне, где отпевали покойников, проникал внутрь подворья, к самой покойницкой, где клали на ночь умерших, прежде чем утром отнести их на погост. Он чертил планы, тщательно, в точных масштабах показывая на них, как соединено пристанище для бедных с больницей и где расположены кельи монахов. Он вычертил путь, которым он мог пройти, не будучи замеченным, через задние ворота в Виа Маффиа на территорию монастыря, а потом, минуя огороды, пробраться в коридоры и в самую покойницкую. Там надо было быть ночью, когда совсем стемнеет, и уходить оттуда до рассвета. Микеланджело раздумывал, когда и где лучше обратиться со своей просьбой к настоятелю, чтобы увеличить шансы на успех и изложить дело как можно яснее. В конце концов он заговорил с Бикьеллини в его кабинете, среди книг и манускриптов. Едва взглянув на чертежи, которые Микеланджело разложил на столе, и выслушав лишь несколько его слов, настоятель холодно оборвал беседу: — Довольно! Я все понял. Никогда больше не заговаривай со мной об этом. Я ничего от тебя не слышал. Твои слова исчезли без следа, как дым. Пораженный этим решительным и быстрым отказом, Микеланджело собрал свои чертежи и вышел, опомнившись только на площади Санто Спирито. Его вдруг пробрал озноб. Он не видел теперь ни хмурого осеннего неба, ни суеты расположенного рядом рынка; сознание его давила одна только мысль о том, что он поставил Бикьеллини в ужасное положение. Настоятель не захочет больше его видеть. В церковь он еще может ходить, церковь открыта для всех, но в монастырских покоях ему уже не бывать. Все свои привилегии он утратил. Он прошел по шумным улицам, сел в оцепенении перед Геракловым мрамором. Ну какое у него право ваять Геракла, толковать по собственному разумению образ героя, к которому питал такую любовь Лоренцо? Он приложил пальцы к своему сломанному носу, словно бы у него впервые заныли поврежденные кости. Теперь он был покинут всеми.
4
Он сидел на скамье напротив большой фрески. Заутреня уже кончилась, в церкви Санто Спирито было тихо. Случайно зашедшая женщина, в черном платке, опустилась на колени перед алтарем. Затем появился мужчина, тоже преклонил колена и быстро вышел. Пахучий ладан клубами висел в лучах солнца. Настоятель Бикьеллини вышел из ризницы и, заметив Микеланджело, подошел к нему. Он остановился, посмотрел секунду на начатый рисунок, где было всего две-три неуверенных линии, и спросил: — Где же ты пропадал все это время, Микеланджело? — Я… я… — Как подвигается твоя скульптура? Настоятель разговаривал с ним прежним тоном, в нем слышался тот же интерес к жизни Микеланджело и та же симпатия, что и раньше. — Скульптура?.. Она застряла на месте. — Я вспомнил тебя, когда мы получили новую рукопись с миниатюрами. Там есть несколько человеческих фигур — рисунки, кажется, четвертого столетия. Для тебя они были бы любопытны. Не хочешь ли посмотреть? Микеланджело робко поднялся и пошел за настоятелем через ризницу и монастырские покои в его кабинет. Там на столе лежал прекрасный пергаментный манускрипт, украшенный миниатюрами в синих и золотых тонах. Настоятель порылся в столе и, вынув оттуда длинный ключ, положил его поперек раскрытого манускрипта — придерживать листы. Несколько минут он спокойно разговаривал с Микеланджело. Потом сказал: — Allora, нам обоим надо работать, и мне и тебе. Приходи же сюда на этих днях снова. Микеланджело возвратился в церковь сияющий. Он сохранил дружбу настоятеля. Его простили, неприятный случай забыт. Если он пока и не достиг ничего в своем стремлении к анатомическим знаниям, то, по крайней мере, не понес непоправимого ущерба. Но он отнюдь не собирался отступиться от намеченной цели. Сидя на жесткой деревянной скамье, он долго не в силах был приступить к работе и мучительно думал, не разумнее ли будет решиться на вскрытие могилы, если только он сумеет это сделать один, без чьей-либо помощи. Но как ему одному вырыть труп и привести могилу в такой порядок, чтобы случайный прохожий не мог ничего заподозрить, как перетащить мертвеца в какой-нибудь дом поблизости и отнести его вновь на кладбище, когда работа будет кончена? Сделать все это казалось физически невозможным. Занимаясь в библиотеке монастыря, Микеланджело просматривал книги античных писателей — ему хотелось узнать, не подскажут ли древние какой-то новый взгляд на образ Геракла. Тогда же он наткнулся на иллюстрированную медицинскую рукопись: рисунки в ней изображали, как, готовя к операции, больных привязывали к веревочному матрацу, но что потом обнаруживалось под ножом хирурга — это показано не было. Настоятель опять пришел к нему на помощь. Откуда-то, с самой верхней полки, он достал тяжелый фолиант в кожаном переплете и, перелистывая его, воскликнул: «Вот тут материал, который тебе, наверное, пригодится!» и вновь он положил на страницы раскрытой книги тяжелый бронзовый ключ. Лишь на четвертый или пятый день Микеланджело обратил внимание и на ключ, и на то, что настоятель с ним проделывает. А Бикьеллини не только прижимал ключом раскрытые страницы, кладя его поперек книги, и пользовался им как закладкой, если книгу надо было закрыть, но даже проводил бородкой ключа по тем строкам, которые казались ему особо примечательными. Всегда и всюду этот ключ. Все один и тот же ключ. И ни разу настоятель не вынимал его из стола, если в кабинете, кроме Микеланджело, был еще кто-нибудь, монах или знакомый мирянин. Почему? Наступило время, когда Микеланджело начал ходить в церковь Санто Спирито почти ежедневно. Если он усаживался перед фреской и рисовал час или два, то настоятель, проходя мимо, весело с ним здоровался и приглашал к себе в кабинет. И большой бронзовый ключ неизменно оказывался на столе. Однажды ночью Микеланджело лежал в постели не смыкая глаз и вдруг словно увидел перед собой этот ключ. На рассвете, под осенним дождем, он пошел к каменоломням Майано, рассуждая вслух сам с собой. «Это все-таки что-то да значит. Но что? Для чего служат ключи вообще? Ясно, для того, чтобы отпирать двери. А сколько существует дверей, отпереть которые я бы стремился? Всего-навсего одна. Дверь покойницкой». Ему придется принять условия игры. Если настоятель желает, чтобы Микеланджело завладел этим ключом, что ж, великое ему спасибо; если же он не желает этого, то Микеланджело унесет с собой ключ как бы случайно, по забывчивости, и на следующий день возвратит его. А ночью он, проникнув через задние ворота и огороды в монастырь, прокрадется к покойницкой. Если ключ подойдет к двери, значит, догадка правильна. Если же нет…Была уже полночь, когда он попал в монастырь. Осторожно, чтобы никого не разбудить, он выскользнул из дому и кружным путем стал пробираться к монастырской больнице: он шел мимо церкви Санта Кроче, через Старый мост, крался вдоль дворца Питти, нырял в лабиринт переулков. Так он избежал встречи с ночной стражей, которая с фонарями в руках расхаживала по назначенной ей дороге и уже мелькнула огнями где-то за площадью. Прижимаясь к стенам больницы на Виа Сант-Агостино, он повернул кВиа Маффиа и оказался у маленьких ворот: над ними мерцала лампада, освещая фреску «Богородицы с Младенцем» работы Аньоло Гадди. Эти ворота отпирались любым монастырским ключом: Микеланджело вошел в них и, оставляя с левой руки конюшни, предусмотрительно свернул с центральной дорожки, ибо впереди уже были покои послушников, потом шмыгнул вдоль темных стен кухни. С бьющимся сердцем, затаив дыхание, он сделал крутой поворот и метнулся к зданию больницы. Главный вход в нее оказался открытым, и он прошел в коридор, ведущий к кельям для больных — двери у них были плотно заперты, — и стал пробираться в покойницкую. В каменной нише горела масляная лампа. Микеланджело вытащил из парусиновой зеленой сумки, которую он прихватил с собой, свечу, зажег ее от лампы и прикрыл полой плаща. Опасность грозила в первую очередь от смотрителя больницы, хотя этот монах хлопотал целыми днями, дозирая хозяйство больницы, ночлежного дома и монастыря, и едва ли был в силах вставать еще и ночью. После ужина, подававшегося в пять часов, все, кто находился в больнице, готовились ко сну, и двери их келий запирались. Дежурного врача не было: о том, что ночью больному могло стать дурно и ему потребовалась бы помощь, никто не думал. Больные же беспрекословно подчинялись раз заведенному порядку. Микеланджело на секунду замер на месте — перед ним была дверь покойницкой. Он вставил ключ в скважину, медленно повернул его направо, потом налево, почувствовал, что запор открылся. Он отворил дверь, мгновенно проскользнул в покойницкую и запер ее изнутри на ключ. Хватит ли у него отваги и решимости сделать то, что он задумал? Этого сейчас он не знал. Покойницкой служила небольшая, три с половиной аршина на четыре, келья, совсем без окон. Ее каменные стены были побелены известкой, пол сложен из грубых каменных плит. Посредине кельи, на узких досках топчана, завернутый с ног до головы в погребальный саван, лежал мертвец. Микеланджело прижался спиной к двери; ему было трудно дышать, свеча в его руках дрожала, словно веточка на ветру трамонтана. Впервые в жизни он был наедине с трупом, в запертой келье, замышляя кощунственное дело. Мороз пробирал его до костей, он трепетал от страха, как еще не трепетал никогда в жизни. Кто лежит под этим саваном? Что он увидит, когда развернет мертвеца и скинет саван на пол? Что сделал этот несчастный человек, за какие прегрешения его будут сейчас терзать и калечить, даже не спросив у бедняги согласия? «Чепуха! Право же, чепуха все эти мысли, — успокаивал себя Микеланджело. — Какая разница человеку, что с ним будет, когда он уже мертв. Ведь на небеса возносится одна душа, а не тело. Души его я не трону, даже если мой нож наткнется на нее». Несколько ободренный таким умозаключением, он положил свою сумку на пол и огляделся, соображая, куда бы поставить свечу: свеча нужна была ему не только для освещения, но и для того, чтобы следить по ней за временем. Он мог считать себя в безопасности лишь до трех часов утра, когда просыпались монахи, работавшие в обширной пекарне на углу Виа Сант'Агостино и площади Санто Спирито, и шли печь хлеб, которым кормилось, кроме монахов, немало их родственников и пришлых бедных. Микеланджело потратил много сил, устанавливая, сколько времени горит свеча того или иного сорта. Та свеча, которую он принес, должна была гореть в течение трех часов: когда она начнет трещать и брызгать воском, ему надо будет бросать работу и уходить. И надо было помимо прочего позаботиться и о том, чтобы не оставить после себя никаких следов. Он вынул из сумки ножницы и нож, разостлал ее на полу, накапал на сумку воска от свечи, повернув ее горящим концом вниз, и укрепил свечу на сумке. Снял с себя плащ, — несмотря на холод в келье, он был уже весь в поту. Положив плащ в угол, он торопливо и сбивчиво прочитал молитву: «Прости меня, Господи, ибо я не ведаю, что творю», — и подошел к мертвецу. Прежде всего с него надо было снять саван, в который он был плотно завернут. Доски топчана оказались очень узкими. Неловкость, с которой действовал Микеланджело, удивляла его самого. Медленно он поднимал и поворачивал закоченевшее мертвое тело. Сначала надо было высвободить ноги, размотать и вытащить из-под них полотно, затем, приподняв мертвеца за поясницу и придерживая его левой рукой, раскутать грудь и голову. Покойник был обмотан пятью витками длинного полотнища, и, чтобы обнажить его полностью, Микеланджело с мучительными усилиями пришлось приподнимать и поворачивать тело пять раз. Взяв свечу в левую руку, Микеланджело осмотрел труп. Первое, что он ощутил, было чувство жалости к мертвецу. Потом на него нахлынул страх: «Ведь именно так кончу свою жизнь и я!» Весь разительный контраст между жизнью и смертью открылся перед ним в одну минуту. Лицо у покойника было лишено какого-либо выражения; рот полуоткрыт, кожа зеленая от гангрены. Коренастый, плотный, он был в среднем возрасте и погиб, вероятно, от удара кинжалом в грудь. Мертвец, по-видимому, лежал здесь довольно долго, тело его было таким же холодным, каким был воздух в покойницкой. Микеланджело почувствовал запах, напоминающий запах очень несвежих, увядших в воде цветов. Запах был несильным, и, когда Микеланджело отворачивался к стене, он не слышал его, но стоило ему подойти к трупу, как запах уже ощущался постоянно. С чего же начать? Он взял мертвеца за руку и приподнял ее, вдруг почувствовав, как она несказанно холодна. Это был даже не ледяной, а совсем особый, внушающий ужас холод: он словно бы проникал в самое сердце. И холодна была не кожа мертвеца, а то, что было под кожей, мышцы. Кожа казалась на ощупь мягкой, как бархат. Микеланджело испытывал тяжкое, противное чувство, будто железные пальцы скручивали у него желудок. Он подумал о том, какими теплыми бывают руки и плечи у человека, и опустил руку мертвеца. Прошло немало времени, пока он смог взять с пола нож и припомнить все, что читал об устройстве человеческого тела, а также те немногие анатомические рисунки, которые ему довелось видеть. Он помедлил минуту, стоя над трупом, весь промерзший, с трудом глотая слюну. Затем он поднес к трупу нож и сделал первый разрез: от грудины к паху. Но он нажимал на нож с недостаточной силой. Кожа оказалась неожиданно прочной. Он провел лезвием ножа вновь по тому же месту. Теперь, крепко нажимая на нож, он чувствовал, что мышцы, лежащие под кожей, совсем мягкие. Он сделал разрез дюйма на два. И он спрашивал себя: «Где же кровь?» — так как кровь под ножом не появлялась, впечатление холода и смерти делалось от этого еще разительнее. Затем он увидел под взрезанной кожей что-то жирное, мягкое, темно-желтого цвета. Он понял, что это такое, ибо видел, как на рынке вычищали жир у зарезанных животных. Он еще раз нажал на нож, чтобы добраться до мускулов, у которых был совсем другой цвет, чем у кожи и жира, и резать которые было гораздо труднее. Он внимательно всмотрелся в темно-красные валики мышечной ткани. Он сделал еще один разрез и увидел кишечник. Противный запах усиливался. Микеланджело почувствовал тошноту. Чтобы провести ножом по телу в первый раз, ему пришлось напрячь свои силы до крайности. Но и сейчас его угнетало и отталкивало буквально все: холод и страх, мерзкий запах, ощущение смерти. Ему были отвратительны скользкие волокна мышц, отвратителен жир, обволакивающий пальцы, подобно маслу. Ему хотелось тотчас же опустить руки в горячую воду и вымыть их. — Что же я делаю? Он вздрогнул, услышав, как отдался его голос в каменных стенах. Но обнаружить его по голосу, пожалуй, никто не мог: стена позади, очень толстая, выходила на огороды, одна боковая стена примыкала к пустой часовне, где отпевали покойников, другая — к больнице; но она тоже была настолько толста и прочна, что проникнуть через нее не мог ни один звук. Во вскрытой полости живота было темно. Микеланджело положил свою парусиновую сумку в ногах мертвеца и укрепил на ней свечу на высоте тела. Все его чувства были обострены до крайности. Кишки, к которым он сейчас приглядывался, были холодные, скользкие, подвижные. Трогая их, он чувствовал боль и в своих кишках. Он взял в обе руки по витку кишечника и, поднеся их друг к другу, с минуту внимательно разглядывал. Перед ним была бледно-серая длинная змея, свернувшаяся во множество колец. Вся влажная, прозрачная, она поблескивала, словно перламутр, и была наполнена чем-то неуловимым, ускользающим при первом прикосновении. Теперь Микеланджело уже не испытывал чувства отвращения; он был лишь сильно взволнован. Снова взявшись за нож, он провел им по телу от нижнего ребра вверх. Однако нож был недостаточно крепким. Он скользил по ребрам и отклонялся в сторону. Кости ребер были тверды; перерезать их было так же трудно, как перерезать проволоку. Вдруг свеча начала шипеть и брызгать. Три часа пролетело! Микеланджело не мог этому поверить. Но пренебречь таким предупредительным знаком он не осмелился. Он снова положил свою зеленую сумку на пол, поставил на нее свечу и взял в руки саван. Закутать труп в полотнище оказалось в тысячу раз сложнее, чем обнажить; поворачивать мертвеца на бок было уже нельзя, так как все его внутренности вывалились бы на пол. Микеланджело чувствовал, что в глаза ему течет пот; сердце стучало с такой силой, что, казалось, могло разбудить весь монастырь. Собрав последние силы, он приподнял мертвеца, просовывая под спину полотнище и обертывая его, как было нужно, пятью витками. Едва он успел удостовериться, что труп лежит на топчане в том же положении, в каком лежал прежде, осмотреть пол, выискивая на нем упавшие капли воска, как свеча замигала, зашипела, вспыхнула в последний раз и погасла.
У него хватило выдержки пойти домой той же окольной дорогой, какой он шел в монастырь. Много раз он останавливался у выступов и углов зданий, в темных местах: его тошнило и рвало. Трупный запах стоял у него в ноздрях и проникал в гортань с каждым вдохом. Придя домой, он хотел нагреть воды на горячих углях, которые оставляла в кухне Лукреция, но не осмелился: шум мог разбудить все семейство. Однако мерзкое ощущение жира на руках было невыносимо, его хотелось смыть сейчас же. Он нащупал в темноте кусок жесткого мыла и вымыл руки холодной водой. Когда он лег в постель, все его тело было как ледяное. Он прижался к брату, но даже тепло Буонаррото не согревало его. Несколько раз он должен был вставать с постели и идти к ведру — его снова тошнило и рвало. Он слышал, как поднялась, оделась и прошла через кухню Лукреция, как по винтовой лестнице она спустилась на улицу, едва первые, еще слабые, жемчужно-серые отблески рассвета тронули окно, выходящее на конюшни Виа деи Бентаккорди. Весь день его то бросало в жар, то знобило. Лукреция сварила для него куриный бульон, но он не мог проглотить ни ложки. Все в доме один за другим входили в спальню взглянуть, что с ним случилось. Он лежал в постели, чувствуя себя холодным и липким, как труп. Трупный запах в носу не улетучивался, он давал себя знать каждую минуту. Микеланджело заверил Лукрецию, что он занемог не от еды, которой она кормила его за ужином; успокоенная, она пошла на кухню и приготовила ему лечебное снадобье — настои из трав. Монна Алессандра осмотрела внука, желая знать, нет ли у него прыщей. К вечеру Микеланджело был уже в силах выпить немного целебного отвара и от душа поблагодарил за него Лукрецию. Когда время приближалось к одиннадцати, он встал, надел башмаки, рейтузы, теплую рубашку, плащ и, еле держась на ослабевших ногах, направился в Санто Спирито. Мертвеца в покойницкой не было. Его не оказалось и на следующий день. За это время Микеланджело уже успел вполне оправиться. На третью ночь он обнаружил, что на узком дощатом топчане снова лежит завернутый в саван труп. Покойник на этот раз был старше возрастом, с кустиками седой бороды на широком красном лице; на очень плотной коже у него проступали, как на мраморе, влажные крапины и разводы. Теперь Микеланджело действовал ножом гораздо увереннее и вскрыл брюшную полость с первой попытки. Пустив в ход левую руку, он начал взламывать ребра; ребра трещали, как сухое дерево. Но отделить грудную клетку от ключиц ему не удалось. Он поднял свечу, чтобы хорошенько осветить открывшиеся в полости груди внутренности: он видел их впервые. Перед ним была некая бледно-красная, ячеистая, прочная ткань — Микеланджело догадался, что это легкие. Они были покрыты черным налетом: Микеланджело знал по рассказам, что так бывает у рабочих-шерстяников. Он попробовал нажать на легкое: изо рта мертвеца вырвался свистящий звук. Микеланджело в ужасе выронил из рук свечу. К счастью, она не погасла. Когда он немного пришел в себя и вновь поднял свечу, он понял, что, прикоснувшись к легкому, он выдавил находившийся в нем воздух; впервые он ясно представил себе, что такое дыхание, — он мог видеть, и чувствовать, и слышать, как ходит воздух между легкими и ртом, он увидел, как воздействует дыхание на форму всего торса. Сдвинув легкое в сторону, он заметил темно-красную массу: он подумал, что это, должно быть, сердце. Оно было окутано блестящей пленкой. Ощупывая и оглядывал его, он убедился, что по очертаниям оно напоминает яблоко и подвешено в грудной клетке почти свободно. «А можно его вынуть?» Он колебался одну секунду, затем взял ножницы и надрезал защитную оболочку. Он снял ее, не применяя ножа, будто счистил кожуру с банана. В его руках теперь было обнаженное сердце. И тут, совсем неожиданно, его так ударило по нервам, словно бы на него обрушилась дубинка Геракла. Если сердце и душа — это одно и то же, то что произойдет с душой этого несчастного человека, если он вырезал у него сердце из груди? Но страх исчез так же быстро, как и появился. Сейчас Микеланджело испытывал лишь чувство торжества. Ведь он держал в своих руках человеческое сердце! Он был счастлив от сознания того, что прикоснулся к самому важному органу тела человека, увидел его, ощутил его плоть. Он взрезал ножом сердце и был потрясен, обнаружив, что внутри его пусто. Потом он вложил сердце снова в грудь и поставил на свое место ребра, рисунок которых художники без особых хлопот постигали на первом встречном худощавом тосканце. Но теперь Микеланджело в точности знал, в каком именно месте под ребрами бьется сердце. О том, как обращаться со змеевидной кишкой, у Микеланджело не было ни малейшего представления. Он ухватил ее пальцами и осторожно потянул. Аршина на два она вышла наружу легко, ибо кишечник отделялся от задней стенки довольно свободно. Но скоро кишка стала вытягиваться уже с трудом. В верхней части она утолщалась и была соединена с каким-то мешком: Микеланджело заключил, что это желудок. Он взял нож и отрезал кишку от желудка. Он вытянул кишечник наружу аршин на десять, перебрал и ощупал его. Кишки были то толще, то тоньше и наполнены то чем-то твердым, то совершенно жидким. Микеланджело стало ясно, что кишечник — это длинный канал, наглухо закрытый: внутрь него проникнуть было нельзя. Чтобы взглянуть, что же в нем есть, Микеланджело разрезал его ножом в нескольких местах. В нижней части обнаружился кал — запах его был ужасен. Микеланджело запасся на этот раз четырехчасовой свечой, но и она уже оплывала и брызгала воском. Он сложил внутренности в брюшную полость и с огромными усилиями запеленал труп. На площади Санто Спирито он кинулся к фонтану и хорошенько вымыл руки, но ощущение липкой грязи на пальцах так и не исчезало. Он опустил голову в ледяную воду, словно бы желая смыть, снять с себя чувство вины. Минуту он стоял неподвижно; вода струйками текла у него по волосам и лицу. Потом он побежал домой, весь дрожа, как в лихорадке. Он был измучен душой до предела. Когда он проснулся и открыл глаза, перед ним стоял отец и смотрел на него с недовольным видом. — Микеланджело, вставай. Лукреция накрывает стол к обеду. Видно, опять у тебя новые причуды. Почему ты целый день спишь? Что же ты делал ночью? Микеланджело, не поднимаясь, смотрел на Лодовико. — Извини меня, отец. Я себя плохо чувствую. Он тщательно умылся, причесал волосы, надел свежее платье и пошел к столу. Он уже думал, что совершенно здоров. Однако, когда Лукреция внесла миску супа с говядиной, он выскочил в спальню и стал блевать в ночной горшок, пока у него не заныли все внутренности. Но на следующую ночь Микеланджело был опять в покойницкой. Не успел он запереть дверь кельи, как на него хлынул запах тления. Размотав саван, он увидел, что левая нога мертвеца вздулась, увеличившись раза в полтора, и стала коричневой; на ней появились, выступив из-под кожи, зеленые пятна. Все остальное тело было пепельно-серого цвета; глаза и щеки глубоко запали. Микеланджело начал работу с того, на чем кончил во вчерашнюю ночь; быстро проник к кишечнику и распутал, разобрал его, петлю за петлей. Он сложил кишки на полу и поднес свечу прямо к брюшной полости. Там было несколько органов, увидеть которые он доискивался, — селезенка с левого бока и печень с правого. Печень он узнал, припоминая, как разрубали на рынке быков и овец; близ позвоночного столба, по обеим его сторонам, были почки. Микеланджело осторожно оттянул их и убедился, что они соединены с мочевым пузырем тонкими, как проволока, трубками. Затем он рассмотрел, как прикреплена к задней стенке печень; ножницами он перерезал соединительные волокна и вынул печень наружу. Держа печень на ладони, он осмотрел ее со всех сторон и лезвием ножа тронул маленький пузырь, прикрепленный к печени снизу. Из пузыря вытекла темно-зеленая жидкость. Теперь он поднес свечу ближе и увидел то, что прежде ускользало от его глаз: брюшная полость была отделена от грудной куполообразной мышцей. В центре этой мускульной преграды были два отверстия, через которые проходили трубы, соединяющие желудок со ртом. Одна труба — крупный канал, идя вдоль позвоночника, исчезала в грудной клетке. Микеланджело стало понятно, что грудь и брюшная полость связаны между собой посредством двух проходов. Один из них служил для принятия пищи и жидкостей. Назначение второго Микеланджело не мог разгадать. Он приподнял грудную клетку, но так и не выяснил, для чего служит этот канал. Свеча замигала, грозя погаснуть. Бесшумно пробираясь по лестнице в дом, он увидел, что отец не спит и ждет его в дверях. — Где ты был? Чем это от тебя так ужасно воняет? Прямо-таки мертвечиной! Опустив глаза, Микеланджело извинился и быстро шмыгнул мимо Лодовико, чтобы укрыться в спальне. Заснуть он был не в силах. «Неужели я так никогда не привыкну к трупам?» — с горечью думал он. На следующую ночь мертвеца в покойницкой не оказалось. Микеланджело почувствовал, что над ним нависает опасность: то место на полу, где он клал кишки, было выскоблено и вымыто и светлым пятном выделялось среди остальных плит. И там же на полу, подле ножек топчана, остались скатившиеся со свечи капли воска. Но если следы работы Микеланджело и были замечены, нерушимая, как и прежде, тишина в покойницкой помогла ему успокоиться. Когда вновь наступила ночь, Микеланджело обнаружил на топчане мальчика лет пятнадцати. Никаких признаков болезни на его теле не было видно. Бледная, почти совершенно белая кожа покойника на ощупь была очень мягкой. Микеланджело открыл у него веки: глаза мальчика оказались голубыми, глубокого оттенка; рядом с пергаментно-белыми веками они производили впечатление темных. Мальчик был мил и привлекателен даже мертвым. — Ну конечно, он сейчас проснется, — тихо сказал Микеланджело. Грудь у мальчика была совсем гладкая, без единого волоска, — это почему-то особенно тронуло Микеланджело, и теперь он испытывал к мальчику такую же щемящую жалость, какую чувствовал к мертвецу в первую ночь. Микеланджело отступил от топчана: нет, он не будет вскрывать тело мальчика, он сделает это завтра. Затем, глядя на выбеленные стены покойницкой, Микеланджело тяжело задумался. Ведь завтра утром этот мальчик уже будет укрыт под землей на кладбище Санто Спирито. Микеланджело повернулся, шагнул к мальчику и потрогал его: тот был холоден, как лед. Он был прекрасен, но мертв, как были мертвы все другие мертвецы. Он взрезал теперь кожные покровы куда искусней, чем прежде: просунув руку под грудину, он легко отделил ее. Продвигаясь к шее, он нащупал какую-то трубку, с дюйм в диаметре; вся она состояла словно бы из очень твердых колец. Между кольцами прощупывалась мягкая перепончатая трубка, выходившая из самой шеи. Микеланджело не мог установить, где кончалась эта трубка и начинались уже легкие; но когда он потянул трубку, шея и рот мальчика пришли в движение. Микеланджело судорожно отдернул руку и отошел от трупа. Минуту спустя он вслепую перерезал трубку — увидеть ее было невозможно — и одно за другим вынул из груди легкие. Они были почти невесомы, а когда Микеланджело сжал их, ощущение было такое, точно он сжимал комок снега. Он попытался вскрыть легкое ножом, положил его на топчан и взрезал — под плотной поверхностью легкого обнаружились сухие губчатые ткани. На одном легком Микеланджело заметил бледную желтовато-белую слизь, от которой оно делалось влажным; на другом легком слизь казалась розовато красной. Микеланджело хотел было открыть у мальчика рот и обследовать горло и шею, но, прикоснувшись к зубам и языку, почувствовал отвращение и замер на месте. Ему вдруг показалось, что в покойницкой кто-то есть, хотя он прекрасно знал, что это немыслимо, что он запер дверь изнутри. Все в эту ночь было для него слишком тягостным. Микеланджело завернул мальчика в саван: труп был легок, и это давалось ему без труда. Уложив покойника так, как он лежал прежде, Микеланджело вышел из кельи.
5
Он не мог больше рисковать тем, чтобы отец вновь почувствовал запах мертвечины, и брел наугад по улицам, пока не наткнулся в рабочем квартале на винную лавочку, которая была уже открыта. Там он выпил немного кьянти. Улучив момент, когда торговец на секунду отвернулся, он вылил остатки вина себе на рубашку. Почуяв крепкий винный запах, Лодовико был взбешен: — Мало того, что ты шляешься все ночи по улицам и бог знает что там творишь, мало того, что снюхался с падшими женщинами, — теперь ты явился домой в таком виде, что от тебя несет, как от винной бочки! Я не в силах тебя понять. Какой дьявол толкает тебя на эту, дурную дорожку? Микеланджело мог сохранить мир в семье, лишь держа ее в полном неведении о своих занятиях. Пусть отец думает, что Микеланджело гуляет и бражничает: ведь он уже притерпелся к мысли о разгуле, поскольку Джовансимоне нередко возвращается домой с окровавленной физиономией и в изорванном платье. Но время шло, и, видя, что Микеланджело по-прежнему где-то бродит целые ночи и является спать только перед рассветом, семейство вознегодовало. Каждый нападал на Микеланджело, исходя из своих соображений. Лукреция на том основании, что он совсем не ест, дядя Франческо потому, что боялся, как бы Микеланджело не наделал долгов, тетя Кассандра — опасаясь за его моральные устои. Один только брат Буонаррото заставил Микеланджело рассмеяться. — Я знаю, что ты не кутишь и не гуляешь, — сказал он. — Откуда же ты знаешь? — Да это ясней ясного. Ведь с тех пор, как ты купил свечи, ты не спрашивал у меня ни скудо. А без денег женщину во Флоренции не достанешь. Микеланджело понял теперь, что ему необходимо найти место, где он мог бы отдыхать и отсыпаться днем. Тополино никогда ни о чем не спрашивают его, но до Сеттиньяно далеко: чтобы ходить туда и обратно, пришлось бы попусту тратить очень нужные ему драгоценные часы. Придя утром в свою мастерскую на дворе Собора, Микеланджело уселся перед столиком для рисования. Когда Бэппе здоровался с ним, на лице у старика была недоуменная мина. — Ты так исхудал, дружище, поглядеть — ну, чисто труп. Чем это ты себя мучишь? Микеланджело бросил на каменотеса быстрый взгляд: — Я… я работал, Бэппе. Показав свои беззубые десны, Бэппе захихикал. — Ох, если бы я еще годился для этой работы! Но послушай меня, дружок: не позволяй подниматься палице Геракла каждую ночь. Помни: то, что ты отдашь ночью женщине, уже не отдашь утром мрамору. В ту ночь Микеланджело впервые столкнулся с покойником, столь обезображенным смертью, что, весь дрожа, смотрел на него и думал: господи, во что только может превратиться твое творение! Мертвец был лет сорока, с крупным темно-красным лицом, с опухолью на шее. Рот у него был открыт, губы синие, белки глаз в красных пятнах. За желтыми зубами виднелся багровый язык, он распух и заполнял собой всю полость рта. Микеланджело приложил руку к лицу покойника. Щеки его напоминали на ощупь сырое тесто. Микеланджело хотелось на этот раз разобраться в строении лица и головы. Он взял в руки небольшой нож — меньших у него не было — и разрезал кожу на лице покойника от линии волос до горбинки носа. Он попытался снять кожу со лба, но это оказалось невозможно: кожа обтягивала череп чересчур плотно. Тогда он сделал надрезы над обеими бровями и, проведя лезвием ножа до внешних уголков глаз, а потом в сторону уха, откинул кожу на висках и скулах. Теперь голова трупа была так безобразна, что Микеланджело не мог продолжать работу. Он поднял с полу саван и прикрыл им ужасную голову, сосредоточив свое внимание на костях таза и волокнистых мышцах бедра. Спустя несколько ночей, когда в покойницкой был уже новый труп, Микеланджело умело снял кожу с лица, действуя ножницами. Под тонким слоем желтого жира он обнаружил мышечную красную ткань — мышцы кругом облегали рот и шли от одного уха до другого. Впервые в жизни Микеланджело осознал, каким образом движение мускулов вызывает на лице улыбку, слезное горе, печаль. Чуть глубже этих тканей располагалась несколько более толстая мышца, идущая от угла челюсти к основанию черепа. Просунув туда палец, Микеланджело нажал на мышцу и заметил, как челюсть шевельнулась. Он, вновь и вновь нажимал на мышцу, заставляя челюсть делать жевательное движение, а затем разыскал мускул, двигающий веки. Чтобы узнать, вследствие чего двигается глаз, ему надо было проникнуть в глазницу. Засовывая в нее палец, он надавил слишком сильно. Глазное яблоко лопнуло. Пальцы Микеланджело запачкала белая слизь, глазница сразу стала пустою. Пораженный ужасом, он отошел в угол кельи и прижался лбом к выбеленной, холодной стене: его опять невыносимо тошнило. Подавив наконец этот приступ, он вернулся к трупу и перерезал мышечные ткани, вокруг второго глаза — глаз держался теперь лишь на чем-то, скрытом в глубине глазницы. Микеланджело погрузил в нее палец и медленно подвигал глаз направо и налево, а затем вытащил его наружу. Он долго перекатывал его на ладони, стараясь разгадать, как он движется. Он поднес свечу прямо к опустошенной глазнице и заглянул в нее. На дне впадины было заметно отверстие: тонкое, как проволочка, волоконце шло из глазницы в череп. До тех пор пока он не снимет верхушку черепа и не рассмотрит мозг, понять, как видит глаз, ему не удастся. Его свеча уже догорала. Он срезал все мягкие ткани носа, обнажив кость, и ясно представил себе, что произошло с его собственным носом от удара кулака Торриджани. Свеча оплыла совсем и зашипела. Куда же теперь идти? Едва волоча ноги, он плелся через площадь Санто Спирито. От усталости у него ныло все тело, глаза жгло, желудок крутило и выворачивало. Возвращаться домой Микеланджело не хотел: ведь Лодовико встретит его на лестнице и будет кричать, что он, его сын, опускается все ниже и идет прямой дорогой к тюрьме. Микеланджело решил укрыться в своей мастерской при Соборе. Он перекинул через ограду сумку, а затем легко перелез и сам. В лучах луны глыбы белого мрамора светились, словно были совсем прозрачные, щебень вокруг полузавершенных колонн сиял, как свежий, только что выпавший снег. Прохладный воздух успокаивал боль в желудке. Микеланджело добрался до своего верстака, расчистил под ним место и лег спать, укутавшись с головой плотной холстиной. Спустя час или два он проснулся; солнце уже поднялось. С площади доносились голоса: приехавшие на рынок крестьяне выставляли свои товары. Микеланджело прошел к фонтану, умылся, купил кусок пармезана и два поджаристых хлебца и снова вернулся на двор Собора. Полагая, что ощущение железных инструментов в руках даст ему радость, он начал было обрубать углы Гераклова блока. Но скоро он сложил молоток и закольник наземь, сел за стол и начал рисовать — руку, сухожилие, мышцу, челюсть, сердце, голову. Когда к нему подошел поздороваться Бэппе, Микеланджело растопырил пальцы и прикрыл ими рисунки. Бэппе не стал особо любопытствовать, но все же успел разглядеть изображение пустой глазницы и вынутых наружу кишок. Он мрачно покачал головой, отвернулся и зашагал прочь. Чтобы успокоить отца, к обеду Микеланджело явился домой. Прошло несколько дней, прежде чем Микеланджело собрался с духом и решил идти в покойницкую, вскрывать череп. Он вскрывал его, нанося удары молотком и зубилом в переносье. Это была не работа, а сплошная пытка — при каждом ударе голова мертвеца содрогалась и дергалась. Микеланджело совсем не знал, с какой силой надо ударять инструментом, чтобы разрубить кость. Вскрыть череп ему так и не удалось. Он закутал голову мертвеца в саван, перевернул труп на живот и весь остаток ночи потратил на изучение позвоночника. На следующую ночь, когда в покойницкой был уже новый мертвец, Микеланджело не повторил своей ошибки и не стал взламывать переносье; он начал пробивать череп у верхнего кончика левого уха, на линии волос; нанеся три или четыре сильных удара по одному месту, он прорубил кость насквозь. Теперь, удлиняя открывшуюся щель, можно было отделять череп по окружности головы. Выступало влажное желтое вещество; щель делалась все шире. Когда щель охватила половину окружности головы, Микеланджело просунул зубило поглубже и нажал на него сверху, как на рычаг. Черепная коробка отвалилась и лежала теперь у него в руках. Она была словно бы сделана из сухого дерева. Потрясенный, Микеланджело едва не уронил ее на пол. Он перевел взгляд с черепа на труп и ужаснулся: лишенное лба, лицо казалось чудовищно нелепым и страшным. Сейчас его опять переполняло чувство тяжкой вины, но, сняв череп, он мог уже рассмотреть, как выглядит человеческий мозг. Где же зарождаются эмоции, какая часть мозга дает возможность лицу выражать чувства и настроения? Как художник, Микеланджело интересовался прежде всего этим. Придвинув свечу к мозгу, он увидел, что его изжелта-белая поверхность изрезана красно-голубыми жилками: артерии и вены шли повсюду, в любом направлении. Вся масса мозга делилась посередине на две части; в соответственном месте вдоль черепа шла разделительная линия. Никакого запаха у мозга не было. Микеланджело осторожно притронулся к нему пальцами: он был влажный, очень мягкий и чуть скользкий; ощущение было такое, словно прикасаешься к нежной и мягкой рыбе. Он приладил череп, надев его снова на голову, и плотно обмотал голову саваном так, чтобы череп держался на месте. Когда наступило утро, Микеланджело уже не чувствовал себя ни больным, ни несчастным и с нетерпением ждал часа, когда он вновь попадет в покойницкую и взрежет уже самый мозг. Сняв черепную коробку у нового трупа, Микеланджело был поражен: люди так непохожи друг на друга, а мозг у них почти одинаков! После минуты раздумий он пришел к выводу, что внутри мозга должна существовать какая-то физическая субстанция, от которой зависит своеобразие каждого человека. Запустив указательный палец в основание черепа, он ощупал мозг со всех сторон и убедился, что его масса не соединена плотно с костью и легко от нее отделяется. Тогда он, просунув руки под мозг справа и слева, попробовал приподнять и вынуть его. Однако мозг не вынимался. Пальцы его рук, шаря под мозгом, уже сошлись друг с другом: Микеланджело ощутил, что вся масса мозга удерживается на месте посредством множества волокон, похожих на проволоку. Он перерезал эти волокна и вытащил мозг наружу. Мозг оказался таким мягким и в то же время таким скользким, что, боясь помять и разрушить его, Микеланджело должен был действовать с величайшей осторожностью. Глядя на вынутый мозг, он и дивился и восхищался: ведь эта, в общем столь небольшая желтовато-белая масса, весившая от силы два фунта, породила все величие человеческого рода — его искусство, науку, философию, государственность; она сделала человека таким, каков он есть — добрым и злым одновременно. Когда Микеланджело разрезал мозг вдоль борозды, делившей его на две половины, нож прошел сквозь белую массу с такой легкостью, словно бы это был очень мягкий сыр, прошел бесшумно, ничуть не сминая краев. Как и прежде, Микеланджело не ощущал никакого запаха. Куда бы ни проникал нож, всюду открывалось одно и то же вещество серого, чуть отдающего в желтизну, цвета. Микеланджело сдвинул труп немного в сторону, освободив место на топчане для мозга, и был удивлен, когда заметил, что мозг стал медленно оседать и расплываться. Отверстия в черепе, как обнаружил Микеланджело, были заполнены теми же, похожими на проволоку, волокнами, которые ему пришлось оборвать, вынимая мозг. Он проследил, куда идут эти волокит, и понял, что лишь они-то и связывают мозг с телом. Передние отверстия соединяли с мозгом глаза, два отверстия с боков соответствовали ушам. Микеланджело увидел еще отверстие, дюйма в полтора, находящееся в основании затылочной части черепа: оно вело прямо к позвоночнику, — это была связь между мозгом и спиною. Он уже изнемогал от усталости, ибо работал пять часов кряду, и был рад, когда свеча догорела. Сидя на краешке фонтана на площади Санто Спирито и обмывая лицо холодной водой, он мучительно раздумывал: «Уж не сошел ли я с ума, занявшись таким делом? Имею ли я право вскрывать трупы только потому, что это нужно для скульптуры? Какой ценой придется мне заплатить за эти сокровенные знания?» Наступила весна, воздух стал теплее. Однажды Бэппе сказал Микеланджело, что в Санто Спирито собираются перестраивать приемную палату и ищут людей для скульптурной работы: надо будет делать резные капители и украшать свод и двери. Микеланджело не приходило и в голову, что можно обратиться по этому поводу к настоятелю Бикьеллини. Он разыскал десятника, руководившего перестройкой каменного свода, и предложил ему свои услуги. Десятник заявил, что ученик для такой работы не подходит. Микеланджело сказал в ответ, что он покажет десятнику свою «Богородицу с Младенцем» и «Битву кентавров», чтобы тот судил, можно ли ему поручить работу. Десятник нехотя согласился взглянуть на мраморы Микеланджело. Буджардини взял в мастерской Гирландайо повозку, подъехал к дому Буонарроти, помог Микеланджело закутать мраморы в мешковину и снести их вниз по лестнице. Они погрузили их в телегу, обложив со всех сторон соломой, и через пост Святой Троицы двинулись к Санто Спирито. На десятника мраморы не произвели впечатления. Это, по его словам, было совсем не то, что требовалось сделать в монастырской приемной. — Помимо всего, я уже нанял двух человек. — Скульпторов? — изумился Микеланджело. — Ну хоть бы и скульпторов. — Как же их зовут? — Джованни ди Бетто и Симоне дель Каприна. — Никогда не слышал о таких скульпторах. Где они учились? — У серебряных дел мастера. — Разве вы думаете отделывать камень серебром?! — Они уже работали в Прато. Люди с опытом. — А разве я без опыта? Я три года работал в Садах Лоренцо, моим учителем был Бертольдо! — Не горячись, сынок. Те люди пожилые, им надо кормить семьи. Ты же знаешь, работы по мрамору почти нигде нет. Но, конечно, если ты добьешься приказа Пьеро де Медичи, поскольку Медичи тебе покровительствуют, и если Пьеро оплатит твою работу… Микеланджело и Буджардини свезли рельефы обратно и уложили их снова под кровать. Лодовико молчаливо ждал, когда сын изменит свое поведение. Микеланджело по-прежнему возвращался домой на заре, целые ночи орудуя ножом над коленом или лодыжкой, локтем или кистью руки, бедрами, тазом, половыми органами. Снова и снова вглядывался он в мускулатуру, изучая строение плеч, рук, голеней, икр. Наконец, Лодовико прижал его к стене. — Я приказываю тебе бросить этот распутный образ жизни. Днем надо заниматься делом, а ночью, сразу же после ужина, — спать! — Обождите немного, отец, и все будет по-вашему. Видя, что Микеланджело тоже пристрастился к разгульной жизни, Джовансимоне был в восторге. Флоренция волновалась, обсуждая последнюю новость: Пьеро уступил требованиям отцов доминиканцев и выслал Савонаролу, как «чересчур рьяного приверженца народа», в Болонью. На привычное времяпрепровождение Джовансимоне это не повлияло. — Может быть, мы пойдем сегодня вечером вместе? Я знаю, где будет крупная игра и девки. — Спасибо, не пойду. — Отчего же? Разве ты уж так безгрешен, что гнушаешься мною? — Каждому свой собственный грех, Джовансимоне.6
Конец занятиям Микеланджело с трупами положила одна неожиданная смерть. Всегда деятельный и крепкий здоровьем, Доменико Гирландайо заразился чумой и в два дня скончался. Микеланджело пришел в мастерскую своего бывшего учителя и вместе с Граначчи, Буджардини, Чьеко, Бальдинелли, Тедеско и Якопо встал подле его гроба. По другую сторону гроба стояли сын, братья, зять и друзья покойного. Похоронная процессия двигалась по тем самым улицам, где Микеланджело когда-то ехал в запряженной осликом тележке, впервые направляясь писать фрески в церкви Санта Мария Новелла. После заупокойной службы и погребения Микеланджело пошел к настоятелю Бикьеллини, спокойно положил длинный бронзовый ключ на раскрытую книгу, которую тот читал, и тихо сказал: — Я с радостью высек бы какое-нибудь изваяние для церкви. Настоятель отнюдь не удивился словам Микеланджело, его лицо выразило лишь удовольствие. — Мне давно нужно распятие для центрального алтаря. Пожалуй, его надо сделать из дерева. — Из дерева? Не знаю, сумею ли я вырезать распятие из дерева. «Резьба по дереву — не мое дело» — эти слова были у Микеланджело уже на языке, но он благоразумно сдержался и не произнес их. Если настоятель хочет, чтобы распятие было из дерева, пусть оно будет из дерева, хотя Микеланджело никогда не работал по дереву. Бертольдо заставлял его осваивать любой материал для скульптуры — воск, глину, различные сорта камня. Но о дереве Бертольдо не заводил и речи; может быть, он не думал о нем по той причине, что учитель его, Донателло, создав свое «Распятие» для Брунеллески, за последние тридцать пять лет жизни совсем не брался за дерево. Проведя Микеланджело через ризницу, настоятель указал на арку за главным алтарем, ведущую в один из алтарных приделов. — Можно ли тут поставить фигуру в натуральную величину? — Сначала, чтобы быть уверенным, надо бы зарисовать и арки и алтарь. Но, мне кажется, фигура почти в натуральную величину здесь поместится. Только я хотел бы работать в монастырской столярной — это можно? — Братья будут тебе рады. Солнечный свет из высоких окон потоком врывался в монастырскую мастерскую, заливая плечи и спины столяров. С Микеланджело они обращались совсем просто, как с равным своим товарищем, который делает какую-то нужную для обители — одну из тысяч нужных — вещь. Хотя особого запрета шуметь и громко разговаривать в столярной не существовало, здесь всегда было тихо: люди, склонные к крику и болтовне, в августинских монастырях не уживались. Микеланджело тут нравилось; от тишины, которая нарушалась лишь приятным шумом пилы, фуганка и молотка, он испытывал физическое наслаждение. Запах опилок был целителен, как лекарство. Чтобы примениться к работе над материалом, столь непохожим на мрамор, Микеланджело перепробовал все породы дерева, какие только нашлись в мастерской. Казалось, дерево совсем не отвечает на удар, не сопротивляется ему. Микеланджело принялся читать Новый завет, историю жизни Христа в изложении Матфея и Марка. По мере того как он читал страницу за страницей, в памяти, его блекли и отступали в тень все стародавние распятия флорентинских часовен, где крестные муки Спасителя внушали страх и ужас. Теперь перед его взором стоял лишь образ настоятеля Бикьеллини — веселого, сердечного, самоотверженного человека, во имя божие отдающего людям все свои силы и помыслы: его огромный ум и благородство как бы утверждали жизнь. Натура Микеланджело требовала сказать нечто свое, самостоятельное. Но что скажешь нового и оригинального о распятом на кресте Иисусе, если его ваяли и писали красками уже столько веков? И хотя замысел распятия все никак не прояснялся, Микеланджело хотелось создать особенно прекрасную вещь и тем оправдать доверие настоятеля. Распятие должно быть поистине одухотворенным, возвышенным, — иначе настоятель придет к мысли, что, позволив Микеланджело вскрывать трупы, он сделал ошибку. Микеланджело начал зарисовывать деревянные распятия тринадцатого века. Голова и колени Христа на этих распятиях были повернуты в одну сторону: такая поза, вероятно, легче давалась скульпторам и вернее действовала на чувства зрителей, не вызывая лишних вопросов. В четырнадцатом столетии скульпторы уже ваяли Христа с лицом, обращенным к зрителю, симметрично располагая все части тела по обе стороны центральной вертикали. Он подолгу стоял перед «Распятием» Донателло в церкви Санта Кроче, дивясь величию замысла этой работы. Какие бы чувства ни хотел пробудить в зрителе Донателло, он великолепно передал ощущение силы, соединенной с идиллической мягкостью, способность простить и в то же время побороть, сломить сопротивление, готовность исчезнуть, рассыпаться в прах и, если надо, воскреснуть. Все это было чуждо Микеланджело, хотя, по-видимому, Донателло выразил тут свою душу. Микеланджело никогда не понимал, почему Господь Бог сам не мог совершить всего того, ради чего он послал на землю сына. Зачем был нужен Господу сын? Изысканно красивый, тихий Христос Донателло говорил ему: «Все совершилось так, как хотел Господь Бог, все было предопределено. И легко смириться и благословить свою судьбу, когда она уже предрешена. Я был заранее готов к этим мукам». Но такой взгляд на события Микеланджело не мог принять по своему характеру. Как примирить, согласовать насильственную смерть с божьей заповедью о любви? Зачем Господь дал совершиться насилию, если оно вызовет вслед за собой ненависть, страх, жажду мщения и снова насилие? И если Бог всемогущ,почему он не нашел другого, более легкого и мирного пути, чтобы возвестить свое слово людям? Его бессилие преградить путь варварству ужасало Микеланджело… и, быть может, самого Христа. Он постоял на ярком солнце у ступенек Санта Кроче, глядя, как мальчики гоняли мяч по твердой, утоптанной площади, затем медленно двинулся по Виа де Барди, любовно трогая ладонью резной камень дворцов. Что пронеслось в голове Христа, думал Микеланджело, между часом заката, когда римский воин вогнал первый гвоздь в его тело, и часом, когда он умер? Ибо эти мысли определяли не только его отношение к своей участи, но и его позу на кресте. Донателлов Христос принял свою смерть безмятежно, в нем нет и следа тревожных мыслей. А Христос Брунеллески был столь хрупким, столь эфемерным, что скончался при первом прикосновении гвоздя, ему не оставалось времени даже подумать. Микеланджело возвратился к своему верстаку и стал размышлять с карандашом и пером в руках. На листе бумаги появилось лицо Христа, оно говорило: «Я умираю в муках, но страдаю я не от железных гвоздей, а от грызущих меня сомнений». Микеланджело не мог пойти на то, чтобы обозначить божественность распятого таким атрибутом, как нимб. Божественность надо было выразить, показав внутреннюю силу Христа, ту силу, которая позволила ему преодолеть горестные чувства и мысли в самый тяжкий для него час. Христос Микеланджело неизбежно должен был быть ближе к человеку, чем к божеству. Он словно бы и не знал, что ему предназначено умереть на кресте. Он отнюдь, не жаждал смерти и не помышлял о ней. Не потому ли сомнения и боль, терзавшие Христа, как они терзали бы всякого человека, судорожно выгнули, скрутили все его тело? Приступая к резьбе, Микеланджело мысленно уже видел перед собой этот новый образ Христа: он повернет его голову и колени в противоположные стороны, раскрывая такой контрастной пластикой мучительное борение двух разных начал, острый конфликт, потрясший тело и душу казнимого. Он вырезал фигуру Иисуса из самого твердого дерева, какое только было в Тоскане, — из ореха и, закончив обработку скульптуры стамеской, протер ее наждачной бумагой, а затем чистейшим растительным маслом и воском. Монахи в мастерской молча смотрели, как продвигается у него работа, не решаясь высказать ни одного замечания. Заглянувший в столярную настоятель тоже не нашел нужным обсуждать изваяние. Он сказал просто и коротко: — Распятие — это всякий раз автопортрет художника. Именно такую вещь я желал для алтаря. Большое тебе спасибо. Воскресным утром Микеланджело привел в церковь Санто Спирито своих родных. Он усадил их на скамью поблизости от алтаря. Сверху на них смотрел его Христос. Бабушка сказала негромко: — Ты заставил меня почувствовать к нему жалость. А раньше мне всегда казалось, что он жалеет меня. Лодовико был не склонен кого-либо жалеть. — На какую сумму был заказ? — спросил он. — Это не заказ. Я вырезал распятие добровольно. — Ты хочешь сказать, что тебе не заплатят? — Настоятель сделал мне столько добра. Я хотел отблагодарить его. — Настоятель делал тебе добро — это в каком же смысле? — Как вам сказать… он позволял мне копировать картины и фрески. — Церковь открыта для всех желающих. — Я работал в монастыре. И он разрешил мне ходить в библиотеку. — Тут публичная библиотека. Чтобы парень без гроша за душой бесплатно работал на такой богатый монастырь — для этого надо сойти с ума!Густой снег, падавший в течение двух суток, сплошь выбелил Флоренцию. Утро в воскресенье выдалось холодное, но ясное и бодрое. Микеланджело сидел один в огороженной мастерской на дворе Собора и, примостясь у жаровни, пытался набросать углем облик своего будущего Геракла. Вдруг его окликнули — перед ним стоял грум из дворцовой свиты. — Его светлость Пьеро де Медичи спрашивает, не можете ли вы к нему пожаловать. Прежде всего Микеланджело поспешил к цирюльнику на Соломенный рынок, постриг там волосы, выбрил пробивавшуюся на щеках и подбородке бороду, а придя домой, согрел ушат воды, вымылся, надел синюю шерстяную тунику и — впервые почти за полтора года — направился прямо во дворец Медичи. Во дворе дворца снег шапками лежал на головах статуй. Все молодое поколение семейства Медичи собралось в кабинете Лоренцо, в камине горел яркий огонь. Праздновали день рождения Джулиано. Кардинал Джованни — после избрания папой враждебного ему Борджиа он поселился в небольшом, но прекрасном дворце в приходе Сант Антонио — выглядел еще более одутловатым и расплывшимся; он сидел теперь в кресле Лоренцо, за спиной у него стоял кузен Джулио. Сестра их Маддалена, жена Франческето Чибо, сына покойного папы Иннокентия Восьмого, приехала с двумя своими детьми; с детьми же была Лукреция, супруга флорентинского банкира Якопо Сальвиати, владевшего домом Дантовой Беатриче: с ними тихо переговаривались их тетя Наннина и ее муж, Бернардо Ручеллаи. Пьеро и Альфонсина были со своим старшим сыном. На них сияла великолепная парча, украшенный драгоценными камнями атлас и бархат. Была там и Контессина — ее шелковое, с серебряной нитью, платье поражало изяществом. Микеланджело с удивлением заметил, что она стала выше ростом и что ее руки и плечи стали чуть полнее, а грудь, подпираемая вышитым корсетом, налилась, как у взрослой девушки. Когда они встретились взглядом, глаза Контессины заблестели подобно тому серебру, в которое она была разнаряжена. Слуга подал Микеланджело стакан горячего вина, сдобренного пряностями. Вино и тот теплый прием, который ему оказали, острая тоска, нахлынувшая при виде кабинета Лоренцо, смутная, быстрая улыбка Контессины — все это ударило в голову и ошеломило Микеланджело. Пьеро стоял спиной к горящему камину. Он улыбался и, казалось, забыл старую ссору. — Микеланджело, мы весьма рады вновь видеть тебя во дворце. Сегодня мы должны делать буквально все, что только будет приятно Джулиано. — Я рад сделать что угодно, если Джулиано будет счастлив. — Прекрасно. Знаешь, что сегодня утром сказал Джулиано? «Я хочу, — сказал он, — чтобы мне слепили большую, самую большую на свете снежную бабу». А поскольку ты был любимым скульптором нашего отца, естественно, что мы сразу вспомнили о тебе. В груди Микеланджело что-то оборвалось и упало, как камень. Когда дети, обернувшись, пристально посмотрели на него, он вспомнил мертвеца в келье и те две трубки, которые шли у него ото рта через шею: одна для того, чтобы вдыхать воздух, а другая — чтобы пропускать в желудок пищу. Почему бы не быть еще и третьей — чтобы глотать разбитые надежды? — Будь добр. Микеланджело, слепи мне бабу! — взмолился Джулиано. — Пусть это будет самая чудесная снежная баба из всех, какие когда-либо лепили на свете. Стоило Микеланджело услышать это, как острая горечь, поднявшаяся при мысли, что его позвали лишь затем, чтобы он кого-то развлекал, вдруг утихла. А что, если он ответит: «Нет, снег — это не мой материал?» — Помоги же нам, Микеланджело! — сказала Контессина, подойдя к нему совсем близко. — А мы все будем у тебя подмастерьями. И он сразу почувствовал, что сдается. Когда наступил вечер, толпы флорентинцев все еще заполняли двор Медичи и, покатываясь со смеху, глазели на гигантскую снежную бабу, а Пьеро, сидя в отцовской приемной за письменным столом, над которым висела карта Италии, говорил: — Почему бы тебе не вернуться во дворец, Микеланджело? Мы были бы рады вновь собрать вокруг себя весь кружок отца. — Могу я спросить, на каких условиях я должен вернуться? — Ты будешь пользоваться теми же привилегиями, какими пользовался при отце. У Микеланджело сдавило горло. Когда он в свое время поселился во дворце, ему было пятнадцать лет. Теперь ему почти восемнадцать. Едва ли это тот возраст, чтобы брать деньги на карманные расходы с умывальника. Но таким образом открывалась возможность уйти из постылого дома Буонарроти, избавиться от тяжкой опеки Лодовико, заработать немного денег и, может быть, изваять для семейства Медичи что-нибудь истинно достойное.
7
Грум провел его в старую, столь памятную комнату; статуэтки Бертольдо, как и прежде, хранились на полках поставца. Явился дворцовый портной, принеся выкройки и тесьму для обмера; в первое же воскресенье мессер Бернардо да Биббиена, секретарь Пьеро, положил на умывальник три золотых флорина. Все было по-прежнему, и, однако, все было по-иному. Итальянские и иностранные ученые уже не приходили во дворец. Платоновская академия собиралась теперь в садах Ручеллаи. В воскресные дни за обеденным столом сидели лишь самые знатные семьи да легкомысленные богатые юноши, помышлявшие об одних удовольствиях. Тут уже не появлялись правители других итальянских городов-государств, приезжавшие прежде во Флоренцию, чтобы сделать приятное дело — заключить дружественный договор; не было богачей купцов, процветавших при Медичи; не было гонфалоньеров и буонуомини, или людей из флорентинских советов, которых Лоренцо считал нужным держать поближе к себе. Теперь всех их заменили шуты и молодые гуляки, приятели Пьеро. Тополино приехали в город на своих белых волах в воскресенье после заутрени и погрузили Гераклов блок на телегу. Дедушка правил волами, а Тополино-отец, три его сына и Микеланджело, придерживая оплетавшие глыбу веревки, шагали позади телеги. Еще с рассвета вымытые и подметенные улицы были тихи и пустынны. Через задние ворота повозка въехала в Сады, там мраморную глыбу сняли и установили в сарае, где Микеланджело работал в прежнюю пору. Удобно устроившись, Микеланджело вновь принялся за рисунки: он набросал красным мелом юношу, раздирающего руками челюсти Немейского льва, мужчину, душившего могучего Антея, старика, сражающегося со стоголовой гидрой, но все это показалось ему слишком живописным. В конце концов, отвергнув флорентинские образцы Геракла, где герой был представлен с широко расставленными ногами, с руками на бедрах, Микеланджело замыслил совершенно компактную фигуру, ближе к греческим изваяниям: огромная мощь и крепость Геракла чувствовалась в ней по той атлетической тяжеловесной силе, которая сливала округлый его торс с остальными членами в одно целое. Какие же уступки он должен сделать общепринятым представлениям? Во-первых, показать дубинку: он задумал изобразить ее в виде древесного ствола, на который опирается Геракл. Затем, неизбежную львиную шкуру, обычно окутывавшую корпус Геракла: Микеланджело накинул ее на Гераклово плечо и слегка приспустил на грудь, оставляя могучий торс обнаженным. Одну руку Геракла он отвел чуть в сторону: эта рука словно бы ограждала яблоки Гесперид, круглые, как шары. Палица, длинная львиная шкура, легендарные яблоки служили прежним скульпторам для того, чтобы показать доблесть и мужество героя; Геракл Микеланджело обнаженный и прямой, самим своим телом, каждым своим мускулом явит ту доблесть и мужество, в которых нуждается мир. Пусть его Геракл будет самым большим из всех, какие были только изваяны во Флоренции, — это Микеланджело не смущало. Он разметил на глыбе размеры — три аршина и семь дюймов высота фигуры, пол-аршина с лишним основание, пять дюймов запаса над головой: отсюда, спускаясь все ниже, он и начнет работу. И тут же он подумал, что Геракл был национальным героем Греции, как Лоренцо был национальным героем Флоренции. Зачем же изображать его в миниатюрных и изысканных бронзовых статуэтках? Да, и Геракл и Лоренцо потерпели крах, но как много они сделали, как много достигли, идя по своему пути! Они в полной мере заслужили изваяния в крупном масштабе, больше натуральной величины. Он вылепил из глины грубый эскиз фигуры, прикидывая, как распределится при задуманной позе вес, в каком движении окажутся мышцы спины, если рука будет отведена в сторону, как вообще расположатся мускулы при опоре всего тела на древесный обрубок, как напрягутся сухожилия, какой наклон примут поясница и плечо: все это Микеланджело хорошо теперь знал и мог лепить вполне уверенно. Какой-то инстинкт удерживал его от того, чтобы измерять размеры модели снурком или отмечать их для перенесения на крупный масштаб железными шпеньками. Поскольку это было его первое круглое изваяние большого размера и первая работа, предпринятая им совершенно самостоятельно, он хотел с убедиться, точно ли и послушно его рука следует глазу. Приступая к первоначальной обработке глыбы, он раскалил на огне свой инструмент, немного вытянул резцы в длину и, чтобы было удобнее бить крупным молотом, расплющил у них верхние концы. И вновь, как только он взял в руки эти железные инструменты, он ощутил себя сильным и крепким. Он сел прямо наземь перед мрамором. Глядя на него, он испытывал чувство могущества. Крупным шпунтом и увесистым молотом он срубил у камня углы и с радостью подумал, что уже одним этим придал глыбе какую-то красоту. У него не было желания покорить, подчинить себе этот огромный камень, надо было лишь заставить его выразить пока не совсем ясную творческую мысль. Это был мрамор, добытый в Серавецце, высоко в Ануанских Альпах. После того как Микеланджело стесал с него верхний выветрившийся слой, он стал раскалываться под острием шпунта, словно сахар; чистые, молочно-белые пластины крошились под пальцами. Взяв тонкую рейку, Микеланджело измерил, насколько глубоко ему предстояло врубаться в глыбу, чтобы высечь шею, впадины подмышек, грудную клетку, согнутое колено. Затем он вновь отправился в кузницу, изготовил там троянку и яростно набросился на камень, взрезая его по поверхности, как взрезает пахарь плугом землю. Теперь серавеццкий мрамор вдруг сделался твердым, будто железо; добиваясь нужных форм, Микеланджело пришлось вкладывать в работу всю силу своих мускулов. Вопреки наставлениям Бертольдо, он не стал обрабатывать блок сразу по всему объему, а высек сначала голову, потом плечи, руки, бедра; вторгаясь в камень все глубже, он время от времени измерял наиболее высокие места изваяния — тут ему служили и топкая рейка, и просто глазомер. Однажды он едва не загубил свою глыбу. Обрабатывая шею и голову Геракла, он вошел в камень слишком глубоко; от сильных ударов резца по выступающим мускулам плеч голова изваяния начала вздрагивать. На миг Микеланджело показалось, что мрамор вот-вот треснет и Геракл окажется без головы, тогда пришлось бы высекать изваяние заново, уже в меньших размерах. Но все обошлось благополучно, через минуту дрожь прекратилась. Микеланджело сел на ящик и вытер с лица пот. Потом он отковал новый набор тонких резцов, стараясь заострить их как можно аккуратнее. Теперь каждый удар молотка передавался режущей грани инструмента точно, без отклонения, словно бы камень резало не железо, а пальцы и ногти ваятеля. Время от времени Микеланджело отходил от блока и оглядывал его со всех сторон — мраморная пыль и крошка, заполнявшая углубления, будто это ямка под коленом или впадина между ребер, мешали в точности оценить результаты работы. Щеткой он аккуратно вычищал пыль. И вновь он сделал ошибку: не сумел соразмерить глубину заднего плана и несколькими резкими ударами нарушил соотношение плоскостей. Однако с тыльной стороны камня оставался еще достаточный запас, и Микеланджело втиснул фигуру в блок гораздо глубже, чем первоначально рассчитывал. По мере того как он врубался в мрамор, работа его шла все быстрее: яростно взрезая глубинные слои блока, он стоял, словно окутанный вихрями снежной вьюги, вдыхал белую пыль и жмурил глаза при каждом ударе молота. Теперь фигура уже стала похожей на ту, что он вылепил в глине, — у Геракла была могучая грудь, сильные, округлые предплечья, сверкающие белизной бедра, похожие на свежее, только что очищенное от коры огромное дерево, крепкая, будто вобравшая в себя необъятную силу героя, голова. С молотком и резцом в руках, он стоял перед этим, еще лишенным лица, титаном; грубо отесанная поверхность подножия как бы свидетельствовала, из чего возникло изваяние: мрамор с самого начала должен был подчиниться и уступить любви — он должен был родить статую. Трудясь над мрамором, Микеланджело ощущал себя поистине мужчиной: за ним, мужчиной, был выбор, его же, мужчину, ждала и победа. Войдя в соприкосновение с объектом любви, он становился воплощением страсти. Мрамор был девственным, но не холодным: пламень, которым горел ваятель, охватывал и его. Мрамор рождает статуи, но рождает их только тогда, когда резец глубоко вторгнется в него и оплодотворит его женственные формы. Только любовь порождает жизнь. Он старательно протер изваяние пемзой, но не стал полировать его, боясь, что это нарушит впечатление мужественности. Волосы и бороду он почти не отделывал, лишь наметил кое-где завитки и кольца; при этом он действовал своим маленьким трехзубым резцом так, чтобы к камню притрагивался и резал его только крайний зуб.Однажды к вечеру монна Алессандра почувствовала себя очень усталой, легла спать и больше уже не проснулась. Лодовико воспринял утрату нелегко; подобно большинству тосканцев, он был глубоко привязан к матери и выказывал по отношению к ней такую нежность, какой не проявлял ни к кому из семейства. Для Микеланджело кончина бабушки была особенно горькой: вот уже тринадцать лет, с тех пор как он потерял мать, монна Алессандра оставалась единственной женщиной в семье, у кого он мог найти любовь и понимание. Теперь, без бабушки, дом Буонарроти казался ему еще мрачнее, чем прежде. А дворец Медичи сиял и был полом шума — там готовились к свадьбе Контессины, которая была назначена на май. Выдавая замуж Контессину, последнюю из дочерей Медичи, Пьеро попирал законы против роскоши: он собирался потратить на свадьбу пятьдесят тысяч флоринов и устроить такое пышное празднество, какого город еще не видел. У Контессины была уйма хлопот: ей приходилось принимать портних и примеривать платья, давать заказы на роспись сундуков для приданого, разговаривать с купцами, наехавшими со всех стран света, и выбирать лучшие ткани, парчу, серебряные и золотые украшения, посуду и одеяла, белье и мебель — ведь приданое невесты из дома Медичи должно было соответствовать ее положению. Они встретились случайно, вечером, в кабинете Великолепного. Все было как прежде, кругом стояли книги, статуи и вазы Лоренцо, и, забыв на минуту о близкой свадьбе, они горячо пожали друг другу руки. — Я так редко вижу тебя теперь, Микеланджело. Тебе не надо горевать из-за моей свадьбы. — Меня пригласят на нее? — Свадьба будет здесь, во дворце. Ты неизбежно окажешься среди гостей. — Пусть меня все-таки пригласит Пьеро. — Не будь же таким упрямым! — Глаза Контессины сердито загорелись, как они загорались всякий раз, когда Микеланджело в чем-то упорствовал. — Ты проведешь на свадьбе все три дня, так я хочу. — Ладно, если ты только этого и хочешь, — ответил он, и оба они покраснели. Граначчи по приказанию Пьеро готовил декорации для брачных торжеств, балов, пиршеств, театральных представлений. Во дворце постоянно пели, танцевали, пили, веселились. Но Микеланджело чувствовал себя одиноким и, стараясь укрыться, большую часть времени проводил в Садах. Пьеро был с ним вежлив, но весьма холоден: он вел себя так, словно бы то обстоятельство, что он дает кров скульптору своего отца, уже исчерпывает меру его доброты. Ощущение сиротливости у Микеланджело особенно обострилось, когда он подслушал, как хвастался Пьеро тем, что в его дворце есть два необыкновенных человека: Микеланджело, слепивший огромную снежную бабу, и удивительно резвый скороход-испанец, которого Пьеро не может обогнать, даже пустив галопом свою лучшую лошадь. — Ваша светлость, нельзя ли нам серьезно поговорить о моих занятиях скульптурой? Я хотел бы оплачивать свой хлеб работой. На лице Пьеро проглянуло недоверие. — Два года назад ты обиделся на то, что я обращался с тобой как с мастеровым. Теперь ты недоволен тем, что я смотрю на тебя по-иному. Что же надо сделать, чтобы вы, художники, были довольны? — Мне нужна какая-то цель, наподобие той, которую ставил передо мной ваш отец. — Какая же это была цель? — Построить фасад церкви Сан Лоренцо. Украсить его нишами, где будут стоять двадцать мраморных фигур в натуральную величину. — Я не слыхал от отца ни слова об этом. — Он говорил это перед тем, как уехать в последний раз в Кареджи. — Минутные мечты смертельно больного человека. Не очень-то реальные, как видишь. Занимайся своим делом прилежнее, Буонарроти, и не помышляй о постороннем. Когда нибудь я подумаю, какую работу тебе поручить. Микеланджело видел, как со всей Италии, Европы и Ближнего Востока шли к Медичи свадебные дары — друзья Лоренцо, люди, связанные с ним делами, слали теперь редчайшие драгоценные камни, слоновую кость, благовония, дорогие азиатские атласы, восточные кубки и чаши, резную мебель. Он тоже хотел преподнести Контессине подарок. Но какой? Геракл! В самом деле, что мешает ему подарить свое изваяние Геракла? Он покупал мрамор на собственные деньги. Он скульптор, и он преподнесет ей к свадьбе именно скульптуру. Геракл в саду дворца Ридольфи! Он ничего не скажет ей заранее, он просто попросит Тополино помочь ему перевезти статую в этот сад. Теперь он впервые по-настоящему задумался, как изваять лицо Геракла. Да, это должен быть образ, портрет Великолепного — и не вздернутый нос, нечистая кожа и жидкие волосы Лоренцо де Медичи, а его внутренняя сущность, его дух. В нем должна быть гордость и в то же время смирение. Будут ощущаться не только сознание власти, но и готовность вести беседу, жажда общения. Устрашающая телесная мощь фигуры должна быть чем-то смягчена; ведь перед зрителями встанет борец, решившийся сразиться за человечество и обновить, перестроить мир, полный вражды к человеку. Когда были готовы рисунки, он с волнением начал отделывать голову статуи; ручным сверлом он обрабатывал ноздри и уши, падавшие на лоб буйные волосы тонко заостренной скарпелью обтачивал округлые скулы Геракла; буравчиком бережно прикасался к его глазам, добиваясь того, чтобы взгляд их был ясным, проникающим в душу зрителя. Микеланджело работал от зари до зари, забывая об обеде, и валился по вечерам в постель, как мертвый. Граначчи горячо поздравил приятеля с окончанием столь сложной работы, а потом тихо добавил: — Amico mio, ты не можешь подарить это Контессине. С твоей стороны это было бы ложным шагом. — Почему? — Это… это слишком крупная вещь. — «Геракл» слишком крупный? — Слишком крупный подарок. Ридольфи могут истолковать это превратно. — Значит, я не могу преподнести Контессине подарок? — Можешь. Но этот подарок слишком крупный. — Ты имеешь в виду размеры? Или стоимость? — То и другое. Ведь ты не какой-нибудь Медичи, не вельможа из богатейших тосканских фамилии. Это может быть дурно воспринято. — Но статуя ничего не стоит. Я не могу ее даже продать. — Стоит. И ты можешь ее продать. — Кому же? — Семейству Строцци. Они поставят ее во дворике своего нового дворца. Я приводил их сюда в прошлое воскресенье. Они велели мне предложить тебе сотню золотых флоринов. Они поставят «Геракла» на самом почетном месте. И это будет первой работой, которую ты продашь! Слезы бессилия навертывались и мучительно жгли веки Микеланджело, но он был теперь уже не мальчик и сумел сдержать их. — Прав Пьеро, и прав мой отец: как бы ни бился художник, конец ему уготован один: быть наемным мастеровым, идти со своим товаром на рынок. На свадьбу съехалось три тысячи гостей, до отказа заполнив все дворцы Флоренции, и укрыться от шума и толчеи было уже немыслимо. Утром 24 мая Микеланджело надел свою зеленую шелковую тунику с бархатными рукавами и фиолетовый плащ. Фонтан напротив дворца был увит гирляндами веток с плодами, посередине его высились изготовленные Граначчи две дельфиньи фигуры — из зева этих фигур обильной струей хлестало красное и белое вино, выливаясь на мостовую Виа де Гори. Свадебная процессия вышла на украшенные флагами улицы, впереди Контессины и Ридольфи шагали трубачи, Микеланджело с Граначчи замыкали шествие. На площади Собора была построена копия римской триумфальной арки, украшенная гирляндами. Стоя на ступенях Собора, нотариус громко читал брачный договор; площадь была запружена тысячными толпами народа. Услышав обширный перечень приданого Контессины, Микеланджело побледнел. В родовой церкви Сан Лоренцо, совершая обряд, Пьеро торжественно подвел Контессину к Ридольфи, тот надел на ее палец обручальное кольцо. Микеланджело стоял позади всех и, не дожидаясь конца свадебной мессы, выскользнул из церкви в боковую дверь и затерялся в толпе. Часть площади занимал деревянный помост, построенный для удобства зрителей, а в центре ее на столбе высотой в две сажени был сооружен выкрашенный белой краской павильон, в котором играли музыканты. В окнах и на балконах домов пестрели ковры. Свадебная процессия вышла из церкви, долговязый Ридольфи был в белом атласном плаще, черные как смоль волосы обрамляли его худое, бледное лицо. Поднявшись на ступени помоста, Микеланджело смотрел, как шла Контессина, — на ней было парчовое малиновое платье с длинным шлейфом и воротником из белых горностаев, изысканная малиновая шляпа, вся в блестках золотых бусин. Как только невеста села в изукрашенное кресло, начались представления: разыгрывали похожую на обычный турнир пьесу под названием «Битва между Целомудрием и Браком», в которой принял участие Пьеро; под конец было показано состязание «Рыцарей Кошки» — действие в нем развивалось так, что обнаженный до пояса человек с бритой головой входил в деревянную клетку и загрызал там кошку, не прикасаясь к ней руками. В зале, где был устроен свадебный пир, получил место и Микеланджело. К торжественному дню во дворец свезли со всей Тосканы самые лучшие припасы: восемьсот бочек вина, тысячи фунтов муки, мяса, разной дичи, тертого с сахаром миндаля. На глазах у Микеланджело Контессина исполнила старинный обряд — в залог плодородия и богатства держала на руках младенца, а затем прятала в своей туфле золотой флорин. Когда застольное пиршество кончилось и гости перешли в зал для танцев, стараниями Граначчи превращенный в подобие сказочного Багдада, Микеланджело тихо вышел из дворца и побрел по улицам от площади к площади: по приказу Пьеро тут были расставлены столы с щедрым угощением и вином, чтобы веселилась вся Флоренция. Однако народ казался мрачным и подавленным. Микеланджело так и не возвратился во дворец, хотя свадебные торжества должны были длиться еще двое суток, до переезда Контессины в дом Ридольфи. Глухой ночью он неторопливо шагал в Сеттиньяно. Придя туда, он расстелил на дворе у Тополино старое одеяло и, закинув руки за голову, долго смотрел, как над холмами вставало солнце, заливая своим светом кровлю дома Буонарроти, видневшуюся по ту сторону лощины.
8
Свадьба Контессины обозначила собой резкий поворот в судьбе Микеланджело, в судьбе всей Флоренции. Микеланджело уже видел, как негодовали толпы народа в первый вечер свадебных торжеств, слышал всеобщий ропот против Пьеро. И дело было даже не в яростных проповедях Савонаролы, который возвратился во Флоренцию и, обретя еще большую власть в ордене доминиканцев, требовал, чтобы Синьория судила Пьеро за нарушение законов против расточительства. Озадаченный всеобщей смутой, Микеланджело пошел к настоятелю Бикьеллини. — Разве свадьбы других дочерей Медичи обходились дешевле? — спрашивал он. — Да нет, не дешевле. Но при Лоренцо народ считал, что он входит с правителем в долю, а сейчас флорентинцы думают, что они оплачивают прихоти Пьеро. Вот почему свадебное вино кажется им кислым. Едва кончились свадебные празднества, как в политическую борьбу против Пьеро вступили кузены Медичи. Через несколько дней после венчания вся Флоренция была взволнована громким скандалом: на вечернем пиру, во дворце, Пьеро подрался со своим кузеном Лоренцо из-за женщины. Пьеро ударил Лоренцо по уху: впервые Медичи били друг друга. Соперники уже вытащили свои кинжалы, и, если бы в потасовку не вмешались друзья, дело кончилось бы смертоубийством. Когда Микеланджело вышел в полдень к обеду, он увидел, что кое-кого из постоянных сотрапезников во дворце нет, а смех и шутки Пьеро и его приятелей звучали несколько натянуто. Как-то раз, в сумерки, Граначчи пришел в Сады и сказал, что некий человек видел во дворике Строцци «Геракла» и будет ждать Микеланджело, чтобы поговорить с ним о заказе. Увидев, что его ожидали там кузены Медичи — Лоренцо и Джованни, Микеланджело страшно удивился. Он часто встречался с ними во дворце еще при жизни Великолепного, которого они любили и почитали, как отца; Великолепный назначил их на самые высокие дипломатические посты, даже послал их — одиннадцать лет назад — в Версаль поздравить Карла Восьмого с восшествием на французский престол. Пьеро же всегда помыкал ими, как отпрысками младшей ветви семейства. Братья Медичи стояли у статуи Геракла по обе ее стороны. Могучего сложения, на двенадцать лет старше Микеланджело, Лоренцо был красив, хотя его выразительное лицо и попортила оспа. Шея, плечи и грудь этого человека говорили об огромной силе. Жил он по-княжески, в родовом дворце на площади Сан Марко; среди холмов, чуть ниже Фьезоле и в Кастелло, у него были еще две виллы. За счет его заказа, иллюстрируя «Божественную комедию» Данте, ныне кормился Боттичелли. Сам он был признанным поэтом и драматургом. Джованни, младшего его брата, которому уже исполнилось двадцать семь лет, Флоренция прозвала Красавцем. Они встретили Микеланджело самым сердечным образом, с похвалой отозвались о «Геракле», затем перешли к существу дела. Первым заговорил об этом Лоренцо: — Мы прекрасно помним те два мрамора, Микеланджело, которые ты изваял для нашего дяди Лоренцо. А мы с братом всегда говорили, что когда-нибудь закажем тебе статую и для нас. Микеланджело потупился, ничего не сказав в ответ. Тогда в разговор вступил Джованни: — Мы давно мечтаем о статуе Святого Иоанна из белого мрамора. Иоанн — это наш святой покровитель. Такая тема тебя не интересует? Микеланджело неуклюже переминался с ноги на ногу, разглядывая яркое солнечное пятно на мостовой Виа Торнабуони, за воротами дворца Строцци. Да, ему нужна работа, и не столько ради денег, сколько для того, чтобы подавить в себе постоянно растущее чувство неудовлетворенности и беспокойства. Только подумать: опять в руках у него будет мрамор! — Мы готовы заплатить тебе большие деньги, — сказал Лоренцо. — А мастерскую ты себе устроишь у нас в саду, — добавил Джованни. — Что ты на это ответишь? — Когда ценят твою работу — это всегда приятно. Вы разрешите мне немного подумать? — Ну разумеется, — охотно согласился Лоренцо. — Мы совсем не намерены торопить тебя. Приходи к нам в воскресенье обедать, доставь удовольствие. Микеланджело шел домой молча, опустив голову. Граначчи тоже молчал, пока они не дошли до угла Виа деи Бентаккорди и Виа делль Ангуиллара, где им нужно было расставаться. — Меня просили привести тебя, я и привел. Но это отнюдь не значит, что я настаиваю, чтобы ты соглашался. — Спасибо тебе, Граначчи. Я понимаю. Однако домашние были настроены не так миролюбиво. — Что за сомнения, ты должен брать этот заказ! — гудел Лодовико, откидывая со лба пышные космы седеющих волос. — Сейчас ты можешь диктовать свои условия, выговаривать любую плату — ведь они сами к тебе обратились. — А почему они обратились ко мне? — спрашивал Микеланджело. — Потому что им нужна статуя Святого Иоанна, — сказала тетушка Кассандра. — По почему именно теперь, когда они собирают себе сторонников против Пьеро? Почему они молчали раньше, все эти два года? — Да тебе-то какое дело до этого? — встрепенулся дядя Франческо. — Неужели ты такой глупец, что упустишь заказ, который сам плывет тебе в руки? — Тут все гораздо сложнее, дядя Франческо. Настоятель Бикьеллини говорит, что кузены Медичи поставили себе целью изгнать Пьеро из Флоренции. Мне кажется, они хотят тут нанести ему еще один удар. — Это с твоей-то помощью — да и удар? — Лицо Лукреции недоуменно вытянулось. — Пусть скромный, но все-таки удар, madre mia. — Задорная улыбка Микеланджело сделала его безобразно сплющенный нос как бы незаметным. — Хватит политики, давайте говорить о деле! — приказал Лодовико. — Неужели семейство Буонарроти так уж процветает, что мы можем позволить себе отвергать столь выгодные заказы? — Отец, я не могу нарушить верности Лоренцо. — Мертвые не нуждаются в верности. — Нет, нуждаются. В такой же мере, как живые. И ведь я лишь недавно дал вам сто флоринов после продажи «Геракла». В воскресенье братья Медичи посадили Микеланджело за своим празднично убранным столом на почетное место. Они говорили обо всем на свете, не коснувшись, однако, ни словом ни Пьеро, ни Святого Иоанна. Когда, уже раскланиваясь, Микеланджело пробормотал, что он высоко ценит их предложение, но в данное время не может принять заказ, Лоренцо небрежно заметил: — А мы и не торопимся. Заказ все равно остается в силе. Во дворце теперь Микеланджело чувствовал себя очень скверно. У него не было никакого определенного дела, и в нем никто не нуждался, кроме одного лишь Джулиано, питавшего к нему привязанность. Чтобы не слоняться праздно и не быть лишним, Микеланджело выискивал себе всякую работу: разбирал коллекцию рисунков, оставшуюся от Лоренцо, раскладывал по местам случайно приобретенные Пьеро античные медальоны и резные геммы. Когда-то Лодовико говорил ему, что гордость — непосильная для него роскошь, но порой натура человека диктует свое, не давая возможности взвесить, посильно или непосильно следовать ей. Пьеро тоже чувствовал себя скверно; сидя за столом, бледный, угрюмый, он спрашивал своих немногих друзей, еще хранивших ему верность: — Почему я не могу заставить Синьорию повиноваться и делать то, что мне надо? Почему у меня постоянные беды и неприятности, а у отца все шло хорошо и гладко? Микеланджело задал этот вопрос настоятелю Бикьеллини. Оправив свою сутану, под которой виднелся жесткий снежно-белый воротничок рубашки, настоятель вдруг вспыхнул, глаза его сверкнули гневом. — Все четверо Медичи, предшественники Пьеро, считали, что править государством — это искусство. Они любили прежде всего Флоренцию, потом уж себя. А Пьеро… Он произнес это имя столь ожесточенно-враждебным тоном, что Микеланджело был поражен. — Раньше вы никогда не судили о нем так строго, отец. — …Пьеро и не думает прислушиваться к каким-либо советам. У руля государства стоит слабый человек, а жаждущий власти монах с бешеной энергией старается захватить его место… Печальные дни наступили во Флоренции, сын мой. — Я слыхал, о чем говорит Савонарола в своих проповедях. Он предвещает новый потоп. Половина людей в городе верит, что Страшный суд начнется чуть ли не с первым же дождем. Ради чего он так запугивает Флоренцию? Настоятель снял и положил на стол очки. — Он хочет стать папой. Но его честолюбивые замыслы не ограничиваются этим — он мечтает покорить и подчинить себе все страны Востока. — А вы не хотели бы обратить в христианство неверных? — полушутливо спросил Микеланджело. Настоятель на минуту смолк. — Хотел ли бы я, чтобы весь мир был христианским? Только в том случае, если мир этого пожелает. И конечно, я не хочу, чтобы некий тиран, попирая всякую гуманность, огнем и мечом обрушился на мир и во имя спасения души истребил человеческий разум. Ни один истинный христианин не пожелал бы этого. Во дворце Микеланджело передали, что его срочно зовет к себе отец. Лодовико провел Микеланджело в комнату, где спали его братья, смахнул с сундучка Джовансимоне ворох какого-то платья и вытащил оттуда груду драгоценных камней, золотых и серебряных пряжек и медальонов. — Что это значит? — спросил он Микеланджело. — Неужто Джовансимоне грабит по ночам дома? — Нет, все гораздо проще, отец. Джовансимоне — капитан Юношеской армии у Савонаролы. Эти юнцы прямо на улицах снимают драгоценности с женщин, нарушающих указ их пророка. Ведь Савонарола запретил носить украшения в общественных местах. Отряды этого монаха, числом в двадцать-тридцать человек, дознавшись, что в каких-то семьях не признают законов против роскоши, врываются в дома и обирают хозяев до нитки. Если кто-нибудь сопротивляется, юнцы Савонаролы забивают его до полусмерти каменьями. — Какое же право у Джовансимоне держать эти вещи дома? Ведь тут добра не на одну сотню флоринов. — Наверное, он должен отнести все это в монастырь Сан Марко. Так они обычно делают. Но Джовансимоне образовал из этой шайки шалопаев отряд, который Савонарола называет «ангелами в белых рубашках». Совет города бессилен с ними бороться. Именно в эти дни Лионардо позвал Микеланджело в монастырь Сан Марко и провел его в школу живописцев, скульпторов и иллюстраторов — школа эта находилась в монастырских садах и была основана Савонаролой. — Видишь, Микеланджело, Савонарола совсем не против искусства, он только против искусства греховного. У тебя теперь есть возможность поступить к нам, стать скульптором нашего ордена. Ты не будешь больше нуждаться ни в мраморе, ни в заказах. — А что я должен буду ваять? — Зачем беспокоиться о том, что тебе ваять, — была бы лишь постоянная работа. — Кто мне станет указывать, над чем работать? — Фра Савонарола. — А вдруг я не захочу ваять то, что он прикажет? — Монах не может ни возражать, ни спрашивать. Собственных желаний у тебя не должно и быть. Микеланджело снова сидел теперь за своим рабочим столом в пустующем павильоне. Здесь-то он мог на свободе рисовать, делать по памяти анатомические наброски — ведь он столькому научился, когда вскрывал в монастыре трупы. Эти дочерна изрисованные, с набегавшими друг на друга этюдами листы он сжигал, хотя такая предосторожность едва ли была нужна, — в Сады больше никто не заглядывал. Лишь изредка сюда приходил, с книгами под мышкой, пятнадцатилетний Джулиано, садился за старый стол Торриджани и, храня дружелюбное молчание, углублялся в занятия. По вечерам они вместе шагали ко дворцу: летние сумерки словно бы сыпали на город серую пыль и гасили сиренево-голубые и болотисто-коричневые тона каменных зданий.9
Осенью Флоренция оказалась втянутой в международные распри, грозившие ей полной утратой самостоятельного существования. Как понимал Микеланджело, все началось с того, что Карл Восьмой, король Франции, сколотил первую со времени легионов Цезаря постоянную армию — в нее входило двадцать тысяч хорошо обученных и хорошо вооруженных солдат. Теперь он шел с этой армией через Альпы на Италию, требуя себе, в силу наследственных прав, Неаполитанское королевство. Пока был жив Лоренцо, Карл Восьмой питал к дому Медичи слишком дружественные чувства, чтобы помышлять о походе своей армии через тосканские земли: решись он тогда на это, союзники Лоренцо, города государства Милан, Венеция, Генуя, Падуя, Феррара сразу сплотились бы, чтобы дать ему решительный отпор. Но Пьеро растерял своих союзников. Миланский герцог направил к Карлу эмиссаров, зазывая его в Италию. Кузены Медичи, когда-то присутствовавшие в Версале на коронации Карла, теперь уверяли его, что Флоренция нетерпеливо ждет, когда он с триумфом займет ее. Как союзник семейства Орсини, из рода которых были его мать и жена, Пьеро стоял за Неаполь и отказался пропустить армию Карла через свои владения. Но за все время с весны до осени он не предпринял ровным счетом ничего, чтобы собрать войско и заградить путь французскому королю, если бы тот вторгся силой. Граждане Флоренции прежде с охотой стали бы сражаться за Лоренцо, но теперь они были готовы впустить французов, чтобы воспользоваться их помощью и изгнать Пьеро. Савонарола тоже склонял Карла занять Флоренцию. В середине сентября Карл Восьмой повел свою армию через Альпы, был радостно встречен герцогом Милана и разграбил город Рапалло. Эти вести взбудоражили всю Флоренцию. Деловая жизнь в городе замерла, но, когда Карл вновь прислал эмиссаров, прося разрешения провести через Тоскану свое войско, Пьеро отпустил их без определенного ответа. Король Франции поклялся с оружием пройти Тоскану и захватить Флоренцию. У Микеланджело был теперь под крышей дворца новый сосед. Пьеро вызвал во Флоренцию Паоло Орсини — брата Альфонсины — и поставил его во главе тысячи наемных воинов… чтобы остановить двадцатитысячную армию Карла. Микеланджело много раз говорил себе, что он покинет дворец и уедет в Венецию, как ему предлагал когда-то Лоренцо. Он чувствовал себя обязанным по отношению к Лоренцо, Контессине, Джулиано, даже по отношению к кардиналу Джованни, но он не испытывал ни малейшей привязанности к Пьеро, хотя тот предоставил ему кров, место для работы и платил жалованье. И все же стать перебежчиком, беглецом Микеланджело не решался, это ему претило. Три года, проведенные им при Лоренцо в Садах и во дворце, были годами радостных волнений, роста, совершенствования мастерства, овладения ремеслом, — каждый день был словно драгоценный камень, которым любуются и который лелеют; каждый день обогащал его опытом, будто год. А теперь, вот уже два с половиной года, с тех пор как умер Лоренцо, он не может сделать ни шага вперед. Правда, благодаря помощи настоятеля Бикьеллини и работе с трупами он бесспорно вырос как рисовальщик, но он знал, что прежней живости у него нет, что он меньше постигает, меньше создает, чем создавал в те дни, когда учился у Бертольдо, у Великолепного, у Пико, Полициано, Фичино, Бенивиени. Долгое время он был в тесном общении с большинством членов кружка Лоренцо и немало черпал у них. Как ему снова наполнить свою жизнь жаром и воодушевлением? Как возвыситься над суетой, страхами и жуткой растерянностью Флоренции, как вновь стать скульптором, заставить свой ум и руки работать? В самом деле — как? Если даже Полициано просит Савонаролу отпустить ему грехи и в своем последнем слове умоляет принять его в орден доминиканцев, чтобы лечь в могилу чернецом в стенах монастыря Сан Марко? Граначчи не мог ничего посоветовать. Буджардини говорил просто: «Если ты уедешь из Флоренции, я уеду вместе с тобой». Узнав, что Микеланджело думает об отъезде, Якопо при встречевоскликнул: — Мне давно хотелось посмотреть Венецию. В особенности на чужие деньги. Возьми меня с собой. Я буду охранять тебя по дороге от разбойников… — Развлекая их шутками? — Каждая шутка — это своего рода копье, — ухмыльнулся Якопо. — Ты не согласен? — Согласен, Якопо. Непременно тебя прихвачу, как только соберусь в дорогу. Двадцать первого сентября, фра Савонарола, в последнем усилии изгнать Пьеро, произнес решающую речь в Соборе. Флорентинцы заполнили храм до отказа. Никогда еще этот монах не обретал такой власти, никогда его голос не звучал с такой громовой, разящей силой: у прихожан вставали дыбом волосы. Слушая, как Савонарола расписывал предстоящую гибель Флоренции и всего сущего в ней, люди стенали и плакали навзрыд. …«Земля растлилась перед лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растленна; ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть под небесами, в которой лишь есть дух жизни; все, что суще на земле, лишится жизни». Самый тихий шепот монаха достигал отдаленнейших углов обширного Собора. Он эхом отдавался от каждого камня стены. Микеланджело, стоя в дверях, чувствовал, как толпа — целое море людей — теснит его со всех сторон, приподнимает, будто набегавшие волны. Он вышел на улицу и увидел множество народа, — лишившись дара речи, с остекленевшими глазами, люди были полумертвы от страха. Один настоятель Бикьеллини сохранял спокойствие. — Право же, милый Микеланджело, все это можно назвать только колдовством. Наследство темной поры, древнейших времен существования человека. Сам Господь дал надежду Ною и его сынам, обещав им, что никогда не будет второго потопа. В главе девятой Бытия, в стихе девятом — одиннадцатом, сказано: «Вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас… что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа и не будет уже потопа на опустошение земли». А теперь ты ответь мне, пожалуйста, какое имеет право Савонарола заново писать Библию? Когда-нибудь Флоренция поймет, что ее попросту дурачили… Мягкий голос настоятеля разгонял прочь бередящие сердце чары Савонаролы. — А когда Флоренция это поймет, — сказал Микеланджело, — вы откроете Савонароле двери монастыря Санто Спирите, чтобы спрятать его там от гневной толпы. Настоятель устало улыбнулся: — Невозможно себе представить, чтобы Савонарола дал обет молчания. Скорее он согласится взойти на костер. С каждым днем события разворачивались все быстрее: Венеция заявила, что она будет соблюдать нейтралитет. Рим отказался выставить свои военные силы. Карл осадил пограничные крепости Тосканы, некоторые из них сдались; каменотесы Пьетрасанты дали неприятелю хороший бой, но, несмотря на это, через несколько дней французская армия вступила во Флоренцию. Прилежно обдумать все происходящее у Микеланджело почти не было возможности. Исступленный страх вдруг сменился у флорентинцев чувством облегчения, весь город высыпал на улицы, большой колокол на башне сзывал людей на площадь Синьории, все жаждали узнать новости. Будет ли отдан город на разграбление? Будет ли свергнута республика? Уцелеют ли в городе богатства, искусства и ремесла, безопасность и благополучие, или французский король со своей могущественной армией разграбит и растопчет все без пощады? Ведь Флоренция жила в мире со своими соседями так долго, что уже утратила и войско, и оружие, и желание сражаться. Действительно ли уже начался второй потоп? Однажды утром, проснувшись, Микеланджело увидел, что дворец будто вымер. Пьеро, Орсини и их ближайшие помощники поехали договариваться с Карлом. Альфонсина с детьми и Джулиано нашли убежище на вилле в горах. Микеланджело казалось, что он остался среди пышных залов и комнат один, хотя там еще было несколько старинных слуг. Величественный дворец оцепенел в испуге, опустел и затих. Лоренцо умер в Кареджи, а теперь здесь, в этих дворцовых покоях, с великолепной библиотекой и чудесными произведениями искусства, словно бы умирал и самый дух этого человека. Микеланджело ходил по гулким коридорам, заглядывал в пустующие просторные комнаты: в них чувствовался страшный запах смерти. Он, Микеланджело, хорошо его чуял — ведь недаром он прошел такой искус в покойницкой монастыря Санто Спирито. Всеобщее смятение не унималось. Пьеро пал ниц перед Карлом, предлагая завоевателю береговые крепости, Пизу и Лехгорн, и двести тысяч флоринов, если французская армия «пройдет дальше но побережью, не тронув Флоренции». Взбешенный такой постыдной капитуляцией, городской Совет ударил в колокол на башне дворца Синьории, созвал народ и объявил Пьеро изгнанным за «его трусость, скудоумие, бессилие и покорность перед лицом врага». К Карлу была направлена делегации, в которую входил и Савонарола. Пьеро эта делегация не хотела и знать. Тот кинулся назад во Флоренцию, чтобы восстановить в ней свои прежние права. Город с гневом отверг эти притязания. Пьеро требовал, чтобы его выслушали. Толпа кричала: «Уходи прочь! Не мешай Синьории!» Пьеро презрительно отвернулся. Толпа на площади с возмущением размахивала шляпами и колпаками, мальчишки свистели и швырялись каменьями. Пьеро вытащил из ножен шпагу. Толпа погнала его по улицам. Он скрылся во дворце и отвлек на время народ тем, что приказал оставшимся слугам выставить на площади столы с вином и угощением. По улицам ходили глашатаи. Они кричали: «Синьория изгоняет Медичи! Пожизненно! Четыре тысячи флоринов за голову Пьеро! Долой Пьеро!» Возвратившись во дворец, Микеланджело убедился, что Пьеро ускользнул через задний сад, пробрался к шайке наемников Орсини у ворот Сан Галло и бежал. Кардинала Джованни благополучно вывели из дворца и тоже через калитку заднего сада — он тащил тяжелую связку манускриптов, вслед за ним поспешали двое слуг, также нагруженных рукописями. При виде Микеланджело глаза Джованни, полные тревоги и страха, радостно блеснули. — Буонарроти! Я спас несколько редких манускриптов отца, самые его любимые! Возмущенная Флоренция должна была нагрянуть сюда с минуты на минуту. Ко дворцу уже приступала толпа. Она врывалась во двор, громко крича: «Медичи изгнаны!», «Все, что есть во дворце, — наше!» Мятежники захватывали винные погреба, сшибали обручи с бочек и, не утруждая себя раскупориванием бутылок, разбивали их об стену. Сотни фляг и склянок, булькая, пошли по рукам, от рта ко рту, люди торопливо пили из горлышка, не ощущая вкуса вина, разбрызгивая его и сплошь заливая пол. Потом буйное скопище людей, теснясь, с гиком стало подниматься по лестницам дворца, хватая все, что попадалось под руку. Микеланджело стоял в тени аркады, прикрывая спиной Донателлова «Давида». Новые скопища повстанцев вламывались в главные ворота, заполняли двор; Микеланджело замечал среди них знакомые лица; с детских своих лет он видел их на улицах и площадях такими спокойными и добродушными, а теперь эти люди вдруг загорелись жаждой разрушения и шли напролом, сбившись в безликую, потерявшую ответственность толпу. Чем была вызвана такая перемена? Уж не тем ли, что они впервые почувствовали себя в стенах дворца Медичи не сторонними людьми, а полновластными хозяевами? Микеланджело с силой шмякнули о статую «Давида», и на голове у него сразу же вскочила большая шишка. Донателлово изваяние «Юдифь и Олоферн», стоявшее поблизости, было снесено с подножия; толпа с радостным ревом и гиком утащила его на задний двор. Слишком тяжелые вещи, мраморные римские бюсты, например, повстанцы разбивали пиками и дрекольем. Микеланджело метнулся вдоль стены, взбежал вверх по парадной лестнице, единым духом пронесся по коридору, распахнул дверь кабинета Лоренцо и стал искать внутренний засов. Засова не оказалось. Микеланджело окинул взглядом дивные манускрипты, ларцы с редкими каменьями, амулетами, резными драгоценными камнями, старинными монетами, посмотрел на висевшие над дверями греческие барельефы, на мраморные и бронзовые изваяния Донателло, на «Снятие с креста» Джотто и «Святого Иеронима» Ван-Эйка, написанные на деревянных досках. Что сделать, чтобы спасти эти бесценные вещи? Тут его взгляд упал на подъемник для подачи кушаний. Он открыл люк, дернул за веревку и, когда ящик был подтянут, начал сваливать в него небольшие картины, мозаики, чаши из яшмы, сардоникса, аметиста, миниатюрный бюст Платона, хрустальные часы на позолоченной серебряной подставке, стеклянные вазы по рисункам Гирландайо, рукописи, кольца и броши. Старого беззубого Фавна — статуэтку, сделанную по первой своей скульптуре, он спрятал у себя под рубашкой. Потом он потянул за другую веревку, опустил ящик вниз и захлопнул люк. В эту минуту повстанцы ворвались в кабинет и, как саранча, принялись обшаривать и грабить его. Микеланджело пробился сквозь толпу, ушел в свою комнату и спрятал статуэтки Бертольдо и несколько бронзовых изваяний под кроватью. Больше сделать он ничего не мог. Сотни распаленных от вина людей метались по дворцу, забегали в каждую комнату, хватали фамильную посуду в столовой, разбивая блюда и бокалы, визжали от радости и колотили друг друга, не поделив золотые и серебряные медали из коллекции Лоренцо, вытаскивали из покоев Пьеро его кубки и оружие, швыряли наполовину выпитые бутылки вина в статую «Геракла и Льва» работы Поллайоло. Микеланджело беспомощно смотрел, как они вынесли из комнаты Лоренцо четыре яшмовые вазы, на которых было начертано имя Великолепного, живописные работы Мазаччо, Венециано, как они вырывали полотна из рам, отламывали от статуй подножия, разбивали слишком громоздкие и тяжелые кресла и столы, раскалывали шкатулки и ларцы. В библиотеке редчайшие книги и манускрипты были сброшены на пол, их безжалостно топтали ногами. Может быть, флорентинцы мстили опостылевшему им Пьеро? Но ведь эти великолепные коллекции собраны отнюдь не Пьеро. Глядя, как люди варварски срывают бархатные и шелковые портьеры, Микеланджело в отчаянии качал головой: «Кто может проникнуть в душу толпы?» Только одного верного семейству Медичи человека заметил он во дворце — это был его родственник, Бернардо Ручеллаи, муж Наннины де Медичи. В комнате, расположенной рядом с гостиной, Бернардо стоял подле картины Боттичелли «Паллада, укрощающая кентавра», и громко кричал, обращаясь к толпе: — Вы же граждане Флоренции! Зачем вы расхищаете свои собственные сокровища? Остановитесь, заклинаю вас! В ту минуту он казался Микеланджело героем, глаза у него сверкали, руки были раскинуты, прикрывая картину. Но вот Ручеллаи уже сбит с ног, толпа его топчет. Микеланджело протиснулся к нему, поднял на руки и понес его, истекающего кровью, в маленькую кладовую рядом, а сам с горькой иронией думал: «Никогда еще не приходилось мне соприкасаться с родней по линии матери ближе, чем сегодня». Во дворце воцарился полнейший хаос. Скоро в приемной Лоренцо, после того как там были сорваны со стен карты и шпалеры, несколько дюжих грузчиков сумели разбить сейф. Из него дождем посыпались деньги — двадцать тысяч флоринов. При виде золотых монет толпа возликовала; люди стали неистово рваться к деньгам, началась всеобщая драка. Микеланджело с трудом пробрался к черной лестнице, спустился по ней в сад и боковыми аллеями вышел ко дворцу Ридольфи. Там он попросил у грума перо и чернила и написал Контессине короткую записку: «Если тебе удастся… пошли кого-нибудь в кабинет отца: я нагрузил подъемник для подачи пищи разными предметами искусства, сколько вместилось». И подписался: М.Б. Идя домой, он заглянул к Буджардини и Якопо, сказав им, чтобы они были в полночь у ворот Сан Галло. Когда город, наконец, успокоился и заснул, он тихонько пробрался в конюшни дворца Медичи. Двое из грумов оставались еще при лошадях, охраняя их во время нашествия толпы. Эти грумы знали, что Микеланджело имеет право брать лошадей на конюшне в любое время, когда он захочет. Они помогли оседлать трех скакунов. На одного он сел, а двух других новел в поводу. Стражи у ворот не оказалось. Буджардини уже ждал Микеланджело, раздумчиво орудуя ножом над своими длинными ногтями. Скоро появился и Якопо. Они сразу же тронулись в путь, направляясь в Венецию.10
К полудню они пересекли Апеннины и по перевалу Фута спустились к Болонье, окруженной стенами из оранжевого кирпича с белыми малыми башенками и почти с двумя сотнями больших башен; некоторые их этих башен, четко рисующихся на фоне голубого неба Эмилии, были наклонены не менее удивительно, чем прославленная падающая башня в Пизе. Они съехали в город со стороны реки, через опустевший рынок, который подметали длинными метлами одетые в черное старухи. Путники спросили у одной из них дорогу и поскакали к площади Коммунале. Кривые узкие улочки, над которыми нависали вторые этажи домов, были очень душными. Каждая болонская семья в целях защиты от соседей строила себе башню — во Флоренции этот обычай был запрещен еще Козимо: он приказал снести все домовые башни. На более широких улицах и площадях Болоньи были возведены аркады из оранжевого кирпича, укрывающие людей от снега, дождя и летнего зноя: все было рассчитано так, чтобы болонцы могли ходить по городу, не подвергаясь воздействию погоды. Путники добрались до главной площади города с ее величественной церковью Сан Петронио с одной стороны и дворцом Коммунале, замыкавшим площадь с другой стороны; они слезли с лошадей, и тут их окружила болонская стража. — Вы приезжие? — Флорентинцы, — ответил Микеланджело. — Покажите большой палец, пожалуйста. — Большой палец? Зачем вам большие пальцы? — Посмотрим, есть ли на них восковая красная печать. — У нас нет никаких печатей. — Тогда вам надо пройти с нами. Вы под арестом. Их провели в таможню — это была целая анфилада комнат, расположенных в глубине за колоннами портика; там офицер объяснил им, что каждый, кто приезжает в Болонью, должен быть зарегистрирован: приезжему, как только он появится у одних из шестнадцати городских ворот, ставят на большой палец печать. — Да откуда нам было знать это? — недоумевал Микеланджело. — Мы в вашем городе впервые. — Незнание закона — не оправдание. Вы оштрафованы на пятьдесят болонских ливров. — Пятьдесят болонских ливров… У нас нет таких денег. — Очень печально. Вам придется провести пятьдесят дней в заключении. С открытым ртом, не говоря ни слова, Микеланджело смотрел на Буджардини и Якопо. Пока они обрели дар речи, перед ними появился какой-то человек. — Господин офицер, могу я поговорить с молодыми людьми? — Конечно, ваша светлость. — Ведь вы Буонарроти? — спросил мужчина, обращаясь к Микеланджело. — Да. — Ваш отец служит во флорентинской таможне, не правда ли? — Служит. Незнакомец повернулся к таможенникам: — Этот молодой человек из хорошей флорентинской семьи; его отец занимает, как и вы, высокий пост в таможне Флоренции. Как по-вашему, разве не могут знатные семейства наших братских городов оказывать другу другу гостеприимство? Польщенный такими словами офицер ответил, что, разумеется, могут. — За поведение этих юношей я ручаюсь, — сказал, заканчивая разговор, незнакомец. На площади, при свете ясного зимнего солнца, Микеланджело вгляделся в незнакомца. У него было широкое приятное лицо, без малейшего признака аристократизма. Хотя легкая седина свидетельствовала, что ему, вероятно, далеко за сорок, гладкое, с ярким румянцем, безбородое лицо казалось совсем молодым; маленький рот, в котором поблескивали очень белые зубы, был как бы зажат между крупным энергическим носом и острым подбородком. Брови у него от переносицы шли по горизонтали только до половины глаз, а потом насмешливо вздымались кверху. Одет он был в мягкую черную шерстяную мантию с белым гофрированным воротником. — Вы чрезвычайно любезны, а я просто глупец; вы запомнили мою скромную персону, а вот я, хотя мы и встречались… — Мы сидели рядом за обедом у Лоренцо Медичи, — сказал незнакомец. — Ну конечно! Вы синьор Альдовранди. Вы занимали пост подесты во Флоренции. И вы рассказывали мне о великом скульпторе Болоньи. — О Якопо делла Кверча. Теперь я могу показать вам его работы. Если бы вы и ваши друзья поужинали со мной, вы доставили бы мне удовольствие. — О, это удовольствие гораздо приятнее нам! — рассмеялся Якопо. — У нас не было во рту ни маковой росинки с той самой минуты, как скрылся из виду Собор. — Значит, вы не прогадали, приехав в наш город. Ведь Болонью прозвали La Grassa, Жирная. Еда у нас лучше, чем где-либо во всей Европе. Шагая от площади к северной части города и оставив справа церковь Сан Пьетро, а слева семинарию, они повернули к Виа Галлиера. Дворец Альдовранди был неподалеку от угла на левой стороне улицы — кирпичное здание в три этажа, превосходных пропорций. Стрельчатая парадная дверь была украшена терракотовым цветным фризом с фамильным гербом; полукруглые сверху окна разделены мраморными колоннами. Буджардини и Якопо ставили на конюшню лошадей, а тем временем Альдовранди провел Микеланджело в свою обшитую деревянными панелями библиотеку, которой он чрезвычайно гордился. — Эти книги мне помогал собирать Лоренцо де Медичи, — сказал он. Заметив поэму Полициано «Стансы для турнира» с личной надписью автора, Микеланджело взял в руки переплетенный в кожу манускрипт. — Вы, конечно, знаете, мессер Альдовранди, что Полициано несколько недель назад скончался. — Я был потрясен. Не стало такого великого ума! Да и Пико уже на краю могилы: долго он не протянет. Мир без них страшно опустеет. — Пико? — Микеланджело почувствовал, что на глаза у него навертываются слезы. — Я и не слыхал. Ведь он еще так молод… — Да, ему всего тридцать один год. Со смертью Лоренцо окончилась целая эра. От прежнего теперь уже ничего не останется. Микеланджело раскрыл манускрипт и начал негромко читать поэму, а сам словно бы вслушивался в голоса своих друзей-платоников: они будто снова наставляли его в тихой беседе. Альдовранди чуть удивленно сказал: — Вы хорошо читаете, мой юный друг. У вас ясная дикция, и вы прекрасно выделяете строку… — Меня учили хорошие учителя. — Вы любите читать вслух? У меня есть все великие поэты: Данте, Петрарка, Лукреций, Овидий. — Нет, я редко читаю вслух. — Скажите, Микеланджело, что привело вас в Болонью? О том, что случилось во Флоренции с Пьеро, Альдовранди уже знал, так как только вчера через Болонью проехали все приближенные Медичи. Микеланджело объяснил, что он предполагает добраться до Венеции. — Как же получилось, что у вас троих нет даже пятидесяти болонских ливров, хотя вы собрались ехать в такую даль? — У Буджардини и Якопо нет ни сольдо. Все расходы лежат на мне. Альдовранди улыбнулся. — Я тоже с удовольствием ездил бы по свету, если бы расходы лежали на ком-то другом. — Мы надеемся найти в Венеции работу. — В таком случае почему бы вам не остаться в Болонье? Здесь можно изучать Якопо делла Кверча; кроме того, мы подыщем вам заказ и на скульптуру. В глазах у Микеланджело появился блеск. — После ужина я поговорю со своими товарищами. Стычка с болонской таможней сильно охладила любопытство Якопо и Буджардини к городу. Изваяниями делла Кверча они тоже не очень интересовались. Они решили как можно скорее возвратиться во Флоренцию. Микеланджело дал им денег на дорогу и попросил доставить лошадей во дворец Медичи. Он сказал Альдовранди, что остается в Болонье и хотел бы найти себе жилье где-нибудь в гостинице. — Это немыслимо! — возразил Альдовранди. — Ни один друг Лоренцо де Медичи или близкий к нему человек не может жить в болонских гостиницах! Ведь побеседовать с флорентинцем, выучеником платоновской четверки, — это для нас редчайшее удовольствие. Вы будете моим гостем.Оранжевое болонское солнце разбудило его, залив своими лучами всю комнату — и цветные шпалеры на стенах и ярко раскрашенный сводчатый потолок. Найдя на расписном сундуке подле кровати льняное полотенце, он хорошенько вымыл лицо и руки в серебряном тазу, стоявшем у самого окна; подошвы голых ног приятно согревал разостланный на полу персидский ковер. Да, он оказался гостем в доме, который можно было назвать поистине радостным. В том крыле дворца, где помешалась комната Микеланджело и жили шесть сыновей Альдовранди, сейчас звенели громкие голоса и слышался смех. Синьора Альдовранди, уже вторая супруга хозяина дома, подарившая ему свою часть сыновей, была приятной женщиной и любила в равной степени всех шестерых мальчиков; Микеланджело она приняла так, словно он был седьмым сыном Альдовранди. Сам Джанфранческо Альдовранди принадлежал к ветви старинного рода, отпрыски которой, изменив традиционному образу жизни, занялись торговлей и банковским делом. Родители Джанфранческо были уже так богаты, что он, выйдя из университета и еще в молодости проявив себя способным финансистом — он занимал тогда должность нотариуса, — имел теперь возможность целиком отдаться искусству. Горячий поклонник поэзии, он писал довольно хорошие стихи на народном языке. И он быстро возвысился в политической сфере: стал сенатором, гонфалоньером справедливости, членом совета Шестнадцати Реформаторов Свободного Государства, который вершил дела в Болонье, и близким человеком правящего семейства Бентивольо. — Об одном я сожалею в жизни, — говорил он Микеланджело, жуя сдобную булочку и запивая ее горячей водой, заправленной пряностями, когда они сидели за огромным — на сорок персон — обеденным столом орехового дерева, посредине которого был инкрустирован родовой герб Альдовранди. — Об одном я сожалею, что не могу писать по-гречески и по-латыни. Разумеется, я читаю на этих языках, но в молодости я слишком много времени потратил на банковские дела, в ущерб стихосложению. Он был страстным коллекционером. Он водил Микеланджело по всему дворцу, показывая ему двустворчатые складни, резные деревянные доски, серебряные и золотые кубки, монеты, терракотовые бюсты, изделия из слоновой кости и бронзы, миниатюрные мраморные изваяния. — И ни одного, как видите, значительного произведения местной работы, — печально признавался он. — Для меня это загадка: почему Флоренция, а не Болонья? Наш город столь же богат, как и ваш, народ у нас такой же сильный и смелый. Мы много сделали в области музыки, науки, но никогда не были способны создать что-либо великое в живописи или скульптуре. Почему? — Простите меня, но почему ваш город называют Жирной Болоньей? — Да потому что мы гурманы и еще со времен Петрарки прославились как поклонники плотских утех. Чувственность мы сделали предметом обожания. — Не тут ли и кроется ответ на ваш вопрос? — Но если плоть утолена, разве не остается места для искусства? Ведь и Флоренция богата, там тоже живут прекрасно… — Только Медичи, Строцци и еще несколько семейств. А вообще тосканцы — люди по натуре скромные. И бережливые. Мы не находим удовольствия в трате денег. Я, например, не припомню случая, чтобы у нас в семье обедали какие-то гости, чужие люди или чтобы мои домашние обедали у друзей. Не помню, чтобы Буонарроти преподнесли кому-либо подарок или сами получили его. Мы любим зарабатывать деньги, но тратить их не любим. — А мы, болонцы, считаем, что деньги для того и существуют, чтобы их тратить. На поиски утонченных удовольствий ушел весь наш талант. Знаете ли вы, что мы изобрели особую болонскую любовь? Что наши женщины одеваются не по итальянской моде, а только по французской? Что им надо несколько кусков различной материи, чтобы сшить одно платье? Что наши колбасы совершенно особого вкуса и мы скрываем рецепт их приготовления, как государственную тайну? Во время обеда за столом оказались занятыми все сорок мест: братья и племянники Альдовранди, профессора Болонского университета, приезжие гости из правящих семейств Феррары и Равенны, князья церкви, члены Болонского совета Шестнадцати. Альдовранди был любезнейшим хозяином, но в отличие от Лоренцо отнюдь не старался сблизить своих гостей, уладить какие-то дела или вообще достичь какой-то цели, он хотел одного: чтобы гости вволю насладились чудесной рыбой, жарким, колбасами и винами и чтобы за столом царил дух товарищества и не смолкал интересный разговор. Отдохнув после обеда, Альдовранди пригласил Микеланджело прогуляться по городу. Они прошли под аркады, где в лавках была выставлена самая лучшая во всей Италии пища: изысканные сыры, белейший хлеб, редчайшие вина; в мясных рядах в Борго Галлиера Микеланджело увидел сразу столько мяса, сколько не видел во Флоренции за целый год; на Старом рыбном рынке торговали великолепными дарами речных вод, текущих вблизи Феррары: здесь были раки, осетры, лобаны. В тени навесов продавалась различная дичь, добытая лишь вчерашним днем: косули, перепела, зайцы, фазаны, и всюду, на каждом шагу, красовались знаменитые колбасы салями. Микеланджело то и дело встречал университетских студентов: они сидели в маленьких кофейнях под портиками оранжевого цвета и порой, оторвавшись от своих бесед и занятий, играли партию в кости или в карты. — У вас в городе, мессер Альдовранди, не хватает одного — скульптуры из камня. — Это потому, что у нас нет каменоломен. Причина простая, не правда ли? Но мы воспитали лучших мастеров по камню из чужаков: Николо Пизано, вашего земляка Андреа из Фьезоле, делла Кверча из Сиены, делл'Арка из Бари. Наша собственная отрасль в скульптуре — терракота. Микеланджело взирал на все довольно спокойно до тех пор, пока Альдовранди не привел его в церковь Санта Мария делла Вита: там находилась статуя делл'Арка «Оплакивание Христа». Большое терракотовое изваяние было исполнено с подчеркнутой экзальтацией, скульптор придал фигурам выражение душераздирающей муки. Несколько минут спустя Альдовранди и его гость встретили юношу, работавшего над терракотовыми бюстами: они были предназначены для капителей дворца Аморини на Виа Санто Стефано. Юноша выглядел очень крепким, с могучими плечами и бицепсами, с яйцевидной головой, сильно суживающейся к макушке; кожа у него так загорела, что почти не отличалась по цвету от болонского оранжевого кирпича. Альдовранди называл юношу Винченцо. — Это мой друг Буонарроти, — представил он юноше Микеланджело, — лучший из молодых скульпторов Флоренции. — Какая удача, что мы познакомились, — сказал Винченцо. — Я лучший молодой скульптор Болоньи. Наследник делл'Арка. Завершаю надгробие, начатое великим Пизано в Сан Доменико. — Вы уже получили заказ? — сухо спросил его Альдовранди. — Еще не получил, ваша светлость, но получу. В конце концов, я же болонец. И скульптор! Что же мне мешает получить заказ? — Тут он повернулся к Микеланджело. — Если вам нужна помощь в Болонье, хотите тут что-либо посмотреть — я к вашим услугам. Когда они отошли от Винченцо, Альдовранди сказал сквозь зубы: — Подумать только, наследник делл'Арка, лучший скульптор! Он наследник своего деда и отца, и те действительно лучшие кирпичники в Болонье. Вот и вел бы отцовское дело! Они направились к церкви Сан Доминико, построенной доминиканскими монахами в 1218 году. Церковь делилась на три нефа, украшена она была гораздо богаче, чем большинство церквей во Флоренции. Альдовранди подвел Микеланджело к саркофагу Святого Доминика работы Николо Пизано — его мраморные фигуры были высечены в 1267 году, затем над ними работал Пикколо делл'Арка. — Делл'Арка скончался восемь месяцев назад. Он не успел изваять еще три фигуры: ангела справа, Святого Петрония с моделью города Болоньи в руках и Святого Прокла. Вот эти-то фигуры и собирается высечь Винченцо. Микеланджело пристально посмотрел в лицо Альдовранди. Но тот, не прибавив больше ни слова, вывел его из церкви на площадь Маджоре, чтобы осмотреть работы Якопо делла Кверча над главным порталом церкви Сан Петронио. Шагая по площади, он немного отстал, пропуская гостя вперед. Микеланджело замер на месте, пораженный, задыхаясь от восхищения. Альдовранди был уже рядом. — Знаете ли вы, что делла Кверча участвовал в конкурсе по созданию бронзовых дверей флорентинского Баптистерия? Это было в тысяча четырехсотом году. Гиберти победил его. Эти пять рельефов по бокам портала и пять сверху — ответ делла Кверча на его поражение во Флоренции. Мы, болонцы, считаем, что эти работы так же прекрасны, как и работы Гиберти. Микеланджело стоял перед каменными рельефами и, не веря своим глазам, качал головой. Ведь это, пожалуй, образец самого высокого мастерства, какое ему только доводилось видеть у скульптора. — Может, эти работы столь же прекрасны, может, еще и лучше, но во всяком случае они совсем не похожи на изваяния Гиберти, — отозвался он на слова Альдовранди. — Делла Кверча — такой же новатор, как и Гиберти. Посмотрите, какой живости он достигает в фигурах, как они трепещут и пульсируют, какая в них внутренняя сила! Размахивая руками, он указывал то на один, то на другой рельеф. — Вот изображение Господа Бога. Вот Адам и Ева, вот Каин и Авель. А здесь опьяневший Ной. Здесь изгнание из рая. Посмотрите, какая мощь, какая глубина замысла! Я буквально ошеломлен! Он взглянул Альдовранди в глаза и произнес охрипшим голосом: — Синьор Альдовранди, вот такие фигуры, такие лица я и мечтал высекать!
11
Его ждала в Болонье и еще одна волнующая встреча — из тех встреч, о каких он совсем и не помышлял. Он бывал с Альдовранди всюду: ездил во дворцы его братьев на семейные торжественные обеды, на интимные ужины к его друзьям. Болонцы оказались людьми поистине хлебосольными, и они очень любили развлечения. С Клариссой Саффи Микеланджело познакомился на ужине, который устроил племянник синьора Джанфранческо Марко Альдовранди. Это было на вилле, среди холмов, и Кларисса играла там роль хозяйки. Других женщин в доме не было, приглашены были только мужчины, друзья Марко. Она была тоненькая, с золотистыми волосами, зачесанными назад от самого лба, по последней моде. Гибкое, словно ива, тело; пластичные, пронизанные чувственностью, легкие движения; в малейшем повороте руки, плеч, бедер что-то радующее и певучее, как музыка. Кларисса была одной из тех редких женщин, самое дыхание которых, кажется, создано для любви. Мысленно зарисовывая ее фигуру, Микеланджело видел в девушке и самобытность натуры, и необыкновенную мягкость ее манер, голоса, походки. Он любовался ее красивой шеей, плечами, грудью и думал о страсти Боттичелли к совершенному женскому телу: тот жаждал не владеть нагим телом, а писать его. У Клариссы было много от золотой прелести Симонетты, но в ней не было и намека на скорбное целомудрие, которое придавал своей излюбленной модели Боттичелли. Подобной женщины ему еще не приходилось видеть: Кларисса была не похожа ни на кого. Он не только с жадностью вглядывался в нее, он словно бы ощущал ее каждой частью своего тела, всеми его порами. Сидя в ее присутствии в гостиной у Марко, он, прежде чем Кларисса делала движение или произносила слово, чувствовал, как кровь толчками била по его венам, сами собой, помимо его воли, распрямлялись плечи, к бедрам и пояснице волной приливала сила. Завидя Клариссу на ступенях собора, Якопо, наверное, воскликнул бы, что она вполне «годится для постели», но Микеланджело чутьем угадывал, что прелесть ее измерялась далеко не только этим. В его глазах она была самой любовью, олицетворенной в прекрасном женском существе. Кларисса приветливо улыбалась ему: ей всегда нравились мужчины, к ним у нее было прирожденное влечение. Ее обворожительную грацию, сквозившую в каждом жесте, он воспринимал как благодать. Светло-золотистые длинные ее косы словно бы впитали в себя лучи итальянского солнца, обдавая его жаром с головы до ног, хотя в комнате, где они сидели, было прохладно. Шум пульсирующей в ушах крови мешал ему слушать, но он был поглощен мягкой музыкой ее голоса — эта музыка потрясала его до глубины души. Кларисса была любовницей Марко уже три года, начиная с того дня, когда он случайно увидел ее, подметавшую пол в мастерской своего отца-сапожника. Первый разглядев в Клариссе красавицу, он поселил ее в уединенной вилле, одел в роскошные платья, осыпал драгоценностями, приставил к ней педагога, чтобы она училась читать и писать. После ужина гости завели горячий спор о политике, а Микеланджело остался наедине с Клариссой в музыкальной комнате, убранной во французском стиле. Хотя Микеланджело не раз говорил, что его не привлекают женские формы и что он не считает их достойными резца скульптора, сейчас он был не в силах оторвать взгляд от корсажа Клариссы: оплетенный тонкой золотой сеткой корсаж, дразня и распаляя воображение, в одно и то же время и обнажал груди, и держал их прикрытыми. Чем упорнее он смотрел на них, тем меньше видел: перед ним был шедевр портновского искусства, рассчитанный на то, чтобы возбуждать и заинтриговывать, не показывая ничего определенного, а лишь заставляя угадывать очертания двух гнездившихся в корсаже белоснежных голубей. Неуклюжая настойчивость Микеланджело забавляла Клариссу. — Вы ведь художник, Буонарроти? Микеланджело с усилием выдержал ее взгляд: глаза у нее были тоже словно бы мягкие, круглые; порой они искусно скрывали таившуюся в них мысль, а порой выражали ее очень красноречиво. — Я скульптор. — Можете вы изваять меня из мрамора? — Вас уже изваяли, — выпалил он. — И изваяли безупречно. Слабый румянец залил ее скулы, не тронув кремово-белой кожи нежных щек. Оба они рассмеялись, чуть наклонясь друг к другу. Марко хорошо ее вышколил, и говорила она совершенно свободно, с милой интонацией. А Микеланджело чутьем постигал ее мысли на лету, в одно мгновение. — Могу я увидеть вас снова? — спросил он. — Если синьор Альдовранди привезет вас к нам. — И не иначе? Ее губы раскрылись в улыбке. — Вы хотите, чтобы я позировала вам? Или я ошибаюсь? — Нет. То есть да. Я не знаю. Я даже не знаю, что я сказал вам. Как же мне знать, ошибаетесь вы или нет? Она расхохоталась. Золотая сетка корсажа, обтягивавшая грудь, слегка затрепетала, и Микеланджело вновь поймал себя на том, что разглядывает проступавшие под густыми нитями чудесные формы. «Это сумасшествие! — сказал он себе. — И что только со мной творится?» Откровенную, жадную страсть в глазах Микеланджело увидел лишь Альдовранди. Хлопнув друга по плечу, он воскликнул: — Ну, Микеланджело, вы, видно, слишком рассудительны, чтобы вникать в нашу беседу на местные политические темы. Сейчас мы лучше послушаем музыку. Вам известно, что наш город — один из самых музыкальных городов Европы? По дороге домой, когда они, пустив своих коней рядом, ехали затихшими оранжевыми улицами, Альдовранди спросил: — Вы влюбились в Клариссу? Микеланджело чувствовал, что Альдовранди можно довериться. — Когда я гляжу на нее, меня лихорадит. Прямо мурашки бегут по всему телу. И где-то внутри, глубоко-глубоко. — Да, наши болонские красавицы способны вызвать мурашки. Чтобы чуточку охладить ваш пыл, могу я спросить, во сколько, по-вашему, обходится эта красавица? — Конечно, ее платья и драгоценности… Я догадываюсь. — Нет, вы догадываетесь еще далеко не обо всем. Вы не знаете, что она занимает целое крыло в роскошном дворце, со слугами, с конюшней и выездом… — Довольно, — остановил его Микеланджело, криво усмехнувшись. — Тем не менее никогда я не видел подобной женщины. Если бы я захотел изваять Венеру… — И не вздумайте! У моего племянника самый горячий нрав и самая быстрая рапира во всей Болонье. Всю эту ночь он мучился и метался, словно в горячке. Он судорожно погружал свое лицо в мягкие, теплые подушки, и ему чудилось, будто он зарывается в ложбинку между грудей Клариссы. Наконец, Микеланджело понял, что произошло с ним, но успокоиться и сдержать себя он был уже не в силах, как не в силах был вчера в музыкальной комнате оторвать свой взгляд от золотой сетки корсажа. На следующий день он встретил ее вновь. В сопровождении пожилой женщины она появилась на Виа Драппри, где торговали одеждой и материями. С гирляндой цветов в волосах, в шелковом платье с золотым поясом, изукрашенным драгоценными каменьями, с шерстяным капором на плечах, она шла по улице все той же грациозной и легкой поступью. Увидев Микеланджело, она поклонилась, чуть улыбнувшись, и прошла дальше, оставив его приросшим к кирпичной мостовой. Когда настала ночь и он вновь был не в силах заснуть, он спустился в библиотеку Альдовранди, зажег лампу, взял лежавшее на столе перо и, после многих бесплодных попыток, набросал такие строки: ВЕНОК И ПОЯСВдвоем с Альдовранди он отправился в мастерскую делл'Арка — она ютилась позади церкви Сан-Петронио, на огороженном дворе, примыкая к ризнице; тут же, за невысоким портиком, находились помещения для работы художников и скульпторов, похожие на те, что теснились подле Собора во Флоренции, хотя сарай, в котором Микеланджело высек своего «Геракла», был гораздо просторнее, чем эти болонские конуры. В мастерской делл'Арка все оставалось так, как было до смерти скульптора, внезапно скончавшегося около десяти месяцев назад. На верстаке были размещены его резцы и молотки, засохшие черновые эскизы из воска и глины, цветные миниатюры, папки рисунков для задуманных, но не исполненных фигур надгробья, обломки угольных карандашей — все эти вещи словно бы воссоздавали облик человека, жизнь и труд которого смерть оборвала в самом разгаре. Было довольно холодно, как это бывает в Эмилии в январе, и большие жаровни еле согревали воздух в мастерской. Проведя два месяца за рисованием в болонских церквах и сделав немало набросков с произведений делла Кверча, Микеланджело рвался теперь к настоящей работе: ему хотелось лепить модели в глине, разжигать горн и оттачивать инструмент, укреплять мрамор на деревянных подпорах и осторожными, точными ударами срезать углы глыбы, нащупывая очертания фигур со всех сторон, по всему кругу. Минуло уже полгода, как он закончил своего «Геракла». Укрыв голову и уши плотной валяной шляпой, он усердно, не разгибая спины, работал за рисовальным столом уже почти неделю, но однажды его уединение было нарушено: перед ним выросла чья-то громоздкая фигура. Он оторвал взор от рисунка и увидел Винченцо, скульптора по терракоте. Лицо у него от холода было цвета темной умбры, глаза горели. — Буонарроти, ты забрал работу, которую хотел получить я. Помолчав минуту, Микеланджело пробормотал: — Я очень сожалею. — Нет, ты вряд ли сожалеешь. Ты ведь здесь чужой человек. А я болонец. Ты отнимаешь у нас, скульпторов Болоньи, кусок хлеба, вырываешь прямо изо рта. — Понимаю, — миролюбиво ответил Микеланджело. — В прошлом году ювелиры-серебряники тоже перехватили у меня несколько скульптур в Санто Спирито. — Это хорошо, что ты понимаешь. Иди в Совет и скажи, что ты отказываешься от заказа. Тогда он перейдет ко мне. — Но подумай, Винченцо: тебе отказывали в этой работе начиная с того самого дня, как умер делл'Арка. Решительным жестом своей могучей руки Винченцо отверг этот довод. — Ты заполучил заказ лишь благодаря влиянию Альдовранди. Тебя как скульптора никто другой даже не знает. Микеланджело от души сочувствовал этому верзиле, так обескураженному неудачей. — Я поговорю с мессером Альдовранди. — Поговори ради своего же блага. Иначе пожалеешь, что приехал в Болонью. Я заставлю тебя пожалеть. Когда Микеланджело рассказал Альдовранди об этой встрече, тот ответил: — Да, он болонец, это бесспорно. Он знает, как работал делл'Арка. Он даже знает, что любят в искусстве болонцы, но у него есть одни недостаток: он не умеет работать по мрамору. Если он хочет обессмертить свое имя, пусть изготовляет наш великолепный кирпич. — Может быть, мне взять его в помощники? — А вам нужен помощник? — Я хочу быть дипломатом. — Оставайтесь лучше просто скульптором. И забудьте этого парня. — Ты меня еще попомнишь! — пригрозил на следующий день Винченцо, когда Микеланджело сказал, что он ничем не может ему помочь. Микеланджело смотрел на огромные костистые руки Винченцо — они были вдвое крупнее его собственных. Винченцо казался ровесником Микеланджело, лет девятнадцати, но весил, должно быть, вдвое больше него и был гораздо выше ростом. Микеланджело думал о Торриджани, видел, как взметнулся в воздухе его большущий кулак, нанося удар, — и вот уже во рту возник солоноватый вкус крови, и было слышно, как хрустнула кость носа. Микеланджело чувствовал, что ему делается дурно. — Что с тобой, Буонарроти? Ты вдруг побледнел. Боишься, что я испорчу тебе жизнь, да? — Ты уже испортил ее. Однако жизнь его была бы испорчена куда безжалостней, если бы ему пришлось отказаться от надежды высечь изваяния из трех чудесных глыб белого каррарского мрамора. Но разве за это не надо чем-то расплачиваться?..
12
Он ни разу не написал домой и не получил оттуда ни одного письма, но люди, связанные с Альдовранди делами, каждую неделю пересекали перевал Фута, направляясь во Флоренцию. Они извещали семейство Буонарроти о том, как живет Микеланджело, и передавали ему все домашние новости. Карл Восьмой вступил в город через неделю после бегства Микеланджело, горделиво держа в руке копье завоевателя, хотя нигде за время похода не прозвучал ни один выстрел. На улицах в честь французов были развешаны копры, горели факелы. Старый мост был по-праздничному украшен; Синьория любезно сопровождала короля к молебствию в Соборе. Дворец Медичи был предоставлен ему в качестве штаб-квартиры. Но когда дело дошло до заключения мирного договора, Карл оказался весьма надменным и, грозясь призвать во Флоренцию Пьеро, потребовал с города колоссальный выкуп. На улицах началось смятение, французские солдаты и горожане учиняли стычки, потом флорентинцы накрепко заперли все городские ворота, готовясь изгнать французов. Карл сразу же стал благоразумнее, сойдясь на ста двадцати тысячах флоринов контрибуции и праве удерживать за собой две крепости во владениях Флоренции, пока не закончится война с Неаполем. Армию из города он вывел. Флорентинцы гордились тем, что, когда предводитель двадцатитысячного войска пригрозил: «Сейчас мы затрубим в наши трубы!» — город ему ответил: «А мы ударим в свои колокола!» Однако расшатанные колеса городского управления действовали с большим скрипом. Привыкнув за долгие годы к подчинению Медичи, административные органы с трудом обходились без своего главы. Все прежние члены Совета были из числа сторонников Медичи и умели ладить между собой. Теперь же город раздирали междоусобные страсти. Одна группа ратовала за венецианский образ правления; другая группа хотела учредить Народный совет, с правом устанавливать законы и назначать магистратуру и второй Малый совет, руководящий внутренней и внешней политикой. Гвидантонио Веспуччи, представитель знати и богачей, считал все эти проекты слишком демократическими и опасными; он боролся за сосредоточение власти в руках немногих. В середине декабря в Болонью пришла весть о том, что в политические дела Флоренции решительным образом вмешался Савонарола — в своих проповедях он одобрил проекты по демократизации управления в городе. Гости в доме Альдовранди, осведомленные в политических делах, передавали предложения Савонаролы так: выборные советы, налогом облагается только недвижимое имущество, каждый флорентинец пользуется избирательным нравом, каждый, кто достиг двадцати девяти лет и уплатил налоги, может быть избран в Большой совет. Выступив со своими проповедями, Савонарола добился того, что его план был принят; партия Веспуччи и его знатных сторонников потерпела поражение. Даже здесь, в Болонье, стало ясно, что Савонарола занял положение политического и религиозного руководителя Флоренции. Его борьба с Великолепным закончилась полной победой. В первые же дни нового года в Болонье опять появился Пьеро де Медичи: он решил на время обосноваться тут вместе со своими людьми. Возвращаясь из мастерской, Микеланджело увидел, что перед дворцом Альдовранди толпится отряд наемных солдат Пьеро. Сам Пьеро вместе с Джулиано сидел в гостиной у Альдовранди. Хотя Карл, заключая мирное соглашение с флорентинцами, заставил отменить указ о награде за головы Пьеро и Джулиано, все имения Медичи были конфискованы, и, считаясь изгнанным, Пьеро не имел нрава жить ближе трехсот верст от границ Тосканы. Столкнувшись с Пьеро на пороге столовой, Микеланджело сказал: — Рад с вами встретиться, ваша светлость! Но было бы куда приятнее снова увидеть вас во дворце Медичи. — Мы там будем очень и очень скоро, — ворчливо ответил Пьеро. — Синьория изгнала меня из города силой. Я собираю армию, которая силой изгонит Синьорию. Джулиано заметно подрос и был теперь не ниже Микеланджело. Поклонился он ему довольно холодно, но, когда Пьеро с синьорой Альдовранди отошли к столу, юноши дружески разговорились. За сколом у Альдовранди, где всегда было весело, на этот раз чувствовалось напряжение: Пьеро сразу же начал излагать свой план завоевания Флоренции. Ему требовались для этого лишь деньги, наемные воины, оружие и кони. Он рассчитывал, что Альдовранди даст ему на эту операцию две тысячи флоринов. — Вы уверены, ваша светлость, что это лучший способ действий? — вежливо спрашивал его Альдовранди. — Когда был изгнан ваш прадед Козимо, он ждал, пока город не почувствовал в нем нужды и не обратился к нему с приглашением. Дождитесь и вы своего часа. — У меня не такое всепрощающее сердце, как у моего предка. И сама Флоренция уже хочет, чтобы я возвратился. Только Савонарола да мои кузены строят против меня козни. Тут Пьеро взглянул на Микеланджело. — Ты должен вступить в мою армию в качестве инженера и помочь укрепить городские стены, как только мы завоюем Флоренцию. Склонив голову, Микеланджело спросил после минутного молчания: — Неужто вы будете вести войну с Флоренцией, ваша светлость? — Буду. Это необходимо. Я начну наступление сразу же, как только наберу достаточные силы, чтобы не страшиться городских укреплений и стен. — Но если город подвергнется бомбардировке, его можно и разрушить… — Что ж тут особенного? Флоренция — это груда камней. Если мы развалим их, мы же снова их и сложим. — Но искусство… — Искусство? Мы можем вновь наполнить город картинами и статуями в течение одного года. И это будет новая Флоренция — город, где я стану владыкой. Все сидели, не прикасаясь к пище. Альдовранди сказал, глядя в лицо Пьеро: — Из уважения к памяти Великолепного, моего друга, я должен отклонить вашу просьбу. Деньги, о которых вы говорили, считайте вашими, но только пусть они будут предназначены не для военных целей. Будь жив Лоренцо, он первым остановил бы вас на этом пути. Пьеро снова посмотрел на Микеланджело. — А что скажешь ты, Буонарроти? — Я, ваша светлость, тоже должен отказаться. Я готов служить вам как угодно и где угодно, но только не на войне против Флоренции. Оттолкнув кресло, Пьеро поднялся. — Что за людей оставил мне в наследство отец! Полициано и Пико предпочли смерть, только бы не сражаться. И вы, Альдовранди, вы, человек, которого мой отец назначил подестой Флоренции! И ты, Микеланджело, проживший под нашей крышей целых четыре года. Как вас теперь назвать, если вы и не помышляете о борьбе за утраченное нами! Он стремительно вышел из комнаты. Со слезами на глазах Микеланджело сказал, обращаясь к Джулиано: — Прости меня, ради бога. Джулиано тоже встал, собираясь уходить. — Так же, как и вы, я против войны с Флоренцией. Это только вызвало бы в городе еще большую ненависть к нам. Прощай, Микеланджело. Я напишу Контессине, что видел тебя.Микеланджело по-прежнему смущали мысли об ангелах. Он вспоминал, как ему пришлось когда-то работать над образом ангела, расписывая фреску Гирландайо: в качестве натурщика ему служил в ту пору сынишка столяра, жившего внизу, под квартирой Буонарроти. Товарищи по мастерской подтрунивали над Микеланджело, называя его мошенником, так как он сделал нимб вокруг головы ангела весьма туманным, почти незаметным. И кто такие эти ангелы — мужчины они или женщины, люди или боги? Настоятель Бикьеллини назвал их однажды «духовными созданиями, сопровождающими Господа». Сомнения еще больше стали одолевать его с той поры, как, нарисовав уже сотню ангелов, он попал в покойницкую и вскрывал трупы. Разобравшись в строении человеческого тела и работе органов, он уже на все смотрел новыми глазами. А есть ли у ангелов эти длинные, словно свернувшиеся змеи, кишки? Помимо того, он должен был теперь изваять своего ангела одетым, ибо ангел, стоявший на другой стороне надгробья, был в одежде. Работая над таким ангелом и двумя святыми, Микеланджело ныне вполне оправдал бы слова Гирландайо, который говорил ему, что он всю жизнь будет изображать обнаженными у человека лишь руки, ноги да, может быть, часть шеи. Все же остальное, что есть у человека и что Микеланджело изучил с таким тяжелым трудом, все будет упрятано под просторными складками одежды. Чтобы изваять «духовное создание, сопровождающее Господа», Микеланджело выбрал натурщиком деревенского паренька, приехавшего со своими родственниками в церковь. Парень этот слегка напоминал собой Буджардини, лицо у него было полное и широкое, но все черты правильные, как у древнего грека, а сильные, хорошо развитые бицепсы и плечи свидетельствовали о том, что юноша немало походил, наваливаясь на ручки плуга, влекомого волами. Этот коренастый парень держал канделябр, поднять который мог бы только гигант. Вместо того чтобы смягчить, как это было положено, увесистость изваяния нежными, просвечивающими крыльями, Микеланджело, будто поддавшись какому-то соблазну, приделал юноше два по-орлиному поднятых крыла, росших от лопаток, почти вдоль всей его спины. Крылья он вырезал из дерева, насадив их на глиняную модель, — они оказались так тяжелы, что тоненький ангел делл'Арка, стоявший с противоположной стороны саркофага, свалился бы под их тяжестью наземь. Он пригласил в мастерскую Альдовранди. При виде столь массивной модели тот отнюдь не удивился. — Мы, болонцы, не похожи на духовные создания. Вот таким здоровенным и высекайте своего ангела. Микеланджело внял совету и принялся за дело, воспользовавшись самым крупным из трех каррарских блоков Альдовранди. С молотком и резцом в руках он ощущал себя вновь полнокровным и крепким: в ноздрях у него скапливались комки засохшей мраморной пыли, белая крошка покрывала волосы и платье. Работая над камнем, он был могущественным. Он уже не нуждался теперь в жаровнях, ему было тепло от самой работы; он даже выносил свой верстак во двор, едва лишь зимнее солнце начинало пригревать: ему хотелось чувствовать вокруг себя открытое пространство. Вечерами, почитав вслух перед Альдовранди и сделав рисунок на очередной странице Данте, он набрасывал этюды к статуе Святого Петрония — римлянина из знатной семьи, перешедшего в христианство, покровителя Болоньи и основателя церкви Сан Петронио. В качестве моделей Микеланджело брал гостей в доме Альдовранди, из тех, что были постарше, — членов совета Шестнадцати, университетских профессоров, судей; сидя с ними за столом, он мысленно зарисовывал их лица и фигуры, а потом удалялся в свою комнату и заносил на бумагу те черты, формы и особенности мимики, которые делают людей непохожими друг на друга. Внести в образ Святого Петрония что-то оригинальное у Микеланджело почти не было возможности. Весь клир церкви Сан Доменико и болонские власти настаивали на том, чтобы Святой Петроний был изображен старцем не моложе шестидесяти лет, в пышных одеждах, с венцом архиепископа на голове. В руках он должен был держать модель города Болоньи — башни и дворцы города возвышались над защищающими его стенами. В каморке, что находилась напротив мастерской Микеланджело, скоро появился сосед. Это был Винченцо: его отец получил заказ на выделку кирпича и черепицы для ремонта собора. Всюду на церковном дворе, во всех помещениях теперь было полно рабочих и мастеровых, воздух звенел от сгружаемых с подвод строительных материалов. Винченцо целыми днями потешался над Микеланджело, изводя его насмешками и тем увеселяя рабочих. — Наш кирпич сохраняет крепость тысячу лет. Он попрочнее вашего флорентинского камня. — Это правда, Винченцо, кирпич вы делаете прочный. — А мы в твоих похвалах не нуждаемся, — отвечал Винченцо. — Ведь если послушать вас, флорентинцев, то выходит, что художников нигде нет, кроме вашего города: мы, мол, единственные! Микеланджело смутился и не нашел, что возразить. Обращаясь к рабочим, Винченцо крикнул: — Поглядите, как он покраснел. Вот я поддел его! Через час, подъехав с новой телегой черепицы, Винченцо опять прицепился к Микеланджело: — За вчерашний день я обжег сотню крепчайших черепиц. А что сделал ты? Нацарапал десяток загогулин углем на бумаге? — И, радуясь тому, что его шутка рассмешила окружающих, он продолжал: — Если ты рисуешь, так, по-твоему, сразу станешь и скульптором? Зачем ты толчешься у нас в Болонье и не уезжаешь восвояси? — Собираюсь уехать, как только закончу эти три статуи. — Смотри, с моими-то кирпичами ничего не станется. А ты подумай, как просто подойти к твоей статуе и случайно задеть ее чем-нибудь тяжелым — глядишь, она уже и раскололась. Все замерли, прекратив работу. На дворе сразу стало тихо. Топыря, как всегда, пальцы, будто он захватывал ими только что отформованный кирпич, Винченцо сказал с хитрой улыбкой: — Представь себе, кто-нибудь вдруг наткнется на саркофаг и ударится об него. Бац — и твой ангел разлетелся на мелкие кусочки! Микеланджело почувствовал, как злость сдавила ему горло. — Ты не посмеешь! — Да разве обо мне речь, Буонарроти? Я двигаюсь ловко и осторожно. А вот какой-нибудь чурбан возьмет да и сослепу треснется прямо лбищем! Хохот рабочих, уже вновь принявшихся за работу, больно резнул Микеланджело: силы разрушения всегда идут по пятам созидания! Этот случай не забывался и мучил его не одну неделю. Святой Петроний выходил из-под резца с печальным, изборожденным глубокими морщинами лицом, но в фигуре его проглядывала немалая сила. В посадке головы, в крепком упоре ног, обутых в сандалии на тонкой подошве, в очертаниях колен, бедер, плеч, покрытых пышной мантией, в пальцах рук, сжимавших модель Болоньи, — во всем этом Микеланджело показал нечто прочное, кряжистое. Он знал, что как мастеровой он исполнил работу хорошо. Но подлинно творческого, артистичного — Микеланджело чувствовал это — в статуе было мало. — Красиво, очень красиво, — сказал Альдовранди, глядя на отполированное изваяние. — Такого святого не высек бы и сам делл'Арка. — Но я намерен сделать для вас нечто большее, — отозвался Микеланджело. — Я не уеду из Болоньи, не изваяв что-нибудь прекрасное и совершенно свое. — Чудесно. Вы нашли в себе силы подчиниться и дать нам такого Святого Петрония, какого мы хотели. Я заставлю подчиниться Болонью и принять у вас такого Прокла, какого замыслили вы. Болонья Жирная стала для него теперь Болоньей Тощей. Обедать домой он уже не ходил. Если кто-нибудь из слуг Альдовранди приносил ему горячей еды в мастерскую, Микеланджело порой долго не притрагивался к ней, не в силах оторваться от работы, и пища остывала. Приближалась весна, светлые рабочие часы становились все длиннее. Микеланджело нередко возвращался в особняк Альдовранди лишь затемно — грязный, потный, измазанный углем и мраморной пылью. От усталости он уже не помышлял ни о чем, кроме постели, но слуги тащили ему большой ушат горячей воды и клали на видном месте чистое платье. И, помимо того, он прекрасно знал, что хозяин дома ждет его в библиотеке, чтобы провести час-другой за дружеской беседой. Клариссу он видел редко, поскольку на званых вечерах почти не бывал. Но после каждой встречи с нею он по-прежнему не спал ночи и страшно мучился; днем она тоже стояла у него перед глазами, и, вместо того чтобы рисовать Святого Прокла, он нередко набрасывал фигуру Клариссы, едва прикрытую прозрачным платьем. Он даже уклонялся от встреч с нею. Они действовали на него слишком тягостно. Первого мая Альдовранди предупредил Микеланджело, что в этот день работать не надо. Для болонцев это был самый радостный день в году: город переходил как бы в подданство Королевы Любви, люди шли в поля и собирали для родных и друзей цветы, юноши сажали перед окнами своих возлюбленных украшенные лентами деревья, а их приятели пели для девушек песни. Микеланджело вместе с Альдовранди вышел за главные городские ворота: здесь было построено особое возвышение, покрытое пестрыми шелками и увитое гирляндами цветов. Здесь Королеву Любви короновали — огромная толпа горожан присягала ей, воздавая традиционные почести. Микеланджело тоже хотел присягнуть любви, у него тоже горела и бродила хмелем кровь; в вольном весеннем воздухе плыли запахи тысяч букетов, запахи праздничных духов, которыми благоухали болонские дамы, все красивые в этот торжественный день, все разодетые в шелка с драгоценными каменьями. Однако Клариссу он здесь не нашел. А Марко оказался в толпе: он был вместе с родственниками и двумя девицами, явно из тех, на которых его семейство благосклонно смотрело как на возможных невест, — они льнули к Марко, цепляясь за его руки справа и слева. Микеланджело заметил и ту пожилую женщину, которая сопровождала Клариссу на улицах, а также горничную Клариссы и еще несколько ее слуг: они пили и закусывали, расположившись на траве позади коронационного помоста Королевы Любви. Но и тут Клариссы нигде не было, как он ни старался ее найти. А потом он, очнувшись, понял, что помост Королевы Любви и шум разряженной толпы уже где-то далеко-далеко позади. Он быстро шагал по дороге, ведущей к вилле Клариссы, ноги несли его туда будто сами. Что он там будет делать, он не знал. Не знал, что будет говорить, как объяснит свои приход, когда ему отворят ворота. Весь трепеща, он не то шел, не то бежал по лощине между холмами. Ворота во двор оказались незапертыми. Он пошел к парадной двери, потянул за молоток, постучал снова и снова. Он уже решил про себя, что вилла пуста и что он поступил глупо, как вдруг дверь приоткрылась. За нею стояла Кларисса, ее золотистые волосы были рассыпаны по спине, ниспадая почти до колен, лицо было чистое, без следов румян, и чуть пахло мылом, на шее и в ушах никаких украшений; она показалась Микеланджело еще более красивой, чем раньше, и тело ее, полуголое, близкое, еще желанней. Он сделал шаг вперед. В доме не слышалось ни единого звука. Кларисса задвинула засов у двери. И вдруг они приникли друг к другу, прижимаясь коленями, бедрами, грудью, в жадном поцелуе сливая воедино свои сладкие, влажные губы, стискивая друг друга так, что в их объятии билась и трепетала сама сила жизни, и уже не сознавая, не помня, где они и что с ними происходит. Она провела его в спальню. Легкая ткань пеньюара не скрывала ее фигуры. Гибкая, тонкая талия, с пунцовыми кончиками сосков упругие груди, златоволосый венерин холмик — все до подробности уже заранее видели его глаза рисовальщика: перед ним была женская красота, созданная для любви. Это было так, словно он живыми, пружинящими ударами резца проникал в глубь белоснежного мрамора, исподволь направляя эти удары, пробивающие телесно-теплую плоть глыбы, снизу вверх, словно он, занося молоток, говорил себе коротко-решительное «Пошел!», бросал вслед за молотом тяжесть всего своего тела и врывался все глубже и глубже в борозды и складки податливой, мягкой живой ткани, пока не наступало головокружительное, как взрыв, последнее мгновение и вся его текучая, стремительная сила, вся его нежность, желание, страсть не изливались в творимую форму и пока мраморный блок, созданный для того, чтобы его ласкала рука истинного скульптора, не отвечал, не отзывался на это, отдавая свой затаенный внутренний жар, и всю плоть свою, и свою текучую силу, пока, наконец, скульптор и мрамор взаимно не проникали друг в друга, не становились единым целым — мрамор и человек в органическом слиянии, дополнив и завершив друг друга в том величайшем проявлении творчества и любви, какое только знают люди.
После памятного майского праздника Микеланджело закончил рисунки к статуе Прокла, который был убит у ворот Болоньи в 303 году, в расцвете молодости и сил. Он изваял его подпоясанным, в тунике, стараясь не закутывать могучую грудь святого и крепкие, мускулистые ноги. Все было тут анатомически верно и убедительно. Лепя модель из глины, он чувствовал, как обогатил его опыт работы над «Гераклом»: он сумел теперь передать ощущение силы и в бедрах, и в бугристых, толстых икрах Прокла — глядя на статую, зритель чувствовал, что такая грудь и такие ноги могли быть лишь у отважного воителя, у стойкого, несгибаемого бойца. Затем, отбросив всякое стеснение, он при помощи зеркала, в спальне, стал лепить для лица святого свой собственный портрет: вмятина на носу, широкие плоские скулы, широко расставленные глаза, спадающие на лоб пряди густых волос, пристальный, твердый взгляд, выражающий готовность к схватке — с кем? С недругами Болоньи? С врагами искусства? Или с врагами самой жизни? А разве это, по сути, не один и тот же враг? Трудясь над мрамором и думая лишь о том, как точнее направлять и нести удары своего резца, Микеланджело забывал Винченцо, забывал его землисто-оранжевое лицо и руки, его хриплый, тягучий голос. Он щурил глаза, защищаясь от летящей крошки, неотступно вглядывался в рождающиеся формы изваяния и снова ощущал себя высоким и крепким. Облик Винченцо в его сознании стал как бы бледнеть и уменьшаться, а потом исчез совсем, к тому же и сам кирпичник больше не появлялся близ церкви. Когда полуденное солнце нагревало воздух слишком сильно и работать на закрытом душном дворе было тяжело, он обычно брал карандаш и бумагу и выходил на площадь перед церковью. Присев на прохладный камень подле рельефов делла Кверча, он освежал душу тем, что зарисовывал ту или другую фигуру — Господа Бога, Адама, Еву или Ноя; он пытался хотя бы отчасти понять, как удавалось делла Кверча вдохнуть в свои образы, едва проступавшие на плоской поверхности истринского камня, столь глубокие эмоции, такую драматичность и отблеск живой жизни? Жаркое лето проходило в работе: с рассветом Микеланджело был уже на ногах и трудился до вечерних сумерек; прежде чем приняться за трапезу, открыв свою корзинку, где лежали колбаса салями и хлеб, он не выпускал инструмента из рук в течение шести часов. По вечерам, когда подступавшая темнота искажала и скрадывала объемы и плоскости высекаемой фигуры, он набрасывал на нее мокрое полотнище, переносил в мастерскую и надежно запирал дверь, потом шел к мелководной широкой реке Рено и не спеша купался. Возвратясь в особняк Альдовранди, он смотрел, как в ниспадавшем, будто полог, на равнины Эмилии темно-синем небе, сияя, загорались звезды. Винченцо исчез, но исчезла и Кларисса. Из беглого замечания Альдовранди Микеланджело понял, что Марко увез ее на жаркий сезон в свой охотничий домик в Апеннинах. Семейство Альдовранди тоже уехало на летнюю виллу в горы. На большую часть июля и весь август Болонья замерла, словно пораженная чумой, окна у лавок были закрыты железными ставнями. Микеланджело остался во дворце лишь с двумя дряхлыми слугами, которые боялись покинуть дом по старости. Альдовранди он видел только в те редкие дни, когда тот, густо загоревший на горном солнце, приезжал присмотреть за своими делами. Однажды он привез поразительное известие из Флоренции. Как только он заговорил об этом, его короткие вздернутые брови в недоумении поползли вверх: — Ваш фра Савонарола начал вести игру в открытую. Он объявил войну папе! — Речь идет, видимо, о таких же ответных мерах, какие принял Лоренцо после того, как папа отлучил Флоренцию от церкви? — Ах, тут совсем другое. Савонарола действует по чисто личным мотивам и хочет сразить папу насмерть. И Альдовранди прочитал выдержку из последней проповеди Савонаролы в Соборе: «Когда вы видите, что голова здорова, вы вправе сказать, что здорово и тело; но когда голова больна, надо проявить заботу о теле. Точно так же, если глава правительства полон честолюбия, похотлив и наделен всеми другими пороками, то знайте, что наказание ему не заставит себя долго ждать… Когда вы видите, что Господь позволяет главе церкви погрязнуть в грехах и преступлениях, то верьте же, что тяжкая кара скоро обрушится на весь народ!» Микеланджело воспринял это гораздо спокойнее, чем ожидал Альдовранди, так как настоятель Бикьеллини давно говорил ему, что конечная цель Савонаролы — свергнуть папу. — И чем же на такие речи ответил папа? — Он вызвал Савонаролу в Рим, чтобы тот объяснил свои пророческие откровения. Но Савонарола отказался ехать, сказав при этом так: «Все благонамеренные и благоразумные жители города видят, что мои отъезд отсюда нанесет великий ущерб народу и будет мало полезен вам в Риме… Я уверен, что в интересах той миссии, которую я исполняю, все, что препятствует моему отъезду, возникло по воле божьей и, следовательно, не в воле божьей, чтобы я сейчас покинул это место». Железная логика, не правда ли? — с усмешкой спросил Альдовранди. Альдовранди уговаривал Микеланджело пожить у него в горах и отдохнуть от городской жары, но Микеланджело тоже отказался уехать из «этого места». — Большое спасибо, — сказал он, — но я спешу закончить «Святого Прокла». Если дело пойдет так, как идет сейчас, то к осени он будет готов.
Лето кончилось, Болонья подняла свои ставни и вновь стала обитаемым городом. К осени изваяние Святого Прокла в самом деле было готово. Микеланджело привел Альдовранди взглянуть на него. Любовно оглаживая полированную поверхность мрамора, Микеланджело чувствовал себя очень усталым, но был счастлив. Счастлив был и Альдовранди. — Я попрошу отцов церкви назначить день освящения статуи. Пожалуй, это надо приурочить к рождественскому празднику. Микеланджело молчал: дело скульптора — изваять статую, а дело священников — освятить ее. — Мы можем чествовать вас в церкви Сан Доменико, — предложил Альдовранди. — Моя работа кончена, и я тоскую по Флоренции, — тихо ответил Микеланджело. — А вы были для меня хорошим другом. Альдовранди улыбнулся: — Мы в расчете. О хлебе и приюте в моем доме, где вы прожили год, не стоит говорить. Но сколько прекрасных часов провел я с вами, читая стихи! И вы проиллюстрировали для меня «Божественную комедию». Разве Альдовранди совершали когда-нибудь более выгодную сделку? Он не мог уехать, не попрощавшись с Клариссой. Но встречи с нею надо было еще выждать. Однажды Альдовранди пригласил его на глухую загородную виллу, куда болонские богачи без опаски привозили своих любовниц потанцевать и повеселиться. Микеланджело увидел, что побыть наедине с Клариссой хотя бы десять минут нет никакой надежды. Что ж, им придется попрощаться здесь, в присутствии многих мужчин и женщин; они будут смотреть друг на друга с добродушно-шутливой болонской улыбкой и обмениваться пустыми любезностями. — Я все собирался сказать вам, Кларисса, до свидания. Я возвращаюсь во Флоренцию. Ее брови на мгновение дрогнули, сдвинувшись к переносью, но светская заученная улыбка не сходила с губ. — Очень жаль. Мне было приятно сознавать, что вы живете в нашем городе. — Приятно? Разве пытка приятна? — В каком-то роде. Когда вы приедете в Болонью снова? — Не знаю. Возможно, никогда. — Все возвращаются в Болонью. Она по дороге, куда бы ни ехать. — В таком случае вернусь и я.
13
Домашние искренне обрадовались, когда он приехал в свой город, и, удивленно восклицая при виде отросшей бородки, расцеловали его в обе щеки. Получив от сына привезенные им двадцать пять дукатов, Лодовико был в восхищенье. Буонаррото за год сильно подрос, Сиджизмондо, заметно возмужавший, пристроился в цехе виноделов, а Джовансимоне окончательно покинул отчий дом и по-царски зажил где-то в собственной квартире на той стороне Арно — он был теперь одним из вожаков Юношеской армии Савонаролы. — К нам он уже больше и не заходит, — вздыхал Лодовико. — Мы задаем ему слишком много неприятных вопросов. Граначчи с утра до ночи усердно трудился в мастерской Гирландайо, стараясь поддержать ее репутацию. Зайдя в мастерскую, Микеланджело застал там Давида и Бенедетто Гирландайо, Майнарди, Буджардини и Тедеско — они рисовали картоны для новых фресок в часовне Святого Зиновия. Картоны показались Микеланджело хорошими. — Конечно, — соглашался Давид. — Но нам постоянно твердят одно и то же: со смертью Доменико мастерской больше не существует. — Мы работаем теперь вдвое усерднее, чем прежде, — жаловался Майнарди, — но разве у кого-нибудь из нас есть такой талант, какой был у Доменико? Может, только у его сына Ридольфо. Но ведь ему двенадцать лет, сколько же надо ждать, пока он заменит отца? По дороге домой Граначчи докладывал: — Семейство Пополано хочет, чтобы ты изваял что-нибудь для них. — Пополано? Я не знаю никаких Пополано. — Нет, знаешь. — В мягком голосе Граначчи почувствовалось напряжение. — Это кузены Медичи, Лоренцо и Джованни. Они изменили свою фамилию, чтобы она звучала сходно с называнием Народной партии, и ныне участвуют в управлении Флоренцией. Они просили привести тебя к ним, как только ты приедешь. Братья Лоренцо и Джованни приняли Микеланджело в гостиной, наполненной бесценными предметами искусства из дворца Великолепного. Микеланджело растерянно переводил взгляд с одной вещи на другую: тут были произведения и Боттичелли, и Гоццоли, и Донателло. — Не думай, что мы похитили эти сокровища, — с улыбкой говорил Джованни. — Их продавали открыто, с аукциона. Это наше законное приобретение. Микеланджело сел на стул, не дожидаясь приглашения. Граначчи почел нужным заступиться за братьев Пополано: — По крайней мере, здесь эти картины и статуи в безопасности. Часть прекрасных вещей продана приезжим и увезена из Флоренции. Микеланджело встал и прошелся по комнате. — Все это так для меня неожиданно… столько нахлынуло воспоминаний. Джованни Пополано распорядился подать лучшего вина и закуски. Лоренцо тем временем говорил Микеланджело, что они все еще хотят получить статую Юного Иоанна. Если Микеланджело желает ради удобства работать во дворце, ему всегда будут здесь рады. В тот же вечер, когда колокола Флоренции звенели достаточно громко, чтобы напомнить тосканскую пословицу: «Колокола сзывают в церковь других, но сами туда не ходят», — Микеланджело шагал по узеньким улицам ко дворцу Ридольфи. Он хорошенько выбрился, вымылся, надел для визита свою лучшую голубую рубашку и лучшие чулки, волосы ему постриг на Соломенном рынке тот цирюльник, что когда-то стриг Торриджани. Семейство Ридольфи прежде принадлежало к партии Биги, или партии Серых, и шло целиком за Медичи, каковую вину городской совет ему простил; теперь же оно подчеркнуто поддерживало партию Фратески, или Республиканцев. Контессина встретила его в гостиной, ее по-прежнему сопровождала та же старая няня. Микеланджело увидел, что Контессина беременна. — Микеланджело. — Контессина. Come va? — Ты говорил, что я нарожу много сыновей. Он смотрел на ее бледные щеки, лихорадочно горящие глаза, вздернутый, как у Лоренцо, нос. И он вспоминал Клариссу, чувствуя, что она словно стоит в этой комнате рядом с Контессиной. «Любовь всегда бывает в некотором роде». — Я пришел сказать тебе, что твои кузены предлагают мне заказ. Я не мог вступить в армию Пьеро, но ослушаться семьи Великолепного второй раз мне не позволяет совесть. — Я знаю, что кузены интересуются тобой. Ты уже проявил свою верность нам, Микеланджело, когда отверг их первое предложение. Не надо больше упрямиться и что-то доказывать этим. Если заказ тебе подходит, прими его. — Я так и сделаю. — Что касается Пьеро… Сейчас и я и сестра, мы обе живем под защитой мужниных семей. А если Пьеро нападет на Флоренцию с большим войском и город будет в опасности, кто знает, что случится с нами? Сам город теперь сильно изменился. Бродя по знакомым улицам, Микеланджело всюду чувствовал дух вражды и подозрительности. Флорентинцы, жившие в мире и согласии с тех пор, как Козимо де Медичи приказал снести на домах оборонительные башни, ныне разделились на три враждебных, осыпающих друг друга проклятиями партии. Микеланджело уже научился различать их. К Арраббиати, или Бешеным, принадлежали богатейшие семейства с большим политическим опытом; они ненавидели теперь и Пьеро и Савонаролу, называя приверженцев последнего сопляками и нытиками. Затем существовала партия Белых, или Фратески, куда входили Пополано, — эта партия любила Савонаролу не больше Бешеных, но была вынуждена поддерживать его, поскольку тот выступал за народоправство. И наконец, была партия Пьеро де Медичи, Серые, — она всячески интриговала, борясь за возвращение в город Пьеро. Оказавшись вместе с Граначчи на площади Синьории, Микеланджело несказанно удивился: бронзовая Донателлова «Юдифь», находившаяся некогда во дворце у Медичи, стояла теперь перед правительственным дворцом, а похищенный у Медичи же «Давид» был установлен на дворе Синьории. — Что тут делает «Юдифь»? — спросил Микеланджело. — Она теперь царствующая богиня Флоренции. — Богиня, которую выкрали. И бедный «Давид»… — Зачем такие резкие слова? Их не выкрали, их конфисковали. — А что значит эта надпись? — Горожане поставили эту статую здесь как предупреждение всем, кто помышляет о тирании во Флоренции. Юдифь с мечом в руке — это мы, доблестные граждане Флоренции, Олоферн, чья голова вот-вот будет отсечена, — это наши недруги, враждебные партии. — Значит, на этой площади покатится множество срубленных голов? Выходит, мы в войне друг с другом? Граначчи не ответил на этот вопрос, но настоятель Бикьеллини признался: — Боюсь, что ты прав, Микеланджело. Микеланджело сидел в его кабинете, кругом были полки с манускриптами в кожаных переплетах, на столе грудами лежали исписанные листы: настоятель заканчивал какое-то сочинение. Грея руки, он совал их в рукава черной августинской сутаны. — Мы провели кое-какие реформы в области налогов и нравов. Управление у нас стало демократичнее, в нем участвует больше граждан. Но администрация скована по рукам и ногам, она ничего не может сделать, пока тот или иной ее акт не одобрит Савонарола. Если не считать кружка самоотверженных живописцев в мастерской Гирландайо, художники и искусство совсем захирели во Флоренции. Росселли болел, его мастерская была закрыта. Двое родственников делла Роббиа, унаследовавшие профессиональные навыки Луки, стали священниками, Боттичелли писал только на сюжеты, навеянные ему проповедями Савонаролы. Лоренцо ди Креди, ученик Верроккио, занялся лишь реставрацией работ фра Анжелико и Учелло и ушел в монастырь. — Я не раз думал о тебе, — говорил настоятель. — В особенности когда Савонарола выступил с проповедью для художников. У меня сохранились кое-какие записи этой проповеди, поверь, совершенно точные. «В чем заключается красота? В красках? Нет. В формах? Нет! Господь — вот сама красота. Молодые художники пишут то какую-то женщину или какого-то мужчину, то Магдалину, то Богородицу, то Святого Иоанна, и вот уже их образы появляются на стенах церквей. Это величайшее извращение, надругательство над святыми истинами. Вы, художники, творите зло, вы наполняете храмы суетными изображениями…» — Я уже слыхал обо всем этом от моего брата. Но если у Савонаролы такая власть… — Да, у него такая власть. — …тогда, пожалуй, мне не надо было возвращаться во Флоренцию. Что мне здесь делать? — А куда бы ты мог деться, сын мой? Микеланджело не ответил. В самом деле, куда? В день нового, 1490, года большая толпа народа вышла на площадь Сан Марко и окружила монастырь, вздымая горящие факелы и крича: — Сожжем его логово! Сожжем Сан Марко! Выкурим отсюда этого грязного монаха! Микеланджело стоял и смотрел, прячась в тени дворца Пополано. Монахи Сан Марко в своих черных одеяниях и капюшонах вышли из ворот, сомкнулись плечом к плечу, взялись за руки и, защищая церковь и монастырские покои, образовали плотную цепь. Толпа горожан все кричала, угрожая Савонароле и браня его, но монахи не дрогнули и не отступили; спустя какое-то время люди с факелами стали исчезать, убегая с площади, огни мелькали уже на окрестных улицах. Прижимаясь к холодным камням стены, Микеланджело чувствовал, как его бьет лихорадка. В мозгу его маячила Донателлова «Юдифь», стоящая с поднятым мечом, готовая срубить голову… чью же? Савонаролы? Настоятеля Бикьеллини? Пьеро? Самой Флоренции? Или его собственную голову?14
Желая повидаться с Бэппе, он пошел в мастерские на дворе Собора и узнал там,что где-то на соседнем подворье можно купить по сходной цене небольшую, но вполне хорошую глыбу мрамора. Уплатив за мрамор, Микеланджело весь остаток денег, полученных авансом за работу над «Святым Иоанном», отдал Лодовико. Заставить себя жить во дворце, называемом теперь «дворцом Пополано», Микеланджело не мог, но рабочее место пришлось ему оборудовать все же у заказчиков, в их саду. Кузены обращались с ним как с другом, часто зазывали его, прямо в рабочей одежде, в комнаты, предлагая посмотреть новую картину или украшенный миниатюрами манускрипт. Несмотря на студеную погоду, он не ел и не пил вплоть до полудня и возвращался домой с отменным аппетитом, чем восхищал Лукрецию. Им был доволен теперь даже Лодовико. Сад у Пополано был разбит и подстрижен по всем правилам, обнесен высокой стеной, была там и крытая галерея, в которой Микеланджело спасался от холода. Работать в ней было удобно, но Микеланджело не испытывал ни радости, ни творческого воодушевления. И он все время спрашивал себя: «Почему?» Сюжет был интересный: юный Иоанн идет с проповедью в пустыню. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих; а пищею его были акриды и дикий мед». Во Флоренции скопилось много изображений Святого Иоанна: «Иоанн, совершающий обряд крещения» Андреа Пизано на дверях Баптистерия, бронзовая статуя Гиберти в Орсанмикеле, мраморное изваяние Донателло на Кампаниле, фреска Гирландайо в церкви Санта Мария Новелла, «Крещение Христа» Верроккио, написанное для церкви Сан Сальви с участием Леонардо да Винчи. Читая Библию, Микеланджело решил, что Иоанну было всего лет пятнадцать, когда он направился с проповедью к самаритянам в палестинскую пустыню. Большинство изображений показывало его совсем мальчиком, с тоненькой фигуркой, с детским лицом. Но это было едва ли необходимо. Ведь в пятнадцать лет многие итальянские молодые люди были уже мужчинами. Почему же Святому Иоанну не быть крепким, здоровым юношей, вполне готовым к тем суровым испытаниям, навстречу которым он шел? Почему Микеланджело не изваять одну из тех излюбленных им фигур, над какими он работал с особым жаром? Тревога и смута в городе — не она ли убивала в нем воодушевление, не она ли заставляла его раздумывать о своем месте в отцовской семье? Кругом носились самые разные, порой дикие слухи, повсюду царил страх, говорили, что Савонарола взял управление городом полностью в свои руки. Отказавшись вступить в лигу итальянских городов-государств, Флоренция опасалась, что лига навяжет ей в правители Пьеро, что город вновь подвергнется нашествию неприятеля. Венеция, герцог Сфорца в Милане, папа Борджиа в Риме считали Пьеро подходящим союзником в борьбе с Савонаролой и помогли ему собрать десять тысяч дукатов для оплаты наемных войск. Но в опасности было прежде всего искусство. Художники жили и работали в тревожном мире. И поистине, суждено ли им было когда-то жить в другом, более спокойном мире? Или трудности Микеланджело заключались в том, что, как и раньше, он не мог уяснить себе значение Святого Иоанна, его роль. Зачем Господь Бог должен был посылать кого-то, чтобы подготовить пришествие Иисуса Христа? Если в господней воле нарушить все законы природы и творить чудеса, чтобы убедить сомневающихся, зачем же было заранее прокладывать путь для сына божьего? У Микеланджело был пытливый ум. Он чувствовал необходимость добраться до сути вещей, до подоплеки философских положений. Он читал историю Иоанна у Матфея: «В те дни приходит Иоанн Креститель, и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо приблизилось царствие небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исайя: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь господину, прямыми сделайте стези ему». Но пятнадцатилетний мальчик, впервые идущий проповедовать, не мог быть старше того человека, который позднее крестил Иисуса. Каким же он все-таки был, этот Креститель, как выглядел? Каково его значение в христианстве? Был ли его подвиг необходим или он только служил исполнением пророчества в Ветхом завете, — ведь первые христиане считали, что чем прочнее они утвердят свою веру на Ветхом завете, тем больше будет у нее возможностей выжить и сохраниться. Если Микеланджело и не был искушенным богословом, он был добросовестным мастером. Он затратил не одну неделю, бродя по городу и зарисовывая каждого юношу, который соглашался задержаться на месте несколько минут. И хотя он не собирался высекать Иоанна необыкновенно сильным человеком, он не хотел его представить и тем хрупким, изнеженным подростком, какие украшали церкви Флоренции. Так он замыслил своего Иоанна; так его изваял — пятнадцатилетним юношей, с гибким, прикрытым лишь повязкой на бедрах, телом. Нимб вокруг головы он отверг, отверг и традиционный длинный крест, который нес в руках Иоанн у Донателло, ибо Микеланджело не думал, что юный Иоанн носил с собой крест за много лет до того, как крест вошел в жизнь Иисуса. Получился живой, полнокровный портрет юноши; закончив полировать изваяние, Микеланджело все еще не знал, какой смысл он вложил в него. Кузены Медичи и не требовали смысла. Они были весьма довольны работой Микеланджело и поставили статую в нишу тыльной стены сада — из задних окон дворца ее хорошо было видно. Они заплатили Микеланджело все, что оставалось заплатить, и сказали, что с удовольствием предоставят Микеланджело свой сад под мастерскую и на будущее. Но они и не заикнулись о новом заказе. — Я не вправе обижаться, — говорил совсем захандривший Микеланджело, встретясь с Граначчи. — «Иоанн» у меня вышел самый обыкновенный, в нем нет искры божьей. Я научился высекать круглые статуи, но разве мне удалось создать хоть одно действительно выдающееся изваяние в круглой скульптуре? Теперь, когда мне скоро будет двадцать один год, я знаю и умею, пожалуй, меньше, чем тогда, когда мне было семнадцать. Как это может быть? — Это не так. — Бертольдо мне говорил: «Скульптор должен создать целое полчище статуй». Я изваял за эти четыре года шесть скульптур: «Геракла», деревянное «Распятие», «Ангела», «Святого Петрония» и «Святого Прокла» в Болонье, а теперь вот «Святого Иоанна». Но только в «Прокле» есть нечто действительно самобытное. В свой день рождения он уныло побрел в мастерскую в саду Пополано. Там на рабочем верстаке он неожиданно увидел глыбу белого мрамора. По всей глыбе, рукою Граначчи, угольным карандашом было написано: «Руби снова!». И он тут же начал рубить. Не сделав ни одного рисунка, не слепив модели в воске или в глине, он стал высекать маленького мальчика — мысль о нем зародилась еще в ту пору, когда он трудился над «Иоанном»: ему хотелось изваять в древнеримском духе пухлого, полного языческих сил, крепкого малыша. Он и не думал, что создаст нечто серьезное, он смотрел на это как на забаву, простое упражнение, желая рассеяться после смутных раздумий об Иоанне. И вот уже мраморная крошка и пыль летела из-под резца, и из глыбы возникал прелестный спящий ребенок лет шести; правую руку он подложил под голову, а ноги привольно раскинул в стороны. Эта работа заняла у Микеланджело всего несколько недель: он не рассчитывал достичь какого-то совершенства и не собирался продавать «Мальчика». Он изваял его ради удовольствия, словно бы играя, и теперь, когда мрамор был уже отполирован, он хотел вернуть его Граначчи, сопроводив такой надписью: «Вот твоя глыба, только чуть попорченная». Но Лоренцо Пополано заставил его изменить свои намерения. Увидав готовую статую, он расплылся в радостной улыбке: — Если бы ты сумел придать мрамору такой вид, будто он долгое время пролежал в земле, то я сбыл бы его в Риме за античного Купидона. Ты можешь это сделать? — Кажется, могу. Однажды я подделал под старину целую папку рисунков. — В таком случае ты продашь своего «Мальчика», заполучив гораздо большую сумму. У меня там есть ловкий торговец, Бальдассаре дель Миланезе. Он все нам и промыслит. Микеланджело видел достаточно греческих и римских статуй, чтобы знать, как должен выглядеть теперь его мрамор. Для пробы он начал дело с тех кусков и обломков, которые остались от работы над «Мальчиком». Он втирал, прямо пальцами, в кристаллы мрамора влажную землю, потом, пройдясь по поверхности наждачной бумагой, еще раз вымазал камень грязью, придав всем его выступам коричневато-ржавый цвет; кистью из жесткой щетины он втирал эту землистую окраску как можно прочнее и глубже. Уверившись, что все идет хорошо, он принялся за самого «Мальчика» и работал очень старательно, даже с увлечением; мысль об искусной подделке под древность занимала его сейчас не меньше, чем сам процесс ваяния, когда он только создавал статую. Лоренцо был вполне удовлетворен достигнутым результатом. — Это убедит кого угодно. Бальдассаре обеспечит тебе хорошую цену. Через несколько дней я отправляю в Рим кое-какие грузы, пошлю туда и твое изваяние. Лоренцо все предугадал без ошибки: «Мальчика» купил первый же клиент, к которому Бальдассаре обратился, — кардинал Риарио ди Сан Джордже, внучатый племянник папы Сикста Четвертого. Лоренцо высыпал в руки Микеланджело кучу золотых монет — тридцать флоринов. Однако Микеланджело полагал, что античный Купидон, проданный в Риме, даст ему по крайней мере сотню флоринов. Но даже и полученная сумма вдвое превышала то, на что можно было рассчитывать в самой Флоренции, где, пожалуй, и не нашлось бы ни одного покупателя: отряды Юношеской армии Савонаролы, врываясь в дома, силой отнимали у горожан все языческие изображения. Незадолго до великого поста Микеланджело встретил брата Джовансимоне: тот быстро шагал по Виа Ларга во главе шеренги юнцов в белых одеяниях — в руках у них были зеркала, шелковые и бархатные женские платья, картины, статуэтки и ларцы, инкрустированные драгоценными камнями. Микеланджело схватил брата за плечи, у того едва не выпала из рук ноша. — Джовансимоне! Я живу дома вот уже четыре месяца, а тебя не видал ни разу. Джовансимоне сжал свободной рукой руку брата и широко улыбнулся. — Знаешь, сейчас нет ни минутки поговорить с тобою. Приходи завтра вечером на Площадь Синьории. Приходи непременно. То грандиозное зрелище, которое было устроено на следующий вечер, не мог пропустить ни Микеланджело, ни любой другой флорентинец. Сразу с четырех концов города, шагая военным строем, в белых балахонах, на площадь Синьории выходила Юношеская армия — впереди шли барабанщики, трубачи и юноши с жезлами, у всех в руках были ветви оливы, и все, скандируя, кричали: «Да здравствует Христос, царь Флоренции! Да здравствует дева Мария, царица!» Здесь, прямо перед дворцом, было установлено громадное дерево. Вокруг этого дерева возвышался в виде пирамиды деревянный эшафот. Флорентинцы и жители близлежащих селений потоком шли и шли на площадь. Место вокруг эшафота было ограждено веревками, и его охраняли монахи Сан Марко, выстроившиеся цепью, рука в руке; тут же с видом повелителя стоял и Савонарола. Юноши в белых балахонах стали складывать вещи для костра. Сначала они кидали в кучу связки фальшивых волос, коробочки с румянами, духи, зеркала, рулоны французских шелков, шкатулки с бисером, серьгами, браслетами, модными пуговицами. Затем туда полетели принадлежности всяких забав и развлечений, дождем посыпались, взмывая и подпрыгивая в воздухе, колоды карт, стаканчики для игры в кости, шахматные доски вместе со всеми пешками и фигурами. Поверх этой огромной груды укладывали книги, переплетенные в кожу манускрипты, сотни рисунков, картин, все произведения античной скульптуры, какими только завладели удальцы из Юношеской армии. Потом туда стали швырять виолы, лютни и шарманки — их прекрасные формы и мерцающая лаком древесина придавали этой невообразимом сцене оттенок вакханалии, — затем пошли в ход маски, карнавальные наряды, резная слоновая кость и предметы восточного ремесла: перстни, броши и ожерелья, — летя на костер, они заманчиво поблескивали. Микеланджело увидел, как к костру пробился Боттичелли и кинул в него свои наброски с Симонетты. Затем подошел Фра Бартоломео со своими этюдами и монахи делла Роббиа: неистово размахивая руками, они бросали в общую кучу плод долгой своей работы — многоцветные терракотовые изваяния. Толпа отзывалась на это громкими криками, и было трудно понять, одобряет она жертвоприношение со страху или в порыве восторга. Следя за зрелищем, на башенном балконе стояли члены Синьории. Юношеская армия давно уже ходила из дома в дом, выискивая «произведения искусства, противоречащие вере», всяческие украшения и предметы роскоши, запрещенные законами. Если найденная добыча не удовлетворяла молодых людей, они выгоняли хозяев из дома, предавая его разграблению. Синьория не предприняла ничего, чтобы защитить город от этих «ангелов в белых рубашках». Савонарола вскинул вверх руки, требуя тишины. Монахи, ограждавшие эшафот, разомкнули живую цепь и тоже воздели руки к небу. На пустом пространстве появился некий монах с горящим факелом и тут же передал этот факел Савонароле. Тот поднял его высоко над собой и оглядел площадь. Затем он пошел вокруг приготовленной для огня пирамиды и, поднося факел то к одному месту, то к другому, поджег ее со всех сторон. И эшафот, и дерево, и вся груда сваленных вещей занялись плотным высоким пламенем. Юноши в белых балахонах строем двинулись вокруг костра и снова не то кричали, не то пели: «Да здравствует Христос! Да здравствует дева Мария!» Теснившаяся на площади толпа громко отвечала: «Да здравствует Христос! Да здравствует дева Мария!» У Микеланджело навертывались на глаза слезы. Он вытирал их, как ребенок, тыльной стороной ладони. Слезы текли, и, когда пламя костра взметнулось прямо к небу, а дикие крики и пение зазвучали еще громче, Микеланджело почувствовал, что слезы катятся у него по щекам и солью оседают на губах. Всей душой ему хотелось уехать куда-то далеко, как можно дальше от этого города!15
В июне к Микеланджело явился от Джованни Пополано грум и сказал, что тот просит его прийти во дворец и поговорить с одним знатным человеком из Рима, интересующимся скульптурой. Лео Бальони, гость Пополано, оказался очень общительным и говорливым блондином лет тридцати. Он сразу же предложил Микеланджело пройти в сад, в мастерскую. — Мои хозяева говорят, что вы превосходный скульптор. Можно посмотреть что-нибудь из ваших работ? — Здесь у меня ничего нет, кроме «Святого Иоанна». Он установлен прямо в саду. — А рисунки? Меня интересуют прежде всего рисунки. — В таком случае вы почти исключение среди знатоков искусства, синьор. Я буду тронут, если вы заглянете в мои папки. Лео Бальони перерыл сотни набросков. — Вы не оказали бы мне любезность нарисовать что-нибудь на этом листе, пусть очень простое? Руку младенца, например? Микеланджело мгновенно набросал несколько младенческих фигур в разных позах. Помолчав минуту, Бальони сказал: — Тут не может быть никаких сомнений. Вы — тот самый скульптор. — Какой тот самый? — Да тот, что изваял Купидона. — Ах, вот как! — Извините меня за ухищрения, но я послан во Флоренцию моим патроном, кардиналом Риарио ди Сан Джордже. Моя задача — разыскать скульптора, изваявшего Купидона. — Это я. Бальдассаре дель Миланезе передал мне за эту вещь тридцать флоринов. — Тридцать? Ведь кардинал заплатил ему двести… — Двести флоринов! Так почему… почему же этот вор… — Именно такое слово употребил кардинал, — встрепенулся Лео Бальони, и глаза его хитро блеснули. — Кардинал заподозрил с самого начала, что это обманщик. Что касается вас лично, то почему бы вам не поехать со мной в Рим? Вы можете там свести счеты с Бальдассаре. Я уверен, что кардинал с радостью окажет вам гостеприимство. Он говорил, что тот, кто способен на такую великолепную имитацию, в силах создать еще лучший оригинал. Микеланджело качал головой, ошеломленный подобным стечением обстоятельств, но уже твердо решил, что делать. — Я захвачу дома кое-что из платья, синьор, и мы тотчас можем ехать.Часть пятая «Рим»
1
Он стоял на возвышении к северу от города. Рим лежал внизу среди холмов, весь в развалинах, будто после нашествия вандалов. Лео Бальони размашисто повел рукой в воздухе, очерчивая стену папы Льва Четвертого и замок Святого Ангела. Снова сев на коней, они стали спускаться к Народным воротам, миновали могилу матери Нерона и въехали на небольшую площадь. Там валялись кучи отбросов, несло зловонием. По левую руку тянулся холм Пинчио, заросший виноградником. Улицы, по которым они проезжали, были узкие, со скверными мостовыми. Шум встречных карет, дребезжавших на неровных каменьях, был так силен, что Микеланджело едва улавливал слова Бальони: тот показал ему разрушенную гробницу императора Августа, подле которой теперь пасся скот, плоское Марсово поле близ Тибра, где жили самые бедные ремесленники — их мастерские ютились между античными дворцами, столь обветшалыми, что они, казалось, могли рухнуть в любую минуту. Большая часть зданий, которые проезжал Микеланджело, была разрушена. Среди обвалившихся камней бродили козы. Бальони объяснил, что в минувшем декабре разлился Тибр, жители укрылись на окрестных холмах, проведя там трое суток; наводнение причинило Риму немалый ущерб; в грязном, промозглом от сырости городе появилась чума, и каждое утро на острове посреди реки хоронили полторы сотни покойников. Микеланджело чувствовал, что ему становится дурно: Рим, праматерь христианства, оказался грудой развалин, запачканных пометом. Лошади то и дело спотыкались о валявшиеся трупы животных. Тут и там можно было видеть, как кто-то воровски разбирал стены, похищая камень и пережигая в кострах мраморные плиты и колонны на известь. Заметив перед собой в дорожной грязи какую-то античную статую, Микеланджело осторожно объехал ее; вокруг тянулись кварталы заброшенных жилищ, в трещинах стен зеленели ползучие растения. Огибая греческий храм, он увидел, что внутри его колоннады был устроен загон для свиней. Из подземного склепа, рядом с которым виднелись полузасыпанные землей колонны древнего форума, шел ужасающий запах: уже сотни лет многие поколения людей пользовались этим склепом как отхожим местом. Бальони и Микеланджело ехали теперь по лабиринту темных, извилистых улиц, столь узких, что по ним едва проходили две лошади бок о бок; затем перед путниками открылся театр Помпея — в его зияющих ямах и расщелинах гнездились обездоленные семьи римлян; но вот уже кони ступили на ровную землю Кампо деи Фиори, где Микеланджело ощутил первые признаки нормальной городской жизни: тут был рынок. Торговые ряды показались ему очень опрятными и привлекательными, женщины покупали здесь овощи и цветы, сыр, мясо и рыбу. Впервые с тех пор, как Микеланджело спустился с холмов в город, он взглянул на Бальони и слегка улыбнулся. — Что, страшно? — спросил Бальони. — Или интересно? — И то и другое вместе. Несколько раз я чуть было не повернул лошадь назад, чтобы скакать во Флоренцию. — Рим — в жалком состоянии. Посмотреть бы вам еще на паломников, которые идут сюда со всех концов Европы. Их всюду грабят, на улицах бьют и давят кавалькады принцев и богачей, в гостиницах кусают блохи, а в церквах у них отнимают последний динар. Лет шестьдесят назад Браччиолини писал: «Общественные и частные здания Рима запустели, они голы и искалечены, как члены поверженного гиганта. Рим — это разлагающийся труп». Папа Сикст Четвертый прилагал усилия, чтобы расширить улицы и отремонтировать кое-какие здания, но под властью Борджиа город запаршивел еще больше, чем во времена Браччиолини. А вот и мой дом… Дом Бальони стоял на углу квартала, окнами к рынку. Это был хорошо распланированный трехэтажный особняк. Комнаты в нем были невелики и скудно меблированы столами и стульями из орехового дерева, однако ковров всякого рода тут было множество; бросались в глаза резные буфеты, с позолоченными рамами зеркала, красный сафьян. Парусиновую сумку Микеланджело слуги унесли на третий этаж. Там же ему отвели и комнату: комната оказалась боковой и выходила окнами на рыночную площадь и огромный каменный дворец — его, по словам Бальони, только что отстроил кардинал Риарио, купивший Микеланджелова «Мальчика». В столовую, куда совсем не доносился шум с улицы, был подан превосходный обед. После обеда гость и хозяин пошли к кардиналу, в его старый дворец. Они вышли на площадь Навона, где когда-то высилась пена стадиона Домициана: там Микеланджело залюбовался великолепным мраморным торсом. Торс стоял, наполовину зарытый в землю, перед домом одного из Орсини, родственника Альфонсины, жены Пьеро. По мнению Бальони, торс был обломком статуи «Менелай, несущий тело Патрокла». Затем они оказались на площади Фьяметты, названной по имени любовницы Цезаря Борджиа, сына папы, и достигли дворца Риарио: дворец выходил на Виа Систина, рядом с самой опрятной римской гостиницей — Hostaria dell'Orso — гостиницей «Медведя». Бальони стал рассказывать Микеланджело о Рафаэле Риарио ди Сан Джордже. Внучатый племянник папы Сикста Четвертого, он был посвящен в кардиналы восемнадцати лет, еще студентом Пизанского университета. Юный кардинал ездил с визитом к Медичи во Флоренцию и находился в Соборе, близ алтаря, во время того молебствия, когда убийцы закололи Джулиано де Медичи и ранили Лоренцо. Хотя и сам Лоренцо, и все флорентинцы были убеждены, что папа Сикст и его племянник подстрекали Пацци убить обоих Медичи, Лоренцо сделал тогда вид, что он отнюдь не подозревает, будто кардинал участвовал в заговоре. Кардинал Риарио принял Микеланджело, окруженный множеством сундуков и ящиков со скульптурой; слуги перетаскивали эти ящики один за другим в соседнюю комнату. Риарио прочитал рекомендательное письмо Лоренцо Пополано и сказал несколько ласковых слов, поздравляя Микеланджело с приездом в Рим. — Ваш «Мальчик» — чудесное изваяние, Буонарроти, хотя это и не антик. Я полагаю, что вы можете высечь нам что-нибудь совершенно исключительное. — Благодарю вас, ваше преосвященство. — Я бы советовал вам пройтись сегодня после обеда и посмотреть наши лучшие мраморные изваяния. Начните с арки Домициана на Корсо, потом сходите к колонне Траяна, затем осмотрите коллекцию бронзы на Капитолии, начало которой положил мои дед Сикст Четвертый… Кардинал перечислил не менее двадцати скульптур в разных коллекциях и в разных частях города. Лео Бальони повел Микеланджело прежде всего к статуе речного божества Марфорио — это чудовищно громадное изваяние стояло на улице между Римским форумом и форумом Августа и в древности будто бы входило в убранство храма Марса. Отсюда они направились к колонне Траяна: особое восхищение вызвал у Микеланджело «Лев, пожирающий коня». Поднявшись на Квиринальский холм. Микеланджело был поражен размерами и грубой силой мраморных «Укротителей коней», высотой в семь с половиной аршин, а также божествами Нила и Тибра: Нил опирался на сфинкса, а Тибр лежал, прижимаясь к тигру. Лео Бальони утверждал, что эти скульптуры попали сюда из терм Константина. Тут же поблизости стояла изумительной красоты богиня, «возможно, Венера», как заметил Лео. Потом они направились к саду кардинала Ровере близ церкви Сан Пьеро ин Винколи. Лео рассказывал, что этот племянник Сикста Четвертого основал первую в Риме публичную библиотеку и музей бронзовых изваяний, собрал самую лучшую в Италии коллекцию античных мраморов и уговорил Сикста утвердить проект росписи стен в Сикстинской капелле фресками. Когда Микеланджело, сопровождаемый Лео, прошел через маленькие чугунные ворота в сад кардинала Ровере, у него перехватило дыхание: здесь стоял «Аполлон». Искалеченный, сохранивший только часть своего торса, он все же являл собой удивительнейшее изображение человека из всех, какие Микеланджело доводилось видеть. Пораженный не меньше, чем в тот день, когда Бертольдо впервые ввел его во дворец Медичи, Микеланджело бродил среди леса статуй, переводя взгляд от «Венеры» к «Антею», от «Антея» к «Меркурию». Он был так заворожен всем этим, что едва слышал Лео, объяснявшего ему, какая из скульптур была похищена в Греции, а какая куплена императором Андрианом и перевезена в Рим по морю. Если Флоренция — величайший город в мире по богатству создаваемого в нем искусства, то разве этот грязный, запущенный, пришедшим в крайний упадок город не богатейшая из сокровищниц искусства древнего мира? И как он, Микеланджело, был прав тогда, на ступенях флорентинского Собора, разговаривая с товарищами по мастерской Гирландайо: именно здесь, в Риме, мраморные изваяния были столь же живыми и столь же прекрасными, как и в те времена, когда они были созданы, две тысячи лет назад. — А теперь мы сходим к бронзовому «Марку Аврелию», у Латерана, — предложил Лео. — Затем, может быть… — Кончим на этом, прошу вас. Я и так весь дрожу. Мне надо укрыться в комнате и немного подумать, переварить все то, что я видел. Ужинать в этот вечер он не мог. Утром, в воскресенье, Лео повел его к службе в маленькую церковь Сан Лоренцо ин Дамазо, рядом с новым дворцом кардинала Риарио: на церковный двор с территории дворца можно было попасть через пробитый лаз в стене. Микеланджело вновь поразился, увидев вокруг себя множество колонн из мрамора и гранита. Он понял с первого взгляда, с каким мастерством они высечены. Ни одна колонна не повторяла другую, и у всех у них были различные капители. — Собраны без разбора со всего Рима, — сказал Лео. — Но большинство взято из разрушенного портика театра Помпея… Кардинал выразил желание, чтобы Микеланджело посетил его в новом дворце. Громадное каменное здание, вдвое больше дворца Медичи, было уже почти достроено, если не считать внутреннего дворика. Поднявшись по широкой лестнице, Микеланджело прошел через приемную, украшенную пышными занавесями и зеркалами в яшмовой оправе, через устланную восточными коврами, с резными ореховыми креслами, гостиную, через музыкальный зал с прекрасными клавикордами и, наконец, оказался в специальной комнате, где была собрана античная скульптура. В красной шапке и красном облачении здесь сидел кардинал; подле него стояли открытые ящики с мраморами, уложенными в опилки. — Ну, что ты думаешь, Буонарроти, о тех статуях, которые повидал? Можешь ты изваять что-нибудь столь же прекрасное? — Скорее всего, не могу. Но посмотрим, что у меня выйдет. — Мне нравится такой ответ, Буонарроти. Он говорит о твоем смирении. Микеланджело не испытывал чувства смирения, он хотел только сказать, что его скульптура будет отнюдь не похожа на все то, что он видел. — Что ж, не начать ли нам дело сейчас же? — продолжал Риарио. — Моя карета ждет нас. Поедем на камнебитный двор. Пока грум вез их по мосту Систо, через Сеттимианские ворота, направляясь к Трастеверским каменным складам, Микеланджело вглядывался в лицо своего нового покровителя. Про Риарио говорили, что он так был поражен убийством Джулиано Медичи, что навсегда остался с багровой физиономией. Микеланджело видел, что лицо у кардинала действительно было багрово. Но еще более багровым был его длинный крючковатый нос, нависший над тонкими, плотно сжатыми губами. На складах кардинал Риарио торопился и проявлял нетерпение. Микеланджело оглядывал лежащие там блоки и мучительно думал, какого же размера осмелиться попросить себе камень. Наконец он остановился перед белой каррарской колонной аршина три в длину и сорока восьми дюймов в поперечнике. Глаза его возбужденно блестели. Он уверял кардинала, что в этом обрубке колонны заключена чудесная статуя. Кардинал Риарио быстро вынул деньги из кошелька, висевшего у него на поясе, и отсчитал тридцать семь дукатов. На следующее утро Микеланджело, проснувшись с рассветом, пересек по Флорентинскому мосту Тибр и вышел в Трастевере — район, где жилища лепились друг к другу в страшной тесноте. Это были заповедные места гончаров, красильщиков, мукомолов, канатчиков, слесарей, рыбаков, лодочников, огородников — шумного и строптивого люда, ведущего свой род еще от древних римлян и гордого своими высокими стенами и своим Тибром, густо населенными кварталами, существовавшими без особых перемен уже сотни лет. Он шагал по узким кривым улочкам, глядя, как ремесленники работают в своих мастерских, почти лишенных света из-за нависающих верхних этажей, как жмутся друг к другу дома с крутыми крышами, на которых высились четырехугольные мрачные башни. Тут расхваливали свой товар бродячие торговцы, кричали и ссорились дети, на открытых лотках щедрые на брань женщины покупали свежую рыбу, сыры и мясо, всюду стоял несмолкаемый говор, всюду струился крепкий запах — сторонний человек чувствовал себя здесь совсем оглушенным. По Виа делла Лунгара Микеланджело вышел около больницы Санто Спирито за Ватиканскую стену и был теперь уже на складах. Здесь не видно было ни одной живой души. Слушая, как поют на разные голоса петухи, Микеланджело ждал, пока появится хозяин. — Что тебе надо? — угрюмо спросил тот, спросонья моргая красными глазами. — Мы ведь сказали, что привезем камень сегодня. А раз сказали, значит, сделаем. — Я понимаю, что привезете. Меня беспокоит другое — я думал помочь вам его погрузить. — Значит, по-твоему, мы не знаем, как грузить камень? — Хозяин был оскорблен до глубины души. — Мы возим камень по Риму не помню уже с каких времен — возили и деды и прадеды до пятого колена. Неужели же нам учиться своему ремеслу у какого-то флорентинца, мастера по статуям! — Я с детства работал в каменоломнях Майано. И прекрасно знаю, как орудовать ломом и вагой. — Выходит, каменотес, да? — сразу смягчился хозяин. — Ну, тогда другое дело. А мы, значит, добываем травертин. Гуффатти наша фамилия. Микеланджело проследил, достаточно ли насыпано под мрамор опилок и надежно ли он привязан к телеге: колеи на улицах были столь глубоки, что колесо входили в них по самую ступицу. Когда лошади тронули, он шагал сзади, бережно придерживая мрамор и каждую минуту молясь, чтобы дряхлая деревенская телега, служившая, вероятно, еще дедам и прадедам до пятого колена, вдруг не рассыпалась, уронив кладь посреди дороги. Подъехав ко дворцу, Гуффатти спросил: — А где сгружать? Микеланджело мгновенно вспомнил, что ему не сказали, где же он будет работать. Крикнув вознице, чтобы тот обождал минутку, он кинулся через двор на мраморную лестницу и вбежал в приемную. Тут он сразу столкнулся с одним из секретарей кардинала, подозрительно наблюдавшим, как некий мужлан в грязном рабочем платье врывается в торжественные покои самого нового в Риме дворца. — Мне надо сейчас же увидеть кардинала. Срочное дело. — Срочное для кардинала или для вас? Холодный тон секретаря немного отрезвил Микеланджело. — Я насчет мраморного блока… Мы вчера купили его… привезли, а места у меня нет… Он замолк, видя, что секретарь листает свои записи. — Его преосвященство не может заняться этим делом до следующей недели. Микеланджело раскрыл рот. — Но я… я не могу ждать. — Я переговорю с его преосвященством. Если угодно, справьтесь завтра. Микеланджело бегом сбежал вниз по ступеням, метнулся на улицу и, завернув за угол, был уже в доме Лео Бальони. Лео в это время брил цирюльник, и он сидел с белым полотенцем на плечах. Когда он понял, о чем говорит разгоряченный Микеланджело, глаза у него заиграли. Он велел цирюльнику обождать, скинул с плеч полотенце и поднялся с единственного в доме мягкого кресла. — Идем, я подыщу тебе место. Лео повел его в переулок за церковью Сан Лоренцо, к сараю, в котором рабочие, строившие дворец, оставляли на ночь свои инструменты. Микеланджело снял в сарае двери с петель. Лео пошел домой, где его ждал цирюльник, а подъехавший к сараю Гуффатти стал сгружать колонну. Микеланджело сидел на земляном полу сарая, обхватив колени руками, и смотрел на мрамор. «Хороший кусок, ничего не скажешь», — рассуждал он вслух, стараясь угадать, какую же тему предложит ему князь церкви для будущей статуи. Наверное, это будет религиозный сюжет. Но ведь кардинал любит и античную греческую и римскую скульптуру. Что же он все-таки придумает? Тем же вечером кардинал вызвал Микеланджело к себе. Он принял его в покое, лишенном всяких украшений и выглядевшем почти сурово. В углу, рядом с дверью, стоял небольшой аналой. Риарио был в строгой красной сутане и шапочке. — Ты теперь примешься за длительную работу, поэтому тебе лучше поселиться у меня во дворце. Комната для гостей в доме синьора Бальони нужна, вероятно, уже целой веренице его прекрасных дам. — На каких условиях я буду жить во дворце, ваше преосвященство? — Пусть тебе будет известно, что твой адрес — дворец кардинала Риарио. А теперь мы должны прекратить беседу. И ни единого слова о том, какую тему кардинал считал бы нужным взять для скульптуры. Или о том, сколько он заплатит за работу. Может быть, он будет выдавать ему в течение года определенное жалованье? Да, его адрес теперь — дворец кардинала, но не слишком ли мало ему сообщили? Скоро он узнал больше. Ему предстоит жить во дворце кардинала не на положении сына, как он жил во дворце Медичи, и не на правах друга, как он жил в доме Альдовранди в Болонье. Дворецкий указал ему узенькую комнатку в глубине первого этажа, где было с десяток подобных же комнат, — там-то Микеланджело и разместил свои пожитки. Когда подошло время ужинать, он увидел, что его направляют в столовую «третьего разряда», где питались кардинальские писцы, счетоводы, торговые агенты, смотрители кардинальских угодий, лесных участков и корабельных верфей, раскинутых по всей Италии. Кардинал Риарио дал понять совершенно ясно: Микеланджело Буонарроти должен жить в его дворце на положении одного из умелых мастеровых, слуг и наемников. Только так — ни на йоту больше и ни на йоту меньше.2
На следующий день спозаранок он пошел к Бальдассаре, торговцу скульптурой, который должен был возвратить ему двести дукатов, полученных от кардинала Риарио за изваяние «Мальчика». Бальдассаре оказался смуглым толстым мужчиной с тремя подбородками и огромным животом, который он выпятил вперед, выйдя откуда-то из глубины уставленного статуями двора, расположенного поблизости от форума Юлия Цезаря. Микеланджело не сразу увидел его, засмотревшись на мраморы, стоявшие на подмостках. — Я Микеланджело Буонарроти, скульптор из Флоренции. Бальдассаре произвел неприличный звук губами. — Я хочу, чтобы вы отдали мне моего «Мальчика». А я верну вам те тридцать флоринов, что вы мне прислали. — И не подумаю, — отрезал торговец. — Вы обманули меня. Ведь вы взялись выступить только посредником. А вы продали мрамор за двести дукатов и забрали себе сто семьдесят. — Наоборот, это вы обманули меня. Вы и ваш друг Пополано. Вы прислали мне фальшивый антик. Я мог лишиться покровительства кардинала. Кипя от злости, Микеланджело выскочил со двора и зашагал по Виа Санта. Он пересек улицу и задержался подле колонны Траяна: надо было чуть-чуть остынуть и успокоиться. — Бальдассаре, в конце концов, прав, — сказал себе Микеланджело и расхохотался. — Ведь смошенничал-то я! Я подделал «Мальчика» под античность! И тут он услышал, как кто-то спросил его из-за спины: — Микеланджело Буонарроти! Ты всегда разговариваешь вслух сам с собой? Обернувшись, Микеланджело увидел знакомца по Флоренции, юношу своих же лет: когда-то он был учеником при цехе менял и даже недолго работал на дядю Франческо в давние времена дядюшкиного процветания. Там, во Флоренции, они могли бы знать друг друга всю жизнь и никогда не сделаться друзьями, но здесь, в чужом городе, они радостно обнялись. — Бальдуччи! Что ты делаешь в Риме? — Служу в банке Якопо Галли старшим счетоводом. Самый тупой флорентинец проворнее самого ловкого римлянина. Вот почему я тут так быстро продвигаюсь. Ну, не пообедать ли нам вместе? Я сводил бы тебя в Тосканскую тратторию, в квартале флорентинцев. Не могу терпеть этой римской пищи. Давай поедим кулебяки и телятины, ты сразу почувствуешь себя как дома, словно перед твоими глазами наш Собор. — До обеда остается еще уйма времени. Сходим пока в Сикстинскую капеллу. Я хочу посмотреть, что за фрески написали там флорентинские мастера. Сикстинская капелла, строившаяся с 1473 по 1481 год, представляла собой громадное, с цилиндрическим сводом, здание: высокие окна были расположены в ней близко от потолка, под окнами вдоль стен тянулся огражденный решеткой узкий балкончик. Прямоугольник сводчатого плафона был расписан золотыми звездами, рассыпанными по голубому полю. К противоположной от входа стене примыкал алтарь; он отделялся от зала мраморной резной преградой работы Мино да Фьезоле. Отсутствие гармоничных пропорций в архитектуре капеллы искупалось величественным фризом: его панели шли по обеим стенам, подступая к алтарю, и были покрыты фресками. Микеланджело с волнением увидел фрески Гирландайо; он помнил, как в мастерской рисовали картоны к этим фрескам — «Воскресению» и «Призванью Петра и Андрея». Вновь он не мог не восхититься живописным мастерством своего давнего наставника. Потом Микеланджело прошел к «Тайной Вечере» Росселли — она показалась ему не столь уж аляповатой и кричащей, как утверждал Гирландайо, — и с жадностью вгляделся в «Моисея перед неопалимой купиной» Боттичелли. Затем он осмотрел фрески умбрийских мастеров — Перуджино, Пинтуриккио и Синьорелли. Расхаживая по капелле, Микеланджело чувствовал, что здесь, под этими тяжелыми, мрачноватыми сводами, создано величайшее собрание шедевров — истинная сокровищница, равной которой не было во всей Италии. Он понял, что фреска Перуджино «Христос передает ключи святому Петру» выдержит сравнение с любой из работ флорентинских художников, а большей похвалы Микеланджело не мог бы придумать. Как странно, сказал он, обращаясь к Бальдуччи, что вот эта, напоминающая пещеру, капелла, с ее тяжелым потолком, со скучной, пресной архитектурой, хуже которой он ничего не видел, — как странно, что такая капелла могла воодушевить художников на настоящий творческий подвиг! Но Бальдуччи не обращал внимания на фрески. — Идем же поскорей в тратторию, — твердил он. — Я голоден, как волк. За обедом Микеланджело узнал, что Торриджани находится в Риме. — Но ты, пожалуй, и не увидишь его, — говорил Бальдуччи. — Торриджани примазался к Борджиа, и поэтому флорентинцы его не принимают. Он исполняет лепные работы в башне дворца Борджиа и высекает бюст папы. Ему дают любые заказы, какие он захочет. Говорит, что собирается идти в армию Цезаря Борджиа и завоевывать Италию. В тот же вечер Бальдуччи пригласил Микеланджело в дом Паоло Ручеллаи, двоюродного брата флорентинского Ручеллаи и, следовательно, дальнего родственника самого Микеланджело. Ручеллаи жил в кварталах Понте, которые называли Малой Флоренцией. Здесь, сбившись вокруг дворца флорентинского консула и тосканских банков, замкнутой тесной общиной обитали оказавшиеся в Риме флорентинцы — тут у них были свои собственные рынки, где торговали тосканскими пирогами и кулебяками, тосканскими овощами и фруктами, мясом и сладостями. Завладев землей, флорентинцы построили здесь свою флорентинскую церковь и скупили все без остатка дома на Виа Канале, так что там уже не было ни одной крыши, под которой жил бы римлянин. Флорентинцы и римляне взаимно ненавидели друг друга. Римляне говорили: «Лучше покойник и доме, чем флорентинец на пороге». А флорентинцы, в свою очередь, нарочито расшифровывали римскую надпись S.P.Q.R. — «Римский сенат и народ» так: Sono Porci, Questi Romani. «Свиньи они — эти римляне». Кварталы флорентинцев в Поите охватывала широкая излучина реки, которую в самой середине пересекал Флорентинский мост — от него дорога шла прямо к Трастевере. У флорентинцев были великолепные дворцы и дома, тянувшиеся вдоль двух улиц, тут и там пестрели цветники и огороды. Блики флорентинцев стояли на Виа Канале, примыкая к Апостолическому дворцу — официальному банку Ватикана. На окраине флорентинской колонии, близ моста Святого Ангела, стояли дворцы Пацци и Альтовити. Вдоль берега реки тянулся открытый луг — тут тоже были разбросаны цветники и огороды. Когда разливался Тибр, как это случилось год назад, прибрежные луга превращались в озера. Вопреки всеобщей римской грязи и запустению, преуспевающие флорентинцы каждый день мыли по утрам свои улицы, заботливо чинили мостовые, заменяя булыжник ровными, гладкими плитами; они следили за тем, чтобы дома были в исправности и продавались или сдавались внаем только флорентинцам. В колонии непременно штрафовали всех, кто сваливал нечистоты на улице или сушил свое белье перед домом, а не с задней его стороны. По ночам порядок на улицах охраняла вооруженная стража: это был единственный район в городе, где жители могли выйти утром на крыльцо, не опасаясь споткнуться о мертвое тело. В гостиной Ручеллаи Микеланджело был представлен знатнейшим семьям общины — Торнабуони, Строцци, Пацци, Альтовити, Браччи, Оливиери Ранфредини и Кавальканти. Ко всем им у Микеланджело имелись рекомендательные письма. В Риме жили флорентинцы банкиры, купцы, ведшие торг шелком и шерстью, ювелиры, поставщики пшеницы, мастера серебряных и золотых дел, корабельщики и кораблестроители, владевшие оживленными причалами в Рипа Гранде и Рипетте, откуда суда с моря поднимались по Тибру, перевозя ткани и благовония с Ближнего Востока, вина и оливковое масло из Тосканы, мрамор из Каррары, лес с Адриатики. Многие спрашивали у Микеланджело: «Кто ваш отец?» И когда он отвечал: «Лодовико Буонарроти Симони», они удовлетворенно кивали: «Знаем такого» — и уже беседовали с Микеланджело как с равным. Ручеллаи сделал из своего римского дома чисто флорентинское жилище: выложенный светлым камнем камин в углублении стены, в столовой пол из керамических плиток, введенных в моду Лукой делла Роббиа, любимая флорентинцами инкрустированная мебель. Приветливому и обходительному красавцу Паоло Микеланджело даже не намекнул, что он тоже имеет касательство к роду Ручеллаи. Ведь Ручеллаи давно порвали всякие отношения с Буонарроти. А затронуть в разговоре столь щекотливое обстоятельство первым Микеланджело не позволяла гордость.Онустановил свой трехаршинный блок на брусья, оставив проход у стены, чтобы камень был доступен со всех сторон. С горечью раздумывая о том, что кардинал так и не определил темы изваяния, Микеланджело вдруг понял: он сам в первую очередь должен решить, какое именно изваяние надо высечь из кардинальской глыбы. Тогда уже не пришлось бы со смиренным видом спрашивать у Риарио: «Что я, по-вашему, должен изваять из этого мрамора, ваше преосвященство?» — Будь осторожен, — наставлял его Лео. — Пусть твой резец не притронется к глыбе, пока ты не получишь разрешения кардинала. Во всем, что касается его имущества, Риарио неумолим. — Разве я испорчу камень, если чуть-чуть обтешу у него углы и попытаю, на что он годится? Слушать предупреждения о том, чтобы, упаси Боже, не испортить вещь, принадлежащую покровителю, было унизительно: ведь он не поденщик, нанятый на черную работу! И все же Микеланджело обещал, что он не отколет от блока ни единого кристалла. — Ты можешь воспользоваться свободным временем с пользой для себя, — говорил ему Лео в утешение. — В Риме столько чудес — только смотри и учись! — Конечно, — вздыхал Микеланджело. К чему объяснять Лео, что его мучит желание взрезать этот мрамор сейчас же. И он переводил разговор на другое. — А можно нанять в Риме обнаженных натурщиков? У нас во Флоренции это не разрешается. — Мы, римляне, смотрим на все по-иному, — усмехнулся Лео. — Потому что мы чистые, высоконравственные люди. А вот вы, флорентинцы… — И он хохотал, вгоняя Микеланджело в краску. — А почему мы такие нравственные? Я думаю, потому, что никогда не болели греческой болезнью, которой прославлены или скорей обесславлены флорентинцы. У нас в Риме мужчины ведут свои дела, заключают политические союзы, женятся, и все это не мешает им развлекаться и отдыхать, даже раздеваясь донага. — Можешь ты достать мне натурщиков? — Скажи только, каких? — Всяких. Малорослых и долговязых, костлявых и жирных, молодых и старых, смуглых и белокожих, работяг и бездельников… Микеланджело поставил в сарае невысокую ширму, чтобы создать некое укрытие. На следующее утро к нему явился первый посланец Лео — плотный, плечистый бондарь средних лет. Он скинул свою пропахшую потом рубаху, снял сандалии и свободно расхаживал за ширмой, пока Микеланджело придумывал для него наивыгоднейшую позу. Теперь каждый день с восходом солнца Микеланджело направлялся в свою мастерскую, раскладывал на столе бумагу, мел, чернила, уголь, цветные карандаши, совсем не зная, какой сюрприз ему приготовлен: придет ли на этот раз корсиканец из личной охраны папы или немец-печатник, француз, изготовляющий духи и перчатки, булочник, родом с Рейна или Одера, испанец, промышлявший продажей книг, плотник-ломбардец, работающий на Марсовом поле, далматинский корабельщик, грек, копиист живописных произведений, португалец — сундучный мастер с Виа деи Бауллари, или ювелир из лавки близ Сан Джордже. Иногда это были люди с великолепным телосложением, и Микеланджело рисовал их фигуры то спереди, то со спины в спокойном состоянии, потом он заставлял натурщика напрячь мышцы, в повороте, двинуть плечом, поднять руку или ногу, согнуться, имитировать толчок, размашистый удар зубилом, палкой или камнем. Но чаще фигура натурщика оказывалась неинтересной, тогда Микеланджело брал отдельно мускулы плеч, очертания черепа, оплетенную жилами, твердую, как железо, икру ноги, емкую, круглую грудь; привлекшую его внимание деталь он рисовал целый день, делая набросок за наброском, все время под новым углом, в новых поворотах. Годы усердного учения давали себя знать теперь с особой силой. Ночи, проведенные за вскрытием трупов, сделали его руку уверенной, рисунок Микеланджело обрел внутреннюю достоверность, изменился самый подход его к натуре. Даже видавший виды Лео не мог скрыть своего изумления перед напряженной динамичностью Микеланджеловых фигур. — Каждое утро ты начинаешь рисовать новую модель так, будто идешь навстречу какому-то удивительному приключению. Неужто тебе не надоедает рисовать снова и снова одно и то же — голову, руки, грудь, ноги?.. — Помилуй, Лео, да ведь они всегда разные! Каждая рука, нога, шея, бедро — все они неповторимы, особенные, единственные на свете. Запомни, дружище, что в мужской фигуре можно найти все формы, какими только Господь одарил вселенную. Тело и лицо человека способны сказать о нем все. Так разве же мне надоест вглядываться в человека и рисовать его? Нет, никогда! Жар, с которым говорил Микеланджело, забавлял Бальони. Он взглянул на ворох рисунков, разбросанных по столу, и с недоверием покачал головой. — Ну, а как показать тайные свойства человека? Мы, римляне, склонны скорее скрывать свое истинное нутро, а не обнаруживать его. — Это уж зависит от скульптора: насколько глубоко он способен проникнуть сквозь внешнюю оболочку. Всякий раз, когда я берусь за работу, я говорю мысленно: «А ну-ка, покажи без утайки, кто ты есть, предстань перед миром наг, словно новорожденный». Задумавшись на минуту, Лео сказал: — Выходит, скульптура для тебя — прежде всего проникновение. Микеланджело застенчиво улыбнулся. — Разве это не относится ко всем художникам? Каждый человек видит истину через печную трубу в своем жилище. Когда я наблюдаю нового человека, вижу его тело, я чувствую то же самое, что чувствует астроном, открывая новую звезду: в общее здание вселенной входит еще одна ее частица, еще один кирпич. Если бы я мог нарисовать каждого мужчину, какие есть на свете, тогда, возможно, я познал бы всю правду о человеке. — Ну, что ж, — отозвался Лео. — Могу предложить тебе сходить со мной в бани. Там ты нарисуешь целую сотню мужчин за один сеанс. Он повел Микеланджело к руинам грандиозных античных терм Каракаллы, Траяна, Константина, Диоклетиана, объясняя ему, что римляне древних времен смотрели на бани как на клуб, место постоянных встреч, и проводили в них послеобеденное время с юных лет до старости. — Ты, наверное, слышал изречение, приписываемое Цезарю: «Дайте народу хлеба и зрелищ!» Кое-кто из императоров полагал, что столь же важно дать народу и воду. Эти императоры считали, что их популярность в народе зависит от того, насколько хорошо оборудованы публичные бани. Теперь, когда бани в Риме содержались только для барыша, в них не было уже ни той пышности, ни красоты, какие бывали в банях в древности, но все же там имелись бассейны для плавания, парные, комнаты для массажа и дворики, где клиенты могли развлечься, обмениваясь новостями, и куда заглядывали музыканты, фокусники и бродячие торговцы съестным; там же молодые люди могли поиграть в мяч. В бане на площади Скоссакавалли к Лео давно привыкли: эта баня принадлежала кардиналу Риарио. Приняв горячую ванну и потом выкупавшись в прохладном бассейне, Лео и Микеланджело присаживались в зале на задней скамье; зал был полон народа; люди группами сидели, стояли, прогуливались, споря между собой, со смехом рассказывали анекдоты; Микеланджело лихорадочно набрасывал на бумаге сцену за сценой, они превосходно компоновались как бы сами собой — так хорошо был виден с этой скамьи весь зал, так четко рисовались формы самых разных по телосложению людей. — Я никогда не видел ничего подобного. Во Флоренции публичные бани существуют только для бедняков. — Я всем, буду говорить, что ты приехал в Рим по приглашению кардинала. Тогда тебе позволят рисовать в банях сколько захочется. Лео водил Микеланджело и еще во многие бани — в бани при гостиницах, монастырях, старинных дворцах, в баню на Виа деи Пастини, и баню Сант Анжело в Пескериа. Там Лео знакомил Микеланджело со всеми, кто потом принял бы его здесь уже одного, без провожатого. И вот Микеланджело снова и снова с жадным любопытством следил, как играет свет на голых телах, как окрашивают их своим отблеском цветные стены, как лучится на коже вода и солнце. Глядя на все это, он каждый раз находил для себя нечто новое, какую-то доселе неведомую ему истину, и тут же старался выразить ее в простой и смелой линии, начертанной карандашом. Но никогда Микеланджело не мог привыкнуть рисовать, будучи сам раздетым. «Эх ты, флорентинец!» — сетовал он на себя, бормоча сквозь зубы. Как-то вечером Лео спросил у Микеланджело, не желает ли он рисовать женщин. — У нас в городе есть несколько бань, куда ходят мужчины и женщины. Содержат эти бани проститутки, но посетители там вполне порядочные. — Женские формы меня не интересуют. — Значит, ты вычеркиваешь из существующих в мире фигур почти половину. — Да, пожалуй. — И они оба рассмеялись. — Но я считаю, что вся красота, вся телесная мощь заключена в мужчине. Погляди на него, когда он в движении, когда он прыгает, борется, кидает копье, пашет, вздымает ношу: вся мускулатура, все сочленения, принимающие на себя натугу и тяжесть, распределены у него с необыкновенной соразмерностью. А что касается женщины, то, на мой взгляд, она может быть прекрасной и волнующей только в состоянии абсолютного покоя. — Ты просто не видел ее в нужном положении… Микеланджело улыбнулся: — Нет, видел. Я считаю ее прекрасной для любви, но не для скульптуры.
3
Он не любил Рим как город, но, по существу, Рим не был единым городом, а множеством городов — был Рим немецкий, французский, португальский, греческий, корсиканский, сицилийский, арабский, левантинский, еврейский, — каждый из них располагался на своей территории и терпел вторжение чужаков в свою общину не больше, чем римские флорентинцы. Бальдуччи говорил ему: «Эти римляне — гадкое племя. Или, вернее сказать, сотня гадких племен». Микеланджело убедился, что его окружает разношерстное сборище людей, которые по-разному одеваются, говорят на разных языках, едят разную пищу и поклоняются разным кумирам. Любой встречный в городе, казалось, вел свое происхождение откуда-то извне и призывал на Рим чуму, сифилис и прочие напасти, кляня его за развалины, наводнения, эпидемии, бесчинства, грязь и всеобщую продажность. Поскольку в Риме не было настоящей власти, не было законов, судов и советов, защищающих права жителей, каждая община налаживала самоуправление, как могла. Тибр являлся своеобразным кладбищем, где хоронили следы преступлений: утром на рассвете в его волнах то и дело всплывали, колыхаясь, трупы. Ни о справедливом распределении богатств, ни о равном для всех правосудии, ни о содействии искусству здесь не могло быть и речи. Часами разгуливая по Риму, Микеланджело ощутил всю меру его запустения: под защитой просторных стен города во времена империи тут жило миллионное население, а теперь оно не насчитывало и семидесяти тысяч. Всюду в городе виднелись руины и заброшенные, мертвые жилища. Даже в самых населенных районах не было квартала, где между домами не зияли бы темные провалы, напоминавшие щербины во рту дряхлой старухи. Строения тут были возведены из совершенно разного, до безобразия пестрого материала — в ход шел и грубый, похожий по цвету на навоз, кирпич, и черный туф, и красно-коричневый травертин, и блоки серого гранита, и похищенный из древних зданий розовый и зеленый мрамор. Манеры у римлян были отвратительны: люди ели прямо на улицах; даже состоятельные по виду женщины, выходя из булочной, жевали на ходу свежие, посыпанные сахарной пудрой слойки, с охотой ели у крестьянских возов и уличных жаровен горячий рубец и другую неприхотливую пищу; пообедать среди толпы, под открытым небом, никто не считал зазорным. Жители не гордились своим городом, не желали украсить его или позаботиться об элементарных удобствах. Беседуя с Микеланджело, они говорили: «Рим — не город, Рим — это церковь. Мы не властны навести тут порядок или что-либо изменить». Когда Микеланджело спрашивал, зачем они живут в таком городе, ответ был один: «Потому что здесь можно заработать денег». Во всей Европе Рим считался самым неопрятным, отталкивающим городом. Микеланджело видел этот разительный контраст между Римом и безупречно чистой Флоренцией, охваченной кольцом своих прочных стен. При мысли об однородном, быстро растущем и не знающем нищеты населении Флоренции, о ее республиканских порядках, процветающих архитектуре и искусстве, о ревностной гордости своими традициями, о том почтении со стороны всей Европы, которое вызывали успехи флорентинцев в просвещении и правосудии, картины римской разрухи и упадка вызывали у Микеланджело мучительное чувство. Еще мучительней для его сердца было видеть эту ужасающую по грубости каменную кладку зданий, мимо которых он ежедневно проходил. Идя по улицам Флоренции, он не мог удержаться от искушения провести ладонью по прекрасно высеченным и пригнанным блокам флорентинского светлого камня. А здесь, в Риме, он буквально содрогался, когда его искушенный глаз замечал шершавые, неловкие следы резца, израненную постыдными щербинами плоскость, перекошенные грани. Таким камнем флорентинцы не стали бы покрывать даже мостовые! Микеланджело стоял на площади Пантеона, около лесов возводимого здания; строительные подмостки из деревянных стоек и железных труб рабочие связывали здесь кожаными ремнями. Клали стену; грани и плоскости огромных блоков травертина били неровные, с изъянами, так как строители явно не умели раскалывать камень. Микеланджело подхватил кувалду, повернулся к десятнику и сказал: — Разрешаешь? — А что разрешать? Микеланджело постучал по краю глыбы, нащупывая линию, где камень расслаивался в продольном направлении, и властным быстрым ударом расколол его надвое. Взяв молоток и зубило у одного из рабочих, он обтесал и выровнял два полученных блока и мерными, с оттяжкой, ударами стал отделывать плоскости, пока камень не изменил и цвет и форму и не засиял под его руками. Он поднял голову и увидел настороженные, враждебные взгляды. Пожилой каменщик проворчал: — Это адская работа, человеку она не по силам. Ты думаешь, мы тесали бы здесь камень, будь у нас иной кусок хлеба? Извинившись за непрошеное вмешательство, Микеланджело зашагал по Виа Пелличчариа: он чувствовал, что свалял дурака. Но разве флорентинский каменщик не считает, что обработать блок — это значит как-то выразить себя, свою индивидуальность? Даже друзья ценили каменщика в зависимости от того, насколько искусен и изобретателен он, придавая блоку печать своего характера. Работа с камнем всегда считалась самым уважаемым, самым почетным ремеслом — тут сказывалось древнее, первобытное убеждение, что человек и камень родственны друг другу по природе. Возвратясь во дворец, Микеланджело получил записку: Паоло Ручеллаи приглашал его на прием в честь Пьеро де Медичи и кардинала Джованни де Медичи — Пьеро приехал в Рим, чтобы набрать себе войско, а кардинал жил здесь постоянно, занимая небольшой особняк близ Виа Флорида. Микеланджело был тронут тем, что о нем вспомнили; приятно было хоть на время покинуть постылую каморку и столовую в кардинальском дворце и вновь встретиться с Медичи. В субботу, в одиннадцать часов утра, побрившись и причесав спадавшие крутыми завитками на лоб волосы, Микеланджело услышал звуки труб и выбежал на улицу: тут он наконец увидел папу — того самого Борджиа, которого боялись Медичи и на которого с таким ожесточением нападал Савонарола. Впереди процессии, с поднятым крестом, ехали, все в красном, кардинал и сам папа Александр Шестой, он же Испанец Родриго Борджиа, в белых одеяниях и в белой, сверкающей жемчугами епитрахили, сидел на белом коне, покрытом белым чепраком; кавалькада двигалась по Кампо деи Фиори, направляясь в францисканский монастырь в Трастевере; ее замыкали несколько князей церкви в пурпурных мантиях. Александру Шестому исполнилось шестьдесят четыре года; это был смуглый мужчина могучего сложения, тучный, широкой кости, с изогнутым широким носом и мясистыми щеками. Хотя его называли в Риме чаще всего актером, у него было много и других прозвищ — прилипший к нему эпитет «необыкновенный наглец» знали все горожане. В бытность свою кардиналом Родриго Борджиа прославился тем, что завладел таким количеством красивых женщин и такими богатствами, каких еще не было ни у одного кардинала. В 1460 году Родриго Борджиа получил нагоняй от папы Пия Второго за «неподобающую галантность»: такими словами папа намекал на его шестерых, только известных, детей, родившихся от разных женщин. Трое из этих детей были любимцами Борджиа: Хуан, завзятый повеса и мот, соривший деньгами, выжатыми отцом из римского духовенства и баронов; Цезарь, сластолюбивый красавец, садист и воин, про которого говорили, что он усеял Тибр трупами, и прекрасная Лукреция, вызывающая в городе ропот своими любовными связями в промежутках между браками, число которых все возрастало. Высокие стены Ватикана охраняла трехтысячная вооруженная стража, однако в Риме сложилась такая система передачи новостей, что все случившееся за стенами быстро становилось известным на семи городских холмах. Но если в папских покоях происходило что-то хорошее, город об этом молчал, будто ничего не зная. Дождавшись, когда папская процессия скрылась из виду, Микеланджело пошел по Виа Флорида в Понте. Он явился к Паоло Ручеллаи слишком рано, и тот принял его у себя в кабинете, отделанном темными деревянными панелями. Здесь было немало прекрасно переплетенных манускриптов, мраморные барельефы, картины, писанные масляными красками на деревянных досках, резной флорентинский письменный стол и кожаные кресла. Паоло был удивительно похож на флорентинского Бернардо Ручеллаи: те же крупные, правильные черты лица, выразительные большие глаза, белая кожа — Микеланджело с грустью подумал, что сам он от материнского рода ничего такого не унаследовал. — Мы, флорентинцы, живем здесь дружной общиной, совсем особняком, — говорил Паоло. — Как ты убедился, в нашей колонии свое управление, своя казна, свои законы… и свои средства принуждения, чтобы эти законы исполнялись. Иначе мы погибли бы в здешнем болоте. Если тебе будет нужна помощь, обращайся к нам. Никогда не проси ее у римлян. Римляне в любом деле ищут для себя наживы: это у них считается честностью. За обедом Микеланджело снова встретил почти всю флорентинскую колонию. Он поклонился Пьеро; тот, не забыв ссоры в Болонье, держался с ним холодно. Кардинал Джованни — папа его преследовал и отстранил почти от всех церковных дел — явно обрадовался, увидя Микеланджело, но Джулио был крайне сух. Микеланджело узнал, что Контессина родила мальчика, Луиджи, и вновь была беременна. Когда Микеланджело стал расспрашивать, не в Риме ли Джулиано, Джованни ответил: — Джулиано теперь при дворе Елизаветы Гонзага и Гвидобальдо Монтефельтро в Урбино. Он хочет завершить там свое образование. Двор в герцогстве Урбино, расположенном в Апеннинских горах, был один из самых просвещенных дворов в Италии. Микеланджело подумал, что Джулиано будет там хорошо. Тридцать флорентинцев уселись за обеденный стол и начали трапезу с каннелони, толстых макарон, начиненных мелко изрубленной говядиной и грибами; потом была подана телятина, спаренная в молоке, и зеленая нежная фасоль. Гости пили вино броглио и оживленно беседовали. Своего общего врага они в разговорах ни разу не назвали ни папой, ни Александром Шестым; для него здесь существовало единственное имя — Борджиа. Флорентинцы как бы подчеркивали этим свою почтительность к папскому престолу и выражали крайнее презрение к авантюристу-испанцу, который вследствие стечения прискорбных обстоятельств захватил власть в Ватикане и правил там, как говорил Кавальканти, руководствуясь девизом: «Все богатства христианского мира принадлежат папству. И мы должны получить их в свои руки!». Папа, в свою очередь, тоже не привечал флорентинцев. Он прекрасно знал, что флорентинцы ненавидят его, но зависел от их банков, от их торговли, охватывавшей весь мир, от тех огромных налогов, которые они платили, ввозя в Рим товары, — словом, от их неиссякаемых и надежных денежных средств. В отличие от римских баронов флорентинцы не боролись открыто, не воевали с папой, а только молились в страстной надежде на его падение. По этой причине они поддерживали Савонаролу, обличающего папу, и считали теперь, что приезд Пьеро в Рим путает им карты. Попивая портвейн, гости затосковали о Флоренции и стали говорить о ней таким тоном, словно бы сидели в нескольких минутах ходьбы от площади Синьории. Микеланджело только и ждал этой минуты. — А скажите мне, как в Риме обстоит дело с заказами? — спросил он. — Ведь папы всегда приглашали к себе художников и скульпторов. — Борджиа вызвал из Перуджии Пинтуриккио и заставил его украшать свои апартаменты в Ватикане, — сказал Кавальканти, — Пинтуриккио украсил еще несколько помещений в замке Святого Ангела. В прошлом году он закончил работу и уехал из Рима. Перуджино расписал фресками гостиную у Борджиа и башню в папском дворце и тоже теперь уехал. — А как насчет работы по мрамору? — Самый уважаемый скульптор в Риме — мой друг Андреа Бреньо. У него здесь, пожалуй, монополия на надгробные изваяния. Он содержит большую мастерскую, у него много учеников. — Мне хотелось бы с ним познакомиться. — Ты увидишь, что это одаренный человек и большой труженик. Он украсил множество церквей. Я предупрежу Андреа, что ты к нему наведаешься.Бальдуччи разделял отвращение своих земляков к Риму, но была в здешней жизни сторона, которая его восхищала: наличие семи тысяч публичных женщин, собранных со всего света. В первое же воскресенье после памятного обеда в Тосканской траттории Бальдуччи увлек Микеланджело бродить по городу. Римские площади, фонтаны, форумы, триумфальные арки и храмы Бальдуччи знал не по их историческому прошлому, а по национальной принадлежности гулящих женщин, которые там обосновались. Шагая по площадям и переулкам, друзья заглядывали в лица встречных женщин и старались оценить скрытые под длинными платьями фигуры: дотошно разбитая достоинства и недостатки каждой, Бальдуччи так и сыпал словами. Надушенные, украшенные драгоценностями римлянки, появляясь на улицах с попугаем или обезьянкой на плече, в сопровождении сверкавших черной кожей слуг, надменно смотрели на блудных иностранок — на испанских девушек, с черными как смоль косами и большими ясными глазами, на гречанок в белых, перехваченных в талии платьях, на смуглых египтянок в капюшонах, спадающих с плеч, на синеглазых белокурых северянок с цветами, вплетенными в косы, на черноволосых турчанок, робко выглядывавших из-под вуали, на закутанных в цветистые шелка девушек Востока, глаза которых напоминали ягоды терма… — Никогда не беру второй раз одну и ту же девушку, — объяснял Бальдуччи. — Я люблю разнообразие, контрасты, — чтобы был другой цвет кожи, другие формы, все другое. Это меня и увлекает: я будто пускаюсь в путешествие по всему миру. — Ну, а разве ты можешь поручиться, Бальдуччи, что первая девушка, которая пройдет мимо тебя, не есть самая интересная из всех, что встретятся за день? — Мой невинный друг, я тебе отвечу, что весь интерес — в самом преследовании, в охоте. Поэтому-то я и не тороплюсь, порой брожу до позднего вечера. Разнообразна только внешность — рост, очертания тела, манеры. А соитие? Да оно всегда одинаково, почти что одинаково. Эта рутина. Только поиски, только охота и привлекает. Микеланджело все-это лишь забавляло. Его опыт с Клариссой не породил в нем ни малейшего желания симулировать любовь с какой-то наемной, взятой на улице женщиной; его влекло только к Клариссе. — Я обожду, пока не встречу нечто другое… что уведет меня от рутины. — Любовь? — В каком-то роде. — Боже, да ты праведник! Вот уж не думал: художник — и такое почтение к безгрешности. — Я берегу свою греховность для скульптуры. Он мог жить без работы по камню только потому, что все время думал о ней и рисовал для нее. Но дни шли неделя за неделей, а от кардинала Риарио не было никаких повелений. Несколько раз Микеланджело ходил к секретарям, прося свидания с кардиналом, но секретари выпроваживали его без лишних слов. Он понимал, что кардинал занят: ведь это был, как говорили, самый богатый после папы человек в Европе, он правил такой обширной банковской и торговой империей, какая была разве только у Лоренцо де Медичи. Микеланджело не удавалось увидеть кардинала даже на церковных службах, но тут ему вызвался помочь Лео, уверив, что кардинал ранним утром часто бывает в дворцовой капелле. В конце концов Лео добился того, что был назначен день свидания. Микеланджело притащил с собой целую папку рисунков. Кардинал Риарио, по всем признакам, был рад видеть Микеланджело, хотя слегка удивился, что тот все еще в Риме. Он сидел в своем кабинете, окруженный бухгалтерскими книгами, счетоводами и писцами, с которыми Микеланджело несколько раз в неделю обедал, но отнюдь не дружил. Писцы и счетоводы стояли за высокими конторками и ни на минуту не отрывались от своей работы. Когда Микеланджело спросил кардинала, решил ли он, что следует высечь из трехаршинного мраморного блока, Риарио ответил: — Мы подумаем об этом. Всему свое время. А пока не забывай, Буонарроти, что Рим — превосходное место для молодого человека. На свете нет таких удовольствий, какие нельзя было бы найти в Риме. А теперь ты должен извинить нас; прощай. Опустив голову, Микеланджело медленно сошел по лестнице, выйдя на недостроенный дворик. Было ясно, что он оказался в Риме точно в таком же положении, в каком был при Пьеро Медичи: приютив человека под своей крышей, эти господа довольны собой и считают, что мера их благодеяний исчерпана до конца. Придя к себе в комнату, Микеланджело столкнулся с мрачной фигурой в черной сутане, из-под которой выглядывал белый подрясник; впалые, исстрадавшиеся глаза пришельца говорили о долгом голоде. — Лионардо! Что ты делаешь в Риме? Как там у нас дома? — Никого из домашних я не видел, — холодно сказал Лионардо. — Савонарола послал меня с поручением в Ареццо и Перуджию. Теперь я еду в Витербо — усмирять тамошних монахов. — Когда ты ел в последний раз? — Дай мне флорин, мне надо добраться до Витербо. Микеланджело порылся в кошельке и протянул Лионардо золотую монету. Тот взял ее с тем же холодным видом. — Может, ты скажешь спасибо? — спросил Микеланджело, чувствуя себя уязвленным. — За деньги, которые ты дал Господу Богу? Ты помог ему в его трудах. А за это ты обретешь возможность спасения. Еще не изгладился неприятный осадок от встречи с Лионардо, как Микеланджело получил письмо от отца — его привез почтовый курьер, каждую неделю ездивший во Флоренцию. В полной растерянности отец писал, что он сильно задолжал поставщику шелка и бархата и тот грозит передать дело в суд. Микеланджело вертел в руках письмо, стараясь отыскать между строками о здоровье мачехи, братьев, тети и дяди хотя бы намек на то, сколько же отец должен выплатить торговцу и каким образом накопился этот долг за шелка и бархат. Но такого намека в письме не было. В нем звучала только мольба: «Пришли мне денег». До сих пор Микеланджело стремился получить твердый заказ от кардинала потому, что его снедало желание работать. Теперь его подталкивала к этому и забота о деньгах. А ведь он совершенно не знал, сколько же заплатит ему Риарио за будущую скульптуру. — Ну как его преосвященство может назначить тебе какую-то сумму, — с раздражением отвечал на расспросы Микеланджело Лео, — если он не представляет себе, что ты намерен изваять и что у тебя получится? Микеланджело был обеспечен материалами для рисования, бесплатно питался и жил во дворце, но та горсть флоринов, которую он сберег от полученных у Пополано денег за «Святого Иоанна», уже разошлась. Он несколько раз в неделю обедал с Бальдуччи в Тосканской траттории, купил рубашки и пару чулок, чтобы приличнее выглядеть в домах флорентинцев, и в предвидении зимы обзавелся теплым платьем. Пришлось тронуть и тридцать флоринов, отложенных на выкуп в Риме статуи «Мальчика». Кошелек Микеланджело тощал, а деньги от кардинала могли быть получены, очевидно, лишь после завершения скульптуры, на что ушло бы много месяцев. Он пересчитал свою наличность. Всего у него оставалось теперь двадцать шесть флоринов. Тринадцать флоринов он тотчас же отнес в банк Якопо Галли, попросив Бальдуччи послать чек агенту этого банка во Флоренции. Затем, вернувшись в мастерскую, он сел и крепко задумался: надо было наметить такую тему изваяния, которая побудила бы Риарио без задержки утвердить ее. Не в силах угадать, предпочтет ли кардинал религиозный сюжет или античный, Микеланджело надумал разработать сразу и тот и другой. Через месяц у него уже была готова восковая фигура Аполлона — его образ возник под влиянием могучего торса, который стоял в саду кардинала Ровере, и «Оплакивание Христа» — вариант старой работы «Богородица с Младенцем»: только Христос здесь был изображен уже не в начале, а в конце своего земного пути. Он написал кардиналу письмо, извещая его, что приготовил две модели, — пусть его преосвященство сделает выбор. Ответа не последовало. Микеланджело написал снова, прося на этот раз свидания. Опять никакого ответа. Он пошел к Лео, застал своего друга за ужином с какой-то красавицей и был решительно выпровожен из дома. Наутро Лео явился к Микеланджело в мастерскую, как всегда, изысканно вежливый и обещал поговорить с Риарио. Шли дни и недели, Микеланджело сидел в мастерской и смотрел на мрамор, горя от нетерпения приняться за дело. — Почему кардинал меня не принимает? — накидывался он на Лео. — Ведь, чтобы выбрать из двух предложенных моделей одну, ему достаточно минуты! — У кардинала нет привычки объяснять, почему он кого-то принимает или не принимает, — отвечал Лео. — Терпение! — Моя жизнь уходит, с каждым днем она все короче, — жаловался Микеланджело. — Неужто она дана мне лишь для того, чтобы я сам окаменел и превратился в статую. Тогда ты вправе будешь назвать ее — «Терпение»!
4
Он так и не добился свидания с кардиналом, Лео рассказывал, что Риарио одолевают заботы и связи с тем, что его корабли, плывущие с Востока, запаздывали, и поэтому он «потерял всякий аппетит к искусству». По словам Лео, Микеланджело оставалось только молиться, чтобы корабли кардинала поскорее появились на Тибре… Снедаемый страстью к скульптуре, Микеланджело пошел к Андреа Бреньо. Бреньо, еще крепкий семидесятипятилетний старик, был выходцем из Северной Италии, с берегов Комо. Мастерская его помещалась при древнем дворце, в бывшей конюшне: убрав оттуда перегородки и расставив скамьи и верстаки, он оборудовал удобное для работы место — здесь возникала самая оживленная скульптурная мастерская во всем Риме, а самого мастера окружили ученики, набранные из северных областей страны. Прежде чем отправиться в мастерскую, Микеланджело решил осмотреть работы Бреньо — алтари и саркофаги в церкви Санта Мария дель Пополо и Санта Мария сопра Минерва. Бреньо оказался плодовитым скульптором, у него был хороший вкус, тонкое проникновение в классическое искусство, и он создавал прекрасные декоративные рельефы. Однако воображения у него было не больше, чем у кошки; он не мог привнести в работу никакой творческой выдумки, не умел вдохнуть в изваяние жизнь, найдя свежий подход к объемам, глубине, перспективе. Молотком и резцом он владел превосходно, но был неспособен высечь что-либо такое, чего бы не видел раньше в чужих изваяниях. Когда ему надо было разработать новую тему, он обращался к древнеримским надгробьям, искал в них для себя образцы. Бреньо принял Микеланджело радушно и был особенно тронут, когда узнал, что Микеланджело вырос в Сеттиньяно. Двигался и говорил старик очень порывисто, лишь густая сеть морщин на лице и похожая на пергамент кожа выдавала его возраст. — Я высекал гробницу по заказу Риарио вместе с Мино да Фьезоле. Это был чудесный ваятель, прекрасно делал херувимов. Поскольку вы из тех же мест, вы, наверное, скульптор не хуже Мино? — Может быть. — У меня постоянно работают помощники. Я только что кончил раку для церкви Санта Мария делла Кверча в Витербо. На очереди у нас вот этот памятник Савелли для церкви Санта Мария в Арачели. В юности я был учеником у серебряных дел мастера, поэтому мы работаем не спеша и все же не запаздываем: я в точности, минута в минуту, знаю, сколько времени потребуется, чтобы высечь тот или иной листик или гроздь винограда. Я правлю своей боттегой так же, как правил бы ювелирной мастерской. — Но, предположим, мессер Бреньо, что вам надо изваять нечто совершенно новое, еще невиданное в скульптуре? Бреньо вдруг осекся и, будто что-то отстраняя от себя, замахал левой рукой. — Скульптура требует не выдумки, а воспроизведения. Если бы я стал фантазировать, в мастерской воцарился бы хаос. Мы высекаем здесь то, что люди высекали до нас. — И делаете это превосходно, — сказал Микеланджело, оглядывая многие начатые работы. — Делаем великолепно! Вот уже полсотни лет никто у меня не забраковал ни одного заказа. Еще в молодые годы я усвоил правило: «Что делалось раньше, то и продолжай делать». Эта мудрость, Буонарроти, принесла мне богатство. Если ты хочешь достичь успеха в Риме, то давай людям то, на чем они воспитаны с детства. — А что будет со скульптором, который скажет себе: «То, что делалось раньше, надо изменить!»? — Изменить? Ради того только, чтобы изменить? — Нет, не ради этого. А просто потому, что скульптор чувствует, что каждая новая вещь, которую он высекает, должна как бы вырваться из привычных представлений, явить собой нечто свежее, невиданное. У Бреньо заходили челюсти: он словно хотел разжевать эту мысль. Потом он сплюнул себе под ноги и, отечески обняв Микеланджело, сказал: — В тебе говорит твоя юность, мальчик. Побудь несколько месяцев в моей мастерской, под моим присмотром — и ты забудешь эти глупые суждения. Пожалуй, я взял бы себя в ученики на два года: пять дукатов в первый год, десять — во второй… — Мессер Бреньо, я уже был учеником три года, в Садах Медичи у Бертольдо. — У Бертольдо? У того, что работал с Донателло? — У того самого. — Очень плохо. Донателло погубил скульптуру на глазах у всех вас, флорентинцев. И тем не менее… Нам надо изваять столько ангелов для надгробий…Когда подули ноябрьские ветры и полились дожди, Пьеро де Медичи вместе со своим войском покинул Рим, отправившись завоевывать свои былые земли; тогда же приехал к Микеланджело Буонаррото. Надвигались пепельно-серые сумерки; загнанный дождями в свою каморку, Микеланджело сидел, рисуя при свете лампы; брат явился до нитки промокший, но веселый, со счастливой улыбкой на смуглом лице. Он радостно кинулся к Микеланджело. — Я закончил свое ученичество и не могу жить без тебя во Флоренции. Хочу поискать здесь работу в цехе шерстяников. Привязанность брата тронула сердце Микеланджело. — Скорей переоденься, возьми мое сухое платье. Когда дождь кончится, я отведу тебя в гостиницу «Медведь». — А разве нельзя остаться здесь? — огорченно спросил Буонаррото. Микеланджело обвел взглядом узенькую, монашеского вида комнатку с единственным стулом. — Я здесь всего-навсего гость. А в гостинице «Медведь» очень удобно. Расскажи-ка мне, как там дела у отца с торговцем шелками. Суд не состоялся? — Благодаря твоим тринадцати флоринам все на время затихло. Но Консильо заявляет, что отец должен ему гораздо больше. Отец брал у него шелка, это совершенно ясно, но что он хотел делать с ними — никто не знает, даже Лукреция. И, натягивая сухую рубашку, рейтузы и чулки Микеланджело, Буонаррото пересказал брату все, что случилось дома за последние пять месяцев. Дядя Франческо был болен, Лукреция тоже долго не вставала с постели — у нее, скорее всего, был выкидыш. Лодовико содержал семейство лишь на доходы с земли в Сеттиньяно и никак не мог свести концы с концами. Забота о деньгах не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Ко всем его просьбам помочь семье брат Джовансимоне остается совершенно глух. Буонаррото устроился жить в гостинице «Медведь»; ужинали братья в траттории. Через неделю стало очевидно, что работы в Риме Буонаррото не найти: цеха шерстяников во флорентинской колонии не было, а брать на службу приезжего флорентинца римляне, конечно, не хотели. — Думаю, что тебе надо возвращаться домой, — с горечью говорил Микеланджело. — Если все четверо старших сыновей разлетятся кто куда и не будут помогать отцу, разве он справится с делами? Буонаррото уехал в самый ливень; Пьеро де Медичи возвратился в Рим, тоже насквозь промокнув от дождя. Последние остатки войска Пьеро были рассеяны, деньги у него иссякли, его покинул даже Орсини. Пьеро возил с собой описок флорентинских семей, которые он хотел разгромить, как только вновь захватит власть. Альфонсина с детьми уехала в одно из своих наследственных имений; здесь, в Риме, Пьеро нашумел крупными проигрышами в карты и публичными скандалами и ссорами с братом Джованни. С утра он сидел во дворце Сан Северино, потом ехал к своей очередной куртизанке. Вечером выходил на улицу, ввязываясь то в одну, то в другую грязную историю, на рассвете же вновь укрывался во дворце Альфонсины. Не менее пагубны в глазах здешних флорентинцев были надменность и тиранические замашки Пьеро. Он открыто говорил, что, захватив Флоренцию, будет править ею единолично, не прибегая к помощи Совета. «Лучше я буду править плохо, но самостоятельно, чем хорошо, но с помощью других», — добавлял он для ясности. Микеланджело очень удивился, получив написанное рукою Пьеро приглашение на рождественский обед у кардинала Джованни. Обед был обставлен весьма пышно. Дом украшали многие произведения искусства, которые Джованни перевез сюда из Флоренции: фамильные картины Медичи, бронза, ковры, серебряные сосуды… и все это было заложено из двадцати процентов банкирам-флорентинцам за долги Пьеро: банкиры говорили теперь, что «на каждом затраченном флорине Медичи теряют восемь лир». Микеланджело поразился тому, как потрепала Пьеро жизнь: веко левого глаза у него почти не поднималось, а на голове, в тех местах, где волосы выпадали целыми прядями, просвечивала бледная кожа. Когда-то красивое его лицо обрюзгло и покрылось красными жилками. — Буонарроти, — сурово заговорил Пьеро, — я подумал было в Болонье, что ты изменил нам. Но сестра Контессина говорит, что ты спас во дворце немало драгоценностей и предметов искусства. — Ваша светлость, мне представился для этого счастливый случай. Пьеро властным движением поднял правую руку и громко, с таким расчетом, чтобы его слышали все, кто находился в гостиной, сказал: — В знак признательности за твою верность, Буонарроти, я заказываю тебе изваять мраморную статую. — Я буду рад изваять ее, ваша светлость, — спокойно ответил Микеланджело. — Я хочу сказать — большую статую, — добавил Пьеро горделивым тоном. — Лучше изваять маленькую, — вмешался Джованни, и на его жирном лице появилась растерянная улыбка. — Моему брату предстоят многие переезды, и возить с собой «Геракла», изваянного в натуральную величину, ему будет трудно. Пьеро с досадой отмахнулся от слов кардинала. — Я скоро пришлю за тобой, Буонарроти. И тогда ты получишь точные распоряжения. — Буду ждать вашего вызова. Возвращаясь с этого тяжкого для него обеда, Микеланджело впервые увидел Торриджани. В модном камлотовом костюме с золотой тесьмой он шел по улице в компании молодых людей: его красивое лицо расплылось в улыбке, раскинутые руки лежали на плечах товарищей; все были пьяны и веселы и громко хохотали над остротами своего вожака. Микеланджело почувствовал, как боль стиснула ему горло. Неужели это от страха? — думал он в недоумении. И тут же понял, что дело не в страхе, а в чем-то гораздо более глубоком: перед ним встала на миг и картина разгрома дворца Медичи, и синеватые проплешины на голове стареющего Пьеро — разве само пространство и время не таили в себе силы бессмысленного разрушения, всегда готовые ринуться вперед и сокрушить на своем пути все и вся. Корабли кардинала Риарио добрались, наконец, до пристани в Рипетте. Пустив в ход всю свою изворотливость, Лео добился того, чтобы Микеланджело пригласили на новогодний прием к кардиналу. — Я закажу два изящных ящичка, обитых черным бархатом, вроде тех футляров, в которых ювелиры хранят тиары и короны, — объяснял Лео свой план Микеланджело. — Мы поместим в эти ящики твои глиняные модели. Кардинал будет доволен, если мы блеснем перед его гостями этакой роскошью. Я дам тебе знак, когда подойти к Риарио. Именно так все было и сделано. Риарио сидел вместе с князьями церкви, папой, сыновьями папы Хуаном и Цезарем, Лукрецией и ее мужем, кардиналами, епископами, вельможами и дамами в шелковых и бархатных платьях, усыпанных драгоценными каменьями. Лео подошел к Риарио и сказал: — Ваше преосвященство, Буонарроти изготовил для вас две скульптурные модели. Соблаговолите сказать, какая вам нравится. Микеланджело поставил ящики на стол, нажал пружины, и стенки ящиков отвалились, открыв модели. Он брал эти модели, то одну, то другую, и ставил на ладонь, давая кардиналу возможность вглядеться. Гости оживились: мужчины вполголоса обменивались одобрительными замечаниями, а женщины, не снимая перчаток, наградили Микеланджело сдержанными рукоплесканиями. — Превосходно, превосходно! — отозвался кардинал, глядя на модели. — Продолжай работать, мой дорогой, и скоро мы получим то, чего нам хочется. — Ваше преосвященство, значит, ни одну из этих моделей высекать из мрамора мне нельзя? — спросил Микеланджело; голос его прозвучал хрипло. Кардинал Риарио повернулся к Лео: — Когда у вашего друга будут готовы новые модели, приведите его ко мне снова. Я уверен, что они получатся у него наилучшим образом. Как только друзья вышли из кардинальской приемной, гнев Микеланджело прорвался в бурном потоке слов: — Господи боже, что за человек! Ведь сам, сам просил меня что-нибудь изваять, сам купил для этого мрамор, дал мне жилье и пропитание… Я могу жить здесь месяцы, годы — но этот злополучный мрамор мне нельзя даже тронуть! Лео был обескуражен. — Я думал, что он захочет польстить своим гостям, позволив им выбрать лучшую модель. — Чудесный способ выбора! Гости решают, что мне высекать из трехаршинной глыбы каррарского мрамора! — Но ведьэто лучше, чем не услышать никакого решения. Ты бы знал только, как я огорчен! Микеланджело стало стыдно за свою горячность. — Прости меня, Лео. Я испортил тебе настроение. Оставь меня, пожалуйста, и возвращайся в зал к кардиналу. Микеланджело в одиночестве вышел на улицу, запруженную праздничными толпами людей. С холма Пинчио летели в небо огни фейерверка и сыпало искрами огненное колесо. Да, Соджи был прав! Скульптура — она действительно поставлена в самом конце списка. Видно, ему остается одно: ходить, как уличные торговцы, по мостовым и кричать: «Не нужен ли вам „Аполлон“?», «Кому „Оплакивание“?» «Время! Время! — бормотал он, шагая. — Каждый только и хочет от меня, чтобы я терпел и не думал о времени. Но время, как и пространство, — сущая пустота, если я не заполню его мраморными статуями!» Он впал в черную тоску и уже был не в состоянии с кем-нибудь спокойно разговаривать. Стараясь вывести приятеля из меланхолии, Бальдуччи подыскал ему золотоволосую флорентинскую девушку. Узнав об этом, Микеланджело улыбнулся — в первый раз после приема у кардинала. — Ах, Бальдуччи, если бы в жизни все было так просто, как ты думаешь. В Тосканской траттории они встретили Джулиано да Сангалло, флорентинского архитектора, друга Лоренцо, — от него Микеланджело когда-то получил первые познания в архитектуре. Длинные пышные усы золотистого цвета, как и прежде, украшали лицо Сангалло, но выглядел архитектор довольно уныло. Оставив во Флоренции жену и сына, он жил в Риме, снимая комнатку, и постоянно ожидал лучшего заказа, чем тот, которым был теперь занят: он сооружал деревянный плафон в церкви Санта Мария Маджоре, облицовывая его золотом — первым американским золотом, которое привез Колумб. Сангалло звал Микеланджело и Бальдуччи работать вместе с ним и выпытывал у Микеланджело, как складываются у того дела в Риме. Микеланджело жаловался ему на крушение всех своих надежд. — Кардинал, которому ты служишь, — пустой человек, — заявил Сангалло. — Другое дело — кардинал Ровере. Ведь именно он поехал в тысяча четыреста восемьдесят первом году во Флоренцию и пригласил Гирландайо, Боттичелли и Росселли расписывать стены в капелле своего дяди Сикста Четвертого. Он же убедил Сикста открыть первую публичную библиотеку в Риме и основать музей бронзовой скульптуры на Капитолии. Когда кардинал Ровере вернется в Рим, я тебя представлю ему. — Когда же он вернется? — спросил Микеланджело, обрадовавшись. — Сейчас он в Париже. Он обозлен на Борджиа и живет в чужих краях вот уже несколько лет. Но теперь положение складывается так, что у него есть все шансы стать папой. Я зайду к тебе завтра, и мы погуляем по городу. Я покажу тебе не нынешние вонючие конюшни, а прежний Рим, полный величия, город изумительной архитектуры. Как только кардинал Ровере сделается папой, я восстановлю этот Рим, воздвигая камень за камнем. К завтрашнему вечеру ты и не вспомнишь, что хотел стать скульптором, душа твоя будет принадлежать архитектуре. Это была прогулка, полезная во всех отношениях. Сангалло начал ее с Пантеона, шедевра римлян в области сводчатых конструкций. Тут был даже не один, а два купола, органически вплетенных друг в друга, — забытые секреты римских зодчих Брунеллески сумел разгадать лишь спустя полторы тысячи лет. Вникнув в это чудо римского гения, явленное миру за двадцать семь лет до Рождества Христова, Брунеллески возвратился во Флоренцию и достроил купол Собора, ждавший своего завершения более века. Сангалло подал Микеланджело пачку плотной бумаги и сказал: — Давай-ка мы попробуем воссоздать Пантеон таким, каким его видели римляне во времена Августа. Сначала они рисовали внутри храма, изобразив облицованные мрамором стены и отверстие в середине купола, в котором виднелось небо. Затем, выйдя наружу, нанесли на бумагу шестнадцать красных и серых гранитных колонн, образующих портик, гигантские бронзовые двери, купол, крытый бронзовыми пластинами, и огромный кирпичный цилиндр всего здания, как его описывали древние историки. Держа папки под мышкой, они направились к Виа делле Боттеге Оскуре и потом поднялись на Капитолийский холм. Теперь, когда перед ними открылся Римский форум, они были в сердце древней столицы. Среди развороченного булыжника и бугров взрытой земли паслись козы и свиньи, — когда-то, до Рождества Христова, тут стояли на двух холмах храм Юпитера и храм Юноны Монеты! Сангалло толковал о кровле храма Юпитера — она была, по словам Дионисия Галикарнасского, бронзовая, с частыми прокладками из золота; по фасаду здания шли колонны в три ряда, а по остальным трем стенам — в один ряд; внутри храма друг подле друга стояли три священных алтаря — Юпитера, Юноны и Минервы. Это строение во всех своих подробностях быстро возникало под руками Сангалло и Микеланджело на бумаге. Плутарх некогда описывал четвертый храм Домициана: стройные столбы из пентеликонского мрамора, сложенные из гигантских каменных глыб стены, царившие над портиком статуи, перед которыми императоры и высокие сановные лица приносили жертвы богам, — вся эта картина тут же встала в молниеносно набросанных рисунках. Архитектор вел с собой Микеланджело дальше. Они спустились с холма и вышли на Римский форум, где сидели до наступления темноты, рисуя здания в том виде, какой у них был в дни величия Рима: храмы Сатурна и Веспасиана, сенат Юлия Цезаря, построенный из простого желтого кирпича, огромный храм Кастора с колоннами, увенчанными пышными коринфскими капителями, за ними уже виднелась триумфальная арка Тита и Колизей… Руки Микеланджело так и летали по бумаге; стараясь угнаться за Сангалло, у которого наброски карандашом и словесные пояснения лились одним стремительным потоком, он рисовал с небывалой для него быстротой. Наступила ночь. Микеланджело чувствовал себя вконец измученным, Сангалло торжествовал. — Теперь ты приоткрыл завесу над великолепием Рима. Продолжай эту работу, не оставляя ее ни на один день. Иди на Палагин и восстанови в своем воображении древние термы Севера и дворец Флавия. Не забудь и цирк Максима, базилику Константина, золотой дворец Нерона у подножия Эсквилинского холма. Римляне были величайшими архитекторами, каких только знал мир. Микеланджело глянул на подвижное милое лицо Сангалло с горящими от волнения глазами. «Чтобы сделать свою жизнь осмысленной, — думал он, — у Сангалло есть древнеримская архитектура, у Бальдуччи — девушки. Что касается меня — то меня может спасти лишь заказ на скульптуру».
5
В глубине души Микеланджело все больше сомневался, что он когда-либо получит разрешение кардинала Риарио на обработку трехаршинного мраморного блока. Совсем отчаявшись, он бросился во дворец Орсини, к Пьеро. Он попросит Пьеро, чтобы тот заказал ему какое-нибудь скромное изваяние: так будет больше шансов не получить отказа. Пьеро в ту минуту бушевал, браня слуг за плохо приготовленный обед. Альфонсина сидела за громадным дубовым столом, напротив мужа. В ее усталых глазах при появлении Микеланджело что-то блеснуло: по-видимому, она узнала его. — Ваша светлость, у меня есть теперь время взяться за работу и высечь вам прекрасную статую. От вас зависит распорядиться, чтобы я приступил к делу. Пьеро, словно только что проснувшись, недоуменно взглянул на него. — Разве вы не помните? На приеме в Рождество вы говорили… — Ну и что же? — Я задумал изваять Купидона, если это вам подойдет. — Купидона? Что ж, можно и Купидона. — Я хотел попросить лишь вашего согласия. В эту минуту Пьеро вновь начал браниться и распекать слуг. Микеланджело чувствовал, что на него уже не обращают внимания, хотя Пьеро и успел сказать, чтобы он продолжал работу. Шагая вдоль берега Тибра, Микеланджело направился, к камнебитным складам подле верфи, выбрал там небольшую глыбу, заплатил за нее пять флоринов, чем нанес серьезный ущерб своему уже отощавшему кошельку, и поплелся позади тачки, которую покатил к его дому мальчишка-подручный. Не прошло и двух суток, как Микеланджело убедился, что мрамор он приобрел плохой. Глупо же он сделал, кинувшись сразу на склады и купив там первый попавшийся ему камень! Во Флоренции он действовал бы куда осмотрительнее. А здесь, в Риме, он допускал оплошность за оплошностью, словно новичок. Пять флоринов были выброшены на ветер. На следующее утро, с рассветом, он был уже на складе Гуффатти — того самого каменотеса, у которого кардинал Риарио купил трехаршинный блок. Теперь Микеланджело осматривал камни самым придирчивым образом и наконец остановился на одной белоснежной глыбе мрамора — под лучами утреннего солнца она хорошо просвечивала, а когда ее полили водой, не обнаружила ни трещин, ни каверн. На этот раз Микеланджело затратил пять флоринов с пользой, но в кошельке у него осталось лишь три последних монеты. Все время до обеда он провел в рабочем квартале в Трастевере, рисуя детей, — они или играли посреди улицы, или сидели у порога мастерских, где работали их отцы и откуда слышался лязг и звон металла. Пройдет несколько дней — и, взяв в руки молоток и резец, Микеланджело занесет их над мрамором, чтобы сделать первый удар. Бальдуччи его спрашивал: — Не лучше ли тебе сначала получить от Пьеро письменный контракт? Ведь каждый флорин, какой попадает ему в руки, он тратит на сбор войска против Флоренции. Пьеро не хотел и слышать о контракте: — Дорогой Буонарроти, я уеду из Рима раньше, чем ты закончишь этого Купидона. И, по всей вероятности, сюда не вернусь… — Вы хотите сказать, ваша светлость, что вы отказываетесь от своего слова? — Микеланджело сказал это очень резко, но что ему оставалось делать? — Медичи никогда не отказываются от своих слов, — холодно возразил Пьеро. — Просто я теперь слишком занят. Отложим это дело на год… Выйдя на овеянную стужей площадь Сант-Аполлинаре, Микеланджело сказал: «Так тебе и надо!» Он сказал это громко, срывающимся голосом; лицо его горело от гнева. Только неодолимое желание высечь скульптуру, кто бы ее ни заказал, заставило Микеланджело принять почти случайно оброненные слова Пьеро за твердый его приказ. И тем не менее он высек Купидона — высек в жажде той радости, которую доставляла ему работа над белым мрамором, густая мраморная пыль, взлетающая из-под резца. Прошло два мучительных месяца, пока его снова принял кардинал Риарио. — Чем же ты порадуешь меня сегодня? — заговорил кардинал, пребывая в благодушном настроении. — Не задумал ли ты здоровенного язычника, под стать тем великолепным антикам, которые собраны в саду кардинала Ровере? — Да, ваша милость, именно такого я и задумал, — поспешно солгал Микеланджело. Теперь он сидел на кровати в своей узенькой комнате, весь мокрый от пота, будто в лихорадке, и судорожно думал, какого же веселого греческого бога ему высечь. Недавно в флорентинском квартале Альтовити спросил его: — А ты никогда не думал изваять Вакха? — Нет, я редко пью вино. — Вакх, он же Дионис, — бог природы, символизирующий плодородие. Он принес людям странные и чудесные дары, которые помогают им забыть несчастья, томительно скучную работу, жестокую трагедию жизни. Если только для человека целительно предаваться удовольствиям, смеяться, петь, ощущать себя счастливым, тогда мы многим обязаны Вакху. Микеланджело вспомнил юношу, увиденного им в бане, — у него было стройное, ладное тело атлета: сильные ноги, тонкая поясница, мускулистая, могучая грудь и руки. Чем-то он походил на барса. Микеланджело теперь работал, но он не мог и думать о вознаграждении: на страстную пятницу в Риме начался бунт, мостовые окрасились кровью. Бунт вспыхнул в первую очередь против испанских солдат, наемников папы: римляне люто их ненавидели и бросились на вооруженных чужеземцев с палками и камнями в руках. В те же дни бежал из Рима Сфорца, муж Лукреции Борджиа, — ему стало известно, что папа собирается убить его, чтобы выдать свою дочь за испанца. Вслед за Сфорца город покинул и Пьеро де Медичи, вторично выступив против Флоренции во главе тринадцати сотен набранных им наемников. Когда папа отлучил от церкви Савонаролу, смута захватила и римскую общину флорентинцев. Дело кончилось страшным убийством Хуана Борджиа. Рыбаки выловили в Тибре его труп и положили на берег — Хуан был в бархатном кафтане, в плаще и сапогах со шпорами; на теле его насчитали девять ножевых ран, руки у него были связаны. Узнав об этой смерти, римляне почти не скрывали своей радости. В городе царил страх. Ватикан казался парализованным. Папские стражники врывались в каждое жилище, где когда-либо бывал Хуан, пытали прислугу, доискиваясь нитей заговора, с той же целью они шныряли по домам флорентинцев. Сначала в убийстве Хуана обвиняли отвергнутого мужа Лукреции, потом каждую знатную семью, когда-либо выступавшую против папы… пока в городе всем до одного — в том числе самому папе — не стало известно, что Хуана убил его младший брат Цезарь, желавший этим расчистить путь к своему возвышению. Кардинал Риарио теперь постоянно находился при папе, оплакивавшем убитого. В кардинальском дворце занимались лишь самыми неотложными делами. Скульптура в число таких дел, конечно, не входила. Но Микеланджело не мог примириться с тем, чтобы всякий раз, как в городе что-то случалось, забывали и о скульптуре, и о его работе. — Кардинал не захочет говорить о твоих делах еще очень долго, — предупреждал Микеланджело Лео Бальони. — Советовал бы тебе приискать другого покровителя. — В Риме? Да разве влияние кардинала Риарио не распространяется здесь буквально на всех? — К несчастью, да. Но ведь и во Флоренции под властью Савонаролы ничем не лучше. — Верно. Но там моя родина. Можешь ты договориться о встрече с кардиналом — в последний раз? Я намерен получить вознаграждение. — Вознаграждение? Но ты же не высек скульптуры! — Все равно я работал. Я рисовал, лепил модели. А ваять мне не позволил ты. Кардинал — богатый человек, а у меня вот-вот не останется ни гроша. Он ворочался в постели, не смыкая глаз всю ночь напролет, и совсем было заболел, но тут Бальдуччи позвал его на охоту — стрелять уток на болотах. — Свежий воздух принесет тебе пользу. Сделает из тебя мужчину. Посмотри на меня: я не упускаю ни одного свободного часа, когда можно побродить по болотам и поохотиться. Это возрождает силы мужчины. Микеланджело прекрасно понимал, что значит в устах Бальдуччи слова: силы мужчины. — Ты, конечно, заботишься о своих силах, чтобы затратить их на женщин? — насмешливо заметил он. — А как же иначе! — ответил Бальдуччи. — Каждый мужчина копит свои силы, чтобы на что-то их тратить. Горести и заботы зрели и множились у Микеланджело дружно, будто на грядке помидоры. Вновь явился в Рим Лионардо, плащ у него был рваный, лицо в крови. Из его отрывочных слов Микеланджело понял, что монахи в Витербо набросились на него, избили и выгнали из монастыря, не желая, чтобы он восхвалял отлученного от церкви Савонаролу. — Я хочу домой, в Сан Марко, — говорил Лионардо хриплым голосом, облизывая потрескавшиеся губы. — Дай мне денег на дорогу. Микеланджело встряхнул кожаный кошелек и вынул из него последние монеты. — Знаешь, меня тоже будто побили, и притом очень крепко. Я тоже хочу домой. А ты лучше пожил бы здесь немного, пока не оправишься. — Нет, Микеланджело, я поеду. Спасибо тебе за деньги. Впервые за много лет Микеланджело почувствовал в тоне брата какое-то доверие и задушевность. Едва уехал Лионардо, как на Микеланджело обрушился новый удар: весть о смерти мачехи. Отец сообщал об этом в письме, состоявшем из нескольких малосвязанных фраз. «Il Migliore» — с теплотой в душе вспоминал Микеланджело излюбленное выражение Лукреции: «Самое лучшее». Она приносила с рынка только самую лучшую провизию и старалась дать вообще все самое лучшее девяти Буонарроти, которых взялась кормить. Любил ли ее Лодовико? На этот вопрос трудно было ответить. Любила ли Лукреция дом, в который она вошла? Пятерых своих пасынков? Да, любила. И не ее вина, если весь ее пыл, все способности были устремлены к кухне. Она беззаветно отдавала все, что у нее было, и теперь ее пасынок оплакивал ее кончину. Спустя несколько дней слуга принес Микеланджело записку из гостиницы «Медведь»: Буонаррото вновь приехал в Рим. Микеланджело торопливо вышел на улицу и зашагал к площади Навона, к мастерским и лавкам между разрушенным театром Помпея и стадионом Домициана; обогнув широко раскинувшиеся огороды, он скоро был на площади Сант'Аполлинаре. — Что с отцом? — спрашивал он брата. — Как он перенес смерть Лукреции? — Тяжело. Заперся в своей спальне и не выходит. — Нам надо подыскать ему новую жену. — Он говорит, что лучше ему доживать век одиноким, чем еще раз перенести такую утрату. — Помолчав, Буонаррото добавил: — Поставщик шелков хлопочет, чтобы отца за тот долг арестовали. Этот торговец, Консильо, докажет, что отец действительно брал товары, а поскольку у нас наличных денег почти нет, его наверняка посадят в тюрьму. — В тюрьму! Dio mio! Пусть он продаст и землю и дом в Сеттиньяно. — Это невозможно. Земля отдана в долгосрочную аренду. И отец говорит, что лучше он будет сидеть а тюрьме, чем лишит нас последнего наследства. — Что за вздор! — рассердился Микеланджело. — Наше наследство — это не дом, не земля, а честь рода Буонарроти! Ее-то мы и должны сохранить. — Но что нам делать? Я зарабатываю всего несколько скуди в месяц… — А я и того не зарабатываю. Но скоро я получу деньги! Я добьюсь, чтобы кардинал Риарио понял наконец, что мне надо платить.Кардинал слушал, задумчиво играя длинной золотой цепью, висевшей у него на груди. — Я отнюдь не думал, что ты потратишь это время попусту. — Благодарю вас, ваше преосвященство. Я знал, что вы проявите щедрость. — Что ж, и проявлю. Я отказываюсь от всех своих прав на мраморный блок, который обошелся мне в тридцать семь дукатов. Отныне мрамор твой, я отдаю его тебе за твое терпеливое ожидание. Микеланджело мог теперь добыть денег только у флорентинских банкиров — Ручеллаи и Кавальканти. Придется взять какую-то сумму в долг. Он сел за стол и написал письмо отцу: «Я пришлю столько денег, сколько вам потребуется, если даже мне придется запродать себя в рабство». Потом он направился к Паоло Ручеллаи поговорить о своем деле. — Заем в банке? Нет, нет, это будет для тебя разорительно — ведь банк берет двадцать процентов на каждом дукате. Возьми денег у меня лично, без всяких процентов. Двадцать пять флоринов тебя устраивает? — Я верну их вам, поверьте моему слову! — Забудь о них совсем, пока не наполнишь свой кошелек как следует. Микеланджело опрометью бросился бежать по лабиринту немощенных улиц, запруженных повозками и усеянных грудами речного песка, отдал Буонаррото кредитный чек с подписью Ручеллаи и тут же написал письмо торговцу Консильо, заверяя его, что в течение года он выплатит и остальную сумму долга. — Это, конечно, страшно обрадует отца, — раздумчиво говорил Буонаррото, сжимая в пальцах чек и письмо. — Едва ли ему заработать теперь какие-то деньги, от дяди Франческо тоже ждать нечего. Ты да я — вот кто сейчас Буонарроти. А на помощь Лионардо и Джовансимоне нам рассчитывать вообще не стоит. Что касается нашего меньшего, Сиджизмондо… то из цеха виноделов его выставили. И как только отец увидит этот чек, считай, что обязанность кормить семейство Буонарроти легла на тебя. Удачи и успехи зрели и множились у Микеланджело дружно, словно персики на дереве. Он довел до конца полировку своего «Купидона» — прелестный ребенок, только что проснувшись, тянул пухлые ручонки, желая, чтобы мать взяла его на руки. Беспечная радость, которой была овеяна статуя, ее сияющая бархатистая поверхность восхитили Бальдуччи. Тут же он вспомнил своего хозяина. Нельзя ли перенести «Купидона» в дом Якопо Галли и показать его банкиру? Рим — не Флоренция, и здесь не было Буджардини, чтобы везти мрамор по улицам на тачке. Бальдуччи нанял мула. Микеланджело завернул «Купидона» в одеяло, приторочил его к большому седлу и, ведя мула под уздцы, зашагал мимо церкви Сан Лоренцо ин Дамазо к переулку Лентари. Дом Галли был построен одним из предков банкира. Банкир испытывал чувство благодарности к этому предку, потому что тот, вместе с постройкой дома, положил начало собранию древних скульптур, которое теперь уступало лишь коллекции кардинала Ровере. Пока Бальдуччи привязывал мула, Микеланджело раскутал своего «Купидона». Поднявшись по широкой лестнице, Микеланджело оказался в атриуме, замкнутом с трех сторон стенами дома, — с четвертой стороны шли вниз ступени, и здесь открывался вид на сад. Когда Микеланджело бегло посмотрел туда, перед ним возник целый лес статуй, чудесных фризов и каменных зверей, хищно припавших к земле. Якопо Галли получил образование в Римском университете и с той поры ни на один день не расставался с книгами. Теперь он отложил в сторону «Лягушек» Аристофана и стал медленно подниматься с низкого кресла. Казалось, он никогда не поднимется — так долго распрямлялось его огромное тело: сколько в этом человеке росту — два аршина с половиной или три с лишним? Такого дородного, такого высокого мужчины Микеланджело еще не видал: под грузом лет Якопо Галли ссутулился, и тем не менее почти любой римлянин — они чаще всего низкорослы — пришелся бы ему по плечо. Микеланджело чувствовал себя перед ним ребенком. — О, вы явились ко мне с готовым мрамором. Статуи — это лучшее украшение моего сада. Микеланджело поставил своего «Купидона» на стол, рядом с лежавшей там книгой, и глядел в голубые глаза Якопо Галли. — Боюсь, — сказал он, — что мы привезли изваяние рановато, ему тут не приготовлено место. — Нет, не думаю, — ответил Галли рокочущим голосом, который ему приходилось сильно умерять, чтобы не оглушить собеседника. — Бальдуччи, проведи же своего друга Буонарроти в дом и угости его ломтем холодного арбуза. Когда через несколько минут приятели вышли в сад, они увидели, что Галли снял с пьедестала на низкой стене рядом с лестницей какой-то торс и установил на нем «Купидона». Сам же он вновь сидел, удобно устроившись в кресле. Став за спиной хозяина, Микеланджело мог внимательно рассмотреть три греческих торса, римский саркофаг, храмовый фриз и большую настенную плиту с изображением огромного сидящего грифона — египетского льва с почти человеческой головой. Галли добродушно моргал глазами. — У меня такое чувство, будто ваш «Купидон» занимает это место давным-давно, с тех пор, как я себя помню. Он так прекрасно вписывается в эти ряды античных статуй. Вы продадите мне его? Какую цену вы назначаете? — Какую назначите вы, — покорно ответил Микеланджело. — Тогда скажите мне, как у вас обстоит дело с деньгами. Микеланджело рассказал ему, в каком положении он прожил год у кардинала Риарио. — Значит, дело кончилось тем, что вы не получили ни скудо, хотя у вас остался на руках трехаршинный блок мрамора? Можно вам предложить за «Купидона» пятьдесят дукатов? Но, поскольку вы сильно нуждаетесь в средствах, я позволю своей жадности снизить эту цену до двадцати пяти дукатов. А потом, презирая хитрость в делах с художниками, я вновь добавлю к первоначальной сумме удержанные двадцать пять дукатов и приложу к ним еще двадцать пять. Вас устраивает такой расчет? Янтарные глаза Микеланджело сияли. — Синьор Галли, весь этот год я был очень дурного мнения о римлянах. Но вы оправдали сейчас в моих глазах целый город. Не поднимаясь с кресла, Галли склонил голову. — А теперь поговорим о том трехаршинном мраморном блоке. Что, по-вашему, можно из него высечь? Микеланджело стал рассказывать о своих рисунках для «Аполлона», для «Оплакивания Христа» и для «Вакха». Галли проявил ко всему этому живейший интерес. — Мне не приходилось слышать, чтобы в наших местах где-то отрыли Вакха, хотя есть два-три изваяния, привезенные из Греции, — бородатые старцы, все довольно скучные. — Нет, нет, мой Вакх будет юным, как и полагается быть богу веселья и плодородия. — Принесите мне свои рисунки завтра в девять часов вечера. Галли прошел во внутренние комнаты и вернулся с кошельком. Он вручил Микеланджело семьдесят пять дукатов. Уже смеркалось, когда Микеланджело поставил мула на конюшне, расплатившись с его хозяином, и побывал у Ручеллаи, чтобы вернуть ему двадцать пять флоринов, которые он у него занял. На следующий день к назначенному часу он был в саду Галли. Там царила полная тишина, никто не вышел к нему навстречу. Время тянулось страшно медленно. Размышляя в одиночестве, Микеланджело уже видел, как он бросает в этом городе свой мрамор или за полцены отдает его обратно Гуффатти, как он с первым же караваном уезжает во Флоренцию. Но вот в саду появился Галли, поздоровался с Микеланджело, предложил ему вина и уселся рассматривать рисунки. Затем вышла синьора Галли, высокая стройная женщина, уже сильно увядшая, но хранившая патрицианскую осанку. При свете свечей все трое сели за ужин. Прохладный ветерок освежал накаленный за день воздух. Когда с ужином было покончено, Галли сказал: — А вы не согласились бы перевезти ваш блок сюда и здесь вырубить для меня Вакха? Помещение для работы у нас найдется. Я уплачу вам за готовую вещь триста дукатов. Чтобы не выдать своих чувств, Микеланджело потупил взор и отодвинулся от свечи. Теперь ему уже не надо будет с позором возвращаться во Флоренцию, теперь он спасен. Но наутро, когда он шагал рядом со взятой у Гуффатти телегой, перевозя мрамор из дворца Риарио к Галли, и сжимал под мышкой тощий узел с платьем, он чувствовал себя каким-то попрошайкой, нищим. Неужто он обречен на то, чтобы долгие годы переезжать с места на место, менять одну комнатку на другую? Он знал, что немало художников странствуют от двора ко двору, от покровителя к покровителю, обретая себе приличный кров, пропитание и даже приятное общество, но он знал также, что такая жизнь не принесет ему удовлетворения. И он повторял себе, что он должен быть и скоро действительно будет независимым человеком, который живет под своей собственной крышей.
6
Его провели в спальню, расположенную в том крыле подковообразного особняка, которое смотрело окнами на комнаты Якопо Галли: в спальне было приятно, тепло, солнечно. Вторая дверь из нее вела в сад, где росли смоковницы. В конце сада стоял сарай с твердым земляным полом. Микеланджело разобрал у сарая дощатую крышу; густые деревья, росшие рядом, давали ему прохладу и тень. Сразу за сараем шел глухой переулок — им могли пройти к Микеланджело приятели, и этим же переулком удобно было доставлять необходимые для работы материалы. Дом Галли от сарая был не виден — его заслоняли деревья, — а стук и шум, производимый Микеланджело, в жилые комнаты не долетал. У входа в сарай Микеланджело поставил бочку, налил в нее воды, взятой из колодца, и, прежде чем идти к ужину, мылся и надевал чистое платье — семейство Галли всегда уже ждало, его, сидя в саду. Якопо Галли безотлучно проводил в конторе целые дни: домашний обед готовили лишь в воскресенье и в праздники. Каждый полдень слуга тащил Микеланджело поднос с легким завтраком, и тот съедал его за своим рисовальным столом. Микеланджело был рад, что ему не надо переодеваться к обеду, не надо ни с кем разговаривать. Пришло письмо от отца: он благодарил за полученные двадцать пять флоринов. Торговец шелками принял чек Микеланджело, но выразил желание, чтобы ему сейчас же выплатили еще двадцать пять флоринов из тех пятидесяти, которые отец оставался ему должным. Не может ли Микеланджело прислать двадцать пять флоринов с первой же субботней почтой? Микеланджело со вздохом надел чистую блузу и понес двадцать пять флоринов в контору Якопо Галли — она находилась на площади Сан Чельсо, рядом с банком семейства Киджи. Бальдуччи на месте не оказалось, и Микеланджело подошел к столу самого Галли. Тот поднял голову, но сделал вид, что не узнает Микеланджело. Микеланджело тоже почти не узнал Галли — такое у него было суровое, холодное, неприступное лицо, Банкир безразличным тоном спросил, что Микеланджело угодно. — Кредитный чек… на двадцать пять флоринов. Переслать его во Флоренцию, — вымолвил Микеланджело и положил на стол деньги. Галли что-то сказал писцу, сидевшему рядом. Тот зашелестел бумагами и мигом выписал чек. Галли сурово поджал губы и опустил непроницаемые глаза, уткнувшись в бумаги. Микеланджело был поражен. «Чем я его обидел, чем вызвал такой гнев?» — с тревогой думал он. Он принудил себя вернуться в дом только поздним вечером. Из окон своей комнаты он увидел, что в саду горят свечи. Он осторожно вышел в сад. — А, это вы! — весело крикнул Галли. — Идите же сюда, выпьем по стакану — у нас превосходная мадера! Якопо Галли сидел, развалясь, в своем кресле. Он ласково спрашивал, как Микеланджело устроился в сарае, чего ему там недостает. Такая разительная перемена в поведении Галли объяснялась очень просто. Он никак не мог или не хотел сомкнуть воедино две разных стороны своей жизни. В банке он был сух и резок. Его сотрудники восхищались его деловитостью и умением выколачивать прибыли, но не любили его. Его считали чересчур жестким. Приходя домой, Галли сбрасывал с себя эту оболочку, как ящерица сбрасывает кожу, и становился веселым, беспечным и шутливым. Дома от него нельзя было услышать ни одного слова о делах, о банке. Сидя в саду, он толковал лишь об искусствах, литературе, истории, философии. Те его друзья, что заходили к нему каждый вечер, от души любили его, считая большим хлебосолом и добрым семьянином. Впервые за свое пребывание в Риме Микеланджело стал теперь видеть интересных ему людей: Петера Савинуса, университетского профессора красноречия, который почти не обращал внимания на скульптурные сокровища Галли, но который, по словам того же Галли, наизусть помнил «невероятное количество раннехристианских текстов»; коллекционера Джованни Капоччи — он одним из первых в Риме пытался ввести какой-то порядок при раскопках катакомб; Помпония Лета, бывшего наставника Галли по университету; этот незаконный отпрыск могущественного семейства Сансеверино напускал на себя вид изысканного бездельника, он жил только для науки, одеваясь во что попало и ютясь в жалких каморках. — Чтобы захватить место в зале, где он читал лекции, — рассказывал Галли, — я приходил туда с ночи. Мы ждали его до утра, а утром он спускался к нам с холма, держа в одной руке фонарь, в другой — старинный манускрипт. Его пытала инквизиция, потому что нашу академию, подобно вашей Платоновской академии во Флоренции, подозревали в ереси, язычестве и республиканских устремлениях. — Галли самодовольно рассмеялся. — Такие обвинения вполне оправданны. Помпоний так погряз а язычестве, что при виде античной статуи он может разрыдаться. — Микеланджело догадывался, что Галли тоже «погряз в язычестве», — ведь в доме банкира ни разу не появлялось ни одно духовное лицо, кроме слепых монахов, братьев Аврелия и Рафаэля Липпус: эти августинцы из флорентинского монастыря Санто Спирито пели здесь под звуки лиры латинские песни и гимны; бывал у Галли и француз Жан-Вилье де ла Гроле, кардинал Сен Дени, маленький человечек с аккуратно подстриженной белой бородой, в багряной сутане, — духовную карьеру он начал бенедиктинцем, позднее Карл Восьмой, возлюбя монаха за преданность и ученые познания, своей королевской волей сделал его кардиналом. Жан-Вилье был далек от грязных махинаций Борджиа и жил в Риме той же уединенной жизнью, какую вел в свое время в бенедиктинских монастырях, продолжая изучать сочинения отцов церкви — область, в которой его считали крупным авторитетом. Но не все ученые здесь были стариками. Микеланджело подружился с двадцатилетним Якопо Садолето, уроженцем Феррары, чудесным поэтом и латинистом; познакомился с Серафино, тоже поэтом, обласканным при дворе Лукреции Борджиа: в доме Галли он никогда не заговаривал о Борджиа или о Ватикане, а читал свои исторические поэмы, аккомпанируя себе на лютне; бывал у Галли и Санназаро — несмотря на свои сорок лет, он казался очень моложавым; языческие образы в его стихах причудливо смешивались с чисто христианскими мотивами. Семейство Галли старалось по возможности держать себя в рамках общепринятого, посещало церковную службу почти каждое воскресенье и каждый значительный праздник. Якопо Галли говаривал, что его выпады против клерикализма — единственная форма борьбы с развращенным двором Борджиа и его приспешниками, какую он мог себе позволить. — Читая книги, Микеланджело, я хорошо вижу зарождение, расцвет, упадок и исчезновение многих религий. Такой же процесс переживает сейчас и наша религия. Христианство существовало пятнадцать веков, чтобы в конце концов вылиться… во что же? В вакханалию борджианских убийств, лихоимства, кровосмесительства, в извращение всех догматов нашей веры. Рим сегодня заражен грехами гораздо сильнее, чем Содом и Гоморра в тот день, когда они погибли в пламени. — Вы говорите в точности так, как говорит Савонарола! — Да, точно так, как говорит Савонарола. Сто лет царства Борджиа — и мир превратится в груду загаженных развалин. — Разве Борджиа могут процарствовать сто лет? На крупном, открытом лице Галли обозначились резкие морщины. — Цезарь Борджиа только что короновал Федериго, сделав его королем Неаполя, и с триумфом возвратился в Рим. А папа отдал Цезарю имения его брата Хуана! Архиепископа обвиняют в подделке церковных документов! Епископа уличают в том, что он за тысячу дукатов продает должности в курии! И так вот повсюду. Рисунки, которые заготовил Микеланджело для статуи древнегреческого бога веселья, казались ему теперь надуманными, даже бесчестными. Он пытался проникнуть воображением в века седой древности, но чувствовал, что играет мифами, как ребенок играет куклами. Рим — вот что было теперь для него реальностью, — Ватикан и папа, кардиналы и епископы, весь город, оплетенный коррупцией, насквозь прогнивший, с разжиревшими иерархами. Такой Рим вызывал у него лишь отвращение и ненависть. Но разве мог он, живя одной ненавистью, быть скульптором? Разве мог он воспользоваться своим любимым белым мрамором, чтобы показать зло и передать тот запах смерти, которым был овеян Рим, бывшая столица мира? Ведь эта ненависть неизбежно проникнет и в самый мрамор! А он, Микеланджело, не может заставить себя забыть идеал древних греков: белый мрамор должен порождать лишь красоту. По ночам он часто просыпался. Шел в библиотеку Галли, зажигал лампу и брался за перо, как это было в доме Альдовранди после встречи с Клариссой. В ту пору его лихорадила любовь, и он выливал чувства на бумагу, чтобы «охладить свой пыл». Теперь уже не любовь, а другое, столь же жгучее чувство — ненависть — заставляло его набрасывать строчку за строчкой, исписывая целые листы, пока, уже на рассвете, из этих исчерканных строчек и слов не возникало стихотворение.7
Он положил свою мраморную колонну горизонтально наземь, плотно закрепил ее клиньями и брусьями, затем, взяв в руки шпунт, нанес несколько ударов в том месте, где должна была возникнуть чаша с вином. Сначала он обтесывал лишь переднюю сторону глыбы, а потом, чтобы охватывать взглядом всю работу сразу, перешел к боковым. Наметив самую высокую точку — пальцы руки, держащей чашу, и выступающее вперед правое колено, он стал врубаться вглубь, нащупывая живот и устанавливая отношения между крайними выступами и впадинами. Промежуточные плоскости явятся в свое время сами, они уже предопределены, как бывают предопределены боковые стороны и тыл, когда ясна фронтальная сторона изваяния. Скоро Микеланджело принялся за обработку контуров торса, стараясь показать в них шаткость и неустойчивость фигуры, затем стал поворачивать блок по часовой стрелке и обтесывать его со всех сторон, все больше отделывая руку с чашей — ключевую деталь статуи. Он вызвал одного из сыновей Гуффатти, чтобы тот помог ему снова поставить колонну вертикально. Теперь у мрамора был уже свой лик, своя индивидуальность — у него определился размер, пропорции, вес. Микеланджело сидел напротив камня и сосредоточенно думал, заставляя его говорить, предъявлять свои требования. Он испытывал чувство боязни, будто встретился с неким незнакомцем. Ваять — это значит отсекать мрамор, но это значит также исследовать его, проникать в его глубины, обливаться потом, размышлять, чувствовать мрамор и жить с ним, пока он не закончен. Половина первоначального веса этого блока останется в готовой статуе; остальное будет лежать в саду в виде щебня и пыли. И сожалеть Микеланджело будет лишь об одном: время от времени ему придется есть и спать, с мучительным усилием отрываясь для этого от работы. Недели и месяцы постоянного, настойчивого труда текли как речная стремнина. Зима выдалась мягкая, покрывать сарай крышей не было никакой нужды; когда холод давал себя знать всерьез, Микеланджело натягивал на голову валянную из шерсти шляпу с наушниками и надевал теплую тунику. По мере того как Вакх и Сатир выступали из камня, у Микеланджело появлялись новые чувства, рождались новые мысли, но, чтобы воплотить их в мраморе, требовалось время. Он должен был внутренне расти и зреть сам, пока росла и зрела его работа. Незавершенный мрамор преследовал его, занимая все помыслы в любой час дня и ночи. Освобождать от лишнего камня чашу и согнутое правое колено сразу, оставив их в пустом пространстве, было небезопасно; Микеланджело пришлось сохранить мраморную препону между воздетой вверх чашей и предплечьем, между коленом и локтем, между подножием и коленом: пока он врезался в блок глубже и глубже, изваянным деталям нужна была прочная подпора. Теперь он то обтачивал статую сбоку, то работал над головой и лицом, шеей, виноградным венком в волосах, то над левым плечом, захватывая и лопатку, потом переходил к бедру, к икре ноги. Сзади он уже обозначил Сатира, пенек, на котором он сидел, кисть винограда, которую он ел, и шкуру тигра, соединявшую обе фигуры. Это была самая сложная по композиции вещь, какую когда-либо начинал Микеланджело. Хотя голову Сатира и его руки, ухватившие виноградную кисть, он искусно прикрыл левым локтем Вакха, они все же достаточно сильно выступали наружу. Настоящая битва началась в тот лень, когда он принялся обтачивать мускулы, давая окончательное воплощение всему замыслу. Грубая обработка глыбы была позади, и теперь, сдирая остатки внешней коры камня, Микеланджело с нетерпеливо бьющимся сердцем ждал, как засияют на свету высвободившиеся формы человеческого тела. Мрамор был упорен; столь же упорен был и Микеланджело, стремясь показать еле заметную игру мышц округлого мягкого живота, гладкую, будто глиняную, поверхность древесного пня, спиралеобразный поворот тела Сатира, виноградные гроздья на голове Вакха, сливающиеся с его похожими на лозы волосами. Каждая законченная деталь приносила Микеланджело огромное удовлетворение, вселяла в него чувство мира и покоя: в тот миг отдыхали не только его глаза, мозг и душа, но и плечи, спина, поясница. А когда он был не в силах найти форму какой-то детали, он складывал инструмент, выходил из сарая и смотрел сквозь ветви деревьев на небо. Возвратившись в сарай, он оглядывал мрамор издали, оценивая его контуры и массы, и уже знал, как надо продолжить работу. Деталь становилась теперь частью целого. Микеланджело снова брался за инструмент и работал с яростью: один-два-три-четыре-пять-шесть-семь — наносил он удары молотом; один-два-три-четыре — это отдых, передышка время от времени он отступал на несколько шагов, чтобы взглянуть, что у него получилось. Мысль его всегда опережала его физические возможности. Если бы он только мог работать над блоком с четырех сторон сразу! Высекая круглое колено, лохматую ногу и копыто Сатира или шкуру тигра, он стремился за одну серию ударов выхватить, высвободить из камня как можно больше. Каждый день должен был приносить свои плоды, каждый натиск резца и молота, прежде чем Микеланджело отложит их вечером в сторону, должен был вызвать к жизни новые формы. Просыпаясь по утрам, Микеланджело был заряжен нервной энергией, будто сжатая пружина, и работал, не замечая, как летят часы. Он не мог оторваться от резца, если даже один палец статуи был обточен у него в меньшей степени, чем другой, ибо он продвигал работу всю сразу, как единое целое. Любой день труда лишь усиливал это впечатление цельности. Она проглядывала в каждом узле изваяния, на всех ступенях работы и была как бы знаком его творческого могущества. Перед тем как уйти вечером из сарая, он еще раз оценивал сделанное и размечал те места, которые следовало обработать завтра. У себя в комнате он писал письма домой, горделиво ставя в конце: «Микеланджело, скульптор в Риме». У него не было теперь времени ни на встречи с приятелями, ни на отдых и развлечения, и Бальдуччи с упреком говорил, что, застряв с головой в мраморе, он совсем покинул мир. Микеланджело признавался другу, что в его словах есть большая доля правды: скульптор переносит в мрамор видение мира более яркого, чем тот, который его окружает. Но художник не укрывается, не бежит от мира, он преследует его. Напрягая все свои силы, он старается ухватить видение. И отдыхал ли Господь Бог на седьмой день своей созидательной работы? В прохладе того долгого вечера, когда он дал себе спокойно сосредоточиться, не спрашивал ли он себя: «А кто будет говорить на земле от моего имени? Надо сотворить там еще какое-то существо, совершенно особое. Я назову его „художник“. Пусть его заботой будет вдохнуть смысл и красоту во всю поднебесную». Бальдуччи все же не отступал и каждое воскресенье вечером являлся к Микеланджело, надеясь соблазнить его и вытащить из затвора. Он подыскал ему девушку, которая была так похожа на Клариссу, что Микеланджело заколебался. Но мрамор поглощал все его силы, и выбора, в сущности, не оставалось. — Я пойду с тобой, как только закончу «Вакха», — обещал он Бальдуччи. Тот с отчаянием покачал головой: — Так долго отказываться от лучших благ жизни! Это значит — бросать свою молодость псу под хвост. Радуясь в душе тому, как он твердо противился уговорам приятеля, Микеланджело вскинул голову и захохотал, вслед за ним расхохотался и Бальдуччи. Микеланджело испытывал минуты особого волнения, когда, удаляя каменную препону между выступами фигуры, видел на гранях среза яркое свечение мрамора. Он чувствовал, как воздух врывается в открывшееся пространство и мгновенно окутывает формы, как эти формы начинают словно бы двигаться и дышать, едва от них оторвешь резец. Самым тонким делом оказалось выбрать камень между предплечьем правой руки, держащей чудесную чашу с вином, и чуть склоненной набок головою. Он работал с величайшей осторожностью, пока не вышел на покатую линию плеча. И все не мог решиться выбить толстую преграду, крепившую руку с поднятой чашей и отставленное правое бедро. Бальдуччи поддразнивал его, не зная жалости. — Ты допускаешь явный промах. Тебе надо высечь какой-то столб, чтобы он подпирал у бедного парня его мужские сокровища. А вдруг они отвалятся? Тогда дело будет куда хуже, чем если упадет эта чаша, о которой ты так печешься. Микеланджело схватил горсть мраморной пыли и швырнул ее в Бальдуччи. — Если рассудить, все твои мысли, все до единой, упираются в эти самые сокровища. — А у кого они не упираются? В конце концов Микеланджело не устоял перед зазываниями Бальдуччи и пошел с ним полюбоваться на праздничные развлечения римлян: то был карнавал накануне Великого поста. Приятели поднялись на гору Тестаччио. Здесь они увидели четырех увитых лентами, расчесанных специальными цирюльниками поросят; животные были запряжены в четыре разукрашенных флагами тележки. Когда трубачи протрубили сигнал, тележки покатились вниз в направлении Авентинского холма; вооруженная ножами толпа бешено ринулась вслед за тележками; все кричали: «Хватай свиней!» — «Al porco! Al porco!» Скатившись с горы, тележки разбивались вдребезги; люди с ножами бросались к поросятам и, тесня и толкая друг друга, старались вырезать себе кусок мяса получше. Когда Микеланджело вернулся домой, он увидел, что его ждет француз, кардинал Сен Дени. Нарушив свои обычные правила, Галли спросил, нельзя ли провести кардинала в мастерскую и показать ему «Вакха». Микеланджело был вынужден согласиться. Засветив в сарае лампу, Микеланджело объяснил, что он обрабатывает статую со всех сторон сразу, стараясь достичь того, чтобы все ее формы выявились одновременно. Он рассказал, как, вырубая камень между ног и между левой рукой и торсом Вакха, он обтачивал блок спереди и сзади, все утончая и утончая преграду. И тут же, на глазах кардинала, чтобы показать, как просто проломить каменную перепонку, он слегка постучал по ней шпунтом, а затем, взяв закругленную скарпель, начисто ее срезал и тем высвободил форму полностью. — Как вы добиваетесь такого впечатления, что у вас будто живет и дышит даже полуобработанная фигура? Под этой мраморной поверхностью я прямо-таки ощущаю кровь и мышцы. Приятно сознавать, что растут новые мастера, работающие по мрамору. Через несколько дней слуга принес в сарай записку от Галли: «Не поужинаете ли вы сегодня вместе с Гроле и со мною?» Микеланджело спокойно работал до вечера, потом пошел в баню и помылся, выпарив мраморную пыль из всех своих пор, надел свежую рубашку и рейтузы и причесался, спустив волосы на лоб. Синьора Галли подала легкий ужин, ибо, исполняя обет, принятый им еще с юности, кардинал не ел мяса; к предложенным блюдам он едва прикасался. Когда он заговорил с Микеланджело, его выцветшие глаза, отражая пламя свечи, блеснули. — Я знаю, сын мой, что жить мне недолго. Я должен оставить после себя что-то такое, что было бы достойно красоты Рима, явилось бы приношением этому городу от Франции, от Карла Восьмого и моей скромной персоны. Я получил согласие папы поставить изваяние в храме святого Петра, в капелле Королей Франции. Там есть ниша, которая вместит статую в натуральную величину. Микеланджело даже не пригубил чудесного треббиано, стоявшего на столе, но чувствовал себя так, будто выпил больше, чем граф Гинаццо в жаркий послеобеденный час. Изваяние для самого древнего, самого почитаемого храма в христианском мире — для надгробья Святого Петра! Мыслимо ли, чтобы этот французский кардинал выбрал его, Микеланджело? И за какие заслуги? За маленького «Купидона»? Или за «Вакха», что стоит, еще не оконченный, в сарае? Пока он в смятении думал об этом, разговор за столом перешел на другие темы. Кардинал стал рассказывать Якопо Галли о сочинениях двух еретиков-священников, осужденных на Никейском соборе. Вскоре за кардиналом подъехала карета. Он распрощался, пожелав Микеланджело доброй ночи. В воскресенье, в час обедни, Микеланджело направился в храм Святого Петра — посмотреть часовню Королей Франции и нишу, о которой говорил кардинал Сен Дени. Он поднялся по тридцати пяти мраморным и порфировым ступеням, ведущим к базилике, пересек атриум, миновал центральный фонтан, обнесенный колоннадой из порфира, и остановился у подножия каролингской колокольни: плачевная ветхость храма, резко накренившегося в левую сторону, повергла его в ужас. Войдя внутрь, он убедился, что часовня Королей Франции очень скромна по размерам и достаточно сумрачна — свет падал сюда из небольших окон под кровлей; единственным украшением капеллы было несколько саркофагов, перенесенных с языческих и раннехристианских могил, да деревянное распятие в боковой нише. Он оглядел, разочарованно измеряя взглядом, пустую нишу на противоположной стене: ниша оказалась настолько глубокой, что статуя в ней была бы видна только спереди. Галли вернулся к прежнему разговору лишь через неделю. — Микеланджело, этот заказ кардинала Сен Дени может стать самым крупным заказом начиная с того дня, как Поллайоло взялся изваять надгробие Сикста Четвертого. У Микеланджело заколотилось сердце. — А много ли у меня шансов получить этот заказ? Загибая свои длинные тонкие пальцы, Галли стал считать, словно эти шансы поддавались какому-то подсчету. — Во-первых, я должен убедить кардинала в том, что вы — лучший скульптор в Риме. Во-вторых, вы должны придумать тему, которая воодушевит его. И, в-третьих, нам надо добиться подписания формального договора. — Он одобрит лишь духовную тему? — Не потому, что он церковник, а потому, что он человек глубоко духовный. Он живет в Риме вот уже три года, находясь в таком блаженном состоянии души, что буквально не видит, как разложился и прогнил Рим. — Что это — наивность? Или слепота? — Могу ли я ответить вам, что это вера? Когда у человека такое чистое сердце, как у кардинала Сен Дени, он идет по земле, чувствуя на своем плече Господню руку. Не замечая земного зла, он видит лишь Вечную Церковь. — Не знаю, хватит ли у меня сил изваять статую, в которой бы чувствовалась рука Господня. Галли покачал своей львиной головой: — Об этом придется думать уже вам самому. Работать целыми днями над образом, олицетворяющим духовный упадок, и одновременно замышлять статую на возвышенную тему казалось невозможным. Но скоро Микеланджело уже знал, что предметом его будущей работы будет «Пиета» — Оплакивание, Печаль. Ему хотелось изваять Оплакивание с тех самых пор, как он высек свою «Богоматерь с Младенцем»: ведь если «Богоматерь с Младенцем» была началом, то «Оплакивание» — это конец, предначертанное завершение всего того, на что решилась Мария в роковой час, когда воззвал к ней Господь. Теперь, через тридцать три года, после долгого своего странствования, ее сын был снова на ее коленях. Заинтересованный этим замыслом Микеланджело, Галли повел его во дворец кардинала Сен Дени: здесь им пришлось ждать, пока кардинал исполнит свои моленья и обряды, занимавшие у каждого бенедиктинца пять часов в сутки. Но вот он явился, и все трое уселись в открытой лоджии, выходившей на Виа Ректа, — позади них, на стене, была картина «Благовещенье», писанная масляными красками. После долгих молитв кардинал был мертвенно-бледен. Опытным взглядом скульптора Микеланджело видел, что под складками одежды кардинала почти не чувствуются очертания тела. Но когда речь зашла об «Оплакивании», глаза кардинала засветились. — А как насчет мрамора, Микеланджело? Можно ли найти здесь, в Риме, такой прекрасный камень, какой вам требуется? — Полагаю, что не найти, ваше преосвящество. Колонна найдется, но продолговатый, с хорошей глубиной, блок, ширина которого превосходила бы высоту, — такого блока я нигде здесь не видел. — Значит, будем искать его в Карраре. Я напишу братьям монахам в Лукку, попрошу их помочь. Если они не найдут того, что нужно, вам придется поехать в каменоломни самому и выбрать подходящую глыбу. Микеланджело подпрыгнул в кресле. — Знаете ли вы, отец, что чем выше в горах берется мрамор, тем он чище? Там нет такого давления тяжестей, и мрамор образуется без всяких полостей и изъянов. Если бы нам удалось добыть глыбу на вершине горы Сагро — это был бы замечательный мрамор! По дороге домой Галли сказал: — Вам надо ехать в Каррару немедленно. Я оплачу все расходы. — Нет, я не могу. — Почему же? — Я должен закончить «Вакха». — «Вакх» может подождать. А кардинал не может. Скоро наступит день, когда Господь опустит руку на его плечо чуть тяжелее, и Гроле вознесется на небо. А с неба он уже не закажет вам изваять «Оплакивание». — Это верно. Но я не могу прерывать работу, — упрямо твердил Микеланджело. — Я освобождаю вас от своего заказа. Когда вы закончите «Оплакивание», вы вновь возьметесь за «Вакха». — Это для меня немыслимо. Статуя уже созрела в моем воображении. Чтобы она вышла совершенной, я должен закончить ее без задержки. — Всякий раз, когда мечтательные порывы вторгаются в практические дела, я изумляюсь, — вздохнул Галли. — Докучать кардиналу рассказом о вашем упрямом фанатизме я уже не буду. — Пока не кончен «Вакх», работать над «Оплакиванием» невозможно. И поступиться своим фанатизмом я не в силах.8
Низкую подставку между плоскостью основания и пяткой Вакха он уничтожил, а правую стопу, которая как бы висела, поставил на пальцы. Затем, взявшись за дрель, он стал сверлить камень, остававшийся между локтем правой руки и чашей, сделав несколько отверстий ближе к плечу и осторожно расширяя их. В конце концов он добился того, что кисть руки, полностью выточенная, уже вздымала в воздухе чашу. Сатир в нижнем левом углу и чаша в верхнем правом теперь дополняли друг друга. Вся фигура при круговом обзоре казалась скомпонованной великолепно. С горделиво-удовлетворенным чувством он обходил и оглядывал ее, прослеживая линию от крайнего выступа правого колена до противоположного плеча; он убеждался, что сумел слить воедино все части изваяния, начиная от стенок чаши и кончая копытцами Сатира. Особую выразительность фигуре придавало распределение весовых масс. Голова Вакха наклонена, сильный торс чуть откинут, затем масса мрамора словно бы стекала к животу и тянула все тело вниз, к тазу. Тяжелые ягодицы служили как бы противовесом сзади, прекрасно изваянные бедра держали фигуру в устойчивости, хотя и не столь уж прочной, ибо опьяненный Вакх покачивался; левая его ступня была уверенно впечатана в землю, а правая, опиравшаяся на пальцы, еще раз напоминала о том, что Вакх испытывает головокружение. — Вы как инженер, — отозвался Галли, с восхищением осмотрев Вакха и разобравшись в замысле Микеланджело. — Я говорил Бертольдо, что скульптор и должен быть инженером. — Во времена императоров вы проектировали бы колизеи, термы и бассейны. Вместо всего этого теперь вы творите душу. Желтоватые глаза Микеланджело вспыхнули. — Нет души, нет и скульптуры. — Многие из моих античных статуй были найдены разбитыми на куски. Но когда мы собрали и восстановили их, дух изваяний открылся снова. — Вот почему скульптор навсегда остается жить в мраморе. В воскресенье Микеланджело пошел обедать к Ручеллаи, желая послушать новости о Флоренции. Почти во всех событиях было замешано имя Савонаролы. Римская община флорентинцев восхищалась тем, что Савонарола обличал папу, что он заявил Борджиа, будто несправедливое отлучение от церкви не имеет силы; община торжествовала и радовалась, зная, что Савонарола вопреки запрещению отслужил три мессы в соборе Сан Марко на Рождество. Савонарола будто бы писал королям, государственным мужам и князьям церкви всей Европы, требуя созыва собора, который должен изгнать Борджиа и провести самые решительные реформы, уничтожив симонию в церкви и существовавшую торговлю не только местами кардиналов, но и престолом самого папы. 11 февраля 1498 года он снова выступил в Соборе с проповедью и нападал на папу, а две недели спустя сошел с кафедры с гостией в руках и заявил тысячам флорентинцев, толпившихся на площади, что, если он заслуживает отлучения, пусть его немедленно поразит Господь. Убедившись, что Господь его не поражает, Савонарола ознаменовал свое торжество новым костром, в котором пылали предметы роскоши и искусства; его Юношеская армия вновь рыскала по городу, грабя дома. Письма Савонаролы, призывающие к реформе, тайно распространялись флорентинцами в Риме, он стал их кумиром. Когда Микеланджело рассказывал о виденном им костре, в котором погибли сотни бесценных манускриптов, книг, картин и скульптур, римских флорентинцев это мало трогало. — Если кругом голод, за пищу платят любую цену, — возражал ему Кавальканти. — Мы должны уничтожить Борджиа, во что бы это нам ни обошлось. Микеланджело находил новые доводы: — А как вы посмотрите на эту цену через несколько лет, когда ни папы, ни Боттичелли уже не будет в живых? Придет другой папа, но другого Боттичелли нам уже никогда не видать. Работы, которые он бросил в огонь, исчезли навеки. На мой взгляд, вы оправдываете беззакония во Флоренции, чтобы избавиться от них здесь, в Риме. Микеланджело не мог убедить римских флорентинцев своими рассуждениями, но папа тронул у них самое уязвимое место: он пригрозил конфисковать все имущества общины и выдворить ее из города без всяких средств, если Синьория Флоренции не доставит Савонаролу на суд в Рим. Насколько понимал Микеланджело, община пошла на полную капитуляцию: Савонарола должен умолкнуть; он должен признать себя отлученным и молить папу о прощении. Римские флорентинцы обратились к Синьории, прося ее действовать от их имени и привезти Савонаролу под стражей в Рим. Ведь папа только требует, объяснили они, чтобы Савонарола явился в Рим и получил отпущение грехов. А потом он будет волен возвратиться во Флоренцию и спасать души. В конце мая по Риму распространился слух, заставивший Микеланджело поспешить в Поите: первый помощник Савонаролы, фра Доменико, решил обречь себя на испытание огнем. Флорентинская община собралась у своего патриарха, Кавальканти. Войдя в его дом, Микеланджело был оглушен: гости шумели и кричали не только в гостиной, но и на лестнице. — Это испытание огнем — что оно означает? — спрашивал Микеланджело. — Перед масленой Савонарола накликал на себя смерть и говорил, что если его проповедь не внушена самим Богом, то пусть Бог поразит его. Может, у фра Доменико та же игра? — Почти. Разница только в том, что огонь сжигает. Виновниками всего происходившего были то ли враги доминиканцев — францисканцы, возглавляемые Франческо ди Пулья, то ли сам фра Доменико. Произнося горячую речь в защиту своего патрона, фра Доменико заявил: он так уверен в божественном внушении всего того, чему учит Савонарола, что готов в доказательство своей веры войти в огонь и вызывает на то же самое любого францисканца. На следующий день фра Франческо ди Пулья принял вызов, но настаивал, чтобы на костер шел не фра Доменико, а сам Савонарола: если Савонарола выйдет из огня живым, то Флоренция признает его за истинного пророка. Собравшись на ужин во дворце Питти, группа молодых арраббиати заверила фра Франческо и его орден, что на подобное испытание Савонарола никогда не решится. Его отказ, говорили они, покажет Флоренции, что подлинной веры в то, будто Господь Бог спасет его, у Савонаролы нет. И вот в этот момент флорентинцы выступили против Савонаролы по соображениям чисто политическим. Семь лет терпели они постоянные распри и раздоры, живя под угрозой папского проклятия и отлучения города от церкви, что сразу привело бы к прекращению торговли и самой ужасной смуте. Город нуждался в трехпроцентном налоге на церковное имущество, и папа был согласен разрешить этот налог при условии, если Савонарола смирится и смолкнет. Флорентинские избиратели лишили доверия Синьорию, поддерживавшую Савонаролу, и выбрали новый Совет, враждебный ему. Во Флоренции, как во времена гвельфов и гибеллинов, назревала гражданская война. Седьмого апреля на площади Синьории был возведен помост, бревна его вымазали смолою. Собралась огромная толпа зрителей. Францисканцы не желали выйти на площадь, требуя, чтобы фра Доменико входил в огонь без гостии. Часы ожидания шли и шли, пока не разразилась буря и не пошел дождь, заливший помост и разогнавший толпу; ни торжество костра, ни сожжение теперь было уже невозможно. На следующую ночь арраббиати напали на монастырь Сан Марко и перебили немало последователей Савонаролы. Синьория начала действовать и арестовала Савонаролу, фра Доменико и фра Сильвестро, второго помощника Савонаролы, заключив их в колокольную башню своего дворца. Папа направил во Флоренцию своего агента, требуя, чтобы Савонаролу доставили в Рим. Синьория отказалась выполнить это требование, но назначила комиссию Семнадцати, которая должна была допросить Савонаролу и добиться у него признания в том, что его проповеди не были внушены Богом. Савонарола твердо стоял на своем. Комиссия пытала его, сначала истязая на дыбе, а потом вздергивая на веревках и внезапно швыряя на пол. Савонарола впал в беспамятство, начал бредить, а затем согласился написать признание. Прекратив пытки, его отвели в темницу. То, что он написал, Синьорию не удовлетворило. Его стали пытать снова. Истощенный постами и ночными молитвами, Савонарола не выдержал мучений и подписал признание, составленное нотариусом, хотя сделал это не сразу, а уже после третьих пыток. Комиссия признала Савонаролу виновным в ереси. Специальный совет присяжных, созданный Синьорией, приговорил его к смерти. В тот же день папа разрешил Флоренции взимать трехпроцентный налог со всего церковного имущества Тосканы. На площади Синьории, близ ступеней дворца, возвели три помоста. Публика стала заполнять площадь еще с ночи, окружая тесным кольцом виселицу. К рассвету на площади и на прилегающих к ней улицах уже стояла сплошная толпа. Савонаролу, фра Доменико и фра Сильвестро вывели на ступени дворца: одежда на них была изодрана, тонзуры расцарапаны. Они взошли на эшафот и молча помолились. Затем взобрались по лесенке под самую виселицу. Им надели на шеи веревочные петли и железные цепи. Через минуту они уже раскачивались в воздухе со сломанными шейными позвонками. Костер под виселицей подожгли. Пламя взвилось вверх. Три трупа все еще висели, держась на цепях, так как веревки уже сгорели. Арраббиати кидали в полуобгоревших мертвецов камнями. Затем собрали пепел и повезли его на телегах к Старому мосту, где сбросили в Арно. Мученическая смерть Савонаролы потрясла Микеланджело. Он хорошо помнил, как Пико делла Мирандола, сидя рядом с ним, тогда еще совсем мальчиком, советовал Лоренцо пригласить монаха во Флоренцию. Савонарола способствовал смерти Лоренцо, Пико, Полициано, а теперь вот умер сам. Микеланджело лишь смутно сознавал, какие чувства шевелились в его душе: все заглушала жалость. Он погрузился в работу. В мире бушует хаос, но мрамор — надежная вещь. У мрамора есть своя воля, свой разум, у него есть постоянство. Когда в твоих руках мрамор, мир хорош.Ему хотелось поскорей закончить «Вакха». До сих пор он только намечал плоскость лба, нос, рот, полагая, что высеченная фигура подскажет и выражение лица. Теперь он отработал все детали, придав лицу Вакха, уставившегося на чашу с вином, изумленное выражение: глаза чуть выпучены, рот алчно открыт. Чтобы изваять виноград, пришлось пустить в ход дрель, — каждая ягода получилась круглой, как бы наполненной соком. Обозначая курчавую шерсть на козьих ногах Сатира, он срезал жесткую поверхность камня закругленной скарпелью, придававшей завиткам определенный ритм, — пучки шерсти ложились рядами, один за другим. Предстояло затратить еще два месяца на отделку и полировку изваяния, чтобы оно засветилось тем телесным блеском, которого хотел добиться Микеланджело. Эта работа, требовавшая необычайной осторожности и точности, была все же технической и поглощала у Микеланджело лишь часть сил: в нем действовал сейчас только ремесленник. Теперь, теплыми весенними днями, он мог вволю размыслить, в чем же заключается внутренний смысл Оплакивания. По вечерам, пользуясь прохладой, он пытался изобразить на бумаге Мать и Сына в те последние минуты, когда они были вместе. Он спросил Якопо Галли, можно ли сейчас же, не откладывая дела, подписать договор с кардиналом Сен Дени. Галли ответил, что кардинальский монастырь в Лукке уже давно заказал мраморную глыбу тех размеров, какие желал Микеланджело. Глыба была уже выломана, но каррарская каменоломня отказалась доставить ее в Рим, так как за нее не было уплачено. А монастырь в Лукке в свою очередь, не хотел платить за глыбу, пока ее не одобрил кардинал. Каменотесам надоело держать у себя глыбу без пользы, и они сбыли ее какому-то перекупщику. В тот же вечер Микеланджело набросал условия договора, который он считал справедливым как в отношении себя, так и в отношении кардинала Сен Дени. Галли монотонным голосом прочитал эти пункты вслух и сказал, что унесет документ к себе в банк и спрячет его в надежном месте. К осени «Вакх» был закончен, Галли в своем восхищении не знал границ. — Мне кажется, что Вакх совсем живой и может в любую минуту уронить чашу. А Сатир у вас и шаловлив, и невинен. Вы создали для меня самую прекрасную статую во всей Италии. Надо поставить ее в саду и устроить праздник. Слепцы-августинцы, Аврелий и Рафаэль, своими чувствительными пальцами ощупали Вакха с ног до головы, заявив, что они «еще не видели» мужской статуи, в которой была бы так выражена внутренняя сила жизни. Профессор Помпоний Лет, подвергшийся пыткам инквизиции за язычество, был тронут до слез и заверял, что композиция статуи, так же как и отделка ее атласистой поверхности, носит чисто греческий характер. Серафино, придворный поэт Лукреции Борджиа, с первого взгляда проникся к «Вакху» ненавистью, назвав его «безобразным, бессмысленным, лишенным всякого намека на красоту». Санназаро, соединявший в своих стихах образы христианства и язычества, объявил «Вакха» «олицетворением синтеза». У статуи, говорил он, стиль исполнения — греческий, чувство, вложенное в нее, — христианское, и в общем она «взяла все лучшее из обоих миров»; такая оценка напомнила Микеланджело рассуждения четверки платонистов о его «Богоматери с Младенцем». Петер Санинус, профессор красноречия в университете, собиратель раннехристианских текстов, и его друг Джованни Капоччи, занимавшийся раскопками в катакомбах, трижды приходили смотреть статую, и хорошенько обсудив ее, заявили, что, хотя они и не принадлежат к поклонникам изваяний на античные темы, «Вакх», по их мнению, — нечто новое в искусстве скульптуры. С наибольшим вниманием отнесся Микеланджело к оценке Джулиано да Сангалло. Весело улыбаясь, Сангалло разобрал весь сложный замысел статуи. — Ты построил этого «Вакха» так, как мы строим храм или дворец. Такой эксперимент в конструкции очень опасен, очень смел. У тебя все могло рухнуть. Но этот малый будет стоять до тех пор, пока не рухнет небо. На следующий день Галли принес из банка договор Микеланджело с кардиналом Сен Дени: его составил сам Галли, а кардинал под ним уже только расписался. В договоре впервые Микеланджело был назван маэстро; но тут же применялось слово статуарио, изготовитель статуй, что, конечно, звучало далеко не так уважительно. За сумму в четыреста пятьдесят дукатов в папском золоте он обязывался изваять из мрамора Оплакивание; сто пятьдесят дукатов выплачивались ему в начале работы, и сто дукатов вручались по прошествии каждых четырех месяцев. К концу года статую надо было закончить. Прочитав перечень гарантий, которые давались кардиналом Микеланджело, Галли приписал снизу:
«Я, Якопо Галли, заверяю, что работа будет самой прекрасной из всех, работ по мрамору, какие только есть сегодня в Риме; она будет такого качества, что ни один мастер нашего времени не сумеет создать лучше».Микеланджело с любовью посмотрел на Галли. — Мне сдается, что этот договор вы составляли не в банке, а, скорее, дома. — Это почему же? — Да потому что вы ставите себя под явный удар. Представьте себе, я закончу работу, а кардинал скажет: «Я видел в Риме мраморные изваяния гораздо лучше». Что вы тогда будете делать? — Верну его преосвященству папские дукаты. — И останетесь со статуей на своей шее! — Такую тяжесть я в силах вынести, — лукаво подморгнув, ответил Галли. Микеланджело бродил по каменным складам Трастевере и по пристаням, разыскивая подходящую глыбу, но блок в три аршина ширины и в аршин с четвертью толщины найти было трудно: из опасения, что такие глыбы никто не купит, в горах их не добывали. Через два дня поисков Микеланджело убедился: нужного ему по размерам камня — или даже близкого к нему — в городе нет. Однажды, уже собравшись ехать на свои собственные деньги в Каррару, он увидел, что по переулку к его сараю, задыхаясь, бежит Гуффатти. — Только что сгрузили с баржи… — говорил Гуффатти. — Того самого размера, какой ты ищешь. Вырублен по заказу каких-то монахов из Лукки. Каменотесам не уплатили, и они продали глыбу. Микеланджело со всех ног кинулся на пристань в Рипетту. Вот она, глыба, белоснежная, чистая, мастерски вырубленная высоко в горах Каррары, стоит, сияя в горячих лучах солнца. Как чудесно отзывается она на стук молотка, как хорошо выдерживает испытание водой, мягкие ее кристаллы плотно легли друг к другу, зерно превосходно. Ночью, перед рассветом, он снова сидел подле камня, следя, как его заливают лучи восходящего солнца; вот уже глыба стала прозрачной, светясь, будто розовый алебастр, и ни одной трещины, ни одной ямки или полости, ни одного желвака невозможно было отыскать в ее тяжелом, широком теле. Глыба для «Оплакивания» обрела свой дом.
9
Он начисто убрал все, что оставалось от работы над «Вакхом», и принялся за «Оплакивание». Но «Вакх» по-прежнему вызывал различные толки. Много людей приходило смотреть на него. Галли приводил посетителей в мастерскую или посылал туда слугу спросить, не выйдет ли Микеланджело в сад. Микеланджело должен был объясняться и защищать свою точку зрения, в особенности перед поклонниками Бреньо, утверждавшими, что Микеланджело в своей статуе «извратил легенду о Дионисе». Беседуя же с теми посетителями, которые выражали перед его «Вакхом» восторг, он невольно рассказывал им о своем замысле статуи и технических сторонах ее исполнения. Галли приглашал его теперь на ужин каждый вечер, звал побеседовать и в воскресенье, так что Микеланджело мог приобрести множество друзей и ждать новых заказов на будущее. Ручеллаи, Кавальканти, Альтовити ныне гордились им. Они давали в его честь званые вечера, после которых наутро он чувствовал себя усталым и разбитым. Ему хотелось теперь забыть, избавиться от «Вакха», выбросить из головы мысль об этом языческом изваянии и настроиться на возвышенный, духовный лад, как этого требовал сюжет Оплакивания. Когда прошел месяц, насыщенный зваными вечерами и празднествами, ему стало ясно, что ни обдумать, ни изваять Оплакивание в такой обстановке невозможно и что теперь, когда он утвердил себя как профессиональный скульптор, настало время завести собственное жилище и мастерскую, где бы он спокойно работал в полном уединении, работал днем и, если хотел, ночью, устранясь от всякой суеты. Он уже возмужал для этого. Он уже чувствовал твердую почву под ногами и иного пути для себя впереди не видел. Чуткий Якопо Галли однажды спросил его: — Вас что-то беспокоит, Микеланджело? — Да, беспокоит. — Что-нибудь серьезное? — Моя неблагодарность. — Вы мне не обязаны ничем. — Все, кому я был обязан больше других, все мне говорили то же самое — Лоренцо де Медичи, Бертольдо, Альдовранди и теперь вот вы. — Скажите мне, что вы намереваетесь делать? — Уехать от вас! — выпалил он. — Жизнь с семейством Галли слишком спокойна и приятна… — Он замолк на секунду. — Я чувствую, что мне надо работать под своей собственной крышей. Быть мужчиной, а не юнцом, не вечным гостем и нахлебником. Вам не кажется, что я поступаю опрометчиво? Галли задумчиво посмотрел на него. — Я хочу только, чтобы вы были счастливы и чтобы вы создавали изваяния, самые прекрасные в Италии. — Для меня это одно и то же. Он начал ходить по городу и искать дома со свободным нижним этажом — побывал по совету Альтовити в флорентинском квартале, осмотрел один дом близ Квиринальской площади с прекрасным видом на Рим. Все эти жилища казались ему чересчур роскошными и дорогими. На третий день, бродя по Виа Систина и оказавшись напротив гостиницы «Медведь», у края Марсова поля и чуть ниже набережной Тибра, он нашел просторную угловую комнату с двумя окнами: одно выходило на север, пропуская ровный, постоянный свет, а другое на восток, откуда врывались резкие лучи утреннего солнца, — такой свет Микеланджело иногда тоже был нужен. Позади этой комнаты была другая, поменьше, с исправным очагом. Микеланджело уплатил за два месяца вперед несколько скуди, снял навощенные холсты с оконных рам и хорошенько осмотрел помещение: деревянный пол обветшал и кое-где подгнил, цемент между камнями стен крошился, штукатурка на потолке осыпалась целыми кусками, обнажая унылые разноцветные разводы в тех местах, где протекали струи дождя. Микеланджело сунул в карман полученный ключ и побежал к Галли. Там его ожидал Буонаррото. Вид у брата был прямо-таки ликующий. Буонаррото добрался до Рима с караваном, нанявшись погонщиком мулов, и путешествие не стоило ему ни гроша. Возвращаться домой он хотел таким же способом. Микеланджело с радостью смотрел на загорелое, крепко вылепленное лицо Буонаррото, на его волосы, тоже опущенные, в подражание старшему брату, на брови. Прошел уже целый год, как они не виделись. — Ты приехал в такое время, что лучше и не придумать, — говорил Микеланджело. — Мне нужен помощник, чтобы перебраться в мой новый дом. — Ты обзавелся квартирой? Ну, тогда я останусь с тобой! — Сначала ты осмотри мои роскошные хоромы, а потом уже решай, что делать, — улыбнулся Микеланджело. — Пойдем со мной в Трастевере, мне надо раздобыть штукатурки, извести и щелока. Но сперва я покажу тебе своего «Вакха». Буонаррото оглядывал статую очень долго. Потом он спросил: — Нравится она людям? — Большинству нравится. — Это хорошо. И Буонаррото не прибавил больше ни слова. «Он не имеет ни малейшего понятия, что такое скульптура, — размышлял Микеланджело. — Он заинтересован только в том, чтобы люди одобряли мою работу и чтобы я был счастлив этим и мог получать еще больше заказов на статуи… которых ему никогда не понять. Как истый Буонарроти, в искусстве он совершенно слеп. Но он любит меня». Закупив известь и прочий материал, братья пообедали в Тосканской траттории, затем Микеланджело повел брата на Виа Систина. Ступив в комнату, Буонаррото присвистнул: — Микеланджело, неужели ты и вправду собираешься жить в этой… в этой дыре? Тут все рушится и рассыпается в труху. — А мы с тобой затем и пришли, чтобы не рассыпалось, — непреклонно ответил Микеланджело. — Для работы комната вполне годится. — Отец будет весьма огорчен. — А ты не говори ему, — рассмеялся Микеланджело. И, поставив посреди комнаты высокую лестницу, приказал: — Давай-ка соскребать с потолка эту пакость! Содрав старую штукатурку и промазав потолок свежей, братья перешли к стенам, затем стали чинить пол, заменяя прогнившие половицы новыми. Следующей задачей было навести порядок во внутреннем дворике. Единственная дверь в этот дворик выходила из комнаты Микеланджело, но другие жильцы пользовались вместо дверей окнами, в результате чего дворик был завален чудовищными кучами мусора и отбросов. Вонь там стояла такая же непробиваемая, как окружающие стены. Два дня братья лопатами укладывали весь этот хлам в мешки и, пронеся их через свою комнату, опорожняли на пустыре около Тибра. Питавший отвращение ко всякой физической работе, Бальдуччи объявился лишь после того, как Микеланджело и Буонаррото закончили ремонт. Он знал в Трастевере одного торговца подержанными вещами и очень недорого купил у него кровать, матрац из пеньки, кухонный стол, два плетеных стула, комод, несколько горшков, тарелок и ножей. Когда на ослике, запряженном в тележку, весь этот скарб был перевезен, братья поставили кровать возле восточного окна, с тем чтобы Микеланджело просыпался при первых лучах солнца. Комод нашел себе место у задней стены, ближе к кухне. Напротив окна, выходившего на север, Микеланджело поставил стол, сколоченный из четырех досок, на козлах, — на нем он будет рисовать и лепить восковые и глиняные модели. Середина комнаты оставалась свободной для работы над мрамором. Заднюю каморку отвели под кухню — там поместились кухонный стол, стулья, горшки и тарелки. Тщательно разведав, какие будут у Микеланджело соседи, Бальдуччи говорил ему: — Тут за стеной живет одна аппетитная куропаточка — блондинка, всего лет пятнадцати, очень стройная. Француженка, на мой взгляд. Могу уговорить ее — пойдет к тебе в служанки. Представь себе, как приятно: поработаешь до обеда, а она тут как тут на кухне, ждет тебя с горшком горячего супа. — Бальдуччи, приплясывая, прошелся по комнате. — Аночью, глядишь, она у тебя и в постели. Это тоже входит в ее обязанности. Ведь в этой пещере тебе надо как-то согреваться: немного естественного тепла не помешает. Микеланджело и Буонаррото хохотали, Бальдуччи же так загорелся, что готов был бежать за девушкой тотчас, не откладывая дела ни на минуту. — Нет, Бальдуччи, — урезонивал его Микеланджело, — я не хочу ничего такого, что осложнило бы мне жизнь, да и денег у меня на служанку не хватит. Если мне кто и нужен, так это, по старому обычаю художников, юный подмастерье: я бы его учил, а он бы на меня работал. — Я поищу тебе во Флоренции расторопного мальчишку, — отозвался Буонаррото. Буонаррото помог Микеланджело устроиться на новом месте, покупал и готовил пищу, убирал в комнатах. Но весь этот порядок рухнул, как только он уехал. Погруженный в работу, Микеланджело не удосуживался ни сварить себе обед, ни закусить в таверне или у лотка уличного торговца. Он исхудал и выглядел таким же неряшливым, какой стала его квартира. Забыв обо всем на свете, он не отрывался от рабочего стола и думал лишь об огромном беломраморном блоке, установленном на распорах посреди комнаты. Он даже не заботился о том, чтобы прибрать постель или вымыть посуду, оставшуюся на кухонном столе. В комнатах оседала залетевшая с улицы пыль, сеялась сажа от очага в кухне, где Микеланджело время от времени кипятил себе питьевую воду. К концу месяца он понял, что так жить не годится, и уже начал посматривать на маленькую француженку, о которой говорил Бальдуччи; к тому же девушка шмыгала у его двери гораздо чаще, чем, по его мнению, было необходимо. Выход из положения нашелся благодаря вмешательству Буонаррото. Однажды под вечер Микеланджело услышал стук в дверь и, выглянув на улицу, увидел забрызганного дорожной грязью мальчугана лет тринадцати с простодушным лицом оливкового цвета. Мальчик подал письмо, и Микеланджело сразу узнал почерк брата. Буонаррото рекомендовал в своем письме Пьеро Арджиенто, приехавшего во Флоренцию в надежде найти скульптора, к которому он мог бы поступить в ученики. Кто-то направил мальчика в дом Буонарроти, и теперь он, пройдя весь долгий путь пешком, добрался до Рима. Микеланджело провел Пьеро в комнату и пристально разглядывал его, пока тот говорил о своих родных, живших в деревне близ Феррары. Голос у мальчика был чистый и ясный, держался он спокойно. — Умеешь ты читать и писать, Арджиенто? — Монахи в Ферраре обучили меня письму. Теперь мне надо обучиться ремеслу. — Ты считаешь скульптуру хорошим ремеслом? — Я хочу поступить в ученики сроком на три года. По договору с цехом. Такая строгая деловитость и прямота поразили Микеланджело. Он взглянул в запавшие карие глаза мальчугана, оглядел его худую шею, грязную рубашку, разорванные старые сандалии. — Есть у тебя знакомые в Риме? Дом, куда ты мог бы пойти? — Я шел к вам. — Это было сказано настойчивым, твердым тоном. — Я живу очень просто, Арджиенто. Ты не можешь рассчитывать здесь на роскошь. — Я деревенский. Мы едим любую еду, лишь бы ее было вдоволь. — Ну, раз тебе нужна крыша, а мне нужен помощник, давай попробуем пожить вместе хотя бы несколько дней. Если у нас ничего не выйдет, расстанемся как друзья. На обратный путь во Флоренцию денег я тебе дам. — Согласен. Спасибо. — Возьми-ка вот эту монетку и сходи помойся в банях около церкви Санта Мария делль Анима. А когда будешь возвращаться, купи что-нибудь на рынке — надо сварить обед. — Я сварю вам прекрасный деревенский суп. Научился у покойницы матери. Феррарские монахи научили Арджиенто не только счету, но и безупречной честности. Уходя на рынок еще до рассвета, мальчик брал с собой для записей огрызок карандаша и бумагу. А возвратясь с покупками, трогал сердце Микеланджело тем, что самым пунктуальным образом отчитывался в расходах: все у него старательно и точно было записано — столько-то динаров он уплатил за овощи, столько за мясо, фрукты, хлеб и макароны. Весь этот небогатый запас Микеланджело складывал в печной горшок, надеясь, что еды хватит на неделю. Закупая продукты, Арджиенто яростно торговался. Ему потребовалась всего неделя, чтобы прекрасно освоиться в городе и знать, что и где продают. На рынок он выходил ни свет ни заря: это совпадало с интересами Микеланджело, который мог подумать и поработать с утра в одиночестве. У них установился простой и твердый распорядок дня. В середине дня после обеда, состоявшего всего из одного блюда, Арджиенто прибирал в комнатах, а Микеланджело уходил на час прогуляться; он шел берегом Тибра вплоть до пристаней и слушал там песни сицилианцев, разгружавших лодки и баржи. Когда он возвращался домой, Арджиенто уже спал на своей низенькой кровати, стоявшей в кухне рядом с лоханью. Часа два Микеланджело спокойно работал, потом Арджиенто вставал, умывался, громко фыркая и плескаясь в тазу, и подсаживался к Микеланджело, чтобы исподволь привыкать к работе. Этими немногими послеобеденными часами и исчерпывалось время, которое Арджиенто тратил на ученье; большего он, кажется, и не хотел. Когда опускались сумерки, он снова был на кухне и кипятил воду. Вечерняя темнота заставала его уже в постели: он засыпал, надежно укрыв голову одеялом. Микеланджело зажигал масляные светильники и вновь садился за работу. В душе он был благодарен Буонаррото за то, что тот прислал ему Арджиенто: совместная жизнь с ним как будто налаживалась, хотя мальчик не проявлял и тени таланта к рисованию. Позднее, когда надо будет работать над мрамором, он постарается научить юнца держать в руках резец и молоток. В Евангелии от Иоанна Микеланджело читал: «После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса… просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса… Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим… и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». И тут же указывалось, кто был при снятии с креста: Мария, сестра Марии, Мария Магдалина, Иоанн, Иосиф из Аримафеи, Никодим. Как ни старался Микеланджело, он не мог найти в Евангелии таких строк, где бы говорилось о минутах, когда Мария оставалась одна с Иисусом. Там постоянно толпились люди; все было точно так, как изобразил в своем болонском «Оплакивании» делл'Арка: убитые горем, рыдающие зрители лишали Марию возможности оплакать своего сына уединенно. По мысли же Микеланджело, в композиции никого, кроме Христа и Марии, не должно было быть. С самого начала он хотел сотворить из камня только мать и сына — только их, наедине со вселенной. Но когда же могла Мария держать свое мертвое дитя на коленях? Может быть, сразу после того, как солдаты положили его наземь, а Иосиф из Аримафеи выпрашивал тело Христа у Понтия Пилата? Никодим в ту минуту, возможно, готовил настой смирны и алоя, а все остальные с плачем пошли по домам. Пусть же займут место евангельских спутников Марии те, кто будет смотреть на уже изваянное Оплакивание. Они почувствуют, что происходит с Марией. И пусть в этом изваянии не будет никаких нимбов, никаких ангелов. Будет только два человеческих существа, избранные богом на страдание. Он словно бы ощущал Марию рядом: так много он когда-то думал о начале ее рокового пути. Теперь она вся в нервном напряжении, в муках — ее сын простерт перед нею мертвый. Если он впоследствии и воскреснет, сейчас он мертв, воистину мертв, и следы томления на его лице говорят о том, что он испытал на кресте. И значит, в изваянии нельзя показать какие-либо чувства Иисуса по отношению к матери, можно лишь выразить чувства Марии к сыну. Тело Иисуса будет безжизненным, инертным, глаза его закрыты. Всю тяжесть горя примет на себя перед зрителем Мария. Это, казалось Микеланджело, будет верным решением темы. Устав от таких дум, Микеланджело обращался к технической стороне дела. Если Христос будет изваян в натуральный рост, то как добиться того, чтобы, лежа на коленях Марии, он не нарушал простоты и естественных пропорций статуи? Ведь, по мысли Микеланджело, Мария — нежная, хрупкая женщина, а взрослый мужчина должен был лечь на ее руки с такой же убедительностью для зрителя, как если бы это было малое дитя. Этого можно было достичь только одним путем — набрасывать рисунок за рисунком, схему за схемой и ждать, пока в какую-то минуту в голове не блеснет верная мысль. Он начал небрежно водить углем по бумаге, стараясь дать волю воображению. Образы, жившие где-то внутри его сознания, стали постепенно обретать видимые черты. Все чаще выходил он теперь на улицу, вглядываясь в прохожих, смешиваясь с толпою на рынках: он старался хорошенько запомнить и лица, и фигуры людей, и их движения. В особенности он следил за нежными тонколицыми монахинями с прикрытыми вуалью лбами — придя домой, он тут же, не откладывая, чтобы ничего не забыть, зарисовывал их облик. Осознав, что драпировки могут сыграть в изваянии конструктивную роль, он принялся изучать их самым тщательным образом. Слепив из глины эскиз статуи в натуральную величину, Микеланджело купил дешевой тонкой ткани и, чтобы сделать ее более тяжелой, намочил в тазу и промазал жидкой глиной, которую Арджиенто принес с берега Тибра. Ни одна складка ткани не должна ложиться случайно, каждая ее впадина, каждый изгиб должен органически служить общему замыслу и так прикрывать нежные ноги Пресвятой, чтобы выглядеть естественной опорой для тела Христа и подчеркивать душевные муки Богородицы. Когда ткань высохла и затвердела, Микеланджело увидел, каких исправлений требует его работа. — Не очень-то чистое это дело — скульптура, — с досадой сказал Арджиенто, замывая на полу грязь недельной давности. — Все равно что лепить пироги из глины. — Разве ты не видишь, Арджиенто, — весело ответил ему Микеланджело, — что стоит собрать складки в узел, как вот здесь, или плавно опустить их вниз — и фигура от этого сразу же выиграет. В складках таится такая же выразительность, как и в самом теле. Чтобы яснее представить себе облик Христа, надо было рисовать иудейские лица, и Микеланджело пошел в — еврейский квартал. Он был расположен в Трастевере, близ Тибра, у церкви Сан Франческо а Рипа. До 1492 года, когда испанская инквизиция начала гонения на евреев, в Риме их было очень мало. Отношение к евреям здесь было в общем хорошее; в них видели напоминание о том «наследии Ветхого завета», которое восприняло христианство; много одаренных евреев играли видную роль при Ватикане в качестве врачей, музыкантов, банкиров. Как и всюду, люди здесь не возражали, если Микеланджело рисовал их за работой, но уговорить кого-либо позировать в мастерской было невозможно. Микеланджело надоумили сходить в субботу вечером в синагогу и посоветоваться с рабби Мельци. Рабби Мельци, тихий белобородый старик со светящимися серыми глазами, в черном длиннополом одеянии и в ермолке, сидел за столом в притворе учения и вместе с несколькими членами своей общины читал талмуд. Когда Микеланджело объяснил, зачем он явился, рабби Мельци сурово заметил: — Библия запрещает нам поклоняться идолам и изображать их. Поэтому у нас все, кто способен к творчеству, отдают свое время литературе, а не живописи или скульптуре. — Но, рабби Мельци, разве вы против того, чтобы люди другой веры занимались изобразительным искусством? — Отнюдь не против. Каждая вера держится своих правил. — Я высекаю из белого каррарского мрамора Оплакивание. Мне хочется изваять Христа с обликом истинного еврея. Я не смогу это сделать, если вы мне не поможете. Задумавшись на минуту, рабби тихо сказал: — Я совсем не желаю, чтобы у наших людей возникали трения с церковью. — У меня заказ от кардинала Сен Дени. Я уверен, что он одобрит это. — Какие именно натурщики вам требуются? — Из мастеровых. Лет тридцати — тридцати пяти. Но не грузные парни, не силачи, а просто жилистые люди. И с рассудком. С какими-то чувствами. В бесконечно старых, но веселых глазах рабби Мельци заиграла улыбка. — Напишите мне, как вас разыскать. Я пришлю вам самого лучшего натурщика, какой только у нас найдется. Взяв с собой рисунки, Микеланджело поспешил на холостяцкую квартиру Сангалло с просьбой: не поможет ли архитектор смастерить такую скамью, которая воспроизводила бы сиденье Богоматери, как оно выглядело на рисунках. Сангалло немного подумал, глядя на наброски Микеланджело, и сделал небольшой чертеж. Микеланджело купил тесу. Вдвоем с Арджиенто они сколотили скамью Марии и задрапировали ее одеялами. Первый натурщик пришел вечером, в сумерки. Когда Микеланджело предложил ему раздеться, тот был так смущен, что пришлось увести его в кухню, где он, сняв с себя одежду, повязал бедра полотенцем. Затем Микеланджело уложил парня на скамью и стал объяснять, что незадолго до того натурщик умер и что сейчас мать держит его, мертвого, на коленях. Было очевидно, что юноша принимает Микеланджело за сумасшедшего и готов тотчас бежать: его удерживал только приказ рабби. Под конец сеанса, когда Микеланджело показал ему свои быстрые, свободные наброски, где была изображена мать, державшая на коленях сына, парень понял, чего добивался Микеланджело, и обещал поговорить со своими друзьями… Рабби присылал теперь одного человека за другим: Микеланджело работал с ними по два часа ежедневно. Образ Марии влек за собой совсем другие заботы. Хотя статуя должна была показать мать Христа через тридцать три года после ее рокового решения, Микеланджело не мыслил Богородицу как женщину пятидесяти с лишним лет, увядшую, морщинистую, изможденную трудом и тревогами. Пресвятая дева виделась ему такой же юной, какою он помнил свою собственную мать. Якопо Галли познакомил Микеланджело с несколькими римскими семьями. Он ходил в их дома и рисовал там молодых, не старше двадцати лет, девушек или недавно вышедших замуж женщин. Поскольку в больнице при монастыре Санто Спирито были только мужчины, Микеланджело не удалось с ножом в руках заниматься анатомией женщины, но в свое время в Тоскане он немало рисовал их в полях и за домашней работой. И сейчас, глядя на римлянок в их шелковых и полотняных платьях, он умел за ниспадающими широкими складками угадать очертания живого тела. Он напряженно трудился неделю за неделей. Теперь надо было согласовать, слить две фигуры изваяния воедино: Марию, еще молодую и нежную, но достаточно сильную, чтобы держать сына на коленях, и Иисуса, который, несмотря на худобу, был силен и крепок даже в смерти… именно такое впечатление осталось в памяти Микеланджело от работы в покойницкой Санто Спирите. Он добивался воплощения своего замысла на бумаге и компоновал фигуры, даже не заглядывая в подготовительные наброски, сделанные с натуры: все подсказывала ему цепкая, точная память. Скоро уже можно было перейти от плоского бумажного листа к трехмерной модели из глины. Лепил Микеланджело свободно, не стремясь к абсолютной точности, потому что при переводе в другой материал формы все равно должны измениться. Желая что-либо подчеркнуть и усилить, он то добавлял глины, то отщипывал и срезал ее. Затем он взялся за воск: у воска есть нечто общее с мрамором — они схожи на ощупь и оба просвечивают. Он питал уважение ко всякому материалу и применялся к его особенностям: в рисунках пером штрих у него как бы передавал ткань кожи; глину он заставлял выражать мягкое движение телесных форм — живота, откинутого назад торса; гладкий воск хорошо показывал поверхность тела, ее эластичность. Но ни глиняная, ни восковая модель никогда не были для него эталоном; они служили лишь некоей отправной точкой, грубым эскизом. С резцом в руках он обретал новый заряд энергии: тщательная разработка модели только связывала бы его, как путы, принуждая воспроизводить в мраморе то, что было вылеплено раньше в глине и воске. Истинный порыв таился лишь в самом мраморе. Рисование и лепка моделей были только мышлением Микеланджело. Рубка мрамора — действием.10
Совместная жизнь с Арджиенто текла ровно, хотя порой Микеланджело не мог понять, кто из них хозяин, а кто подмастерье. Иезуиты воспитали Арджиенто в такой строгости, что Микеланджело был не в силах изменить его привычки: рано утром мыть пол, невзирая на то, грязен он или чист, каждый день кипятить на очаге воду и стирать белье, после каждой трапезы чистить речным песком горшки. — Какой в этом смысл, Арджиенто? — жаловался Микеланджело, не любя работать на влажном полу, особенно в холодную погоду. — Ты чересчур много думаешь о чистоте. Мой полы в мастерской раз в неделю. Этого вполне достаточно. — Нет, — тупо твердил Арджиенто. — Надо каждый день. На рассвете. Так меня учили. — Помоги, господи, всякому, кто захочет тебя переучить! — ворчал Микеланджело, хотя и понимал, что ворчать не следует, ибо Арджиенто доставлял ему не так уж много хлопот. Мальчик свел теперь знакомство с крестьянами, привозившими свой сельский товар на римские рынки. В воскресенье он обычно уходил пешком за город, в деревню, погостить у новых друзей-крестьян и полюбоваться на лошадей. Покинув свой родной дом в долине По, Арджиенто ни о чем так не тосковал, как о животных. Прощаясь по субботам с Микеланджело, он нередко говорил так: — Сегодня я иду к лошадям! Надо было стрястись беде, чтобы Микеланджело увидел, насколько мальчик, предан ему. Однажды, стоя у наковальни, во дворе, Микеланджело обтачивал свои резцы, и кусочек стали, отскочив, попал ему в глаз и застрял в самом зрачке. Еле-еле Микеланджело добрался до мастерской, глаз горел как в огне. Арджиенто уложил его в постель, приготовил кастрюлю горячей воды, смочил в ней чистую белую тряпицу и с ее помощью пытался извлечь осколок из глаза. Хотя глаз сильно болел, Микеланджело не очень беспокоился. Ему казалось, что он проморгается и что осколок скоро выпадет сам. Однако время шло, а все оставалось по-прежнему. Арджиенто всю ночь не отходил от Микеланджело, он то и дело подогревал воду и ставил ему горячие компрессы. На следующий день Микеланджело не на шутку встревожился, а ночью был в полной панике: поврежденный глаз уже ничего не видел. С рассветом Арджиенто кинулся к Якопо Галли. Тот пришел со своим домашним врачом, маэстро Липпи. В руках у врача была клетка с живыми голубями. Он велел Арджиенто вынуть из клетки голубя, надрезал ему большую вену под крылом и промыл голубиной кровью раненый глаз Микеланджело. Вечером врач явился снова, надрезал вену у другого голубя и вновь промыл глаз. Наутро Микеланджело почувствовал, что осколок в его глазу двигается. К вечеру он выпал. Арджиенто не ложился спать в течение семидесяти часов. — Ты очень устал, — сказал ему Микеланджело. — Почему бы тебе не отдохнуть и не погулять несколько дней? Обычное выражение упрямства на рожице Арджиенто сменилось радостной улыбкой: — Тогда я пойду к лошадям!На первых порах Микеланджело раздражали люди, постоянно входившие и выходившие из гостиницы «Медведь», что была напротив его квартиры, беспокоил доносившийся топот лошадей и стук карет по булыжной мостовой, сердили крики возниц и шумный говор на десятке языков и наречий. Теперь же он смотрел на улицу со все большим любопытством: так интересны были среди толпы паломники, стекавшиеся в Рим со всей Европы, — один шел в длинном плаще, другой в короткой, сверкавшей всеми переливами зеленого и пурпурного цвета тунике, а третий выделялся своей широкой жесткой шляпой. Прохожие служили ему неисчерпаемым источником натуры: сидя за столом у открытого окна, он без устали рисовал и рисовал их. Скоро многих завсегдатаев улицы Микеланджело знал уже в лицо — как только подобный знакомец появлялся перед окном, он хватал незаконченный рисунок и дорисовывал его, спешно поправляя, что было нужно: так возникали на бумаге люди в самых разнообразных движениях — вот кто-то разгружает телегу, тащит дорожную суму или сундучок, кто-то сбрасывает с плеч поклажу, взбирается на мула или слезает с него. Уличный шум, говор и возгласы, кучки и толпы прохожих — все это как бы заменяло ему собеседников, ничуть не нарушая его уединения. Он жил в таком одиночестве, что мелькавшие за окном люди порождали в нем ощущение, будто он постоянно общается с ними. Большего ему и не надо было, ибо, если у него в руках мрамор, он никогда не будет чувствовать себя на отшибе и смотреть на людей откуда-то со стороны, — нет, он будет находиться как бы среди них, в самой их гуще. Набрасывая композицию «Оплакивания» на бумаге, Микеланджело резкими линиями заштриховывал те места, которые надо было выбрать, изъять из глыбы, — чернильные штрихи словно обозначали направление будущих ударов инструмента. Теперь же, взявшись за молоток и резец и обрубая лишний камень, он не испытывал удовольствия и нетерпеливо ждал того дня, когда скрытые в мраморе образы проступят въявь, когда его блок оживет и заговорит с ним. Начав обрабатывать лицевую сторону глыбы, Микеланджело скоро перешел к фигурам. Еще несколько недель труда — и эти фигуры обретут свою трепетную плоть, выступят из плоскости камня, приблизятся к зрителю. Но сейчас, начиная работу, Микеланджело, наоборот, должен был идти в глубь блока и, вслед за резцом, устремлять свое внимание и взгляд к потаенным, скрытым под поверхностью пластам. Он домогался столь крупной глыбы, так как ему хотелось ваять, видя перед собой изобилие мрамора. У него нет теперь ни нужды, ни желания утеснять хотя бы единый выступ или форму, как он утеснял их когда-то, прижимая друг к другу фигуры Вакха и Сатира. Он вломился в глыбу, начав срубать камень по левую сторону от головы Богородицы, и шел влево все дальше; свет из северного окна падал из-за спины, сзади, поворачивая с помощью Арджиенто блок на подпорах, он мог поставить его так, чтобы тени ложились в тех местах, где надо было высечь углубления, — игра света и тени показывала ему, какие куски камня надо изъять: отсеченный мрамор тоже был скульптурой, создавал собственные эффекты. Теперь Микеланджело оставалось смело врезаться в толщу и нащупать основные, решающие формы. Тяжесть капюшона Богородицы, заставляющая ее склонить голову вниз, к руке Христа, лежавшей близ ее сердца, останавливала внимание зрителя на мертвом теле, распростертом на коленях матери. Плотная лента, бежавшая между грудей Девы, напоминала руку, крепко стиснувшую трепетное, пульсирующее сердце. Линии складок на платье шли к руке Богородицы, которой она держала сына, надежно подхватив его за плечи, потом уводили взгляд к Христову телу, к его лицу, к глазам, мирно закрытым в глубоком сне, к прямому, не столь уж тонкому носу, к чистой и гладкой коже на щеках, к мягким усам, к вьющейся нежной бородке, к искаженному мукой рту. Склонив голову, Богородица смотрела на своего сына, а зрителю надо было заглянуть в ее лицо — в нем читалась такая печаль, сострадание ко всем сынам человеческим, полный кроткого отчаяния вопрос: «Что я могла сделать, чтобы спасти его?» И другой, идущий из глубины ее любящей души: «В чем смысл происшедшего, к чему оно, если человек не может быть спасен?» Все, кто увидит изваяние, почувствуют, что мертвое тело сына лежит на ее коленях невыносимой тяжестью и что гораздо большая тяжесть легла на ее сердце. Соединить две фигуры, взятые в натуральную величину, в одном изваянии, положить вполне взрослого мужчину на колени женщине — это было дерзостно новым, необычайным шагом в скульптуре. Приняв такую композицию, Микеланджело тем самым отринул все прежние представления об Оплакивании. Как когда-то Фичино считал, что Платон мог бы быть любимейшим учеником Христа, так и Микеланджело стремился теперь сочетать эллинские представления о красоте человеческого тела с христианским идеалом бессмертия человеческой души. Микеланджело отвергал мрачный, траурный дух прежних «Оплакиваний», погружая свои фигуры в атмосферу покоя и умиротворенности. Человеческая красота могла возвестить святую чистоту духа с такой же ясностью, как и боль. И с такою же силой его возвысить. Все это — и многое другое — надо было заставить мрамор высказать. Когда последний час овеян такой трагичностью, пусть ему сопутствует красота. Он, Микеланджело, щедро насытит его мрамор и выразит свою любовь и поклонение с тою же чистотой, какая была в этом безупречно белом блоке. Возможно, он в чем-то и ошибается, но ошибки эти будут сделаны любящими руками. Зима обрушилась нежданно, как удар грома. И с нею хлынули стужа, сырость и ветер. Как и предсказывал Буонаррото, потолок начал протекать. Чтобы вытереть на полу воду, Микеланджело и Арджиенто передвинули рабочий стол и кровать в другой угол, потом перенесли со двора в комнату горн. Микеланджело надел свою болонскую шапку, прикрывающую уши. Ноздри у него распухли, причиняя постоянную боль, — дышать было трудно. Скоро пришлось приобрести чугунную жаровню и ставить ее во время работы под стул, чтобы обогреваться снизу, но стоило Микеланджело отойти на минуту в строну, как у него начинали стучать от холода зубы. Он послал Арджиенто купить еще две жаровни и корзину угля: это сильно опустошило его кошелек. Пальцы у него так замерзали, что он был вынужден работать, надев шерстяные рукавицы. Вскоре, однако, это привело к беде: от глыбы неожиданно отвалился кусок, и, когда он со стуком упал на пол, у Микеланджело было такое чувство, словно это упало его сердце. Как-то в воскресный день Арджиенто вернулся домой сам не свой, у него был жар и головокружение. К полуночи ему стало очень плохо. Микеланджело поднял мальчика и перенес его на собственную кровать. Утром Арджиенто был весь в поту и начал бредить — звал родичей, рассказывал о каких-то давних происшествиях, о порках и несчастьях. Микеланджело отирал у него пот с лица и держал за руки: мальчик несколько раз порывался вскочить с постели. Когда рассвело, Микеланджело окликнул первого прохожего и попросил сходить за доктором. Доктор явился и, не переступая порога, закричал: — Это чума! Сожгите сейчас же все вещи, к каким прикасался больной. Микеланджело дал знать обо всем Галли. Маэстро Липпи, бегло осмотрев Арджиенто, сказал презрительно: — Глупости, это совсем не чума. Перемежающаяся лихорадка. Он не бывал в последнее время подле Ватикана? — Был, в воскресенье. — И, наверное, пил тухлую воду из канавы возле стены. Сходите к французским монахам на Эсквилин — они делают пилюли из шалфея, соли и колоквинта. Микеланджело умолил соседа посидеть с Арджиенто. Почти целый час, под проливным дождем, шел он через весь город — сначала ему надо было пройти по длинной улице за форумом Траяна, потом, обогнув форум Августа и базилику Константина, добраться до Колизея и, наконец, до монастыря на Эсквилинском холме. Пилюли словно бы и помогли Арджиенто, боль в голове прошла, и в течение двух спокойных дней Микеланджело уже думал, что опасность миновала, но затем Арджиенто снова впал в забытье и стал бредить. К концу недели Микеланджело совсем выбился из сил. Чтобы не оставлять больного без присмотра, Микеланджело поставил его кровать в мастерской: заснуть ему удавалось только в те редкие минуты, когда засыпал Арджиенто. Микеланджело мучился, борясь с дремотой, но еще тяжелее было бороться с голодом: выйти из дому и купить еды Микеланджело не мог, не желая бросать мальчика одного. Тогда-то в дверь постучался Бальдуччи. — Я говорил тебе, что надо было взять в служанки ту француженку. Заболей она, и за ней ухаживал бы не ты, а ее семейство. — Что говорить о прошлом, — устало отмахнулся Микеланджело. — Еще столько тяжелого впереди. — Держать мальчишку здесь больше немыслимо. Посмотри, на кого ты стал похож. Отправь его в больницу Санто Спирито. — Чтобы он там умер? — Почему же он там умрет? — Потому что в больницах совсем не лечат. — А чем именно лечишь его ты, доктор Буонарроти? — Я слежу, чтобы все было чисто, не отхожу от него ни на минуту… Он ухаживал за мной, когда я повредил себе глаз. Как я его брошу, оставлю на чужое попеченье? Это не по-христиански. — Если ты твердо решил погубить себя, я буду каждое утро, перед тем как идти в банк, приносить тебе какой-нибудь еды. От нахлынувшего чувства благодарности Микеланджело чуть не заплакал. — Бальдуччи, ты только разыгрываешь из себя циника. Вот возьми, пожалуйста, деньги и купи мне полотенец да одну-две простыни. И тут Микеланджело заметил, что на него пристально смотрит Арджиенто. — Я скоро умру, Микеланджело. — Нет, нет, ты не умрешь, Арджиенто. Крестьянин не может умереть так просто — разве что на него свалится скала! Прошло три недели, прежде чем болезнь отступила. Самое худшее было в том, что пропал почти целый месяц для работы; Микеланджело волновался, опасаясь, что не сможет закончить статую в обусловленный годовой срок. Зима в Риме была, по счастью, коротка. В марте повеял из Кампаньи мягкий ветер, все было залито ярким и резким солнечным светом. Промерзшие каменные стены мастерской начали оттаивать. И когда стало еще теплей, в мастерскую явился кардинал Сен Дени: он хотел знать, как подвигается «Оплакивание». Каждый раз при встрече с кардиналом Микеланджело думал, что одежда на нем обвисает все тяжелее, а тело становится все суше и незаметнее. Кардинал спросил, получает ли Микеланджело в должный срок положенные ему деньги. Микеланджело заверил его, что получает. Они стояли перед огромной белой глыбой, белевшей посредине мастерской. Фигуры были еще не отделаны, с толстым слоем излишнего камня, сохраненного для поддержки, но лица выглядели почти завершенными, а они-то и интересовали кардинала прежде всего. — Скажите, сын мой, — тихо заговорил кардинал, — каким образом лицо Богородицы осталось столь юным — оно у нее моложе, чем у сына? — Ваше преосвященство, мне кажется, что дева Мария не может состариться. Она чиста и непорочна — и потому сохраняет всю свежесть юности. Такой ответ удовлетворил кардинала. — Надеюсь, вы кончите работу в августе. Мое заветнейшее желание — отслужить молебен в храме Святого Петра при освящении этой статуи.
11
Он яростно работал с рассвета до позднего вечера, затем падал поперек кровати, не поужинав, не раздеваясь, и засыпал словно убитый. В полночь он просыпался, освеженный, в голове его кипели мысли о мраморе, руки жаждали работы. Он вставал, съедал ломоть хлеба, зажигал медную лампу, в которой еще оставалось немного оливкового масла, и брался за дело, поставив лампу так, чтобы она бросала свет на обрабатываемое место. Но свет оказывался слишком бледным, рассеянным. Орудовать резцом при таком освещении было небезопасно. Он купил плотной бумаги, смастерил из нее картуз и, обвязав его проволокой, сделал на козырьке спереди петлю, в которую можно было вставлять свечку. Теперь, если он приникал к мрамору на расстоянии нескольких дюймов, свет от этой свечи был ярок и ровен. Опасаться того, что стук молотка разбудит Арджиенто, не приходилось: тот спал на кухне, плотно закутав голову одеялом. Свечи сгорали быстро, растопленный воск стекал по козырьку бумажного картуза на лоб, но от своего изобретения Микеланджело был в восторге. Однажды поздно вечером в дверь резко постучали. Микеланджело отпер: перед ним стоял Лео Бальони в бархатном плаще цвета индиго; вместе с Лео явилась компания его молодых друзей — в руках у них были фонари из рога и восковые факелы на длинных шестах. — Я увидел свет в окнах и решил узнать, чем ты занимаешься в такой глухой час. А, ты работаешь! Что это за штука у тебя на лбу? Микеланджело с гордостью показал ему свой картуз и свечу. Лео и его друзья покатывались со смеху. — А почему ты не берешь свечи из козьего жира? Ведь они крепче, их хватит на целую ночь, — отдышавшись от смеха, сказал Лео. На следующий день после ужина Арджиенто исчез из дому и явился во втором часу ночи, увешанный тяжелыми свертками, которые он швырнул на кровать. — Я был у синьора Бальони. Вот от него подарок. Микеланджело вытащил из свертка твердую желтую свечу. — Мне не нужны его подарки! — крикнул он. — Отнеси эти вещи ему обратно. — Я еле дотащил их с Кампо деи Фиори, даже руки занемели. И обратно я эти свечки не понесу. Прилеплю их к двери с улицы и зажгу все сразу. — Ну, хорошо, дай мне взглянуть, лучше ли они восковых. А сначала мне нужно расширить проволочную петлю у картуза. Лео оказался прав: свечи из козьего жира горели гораздо медленнее и почти не оплывали. Микеланджело разделил ночи на две половины — одну отвел для сна, другую для работы и сильно ее продвинул, отделывая широко раскинутый подол платья Марии, грудь Христа, его бедра и колени, одно из которых, левое, было чуть приподнято и еще не отделено от руки Марии, горестно отведенной в сторону. Он отклонял любые приглашения, почти не виделся с друзьями, но Бальдуччи постоянно рассказывал ему о последних новостях: кардинал Джованни, которого не хотел замечать Борджиа, уехал путешествовать по Европе; Пьеро, собиравший войска, чтобы в третий раз идти на Флоренцию, был решительно отвергнут римской общиной флорентинцев; замершая было война Флоренции с Пизой вспыхнула вновь; Торриджани стал офицером в армии Цезаря Борджиа, подчинявшей Романью Ватикану. Борджиа отлучал от церкви дворян и священников, присваивая их земли, и ни один флорентинец не знал, когда его постигнет та же участь. Чудесным летним утром, когда воздух был настолько прозрачен, что Альбанские горы казались не дальше какой-нибудь городской площади, к Микеланджело явился слуга Паоло Ручеллаи с приглашением. Микеланджело поспешил к родственнику, недоумевая, зачем он ему понадобился столь срочно. — Микеланджело, ты так похудел! — Когда полнеет скульптура, я худею. Это естественно. Ручеллаи удивленно поглядел на него. — Я хочу сказать тебе, что со вчерашней почтой я получил письмо от моего двоюродного брата Бернардо. Во Флоренции устраивается конкурс на скульптуру. У Микеланджело задрожала правая рука; чтобы сдержать эту дрожь, он положил на правую руку левую. — Конкурс… на что именно? — В письме Бернардо говорится: «Довести до совершенства мраморную колонну, уже отесанную Агостино ди Дуччио и ныне находящуюся в мастерской при Соборе». — Блок Дуччио? — Ты знаешь его? — Я хотел купить его у Синьории, когда собирался высекать Геракла. — Так это к твоей же выгоде, если ты хорошо помнишь мрамор. — Я вижу этот блок так, словно он лежит сейчас у наших ног в этой комнате. — А можешь ты высечь из него что-нибудь толковое?. Глаза Микеланджело засверкали: — Dio mio! — В письме сказано, что, как думает Совет, мрамор «плохо обтесан». — Нет, нет, это чудесный блок. Правда, в каменоломне его вырубили дурно, и Дуччио слишком глубоко врезался в него в середине… — Значит, ты хотел бы принять участие в конкурсе? — Нет ничего на свете, к чему бы я так стремился! Скажите, пожалуйста, какая там может быть тема — политическая, религиозная? И кого допускают к конкурсу — только флорентинцев? Могу я участвовать? Захотят они?.. — Стой, стой! — воскликнул Ручеллаи. — Больше того, что я сказал, я ничего не знаю. Я попрошу Бернардо написать мне еще, со всеми подробностями. — В воскресенье я приду к вам за новостями… Ручеллаи засмеялся: — Ответа от Бернардо к тому времени еще не будет. Но ты приходи ко мне обедать: перед конкурсом тебе надо поправиться. — А можно прийти к вам обедать лишь после того, как вы получите ответ? Ручеллаи позвал его вновь только через три недели. Микеланджело одним духом взбежал по лестнице в библиотеку. — Новости есть, но их немного. Время конкурса до сих пор не установлено. Вероятно, его назначат на начало будущего года. Тему изваяния могут предлагать только скульпторы, живущие во Флоренции. — Значит, я еду туда. — И характер работы еще не определен. Заниматься этим будут старшины цеха шерстяников и попечители Собора. — Собора? Тогда тема статуи будет, конечно, религиозной. А мне после «Оплакивания» хотелось изваять что-нибудь совсем другое. — За все платит цех шерстяников, поэтому он же, мне кажется, определит и характер статуи. Насколько я знаю его старшин, они закажут что-нибудь символизирующее Флоренцию. — Символизирующее Флоренцию? Вроде «Льва» Мардзокко? Видя, как встревожен Микеланджело, Ручеллаи улыбнулся. — Нет, зачем же второго льва! Вероятно, им нужен некий символ их новой республики… Сложив пальцы наподобие зубчатого резца, Микеланджело в раздумье почесал голову. — Какая же именно статуя может служить символом республики? — Не исключено, что такой вопрос станет частью конкурса. Чтобы художники ответили на него… Паоло передавал Микеланджело все новые сведения из Флоренции, как только они, перевалив Сабатинские горы, достигали Рима: конкурс состоится в 1500 году, в память столетия конкурса на двери Баптистерия. Цех шерстяников рассчитывает, что, подобно тому как сто лет назад состязались Гиберти, Брунеллески и делла Кверча, так и на этот раз, привлеченные мраморным блоком Дуччио, в конкурсе примут участие скульпторы всей Италии. — Уже на исходе лето девяносто девятого года! А у меня осталось еще столько работы над «Оплакиванием», — говорил Микеланджело, страдальчески морща лицо. — Я не могу спешить, подгонять себя, — эта работа для меня так важна, так дорога. И вдруг я не успею закончить ее к сроку… Паоло обнял Микеланджело, чувствуя, как у него дрожат плечи. — Я непременно извещу тебя обо всем, что только узнаю о конкурсе. И цех шерстяников еще не один месяц будет спорить и думать, пока установит условия. Кто проиграл, пытаясь упредить бег времени, так это кардинал Сен Дени. Ему так и не удалось посмотреть на законченное «Оплакивание», хотя он и перевел последнюю сотню дукатов в банк Галли в начале августа, когда скульптура должна была бы уже стоять в храме. Кардинал тихо скончался, до последнего дня не оставлял службы. На погребение кардинала Якопо Галли и Микеланджело пошли вместе, став в храме подле длинного, в две сажени, катафалка, возвышавшегося между колоннами. В глубине алтаря пели певчие. Возвратясь с похорон, Микеланджело спросил Галли, в доме которого они сидели: — Кто теперь будет решать, является ли мое «Оплакивание» «самой лучшей из работ по мрамору, какие только есть сегодня в Риме»? — Кардинал уже решил это. После того, как он побывал у вас в мае месяце. Он говорил, что вы выполняете условия договора. Этого для меня достаточно. Когда вы думаете закончить работу? — Потребуется еще месяцев шесть, а то и восемь. — Значит, вы кончите ее как раз в завершающий год столетия. Такой случай обеспечит вам зрителей со всей Европы. Микеланджело смущенно заерзал в своем кресле. — Вы не могли бы послать последнюю сотню дукатов моим родичам? У них там опять какие-то неприятности. Галли пристально посмотрел на него. — Это последняя ваша получка. Вы говорите, что вам надо еще работать шесть или восемь месяцев, а почти все деньги, полученные от кардинала, и так ушли во Флоренцию. Что же там, бездонный колодец? — Я хочу отдать эту сотню дукатов на покупку лавки для моих братьев Буонаррото и Джовансимоне. Вы понимаете, Буонаррото никак не может найти себе места в жизни. После смерти Савонаролы Джовансимоне подыскал было работу, а потом пропал, даже домой не приходит. Если бы в руках у братьев была лавка, и я стал бы получать свою долю доходов… — Микеланджело, если ваши братья — люди совсем не деловые, откуда же возьмутся доходы? — Казалось, Галли вышел из терпения, но, когда он заговорил вновь, в голосе его звучала лишь тревожная заботливость. — Я не могу допустить, чтобы вы швыряли свои последние деньги в это болото. Вам надо серьезно заняться своими делами и подумать о будущем. Восемьдесят процентов денег, полученных за «Вакха» и «Оплакивание», ушли в ваше семейство. Я-то это прекрасно знаю — ведь я ваш банкир. Опустив голову, Микеланджело тихо сказал: — Буонаррото не хочет браться ни за какую работу, мне надо пристроить его к делу. А если я теперь не наставлю Джовансимоне на верный путь, он собьется окончательно. И тогда уже ему ничем не поможешь. Деньги были переведены во Флоренцию, себе Микеланджело оставил лишь несколько дукатов. И тотчас его стала одолевать нужда: не хватало всяких вещей для скульптурной работы и домашнего обихода, надо было купить многое из одежды и себе и Арджиенто. Он экономил каждый грош, Арджиенто выискивал на рынке лишь самую дешевую и необходимую пищу. Платье у них обоих обветшало и валилось с плеч. И только письмо Лодовико, полученное в эти недели, враз образумило Микеланджело.«Дорогой сын, Буонаррото сказал мне, что ты живешь в большой нужде. Нужда — это зло, это даже грех, не угодный ни богу, ни людям: нужда наносит вред душе и телу… Живи умеренно и не страшись невзгод, воздерживайся от неприятных волнений. …А помимо того, оберегай свою голову, держи ее в умеренном тепле и никогда не мойся. Нельзя ни в коем случае мыться, а надо только крепко растираться».Микеланджело пошел к Паоло Ручеллаи, снова взял у него в долг двадцать пять флоринов и вместе с Арджиенто направился в Тосканскую тратторию — поесть телятины, приготовленной по-флорентински. На обратном пути они купили себе по рубашке, по паре длинных рейтуз и сандалий. На следующее утро в мастерскую заявился Сангалло: он был сильно возбужден, его золотистые усы гневно топорщились. — Твою любимую церковь Сан Лоренцо ин Дамазо разрушают! Сто резных колонн уже убрали. Микеланджело даже не сразу уловил, о чем он говорит. — Да сядь же ты, пожалуйста. Теперь рассказывай сначала. Что случилось с церковью? — Все из-за Браманте, нового архитектора из Урбино. Он втерся в доверие к кардиналу Риарио… навязал ему идею — перенести колонны из церкви во дворик кардинальского дворца и тем завершить его убранство. — Сангалло ломал руки, словно бы сдерживая вопль отчаяния. — Как по-твоему, можешь ты воспрепятствовать Браманте? — Я? Каким же образом? Я отнюдь не пользуюсь каким-то влиянием на кардинала и даже не видел его вот уже почти два года. — Действуй через Лео Бальони. Кардинал его слушает. — Сейчас же иду к Лео. Шагая к Кампо деи Фиори, Микеланджело вспоминал все, что слышал о Браманте: пятидесяти пяти лет, уроженец Урбино, он состоял архитектором при герцоге Милана и приехал в Рим в начале этогогода, намереваясь жить здесь на свои ломбардские сбережения, чтобы досконально проникнуть в тайны римского архитектурного гения, то есть сделал в точности то же, прибавлял от себя Микеланджело, что и Сангалло. Бальони пришлось ждать не один час. Лео выслушал Микеланджело совершенно спокойно, как всегда выслушивал горячившихся собеседников, потом сказал негромко: — Что ж, нам надо пойти к Браманте. Это его первый заказ в Риме. Он честолюбив, поэтому очень сомнительно, чтобы ты один заставил его отступиться. Пока они шли к дворцу кардинала, Лео описывал Браманте. — Это любезный человек, очень общительный, всегда весел и бодр, чудесно рассказывает всякие анекдоты и басни. Я ни разу не видел его не в духе. Он уже обзавелся в Риме множеством друзей. — И, искоса взглянув на Микеланджело, Бальони прибавил: — Чего я не сказал бы о тебе. Дворец был уже перед ними. — Он сейчас там, — уверенно сказал Бальони. — Смотрит колонны, обмеряет их. Ступив во дворик, Микеланджело увидел Браманте. Этот человек не понравился ему с первого взгляда: большой лысый череп со скудными остатками волос на затылке, большой костистый лоб и сильные надбровные дуги, бледно-зеленые глаза, вздернутый нос и маленький, ярко-красный рот, так не вязавшийся с крупной головой. Низко наклонясь, Браманте передвигал какие-то камни, и его бычья шея и мускулистые плечи напомнили Микеланджело профессионального атлета. Лео представил Микеланджело Браманте. Тот весело поздоровался с ним и тут же рассказал смешной анекдот. Лео хохотал от души. Микеланджело анекдот не тронул. — Вы не любите смеяться, Буонарроти? — спросил Браманте. — Варварское разрушение церкви Сан Лоренцо меня не очень-то смешит. Браманте втянул голову в плечи, весь напружинившись, как кулачный боец, готовый отразить нападение. И он и Микеланджело посмотрели на Лео. Лео стоял, не вступаясь ни за того, ни за другого. — А какое вам, собственно, дело до этих колонн? — спросил Браманте, еще не выходя за пределы вежливости. — Разве вы архитектор кардинала Риарио? — Нет, я даже не его скульптор. Но, представьте себе, я считаю эту церковь одной из самых прекрасных в Италии. Чтобы разрушить ее, надо быть истинным вандалом. — А я скажу вам, что эти колонны — вроде разменной монеты. Вы знаете, что они были перенесены в церковь из театра Помпея в триста восемьдесят четвертом году? Весь Рим — это каменоломня, особенно для тех людей, которые знают, как употребить добытое. Я не постою ни перед чем и все переверну вверх ногами, если только у меня будет возможность построить на месте старого что-то более прекрасное. — Камень — это принадлежность тех мест, для которых он замышлен и высечен. — Старомодная мысль, Буонарроти. Камень применяется там, где считает нужным применить его зодчий. А что устарело, то умирает. — Но множество нового и рождается мертвым! Браманте уже еле сдерживал раздражение: — А мы с вами не были знакомы. Вы не могли явиться ко мне без причины. Вас кто-то научил. Скажите мне, кто мой противник? — Вас порицает тончайший архитектор во всей Италии, строитель виллы Лоренцо де Медичи в Поджо а Кайано, автор проекта дворца герцога Миланского — Джулиано да Сангалло. Браманте презрительно рассмеялся: — Джулиано да Сангалло! А что он такого создал и Риме? Восстановил потолок в какой-то церкви? Это ископаемое ни на что другое и не способно. В течение года я его выставлю из Рима, и он больше никогда не сунет сюда носа. А теперь, если вы соблаговолите убраться с моего пути, я буду работать, как работал, и создам красивейший в мире дворик. Приходите когда-нибудь снова — и вы увидите, как строит Браманте. Возвращаясь домой, Лео сказал: — Насколько я знаю Рим, этот человек взберется на самый верх. И не дай бог никому заполучить в нем врага. — Чувствую, что я его уже заполучил, — угрюмо отозвался Микеланджело.
12
Он должен был придать мрамору возвышенную духовность, однако и теперь, разрабатывая религиозную тему, он хотел изобразить человека истинно живым — живым в каждом нерве и мускуле, в каждой жилке и косточке, в волосах и пальцах, глазах и губах. Буквально все должно быть живым, если ты намерен воспеть мощь и величие, показав это в образе человека. Он рубил, направляя резец вверх, зная и помня уже выявленные внизу формы и действуя по интуиции столь же древней, сколь был древен этот, добытый в горах, мрамор; он стремился высечь лицо Марии так, чтобы в нем были переданы не только ее чувства, но и воплощен характер всей статуи. Микеланджело смотрел в это лицо, приникнув к нему снизу, приподнимая руки с молотом и резцом вверх, на уровень своей головы: вся драма Оплакивания была теперь прямо перед его глазами. Мрамор тоже смотрел на него пристально, в упор, и оба они, ваятель и камень, были теперь объяты как бы единым чувством нежной, сдержанной печали. Где-то далеко позади себя Микеланджело ощущал множество других «Оплакиваний», мрачных, отвергающих всякое чувство прощения: их послание любви было смочено кровью. Нет, он не станет ваять смертные муки. Даже следы гвоздей на руках и ногах Христа он обозначит лишь слабыми пятнышками. Не будет никаких свидетельств насилия. Иисус мирно спит на руках своей матери. Над обеими фигурами как бы некий отблеск, некое свечение. У тех, кто смотрит на мрамор и думает над ним, Христос возбуждает не испуг и отвращение, а глубокое сочувствие и любовь. Свою веру в бога он передал в возвышенном духе фигур; их слитность и внутреннее созвучие означали, по его мысли, слитность и гармонический строй вселенной Господа. Он не пытался сделать Христа божественным, да и не знал, как это сделать. Христос вышел у него земным и утонченно-человечным. Лицо у Марии — нежное, девическое, с флорентинскими чертами; в его молчаливой бледности разлито спокойствие. Придав лицу Богородицы такое выражение, Микеланджело как бы хотел сказать, что божественное не равнозначно возвышенному: возвышенным для него было просто чистейшее и совершенное. «Смысл фигур, — размышлял он, — заключен в человеческих достоинствах; красота их лиц и телесных форм отражает величие их духа». Он увидел теперь, что достигает той осязаемой достоверности и живости, в которой отозвалась любовь, горевшая в нем все дни работы. Бальдуччи известил его, что Сансовино, соученик Микеланджело по Садам Медичи, после нескольких лет работы в Португалии возвратился во Флоренцию и получил заказ — высечь мраморную группу для Баптистерия: «Святой Иоанн совершает обряд крещения над Христом». Сансовино будто бы считал эту работу первым шагом к тому, чтобы победить в конкурсе на блок Дуччио. — Сансовино — хороший скульптор, — доброжелательно сказал Микеланджело. — Лучше, чем ты? С усилием преодолев внезапную сухость в горле, Микеланджело ответил: — Он с успехом доводит до конца все, что начинает. — Как ты думаешь, он может победить тебя? И снова Микеланджело с трудом выдавил ответ: — Мы оба приложим все свои силы. — Вот не знал, что ты такой скромница. Микеланджело покраснел. Он решил во что бы то ни стало превзойти Сансовино и победить его, но он не желал говорить о нем ни одного дурного слова. — Лео Бальони сказал мне, что у меня мало друзей. Сансовино — мой друг. Я не хочу его потерять. — Торриджани тоже участвует в конкурсе и говорит каждому встречному, что блок Дуччио передадут ему, так как он был против Медичи. Тебя же, говорит он, не допустят к конкурсу, поскольку ты поддерживал Пьеро. Паоло Ручеллаи считает, что тебе надо вовремя приехать во Флоренцию и помириться с Синьорией. Этот разговор стоил Микеланджело нескольких бессонных ночей. И опять он мог только благодарить Бальони за его щедрый подарок — свечи из козьего жира. В середине января вновь пошел густой снег, он не прекращался двое суток. С севера потянуло холодом. На несколько недель установилась сильная стужа. Внутренний дворик в доме Микеланджело завалили сугробы. В комнатах гулял ледяной ветер. Сквозь ставни из дерева и холстины он легко прорывался внутрь. Три жаровни отнюдь не нагревали воздух. Микеланджело работал в шапке и наушниках, обвязав грудь и плечи одеялом. В феврале снег и стужа подступили вновь. Город замер, рынки опустели, лавки не открывались: слякоть и обледеневшая грязь на улицах держали людей по домам. Микеланджело и Арджиенто мучались несказанно. Микеланджело укладывал мальчика на ночь в свою кровать, чтобы обоим было теплее. По белой известке стен сочилась влага. В тех углах, над которыми на крыше лежал затвердевший снег, струйки воды текли медленнее, но зато держались дольше. Купить угля было трудно, цены на него подскочили так, что Микеланджело приходилось беречь каждую пригоршню. Арджиенто часами бродил по пустырям и рылся в снегу, выискивая древесное топливо для очага. Микеланджело простудился и слег в горячке. Арджиенто стащил на какой-то стройке два кирпича, нагревал их в очаге и, обернув полотенцем, подкладывал к ногам Микеланджело, когда у того был озноб. Кормил он его горячим говяжьим бульоном. Всякая работа стала; сколько дней это продолжалось — Микеланджело потерял счет. К счастью, статую надо было лишь отполировать. На такую тяжкую физическую работу, как рубка мрамора, у Микеланджело теперь не хватило бы сил. Ему хотелось отполировать «Оплакивание», добившись того совершенства, какое только способен дать мрамор: бархатистая поверхность статуи должна была быть безупречной. В первый же теплый день он пошел в Трастевере и купил несколько больших комков пемзы, дома он молотом раздробил эти комки, стараясь придать каждому осколку равные грани. Теперь, положив кусок пемзы на ладонь и прижимая его шелковистые продольные волокна к камню, он начал полировать широкие плоскости платья Богоматери, грудь и ноги Христа: работа была медленная, требовавшая бесконечного терпения, — она заняла не один день и не одну неделю. Затем он резцом нарезал пемзу так, чтобы у кусков образовались острые края, — надо было проникнуть во все впадины и бороздки волос, одежды, пальцев рук и ног, чтобы отполировать морщины вокруг ноздрей Христа, пришлось изготовить заостренные, вроде примитивных стрел, палочки. Он не стал до конца обрабатывать спину Марии, поскольку статуя предназначалась для ниши; задняя сторона камня, как и скамья Богородицы, была лишь грубо обтесана. Отполированный белый мрамор, мерцая, освещал грязную комнату, превратив ее в подобие какой-то сияющей капеллы с цветными витражами. Уродливый художник действительно сотворил красоту. Первым увидел законченную скульптуру Сангалло. Он ни слова не сказал о религиозном характере работы, но как архитектор расхвалил Микеланджело за треугольную композицию, за найденное равновесие линий и масс. Якопо Галли, появившись в мастерской, долго молча стоял у «Оплакивания». Потом он сказал тихо: — Я выполнил свой договор с кардиналом Сен Дени: это самая прекрасная работа по мрамору, какая только есть ныне в Риме. — Даже не знаю, как быть с установкой статуи, — заговорил Микеланджело. — В договоре не сказано, что мы имеем право поставить «Оплакивание» в храме Святого Петра. Если бы кардинал был жив… — А мы не будем никого и спрашивать. Установим статую без всякого шума. Если никто ничего не знает — никто ничего и не оспаривает. Микеланджело стоял ошеломленный. — Вы хотите сказать, что мы втащим туда статую тайком? — Нет, не тайком. Но без всякого шума. Как только «Оплакивание» окажется в нише, никто не потребует убрать его оттуда. — Но ведь папа так любил кардинала. Он приказал устроить ему трехдневные похороны. Он разрешил ему поставить статую в капелле Королей. Неужели кто-то будет теперь возражать против этого? — Уверен, что не будет, — успокоил его Галли. — Вам надо нанять своих приятелей с камнебитных складов — они-то и перевезут статую в церковь. Завтра же, после обеда, когда весь город отдыхает. У статуи было столько уязвимых частей — руки, ноги, складки платья Богоматери, — что Микеланджело сомневался, возможно ли без риска поднимать и нести ее на брусьях и вагах, хотя, конечно, статуя будет надежно закутана. Он позвал Гуффатти осмотреть статую в мастерской и спросил его, как в данном случае поступить. Гуффатти молчал, расхаживая вокруг изваяния, затем сказал: — Придется кликнуть все семейство. Семейство Гуффатти состояло не только из трех его рослых сыновей, но и из множества племянников. Они не позволили Микеланджело даже прикоснуться к статуе, окутали ее десятком ветхих одеял и с гомоном, спорами и криком подняли ее с пола. Они понесли ее — восемь крепких мужчин — к старой телеге, поставили на соломенную подстилку и привязали веревками. Телега осторожно двинулась по булыжной Виа Постерула, проехала мост Святого Ангела, потом свернула на новую, очень ровную и гладкую Виа Алессандрина: она была отремонтирована и обновлена по приказанию папы в честь юбилейного года. Шагая вслед за телегой, Микеланджело впервые за все свое пребывание в Риме благословлял заботливость папы. У подножия лестницы в тридцать пять ступеней телега остановилась. Гуффатти сняли статую и с натугой понесли ее вверх, по первому из трех маршей, заключавшему семь ступеней: тащить статую было так тяжело, что лишь сознание святости ноши удерживало этих людей от бранных слов. Одолев первый марш, Гуффатти с мокрыми от пота лбами сели отдохнуть, затем вновь подняли статую и понесли ее через атриум, мимо плещущего фонтана, к самому порталу. Оглядевшись здесь, пока Гуффатти снова отдыхали, Микеланджело заметил, что здание базилики накренилось еще больше, чем в ту пору, когда он начинал работу над «Оплакиванием». Оно было теперь в столь бедственном состоянии, что, казалось, его уже нельзя и отремонтировать. И тут тревога сдавила Микеланджело горло: ведь его «Оплакивание» попадет в храм, который вот-вот рухнет! А вдруг его опрокинет хотя бы первый же ураган, налетевший с Альбанских гор? Микеланджело вообразил на минуту, как он, сидя на корточках среди развалившихся камней храма, собирает осколки своей статуи, — однако скоро он успокоился, вспомнив, что Сангалло показывал ему на чертежах, каким образом можно укрепить базилику Святого Петра. Гуффатти снова взялись за свою ношу. Микеланджело показывал им путь внутрь храма, под своды пяти нефов, подпираемых сотнями колонн, когда-то свезенных со всего Рима, потом, оставив за собой с левой стороны массивную фигуру Христа на троне, вошел в капеллу Королей Франции. Гуффатти опустили статую перед пустой нишей, сняли с нее одеяла, чисто вытерли от пота руки и с благоговением установили «Оплакивание» на предназначенное место. Микеланджело бдительно следил, чтобы статуя заняла там наивыгоднейшее положение. Кончив работу, Гуффатти купили у старушки в черном одеянии свечи и зажгли их перед статуей. Взять деньги за свой тягчайший труд они решительно отказались. — Мы получим свою плату на небесах, — сказал отец семейства. Это была самая высокая награда, на какую только мог рассчитывать Микеланджело. И, как оказалось, это была единственная награда, которую он получил. Якопо Галли явился в капеллу в сопровождении Бальдуччи. Банкир радостно кивал головой. Старый Гуффатти, недоуменно взглядывая на своих сыновей и племянников, спрашивал: — И это все? И никакой службы? И никакого священнического благословения? — Статуя благословлена еще в самом начале, когда она рождалась, — ответил Галли. Гуффатти и Арджиенто преклонили перед Святой Девой колена, перекрестились, шепча молитву. Микеланджело смотрел на «Оплакивание», испытывая грусть и пустоту в душе. Когда он, уходя из капеллы, повернулся и взглянул на статую в последний раз, он почувствовал, как печальна и одинока Святая Дева — самое одинокое человеческое существо из всех, каких Господь только создавал на земле.Он заходил в храм Святого Петра ежедневно. Из паломников, стекавшихся в Рим, редко кто давал себе труд заглянуть в капеллу Королей Франции. А те, кто заглядывал, торопливо преклоняли колена перед «Оплакиванием», крестились и шагали прочь. Поскольку Галли советовал избегать шума, почти никто в Риме не знал, что в базилике Святого Петра появилась новая статуя. Микеланджело и не ведал, как воспринимают его работу: на этот раз не было даже тех противоречивых суждений, какие высказывали в свое время поэты и профессора в саду Галли. Паоло Ручеллаи, Сангалло и Кавальканти побывали в храме, остальные же римские флорентинцы, опечаленные и возмущенные казнью Савонаролы, отказывались заходить внутрь стен Ватикана. Отдав почти два года всепоглощающей работе, Микеланджело праздно сидел теперь в своей унылой комнате — сидел опустошенный, подавленный. Никто не заходил к нему поговорить о скульптуре. Он был так утомлен, что не мог даже думать о блоке Дуччио. Понимая, что время для этого еще не наступило, не предлагал ему никакой новой работы и Галли. Однажды вечером Микеланджело бродил по храму и увидел, как некое семейство — отец, мать и их взрослые дети, судя по одежде, говору и жестам, коренные ломбардцы, — стоит перед его «Оплакиванием». Желая послушать, что они говорят, Микеланджело подошел к ним поближе. — Я тебе говорю, что узнаю его работу, — утверждала мать семейства. — Это высек тот парень из Остено, который делает все надгробные памятники. Отец замахал руками, словно стряхивая с них высказанную супругой мысль, как собака стряхивает с себя воду. — Нет, нет, что ты! Это наш земляк, миланец Кристофоро Солари, по прозвищу Горбач. Он высек много таких статуй. Той же ночью Микеланджело тихо шел по улицам, держа в руках зеленую парусиновую сумку. Он вошел в храм Святого Петра, вынул из сумки и зажег свечу, вставил ее в проволочную петлю на своем картузе, потом вытащил из сумки инструменты. Дотянувшись через тело Христа к Богородице, он убедился, что пламя свечи ровно освещает ее, и поднял резец и молоток. На ленте, бежавшей между грудей Марии, он быстрыми и изысканно красивыми буквами высек: «МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ ФЛОРЕНТИНЕЦ СОЗДАЛ». Он вернулся домой и стал собирать свои вещи. Сотни рисунков, сделанных во время работы над «Вакхом» и «Оплакиванием», он бросил в огонь очага. Арджиенто тем временем сбегал за Бальдуччи. Тот явился, наспех одевшись и не причесав волос; по просьбе Микеланджело он обещал сбыть всю обстановку комнаты перекупщику в Трастевере. На небе еще только начинала брезжить заря, как Микеланджело и Арджиенто, с парусиновыми сумками в руках, подошли к Народным воротам. Микеланджело нанял двух мулов и, присоединившись к каравану, с первыми лучами солнца тронулся в путь во Флоренцию.
Часть шестая «Гигант»
1
Горячее июньское солнце Флоренции ударило ему прямо в глаза, едва он выглянул в окно и бросил взгляд на темно-красную каменную башню дома старейшины флорентинских цехов. Приехав из Рима без всякого заказа на руках и совсем без средств, он вынужден был отослать Арджиенто к его родным, в деревню подле Феррары, а сам кормился в семействе у отца. Он занял самую лучшую, самую светлую комнату просторной квартиры, в которой теперь жили Буонарроти, ибо часть денег, полученных им из Рима, Лодовико сумел вложить довольно выгодно. Приобретя небольшой домик в Сан Пьетро Маджоре, Лодовико употребил весь доход от него на то, чтобы выкупить права на спорную землю Буонарроти близ Санта Кроче, а затем, возвысив престиж своего семейства, снял под квартиру целый этаж на фешенебельной улице Святого Прокла, всего за квартал от роскошной каменной громады дворца Пацци. Кончина Лукреции состарила Лодовико — лицо у него стало суше и сжалось, щеки ввалились, но, как бы компенсируя этот ущерб, он дал пышно разрастись своим волосам, спадавшим густой гривой на плечи. Якопо Галла в своих предсказаниях не ошибся: из проекта Микеланджело пристроить Буонаррото и Джовансимоне к какому-нибудь делу ничего не вышло. Буонаррото в конце концов осел в шерстяной лавке Строцци у Красных ворот; бродяга Джовансимоне не проявлял рвения ни к какой работе и, получив место, через несколько недель исчезал неведомо куда. Сиджизмондо, еле-еле умевший читать и писать, зарабатывал несколько скуди, участвуя в качестве наемного солдата в военных действиях Флоренции против Пизы. Лионардо скрылся, и никто не знал, в каком из монастырей он находится. Насколько это было возможно при их болезнях, тетя Кассандра и дядя Франческо чувствовали себя вполне хорошо. Микеланджело встретился с Граначчи, и они радостно обнялись, счастливые вновь видеть друг друга. За последние годы Граначчи вступил в начальную полосу процветания и, как со смехом говорил в боттеге Гирландайо сплетник Якопо, содержал любовницу, жившую на вилле, среди холмов Беллосгуардо, выше Римских ворот. Граначчи все еще околачивался в мастерской Гирландайо и после того, как умер Бенедетто, во многом помогал Давиду, за что пользовался у него помещением бесплатно. Он работал там над своими рисунками, занимая тот самый стол, за которым когда-то сидел Микеланджело. — Ты, я вижу, готов исполнить любой заказ? — Недаром же я сижу в лучшей мастерской Флоренции. — А заказчики? — Нет ни одного. Собираюсь перейти к Соджи. — Граначчи ухмыльнулся. — Вот тот раздувает кадило! Только что купил участок под мясную лавку на Новом рынке. — Бертольдо научил его высекать хоть телячьи ножки! Они направились в знакомую остерию, под древесную сень: свернули налево на Виа дель Проконсоло, прошли мимо изящной церкви Бадиа, углубились в Греческий городок, где был дворец Серристори, построенный по проекту Баччио д'Аньоло, и оказались на Виа деи Бенчи. Тут находился старинный дворец гибеллина Барделли и первый из особняков, построенных Альберти, — колонны дворика и их капители были работы Джулиано да Сангалло. Сама Флоренция разговаривала с ним. С ним разговаривали камни. Он чувствовал их характер, структуру их плоти, прочность их спрессованных слоев. Как чудесно снова жить здесь, где архитекторы так возлюбили светлый камень. В глазах некоторых людей камень мертв, они говорят: «твердый, как камень», «холодный, как камень». Для Микеланджело, когда он снова и снова прикасался кончиками пальцев к плоскостям и граням стен, камень был самым живым созданием на свете — ритмичным, отзывчивым, послушным; в нем были теплота, упругость, цвет, трепет. Микеланджело был влюблен в камень. Трактир стоял на Лунгарио, в саду, весь укрытый смоковницами. Трактирщик, он же повар, спустился к реке, вытащил из воды привязанную на веревке корзину, обтер фартуком бутылку треббиано и, откупорив ее, поставил на стол. Друзья распили ее в честь возвращения Микеланджело в родной город. Ему хотелось повидать Тополино — и скоро он уже был среди сеттиньянских холмов. Там он узнал, что Бруно и Энрико стали женатыми людьми. Тот и другой сложили себе из камня по комнате, пристроенной к задней стене отцовского дома. У старика Тополино насчитывалось уже пятеро внуков, и обе невестки снова были беременны. Микеланджело сказал: — Если дело пойдет с такой быстротой, Тополино захватят в свои руки всю обработку светлого камня во Флоренции. — Будь уверен, так оно и будет, — отозвался Бруно. — У твоей подружки Контессины де Медичи тоже родился второй сын, после того как померла дочка, — вставила мать. Микеланджело уже знал, что Контессина, изгнанная из Флоренции, жила со своим мужем и сыном в простом крестьянском доме на северном склоне Фьезоле, — их собственный дом и все имущество было конфисковано в те дни, когда повесили ее свекра Никколо Ридольфи: тот участвовал в заговоре, ставившем целью свергнуть республику и вновь призвать во Флоренцию Пьеро, сделав его королем. Его теплое чувство к Контессине не угасло, хотя с их последней встречи прошли уже годы. Он давно догадывался, что во дворце Ридольфи его не желают видеть, и никогда не ходил туда. Разве же мыслимо пойти к Контессине теперь, по возвращении из Рима, когда она живет в нищете и немилости? Вдруг эти отверженные, убитые несчастьем люди истолкуют его визит как проявление жалости? В самом городе за те четыре с лишним года, что он не был в нем, произошли очень заметные перемены. Проходя по площади Синьории, мимо того места, где был сожжен Савонарола, флорентинцы от стыда опускали головы; словно бы успокаивая свою совесть, они с неистовой энергией старались воскресить все то, что уничтожил Савонарола, — тратили огромные суммы, заказывая художникам, ювелирам и иным мастерам золотые и серебряные вещи, драгоценные геммы, изысканную одежду, кружева, мозаики из терракоты и дерева, музыкальные инструменты, рисунки к рукописным книгам. Тот самый Пьеро Содерини, которого воспитывал, считая самым умным из молодых политиков, Лоренцо де Медичи и которого в свое время Микеланджело часто видел во дворце, стал теперь главой флорентинской республики — гонфалоньером, старшим среди правящих лиц Флоренции и всего города-государства. Он сумел в какой-то мере установить мир и согласие между враждующими партиями — этого не бывало во Флоренции уже давно, с того дня, как началась смертельная схватка между Лоренцо и Савонаролой. Флорентинские художники, покинувшие город, теперь ощутили явное оживление в делах и возвращались один за другим. Из Милана, Венеции, Португалии, Парижа приехали Пьеро ди Козимо, Филиппино Липпи, Андреа Сансовино, Бенедетто да Роведзано, Леонардо да Винчи, Бенедетто Бульони. Те, чья работа приостановилась под гнетом власти Савонаролы, теперь снова с успехом трудились — тут были и Боттичелли, и архитектор Паллойоло, известный под именем Кронака, что значит Рассказчик, и Росселли, и Лоренцо ди Креди, и Баччио да Монтелуйо — шутник и разносчик всяких слухов в Садах Медичи. Они, эти художники, учредили Общество под названием Горшок. Пока оно состояло лишь из двенадцати членов, но каждому из них разрешалось приводить с собой на торжественный обед, устраиваемый раз в месяц в огромной мастерской скульптора Рустичи, по четыре гостя. Граначчи был членом Общества. Он сразу же пригласил на обед Микеланджело. Микеланджело отказался, предпочитая выждать, пока он не получит заказа.За те месяцы, что прошли после его возвращения, он знал мало истинных радостей. Он уехал в Рим юношей, а вернулся во Флоренцию взрослым мужчиной и был готов изрубить горы мрамора; однако теперь, окидывая невидящим взглядом свою «Богоматерь с Младенцем» и «Кентавров», висящих на боковой стене в спальне-мастерской, он с грустью думал, что флорентинцы, наверное, и не представляют себе, что он, Микеланджело, изваял «Вакха» и «Оплакивание». Якопо Галли в Риме по-прежнему действовал в пользу Микеланджело и дал знать, что купцы из Брюгге братья Мускроны, торговавшие английским сукном, видели в Риме «Оплакивание» и очень хотят приобрести чью-либо статую «Богоматери с Младенцем». Галли полагал, что Микеланджело мог бы получить прекрасный заказ, как только братья Мускроны снова окажутся в Риме. Сумев возбудить интерес кардинала Пикколомини, банкир предложил ему привлечь Микеланджело к работе над статуями для семейного алтаря, в честь дяди кардинала, папы Пия Второго, — алтарь находился в кафедральном соборе в Сиене. — Не будь Галли, — бормотал Микеланджело, — я остался бы вовсе без работы. Пока вырастет трава, кони сдохнут с голоду. Сразу же после приезда он пошел в мастерскую при Соборе и осмотрел огромную — в семь аршин с пятью вершками — колонну Дуччио, которую многие называли либо «тощей», либо «жидкой»; он тщательно обследовал ее, прикидывая, годится ли камень для задуманной работы, потом оставил глыбу в покое и сказал, обращаясь к Бэппе: — Il marmo e sano. Мрамор исправный. Ночью он читал при свечах Данте и Ветхий завет, выискивая героический мотив и постигая колорит великой книги. Затем ему стало известно, что члены цеха шерстяников и строительная управа при Соборе так и не смогли решить, что же следует высечь из их гигантского мраморного блока. Это хорошо, очень хорошо, думал Микеланджело, ибо он слышал также, что многие желали бы передать заказ Леонардо да Винчи, недавно вернувшемуся во Флоренцию и завоевавшему громкую славу благодаря изваянной им огромной конной статуе графа Сфорца и фреске «Тайная Вечеря», написанной в трапезной монастыря Санта Мария делле Грацие в Милане. Микеланджело никогда не видел Леонардо — тот уехал из Флоренции лет восемнадцать назад, после того как с него было снято обвинение в пренебрежении к морали, но флорентинские художники говорили, что он — величайший рисовальщик в Италии. Уязвленный, охваченный любопытством, Микеланджело пошел в церковь Сантиссима Аннунциата, где был выставлен картон Леонардо — «Богородица с Младенцем» и «Святая Анна». Он стоял перед картоном, и сердце его стучало, как молот. Никогда еще не приходилось ему видеть такого достоверного рисунка, такой могучей правды в изображении фигур, за исключением, разумеется, его собственных работ. В папке, лежавшей на скамье, он нашел набросок обнаженного мужчины со спины, с раскинутыми руками и ногами. Никто не мог показать человеческую фигуру подобным образом, с такой поразительной живостью и убедительностью. Конечно же, подумал Микеланджело, Леонардо вскрывал трупы! Он подтащил скамью к картону и погрузился в работу, срисовывая три Леонардовых фигуры; из церкви он вышел совершенно убитый. Если управа поручит заказ Леонардо, то кто посмеет оспорить такое решение? И как может он, Микеланджело, даже намекнуть, что и у него тоже есть свои права художника, если смутные слухи из Рима о его «Вакхе» и «Оплакивании» едва только начали сюда доходить? Но прошло время, и Леонардо отверг заказ. Отверг на том основании, что презирал ваяние по мрамору как искусство низшего сорта, удел простых ремесленников. Микеланджело слушал эти новости, испытывая чувство замешательства. Он был доволен тем, что камень Дуччио все еще никому не передан и что Леонардо да Винчи вышел из игры. Но он возмущался человеком, который позволял себе так уничижительно отзываться о скульптуре, тем более что слова его уже подхватила вся Флоренция и без конца их повторяла. Ночью, еще до рассвета, он торопливо оделся и пошел по безлюдной Виа дель Проконсоло к Собору, в мастерскую. Там он остановился около колонны Дуччио. Первые лучи восходящего солнца искоса упали на мрамор — тень его откинулась во всю семиаршинную длину, приняв величественные, фантастические очертания, словно бы на земле распластался некий гигант. У Микеланджело перехватило дыхание, его пронзила мысль о Давиде, о Давидовом подвиге, описанном в Библии. «Вот так, — думал Микеланджело, — должен был выглядеть Давид в то утро, когда он вышел на битву с Голиафом». И этот Давид, этот гигант — разве же он не символ Флоренции! Вернувшись к себе, он как можно вдумчивей еще раз перечитал рассказ о Давиде. Несколько дней он набрасывал на бумаге могучие мужские фигуры, нащупывая образ Давида, достойный библейской легенды. Один за другим он представлял свои проекты бывшему знакомцу по дворцу Медичи — гонфалоньеру Содерини, обращался к цеху шерстяников, в строительную управу при Соборе. Все оказалось напрасным, он был загнан в тупик, но весь, как в лихорадке, горел жаждой тесать и рубить мрамор.
2
Отец ждал его, сидя в черном кожаном кресле, в самой дальней комнате квартиры. На коленях у него лежал конверт, только что доставленный с почтой из Рима. Микеланджело вскрыл его ножом. Из конверта выпали мелко исписанные рукою Якопо Галли листки, в которых он сообщал, что кардинал Пикколомини вот-вот должен подписать договор с Микеланджело. «Однако я обязан предупредить, — писал Галли, — что заказ этот совсем не относится к числу таких, какого вы хотели бы и какого заслуживаете». — Читай дальше, — приказал Лодовико, и его темно-янтарные глаза радостно заблестели. Микеланджело читал и мрачнел все больше: из письма вытекало, что он должен создать пятнадцать небольших фигур, все в полном одеянии, и что фигуры эти поставят в узкие ниши обыкновенного алтаря работы Андреа Бреньо. Подготовительные рисунки подлежат утверждению кардинала, а мраморные фигуры, если они не удовлетворят его преосвященство, высекаются заново. Оплата составит пятьсот дукатов; Микеланджело обязан не брать никакого другого заказа в течение трех лет; предполагается, что в конце этого срока будет закончена и утверждена кардиналом последняя из заказанных статуй. Лодовико вытянул перед собой растопыренные пальцы, словно грея их над жаровней. — Пять сотен золотых дукатов за три года работы. Это не такой хороший заработок, какой у тебя был в Риме, но, учитывая наши доходы и скромный образ жизни… — Вы заблуждаетесь, отец. Я буду должен платить за мрамор. И если кардинал не одобрит работу, мне придется ее переделывать, даже высекать новые фигуры. — Это если кардинал не одобрит… Но когда Галли, хитрый банкир, готов ручаться, что ты изготовишь лучшие статуи в Италии, разве мы такие глупцы, чтобы беспокоиться? Сколько тебе заплатят в качестве аванса? «Тот, кто дает быстро, дает вдвое». — Аванса не положено. — На какие же деньги, они считают, ты будешь закупать материалы? Неужели они думают, что у меня монетный двор? — Нет, отец, я уверен, что они не столь наивны. — Слава те господи! Галли должен настоять на том, чтобы они выплатили тебе по договору аванс в сто дукатов еще до начала работы. Тогда мы не будем в проигрыше. Микеланджело устало опустился в кресло. — Три года высекать драпировки. И ни одной фигуры по моему замыслу. Он вскочил с кресла, пробежал из угла в угол по комнате и метнулся в дверь. Он шагал, всячески сокращая путь, по направлению к Барджелло и площади Сан Фиренце и через узкий проулок вышел на сияющий свет площади Синьории. Здесь ему пришлось обойти аккуратно выложенную груду серого пепла — ее глубокой ночью насыпал кто-то из почитателей Савонаролы, чтобы отметить место его сожжения; затем Микеланджело оказался на широких ступенях, ведущих во двор Синьории. Вот с левой стороны открылась каменная лестница, и, перешагивая через три ступеньки сразу, Микеланджело поднялся в высокий пышный зал Совета, где могла вместиться тысяча человек одновременно. Зал был пуст, в нем на помосте в дальнем углу стоял лишь стол и дюжина стульев. Оглядевшись, Микеланджело отворил левую дверь, ведущую в покои, обычно занимаемые подестой, каким был, например, его друг Джанфранческо Альдовранди, хотя теперь в них находился Пьеро Содерини, шестнадцатый гонфалоньер Флоренции. Микеланджело был допущен к Содерини тотчас же. Из окон его палаты — она была угловой — открывался вид на всю площадь и на огромное пространство городских крыш; стены палаты были обшиты великолепным темным деревом, обширный потолок расписан лилиями Флоренции. За тяжелым дубовым столом сидел главный правитель республики. Когда Содерини ездил в последний раз в Рим, там в колонии флорентинцев ему говорили о Микеланджеловом «Вакхе», и он ходил в храм Святого Петра смотреть «Оплакивание». — Ben venuto, — тихо сказал Содерини. — Что привело тебя в правительственное учреждение в столь жаркий полдень? — Заботы и тревоги, гонфалоньер, — ответил Микеланджело. — Разве кто-нибудь приходит сюда, чтобы делиться с вами радостью? — Именно поэтому я и сижу за таким широким столом: на нем хватит места для всех забот Флоренции. — У вас широки и плечи. В знак протеста Содерини по-утиному качнул головой, которую трудно было назвать красивой. Ему минуло уже пятьдесят один год — и белокурые его волосы, прикрытые шапочкой странного покроя, поблескивали сединой; у него был длинный, заостренный подбородок, крючковатый нос, желтоватая кожа, неровные, неправильной формы брови вздымались над кроткими карими глазами, в которых не чувствовалось ни смелости, ни коварства. Во Флоренции говорили, что Содерини воплощал в себе три достоинства, не встречаемые вместе ни у одного из жителей Тосканы: он был честен, он был прост и он умел заставить дружно работать враждующие партии. Микеланджело рассказал Пьеро Содерини о предполагаемом заказе Пикколомини. — Я не хочу принимать этот заказ, гонфалоньер. Я горю желанием изваять Гиганта! Вы не можете добиться того, чтобы управа при Соборе и цех шерстяников объявили конкурс? Если я проиграю его, я буду хотя бы знать, что у меня не хватило способностей. И тогда приму предложение Пикколомини как нечто неизбежное. Микеланджело тяжело дышал, ноздри у него трепетали. Содерини мягко смотрел на него из-за своего широкого стола. — Сейчас не то время, чтобы торопить события. Наши силы истощены в войне с Пизой. Цезарь Борджиа грозит захватить Флоренцию. Вчера Синьория решила откупиться от него. Мы будем ему выплачивать тридцать шесть тысяч золотых флоринов в год жалованья как главнокомандующему военных сил Флоренции. И платить будем в течение трех лет. — Это вымогательство! — сказал Микеланджело. Лицо Содерини покрылось краской. — Многие целуют руку, которую хотели бы видеть отрубленной. Очень боюсь, не придется ли платить Цезарю Борджиа и сверх этой суммы. А деньги должны собрать цехи и представить их Синьории. Теперь ты уяснил себе, что цеху шерстяников не до того, чтобы думать о конкурсе на скульптуру? На минуту собеседники смолкли, понимающе глядя друг на друга. — Не лучше ли будет для тебя, — промолвил Содерини, — если ты отнесешься к предложению Пикколомини более благосклонно? Микеланджело шумно вздохнул: — Кардинал Пикколомини хочет, чтобы все пятнадцать статуй делались по его вкусу. Я ведь не могу взяться за резец, пока он не одобрит мои проекты. И какая за это плата? Чуть больше тридцати трех дукатов за фигуру — таких средств едва хватит лишь на то, чтобы снять помещение да купить материалы… — Давно уже ты не работал по мрамору? — Больше года. — А когда в последний раз получал деньги? — Больше двух лет назад. У Микеланджело дрожали губы. — Поймите же, прошу вас. Ведь этот алтарь строил Бреньо. Все фигуры кардинал потребует закутать с головы до ног; они будут стоять в темных нишах; их там не отличишь от печного горшка! Зачем мне на три года связывать свою жизнь с этим алтарем и украшать его, когда он и без того достаточно украшен? Голос его, в котором звучала мука, раздавался теперь по всей палате. — Исполняй сегодня то, что надлежит исполнить сегодня, — твердо заключил Содерини. — А завтра ты будешь волен делать то, что следует делать завтра. Вот мы даем взятку Цезарю Борджиа. Разве для тебя, художника, этот заказ не то же самое, что подкуп Борджиа для нас, правителей государства? Вся сила в единственном законе, который гласит: надо выжить. Настоятель монастыря Санто Спирито Бикьеллини, сидя за столом в своем заполненном манускриптами кабинете, гневно отодвинул бумаги в сторону, глаза его из-под очков так и сверкали. — Это в каком же смысле — выжить? Быть живым и жить, как живут звери? Позор! Я уверен, что шесть лет назад Микеланджело не допустил бы подобной мысли. Он не сказал бы себе: «Лучше посредственная работа, чем никакой». Это самое настоящее соглашательство, на которое идет только посредственность. — Бесспорно, отец. — Тогда не бери этого заказа. Делай как можно лучше то, на что ты способен, или не прикладывай рук вовсе. — В конечном счете вы, разумеется, правы, но что касается ближайших целей, то я думаю, истина тут на стороне Содерини и моего родителя. — Конечный счет и ближайшая цель — да таких понятий нет, их не существует! — воскликнул настоятель, краснея от возмущения. — Есть только Богом данные и Богом же отсчитанные годы, и пока ты жив, трудись и осуществляй то, для чего ты рожден. Не расточай времени напрасно. Микеланджело устыженно опустил голову. — Пусть я говорю сейчас как моралист, — продолжал настоятель уже спокойно, — но ты, пожалуйста, помни: заботиться о тебе, воспитывать у тебя характер — это мой долг. Микеланджело вышел на яркий солнечный свет, присел на край фонтана на площади Санто Спирито и стал плескать себе в лицо холодную воду — в точности так, как он делал это в те ночи, когда пробирался домой из монастырской покойницкой. — Целых три года! Dio mio, — бормотал он. Он пошел к Граначчи и стал жаловаться ему, но тот не хотел и слушать. — Без работы, Микеланджело, ты будешь самым несчастным человеком на свете. И что за беда, если тебе придется высекать скучные фигуры? Даже худшая твоя работа окажется лучше, чем самая удачная у любого другого мастера. — Да ты просто спятил. Ты и оскорбляешь меня, и льстишь в одно и то же время. Граначчи ухмыльнулся: — Я тебе советую: изготовь по договору столько статуй, сколько успеешь. Любой флорентинец поможет тебе, лишь бы утереть нос Сиене. — Утереть нос кардиналу? Граначчи заговорил теперь куда серьезнее: — Микеланджело, посмотри на дело трезво. Ты хочешь работать — значит, бери заказ у Пикколомини и выполняй его на совесть. Когда тебе подвернется заказ интересней, ты будешь высекать вещи, которые тебе по душе, и пойдем-ка со мной на обед в общество Горшка! Микеланджело покачал головой. — Нет, я не пойду.3
Он снова надолго приник к рисовальному столу, набрасывая эскизы к «Богородице» для братьев Мускронов и пытаясь хотя бы смутно представить себе фигуры святых для Пикколомини. Но мысли его были только о колонне Дуччио и о Гиганте-Давиде. Сам того не замечая, он раскрыл Библию и в Книге Царств, главе 16, прочитал: «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа… И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал: вот я усидел у Иессея, Вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах и видного собою, и Господь с ним». Чуть дальше, в той главе, где Саул спрашивает, мудро ли поступил Давид, выйдя на бой с Голиафом, Давид говорит: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его; и если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой». Микеланджело сидел, глядя на строки: «Приходил лев или медведь… то я брал егоза космы и поражал его и умерщвлял его». Разве есть еще в Библии подвиг силы и отваги величавее этого? Юноша, без оружия и брони, преследует самых могучих зверей, хватает их и душит голыми руками. А есть ли во Флоренции из всех изображений Давида, которые он видел, хоть одно, где Давид казался бы способным на такую дерзкую мысль, не говоря уже о ее осуществлении? Утром Микеланджело стоял перед картиной Кастаньо, оглядывая юного Давида: тонкие бедра и голени, изящные, маленькие руки и ступни ног, копна курчавых волос, венчающая нежно выточенное милое лицо, — нечто среднее между мужчиной и женщиной. Микеланджело пошел взглянуть и на более раннюю картину — на «Давида-Победителя» Антонио Поллайоло; у того Давид крепко упирался ногами в землю, но его хрупкие, словно у дамы, пальчики были изогнуты так, будто он собирался взять в руки чашечку сливок. У юноши был хорошо развитый торс и чувствовалась некая решимость в позе, но отороченный кружевами кафтан с кружевной же рубашкой флорентинского аристократа придавал ему вид, как убеждался Микеланджело, самого изысканного, самого модного пастушка на свете. Скоро Микеланджело был во дворце Синьории и, поднявшись по лестнице, направился в зал Лилий. Снаружи, возле дверей, стоял бронзовый «Давид» Верроккио — задумчиво-нежный юноша. В самом зале находился первый «Давид» Донателло, высеченный из мрамора. Микеланджело никогда не видел его раньше и изумился тонкости отделки, чутью ваятеля в передаче телесной плоти. Руки у Давида были сильные, та его нога, которую не скрывала длинная, роскошная мантия, выглядела гораздо массивней и тяжелей, чем на картинах Кастаньо и Поллайоло, шея толще. Но глаза были пустоватые, подбородок безвольный, рот вялый, а лишенное экспрессии лицо украшал венок из листьев и ягод. Микеланджело сошел по каменным ступеням во дворик и остановился перед Донателловым «Давидом» из бронзы: эту статую когда-то он видел ежедневно в течение двух лет, живя во дворце Медичи; ныне, после того как дворец был разграблен, городские власти перенесли ее сюда. Это изваяние он любил всей душой: бедра, голени, ступни бронзового юноши были достаточно сильны, чтобы нести тело, руки и шея крепкие и округлые. Однако теперь, когда он смотрел на статую критически, он видел, что, как и у любой флорентинской статуи Давида, у Донателлова изваяния слишком приятные, почти женские черты лица, затененные богато декорированной шляпой, и чересчур длинные кудри, рассыпавшиеся по плечам. Несмотря на мальчишеский детородный орган, у него чувствовались слегка налившиеся груди юной девушки. Микеланджело вернулся домой, в голове у него была полная сумятица. Все эти Давиды, и в особенности два Давида любимого Донателло, — просто хрупкие, слабые мальчики. Они не смогли бы задушить льва и медведя, а тем более убить Голиафа, чья мертвая голова лежала у их ног. Почему же лучшие художники Флоренции изображали Давида или нежным юношей, или выхоленным и разнаряженным модником? Разве они знали лишь одно описание Давида: «Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом» — и не читали про него ничего больше? Почему ни один художник не подумал как следует об этих словах: «И если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой». Давид был мужчиной! Он совершал эти подвиги еще до того, как его избрал Господь. Все, чего он достиг, он достиг один, обязанный только своему великому сердцу и могучим рукам. Такой человек мог без колебаний пойти на Голиафа, будь Голиаф и великаном, носившим на себе чешуйчатую броню в пять тысяч сиклей меди. Что этому юноше Голиаф, если он смотрел в глаза львам и медведям и побеждал их в честном поединке? Рано утром, прихватив с собой все, что нужно для замеров, Микеланджело шел по мокрым после уборки улицам к мастерской при Соборе. Там он долго прикидывал, как вписываются его рисунки в камень Дуччио, тщательно, стараясь не ошибиться ни на волос, вычислял расстояние между самой глубокой точкой впадины на глыбе и противоположной ее стороной, с тем чтобы твердо убедиться, возможно ли высечь из этого блока Давида, самая узкая часть фигуры которого — бедра — должна была войти в перешеек камня у выемки. — Толку не будет, — приговаривал Бэппе. — Вот уже пятьдесят лет я гляжу, как скульпторы меряют этот камень то тут, то там. И всегда говорят одно: «Плохо. Никакая фигура не получится». — Все зависит от изобретательности, Бэппе. Гляди, я нарисую тебе контуры этого камня и скажу, что выходит. Вот эта точка показывает крайнюю глубину впадины и делит колонну по длине на две почти равные части. А теперь давай предположим, что, уходя от впадины, мы сдвинем поясницу и бедра в бок и для устойчивости позы высечем с противоположной стороны резко выдвинувшееся запястье руки… Бэппе задумчиво почесал себе зад. — Эге, — воскликнул Микеланджело, — видно, ты понял, что толк будет. Я ведь знаю, где ты чешешь свои телеса, когда бываешь чем-то доволен. Шла неделя за неделей. Микеланджело стало известно, что Рустичи заявил, будто работа над колонной Дуччио для него слишком сложна. Сансовино для того, чтобы из камня получилось хоть что-то путное, потребовал дополнительный блок мрамора. Многие скульпторы Флоренции, в том числе Баччио, Бульони и Бенедетто да Роведзано, осматривали колонну и разочарованно шли прочь, говоря, что поскольку поперек ее, почти на самой середине, проходит глубокая выемка, то; колонна в этом месте разломится надвое. Посыльный доставил пакет из Рима, в котором лежал договор с Пикколомини.«Преосвященный кардинал Сиены поручает Микеланджело, сыну Лодовико Буонарроти Симони, скульптору из Флоренции, изготовить пятнадцать статуй из каррарского мрамора, который должен быть новым, чистым, белым, без пятен и прожилок, словом, таким совершенным, какой идет на первоклассные по качеству статуи, каждая из которых должна быть в два локтя высоты и которые должны быть все закончены в течение трех лет за сумму в пятьсот больших золотых дукатов…»Якопо Галли все же добивался аванса в сто дукатов, обязавшись возвратить эти деньги кардиналу Пикколомини в том случае, если Микеланджело умрет, не закончив трех последних статуй. Кардинал Пикколомини уже одобрил первые Микеланджеловы наброски, но была в договоре статья, прямо-таки взбесившая Микеланджело. «Поскольку Святого Франциска уже ваял Пьетро Торриджани, но оставил незавершенными одеяние и голову, Микеланджело должен из уважения и любезности закончить статую в Сиене, с тем, чтобы эта статуя могла быть помещена среди других, изготовленных им, и все, кто увидит ее, говорили бы, что это работа рук Микеланджело». — Я и ведать не ведал, что Торриджани когда-то уже начинал эту работу, — возмущался Микеланджело, разговаривая с Граначчи. — Какое бесчестье, если я начну подчищать его пачкотню! — Резко же ты выражаешься, — заметил Граначчи. — Лучше взглянуть на дело по-иному: Торриджани не сумел изваять, как положено, даже одной фигуры, и кардинал Пикколомини вынужден обратиться к тебе, чтобы работа была выполнена достойно. Галли торопил Микеланджело подписать договор и браться за дело немедленно. «На будущую весну, когда братья Мускроны приедут из Брюгге, я уговорю их заказать вам статую по вашему вкусу — „Богоматерь с Младенцем“. Таким образом, есть еще добрые надежды и на будущее». Микеланджело собрал кипу новых рисунков к «Давиду» и снова отправился уговаривать и убеждать Пьеро Содерини. Ведь заказ на статую попадет в его руки только в том случае, если гонфалоньер будет решителен и заставит, наконец, действовать цех шерстяников. — Да, я могу его принудить к этому, — соглашался Содерини. — Но это значит, что и цех шерстяников, и управа при Соборе пойдут против собственной воли. И конечно, будут отвергать тебя. А нам требуется, чтоб они, во-первых, заказали эту статую и, во-вторых, чтобы они сами избрали тебя в качестве скульптора. Ты чувствуешь, что это разные вещи? — Да, — с горечью ответил Микеланджело, — это, пожалуй, верно. Но ждать я больше не могу.
Неподалеку от Виа дель Проконсоло, почти рядом о церковью Бадиа, под одной из арок существовал проход — выглядел он так, словно вел во дворик какого-то дворца. Микеланджело нырял под эту арку бесконечное число раз, идя из дома в Сады Медичи, и знал, что за нею открывается площадь, где жили мастеровые, — особый мир, наглухо отгороженный, окруженный задними стенами дворцов, низкими башнями и приземистыми двухэтажными строениями. Тут, на этой площади, ютилось десятка два разных мастерских — дубильных, медных, столярных, красильных, канатных, изготовляющих ножи и ножницы. Товар свой эти ремесленники сбывали на больших рынках и людных улицах Корсо и Пелличчерии. Здесь Микеланджело снял пустовавшую мастерскую, в которой когда-то работал сапожник, — мастерская выходила окнами на южную сторону овальной по форме площади, и в ней почти весь день стояло солнце. Оплатив помещение за три месяца вперед, Микеланджело послал письмо Арджиенто в Феррару, зовя его на работу, и приобрел для него обычную у подмастерьев низенькую кровать на колесиках, задвигавшуюся на день под кровать хозяина. В знойные дни июня мастеровые работали, расположившись на скамьях у открытых дверей, — руки красильщиков отливали голубым, зеленым, красным, металлисты трудились в кожаных фартуках, обнажив свои плотные тела до пояса, столяры пилили и строгали дерево, отшвыривая в сторону пахнущие свежестью стружки; всякий инструмент производил особый, свойственный только ему шум, сливающийся с шумом другого инструмента, и в тесном пространстве площади они звучали согласно, как музыка, родная и близкая слуху Микеланджело. Здесь, в мастерской, где буквально рядом жил простой трудовой люд, у него было такое же чувство спокойного уединения, которое он знал у своего рабочего стола в Риме, когда за окнами, подле гостиницы «Медведь», сновала и суетилась пестрая людская толпа. Арджиенто приехал покрытый пылью, в разбитых башмаках и, выскребая в комнате последние следы пребывания сапожника, без умолку болтал все утро; он не мог сдержать своей радости по поводу того, что избавился от брата и его хозяйства. — Не понимаю тебя, Арджиенто. Когда мы жили в Риме, ты каждое воскресенье спешил за город, чтобы посмотреть на лошадей. Оторвавшись от ведра с мыльной пеной, Арджиенто поднял свое потное лицо: — Я люблю побывать в деревне, посмотреть, а работать там мне не нравится. Столяр, живший напротив, помог Микеланджело сколотить рисовальный стол, и они поставили его у самых дверей. Арджиенто обегал всю Скобяную улицу, разыскивая подержанный горн. Микеланджело купил железные бруски и корзину каштановых углей — надо было изготовлять резцы. Он нашел во Флоренции два блока мрамора величиной в аршин и двадцать дюймов, наказав доставить еще три блока из Каррары. Затем, не прибегая ни к восковым, ни к глиняным моделям и не заглядывая в рисунки, одобренные кардиналом Пикколомини, он начал обрабатывать белоснежные блоки — теперь он чувствовал только одно: жажду приложить свои руки к мрамору. Он изваял сначала Святого Павла, с бородой, с красивыми чертами лица, — в этом первом проповеднике христианства был и римский колорит, и налет греческой культуры; тело его, несмотря на обширную мантию, Микеланджело сделал мускулистым и напряженным. Не дав себе передышки, он тотчас приступил к статуе Святого Петра — ближайшего из учеников Христа, свидетеля его воскресения, того Петра-камня, на котором была воздвигнута новая церковь. Эта статуя была гораздо сдержанней, спокойней, в ней ощущалась одухотворенная задумчивость; продольные складки мантии святого выразительно оттенял тяжелый шарф, наброшенный поперек груди и плеч. Трудовой люд на площади принял Микеланджело как еще одного искусного мастерового, который в рабочей одежде приходит в свою каморку чуть не на заре, сразу после того, как подмастерья вымоют мостовую, и кончает работу затемно — его волосы, щеки, нос, рубашка, голые до колен ноги бывают к тому времени усыпаны белой мраморной пылью, в точности так, как они могли быть усыпаны стружкой, обрезками кожи или хлопьями пакли. Порой какой-нибудь столяр или красильщик, напрягая голос, чтобы перекрыть визг пилы, стук молотков, острые скрипы ножей и песню резцов Микеланджело, взрезающих белый мрамор подобно тому, как взрезает весеннюю почву лемех плуга, кричал: — Это прямо-таки чудо! Вся Флоренция задыхается от зноя, а на нашей площади белая метель. Он держал местонахождение своей мастерской в тайне ото всех, за исключением Граначчи; тот, идя домой обедать, заглядывал сюда по пути и приносил свежие городские новости. — Я не верю своим глазам! Девятнадцатого июня ты подписал договор, сейчас только середина июля, а у тебя уже готовы две статуи. И они вполне хороши, хотя ты и плачешься, что не можешь больше изваять ничего достойного. Если дело так пойдет и дальше, ты закончишь пятнадцать статуй в семь месяцев. — Эти две первые статуи неплохие, в них вложена моя жажда работы. Но когда их втиснут в узенькие ниши, они тут же умрут, исчезнут. Следующие две фигуры у меня — папа Пий Второй и Григорий Великий, в тиарах, как полагается, и в длинных жестких мантиях… — Но почему ты не поедешь в Сиену и не разделаешься с Торриджани? — прервал его Граначчи. — Поверь, тебе сразу станет легче. В тот же день Микеланджело уехал в Сиену.
4
Тоскана — благословенный край. Земля ее вылеплена так любовно, что взор обнимает горы и долины, не спотыкаясь ни об один камень. Скаты и верхи мягко расступающихся холмов, отвесные линии кипарисов, террасы, высеченные многими поколениями людей, вложивших в эти утесы и скалы всю свою нежность и мастерство, геометрически расчерченные поля, по которым словно бы прошлась, в двойной заботе о красоте и урожае, рука художника; зубчатые стены замков по гребням холмов и высокие башни, отливающие среди лесной зелени серо-голубым и золотистым, воздух такой чистоты, что каждая пядь земли во всех мелочах виднеется с ослепительной ясностью. Под ногами Микеланджело расстилались нивы, где под июльским солнцем уже вызрели ячмень и овес, бобы и свекла; по обеим сторонам дороги тянулись шпалеры виноградника, вплетенного в горизонтальные ветви серебристо-зеленых олив, — этот сквозной, будто перепончатый сад навевал мысли о вине, об оливковом масле, о прелести кружевной листвы. Поднимаясь по отлогому кряжу все выше и выше, к чистейшему итальянскому небу, вдыхая этот дивный воздух, Микеланджело испытывал восторг: все его существо теперь словно бы облагородилось, суета и убожество обыденщины спадали с плеч — такое наслаждение он чувствовал лишь в те минуты, когда резал и рубил белый мрамор. Тоскана как бы размыкала все узлы человеческих страстей и печалей, выметая зло из земного мира. Бог и человек соединили свои силы, чтобы создать это величайшее творение искусства. По живописности и красоте, думал Микеланджело, здесь мог бы быть Эдем, райский сад. Адам и Ева покинули его, но для глаз скульптора, озирающего волнистые отроги гор, распахнутых в огромном пространстве, нежную нить зеленой реки, вьющейся внизу, среди долины, пятна каменных домиков с солнечно-яркими черепичными кровлями и далекие лиловые стога, — для его глаз Тоскана была раем. И он припомнил вдруг строки, которые напевал в детстве:5
Ноги сами несли его через Борго Пинти на Виа дельи Артисти, затем к городским воротам и, вдоль реки Аффрико, к холмам Сеттиньяно. — Эй, у меня новость! — вскричал Микеланджело. — Самая свежая, с пылу, с жару. Колонна Дуччио теперь моя! — Значит, мы можем уже доверить тебе отделывать оконные наличники, — не без иронии отозвался отец семейства. Микеланджело раскинул перед ним ладони: — Спасибо за честь, padre mio, но настоящий скальпеллино любит рубить камень — и тут хоть лопни! Он остался у Тополино ночевать, спал на старом соломенном тюфяке, под аркой, между дедом и самым младшим из внуков. Встал на рассвете и пошел вместе с мужчинами тесать светлый камень. Проработал он недолго, пока над долиной не поднялось солнце, потом вернулся в дом. Мать семейства подала ему кувшин холодной воды. — Madre mia, что с Контессиной? — Она очень слаба… Но это не самое худшее. Синьория запретила, чтобы кто-нибудь помогал им. — И красноречивым тосканским жестом безнадежности старуха развела руки в стороны. — Яд ненависти, оставленный Пьеро, еще действует. Микеланджело выпил почти весь кувшин, снова вышел на рабочий двор и спросил Бруно: — У тебя есть в запасе несколько железных брусков? — Как же не быть? Всегда есть. Микеланджело подложил в горн дров, разжег его и отковал набор маленьких резцов и молотков — такой детский инструмент изготовлял для него, когда ему было шесть лет, старый Тополино. Затем он обтесал продолговатую плиту светлого камня и вырезал на ней азбуку скальпеллино — от узора в елочку до тех борозд, что процарапывает крайний зуб троянки. — Addio, — попрощался он с Тополино. По какому-то таинственному наитию Тополино твердо знали, что, услышав о своей большой удаче, Микеланджело пришел поделиться этой вестью прежде всего к ним. Его приход, ночлег в доме, работа за компанию с мужчинами — все говорило о том, что любовь Микеланджело к семейству каменотесов жива. Конь, которого он взял у Тополино, был стар и ненадежен. Не одолев и половины подъема по крутой тропе, Микеланджело слез с седла и повел коня в поводу. На перевале он повернул к западу, и перед ним открылась долина Муньоне — небо над нею было залито розовым и пурпурным светом. Здесь лежал кратчайший путь к Фьезоле, северному якорю этрусской лиги городов, первым опорным пунктом которой был город Вейи, поблизости от Рима. Легионы Цезаря не без труда покорили здешние места. Цезарь думал, что он смел Фьезоле с лица земли, но, спускаясь по северному склону и видя в отдалении виллу Полициано «Диана», Микеланджело проехал мимо прочных, не тронутых временем этрусских стен и новых домов, сложенных из камня древнего города. Жилище Контессины было расположено в лощине, подле круто сбегающей вниз узкой дороги, на полпути от гребня горы до реки Муньоне. Когда-то это был крестьянский домик, принадлежавший стоявшему на горе замку. Микеланджело привязал лошадь к оливе, прошел через грядки огорода и на маленькой каменной террасе перед домиком увидел семейство Ридольфи. Контессина сидела на стуле с тростниковой спинкой, кормя грудью младенца, шестилетний мальчик играл у ее ног. Микеланджело сверху, с бугра, сказал негромко и мягко: — Это я, Микеланджело Буонарроти, приехал навестить вас. Контессина быстро подняла голову, прикрыла грудь. — Микеланджело! Вот неожиданность. Спускайся же скорее. Тропинка там поворачивает вправо. Наступила напряженная тишина, Ридольфи гордо вскинул голову, лицо у него было надменно-обиженное. Микеланджело вынул из седельной сумы каменную плиту и набор детских инструментов и прошел по дорожке к дому. Ридольфи по-прежнему холодно смотрел поверх его головы, недвижный, надменный. — Власти отдали мне вчера колонну Дуччио. Я должен был приехать к вам и сказать это. Так пожелал бы Великолепный. А потом я вспомнил, что вашему старшему сыну ныне исполнилось шесть лет. В таком возрасте пора начинать учение. Я буду учить его, как меня учил Тополино, когда мне было тоже шесть лет. Контессина рассмеялась, и громкий ее смех покатился через террасу к оливам. Суровый рот Ридольфи дрогнул в усмешке. Чуть хриплым голосом он сказал: — С вашей стороны большая любезность приехать к нам вот так. Вы ведь знаете, что мы отверженные. Ридольфи заговорил с Микеланджело впервые в жизни, и впервые после свадьбы Контессины Микеланджело увидел его вблизи. Ридольфи не было еще и тридцати, но гонения и невзгоды уже опустошающе прошлись по его лицу. Хотя он и не входил в число заговорщиков, стремившихся призвать Пьеро де Медичи, его ненависть к республике и готовность содействовать восстановлению олигархического режима во Флоренции были известны. Наследственное состояние Ридольфи, нажитое на торговле шерстью, служило теперь для финансовых нужд государства. — Едва ли мне на пользу опьяняться подобными мыслями, — сказал Ридольфи, — но придет день, и мы вновь окажемся у власти. Тогда мы посмотрим! Микеланджело чувствовал, как глаза Контессины жгут ему затылок. Он вполоборота посмотрел на нее. Спокойная покорность судьбе сквозила в ее лице, хотя ужин, который они только что кончили, был скуден, одежда потерта и обтрепана, а крестьянское жилище не могло не будить мыслей об их старом дворце, одном из самых роскошных во Флоренции. — Расскажи, что нового у тебя. Как ты жил в Риме? Что изваял? Я слышала только про «Вакха». Микеланджело вынул из-под рубашки лист рисовальной бумаги, из-за пояса угольный карандаш и набросал «Оплакивание», объяснив, что он старался выразить. Как хорошо было снова беседовать с Контессиной, смотреть в ее темные глаза. Разве они не любили друг друга, пусть это была и детская любовь? Если ты когда-то любил, разве эта любовь может умереть? Любовь так редкостна и находит тебя с таким трудом… Контессина угадала его мысли, она всегда их угадывала. Она наклонилась к сыну: — Луиджи, ты хочешь изучать азбуку Микеланджело? — Нет, я хочу делать с Микеланджело новую статую! — А я буду ходить к тебе и учить, как меня учил Бертольдо в Садах твоего дедушки. Возьми-ка вот этот молоток в одну руку и резец — в другую. На тыльной стороне этой плиты я тебе покажу, как писать по камню. С молотком и резцом в руках мы можем создавать изваяния не менее прекрасные, чем терцины Данте. Верно я говорю, Контессина? — Да, — ответила она. — У каждого из нас есть свой алфавит, чтобы творить поэзию. Была уже полночь, когда он отвел лошадь к Тополино и добрался по холмам до города. Отец не спал, ожидал его в своем черном кожаном кресле. Очевидно, это была уже вторая ночь, как он не смыкал глаз, раздражение его дошло до предела. — Нет, только подумать! Тебе потребовалось двое суток, чтобы найти свой дом и сообщить отцу новости. Где ты был все это время? И где твой договор? Какую сумму тебе назначили? — Шесть флоринов в месяц. — Сколько надо времени, чтобы кончить работу? — Два года. Лодовико быстро прикинул, какой получается итог, и обескураженно взглянул на Микеланджело. — Выходит, всего-навсего сто сорок четыре флорина! — Если по окончании работы будет решено, что я заслуживаю большего, управа согласна заплатить дополнительно. — От кого это будет зависеть? — От их совести. — Ах, от совести! Разве ты не знаешь, что, когда тосканец должен развязать свой кошелек, совесть у него замолкнет? — Мой «Давид» будет столь прекрасен, что они заплатят больше. — Даже договор с Пикколомини выгодней, там ты получаешь триста тридцать два флорина за те же два года работы — плата в два с лишним раза выше! Микеланджело горестно опустил голову, но Лодовико не обратил на это внимания. Решительным тоном, означающим конец разговора, он сказал: — Буонарроти не столь богаты, чтобы заниматься благотворительностью и жертвовать цеху шерстяников и Собору сумму в сто восемьдесят восемь флоринов. Скажи им, что ты не примешься за Давида, пока не заработаешь свои пятьсот дукатов в Сиене… Микеланджело почел разумным сдержаться. Он спокойно произнес: — Отец, я буду высекать «Давида». И зачем вы вечно затеваете эти пустые споры? Несколько часов спустя брат Буонаррото говорил Микеланджело: — Споры не такие уж пустые. Скажи, сколько флоринов ты собирался давать отцу до этого разговора? — Три. Половина заработка ему, половина мне. — А сейчас ты согласился давать ему пять. — Мне надо было как-то успокоить его. — Выходит, всего за час спора он обеспечил себе два лишних флорина в месяц — и это на целый год! Микеланджело устало вздохнул: — Что я могу сделать? Он такой старый, такой седой. Если управа будет оплачивать расходы на работу, к чему мне эти два лишних флорина? — Да ты был в лучшем положении, когда служил подмастерьем во дворце Медичи, — с горечью упрекнул его Буонаррото. — По крайней мере, я мог тогда откладывать тебе хоть какие-то деньги. Микеланджело посмотрел в окно, по улице Святого Прокла двигались смутные тени ночной стражи. — Насчет отца ты, конечно, прав — я для него действительно вроде каменоломни.6
В очередной день, когда собралось Общество Горшка, Граначчи устроил там торжественный обед. Чтобы поздравить Микеланджело с чудесной удачей, пришло одиннадцать членов Общества, причем Боттичелли, морщась и охая, приковылял на костылях, а Росселли — главу соперничавшей с Гирландайо мастерской — принесли на носилках. Рустичи обнимал Микеланджело ото всей души, Сансовино хлопал его по спине, и все поздравляли — Давид Гирландайо, Буджардини, Альбертинелли, Филиппино Липпи, Кронака, Баччио д'Аньоло, Леонардо да Винчи. Двенадцатый член Общества, Джулиано да Сангалло, оказался в отъезде. Всю вторую половину дня Граначчи таскал в мастерскую Рустичи гирлянды колбас, холодную телятину, молочных поросят, горы пирожных, оплетенные бутыли кьянти. Когда Граначчи рассказал Соджи, что происходит, тот прислал на торжество огромный таз свиных ножек в рассоле. Еды и напитков требовалось в самом деле немало, ибо Граначчи пригласил на обед почти весь город — всю мастерскую Гирландайо, включая одаренного сына Доменико, Ридольфо, которому исполнилось восемнадцать лет; всех учеников из Садов Медичи; десяток наиболее известных скульпторов и живописцев, таких, как Донато Бенти, Бенедетто да Роведзано, Пьеро ди Козимо, Лоренцо ди Креди, Франчабиджо, юный Андреа дель Сарто, Андреа делла Роббиа, специалист по терракоте с глазурью; лучших флорентинских мастеров — ювелиров, часовщиков, резчиков гемм, литейщиков бронзы, резчиков по дереву; мозаичиста Монте ди Джованни ди Миниато, миниатюриста Аттаванти, архитектора Франческо Филарете, являвшегося старшим герольдом Флоренции. Умудренный в обычаях и нравах республики, Граначчи послал также приглашение гонфалоньеру Содерини, членам Синьории, старшинам цеха шерстяников, членам управы при Соборе, семейству Строцци, которое в свое время купило у Микеланджело «Геракла». Большинство приглашенных явилось, и все были готовы повеселиться: огромное сборище людей, не вместясь в шумной мастерской, вышло на площадь, где их развлекали акробаты и атлеты, нанятые Граначчи; музыканты и певцы исполняли для танцующих юношей и девушек песни. Все крепко жали Микеланджело руку, хлопали его по спине и упрашивали распить стаканчик — тут мог оказаться и его друг, и случайный знакомец, и совершенно неизвестный ему человек. Содерини положил свою ладонь на руку Микеланджело и сказал: — С того времени как во Флоренции появился Савонарола, это первое значительное решение, принятое властями единодушно. Может быть, у нас начинается новая эра и мы сумеем покончить с глубоко засевшим в наши сердца чувством вины. — Какую вину вы имеете в виду, гонфалоньер? — Вину всех и вину каждого. Со смертью Великолепного мы пережили дурные времена; мы уничтожили многое из того, что делало Флоренцию первым городом мира. Взятка Цезарю Борджиа — это лишь новое бесчестье и унижение, каких за последние девять лет мы знали множество. А сегодня, в этот вечер, мы довольны собой. Позже, когда твой мрамор будет закончен, мы, возможно, будем гордиться Микеланджело. Но сейчас мы горды за себя, за таких, какие мы есть. Мы уверены, что еще будем раздавать заказы — и большие заказы — на фрески, мозаики, бронзу и мрамор всем нашим художникам. Теперь все рождается заново. — Содерини обнял Микеланджело за плечи. — А тебе посчастливилось стать повивальной бабкой. Ухаживай же за ребенком, не спускай с него глаз! Празднество длилось до рассвета, и два события, происшедшие за эту ночь, сыграли свою роль в жизни Микеланджело. Первое из них наполнило его сердце радостью. Больной, престарелый Росселли собрал вокруг себя с десяток членов Общества и сказал: — Отнюдь не мясо и вино — да простится мне такой оборот речи — заставило меня, члена Общества Горшка, добираться сюда на носилках. И вот, хотя я решительный противник того, чтобы содействовать кому-то из мастерской Гирландайо, все-таки объявляю сегодня, что ухожу из Общества и назначаю своим преемником Микеланджело Буонарроти. Таким образом Микеланджело был принят в Общество. Давно уже, начиная с той поры, когда он перестал ходить в Сады Медичи, Микеланджело не знал никаких кружков, никаких компаний. Он вспоминал теперь, как одинок он был в детстве, как трудно ему было приобретать друзей, отдаваться веселью. Вечно он был худым, некрасивым, замкнутым, никому не желанным. А теперь все художники Флоренции, даже те, что годами дожидались, когда их пригласят на обед в Общество, аплодировали его избранию. Второй случай вызвал у Микеланджело глубокую боль. Виновником всего, хотя и невольно, оказался Леонардо да Винчи. Этот человек раздражал Микеланджело с того самого дня, когда он впервые увидел его. Леонардо да Винчи переходил тогда площадь Синьорий, сопровождаемый своим безотлучным, любимым учеником Салаи — юношей с лицом греческой статуи, с пышными вьющимися волосами, маленьким круглым ртом и мягким круглым подбородком; одет он был своим покровителем в дорогую льняную рубашку и богато отделанный серебристой парчою плащ. Внешность Салаи была, однако, бледна и неинтересна рядом с Леонардо, ибо со времен золотой красоты Пико делла Мирандола Флоренция еще не знала столь совершенного лица, как у этого художника. Он шел, аристократически откинув свою скульптурную голову: широкий, величавый лоб окутан дымкой волнистых рыжеватых волос, спадающих до плеч, великолепный подбородок, словно изваянный из дивного каррарского мрамора, который он презирал, безупречно вылепленный широкий нос, округлые полные красные губы, освещающие все лицо, холодные голубые глаза, в которых читались поразительная проницательность и ум, нежный, будто у сельской девушки, цвет кожи. Микеланджело не раз следил за Леонардо, когда тот шагал через площадь со своей обычной свитой слуг и приспешников, и всегда убеждался, что фигура этого человека не менее совершенна, чем его лицо: он был высок, изящен, широкоплеч, с узкими бедрами атлета, проворство и ловкость в нем сочетались с силой. Одевался он с царственным блеском, презирая в то же время условности: небрежно накинутый на плечи розовый плащ до колен, рубашка и рейтузы, обтягивающие тело до удивления плотно. Глядя на Леонардо, Микеланджело чувствовал себя уродливым, неуклюжим; он теперь видел, насколько дурна, плохо сшита и заношена его одежда. Тщательно убранные золотистые волосы, аромат духов, кружева вокруг шеи и запястий, драгоценные украшения, несказанная изысканность этого человека заставили его ощутить себя оборванцем, чумазым простолюдином. Когда он признался в этом Рустичи, другу Леонардо, тот начал резко корить его: — Не будь глупцом и посмотри, что скрывается под этой элегантной внешностью. У Леонардо великолепный мозг! Его изыскания в геометрии углубили труды Эвклида. Много лет он рассекает тела животных, и его тетради полны точнейших анатомических рисунков. Занимаясь геологией, он открыл на вершинах гор в верховьях Арно ископаемые существа, покрытые раковинами, и доказал, что эти ископаемые жили когда-то в воде. Он является также инженером и изобретателем невероятных механизмов — многоствольных пушек, кранов для поднятия тяжелых грузов, насосов, водяных и ветряных измерительных приборов. Вот сейчас он завершает опыты, создавая машину, которая летает по воздуху, подобно птицам. Одеваясь с ослепительной роскошью и подражая богачам и вельможам, он стремится к тому, чтобы мир забыл, кто он есть — внебрачный сын дочери содержателя постоялого двора в Винчи. А на деле он единственный человек во Флоренции, который трудится столь же усердно и много, как и ты: двадцать часов в сутки. Разве можно не видеть истинного Леонардо под его защитной броней элегантности? Выслушав эту блестящую отповедь, Микеланджело был уже не в силах сказать, как рассердил его презрительный отзыв Леонардо о скульптуре. А сегодня, на этом вечере Общества Горшка, Леонардо обошелся с Микеланджело так тепло и сердечно, что его враждебная настороженность и совсем смягчилась. Но вдруг он услышал позади себя высокий дискантовый голос: — Я отказался работать над блоком Дуччио, потому что скульптура есть механическое искусство. — Но к Донателло ваши слова, конечно, не относятся? — отозвался более глухой и низкий голос. — В известном смысле относятся и к нему, — отвечал Леонардо. — Скульптура менее интеллектуальна, чем живопись; ей недостает, по сравнению с живописью, столь многих естественных качеств. Я потратил на скульптуру годы и говорю вам по своему опыту: живопись куда более трудное дело, и в ней можно достигнуть большего совершенства. — Однако если речь идет о заказе такой важности, как этот… — Нет, нет, я никогда не буду ваять из мрамора. Эта работа вгоняет человека в пот и изнуряет все его тело. Ваятель по мрамору заканчивает свой рабочий день, весь запачканный, будто штукатур или булочник, ноздри его забиты пылью, волосы, лицо и ноги усыпаны крошкой и щебнем, одежда насквозь провоняла. Занимаясь живописью, я надеваю свои красивейшие одежды. По вечерам я заканчиваю работу таким же безупречно чистым и свежим, каким ее начал. Пока я пишу и рисую, ко мне приходят друзья и читают мне стихи или играют на музыкальных инструментах. Я утонченный человек. Скульптура же существует для мастеровых. Микеланджело почувствовал, как вся его спина заледенела, будто от холода. Он глянул через плечо. Леонардо сидел, отвернувшись в сторону. Микеланджело затрясся от ярости. Его мучило желание подойти сейчас сбоку к Леонардо и ударить в прекрасное лицо крепким кулаком скульптора, чье ремесло этот человек так презирает. Но Микеланджело сдержал себя и быстро отошел в другой угол мастерской, смертельно обиженный не только за самого себя, но и за всех ваятелей по мрамору. Придет время, и он заставит Леонардо глубоко раскаяться в своих словах. На следующий день он проснулся поздно. Вышел на Арно,но река обмелела, купаться было нельзя. Он прошел несколько верст вверх по течению и отыскал глубокую заводь. Вдоволь поплавав и вымывшись, он зашагал обратно, к монастырю Санто Спирито. Настоятель Бикьеллини сидел в библиотеке. Он выслушал новости, внешне храня безразличие. — А как твой договор с Пикколомини? — Когда цех шерстяников и Собор подпишут этот заказ, я буду свободен от остальных. — По какому же праву? То, что ты начал, надо кончать! — «Гигант» — это моя великая возможность. Я могу создать нечто совершенно замечательное… — После того как ты выполнишь прежние обязательства, — прервал его настоятель. — Ты поступаешь теперь еще хуже, чем тогда, когда подписывал ненавистный тебе договор. Это самый презренный вид соглашательства. Я понимаю, — тут настоятель заговорил уже дружелюбнее, — что ты не хочешь тратить свою энергию на статуи, которые тебе не нравятся. Но ты знал, за что берешься, с самого начала. Ты поступаешься своей честью, а взамен, может быть, ничего и не выиграешь. Вдруг кардинал Пикколомини станет нашим новым папой, и тогда Синьория прикажет тебе опять работать над сиенскими фигурами — ведь подчинилась же она Александру Шестому и отправила Савонаролу на дыбу. — У каждого свой будущий папа! — язвительно заметил Микеланджело. — Джулиано да Сангалло говорит, что новым папой будет кардинал Ровере. Лео Бальони говорит, что им будет кардинал Риарио. А вот по-вашему, это будет кардинал Пикколомини. Настоятель поднялся из-за стола и, не глядя на Микеланджело, вышел из кабинета. Он остановился на подворье под аркой, откуда открывалась вся площадь. Микеланджело поспешил вслед за ним. — Простите меня, отец, но я должен изваять Давида. Срезая угол площади, настоятель торопливо уходил от ворот; Микеланджело, твердо расставив ноги, стоял, не двигаясь, залитый безжалостно резким светом августовского солнца.7
Бэппе встретил его, как приятеля, грубоватыми шутками. — Значит, блок Дуччио переходит в твои руки без всякой платы. — Он ухмылялся и скреб свой лысый череп. — Хочешь ты этого или не хочешь, Бэппе, но тебе придется держать меня под своим крылом целых два года. Бэппе тяжело вздохнул: — Можно подумать, что у меня мало хлопот и без тебя: ведь все время доглядывай, чтобы Собор был в целости, не рухнул. В управе мне говорят: подавай ему все, что ни потребует, — мрамор, резцы, красоток… Микеланджело громко рассмеялся; заслышав его, подошли несколько мастеровых. С ними он и зашагал внутрь двора. Рабочий двор Собора раскинулся во всю ширину квартала позади зданий управы, от Виа деи Серви с севера до улицы Башенных Часов с юга, и был обнесен кирпичной стеной высотою в сажень с лишним. В передней части двора, там, где лежала колонна Дуччио, работали мастеровые, обслуживающие Собор, задняя часть была отведена для хранения бревен, кирпича, булыжника. Микеланджело хотел обосноваться здесь так, чтобы быть поближе к рабочим, слышать их голоса и шум инструментов, и в то же время чувствовать себя в уединении. Посередине заднего двора стоял дуб, а за дубом, в стене, выходившей на безымянный проулок, виднелись железные ворота, наглухо запертые и проржавевшие. От этих ворот до дома Микеланджело было всего два квартала пути. Здесь он мог бы работать в любой час, даже по ночам и по праздникам, когда передний, главный двор будет закрыт. — Бэппе, ходить через эти ворота не запрещено? — Никто не запрещал. Я запер их сам, лет десять — двенадцать назад, когда стали пропадать инструменты и материалы. — А для меня ты их откроешь? — Чем тебе не нравятся главные ворота? — Плохого ничего не вижу. Но если мою мастерскую построить у этих ворот, я буду ходить сюда, никого не беспокоя. Бэппе пожевал своими беззубыми челюстями, соображая, нет ли в словах Микеланджело какой обиды ему или его рабочим. Затем он сказал: — Ладно, я тебе построю мастерскую. Только объясни, чего ты хочешь. Прежде всего надобно было замостить булыжником голую землю подле стены на пространстве четырех с лишним сажен; здесь можно будет поставить горн, хранить инструменты и сухие дрова; потом требовалось надстроить на сажень с третью и самое стену: тогда уж никто не увидит ни его колонны, ни того, как он работает, взобравшись на подмостки. Он хотел обнести свое рабочее место — площадку в девять квадратных сажен — справа и слева невысокой дощатой загородкой, а верх мастерской и переднюю ее сторону, с юга, оставить открытыми. Во все часы, пока сверкающее флорентинское солнце, совершая свой урочный путь, поднимается по южному небосклону, «Гигант» будет щедро залит лучами. Микеланджело решил сохранить за собой и мастерскую на площади ремесленников — это будет место, где он сможет укрыться и отдохнуть, если его утомит огромный Давидов мрамор. Арджиенто будет там ночевать, а днем работать с Микеланджело здесь, во дворе Собора. Блок Дуччио — в семь аршин с пятью вершками длины — был так серьезно поврежден выемкой посредине, что любая попытка сдвинуть его с места могла оказаться роковой, резкое сотрясение, наклон или толчок разломит колонну надвое. Он купил несколько листов бумаги самого большого размера, какие только нашлись, налепил их на поверхность лежащей колонны и вырезал сагому — силуэт блока; глубина выемки теперь была измерена со скрупулезной точностью. Потом он перенес эти листы в мастерскую на площадь ремесленников, и Арджиенто пришпилил их к стене. Передвинув свой рабочий стол, Микеланджело сел перед ними и стал накладывать на них другие листы, со своим рисунком фигуры Давида, уясняя, какие части блока Дуччио надо отсечь за ненадобностью, а какие останутся. Затем, отправившись во двор Собора, он обрубил углы обеих оконечностей блока с тем, чтобы уменьшить и разумнее распределить его тяжесть, устраняя угрозу перелома. Рабочие под присмотром Бэппе проложили к новой мастерской Микеланджело гладкую дорожку. Полиспастом они приподняли колонну, весившую две тысячи фунтов, и подложили под нее катки, Двигали колонну медленно; как только каток с заднего конца колонны освобождался, рабочий забегал вперед и подсовывал его под передний конец. К вечеру колонна, хотя по-прежнему и в горизонтальном положении, была уже за изгородью Микеланджело. Он оказался теперь с блоком Гиганта-Давида наедине. И тут он впервые понял, что его прежние рисунки к статуе, принятые цехом шерстяников и управой при Соборе, теперь ему совершенно не нужны. Это была начальная ступень его художнической мысли, и он ее ныне уже перешагнул. Он не сомневался теперь лишь в одном: он изваяет именно того Давида, которого он открыл для себя заново, показав при этом всю красоту и поэзию, всю таинственность и драматизм мужского тела; выразит первооснову и сущность форм, нерасторжимо связанных между собою. Он сжег свои старые наброски, утвердившись в чем-то самом простом и изначальном и чутко прислушиваясь к себе. Греки высекали из своего белого мрамора тела таких совершенных пропорций и такой силы, что их невозможно превзойти, но в греческих статуях все же не было внутреннего разума, внутреннего духа. Его Давид будет воплощением всего того, за что боролся Лоренцо де Медичи и что Платоновская академия считала законным наследием человечества, — это будет не ничтожное грешное существо, живущее лишь для того, чтобы обрести себе спасение в будущей жизни, а чудесное создание, обладающее красотой, могуществом, отвагой, мудростью, верой в себя, — с разумом, волей и внутренней силою строить мир, наполненный плодами человеческого созидательного интеллекта. Его Давид будет Аполлоном, но гораздо значительней; Гераклом, но гораздо значительней; Адамом, но гораздо значительней. Это будет наиболее полно выразивший свою сущность человек, какого только знала земля, человек, действующий в разумном и гуманном мире. Как выразить эти устремления, эти задачи на бумаге? Первые недели осени дали только фрагментарные, черновые наброски. Чем больше он бился, тем сложнее и запутаннее выходили у него рисунки. Мрамор лежал молчаливый, неподвижный. — А может, и нет человека, который бы с ним сладил? — усомнился однажды Бэппе, когда Микеланджело выглядел совсем подавленным. — Нашел время об этом говорить! Все равно что спрашивать девицу, хочет ли она быть мамашей, если она уже забеременела. Бэппе, я надумал сделать эскиз, но не в глине, а в мраморе. Ты можешь достать мне мраморную глыбу в треть величины этого блока? — Не могу. Ведь мне говорили: давай ему рабочих, давай материалы. А блок в два аршина с лишним — это стоит денег. Но, как всегда, он раздобыл где-то достаточно хорошую глыбу. Микеланджело вгрызался в мрамор, пытаясь с молотком и резцом в руках нащупать решение. Из глыбы вырастал крепко скроенный, простоватый юноша, лицо у него было идеализированное и неопределенное. Граначчи, взглянув на мрамор, сказал с удивлением: — Не понимаю. Он стоит, попирая ногой голову Голиафа, но в одной руке у него камень, а другая тянется к праще. У тебя какая-то двойная цель: верхняя половина Давида только хочет метнуть камень из пращи, а нижняя с торжеством топчет уже сраженную жертву. — Ты мне льстишь. Ничего такого я и не думал. — Тогда почему бы тебе не провести день-другой со мною на вилле? Микеланджело вскинул на него острый взгляд: Граначчи впервые признавался, что у него есть вилла. — Ты там развлечешься и хоть два дня не будешь думать о своем Давиде. — Идет. А то я уже давно забыл, что такое простая улыбка. — На моей вилле есть нечто такое, чему ты непременно улыбнешься. И правда, ей нельзя было не улыбнуться — девушке то имени Вермилья. Блондинка во флорентинском вкусе, она выщипывала надо лбом волосы, чтобы, как диктовала мода, лоб казался более высоким, грудь ее четко обрисовывалась под платьем из зеленой тафты. Она была очаровательной хозяйкой, когда угощала на веранде, при свечах, гостей поздним ужином, а внизу, за аркадой веранды, поблескивала извилистая лента Арно. Однажды, когда девушка удалилась с веранды в комнату, Граначчи сказал: — У Вермильи уйма разных кузин. Ты не хочешь, чтобы она облюбовала какую-нибудь для тебя? Я думаю, ей здесь одиноко. Вы могли бы жить в этих комнатах и спокойно озирать город сверху. Это была бы приятная жизнь. — Благодарю тебя, caro. Я живу, как умею. А насчет случайных встреч я отвечу тебе словами Бэппе: «То, что ты отдашь ночью женщинам, уже не отдашь утром мрамору». Он сидел подле окна и смотрел, даже не помышляя о сне, на башни и купола Флоренции, освещенные выгнутым, словно турецкая сабля, полумесяцем, вставал и бродил по трем комнатам виллы, затем снова садился и смотрел в окно. Зачем ему было втискивать в эту глыбу высотою в два аршина сразу двух Давидов: одного — торжествующего победу над Голиафом, и другого — лишь изготовившегося метнуть камень? Ведь любое изваяние, как над ним ни работай, не может показать двух разных мгновений, двух отрезков времени, как не может и занять двух разных мест в пространстве. Ему надо сделать выбор, надо сейчас решиться, какого же из двух мыслимых воителей высечь? К рассвету он уже все, шаг за шагом, обдумал. Теперь в его мыслях была совершенная ясность. Голиафа следует устранить совсем. Его мертвая, забрызганная кровью, черная безобразная голова не имеет отношения к искусству. Изображать ее на первом плане нельзя ни в коем случае. Все, что несет в себе Давид, все будет искажено и скрыто, если только положить к его ногам эту ужасающую голову. Все будет сведено к простому физическому акту умерщвления противника. Но в глазах Микеланджело это умерщвление было лишь малой частью подвига, который совершил герой; Давид олицетворял для него человеческую отвагу в любой сфере жизни: это был мыслитель, ученый, поэт, художник, исследователь, государственный муж — гигант, чей разум и дух был равен его телесной силе. Без этой головы Голиафа Давид может предстать перед зрителем как символ мужества, как символ победы над врагами куда более могучими, чем Голиаф! Давид должен стоять перед взором зрителя один. Стоять, как стоял он на поле битвы, в долине Дуба. Поняв все это, Микеланджело был крайне возбужден… и измучен. Он закутался в тонкие полотняные простыни Граначчи и заснул глубоким сном.Он сидел у себя за загородкой перед мраморной колонной и, взяв лист бумаги, набрасывал карандашом голову Давида, его лицо, глаза. Он спрашивал себя: «Какие чувства владели Давидом в минуту победы? Волновала ли его слава? Думал ли он о почестях, о награде? Ощущал ли себя самым великим и самым сильным человеком на свете? Испытывал ли он хоть малейшее презрение к Голиафу, пьянила ли его гордость, когда он увидел, как бегут филистимляне, и потом повернулся лицом к израильтянам, чтобы услышать рукоплескания?» Пустые, никчемные чувства, — Микеланджело даже не мог заставить свой карандаш передать их. Что достойно резца в торжествующем свою победу Давиде? Традиция диктовала изображать Давида закончившим схватку. Но ведь, сразив противника, Давид уже не чувствовал напряжения, его высокий миг был позади. В какой же момент он был поистине великим? Когда он стал гигантом? После того, как убил Голиафа? Или в те минуты, когда он решился выступить против него? Тот Давид, который с изумительной, смертоносной точностью метнул из пращи камень? Или Давид перед битвой, твердо решивший, что израильтяне должны быть свободны и не покоряться филистимлянам? Разве эта решимость сама по себе не была важнее, чем акт убийства, разве характер не важнее поступка, не важнее деяния? Именно решение Давида схватиться с Голиафом делало его, думал теперь Микеланджело, настоящим гигантом, а отнюдь не тот факт, что он одолел Голиафа. Он, Микеланджело, до сих пор напрасно терзался и тратил время приковав свои мысли не к тому Давиду и не к той минуте, к какой было надо. Почему же он, ваятель, оказался таким неумным, таким слепым? Давид, изображаемый после убийства Голиафа, — это всего лишь библейский Давид, сугубо определенный персонаж. Но он, Микеланджело, не хотел высекать из мрамора портрет какого-то одного, определенного человека, он стремился показать человека, в котором бы совместилось множество людей, все те, кто от начала времен отваживался сражаться за свободу. Вот такого Давида ему надо было изваять — Давида в решительную минуту, когда он изготовился ринуться в битву, еще храня на лице следы противоречивейших чувств — страха, неуверенности, отвращения, сомнений: надо было показать человека, который замыслил проложить среди холмов Иерусалима свой собственный путь, человека, не заботившегося ни о победном блеске оружия, ни о богатых наградах за подвиг. Тот, кто сразил Голиафа, должен был посвятить всю свою жизнь войне и, значит, обрести власть. Черты лица Давида должны были еще свидетельствовать, что он неохотно расстается со счастливой для него пастушеской жизнью, меняя ее на жизнь придворных вельмож и царей, где господствуют зависть и козни, на могущество и право предрешать великое множество чужих судеб. Извечная раздвоенность человека — противоборство жизни созерцательной и жизни активной, деятельной. Давид сознавал, что, отдаваясь действию, человек запродает себя неумолимому властелину, который будет распоряжаться им, каждым его часом, до самой кончины; он интуитивно чувствовал, что никакая награда за действие — ни царская порфира, ни власть и богатство — не возместит человеку утрату независимости и уединения. Действовать — значит вставать на чью-то сторону, с кем-то объединяться. Давид не был уверен, что он хочет с кем-то объединяться. До сих пор он жил сам по себе. Но раз он уж вызвался биться с Голиафом, отступать было невозможно, и куда разумней выйти из схватки победителем, нежели побежденным. Однако он чувствовал, на что он идет, в каком положении окажется, поэтому-то он и колебался, не желая в душе изменять свою привычную жизнь. Право же, ему было нелегко решиться. Такое понимание образа распахивало перед Микеланджело неоглядные дали. Он ликовал, рука его чертила на бумаге мощно и уверенно; он уже лепил модель будущей статуи, высотой в восемнадцать дюймов, в глине; быстрые пальцы не успевали догонять мысль и чувство; с удивительной легкостью постиг он теперь, как вызвать из камня своего Давида. Даже изъяны блока казались сейчас благом: они заставляли его остановиться на самом простом замысле, какой мог бы и не прийти ему в голову, будь глыба не повреждена чужим резцом. Мрамор оживал у него под руками. Порой чувствуя себя утомленным от рисования и лепки, он вечерами ходил к своим коллегам по Обществу Горшка — поговорить, рассеяться. Во дворе Собора появился Сансовино; он высекал тут мраморного «Святого Иоанна, крестящего Иисуса Христа» для ниши над восточным порталом Баптистерия; мастерскую себе он устроил между загородкой Микеланджело и рабочим местом каменотесов Бэппе. Рустичи скучал, трудясь в одиночестве над рисунками к мраморному бюсту Боккаччо и статуе «Благовещения», поэтому он тоже частенько наведывался сюда и рисовал, сидя возле Микеланджело или возле Сансовино. Потом тут оказался и Баччио, работавший над распятием, — заказ на него от церкви Сан Лоренцо он рассчитывал получить через несколько недель. Буджардини приносил во двор из ближайшей остерии горшки с горячим обедом, и бывшие ученики Гирландайо по-братски садились за струганый рабочий стол Микеланджело у задней стены загородки — Арджиенто подавал еду. Гордый своими прежними товарищами, заглядывал на двор и Соджи, катя к общему обеду тележку колбас собственного изготовления. Иногда Микеланджело поднимался на холмы Фьезоле, чтобы учить работе по светлому камню Луиджи: шестилетний малыш, казалось, принимал его уроки с радостью. Это был веселый, красивый мальчик, похожий на своего дядю Джулиано, ум у него бил живой и цепкий, как у Контессины. — Ты чудесно ладишь с Луиджи, Микеланджело, — хвалила его Контессина. — И Джулиано очень любил тебя. Когда-нибудь у тебя должен быть собственный сын. Микеланджело покачал головой. — Как и большинство художников, я вроде бродячего нищего. Когда я кончаю один заказ, я должен искать новый и работать в любом городе, куда меня забросит судьба, — в Риме, в Неаполе, в Милане, даже в Португалии, как Сансовино. Для семейной жизни это не годится. — Суть дела тут гораздо глубже, — тихо, но убежденно сказала Контессина. — Ты повенчался с мрамором. И «Вакх», и «Оплакивание», и «Давид» — это твои дети, — Контессина и Микеланджело стояли, почти касаясь друг друга, как это бывало когда-то во дворце Медичи. — Пока ты во Флоренции, Луиджи будет тебе все равно что сын. Медичи нуждаются в друзьях. В них нуждаются и художники. По поручению кардинала Пикколомини во Флоренцию приехал человек, потребовавший, чтобы ему показали статуи для алтаря Бреньо. Микеланджело провел его к готовым фигурам Святого Петра и Святого Павла и к едва начатым папским статуям, обещая закончить их как можно скорее. А на следующий день в рабочий сарай влетел Баччио, — выражение лица у него было, как в давние годы, самое озорное, улыбка не сходила с губ. Наконец-то он получил заказ на распятие! Поскольку церковь Сан Лоренцо не давала ему места для работы, Баччио спросил, не может ли Микеланджело пустить его в мастерскую на площади ремесленников. — Вместо того чтобы платить тебе за это деньгами, я могу завершить по твоим рисункам фигуры двух пап, — возбужденно говорил он. — Что ты на это скажешь? Баччио закончил фигуры, отнесясь к делу вполне добросовестно. Теперь, когда у Микеланджело было четыре статуи да к тому же переделанный им Святой Франциск, он надеялся, что кардинал Пикколомини даст ему отсрочку. А глядя, как Баччио принялся резать свое распятие, Микеланджело был очень доволен тем, что пустил его в мастерскую, — работа друга была по-настоящему интересна и полна чувства. Приходя со двора Собора, Арджиенто всякий раз старательно подметал мастерскую. Он был в восторге от жизни во Флоренции. Проработав весь день в сарае, вечером он встречался с компанией других молодых подмастерьев, живших на площади. Все они ночевали тоже в своих мастерских и ужинали ватагой, из одного котла, внося каждый свой пай. В жизнь Микеланджело вторглась еще одна приятная перемена: объявился Джулиано да Сангалло, вернувшийся из Савоны, где он строил дворец для кардинала Ровере в родовом его имении. По дороге из Савоны Сангалло схватили пизанцы и шесть месяцев держали как пленника, отпустив только за выкуп в триста флоринов. Микеланджело побывал у Сангалло на дому, в квартале Солнца, близ церкви Санто Мария Новелла. Сангалло все еще придерживался того мнения, что кардинал Ровере будет следующим папой. — Расскажи-ка мне, — любопытствовал Сангалло, — каков у тебя замысел «Давида»? И что слышно во Флоренции относительно интересных работ для архитектора? — Есть несколько работ, весьма срочных, — ответил Микеланджело. — Требуется смастерить поворотный круг, достаточно прочный, чтобы вращать мраморную колонну весом в две тысячи фунтов, — мне надо будет регулировать силу света и солнца. И затем необходимо возвести подмостки почти в шесть с половиной аршин высоты, да такие, чтобы я мог на них подниматься и опускаться и работать над блоком с любой стороны по окружности. Сангалло взглянул на него с веселым изумлением: — Лучшего клиента я и не желал. Подай мне, пожалуйста, перо и лист бумаги. Что нам надо построить прежде всего? Четыре слойки по углам подмостков, с открытыми пазами, в которые можно вставлять доски со всех сторон… Смотри сюда — вот так. А что касается поворотного круга, то это чисто инженерная задача…
8
Темные тучи на небе грозили дождем. Бэппе велел своим рабочим возвести над загородкой деревянную кровлю — она шла от задней стены под острым углом вверх, чтобы вместить семиаршинную колонну; потом крышу для защиты от сильных дождей выстлали черепицей. Мрамор все еще лежал на земле. Сколотив деревянный кожух, Микеланджело надел его на колонну и гвоздями по кожуху разметил, на какой высоте ему надо будет идти резцом к затылку Давида, к поднятой руке, готовой ухватить пращу, к сдвинутым в сторону от выемки бедрам, к зажатому в массивной кисти правой руки камню, к подпирающему правую ногу древесному пню. Он прочертил угольным карандашом глубину этих мест, а затем, с помощью пятнадцати рабочих из команды Бэппе, обвязал колонну веревками, пустил в ход полиспаст и, медленно приподняв колонну, поставил ее в вертикальном положении на поворотный круг Сангалло. Вдвоем с Арджиенто он построил для помоста стойки с пазами, в которые вставлялись широкие доски на любой высоте, нужной для работы. Теперь колонна взывала к нему, отдаваясь в полную его власть. Орудия Микеланджело врезались в ее плоть с ужасающей яростью, выискивая и локти, и бедра, и грудь, и пахи, и коленную чашечку. Белые кристаллы, косневшие в дремоте полстолетия, любовно покорялись каждому прикосновению — и самому легкому, скользящему, и резкому, решительному «Пошел!», когда молоток и резец взлетали вверх и вверх, безостановочно устремляясь от лодыжки к колену, от колена к бедру — по привычному счету на семь, с паузой на четвертом ударе; ощущение силы у Микеланджело было такое, что ее хватило бы на сотню человек. Это был его самый великолепный опыт в работе над мрамором: никогда прежде не высекал он фигуры такого размаха и такой простоты замысла; никогда еще не бывало у него такого ощущения точности, мощи, проникновения и глубины страсти. Он не думал больше ни о чем, кроме своего мрамора, не мог заставить себя прервать работу и поесть или переодеться. Его томил лишь один голод — голод по работе, и он утолял его двадцать часов в сутки. Едкая пыль набивалась ему в ноздри, усеивала волосы, делая их снежно-белыми, как у старого Фичино; дрожь, постоянно передававшаяся от резца и молотка, ощущалась сначала в плечах, потом проникала в грудь, в живот, охватывала бедра и колени — она колотила все его тело и отдавалась в мозгу еще долго после того, как он в ликующем изнеможении слепо валился на кровать. Когда молоток изматывал его правую руку, он брал его в левую, а резец в правую, и тот действовал у него с той же уверенной твердостью и чуткой опаской, как и в левой. Он трудился по ночам, при свете свечей, в абсолютной тишине — Арджиенто с закатом солнца уходил в старую мастерскую. Время от времени прогуливаясь после ужина, заглядывал сюда Сангалло, ему хотелось проверить, в порядке ли его поворотный круг и подмостки. Микеланджело сказал ему однажды: — Я готов рубить этот мрамор днем и ночью без передышки хоть целый год! — Ведь уже полночь, Микеланджело, и в этом сарае страшно холодно. Ты не замерз? Микеланджело посмотрел на друга и задорно улыбнулся, его янтарные глаза блестели в темноте, как у кошки. — Замерз? Я горю точно в лихорадке. Видишь, в торсе Давида уже проступает напряжение. Еще несколько дней — и он будет полон жизни. Чтобы обойти глубоко врезавшуюся в камень впадину, Микеланджело наклонил фигуру на двадцать градусов внутрь блока, к его середине; Давид был как бы вписан в колонну по диагонали, левый бок его касался самого края выемки. Словно истинный инженер, Микеланджело создал прочную опору статуи по вертикали: она начиналась с правой ступни, шла через правую голень, укрепленную невысоким пнем, затем через бедро и торс — к широкой шее и голове Гиганта. Возник крепчайший мраморный стержень: его «Давид» будет стоять надежно и никогда не рухнет от внутренней тяжести. Кисть правой руки Давида, захватывающей камень, была ключевой деталью всей композиции, ее красоты и равновесия. Это была форма, породившая все строение тела, его тип и характер, — так когда-то ключом к композиции «Вакха» служила рука, поднимающая чашу вина, и ключом к «Оплакиванию» — лицо Пресвятой Девы. Эта кисть руки с ее набухшими венами создавала ощущение широты и объемности, скрадывая сухость, с которой надо было для равновесия ваять противоположное левое бедро, а правая рука и ее локоть должны были обрести самые изящные очертания во всей фигуре. Микеланджело отдавался теперь работе все с большим рвением, и Граначчи уже ни разу не удалось уговорить его поехать на виллу поужинать; все реже он ходил на сборища в мастерской Рустичи, разве что в те вечера, когда слишком острая сырость и стужа мешали оставаться в сарае и продолжать работу. Он с трудом воспринимал то, что ему говорили, и совсем забросил друзей. Леонардо да Винчи оказался единственным человеком, который жаловался на Микеланджело, говоря, что, он не имеет права ходить на собрания художников в грязной одежде и с засыпанными пылью волосами. По тому, как болезненно менялось у Леонардо выражение лица, как трепетали его патрицианские ноздри, Микеланджело видел, что Леонардо убежден, будто от него, Микеланджело, дурно пахнет. И он готов был признать, что так оно и есть, ибо не снимал своего платья неделями, ложась даже спать одетым. Но теперь было не до того, чтобы заботиться об одежде. Проще было совсем не посещать Общество Горшка. Наступило Рождество, он пошел со всем семейством слушать торжественную мессу в церковь Санта Кроче. Встречей Нового года он пренебрег совершенно, не побывав даже на праздничном вечере у Рустичи, где художники пировали, отмечая приход 1502 года. Темные дни января принесли Микеланджело много мучений. Чтобы согреть воздух и дать возможность Микеланджело работать, Арджиенто досыта кормил углем четыре жаровни; он то и дело поворачивал круг, стараясь, чтобы на мрамор падало больше света, перемещал в подмостках доски, вставляя их в пазы то ниже, то выше, двигая то вправо, то влево, поскольку Микеланджело обрабатывал статую с четырех сторон сразу, сохраняя пока толстую прослойку камня между ног Давида, между его руками и туловищем. Шея у Давида была столь широка и крепка, что Микеланджело мог обтачивать ее, не боясь перелома. Вокруг горделиво поднятой головы Давида он оставил довольно значительную толщу мрамора с тем, чтобы позднее можно было высечь большую копну коротких волнистых волос. Содерини явился на двор Собора удостовериться, хорошо ли идет работа. Он знал, что до тех пор, пока плата за изваянного Давида не будет окончательно установлена, покоя в родительском доме Микеланджело не увидит. И теперь, в середине февраля, пять месяцев спустя после начала работы, он спрашивал его: — Как по-твоему, ты достаточно продвинулся, чтобы показать статую старшинам цеха шерстяников и попечителям Собора? Я могу пригласить их сюда, и тут они утвердили бы окончательные условия заказа. Микеланджело поднял голову и оглядел Давида. Занятия анатомией сильно повлияли на его искусство; сейчас, когда работа над статуей была лишь в начальной стадии, его резец грубо наметил движение мускулов в икрах, бедрах, груди, показав их скрытый механизм на поверхности кожи. Он объяснял Содерини, что мускулы состоят из параллельно сотканных волокон, что любое движение в теле Давида осуществляется именно этими пучками мышечных тканей. Затем, с большой неохотой, Микеланджело вернулся к тому, о чем говорил гонфалоньер. — Ни одному художнику не хочется, чтобы его труд смотрели в таком незавершенном виде. — Старшины заплатят тебе потом гораздо больше, если ты согласишься ждать до конца работы… — Нет, не могу, — вздохнул Микеланджело. — Сколько бы добавочных денег мне ни сулили, это не окупит еще двух лет отцовского нищенства. — Еще двух лет? Даже при такой быстроте? — Поначалу работа дается быстрее. — Как только выпадет первый солнечный день, я приведу сюда старшин. Дожди кончились. Засияло солнце, чистое и теплое, и высушило камни города. Микеланджело и Арджиенто сняли с кровли черепицу и сложили ее в сторонке до будущей зимы, затем содрали тес, открыв сарай хлынувшему в него яркому свету. Давид жил, трепетал всеми фибрами своего тела, прекрасные голубовато-серые вены оплетали, как у живого, его ноги, значительная часть веса фигуры уже покоилась на правом бедре. Содерини дал знать, что он приведет старшин завтра в полдень. — Арджиенто, начинай-ка уборку! — встрепенулся Микеланджело. — Ведь этот щебень, по которому я ступаю, должно быть, лежит тут месяца два. — Что же мне делать, — оправдывался Арджиенто, — если вы не уходите отсюда ни на минуту? Когда я могу подмести и убрать всякий мусор? По-моему, вам даже нравится ходить по щебню по самую щиколотку. — Нравится, верно. Но это будет отвлекать внимание старшин. Что ему надо говорить людям, которые явятся, чтобы вынести приговор? Если этот замысел, это понимание Давида стоило ему долгих месяцев мучительных раздумий и напряжения духа, мыслимо ли ждать, чтобы тебя поняли в один час, одобрив твой отказ от старых флорентинских традиций? Может быть, люди придадут значение лишь тому, что выразит твой язык, и не подумают как следует над тем, что уже сказали твои руки? Арджиенто выскреб и вычистил все углы в сарае. Содерини — и с ним шестнадцать человек — пришел точно минута в минуту, как только на кампаниле Джотто зазвонили колокола. Микеланджело любезно поздоровался со всеми, припомнив имена актуария цеха шерстяников Микелоццо, консулов того же цеха Пандольфини и Джованни ди Паньо дельи Альбици, представителя управы при Соборе Паоло де Карнесекки, нотариуса этой же управы Бамбелли и некоторых других персон. Те, кто был постарше, еще оберегались от холода и были закутаны в темные глухие плащи, ниспадающие на тупые носки башмаков с кожаными завязками, более молодые и смелые, празднуя приход весны, явились в рубашках с прорезными рукавами, в многоцветных чулках, на которых пестрели родовые гербы. Все шестнадцать человек толпились у полурожденного Давида и, задирая головы, изумленно оглядывали его. Актуарий Микелоццо попросил Микеланджело показать, каким образом он работает по мрамору. Микеланджело взял инструмент в руки и продемонстрировал, как входит в тыльный конец резца молоток, подобно тому как сам резец входит в мрамор, не взламывая его, а скорей отделяя слой за слоем с мягкой, вкрадчивой силой. Он объяснил, что при резком обрыве движения резца мрамор слегка крошится, и поэтому чем продолжительнее будет напор резца по счету «Пошел!», тем меньше образуется крошки. Микеланджело провел посетителей вокруг «Давида», рассказывая, как он создал в статуе силовую вертикаль, несущую основную тяжесть, как будет уничтожена защитная мраморная препона, соединяющая руки и торс, указал на уже изваянный обрубок древесного ствола, который будет единственным предметом, поддерживающим громадное обнаженное тело. В блоке оно было пока наклонено на двадцать градусов в сторону, но Микеланджело разъяснил, что когда он обрубит весь лишний мрамор, Давид выпрямится и встанет совершенно устойчиво. На следующий день, в тот же час, Содерини снова был на рабочем дворе Собора, держа в руках свернутый в трубку пергамент. — Старшины остались очень довольны, — сказал он, потрепав Микеланджело по плечу. — Хочешь, прочитаю грамоту вслух? «Досточтимые господа консулы цеха шерстяников решили, что управа строительных работ при Соборе может выдать скульптору Микеланджело Буонарроти четыре сотни золотых флоринов в оплату за „Гиганта“, называемого „Давидом“, каковой находится в работе, и что Микеланджело должен завершить работу, доведя ее до совершенства, в течение двух лет, начиная с сего дня». — Теперь я могу не думать о деньгах, пока не кончу «Давида». Для художника это же земной рай. Он дождался, когда о плате за статую заговорил Лодовико. — Сумма установлена, отец: четыре сотни больших золотых флоринов. Бросая отблеск на впалые щеки, глаза Лодовико загорелись. — Четыре сотни флоринов! Превосходно! Да плюс к тому шесть флоринов в месяц, пока ты занимаешься этой работой. — Нет, это не так. — Разве они сейчас отказываются выдавать тебе эту помесячную плату? Неужели они такие скряги? — Я буду по-прежнему получать шесть флоринов; в месяц в течение двух лет, начиная с этого дня… — Вот и прекрасно! — Лодовико схватил перо и бумагу. — Смотри, двадцать четыре умножаем на шесть — получается сто сорок четыре. Плюс к этому четыреста флоринов — выходит пятьсот сорок четыре. Это совсем не малые деньги! — Нет, — хмуро сказал Микеланджело. — Четыреста флоринов ровно. По полному счету. Деньги, которые я получаю ежемесячно, — это аванс. В конце их удержат, вычтя из общей суммы. Лодовико сразу помрачнел, как только увидел, что теряет сто сорок четыре флорина. — Это несправедливо, — ворчал он. — Получается так: сначала они дают тебе деньги, а потом отнимают. Микеланджело прекрасно знал, что произойдет дальше. Лодовико будет бродить по комнатам с таким обиженным видом, словно бы кто-то надул его, обвел вокруг пальца. Покоя в родительском доме Микеланджело так и не увидел. А может, покоя на свете не существует вообще?9
Чтобы отметить выступающие места статуи — левую ступню Давида, левое колено, запястье правой руки, левую руку с ее отведенным в сторону локтем и пальцами, сжимающими пращу, Микеланджело укрепил на мраморе гвоздики с широкой шляпкой. Проверяя себя по этим отметкам, он мог вести фронтальную линию от левого колена вверх к бедру и груди, показав в ней огромную физическую мощь Давида, мог ваять мягкую плоть живота, в которой таилась дрожь беспокойства, левую руку, ухватившую пращу, могучую кисть правой руки — настороженную, чуткую, с камнем наготове. Ради страховки он опять оставил на тыльной стороне глыбы вдвое больше нетронутого мрамора, чем ему было нужно в конце работы, хорошо помня, что у статуи, когда ее осматривают со всех сторон, бывает сорок разных аспектов. Он задумал показать Давида независимым человеком: статуя должна быть водружена среди открытого широкого пространства. Она немыслима ни в тесной нише, ни у стены, ни как украшение фасада или деталь, смягчающая суровые углы здания. Давид должен быть всегда на свободе. Мир — это поле сражения, и человек в мире — всегда начеку, неизменно готов встретить опасность. Давид — борец, он не жестокий, ослепленный безумием губитель, а человек, который способен завоевать свободу. Теперь фигура обрела наступательную энергию, стала вырываться из толщи мрамора, стремясь утвердить себя в пространстве, и бешеный натиск Микеланджело был равен по силе этой атаке камня. Сангалло и Сансовино, зайдя к нему под вечер в воскресный день, были потрясены его рвением. — Я не видал ничего подобного! — воскликнул Сангалло. — Какую уйму щебенки он сбил с этого мрамора всего за пятнадцать минут! Его друзьям-каменотесам ни за что не насыпать бы такой груды за целый час. — Меня поражает не обилие щебенки, а его пыл, — сказал Сансовино. — Я вот смотрел, как взлетают почти на два аршина вверх эти осколки, и думал, что весь мрамор вот-вот рассыплется в прах. — Микеланджело, — с тревогой заметил Сангалло, — ты обтачиваешь форму так смело, что врубись в камень на волос глубже — и все полетит к черту. Микеланджело оборвал работу, повернулся и пристально посмотрел на друзей. — Мрамор, вынутый из каменоломни, больше не гора, а река. Он может течь, может менять направление. Мое дело — помочь мраморной реке изменить свое русло. Когда Сангалло и Сансовино ушли, Микеланджело сел у ног Давида и оглядел его снизу вверх. Сколько же надо времени, чтобы вынянчить колонну — это все равно, что вырастить фруктовое дерево, — думал он. И все же любая форма в статуе рано или поздно отразит в себе, будто в зеркале, и затраченное на нее время и любовь, которую в нее вложишь. Предостерегающие слова Сансовино о том, что мрамор вот-вот рассыплется в прах, отнюдь не пугали Микеланджело — распределение веса в колонне он умел чувствовать до тонкости, и так проникал чутьем в самую сердцевину блока, что тяжесть рук, ног, торса, головы Давида ощущал как тяжесть собственного тела. Снимая слой за слоем с Давидовых бедер или колен, он знал совершенно точно, какой запас камня там еще остается. Уничижительный отзыв Леонардо да Винчи об искусстве скульптора вонзался, как ядовитый шип, сразу и в самого Микеланджело, и в его детище — «Давида». Микеланджело видел тут серьезную угрозу. Влияние Леонардо распространялось во Флоренции все шире: если взгляд на скульптуру как на второстепенное ремесло восторжествует среди многих людей, его «Давида», когда он кончит работу, наверняка примут с холодным безразличием. Ему все больше хотелось дать Леонардо встречный бой. В ближайшее воскресенье, когда художники вновь собрались в Обществе Горшка у Рустичи и Леонардо затронул вопрос о скульптуре, Микеланджело сказал: — Это верно, что скульптура не имеет ничего общего с живописью. У нее свои особые законы. Но древний человек высекал из камня в течение многих тысяч лет и лишь потом стал писать красками на стенах пещер. Скульптура — самое первое и самобытное из искусств. — Именно это обстоятельство и обесценивает ее! — отвечал Леонардо тонким своим голосом. — Скульптура удовлетворяла людей только до той поры, пока они не изобрели живопись. Ныне скульптура уже угасает. Разъяренный Микеланджело, желая дать отпор, перешел на чисто личную почву. — Скажите, Леонардо, правда ли это, — спросил он, — будто ваша конная статуя в Милане так громадна, что ее невозможно отлить? Значит, мы уже никогда не увидим ее в бронзе? И, говорят, ваша колоссальная глиняная модель разрушается столь быстро, что стала посмешищем всего Милана? Стоит ли удивляться вашим нападкам на скульптуру, если вы не можете закончить статую? Все, кто был в мастерской, услышав эти слова, смущенно замолчали. Спустя несколько дней Флоренция узнала, что, несмотря на взятку, Цезарь Борджиа двинулся с войском на Урбино и намерен поднять восстание против флорентинского правления в Ареццо. Леонардо да Винчи вступил в войско Цезаря Борджиа в качестве инженера, оказавшись в одном стане с Торриджани и Пьеро де Медичи. Микеланджело был вне себя от гнева. — Ведь это предательство! — кричал он Рустичи, присматривающему за имуществом Леонардо, пока тот отсутствовал. — Цезарь Борджиа дает ему, видите ли, большое жалование — и он уже готов помогать завоеванию Флоренции. И это после того, как мы приняли его с распростертыми объятиями, поручали ему лучшие заказы на картины… — Он не такой уж плохой на самом деле, — умиротворяюще говорил Рустичи. — Он теперь на мели, никак не может, видимо, закончить портрет Монны Лизы дель Джокондо. Для него важнее сейчас его новые военные машины, чем искусство. Пользуясь приглашением Цезаря Борджиа, он хочет испытать множество своих изобретений. А в политике он, представь себе, не разбирается. — Объясни это флорентинцам, когда машины Леонардо будут сокрушать городские стены, — холодно ответил Микеланджело. — Твои чувства можно понять, Микеланджело, но не забудь, что Леонардо совершенно чужд морали. Его не волнует, что люди считают правильным и что ложным. Истина и заблуждение в науке, в познании — вот единственное, о чем он думает. — Я был бы рад, если бы его вышвырнули отсюда. Он уже пропадал однажды целых восемнадцать лет. Столько же, надеюсь, мы не увидим его и на этот раз. Рустичи задумчиво покачал головой. — Вы с Леонардо возвышаетесь над всеми нами, как Апеннины, и вы так ненавидите друг друга. Это бессмысленно. Или же и тут есть какой-то смысл?Скоро наступили дни великолепного всевластия зноя. Редкие ливни не причиняли «Давиду» никакого вреда, разве что смывали с него пыль и крошку. Микеланджело работал в одних легких штанах и сандалиях, подставляя свое тело под жаркое солнце и впитывая в себя его силу. Он, словно кошка, ловко сбегал вниз и снова взбирался по приставной лестнице, ваяя на подмостках плотную, могучую шею Давида, величавую его голову, завитки коротких волос, — с особой заботой трудился он над спиною: надо было показать, что именно спина держит все тело Давида и служит главной движущей пружиной, давая направление всей мускулатуре. В статуе не могло быть ни одной невыразительной, несовершенной детали. Микеланджело никогда не понимал, почему столь непривлекательно изображают у человека половые органы. Если господь сотворил человека, как, согласно Библии, он сотворил Адама, то разве создал бы он воспроизводящие органы такими, чтобы их требовалось прятать, считая чем-то нечистым? Может быть, люди сами извратили тут всякий смысл, как ониумудрились извратить многое на земле, — но что до того Микеланджело, когда он трудится над статуей. Презренное он сделает богоподобным. Он не терял времени. Он работал, не выходя из сарая целые дни, хотя душными поздними вечерами он мог бы сидеть на прохладных ступенях Собора, где все еще собирались флорентинские молодые художники, и слушать пение под гитару, рассуждать о новых заказах, раздаваемых по всей Тоскане, спорить с Якопо по поводу того, какие из девиц на улице годятся для постели и какие не годятся… точно так, как это было четырнадцать лет назад. В июне Пьеро Содерини был избран гонфалоньером на новый двухмесячный срок. Народ спрашивал: если в Тоскане нет лучшего человека для этого поста, то почему ему не дадут возможности править дольше? Когда Микеланджело узнал, что Контессина вновь ждет ребенка, он пошел хлопотать за нее к Содерини. Сидя перед гонфалоньером все в той же палате с окнами, выходящими на площадь Синьории, он говорил: — Разве она не имеет права возвратиться в свой дом и там родить? Она не нанесла никакого ущерба республике. Прежде чем стать женой Ридольфи, она была дочерью Великолепного. В этом сельском домике, где нет ни малейших удобств, ее жизнь под угрозой… — Деревенские женщины рожали и выкармливали детей в таких домиках тысячелетиями. — Контессина — не деревенская женщина. Она слаба, хрупка. Она по-иному воспитана. Вы не попытались бы ради справедливости вступиться за нее в Совете Семидесяти? — Это невозможно. — Голос Содерини был бесцветен и ровен. — И самое лучшее для тебя — никогда не упоминать больше фамилию Ридольфи. Двухмесячный срок правления Содерини истек лишь наполовину, когда снова восстали Ареццо и Пиза, когда Пьеро де Медичи оказался в Ареццо, где ему обещали помощь в завоевании Флоренции, когда Цезаря Борджиа удерживал от нападения только страх перед ответными мерами Франции, когда городские ворота держали на запоре круглые сутки и было запрещено «всем, кто жил вдоль берега реки, спускать лестницы, чтобы никто не мог проникнуть в город», — именно в эти дни Микеланджело получил приглашение отужинать с гонфалоньером во дворце Синьории. Он задержался у своей статуи до семи часов вечера, пока было светло, и лишь потом зашел домой — надеть свежую полотняную рубашку. Содерини сидел за низким столом, его длинные желто-седые волосы были мокры — гонфалоньер только что помылся. Он спросил Микеланджело, как идет работа над «Давидом», потом сказал, что Совет Семидесяти решил изменить конституцию. Пост гонфалоньера, когда на него кого-то изберут, будет пожизненным. Затем Содерини, склонившись к столу, произнес небрежно-доверительным тоном. — Микеланджело, ты слыхал о Пьере де Рогане, маршале де Жие? Он был во Флоренции с армией Карла Восьмого как один из его ближайших советников. Ты, может быть, помнишь также, что бронзовый «Давид» Донателло стоял на почетном месте во дворце Медичи. — Когда дворец грабили, я ударился об этого «Давида» так, что у меня вскочила большущая шишка на затылке. — Значит, ты его хорошо помнишь. Так вот, наш посол при французском дворе пишет нам, что маршал, останавливаясь во дворце Медичи, влюбился в «Давида» и хотел бы иметь нечто подобное. Много лет мы покупали покровительство Франции за деньги. Разве не лестно, что хоть однажды мы можем купить его за произведение искусства? Микеланджело пристально посмотрела на человека, который вдруг стал проявлять к нему такое дружеское расположение. Отказать ему было невозможно. И он спросил: — Я буду должен сделать копию Донателло? — Скажем так: создать какой-нибудь скромный вариант, но не настолько плохой, чтобы омрачить воспоминания маршала. Микеланджело положил ломтик сыра на разрезанную грушу. — Никогда еще не представлялся мне случай оказать услугу Флоренции. И ваше предложение очень радует меня. Но, увы, я был когда-то настолько глуп, что отказался учиться литью у Бертольдо. — У нас есть прекрасные литейщики: Бонаккорсо Гиберти, пушкарь, и Лодовико Лотти, мастер по колоколам. Радость при мысли сделать что-то доброе для Флоренции сразу померкла, когда Микеланджело заново осмотрел Донателлова «Давида» во дворце Синьории. Ведь в своей новой статуе он так далеко ушел от Донателло! Как ему быть теперь, если он не может заставить себя изготовить копию и в то же время у него нет права что-либо изменить! В следующий раз, идя во дворик Синьории, он прихватил с собой ящик для сидения и листы рисовальной бумаги. Давид, нарисованный им, получился старше, чем у Донателло, в нем было больше мужественности и мышечной силы, чувствовалось внутреннее напряжение, которое можно было бы передать в мраморе, но которое отсутствовало в гладком бронзовом юноше, стоявшем перед глазами. В заднем углу своей загородки Микеланджело укрепил на столе каркас и в редкие часы своего отдыха начал переводить карандашный набросок фигуры в грубую глиняную модель, медленно лепя гибкое обнаженное тело и громоздкий тюрбан. Микеланджело забавляла мысль о том, что в интересах Флоренции ему все-таки пришлось теперь ваять голову Голиафа, на которую торжествующе наступил ногою Давид. Без этой головы маршал, конечно, не будет счастлив. Чудесная погода держалась вплоть до первого ноября, когда город пышно отмечал пожизненное избрание Содерини на пост гонфалоньера. Площадь Синьории была густо заполнена празднично одетой толпой, Микеланджело стоял на ступенях дворца, испытывая чувство гордой и спокойной уверенности. Через неделю полились пронзительные холодные дожди, надвинулась зима. Микеланджело и Арджиенто настлали крышу, выложили ее черепицей. Четыре жаровни не могли одолеть стужу в сарае. Микеланджело надевал шапку с наушниками. Бэппе завесил открытую часть загородки мешковиной, преграждая путь слабому свету, лившемуся с хмурых небес. Теперь Микеланджело страдал от мрака и холода в равной мере. Он работал при свечах и лампе. Не принесла большого облегчения и весна — с первых чисел марта начались проливные дожди, не прекращаясь до лета. В конце апреля он получил приглашение пожаловать на обед в новые апартаменты дворца Синьории. Хозяйкою за столом была монна Арджентина Содерини, первая женщина, которой позволили жить во дворце. Комнаты тут были отделаны Джулиано да Сангалло и юным Баччио д'Аньоло; расположенные на втором и третьем этаже гостиная, столовая и спальня были в прошлом приемными комнатами нотариуса и актуария. Стены столовой были расписаны фресками, плафон позолочен, шкафы и буфет богато инкрустированы. Обеденный стол стоял напротив горящего камина, от которого шло тепло и дух доброго уюта. Микеланджело скинул с плеч зеленый плащ и втайне порадовался своей праздничной, украшенной сборками шерстяной рубашке. Содерини показал ему горшки с цветами, выставленные на окнах монной Арджентиной. — Я знаю, что многие считают, будто цветы на окнах — слишком дорогое удовольствие. Но этим, мне кажется, хотят лишь намекнуть, что женщине не место во дворце Синьории. После обеда Содерини позвал Микеланджело пойти с ним в Собор. — Уже много лет флорентинцы говорят, что надо поставить в Соборе мраморные статуи двенадцати апостолов. Большие, больше натуральной величины. Из лучшего серавеццкого мрамора. Они как-то заполнят это темное, точно пещера, пространство и будут хорошо смотреться. — При свете тысячи свечей. В глубине главного алтаря Содерини приостановился, разглядывая мраморные хоры работы Донателло и делла Роббиа. — Я уже говорил с цеховыми старшинами и попечителями Собора. Они считают, что мысль об апостолах великолепна. — Это же работа на всю жизнь, — неуверенно отозвался Микеланджело. — Да, как портал Гиберти. — Именно этого и желал мне Бертольдо — создать целое полчище статуй. Содерини взял Микеланджело под руку и медленно шел с ним вдоль длинного нефа к открытому выходу. — Я назначу тебя официальным скульптором Флоренции. В договоре, о котором я говорил со старшинами, будет пункт: мы строим для тебя дом и мастерскую по твоим чертежам. — Свой собственный дом! И мастерская… — Я был уверен, что тебе это понравится. Ты можешь высекать по апостолу в год. С каждой новой статуей двенадцатая часть стоимости дома и мастерской будет переходить в твое владение. Микеланджело стоял затаив дыхание в проеме двери. Он обернулся и оглядел огромное пустое пространство Собора. Конечно же, «Двенадцать Апостолов» тут будут к месту. — Завтра состоится ежемесячное собрание старшин цеха и попечителей. Они просили тебя прийти. На лице Микеланджело застыла болезненная улыбка. Чувствуя во всем теле дрожь и озноб, он шел по перекресткам и улицам все дальше к холмам и радовался тому, что не забыл надеть теплый плащ. Взбираясь на высоты Сеттиньяно, он весь вспотел, словно его мучила лихорадка. Ему надо было сосредоточиться и обдумать все, что предложил Содерини, но он никак не мог собрать свои мысли. Когда он подходил уже к жилищу Тополино, душу его переполняла гордость: ведь ему только двадцать восемь лет, а у него скоро будет свой собственный дом и своя мастерская, светлая, просторная мастерская, в которой так хорошо высекать величественные статуи. Он поднялся на террасу и стоял теперь рядом с пятью Тополино — те расщепляли блоки светлого камня на плоские плиты. — Лучше уж скажи нам, в чем дело, не таись и не мучайся, — заговорил отец. — Теперь я состоятельный человек. — Это в чем же твое состояние? — спросил Бруно. — У меня будет дом. И он рассказал каменотесам о «Двенадцати Апостолах». Отец вынес бутылку вина, запрятанную на случай свадьбы или рождения мальчика. Они выпили по стакану за добрый его успех. Горделивое чувство быстро схлынуло, сейчас Микеланджело охватывало беспокойство и тоска. Он спустился с холма, пересек, прыгая с камня на камень, ручей и, взобравшись на противоположный берег, остановился на минуту: неподалеку виднелся дом, в котором он когда-то жил и в котором помнил свою мать. Как сейчас она гордилась бы им, как была счастлива за него. Но почему же не чувствует себя счастливым он сам? Может быть, потому, что ему не хочется высекать этих Двенадцать Апостолов? Потому, что он не хочет обрекать себя на эту работу, жертвуя ей двенадцатью годами своей жизни? Или по той причине, что ему вновь придется корпеть над закутанными в плотные мантии фигурами? Неизвестно, выдержит ли он такой искус после той чудесной свободы, с какою он ваял «Давида». Даже Донателло высек из мрамора всего одного или двух апостолов. А способен ли он, Микеланджело, создать нечто истинно глубокое и сказать свое особое слово о каждом из двенадцати? Сам не сознавая, куда он идет, он оказался у Джулиано да Сангалло и застал его за рисовальным столом. Сангалло уже знал о сделанном предложении — Содерини пригласил его вместе с Кронакой явиться завтра в полдень на собрание старшин и попечителей с тем, чтобы выступить свидетелем при подписании договора. Предполагалось, кроме того, что Кронака будет разрабатывать проект дома для Микеланджело. — Этот заказ отнюдь не совпадает с моими замыслами, Сангалло. Должен ли скульптор предпринимать двенадцатилетний труд, если он не рвется к нему всеми силами души? — У тебя впереди еще много времени, — уклончиво ответил Сангалло. — Пока скульптор мечется от одного заказа к другому, он лишь слуга того, кто его нанимает. — Живопись и скульптура всегда связаны с заказами. Как, по-твоему, этого избежать? — Создавать произведения искусства независимо от заказчика и продавать их тому, кто купит. — Я что-то не слыхал об этом. — Но ведь это возможно? — …Скорей всего нет. И как ты решишься отказать гонфалоньеру и старшинам? Они предлагают тебе крупнейший заказ со времен работы Гиберти над дверями Баптистерия. Старшины будут обижены. Это поставит тебя в трудное положение. Микеланджело угрюмо молчал, уперев лоб в ладони. — Я понимаю. Я не могу ни принять заказ, ни отвергнуть его. Сангалло быстрым движением положил руку на его плечо. — Подписывай договор. Строй дом и мастерскую и высекай столько апостолов, сколько можешь, не портя работы. Что будет сделано, то сделано; остаток долга за дом погасишь деньгами. — Мне довольно и одного договора с Пикколомини, — печально сказал Микеланджело. Он подписал договор. Эта новость облетела город с такой быстротой, будто речь шла о каком-то скандале. Когда он возвращался домой, на Виа де Гори ему кланялись совсем незнакомые люди. Он кивал им в ответ, спрашивая себя, что подумали бы эти люди, знай они, как он несчастен. Дома все Буонарроти были в сборе и, бледные от волнения, обсуждали, как именно надо строить их новый дом. Дядя Франческо и тетя Кассандра предпочитали занять для себя третий этаж. — Надо сейчас же начинать строить, — говорил отец. — Чем раньше мы переедем, тем скорей перестанем платить деньги за квартиру. Микеланджело отошел к окну и невидящим взглядом смотрел на улицу. Заговорил он тихо, без всякого чувства. — Это будет мой дом. И моя мастерская. Семейство не будет иметь к этому никакого отношения. На минуту все онемели. Потом отец, дядя, тетя — все закричали одновременно, так что Микеланджело даже не мог отличать один голос от другого. — Как ты смеешь говорить такие вещи? Твой дом — это наш дом. Мы ведь сэкономим тогда на квартирной плате. И кто тебе будет варить обед, стирать, убирать?.. Он мог бы сказать: «Мне уже двадцать восемь лет, и я хочу жить в своем собственном доме. Я заслужил его». Но он счел за благо ответить иначе: — Земельный участок мне уже отведен, но на строительство дали всего-навсего шестьсот флоринов. Чтобы работать над этими статуями, мне нужна огромная мастерская, в четыре сажени высоты, нужен просторный мощеный двор. И места там останется только на маленький домик, с одной, в лучшем случае с двумя спальными комнатами. Буря не утихала до вечера, пока все не дошли до изнеможения. Микеланджело остался тверд, как адамант; самое меньшее, что он мог извлечь из этого договора, — это обеспечить себе свое собственное рабочее место, уединенный остров, где никто бы ему не мешал. Но ему пришлось согласиться платить из своих месячных авансов за нынешнюю квартиру отца. Когда глиняная модель маршальского «Давида» была готова, Микеланджело послал Арджиенто за Лодовико Лотти, колокольным мастером, и Бонаккорсо Гиберти, литейщиком по пушкам. Мастера пришли к нему прямо из своих литейных сараев, перепачканные сажей. Гонфалоньер настоятельно просил их помочь Микеланджело отлить фигуру из бронзы. Увидев его модель, они переглянулись; Лотти смущенно провел тыльной стороной закопченной ладони по переносью. — Такую модель не отлить, — сказал он. — Это почему же? — Потому, что сначала надо изготовить модель из гипса, — объяснил Гиберти. — Никогда я не занимался этим проклятым делом! — А мы можем работать только по готовой модели, — отвечал Лотти. Микеланджело бросился за помощью к Рустичи, Сансовино, Буджардини — может, они слушали поучения Бертольдо насчет бронзы более внимательно. Те разъяснили ему, что прежде всего необходимо вылепить глиняную модель в полную величину, с максимальной точностью, затем перевести ее по частям в гипс, ставя на каждой части цифровую метку, чтобы потом их не перепутать, смазать все части на местах стыка маслом, убрать гипсовую опоку… — Довольно! — взмолился Микеланджело. — Недаром я всегда обходил эту работу за версту. Литейщики прислали ему наконец готового «Давида». Уныло смотрел он на безобразную, красного цвета, бронзовую фигуру — в царапинах, шишках, рубцах, с металлическими опухолями и наплывами, портившими самые неожиданные места. Чтобы придать Давиду человеческий вид, Микеланджело впервые потребовались инструменты по чеканке, напильники и штемпели; затем надо было раздобыть орудия шлифовки и полировки, резцы по металлу. Прежде чем «Давид» стал в какой-то мере презентабельным, пришлось еще немало потрудиться, натирая статуэтку маслом и пемзой. Но и сейчас, после всей этой работы, можно ли думать, уповая на ослабевшую память маршала, что он вообразит, будто этот «Давид» чем-то напоминает «Давида» Донателло? Микеланджело сомневался в этом.
10
Первым следствием договора на «Двенадцать Апостолов» был визит Аньоло Дони — соседа и товарища детских игр. Отец его нажил состояние, торгуя шерстью, купил заброшенный дворец близ особняка Альбертини в приходе Санта Кроче и поселился там. Аньоло Дони, унаследовав отцовское дело и дворец, пользовался репутацией самого изворотливого и хитрого торгаша во всей Тоскане. Он разбогател и заново перестроил свой особняк. В финансовом и социальном отношении он вознесся так высоко, что теперь был помолвлен с Маддаленой Строцци. Его провел в сарай, виновато улыбаясь, Бэппе. Микеланджело был вверху, на подмостках, и обтачивал пращу на левом плече Давида. Он сложил инструмент и спустился по лестнице вниз. Дони стоял перед ним в дорогом модном камзоле, на плечах его вздымались пышные буфы кружевной рубашки, схваченной на груди и талии золотыми пряжками. — Я скажу тебе без обиняков, Буонарроти, зачем я пришел, — начал Дони, едва Микеланджело ступил на землю. — Я хочу, чтобы ты сделал для меня «Святое Семейство»: это будет свадебный подарок для моей невесты, Маддалены Строцци. Микеланджело покраснел от удовольствия; Маддалена выросла в доме, где стоял его «Геракл». — Строцци любят искусство, у них хороший вкус, — смущенно сказал он. — «Святое Семейство» из белого мрамора… Крошечный рот Дони, обрамленный по углам резкими продольными складками, недовольно дернулся вниз. — Нет, нет, хороший вкус — это у меня! Мне, а не Маддалене пришла в голову мысль обратиться к тебе с заказом. И кто тебе сказал хоть слово о мраморе? Мрамор будет стоить уйму денег. Я хочу заказать картину, которую можно вставить в круглый столик. Микеланджело схватил свой молоток и резец. — Зачем же ты пришел ко мне, если хочешь картину? Я не окунал кисти в краску вот уже пятнадцать лет. — Я пришел к тебе из чисто товарищеской привязанности. Из верности. Ведь мы с тобой выросли по соседству. Помнишь, как мы гоняли мяч на площади Санта Кроче? Микеланджело насмешливо улыбнулся. — Так что ты скажешь? — настаивал Дони. — «Святое Семейство», а? Тридцать флоринов. По десяти за каждую фигуру. Щедрая плата — не правда ли? Ну как, по рукам? — Ты представляешь себе, сколько художников будут бранить тебя, Дони? У тебя ведь богатейший выбор — в городе живет полдюжины лучших мастеров Италии: Граначчи, Филиппино Липпи. Возьми хотя бы сына Гирландайо, Ридольфо. Он обещает стать великолепным живописцем, и он напишет тебе картину за скромную плату. — Послушай, Буонарроти. Я хочу, чтобы «Святое Семейство» написал ты. Я уже получил на это разрешение у гонфалоньера Содерини. Не желаю и слышать ни о Липпи, ни о молодом Гирландайо. — Но это же глупо, Дони. Если ты хочешь получить сукно, ты ведь не отдаешь свою шерсть вместо сукновала мастеру, который делает ножницы. — Всем известно, что высечь статую — это такой пустяк, на который способен любой художник. — Ну, хватит! — зарычал Микеланджело, весь вспыхнув, ибо в этих словах Дони он почувствовал прямой отзвук речей Леонардо. — Я напишу тебе «Святое Семейство». Это будет стоить сто золотых флоринов. — Сто флоринов! — завопил Дони; его пронзительный голос раздавался по всему двору, из конца в конец. — Тебе не стыдно надувать своего старого друга? Товарища детских игр? Это все равно что срезать с пояса кошелек у родного брата! Лишь после того, как Микеланджело почувствовал, что у него вот-вот лопнут барабанные перепонки, они сошлись на семидесяти флоринах. Видя, как в глазах Дони играют лукавые огоньки, он угадывал, что тот все-таки перехитрил или по крайней мере перекричал его — конечно, он заплатил бы, поломавшись, и сто флоринов. Уходя, Дони сказал уже с порога: — Из всех мальчишек по соседству никто не гонял мяч хуже тебя. Я прямо-таки поражаюсь: такая тупость в игре — и такие успехи в скульптуре. Ведь ты теперь самый модный художник. — Так вот почему ты явился сюда — я, по-твоему, модный? — Иной причины и не было. Скажи, когда я могу посмотреть наброски? — Наброски — это моя забота. А ты получишь готовую вещь. — Кардиналу Пикколомини ты подавал на одобрение наброски. — Пусть тебя сначала сделают кардиналом! Когда Дони ушел, Микеланджело понял, что он явно сглупил, позволив этому человеку навязать себе на шею еще один заказ. И разве он, Микеланджело, так уж знает живопись? Стремится к ней, очень ее любит? Да, он разработает композицию «Святого Семейства», он с удовольствием будет рисовать. Но кисть и краски? Юный Гирландайо владеет ими гораздо лучше. Тем не менее интерес к работе у него был разбужен. В папках Микеланджело хранились десятки рисунков к изваянию «Богоматери с Младенцем» на тот случай, если братья Мускроны, купцы из Брюгге, все же подпишут договор, замышленный Якопо Галли. Рисунки были очень одухотворенные, возвышенные, мирского в них чувствовалось мало. А «Святое Семейство» надо писать по-другому: это будет совершенно земная вещь, простые, обыкновенные люди. Как всегда в жаркие летние дни, когда он позволял себе отдохнуть, Микеланджело бродил по дорогам Тосканы, рисуя крестьян то за работой, в поле, то за ужином подле жилища, в вечерней прохладе; у дверей молодые матери кормили грудью своих младенцев перед тем, как уложить их в колыбель. Скоро у него уже скопились наброски для картины Дони: у одного дома он зарисовал юную девушку с сильными руками и плечами, у другого — пухленького розовощекого мальчика с кудрявой головкой, у третьего — старика с бородой и лысиной. Соединив эти фигуры в одном эскизе, Микеланджело скомпоновал эффектную группу, расположившуюся на зеленой траве. Он написал красками руки, лица, ноги, голого мальчика — здесь колорит не вызывал у него сомнений, но тона платья Марии и Иосифа и цвет одеяльца, которым был прикрыт младенец, ему никак не давались. Зайдя к нему, Граначчи увидел, в каком он затруднении. — Позволь, я распишу тебе эти места картины. Ведь у тебя получается ужасная мешанина. — Почему же это Дони не обратился со своим заказом к тебе с самого начала? Ты ему тоже сосед по приходу Санта Кроче. И тоже гонял с ним мяч! Скоро Микеланджело закончил картину — колорит ее был приглушен, монотонен, похож на цветной мрамор. Платье Марии Микеланджело написал светло-розовым и голубым, одеяло младенца — оранжевым, от бледного тона до густого, насыщенного, плечо и рукав Иосифа — тускло-синим. На переднем плане картины виднелись редкие пучки простеньких цветов, на заднем, справа, был изображен лишь один Иоанн; его проказливое личико казалось устремленным куда-то вверх. Чтобы доставить себе удовольствие, с левой стороны от Марии и Иосифа Микеланджело написал море, с правой — горы. А на фоне моря и гор — пятерых обнаженных юношей, сидящих на невысокой стене из камня, — залитые солнцем, чудесные бронзовые фигуры, создающие впечатление, будто перед глазами зрителя был греческий фриз. Когда Дони по зову Микеланджело явился и взглянул на готовую картину, лицо у него вмиг сделалось таким же красным, как и его нарядная туника. — Укажи мне в этой мужицкой мазне хоть одно место, где была бы святость! Хоть какой-то признак религиозного чувства! Ты просто издеваешься надо мной. — Я не такой глупец, чтобы тратить на это время. А тут чудесные, красивые люди, полные нежной любви к своему ребенку. — В мой дворец мне надо «Святое Семейство»! — Святость — это не внешние приметы, не обличие. Святость — это внутреннее, духовное качество. — Я не могу подарить этих крестьян на траве своей взыскательной невесте. Я потеряю всякое уважение в семействе Строцци. Ты выставишь меня в самом дурном, самом черном свете. — Разреши тебе напомнить, что ты не оговорил себе права на отказ от картины. Глаза Дони сузились в щелки, затем он выкатил их и закричал: — А что делают в «Святом Семействе» эти пятеро голых парней? — Ну как же, — они только что искупались в море и обсыхают теперь на солнце, — спокойно ответил Микеланджело. — Ей-богу, ты тронулся! — взвизгнул Дони. — Где это слыхано, чтобы в христианской картине рисовали пятерых голых парней? — Рассматривай их как фигуры фриза. У тебя будет одновременно и христианская живопись, и греческая скульптура — и все за одни и те же деньги. Вспомни, что ты сначала предлагал мне за картину тридцать флоринов, по десяти за каждую фигуру. Будь я жадным, я взял бы с тебя за этих пятерых парней пятьдесят флоринов дополнительно. Но я не возьму, потому что мы соседи по приходу. — Я снесу картину Леонардо да Винчи, — хныкал Дони, — и он замажет этих пятерых бесстыдников краской. До сих пор Микеланджело лишь забавлялся препирательством. Но теперь он крикнул в гневе: — Я подам на тебя в суд за порчу произведения искусства! — Я оплачиваю это произведение и вправе портить его, как хочу. — Вспомни-ка Савонаролу. Я заставлю тебя отвечать перед Советом! Скрежеща зубами, Дони выскочил вон. На следующий день слуга Дони принес кошелек с тридцатью пятью флоринами — половиной условленной суммы — и расписку, которую Микеланджело должен был подписать. Микеланджело отослал эти деньги с Арджиенто обратно. На клочке бумаги он нацарапал: «„Святое Семейство“ будет стоить отныне сто сорок флоринов». Флоренция потешалась над этим поединком; многие заключали пари, споря, кто выйдет победителем — Дони или Микеланджело. Шансы Микеланджело казались гораздо меньшими, ибо никому еще не удавалось провести Дони в денежных делах. Однако день его венчания приближался, а он давно уже из хвастовства разболтал по всему городу, что официальный художник Флоренции исполняет его заказ — пишет свадебный подарок невесте. Скоро Дони вновь явился в сарай Микеланджело на дворе Собора, в руках у него был кожаный кошелек о семьюдесятью флоринами. — Вот твои деньги, давай мне картину, — кричал он Микеланджело. — Это нечестно, Дони. Картина тебе не понравилась, и я освободил тебя от всех обязательств по договору. — Ты меня не проведешь, даже не пытайся! Я пойду к гонфалоньеру, и он заставит тебя выполнить договор. — Вот уж не подозревал, что тебе так полюбилась моя картина. Ты, видно, стал заправским коллекционером. В таком случае выкладывай сто сорок флоринов — и конец разговору. — Мошенник! Ты соглашался писать картину за семьдесят… — Этот договор ты нарушил, прислав мне тридцать пять флоринов. Сейчас я изменяю условия. Моя новая цена — сто сорок флоринов. — Я не буду платить такие деньги за посредственную крестьянскую картину, ты этого не дождешься, — бушевал Дони. — Скорей тебя повесят в проемах окон Барджелло! Микеланджело уже думал, что он достаточно подурачился, и был почти готов отослать картину заказчику, когда босоногий деревенский мальчик принес ему записку. В ней говорилось:«До меня дошел слух, что Маддалена желает получить твою картину. Она говорит, что ни один другой свадебный подарок не будет ей столь по душе, как эта картина. К.»Микеланджело вмиг узнал, чей это почерк. Ему было хорошо известно, что Маддалена Строцци — приятельница Контессины. Значит, радовался Микеланджело, кто-то из старых друзей Контессины еще поддерживает с ней отношения! Довольно улыбаясь, он присел к столу и написал письмо Дони.
«Я вполне сознаю, что плата, назначенная мной за мою картину, кажется тебе чрезмерно высокой. Как старый и близкий друг, я освобождаю тебя от всех финансовых обязательств по договору, уступив „Святое Семейство“ другому своему другу».Едва Арджиенто, переправив письмо, присел на свое место в сарае, как туда ворвался Дони, — кошелек, который он швырнул на стол, зазвенел так громко, что на мгновение заглушил стуки молотков, несущиеся со двора. — Я требую отдать мне картину. Она теперь моя по всем правилам. Схватив кошелек, он развязал его и высыпал на стол груду золотых монет. — Считай! Сто сорок флоринов золотом. За несчастное семейство крестьян, рассевшихся на травке у дороги. Почему я поддался тебе и позволил так себя ограбить — это выше моего понимания! Микеланджело передал картину Дони из рук в руки. — Прошу поздравить от меня твою будущую супругу. Шагая к выходу, Дони негодовал: — Художники! И кто сказал, что это непрактичные люди? Ха! Да ты разорил хитрейшего купца во всей Тоскане! Микеланджело сложил в стопку монеты. Вся эта история ему очень нравилась. Она освежила его не хуже любого отдыха.
11
В августе произошло событие, вызвавшее повсюду радостное оживление, — умер Александр Шестой, папа из семейства Борджиа. Когда новым папой избрали сиенского кардинала Пикколомини, Джулиано да Сангалло ходил убитым, а Микеланджело ждал для себя самого дурного. Работу над статуями Пикколомини он ничуть не продвинул, даже не сделал к ним карандашных набросков. Одно слово нового папы — и гонфалоньер Содерини прикажет отложить работу над «Давидом», пока сиенские статуи, числом одиннадцать, не будут исполнены и утверждены. Он заперся в своей загородке, отказываясь в течение месяца от всяких встреч, работал как бешеный и все время ждал, когда падет на него секира Ватикана. Почти вся фигура Давида была закончена, незавершенными оставались лицо и голова. Впервые в эти дни Микеланджело осознал истинную тяжесть договора на Двенадцать Апостолов, которая будет давить его много лет в дальнейшем. Он готов был броситься в Арно. Кардинал Пикколомини пробыл папой Пием Третьим один месяц и внезапно скончался в Риме. Предсказание Джулиано да Сангалло на этот раз сбылось: кардинал Ровере стал папой Юлием Вторым. Сангалло шумно отпраздновал этот день, уверяя своих гостей, что он заберет Микеланджело с собой в Рим, где тот будет работать над великими изваяниями. Леонардо да Винчи возвратился из армии Цезаря Борджиа и получил ключи от Большого зала Синьории: ожидали, что ему вот-вот дадут заказ написать огромную фреску на стене за возвышением, где заседали гонфалоньер Содерини и Синьория. Вознаграждение было назначено в десять тысяч флоринов. Микеланджело бледнел от злости. Это был самый крупный, самый значительный во Флоренции заказ на живопись за многие и многие годы. Десять тысяч флоринов Леонардо за фреску, которую он закончит через два года. Четыре сотни флоринов ему, Микеланджело, за «Гиганта-Давида»! И за то же время работы! Какое благоволение к человеку, который был готов помогать Цезарю Борджиа в завоевании Флоренции! Флоренция будет платить Леонардо в двадцать пять раз больше, чем платит Микеланджело. Уже один этот факт сам по себе — новый смертельный удар, наносимый со стороны Леонардо скульптуре. В ярости он кинулся к Содерини. Содерини охотно выслушал его: одной из граней таланта гонфалоньера было уменье слушать людей, уменье дать им высказаться. На этот раз Содерини позволил Микеланджело в течение нескольких секунд послушать, как отдается его сердитый голос в стенах палаты, и лишь потом заговорил сам, наиспокойнейшим тоном. — Леонардо да Винчи — великий живописец. Я видел его «Тайную Вечерю» в Милане. Это потрясающе. Никто в Италии не может сравниться с Леонардо. Я не скрываю своей зависти к Милану и хочу, чтобы Леонардо создал фреску и для Флоренции. Если она окажется столь же прекрасной, это невероятно обогатит нас. Микеланджело был одновременно отчитан и выставлен вон, всего за несколько минут. Наступили последние месяцы работы, доставлявшие ему огромную радость, ибо теперь как бы сходились в едином фокусе все его усилия двух лет. Вкладывая в изваяние всю свою нежность, всю любовь, он отделывал лицо Давида — сильное, благородное лицо юноши, который — еще минута — и станет зрелым мужем, но в этот миг еще полон печали и неуверенности, еще колеблется, как ему поступить: брови его нахмурены, глаза вопрошают, на крепких губах — печать ожидания. Черты лица Давида должны быть в единстве с его телом. Лицо Давида должно выражать, что зло уязвимо, что зло можно победить, если оно даже одето в чешуйчатую броню весом в пять тысяч сиклей. Всегда можно отыскать в нем незащищенное место; и если в человеке преобладает добро, оно неминуемо определит это уязвимое место, и отыщет к нему путь, и войдет в него. Чувства, выраженные на лице Давида, должны говорить, что его схватка с Голиафом как бы символизирует борьбу добра со злом. Обтачивая голову, надо было добиться впечатления, что свет, озаряющий ее, исходит не только изнутри, но как бы сияет вокруг. Ни на минуту не забывая об этом, Микеланджело оставил пока нетронутым камень около губ Давида, его скул, носа. При обработке ноздрей он пользовался буравом, переходя к бровям, брал малую скарпель. Чтобы проделать углубления в ушах и между зубов, он пустил в ход тонкое сверло, сменяя его более толстым по мере того, как отверстие расширялось. Между завитками волос он высек множество борозд и ямок, по строгому расчету; тут он осторожно работал тонкой длинной иглой, вращая ее между ладонями и стараясь надавливать на камень по возможности легче. С особой зоркостью и тщанием проводил он складки на лбу, обтачивал чуть вытянутые крылья носа, едва раскрытые губы. Постепенно удаляя следы запасного камня, он приступил к полировке. Ему не требовалось достичь на этот раз такого же блеска, каким лучилось его «Оплакивание». Он хотел лишь как можно выразительнее явить в этом мраморном теле кровь, мышцы, мозг, вены, кости, вдохнуть в это изваяние с прекрасными пропорциями самую жизнь во всей ее убедительности и истине — создать Давида в теплоте трепещущей человеческой плоти, так, чтобы в блеске камня сиял его разум, его дух, его сердце, Давида в напряжении всех его чувств, с туго натянутыми сухожилиями шеи, с резко повернутой головой, обращенной к Голиафу, Давида, уже знающего, что жить — это действовать. В начале января 1504 года во Флоренции стало известно, что Пьеро де Медичи нет в живых. Надеясь обеспечить себе помощь Людовика Двенадцатого против Флоренции, он воевал на стороне французской армии и утонул в реке Гарильяно: лодка, в которой он спасал от испанцев четыре пушки, перевернулась. Когда член Синьории заявил перед собравшейся толпой: «Услышав эту весть, мы, флорентинцы, бесконечно рады», — Микеланджело испытывал чувство печали и в то же время жалел Альфонсину и ее детей; он вспоминал умиравшего Лоренцо, вспоминал, как он перед своей кончиной учил Пьеро править Флоренцией. Но скоро Микеланджело понял, что гибель Пьеро означает близость возвращения Контессины из ссылки. В последних числах того же января Содерини пригласил к себе художников и именитых мастеров Флоренции, чтобы решить, где ставить Микеланджелова «Гиганта-Давида». Микеланджело побывал у Содерини заранее, и тот показал ему список приглашенных. Из художников там числились Боттичелли, Росселли, Давид Гирландайо, Леонардо да Винчи, Филиппино Липпи, Пьеро ди Козимо, Граначчи, Перуджино, Лоренцо ди Креди. Скульпторы были представлены именами Рустичи, Сансовино и Бетто Бульони, архитекторы — братьями Сангалло — Джулиано и Антонио, Кронакой и Баччио д'Аньоло. Помимо того, приглашались четверо золотых дел мастеров, два ювелира, мастер по вышивке, мастер по терракоте, книжный иллюстратор, два опытных плотника, которые вот-вот должны были стать архитекторами, пушечный мастер Гиберти, часовщик Лоренцо делла Гольпайя. — Может, мы кого-нибудь забыли вписать? — спросил Содерини, когда Микеланджело кончил читать список. — Забыли только меня. — Я думаю, тебя и не следует приглашать. Твое присутствие может помешать людям говорить свободно. — Но мне хотелось бы высказать свое мнение. — Ты уже высказал его, — сухо закончил разговор Содерини. Приглашенные собрались на следующий день в библиотеке, в верхнем этаже управы при Соборе, стоявшей на том же дворе. Дело было в полдень. Микеланджело и не думал подглядывать или подслушивать, но окна библиотеки были обращены к его сараю, и сюда докатывался гул голосов. Перейдя двор, Микеланджело поднялся по черной лестнице здания и ступил в переднюю библиотеки. Среди всеобщего шума кто-то настойчиво призывал к порядку, наконец в зале наступила тишина. Микеланджело узнал голос Франческо Филарете, герольда Синьории. — Я очень долго прикидывал и обмозговывал, где же нам поставить фигуру. У нас есть для этого два подходящих места: первое — там, где стоит «Юдифь» Донателло, а второе — посередине дворика, где находится бронзовый «Давид». Первое место подходит потому, что «Юдифь» стоит не к добру и ей не следовало бы здесь находиться — женщине вообще не подобает убивать мужчину, а сверх того, эта статуя была водружена при дурных предзнаменованиях, ибо с той поры дела у нас идут все хуже и хуже. Бронзовый «Давид» неисправен на правую ногу, и потому я склоняюсь к мысли поставить «Гиганта» в одном из этих двух мест и лично предпочитаю заменить им «Юдифь». Мнение герольда устраивало Микеланджело как нельзя лучше. Сразу после Филарете слово взял кто-то другой: Микеланджело не мог узнать этого человека по голосу. Он заглянул украдкой в библиотеку и увидел, что говорит Мончиатто, резчик по дереву. — Мне кажется, что «Гигант» задуман так, чтобы его поставили на пьедестале подле Собора, у главного Портала. Отчего бы нам так не сделать? Это было бы чудесным украшением церкви Санта Мария дель Фиоре. Микеланджело видел, как, напрягая свои старческие силы, поднялся с кресла Росселли. — И мессер Франческо Филарете и мессер Франческо Мончиатто говорили очень резонно. Но я с самого начала полагал, что «Гиганта» следует установить на лестнице Собора, с правой стороны. Я и теперь держусь того мнения, что это будет лучшее для него место. Предложения сыпались одно за другим. Галлиено, мастер по вышивке, считал, что «Гигант» должен стоять на площади, заняв место «Льва» Мардзокко, с чем соглашался Давид Гирландайо; кое-кто, в том числе Леонардо да Винчи, предпочитали Лоджию, ибо там мрамор будет сохраннее. Кронака предложил установить «Гиганта» в Большом зале, где Леонардо собирался писать свою фреску. «Найдется ли здесь хоть один человек, который скажет, что право выбора места для статуи принадлежит мне?» — бормотал Микеланджело. И тогда заговорил Филиппино Липпи: — Все здесь высказывают очень мудрые соображения, но я уверен, что лучшее место для «Гиганта» предложил бы сам скульптор, так как он, без сомнения, думал об этом давно и взвесил все обстоятельства дела. В зале послышался одобрительный ропот. С заключительной речью выступил Анджело Манфиди: — Прежде чем могущественные господа решат, где ставить изваяние, я предложил бы им спросить совета у членов Синьории, среди которых есть самые высокие умы. Микеланджело тихонько затворил за собой дверь и по той же черной лестнице спустился во двор. Значит, у гонфалоньера Содерини теперь есть возможность выбрать для «Давида» то место, которое хотел Микеланджело: перед дворцом Синьории, там, где стоит «Юдифь». Заботы по перевозке «Давида» ложились прежде всего на архитектора, наблюдавшего за Собором, то есть на придирчивого и шумного Поллайоло-Кронаку; тот, видимо, с искренней благодарностью выслушивал советы, которые давали ему братья Антонио и Джулиано да Сангалло. Предложили свои услуги и еще три добровольца: архитектор Баччио д'Аньоло и два молодых плотника-архитектора — Кименте дель Тассо и Бернардо делла Чекка. Их заинтересовала трудная задача — перевезти по улицам Флоренции небывало огромное мраморное изваяние. Статую при перевозке требовалось закрепить надежно, чтобы она не опрокинулась, и в то же время не очень жестко, иначе она могла пострадать от неожиданного толчка или удара. — «Давида» надо везти стоя, — говорил Джулиано. — И клетку для него следует придумать такую, чтобы статуя не чувствовала тряски. — А как этого добиться? — размышлял вслух Антонио. — Тут дело не только в клетке. Мы не будем зажимать статую наглухо, мы ее подвесим внутри клетки — пусть она слегка раскачивается взад и вперед при движении. Два плотника — Тассо и Чекка — сколотили по чертежам братьев Сангалло деревянную клетку почти в три сажени высоты с открытым верхом. Антонио придумал систему скользящих узлов на канатах — узлы эти под давлением веса крепко затягивались, а когда напор уменьшался, ослабевали. Оплетенный сетью прочных канатов, «Давид» был поднят на полиспасте и в подвешенном состоянии вставлен в клетку. Каменную стену за сараем разобрали, клетку установили на круглые катки, дорогу тщательно выровняли. «Давид» был готов пуститься в свое путешествие по улицам Флоренции. Чтобы катить огромную клетку на катках, применяя ворот, вращаемый вагой, Кронака нанял сорок рабочих. Как только клетка продвигалась вперед и задний каток освобождался, рабочий подхватывал его и, забегая вперед, снова подсовывал его под клетку. Обвязанный канатами от промежности до самой груди — то есть вдоль той опорной вертикали, о которой так заботился Микеланджело, — «Давид» слегка покачивался: размах его движений ограничивали скользящие узлы канатов. Несмотря на то что статую продвигали сорок человек, она шла медленно, одолевая всего несколько аршин за час. К вечеру первого дня клетку вывели за стену, дотащили по улице Башенных Часов до перекрестка и развернули под острым углом, направляя на Виа дель Проконсоло. Вокруг, наблюдая за работой, толпились сотни людей; когда наступила темнота, клетка продвинулась по Виа дель Проконсоло только на полквартала. Из толпы кричали: «Доброй ночи! До завтра!» Микеланджело отправился домой. Он расхаживал по комнате, стараясь убить время и дождаться рассвета. В полночь он не выдержал и, одолеваемый смутной тревогой, вышел из дому, направляясь к «Давиду». Тот стоял, сияя белизной в лучах луны, свободный и уверенный, словно бы на нем и не было никаких пут, устремив свой взгляд на Голиафа, сжимая пальцами пращу: его отточенный, отполированный профиль был безупречно прекрасен. Микеланджело кинул одеяло в клетку, в тот угол за спиной Давида, где икра его правой ноги соприкасалась с древесным пнем. Здесь он улегся на дощатом полу, стараясь заснуть. Он уже почтизабылся, погружаясь в сон все глубже, как вдруг услышал топот ног, шум голосов, а затем стук камней, швыряемых в боковую стенку клетки. Микеланджело вскочил на ноги. — Стража! — завопил он. Он слышал топот удаляющихся людей — кто-то убегал, скрываясь на Виа дель Проконсоло. Микеланджело бросился вслед за беглецами и, собрав всю силу своих легких, крикнул: — Стой! Стража, стража — держи их! В темноте мелькали какие-то фигуры, скорей всего мальчишеские. С дико бьющимся сердцем он вернулся к «Давиду» — там уже стояли двое стражников, в руках у них были фонари. — Что за шум? — В статую швыряли каменьями. — Каменьями? Кто же швырял? — Не знаю. — И попали они в статую? — Думаю, что не попали. Я только слышал, как камни стучали по доскам. — Ты уверен, что это тебе не приснилось? — Я же видел их. И слышал… Не окажись я тут… Он обошел статую, вглядываясь в нее в темноте и мучительно гадая, кому было выгодно повредить «Давида». — Вандалы, — сказал Содерини, придя рано утром на Виа дель Проконсоло посмотреть, как будут двигать статую дальше. — На эту ночь я назначу к «Гиганту» специальную охрану. Вандалы явились снова, на этот раз их было не меньше десятка. Все произошло вскоре после полуночи. Микеланджело услышал, как по улице Святого Прокла приближаются какие-то люди, и громко закричал, вынудив их побросать припасенные камни тут же наземь. Наутро вся Флоренция знала, что некие злоумышленники хотят повредить «Давида». Содерини вызвал Микеланджело на заседание Синьории и спросил, кто, по его мнению, мог напасть на статую. — Есть у тебя враги? — Нет, никаких врагов я не знаю. — Лучше спросите его, гонфалоньер, так: «Есть ли враги у Флоренции?» — вмешался герольд Филарете. — Надо выждать: пусть они попытаются тронуть статую и сегодня. Они действительно попытались. Нападение произошло на краю площади Синьории, там, где к ней примыкала площадь Сан Фиренце. Содерини укрыл вооруженных стражников в подъездах и дворах домов, расположенных близ клетки с «Давидом». Восемь человек из шайки были схвачены и доставлены в Барджелло. Еле живой от недосыпания, Микеланджело напряженно вчитывался в список арестованных. В нем не оказалось ни одного знакомого имени. Утром верхний зал Барджелло был битком набит флорентинцами. Микеланджело внимательно оглядел преступников. Пятеро из них были совсем юнцы, может быть, лет пятнадцати. По их словам, они смотрели на все как на приключение и швыряли камнями в статую по воле своих старших друзей; они будто бы даже не знали, была ли это статуя или что-то другое. Семьи этих мальчишек оштрафовали, а самих их отпустили на свободу. Трое остальных арестованных были по возрасту старше. Держались они вызывающе враждебно. По признанию одного, они кидали камнями в «Давида» потому, что тот голый, бесстыдно изваян и что Савонарола несомненно потребовал бы его уничтожить. Второй заявил, что «Давид» — плохая статуя, а ему хотелось показать, что во Флоренции есть люди, понимающие искусство гораздо глубже. Третий сказал, что он действовал по наущению приятеля, горевшего жаждой разбить «Давида», — назвать этого приятеля арестованный отказался. Все трое были приговорены к заключению в тюрьме Стинке; судья, выносивший приговор, процитировал тосканскую поговорку: «У искусства есть враг, и имя ему — невежество». В этот же вечер, на четвертые сутки своего путешествия по городу, «Давид» попал на предназначенное ему место. Д'Аньоло и плотники-архитекторы Тассо и Чекко разобрали клетку. Братья Сангалло развязали узлы на канатах, сняв с изваяния его веревочную мантию. Статую Юдифи убрали, «Давид» был установлен на ее месте у подножия лестницы дворца, лицом к открытой площади. Едва Микеланджело ступил на площадь, как спазмы сдавили ему горло. Видеть «Давида» на таком расстоянии ему еще не приходилось. Вот он стоит перед ним во всей своей величавой грации, отбрасывая на дворец Синьории чистейшее белое сияние. Микеланджело приблизился к статуе, ощущая себя маленьким, сирым, невзрачным; теперь когда статуя уже вышла из его рук, он был как бы совершенно бессильным и только спрашивал себя: «Много ли из того, что я хотел сказать, мне посчастливилось выразить?» Он охранял статую целых четыре ночи и сейчас едва держался на ногах от усталости. Надо ли ему сторожить «Давида» и в эту ночь? Теперь, когда «Давид» водружен здесь окончательно и уже не зависит от чьей-либо милости или благоволения? Но ведь несколько увесистых, метко кинутых камней могут отбить у него руки, даже голову… Граначчи твердо сказал: — Несчастьям, которые сваливаются на тебя в дороге, обычно приходит конец, как только ты попадаешь на свое постоянное место. Он довел Микеланджело до дома, разул его, помог лечь в постель и укрыл одеялом. Подглядывавшего из-за двери Лодовико он предупредил: — Пусть Микеланджело спит. Пусть спит, если даже солнце дважды взойдет и дважды закатится. Микеланджело проснулся, чувствуя себя свежим и дьявольски голодным. Хотя время обеда еще не наступило, он опустошил горшок с супом, съел лапшу и вареную рыбу, невзирая на то, что пища была приготовлена на все семейство. Он так набил себе живот, что еле сгибался, когда решил помыться и полез в деревянный ушат. С наслаждением надел он на себя свежую полотняную рубашку, чулки и сандалии — впервые за много недель, уже и не упомнить, за сколько. Он прошел через площадь Сан Фиренце и уже ступил на площадь Синьории. Вокруг «Давида» стояла в молчании густая толпа народа. На статуе трепетали прилепленные за ночь листки бумаги. Микеланджело помнил такие листки по Риму: там люди приклеивали к дверям библиотеки в Ватикане стихи, унижающие честь Борджиа, или прикрепляли свои обличения и жалобы к мраморному торсу Пасквино поблизости от площади Навона. Он прошел сквозь толпу, чувствуя, как она расступалась, давая ему дорогу. Он старался разгадать выражение лиц, понять, что тут происходит. Глаза, глядевшие на него, показались ему у всех необыкновенно большими. Он подошел к «Давиду», взобрался на пьедестал и начал срывать бумажки, читая их одну за другой. Когда он читал уже третью, глаза его увлажнились, ибо все это были послания любви и признательности:«Мы вновь стали уважать себя». «Мы горды оттого, что мы флорентинцы». «Как величествен человек!» «Пусть никто не говорит мне, что человек подл и низок; человек — самое гордое создание на земле». «Ты создал то, что можно назвать самой красотой». «Браво!»Вот он увидел знакомый сорт бумаги, тот, что когда-то не раз держал в руках. Он дотянулся до записки, прочел ее:
«Все, что надеялся сделать для Флоренции мой отец, выражено в твоем Давиде. Контессина Ридольфи де Медичи».Она проникла в город ночью, избежав встречи со стражей. Она пошла на риск, чтобы увидеть его Давида, присоединить свой голос к голосу Флоренции. Он повернулся и стоял над толпой, а толпа глядела на него. На площади царила тишина, все молчали. И все же никогда он не чувствовал такого человеческого взаимопонимания и единства, какие были в эту минуту. Словно бы люди читали друг у друга мысли, словно бы составляли нечто целое; все эти флорентинцы, что стояли внизу, обратя на него свои взоры, были частью его, а он был частью их.
12
В письме, пришедшем от Якопо Галли, был вложен договор, подписанный братьями Мускронами: они соглашались заплатить Микеланджело четыре тысячи гульденов. «Вы вправе высекать „Богородицу с Младенцем“ так, как задумаете, — писал Якопо Галли. — А теперь, после вкусной поджарки, будет некая доза кислого соуса. Наследники Пикколомини требуют, чтобы вы завершили работу над обещанными статуями. Мне удалось убедить их продлить срок договора еще на два года — и это все, что было в моих силах…» Два года отсрочки! Микеланджело так обрадовался этому, что тут же забыл о злополучных статуях. В ту пору, когда об изваянии «Давида» говорил весь город, семейство Буонарроти посетил Бартоломео Питти, отпрыск боковой линии богатейшего рода. Это был застенчивый, тихий человек: в первом этаже его скромного дома на площади Санто Спирита помещалась мануфактурная лавка. — Я только что начал собирать коллекцию произведений искусства. Пока у меня лишь три небольшие картины на дереве, очень милые, хотя и не прославленных мастеров. Мы с женой пошли бы на что угодно, только бы способствовать рождению произведений искусства. Микеланджело был тронут учтивостью посетителя, мягким взглядом его карих глаз, короной седых волос вокруг лысеющего лба. — Каким образом вы хотели бы способствовать этому, мессере? — Нам хотелось узнать, нет ли какого-нибудь небольшого мрамора, о котором вы бы думали или даже мечтали и который мог бы подойти нам… Микеланджело шагнул к стене и снял с нее свою первую работу, выполненную под руководством Бертольдо, — «Богоматерь с Младенцем». — За долгие годы, мессер Питти, я осознал, насколько плохо я высек этот барельеф: я даже понимаю, почему я высек его плохо. Теперь я принялся бы за него вновь, только на этот раз вещь будет округлой, в форме тондо. И мне кажется, я сумею вывести эти фигуры из плоскости рельефа, создать впечатление полнообъемной скульптуры. Хотите, я попробую это сделать для вас? Питти облизал свои тонкие, пересохшие губы. — Я не могу выразить, как мы были бы счастливы. Микеланджело проводил Бартоломео Питти, сойдя с ним вниз по лестнице. — Я уверен, что высеку для вас нечто достойное. Я чувствую это всем своим существом. Синьория приняла постановление, чтобы Кронака обеспечил постройку дома и мастерской для Микеланджело. А тот соизволил затерять чертежи под грудами безделушек и разного хлама, сваленного на его столе, где, между прочим, всегда лежали две дюжины крутых яиц, ибо другой пищи архитектор не признавал. — Представь себе, я уже обдумал и расположение комнат, и их размеры, — говорил он Микеланджело. — Ты, наверное, захочешь, чтобы дом был сложен из каменных блоков? — Да, хотел бы. Могу я высказать несколько пожеланий? — Как всякий заказчик, — улыбнулся Кронака. — Я хочу, чтобы кухня была наверху, между гостиной и моей спальней. Камин с дымоходом, идущим в стене. Лоджия с колоннами должна примыкать к спальне и выходить в двор. Кирпичные полы, светлые окна, отхожее место на втором этаже. Парадная дверь с каменным карнизом, самой тонкой работы. Стены внутри надо отштукатурить. Я окрашу их сам. — Право, не знаю, для чего я тебе и нужен, — ворчливо заметил Кронака. — Сходи на участок и посмотри, как расположить мастерскую, чтобы ты был доволен освещением. Микеланджело спросил, можно ли отдать все работы по камню семейству Тополино. — Если ты ручаешься, что они справятся с делом. — Ты получишь самые лучшие блоки, какие только высекались в Сеттиньяно. Участок, отведенный под дом, находился на перекрестке Борго Пинти и Виа делла Колонна; в семи саженях от угла по Борго был монастырь Честелло, со стороны Виа делла Колонна участок простирался гораздо дальше, кончаясь у кузницы. Микеланджело купил у кузнеца кольев, измерил шагами предназначенную ему землю я забил колья по углам участка, как межевые знаки. Недели через две Кронака приготовил план дома и мастерской — все получалось неукоснительно строго снаружи и очень уютно внутри. Лоджия была спроектирована во втором этаже рядом со спальной комнатой Микеланджело, так, чтобы он мог есть и отдыхать в теплую погоду, на открытом воздухе. Скоро Тополино по указаниям Микеланджело уже рубили светлый камень; голубовато-серые блоки сияли под солнцем, зерно у них было чудесное. Пользуясь мерками, которые дал им Микеланджело, Тополино вытесали блоки для камина, потом высекли изящные пластины на карниз. Когда был готов строительный камень; Тополино всем семейством сложили и дом. Нанятые Кронакой мастера отштукатурили комнаты, покрыли черепицей крышу, но Микеланджело не мог удержаться от того, чтобы не приходить по вечерам на стройку — гасил известь, доставая воду из колодца, вырытого во дворе, красил по штукатурке стены в те тона, которые он нашел для одежд в «Святом Семействе» Дони: голубой, розовый и оранжевый. Вся южная стена мастерской выходила во дворик. Обставляя дом внутри, Микеланджело должен был рассчитывать на собственный кошелек. Он купил лишь самые скромные вещи: широкую кровать, сундук, стул для спальни, стол и стулья для лоджии — их при сырой или холодной погоде предполагалось уносить во внутренние комнаты; кожаное кресло и скамью для гостиной; горшки, бокалы, сковороды; кухонные ящики под соль, сахар и муку. Арджиенто перетащил свою кровать из мастерской на площади ремесленников и поставил в маленькой спальне под лестницей, около парадного входа. — Ты повесь в своем доме священные картины, — говорила Микеланджело тетя Кассандра. — Смотреть на них большое благо для души. Микеланджело повесил напротив кровати свою юношескую «Богоматерь с Младенцем», а в гостиной — «Битву кентавров». — Какая самовлюбленность, — усмехнулся Граначчи. — Тетя говорит тебе, чтобы ты смотрел на священные картины, а ты взял да развесил собственные работы. — Они для меня священны, Граначчи. Вселившись в свою мастерскую, залитую солнцем позднего лета, Микеланджело радостно трудился — мысли, обгоняя друг друга, теснились в его голове и понуждали к действию руки: надо было закончить восковую модель «Брюггской Богородицы», рисунки для тондо, предназначенного Питти, пробные эскизы фигуры апостола Матфея для Собора, отделку бронзового «Давида» для французского маршала. Когда из Каррары привезли блок мрамора в два аршина и четыре дюйма, Арджиенто помог Микеланджело установить его посредине мастерской на поворотный круг. Микеланджело с час ходил вокруг камня, вглядываясь в его грани и очертания, словно бы ощущая, как шевелится в толще камня тело Богородицы, — и вот уже на кирпичный пол мастерской впервые брызнула белоснежная струя мраморной пыли и крошки. Радостное состояние духа Микеланджело отнюдь не отразилось на образе Богоматери; напротив, возникавшая под его резцом женщина была печальна и уже мысленно видела крестные муки сына. Никогда теперь не уловить Микеланджело того сосредоточенного спокойствия, которое он придал Марии в своем раннем барельефе: там она еще не знала своей судьбы, ей надо было только решиться. А эта молодая мать была избрана и обречена: она уже знала, чем кончится жизнь ее сына. Вот почему она противилась, не хотела отпустить от себя этого прекрасного, сильного и проворного мальчика, ухватившегося своей ручонкой за ее ограждающую руку. И вот почему она прикрывала сына краем своего плаща. У мальчика, чувствующего настроение матери, тоже таилась в глазах печаль. Он был полон сил и отваги, скоро он соскочит с материнских колен и покинет это надежное убежище, но вот теперь, в эту минуту, он вцепился в руку матери одной своей рукой, а другую прижал к ее бедру. Быть может, он думает сейчас о ней, о своей матери, опечаленной неизбежной разлукой: ее сын, так доверчиво прильнувший к коленям, скоро будет странствовать в мире один. Микеланджело работал так, будто работа была его торжеством и празднеством. Осколки мрамора взвивались и летели на пол: после огромной Давидовой фигуры небольшое и компактное изваяние Святой Девы возникало почти без усилия. Молоток и резец были легче пера, и Микеланджело, почти не отрываясь, высекал скромные одежды Богоматери, ее длинные пальцы, густые косы, венчавшие лицо с длинным носом, с тяжелыми веками глаз, кудрявую голову мальчика, его сильное детское тело, пухлые щеки и подбородок — что-то чисто личное, идущее от сердца ваятеля пронизывало весь мрамор. Он не идеализировал теперь лицо Марии, как делал прежде; он полагал, что то чувство, которое он вдохнет в нее, придаст ей благородство. Граначчи оценил статую так: «Это наиболее живая „Богородица с Младенцем“, какую только может допустить церковь». Настоятель Бикьеллини, ни словом не откликнувшись на появление «Давида», пришел в новый дом Микеланджело и освятил его по всем правилам. Он опустился на колени перед «Богоматерью», читая молитву. Затем встал и положил обе руки на плечи Микеланджело: — Эта «Богородица с Младенцем» не несла бы на себе печать такой нежной чистоты, если бы ты не был столь же нежен и чист в своем сердце. Да благословит Господь Бог и тебя, и эту мастерскую.Микеланджело отпраздновал окончание «Брюггской Богоматери» тем, что установил посредине мастерской четырехугольный мрамор, обрубил его углы, чтобы приблизить камень к форме тондо, и начал работать над заказом Питти. Восковая модель, укрепленная на каркасе, обрела свою форму очень быстро: работая теперь в собственной мастерской, Микеланджело испытывал небывалый подъем духа — он вступил в безоблачную, светлую полосу жизни. Впервые он пробовал высечь изваяние на плоскости круга; сделав эту плоскость чуть вогнутой, как у блюда, он мог разместить фигуры в пространстве так, что сидящая на камне Мария, наиболее важный персонаж, была изваяна с максимальной объемностью; младенец, приникший к раскрытой книге, что лежала на коленях Богоматери, все же оказался на втором плане, а Иоанн, выглядывавший из-за плеча Марии, был уже совсем в глубине блюда. Перейдя к окончательной отделке тондо, он применил с десяток различных способов резьбы и почти исчерпал все возможные варианты; лишь лицо Марии было отполировано до той телесной иллюзорности, какой он достиг в «Оплакивании», — образ ее эмоционально обогатился. Микеланджело чувствовал, что никогда еще Мария не выходила из-под его резца такой зрелой и сильной женщиной; сын ее олицетворял всю прелесть счастливого младенчества; фигуры двигались в круге свободно и непринужденно. Арджиенто аккуратно закутал тондо в одеяла и, взяв у соседа-кузнеца ручную тележку, покатил в ней мрамор по улицам к дому Питти. Микеланджело шел рядом с тележкой. Совместными усилиями они подняли изваяние по лестнице, внесли в квартиру над мануфактурной лавкой и поставили на узкий, высокий буфет. Все Питти — и родители и дети — обмерли, лишась дара речи, потом сразу заговорили, заохали и принялись разглядывать тондо с разных сторон и расстояний. Наступили счастливые месяцы жизни Микеланджело — лучшего времени он не помнил. «Давида», которого флорентинцы все еще называли «Гигантом», город принял как свой новый символ, как своего покровителя и наставника. В делах республики наметился резкий поворот к лучшему: тяжело заболел и перестал быть угрозой Цезарь Борджиа; Ареццо и Пиза, казалось, были усмирены и теперь проявляли покорность; папа Юлий Второй, державшийся дружбы с Флоренцией, сделал кардинала Джованни де Медичи важной персоной в Ватикане. Кругом царил дух доверия, энергия и предприимчивость били ключом. Торговля процветала; всем хватало работы, любое изделие труда находило себе сбыт. Правительство с постоянным своим главой Содерини обрело устойчивость и уверенность, внутренние распри и раздоры флорентинцев были забыты. Горожане считали, что чуть ли не всем этим они обязаны «Гиганту-Давиду». День, когда была установлена статуя Давида, открыл, на взгляд флорентинцев, новую эру. Под разными соглашениями и контрактами они помечали: «В первый месяц после водружения Давида». В разговорах, чтобы определить какой-то отрезок времени, говорили: «Это было до „Гиганта“» или: «Я хорошо помню: это произошло на вторую неделю после открытия „Гиганта“». Микеланджело добился у Содерини обещания не препятствовать отъезду Контессины вместе с мужем и детьми в Рим под покровительство кардинала Джованни, как только Совет Семидесяти даст на это свое согласие. Теперь Микеланджело гораздо дружелюбнее и терпимее держался на обедах Общества Горшка, оставив нападки ка Леонардо, и был готов помочь любому скульптору получить тот или иной заказ. Он требовал от Арджиенто, чтобы тот уделял больше времени своему учению и не пренебрегал его уроками. В эти дни он вновь пошел в Сеттиньяно и увидел, что груда тонких каменных плит для карниза растет и растет, и что каждая из них высечена с такой любовью и искусством, будто это была драгоценная гемма. Из дома Тополино он направился к Контессине — дал урок Луиджи и поиграл с подраставшим Никколо. Он проявлял необыкновенное терпение к своему семейству и спокойно слушал, как разглагольствовал Лодовико, мечтая накупить домов и земли для своих сыновей. Питти прислал к Микеланджело некоего Таддео Таддеи, образованного флорентинца, любителя искусств. Таддеи спрашивал, не согласится ли маэстро Буонарроти высечь ему тондо. У Микеланджело был уже в голове замысел, появившийся в то время, когда он работал над заказом Питти. Он набросал карандашный эскиз будущей скульптуры, — Таддеи был в восторге. Таким образом, Микеланджело получил еще один приятный заказ от тонкого и умного человека, заранее восхищавшегося задуманным для него изваянием. К своему тридцатилетию, до которого оставалось несколько месяцев, Микеланджело, казалось, осуществил все, к чему стремился: во весь голос сказал свое слово в искусстве и получил признание.
13
Благодатные времена Микеланджело кончились, едва наступив. Уехав по вызову Юлия Второго в Рим, Сангалло каждую неделю сообщал Микеланджело приятные новости: то он расхваливал в беседе с папой «Давида», то уговорил его святейшество посмотреть в храме Святого Петра Микеланджелово «Оплакивание», то убеждал папу, что равного Микеланджело мастера нет во всей Европе. Юлий Второй стал подумывать о мраморных изваяниях; скоро он решит, что именно он хотел бы заказать, а потом и пригласит Микеланджело в Рим… Микеланджело читал эти письма на встречах Общества Горшка, и, когда папа, чтобы возвести в церкви Санта Мария дель Пополо два надгробия — кардиналу Реканати и кардиналу Сфорца, — вызвал в Рим не его, а Сансовино, он был поражен как громом. Общество устроило Сансовино шумный прощальный вечер — Микеланджело пошел на него, радуясь удаче своего старого товарища и на время забыв собственное унижение. Он чувствовал, что его престижу нанесен жестокий удар. Многие в городе спрашивали: — Если Микеланджело в самом деле первый скульптор Флоренции, то почему вместо него папа вызвал Сансовино? Все начало 1504 года Леонардо да Винчи посвятил механике, изобретая насосы и турбины, разрабатывая проект отвода вод Арно от Пизы, раздумывая над устройством обсерватории под крышей своей мастерской, чтобы с помощью увеличительного стекла наблюдать и изучать Луну. Получив выговор от Синьории за то, что он не занимается фреской, Леонардо принялся за нее в мае с большой энергией. Картон Леонардо стал предметом разговоров во всей Флоренции: художники толпились в его рабочей комнате при церкви Санта Мария Новелла и с восхищением рассматривали и изучали рисунки; применяясь к манере Леонардо, они усердно срисовывали их. Город был полон слухов о том, что Леонардо создает нечто необыкновенное, поразительное. С каждой неделей Леонардо и его картоном восхищались все больше, теперь уже всюду кричали, что это настоящее чудо. Картон стал чуть ли не главной темой бесед и пересудов в городе. На «Давида» уже смотрели как на нечто разумеющееся само собою, ощущение того, что он принес городу добрые времена, поблекло и стерлось. Мало-помалу Микеланджело убеждался, что он превзойден, отодвинут на задний план. Горячие почитатели и незнакомые люди, останавливавшие его, бывало, на улице, чтобы выразить свое уважение, теперь при встрече лишь небрежно кивали головой. Время успеха и славы Микеланджело отошло теперь в прошлое. Героем дня стал Леонардо да Винчи. Флоренция с гордостью называла его «первым художником Тосканы». Проглотить столь горькую пилюлю Микеланджело было нелегко. Как суетны и переменчивы, однако, эти флорентинцы! Развенчать его, лишить первенства так быстро! Прекрасно зная входы и выходы в церкви Санта Мария Новелла с той поры, когда он работал там с Гирландайо, Микеланджело сумел осмотреть картон Леонардо так, что его присутствия никто не заметил. Картон был изумительный! Леонардо любил лошадей не менее горячо, чем Рустичи. Рисуя битву при Ангиари, он создал настоящий гимн боевым коням — в пылу жестокого сражения они несли на себе облаченных в древнеримские доспехи всадников, которые разили друг друга мечами, бились, кусались, сцеплялись подобно фуриям; люди и кони на равных правах были брошены в кипение кровавой схватки; многочисленные группы великолепно входили в общую композицию. Да, Леонардо — великий живописец, этого Микеланджело не отрицал; быть может, даже самый великий из всех, живших на свете. Но эта мысль не приносила Микеланджело успокоения, а, наоборот, только разжигала его. Вечером, перед закатом солнца, проходя мимо церкви Санта Тринита, он увидел группу людей, оживленно толкующих между собой на скамейке близ банкирского дома Спины. Они спорили насчет отрывка из Данте: Микеланджело понял, что речь шла об одиннадцатой песне «Ада»:14
Ему предоставили длинную узкую палату в благотворительной больнице, которая была построена цехом красильщиков еще в 1359 году. Больница выходила фасадом на улицу Красильщиков; через два квартала от нее, близ церкви Санта Кроче, находился старый дом, в котором Микеланджело вырос, — мальчишкой он не раз забирался здесь в сточные канавы, где текла вода голубого, зеленого, красного и пурпурного цвета. Окна нынешней его мастерской при больнице выходили на Арно, к югу, так что солнце в ней стояло целый день; задняя стена палаты была обширнее, чем предназначенная для его фрески половина стены в зале Большого Совета. Здесь вполне можно было прикрепить к стене весь картон, лист за листом, и хорошенько оглядеть его как целое, прежде чем приступать к исполнению фрески. Он приказал Арджиенто держать дверь на запоре и никого не пускать. Он трудился с отчаянной яростью, решив доказать городу, что он зрелый мастер, постигший тайну быстрой работы, и что Синьории не придется упрекать его в растрате времени на чертежи водяных насосов и иных технических выдумок. Когда наступили холода, он послал Арджиенто в лавку за воском и скипидаром: на зиму надо было пропитать в скипидаре бумагу, как это делали красильщики, и затянуть ею окна. Общую композицию фрески он разработал на длинном листе, вырезанном по масштабу, потом разбил его на квадраты, с тем чтобы, соединив эти квадраты, покрыть ими площадь стены размером в девять с половиной аршин на двадцать три с половиной. В отличие от своей юношеской «Битвы кентавров» главные фигуры этой композиции Микеланджело сделал крупными, высотой в четыре аршина, и, однако, все изображенные люди должны были производить то же впечатление единой массы — сбившиеся на тесном пространстве обнаженные воины, перепутанные, переплетенные руки, торсы, головы, словно часть чего-то единого, органического целого: в минуту опасности, пока противник не подступил к ним вплотную, ратники одним порывом выскакивают из воды, хватая одежду, латы, оружие, и встают против врага. Он нарисовал молодого воина, обращенного спиной к зрителю, — на нем кираса, в руке щит, меч у него под ногами; вот обнаженные юноши схватили свои копья и мечи, не обращая внимания на одежду; вот бывалые, закаленные солдаты, у них мускулистые, крепкие ноги и плечи — они готовы броситься на приближающегося неприятеля с голыми руками; вот три молодых солдата карабкаются на берег из реки; вот центральная группа вокруг Донати — она еще на грани между оцепенением и готовностью к действию; воин, рука которого с судорожной силой высовывается из наброшенной на плечи рубахи; старый солдат с ивовым венком на голове натягивает рейтузы на свои мокрые ноги так остервенело, что, как Микеланджело объяснял Граначчи, «его проступившие под кожей мускулы и сухожилия видны все до единого, и рот его перекошен ненавистью, и все тело мучительно напряглось вплоть до пальцев ног». Тщательная работа над картоном о Кашине, который Микеланджело называл теперь «Купальщиками», потребовала бы целого года; при молодости и наивысшем расцвете таланта можно было надеяться на завершение труда в шесть месяцев. К 1505 году, через три месяца после начала работы, подчиняясь силе, которую он не в состоянии был сдержать, Микеланджело закончил картон. Сальвадоре, переплетчик, трудился накануне Нового года двое суток, склеивая листы воедино; теперь Арджиенто, Граначчи, Антонио да Сангалло и Микеланджело прикрепили картон к легкой раме и поставили его у задней стены. Мастерская была словно бы забита полусотней отчаявшихся, застигнутых бедой полуголых солдат. Тут был и цепенящий ужас, и страх неминуемой гибели, а рядом с этим прорывалось и брало верх мужество: внезапности катастрофы противостояло поспешное и точное действие. Граначчи стоял, завороженный бешеной силой этих людей, оказавшихся на грани жизни и смерти, и следил, как каждый из них выказывает в трагическую минуту свой характер и волю. Могущество графики Микеланджело его поразило. — Странно, очень, странно, — бормотал он. — Такой простей сюжет — а рождается великое искусство! — Микеланджело ничего не ответил приятелю; а Граначчи продолжал: — Тебе надо открыть двери мастерской для всех, пусть люди увидят, что ты создал. — Кое-кто уже ворчит по поводу того, что ты затворился, — добавил Антонио. — Даже в Обществе Горшка меня спрашивают, почему ты прячешься буквально ото всех. Теперь они могут посмотреть на это чудо, которое ты сотворил всего за три месяца, и тогда им станет все ясно. — Я хотел бы подождать еще три месяца, пока не напишу фрески в Большом зале, — хмуро сказал Микеланджело. — Но если вы оба считаете, что пора показать работу, я спорить не буду. Первым явился Рустичи. Поскольку это был близкий друг Леонардо, слова его имели особое значение. И он взвешивал их самым тщательным образом. — Главное в Леонардовом картоне — кони, у тебя же главное — люди. Такого великолепия, которое создал Леонардо, еще никогда не бывало во всей батальной живописи. И мир еще не видел такой разительной силы, с какой ты написал человека. Синьория получит чертовски прекрасную стену. Ридольфо Гирландайо — ему теперь было двадцать два года, и он обучался в мастерской Росселли — попросил разрешения срисовать картон. С бумагой и карандашами явился и девятнадцатилетний Андреа дель Сарто, недавно бросивший учение у ювелира и перешедший в живописную мастерскую Пьеро ди Козимо. Двадцатичетырехлетнего племянника, обучавшегося у Перуджино, привел Антонио Сангалло. Вместе с Таддео Таддеи, тем самым, который заказал Микеланджело второе тондо, пришел Рафаэль Санцио, юноша двадцати одного года, тожебывший ученик Перуджино. Рафаэль Санцио понравился Микеланджело с первого взгляда. У молодого человека было выразительное патрицианское лицо с большими нежными и внимательными глазами, полные, твердого очерка, губы, длинные, пышные, красиво расчесанные волосы — та же изысканность, что и у Леонардо, проступала в этом лице, и вместе с тем, несмотря на молочную белизну кожи, оно было мужественно. Держался юноша с видом неподдельной сердечности. В сильных и красивых чертах его лица чувствовалась уверенность, но не было и тени высокомерия. Одет он был с таким же изяществом, как и Леонардо — белая рубашка с кружевным воротником, яркий цветной плащ, со вкусом выбранный берет, но никаких драгоценных украшений или запаха духов. Красота юноши, спокойная его манера говорить, его богатое платье не вызывали у Микеланджело ощущения собственной уродливости и ничтожества, какое он всегда испытывал при встречах с Леонардо. Рафаэль принялся сосредоточенно рассматривать картон и умолкнул почти на весь вечер. Лишь когда уже стало темно, он подошел к Микеланджело и без малейшего оттенка лести произнес: — Ваша работа заставляет взглянуть на живопись совсем по-иному. Мне придется начать все-все заново. Даже того, что я усвоил у Леонардо, сейчас будет мне мало. В глазах его, обращенных к Микеланджело, был не столько восторг, сколько недоумение, словно бы он хотел сказать, что все, увиденное им, создано не руками Микеланджело, а какой-то сторонней, внешней силой. Рафаэль спросил, может ли он принести сюда свои инструменты из мастерской Перуджино и поработать у картона. Совсем покинул Перуджино и юный Себастьяно да Сангалло — он погрузился в изучение Микеланджеловых воинов, штудируя их движения, формы, мускулатуру, одновременно он, с большими для себя муками, набрасывал трактат, в котором разбирался вопрос о том, почему Микеланджело избрал для своих фигур столь трудные ракурсы и положения. Отнюдь не желая того, а может, и желая, Микеланджело увидел, что он возглавляет целую школу молодых одаренных художников. Неожиданно навестил мастерскую Аньоло Дони — теперь он усиленно распространял слух, что именно под его влиянием Микеланджело встал на путь художника-живописца. Разве Микеланджело не твердил постоянно, что он непричастен к живописи? И разве не он, Дони, в свое время понял, что только его вера в талант Микеланджело побудит скульптора встать на путь живописца, суля ослепительные успехи? Басня выглядела правдоподобно. И поскольку кое-кто принял ее за чистую монету, Дони становился одним из признанных знатоков искусства во Флоренции. Теперь, явившись в палату при больнице Красильщиков, он предложил Микеланджело, чтобы тот написал его портрет, а также портрет его жены. — Этот заказ, — горделиво добавил он, — сделает тебя портретистом. Самоуверенность Дони забавляла Микеланджело. Но по существу купец был прав. Действительно, он втянул Микеланджело в работу над «Святым Семейством». И если бы Микеланджело не почувствовал тогда вкуса к кистям и краскам, он до сих пор считал бы живопись чуждой для себя, отвергая всякую возможность к ней приобщиться. Но к портретам он пока не имеет отношения! Как раз в эту минуту в мастерской появился Рафаэль. И Микеланджело сказал Дони: — Портреты напишет тебе Рафаэль — в них будет и очарование и сходство. И так как он художник начинающий, ты сможешь заполучить его по дешевке. — А ты уверен, что его работа будет соответствовать высокому художественному уровню моей коллекции? — Я ручаюсь за это.В конце января в мастерскую Микеланджело при больнице Красильщиков пришел Перуджино — его привели сюда восхищенные отзывы Рафаэля. Далеко уже не молодой — старше Микеланджело на двадцать пять лет, — он ступал по-медвежьи, переваливаясь с боку на бок, как истый житель деревни, на лице его темнели глубокие морщины — след многолетних лишений, голода и нужды. Когда-то он учился в мастерской Верроккио, а впоследствии развил труднейшую технику перспективы, продолжив дело Паоло Учелло. Микеланджело встретил его очень приветливо. Перуджино стал спиной к окнам и на несколько минут замер в молчании. Потом краем глаза Микеланджело увидел, как он медленно подходит к картону. Лицо у него, будто обуглившись, потемнело еще больше, взор горел, губы дрожали; казалось, он силится и не может произнести какое-то слово. Микеланджело поспешно подставил ему стул. — Присядьте, пожалуйста… Сейчас я вам дам воды. Перуджино резким движением оттолкнул от себя стул: — …Черт побери!.. Микеланджело смотрел на него в изумлении. Прижимая жесткие, негнущиеся пальцы левой руки к сердцу, Перуджино обвел взглядом картон. — Только дай дикому зверю кисть, и он намалюет то же самое. Ты разрушаешь все, все, на что мы потратили жизнь! У Микеланджело стеснило грудь, он пробормотал: — Почему вы говорите такие вещи, Перуджино? Мне очень нравятся ваши работы… — Мои работы! Как ты смеешь говорить о моих работах, когда вот тут… такая непристойность! В моих работах есть мера, вкус, приличие! Если мои работы — живопись, то у тебя — разврат, разврат в каждом дюйме! Похолодев как лед, Микеланджело спросил: — Что по-вашему, плохо — техника, рисунок, композиция? — Да есть ли у тебя хоть какое-то представление о технике в рисунке? — воскликнул Перуджино. — Тебя надо засадить в тюрьму Стинке — там тебе не дадут портить искусство, созданное порядочными людьми! — Почему вы не считаете меня порядочным? Только потому, что я изображаю обнаженное тело? Потому, что это… ново? — Брось рассуждать о новизне! Я сам внес в искусство не меньше нового, чем любой художник Италии. — Вы сделали много. Но развитие живописи не остановится вместе с вами. Каждый настоящий художник творит искусство заново. — Ты тянешь искусство к тем временам, когда не было ни цивилизации, ни Господа Бога. — Нечто подобное говорил Савонарола. — Тебе не удастся поместить свою бесстыдную мазню на стенах Синьории, не надейся. Я подниму против этого всех художников Флоренции. И, хлопнув дверью, он вышел из мастерской, — ступал он жестко, тяжело, голова его на недвижной шее плыла высоко и гордо. Микеланджело поднял с пола стул и сел на него, весь дрожа. Арджиенто, скрывшийся в дальнем углу, подошел к нему с чашкой воды. Обмакнув в нее пальцы, Микеланджело провел ими по своему воспаленному лицу. Он не в силах был понять, что же произошло. Что Перуджино мог не понравиться его картон, это было понятно. Но наброситься с такой яростью, угрожать ему тюрьмой… требовать уничтожения картона… Конечно же, он не такой безумец, чтобы пойти с жалобой в Синьорию?.. Микеланджело встал, отвернулся от картона, затворил двери палаты и тихонько побрел, опустив глаза, по булыжным улицам Флоренции к своему дому. Сам не замечая того, он оказался у себя в мастерской. Мало-помалу ему стало лучше, отвратительная тошнота проходила. Он взял в руки молоток и резец и начал рубить сияющий мрамор тондо Таддеи. Ему хотелось теперь уйти от изваяния, сделанного для Питти, и создать в этом мраморе нечто противоположное — пусть это будет полная грации, жизнерадостная мать и жизнерадостное, игривое дитя. Он изваял Марию в глубине, на втором плане, с тем чтобы младенец занял центральное место, раскинувшись на материнских коленях по диагонали тондо; озорной Иоанн протягивал ему в своей пухлой ручонке щегла, а младенец увертывался. Микеланджело выбрал емкий, удобный для работы блок. Действуя тяжелым, грубым шпунтом, он вырубал фон, стараясь передать ощущение иерусалимской пустыни, — белые осколки камня летели, едва не задевая ему голову, клык троянки счастливо входил в глубину, срезая слой за слоем и придавая блоку форму чуть вогнутого блюда, фигуры Марии и Иоанна обрамляли это блюдо по краям, а вытянувшийся вдоль овала Иисус и разделял и связывал Богоматерь и Иоанна — прямого соприкосновения с фоном у фигур не было, они как бы двигались в пространстве при малейшей перемене освещения. Ноздри Микеланджело втягивали дымный запах мраморной пыли, и запах этот казался сладким, будто сахар, положенный на язык. Каким он был глупцом! Ему ни за что не надо было бросать скульптуру. Дверь отворилась. Тихо вошел Рафаэль и стал рядом с Микеланджело. Это земляк Перуджино. Зачем он явился? — Я пришел извиниться за своего друга и учителя. У него был сердечный приступ, сейчас ему очень плохо… Микеланджело взглянул в красноречивые глаза Рафаэля. — Почему он набросился на меня? — Может быть, потому, что вот уже много лет он… он подражает самому себе. Разве он в состоянии думать о какой-то ломке, об изменении своей манеры, когда он знаменит во всей Италии и его так любят и здесь, во Флоренции, и на родине, в Перуджии, и даже в Риме? — Я боготворил его работу в Сикстинской капелле. — Так как же вы не понимаете? Глядя на «Купальщиков», он испытывал то же чувство, что и я: перед ним была совершенно новая живопись, новый мир, в который надо еще войти. Для меня это вызов. У меня открылись глаза, я понял, что искусство еще более прекрасно, чем мне казалось. Но я молод, мне нет и двадцати двух лет. Жизнь моя еще вся впереди. А Перуджино пятьдесят пять, он уже никогда не начнет заново. После вашей живописи его искусство становится старомодным. — Рафаэль смолк и тяжело вздохнул. — От этого кто угодно заболеет… — Я очень тронут тем, что ты пришел сюда, Рафаэль. — Так будьте же великодушны. Проявите доброту и не обращайте внимания на его нападки. А это будет вам нелегко. Он уже сходил в Синьорию, черня там вашу работу, он созывает сегодня художников на вечер в Общество Горшка — и все за вашей спиной. Микеланджело был в ужасе. — Но если он начал против меня войну, я должен защищаться! — А надо ли, по сути, вам защищаться? Ведь во Флоренции все молодые художники и так на вашей стороне. Пусть Перуджино шумит, сколько хочет, скоро он устанет, присмиреет, и все рассеется само собою. — Хорошо, Рафаэль, я буду отмалчиваться. Но исполнять это обещание ему становилось все труднее. Перуджино предпринял против него настоящий крестовый поход. Шли дни, недели, и ярость его не утихала, а разгоралась все больше. Он уже жаловался на Микеланджело не только Синьории, но и попечителям Собора и цеху шерстяников. К февралю Микеланджело убедился, что враждебные происки Перуджино не столь уж тщетны: вокруг него образовался небольшой кружок сообщников, самым горластым из которых был Баччио Бандинелли, семнадцатилетний скульптор, сын влиятельнейшего во Флоренции золотых дел мастера. Там же подвизался кое-кто из друзей Леонардо. Микеланджело выпытывал, что думает по этому поводу Граначчи. Тот старался хранить свое обычное спокойствие. — Эти люди поддерживают Перуджино по разным причинам. Одни были недовольны тем, что ты, скульптор, взял заказ на живопись. Других раздражает сам картон. Если бы он у тебя вышел обыкновенным, посредственным, тогда, я думаю, никто бы не волновался. — Значит, это… ревность? — Зависть, скорей. То же чувство, какое ты питаешь к Леонардо. Выходит, тебе нетрудно понять их. Микеланджело вздрогнул. Никто, кроме Граначчи, не дерзнул бы сказать ему такую вещь, и никто, кроме Граначчи, не знал, насколько это справедливо. — Я обещал Рафаэлю молчать и ничем не вредить Перуджино. Но теперь мне придется дать ему сдачи. — Ты просто обязан. Он поносит тебя всюду — на улицах, в церкви… Прежде чем перейти в наступление, Микеланджело осмотрел все, что создал Перуджино во Флоренции, — памятное ему с детства «Оплакивание» в церкви Санта Кроче, триптих в монастыре Джезуати, фреску в Сан Доменико во Фьезоле. Закончил он свой обход алтарем в церкви Сантиссима Аннунциата, для которого Перуджино написал «Успение Богородицы». Микеланджело увидел, что в ранних своих работах старый художник мастерски владел линией, с блеском применял ясные, светлые тона, очень привлекательны были его пейзажи. Но все последние картины Перуджино показались ему плоскими, слишком декоративными, лишенными силы и проникновенности. В первое же воскресенье он пошел на обед в Общество Горшка. Как только он переступил порог мастерской Рустичи, смех и шутки среди художников сразу оборвались и наступила напряженная тишина. — Что же вы все отводите глаза и молчите, — с горечью сказал Микеланджело. — Я не начинал этой ссоры. Я и не помышлял о ней. — Верно, — отозвалось в ответ несколько голосов. — Я не приглашал Перуджино к себе в палату Красильщиков. Он сам пришел, а потом набросился на меня и наговорил бог знает каких слов. Ни от кого ни разу я не слыхал ничего подобного. И я долго не обращал внимания на его козни, — вы это прекрасно знаете. — Мы не виним тебя, Микеланджело. В этот момент в мастерскую вошел Перуджино. Микеланджело молча смотрел на него минуту, а затем сказал: — Когда твое дело в опасности, приходится обороняться. Я только что осмотрел все работы Перуджино, какие есть во Флоренции. И я понял, почему он хочет меня уничтожить. Для того, чтобы защитить себя. В комнате воцарилось тягостное молчание. — Я могу доказать это, — продолжал Микеланджело, — взяв любую его картину, одну за другой, фигуру за фигурой… — Только не в моем доме, — прервал его Рустичи. — Я объявляю перемирие. Сторона, которая его нарушит, будет изгнана отсюда силой. Перемирие длилось до утра: назавтра Микеланджело узнал, что Перуджино, разозленный речами Микеланджело в Обществе Горшка, обратился к Синьории и потребовал публично рассмотреть вопрос о непристойности «Купальщиков». Если Синьория встанет на сторону Перуджино, это будет означать отмену заказа на фреску. Микеланджело оставалось пока лишь жестоко злословить. Перуджино, говорил он каждому встречному, истощил свой талант. Его нынешнее работы старомодны, фигуры у него мертвы, анатомии он словно бы и не изучал, все, что он делает теперь, — только перепевы прежнего. Посыльный вызвал Микеланджело в Синьорию: Перуджино обвинял его в клевете. Он предъявил Микеланджело иск за ущерб, нанесенный его репутации, за подрыв веры в его профессиональное мастерство. В назначенный час Микеланджело стоял в приемной Содерини. Перуджино явился туда еще раньше, выглядел он усталым и очень постаревшим. Содерини, бледный, сдержанный, даже не взглянул на Микеланджело, когда тот вошел в палату. За широким столом по обе стороны от гонфалоньера сидели его коллеги. Начав опрос с Перуджино, он быстро установил, что именно тот первый стал бранить Микеланджело и что поводов для этого не было никаких, кроме неблагоприятного впечатления от картона. Потом Содерини спросил Микеланджело, не бранил ли и он за что-нибудь Перуджино. Микеланджело признался, что бранил, но вместе с тем настаивал, что делал это, лишь обороняясь от Перуджино. Задав несколько вопросов со своей стороны, сидевшие за столом члены Синьории кивнули гонфалоньеру, и тот сказал опечаленным тоном: — Перуджино, ты действовал неправильно. Ты накинулся на Микеланджело без всякой причины. Ты без основания пытался нанести ему и его работе ущерб. Микеланджело, ты поступил неверно, публично унижая и черня талант Перуджино, даже если ты действовал так, защищая свои интересы. Вы оба оскорбили друг друга, но Синьория озабочена не столько этим обстоятельством, сколько тем, что вы нанесли ущерб Флоренции. Наш город славен на весь мир как столица искусств, и, пока я занимаю пост гонфалоньера, мы будем прилагать все старания, чтобы оправдать такую славу. Мы не можем позволить нашим художникам затевать ссоры, которые наносят нам вред. Поэтому Синьория приказывает, чтобы вы извинились друг перед другом и покончили со взаимными оскорблениями, чтобы вы тотчас принялись за работу, в которой Флоренция черпает свою славу. Дело по обвинению Микеланджело Буонарроти в клевете прекращается. Микеланджело побрел к больнице Красильщиков один, совсем занемогший от потрясения. Его оправдали, но на сердце у него было горько и пусто.
15
Именно в эти дни пришел вызов от Джулиано да Сангалло: папа Юлий Второй желал, чтобы Микеланджело немедленно приехал в Рим, и даже отпустил ему сто флоринов на дорожные расходы. Время для отъезда было самое неудобное: Микеланджело знал, что переводить картон на стену в Синьории надо как можно скорее, пока будущая фреска еще не померкла в его воображении и пока всему делу не угрожала извне какая-либо новая беда. Помимо того, Микеланджело должен был ваять апостола Матфея, ибо он жил в своем новом доме уже немалый срок и пора было подумать о плате. И все же ему страшно хотелось поехать, узнать, что на уме у Юлия Второго, получить один из тех грандиозных заказов, какие могут предложить только папы. Прежнее ощущение всеобщего благожелательства, с которым он работал последние пять лет, было разбито стычкой с Перуджино. Он уведомил о своем вызове в Рим гонфалоньера Содерини. Содерини долго вглядывался Микеланджело в лицо — Микеланджело эти минуты показались бесконечными — и только потом сказал: — Никто не может отказать папе. Если Юлий говорит: «Приезжай», — ты должен ехать. Дружба с папой — очень важное обстоятельство для Флоренции. — А мой новый дом… и два договора? — Мы будем считать эти договоры временно отложенными, пока тебе не будет ясно, чего хочет от тебя святой отец. Но, помни, договоры надо уважать! — Понимаю, гонфалоньер. Микеланджело пошел во Фьезоле повидать Контессину — у нее недавно умер при родах ребенок. Он спросил, можно ли поговорить в Риме с кардиналом Джованни от ее имени. — Но я больше не Медичи, а Ридольфи. — Все же он остается твоим братом… Темные глаза, занимавшие, казалось, все ее лицо, с любовью остановились на нем. — Ты очень мил, саrо. — Что передать Джованни? Ее лицо чуть заметно дрогнуло. — Скажи его преосвященству, что, надеюсь, он чувствует себя в Риме прекрасно.Стоило Микеланджело миновать Народные ворота, как он заметил разительные перемены в городе. Улицы были чисто вымыты. Несколько зловонных в прошлом площадей замощены битым камнем. Не стало зияющих проломами стен и пустых домов, их снесли, сильно расширив проезжую часть улиц. Была обновлена мостовая на Виа Рипетта, свиной рынок на Римском форуме закрыт. Возводилось множество новых зданий. Сангалло со всей семьей жил неподалеку от площади Скоссакавалли в одном из многих дворцов папы Юлия Второго — дворец этот был довольно сурового обличья, но с обширным двором, обнесенным восьмигранными колоннами. Когда слуга в ливрее пропустил Микеланджело внутрь, тот увидел на стенах множество фламандских ковров, дорогие сосуды из золота и серебра, картины и античные статуи. Во дворце было полно людей. Большая музыкальная комната, выходящая окнами во двор, была превращена в чертежную. Здесь работало с десяток молодых архитекторов, учеников Сангалло, трудясь над планами по расширению площадей, по постройке мостов через Тибр, по возведению новых академий, больниц, церквей: все это первоначально было замышлено Сикстом Четвертым, построившим Сикстинскую капеллу, но оставлено в небрежении Александром Шестым, а теперь возобновлено даже с большим размахом Юлием, племянником Сикста. Сангалло словно бы помолодел лет на двадцать — таким бодрым его Микеланджело даже и не помнил. Восточные его усы были укорочены до европейской меры, безупречно подстриженные волосы аккуратно причесаны, платье сшито из лучших тканей — всем своим видом он как бы говорил, что достиг всего, к чему стремился. Хозяин провел Микеланджело вверх по широкой мраморной лестнице в семейные покои, где приезжего обняли и расцеловали синьора Сангалло и юный Франческо. — Сколько месяцев я жаждал увидеть тебя в Риме! Теперь, когда заказ уже подготовлен, святой отец горит нетерпеньем поговорить с тобой. Я сейчас же иду во дворец папы и буду просить аудиенции на завтрашнее утро. Микеланджело присел на хрупкий античный стульчик, который заскрипел под ним. — К чему такая спешка? — запротестовал он. — Ведь я еще и не знаю, какое изваяние требуется папе! Сангалло подвинул второй хрупкий стульчик, сел напротив Микеланджело, касаясь своими коленями его колен и весь трепеща от волнения. — …надгробье. Великая гробница. Величайшая гробница, каких не бывало на свете. — Гробница… — охнул Микеланджело. — Упаси Господь! — Постой, ты не понял. Эта гробница будет громаднее, чем надгробье Мавзола или Азиния Поллиона, величественнее могил Августа и Адриана… — Августа… Адриана… Это гигантские сооружения! — Гигантское будет и у тебя. Не по архитектурным масштабам, а по скульптуре. Святой отец хочет, чтобы ты высек столько грандиозных изваяний, сколько замыслишь, — десять, двадцать, тридцать! Ведь после Фидия с его фризом Парфенона ты будешь первым скульптором, который поставит столько статуй вместе. Ты только вдумайся, Микеланджело, — тридцать «Давидов» на одном надгробье! Подобной возможности не было ни у одного мастера. Благодаря такой работе ты будешь первым ваятелем в мире. Еще не в силах осмыслить всего того, что говорил ему Сангалло, Микеланджело тупо бормотал: — Тридцать «Давидов»! И что будет делать папа с тридцатью «Давидами»? Сангалло расхохотался. — Я вижу, ты ошеломлен. И ничего удивительного. Я тоже был ошеломлен, видя, как разросся весь план в воображении святого отца. Он хочет, чтобы статуи размером были не меньше, чем твой «Давид». — Чья же это мысль — эта гробница? Сангалло на миг замялся. — Чья мысль? Да она родилась у нас обоих. Однажды папа заговорил об античных саркофагах, а я воспользовался этим и сказал, что его гробница должна быть самой величественной на свете. Папские гробницы, возразил он, надо строить только после смерти пап, но я убедил его, что дело такой важности не следует отдавать в небрежные руки потомков и что лишь в том случае, если будет учтено собственное тончайшее суждение папы, можно надеяться на достойный его памяти монумент. Святой отец мгновенно ухватился за мои слова… А теперь мне надо идти в Ватикан. Микеланджело шел к Борго Веккио и дальше, к мосту Святого Ангела, пересек его и по знакомой Виа Канале направился к Виа Флорида. Каждый шаг переносил его в те давние дни, когда он впервые приехал в Рим, и навевал то приятные, то мучительные воспоминания. Он опомнился, оказавшись лишь у дома Якопо Галли. В доме чувствовалось странное затишье. Стучась в дверь, Микеланджело с горечью подумал, что уже несколько месяцев он не получал от Галли никаких вестей. Ему пришлось долго ждать в гостиной, показавшейся почти нежилой: спертый воздух, пыль, ни признака книг и рукописей, которые обычно разбрасывал в беспорядке вокруг себя Галли. Когда вошла синьора Галли, Микеланджело был поражен ее болезненным видом, бледностью и желтизной лица, утратившего остатки прежней красоты. — Что случилось, синьора? — Якопо в безнадежном положении. Уже давно не встает с постели. — Что же с ним такое? — Прошлой зимой он простудился. И теперь у него плохо с легкими. Доктор Липпи не раз приводил к нам своих коллег, но они тоже ничем не могли помочь. Микеланджело отвернулся, глотая слезы. — Можно мне повидать его? У меня хорошие новости. — Это, наверно, подбодрит его. Но предупреждаю: ни одного слова сочувствия, вообще ни слова о болезни. Говорите с ним только о скульптуре. Якопо Галли лежал, закутанный теплыми одеялами, его исхудавшее тело казалось совсем плоским. Лицо высохло, глаза страшно ввалились. Сейчас в них затеплилась радость. — Ах, Микеланджело! — воскликнул Галли. — Я слышал чудесные отзывы о вашем «Давиде»! Микеланджело покраснел, смущенно опустив голову. — Обилие благ порождает гордость, — сказал Галли. — Я счастлив убедиться, что вы остались таким же скромным, каким и были. — Не надо запрягать осла в расшитую сбрую, — ответил Микеланджело тосканским присловьем, неловко улыбнувшись. — Поскольку вы в Риме, это означает, что вы получили заказ. От папы? — От папы! Заказ устроил мне Джулиано да Сангалло. — Что же вы намерены изваять для его святейшества? — Громадную гробницу, со множеством мраморов. — Громадную гробницу? — в глазах Галли заиграла лукавая искорка. — И это после «Давида», которым вы открыли для скульпторов новый мир? Гробница! Ведь вы же самый ярый ненавистник гробниц во всей Италии… — Но эта гробница — совсем другое дело: она будет как бы подножием для статуй, и я вправе высечь их сколько хочу. — Значит, их будет совсем немного! Нет ли оттенка насмешки в голосе Галли? Микеланджело не мог бы сказать определенно, так это или нет. Он спросил: — Разве на его святейшество нельзя положиться? Ведь именно он хлопотал об украшении Систины… — На него можно положиться, если только вы не будете излишне одухотворять свои статуи и не вызовете его гнева. В ярости он совершенно не владеет собой. Это воинственный папа, но честный и порядочный: он уже принял новый устав, уничтожающий симонию. Те скандальные истории, которые позорили Борджиа, с этим папой не случатся. Но войн будет гораздо больше. Юлий стремится создать армию, он хочет сам командовать ею и вновь захватить все земли в Италии, некогда принадлежавшие церкви. — Ты должен беречь силы, саrо, — вмешалась синьора Галли. — Микеланджело скоро узнает все это и сам. Якопо Галли откинулся на подушку. — Разумеется, узнает. Но вам, Микеланджело, надо помнить, что опекун и наставник ваш в Риме пока еще я. Позвольте мне составить вам договор с папой. Так будет лучше. — Без вас я не сделаю ни шагу. В этот вечер у Сангалло собрались гости: прелаты церкви, богатые банкиры и купцы — часть из них Микеланджело знал по дому Галли, со многими встречался в колонии флорентинцев. С криком радости бросился к Микеланджело Бальдуччи — и они тут же условились пообедать завтра в Тосканской траттории. Сотни свеч в высоких канделябрах ярко освещали дворец. Слуги, одетые в одинаковые ливреи, обносили гостей закусками, вином и сладостями. Все оказывали семейству Сангалло знаки почтения: это был успех, которого архитектор дожидался целых пятнадцать лет. Среди гостей был даже Браманте. За пять лет с того дня, как Микеланджело видел его в последний раз, Браманте совсем не постарел: те же кудри на затылке лысого черепа, те же усмешливые бледно-зеленые глаза, бычья шея, плечи и грудь по-прежнему, будто у борца, бугрились мускулами. У Микеланджело было такое впечатление, что Браманте совсем не помнил их спора во дворике дворца кардинала Риарио. Если Браманте и был недоволен поворотом судьбы, который вознес Сангалло на пост архитектора Рима, то в его поведении и манерах это ничуть не проскальзывало. Когда удалился последний гость, Сангалло объяснил: — Это не званый ужин. Просто к нам заглянули наши друзья. Так бывает каждый вечер. Времена сильно изменились — не правда ли? Хотя Юлий Второй гневался при любом упоминании имени Борджиа, ему пришлось занять палаты Александра Шестого, потому что его собственные апартаменты еще не были готовы. Пока Сангалло вел Микеланджело по первым залам этих палат, тот оглядывал золоченые плафоны, шелковые занавеси и восточные ковры, многоцветные настенные пейзажи Пинтуриккио, огромный трон с расставленными вокруг него креслами и бархатными кушетками. Затем шли два приемных зала, размером поменьше, с широкими окнами, за которыми виднелись зеленые сады, апельсинные рощи и кроны сосен, раскинувшиеся вплоть до Монте Марио. На высоком, затянутом пурпуром троне сидел папа Юлий Второй, подле него находились его личный секретарь Сиджизмондо де Конти, два церемониймейстера, Пари де Грасси и Иоганнес Бурхард, несколько кардиналов и архиепископов в полном облачении, два-три господина, казавшихся иностранными посланниками, — все они ждали очереди молвить слово папе, в то время как тот, никем не прерываемый, говорил и говорил, изрекая свои определения, приговоры и точнейшие указы. Микеланджело напряженно вглядывался: перед ним был шестидесятидвухлетний старик, бывший кардинал Джулиано делла Ровере, — когда двенадцать лет назад Борджиа путем подкупа занял папский трон, победив таким образом Ровере, последний нашел в себе отвагу выпустить воззвание, требуя созыва собора, чтобы согнать с престола «этого поддельного первосвященника, предателя церкви». Такой шаг вынудил его удалиться на десять лет в изгнание во Францию, вследствие чего Сангалло пришлось брать подряды на ремонт церковных потолков и кровель. Это был первый папа, носивший бороду: от воздержанного, строгого образа жизни он был худощав, даже тощ, когда-то красивое, с сильными и крупными чертами лицо его ныне изрезали глубокие морщины, в бороде виднелись белые полосы седины. Прежде всего и острее всего Микеланджело ощутил неуемную энергию папы, ту «огненную пылкость», о которой Сангалло толковал на пути во дворец и которая, как эхо, словно бы колотилась теперь о стены и потолок зала. «Вот человек, — думал Микеланджело, — так много лет готовившийся стать папой; он будет стараться исполнить за один день столько же дел, сколько его предшественникам хватало на месяц». Папа Юлий Второй поднял взор и, заметив у двери Сангалло и Микеланджело, поманил их рукой. Сангалло опустился на колени, поцеловал перстень на руке папы, потом представил ему Микеланджело, который тоже встал на колени и поцеловал перстень папы. — Кто твой отец? — Лодовико Буонарроти Симони. — Это старинная флорентинская фамилия, — пояснил Сангалло. — Я видел твое «Оплакивание» в храме Святого Петра. Именно там я хотел бы воздвигнуть себе гробницу. — Не могли бы вы, ваше святейшество, сказать, где именно в храме Святого Петра? — Посредине, — холодно ответил Юлий. Микеланджело почувствовал, что в своем вопросе он перешел какие-то границы, сказал что-то лишнее, а нрав у папы был явно прямой и горячий. И его манера обращения пришлась Микеланджело по душе. — Я изучу храм самым тщательным образом. Не выразите ли вы, святой отец, каких-либо желаний насчет самой гробницы? — Это уж твоя забота — сделать мне, что я хочу. — Бесспорно. Но я должен положить в основу всего желания вашего святейшества. Такой ответ понравился Юлию. Он начал говорить грубоватым и резким своим тоном — и о соображениях исторического порядки, и об интересах церкви в связи с будущей гробницей. Микеланджело слушал, напрягая все свое внимание. И тут Юлий сказал такое, от чего Микеланджело пришел в ужас. — Я хочу, чтобы ты сделал бронзовый фриз, охватывающий надгробье со всех сторон. Бронза — это лучший материал для повествования. В бронзе ты можешь рассказать о наиважнейших событиях моей жизни. Микеланджело стиснул зубы и, скрывая выражение своего лица, низко опустил голову. Мысленно он воскликнул: «Пусть повествуют те, кто поет баллады!»
16
Дождавшись, когда разойдутся все ученики, Микеланджело присел у чертежного стола в комнате Сангалло, бывшей музыкальной. В доме было тихо. Сангалло положил перед ним альбомы, которыми они пользовались для зарисовок Рима семь лет назад. — Скажи мне, Сангалло, прав ли я, — спрашивал Микеланджело. — По-моему, папа хочет, во-первых, такую гробницу, к которой был бы доступ со всех сторон. Во-вторых, он хочет, чтобы гробница говорила, как он прославил и возвысил церковь. — …и заново насадил в Риме искусство, поэзию и ученость. Смотри, вот мой архив с изображениями классических надгробий. Вот одно из главнейших — Мавзола, построенное в триста шестидесятом году до Рождества Христова. А здесь мои рисунки могил Августа и Адриана, сделанные по описаниям историков. Микеланджело вгляделся в рисунки. — Сангалло, во всех этих случаях скульптура была только украшением архитектуры, орнаментировала фасад. А в моем надгробии архитектура будет служить лишь подножием для скульптуры. Сангалло расправил свои усы, видимо удивляясь, какими короткими она стали. — Сначала подумай о прочности архитектуры, иначе твои мраморы свалятся. Потом он извинился и вышел. Микеланджело остался один, погрузившись в разглядывание рисунков: все аллегорические фигуры, статуи богов и богинь были тут придавлены, стеснены архитектурными массами. Нет, он построит гробницу не столь уж грандиозную, но пусть эту гробницу теснят и подавляют его изваяния! Брезжил уже рассвет, когда он сложил свои карандаши и угли. Хмурое мартовское утро красило чертежную серым цветом, будто в ней оседал редкий дым. В комнате, смежной со спальней юного Франческо, он отыскал свою кровать и лег, закутавшись в холодные, как лед, простыни. Он спал всего два-три часа, но проснулся свежим и сразу пошел в храм Святого Петра. Оказалось, что все здание храма было укреплено подпорами, и это наполнило сердце Микеланджело радостью. Скоро он уже входил в капеллу Королей Франции, направляясь к своему «Оплакиванию». Сильный утренний свет, струившийся из высоких окон на противоположной стене, заливал лица Марии и Иисуса. Мрамор был мучительно живым. С поразительной ясностью пробежали в душе Микеланджело обрывки воспоминаний, когда он кончиками пальцев коснулся статуи — прекрасно отполированный мрамор казался теплым, пульсирующим. Как он работал тогда, чтобы добиться этого! Вот Микеланджело уже в самом центре базилики, у алтаря, под которым находилась могила Святого Петра. Именно здесь хотел Юлий Второй поместить свою гробницу. Микеланджело медленно прошел вдоль стен древнего кирпичного здания. Сотни мраморных и гранитных его колонн образовывали пять нефов, один из которых, главный, с голыми балками высокого кровельного перекрытия, был втрое шире остальных. И, однако, глядя на девяносто две старые папские могилы, Микеланджело недоумевал, где тут могло найтись место гробнице Юлия. Осмотрев базилику, Микеланджело заглянул к Лео Бальони, из разговора с которым узнал, что кардинал Риарио, хотя и не сделавшись папой, сохранил прежнее свое могущество и влияние, так как приходился Юлию двоюродным братом. Затем Микеланджело отправился во дворец кардинала Джованни де Медичи, стоявший близ Пантеона. Кардинал Джованни располнел еще больше. Косоглазие его стало заметнее. Он близко сошелся с кардиналом Ровере, когда они оба находились в изгнании. Теперь Ровере был папой Юлием Вторым, и Джованни извлекал из этой дружбы все возможные выгоды. Увидев Микеланджело, он искренне обрадовался и начал расспрашивать его о «Давиде». В комнату вошел Джулио, ставший уже взрослым мужчиной, — у него было не только имя, но и изящная внешность отца, брата Лоренцо, портреты которого Микеланджело видел когда-то во дворце Медичи. Впервые на памяти Микеланджело Джулио поздоровался с ним без враждебности. Что-то в нем сильно изменилось: теперь, когда Пьеро не было в живых, а главой рода стал кардинал Джованни, он уже не опасался, что его лишат прав и объявят чужаком. — Разрешит ли ваше преосвященство коснуться одной деликатной темы? — спросил Микеланджело. Кардинал Джованни, как и раньше, не любил деликатных тем — обычно они приносили только огорчения. Тем не менее он разрешил Микеланджело высказать, что тот хотел. — Речь идет о Контессине. Ей очень плохо жить в деревенском доме. И почти никто не решается ни навестить ее, ни помочь ей. — Мы обеспечиваем ее деньгами. — Если это возможно, ваше преосвященство, перевезите ее в Рим… в ее собственный дворец. На щеках Джованни медленно проступила краска. — Я тронут твоей преданностью нашему семейству. Ты можешь быть уверенным, что я думал об этом. — Нам нельзя обижать Совет Флоренции, — вмешался в разговор Джулио. — Мы только сейчас устанавливаем с Флоренцией дружественные отношения. Вот если нам удастся возвратить себе и дворец, и все владения Медичи… Кардинал Джованни остановил его легким взмахом руки. — Все это будет сделано в свое время. Спасибо тебе за посещение, Микеланджело. Прошу заглядывать к нам при первой возможности. Джулиано, который молча сидел в стороне, проводил его до двери. Убедившись, что его брат и кузен не смотрят на него, он горячо схватил Микеланджело за руку: — Приятно повидать тебя, Микеланджело. И как хорошо, что ты заступился за мою сестру. Скоро, надеюсь, мы все будем вместе. Микеланджело пошел в гостиницу «Медведь» и снял там комнату, напротив той, в которой когда-то жил; в этом уединенном пристанище, с окнами на Тибр и замок Святого Ангела, было тихо и спокойно, и никто здесь, в отличие от дворца Сангалло, ему не докучал. Затем наступил черед встретиться с Бальдуччи в Тосканской траттории. Сам того не замечая, Микеланджело попал в старую, наезженную жизненную колею. Позади у него было великолепное торжество — «Давид», было народное признание. Он уже обзавелся своим собственным домом, своей мастерской. И, однако, когда он брел по грубым, еще не слежавшимся булыжникам улиц, у него было странное ощущение, будто все остается, как прежде. Будто ничего, ничего не изменилось.Какой же можно измыслить монумент папе Юлию Второму? Глядя через окно на мутные воды Тибра, Микеланджело спрашивал себя: «А что хотел бы изваять я сам? Сколько бы высек на гробнице больших фигур, сколько фигур меньших? И как быть с аллегориями?» Само надгробье не слишком-то занимало его. Пусть оно будет пятнадцать с половиной аршин в длину, почти десять аршин в ширину и тринадцать аршин в высоту: первая, самая нижняя, ступень — пять с половиной аршин, вторая — она послужит подножием для гигантских фигур — около четырех аршин, третья, идущая на сужение, — три аршина. Читая Библию, взятую у Сангалло, Микеланджело нашел в ней персонаж, ничем не похожий на Давида, но тоже высившийся как вершина человеческих подвигов, как образец для всех людей. Если Давид олицетворял собою юность, то Моисей был символом мужественной зрелости. Моисей, вождь своего народа, законодатель, учредитель порядка, попирающего хаос, творец дисциплины, подавившей анархию, но сам человек далеко не совершенный, подвластный и гневу и слабостям. Это был идеал Лоренцо — получеловек, полубог, поборник гуманности: утвердив на века идею единого бога, он способствовал победе цивилизации. Это был герой, вызывающий чувство любви, пусть у него и были пороки… Моисей займет угол на первой ступени надгробья. Для противоположного угла Микеланджело замыслил фигуру апостола Павла — о нем он много думал, ваяя этого святого для алтаря Пикколомини. Павел — иудей по рождению, великолепно образованный, благовоспитанный римский гражданин и поклонник греческой культуры — тоже был на стороне закона. Он слышал голос, сказавший: «Я Иисус, которого ты гонишь», — и посвятил свою жизнь проповеди христианства в Греции и Малой Азии. Он заложил основание церкви на всем пространстве Римской империи. Два эти человека займут главенствующее место среди изваяний надгробья. Для остальных его углов он придумает столь же интересные фигуры — всего восемь статуй, массивных, больших, почти в три с половиной аршина высоты, если даже фигуры будут в сидячем положении. Поскольку все они будут одеты, он даст себе волю изваять и обнаженные тела, предназначив их для главной, средней ступени надгробья: по четыре Пленника на каждом углу гробницы — их плечи и головы окажутся выше тех колонн, на которые они будут опираться, — шестнадцать мужчин разного возраста, тяжелых и кряжистых, полных внутреннего духа, в корчах рабского плена, сокрушенных, умирающих. Волнение Микеланджело возрастало. Он тут же представил себе и фигуры Победителей — не знавших поражения, упорных, исполненных надежд, сражающихся, завоевывающих. Эта гробница будет по своим масштабам и размаху чем-то вроде «Купальщиков» — ее пронизает тот же дух героизма, выраженный в мраморных телах. Юлий просил отлить бронзовый фриз, и Микеланджело отольет ему фриз, но это будет узкая лента, самая незначащая часть сооружения. Истинным фризом явится гигантская вереница величественных обнаженных фигур, обступающих надгробье с четырех сторон. Он трудился как в лихорадке несколько недель, создавая один набросок за другим, — и с помощью китайской туши поток этих набросков рука закрепляла на бумаге. Папку с рисунками он понес показать Сангалло. — Его святейшество не захочет гробницы, где будут одни обнаженные мужчины, — сказал Сангалло, с усилием выдавливая улыбку. — Я раздумывал насчет четырех аллегорий. Это будут женские фигуры из Библии — Рахиль, Руфь, Лия… Сангалло внимательно разглядывал архитектурный план гробницы. — Знаешь, тебе придется сделать кое-где ниши. — Ох, Сангалло, никаких ниш! — Нет, придется. Святой отец все время спрашивает, что ты думаешь поставить в эти ниши. И вот если он увидит такой проект и не найдет в нем ни одной ниши на всю гробницу… Его святейшество — упорный человек: он добивается, чего хочет, или вы уходите от него ни с чем. — Ну, хорошо. Я спроектирую и ниши… между группами связанных Пленников, но я сделаю их высокими, аршина в три-четыре, и поставлю фигуры не в нишах, а перед ними, на изрядном расстоянии — Победителей, например, или женские фигуры. Тогда мы можем поместить ангелов вот здесь, на третьей ступени. — Чудесно. Теперь твоя мысль начинает работать в том же направлении, в каком она работает у папы. Если быстро возраставшая кипа набросков и эскизов все больше радовала Сангалло, то Якопо Галли относился к ней без всякого восторга. — Сколько же фигур будет у вас в конце концов? Где вы думаете работать — в какой мастерской, с какими помощниками? Кто будет ваять этих херувимов у ног Победителей? Помню, вы говорили, что вам плохо удаются младенцы, однако, я вижу, их предстоит вам высечь очень много… — Горящим взглядом своих ввалившихся глаз он ощупал лицо Микеланджело. — Выходит, эти ангелы будут как бы поддерживать саркофаг? Помните, как вы сетовали по поводу того, что приходится ваять ангелочков? — Но ведь это лишь грубые, черновые наброски, чтобы потрафить папе и получить его согласие. Он принес Сангалло еще один, самый последний эскиз. Пленники и Победители нижнего яруса помещались на платформе из мраморных блоков. Блоки эти были богато декорированы. На второй ступени, между Моисеем и Павлом, был поставлен небольшой, пирамидальной формы, украшенный арками храм, скрывающий саркофаг, над храмом возвышались два ангела. Фронтальнуюсторону надгробья Микеланджело разработал во всех деталях, а три других, согласно воле папы, оставил для изображения земель, которые Юлий захватил, а также для того, чтобы показать его покровителем искусств. Теперь Микеланджело считал, что он поместит на гробнице от тридцати до сорока больших скульптур, — места для чистой архитектуры, не мешающей изваяниям, оставалось сравнительно мало. От такого величавого замысла Сангалло пришел в восхищение. — Это колоссальный мавзолей. Именно об этом мечтал святой отец. Я сейчас же иду условиться с ним о встрече. Якопо Галли был в ярости. Несмотря на протесты синьоры Галли, он кликнул слугу и велел поднять себя — укутанный теплыми одеялами, он прошел в библиотеку и начал рассматривать рисунки Микеланджело на том самом античном столике, на котором тот написал когда-то свой сонет Александру Шестому. Вопреки недугу, гнев его прорвался и придал ему сил, на минуту Галли словно бы воспрянул и стал прежним могучим человеком. Голос его, совсем охрипший за время болезни, вдруг зазвучал ясно и чисто. — Даже Бреньо не пошел бы столь избитым путем. — Почему избитым? — горячо возразил Микеланджело. — Такой проект даст мне возможность высечь великолепные обнаженные фигуры, подобных которым вы еще не видали. — Я меньше всего сомневаюсь в этом! — воскликнул Галли. — Но чудесные статуи будут окружены таким морем посредственности, что они совсем потеряются. Бесконечные пояса декоративных колбасок, например… — Это не колбаски, а гирлянды. — Вы хотите высекать их сами? — …нет, скорей всего не сам… У меня будет и без того слишком много работы. — А этих ангелов вы тоже намерены делать сами? — Придется вылепить для них лишь глиняные модели. — А эту фигуру папы на вершине гробницы? Неужели и это чудовище вы будете высекать собственноручно? — Вы говорите со мной словно недруг! — вспыхнул Микеланджело. — Старый друг — это лучшее зеркало. Ну зачем вам понадобился бронзовый фриз, если вся гробница из мрамора? — Этого хочет папа. — А если папа захочет, чтобы вы встали вверх ногами на площади Навона во время карнавала и к тому же выкрасили себе ягодицы, — вы тоже будете слушать его? — Но тут Галли смягчился и сказал примирительно: — Caro mio, вы изваяете чудесную гробницу, но только, разумеется, не такую. Сколько статуй вы намерены сделать? — Около сорока. — Значит, вам придется отныне посвятить этой гробнице всю свою жизнь? — Это почему же? — А сколько времени вы работали над «Вакхом»? — Год. — А над «Оплакиванием»? — Два. — Над «Давидом»? — Три. — Простая арифметика гласит, что эти сорок фигур гробницы отнимут у нас не менее сорока лет, а может, и все сто. — Нет, нет, что вы! — возразил Микеланджело и добавил упрямо: — Я сейчас знаю свое ремесло. Я могу работать быстро. Как молния. — Быстро или хорошо? — И быстро и хорошо. Пожалуйста, не беспокойтесь, дорогой друг, у меня все будет в порядке. Якопо Галли бросил на него испытующий взгляд. — В порядке? Но об этом надо позаботиться. Он открыл потайной ящик стола и вынул оттуда пачку бумаг, перетянутую тонким кожаным шнурком, — поверх этой связки было нацарапано пером имя Микеланджело Буонарроти. — Вот здесь три договора, которые я составил: на «Оплакивание», на алтарь Пикколомини, на «Брюггскую Богоматерь». Берите перо, и мы выпишем самые важные статьи из этих договоров. Синьора Галли подошла к мужу и встала у него за плечом. — Доктор приказывал тебе не подниматься с постели. Ты должен беречь свои силы. Якопо взглянул на жену с застенчивой улыбкой и сказал: — А для чего их беречь? Это, может быть, последняя услуга, которую я могу оказать нашему юному другу. Совесть моя не будет спокойна, если я отпущу его, не сделав все, что можно. — И Галли опять углубился, в тексты договоров. — Так вот, насколько я знаю папу, он захочет, чтобы гробница была завершена немедленно. Выговаривайте себе срок в десять лет, а если можно, даже больше. Что касается оплаты, то он будет жестоко торговаться, потому что деньги ему нужны для финансирования войска. Не уступайте ему ни скудо, требуйте не меньше двадцати тысяч дукатов… Микеланджело торопливо водил пером, записывал под диктовку Галли пункты из старых договоров. Вдруг Якопо страшно побледнел и начал кашлять, вытирая губы краем одеяла. Слуги подняли его и перенесли в кровать. Стараясь скрыть от Микеланджело пятна крови, запачкавшие полотенце, Галли тихо сказал ему: «Прощайте», — и повернулся лицом к стене.
Когда Микеланджело вновь вошел в апартаменты Борджиа, он был неприятно поражен, увидев, как Браманте оживленно разговаривает с папой. Это уязвило Микеланджело. Почему Браманте здесь, в этот час, назначенный для просмотра рисунков к гробнице? Неужто и ему дан голос в решении этого дела? Микеланджело и Сангалло опустились на колени, папа встретил их очень милостиво. Камерарий поставил перед Юлием столик, папа взял из рук Микеланджело папку и с жадным интересом разложил рисунки перед собой. — Святой отец, если мне будет позволено объяснить… Папа внимательно слушал, затем с решительным видом пристукнул рукой по столу. — Это вышло еще величественнее, чем я мечтал. Ты весьма верно почувствовал мой дух. Что ты скажешь, Браманте? Пожалуй, это будет прекраснейший мавзолей в Риме? — Во всем христианском мире, святой отец, — ответил Браманте, уставя свои зеленые глаза на Микеланджело. — Буонарроти, Сангалло говорит, что ты хочешь выбирать мрамор сам и ехать в Каррару? — Да, святой отец. Мрамор лучше выбирать в таких каменоломнях, где можно быть уверенным, что получишь самые совершенные блоки. — Тогда выезжай немедленно. Аламанно Сальвиати выдаст тебе на закупку камня тысячу дукатов. Наступила минута тишины. Микеланджело спросил почтительно: — Ваше святейшество, а деньги за работу? Браманте поднял брови и так посмотрел на папу, что у Микеланджело было ощущение, будто он нашептывал: «Этот каменотес не считает для себя достаточной честью работать на папу Юлия Второго. Он хватается за работу из корысти». Папа подумал секунду, затем повелительно произнес: — Когда гробница будет завершена и мы будем ею довольны, папский казначей получит указание заплатить тебе десять тысяч дукатов. У Микеланджело пересохло в горле. Он так и слышал напряженный, резкий голос Галли: «Не уступайте ему ни скудо, требуйте не меньше двадцати тысяч дукатов, даже и это будет низкой ценой за работу, которая отнимет десять, а то и двадцать лет». Но как он может торговаться со святым отцом? Требовать вдвое больше того, что предлагает папа? В особенности сейчас, когда рядом стоит Браманте с этой ухмылкой на губах. Тысячи дукатов, которую теперь отпускает папа, едва хватит на оплату больших мраморов и на перевозку их в Рим. И все же Микеланджело хотел получить эти мраморы! Первым и главным его побуждением была жажда ваять. Он бросил молниеносный взгляд на Браманте. — Вы очень великодушны, святой отец. Но могу я спросить вас о сроках работы? Если бы вы дали мне, как минимум, десять лет… — Немыслимо! — загремел Юлий. — Ведь самая заветная моя мечта — увидеть гробницу готовой. Я даю тебе пять лет. Микеланджело почувствовал на сердце холод и свинцовую тяжесть — так бывало, когда под его резцом по несчастной случайности обламывался кусок мрамора. Сорок мраморных статуй за пять лет! Восемь статуй в год! Один только Моисей потребует не меньше года работы. А Пленники и Победители — на каждую статую, чтобы довести ее до конца, придется затратить месяцев шесть, а то и год, не говоря уже об апостоле Павле… В нем заговорило то же упрямство, с каким он оспаривал Галли, и Микеланджело стиснул зубы. Если невозможно торговаться с папой насчет денег, то еще меньше смысла в препирательствах относительно сроков. Какой-нибудь выход найдется потом, позднее… Человек не в силах создать гробницу с сорока мраморными статуями за пять лет — тут Якопо Галли совершенно прав. Значит, надо будет ему, Микеланджело, проявить сверхчеловеческую силу. Ведь в нем заключена мощь десяти обыкновенных скульпторов, а если потребуется, то и сотни. Он построит гробницу в пять лет, построит, если это даже убьет его. Он склонил свою голову в знак покорности. — Все будет исполнено, святой отец, как вы сказали. А теперь, когда дело решено, могу я осмелиться попросить вас о письменном договоре? И опять, едва только Микеланджело произнес эти слова, наступила особенная тишина. Браманте лишь втянул голову в свои бычьи плечи. Сангалло замер, лицо у него вдруг стало застывшим, как камень. В пристальных глазах папы вспыхнул свирепый огонек. После минутной паузы, показавшейся Микеланджело мучительно долгой, Юлий ответил: — Теперь, когда дело решено, я хотел бы, чтобы ты и Сангалло побывали в храме Святого Петра и определили место для гробницы. И ни слова о договоре. Микеланджело приложил левую руку к груди, ощутив под рубашкой бумагу, исписанную под диктовку Якопо Галли. Он поцеловал у папы перстень и направился к выходу. Папа окликнул его: — Одну минуту. Микеланджело остановился, и в душе его на миг шевельнулась надежда. — Пусть вас сопровождает в храм Браманте, он даст вам добрые советы, которыми следует воспользоваться.
В базилике явно не оказалось места, где встала бы столь пышная гробница. Колонны храма сильно стеснили бы мраморы Микеланджело, лишив их пространства и всякой возможности дышать и двигаться. Маленькие окна пропускали скудный свет. Как ни прикинь, гробница страшно загромоздит базилику — здесь нельзя будет свободно сделать и шагу. Микеланджело вышел наружу и осмотрел заднюю стену храма, где, как он помнил, была какая-то старая, незавершенная постройка. Пока он стоял у кирпичной, высотой в два с половиной аршина, стены, к нему подошли Сангалло и Браманте. — Объясни мне, что тут такое, Сангалло. — По моим сведениям, здесь был древний храм Проба. Папа Николай Пятый разрушил его и начал возводить тут новый подиум для престола первосвященника. Папа умер, доведя стены до этой вот высоты, а потом и вся стройка была заброшена и осталась в таком состоянии. Микеланджело перелез через стену и прошелся вдоль нее взад и вперед. — Вот здесь — ключ к решению всей нашей задачи! — воскликнул он. — Здесь гробница обретет вокруг себя свободное пространство. Мы возведем над зданием кровлю на любой высоте, какая нам потребуется, оштукатурим внутри стены, чтобы они увязывались с белым мрамором, прорубим окна, пробьем в стене базилики невысокую арку для прохода. — В этом есть свои резоны, — заметил Браманте. — Нет, — твердо сказал Сангалло. — Это значило бы, что мы остановимся на полпути и не добьемся того, что нам нужно. При такой ширине здания крыша получится слишком высокой, а стены накренятся внутрь, как в Систине. — Но ведь базилика для гробницы все-таки не годится, Сангалло! — огорчался Микеланджело. — Пройдем дальше и посмотрим. Поблизости, вокруг базилики, было множество самых разношерстных зданий, построенных за многие века. С тех пор, как в 319 году Константин возвел базилику Святого Петра, тут появились и часовни и алтари, сложенные большей частью из случайного материала, какой только подвернулся под руку строителю: черного туфа, светлого, как молоко, травертина, тускло-красного кирпича, белого известняка пеперино, испещренного крупинками темной лавы. — Для такой оригинальной гробницы, какую ты намерен создать, — сказал Сангалло, — нам потребуется совершено новое здание. И сама гробница должна породить его архитектуру. В груди Микеланджело ожила надежда. — Я спроектирую такое здание, — продолжал Сангалло. — Я уговорю его святейшество. Вот, например, здесь, на этом возвышении, достаточно места для стройки, если только убрать эти деревянные халупы и два-три совсем обветшалых надгробья. Здесь, на холме, наше здание будет видно из города отовсюду… Микеланджело чувствовал, как глаза Браманте прожигают ему спину. Он резко обернулся. Но, к его удивлению, в глазах Браманте светилось лишь довольство: он словно бы одобрял все, что говорил Сангалло. — Значит, вам нравится эта мысль, Браманте? — спросил его Микеланджело. — Сангалло полностью прав. Нужна великолепная новая капелла, а всю эту рухлядь вокруг следует вымести начисто. Сангалло сиял от радости. Но когда Микеланджело вновь повернулся к Браманте, намереваясь сказать ему спасибо, он увидел, что глаза у него стали совершенно непроницаемы, а в углу рта шевелится кривая усмешка.
Часть седьмая «Папа»
1
Живя в горах Каррары, Микеланджело еще не чувствовал, что самое благодатное его время было позади. Но когда он вернулся в Рим и побывал во дворце у Юлия, торжественно встречавшего новый, 1506 год, а потом стал принимать грузы с барок, подходивших одна за другой к Рипа Гранде, он увидел, что война между ним и папой началась. Браманте уговорил Юлия отказаться от мысли Сангалло об отдельной капелле для гробницы; вместо того чтобы строить на холме такую капеллу, было решено возвести новый храм Святого Петра — лучший архитектурный проект будущего здания предполагалось определить путем открытого конкурса. О гробнице никто не заботился, никаких разговоров о ней Микеланджело не слышал. Отпущенную папой тысячу дукатов он истратил всю на мраморы и их доставку в Рим, а выдать дополнительную сумму Юлий отказывался до тех пор, пока он не увидит хотя бы одну совершенно законченную статую. Когда по распоряжению Юлия Микеланджело отводили дом близ площади Святого Петра, папский секретарь сказал ему, что он должен будет платить за этот дом несколько дукатов в месяц. — А нельзя ли сделать так, чтобы сначала я получил какую-то сумму от папы, а потом уже платил за свое жилье? — ядовито заметил Микеланджело. Серым январским днем, когда тучи закрывали все небо, Микеланджело пошел на пристань. Его вел туда Пьеро Росселли, мастер из Ливорно, лучше которого, по общему мнению, никто не мог подготовить стену для фрески. Задорный, с веснушчатым лицом, еще мальчишкой ходивший в море, Росселли шагал по набережным, пружиня и раскачиваясь, будто под ним была не земля, а зыбкая палуба. — Зимой мне приходится бороться с этими волнами постоянно, — говорил он, следя за бурным течением надувшегося Тибра. — Другой раз уходит не один день, пока барка пробьется вверх и причалит. Вернувшись в дом Сангалло, Микеланджело сидел в библиотеке и грел руки у камина, а его друг показывал ему свои законченные чертежи нового храма Святого Петра: старая базилика, по проекту, входила в замышленное сооружение как часть, поглощалась им. Сангалло был уверен, что он таким образом избежит недовольства Священной коллегии и жителей города, не желавших замены старой церкви. — Выходит, ты не думаешь, что у Браманте есть шансы победить на конкурсе? — У Браманте есть талант, — отвечал Сангалло. — Его Темпиетто в монастыре Святого Петра в Монторио — истинная жемчужина. Но у него нет опыта в строительстве храмов. В библиотеку вбежал Франческо Сангалло. — Отец! На месте старого дворца императора Тита вырыли огромную мраморную статую. Его святейшество желает, чтобы ты сейчас же шел туда и проследил за тем, как ее откапывают. На винограднике за церковью Санта Мария Маджоре уже собралась толпа. Из наполовину отрытой ямы показались великолепная бородатая голова и торс поразительной мощи. Руку и плечо гиганта обвивала мраморная змея, а по обе его стороны скоро возникли две головы, плечи и руки двух юношей, обвитых тою же змеею. В мозгу Микеланджело вспыхнула картина его первого вечера в кабинете Лоренцо. — Это «Лаокоон»! — вскричал Сангалло. — О нем рассказано у Плиния, — добавил Микеланджело. Изваяние было более сажени в высоту и столько же в ширину, оно внушало благоговейный ужас. Весть о находке быстро перекинулась с виноградника на улицы, к ступеням церкви Санта Мария Маджоре: там уже толпились высокие духовные лица, купцы, дворяне, и все они рассчитывали тотчас же приобрести отрытую статую. Крестьянин, владеющий виноградником, объявил, что он уже продал находку некоему кардиналу за четыреста дукатов. Церемониймейстер Ватикана Пари де Грасси тут же предложил пятьсот дукатов. Крестьянин на эту сделку пошел. Пари де Грасси сказал Сангалло: — Его святейшество просит вас доставить статую в папский дворец без промедления. — Потом, обратясь к Микеланджело, добавил: — Папа также просит, чтобы вы были у него сегодня вечером и хорошенько осмотрели находку. Папа приказал поставить «Лаокоона» на закрытой террасе Бельведера, построенного на холме, выше дворца. — Осмотри фигуры во всех подробностях, — сказал он Микеланджело. — Надо узнать, действительно ли они высечены из одного блока. Зоркими своими глазами и чувствительными кончиками пальцев Микеланджело осмотрел и ощупал статую со всех сторон, обнаружив четыре вертикальных шва в тех местах, где родосские скульпторы соединяли отдельные куски мрамора. Покинув Бельведер, Микеланджело пошел к банку Якопо Галли. Ныне, когда Галли не стало, Микеланджело ощущал Рим совсем по-иному. И как остро нуждался он теперь в совете друга! Банком управлял его новый хозяин, Бальдассаре Бальдуччи. Живя во Флоренции, семейство Бальдуччи направляло свои капиталы, как и вся флорентинская колония, в Рим, и Бальдуччи не упустил случая жениться на плосколицей девушке из богатого римского дома, завладев солидным приданым. — Что же ты сейчас делаешь по воскресным дням, Бальдуччи? Бальдуччи покраснел. — Я провожу их в семействе своей жены. — Но ты, наверное, страдаешь от недостатка движения? — Я по-прежнему хожу на охоту… с ружьем. Владелец банка должен внушать уважение. — Гляди-ка, какая нравственность! Никогда я не думал, что ты станешь таким добропорядочным. Бальдуччи вздохнул. — Невозможно наживать богатство и в то же время забавляться. Молодость надо тратить на женщин, зрелые годы — на прибыльные дела, а старость — на игру в шары. — Я вижу, ты стал настоящим философом. Можешь ты одолжить мне сотню дукатов?Он стоял на ветру, под дождем, наблюдая за баркой, пробивавшейся к пристани: в барке были его мраморы. Дважды на его глазах нос суденышка зарывался и исчезал под валами. Казалось, барка вот-вот уйдет на дно бунтующего Тибра, унося с собой и драгоценную кладь — тридцать четыре его лучших, отборных блока. Пока он, вымокший до нитки, стоял на берегу, моряки последним бешеным усилием сделали свое дело: с причала были сброшены канаты, судно взято на чалки. Разгружать его при таком ливне было почти немыслимо. Вместе с матросами Микеланджело сумел снять десять самых малых глыб, но барка подпрыгивала на волнах, несколько раз ее срывало с причала, и большие колонны — от двух с половиной до пяти аршин длины — Микеланджело сгрузить не удавалось, пока не пришел Сангалло и не приказал пустить в ход подъемный кран. Разгрузку еще не успели закончить, как наступила темнота. Микеланджело лежал, не засыпая, в постели и слушал вой все свирепеющего ветра. Утром, придя на пристань, он увидел, что Тибр вышел из берегов. Набережная Рипа Гранде напоминала собой болото. Его прекрасные мраморы были занесены желтым илом. Он кинулся к ним и, стоя по колено в воде, начал счищать с них налипшую грязь. Он вспомнил месяцы, проведенные в каменоломнях, вновь представил себе, как вырубали его блоки в горах, как спускали их вниз по обрывистым склонам на канатах и катках, грузили на телеги, везли к берегу моря, осторожно скатывали на песок, переносили во время отлива на лодки — все без малейшего для них урона, ни одна даже ничтожная трещина или пятно не попортили колонн. И увидеть их в таком состоянии теперь, когда они уже доставлены в Рим! Прошло три дня, прежде чем дождь унялся и Тибр вошел в берега, освободив набережные. Братья Гуффатти, приехав в своей родовой телеге, перевезли мраморы к заднему портику дома. Микеланджело заплатил им из занятых у Бальдуччи денег, потом купил огромное полотнище просмоленной парусины и укрыл ею блоки вместе с кой-какой подержанной утварью. Январь уже кончался, когда Микеланджело, сидя за дощатым столом подле своих мокрых и запачканных мраморов, стал писать письмо отцу и краткую записку Арджиенто — он просил Лодовико переслать эту записку в деревню под Феррару, где Арджиенто находился с тех пор, как Синьория объявила, что Микеланджело не может жить в своем новом флорентинском доме, пока не приступит к исполнению ее заказов. Арджиенто надо было еще дожидаться, и потому Сангалло посоветовал Микеланджело взять на службу плотника Козимо — этот пожилой уже человек, с шапкой нависающих на лоб серебряных волос и со слезящимися глазами, нуждался в простом крове. Пища, которую Козимо готовил, отдавала смолой и стружками, но он самоотверженно работал, помогая Микеланджело строить деревянную модель первых двух ярусов надгробья. Юный Росселли дважды в неделю отправлялся к Портику Октавии, на рыбный рынок, и приносил свежих моллюсков, мидий, креветок, каракатиц и морских окуней; примостясь у очага Микеланджело, он жарил солянку — ливорнское каччукко. Микеланджело, Козимо и Росселли жадно водили по сковородке хлебными корками, собирая острый соус. Чтобы купить горн, шведское железо и каштановый уголь, Микеланджело пришлось снова идти в банк к Бальдуччи и брать у него новую сотню дукатов. — Я не возражаю против второго займа, — говорил Бальдуччи. — Но я возражаю против того, чтобы ты увязал в долгах все глубже и глубже. Когда, по-твоему, ты получишь за эту гробницу какие-то деньги? — Как только я смогу показать Юлию готовую работу. А пока мне надо придумать украшения для нескольких нижних блоков и дать образец Арджиенто и одному каменотесу, которого я хочу вызвать из Флоренции, из мастерских при Соборе. И тогда у меня будет возможность сосредоточиться и взяться за «Моисея»… — Но ведь на все это уйдет, может быть, не один и не два месяца! А на что ты думаешь жить все это время? Будь же разумным человеком, иди к папе и получи с него, что можешь. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Вернувшись домой, Микеланджело измерил заготовленную Козимо деревянную модель углового блока надгробья, затем принялся высекать из мрамора три маски; две профильных — они располагались сверху — и третью, под двумя первыми, смотревшую прямо на зрителя. Вокруг масок были нарезаны плавно круглившиеся декоративные узоры. Три подножных нижних блока гробницы — эта было пока все, что он по сути сделал. На посланное письмо Арджиенто до сих пор никак не отзывался. Каменотес из мастерских при Соборе ехать в Рим отказывался. Сангалло считал, что время тревожить Юлия по поводу денег пока еще не наступило. — Святой отец рассматривает теперь планы перестройки храма Святого Петра. Имя победителя конкурса будет объявлено первого марта. Вот тогда я и поведу тебя к его святейшеству. Но первого марта дворец Сангалло будто замер. Явившись туда, Микеланджело увидел, что в комнатах пусто, даже чертежники не сидели, как обычно, за своими столами. Сангалло с женой и сыном жались вверху, в спальне. Все в доме оцепенело, словно бы там был покойник. — Как это могло случиться? — спрашивал Микеланджело. — Ты официальный архитектор папы. Ты один из старейших и самых преданных его друзей… — До меня дошли только слухи: одни говорят, что римляне, окружающие папу, ненавидят флорентинцев, но благоволят к урбинцам, а значит, и к Браманте. Другие объясняют все дело тем, что Браманте постоянно ездит со святым отцом на охоту, потешает его шутками, развлекает. — Клоун! Неужто же клоуны способны строить великие здания? — Но клоуны способны пролезть куда надо, втереться… — Я иду к Лео Бальони и дознаюсь у него истины. Бальони посмотрел на него с неподдельным удивлением: — Истина? Разве она не ясна такому человеку, как ты? Идем со мной к Браманте, увидишь истину. Браманте купил в свое время на Борго, поближе к Ватикану, старый, обветшалый дворец и перестроил его с элегантной простотой. Сегодня во дворце толпились множество важных персон — папские придворные, князья церкви, дворяне, ученые, художники, купцы, банкиры. Браманте давал прием — он купался в лучах восхищенного внимания, его красное лицо сияло, в зеленых глазах горели радость и торжество. Лео Бальони провел Микеланджело вверх по лестнице, в обширный рабочий кабинет Браманте. Здесь повсюду — и на стенах и на столах — были его эскизы и рисунки, изображающие новый собор Святого Петра. Микеланджело ахнул: это было здание столь грандиозное, что флорентинский кафедральный Собор выглядел бы рядом с ним карликом, и все же в проекте Браманте было и изящество, и лиризм, и настоящее благородство. Византийский по своему духу проект Сангалло — суровая крепость, увенчанная куполом, — по сравнению с замыслом урбинца казался скучным и тяжеловесным. Теперь Микеланджело знал истину — и она не имела ничего общего с ненавистью римлян к флорентинцам или с угодническим шутовством Браманте. Все дело было в даровании. С любой точки зрения собор Святого Петра у Браманте был красивее и совершенней, чем у Сангалло. — Мне очень жаль Сангалло, — сдержанным тоном сказал Бальони, — но ведь устраивался конкурс, и всем ясно, кто победил в этом конкурсе. Что бы ты сделал на месте папы? Облагодетельствовал бы заказом своего друга, чтобы тот построил такую церковь, которая устарела бы раньше, чем ее начали возводить? Или поручил бы работу пришельцу, чужаку, но создал бы самый красивый храм во всем христианском мире? Микеланджело не решился ответить на этот вопрос. Он торопливо сбежал вниз по лестнице, прошел по Борго и стал нервно вышагивать вдоль стены папы Льва Четвертого, пока не почувствовал, что страшно устал. Да, в самом деле, будь он, Микеланджело Буонарроти, папой Юлием Вторым, ему тоже пришлось бы отдать предпочтение плану Браманте. Такой храм, каком замыслил урбинец, мог бы куда вернее, чем все заботливо вымощенные улицы и расширенные площади, положить начало новому, славному Риму. Именно в эту ночь, когда он лежал в своей кровати и не мог заснуть, дрожа от холода и слушая храп Козимо, усердствовавшего так, будто каждый его вздох был последним, Микеланджело понял, что еще с того дня, как папа послал Браманте вместе с Микеланджело и Сангалло выбирать место для своей гробницы, тот задался целью не допустить постройки специальной капеллы для нее. Он воспользовался идеей Сангалло об отдельном здании для гробницы и мыслями Микеланджело насчет гигантского мавзолея в своих собственных выгодах — убедить папу возвести совершенно новый собор по его, Браманте, проекту. Разумеется, собор Святого Петра, построенный Браманте, был бы великолепным вместилищем и оправой гробницы. Но позволит ли Браманте установить гробницу в своем здании? Захочет ли он делить и честь и славу с Микеланджело Буонарроти?
2
В середине марта проглянуло солнце. Микеланджело велел братьям Гуффатти поднять с земли три огромных колонны и поставить их стоймя. Скоро надо быть готовым к тому, чтобы рубить мрамор, сдирая внешнюю кору, и нащупывать образы Моисея и Пленников. Первого апреля стало известно, что восемнадцатого апреля папа и Браманте будут торжественно закладывать камень в фундамент нового собора. Пари де Грасси заранее вырабатывал порядок церемонии. Когда землекопы начали рыть котлован, в который должен был спуститься папа, чтобы благословить закладку первого камня, Микеланджело окончательно убедился, что старая священная базилика не войдет в новое здание и что ее совершенно разрушат, освобождая место для будущего собора. Микеланджело не скрывал своего недовольства этим. Он любил колонны и старинную резьбу базилики, разрушение самого древнего христианского храма в Риме он считал кощунством. Он рассуждал об этом с кем угодно, везде и всюду, пока однажды Лео Бальони не предупредил его: кое-кто из темных прихвостней Браманте поговаривает, что если Микеланджело не перестанет поносить их покровителя, то, пожалуй, его собственная гробница будет возведена раньше, чем гробница папы. — Я не хотел бы, мой друг, чтобы ты был столь опрометчив и таким юным оказался в Тибре, — шутил Лео. Владелец барок в Карраре прислал Микеланджело письмо, в котором уведомлял его, что новый груз мрамора придет в Рипа Гранде в начале мая. Когда груз окажется у причала, за перевозку его надо будет уплатить, и лишь после этого Микеланджело получит свои мраморы. Того количества дукатов, которое требовалось по счету, у Микеланджело не было. Он помылся и пошел в папский дворец. Со взъерошенной бородой, вылезавшей из высокого горностаевого воротника, папа Юлий сидел на малом троне, окруженный придворными. Сбоку стоял любимый его ювелир. Юлий повернулся к ювелиру и раздраженно сказал: — Хоть ты и говоришь, что эти камни крупные, — все равно я не потрачу на них ни одной лишней полушки! Микеланджело выжидал и, как только ювелир удалился, а папа принял более спокойный вид, шагнул вперед. — Святой отец, новый груз мраморов на ваше надгробье уже в пути. Я обязан заплатить за его доставку сразу же, как только барки придут в Рипа Гранде. У меня нет на это денег. Не можете ли вы дать какую-то сумму, чтобы я был спокоен за блоки? — Приходи в понедельник, — резко ответил папа и отвернулся. В желтом, как масло, весеннем солнечном свете Рим был прекрасен, но Микеланджело брел по улицам, будто слепой, весь горя от обиды. Папа выставил его из дворца одним взмахом руки, как простого каменщика! И почему? Не потому ли, что ваятель — это действительно всего лишь мастеровой, искусный мастеровой? Но разве папа не называл его, Микеланджело, лучшим скульптором по мрамору во всей Италии? Он рассказал обо всем Бальони, допытываясь, не знают ли его друзья, чем вызвана такая перемена в поведении папы. Лео стоило немалого труда, чтобы сохранить в этой беседе спокойствие. — Браманте убедил святого отца, что строить самому себе гробницу при жизни — дурное предзнаменование. Будто бы это приближает день, когда гробница действительно понадобится. Тяжело дыша, Микеланджело опустился на скамью. — Что же мне сейчас делать? — Идти к папе в понедельник и сделать вид, что ничего особенного не случилось. Он пошел к папе в понедельник. Затем во вторник, потом в среду, в четверг. Каждый раз его пропускали во дворец, папа хмуро его принимал и говорил, чтобы он приходил завтра. В пятницу стража дворца преградила ему дорогу и отказалась впустить. Это был жаркий полуденный час, но Микеланджело почувствовал во всем теле холод. Считая, что могло произойти какое-нибудь недоразумение, он вновь попытался проникнуть во дворец. Ему снова преградили дорогу. В эту минуту ко дворцу подкатила карета двоюродного брата папы, епископа Луккского Александра. — Что тут творится? — спросил епископ у стражника. — Разве ты не знаешь маэстро Буонарроти? — Я знаю его, ваше преосвященство. — Тогда почему же задерживаешь? — Извините, ваше преосвященство, но таков приказ. Микеланджело поплелся домой, плечи его судорожно вздрагивали, голова пылала, словно в огне. Он прибавил шагу, потом побежал почти бегом, запер дверь дома, сел к столу и торопливо, каракулями, начал набрасывать письмо.«Благословенный отец, сегодня по вашему приказу я был выставлен из дворца: значит, если я буду нужен, вам придется искать меня где угодно, кроме Рима».Он направил это письмо дворецкому папы мессеру Агостино, потом послал соседского мальчика за Козимо. Старик примчался тотчас. — Козимо, я должен уехать из Рима сегодня же ночью. Завтра ты позовешь старьевщика и продашь ему весь этот жалкий скарб. Во втором часу ночи он нанял у Народных ворот лошадь и, присоединившись к почтовой карете, направился во Флоренцию. Отъехав немного на север, вверх по холму, с которого он когда-то бросил свой первый взгляд на Рим, Микеланджело обернулся в седле, чтобы вглядеться в спящий город. И ему вспомнилось любимое изречение тосканцев, родившееся во времена феодальных распрей:
3
Отец был не очень обрадован его приездом: он воображал, что сын зарабатывает у папы в Риме колоссальные деньги. Микеланджело опять пришлось вселиться в переднюю комнату, окна которой глядели на башню дома старейшины цехов, — он поставил там на верстак «Богоматерь» Таддеи, сходил в мастерские при Соборе, где хранился его мрамор, предназначенный для «Апостола Матфея», перевез из литейной еще не законченного бронзового «Давида». Его картон с «Купальщиками» был вынесен из мастерской при больнице Красильщиков, вставлен в еловую раму и повешен в галерее за Большим залом дворца Синьории. Потребовалось очень немного времени, чтобы слухи о происшествии на дворе гостиницы в Поджибонси переползли горный перевал. Придя вместе с Граначчи в мастерскую Рустичи на ужин Общества Горшка, Микеланджело понял, что на него смотрят, как на героя. — Какой же низкий поклон отвесил тебе папа Юлий! — восхищался Боттичелли, писавший в свое время фрески в Сикстинской капелле для дяди Юлия, папы Сикста Четвертого. — Послать вслед за тобой целый отряд, прямо-таки спасательную команду! Да разве когда-нибудь бывало такое с художником? — Никогда! — гудел Кронака. — И кто станет беспокоиться о художнике? Пропал один, на его место всегда найдется десяток таких же. — Но вот папа признал наконец, что художник — это индивидуальность, — взволнованно заговорил Рустичи. — Индивидуальность со своим, неповторимым талантом и своими особенностями, которых именно в этой комбинации не найти нигде, хоть обшарь весь белый свет! Микеланджело чувствовал, что его расхваливают сверх всякой меры. — А что мне оставалось делать? — громко говорил он, в то время как Граначчи всовывал ему в руку стакан вина. — Понимаете, меня перестали пускать в Ватикан! Наутро он убедился, что власти Флоренции отнюдь не разделяют мнения художников из Общества Горшка о чудодейственном эффекте его бунта против папы. Когда гонфалоньер Содерини принимал Микеланджело в своем кабинете, выражение его лица было весьма сурово. — Мне рассказали обо всем, что ты натворил. В Риме, будучи скульптором папы, ты мог бы оказать Флоренции существенную помощь. Теперь ты бросил вызов папе и стал для нас источником возможной опасности. После Савонаролы ты первый флорентинец, который восстал против папы. Боюсь, что тебя ждет такая же судьба. — Значит, меня повесят среди площади, а затем сожгут? — Микеланджело невольно поежился. Впервые за весь разговор Содерини улыбнулся, кончик его носа пополз вниз. — Ты ведь не еретик, ты просто отказываешься повиноваться. Но в конце концов папа все равно до тебя доберется. — Все, чего я хочу, гонфалоньер, — это снова жить во Флоренции. Завтра же я начинаю ваять Святого Матфея, и пусть мне возвратят мой дом. Лицо у Содерини вдруг стало таким же желто-белым, как его волосы. — Флоренция не может возобновить свой договор с тобой на скульптурные работы. Его святейшество воспринял бы это как личную обиду. И никто — ни Доли, ни Питти, ни Таддеи — не может воспользоваться твоими услугами, не навлекая на себя гнев папы. Так будет до тех пор, пока ты не закончишь гробницы Юлия или пока святой отец не освободит тебя от этого долга. — А если я буду завершать работу по существующим договорам, я поставлю вас в очень затруднительное положение? — Пока заканчивай «Давида». Наш посол в Париже все еще пишет, что король сердится на нас за то, что мы не посылаем ему статую. — А «Купальщики»? Могу я писать эту фреску? Содерини вскинул на него быстрый взгляд. — Ты не заходил в Большой зал? — Нет, грум провел меня сюда через ваши апартаменты. — Советую тебе заглянуть туда. Микеланджело прошел к стене, примыкающей к помосту Совета с востока: там находилась фреска Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари». Микеланджело судорожно дернулся, прижав руку ко рту. — Dio mio, не может быть! Весь низ фрески Леонардо погиб, разрушился, краски струями стекли к полу, будто притянутые могучими магнитами: лошади, люди, копья, деревья, скалы в неразличимом хаосе переплелись и смешались, сливаясь друг с другом. Старую вражду, предубежденность, раздоры — все в душе Микеланджело будто смыл тот неведомый раствор, что загубил великолепное творение Леонардо. Он ощущал теперь только глубокую жалость к собрату-художнику: целый год жизни, полный могучих усилий, — и вот плоды этого труда начисто сметены, уничтожены! Отчего же приключилась беда? Ведь тосканцы были мастерами фрески уже в течение трех столетий… Чья-то рука легла на плечо Микеланджело, — оглянувшись, он увидел Содерини. — Гонфалоньер, как это случилось? — Леонардо решил во что бы то ни стало возродить древний вид живописи — энкаустику. Он заимствовал рецепт для штукатурки у Плиния, примешивал к извести воск и еще добавлял туда для прочности состава камедь. Закончив фреску, он стал ее прогревать, раскладывая костры на полу. Он говорил, что уже применял этот способ, работая над малыми фресками в Санта Мария Новелла, и что все тогда обошлось благополучно. Но высота этой фрески — около девяти аршин; чтобы жар достиг ее верха, Леонардо был вынужден разжигать большие костры. Сильный жар, действуя на нижний ярус фрески, растопил воск — воск потек… и потянул за собой все краски. Леонардо жил в приходе Сан Джованни. Микеланджело постучал в дверь молотком. Появился слуга. Микеланджело прошел с ним в просторную, со стругаными брусьями потолка, комнату, наполненную произведениями искусства, музыкальными инструментами, восточными коврами. Леонардо, в красном китайском халате, сидел за высоким столом с толстой, как плита, столешницей и что-то писал в записной книге. Он поднял голову и, заметив Микеланджело, положил свою книгу в ящик стола и запер его на ключ. Потом он шагнул на середину комнаты, немного прихрамывая: не так давно он упал, испытывая на холмах близ Фьезоле свою летательную машину. В его сияющей красоте был заметен какой-то, еле уловимый, ущерб, глаза смотрели чуть печально. — Леонардо, я только что из дворца Синьории. Мне хотелось сказать, что я огорчен тем, что случилось с фреской. Я ведь тоже понапрасну потратил этот год, и я понимаю, что это для вас значит… — Вы очень любезны. — Голос Леонардо был холоден. — Но это не главная цель моего прихода. Я хочу извиниться перед вами… за мою сварливость… за те гнусные слова, которые я говорил о вас, о вашей статуе в Милане… — У вас был для этого повод. Я неуважительно отзывался о скульпторах по мрамору. Леонардо начал оттаивать. На его алебастрово-белом лице проступили краски. — Я смотрел ваших «Купальщиков», когда вас не было во Флоренции. Это в самом деле изумительный картон. Я делал рисунки с него, я рисовал и вашего «Давида». Ваша будущая фреска станет славой Флоренции. — Не знаю. Теперь, когда ваша«Битва при Ангиари» не будет единоборствовать с моей фреской, мне уже не хочется и думать о ней. Сделав шаг к тому, чтобы примириться со старым противником, Микеланджело в то же время подвергал опасному испытанию свою самую полезную дружбу. Через двое суток гонфалоньер Содерини вновь вызвал его к себе и зачитал письмо папы, в котором тот требовал, чтобы Синьория немедленно, под страхом лишиться папского благоволения, возвратила Микеланджело Буонарроти в Рим. — Я вижу, лучше бы мне было удрать куда-нибудь подальше на север, хотя бы во Францию, — мрачно сказал Микеланджело. — Тогда вам не пришлось бы за меня отвечать. — Как ты можешь куда-то удрать от папы? Рука его тянется через всю Европу. — Почему же я стал таким драгоценным и нужным ему, живя во Флоренции? В Риме он запирал передо мной двери. — Потому что в Риме ты был его слугой, которым можно было помыкать. Отказываясь ему служить, ты стал самым желанным для него художником в мире. Не доводи его до крайности. — Я никого ни до чего не довожу! — с тоской воскликнул Микеланджело. — Я только хочу, чтобы меня оставили в покое. — Об этом говорить уже поздно. Надо было думать раньше, до того, как ты поступил на службу к Юлию. С первой же после этого разговора почтой Микеланджело получил письмо от Пьеро Росселли: когда он читал его, ему казалось, будто волосы у него на голове вздымаются и шевелятся, подобно змеям. Как выяснилось, папа желал его возвращения в Рим не затем, чтобы продолжать работу над мраморами; Браманте решительно убедил святого отца в том, что гробница ускорит его кончину. Его святейшество хотел теперь, чтобы Микеланджело расписал свод Сикстинской капеллы — самого неуклюжего и безобразного, самого дурного по конструкции, самого забытого господом архитектурного сооружения во всей Италии. Микеланджело читал и перечитывал строчки Росселли:«Вечером в прошлую субботу, во время ужина, папа позвал Браманте и сказал: „Завтра утром Сангалло едет во Флоренцию и привезет с собой в Рим Микеланджело“. Браманте возразил: „Святой отец, Сангалло никак не сможет этого сделать. Я не раз говорил с Микеланджело, и он уверял меня, что он не возьмется за капеллу, которую вы хотите поручить ему; что он, вопреки вашему желанию, намерен работать только в скульптуре и не хочет даже думать о живописи. Святой отец, я думаю, он просто трусит взяться за эту работу, так как у него мало опыта в писании фигур, а фигуры в капелле будут расположены гораздо выше линии глаз зрителя. Это ведь совсем другое дело, чем живопись внизу на стенах“. Папа ответил: „Если он не возьмется за работу, он причинит мне глубокую обиду, — посему я полагаю, что он образумится и снова приедет в Рим“. И тут я в присутствии папы дал Браманте сильный отпор: я говорил так, как говорил бы ты сам, защищая меня; на какое-то время Браманте онемел, будто почувствовал, что он допустил промах, сунувшись со своими речами. Я начал слово так: „Святой отец, Браманте по этому делу никогда не разговаривал с Микеланджело, а если то, что он сейчас высказал, есть правда, я прошу вас отрубить мне голову…“»— Я разговаривал с Браманте? Это чудовищная ложь! — кричал Микеланджело наедине с собой. — И зачем ему нужны подобные небылицы? Письмо Росселли только усилило в душе Микеланджело сумятицу и горечь. Работать он уже совсем не мог. Он перебрался в Сеттиньяно и молча сидел там, вырубая с братьями Тополино строительные блоки, затем пошел повидаться с Контессиной и Ридольфи. Их мальчик Никколо — теперь ему было уже пять лет — все упрашивал Микеланджело постучать молотком, чтобы «мрамор полетел вверх», и научить этому его самого. Урывками, по настроению, Микеланджело оттачивал и полировал бронзового «Давида», несколько раз ходил в Большой зал, тщетно пытаясь подстегнуть себя и приняться за работу над фреской. Еще прежде того, как гонфалоньер Содерини пригласил его в начале июля к себе, он знал, что бурные ветры вот-вот налетят с юга и принесут с собой новые тревоги. Не тратя лишних слов, Содерини стал читать папское послание.
«Микеланджело, скульптор, покинувший нас без причин, из чистого каприза, боится, как нас извещают, возвратиться к нам, хотя мы с нашей стороны, зная характер людей гения, не сердимся на него. Надеясь, что он оставит в стороне все свои опасения, мы полагаемся на вашу лояльность, поручая вам убедить его от нашего имени, что если он возвратится к нам, то не потерпит никакой обиды и никакого ущемления и сохранит нашу апостолическую благосклонность в такой же мере, в какой он пользовался ею раньше».Содерини положил послание на стол. — Скоро я получу собственноручное письмо кардинала Павии, в котором он обещает тебе безопасность. Неужто тебя не удовлетворяет и это? — Нет. Вчера вечером в доме Сальвиати я видел одного купца-флорентинца, Томмазо ди Тольфо. Он живет в Турции. Пожалуй, надо воспользоваться таким знакомством и уехать туда. Буду работать на султана. Брат Лионардо попросил его о свидании, назначив встречу у ручья, на границе поля Буонарроти в Сеттиньяно. Лионардо сидел на своей родовой земле, Микеланджело на земле Тополино — ноги оба они опустили в ручей. — Микеланджело, я хочу помочь тебе. — Каким образом? — Позволь мне сначала признаться, что в юности я наделал много ошибок. А ты поступал правильно, идя своим путем. Я видел твою «Брюггскую Богоматерь с Младенцем». Наши братья монахи в Риме с уважением говорят о твоем «Оплакивании». Ты, как и я, поклоняешься Богу. Прости мне мои прегрешения против тебя. — Я давно тебя простил, Лионардо. — Я должен объяснить тебе, что папа есть наместник Господа Бога на земле. Когда ты выходишь из повиновения его святейшеству, ты выходишь из повиновения Богу. — И, по-твоему, именно так обстояло дело, когда Савонарола насмерть боролся с папой Александром Шестым? Черный капюшон Лионардо опустился, затеняя глаза, и Лионардо не поднимал его. — Да, Савонарола вышел из повиновения. Но независимо от того, что мы думаем о том или другом папе, папа есть преемник Святого Петра. Если каждый из нас будет по-своему судить и рядить о папе, в церкви наступит хаос. — Папа — это человек, Лионардо, человек, избранный для высокого поста. А я буду делать то, что считаю справедливым. — И ты не боишься, что Господь накажет тебя? Наклоняясь к ручью, Микеланджело взглянул на брата. — Очень важно, чтобы в каждом из нас была отвага. Я верю, что Господу Богу независимость угодна больше, чем раболепство. — Ты, должно быть, прав, — сказал Лионардо, вновь опуская голову. — Иначе он не помог бы тебе высекать такие божественные мраморы. Лионардо поднялся и пошел вверх по холму, к дому Буонарроти. Микеланджело пошел по скату другого холма, к жилищу Тополино. С верхушки холмов они оглянулись, помахали друг другу рукою. Им уже не суждено было больше увидеться. Среди друзей Микеланджело его бегство от папы не напугало только Контессину — она не питала почтительности к Юлию. Наследница одной из самых могущественных династий мира, она видела, как ее семью изгнали из города, которому эта семья помогла стать величайшим в Европе, видела, как отчий ее дом разграбили земляки-горожане, о которых ее семья любовно заботилась, творя им добро, видела, как в окнах дворца Синьории повесили ее деверя, и сама должна была в течение восьми лет жить в крестьянской хижине. Ее уважение к властям иссякло. Однако муж Контессины смотрел на все по-иному. Ридольфи ставил себе целью уехать в Рим. По этой причине он никак не хотел прогневать папу. — Против своего желания я должен просить вас, Буонарроти, не появляться здесь более. Ведь это станет известно папе. Святой отец — при посредничестве кардинала Джованни — наша последняя надежда. Мы не должны рисковать расположением Юлия. Голос Контессины звучал чуть напряженно и сдавленно: — Значит, Микеланджело мог приходить сюда раньше, рискуя своим положением во Флоренции, и он не может бывать у нас теперь, чтобы не пошатнуть твое положение в Риме? — Не мое положение, Контессина, а наше. Если папа будет настроен против нас… В конце концов, у Буонарроти есть ремесло; если его изгонят из Флоренции, он найдет применение своему таланту где угодно. Рим — это единственное место, куда мы можем уехать. От этого зависит наше будущее, будущее наших сыновей. Это слишком опасно. — Родиться на свет — вот самая главная опасность, — раздумчиво произнесла Контессина, глядя куда-то поверх головы Микеланджело. — После этого уже идет игра, где все предопределено, карты розданы. — Я больше не приду к вам, мессер Ридольфи, — тихо сказал Микеланджело. — Вы должны оградить свое семейство от опасности. Извините меня, я поступил необдуманно.
4
В конце августа с войском в пять сотен рыцарей и дворян Юлий покинул Рим. В Орзието к нему присоединился его племянник, герцог Урбинский, и Перуджия была занята без кровопролития. Кардинал Джованни де Медичи оставался в Риме, управляя городом. С примкнувшим к нему маркизом Мантуи Гонзага, у которого была обученная армия, папа пересек Апеннины, обойдя стороной Римини: этот город держала в своих руках враждебная Венеция. Предложив кардинальские шапки трем его племянникам, папа подкупил кардинала Руана, находившегося при восьми тысячах французских солдат, посланных на защиту Болоньи; тот публично отлучил от церкви правителя Болоньи Джованни Бентивольо. В результате Бентивольо был изгнан самими болонцами. В Болонью вступил со своей армией Юлий. Однако среди всех этих дел и хлопот папа Юлий Второй не мог забыть своего беглого скульптора. Как только Микеланджело вошел во дворец Синьории, гонфалоньер Содерини, по обе стороны которого сидели восемь его коллег, закричал, не скрывая своего раздражения: — Ты пытался дать папе такой бой, на какой не отважился бы и король Франции. Мы не хотим по твоей милости вступать в войну с папой! Святой отец желает, чтобы ты исполнил кое-какие работы в Болонье. Давай-ка собирайся и езжай! Микеланджело знал, что он побежден. Он знал это, по сути, уже не одну неделю — как только папа продвинулся в глубь Умбрии, присоединяя ее к папскому государству, а потом захватил Эмилию, флорентинцы при встрече на улице уже отворачивались от него. Флоренция, у которой не было средств обороны, так сильно нуждалась в дружбе папы, что дала ему в качестве наемников своих солдат — среди них был и брат Микеланджело Сиджизмондо — и тем способствовала его завоевательским действиям. Любой город хотел бы избежать нападения гордых успехами, уверенных в своих силах папских войск, которые только что одолели переход через Апеннины. Синьория и все флорентинцы твердо держались одного взгляда: Микеланджело следует отослать обратно к папе, невзирая на то, как это отзовется на его судьбе. Что ж, они были правы. Благо Флоренции прежде всего. Он поедет в Болонью, он пойдет на мировую со святым отцом, сделав для этого все возможное. Содерини опять проявил о нем заботу. Он вручил Микеланджело письмо, адресованное своему брату, кардиналу Вольтерры, который находился при папе.«Податель сего письма Микеланджело, скульптор, направлен к вам по просьбе его святейшества. Мы заверяем ваше преосвященство в том, что это прекрасный, молодой человек, единственный в своем искусстве на всю Италию, а может быть, и на весь мир. Нрав его таков, что посредством доброго слова и любезного обращения от него можно добиться всего; с ним надо быть ласковым и любезным, и тогда он сделает такие вещи, что всякий увидевший их будет в изумлении. Названный Микеланджело приехал к вам под мое честное слово».К тому времени уже наступил ноябрь. Улицы Болоньи были запружены народом: тут толпились и придворные, и солдаты, и красочно одетые иностранцы — всем хотелось попасть ко двору папы. На площади Маджоре, в проволочной клетке, подвешенной у окон дворца подесты, сидел какой-то монах: его поймали на улице борделей, когда он выходил из непотребного дома. Микеланджело разыскал гонца, поручив ему доставить рекомендательное письмо кардиналу Вольтерры, а сам поднялся по ступеням к церкви Святого Петрония, с благоговением оглядывая скульптуры делла Кверча, высеченные из истрийского камня, — «Сотворение Адама», «Изгнание из Рая», «Жертвоприношение Каина и Авеля». Как далеко ему, Микеланджело, до исполнения своей мечты — изобразить эти сцены в объемных фигурах! Он вошел в церковь, где служили в тот час мессу, — и тут кто-то из римских слуг папы сразу узнал его. — Мессер Буонарроти, его святейшество ждет вас с нетерпением. Окруженный двадцатью четырьмя кардиналами, командирами своей армии, знатными дворянами, рыцарями, принцами, папа обедал во дворце; всего за столом сидело человек сто; зал был увешан знаменами. Епископ, которого заболевший кардинал Вольтерры послал вместо себя, провел Микеланджело из глубины зала к столу. Папа Юлий взглянул, увидел Микеланджело, сразу умолк. Смолкли и все в зале. Микеланджело стоял сбоку большого кресла папы, у заглавного места стола. Они пронзительно смотрели друг на друга, взоры их метали огонь. Не желая опуститься на колени, Микеланджело выпрямился, откинул плечи. Заговорить первым был вынужден папа. — Долгонько же ты задержался! Нам пришлось двинуться тебе навстречу. Микеланджело тоскливо подумал, что это правда: папа со своим войском покрыл куда больше верст, чем проехал на этот раз он сам. Он сказал упрямо: — Святой отец, я не заслужил, чтобы со мной обращались так, как это было в Риме на пасхальной неделе. В огромном зале легла мертвая тишина. Желая вступиться за Микеланджело, заговорил епископ: — Ваше святейшество, имея дело с таким народом, как художники, надо быть снисходительным. Кроме своего ремесла, они ничего не понимают, и часто им недостает хороших манер. Приподнявшись с кресла, Юлий загремел: — Как ты смеешь говорить про этого человека такие вещи? Я и сам себе не позволил бы его так бесчестить. Это тебе недостает хороших манер — вот кому! Епископ стоял оглушенный, не в силах двинуться с места. Папа подал знак. Несколько придворных схватили обмершего в страхе прелата и, награждая его тумаками, вытолкали прочь из зала. Видя, что папа таким образом приносит свое извинение и что на большее при свидетелях он пойти не может, Микеланджело встал на колени, целуя папский перстень; и пробормотал свои собственные сожаления. Папа благословил его, затем сказал: — Будь завтра в моем лагере. Там мы и решим наши дела. В сумерки он сидел перед горящим камином в библиотеке Альдовранди. Альдовранди знал Юлия: дважды он ездил к нему в качестве болонского посланника, а теперь папа назначил его членом правящего Совета Сорока. Разговаривая с Микеланджело, он все смеялся над тем, что произошло за обедом у папы. Казалось, что светлое лицо и добрые веселые глаза Альдовранди были такими же молодыми, как и десять лет назад, когда Микеланджело впервые его увидел. — Вы так похожи друг на друга, — говорил Альдовранди, — вы и Юлий. У вас у обоих есть террибилита — свойство внушать благоговейный ужас. Я уверен, что во всем христианском мире вы единственный человек, который отважился перечить первосвященнику после того, как вы сами семь месяцев открыто отвергали его домогательства. Не удивительно, что он уважает вас. Микеланджело прихлебывал из дымящейся кружки сдобренную коричневым сахаром горячую воду — синьора Альдовранди подала ее ввиду суровой ноябрьской стужи. — Что, по-вашему, святой отец намеревается со мной делать? — Усадить за работу. — Над чем? — Что-нибудь он придумает. Вы, конечно, поживете у нас? Микеланджело принял это предложение с удовольствием. За ужином он спросил: — Как себя чувствует ваш племянник Марко? — Очень хорошо. У него новая девушка — он нашел ее в Римини, два года назад, в августе, в праздник феррагосто. — А Кларисса? — Ее удочерил… один из дядьев Бентивольо. А когда ему вместе с Джованни Бентивольо пришлось бежать, Кларисса за изрядную мзду передала свою виллу какому-то папскому придворному. — Вы не скажете, где мне ее искать? — Думаю, что на Виа ди Меццо ди Сан Мартино. У нее там квартира. — И вы не осудите меня за это? Вставая, Альдовранди тихо ответил: — Любовь — это как кашель, ее все равно не скроешь.
Она стояла в проеме раскрытой двери, под козырьком навеса, глядевшего вниз, на площадь Сан Мартино. На оранжевом свету масляной лампы, горевшей у нее за спиной, проступал силуэт ее фигуры, обтянутой шерстяным платьем, лицо Клариссы было как бы вставлено в раму мехового воротника. Микеланджело пристально, не произнося ни слова, посмотрел ей в глаза, как смотрел он недавно, хотя и с иными, непохожими чувствами, в глаза Юлия. Она ответила ему тоже долгим взглядом. Память мгновенно перенесла его в то время, когда он увидел ее впервые — тоненькую, золотоволосую, девятнадцати лет, с волнующей мягкостью жестов; в каждом движении ее гибкого, как ива, тела сквозила тогда нежная чувственность, прекрасные линии шеи, плеч, груди напоминали Боттичеллеву Симонетту. Теперь ей минул уже тридцать один год, она была в зените зрелости и чуть отяжелела, чуть утратила свою искрометную живость. И все же он снова поддался власти ее великолепной плоти, чувствуя эту плоть каждой своей жилкой. У нее была прежняя манера говорить — ее будто свистящий голос проникал во все его существо, удары крови в ушах мешали различить смысл отдельного слова. — Когда ты уезжал, я сказала тебе на прощанье: «Болонья — всем по дороге, куда бы ни ехать». Входи. Она провела его в маленькую гостиную, где горели две жаровни, и лишь тут приникла к нему. Его руки скользнули под ее отороченное мехом платье, к горячему телу. Он поцеловал ее в податливые, сдающиеся губы. Она напомнила ему: — Когда я тебе, давно-давно, сказала: «Это так естественно, что мы хотим друг друга», — ты покраснел, как мальчик. — Художники в любви ничего не понимают. Мой друг Граначчи говорит, что это просто развлечение. — А что сказал бы о любви ты? — Я только могу рассказать, что я чувствую, когда вижу тебя… — Расскажи. — Это как вихрь… как поток, который швыряет твое тело по камням, по обрывам, потом выбрасывает, поднимает его как морским прибоем… — Ну, а потом? — …хватит, я больше не могу… Платье ее, шурша, тотчас же полетело в сторону. Закинув руки к голове, Кларисса вынула несколько заколок, и длинные золотистые косы упали, закрывая поясницу. В движениях ее проглядывало скорее не сладострастие, а памятная ему, милая ласка, словно бы любовь была обычным, естественным проявлением ее натуры. Потом они, обнявшись, лежали под двойным, очень мягким шерстяным одеялом, отделанным небесно-голубой тканью. — Так ты говоришь, — это похоже на прибой?.. — допытывалась она, наводя разговор на прежнее. — …прибой поднимает тебя, захлестывает и выносит прямо в море. — Ты знал за это время любовь? — Нет, после тебя не знал. — В Риме столько доступных женщин! — Семь тысяч. Мой друг Бальдуччи пересчитывал их каждое воскресенье. — И тебя не тянуло к ним? — Это не та любовь, которой бы мне хотелось. — Ты никогда не читал мне свои сонеты. — В одном из них я пишу о шелковичном черве.
5
Увязая в глубоком снегу, с трудом добрался он до военного лагеря Юлия на берегу реки Рено. Юлий проводил смотр своих войск — он был закутан до подбородка в огромную меховую шубу, голову его обтягивал, закрывая уши, лоб и губы, серый шерстяной шлык. Юлий был явно недоволен условиями, в которых содержались солдаты, ибо с грубой бранью набрасывался на офицеров, обзывая их «жульем и скотами». Как Микеланджело уже слышал от Альдовранди, угодливые друзья папы постарались разгласить, что Юлий «великолепно приспособлен для военной жизни», что, при самой дурной погоде, целыми днями находится он при войске, перенося солдатские невзгоды и испытания даже легче, чем их переносят сами солдаты, что, объезжая линии войск и отдавая приказы, он похож на ветхозаветного пророка и что, слушая его, солдаты кричат: «Святой отец, ты наш настоящий боевой командир!» — в то время как завистники папы ворчат потихоньку: «Ну и святой отец! Кроме рясы да титула, ничего в нем нет от священника». Юлий прошел в свой шатер, утепленный мехами. Вокруг трона сгрудились кардиналы и придворная челядь. — Буонарроти, я все же надумал, что тебе надо сделать для меня. Большую бронзовую статую! Огромный мой портрет — в торжественных ризах, в тройном венце. — Бронзовую! — это был крик, вырвавшийся у Микеланджело с мучительной болью. Будь у него хоть малейшее подозрение, что папа навяжет ему работу с бронзой, он ни за что бы не поехал в Болонью. — Бронза — не моя специальность! — протестующе сказал он. И воины и прелаты, находившиеся в шатре, замерли — возникла та особенная тишина, которая поразила Микеланджело вчера, в обеденном зале. Лицо папы вспыхнуло от гнева. — Мы знаем, что ты создал бронзового «Давида» для французского маршала де Жие. Значит, если речь идет о маршале — это твоя специальность, а если о первосвященнике — уже не твоя? — Святой отец, меня уговорили сделать бронзового «Давида», чтобы сослужить службу Флоренции. — Довольно! Ты сделаешь эту статую, чтобы сослужить службу своему папе. — Ваше святейшество, у меня вышла плохая скульптура, она не закончена. Я ничего не понимаю ни в литье, ни в отделке. — Хватит! — яростно закричал папа, весь багровея. — Тебе мало того, что семь месяцев ты не хотел меня знать и не подумал вернуться на службу! Ты хочешь взять надо мною верх и теперь. Погибший человек! — Но я еще не погиб как ваятель по мрамору, святой отец. Дайте мне возможность снова вернуться к мраморам, и вы увидите, что я самый послушный ваш слуга и работник. — Я приказываю тебе не ставить мне никаких условий, Буонарроти. Ты сделаешь мою бронзовую статую для церкви Сан Петронио, чтобы болонцы поклонялись ей, когда я уеду в Рим. А теперь иди. Тебе надо сейчас же как следует изучить главный портал церкви. Мы построим там нишу — обширную, насколько хватит места между порталом и окном. Ты должен создать бронзовую фигуру, не стесняя себя размерами, как позволит ниша. Микеланджело понял, что ему придется идти и работать над этой злополучной бронзой. Иного пути вернуться к мраморам нет. И может быть, это не более тяжкое испытание, чем те семь месяцев, которые он провел без работы, восстав против папы. Еще до наступления вечерней темноты он снова был в лагере Юлия. — Какого размера, по твоим расчетам, получится статуя? — спросил папа. — Если делать фигуру сидящей, то аршинов пять-шесть. — Дорого ли это обойдется? — Думаю, что мне удастся отлить статую, израсходовав тысячу дукатов. Но это не мое ремесло, и я не желаю отвечать за результаты. — Ты будешь отливать ее снова и снова, пока не добьешься успеха, а я отпущу достаточно денег, чтобы ты был счастлив. — Святой отец, я буду счастлив только в том случае, если моя бронзовая статуя вам понравится и вы позволите мне вновь работать над мраморными колоннами. Обещайте мне это, и я буду вгрызаться в вашу бронзу прямо зубами. — Первосвященник не вступает в сделки! — закричал Юлий. — Через неделю, начиная с этого часа, ты принесешь мне свои рисунки. Ступай! Словно раздавленный, он поплелся обратно на Виа ди Меццо ди Сан Мартино и взошел по лестнице, ведущей в квартиру Клариссы. Кларисса была в шелковом ярко-розовом платье с низким вырезом на груди, с раздутыми рукавами, — талия у нее была перетянута бархатным розовым поясом, волосы в легкой нитяной сетке, усыпанной самоцветами. Она лишь взглянула в его бледное, убитое лицо и поцеловала вмятину на горбинке носа. Микеланджело словно бы очнулся, стряхнув с себя тупое оцепенение. — Ты сегодня что-нибудь ел? — спросила она. — Одни унижения. — Вода на очаге уже закипела. Может, ты вымоешься, — это тебя освежит. — Спасибо. — Ты можешь помыться на кухне, а тем временем я приготовлю еду. И потру тебе спину. — Мне никогда не терли спину. — Тебе многое никогда не делали. — И наверное, опять не будут. — Ты расстроен. Какие-нибудь огорчения с папой? Он рассказал ей, как папа потребовал отлить свое бронзовое изваяние величиной почти с конную статую Леонардо в Милане и насколько это немыслимое дело. — А много времени тебе надо на рисунки для этой статуи? — Чтобы лишь потрафить Юлию? Не больше часа… — Так у тебя свободна целая неделя! Она наполнила горячей водой длинный овальный ушат, дала Микеланджело кусок пахучего мыла. Он разделся, кинув одежду в кухне прямо на пол, осторожно ступил в горячую воду и со вздохом облегчения вытянул ноги. — Почему бы нам не пожить эту неделю здесь, вдвоем? — сказала Кларисса. — Никто не будет знать, где ты находишься, никто не будет тебя тревожить. — И всю неделю — только любовь и любовь! Невероятно! Ни минуты не думать о глине и бронзе? — Разве я глина или бронза? Он схватил ее своими мокрыми, в мыльной пене, руками. Прижимаясь к нему, она опустилась на колени. — Сколько лет я говорил, что женские формы нельзя считать прекрасными для скульптуры. Я ошибался. У тебя самое прекрасное на свете тело. — Однажды ты сказал, что я высечена без изъяна. — Из розового крестольского мрамора. Я хороший скульптор, но тут бы мне не осилить. — Нет, ты осилил меня. Она засмеялась, и мягкий музыкальный ее смех как бы рассеял в его душе последние следы, дневных унижений. — Вытрись вот здесь, перед огнем. Крепко-крепко, до красноты, он растер себе полотенцем все тело. Потом Кларисса закутала его в другое огромное полотенце и усадила за стол, где в клубах пара стояло блюдо тонко нарезанной телятины с горохом. — Мне надо послать записку Джанфранческо Альдовранди. Он приглашал меня жить в его доме. На минуту Кларисса окаменела, словно увидев лицом к лицу свое уже забытое прошлое. — Не надо думать ничего дурного, милая. Он знает, что я рвался к тебе, — еще десять лет назад. Она успокоилась, и тело ее, расслабнув, обрело кошачью грацию. Сидя напротив Микеланджело и поставив локти на стол, она обхватила щеки ладонями и в упор смотрела на него. Он ел с волчьим аппетитом. Насытясь, он переставил свой стул к камину, на лицо и руки ему пахнуло живым огнем: Кларисса села на пол и прижалась спиной к его коленям. Он чувствовал ее тело сквозь платье, и это ощущение жгло его безжалостней, чем жар горящих поленьев. — Ни одна женщина не возбуждала меня, только ты, — сказал он. — Чем это объяснить? — Любовь не требует объяснения. — Она повернулась и, привстав, обвила его шею своими длинными гибкими руками. — Любовь требует, чтобы ею наслаждались. — И дивились на нее, — тихо сказал он. И вдруг он расхохотался, словно его взорвало. — Я уверен, у папы и в мыслях не было доставить мне удовольствие, но вот он доставил же… в первый раз.В последний день отпущенной ему недели, уже под самый вечер, когда его одолевала сладостная усталость и он уже утратил ощущение собственного тела, когда он совершенно забыл о всяких мирских заботах, в этот час он взял рисовальные принадлежности и с удивлением увидел, что у него еле хватает воли провести углем по бумаге. И он вспомнил строки Данте:
6
Он начал работу, доведенный до белого каления, и в ярости своей хотел было закончить статую, едва за нее взявшись. Лапо и Лотти великолепно знали тайны отливки, давали ему советы, как мастерить каркас для восковой модели и как удобнее одевать эту модель в толстый кожух из глины. Все четверо работали в холодном каретнике — очаг Арджиенто обогревал лишь пространство в радиусе нескольких пядей. Если бы погода была теплей, Микеланджело опять обосновался бы в открытом дворике позади церкви Сан Петронио, где когда-то высекал свои мраморные статуи. Этот дворик будет просто необходим ему, когда Лапо и Лотти начнут класть огромную, дышащую жаром печь для отливки шестиаршинного бронзового изваяния. Альдовранди направлял к нему натурщиков, суля тем из них, кто окажется похожим на Юлия, особую плату. Микеланджело рисовал от зари до зари, Арджиенто варил пищу, мыл и чистил посуду, Лотти выкладывал небольшую кирпичную печь, чтобы испытать в ней, как плавятся местные металлы, Лапо закупал все необходимое и расплачивался с натурщиками. Тосканцы говорят, что аппетит приходит во время еды; Микеланджело увидел, что умение приходит во время работы. Хотя лепку в глине — это искусство добавления — истинной скульптурой он не считал, тем не менее он убедился, что сам его характер не позволяет ему исполнять какую-либо работу небрежно и плохо. Сколь ни презирал он бронзу, все же он не мог не стараться, напрягая все свои духовные силы, создать такое изваяние папы, на какое он только был способен. Пусть папа несправедливо, нечестно обращался с ним и в Риме, и здесь, в Болонье, это не значит, что Микеланджело может быть нечестным сам. Он исполнит это гигантское бронзовое изваяние так, что оно возвысит имя и его, Микеланджело, и всего рода Буонарроти. А если оно и не принесет ему обещанного папой счастья или не даст того упоения, которое он испытывал, работая по мрамору, то, что ж, с этим придется примириться. Он был жертвой своей честной натуры, принуждавшей его делать всякую работу как можно лучше, даже в тех случаях, когда он предпочел бы бездействовать. Единственной его радостью была Кларисса. Хотя Микеланджело часто засиживался в мастерской до темноты и рисовал и лепил при свечах, две-три ночи в неделю он ухитрялся провести с Клариссой. И когда бы он ни пришел к ней, на очаге его ждала еда, которую оставалось лишь разогреть, и была приготовлена корчага горячей воды, чтобы помыться. — Я вижу, ты не так уж хорошо питаешься, — говорила она, заметив у Микеланджело проступавшие сквозь кожу ребра. — Арджиенто скверно готовит? — Беда, скорее, в другом. Я трижды ходил за деньгами к папскому казначею, и он трижды гнал меня прочь. Он говорит, что цены, которые указаны у меня в счетах, фальшивые, хотя Лапо записывает каждый потраченный грош… — А ты не мог бы приходить ко мне ужинать каждый вечер? Тогда ты наедался бы хорошенько хотя бы раз в сутки. И, едва сказав это, она расхохоталась. — Я разговариваю с тобой так, будто я тебе законная жена. У нас, болонцев, есть пословица: «От такого зла, как жена да ветер, не избавишься». Он крепко обнял ее, поцеловал в теплые, опьяняющие губы. — Но ведь художники не любят жениться? — все не успокаивалась Кларисса. — Художник живет там, где ему придется. Но ближе к женитьбе, чем сегодня, я еще не бывал. Теперь она поцеловала его сама. — Давай кончим серьезные разговоры. Я хочу, чтобы ты в моем доме чувствовал себя счастливым. — Ты исполняешь свое обещание верней, чем папа. — Я люблю тебя. Это облегчает дело. — Когда папа увидит себя в шестиаршинной бронзе, это, надеюсь, так ему понравится, что он тоже полюбит меня. Только таким путем я смогу вернуться к моим колоннам. — Неужели они так уж прекрасны, твои колонны? — «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, шея твоя как столп Давидов; два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями… Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!» Вот, как библейская Суламифь, столь же прекрасны и мои колонны...Почта из Флоренции шла через перевал Фута с большими перерывами. Микеланджело хотелось узнать, что нового дома, но он читал в письмах почти одно и то же — просьбы прислать денег. Лодовико подыскал земельный участок в Поццолатико: это была доходная земля, но задаток за нее надо было внести немедленно. Если бы Микеланджело мог прислать пятьсот флоринов или хотя бы триста… От Буонаррото и Джовансимоне — оба они работали в шерстяной лавке Строцци близ Красных ворот — изредка тоже приходили письма, и в них всегда говорилось: «Ты обещал нам собственную лавку. Нам надоело трудиться на чужих. Нам хочется зарабатывать много денег…» Микеланджело бормотал: «Мнетоже хочется», — и, закутавшись в одеяло, писал в своем вымерзшем каретнике, пока три его помощника спали на широченной кровати:
«Как только я вернусь во Флоренцию, я приставлю вас к самостоятельному делу, одних или в компании с кем-нибудь, как вы пожелаете. Я постараюсь достать денег на задаток за земельный участок. Я думаю, что у меня все будет готово к отливке статуи в середине великого поста; так что молите Господа, чтобы со статуей все обошлось благополучно; ибо если все будет хорошо, то, я надеюсь, у меня сложатся хорошие отношения с папой…»Часами Микеланджело наблюдал за Юлием, рисуя его в различных позах. Он рисовал папу, когда тот служил мессу, шествовал в процессии, разговаривал с прелатами, кричал в гневе, хохотал во все горло, откликаясь на шутку придворного, ерзал в своем кресле, принимая делегации со всей Европы, пока, наконец, рука Микеланджело сама не знала каждый мускул, каждую кость и сухожилие укрытого ризами тела старика. Затем Микеланджело возвращался в свой каретник и закреплял в воске или в глине каждое характерное движение Юлия, каждый его поворот и жест. — Буонарроти, когда ты покажешь мне свою работу? — спрашивал папа на Рождестве, только что отслужив мессу. — Я не знаю, долго ли я еще останусь здесь со своим двором, мне надо будет возвратиться в Рим. Скажи мне, когда ты изготовишься, и я приду к тебе в мастерскую. Подхлестнутые таким обещанием, Микеланджело, Лапо, Лотти и Арджиенто трудились дни и ночи — они спешили соорудить деревянный каркас высотой в пять с половиной аршин, затем, медленно, ком за комом, шпатель за шпателем добавляя глину, надо было вылепить модель, по которой отливалась уже бронзовая статуя. Сначала они вылепили обнаженную фигуру папы, сидящего на большом троне, — одна рука воздета вверх, левая нога вытянута, в точности так, как рисовал его на первоначальных набросках Микеланджело. Глядя на возникшее изображение Юлия, он испытывал острое удовольствие: столь крупная глиняная фигура оказалась точной по композиции, по линиям, по массам, по движению. Когда была готова вторая модель статуи, — ее вылепили для него Лотти и Арджиенто, — Микеланджело закутал ее в огромные полотнища холстины. Вспомнив свой римский опыт, когда он возился с тиберским илом, Микеланджело теперь смазывал эти полотнища грязью, принесенной со двора: надо было скомпоновать одеяния папы так, чтобы они не скрадывали яростной энергии его тела. Поглощенный своим замыслом, он работал как в чаду по двенадцать часов в сутки, после чего падал на кровать и засыпал, вытянувшись между Арджиенто и Лотти. На третьей неделе января он уже мог принять папу. — Если, ваше святейшество, вы по-прежнему склонны посетить мою мастерскую, модель готова для обозрения. — Великолепно! Я приду сегодня же после обеда. — Благодарю вас. И не могли ли бы вы привести с собой вашего казначея? Кажется, он считает, будто я делаю статую из дорогих болонских колбас. Юлий явился за полдень и действительно привез с собой Карлино. Микеланджело накинул стеганое одеяло на один из лучших своих стульев. Папа сел на него и, не произнося ни слова, сосредоточенно рассматривал свое изображение. Юлий был явно доволен. Он поднялся, несколько раз обошел модель вокруг, сделав одобрительные замечания о ее точности и верности натуре. Затем он остановился и недоуменно посмотрел на правую руку изваяния, воздетую в высокомерном, почти неистовом движении. — Буонарроти, эта рука — она хочет благословить или проклясть? Микеланджело пришлось мгновенно придумать ответ, ибо это был излюбленный жест папы в те часы, когда он сидел на своем троне, правя христианским миром. — Поднятая правая рука, святой отец, повелевает болонцам проявлять послушание, несмотря на то, что вы находитесь в Риме. — А левая рука? Что она должна держать? — Может быть, книгу? — спросил Микеланджело. — Книгу? — крикнул папа презрительно. — Меч! Вот что она должна держать. Я не книжник. Меч! Микеланджело усмехнулся. — А возможно, святой отец будет держать в левой руке ключи от нового храма Святого Петра? — Великолепно! Мы должны выжать на строительство собора как можно больше денег из каждой церкви, и такой символ — ключи — будет нам в помощь. Бросив взгляд на Карлино, Микеланджело добавил: — Мне надо купить семьсот или девятьсот фунтов воска на модель для отливки… Папа распорядился выдать деньги и вышел из мастерской на улицу, где его ожидала свита. Микеланджело послал Лапо в лавку за воском. Тот возвратился очень быстро. — Воск стоит девять флоринов и сорок сольди за сотню фунтов, дешевле я не нашел. Надо купить его весь сразу по этой цене — выгодней ничего не подвернется. — Иди снова в эту лавку и скажи, что, если они уступят сорок сольди, я воск беру. — Нет, болонцы не из тех, кто уступает. Если они что-то запросят, то уж не сбавят ни гроша. Какая-то странная нота в голосе Лапо насторожила Микеланджело. — В таком случае я обожду до завтра. Улучив минуту, когда Лапо был чем-то занят, Микеланджело тихонько сказал Арджиенто: — Сходи в эту лавку и узнай, какую цену там запросили. Вернувшись, Арджиенто сказал Микеланджело на ухо: — Они просят всего-навсего восемь с половиной флоринов, а если обойтись без посредника, будет еще дешевле. — Так я и думал. Лапо дурачил меня, а я верил его честному лицу. Карлино был прав. Возьми-ка вот деньги, получи в лавке счет и сиди на месте, жди, когда привезут воск. Уже затемно осел, впряженный в тележку, подвез к каретнику груз, и возчики перетащили тюки с воском в помещение. Когда возчики уехали, Микеланджело показал Лапо счет. — Лапо, ты обманывал меня и наживался. Ты наживался буквально на всем, что закупал для меня. — А почему мне не наживаться? — отвечал Лапо, ничуть не изменившись в лице. — Я получал у тебя слишком мало. — Мало? За шесть недель я выплатил тебе двадцать семь флоринов — при Соборе ты таких денег не зарабатывал. — А ты погляди — какая тут у нас нищета! Даже досыта не наешься. — Ты ел то же самое, что и мы! — с угрозой сказал Арджиенто, стискивая свои тяжелые кулаки. — Цены на пищу взвинчены вон как, папский двор и приезжие скупают все подряд. Если бы ты поменьше воровал, нам хватало бы денег вдоволь. — Еды в тавернах здесь за глаза. И вино есть в винных лавках. И женщины на улице борделей. Жить так, как живете вы, я не согласен. — Тогда езжай обратно во Флоренцию, — оборвал его Микеланджело. — Там ты будешь жить лучше. — Ты хочешь прогнать меня? Это невозможно. Я всем говорил, что я художник, что я при деле и что мне тут покровительствует папа. — Иди и скажи всем, что ты лжец и мелкий воришка. — Я пожалуюсь на тебя в Синьории. Я расскажу во Флоренции, какой ты скряга… — Будь любезен, возврати семь флоринов, которые я заплатил тебе в качестве задатка на будущее. — И не подумаю. Я беру эти деньги на дорожные расходы. И он начал укладывать и связывать свои пожитки. Тут к Микеланджело подошел Лотти и сказал извиняющимся тоном: — Кажись, мне надо тоже ехать вместе с ним. — Это почему же, Лотти? Ты в нечестных поступках не замешан. И мы были с тобой друзьями. — Ты мне очень нравишься, мессер Буонарроти, и я надеюсь поработать с тобой когда-нибудь снова. Но я приехал с Лапо, и я должен с ним уехать. Вечером в пустом каретнике гулко отдавалось эхо, а Микеланджело и Арджиенто с трудом глотали похлебку, сваренную на четверых. Дождавшись, когда Арджиенто лег в огромную кровать и заснул, Микеланджело пошел к Альдовранди. Там он написал обо всем происшедшем герольду Синьории и Лодовико. Потом он поплелся по пустынным улицам, направляясь к Клариссе. Кларисса спала. Закоченевший от холода, издерганный, еще не уняв внутренней дрожи от дневных разговоров, от гнева, от крушения своих надежд, он скользнул под одеяло и прижался к Клариссе, стараясь согреться. Ни на что иное он был уже не способен. Все еще думая о своих бедах, озабоченный, встревоженный, он лежал недвижно, с широко открытыми глазами. Когда на тебя навалилось столько тревог и несчастий, тут уж не до любви.
7
Он потерял не только Лапо и Лотти, но и Клариссу. Папа объявил, что к Великому посту он возвращается в Рим. Чтобы закончить отделку восковой модели и получить одобрение папы, у Микеланджело оставалось лишь несколько недель. Это означало, что без опытных помощников, без литейщика по бронзе, который отыскался бы в Эмилии, ему надо было работать дни и ночи, забывая о еде, о сне, об отдыхе. В те редкие часы, когда он отрывался от работы и бывал у Клариссы, он уже не мог беспечно болтать с нею, рассказывать о себе и о своих делах. Он ходил к ней только потому, что не мог сдержать свою чувственность, — страсть к ней, как голод, слепо гнала его по улицам к дому Клариссы: ему надо было схватить ее, владеть ею — и тотчас уйти, не тратя лишнего времени. Это были жалкие, случайные минуты, которые работа пока оставляла ему на любовь. Кларисса была грустна, с каждым новым его приходом она, замыкаясь в себе, становилась все скупее на ласки, пока не обнаружила полной холодности — от сладостного пыла их первых встреч теперь ничего не осталось. Уходя от нее однажды ночью, Микеланджело посмотрел на свои пальцы, обесцвеченные воском. — Кларисса, мне очень жаль, что все у нас складывается так нехорошо. Она вскинула руки, потом безнадежно опустила их снова. — Художники живут где придется… и нигде. А у тебя дом — твоя бронзовая статуя. Бентивольо прислал из Милана грума. С каретой, чтобы забрать меня отсюда… Спустя несколько дней папа в последний раз посетил мастерскую и одобрил модель — рука изваяния сжимала теперь ключи храма Святого Петра, лицо было одновременно и яростное и милостивое. Юлию понравился такой его образ, он дал Микеланджело свое благословение и наказал, чтобы Антонмария да Линьяно, болонский банкир, по-прежнему оплачивал все расходы Микеланджело. — Прощай, Буонарроти, мы увидимся в Риме. В сердце Микеланджело вспыхнула надежда. — Там мы продолжим работу над гробницей… я хочу сказать, над мраморами? — Будущее может предсказать один Господь Бог, — высокомерно ответил на это первосвященник.Отчаянно нуждаясь в литейщике, Микеланджело вновь написал герольду во Флоренцию, умоляя его послать в Болонью Бернардино, лучшего литейного мастера Тосканы. Герольд отвечал, что Бернардино приехать не может. Микеланджело обследовал всю округу, пока не отыскал пушкаря-француза, согласившегося взяться за работу, построить большую печь и отлить статую. Микеланджело вернулся в Болонью и стал ждать пушкаря. Француз так и не приехал. Микеланджело опять написал герольду. На этот раз мастер Бернардино дал согласие приехать, но требовалась не одна неделя, чтобы он мог завершить свои работы во Флоренции. Неурочная, преждевременная жара наступила в начале марта, губя весенние всходы. Болонья Жирная превратилась в Болонью Тощую. Вслед за этим пришла чума, скосив сорок семейств за несколько дней. Тот, кто умирал на улице, так и оставался лежать неубранным, никто не осмеливался прикоснуться к трупам. Микеланджело и Арджиенто перенесли свою мастерскую из каретника на двор при церкви Сан Петронио, где хоть чуть-чуть дул ветерок. Мастер Бернардино приехал в Болонью в разгар жары. Он похвалил восковую модель и быстро сложил посредине двора огромную кирпичную печь. Несколько недель ушло на опыты с огнем: Бернардино испытывал разные способы плавки, потом стал покрывать восковую модель слоями земли, смешанной с золой, конским навозом и даже волосом — толщина кожуха достигала полупяди. Микеланджело не терпелось тотчас же начать отливку и поскорей уехать из Болоньи. — Нам нельзя спешить, — внушал ему Бернардино. — Один опрометчивый шаг, — и вся наша работа пойдет насмарку. Да, ему нельзя спешить; но прошло уже более двух лет, как он поступил на службу к папе. Он потерял за это время свой дом, потерял время и не скопил никаких средств, не отложил про черный день ни скудо. Пожалуй, он единственный, кто не извлек из общения с папой никакой выгоды. Он снова перечитал отцовское письмо, доставленное утром: Лодовико представилась новая замечательная возможность вложить капиталы, и он требовал денег. О деталях дела Лодовико писать не осмеливался: детали надо было держать в секрете, чтобы никто не проведал о них и не перебежал дорогу, но ему, Лодовико, были необходимы сейчас же две сотни флоринов, иначе он лишится выгоднейшей сделки и никогда не простит Микеланджело его скупости. Чувствуя на своих плечах двойное бремя — святого и земного отца, Микеланджело пошел в банк Антонмарии да Линьяно. Он выложил перед банкиром все цифры и подробно рассказал ему о двух своих скудных годах, проведенных в услужении у Юлия, пожаловался на острую нужду. Банкир проявил полное понимание дела. — Папа уполномочил меня давать вам деньги на закупку материалов. Но спокойствие духа тоже очень важно для художника. Считайте, что мы договорились: я выдаю вам сто флоринов в счет ваших будущих расходов, и вы можете послать эти деньги отцу хоть сегодня. Альдовранди часто наведывался к Микеланджело, посмотреть, как продвигается работа. — Ваша бронза сделает меня богачом, — говорил он, вытирая лоб после осмотра печи, от которой во дворе была жара, как в преисподней. — Это почему же? — Болонцы бьются об заклад, что эта статуя чересчур велика и что вам ее не отлить. Ставят большие деньги. А я принимаю заклады. — Мы отольем статую, — мрачно отвечал Микеланджело. — Я слежу за Бернардино и вижу каждый его шаг. Этот мастер сумеет отлить бронзу и без огня. Но когда в июне Бернардино и Микеланджело начали наконец литье, произошла какая-то ошибка. До пояса статуя получилась хорошо, но почти половина всего металла осталась в горне. Он не расплавился. Чтобы освободить его, надо было разбирать горн. Пораженный ужасом Микеланджело кричал на Бернардино: — В чем дело? Отчего беда? — Не знаю. Никогда у меня раньше так не бывало. — Бернардино страдал и мучился не меньше Микеланджело. — Был, видимо, какой-то изъян во второй порции меди и олова. Мне так стыдно! Микеланджело ответил ему охрипшим голосом: — Ты хороший мастер, и ты вложил в эту работу всю свою душу. Но тот, кто работает, порой ошибается. — У меня прямо сердце изболелось от такой неудачи. Завтра же утром я начну все снова. В Болонье, как и во Флоренции или в Риме, была своя система оповещения. В мгновение ока всему городу стало известно, что отлить статую папы Микеланджело не удалось. Народ толпами собирался у двора, потом проник внутрь, желая увидеть все своими глазами. Среди этих людей был и Винченцо, — он хлопал ладонью по еще теплым кирпичам печи и, злорадствуя, говорил: — Только болонцы знают, как применять болонский кирпич. Или делать болонские статуи. Убирайся во Флоренцию, ты, сморчок! Микеланджело в бешенстве метался по двору, скоро в руках у него был железный засов от двери. Но в эту минуту во двор вошел Альдовранди, он коротко приказал Винченцо убираться, а затем выгнал и всю толпу. — Что, отливка совсем не удалась, Микеланджело? — Только наполовину. Когда мы заново сложим горн, металл опять потечет в форму. Лишь бы он стал плавиться! — Вам повезет на этот раз, я уверен. Когда Бернардино утром вошел во двор, лицо у него было совсем зеленое. — Что за жестокий город, что за люди! Они считают, что одержали победу, если у нас случилась беда. — Они не любят флорентинцев, и я вижу, что они не любят и папу. Если мы осрамимся, они убьют двух зайцев одной статуей. — Я глаз не могу поднять от стыда, когда иду по улице. — Давай будем жить здесь, во дворе, пока не подготовим новую отливку. Бернардино работал героически, днями и ночами, — он переделал горн, опробовал канавки к кожуху и к форме, испытал нерасплавившиеся металлы. Наконец, в самый зной, при слепяще ярком июньском солнце он провел новую плавку. И вот на глазах нетерпеливо ждущих Микеланджело и Бернардино расплавленный металл медленно потек из горна к кожуху. Увидев это, Бернардино сказал: — Вот и все, что от меня требовалось. На заре я выезжаю во Флоренцию. — Неужто ты не хочешь посмотреть, как получится статуя? И хорошо ли соединятся две ее половины? Потом ты мог бы смеяться в лицо болонцам! — Я не хочу им мстить, — устало отмахнулся Бернардино. — Мне бы только не смотреть на этот город. Уплати мне, что должен, и я сейчас же уеду. Так Микеланджело остался в одиночестве и был вынужден сидеть на месте, дожидаясь результатов работы. Он сидел сложа руки почти три недели, хотя вокруг Болоньи свирепствовала засуха и Арджиенто с огромным трудом разыскивал на рынках фрукты и овощи. Наконец наступил день, когда опока остыла достаточно, чтобы можно было ее разбить. Бернардино сделал свое дело. Две половины статуи соединились без заметного шва. Бронза была красной и шероховатой, но изъянов Микеланджело нигде не обнаружил. «Потрачу несколько недель на отделку и полировку, — думал он, — и тоже пущусь в дорогу». Но он недооценивал предстоящих трудностей. Шел август, потом наступил сентябрь и октябрь, вода в городе вздорожала так, что стала почти недоступной, а Микеланджело и Арджиенто по-прежнему были прикованы к проклятой ручной работе. Существа бронзы и ее тайн не знал ни тот, ни другой, опилки и бронзовая пыль забивала им ноздри, у обоих было такое ощущение, что они обречены корпеть над этой громадной статуей до конца своих дней. В ноябре статуя была все же завершена и отполирована до блестящего темного тона. С тех пор как Микеланджело приехал в Болонью, минул уже целый год. Теперь он пошел к Антонмарии да Линьяно — пусть банкир осмотрит работу и, если она ему понравится, освободит Микеланджело. Антонмария был очарован статуей. — Вы превзошли самые смелые надежды святого отца. — Я оставляю статую на ваше попечение. — Это невозможно. — Почему же? — Я получил приказ папы — вы должны сами установить статую на фасаде церкви Сан Петронио. — У нас была договоренность, что я уезжаю, как только закончу статую. — Надо подчиняться последнему приказу святого отца. — А приказал ли святой отец мне заплатить? — Нет. Сказано только, что вы должны установить статую. Отчего проистекали всяческие задержки, в точности никто не знал. Сначала была не подготовлена ниша в стене; затем ее надо было красить; потом наступили рождественские праздники, а за ними Епифаньев день… Арджиенто решил вернуться в деревню к брату. Прощаясь с Микеланджело, он не мог скрыть своего замешательства. — Художник — как бедняга землепашец; у него на ниве родятся одни хлопоты. Микеланджело не убивал время, время убивало его. Он вздыхал и переворачивался с боку на бок, катаясь по широченной своей кровати, его томила жажда работы с мрамором, руки изнывали, требуя молотка и резца, ему то и дело казалось, что он врубается в белый кристаллический камень и что сладкая ядовитая пыль уже запеклась в его ноздрях; чресла его, набухая и пульсируя, тосковали по Клариссе, по ее любви, — два эти жгучие желания непостижимо сливались в одном порыве, одном движении: «Пошел!» Во второй половине февраля явились рабочие и перевезли укутанную покрывалом статую к церкви Сан Петронио. По всему городу звонили колокола. С помощью ворота статую подняли и установили в нише над порталом работы делла Кверча. На площади Маджоре собрались толпы болонцев, слушая звуки флейт, труб и барабанов. В три часа пополудни — это время астрологи считали благоприятным для Юлия — покрывало со статуи было снято. В толпе раздались веселые крики, потом люди опустились на колени и стали креститься. Вечером на площади был устроен фейерверк. В своей поношенной, старой рубахе мастерового Микеланджело стоял в дальнем углу площади, и никто не обращал на него внимания. Статуя Юлия, освещенная огнем с треском вспыхивающих ракет, ничуть его не волновала. У него даже не было чувства облегчения. Он был ко всему безразличен и холоден. Долгое и бессмысленное ожидание, нелепая потеря времени опустошили его душу, и теперь, вялый и отупевший от усталости, он даже не думал о том, добился ли он, наконец, свободы. Он бродил по улицам Болоньи всю ночь, едва ли сознавая, где находится. Моросил холодный мелкий дождь. В кошельке у него оставалось ровно четыре с половиной флорина. На рассвете он постучал в дверь дома Альдовранди, чтобы попрощаться с другом. Альдовранди дал ему лошадь, — все было в точности так, как одиннадцать лет назад. Лишь только он выехал на холмы, дождь припустил во всю силу. Он лил без перерыва до самой Флоренции, копыта коня скользили по сырой земле и, шлепая, разбрызгивали лужи. Дорога казалась бесконечной. Ослабевшие руки Микеланджело уже не чувствовали поводьев, его одолевала страшная усталость, голова начала кружиться… и, потеряв сознание, он свалился с седла, ударившись головой о глинистые комья дороги.
8
— Мой дорогой Микеланджело, — сказал гонфалоньер Содерини, — мне кажется, что ты вымазан скорей грязью, чем бульоном из каплунов. И он откинулся в кресле, подставляя лицо под хрупкие лучи раннего марта. Прожив во Флоренции всего несколько дней, Микеланджело уже знал, что у Содерини есть веские причины быть довольным собой: благодаря стараниям его странствующего посланника, блистательного Никколо Макиавелли, которого он в свое время учил государственным делам, как Лоренцо де Медичи учил его самого, — благодаря этому дипломату Флоренция заключила серию дружественных договоров, позволяющих рассчитывать на мир и благоденствие города. — Все, кто пишет нам из Болоньи и Ватикана, единодушны: папа Юлий от твоей работы в восторге. — Гонфалоньер, те пять лет, когда я ваял «Давида», «Брюггскую Богоматерь» и тондо, были счастливейшими годами моей жизни. Я жажду лишь одного: ваять по мрамору. Содерини пригнулся к столу, глаза его поблескивали. — Синьория знает, как тебя благодарить. Я уполномочен предложить тебе чудесный заказ: высечь гигантского «Геракла» — соперника «Давиду». Если ты поставишь свои фигуры по обе стороны главных ворот дворца Синьории, то такого знатного подъезда к правительственному зданию не будет нигде в мире. У Микеланджело перехватило дыхание. «Гигант-Геракл»! Воплощение всего самого сильного и самого прекрасного в классической культуре Греции! Великолепный сделал Флоренцию Афинами Запада, — так разве же не кроется тут возможность установить связующее звено между Периклом и Лоренцо? Развить и углубить то, что он пытался наметить, создавая образ Геракла когда-то в юности? Микеланджело дрожал от возбуждения. — Можно мне снова занять мой дом? Я буду работать в мастерской над «Гераклом». — Твой дом сейчас сдан, но срок аренды скоро истекает. Я буду брать с тебя за дом плату — восемь флоринов в месяц. Когда ты начнешь ваять «Апостолов», дом снова будет твоим. Микеланджело опустился на стул, ощутив внезапную слабость. — Жить в этом доме и рубить мрамор до конца своих дней — это все, о чем я мечтаю. Да услышит мои слова всевышний! — Как у тебя дела в Риме, что с мраморами для гробницы? — спросил Содерини, и в тоне его звучало беспокойство. — Я много раз писал Сангалло. Он дал ясно понять папе, что я поеду в Рим только для того, чтобы пересмотреть договор и перевезти мраморы во Флоренцию. Я буду ваять их здесь всех сразу — Моисея, Геракла, Святого Матфея, Пленников… Микеланджело вдруг почувствовал какую-то надежду и радость, голос его зазвенел. Скользнув взглядом поверх горшков с красной геранью, расставленных его женой, Содерини оглядел крыши Флоренции. — Вмешательство в семейные дела не входит в мои обязанности, но, по-моему, пришло время освободить тебя от власти отца. Пусть отец сходит с тобой к нотариусу и подпишет формальное твое освобождение. До сих пор деньги, которые ты зарабатывал, по закону принадлежали ему. После того как отец подпишет этот документ, никаких прав на твои деньги у него не будет, ими будешь распоряжаться только ты. Ты можешь, конечно, давать ему деньги, как прежде, но это уже будет не по формальному долгу, а как бы в подарок. Несколько минут Микеланджело сидел молча. Он знал все пороки отца, но любил его; как и Лодовико, он гордился своим родом и тоже желал восстановить, возвысить фамильную честь Буонарроти среди тосканских семейств. Он медленно покачал головой. — Это не принесет добра, гонфалоньер. Все равно я буду отдавать ему все деньги целиком, если они даже будут моими по закону. — Я поговорю с нотариусом, — настаивал Содерини. — Ну, а что касается мрамора для «Геракла»… — Могу я выбрать его в Карраре? — Я напишу Куккарелло, владельцу каменоломен, что тебе требуется самый крупный и самый безупречный блок, какой когда-либо добывался в Апуанских Альпах. Вынужденный предстать перед нотариусом мессером Джованни да Ромена, Лодовико впал в отчаяние: ведь по тосканским законам неженатый сын должен подчиняться власти отца, пока тот жив. Когда Микеланджело и Лодовико, повернув от старинной церкви Сан Фиренце к Вин дель Проконсоло, шли домой, в глазах у отца стояли слезы. — Ты не захочешь оставить нас теперь, Микеланджело, не правда ли? — хныкал он. — Ты обещал купить Буонаррото и Джовансимоне собственную лавку. Нам надо приобрести еще несколько земельных участков, обеспечить доход… Пять-шесть строк, написанных на бумаге, совершенно изменяли положение Микеланджело в доме отца. Он стал теперь полноправной личностью, его нельзя было ни оскорбить, ни изгнать. Но, глядя уголком глаза на отца, он видел, что в свои шестьдесят четыре года Лодовико за десять минут разговора у нотариуса состарился на целых десять лет — так сильно согнулась его спина, сгорбились плечи. — Я всегда сделаю для семьи все, что только в моих силах, отец. Что у меня было и есть на свете? Работа да семья. Микеланджело возобновил свои дружеские отношения с Обществом Горшка. Росселли умер, Боттичелли был слишком болен, чтобы ходить на сборища, и потому Общество пополнилось новыми членами — в него были избраны Ридольфо Гирландайо, Себастьяно да Сангалло, Франчабиджо, Якопо Сансовино и весьма одаренный живописец Андреа дель Сарто. Микеланджело был в восторге от Граначчи, который закончил две работы, поглощавшие его целиком в течение нескольких лет, — «Богоматерь с младенцем Святым Иоанном» и «Евангелиста Святого Иоанна на Патмосе». — Граначчи! Ты отпетый бездельник! Ведь это не картины, а прелесть! Какой чудесный колорит, и фигуры прекрасные. Я всегда говорил, что ты станешь великим художником, если будешь работать, а не лениться. Граначчи краснел от удовольствия. — Что ты скажешь, если я предложу тебе сегодня небольшую вечеринку на вилле? Позову все Общество Горшка. — Как твоя Вермилья? — Вермилья? Вышла замуж. За чиновника из Пистойи. Потянуло к семейной жизни. Я дал за ней приданое. У меня сейчас новая девушка: волосы рыжей, чем у немки, пухленькая, как куропатка… Микеланджело узнал, что положение Контессины изменилось к лучшему: ввиду роста популярности и влияния кардинала Джованни в Риме Синьория разрешила семейству Ридольфи переехать из старого крестьянского домика на их виллу, расположенную выше в горах и, конечно, куда более благоустроенную. Снисходя к нужде Ридольфи, кардинал Джованни слал им и вещи и деньги. Контессине позволяли наезжать во Флоренцию, когда она пожелает, хотя мужу ее это было воспрещено. Контессине разрешили бы уехать и в Рим, к брату, но, поскольку Ридольфи все еще считался врагом республики, Синьория была не склонна выпускать его из-под своего надзора. Она увидела его, когда он, широко и прочно расставив ноги, разглядывал своего «Давида». — Он еще нравится тебе? Ты в нем не разочаровался? Он живо обернулся на ее голос и встретил своим взглядом ее пронзающие карие глаза, всегда так легко читавшие его мысли. От прогулки на свежем мартовском воздухе щеки ее разрумянились; она заметно пополнела; в осанке ее уже было что-то напоминающее матрону. — Контессина! Как хорошо ты выглядишь. Я рад тебя видеть. — Как тебе жилось в Болонье? — Как в Дантовом аду. — И ни одного светлого впечатления? Хотя она задала этот вопрос без всякого умысла, Микеланджело покраснел до корней своих курчавых волос, спускавшихся к широкому надбровью. — Как ее звали? — Кларисса. — Почему ты оставил ее? — Она меня оставила. — Почему ты не погнался за ней? — У меня не было кареты. — Значит, ты познал любовь, хоть какую-то ее долю? — спросила она, напрягаясь. — Познал в полной мере. Из глаз ее покатились слезы. — Прости меня, я завидую тебе, — прошептала она и пошла прочь; когда он, опомнясь, бросился вслед, ее уже не было на площади.Гонфалоньер Содерини выдал ему в счет будущей работы две сотни флоринов. Микеланджело тут же направился к юному Лоренцо Строцци, которого он знал еще с той поры, когда его семейство приобрело статую Геракла. Лоренцо Строцци был женат на Лукреции Ручеллаи, дочери сестры Великолепного, Наннины, и родственника Микеланджело по матери, Бернардо Ручеллаи. Микеланджело спросил Строцци, может ли он от имени своих братьев Буонаррото и Джовансимоне вложить в дело скромную сумму с тем, чтобы братья наконец стали получать в лавке свою часть прибыли. — Если это соглашение, мессер Строцци, оправдает себя, я буду копить от своих заработков деньги и внесу новый вклад, и тогда моим братьям будет причитаться еще больше. — Для нашего семейства это вполне приемлемо, Буонарроти. И если вы захотите, чтобы ваши братья открыли свою собственную лавку, мы в любое время будем снабжать их шерстью с наших станков в Прато. Микеланджело заглянул во двор при Соборе — там его сердечно встретили и Бэппе и каменотесы, один только Лапо отворачивался и не хотел разговаривать. — Желаешь, я тебе еще раз построю мастерскую? — спрашивал, осклабив свой беззубый рот, Бэппе. — Пока не требуется, Бэппе. Вот когда я съезжу в Каррару и привезу блок для «Геракла», тогда посмотрим. А сейчас не мог бы ты помочь мне перевезти «Святого Матфея»? Если тебе только с руки… Он облюбовал и стал ваять Святого Матфея, потому что Матфей написал первое из Евангелий Нового завета и потому что он мирно кончил свои дни, избежав насильственной смерти. Делая первые наброски «Матфея», Микеланджело представил его сосредоточенно-спокойным созерцателем, ученым — в одной руке он держал книгу, а другой подпирал подбородок. И хотя Микеланджело уже взломал, врубился во фронтальную стенку блока, неясность замысла удерживала его от дальнейшей работы. И только теперь он понял, в чем заключалась неясность: он не чувствовал подлинного, исторического Матфея. Евангелие Матфея, по сути, не было первым, ибо многое Матфей заимствовал у Марка, считалось, что Матфей был близок к Христу, но Евангелие его было написано лишь через пятьдесят — семьдесят лет после Христовой смерти… Микеланджело пошел поделиться своими сомнениями к настоятелю Бикьеллини. Глубокие голубые глаза настоятеля за увеличительными линзами очков казались крупнее, чем прежде, но лицо его, подсушенное годами, уменьшилось. — Все, что мы знаем о Святом Матфее, все спорно, — говорил настоятель в тишине своей библиотеки. — Был ли он из рода левитов, служа мытарем, сборщиком податей, у Ирода Антипы? Может быть, да, а может, и нет. Единственную ссылку на Матфея, не считая Нового завета, мы находим в греческой рукописи, да и эта ссылка ошибочная. В ней говорится, будто Матфей составил Пророчества и при этом пользовался древнееврейским языком. Но Пророчества были написаны по-гречески и предназначались для евреев, говоривших на греческом языке, чтобы показать им, что Христос не однажды был предсказан в Ветхом завете. — Что же мне делать, отец? — Ты должен создать своего собственного «Матфея», как создал своего «Давида» и свое «Оплакивание». Решительно отходи от книг, мудрость заложена в тебе самом. Какой бы «Матфей» ни возник у тебя — он и окажется истинным. Микеланджело, смеясь, качал головой: — Отец, ваши слова звучат очень лестно, — никто еще так не верил в меня, как вы. И Микеланджело начал все снова, стараясь представить себе и воссоздать такого Матфея, который бы символизировал человека в его мучительных поисках Бога. Нельзя ли изваять Матфея в спиралеобразном движении вверх, словно бы он пытался вырваться из мраморной глыбы, как вырывается человек из каменных недр многобожия, сковывавших его по рукам и ногам? И вот уже Микеланджело видит, как колено левой ноги Матфея с силой пропарывает камень, будто освобождая от тяжкой рясы весь торс, руки святого прижаты к бокам, голова судорожно, мучительно повернута в сторону — Матфей ищет пути к спасению. Теперь Микеланджело снова рубил и резал мрамор, ощущая свою власть, свое мастерство, — со свирепой радостью устремлял он резец, пробивая камень, как молния пробивает плотный слой облаков. Он весь горел, будто охваченный жаром горна, в котором закалял свои орудия; белый мрамор и телесная плоть Матфея были для него уже неразличимы, усилием своей собственной воли Матфей выдирался, ломился из блока в жажде обрести душу и вознестись с нею к Богу. Разве каждый человек, отрываясь от материнского чрева, не жаждет обрести бессмертие? Желая настроиться на более лирический лад, Микеланджело вернулся к «Богородице» Таддеи и не спеша обтачивал круглую раму, безмятежно ясное лицо Марии, шероховато-пористую поверхность тела маленького Иисуса, раскинувшегося на материнских коленях. В это время пришло известие от папы Юлия: чтобы собрать денег для строительства нового храма Святого Петра, Флоренция должна отметить торжественный юбилей — праздник Грехопадения и Искупления. — Я назначен на празднество главным художником, буду украшать все, что потребуется, — радостно объявил Граначчи. — Уже не хочешь ли ты, написав такие картины, снова заняться декорациями? Это было бы пустой тратой твоего таланта, Граначчи. Не делай этого. — У моего таланта в запасе еще уйма времени, — отвечал Граначчи. — Мужчине не мешает немного позабавиться. Всеобщее празднество, целью которого был сбор денег на предприятие Браманте, не могло забавлять Микеланджело. Торжества были отнесены на апрель. Он дал себе слово убежать из города и провести несколько дней у Тополино. Но папа вновь вмешался в его жизнь. — Мы только что получили послание Юлия, — сказал ему Содерини. — Посмотри, вот печать с изображением Святого Петра в образе Рыбаря. Папа просит тебя ехать в Рим. У него для тебя хорошие новости. — Это означает лишь одно — папа хочет дать мне возможность работать над мраморами. — Ты поедешь? — Завтра же. Сангалло пишет, что привезенные со вторым рейсом барок мраморы валяются на площади Святого Петра без присмотра. Я должен спасти их.
9
У Микеланджело чуть не вылезли из орбит глаза, когда он увидел, что его мраморы свалены в кучу, как дрова, и обесцвечены дождями и пылью. Джулиано да Сангалло схватил его за руку: — Святой отец ожидает тебя. Они прошли по малому тронному залу папского дворца, наполненному ждущими приема просителями. В большом тронном зале Микеланджело сделал шаг по направлению к трону, поклонился кардиналу Джованни де Медичи, сухо кивнул кардиналу Риарио. Увидев его, папа Юлий оборвал беседу со своим племянником Франческо, префектом Рима, и церемониймейстером Пари де Грасси. На Юлии была белая полотняная сутана и доходившая до колен, в мелких сборках, туника с узкими, облегающими рукавами, плечи его покрывала, спускаясь до локтей, алая бархатная пелерина, отороченная горностаем, горностаевая оторочка украшала и его алую бархатную шапочку. — А, Буонарроти, вот ты и снова у нас. Ты доволен статуей в Болонье, не правда ли? — Она сделает нам честь. — Вот видишь! — торжествующе воскликнул Юлий, выбрасывая свои руки в широком энергическом жесте, словно бы заключая в них весь зал. — А ты не верил в себя. Когда я обратился к тебе с этим великолепным предложением, помнишь, как ты кричал: «Это не мое ремесло!» — Подражая Микеланджело, папа произнес эти слова чуть хрипло, и, оценив его расчет, придворные расхохотались. — Теперь тебе понятно, что бронза — это тоже твое ремесло, раз ты сделал такую прекрасную статую. — Вы очень великодушны, святой отец, — пробормотал Микеланджело, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу: мысли его все еще были заняты грудой запачканных мраморов, которая лежала в нескольких сотнях саженей от этого трона. — Я буду великодушен и впредь, — с той же горячностью продолжал папа. — Я хочу поставить тебя превыше всех живописцев Италии. — …живописцев? — Да. Я нахожу, что ты — лучший мастер для того, чтобы закончить работу, начатую твоими земляками Боттичелли, Гирландайо, Росселли, — ведь я их сам нанимал расписывать фриз Сикстинской капеллы. Я поручаю тебе завершить их работу — расписать в капелле моего дяди Сикста плафон. Среди придворных раздались негромкие аплодисменты. Микеланджело замер, пораженный. К горлу его подкатила тошнота. Разве он не просил Сангалло разъяснить папе, что он согласился приехать в Рим лишь для того, чтобы ваять скульптуры для гробницы? И он вскрикнул, не сдерживая возмущения: — Я скульптор, а не живописец! Юлий в отчаянии покачал головой. — Сколько же надо хлопот, чтобы уломать тебя! Даже покорение Перуджии и Болоньи далось мне легче. — Я — не папское государство, святой отец. Зачем вам тратить драгоценное время, покоряя меня? В зале все смолкли. Вздернув бороду и в упор посмотрев на Микеланджело, папа ледяным тоном произнес: — Скажи мне, где ты получил религиозное воспитание, если ты осмеливаешься ставить под вопрос суждение своего первосвященника? — Ваше святейшество, как сказал вам один прелат в Болонье, я всего лишь невежественный художник, лишенный приличных манер. — Тогда тебе лучше высекать свои шедевры в темнице замка Святого Ангела. Стоило Юлию только взмахнуть рукой, и Микеланджело оказался бы в застенке и гнил там многие годы. Он скрипнул зубами. — Это принесет вам мало чести, святой отец. Моя специальность — мрамор. Позвольте же мне ваять Моисея, Победителей, Пленников. Множество людей будут смотреть на эти статуи и благодарить ваше святейшество за то, что вы дали возможность создать их. — Иными словами, — фыркнул папа, — я буду обязан твоим статуям тем, что войду в историю. — Они будут способствовать этому, святой отец. Теперь стало слышно даже дыхание тех, кто стоял вокруг трона. — Вы только посмотрите, — повернулся папа к кардиналам. — Я, Юлий Второй, возвративший церкви давно утраченные папские земли, добившийся покоя и порядка в Италии, покончивший со всеми скандальными историями Борджиа, я, издавший указ, который уничтожает симонию, тем возвышая авторитет Священной коллегии, я, насадивший новую архитектуру в Риме… я нуждаюсь в Микеланджело Буонарроти, чтобы утвердить свое место в истории! Лоб и щеки Сангалло стали бледными, как у мертвеца. Кардинал Джованни посматривал в окно, делая вид, будто все, что происходит в зале, его не касается. Желая чуть остынуть, папа расстегнул воротник пелерины, вдохнул побольше воздуха и заговорил снова: — Буонарроти, мои флорентинские осведомители пишут, что твой картон для фрески в Синьории — это «образец для художников всего мира»… — Ваше святейшество, — прервал его Микеланджело, кляня свою зависть к Леонардо, толкнувшую его взяться за живопись, — то была совершенно случайная работа, ее мне уже больше не повторить. Синьории требовалось украсить Большой зал еще одной фреской, на другой половине стены, которая пустовала… Я тогда просто хотел как бы отвлечься от своего обычного дела. — Чудесно. Отвлекись же от него на этот раз ради Систины. Или мы должны понять тебя так, что расписывать стену в зале флорентинской Синьории ты готов, а расписать плафон в папской капелле отнюдь не желаешь? Тишина в тронном зале делалась жуткой. Стоявший подле папы вооруженный страж сказал: — Ваше святейшество, произнесите только слово — и мы повесим этого самонадеянного флорентинца на Торре ди Нона. Папа пронзительно смотрел на Микеланджело, который стоял перед ним, не скрывая вызова, но и не защищаясь. Глаза их встретились — взор был непоколебим у того и другого. И вдруг смутная, еле заметная тень улыбки пробежала по лицу первосвященника, янтарными искорками отзовясь в глазах Микеланджело и чуть дернув его губы. — Этого самонадеянного, как ты его называешь, флорентинца, — сказал папа, — Якопо Галли еще десять лет назад считал лучшим мастером скульптуры в Италии. Таков он и теперь. Если бы я хотел, чтобы его расклевало воронье, я мог бы позаботиться об этом раньше. Он снова повернулся к Микеланджело и сказал ему тоном рассерженного, но любящего отца: — Буонарроти, ты напишешь на плафоне Сикстинской капеллы Двенадцать Апостолов и украсишь свод обычным орнаментом. Мы заплатим тебе за это три тысячи больших золотых дукатов. Мы будем рады также оплатить расходы и обеспечить заработком любых пятерых помощников, каких ты изберешь. Мы даем тебе слово первосвященника, что, когда свод Сикстинской капеллы будет расписан, ты вернешься к ваянию мраморов. Сын мой, ты свободен. Что мог сказать в ответ на это Микеланджело? Он был объявлен лучшим художником Италии, ему обещали, что он возобновит работу над гробницей. Куда ему было бежать? Во Флоренцию? Чтобы гонфалоньер Содерини кричал ему там: «Мы не можем ввязываться в войну с Ватиканом по твоей милости!» В Испанию, в Португалию, в Германию, в Англию?.. Власть папы настигнет его всюду. Спору нет, Юлий требует многого, но более ограниченный первосвященник уже давно мог бы отлучить его от церкви. А что выиграл бы он, Микеланджело, если бы он отказался поехать сюда, в Рим? Он уже пытался сделать это однажды, просидев целых семь месяцев во Флоренции. Теперь ему не оставалось ничего иного, как покориться. Он преклонил колена, поцеловал у папы перстень. — Все будет так, как того желает святой отец. Потом он стоял у главного входа Сикстинской капеллы — горькое смятение и укоры совести, как шипы, жгли его разум идушу. За спиной Микеланджело робко жался бледный, осунувшийся Сангалло: вид у него был такой несчастный, словно его выпороли. — Все это случилось из-за меня. Я уговорил папу строить торжественную гробницу, я посоветовал ему вызвать тебя для работы над статуями. И все принесло тебе одно только горе… — Ты желал мне добра. — Я не мог направлять каждый шаг папы, упаси Боже! Но догадаться, кто такой Браманте, и понять его получше я был обязан. Надо было бороться и против его чар, и против его… таланта. А мы смотрели на его происки сквозь пальцы, и вот я теперь уже не архитектор, а ты не скульптор. И Сангалло заплакал. Микеланджело заботливо провел его в притвор капеллы, обняв за вздрагивающие плечи. — Терпение, саrо, терпение. Мы еще пробьем себе дорогу и своим трудом одолеем все препятствия. — Ты молод, Микеланджело, у тебя есть в запасе время. А я стар. И тебе даже не понять, какая стена ненависти встает тут против меня. Я вызвался построить для тебя в капелле леса, так как я работал в капелле и хорошо ее знаю. Так даже в этом мне отказали. Юлий уже столковался с Браманте, чтобы леса строил он… Все, о чем я теперь мечтаю, — это вернуться домой во Флоренцию и пожить в покое, а потом уже можно и умереть. — Давай-ка будем говорить не о том как умереть, а о том, как нам обороть это архитектурное чудовище, — и жестом, в котором сквозило отчаяние, Микеланджело поднял вверх обе руки, как бы охватывая ими капеллу. — Расскажи мне поподробнее об этом… сооружении. Почему его построили таким образом? Сангалло ответил, что в своем первоначальном виде здание напоминало скорее крепость, чем капеллу. Папа Сикст намеревался использовать его в случае войны для обороны Ватикана, и кровля здания была увенчана зубчатой стенкой, из-за которой солдаты могли бы стрелять из пушек и швырять камни в нападающих. Когда соседняя башня Святого Ангела была превращена в крепость и переходами по высоким стенам соединена с папским дворцом, Юлий приказал Сангалло приподнять кровлю Систины и закрыть зубчатую стенку. Предназначенная для солдат площадка над сводом, который обязал был расписать Микеланджело, теперь стала не нужна. Яркий солнечный свет лился в капеллу из трех высоких окон, освещая на противоположной стене прославленные фрески Боттичелли и Росселли; пучки резких лучей падали на разноцветный мраморный пол. Боковые стены капеллы, длиной в девятнадцать сажен, были разделены на три яруса и поднимались на высоту почти десяти сажен, к коробовому своду: самый нижний ярус был затянут шпалерами, по второму, или среднему, ярусу шел фриз, составленный из фресок. Над фресками вдоль стены тянулся, выступая вершков на четырнадцать, кирпичный карниз. И в самом высоком, третьем ярусе были размещены окна; между окнами темнели портреты пап. Глубоко вздохнув, Микеланджело вытянул, как журавль, шею и поглядел вверх, на потолок: это выкрашенное в светло-голубой цвет и усеянное золотыми звездами огромное поле, находившееся на высоте девяти сажен, надо было заполнить орнаментальными украшениями. От верха стены, сливаясь со сводом и переходя в него, поднимались широкие падуги, разделенные пилястрами, опирающимися на третий ярус стены. Эти широкие падуги — их было по пяти на обеих продольных стенах и еще по одной на торцовых — составляли то пространство, на котором Микеланджело должен был написать Двенадцать Апостолов; над каждым окном был полукруглый люнет, обведенный сепией; над люнетами шли треугольные распалубки, тоже выкрашенные сепией. Мотивы, по которым действовал папа, навязывая Микеланджело этот заказ, стали до ужаса ясными. Дело было не в том, чтобы написать на плафоне великолепные картины, которые дополнили бы уже имеющиеся в капелле фрески, а скорей в том, чтобы замаскировать конструктивные опоры, так неуклюже и грубо соединявшие третий ярус стены с коробовым сводом. Папа приказал Микеланджело написать Апостолов, и эти изображения замышлялись лишь ради того, чтобы они притягивали взор находившихся в капелле людей и тем отвлекали внимание от несуразных архитектурных форм. Как художник Микеланджело делался теперь не просто декоратором, но и маляром, замазывающим чужие огрехи.10
Он вернулся в дом Сангалло и потратил остаток дня на письма: написал Арджиенто, убеждая его поспешить в Рим, Граначчи, уговаривая и его приехать в Рим и устроить тут настоящую боттегу, семейству Тополино, запрашивая их, не знают ли они каменотеса, который захотел бы поехать в Рим и помог ему в первоначальной обработке мраморных колонн. Утром от папы явился грум и передал приказ, что тот дом, где два года назад Микеланджело оставил свои мраморы, вновь будет его жилищем. Микеланджело пошел к Гуффатти и условился с ними, чтобы они перевезли в этот дом и мраморы с площади Святого Петра. Оказалось, что несколько самых малых блоков были уже похищены. Он искал и не мог найти Козимо, плотника; соседи считали, что он умер в больнице Санто Спирито; однако в тот же вечер к Микеланджело явился веснушчатый Пьеро Росселли и, пошатываясь, втащил какие-то узлы и свертки; скоро он уже готовил свою ливорнскую солянку. Пока она жарилась в остром соусе, Микеланджело и Росселли осмотрели дом, пустовавший с тех самых пор, как Микеланджело в спешке покинул его два года назад. Кухня, сложенная из кирпича, была некрашеная, маленькая, но достаточно удобная, чтобы в ней готовить пищу и есть. Комната, когда-то предназначавшийся для гостиной, вполне могла служить мастерской. На крытой веранде при старании можно было поместить мраморы; в двух остальных комнатах, также сложенных из некрашеного кирпича, могла бы спать вся боттега. В мае Микеланджело подписал договор на Сикстинскую капеллу и получил из папской казны пятьсот больших золотых дукатов. Прежде всего он заплатил давно просроченный долг Бальдуччи, потом опять пошел к торговцу старой мебелью в Трастевере и купил там разной утвари, поразительно напоминавшей ту, что Бальдуччи сбыл этому торговцу восемь лет назад. Затем он нанял римского мальчишку-подростка, для работы по дому. Мальчик обсчитал его, явившись с покупками с рынка, и Микеланджело пришлось тотчас же с ним расстаться. Появился второй мальчик, но, прежде чем Микеланджело успел накрыть его, тот ухитрился выкрасть несколько дукатов прямо из его кошелька. В конце недели приехал Граначчи. Еще на улице к нему пристал цирюльник и подрезал его длинные белокурые волосы. На площади Нозона Граначчи разыскал лавку модного мужского платья и пришел к Микеланджело в новых рейтузах и рубашке, в коротком, до колен, обшитом золотыми галунами плаще — на голове у него красовалась надетая набекрень маленькая гофрированная шапочка. — Как я счастлив, что ты приехал! — торжествовал Микеланджело. — За всю жизнь никого не ждал с таким нетерпением. Нам вместе надо решить, кого мы пригласим в помощники. — К чему такая спешка! — отговаривался Граначчи, и его светло-голубые глаза прыгали от возбуждения. — Ведь я в первый раз в Риме! Мне надо тут оглядеться, кое-что повидать. — Завтра я поведу тебя в Колизей, покажу термы Каракаллы, Капитолийский холм. — Всему свой черед. А сегодня мне хочется побывать в шикарных тавернах, о которых я столько слышал. — Я их почти не знаю. Ведь я бедный мастеровой. Надо расспросить о них Бальдуччи, если ты подходишь к этому делу так серьезно. — Я всегда серьезен, когда речь идет об удовольствиях. Микеланджело пододвинул к кухонному столу два стула. — Мне хочется собрать всех художников, которые работали у Гирландайо, — Буджардини, Тедеско, Чьеко, Бальдинелли, Якопо. — Буджардини приедет, можешь не сомневаться. Тедеско тоже приедет, хотя я не уверен, что он хоть на шаг продвинулся в своих познаниях живописи с тех пор, как ушел от Гирландайо. Якопо поедет куда угодно, лишь бы ему платили деньги. А если говорить о Чьеко и Бальдинелли, так я даже не знаю, занимаются ли они теперь искусством. — Кого же еще можно позвать? — В первую очередь Себастьяно да Сангалло. Он считает себя твоим последователем, каждый день рисует с твоих «Купальщиков», разъясняя твою работу молодым художникам. А пятого человека я должен поискать. Это не просто — собрать вместе сразу пятерых художников, которые были бы свободны. — Я тебе дам, если ты не возражаешь, список красок, которые надо заказать во Флоренции. В Риме краски никуда не годятся. Граначчи хитро посмотрел на своего друга. — Сдается мне, что ты не находишь в Риме ничего хорошего. — Да разве может флорентинцу что-нибудь понравиться в Риме? — Мне, наверное, что-то все-таки понравится. Я слышал об изысканных и красивых куртизанках, имеющих тут очаровательные виллы. Раз я должен жить в Риме и помогать тебе штукатурить твой плафон, мне надо найти здесь хорошую любовницу. Микеланджело получил письмо с известием, что скончался дядя Франческо. Тетя Кассандра, прожив в семье Буонарроти сорок лет, возвратилась в родительский свой дом и возбудила судебное дело против Буонарроти, чтобы заставить их вернуть ей ее приданое и заплатить долги Франческо. Хотя настоящей дружбы между Микеланджело и дядей Франческо никогда не было, чувство кровного родства говорило в нем очень сильно. Его печалила мысль, что ушел из жизни второй по старшинству в семействе Буонарроти. И помимо того на Микеланджело ложилась новая забота: отец явно хотел, чтобы Микеланджело занимался судебным делом с Кассандрой, нанимал нотариуса, следил за процессом… На следующий день он собрал все свое мужество я опять пошел в Систину. Там уже действовал Браманте, распоряжаясь артелью плотников, которые подвешивали под потолком на веревках деревянную платформу. Они просверлили в бетонном своде сорок отверстий, вставили в них трубки и пропускали через них веревки, сходившиеся воедино вверху, на военной площадке. — Вот подмостки, на которых ты будешь толочься до конца жизни. — Считай так, Браманте, если тебе угодно, но пройдет несколько месяцев — и, увидишь, все будет кончено. Браманте закашлялся, будто в горло ему попала муха. Ведь без его, Браманте, совета папа едва ли взвалил бы эту работу на флорентинца. Хмуря брови, Микеланджело осмотрел уже сколоченную платформу. — А что ты намерен делать с дырами в потолке, когда вынешь оттуда трубки? — Дыры замажем. — И как же ты рассчитываешь снова подобраться к потолку и залатать дыры, когда платформа будет внизу?.. Взлетишь, сидя верхом на орле? — …я не подумал об этом. — Так же как и о том, что я буду делать с сорока отвратительными заплатами из бетона в середине плафона, когда мне придется заканчивать живопись. Позволь мне обсудить все это с первосвященником. Папа в тот час диктовал своим секретарям несколько писем одновременно. В ясных и коротких выражениях Микеланджело объяснил, что его беспокоит. — Понимаю, — сказал Юлий. И, с озадаченным выражением лица, он повернулся к Браманте. — Так как же ты рассчитывал поступить с этими дырами? — Просто оставить их, как мы оставляем отверстия в стенах зданий, когда убираем подпорки, на которых держатся леса. Ничего другого тут не придумаешь. — Это правда, Буонарроти? — Конечно же нет, святой отец. Я придумаю такие леса, которые не будут даже прикасаться к потолку. Тогда роспись останется непопорченной. — Я верю тебе. Разбери платформу, которую построил Браманте, и возводи свои леса. Камерарий, ты оплатишь все расходы по новым лесам Буонарроти. Уже распрощавшись, Микеланджело обернулся и увидел, как Браманте, скривясь, покусывал губы. Он приказал плотникам разобрать готовую платформу. Когда все плахи и веревки лежали на полу, сутулый Моттино, старшина артели, спросил: — Эти доски мы пустим на новые леса? — Да, пустим. Но веревки мне не нужны. Ты можешь взять их себе. — Веревки — вещь дорогая. Вы можете продать их за большие деньги. — Веревки твои. Моттино сильно взволновался. — Ведь выходит, что у меня будут деньги на приданое дочери. Теперь она может выйти замуж. В Риме говорят, что с вами трудно иметь дело, мессер Буонарроти. Теперь я вижу, что это неправда. Да будет с вами благословение Божье! — Именно в этом я и нуждаюсь, Моттино. В Божьем благословении. А ты завтра будь снова здесь. Всю ночь он обдумывал, как строить леса, и убедился, что лучшая мастерская — это его собственная голова. Таких подмостков, какие он обещал папе построить, он нигде и никогда не видел, и их надо было изобрести. Резной преградой работы Мино да Фьезоле Сикстинская капелла делилась на две части. Одна из них — ее Микеланджело должен был расписывать первой — предназначалась для мирян, другая, большая, называемая пресбитериумом, отводилась кардиналам. За ней шел уже алтарь и трон папы. Примыкающая к трону стена была украшена фреской «Успение Богородицы» работы Перуджино, былого врага Микеланджело. На редкость прочные боковые стены капеллы способны были выдержать какое угодно давление. Если он построит помост из досок, крепко упертых в стены, так, чтобы эти доски давали выгиб, то чем больший вес будет давить на них, тем больший распор примут на себя стены и тем надежнее окажется весь его помост. Задача состояла в том, чтобы упереть концы досок в стены как можно прочнее, поскольку выбивать углубления в стенах было невозможно. И тут Микеланджело вспомнил выступающий над стенами карниз: если он и не выдержит веса всех лесов и находящихся на них людей, то упор для досок он даст вполне достаточный. — Что же, может, так именно оно и выйдет, — отозвался на этот проект Пьеро Росселли, которому не раз приходилось строить для себя леса. Он указывал Моттино, как крепить доски и настилать помост. Вместе с Микеланджело он испытывал его прочность, вызывая плотников одного за другим наверх. Чем больше был груз, тем крепче становились подмостки. Микеланджело и Росселли торжествовали. Хотя это была и очень скромная победа, она все же придавала им сил, чтобы взяться за постылый, но неизбежный, тяжелый труд.Арджиенто писал, что ему нельзя покинуть брата, пока не будет убран урожай. Не смог созвать художников в Рим и Граначчи, сколько писем он ни рассылал. — Придется мне ехать во Флоренцию самому и помочь кому надо завершить начатые работы. На это уйдет, может, месяца два, зато я обещаю тебе привезти сюда всех, кого ты желаешь. — А я буду тем временем готовить рисунки. Когда ты возвратишься, можно будет приняться за картоны. Надвигалось тяжкое лето. От болот ползли ядовитые испарения. Людям было трудно дышать. Половина жителей города болела — у одного ломило голову, у другого кололо в груди. Росселли, единственный теперь товарищ Микеланджело, в эти душные дни удрал в горы. Лазая по подмосткам то вверх, то вниз, Микеланджело жестоко страдал: его руки жаждали молотка и резца, но, преодолевая гнетущую духоту, ему приходилось делать по масштабу рисунки к тем двенадцати падугам плафона, на которых было намечено писать Апостолов, вырезать из бумаги формы люнетов и распалубок, предназначенных к росписи обычным, как выражался папа, орнаментом. Уже с утра от свода Систины шел жар, будто от печи, и Микеланджело жадно хватал ртом воздух. В самые знойные послеобеденные часы он, словно опьяненный каким-то зельем, ложился спать, а ночью, забравшись в сад, работал: надо было обдумать, какой пристойной росписью покрыть почти сто двадцать три квадратных сажени потолка с золотыми звездами, штукатурку которого предстояло сбить и заменить свежей. Была жара, было удушье и одиночество — какое-то разнообразие в жизнь внес только приезд сеттиньянского каменотеса Мики: Лодовико разыскал его во Флоренции и направил к Микеланджело, тем более что Мики давно мечтал побывать в Риме. Мики было под пятьдесят; рябой, неуклюжий и жилистый, весь в шишках, он был скуп на слова и говорил, как истый каменотес, отрывисто, укорачивая фразы. Мики умел готовить несколько самых простых сеттиньянских кушаний, а до его приезда Микеланджело неделями жил на одном хлебе и легком вине. В сентябре приехал Граначчи и привез с собой всю боттегу. Глядя на бывших учеников Гирландайо, Микеланджело изумился: так сильно они постарели. Несмотря на то что Якопо по-прежнему был тонок и строен, от его темных, под цвет живых карих глаз, волос мало что осталось, а морщины вокруг рта при смехе обозначались глубоко и жестко; Тедеско, из щегольства запустивший густую бороду, еще более рыжую, чем его шевелюра, погрузнел и приобрел противные повадки, служившие постоянной мишенью для острот и шуток Якопо. Все еще круглолицый, как луна, с круглыми же глазами, Буджардини не мог скрыть на макушке небольшой лысины, напоминавшей тонзуру. Себастьяно да Сангалло, новый член артели, держался с еще большей глубокомысленностью и важностью, чем в ту пору, когда Микеланджело видел его в последний раз, за что художники звали его теперь Аристотелем. В честь своего дяди Джулиано он носил пышные восточные усы. Доннино, единственного из приехавших, с кем Микеланджело был незнаком, Граначчи рекомендовал как «хорошего рисовальщика, лучшего из всей компании». Ему было сорок два года, во внешности его проглядывало что-то ястребиное: тонкий, резко очерченный нос, узкое длинное лицо, узкие, точно щели, глаза и такие же губы. Как только Граначчи убедился, что его любовница, которую он содержал все лето, еще помнит и ждет его, боттега устроила вечеринку. В Тосканской траттории Граначчи заказал белого вина фраскати — оно было в больших флягах — и дюжину лотков с закусками. Приложившись раза три к фляге с вином, Якопо стал рассказывать историю о том, как некий молодой флорентинец ходил каждый вечер в Баптистерий и громко взывал к Святому Иоанну, моля его поведать ему о поведении своей жены и будущей судьбе маленького сына. — А я взял спрятался за алтарем и говорю: «Жена твоя обыкновенная шлюха, а сына твоего — повесят!» Знаете, что он ответил? «Ты мне противен, Святой Иоанн, и от тебя никогда нельзя было добиться правды. Поэтому-то тебе и отрубили голову!» Когда хохот стих, Буджардини заявил, что ему очень хочется нарисовать портрет Микеланджело. Взглянув на его рисунок, Микеланджело воскликнул: «Буджардини, зачем же ты пересадил один мой глаз к самому виску!» Потом художники затеяли игру — все рисовали, состязаясь с Доннино, и дали ему победить себя, чтобы он завтра накормил всех за свой счет обедом. Микеланджело купил в Трастевере вторую широкую кровать. Сам он с Буджардини и Сангалло спал в комнате подле мастерской, а Якопо, Тедеско и Доннино спали в комнате внизу, под прихожей. Достав досок и козлы, Буджардини и Сангалло сколотили рабочий стол и поставили его в середине комнаты, достаточно просторной для всех шестерых. В десять часов утра явился Граначчи. — Эй, — закричал Якопо, обернувшись к товарищам. — Не давайте Граначчи брать в руки ничего тяжелого, разве что угольный карандаш: иначе у него подломятся ноги. Эта ироническая сентенция Якопо как бы заменила молебен, и боттега сразу принялась за работу со всею серьезностью. Микеланджело разостлал на столе сделанный в точных масштабах план плафона. Обширные падуги по торцовым сторонам капеллы он отводил для Святого Петра и Святого Павла; на пяти малых падугах по одной продольной стене должны были быть написаны Матфей, Иоанн, Андрей, Варфоломей и Иаков Старший, а по другой стороне — Иаков Младший, Иуда, нареченный Фаддеем, Филипп, Симон и Фома. Микеланджело сделал четкий набросок одного из Апостолов, сидящего на троне с высокой спинкой; по обеим сторонам трона были пилястры; на них, рядом с месяцеобразными волютами, были изображены крылатые кариатиды, выше них помещались четыре овальных медальона. К началу октября в доме Микеланджело был полнейший беспорядок: никто и не думал прибирать постель, варить пищу или подметать полы. Приехавший из Феррары Арджиенто был прямо-таки очарован тем, что ему придется жить в обществе шести компаньонов и целыми днями мыть, скрести и вычищать загрязненные комнаты, готовить завтраки, обеды и ужины. Немного приглядевшись к делам и узнав, над каким заказом Микеланджело трудится, он горестно говорил: — Я хочу работать по камню, быть скульптором. — Я тоже хочу быть скульптором, Арджиенто. И мы будем скульпторами, уверяю тебя, — только ты наберись терпения и помоги мне зашлепать красками этот проклятый потолок. Каждому из своих шести помощников Микеланджело отвел участок свода для разработки орнамента: розеток, рамок, кружков, деревьев и цветов с распустившимися листьями, волнообразных линий, спиралей. Мики, как заметил Микеланджело, очень полюбил растирать краски, сам Микеланджело рассчитывал готовить картоны для большинства Апостолов, два-три картона мог написать и Граначчи, по одному картону, возможно, изготовили бы Доннино и Сангалло. Он уже потратил пять месяцев, чтобы дойти до сегодняшней стадии работы, а теперь когда у него под рукой все нужные помощники и дело сдвинулось с мертвой точки, Микеланджело был уверен, что он распишет весь плафон в семь месяцев. Таким образом, он отдаст этой капелле год своей жизни. А если начать счет с того дня, когда он впервые приехал в Рим, чтобы вступить в переговоры с папой Юлием, это составит четыре года. Он закончит всю работу к маю и после этого или возьмется за свои мраморы для гробницы, или уедет домой, к Гераклову блоку, который гонфалоньер Содерини уже доставил для него во Флоренцию. Но не все складывалось именно так, как хотел бы Микеланджело. Хотя Доннино оказался действительно прекрасным рисовальщиком, как его и рекомендовал Граначчи, он очень робел переносить сделанные им наброски на красочные картоны. Якопо был великолепен в остротах и шутках и развлекал всю артель, но работы он исполнял в свои тридцать пять лет не больше, чем когда-то в пятнадцать. Тедеско проявлял неуверенность и слабость в живописи. Сангалло отваживался на все, что Микеланджело только поручал ему, но у него не хватало опыта. На Буджардини можно было вполне положиться, но, как некогда в мастерской Гирландайо, он изображал лишь плоские стены и окна, троны и пилястры. Граначчи в самом деле написал картон с собственноручным Апостолом, и написал хорошо, но он мало работал, весь отдавшись римским развлечениям. К тому же он не хотел брать денег за работу, и по этой причине Микеланджело не мог навязывать ему более продолжительный рабочий день. Сам он трудился вдвое больше и тяжелее, чем предполагал, приступая к делу, и все же ему было ясно, что работа продвигается медленно, хотя уже близился ноябрь месяц. Наконец, пришло время — это было в первую неделю декабря, — когда Микеланджело и его товарищи были готовы покрыть красками центральное поле плафона. Подле одной стены Микеланджело должен был писать Святого Иоанна, а место напротив было отведено для Святого Фомы, над которым трудился Граначчи. Задачей остальных, кто работал на лесах во главе с Буджардини, было заполнить орнаментами пространство свода между двумя этими Апостолами. Еще накануне назначенного дня Пьеро Росселли положил толстый слой штукатурки и зарешетил то место, где предстояла работа; теперь, прежде чем на нее лягут краски, ему оставалось лишь покрыть эту грубую поверхность свежим слоем раствора. С рассветом все двинулись к Систине — Мики правил осликом, запряженным в тележку — тележка была нагружена ведрами, кистями, горшками с сухими красками, картонами, кипами рисунков, костяными шильцами, мисками и бутылями с разведенной краской; на куче песка и извести в тележке сидел еще и Росселли. Микеланджело и Граначчи шли впереди, Буджардини и Сангалло шагали сразу за ними, Тедеско, Якопо и Доннино замыкали шествие. Где-то глубоко внутри, под ложечкой, Микеланджело ощущал холод и пустоту, но у Граначчи настроение было самое веселое. — Как вы себя чувствуете, маэстро Буонарроти? Могли вы когда-нибудь вообразить, что будете шагать во главе собственной боттеги, направляясь исполнить заказ на фреску? — Не представлял себе этого даже в самых диких ночных кошмарах. — Хорошо, что мы с тобою возились в свое время так терпеливо. Помнишь, как братья Гирландайо учили тебя пользоваться инструментом при разбивке стены на квадраты? Как Майнарди заставлял тебя покрывать тела темперой, Давид делать кисти из щетины белых свиней?.. — А Чьеко и Бальдинелли называли меня мошенником, когда я отказывался раскрашивать крылышки у ангела? Ах, Граначчи, и зачем только я ввязался в эту историю с фресками! Что я в них понимаю!
11
Работа шла дружно; мешки с известью поднимали наверх, и тут Мики замешивал штукатурку, а Росселли искусно накладывал ее на тот участок плафона, который предстояло сегодня расписать; он бдительно следил, не слишком ли быстро высыхает штукатурка, и время от времени взбрызгивал ее. Изо всех сил старался даже Якопо, перенося краски картона на плафон, где острием шильца из слоновой кости Буджардини уже обозначил рисунок. После того как краски просохли, Микеланджело остался на лесах один и стал смотреть, что получилось. Была расписана уже седьмая часть потолка, и можно было представить, какой вид примет весь свод, когда живопись покроет и остальную его площадь. Папа достигнет своей цели — зрителей не будут больше раздражать выступы распалубок, неясно маячившие люнеты или неуклюже спланированный свод с однообразными кружками золотых звезд. Апостолы с их пышными тронами, яркие краски, сияющие на пространстве ста квадратных сажен, скроют дурную архитектуру и отвлекут от нее взоры прихожан. Но высокая ли по своим достоинствам выходит у него работа? Творить самое лучшее, самое совершенное из возможного — это было в существе его натуры, в крови; ему постоянно хотелось превзойти границы своего умения и способностей, ибо он тогда лишь был удовлетворен своей работой, когда создавал нечто свежее, непохожее на то, что было раньше и что осязаемо расширяло само понятие искусства. Если дело касалось достоинств работы, он никогда не шел ни на какие уступки — предельная добросовестность как человека и как художника была той скалой, на которой зиждилась его жизнь. Лишь пошатни он эту скалу, прояви безразличие, не заставь себя трудиться так, чтобы падать с ног от изнеможения, поступись своим неистовым рвением — что тогда осталось бы от него самого? Он мог отлить бронзовую статую папы Юлия вдвое быстрей, если бы его удовлетворяла просто приличная статуя; и никто не стал бы упрекать его, тем более что литье бронзы не было его ремеслом, а заказ навязали ему силой. Но он потратил отнявшие у него столько энергии месяцы, ибо хотел, чтобы эта работа возвысила его имя, весь его род и всех людей искусства. Если бы он мог тогда пойти на то, чтобы создать просто приемлемую статую Юлия, ему, вероятно, было бы легче смирить свой дух сейчас и расписать плафон тоже лишь приемлемыми фресками. Микеланджело со своей артелью сумел бы при желании заполнить оставшуюся часть потолка без особых хлопот. Но ему было ясно, что фрески получаются у него далеко не блестяще. И он сказал об этом Джулиано да Сангалло. — При сложившихся обстоятельствах ты сделал все, что мог, — успокаивал его друг. Микеланджело расхаживал по гостиной Сангалло, судорожно обхватив руками плечи, не в силах унять волнения. — Нет, я не уверен, что сделал все. — Никому и в голову не придет укорять тебя в чем-то. Папа поручил тебе работу, и ты исполнил ее, как тебе было сказано. Кто поступил бы иначе? — Я. Если я сдамся и оставлю плафон таким, как он получается, я буду презирать себя. — Зачем ты принимаешь это так близко к сердцу? — Есть на свете вещи, от которых я не могу отступиться. Когда у меня в руках молоток и резец и я говорю себе: «Пошел!» — я должен быть уверен, что делаю работу без изъяна. Мне абсолютно необходимо сохранить уважение к самому себе. Если я однажды почувствую, что могу мириться с плохой работой, — в голосе его звучала и мука, и мольба о том, чтобы Сангалло поддержал его и укрепил в этом мнении, — тогда я как художник кончился. Готовя картоны для оставшейся части плафона, он заставлял свою боттегу работать не покладая рук. Мучительными своими сомнениями он ни с кем не делился, но рано или поздно надо было решать, что делать дальше. Нельзя же допускать, чтобы артель поднималась на леса и расписывала плафон, когда он уже знал, что все росписи придется счистить. А через десять суток предполагалось завершить еще одну партию картонов и перевести их на грунт. Микеланджело надо было действовать. Какую-то передышку дал ему приход Рождества. Воспользовавшись празднествами, начавшимися в Риме задолго до торжественного дня, Микеланджело приостановил работы, не показывая и виду, какое смятение у него на душе. Помощники же его, обрадовавшись свободе, веселились, как дети. Он получил письмо от кардинала Джованни. Не угодно ли Микеланджело отобедать с ним в день Рождества? Это был первый знак его внимания к Микеланджело с тех пор, как тот начал свое дерзкое сражение с папой. Микеланджело купил — впервые за несколько лет — изящную шерстяную рубашку коричневого цвета, пару соответствующих рейтуз и плащ из бежевого камлота, от которого его янтарные глаза делались еще светлее. В таком платье он и пошел слушать мессу в церковь Сан Лоренцо ин Дамазо, но его праздничное настроение было сильно омрачено запущенным видом храма, лишившегося своих прославленных каменных колонн. Ко двору кардинала Джованни на Виа Рипетта Микеланджело сопровождал грум, ливрея которого была вышита флорентинскими лилиями. Проходя по обширному переднему залу с величественной парадной лестницей, а затем по гостиной и музыкальной, Микеланджело заметил, как сильно обогатился кардинал в последнее время. На стенах висели новые картины, всюду стояли привезенные из Малой Азии античные изваяния, целый кабинет, был отведен для античных монет и гемм. Микеланджело шел медленно, с вниманием оглядывая новые для него произведения искусства и дивясь тому, что от огромного многогранного таланта своего отца Джованни унаследовал лишь одно: безупречное понимание искусства. Войдя в боковую дверь, он оказался в небольшой гостиной. Тут, у горящего камина, протянув руки к огню, сидела Контессина — на алебастровых ее щеках рдел яркий румянец. Она подняла голову. — Микеланджело. — Контессина. — Come va? — Non ce male… — …как говорят каменотесы в Сеттиньяно. — Мне не надо спрашивать, как ты себя чувствуешь. У тебя прекрасный вид. Румянец на ее щеках стал еще ярче. — Раньше ты мне никогда не говорил ничего подобного. — Но думал всегда так. Она поднялась, подавшись к нему. От нее шел запах тех же духов, к каким он привык, когда она была еще девочкой, во дворце Медичи. Тоска по тем счастливым дням вдруг нахлынула на него. — Ты уже давно вошла в мое сердце. Еще с тех пор, когда моя жизнь только начиналась. В Садах Медичи. В глазах ее светились и боль и счастье в равной мере. — Ты тоже всегда был в моем сердце. Микеланджело вспомнил, что и у стен есть уши, и мягко изменил тон разговора. — Здоровы ли Луиджи и Никколо? — Они здесь, со мной. — А Ридольфи? — Его тут нет. — Значит, ты здесь ненадолго? — Джованни вызвал меня для свидания с папой. Святой отец обещал вступиться за нас, защитить перед Синьорией. Но я не возлагаю на это никаких надежд. Мой муж по-прежнему живет лишь мыслью о свержении республики. Он говорит об этом при каждом удобном и неудобном случае. — Я знаю. И, глядя друг на друга, они задумчиво улыбнулись. — Это неосторожно с его стороны, но уж так он решил. — Она неожиданно оборвала фразу и поглядела ему в глаза. — Видишь, я все говорю о себе. Теперь я хочу поговорить о тебе. Он пожал плечами. — Борюсь, но, как всегда, терплю поражения. — Работа не удается? — Пока нет. — Еще удастся. — Ты уверена в этом? — Готова положить руку на огонь. Она протянула руку и держала ее перед собой, словно бы терпя обжигающее пламя. Ему хотелось схватить эту руку и сжать в своих руках, хотя бы на одно мгновение. А она, откинув голову, засмеялась: ей показалось забавным, что она вспомнила сейчас эту тосканскую формулу клятвы. Вслед за ней засмеялся и он, и голос его, проникая в звуки ее голоса и сливаясь с ним, словно бы притрагивался с лаской к волшебной его плоти и сущности. И он знал, что это был тоже род обладания — необыкновенного, редкостного, прекрасного и святого.Римская Кампанья — это совсем не Тоскана, и она не наполняла душу Микеланджело всепоглощающей лирической благодатью. Но она обладала своей историей и своей силой, эта плоская, распростершаяся на много верст, плодородная равнина, где то и дело встречались остатки древнеримских акведуков, когда-то доставлявших чистую воду с гор. Вот вилла императора Адриана, где он хотел воскресить славу Греции и Малой Азии и где Микеланджело не раз видел, как землекопы извлекали на свет божий мраморы, дошедшие от поколений людей, живших при Перикле; вот Тиволи с его величественными водопадами — излюбленное место загородных прогулок римлян времен Империи; романские замки, гнездившиеся на склонах Альбанских гор, среди лавы и туфа, каждый на своем отдельном утесе в ряду многих вершин, окружающих громаду кратера; от кратера расходились покрытые темно-зелеными лесами горные отроги, скатываясь вниз с той чисто скульптурной пластичностью, какую Микеланджело видел в горах вокруг Сеттиньяно. Через Фраскати и Тускулум он поднимался все выше и выше и уже бродил среди развалин виллы Цицерона, осматривал амфитеатр, форум, рухнувший храм; деревушки, сложенные из камня, были рассеяны меж холмов, возникнув в темной глубине веков, раньше римлян и этрусков; высился храм Фортуны среди стен Пренесте, окружавших десяток хижин, с Пещерой Судьбы и склепами — кто мог знать, в какие отдаленные времена их соорудили? Бродя вокруг громадного кратера вулкана, он углублялся все дальше и дальше в прошлое — белый камень, тесанный неведомо кем и когда, был расплескан по нагорью как молоко, чуть ниже уже виднелись древние поселения человека. На ночь он останавливался в крошечной гостинице или, постучав, заходил в хижину крестьянина, где платил за ужин и кровать; к вечеру у него было такое ощущение, словно горы качались у него под ногами и туф выскальзывал из-под его башмаков, — чувство чудесной усталости толчками шло от ступней и лодыжек к икрам, коленям, бедрам, поднималось к мышцам живота и поясницы. И чем глубже он проникал в древность, в отдаленные эры существования этих вулканических гор и складывавшейся на них цивилизации, тем яснее ему становилось, что он должен делать в ближайшие дни. Его помощникам придется уйти от него. Многие мастера-ваятели давали своим ученикам и подмастерьям обтесывать мраморный блок до некой безопасной грани, за которой начиналась заключенная в камне фигура, но ему, Микеланджело, надо обтесывать глыбу, обтачивать ее плоскости и углы, снимая кристаллы слой за слоем, только самому, своими руками. Ведь он не Гирландайо, который писал лишь главные фигуры и самые важные сцены, предоставляя боттеге завершать остальное. Он должен работать один, без помощников. Он уже не обращал внимания на то, как движется время; здесь, среди изваянных вулканами скал, над канувшими в вечность веками, дни, что торопливо летели друг за другом, казались такими ничтожно малыми. Он почти не замечал бега времени, зато гораздо острее стал чувствовать пространство и все старался поместить себя в воображении в центр свода Систины, как он когда-то помещал себя усилием разума в сердцевину блока Дуччио, постигая и его вес, и массу и в точности угадывая, что этот блок способен выдержать и от чего он треснет, расколется, если нарушить равновесие сил. Он уже расчистил поле, вспахал и засеял его и с открытой головой стоял теперь под солнцем и дождем. Все как бы оставалось по-прежнему, и лишь тонкий ярко-зеленый чудо-росток возвещал начало новой жизни, укрытой пока под корою его мозга. В новогоднее утро, когда его земляки-помощники праздновали приход 1509 года от Рождества Христова, Микеланджело покинул каменную хижину в горах и по овечьей тропе стал подниматься все выше и выше, пока не оказался на крутой вершине. Воздух тут был острый, ясный и холодный. Закутавшись шарфом, чтобы не заледенели рот и зубы, он стоял на утесе, а за самыми дальними отрогами, куда только достигал глаз, всходило солнце. Лучи его постепенно оживляли всю равнину Кампаньи, бросая на нее бледно-розовые и рыжевато-коричневые отсветы. Далеко-далеко был Рим, ясно видимый, весь в искрах и блестках. Еще дальше к югу открывалось Тирренское море — под голубым, по-зимнему прозрачным небом оно было пастельно-зеленым. Яркий свет заливал весь ландшафт: леса, покрывающие цепи гор, мягко изваянные лощины, холмы, маленькие города, плодородные поля, одинокие усадьбы, возведенные из камня селения, горные и морские дороги, ведущие к Риму, корабли в океане… «Что за дивный художник, — думал в благоговении Микеланджело, — что за дивный художник был Бог, сотворивший вселенную! Это был и скульптор, и архитектор, и живописец. По его замыслу появилось само пространство, и он наполнил его своими чудесами». И Микеланджело вспомнил стихи, открывающие Книгу Бытия.
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною… И сказал Бог: да воздвигнется свод посреди воды… И создал Бог свод; и отделил воду, которая под сводом, от воды, которая над сводом… И назвал Бог свод небом».…Свод… Господу Богу тоже надо было творить внутри свода! И что же он создал? Не только солнце, и луну, и само небо, а неисчислимое изобилие вещей, целый мир под этим небом. Мысли, фразы, образы из Библии потоком хлынули в его сознание.
«…И сказал Бог, да соберется вода, которая под сводом, в одно место, и да явится суша… И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями… И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя… …И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».И Микеланджело знал, знал теперь так ясно, как ничего еще не знал в своей жизни, — лишь Книга Бытия, лишь новое сотворение вселенной достойно заполнить собою свод Систины. Что может быть благороднее в искусстве, чем показать, как Господь Бог создает солнце и луну, воду и сушу, вызывает к жизни мужчину и женщину? Он создаст целый мир на плафоне Систины словно бы это был новый, никогда и никем еще не сотворенный мир. Именно этим он победит, подчинит себе непокорный свод. Это единственная тема, перед лицом которой уродливость и неуклюжесть архитектуры капеллы исчезнет, будто ее не бывало, и вместо нее возникнет сияющая красота архитектуры Господней.
12
Он спросил камерария Аккурсио, можно ли поговорить с папой наедине хотя бы несколько минут. Камерарий устроил встречу в тот же день, в вечернее время. Папа тихо сидел в малом тронном зале и диктовал секретарю письмо в Венецию, которая была самым сильным противником Ватикана в Италии. Микеланджело опустился на колени. — Святой отец, я пришел поговорить с вами насчет плафона Систины. — Да, мой сын? — Когда я уже расписал часть потолка, я понял, что работа получится посредственная. — Почему же? — Потому что, если написать одних Апостолов, впечатление будет очень бледное. Они займут слишком мало места на потолке и потеряются. — Но ведь там будут еще и орнаменты. — Я начал писать эти орнаменты, как вы мне сказали. Апостолы от них выглядят еще более жалко. Лучше было бы обойтись без всяких орнаментов. — Ты твердо уверен, что работа получится дурно? — Я размышлял об этом очень много и скажу вам по совести, что дело обстоит именно так. Сколь бы искусно ни расписал я плафон, но если мы будем придерживаться прежнего замысла, это принесет мало чести и вам и мне. — Когда ты беседуешь со мной в спокойном тоне, как сейчас, Буонарроти, я чувствую, что ты прав. И разумеется, я не допускаю мысли, что ты пришел ко мне просить позволения бросить работу. — Нет, святой отец. У меня задумана композиция, которая прославит свод Систины. — Я верю в тебя и потому не хочу спрашивать, какой у тебя замысел. Но я буду часто наведываться в капеллу и смотреть, как продвигается дело. Начиная почти все заново, ты, наверно, увеличиваешь сроки работы и ее объем раза в три? — …в пять, а может, и в шесть раз. Папа заерзал на своем троне, встал, немного походил по залу, потом остановился перед Микеланджело. — Странный ты человек, Буонарроти. Ты вопил, что фреска не твое ремесло, и едва не ударил меня в своей ярости. А вот теперь, через восемь месяцев, приходишь ко мне и предлагаешь план, который потребует куда больше и труда и времени. И кто только может понять тебя? — Не знаю, — уныло ответил Микеланджело. — Я сам себя едва понимаю. Я только знаю, что если мне приходится расписывать этот свод, то я не могу исполнить работу плохо и создать для вас что-то заурядное, если даже вы просили бы меня об этом. Чуть усмехнувшись, Юлий покачал в недоумении головой, теребя свою белую бороду. Затем возложил на темя Микеланджело руку и благословил его. — Расписывай свой плафон, как хочешь. Мы не можем заплатить тебе в пять или в шесть раз больше того, что назначили раньше. Но прежнюю сумму — три тысячи дукатов — мы теперь удваиваем и заплатим тебе шесть тысяч. Следующая задача, стоявшая перед Микеланджело, была куда деликатней и сложней. Ему надо было сказать Граначчи, что боттега распускается, что его помощники должны возвратиться домой, Микеланджело готовил Граначчи к предстоящему очень осторожно. — Я оставляю Мики, чтобы он растирал мне краски, а Росселли будет накладывать штукатурку. Все остальное я собираюсь делать своими руками. Граначчи был в ужасе. — По правде говоря, я никогда не думал, что ты способен управлять мастерской, подобно Гирландайо. Ты хотел попробовать, и я тебе помогал… Но если ты будешь работать на этих лесах один и писать всю Книгу Бытия, это займет у тебя не меньше сорока лет! — Нет, около четырех. Граначчи обхватил своего друга за плечи и стал читать по памяти: — «…И когда, бывало, приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, тоя гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его; и если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его». Ты воистину художник с отвагой Давида. — Но в то же время я большой трус. Я не могу решиться сказать обо всем нашим товарищам. Может быть, ты сделаешь это за меня?Он вернулся в Систину и оглядел свод свежим, обостренным взглядом. Вся архитектура капеллы не очень-то отвечала его новому видению и тому живописному убранству, какое он задумал. Ему нужен был другой свод, совершенно иной потолок, сооруженный с единственной целью — показать его фрески в наивыгоднейшем свете. Но он, конечно, и не подумал снова идти к папе и просить у него миллион дукатов на то, чтобы перестраивать эту капеллу, разобрав кирпичные стены, уничтожив штукатурку, военную площадку над потолком, крепкую крышу. Нет, он поступит хитрее: будучи сам себе архитектором, он преобразит этот громадный свод, применяя единственный материал, который был ему доступен: краски. Проявив величайшую изобретательность, он должен изменить вид потолка и воспользоваться его изъянами, подобно тому как он воспользовался выемкой в блоке Дуччио, направить свое воображение на такой путь, о каком ему не пришлось бы и помышлять, не столкнись он с тяжелыми препятствиями. Или он найдет в себе силы и сумеет придать всему пространству свода новый облик, или свод, сопротивляясь, раздавит и сокрушит его. Он утвердился в своей мысли написать на плафоне и множество людей, и всемогущего Бога, который создал их; он хотел запечатлеть человечество в его захватывающей красоте, в его слабости и одновременно в его неиссякаемой силе: Бог, в его могуществе, сделал возможным и то и другое. Фрески его должны быть полны трепетной, глубокой значительности и жизненности, они заставят взглянуть на вселенную совершенно по-новому: реальным миром станет свод, а мир тех, кто будет смотреть на этот свод снизу, станет иллюзией. Арджиенто и Мики сколотили для него верстак, поставив его посреди холодного, как лед, мраморного пола. Теперь Микеланджело знал, чего ему надо добиваться от свода и что в нем сказать: число фресок будет продиктовано прежде всего его желанием преобразить и исправить архитектуру свода. Ему предстояло создать убранство помещения и одновременно само это помещение. Стоя внизу, он оглядел плафон. Срединную плоскость, простирающуюся на всю длину свода, он использует для главных легенд: «Отделение Вод от Суши», «Бог, создающий Солнце и Луну», «Бог, создающий Адама и Еву», «Изгнание из Рая», «Легенда о Ное и Потопе». Теперь наконец-то он мог воздать долг благодарности делла Кверча за его великолепные библейские сцены, изваянные из истринского камня на портале церкви Сан Петронио. С точки зрения архитектурной ему требовалось заключить эту важнейшую, срединную часть фресок в некую раму, а весь длинный и узкий потолок расписать так, чтобы он смотрелся как неразрывное целое. Практически он должен был создать не один плафон, а три плафона. Ему предстояло сделаться поистине волшебником: ведь необходимо было охватить каждую пядь стен и потолка сразу, связать, объединить их в едином композиционном замысле, согласовать и сочленить живопись и архитектуру таким образом, чтобы любая деталь логически вытекала из другой и поддерживала ее, чтобы ни одна фигура или сцена не казалась зрителю изолированной. На все это требовались недели сосредоточенных дум, и каждое решение, к которому приходил Микеланджело, учитывало суровейшее обстоятельство, связанное с конструкцией плафона: восемь громоздких, далеких от изящества треугольных распалубок, по четыре на каждой стороне их вершины, идущие к середине свода, и четыре распалубки двойного размера, расположенные в углах, по торцовым стенам капеллы, с вершинами, обращенными вниз. Микеланджело потратил сотни часов, размышляя, как замаскировать, скрыть эти распалубки или, по крайней мере, лишить их господствующей роли в плафоне. И вдруг он понял, что ему надо подойти к делу с совершенно другой стороны. Он должен обратить эти распалубки в свою пользу, богато расписав их скульптурно выпуклыми фигурами, — тогда они составят сплошной фриз, внешнюю раму тех фресок, что будут написаны внутри ее, в глубине свода. Эта мысль так его взволновала, что оттеснила в его сознании все остальное, а его проворные руки, нанося рисунки на бумаге, едва успевали угнаться за ней. Двенадцать падуг между вершинами распалубок он отведет для Пророков и Сивилл, которые будут сидеть на больших мраморных тронах. Всего получится двенадцать тронов, а огибающий все четыре стороны капеллы карниз, написанный так, будто его изваяли из мрамора, соединит, свяжет эти троны. Этот внушительный, очень заметный карниз послужит как бы внутренней рамой — плафона и замкнет собою все девять центральных сюжетов росписи. По обе стороны каждого трона будут помещены похожие на мраморные изваяния младенцы-путти, над ними, обрамляя центральные фрески по углам, возникнут великолепные юноши — двадцать обнаженных тел, повернутых спиной к середине плафона; взоры этих юношей будут обращены на малые фрески, заполняющие нижние крылья потолка. Когда Росселли был уже на подмостках и молотком с двойным клювцом собрался сдирать записанную фресками штукатурку, а Мики внизу приготовился ловить в полотнище падающие куски, к Микеланджело вдруг подошел Арджиенто. По его запачканному лицу катились слезы, карие глаза потускнели. — Арджиенто, что случилось? — У меня умер брат. Микеланджело положил на плечо юноши руку: — Какая беда… — Мне надо ехать домой. Участок сейчас переходит ко мне. Я должен работать на нем. У брата остались маленькие дети. Я буду теперь крестьянином. Я женюсь на вдове брата, буду кормить детей. Микеланджело отложил в сторону перо и облокотился на верстак. — Но ведь тебе не нравится жить в деревне. — Вы будете работать на этих лесах очень долго. А я не люблю краски и росписи. Микеланджело устало подпер голову ладонями. — Я тоже не люблю их, Арджиенто. Но я напишу эти фигуры так, словно они высечены из камня. Будет такое впечатление, что любая фигура вот-вот двинется и спустится с плафона на землю. — Все равно это будет живопись. — Когда ты уезжаешь? — Сегодня после обеда. — Я буду скучать по тебе. Микеланджело выплатил Арджиенто все деньги, какие ему задолжал, — тридцать семь золотых дукатов. В результате кошелек его почти опустел. Уже девять месяцев, начиная с мая, он не получал от папы ни скудо, а за это время была приобретена мебель, покупались краски, известь и все остальное для штукатурки и росписи плафона; помимо того, он выплачивал жалованье своим помощникам, снабдил средствами на дорогу Якопо, Тедеско, Сангалло, Доннино, Буджардини, не говоря уже о том, что четыре месяца кормил их. До тех пор пока не закончена бóльшая часть плафона, он не мог допустить и мысли снова обратиться к папе и попросить у него денег. А как он может написать хотя бы одну-единственную фреску, если он еще не разработал весь план плафона целиком? Прежде чем он по-настоящему приступит к первой своей росписи, пройдет не один месяц. И вот теперь, когда дела требуют от него все больше сил и времени, он лишается человека, который готовил бы ему пищу, прибирал в комнатах или выстирал при нужде рубашку. Он сидел в тихом, замолкшем доме и хлебал деревенский суп, вспоминая о тех еще недавних днях, когда тут было так шумно и весело, когда рассказывал свои анекдоты Якопо, Аристотель читал лекции о «Купальщиках», а Буджардини неустанно восхвалял Флоренцию. Теперь в этих комнатах с голыми кирпичными стенами станет тише, но как одиноко и сиротливо он будет чувствовать себя там, на лесах, в совсем пустой капелле.
13
Он начал с большой фрески «Потоп», расположенной подле входа в капеллу. К марту у него был уже изготовлен картон в натуральную величину, и оставалось только перевести его на поверхность плафона. Зимняя стужа не смягчалась и по-прежнему свирепствовала в Риме. Капелла ужасающе промерзала. Даже сотня жаровен, расставленных на полу, не могла бы ее обогреть. Микеланджело приходилось натягивать на себя толстые шерстяные чулки, теплые штаны и плотную рубашку. Росселли, уехавший в Орвието, где ему предложили выгодный заказ, научил Мики готовить штукатурку и накладывать ее на плафон. Микеланджело помогал ему втаскивать на помост по крутой боковой лестнице мешки с известью, песком и поццоланой — вулканическим туфовым порошком. Здесь, наверху, Мики делал из этих материалов свой состав для штукатурки. Микеланджело не нравился красноватый оттенок, вызываемый примесью поццоланы, и обычно он сам добавлял в готовое тесто извести и толченого мрамора. Затем Микеланджело и Мики взбирались к самому потолку по трем платформам, расположенным ступенями, одна под другой, — их соорудил Росселли, чтобы облегчить роспись верхней части, плафона. Мики накладывал слой штукатурки, потом держал перед Микеланджело картон. Действуя костяным шильцем и применяя уголь и красную охру, Микеланджело переносил рисунок на стену. Мики спускался вниз и брался за другую свою работу — растирал краски. Микеланджело был теперь на самом верху лесов, на девять сажен от пола. Тринадцати лет поднялся он впервые на леса в церкви Санта Мария Новелла и остался на высоте один — один над пространством всего храма, всего мира. Ныне ему было тридцать четыре года, и он вновь, как и в ту давнюю пору, чувствовал головокружение. Когда его макушку отделяло от плафона расстояние лишь в четверть аршина, капелла с этой высоты казалась неимоверно пустынной. Запах влажной штукатурки бил в нос, тянуло ядовитым душком свежих, только что растертых красок. Стараясь не смотреть вниз, на мраморный пол капеллы, он брал кисть и выжимал ее, пропуская между большим и указательным пальцами левой руки: надо было следить за тем, чтобы с утра краски были жидкими. В свое время Микеланджело немало наблюдал, как работал Гирландайо; он усвоил правило, что писать фреску надо начиная сверху и уже потом расширять красочное поле вниз и в обе стороны. Однако ему не хватало опыта делать это профессионально — он приступил теперь к работе, расписывая главный узел фрески, тот, что был с левого ее края и больше его интересовал: последний кусок зеленой земли, еще не захваченный потопом; ствол согнутого бурею дерева, распростершийся в ту сторону, где плавал будущий Ноев ковчег, люди, еще живые, взбираются на берег в надежде избежать гибели; женщина сжимает в своих объятиях младенца, другой ребенок, постарше, цепляется за ее ногу; муж несет на спине обезумевшую жену; головы людей, молодых и старых, виднеются на поверхности воды, которая все прибывает и вот-вот их поглотит; и в самом верху — юноша, судорожным усилием влезший на дерево и ухватившийся за него, будто на такой высоте можно было найти спасение. Он писал, сильно запрокидывая голову, отводя назад плечи, глаза его были устремлены кверху. На лицо ему капала краска, с мокрой штукатурки стекала влага и попадала в глаза. От неловкой, неестественной позы руки и спина быстро уставали. В первую неделю работы он из осторожности разрешал Мики покрывать штукатуркой лишь небольшой участок плафона, постепенно расширяя его; он пока только искал, нащупывал очертания фигур, определял, какой тон придать обнаженному телу или голубым, зеленым и розовым пятнам одежды у тех персонажей, которые еще что-то на себе сохранили. Он чувствовал, что тратит чересчур много времени и усилий на обработку малых деталей и что при таком темпе ему действительно потребуются на работу, как предсказывал Граначчи, все сорок лет, а не четыре года. Но по мере того как он продвигался вперед, его техника становилась совершенней; эта фреска о всемирном потопе, где жизнь и смерть как бы схватились друг с другом и закружились в неистовом вихре, мало напоминала собой мертвенно-уравновешенную живопись Гирландайо. Пусть он работал медленно, это его не беспокоило: придет время, когда он овладеет новым для него мастерством в полной мере. Неделя была уже на исходе, как подул резкий северный ветер. Он свистал и заливался, целую ночь не давая Микеланджело сомкнуть глаза. Утром он пошел в Систину, замотав рот шарфом, и, взбираясь на леса, даже не знал, сможет ли отогреть руки и держать кисть. Но когда он был уже на самой верхней из платформ, выстроенных Росселли, он увидел, что браться за кисть нет нужды: фреска его погибла. Штукатурка плафона и краски за ночь нисколько не высохли. Более того, вдоль контуров дерева, сокрушаемого бурей, и с плеч мужчины, карабкающегося из воды на берег с узлом одежды на спине, катились капли влаги. От сырости на фреске выступила и расползлась плесень, поглощая краску. Мики глухо сказал, стоя позади Микеланджело: — Я плохо замесил штукатурку? Прошло несколько минут, пока Микеланджело справился с собой и ответил: — Вина тут моя. Я не умею смешивать краски для фресок. Я учился этому у Гирландайо слишком давно. А когда я писал первого своего Пророка, краски мне готовил Граначчи или другие помощники. Сам я только расписывал стену. Он с трудом спустился по лестнице, в глазах у него стояли слезы; спотыкаясь, будто слепой, поплелся он к папскому дворцу и бесконечно долго сидел, ожидая, в холодной приемной. Когда его провели к папе, того поразило горестное выражение лица Микеланджело. — Что произошло, сын мой? Ты совсем болен. — У меня страшная неудача. — Какая же именно? — Все, что я написал, все испорчено. — Так быстро? — Я говорил вам, ваше святейшество, что это не мое ремесло. — Не падай духом, Буонарроти, никогда еще я не видал тебя… побежденным… Я предпочитаю, чтобы ты нападал на меня. — Со всего плафона капает влага. От сырости местами уже проступила плесень. — И ты не можешь ее высушить? — Я совсем не знаю, что делать, ваше святейшество. Все мои краски покрылись плесенью. А по краям фрески появилась соляная кромка, она вконец губит работу. — Не могу поверить, чтобы ты с чем-то не справился и потерпел неудачу. — Папа повернулся к груму. — Сейчас же отправляйся к Сангалло, пусть он осмотрит плафон Систины и скажет мне, в чем дело. Микеланджело вышел в холодную приемную и снова стал ждать, сидя на жесткой скамье. Да, это было самое тяжелое поражение, какое он когда-либо испытывал. Сколь ни горько было ему жертвовать годами, работая над фреской, он все же породил великий замысел. Он не привык испытывать неудачи — по его представлениям, это было еще хуже, чем, подчиняясь чужой воле, заниматься не своим ремеслом. Нет сомнения, что папа сейчас откажется от него, прекратит с ним все дела, хотя его неудача с фреской не имела отношения к его искусству как ваятеля по мрамору. Конечно же, ему не дадут теперь высекать надгробие. Если художник так жестоко посрамлен, с ним покончено. Весть о его конфузе с фреской облетит всю Италию за несколько дней. Вместо того чтобы вернуться во Флоренцию с триумфом, он, забыв о всякой гордости, потащится туда, как побитая собака. Флоренции это не может понравиться. Флорентинцы будут считать, что он уронил их престиж в искусстве. Гонфалоньер Содерини будет тоже разочарован: он предполагал, что работа Микеланджело на папу принесет ему выгоду, а теперь он окажется перед Ватиканом лишь в долгу. И снова Микеланджело потеряет целый год, оставшись без настоящего творческого труда. Он был так погружен в свои мрачные мысли, что не заметил, как во дворце появился Сангалло. И, поспешно идя вместе с ним в тронный зал, он не успел подготовить себя к предстоящему разговору. — Ну, что ты обнаружил, Сангалло? — спросил папа. — Ничего серьезного, ваше святейшество. Микеланджело применяет слишком жидкую известь, и от ветра и холода из нее выступила сырость. — Я замешивал штукатурку точно в тех же пропорциях, как Гирландайо во Флоренции, — пылко возразил Микеланджело. — Я видел, как он ее готовит… — Римская известь делается из травертина. Она сохнет не так быстро. Поццолана, которую Росселли научил тебя добавлять в известь, не затвердевает в ней и часто выделяет плесень, когда штукатурка подсыхает. Советую тебе добавлять в известь вместо поццоланы мраморный порошок и лить поменьше воды. Тогда все будет в порядке. — А как с моими красками? Мне придется счистить все, что я написал? — Зачем же? Когда воздух немного согреется, он уничтожит плесень. Твои краски не пострадают. Если бы Сангалло, придя во дворец, сказал, что роспись плафона погибла, Микеланджело был бы к обеду уже в дороге, на пути во Флоренцию. А теперь он мог возвращаться к своему плафону, хотя от всего того, что он пережил в это утро, у него начала мучительно болеть голова. Ветер стал стихать. Выглянуло солнышко. Штукатурка плафона подсохла. А скорбный путь во Флоренцию вместо Микеланджело пришлось проделать Сангалло. Зайдя в дом на площади Скоссакавалли, Микеланджело увидел, что мебель в комнатах затянута простынями, а все вещи снесены вниз и сложены у двери. У Микеланджело упало сердце. — Что случилось? Сангалло покачал головой, губы у него были сурово сжаты. — Я сижу совсем без работы. Меня не зовут ни во дворец Джулиано, ни на Монетный двор, ни в один из новых дворцов. Знаешь, какой дали мне теперь заказ? Прокладывать сточные трубы на улицах! Почетный труд для папского архитектора, не правда ли? Ученики мои все перешли к Браманте. Он клялся, что захватит мое место, и, как видишь, захватил. На следующее утро семья Сангалло уехала из Рима. Ватикан этого просто не заметил. Стоя в капелле на своих лесах, Микеланджело чувствовал себя в Риме так одиноко, как никогда раньше; обводя кистью камни и последний клочок зеленой земли, захлестываемый подступавшими водами, он словно бы видел, что это он сам, а не давно погибшие люди, всеми покинутый и отчаявшийся, судорожно цепляется за пустынные серые скалы. «Потоп» потребовал у Микеланджело тридцать два дня беспрерывной упорной работы. Когда он ее заканчивал, деньги у него уже совсем иссякли. — Даже не разберешь — то ли живот у нас прирос к хребтине, то ли хребтина к животу, — подшучивал Мики. Все прежние заработки Микеланджело ушли на отцовские дома и земельные участки, из которых Лодовико рассчитывал извлекать доходы для семьи, но Микеланджело это не принесло спокойствия. В каждом письме, которое приходило из Флоренции, Микеланджело натыкался на жалобы и слезные мольбы: почему он не посылает денег своим братьям, чтобы те открыли лавку, почему не посылает денег отцу, когда тот решил прикупить еще хорошей земли, подвернувшейся ему по дешевке? Почему он бездействует, ничего не предпринимая для того, чтобы перенести судебное дело тети Кассандры в Рим, где бы он мог лучше защитить интересы семейства? И снова у Микеланджело появлялось такое ощущение, будто на его фреске был изображен он сам, а не какой-то безвестный голый и беззащитный человек, пытавшийся вскарабкаться на Ноев ковчег, в то время как другие страдальцы, в страхе потерять свое последнее убежище, угрожающе занесли над ним свои дубинки. Как же это так выходило, что только он, Микеланджело, один не достиг процветания, пользуясь своими связями с папой? Юный Рафаэль Санцио, недавно привезенный в Рим своим земляком-урбинцем Браманте, который был старым другом семейства Санцио, тут же обеспечил себя частными заказами. А от изящества и обаяния его работ папа пришел в такой восторг, что поручил Рафаэлю украсить фресками станцы — комнаты в новых своих апартаментах, куда он хотел переехать из палат Борджиа, внушавших ему отвращение. Те фрески в станцах, которые начали писать Синьорелли и Содома, папа приказал закрасить, оставив лишь работы Рафаэля. Получая от папы щедрое содержание, Рафаэль снимал пышно обставленную виллу, поселив там красивую молодую любовницу и наняв целый штат слуг. Рафаэля уже окружали поклонники и ученики; он вкушал самые спелые плоды римской жизни. В числе немногих близких людей папа приглашал его с собой на охоту, звал на обеды в кругу друзей. Его можно было увидеть в Риме всюду; всеми он был обласкан, всем нравился; со всех сторон на него сыпались новые заказы и предложения; украшать свой летний павильон его просил даже банкир Киджи. Микеланджело угрюмо оглядел голые кирпичные стены своего дома, тускло-коричневые, унылые, без занавесей и ковров, остановил взор на скудной подержанной мебели, купленной у старьевщика. Когда Рафаэль появился в Риме, Микеланджело ожидал, что он придет к нему и знакомство их продолжится. Но Рафаэль не дал себе труда сделать сотню шагов и зайти к нему в это жилище или Систину. Однажды вечером, когда Микеланджело, кончив работу, шел по площади Святого Петра, весь, начиная с волос, забрызганный краской и штукатуркой, он увидел Рафаэля; тот шагал навстречу ему, окруженный поклонниками, учениками и просто праздными молодыми людьми. Поравнявшись с Рафаэлем, Микеланджело сказал сухо: — Куда это ты идешь с такой свитой, будто князь? Не замедляя шага, Рафаэль язвительно ответил: — А куда идете вы в одиночестве, будто палач? Эта фраза заронила в душу Микеланджело немалую каплю яда. Он сознавал, что одиночество его было добровольным, но и эта мысль ничуть его не утешала. Он поплелся дальше и, добравшись до своего рабочего стола, усердной работой заглушил и чувство голода, и чувство сиротливости: он готовил рисунок для второй своей фрески, «Жертвоприношение Ноя». По мере того как пальцы его двигались все проворнее и мозг работал яснее, на бумаге оживали и Ной, и его престарелая жена, и три Ноевых сына с их женами, и предназначенный в жертву Богу овен, а комната казалась Микеланджело уже не такой мрачной и пустой: в самом ее воздухе как бы струилась энергия, наполняя все вокруг силой и цветом. Чувство голода и чувство неприкаянности постепенно куда-то отступали. У него возникло ощущение родства и близости к этим только что родившимся старцам и юношам и к этому миру, созданному им самим. В глубокой тишине ночи он говорил себе: — Когда я в одиночестве, я не более одинок, чем на людях. И он вздыхал, хорошо зная, что он жертва своего собственного характера.14
Папа Юлий нетерпеливо ждал случая посмотреть первую фреску, но как ни нуждался Микеланджело в деньгах, он не прерывал работы еще десять дней и написал «Дельфийскую Сивиллу» и «Пророка Иоиля» — они были размещены на своих тронах по обеим сторонам малой фрески «Опьянение Ноя». Микеланджело хотелось показать папе достойные образцы фигур, которыми он предполагал окружить центральную часть плафона. Юлий поднялся по лестнице на леса и вместе с Микеланджело стал разглядывать фреску — пятьдесят пять мужчин, женщин и детей, в большинстве своем показанных во весь рост; лишь немногие были погружены в пучину вод, держа на поверхности свои головы и плечи. Папа поговорил о величественной красоте и осанке темноволосой «Дельфийской Сивиллы», расспросил о старике с космами седых волос, несущем своего мертвого юношу сына, о Ноевом ковчеге, который вырисовывался на заднем плане и напоминал древнегреческий храм, полюбопытствовал насчет того, что будет написано на других участках плафона. Микеланджело уклонялся от прямых ответов: ему нужно было сохранить за собой право менять свои планы и замыслы по мере того, как работа будет подвигаться вперед. Юлий был чрезвычайно доволен всем увиденным и воздержался от каких-либо замечаний. Он спокойно спросил: — Остальной плафон будет столь же хорош? — Он должен быть еще лучше, святой отец, ибо я только учусь, как применять законы перспективы на такой высоте. — Твои фрески на плафоне совсем не похожи на те, которые находятся внизу. — Когда я напишу несколько новых фресок, уверяю вас, разница еще увеличится. — Ты меня порадовал, сын мой. Я прикажу казначею выдать тебе следующие пять сотен дукатов. Теперь Микеланджело мог послать денег домой и утихомирить на время семейство, мог купить еды про запас, приобрести необходимые материалы для работы: он думал, что впереди его ждут спокойные месяцы, когда он будет работать без помех и примется писать «Райский Сад», «Сотворение Евы», а затем и сердцевину всего плафона — «Бога, творящего Адама». Но наступившие месяцы принесли ему все, что угодно, кроме спокойствия. Дружески настроенный к Микеланджело камерарий Аккурсио дал ему знать, что его «Оплакивание» хотят вынести из храма Святого Петра: рабочей армии Браманте, состоявшей из двух тысяч пятисот человек, надо было разобрать южную стену базилики и освободить место для возводимых пилонов. Взбежав по длинному лестничному маршу базилики, Микеланджело увидел, что «Оплакивания» уже нет на старом месте, — статуя, ничуть не поврежденная, была теперь установлена в маленькой часовне Марии Целительницы Лихорадки. Успокоившись, Микеланджело отошел в сторону и стал смотреть, как рабочие Браманте закрепляли на древних колоннах южной стены петли канатов; затем, не веря своим глазам, с таким чувством, будто внутри у него все оборвалось, он увидел, как эти древние колонны из мрамора и гранита, рухнув на каменный пол, раскололись вдребезги. Обломки колонн вывозили на свалку, словно дикий булыжник. Когда, дробя античные изразцы пола, упала южная стена, она разрушила и те памятники и надгробья, которые были подле нее. А как мало потребовалось бы средств, чтобы в полной сохранности перенести эти сокровища в другое место! Через два дня на дверях дворца Браманте белела подметная бумажка, в которой Браманте был назван Руинанте. По всему городу передавали басню о том, как Браманте постучался в двери рая, а Святой Петр не пустил его туда, сказав: «Зачем ты разрушил мой храм в Риме?» В ответ на это Браманте будто бы спросил Святого Петра, неужели тот предпочитает, чтобы он, Браманте, разрушил самый небесный свод и перестроил его по-своему. Насколько Микеланджело знал, ключи от Систины были только у него и у камерария Аккурсио. Микеланджело настаивал на этом с самого начала, чтобы никто не мог ни шпионить за ним, ни нарушать его уединения. Но когда он, работая в той части капеллы, которая была предназначена для мирян, начал писать сидящего на огромном троне Пророка Захарию, у него появилось ощущение, будто кто-то заходит в Систину по ночам. Никаких осязаемых доказательств у него не было, ничего в капелле не передвигалось, но он чувствовал, что чья-то рука трогала его вещи и клала их не так, как они были оставлены накануне. Кто-то в его отсутствие поднимался на леса. Однажды Мики спрятался у двери капеллы и обнаружил: в Систину приходил Браманте, и не один, а, как показалось Мики, вместе с Рафаэлем. Значит, у Браманте тоже были ключи от Систины. Являлись соглядатаи в капеллу очень поздно, за полночь. Микеланджело пришел в бешенство: ведь пока он закончит свой свод и откроет его для обозрения, все его новые живописные приемы будут уже применены Рафаэлем в его фресках в станцах! Разве по римским работам Рафаэля не было видно, как тщательно он изучил Микеланджеловых «Купальщиков»? Выходит, Рафаэль осуществит переворот в живописи, а его, Микеланджело, будут считать только копиистом! Микеланджело попросил камерария Аккурсио устроить ему встречу с Юлием. Он прямо заявил папе, что какие бы новшества он, Микеланджело, ни придумал, у него нет возможности утаить их от Рафаэля. Браманте стоял рядом и не произносил ни слова. Микеланджело потребовал, чтобы ключ от капеллы у него был отнят. Папа попросил Браманте передать ключ Аккурсио. Так разрешился второй кризис в работе Микеланджело над сводом. Он снова вернулся в капеллу. А назавтра пришло письмо от племянницы кардинала Пикколомини, который так недолго был папой Пием Третьим. Семейство Пикколомини настаивало, чтобы Микеланджело высек оставшиеся одиннадцать статуй для сиенского алтаря или же возвратил сто флоринов денежного аванса, за который в свое время давал поручительство Якопо Галли. Микеланджело не мог выплатить сейчас сотню флоринов. Помимо того, Пиколомини уже должны были ему деньги за одну статую, которую он для них изваял. В другом письме, от Лодовико, говорилось, что, когда отец был занят ремонтом дома в Сеттиньяно, Джовансимоне повздорил с ним и даже замахнулся на него, угрожая побить, а затем поджег и дом и амбар. Урон от огня был небольшой, поскольку оба строения были каменные, но от таких тяжких переживаний Лодовико заболел. Микеланджело послал денег на ремонт и дал в ответном письме нагоняй брату. Все четыре истории вконец расстроили Микеланджело. Работать по-настоящему он был уже не в силах. И в то же время жажда ваять из мрамора охватила его с такой мучительной силой, что он изнемогал, не в состоянии бороться с собой. И ему захотелось снова побывать в Кампанье: он шел по ней большими переходами, покрывая версту за верстой, и жадно глотал чистый воздух, словно бы стараясь доказать себе, что у него есть объем, есть три измерения. В дни гнетущих своих тревог, в дни самых безнадежных дум он получил известие от кардинала Джованни — тот вызывал его к себе во дворец. Неужто стряслось еще что-то дурное? Джованни сидел, одетый в свою красную мантию и кардинальскую шапочку, его бледное одутловатое лицо было чисто выбрито, на Микеланджело пахнуло знакомым запахом крепких флорентинских духов. За спиной кардинала стоял Джулио, мрачный, с угрюмо сдвинутыми бровями. — Микеланджело, я жил с тобой под одной крышей в доме моего отца и питаю к тебе самые теплые чувства. — Ваше преосвященство, я всегда это знал. — Вот почему я хотел бы, чтобы ты постоянно бывал в моем дворце. Ты должен бывать у меня на обедах, находиться при мне, когда я выезжаю на охоту, скакать на коне в моей свите, когда я еду по городу, направляясь служить мессу в церковь Санта Мария ин Доменика. — Но, ваше преосвященство, к чему мне все это делать? — Я хочу показать Риму, что ты принадлежишь к самому близкому моему кругу. — Разве вы не можете просто объявить об этом хоть всему городу? — Слова ничего не значат. В этот дворец приходят духовные лица, высшая знать, богатейшие купцы. Когда эти люди увидят, что ты здесь постоянный гость, они поймут, что ты находишься под моим покровительством. Я уверен, что этого хотел бы и мой отец. Благословив Микеланджело, Джованни вышел из комнаты. Микеланджело посмотрел на Джулио: тот шагнул вперед и тихим, приветливым голосом сказал: — Ты знаешь, Буонарроти, кардинал Джованни владеет искусством не наживать себе врагов. — В нынешнем Риме для этого надо быть гением. — Кардинал Джованни и есть такой гений. Никто из кардиналов не пользуется в коллегии такой любовью, как он. И он чувствует, что ты нуждаешься в его добром отношении. — Это почему же? — Браманте поносит и клянет тебя, обвиняя в том, что это ты приклеил к нему прозвище Руинанте. Число твоих недругов под влиянием этого урбинца возрастает с каждым днем. — И кардинал Джованни хочет заступиться за меня? — Не нападая на Браманте. Если ты станешь близким другом нашего дома, кардинал, не говоря Браманте ни одного сердитого слова, заставит умолкнуть всех, кто тебя порочит. Микеланджело вновь взглянул в тонкое, красивое лицо Джулио; впервые в жизни он почувствовал к нему какую-то симпатию, так же как впервые Джулио проявил по отношению к нему дружеское расположение. По извилистой тропинке Микеланджело взобрался на холм Яникулум и отсюда окинул взором рыжевато-коричневые крыши Рима, уступами сбегавшие по холмам, Тибр, вьющийся как огромная змея или гигантская буква S. Он все спрашивал себя, можно ли в одно и то же время принадлежать к приспешникам кардинала Джованни и расписывать плафон Систины. В нем говорило чувство благодарности к Джованни за то, что тот хотел помочь ему, и он действительно нуждался в помощи. Но даже не будь он занят работой целые дни и ночи, мог ли он сделаться прислужником кардинала? Ведь он совсем не умеет предаваться светским забавам, да и не питает никакой любви к свету. Как ни стремился он возвысить положение художника и добиться того, чтобы его отличали от простого ремесленника, от мастерового, все же он твердо знал: художник — это человек, который должен постоянно трудиться. Годы летят так быстро, препятствия, стоящие перед художником, столь серьезны и многочисленны, что, если он не будет работать, напрягая свои силы до предела, он никогда не сможет раскрыть себя и создать целое полчище изваяний. Это немыслимо, чтобы он, Микеланджело, поработав над плафоном два-три утренних часа, тут же шел мыться, отправлялся во дворец и любезничал там, болтая с тремя десятками гостей, и долго, не считая времени, сидел за столом, поглощая изысканные блюда!.. Когда Микеланджело благодарил кардинала Джованни и объяснял ему причины, по которым он не мог воспользоваться его предложением, тот слушал очень внимательно. — Почему это невозможно для тебя, а Рафаэлю все дается так легко? Он тоже исполняет большую работу, и с высоким мастерством, и все же он каждый день бывает на обедах то в одном, то в другом дворце, ужинает с близкими друзьями, ходит на спектакли и только что купил чудесный дом в Трастевере для своей новой дамы сердца. Ты не будешь оспаривать, что он живет полной жизнью. Заказы предлагают ему чуть ли не каждый день. И он ни от чего не отказывается. Почему же он все это может, а ты нет? — Честно говоря, ваше преосвященство, я не знаю, как вам это объяснить. Для Рафаэля работа над произведением искусства — это вроде яркого весеннего дня в Кампанье. Для меня — это трамонтана, холодный ветер, дующий в долины с горных вершин. Я работаю с раннего утра до наступления темноты, потом при свечах или масляной лампе. Искусство для меня — это мучение, тяжкое и исступленно радостное, когда оно удается хорошо. Искусство держит меня в своей власти постоянно, не оставляя ни на минуту. Когда я вечером кончаю работу, я опустошен до предела. Все, что было у меня за душой, я уже отдал мрамору и фреске. Вот почему я не могу тратить своих сил ни на что другое. — Даже тогда, когда это в твоих же жизненных интересах? — Самый жизненный мой интерес — это как можно лучше исполнить свою работу. Все остальное проходит как дым.15
Он поднялся на свой помост, твердо решив, что никакие дела и хлопоты ни в Риме, ни во Флоренции не отвлекут его больше от работы. У него уже были готовы рисунки для всего плафона — предстояло написать три сотни мужчин, женщин и детей, вдохнуть в них могущество жизни, сделать их трехмерными, как трехмерны люди, живущие на земле. Та сила, которая должна была сотворить их, таилась внутри него, ей надо было только прорваться. От него требовалась дьявольская энергия: ведь, корпя над работой не один день и не одну неделю, а целые месяцы, он был обязан придать каждому персонажу свой, только ему присущий характер, ум, душу, склад тела и все это сделать с такой озаренностью, чувством монументальности и напором, чтобы редкие из земных людей могли сравниться с ними в своей мощи. И каждая фигура, каждый персонаж должен был быть выношен им где-то внутри и рожден, вытолкнут, как из чрева, бешеным усилием воли. Ему, Микеланджело, надо было напрячь все свои созидательные способности, животворное его семя должно было возрождаться в нем каждый день заново и, пуская ростки, рваться в пространство, заполнять плафон, творя вечную жизнь. Создавая своими руками и разумом облик Бога-Отца, он сам был словно Божественная Матерь, корень и источник благородного племени, получеловек, полубог, каждую ночь сам себя насыщающий плодородящей силой и вынашивающий зачатый плод до зари, чтобы потом на одиноком зыбком ложе, поднятом почти к небесам, произвести род бессмертных. Даже всемогущий Господь, сотворивший солнце и луну, сушу и воду, злаки и растения, зверей и пресмыкающихся, мужчину и женщину, даже господь изнемог от такой бурной созидательной работы. «И увидел Бог все, что он создал, и вот, хорошо весьма». Но в той же Книге Бытия сказано далее: «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он сделал, и почил в день седьмой от всех дел своих…» Как же не изнемочь и не истощиться ему, Микеланджело Буонарроти, если он работает из месяца в месяц, не зная ни приличной пищи, ни отдыха, будучи сам человеком небольшого, всего в два аршина и четыре с половиной вершка, роста и веся лишь сотню фунтов, то есть не более чем какая-нибудь флорентинская девушка из благородной семьи? Когда он возносил мольбу к господу, говоря: «Боже, помоги мне!» — он молился самому себе, стремясь сохранить силу духа и не сломиться, поддержать телесную бодрость и укрепить волю, дабы явить в творчестве все свое могущество и постоянно видеть своим внутренним взором иной мир, более героический, чем земной. Уже тридцать дней он писал от зари до зари, завершая «Жертвоприношение Ноя», четырех юных титанов, сидящих по углам этой фрески, «Эритрейскую Сивиллу» и «Пророка Исайю», помещенных друг против друга, на противоположных падугах, а возвращаясь домой, принимался готовить картон «Изгнание из Рая». Уже тридцать дней он спал, не раздеваясь, не снимая даже башмаков, и когда однажды, закончив очередную часть плафона, еле живой от усталости, велел Мики снять с себя башмаки, то вместе с башмаками у него слезла с ног и кожа. Он забыл в своем рвении всякую меру. Работая стоя под самым потолком, он должен был закидывать голову, оттягивать назад плечи и сильно выгибать шею, отчего у него начиналось головокружение и ломота во всех суставах; в глаза ему капала краска, хотя он привык щурить их при каждом взмахе кисти, как когда-то щурил, оберегаясь от летящей мраморной крошки. Трех подставок, сооруженных Росселли, ему уже не хватало, и тот построил четвертую, еще выше. Он писал и в сидячем положении, весь скорчившись, прижимая для равновесия колени к животу, и приникал к плафону так близко, что от глаз до потолка оставалось лишь несколько дюймов: в тощих его ягодицах скоро появлялась такая боль, что невозможно было терпеть. Тогда он откидывался на спину и подтягивал колени почти к подбородку с тем, чтобы поддерживать ими руку, протянутую к потолку. Поскольку он больше не заботился о своей внешности и совсем не брился, его борода стала превосходной мишенью для падавшей с потолка краски и воды. И как бы он ни вытягивался, как ни сгибался, какую позу ни принимал, вставал ли на колени, ложился на спину или вновь поднимался, он все время испытывал огромное напряжение. Затем он решил, что он слепнет. Получив письмо от брата Буонаррото, он начал было читать его, но перед глазами у него поплыли какие-то неясные пятна. Он отложил письмо, умылся, рассеянно подцепил несколько раз вилкой безвкусные макароны, сваренные для него Мики, и снова взялся за письмо. Он не мог разобрать в нем ни слова. В отчаянии он лег на кровать. Что он делает с собой? Он отказался исполнить простую работу, о которой просил его папа, и замыслил совсем другой план, и вот теперь он выйдет из этой капеллы сгорбленным, кривобоким, слепым карликом, потерявшим человеческий облик и постаревшим по своей собственной великой глупости. Как Торриджани искалечил ему лицо, так этот свод искалечит все его тело. Он будет носить шрамы от сражения с этим плафоном до самой своей кончины. И почему только у него все складывается так дурно и несчастливо? Он мог бы потрафить папе, избегая с ним стычек, и давно жил бы уже во Флоренции, наслаждаясь обедами в Обществе Горшка, любуясь своим уютным и удобным домом и работая над изваянием Геракла. Совсем лишившись сна, страдая от боли во всем теле, чувствуя тоску по родине и страшное свое одиночество, он встал в черной, как чернила, темноте, зажег свечу и на обороте старого рисунка принялся набрасывать строки, стараясь этим как бы облегчить свое горе.Мики наткнулся на колонию каменотесов в Трастевере и теперь проводил с ними все вечера и праздники. Росселли ездил то на юг, в Неаполь, то на север, в Витербо и Перуджию, и, как признанный мастер своего дела, штукатурил стены под роспись. Микеланджело безвыездно жил в Риме. И никто больше не заглядывал к нему, никто не приглашал к себе. Разговоры его с Мики касались главным образом растирания красок и заготовки материалов, нужных для работы на лесах. Он вел такой же затворнический образ жизни, как монахи в Санто Спирито. Он уже не ходил в папский дворец беседовать с Юлием, хотя папа, после второго посещения капеллы, прислал ему тысячу дукатов на расходы. Ни одна живая душа больше не появлялась в Систине. Когда Микеланджело шел из своего дома в капеллу и из капеллы домой, он спотыкался, будто слепец, и с трудом переходил площадь: голова его была опущена, он никого не замечал. Прохожие тоже больше не обращали внимания на его запачканные красками и известью платье, лицо, бороду, волосы. Кое-кто считал его сумасшедшим. «Помешанный, — такое слово было бы вернее, — бормотал Микеланджело. — Когда я провел весь день на Олимпе среди богов и богинь, как мне снова примениться к этой жалкой земле?» Он и не пытался этого сделать. Ему было довольно того, что он достиг своей главной цели: жизнь людей на его плафоне была реальной, истинной жизнью. На тех же, кто был на земле, он смотрел как на призраков. Его ближайшими, сердечными друзьями были Адам и Ева, написанные на четвертой большой фреске плафона. Онизобразил Адама и Еву в Райском саду не болезненно-слабыми и боязливыми, а могуче сложенными, живыми и прекрасными созданиями; в них чувствовалась такая же изначальная естественность, какая была в камне, у которого они остановились, подойдя к обвитому змием дереву, и они поддались искушению скорей от спокойного сознания своей силы, чем от младенческой глупости. Это была пара, способная дать начало человеческому роду! И когда они, изгнанные, бежали из рая в некие пустынные земли и меч архангела, показанного в правой части фрески, был занесен прямо над их головами, они были испуганы, но не покорены, не сломлены духом и не унижены до степени пресмыкающихся. Это были прародители человека, созданные самим Господом Богом, и он, Микеланджело Буонарроти, вызвал их к жизни во всем их благородстве и телесной красоте.
16
В июне 1510 года, двенадцать с лишним месяцев спустя после того, как Микеланджело показал Юлию «Потоп», первая половина свода была расписана. На малой центральной фреске Бог, окутанный широким розовым хитоном, только что вызвал Еву из ребра спящего Адама; по углам фрески, обрамляя ее, были изображены четыре обнаженных юноши, которым предстоит родиться от Адама и Евы, — у них прекрасные лица и сильные тела, словно бы изваянные из мрамора теплых тонов; по обе стороны от юношей, книзу, под стягивающим весь свод карнизом, помещались на своих тронах похожая на Вулкан Кумская Сивилла и Пророк Иезекииль. Половина плафона была теперь захвачена разливом великолепных красок — горчично-желтых, бледно-зеленых, цвета морской воды, лилово-розовых, лазурно-голубых, и среди них сияли, будто под лучами солнца, телесные тона могучих обнаженных фигур. Микеланджело никому не говорил, что плафон наполовину закончен, но папа узнал об этом без промедления. Он прислал грума сказать Микеланджело, что после обеда будет в Систине. Микеланджело помог Юлию взобраться на последние перекладины лестницы, сделал с ним круг по помосту, показав «Давида и Голиафа», «Юдифь и Олоферна», сюжеты из истории предков Христа, написанные в распалубках над окнами. Юлий потребовал тотчас же разобрать леса с тем, чтобы все увидели, какое великолепие созидается на плафоне. — Святой отец, разбирать леса еще не время. — Почему? — Потому что еще многое остается дописывать: младенцев, играющих позади тронов Пророков и Сивилл, обнаженные фигуры на вершинах распалубок, по обеим сторонам… — Но я слышал, что первая половина плафона закончена. — Главные картины действительно закончены, но надо дописать еще так много деталей… — Когда же это будет сделано? — упрямо допрашивал папа. Микеланджело взяла злость. Он решительно отрезал: — Когда будет готово! Юлий вспыхнул и, передразнивая Микеланджело, резким хрипловатым голосом повторил его фразу: — Когда будет готово! Когда будет готово! Затем он в ярости поднял свой посох, на который опирался, и ударил им Микеланджело по плечу. Наступила тишина, противники стояли, впившись друг в друга глазами. Микеланджело весь похолодел и, потрясенный, не чувствовал боли в плече. Он поклонился и сдержанно, словно его чувства были уже сокрушены этим ударом, сказал по правилам ритуала: — Все будет сделано, как того желает ваше святейшество. Леса разберут завтра же, и капелла будет готова к осмотру. И он отступил назад, давая дорогу Юлию, чтобы тот спустился по лестнице вниз. — Тебе, Буонарроти, не дано отставить своего первосвященника! — вскричал Юлий. — А вот ты отставлен! Микеланджело сбежал вниз вслед за папой, еле касаясь перекладин лестницы, и вышел из капеллы. Значит, конец всему! Горчайший, позорный конец — быть побитым палкой подобно холопу. Он, Микеланджело, клявшийся возвысить положение художников в мире и добиться того, чтобы их считали не просто мастеровыми, а самыми уважаемыми людьми, он, которого превозносило Общество Горшка за его дерзкий отказ подчиниться папскому велению, был обесчещен и унижен так, как еще не унижали ни одного из именитых художников! Волны нервного потрясения все время охватывали его, пока он, слепо спотыкаясь, брел по каким-то неведомым ему улицам и едва угадывал дорогу к дому. Он, Микеланджело, заново создал целый мир. Он хотел быть Богом! Что же, папа Юлий Второй указал ему его место. Юлий — наместник Бога на земле, ведь об этом толковал даже брат Лионардо, а он, Микеланджело Буонарроти, был лишь тружеником в полях. Не странное ли дело — один удар палки может развеять столь много иллюзий. «Не место здесь мне. Кисть — не мой удел!» Триумф Браманте был полным. Что должен делать теперь он, Микеланджело? Юлий никогда не простит ему того, что он разгневал его, папу, и заставил пустить в ход палку, а он, Микеланджело, никогда не простит Юлия за то, что тот нанес ему такое бесчестие. Он никогда уже не возьмет в руки наполненную краской кисть, никогда не коснется ею плафона. Вторую половину свода может расписывать Рафаэль. Вот он уже доплелся до дома. Там ждал его Мики. Встретив Микеланджело, он не произнес ни слова, только пучил глаза, как филин. — Собирай свои пожитки, Мики, — сказал ему Микеланджело. — И убирайся отсюда не теряя времени. Нам лучше уехать из Рима порознь. Если папа прикажет арестовать меня, я не хочу, чтобы вместе со мной попался и ты. — Он не имел права ударить вас. Он вам не отец. — Он мне святой отец. Он может предать меня смерти, если захочет. Но ему надо сначала еще захватить меня! Микеланджело стал набивать одну парусиновую сумку своими рисунками, а другую платьем и остальными вещами. Потом он принялся писать записку Росселли, чтобы попрощаться с ним и просить его отвезти всю мебель и домашнюю утварь перекупщику в Трастевере. Через несколько минут, когда он кончил писать, в дверь постучали. Мики метнул взгляд на запасную дверь. Но бежать было уже поздно. Значит, подумал Микеланджело, его поймали, он не успел скрыться. Что его ждет теперь — какая новая кара, какое унижение? Он мрачно усмехнулся: когда ты провел четырнадцать месяцев под самым сводом, лежа лицом вверх, у темницы Святого Ангела наверняка окажутся свои удобства! В дверь постучали вторично, очень резко. Он отворил ее, ожидая увидеть стражу. Вместо нее перед ним стоял камерарий Аккурсио. — Могу я войти, мессер Буонарроти? — Вы пришли арестовать меня? — Мой милый друг, — мягко сказал Аккурсио, — вам не надо принимать слишком близко к сердцу такие пустяки. Неужели вы допускаете мысль, что первосвященник позволит себе ударить человека, которого бы он не любил? Микеланджело притворил дверь и стоял теперь, упершись ладонями в стол и глядя широко открытыми глазами прямо в лицо камерария. — Вы хотите сказать, что папский удар — это знак благоволения его святейшества? — Папа любит вас, любит как одаренного, хотя и непокорного сына. — Аккурсио вынул из-за пояса кошелек и положил его на рабочий стол Микеланджело. — Первосвященник просил меня передать вам эти пятьсот дукатов. — …золотое снадобье, чтобы залечить мою рану? — …и таким образом извиниться перед вами. — Святой отец хочет сказать, что он желает извиниться передо мной? — Да. Он решил это сделать, едва переступил порог дворца. Ведь все произошло против его воли. Папа говорит, что это случилось только потому, что и над вами и над ним властвует эта ужасная террибилита. — Кому-нибудь известно, что папа послал вас ко мне с извинением? — Разве это так важно? — Поскольку весь Рим будет знать, что первосвященник ударил меня, я могу жить здесь только в том случае, если всем станет известно, что он извинился. Аккурсио мягко пожал плечами: — Разве мыслимо, чтобы в нашем городе что-то осталось тайной?Освятить и открыть для публики первую половину плафона Юлий решил накануне Успения. Десятник Моттино со своими рабочими разбирал и вытаскивал из капеллы леса, за ним присматривал Росселли. Все эти суматошные дни Микеланджело просидел дома: он готовил картоны Пророков Даниила и Иеремии, Ливийской и Персидской Сивилл. Он ни разу не показался ни близ Систины, ни близ папского дворца. Юлий не вступал с ним ни в какие переговоры и не передавал ни слова. Перемирие их было весьма натянутым. Микеланджело уже совсем не следил за временем. Он знал, зима сейчас или лето, порой ему было известно, какой наступил месяц, но часто этим дело и кончалось. Когда он писал письма во Флоренцию, он не мог поставить под ними дату и объяснял это так: «Не знаю, какой сегодня день, но, кажется, вчера была пятница». Или: «Я не знаю, какое сегодня число, но вчера, я знаю, был день Святого Луки». Папа не дал ему приказа прийти на богослужение в Систину. Он узнал о состоявшейся в капелле церемонии почти случайно, когда однажды в полдень Мики услышал стук в дверь и ввел к нему в комнату Рафаэля. Микеланджело сидел, склонившись над своим рабочим столом, и рисовал Амана и Медного Змия для распалубок. Взглянув на Рафаэля, он заметил, что тот сильно постарел, под глазами у него были темные круги, все лицо несколько одрябло. Рафаэль был в розовато-лиловом атласе, украшенном драгоценными каменьями. Заказчики, хлынувшие в его мастерскую толпами, предлагали ему самую разнообразную работу — от отделки кинжала до возведения огромных дворцов. Все, на что у Рафаэля не хватало времени, делали за него его помощники. Рафаэлю было теперь всего двадцать семь лет, но выглядел он на добрый десяток старше. Если Микеланджело изнурял и старил его тяжкий труд, то красота Рафаэля несла ущерб от всякого рода излишеств: от яств и вина, от женщин, от развлечений с друзьями, от неумеренных похвал. — Мессер Буонарроти, ваша капелла буквально сразила меня, — сказал Рафаэль, и в голосе и глазах его чувствовалось истинное восхищение. — Я пришел извиниться. При встрече с вами я вел себя дурно. Мне не следовало говорить с вами так, как я говорил тогда на площади. Я должен был отнестись к вам с бо'льшим уважением. Микеланджело вспомнил, как он ходил к Леонардо да Винчи извиняться за свои дурные манеры. — Художники должны прощать друг другу все грехи.
Никто больше не пришел поздравить его, никто ни разу не остановил его на улице и не начал разговора, никто не предлагал ему новых заказов. Он жил теперь в таком одиночестве, словно был уже мертвецом. Роспись плафона Систины ничуть не взволновала римскую публику, все будто свелось к частному поединку между Микеланджело, Господом Богом и Юлием Вторым. Но тут папа Юлий вдруг оказался завязнувшим в войне. Спустя двое суток после открытия капеллы Юлий во главе своей армии покинул Рим — он хотел вытеснить французов из Северной Италии и тем укрепить и обезопасить папское государство. Микеланджело видел его отъезд: папа сидел на горячем боевом скакуне; в сопровождавшей его процессии были отряды испанцев, присланные испанским королем, получившим за это из рук папы власть над Неаполем; затем двигались наемники-итальянцы, которыми командовал племянник Юлия герцог Урбинский; войско римлян возглавлял другой его родственник, Маркантонио Колонна. Первой задачей папы было осадить Феррару, союзника Франции. Юлий позаботился о помощи — должно было подойти пятнадцатитысячное швейцарское войско, поддержанное значительными силами венецианцев. Но, продвигаясь на север, войскам папы надо было принудить к повиновению независимые города-государства Модену и Мирандолу, родовое гнездо великого Пико… Микеланджело грызла тревога: ведь французы были единственными покровителями республики Флоренции. Если папа сумеет изгнать французские войска из Италии, положение Флоренции станет очень уязвимым. Тогда недалек будет день, когда гонфалоньер Содерини и вся Синьория тоже почувствуют на своей спине удар палки Юлия. Микеланджело оказался теперь на мели, или, вернее, сам посадил себя на мель. Камерарий Аккурсио передал ему папские дукаты и папское извинение, но он не передал просьбы первосвященника снова возвести в Систине леса и возобновить работу над алтарной половиной свода. Юлий ждал, когда Микеланджело явится в Ватикан с поклоном. А он, Микеланджело, ждал, чтобы Юлий сам пригласил его. Папа уехал из Рима, может быть, на много месяцев. Что же остается теперь делать ему, Микеланджело? Отец писал, что во Флоренции тяжело болеет брат, Буонаррото. Микеланджело очень хотелось съездить домой и побыть подле брата, но как осмелиться покинуть Рим? И вместо поездки в родной город он послал туда денег, поубавив содержимое кошелька, полученного от папы вместе с извинением через камерария. Он раздумывал, где бы раздобыть заказ на скульптуру или на живопись и таким образом занять себя и до возвращения папы заработать какую-то сумму денег. Но он не привык искать заказов. Он даже не знал, как приступить к этим поискам. Услышав, что папский канцелярист, флорентинец Лоренцо Пуччи уезжает из Рима, направляясь к папе в Болонью, Микеланджело разыскал его и спросил, не может ли он поговорить с Юлием от его, Микеланджело, имени: Микеланджело желал получить у папы пятьсот дукатов, которые тот должен был ему за уже расписанную половину плафона; помимо того, пусть папа скажет, надо ли начинать работу над второй половиной свода и будут ли отпущены средства на возведение лесов. Лоренцо Пуччи ответил Микеланджело, что постарается уладить дело как можно лучше. Более того, он обещал подумать, нельзя ли найти для Микеланджело какой-нибудь дополнительный заказ и тем дать ему возможность пережить такое трудное время. В эти именно дни Микеланджело принялся писать сонет, обращенный к папе:
17
Микеланджело получил возможность продолжить роспись плафона лишь после наступления нового, 1511, года. В течение всех эти недель и месяцев, тяжких своей неопределенностью, он сильно нуждался, много страдал и пережил не одно крушение надежд. Не в силах больше выдержать бездействия, он кинулся в Болонью, к папе, но увидел, что семейство Бентивольо там снова пришло к власти, а Юлий был так занят своими хлопотами, что даже не мог принять Микеланджело и уделить ему несколько минут. Микеланджело поехал оттуда прямо во Флоренцию — он хотел повидаться с домашними и взять денег из прежних своих сбережений, отданных на хранение эконому больницы Санта Мария Нуова. На эти деньги Микеланджело рассчитывал возвести в капелле леса и приняться за роспись, не дожидаясь ни разрешения папы, ни его субсидий. Брат Буонаррото уже выздоровел, но был слишком еще слаб, чтобы начать работать, а отец получил от Флоренции государственный пост — первый в семействе Буонарроти пост при жизни Микеланджело, — Лодовико сделали подестой в городке Сан Кашано. Когда Лодовико отправлялся туда, он забрал у эконома больницы часть Микеланджеловых денег, не поставив его в известность об этом и не спросив его согласия, хотя законных прав на деньги сына у него уже не было. Оправдываясь перед Микеланджело, отец писал в своем письме так:«Я взял эти деньги в надежде, что смогу их вернуть раньше твоего приезда во Флоренцию. Теперь я вижу, что сглупил, и я ужасно сожалею об этом. Я поступил так потому, что послушался советов посторонних людей».Микеланджело возвратился в Рим с пустыми руками. И по всему было видно, что папа Юлий скоро возвратится в Рим тоже с пустыми руками. Военные дела Юлия складывались весьма неудачно: несмотря на то, что он захватил Модену, его гарнизон в Болонье оказался очень слабым, продовольствия там не хватало, прямо у ворот города стояли войска Бентивольо, а в нескольких верстах от Болоньи укрепились французы. Феррара дала войскам папы отпор, нанеся им серьезное поражение; французы подкупили швейцарские отряды, и те согласились возвратиться к себе на родину; папа был уже готов направить племянника Пико делла Мирандола к французам для переговоров о своей сдаче, но тут появились венецианские и испанские войска и успели спасти его от такого позора. Папский канцелярист вернулся в Рим и привез Микеланджело денег, а также разрешение возводить леса под второй половиной плафона, ближе к трону папы; средства на постройку лесов тоже были отпущены. Теперь Микеланджело мог вступить в схватку с Богом — писать Господа, творящего Адама, писать сотворения Солнца и Луны, отделение вод от суши, света от тьмы; он мог теперь бороться за то, чтобы зиждитель предстал на его плафоне с той убеждающей силой, которая заставила бы всех воскликнуть: «Да! Это Господь Бог. Только он и никто другой!» Эти четыре фрески с образом Господа Бога стали сердцевиной свода. От них зависело на плафоне все остальное. Если бы он не смог создать Бога с такой убедительностью, с какой Бог создал человека, этот плафон лишился бы своей души, оправдывавшей весь замысел Микеланджело и всю его работу. Он всегда любил Бога. В самые мрачные свои часы он говорил: «Бог создал нас не для того, чтобы покинуть». Вера в Бога всегда укрепляла его; а теперь ему надо явить и показать миру, что же такое Бог, как он выглядит и какие внушает чувства, в чем заключена его волшебная сила и благодать. Его Бог не должен быть каким-то особенным, созданным только по его представлениям, он должен быть Богом-отцом всем людям, таким, каким они могут принять его, почитать его и ему поклоняться. Это была весьма непростая задача, но он не сомневался, что может создать образ такого Бога. Ему надо только запечатлеть на рисунках облик, который он носил в себе с самого детства. Бога как самую прекрасную, могучую, разумную и любящую силу во вселенной. Поскольку Бог сотворил человека по образу и подобию своему, у Бога и лицо и тело человека. Первое человеческое существо, которое создал Бог, Адам, конечно же, был во всем подобен Богу. Явив взору Адама, сына божьего, который был возлюбленным творением своего создателя, показав великолепие его тела, благородство мысли, нежность души, красоту его лица, и рук, и ног, видя в нем прообраз всего самого прекрасного, что только есть на небе и на земле, — явив взору такого Адама, разве этим косвенно не скажешь и о самом Боге-отце? Богу, летящему в белом одеянии, с величавой бородой, остается только протянуть к Адаму свою десницу и через какое-то мгновение чуть коснуться его, чтобы от этого одухотворяющего прикосновения получили свое начало и человек, и весь мир. Пока Микеланджело, паря высоко в небесах, писал малую фреску «Бог, отделяющий Воду от Суши». Юлий все глубже погружался в пучину земных горестей, уготованных сокрушенным воителям, и уже по-иному теперь смотрел на своего живописца в Систине. Он потерпел неудачу, осаждая Феррару, и ничего не добился, стараясь расстроить союз между Священной Римской империей и Францией; к тому же у него так разыгралась подагра, что его привезли в Равенну на телеге, запряженной волами. Папские войска и войска Венеции были жестоко побиты феррарцами, которые бушевали вовсю, финансовые средства папы так истощились, что он вынужден был продать восемь новых кардинальских постов, собрав восемьдесят тысяч дукатов — по десять тысяч с каждого кардинала. Французы и феррарцы вновь захватили Болонью и восстановили власть семейства Бентивольо. Юлий потерял там свою армию, артиллерию, обоз, утратил последние свои ресурсы. Когда он разгромленный, ехал обратно в Рим, он узнал о бунте церковников: на портале кафедрального собора в Римини висело воззвание духовенства, обращенное к Генеральному совету в Пизе, — священнослужители требовали провести следствие и осудить всю политику папы Юлия Второго. Крушение Юлия было крушением и Микеланджело, ибо его жизнь теперь тесно переплелась с жизнью первосвященника. В тот день, когда Бентивольо пришли к власти, болонцы стеклись на площадь Маджоре и сбросили Микеланджелову бронзовую статую Юлия наземь, прямо на булыжники. Торжествующий герцог Феррары позже расплавил статую, пустив металл на пушку и назвав ее «Юлий». Микеланджело отдал этой статуе пятнадцать месяцев усердного труда, вложил в нее столько творческой энергии, столько настрадался — и вот теперь на площади Маджоре торчала лишь самая заурядная пушка, которая стала объектом бранных насмешек со стороны болонцев и которую, конечно, применят против папы Юлия, если только тот осмелится опять выступить на север с новым войском. Винченцо ликовал. Микеланджело казалось, что здесь, в Риме, события неизбежно пойдут тем же гибельным ходом. В теплые и светлые дни мая и июня он не спускался с лесов, беспрерывно работая по семнадцать часов в сутки; еду и горшок на случай нужды, чтобы не отрываться от дела и не слезать вниз, он держал тоже наверху и писал, писал как одержимый, — ему хотелось быстрее закончить четыре великолепные фигуры обнаженных мужчин, расположенные по углам фрески, потом юного Пророка Даниила с огромнейшей книгой на коленях, на противоположной стороне Персидскую Сивиллу, старуху в белых и розовых одеждах, и затем единственный по своей силе на всем плафоне, необыкновенно впечатляющий лик Бога-отца, в напряженно-драматическом действии созидающего золотой шар солнца… Молясь о счастливом окончании труда и поминутно отчаиваясь в этом, Микеланджело стремился завершить свою Книгу Бытия, пока его покровитель еще держался у власти. Ведь если разъяренные духовные и военные противники свергнут папу, то они, желая уничтожить всякие следы правления Юлия Второго, пошлют в Систину команду рабочих, и те замажут белилами весь Микеланджелов плафон. Это была отчаянная борьба с самой судьбою. Возвратясь после истребительной междоусобной войны в Рим, папа оказался самым ненавистным человеком в Италии; казна его была так опустошена, что ему пришлось снести к банкиру Киджи папскую тиару; спрятав ее под своими одеяниями, он явился в дом банкира как бы на обед, а на самом деле хотел занять у него под залог своей драгоценности сорок тысяч дукатов. Враги Юлия поднялись во всех городах-государствах, которые он пытался завоевать или подчинить: в Венеции, Болонье, в Модеме, в Перуджии, в Мирандоле. Даже римские дворяне, из тех, кто занимал командные посты в его армии, образовали сейчас лигу против Юлия. Ощущая нерасторжимую свою связь с папой и видя, в каком он положении, Микеланджело понял, что ему надо идти к Юлию — никакое иное соображение не заставило бы его покинуть свой помост хотя бы на день. — Святой отец, я пришел к вам засвидетельствовать свое почтение. Лицо Юлия было измождено тяжелыми испытаниями и болезнью. Недавнюю стычку с Микеланджело папа не забыл, но он интуитивно чувствовал, что тот явился к нему не из побуждений мести. Юлий заговорил в самом дружеском, теплом тоне; оба они хорошо сознавали, что их судьбы соединились теперь очень крепко. — Как твой плафон, успешно ли идет работа? — Ваше святейшество, я думаю, что плафон доставит вам удовольствие. — Что ж, если это так, ты будешь первым за долгое время, кто преподнесет мне такой подарок. — В искусстве это не проще, чем в военном деле, святой отец, — твердо заметил Микеланджело. — Я пойду с тобой в Систину. Сейчас же пойду. Он едва влез на помост. На последних ступеньках лестницы Микеланджело пришлось его поддерживать. Папа закинул голову, оглядывая роспись, и вдруг увидел над собой Бога, уже готового наделить Адама даром жизни. На его потрескавшихся губах появилась улыбка. — Ты действительно веришь, что Господь Бог столь милостив? — Да, святой отец. — Я горячо надеюсь, что это так, потому что я скоро предстану перед ним. Если Господь Бог таков, каким ты написал его, тогда грехи мои будут отпущены. — Папа повернулся к Микеланджело, лицо его лучилось в улыбке. — Я очень доволен тобой, сын мой. Согревшись от жаркого солнца и папской похвалы, Микеланджело обрел спокойное, ясное состояние духа. Ему хотелось подольше сохранить это ощущение счастья, ничем не омрачая его, — с таким именно настроением он пересекал площадь, где уже поднимались пилоны и стены нового храма Святого Петра. Подойдя к ним ближе, он удивился: Браманте строил не из сплошного камня и бетона, как это было издавна принято при возведении соборов, а заполнял полости между бетонных стен рваным бутом и щебнем, оставшимся от старой базилики. Внешне все выглядело солидно и прочно, но разве это не опасный путь, если громоздишь столь тяжелую конструкцию? Через минуту Микеланджело столкнулся с еще более разительным фактом. Обходя работы вокруг и наблюдая за рабочими, готовившими бетон, он обнаружил, что они не соблюдают доброго строительного правила — брать одну часть цемента на три или четыре части песка, а смешивают десять — двенадцать частей песка с одной частью цемента. Строители будто не понимали, что подобный раствор нельзя применять при возведении даже обычных зданий, а когда дело касалось такой громады, как собор Святого Петра, то рыхлая забутовка, заполняющая пустоты стен, и плохой цемент грозили прямой катастрофой. Микеланджело сразу же направился во дворец Браманте; ливрейный лакей провел его в пышную приемную с бесценными персидскими коврами, прекрасными шпалерами и дорогой мебелью. Микеланджело не звали сюда, но то, что он хотел сообщить хозяину, не терпело никаких отлагательств. Браманте сидел в своей библиотеке и работал, одет он был в шелковый халат с золотыми застежками у ворота и на поясе. — Браманте, мне хочется думать, что ты просто не знаешь, как обстоят дела на строительстве, — начал Микеланджело без обиняков, даже не поздоровавшись. — А ведь когда стены собора Святого Петра рухнут, тогда никто не спросит, произошло ли это по твоей глупости или по небрежности. Но твои стены непременно рухнут. Неожиданное вторжение Микеланджело вызвало у Браманте явную досаду. — Твое дело — раскрашивать плафоны, а не учить меня, величайшего зодчего Европы, как класть стены! — Да, но ведь именно я научил тебя, как ставить леса в капелле. А ныне, я полагаю, тебя кто-то надувает с этими стенами. — Неужто? Каким же это образом? — Там кладут в раствор гораздо меньше цемента, чем полагается. — Ах, так ты еще и строитель! Микеланджело пропустил это замечание мимо ушей. — Проследи, Браманте, как твой десятник готовит раствор. Кто-то там нагревает на этом руки… Браманте побагровел от гнева, втянул голову в бычьи свои плечи и стиснул челюсти. — Ты кому-нибудь, кроме меня, говорил об этом?.. — Никому. Я спешил к тебе, хотел предупредить. Браманте поднялся с кресла, крепко сжал кулаки и стал крутить ими перед своим носом. — Буонарроти, если ты побежишь к папе и устроишь там скандал, клянусь, я задушу тебя вот этими руками. Ты просто-напросто невежда и смутьян… Флорентинец! Он произнес это слово так, будто оно было смертельным оскорблением. Микеланджело хранил спокойствие. — Я посмотрю еще два дня, как будут делать у тебя раствор. Если по-прежнему будешь сыпать туда столько песку, я донесу об этом папе. Я буду рассказывать об этом всем, кто только станет слушать. — Никто тебя не будет слушать. Ты не пользуешься никаким уважением в Риме. А теперь вон из моего дома! Дни шли, а бетон замешивался точно так, как и раньше, Браманте никаких мер не предпринимал. Микеланджело смыл с себя пот и краску, хорошенько попарившись в банях на площади Скоссакавалли, надел коричневую рубашку и рейтузы и пошел в папский дворец. Юлий слушал его в течение нескольких минут, потом нетерпеливо прервал, хотя и без особой неприязни в голосе. — Сын мой, тебе не надо отвлекаться от своих дел и вмешиваться в чужие. Браманте уже говорил мне, как ты на него нападаешь. Причины вашей вражды мне неизвестны, но она недостойна вас. — Святой отец, я искренне беспокоюсь о том, надежно ли строится храм. Новый собор Святого Петра возник по мысли Сангалло, когда он предложил построить отдельную капеллу для гробницы вашего святейшества. Я тоже отвечаю за это дело. — Буонарроти, ты что — архитектор? — Да, архитектор в том смысле, в каком бывает архитектором любой хороший скульптор. — Но настолько ли велики твои знания и опыт в архитектуре, чтобы равняться с Браманте? — Нет, святой отец, не настолько. — Вмешивается он в твою работу по росписи плафона в Систине? — Нет, не вмешивается. — Так почему бы тебе не расписывать спокойно свой плафон, дав Браманте возможность строить храм, как он хочет? — Если бы ваше святейшество назначили комиссию, чтобы разобраться в этом… Я говорю лишь из чувства преданности вам… — Я знаю это, сын мой, — ответил Юлий. — Но собор Святого Петра будет строиться еще много лет. И если ты каждый раз будешь шуметь здесь в гневе, когда тебе что-то придется не по нраву… Микеланджело вдруг опустился на колени, поцеловал у папы перстень и вышел. В конце концов папа прав. Почему бы ему, Микеланджело, не думать об одном лишь своем деле? И все же он не мог оставаться равнодушным к новому собору. Из-за того, что начали строить этот собор, лишился своего поста Сангалло, а Браманте приобрел такое сильное влияние на папу, что уговорил его прекратить работы над мраморами для гробницы, в результате чего Микеланджело не стали пускать в папский дворец и ему пришлось жить, бездействуя, во Флоренции, потом пятнадцать месяцев попусту работать в Болонье, а теперь, уже более года, трудиться, как рабу, над сводом. Микеланджело был глубоко огорчен и в то же время озадачен. Ведь Браманте, — размышлял он, — был слишком хорошим архитектором, чтобы подвергать опасности самое крупное и значительное свое создание. Должна же тут быть какая-то разгадка! Лео Бальони знал все на свете, и скоро Микеланджело постучался в его дверь. — Дело объясняется очень просто, — с небрежным видом ответил Лео. — Браманте живет не по средствам, сотни тысяч дукатов летят у него направо и налево. Он всегда нуждается в деньгах… Он готов на что угодно, чтобы их раздобыть. А пока вот выплачивает свои долги, подгрызая стены собора Святого Петра. Микеланджело вскрикнул, задыхаясь: — Ты сказал об этом папе? — Нет, разумеется. — Но как ты можешь молчать, зная о таком мошенничестве? — Вот ты разъяснил папе все обстоятельства. И чего ты добился, кроме совета заниматься своими делами?
18
В августе, когда Микеланджело начал писать «Сотворение Евы», Юлий поехал на охоту в Остию и возвратился оттуда больным: у него был тяжелый приступ малярии. Говорили, что он безнадежен. Жилые его покои были сразу же разграблены, вплоть до постельного белья; римские дворяне подняли шум, грозясь «изгнать варвара из Рима»; иерархи со всей Италии спешно съезжались в Рим и были готовы избрать нового папу. Город гудел от слухов. Придет ли наконец черед кардинала Риарио и станет ли Лео Бальони доверенным лицом папы? Тем временем французы и испанцы наседали на границы Италии, рассчитывая воспользоваться смутой и завоевать страну. От волнения Микеланджело не находил себе места. Если папа Юлий умрет, кто будет платить за работу над второй половиной свода Систины? Ведь у Микеланджело было на этот счет лишь устное соглашение с Юлием, а какого-либо письменного договора, который могли бы признать наследники папы, не существовало. Единственным во всей Италии оплотом покоя казалась теперь Флоренция: гений гонфалоньера Содерини оберегал этот город от распрей и раздоров; сторонясь союзов и войн, Флоренция соблюдала твердый нейтралитет, предоставляя убежище и папским и французским воинам. Она отказалась приютить у себя Генеральный совет Пизы, враждующей с папой, но не хотела и посылать против пизанцев свое войско. Микеланджело понимал, что ему следовало быть сейчас во Флоренции и жить там до конца своих дней, а не мучиться в этой столице хаоса. Юлий одурачил Рим: он выздоровел. Дворяне-бунтовщики бежали. Папа наложил свою тяжелую руку на весь Ватикан и на всю церковь, и в казну начали поступать деньги. Он вновь выплатил Микеланджело пять сотен дукатов. Микеланджело послал скромную сумму домой, но бóльшую часть полученных денег оставил при себе в Риме. — Я очень польщен! — возрадовался Бальдуччи, когда Микеланджело поместил свои деньги в его банк. От хорошей жизни Бальдуччи приобрел солидность и важную осанку, у него уже было четверо детей. — Раньше ты считал, что любой жульнический банк во Флоренции вернее и надежнее честного банкирского дома в Риме. Что же случилось? — Бальдуччи, я уберег бы себя от многих тяжких хлопот, если бы ты вел мои денежные дела с самого начала. Но когда речь идет о деньгах, художники способны на любую глупость. — Теперь, когда ты независим и богат, — со своим неизменным юмором поддразнивал Бальдуччи друга, — теперь ты, конечно, придешь ко мне отобедать в воскресенье. Обычно мы приглашаем к себе всех наших крупных вкладчиков. — Спасибо, Бальдуччи, я подожду до той поры, когда я стану у тебя не просто вкладчиком, а пайщиком. Скоро Микеланджело сделал второй весомый вклад в банк Бальдуччи и снова отказался от приглашения к обеду. И тогда, в воскресенье, под вечер, банкир явился к Микеланджело сам, держа в руках торт, испеченный его собственным поваром. Бальдуччи не заглядывал к Микеланджело уже два года и был потрясен скудостью обстановки в его доме. — Господи боже, скажи мне, Микеланджело, как ты можешь так жить? — А что мне делать, Бальдуччи? Я держал подмастерьев. Они клялись, что хотят учиться и будут содержать дом в чистоте, но все оказались лентяями и ротозеями. — Найди слугу, который умеет готовить пищу и убирать комнаты; это сделает твою жизнь хоть чуточку приятней. — К чему мне слуга? Я не бываю дома целыми днями, даже обедать не прихожу. — Ты, видно, не понимаешь, зачем держат слуг. Со слугой у тебя в доме всегда будет чисто, ты будешь прилично питаться. Придешь домой, а тебе уже готов ушат горячей воды, и ты можешь мыться, простыни у тебя свежие, выстиранные и уже аккуратно расстелены, бутылка вина, как это требуется, остужена… — Довольно, довольно, Бальдуччи, ты рассуждаешь так, будто я какой-то богач. — Может, ты и не такой богач, но все же ты скряга! Ты зарабатываешь вполне достаточно, чтобы жить как человек, а не… не… Ты губишь свое здоровье. Что толку, если когда-нибудь во Флоренции ты станешь и богатым, а прежде надорвешься в Риме? — Я не надорвусь. Я из камня. — Разве тебе так уж легко на твоих подмостках? А ты омрачаешь себе жизнь еще и этой бедностью… Микеланджело нахмурился. — Ты прав, Бальдуччи, я знаю. Должно быть, во мне и в самом деле есть что-то от отца. Но для хорошей жизни у меня теперь просто не хватает терпения. Пока я не кончил работу над плафоном, о каких-то удобствах или удовольствиях мне даже противно думать. Жить хорошо можно лишь тогда, когда ты счастлив. — И когда же ты будешь счастлив? — Когда я снова возьмусь за мраморы. Наступила осень, а он все работал, упорно, ежедневно, работал, не отрываясь ни в воскресенья, ни в праздники. Нашелся и подросток-ученик — сирота Андреа, он помогал Микеланджело на лесах, приходя туда после обеда, и присматривал за его домом. Микеланджело поручил ему писать несколько декоративных бараньих голов, двери, плоские стены и полы — когда-то, в церкви Санта Мария Новелла, эту работу выполнял обычно Буджардини. Мики расписывал кое-какие детали тронов и карнизов. Напросился в ученики еще один юноша, Сильвио Фалькони, — у него был дар рисовальщика, и Микеланджело доверил ему исполнять декоративные элементы в угловых распалубках. Все остальное на плафоне написал Микеланджело сам — каждую фигуру и одеяние, каждое движение и жест, в котором сквозило свое чувство, своя мысль, каждого младенца за спинами Пророков и Сивилл — изысканно прекрасных Сивилл и великолепных в своей мощи иудейских Пророков, — каждый удар кисти был сделан им самим, и только самим: этот гигантский труд был исполнен за три ужасающих по напряжению года, хотя его хватило бы на целую жизнь. А вокруг было вновь неспокойно: окрепнув и набравшись сил, папа Юлий ополчился на гонфалоньера Содерини и отлучил от церкви Флорентинскую республику — ведь она не поддержала папу во время военных действий, не дала своих войск и отказала в деньгах, когда папа был в тяжелом положении, она предоставляла убежище противникам папы и не пошла на то, чтобы сокрушить Генеральный совет Пизы. Юлий назначил легатом в Болонью кардинала Джованни де Медичи, желая держать под прицелом Тоскану и поскорей подчинить ее власти Ватикана. Микеланджело получил приглашение посетить дворец Медичи на Виа Рипетта. В гостиной его ждали кардинал Джованни, кузен Джулио и Джулиано. — Ты слышал, Микеланджело, что святой отец назначил меня папским легатом в Болонью и дал полномочия набирать войска? — Подобно тому, как это делал Пьеро? На минуту в гостиной воцарилась напряженная тишина. — Смею надеяться, что пример Пьеро тут не подходит, — ответил наконец кардинал Джованни. — Все дела будут улаживаться мирным путем. Мы же, Медичи, хотим одного — снова быть флорентинцами, снова располагать там своим дворцом, и банками, и землями… — А Содерини выгнать вон! — нетерпеливо вставил Джулио. — Это входит в ваш план, ваше преосвященство? — Да. Папа Юлий в гневе на Флоренцию и полон решимости покорить ее. Если Содерини исчезнет, то несколько крикунов в Синьории… — А кто будет править Флоренцией вместо Содерини? — спросил Микеланджело, стараясь сдержать свое волнение. — Джулиано. Микеланджело взглянул на Джулиано, сидевшего в другом конце гостиной: щеки у того заливала краска. Выбор кардинала Джованни был гениален. Этот тридцатидвухлетний человек с редкой бородкой и усами, страдавший, как говорили, болезнью легких, казался Микеланджело крепким и полным энергии. По уму, душевному складу и темпераменту он чем-то напоминал Великолепного. Целые годы занимался он науками, стараясь, в подражание отцу, набраться знаний. Он был гораздо красивее Лоренцо, хотя нос у него производил впечатление слишком длинного и плоского, а над большими глазами нависали тяжелые веки. Ему были присущи многие из лучших свойств Лоренцо: мягкая душа, в какой-то мере мудрость и миролюбие. Он питал уважение к искусству и науке, горячо любил Флоренцию, ее людей, ее традиции. Если Флоренции суждено получить правителя, который стоял бы над выборным гонфалоньером и был бы независим от него, то младший, наиболее одаренный сын Лоренцо годился для такой роли вполне. Все, кто сидел в этой комнате, знали, что Микеланджело расположен к Джулиано, даже любит его. Но они не знали, что в эту самую минуту перед взором Микеланджело во всем своем телесном облике стоял еще один человек — в пышном парадном одеянии, с худым и узким некрасивым лицом, с подвижным кончиком носа, мягким взглядом глаз и седой, с желтыми прядями, головой. Это был Пьеро Содерини, пожизненно избранный гонфалоньер республики Флоренции. Глядя на свои потрескавшиеся и испачканные краской ногти, Микеланджело спросил: — Почему вы надумали говорить обо всем этом со мной? — Потому что мы хотим, чтобы ты был на нашей стороне, — ответил кардинал Джованни. — Ты принадлежишь к партии Медичи. И если ты понадобишься нам… Будто нить сквозь ушко иголки, проскальзывал он по узким проходам переулков, ища путь к площади Навина, затем, после многих поворотов, оказался на площади Венеции, вышел на древний Римский форум — тут, порознь друг от друга, высились белые колонны — и вот уже он ступил в залитый лучами полной луны Колизей, целую тысячу лет служивший городу своеобразной каменоломней, где был готовый, обтесанный камень для постройки домов. Он взобрался на самый высокий ярус, сел на парапет галереи и окинул взглядом огромный театр, от подземных камер, куда загоняли когда-то христиан, гладиаторов, рабов, животных, до каменных лож наверху, где во времена империи сидели тысячи римлян, вопя и визжа в жажде побоищ и крови. …побоищ и крови, крови и побоищ. Эти слова не выходили у него из головы. Ведь если подумать, ничего иного, кроме побоищ и крови, Италия и не знала. Все, что он видел за свою жизнь, укладывалось в эти слова: кровь и побоища. Вот сейчас Юлий хлопочет, собирая новую армию, чтобы выступить на север. Если Флоренция окажет сопротивление, папа направит войско Джованни на штурм флорентинских стен. Если Флоренция сдастся без борьбы, гонфалоньер Содерини окажется в изгнании, так же как и все члены Синьории, не желающие мириться с потерей флорентинской независимости. А теперь вот и его, Микеланджело, пригласили принять участие в этой зловещей игре. Он любил их обоих — и гонфалоньера Содерини, и Джулиано де Медичи. Он остро чувствовал свою преданность Великолепному, Контессине и даже кардиналу Джованни. Но у него была вера в республику, которая первой признала его труд, его искусство. К кому же теперь повернуться спиной, проявив и коварство и неблагодарность? Граначчи когда-то наставлял его: — Если тебя будут спрашивать, на чьей ты стороне, говори: на стороне скульптуры. Будь храбрецом в искусстве и трусом в мирских делах. Но способен ли он на это?19
В серые зимние месяцы 1512 года, когда Микеланджело расписывал люнеты над окнами капеллы, он так сильно повредил свое зрение, что уже не мог прочесть ни строчки, не запрокидывая голову назад и не отставляя далеко от глаз письмо или книгу. Хотя Юлий безвыездно жил в Риме, военные действия на севере начались. Армиями папы командовал неаполитанский испанец Кардона. Кардинал Джованни двинулся к Болонье, но болонцы с помощью французов дважды отбили атаки войск Юлия. В Болонью кардинал Джованни так никогда и не вступил. Папские войска под ударами французов откатились к Равенне, где в пасхальную неделю разыгралась решающая битва. Как передавали, в этой битве погибло от десяти до двенадцати тысяч солдат Юлия. Кардинал Джованни и кузен Джулио были взяты в плен. Романья оказалась в руках французов. Рим дрожал, охваченный паникой. Папа укрылся в крепости Святого Ангела. Микеланджело продолжал расписывать свой плафон. Однако счастье скоро изменило французам: их победоносный главнокомандующий был убит. Во французских войсках начались раздоры и вооруженные стычки. Против французов открыли военные действия швейцарцы: они захватили Ломбардию. Только хитростью кардинал Джованни спас Джулио, а сам бежал в Рим. Папа был уже снова вВатикане. В течение лета он отвоевал Болонью. Французы были изгнаны из всей Тосканы. Испанский военачальник Кардона, союзник Медичи, разграбил Прато, расположенный в немногих верстах от Флоренции. Гонфалоньера Содерини вынудили покинуть пост, и он бежал вместе с семьей из города. Джулиано въехал во Флоренцию на правах частного гражданина. Вслед за ним двигался кардинал Джованни де Медичи с армией Кардоны: скоро Джованни уже занимал свой старый дворец в приходе Сант'Антонио, близ Фаэнцских ворот. Синьория была распущена. Членов Совета Сорока Пяти назначил сам кардинал Джованни, был принят новый порядок правления. Республике пришел конец. Все это время папа твердил, чтобы Микеланджело завершал свой плафон быстрее, как можно быстрее. Однажды он, взобравшись по лестнице, появился на лесах без всякого предупреждения. — Когда ты закончишь работу? — Когда буду доволен ею. — Когда же ты будешь доволен? Ты тянешь уже целые четыре года. — Мне нужно быть довольным как художнику, святой отец. — Я желаю, чтобы ты кончил плафон в течение ближайших дней. — Работа будет кончена, святой отец, тогда, когда она кончится. — Ты хочешь, чтобы тебя сбросили с этого помоста? Микеланджело поглядел на мраморный пол внизу. — В день Всех Святых я буду служить здесь торжественную мессу, — сказал папа. — К тому времени исполнится уже два года, как я освятил первую половину плафона. Микеланджело рассчитывал еще пройтись по сухому золотом и ультрамарином, тронув некоторые драпировки и небесное поле, как это делали его земляки флорентинцы, создатели фресок на стенах капеллы. Но времени на это уже не оставалось. И Микеланджело велел Мики и Моттино разбирать леса. На следующий день в Систину опять пришел Юлий. — Ты не думаешь, что кое-какие украшения надо бы высветлить золотом? — спросил он. Было бесполезно говорить, что Микеланджело и сам собирался сделать это. Но ему уже не хотелось восстанавливать леса и снова лезть под потолок. — Святой отец, в те времена люди не заботились о золоте. — Плафон будет выглядеть бедно! Микеланджело расставил пошире ноги, сжал зубы и упрямо выставил окаменевший подбородок. Юлий судорожно стиснул рукой посох. Два человека стояли перед алтарем, под синими расписанными небесами, и в упор смотрели друг на друга. — Люди, которых я писал, были бедны, — сказал Микеланджело, нарушая молчание. — Это были святые люди. В день Всех Святых римская знать оделась в самые лучшие свои одежды: папа освящал Сикстинскую капеллу. Микеланджело проснулся рано, вымылся горячей водой, сбрил бороду, надел голубые рейтузы и голубую шерстяную рубашку. Но в Систину он не пошел. Он спустился на террасу своего дома, откинул просмоленную парусину и застыл в раздумье перед мраморами, рубить и резать которые он так жаждал целых семь лет. Он вернулся в комнату, к рабочему столу, взял перо и написал:Часть восьмая «Медичи»
1
Юлий Второй прожил после завершения росписи свода Систины всего лишь несколько месяцев. Папой стал Джованни де Медичи, первый флорентинец, которому было суждено занять святейший престол. Сидя на коне, Микеланджело оглядывал плотные ряды всадников, среди которых он находился: это были флорентинские дворяне, решившие устроить самую пышную процессию из всех, какие только помнил Рим. Впереди него, охватывая почти всю площадь Святого Петра, стояли две сотни конных копьеносцев, за ними под развевающимися стягами были видны капитаны всех тринадцати римских округов и пятеро знаменщиков церкви: на знаменах у них красовались папские гербы. Двенадцать молочно-белых лошадей из папских конюшен были окружены тысячным отрядом молодых дворян, одетых в красные шелковые кафтаны с горностаевой выпушкой. Позади Микеланджело стояла сотня римских баронов — каждый со своим вооруженным эскортом — и швейцарские гвардейцы в пестрых бело-желто-зеленых мундирах. Новый папа, Лев Десятый, восседал на белом арабском жеребце — от яркого апрельского солнца его защищал шелковый балдахин. Рядом с папой, одетый как знаменосец острова Родоса, выступал кузен Джулио. Одиноко держался в этой процессии бледный и печальный герцог Урбинский, племянник Юлия. Глядя на папу Льва Десятого, грузное тело которого исходило потом под тяжестью тройной тиары и унизанной драгоценными каменьями ризы, Микеланджело раздумывал, сколь неисповедимы пути Божи. Когда скончался Юлий, кардинал Джованни де Медичи был во Флоренции, так страдая от своей язвы, что его доставили на выборы папы в Рим на носилках. Запершись в душной Сикстинской капелле, коллегия кардиналов просидела почти целую неделю: за папский трон боролась, во-первых, группа покровителя Лео Бальони кардинала Риарио, во-вторых, сторонники кардинала Фиеско и, в-третьих, кардинала Сера. Единственным кандидатом, у которого не оказалось врагов, был Джованни де Медичи. На седьмой день коллегия единодушно остановила свой выбор на обходительном, скромном и благодушном кардинале, исполнив тем самым план Великолепного, который в Бадии Фьезолане посвятил шестнадцатилетнего Джованни в духовный сан. Протрубили трубачи, давая знак начинать объезд города — от собора Святого Петра, где в павильоне напротив разрушенной базилики происходило венчание Льва Десятого, до церкви Святого Иоанна в Латеранском дворце, первоначальной резиденции пап. Мост Святого Ангела был устлан коврами самых светлых тонов. Там, где открывалась Виа Папале, Папская дорога, флорентинская колония воздвигла грандиозную триумфальную арку, украшенную эмблемами Медичи. Толпы людей стояли вдоль улиц, усыпанных ветками мирта и самшита. Микеланджело сдерживал коня — по одну сторону от него гарцевал его родственник, Паоло Ручеллаи, по другую ехало семейство Строцци, купившее в свое время его «Геракла», — и неотступно следил за папой Львом: тот, сияя от радости, поднимал благословляющую руку в унизанной жемчугами перчатке; придворные чины ехали позади него, горстями швыряя в толпу золотые монеты. В окнах домов виднелись вывешенные по поводу торжества парчовые и атласные полотнища. Виа Папале была уставлена бюстами императоров, статуями апостолов и святых, изображениями богородицы — и рядом с этими скульптурами, плечо к плечу, белели языческие изваяния древних греков. На склоне дня папа Лев сошел, воспользовавшись лесенкой, со своего арабского жеребца, задержался на минуту у античной бронзовой статуи Марка Аврелия, стоявшей напротив Латеранского дворца. Затем, вместе со всей коллегией кардиналов, кузеном Джулио и многими флорентинскими и римскими дворянами, проследовал во дворец и занял Селлу Стеркорарию — древнее седалище власти, на котором сидели первые папы. На изысканном и пышном пире в зале дворца Константина, специально для этого случая отремонтированном, Микеланджело почти не ел. Вечером он снова был уже в седле, чтобы следовать в свите папы к Ватикану. Когда процессия достигла Кампо деи Фиори, стало совсем темно. Улицы были освещены только факелами и свечами. Микеланджело остановил свою лошадь у дома Лео Бальони, передав поводья груму. На папские торжества Лео Бальони не был даже приглашен, — он сидел дома в одиночестве, небритый, мрачный. Еще несколько дней назад он не сомневался, что на этот раз папой изберут кардинала Риарио. — Выходит, ты проник в Ватикан гораздо раньше! — ворчал приунывший Бальони. — Я был бы счастлив не появляться там больше ни разу. Я уступаю свое место тебе. — У нас идет игра, в которой выигравший уступить ничего не может. Я оказался вне игры. А ты в ней участвуешь. На тебя посыплются великие заказы. — Мне предстоит долгие годы трудиться над гробницей Юлия. Было уже поздно, когда он вернулся в свое новое жилище — дом его, будто погруженный в море столетий, дремал в низине между Капитолийским и Квиринальским холмами, неподалеку от колонны Траяна, где посреди людной площади стояла Мачелло деи Корви — Бойня Воронов. Перед своей кончиной папа Юлий уплатил Микеланджело две тысячи дукатов — это был полный расчет за работу в Систине, дающий возможность начать ваяние мраморов для гробницы. После того как гонфалоньер Содерини и все члены Синьории были изгнаны из Флоренции, заказ на статую «Геракла» утратил всякую силу. Когда Микеланджело узнал, что по умеренной цене продается небольшая усадьба с домом из желтого обожженного кирпича, крытой верандой вдоль одной из его стен, несколькими подсобными строениями на задах, конюшней, башней, запущенным садом с тенистыми лавровыми деревьями, он приобрел эту усадьбу и перевез туда свои мраморы. Как раз перед домом раскинулся ныне пустынный рынок Траяна, где когда-то находилось множество торговых лавочек, привлекавших покупателей со всего мира. А теперь на площади стояла мертвая тишина, лавки давно исчезли и осталось лишь несколько деревянных домишек, лепившихся под сенью церкви Санта Мария ди Лорето, лишенной своего купола. Днем по площади шли прохожие: они двигались либо ко дворцу Колонны и к Квиринальской площади, либо в противоположную сторону — ко дворцу Анибальди и к церкви Сан Пьетро ин Винколи. А по ночам вокруг дома царили такой покой и запустение, словно бы Микеланджело поселился не в Риме, а в глухой Кампанье. Когда-то дом снимали два разных жильца, и в нем были сделаны две парадные двери — обе они выходили на Мачелло деи Корви. Жилье Микеланджело состояло из просторной спальни с окнами на улицу, столовой, служившей одновременно и гостиной, которая примыкала к спальне: за столовой, ближе к саду, была низкая сводчатая кухня, сложенная из того же желтого кирпича. Во второй половине дома, убрав все перегородки, Микеланджело устроил себе обширную мастерскую, похожую на ту, какая была у него во Флоренции. Он приобрел новую железную кровать, шерстяные одеяла, новый, набитый шерстью матрац, а Буонаррото, исполняя поручение брата, на специально переведенные для этого деньги купил и прислал ему чудесных флорентинских простынь, скатертей и полотенец, которые Микеланджело хранил теперь вместе с запасом своих рубашек, носовых платков и блуз в шкафу, стоявшем подле его кровати. Он завел себе также гнедую лошадь и ездил на ней по булыжным мостовым римских улиц; ел он на опрятно убранном столе, в хорошую погоду прогуливался в плаще из черного флорентинского сукна на атласной подкладке. Его слуга-подмастерье, Сильвио Фалькони, оказался усердным работником. В глубине сада, в легких деревянных домиках и в каменной башне, жили помощники Микеланджело, работавшие вместе с ним над гробницей. Тут были Микеле и Бассо, два молодых каменотеса из Сеттиньяно; способный рисовальщик, выросший сиротой-подкидышем и испросивший разрешения у Микеланджело называть себя Андреа ди Микеланджело; Федериго Фрицци и Джованни да Реджо, изготовлявшие модели для бронзового фриза; Антонио из Понтассиеве, приехавший в Рим со всей своей артелью, чтобы обтесывать и украшать строительные блоки и колонны. Микеланджело не тревожился о будущем. Разве папа Лев Десятый не сказал своим придворным: «Мы с Буонарроти оба воспитаны под одной крышей в доме моего отца»? Впервые после того, как восемь лет назад, в апреле 1505 года, Микеланджело бежал от Юлия, он принялся теперь за ваяние. И он работал ныне не над одним мрамором, а над тремя огромными глыбами сразу. Снова установился естественный ритм дыхания, согласный с ударами зажатого в руке молотка, когда резец вгрызается в камень и упорно точит его. Это осязаемое единство с мрамором вновь наполняло сердце Микеланджело бурной радостью. Он вспоминал самые первые уроки, воспринятые им еще у Тополино. — Камень сам работает на тебя. Он уступает тебе, сдается перед твоим мастерством и твоею любовью. Микеланджело отдавался трем блокам мрамора с безоглядной страстью и одновременно ощущал в себе некое спокойствие и уверенность. Три белые колонны обступали его в мастерской подобно заснеженным горным пикам. Ему остро хотелось вдохнуть в себя тот же воздух, каким дышали эти мраморы. Он работал по четырнадцать часов в сутки, пока не чувствовал, что у него отнимаются ноги. И все же стоило ему оторваться от проступавшего из камня образа, отойти к двери и поглядеть несколько минут на небесный свод, как он снова был свеж и силен. Он, словно пахарь, прокладывал теперь свою урочную борозду. Он высекал «Моисея» — и подобно тому, как мраморная пыль клубами проникала в его ноздри, во все его существо, до самых глубин, входило чувство горделивого спокойствия: теперь он ощущал себя настоящим человеком, ибо его плоть и сила сливались с трехмерным камнем. Мальчиком на ступенях Собора он был не в состоянии доказать, что искусство скульптуры выше искусства живописи; здесь, в своей мастерской, проворно и ловко шагая от «Моисея» к «Умирающему Рабу», а потом к «Рабу Восставшему», он мог бы продемонстрировать эту истину с кристально ясной неопровержимостью. Моисей, прижимающий к себе запястьем руки каменные скрижали, достигнет в вышину около трех с половиной аршинов и будет внушать впечатление массивности вопреки сидячему положению. Однако истинную, скрытую сущность фигуры Микеланджело выявит не объемом, а внутренней ее весомостью, ее структурой. Резко двинув левую ногу назад, Моисей сидел в позе, хранящей динамическое равновесие; монументальная тяжесть колена и икры правой ноги, как бы поглощавшей пространство и устремленной немного в строну, смягчалась круговым движением левой ноги. Круто взлетая, резец Микеланджело с непогрешимой точностью входил в полуторааршинную толщину блока, под остро выпяченный локоть согнутой левой руки Моисея и обвитое венами предплечье. Он как бы вычерчивал плавно летящие линии, устремленные к запястью и указательному пальцу, который приковывал взор к каменным скрижалям, прижатым правой рукой. Наступила полночь, и Микеланджело неохотно снимал свой бумажный картуз с прикрепленной к нему свечой из козьего сала. Из города не доносился ни один звук, был слышен только отдаленный лай собак, рывшихся в отбросах за кухнями дворца Колонны. В заднее окно из сада смотрела луна, заливая блок волшебным светом. Микеланджело придвигал скамейку и усаживался перед грубо обработанным мрамором, размышляя о Моисее — о человеке, о пророке, вожде своего народа, который предстоял Богу и которому Бог вручил Закон. Скульптор, не наделенный философским складом ума, создает пустые формы. Как может он, Микеланджело, решить, где ему надо врезаться в мраморный блок, если он не осознал, какого именно Моисея он замыслил? Внутренняя значимость его Моисея, так же как и его скульптурная техника, определит достоинства работы. Микеланджело уже знал, как он поместит Моисея в пространстве, но какую минуту жизни пророка он покажет, какое время? Хочет ли он представить Моисея разгневанного, только что спустившегося с Синайской горы и увидевшего, что его народ поклоняется Золотому Тельцу? Или он покажет печального, удрученного Моисея, сетующего на то, что он пришел с Законом слишком поздно? Пока он сидел, вглядываясь в зыбкие, струящиеся формы залитого луной мрамора, ему стало понятно, что он не должен замыкать Моисея, как в темницу, в строго определенные рамки времени. Ведь он искал обобщенный образ, искал того Моисея, которому ведомы пути человека и Бога, он хотел изваять слугу Господа на земле, голос Господней совести. Моисея, который был призван на вершину Синая и спрятал свое лицо, ибо страшился взглянуть на открытый лик Бога, и получил от него высеченные скрижали Десяти Заповедей. Неистовая ярость души, которая пылала, вырываясь из глубоких, точно пещеры, впадин его глаз, не могла быть объяснена лишь отчаянием или желанием наказать ослушников. Нет, Моисея вела вперед только страстная решимость не допустить гибели его народа — народ был должен получить вырубленные на каменных таблицах Заповеди и покориться им и тем продолжить свое существование. Но Микеланджело не успел додумать своих дум до конца: бесцеремонно распахнув дверь, к нему вошел Бальдуччи. Очевидно он снова собирался говорить о пересмотре договора на гробницу. Папа Лев, как добрый посредник, уже пытался склонить герцога Урбинского и прочих наследников Ровере к тому, чтобы договор в отношении Микеланджело был более справедливым, давая ему льготные сроки и больший заработок. Микеланджело с удивлением оглядел своего друга, загородившего дверной проем, ибо в те дни, когда они познакомились на улицах Рима в 1496 году, Бальдуччи был таким же худым, как и Микеланджело, а теперь он выглядел вдвое шире и тучнее его — только ноги у Бальдуччи оставались по-прежнему сухими и тощими. — Уж не на барышах ли ты так разжирел? — спросил его Микеланджело с ехидством. — Или сами барыши к тебе текут оттого, что ты жирный? — Мне приходится есть не только за себя, но и за тебя, — прогудел Бальдуччи, поглаживая ладонями свой огромный живот. — А ты все такой же недомерок, каким был, когда гонял мяч и играл против Дони на площади Санта Кроче. Ну что, принимают они твои новые условия? — Повысили плату до шестнадцати тысяч пятисот дукатов. Добавляют мне, если понадобится, еще семь лет на завершение работы. — Позволь-ка мне взглянуть на новые чертежи гробницы. Микеланджело с неохотой вынул ворох бумаг из запачканной пергаментной папки. — А ты говорил, что уменьшаешь размеры! — разочарованно заметил Бальдуччи. — Так оно и есть. Посмотри, фронтальная сторона в длину стала вдвое меньше. И мне уже не надо строить подступов к гробнице. Бальдуччи пересчитал листы с рисунками. — Сколько же будет статуй? — Общим числом? Сорок одна. — Какой они будут величины? — И натуральной, и вдвое больше. — А сколько статуй ты собираешься высечь самолично? — Вероятно, двадцать пять. Все главные фигуры, кроме ангелов и младенцев. Даже в мерцающем свете единственной свечи Микеланджело увидел, как побагровело лицо Бальдуччи. — Ты сошел с ума! — воскликнул он. — Ты уменьшил только остов гробницы, который тебе и так был совсем не по силам. Ты проявил истинную глупость, когда не послушал Якопо Галли восемь лет назад, но ты был молод. А какое у тебя оправдание теперь, если ты соглашаешься на явно невыполнимый договор? — Наследники Юлия не хотят мириться на меньшем. Помимо того, я получаю почти те же деньги и те же сроки, какие желал для меня Галли. — Микеланджело, — мягко возразил Бальдуччи. — Я не могу равняться с Якопо Галли, я не знаток искусства, но он так ценил мои таланты, что сделал управляющим банком. Ты идешь на глупейшую сделку. Двадцать пять огромных фигур — хочешь не хочешь — отнимут у тебя двадцать пять лет. Если ты и проживешь эти годы, согласен ли ты быть прикованным к мавзолею Юлия до самой своей смерти? Ты будешь еще более несчастным рабом, чем эти «Пленники», которых ты высекаешь. — У меня собралась сейчас хорошая боттега. Как только будет подписан новый договор, я вызову еще каменотесов из Сеттиньяно. Я вижу столько статуй, уже изваянных в воображении, что не высечь их из камня было бы для меня горькой утратой. Подожди — и ты увидишь, как осколки мрамора веером полетят у меня вверх и вниз, будто весенняя стая белых голубей.2
Сикстинский плафон произвел впечатление, равное тому, которое вызвал в свое время «Давид» во Флоренции. Художники разных течений, съехавшиеся в Рим со всей Европы, чтобы помочь Льву отпраздновать восхождение на папский трон, дали Микеланджело титул, услышанный им когда-то после «Купальщиков», — «Первый мастер мира». Только близкие друзья и сторонники Рафаэля по-прежнему бранили Микеланджелов свод, считая его не художественным, а скорее анатомическим, плотским, перегруженным. Но эти люди действовали теперь не так свободно: Браманте уже не был повелителем художников Рима. В пилонах собора Святого Петра, построенных Браманте, появились такие большие трещины, что все работы были приостановлены, и пришлось долго разбираться, выясняя, можно ли еще спасти фундаменты. Папа Лев проявил великодушие и официально не развенчал Браманте как архитектора, но работы в Бельведере были тоже приостановлены. Паралич отнял у Браманте руки, и он был вынужден доверить вычерчивание своих архитектурных проектов Антонио да Сангалло, племяннику Джулиано да Сангалло, друга и учителя Микеланджело. Над дворцом Браманте витал теперь тот едва уловимый дух беды и несчастья, который воцарился в доме Сангалло в дни, когда Браманте одержал победу в конкурсе на лучший проект собора Святого Петра. Однажды в сумерки Микеланджело услышал стук в дверь и буркнул: «Войдите», хотя его раздражало любое вторжение. Он взглянул в чудесные карие глаза молодого человека в оранжевом шелковом плаще; красивое его лицо и белокурые волосы чем-то напомнили ему Граначчи. — Маэстро Буонарроти, я — Себастьяно Лучиани из Венеции. Я пришел к вам исповедаться… — Я не священник. — …Я хотел признаться вам, каким я был дураком и простофилей. До той минуты, пока я не постучал в эту дверь и не сказал вам этих слов, я еще не сделал ни одного разумного дела в Риме. Я захватил с собой лютню, я буду аккомпанировать себе и рассказывать вам свою ужасную историю. Забавляясь удивительно легкой, веселой манерой венецианца, Микеланджело согласился его послушать. Себастьяно взобрался на самый высокий в комнате стул и провел пальцами по струнам лютни. — Пой, и пройдет все на свете, — тихо сказал он. Микеланджело опустился в одно из мягких кресел и, вытянув усталые ноги, заложил руки за голову. Себастьяно запел. Особым речитативом, сильно скандируя, он стал повествовать, как его вызвал в Рим банкир Киджи, поручив расписать свою виллу, как он оказался в числе молодых художников, боготворящих Рафаэля, как говорил вместе с ними, что кисть Рафаэля «действует в полном согласии с техникой живописи», что она «приятна по колориту, гениально изобретательна, прелестна во всех своих проявлениях, прекрасна, как ангел». Буонарроти? «Возможно, он и умеет рисовать, но что у него за колорит? Донельзя однообразный! А его фигуры? Раздутая анатомия. В них ни очарования, ни грации…» — Я слыхал эти наветы и раньше, — прервал венецианца Микеланджело. — Они мне надоели. — Еще бы! Но Рим больше не услышит от меня этих панихид. Отныне я пою хвалу мастеру Буонарроти. — Что же так перевернуло вашу нежную душу? — Хищность Рафаэля! Рафаэль расклевал меня до самых костей. Поглотил все, что я усвоил у Беллини и у Джорджоне. Так меня обобрал, что сейчас он художник-венецианец в большей мере, чем я! И самым покорным образом еще благодарит меня за учение! — Рафаэль берет только из добрых источников. На это он большой мастак. Зачем же вы его покидаете? — Теперь, когда он стал волшебным колористом — венецианец да и только! — он будет получать еще больше заказов, чем прежде. В то время как я… не получаю ничего. Рафаэль проглотил меня целиком, но глаза у меня еще остались, и для них было истинным пиршеством смотреть все эти дни на ваш Сикстинский плафон. Уперевшись пятками в верхний обруч стула, Себастьяно склонил голову над лютней. Вдруг он разразился зычной песней гондольера, заполнившей всю комнату. Микеланджело вглядывался в венецианца и все думал, зачем же на самом деле он к нему пришел. Себастьяно стал часто заходить к Микеланджело, пел ему, болтал, рассказывал разные истории. Любитель удовольствий, заядлый охотник до хорошеньких девушек, он постоянно нуждался в деньгах. Зарабатывал он на портретах, мечтая о крупном заказе, который сделает его богатым. Рисунок у него хромал, выдумки и изобретательности в его работах не чувствовалось никакой. Но он был красноречив, щедр на шутки и совершенно легкомыслен — не хотел даже позаботиться о своем незаконном сыне, который совсем недавно родился. Не прерывая работы, Микеланджело одним ухом слушал его забавную трескотню. — Мой дорогой крестный, — говорил Себастьяно, — как вы только не сбиваетесь, высекая три блока одновременно? Как вы помните, что надо делать с каждым из них, все время переходя от одной фигуры к другой? Микеланджело усмехнулся. — Я хотел бы, чтобы подле меня громадным кругом стояло не три, а все двадцать пять блоков. Тогда я ходил бы от одного блока к другому еще быстрее и закончил бы их все в пять коротких лет. Ты представляешь себе, как тщательно можно выдолбить в уме эти блоки, если постоянно думать о них восемь лет. Мысль острее, чем любой резец. — Я мог бы сделаться великим живописцем, — сказал Себастьяно, вдруг приуныв. — У меня прекрасная техника. Дайте мне любое живописное произведение, и я скопирую его столь точно, что вы никогда не отличите копию от оригинала. Но как вам удается выдвинуть на первый план идею? Это был вопль отчаяния и боли, — Микеланджело никогда не видел, чтобы Себастьяно о чем-то спрашивал с такой страстной заинтересованностью. И он раздумывал, как ему ответить, пока точил своим резцом Моисеевы скрижали. — Может быть, рождение идей — это естественная функция ума, как процесс дыхания у легких? Может быть, идею внушает нам Господь? Если бы я знал, как возникает идея, я открыл бы одну из самых глубоких наших тайн. Он передвинул резец выше, к запястью и кисти Моисея, лежащей на верхней кромке скрижалей, к пальцам, погруженным в волнистую, ниспадающую до пояса бороду. — Себастьяно, я хочу сделать для тебя кое-какие рисунки. Ты владеешь колоритом и светотенью не хуже Рафаэля, фигуры у тебя лиричны. Раз он заимствовал у тебя венецианскую палитру, почему тебе не заимствовать у меня композицию? Даю слово, мы с тобой сумеем заменить Рафаэля. Ночами, проработав целый день у мраморов, Микеланджело с наслаждением отдавался рисованию и обдумывал новые возможности старинных религиозных сюжетов. Он представил Себастьяно папе Льву, показал ему великолепно разработанные рисунки Себастьяно из жизни Христа. Лев, страстный любитель музыкальных развлечений, стал постоянно приглашать Себастьяно в Ватикан. Как-то вечером, уже запоздно, Себастьяно с криком ворвался к Микеланджело. — Вы слышали, маэстро? У Рафаэля появился новый соперник. Венецианец, лучший из лучших, равный Беллини и Джорджоне. Пишет с такой же грацией и очарованием, как Рафаэль! Но гораздо сильней и изобретательней его в рисунке. — Поздравляю! — отозвался Микеланджело, криво улыбнувшись. Вскоре Себастьяно получил заказ на фреску в церкви Сан Пьетро ин Монторио; он прилагал все усилия, стараясь воплотить наброски Микеланджело в сияющие краски картона. Все в Риме считали, что как член Микеланджеловой боттеги Себастьяно осваивает рисунок и, естественно, подражает руке своего учителя. Одна только Контессина, недавно приехавшая в Рим со своей семьей, догадывалась, что дело тут не так уж просто. Недаром целых два года она сидела вечерами рядом с Микеланджело, глядя, как он рисует: она знала его почерк. Однажды Микеланджело попал на ее изысканный обед, устроенный для нового папы, ибо Контессина явно претендовала на то, чтобы играть роль признанной хозяйки у Льва. Она увела Микеланджело в маленький кабинет, трогательно точную копию кабинета Лоренцо Великолепного, с теми же деревянными панелями, камином, шкатулками, в которых хранились камеи и амулеты: увидев их, Микеланджело так загрустил о минувшем, что чуть не заплакал. Контессина в упор посмотрела на Микеланджело, ее темные глаза горели. — Зачем ты позволяешь Себастьяно хвастать твоими работами и выдавать их за его собственные? — Я не вижу в этом никакого вреда. — Рафаэль уже потерял один важный заказ, — его передали Себастьяно. — Это только благо для Рафаэля: он так утомлен и перегружен работой. — Почему ты унижаешься до такого обмана? Микеланджело тоже пристально посмотрел ей в глаза. Как много еще осталась в ней от прежней Контессины, маленькой графини их отроческих лет. И в то же время как сильно она изменилась, когда ее брата сделали папой. Теперь она стала большой графиней и не хотела терпеть никакого вмешательства в дела со стороны двух своих старших сестер, Лукреции Сальвиати и Маддалены Чибо, которые вместе с мужьями и детьми также приехали в Рим. Контессина бдительно следила за всеми назначениями, которые предрешал папа, добивалась всяческих милостей для членов семьи Ридольфи; она действовала в тесном единении с кузеном Джулио, вершившим делами и политикой Ватикана. В своих обширных садах Контессина выстроила театральную сцену, где устраивали спектакли и концерты для церковной и светской знати. Знакомые римляне, желавшие папского фавора или должностей, все чаще и чаще обращались к Контессине. Эта жадная тяга к власти, вкус к государственным делам и управлению вполне понятны, думал Микеланджело, ведь столько лет она прожила в изгнании и бедности; и все же такая перемена в Контессине была ему чем-то неприятна. — Когда я закончил работу в Систине, — объяснял ей Микеланджело, — кое-кто стал говорить: «У Рафаэля есть грация, а у Микеланджело одна только грубая сила». И поскольку я не снисходил до споров с кликой Рафаэля и никак не защищал себя, я решил, что этот одаренный молодой венецианец сделает дело вместо меня. Я словно бы стою в стороне от всей этой истории, а Рим уже твердит: «Рафаэль очарователен, но Микеланджело — глубок». Ну, разве не забавно, что такую перемену во мнении вызвал шутник Себастьяно, импровизируя песенки в честь моего плафона и наигрывая на лютне? Возмущенная ироническим тоном Микеланджело, Контессина сжала кулаки. — Нет, это ничуть не забавно. Теперь я графиня Римская. Я могу защитить тебя… воспользовавшись властью… с достоинством. Я могу поставить твоих хулителей на колени. Так было бы верней… Он шагнул к ней, взял ее стиснутые кулаки в свои крепкие и большие руки каменотеса. — Нет, Контессина, так действовать не надо. Поверь мне. Я счастлив теперь, мне хорошо работается. И тут по лицу Контессины, стирая следы гнева, скользнула, словно зарница, лучистая ясная улыбка, которую Микеланджело хорошо помнил по прежним временам, когда Контессина, еще ребенком, так же вот улыбалась, кончая ссору или размолвку. — Ну, чудесно, — сказала она. — Но если ты не будешь ходить на мои званые вечера, я ославлю вас с Себастьяно, как двух лгунов и обманщиков. — Разве можно ожидать чего-то доброго от Медичи? — рассмеялся Микеланджело. Он мягко положил свои ладони на плечи Контессины, прикрытые высокими буфами шелкового платья, и потянул ее к себе, желая вдохнуть запах мимозы. Она задрожала. Глаза ее вдруг стали огромными. Время исчезло; кабинет на Виа Рапетта словно бы стал уже кабинетом во дворце Медичи, во Флоренции. И она сейчас уже не была великой графиней, и он не был великим художником, и половина их жизни не осталась позади; какую-то быстролетную минуту они стояли словно бы на пороге своей ушедшей юности.3
С раннего утра в дом Микеланджело явились швейцарские гвардейцы в зелено-бело-желтых мундирах — это означало приказ Льва обедать в тот день в Ватикане. Отрываться от работы и куда-то идти было истинным наказанием, но Микеланджело уже усвоил, что пренебрегать приглашением папы не следует. Приняв от Сильвио свежее белье и повесив его на руку, Микеланджело направился на Виа де Пастини, в бани, выпарил там из всех своих пор въевшуюся пыль и в одиннадцать часов был уже в папском дворце. Теперь он начал понимать, почему римляне жаловались, будто «весь Рим превратился в флорентинскую колонию», — в Ватикане было полно торжествующих тосканцев. Шагая в толпе гостей, — а их было приглашено на обед более ста и они заполнили два тронных зала, — Микеланджело узнал Пьефо Бембо, государственного секретаря Ватикана и поэта-гуманиста; поэта Ариосто, который писал «Неистового Роланда»; неолатиниста Санназаро; историка Гвиччардини; автора «Христиады» Виду; Джованни Ручеллаи, сочинившего «Розмунду», одну из первых трагедий, написанных белыми стихами; писателя и врача Фракасторо; дипломата, библиофила, классициста и импровизатора латинских стихов Томмазо Ингирами; Рафаэля, который ныне расписывал и папском дворце станцу «Элиодора» и занимал в эту минуту почетное место чуть ниже папы Льва; резчика по дереву Джованни Бариле из Сиены, украшавшего двери и ставни дворца родовыми эмблемами Медичи. Микеланджело увидел и Себастьяно: ему было приятно, что его подопечный тоже оказался среди приглашенных во дворец. Выкупив у республики Флоренции большую часть огромной библиотеки отца, Лев рассылал по всей Европе экспертов, разыскивающих ценные манускрипты. Чтобы издать жемчужины греческой литературы, он пригласил в Рим Ласкариса, добытчика греческих рукописей, поставлявшего их еще Великолепному. Папа вводил новый порядок в Римской академии, ставя задачей изучение классиков, чем пренебрегал Юлий, и подавал надежду на расцвет Римского университета. До Микеланджело уже доходило, что о новом дворе папы Льва говорили как о «самом блестящем и просвещенном со времен Римской империи». В течение долгого и невероятно обильного обеда папа Лев ел очень мало, так как страдал несварением желудка и сильными ветрами, но время от времени помахивал, словно бы дирижируя, своими белыми и пухлыми, унизанными драгоценными кольцами руками и слушал прекрасного певца Габриэля Марина, виолончелиста Мароне из Брешии и слепца сказителя баллад Раффаэлле Липпуса. В промежутках между музыкальными номерами папу Льва забавляли шуты. Его главный шут, бывший цирюльник Великолепного, сыпал непристойными остротами и заглатывал сразу три дюжины яиц и два десятка жирных каплунов. Близорукий Лев смотрел на шута через увеличительное стекло и, потешаясь над его свирепой прожорливостью, давился от смеха. Обед, занявший четыре часа, казался Микеланджело бесконечным. Сам он поел лишь очень немного соленой форели, жареного каплуна и сладкого риса, сваренного в миндальном молоке. Сидя на своем месте, он терзался, жалея о потерянном времени, и все гадал, когда же наконец можно будет покинуть дворец. Для папы Льва обед был лишь неким прологом к послеобеденным и вечерним развлечениям. Сегодня надо было слушать одного из лучших поэтов Италии, явившегося читать свои новые стихи, завтра смотреть новый балет или театр масок либо устраивать буффонаду, хохоча над Камилло Кверно, прозванным Архипоэтом, который декламировал свою ужасную эпическую поэму, в то время как Лев короновал его капустными листьями. Подобные развлечения длились обычно до тех пор, пока у Льва не начинали от усталости слипаться веки. Идя домой по темным и пустынным улицам, Микеланджело припомнил строчку из письма Льва к Джулио, которое папа написал сразу после своей коронации. «Если уже Господь Бог счел нужным дать нам папский трон, то позволь нам насладиться этим как следует». Италия жила теперь в мире и покое, какого она не знала при многих папах. Правда, деньги расходовались в Ватикане неслыханные; в тот день Микеланджело не раз видел, как, придя в восхищение от певца или музыканта, Лев швырял им кошельки, набитые сотнями флоринов, по поводу чего один трезвый гость за столом заметил: — Скорей камень залетит на небо, чем папа пожалеет тысячу дукатов. Денег Льву требовалось все больше и больше: на увеселения, на приобретение предметов искусства шли такие огромные средства, каких Юлий не тратил и на войну. Однажды Лев обратился к кардиналу Пуччи, ведавшему финансами Ватикана, потребовав, чтобы тот не допускал ничего, бесчестившего церковь, — ни симонии, ни продажи кардинальских постов или приходов. Пуччи пожал плечами: — Святой отец, вы поставили передо мной задачу — добывать средства для нашего дела, принявшего всемирный размах. И моя первая обязанность — обеспечить нашу постоянную платежеспособность. Когда Микеланджело добрался до Мачелло деи Корви, колокола уже пробили полночь. Он снова надел свое рабочее платье, плотное и тяжелое от густо пропитавшей его каменной пыли и пота, которым он обливался в знойные летние дни; и пот и пыль давно стали у него как бы верхним, дополнительным слоем кожи. Облегченно вздохнув, он взял молоток и резец, подкинул их вверх, чтобы ощутить в руках привычную тяжесть. Он был полон решимости противостоять всем соблазнам: больше он не потеряет понапрасну ни одного рабочего дня. С чувством сожаления он подумал о бледном, замученном Рафаэле, которого вызывали в папский дворец в любой час суток по самым ничтожным поводам — высказать мнение об украшенной миниатюрами рукописи или о проекте росписи стен в новой ванной комнате Льва. И при этом Рафаэль всегда сохранял вежливость, живой интерес ко всему, о чем его спрашивали, хотя, конечно, он жертвовал своим рабочим временем или вынужден был недосыпать. Все это не имеет касательства к нему, Микеланджело. Он не принадлежит к разряду любезных и очаровательных людей. Пусть он будет проклят навеки, если станет одним из них!Он мог уединиться, запереться от Рима, но Италия была теперь миром Медичи, а он, Микеланджело, был слишком связан с этой семьей, чтобы бежать от общения с нею. Полосу неудач переживал Джулиано, единственный из сыновей Великолепного, которого любил Микеланджело. Родные Микеланджело, а также Граначчи писали из Флоренции, как достойно правил там Джулиано: как он, сдержанный в манерах, мягкий, отзывчивый, появлялся без всякой охраны на улицах, как сделал доступным дворец Медичи для ученых и художников, возродил Платоновскую академию, передал государственное управление и правосудие в руки выборных консулов. Но все эти действия Джулиано не вызывали восхищения ни у кузена Джулио, ни у папы Льва. Лев отозвал своего брата из Флоренции, — и теперь, в сентябре, Микеланджело надевал праздничное платье, чтобы идти на церемонию, где Джулиано должны были провозгласить капитаном папских войск. Торжество состоялось на древнем Капитолии, неподалеку от дома Микеланджело, стоявшего в лощине. Микеланджело сидел вместе с семейством Медичи: там были Контессина и Ридольфи с тремя сыновьями, — Никколо теперь исполнилось уже двенадцать лет, и в шестнадцать ему предстояло стать кардиналом; присутствовали и старшие сестры Контессины — Маддалена Чибо с мужем и пятью чадами, включая Инноченцо, которому тоже предстояло стать кардиналом; Лукреция Сальвиати со своей многочисленной семьей и ее сын Джованни — опять-таки будущий кардинал. Лев распорядился построить сцену как раз на месте тех руин, которые Микеланджело рисовал вместе с Сангалло, когда архитектор рассказывал ему о славе древнего Рима. Неровная, вся в рытвинах, площадь была покрыта теперь деревянным настилом, над ним возвышалось несколько сотен сидений. Приветствуя Джулиано, выступали ораторы от Римского сената, затем читались эпические поэмы на латинском языке, устраивались представления масок и сатирические буффонады во флорентинском духе. Микеланджело видел, как к креслу Джулиано поднесли некую женщину, олицетворяющую Рим, всю в золоте, которая благодарила Джулиано за то, что он соблаговолил стать главным военачальником города. Когда закончилась непристойная комедия Плавта, папа Лев даровал Риму милости, в частности снижение налога на соль, что было встречено горячими рукоплесканиями тысяч горожан, толпившихся на голых склонах холма. Потом началось шестичасовое пиршество со множеством кушаний, не виданных в Риме со дней Калигулы и Нерона. Оргия была еще в разгаре, когда Микеланджело спустился с Капитолия и пошел через толпы народа, которым раздавали остатки папских угощений. Войдя в свой дом, он запер двери на засов. Ни Микеланджело, ни Джулиано, ни весь Рим не были одурачены этим спектаклем, придуманным лишь для того, чтобы замаскировать прискорбный факт: гуманного Джулиано, так любившего Флорентинскую республику, заменили сыном Пьеро и честолюбивой Альфонсины — Лоренцо. Этот юноша — ему исполнился теперь двадцать один год — был послан в Тоскану, снабженный письмом, которое составил Джулио: в письме говорилось, что Лоренцо должен зорко наблюдать во Флоренции за выборами, назначать по собственному усмотрению Совет и стягивать власть в свои руки. Влияние Джулио как фигуры, стоявшей за спиной папы, все возрастало. Комиссия, назначенная Львом, объявила Джулио законным сыном своего отца, ссылаясь на то, что брат Великолепного был готов жениться на матери Джулио и что только его смерть от руки убийцы помешала состояться этому браку. Теперь, когда происхождение Джулио было узаконено, его назначили кардиналом; у него уже были официальные полномочия, чтобы править церковью и папским государством. Лев и Джулио старались распространить власть Медичи на всю Италию, и это так или иначе должно было коснуться дел Микеланджело. Лев и Джулио хотели изгнать герцога Урбинского, урожденного Ровере, племянника и наследника папы Юлия, лишить его герцогства. Теперь папа Лев уже передал пост гонфалоньера святой церкви Джулиано, хотя раньше его держал герцог. Герцог Урбинский, человек бешеного нрава, был одним из наследников Юлия, перед которыми Микеланджело отвечал за гробницу покойного папы. Война между Медичи и Ровере, принявшая открытый характер, могла принести Микеланджело лишь новые волнения и беды. В течение всей зимы, хотя зима выдалась и не из суровых, Микеланджело ни разу не побывал на приемах у Контессины, но улучил время привести ее к себе в мастерскую — взглянуть на те три статуи, над которыми он работал. Микеланджело уклонялся и от званых вечеров у папы Льва, передав ему столько извинений, что насмешил и тронул ими папу, и тот, как великую милость, даровал ему разрешение не являться во дворец. Успешно работая неделю за неделей, Микеланджело разговаривал лишь со своими помощниками, жившими в саду, да изредка ужинал в обществе молодых флорентинцев: дружил он с ними от тоски по родине. Только однажды нарушил он свой затвор: в мастерскую к нему явился Джулиано и стал уговаривать его пойти на прием вчесть Леонардо да Винчи — художник приехал в Рим по приглашению Джулиано и жил теперь в Бельведере. — Ты, Микеланджело, Леонардо и Рафаэль являетесь величайшими мастерами Италии нашего времени, — мягким своим тоном говорил Джулиано. — Мне бы хотелось, чтобы вы все трое стали друзьями, может быть, даже вместе работали… — Я приду на прием, Джулиано, в этом не сомневайтесь, — ответил Микеланджело. — Что же касается того, чтобы вместе работать… Мы все трое созданы каждый по-своему, сходства у нас не больше, чем у птицы, рыбы и черепахи. — Странно, — вполголоса отозвался Джулиано. — А я-то думал, что все художники должны быть как братья. Пожалуйста, приходи пораньше. Я покажу тебе кое-какие алхимические опыты, которые проводит для меня Леонардо. Когда на следующий день Микеланджело пришел в Бельведер, Джулиано стал показывать ему множество комнат, перестроенных специально для работы Леонардо: окна там были высокие, чтобы больше лилось света сверху, кухню особо приспособили для разогрева алхимических горшков и сосудов. Выложенная камнем терраса смотрела на долину, папский дворец и Сикстинскую капеллу; среди мебели работы ватиканских столяров выделялись столы-треноги, на которых было удобно приготовлять и размешивать краски. По настоянию Джулиано папа Лев дал Леонардо заказ на живопись, но, оглядывая все эти комнаты-мастерские, включая комнату слесаря-немца, который должен был помогать Леонардо при работе над его изобретениями, Микеланджело убедился, что бельведерский гость еще и не брал кисти в руки. — Взгляни на эти вогнутые зеркала, — показывал Джулиано. — Обрати внимание на металлическую винторезную машину: все это совершенные новинки. В Понтийских болотах, откуда я его вызвал, Леонардо искал местонахождение нескольких потухших вулканов и разрабатывал планы осушения заболоченных земель, порождающих лихорадку. Он не допускает, чтобы кто-нибудь заглядывал в его записные книжки, но, как я думаю, он погружен теперь в математические студии для определения площади изогнутых поверхностей и скоро закончит эти труды. Он работает в области оптики, сформулированные им законы ботаники поразительны. Леонардо уверен, что он научится определять возраст деревьев по количеству колец на срезанном стволе. Ты только представь себе! — Не представляю! Лучше бы он писал свои прекрасные фрески. Повернув назад, Джулиано повел его в гостиную. — Леонардо — универсальная личность. Разве был такой ум в науке со времен Аристотеля? Думаю, не было. На искусство он смотрит лишь как на одну из сторон созидательной работы человека. — Это выше моего понимания, — упрямо стоял на своем Микеланджело. — Когда человек наделен таким редким даром, зачем ему тратить время, пересчитывая кольца на деревьях? В сопровождении своего постоянного компаньона, до сих пор еще изысканного и моложавого Салаи, появился Леонардо, одетый в великолепную красную блузу с кружевными рукавами. Микеланджело заметил, что Леонардо утомлен и сильно постарел, его величественная длинная борода и спадающие на плечи волосы побелели. Два художника, столь далекие по духу, чтобы понять друг друга, выразили свое удовольствие по поводу встречи. Леонардо, голос которого по-прежнему был высок и тонок, стал говорить о том, как тщательно он изучал Сикстинский плафон. — Разобравшись в вашей работе, я внес поправки в свои трактаты о живописи. Вы доказали, что изучение анатомии чрезвычайно важно и полезно для художника. — Тут его тон стал более холодным. — Но я также вижу в анатомии и серьезную опасность. — В чем же эта опасность? — не без обиды спросил Микеланджело. — В преувеличении. Изучив ваш плафон, живописец должен проявить чрезвычайную осторожность, иначе он станет в своих работах механическим и деревянным, слишком подчеркивая структуру костей, мускулов и сухожилий. Ему не следует увлекаться и обнаженными фигурами, чувства которых как бы выставлены напоказ. — У моих фигур, по-вашему, все чувства напоказ? — В голосе Микеланджело уже клокотала ярость. — Напротив, ваши фигуры почти совершенны. Но что будет с художником, который попытается пойти дальше вас? Если вы, применив свои знания анатомии, расписали Систину так чудесно, значит, другой художник, чтобы вас превзойти, будет делать упор на анатомию еще усердней. — Я не могу отвечать за позднейшие преувеличения. — Это бесспорно, но все же вы довели анатомическую живопись до ее крайних пределов. Что-либо усовершенствовать после вас уже никому не удастся. Появятся лишь одни извращения. И зритель скажет: «Это вина Микеланджело; не будь его, мы могли бы развивать анатомическую живопись и изощряться в ней сотни лет». Именно вы ее начали, и вы же ее кончили — все на одном плафоне. Тут стали сходиться и другие гости Джулиано. Скоро комнаты наполнились оживленным гулом голосов. Микеланджело одиноко стоял у бокового окна, выходящего на Сикстинскую капеллу, не зная, был ли он подавлен беседой с Леонардо или обижен. Удивляя гостей новыми своими затеями, Леонардо показывал надутых воздухом животных, плавающих в воздухе над головами, и живую ящерицу, к которой он приделал крылья, наполненные ртутью; он также вставил этой ящерице искусственные глаза и украсил ее рожками и бородою. — Механический лев, которого я смастерил в Милане, мог пройти несколько шагов, — объяснял Леонардо гостям; поздравлявшим его с хитроумными изобретениями. — А когда вы нажимали на пуговицу, находившуюся у льва в груди, грудь распахивалась, показывая внутри букет лилий. — Questo e il colmo! Это уже сверх меры, дальше ехать некуда, — проворчал сквозь зубы Микеланджело и ринулся домой, дрожа от нетерпения ощутить в своих руках весомый и твердый мрамор.
4
Весной Браманте умер. Папа Лев устроил ему торжественные похороны, на которых художники говорили о красоте его Темпиетто, дворика в Бельведере, дворца Кастеллези. Затем папа велел вызвать в Рим Джулиано да Сангалло, некогда столь любимого Великолепным. Когда Сангалло приехал, ему сразу же возвратили старый его дворец на Виа Алессандрина. Узнав, что его старый друг в Риме, Микеланджело тотчас кинулся к нему. — Вот мы и снова встретились! — радовался Сангалло, глаза у него так и сияли. — Я провел эти годы без дела, в опале, а ты — под сводом Систины. — Он смолк на минуту и нахмурил брови. — Тут я получил странное послание от папы Льва. Он спрашивает, как я посмотрю на то, чтобы моим помощником по храму Святого Петра был Рафаэль. Разве Рафаэль — архитектор? Микеланджело почувствовал, как что-то его укололо. Рафаэль! — Он распоряжается ремонтными работами в храме. Постоянно толчется на лесах. — Но ведь наследовать мне должен только ты! Что ни говори, мне уже почти семьдесят. — Спасибо, caro. Пусть тебе помогает Рафаэль. Это сохранит мне свободу для работы над мрамором. Чтобы продолжить строительство храма, папа Лев прибегнул к крупным займам у флорентинских банкиров Гадди, Строцци и Риказоли. Под присмотром Сангалло работы возобновились. Микеланджело допускал в свою мастерскую лишь немногих посетителей: бывшего гонфалоньера Содерини с женой монной Арджентиной, живших по разрешению папы в Риме, да трех старых заказчиков, на которых он работал после того, как исполнил мраморное изваяние Богоматери для Таддео Таддеи. Но однажды к нему обратились с деловым предложением римляне древней крови — Метелло Вари деи Поркари и Бернардо Ченчио, каноник храма Святого Петра. — Вы доставили бы нам огромную радость, изваяв воскресшего Христа. Для церкви Санта Мария сопра Минерва. — Рад это слышать, — отвечал Микеланджело. — Но должен сказать, что договор с наследниками папы Юлия не позволяет мне браться за новые работы. — Пусть это будет одна-единственная вещь, которую вы сделаете ради отдыха, чтобы отвлечься, — уговаривал его сопровождавший знатных римлян Марио Скаппуччи. — Воскресший Христос? — Микеланджело заинтересовала тема. — Изобразить Христа после распятия? Как вы видите это изваяние? — В натуральную величину. Иисус с крестом в руках. Позу и все остальное разработаете вы сами. — Могу я немного подумать? Микеланджело давно считал, что распятия в большинстве случаев дают глубоко неверное представление об Иисусе, показывая его сокрушенным, раздавленным тяжестью креста. Никогда, ни на одну минуту не верил он в подобного Иисуса: его Христос был могучим мужчиной, который нес крест, идя на Голгофу, так, словно это была ветвь оливы. Микеланджело начал рисовать. Крест, сжатый руками Христа, получался у него тонкой, хрупкой вещицей. Поскольку заказчики отвергли традицию, прося изобразить Иисуса с крестом после воскресения, почему бы и ему, Микеланджело, не отойти от привычной трактовки сюжета? Вместо Иисуса, сокрушенного крестом, его Иисус будет Иисусом торжествующим. Перечеркнув черновые наброски, он пристально вглядывался в свой новый рисунок. Где он видел такого Христа? Когда? И тут он припомнил: это была фигура каменотеса, которого он рисовал для Гирландайо в первый год своего ученичества. Хотя у себя в Риме Микеланджело добился мира и покоя, семейные вести из Флоренции с избытком наполняли чашу его треволнений. Буонаррото измучил его, клянча денег на покупку собственной шерстяной лавки, и Микеланджело взял из полученной по новому договору с Ровере суммы тысячу дукатов и попросил Бальдуччи перевести ее во Флоренцию. Буонаррото и Джовансимоне открыли свою лавку, но скоро запутались в делах. Им снова требовались средства: не может ли Микеланджело послать братьям еще тысячу дукатов? Ведь скоро он будет извлекать из этих денег прибыль… И помимо того, Буонаррото нашел себе девушку, на которой он не прочь жениться. Ее отец обещал дать солидное приданое. Как думает Микеланджело, надо Буонаррото жениться или не надо? Микеланджело послал ему двести дукатов, однако Буонаррото впоследствии отрицал, что получил эти деньги. Что случилось с ними и что случилось с другими деньгами, которые Лодовико взял со счета Микеланджело и обещал вскоре вернуть? Что происходит с его вкладом в больнице Санта Мария Нуова? Почему эконом при больнице все медлит и не высылает денег, хотя Микеланджело не раз просил его об этом? И есть ли смысл владеть пятью земельными участками, если твои компаньоны тайком тебя обманывают? Из письма Буонаррото Микеланджело узнал, что скончалась мамаша Тополино. Это был для него жестокий удар. Он оставил работу и пошел в церковь Сан Лоренцо ин Дамазо помолиться за упокой души умершей. Он послал Буонаррото денег, прося его съездить в Сеттиньяно и заказать мессу в тамошней церкви. Теперь он наглухо затворил ворота своей души, как прежде затворил ворота сада. Работа над мрамором стала для него не только удовольствием, но и утешением. Как редко бывает, чтобы хороший кусок мрамора обернулся плохим! Истратив последние дукаты, которые он авансом получил у семейства Ровере, Микеланджело нанял новых резчиков, литейщиков по бронзе, столяров: они толпились на его дворе с утра до вечера, мастеря архитектурный каркас гробницы и ее фасадную стену. Сам он упорно трудился над рисунками для тех фигур, которые еще предстояло высечь. Сеттиньянских каменотесов Микеланджело превратил в настоящих мраморщиков — они обрабатывали гигантские блоки для статуй так, чтобы он мог сразу высекать из них Победителей. Шел месяц за месяцем. Подмастерья, бывая в городе, приносили Микеланджело разные слухи и новости. Как рассказывали, Леонардо да Винчи попал в затруднительное положение, потратив так много времени на эксперименты с новыми, рассчитанными на долгий век масляными красками и лаками, что не успел ничего написать по заказу Льва. Папа насмешливо говорил во дворце: — Леонардо никогда ничего не сделает, ибо, еще не приступив к работе, он уже размышляет, каким образом ее закончить. Придворные разнесли эту фразу по городу. Узнав, что он стал предметом насмешек, Леонардо отказался от работы на Льва. Папа слышал от доносчиков, что Леонардо в больнице Санто Спирито вскрывает трупы, и пригрозил изгнать его из Рима. Леонардо покинул Бельведер и, уехав опять на болота, продолжал там свои опыты, пока не заболел малярией. Оправившись от болезни, он обнаружил, что его помощник, слесарь, уничтожил все изобретенные ранее механические приспособления. В эти дни покровитель Леонардо Джулиано, встав во главе папских войск, отправился изгонять французов из Ломбардии, и Леонардо не мог больше оставаться в Риме. Куда же он поедет? Во Францию, быть может. Его приглашали туда несколько лет назад… Сангалло тоже оказался в беде: у него разыгралась мучительная болезнь желчного пузыря, работать он больше не мог. Он был прикован к постели почти целый месяц, белки глаз у него стали желтые, как горчица, старик угасал. Его повезли во Флоренцию на носилках. Но родной земли Сангалло уже не увидел. Рафаэль стал архитектором собора Святого Петра и всего Рима. Микеланджело получил срочную записку от Контессины. Он бегом кинулся к ее дворцу; сын Контессины Никколо встретил его и провел наверх, в спальню матери. Хотя погода была теплой, Контессина лежала, укрытая двумя одеялами, лицо у нее побледнело и осунулось, глаза запали. — Контессина, ты больна? Контессина жестом подозвала его к изголовью, тихонько похлопала ладонью по стулу, предлагая сесть. Он сжал ее руку, бледную и тонкую. Она опустила веки. Когда она открыла их снова, и горячих карих глазах ее блестели слезы. — Микеланджело, я вспоминаю время, когда мы в первый раз увидели друг друга. В Садах. Я спросила тебя: «Зачем ты колотишь так яростно? Разве ты не устаешь?» — А я тебе ответил: «Когда рубишь камень, то силы не убывает, а только прибавляется». — Все тогда думали, что я скоро умру, как моя мать и сестра… Ты прибавил мне сил, caro. — Ты сказала: «Когда я стою рядом с тобой, я чувствую себя крепкой». — А ты ответил: «Когда я рядом с тобой, я смущаюсь». — Она улыбнулась. — Джованни говорил, что ты напугал его. Меня ты никогда не пугал. Я видела, какой ты нежный, тут, внутри. Они посмотрели друг на друга. Контессина прошептала: — Мы никогда не говорили о своих чувствах. Он с лаской провел пальцами по ее щеке. — Я любил тебя, Контессина. — Я любила тебя, Микеланджело. Я всегда жила с ощущением, что на свете есть ты. Глаза ее на секунду словно вспыхнули. — Мои сыновья будут тебе друзьями… Тут она вдруг закашляла, — это был настоящий приступ, большая ее кровать сотрясалась. Когда она отвернула от него лицо и прижала платок к губам, он с ужасом заметил на нем красное пятно. И в это мгновение ему вспомнился Якопо Галли. Да, он видит Контессину в последний раз. Он постоял, глотая соль подавленных слез. Поворачивать к нему свое лицо она больше не хотела. Он прошептал: «Addio, mia cara» — и, сутулясь, тихо вышел из комнаты.Смерть Контессины потрясла его несказанно. Он весь ушел в работу над головой Моисея, стараясь довести ее до абсолютной завершенности: резец его двигался теперь вверх от бороды, к напряженно выпяченной, полной нижней губе, ко рту, столь выразительному, что звук мог бы вырваться из него в любую минуту; к резко выдвинутому вперед носу, к энергичному, дышавшему взрывчатой страстностью надбровью, к бугристым мускулам около скул и, наконец, к глазам, посаженным так глубоко, что по контрасту с освещенными выступами на костях лица, которые он еще обточит и отшлифует, они будут казаться особенно темными. Затем он перешел к работе над изваяниями двух Пленников — один из них боролся со смертью, другой сдавался ей: в трепетную плоть этих Пленников Микеланджело вдохнул собственную боль и горечь утраты. С юных лет он знал, что никогда не быть ему вместе с Контессиной, но в нем жило постоянное ощущение ее присутствия на земле, в его мире, и это крепило его дух, давало радость. Откладывая в сторону молоток и резец, он готовил модели для бронзового фриза. Он закупил двадцать тысяч фунтов меди, вызвал еще несколько каменотесов из Сеттиньяно, всячески торопил мастеров из Понтассиеве, обрабатывавших и украшавших основные камни гробницы, написал груду писем во Флоренцию, чтобы отыскать там знатока по мрамору, который съездил бы в Каррару и выбрал там для него новую дюжину блоков. Он прикинул и рассчитал почти все, чтобы на следующий год уже установить главную, определяющую весь замысел фронтальную стену, поднять на свои места «Моисея» и «Пленников», поместить в ниши «Победителей», а над первым ярусом надгробья укрепить бронзовый фриз. Он будет работать как одержимый, но если ты обручился с мрамором, то что же странного в этой одержимости? Папа Лев в свое время был твердо намерен править, не прибегая к войнам, но это отнюдь не означало, что он мог избавиться от беспрерывных попыток соседей завоевать богатую страну; не мог он избежать и междоусобных распрей, составляющих непреложную черту истории городов-государств. Джулиано не сумел одолеть французов в Ломбардии. Едва начав действия, он заболел, его увезли в монастырь Бадию, во Фьезоле, где, по слухам, он был при смерти, сокрушенный тем же недугом, от которого скончалась Контессина… Герцог Урбинский не только не помог папе, но выступил в союзе с французскими войсками. Папа Лев поспешил сам выехать на север и заключил с французами мирный договор, чтобы развязать себе руки и потом напасть на герцога Урбинского. Вернувшись в Рим, он тотчас же вызвал к себе в Ватикан Микеланджело. Когда папа проездом был во Флоренции, он проявил к семейству Микеланджело немалое благоволение, пожаловав Буонарроти один из низших придворных титулов — conte palatino, который открывал дорогу к дворянству, и разрешив им пользоваться эмблемой Медичи — шестью шарами. Лев вместе с Джулио сидел у стола в своей библиотеке и разглядывал через увеличительное стекло геммы и резные камеи, привезенные им из Флоренции. Поездка, казалось, пошла ему на пользу, полнота его чуть спала, на щеках, обычно белых, как мел, проглядывал румянец. — Святой отец, вы были чрезвычайно великодушны по отношению к моей семье. — Тут не о чем говорить, — ответил папа. — Вот уже сколько лет ты принадлежишь к нашему дому. — Я полон благодарности, ваше святейшество. — Прекрасно, — сказал Лев, откладывая в сторону увеличительное стекло, и Джулио сразу насторожился. — Ибо мы не желаем, чтобы ты, скульптор семейства Медичи, тратил свое время на статуи для Ровере. — Но ведь есть договор! Я обязан… Минуту стояла тишина. Лев и Джулио переглянулись. — Мы решили одарить тебя величайшим заказом нашего века, — заговорил папа. — Мы хотим, чтобы ты украсил фасад нашей родовой церкви Сан Лоренцо… как задумывал это еще мой отец… Грандиознейший фасад!.. Шагнув к окну, Микеланджело смотрел поверх моря неровных коричневых кровель, но ничего не видел. Он слышал, как за его спиной что-то говорил папа, но не понимал ни слова. Усилием воли он заставил себя вновь подойти к столу. — Святой отец, я сейчас работаю над гробницей папы Юлия. Вы помните, договор подписан всего три года назад. Мне надо закончить работу и выполнить все условия, иначе Ровере будут преследовать меня. — Хватит говорить о Ровере, времени на них потрачено достаточно, — резко вмешался в разговор Джулио. — Герцог Урбинский вошел в союз с французами, он борется против нас. Отчасти на нем лежит вина за потерю Милана. — Я очень сожалею. Я не знал… — А теперь ты знаешь! — Темное, с острыми чертами, лицо кардинала Джулио на минуту смягчилось. — Художник семейства Медичи должен служить Медичи. — Так оно и будет, — ответил Микеланджело, тоже немного успокоившись. — Через два года гробница будет закончена полностью. Я все предусмотрел… — Нет! — Круглое лицо Льва покраснело от гнева, что случалось редко и оттого производило еще более устрашающее впечатление. — Ни о каких двух годах, потраченных ради Ровере, не может быть и речи. Ты начнешь свою службу нам сейчас же, незамедлительно. Но тут папа чуть поостыл. — Ну, хорошо, Микеланджело, — сказал он. — Мы твои друзья. Мы защитим тебя от нападок Ровере и добьемся нового договора, по которому у тебя будет больше и времени и денег. Закончив фасад Сан Лоренцо, ты можешь вновь вернуться к гробнице Юлия. — Святой отец, я жил с думами об этой гробнице целых десять лет. Я высек в воображении все двадцать пять ее фигур, до последнего дюйма. Я уже готов со своими мастерами построить фронтальную стену, отлить бронзу, установить три больших статуи… — Голос Микеланджело звучал все громче, переходя почти в крик. — Вы не должны останавливать меня. В этот год у меня решится буквально все. У меня теперь опытные помощники. Неужто мне отпускать их домой, а мраморы будут бесцельно валяться и обрастать грязью… Ваше святейшество, во имя моей любви к вашему благородному отцу умоляю вас не причинять мне такое ужасное горе. Он опустился перед папой на колени и склонил голову. — Дайте мне время закончить работу, как я задумал. Потом я могу ехать во Флоренцию, спокойно и счастливо трудиться над фасадом Сан Лоренцо. Я создам великий фасад, но мне нужно спокойствие ума и духа. Папа не сказал ни слова в ответ, а лишь выразительно переглянулся с Джулио: что, мол, за несговорчивый человек! За долгие годы совместной жизни они научились легко читать мысли друг друга. — Микеланджело, — произнес, качая головой, папа Лев, — до сих пор ты все принимаешь к сердцу с такой… горячностью. — А может быть, твои слова означают, что ты не хочешь строить фасад Сан Лоренцо для семейства Медичи? — вмешался Джулио. — Хочу, ваше преосвященство. Но ведь это огромное предприятие… — Верно! — воскликнул папа, прервав Микеланджело. — И посему ты сейчас же должен ехать в Каррару. Будешь там сам выбирать блоки, следить за их вырубкой. Я распоряжусь, чтобы Якопо Сальвиати выслал тебе из Флоренции тысячу дукатов — расплачиваться за мраморы. Микеланджело поцеловал у папы перстень, вышел из комнаты, стал спускаться по ступеням лестницы: лицо его заливали слезы. Придворные, прелаты, посланники, купцы, зеваки, толпившиеся на ступенях в ожидании веселого дня при дворе, глядели на него с изумлением. Он не обращал на них ни малейшего внимания и не замечал их взглядов. Очнувшись в эту несчастную, одинокую ночь, он увидел, что бродит по тем же кварталам, где когда-то Бальдуччи рыскал в поисках проституток. К нему подошла молодая девушка — тоненькая, белокурые волосы выщипаны со лба, чтобы лоб казался выше, одета в полупрозрачную кофточку, нитка тяжелых бус, спускавшаяся с шеи, образовывала между грудей глубокую ложбинку. В первую секунду Микеланджело показалось, что перед ним стоит Кларисса. Но это впечатление быстро исчезло: черты лица девушки были грубы, движения угловаты. Как ни мгновенна была эта летучая мысль о Клариссе, ее было достаточно, чтобы пробудить в Микеланджело тоскливое желание любви. — Добрый вечер. Хочешь, пойдем со мной? — Не знаю. — Да ты какой-то печальный. — Пожалуй. Можешь ты излечить такую болезнь? — Что ж, это мое ремесло. — Тогда я пойду. — Ты не раскаешься. Но он раскаялся, не прошло и двух суток. Узнав, какие у него признаки недуга, Бальдуччи воскликнул: — Ты подцепил французскую болезнь! Почему ты не признался мне, что тебе хочется девушку? — Я и не знал, что мне ее хочется… — Кретин! Сейчас эта болезнь ходит по всему Риму. Давай-ка я вызову своего доктора. — Я подцепил болезнь сам. Сам и вылечусь. — Без ртутных притираний и серных ванн тебе не обойтись, хочешь не хочешь. Судя по всему, случай у тебя не тяжелый. Может быть, скоро будешь здоров. — Мне надо скорей, Бальдуччи. В Карраре меня ожидает суровая жизнь.
5
Апуанские Альпы громоздились за окном подобно темной стене. Он накинул на себя рубашку, натянул чулки, обулся в приспособленные для лазания по горам, подбитые гвоздями башмаки, вышел на дворик дома аптекаря Пелличчии, спустился по ступенькам и был уже на Соборной площади — тут за его спиной возникли в предрассветной мгле две шагающие фигуры, хозяина каменоломни и его подручного: на плечи у них были наброшены теплые, подвязанные вокруг поясницы, шали. По деревянному мостику около собора прошли служить заутреню два священника. В подковообразном полукружии каменных стен, оберегавших ее с моря, Каррара мирно спала — тыл городка защищали крутые горы. Микеланджело без охоты уехал из Рима, но эти горы, кладовая его излюбленного камня, успокаивающе действовали ему на душу. Зажав узелок с едой под мышкой, он поднимался по узкой улице к Воротам у Рва. Ему припомнилось горделивое речение местных жителей: «Каррара — это единственный город, который способен вымостить свои площади мрамором». В пепельно-сером свете он видел дома, построенные из мрамора, видел колонны и изящные наличники окон, выточенные из мрамора, — словом, все, что Флоренция так чудесно мастерила из светлого камня, каррарцы делали из своего мрамора, добываемого там, в высоких горах. Микеланджело нравились каррарцы. Он чувствовал себя с ними просто, как дома, потому что он и сам был не чужд камню. И, однако, он прекрасно видел, что каррарцы — это самая замкнутая, подозрительная, отъединенная от мира каста, какую он когда-либо только видел. Каррарцы не считали себя ни тосканцами, жившими от них к югу, ни лигурийцами, жившими к северу; лишь редкие жители покидали свои горы, уезжая в дальние края, и никто не брал себе жены из чужих мест и не выходил замуж за чужого; мальчики начинали работать с отцами в каменоломнях с шести лет и оставляли эти каменоломни только умирая. Ни один земледелец не допускался со своим деревенским товаром на рынки Каррары, кроме тех людей, которые имели давнее, наследственное право входа внутрь городских стен. Если в каменоломнях был нужен новый человек, его выбирали из известных крестьянских семей той же округи. Каррара и Масса, самые крупные здешние города, враждовали друг с другом с незапамятных времен. Даже деревни вокруг этих городов строились в традициях военного лагеря, с боевыми башнями и крепостями, — каждый сам за себя, за свою колокольню, каждый против всех остальных. Каррара жила, собирая один-единственный урожай: мрамор. Каждое утро каррарец поднимал свой взор, чтобы убедиться, целы ли на склонах гор белые разрезы, эти пятна, похожие на снег даже в ослепительно знойные дни лета, и, увидя их, благодарил господа. Жизнь каррарцев была единой и крепко спаянной: когда богател один, богатели все; когда голодал один, голодали и остальные. Работа в каменоломнях постоянно грозила такими опасностями, что, разлучаясь, каррарцы говорили друг другу не «до свидания», а «fa a modr» — «иди осторожно». Микеланджело шагал по извилистой тропе вдоль реки Каррионе. Сентябрьский воздух был бодряще свеж. Внизу виднелись крепость-башня Рокка Маласпина и шпиль собора, стоящий на страже кучки тесно сомкнутых домов, окруженных стенами, которые не расширялись уже несколько столетий. Скоро Микеланджело стали встречаться и горные деревни: Кодена, Мизелья, Бедиццано — каждое селение выталкивало в этот час своих мужчин, они, словно ручьи, стекались вместе, и человеческий поток поднимался к каменоломням все выше и выше. Это были люди, похожие на него, Микеланджело, в большей мере, чем родные братья: маленькие, жилистые, не знавшие усталости, молчаливые, с какой-то по-первобытному сильной хваткой существ, привыкших обрабатывать упрямый камень. Они торопливо шагали по тропам вверх, мимо Торано, Загона для быков, каждый из них нес на правом плече небрежно наброшенную mataló — куртку. Сон еще словно бы владел ими, сковывая их языки. Как только заря разлилась и разгорелась за вершинами гор, люди начали перебрасываться короткими, односложными, как удар молотка, словами. Микеланджело пришлось научиться этому сжатому каррарскому говору, обрубающему и обламывающему слова подобно тому, как резец обрубает и обламывает щебень и крошку от каменной глыбы: casa — дом — стало у каррарцев ca, mamma превратилось в ma, brasa — янтарь — выговаривалось bra, bucarol — холстина — звучало как buc. Благодаря множеству таких односложных слов каррарцы переговаривались необычайно быстро, даже стремительно. Они спрашивали Микеланджело насчет его вчерашних поисков в каменоломнях Гротта Коломбара и Ронко: — Нашел? — Пока нет. — Найдешь сегодня? — Собираюсь. — Иди в Раваччионе. — А что там? — Выломали новый блок. — Посмотрю. На бледно-желтом от солнца скате горы лежали зубчатые тени дальних утесов. Вниз по ущелью, как разлитое молоко, белел мраморный щебень, веками выбрасываемый из заломов. Подле каменоломен такие кучи битого мрамора вырастали, будто сугробы снега. Они достигали в толщину полутора сот сажен и захватывали землю, легко отвоевывая ее у древних зарослей дуба, бука, ели и колючих кустарников, называемых bacon. Они появлялись в горах все выше, наступали уже на летние пастбища для овец — paleri. Тропа, которой шагал Микеланджело, ныряла в перелески, шла через заросшие цветами поляны, пока не уперлась в скалу, где мрамор выступал на поверхность. Две сотни мужчин, отцов и сыновей, потоком двигались к каменоломням и отсюда ручейками вновь растекались по трем главным направлениям или жилам к облюбованным уже разработкам — Раваччионе, включающей каменоломню Полваччио, Канале ди Фантискрити, известной еще древним римлянам, и Канале ди Колонната. Расходясь, люди негромко бросали друг другу: — Fa a modr. — Se Dio 'l vora. Если Бог захочет. Микеланджело работал с группой камнеломов в Полваччио, где одиннадцать лет тому назад он нашел лучшие свои блоки для надгробия Юлия. Каменоломня Полваччио, расположенная с краю от залома Сильвестро, давала хороший, годный для статуй мрамор, хотя в окружающих ее карьерах Баттальино, Гротта Коломбара и Ронко мрамор был довольно посредственный, с косо идущими прожилками. Солнце стояло уже над горой Сагро, когда Микеланджело со своей артелью, поднявшись по тропе почти на версту, оказался в нужном заломе — камнеломы, сразу же сбросив куртки и схватив молотки, принялись за работу. Теккиайоли, верхолазы артели, накинув веревки на выступы скал, карабкались по ним вверх, на несколько десятков сажен, и сбивали там свободно лежавшие камни с тем, чтобы они потом случайно не обрушились на работавших в заломе. Хозяин каменоломни — за громадный круглый торс его прозвали Бочкой — встретил Микеланджело, как всегда, очень дружественно. Подобно всем его рабочим, Бочка был неграмотен, но, сталкиваясь с заказчиками и покупателями из Англии, Франции, Германии, Испании, он научился говорить почти полными фразами. — А, Буонарроти! Сегодня мы выломаем тебе большой блок. — Буду надеяться. Бочка схватил Микеланджело за руку и повел к тему месту, где в надрез камня, сделанный в форме буквы V, были забиты деревянные колья, пропитанные водой. Разбухнув, колья рвали крепкий мраморный утес, в нем появлялись щели — и тогда-то рабочие бросались к нему со своими ломами и кувалдами. Они загоняли колья все глубже, чтобы отделить мраморный блок от его ложа. Работу начинали с верхних слоев, постепенно углубляясь в породу и выламывая глыбы все ниже. Время от времени десятник кричал каменотесам: «Сейчас упадет!» Рабочие, подпиливавшие блоки, немедленно бросались к краю залома. Самый верхний блок отрывался от своего ложа со звуком рухнувшего дерева и, падая на площадку, сотрясал весь карьер. Как правило, он откалывался от ложа точно по намеченным щелям, которые тут называли peli. Когда Микеланджело вышел вперед и осмотрел огромный, но не совсем гладкий блок, он был разочарован. Сильные дожди, просачиваясь в течение миллионов лет сквозь те пол-аршина земли, которая покрывала мрамор, несли с собой достаточно химических веществ, чтобы испещрить жилками чистую белизну камня. Бочка, вертевшийся рядом, рассчитывал, что, добывая этот блок, он угодит Микеланджело. — Прекрасный кусок мяса, не правда ли? — Хорош. — Берешь его? — Он в жилах. — Обрез у него почти точный. — Мне нужен совсем точный. Бочка взъерепенился: — Ты нас разоряешь. Мы ломаем для тебя камень уже целый месяц, а от тебя не видали пока ни сольдо. — Я дам вам большие деньги… за мрамор, который годится на статуи. — Мрамор делает Бог, ему ты и жалуйся. — Я подожду, нет ли там, глубже, мрамора побелее. — Ты, видно, хочешь, чтобы я разворотил всю эту гору? — Я должен украсить фасад церкви Сан Лоренцо. Мне будет отпущена на это не одна тысяча дукатов. Тебе из этих денег своя доля достанется. С мрачной миной Бочка отошел прочь, ворча что-то себе под нос. Микеланджело не мог разобрать, что он говорит, но ему показалось, будто Бочка назвал его баламутом. Поскольку Микеланджело разговаривал с ним спокойно, ровным тоном, то он решил, что плохо расслышал Бочку и ошибся. Он подхватил свою куртку и узелок с обедом и пошел вниз от утеса к каменоломне Раваччионе. Шел он по заброшенной козьей тропе, очень узкой, нога на ней едва нащупывала устойчивую почву. Когда он добрался до каменоломни, было уже десять часов утра. На площадке залома рабочие продольными пилами пилили блоки, а юнцы-подмастерья подсыпали под зубья пил песок и подливали воду. Скоро раздался певучий крик десятника, и артель камнеломов, расширявших разрыв в верхних пластах мрамора, быстро спустилась вниз и села под дощатый навес обедать. Микеланджело тоже сел на доску, положенную поверх двух блоков, и вынул свой хлеб, нарезанный толстыми ломтями и сдобренный оливковым маслом, уксусом, солью и давлеными ягодами. Он смачивал эти ломти, макая их в общее ведерко воды, и с жадностью ел. Монна Пелличчиа предлагала ему прокладывать ломти хлеба мясом или рыбой, но он предпочитал есть то, что ели рабочие. Лучшего пути, чтобы сойтись с каррарцами, Микеланджело не мог и придумать, ибо каррарцы были людьми особенными. Они с гордостью говорили о себе. «Сколько голов, столько и помыслов». Когда Микеланджело жил тут в 1505 году, отбирая блоки для гробницы Юлия, каррарцы встретили его так же сдержанно, как они встречали любого чужеземного скульптора, приехавшего закупать мрамор. Но потом, когда он стал проводить целые дни в каменоломнях, чутьем обнаруживая в блоках полости, воздушные пузырьки, жилы и желваки, стал работать с артелями рабочих, спуская на катках с крутых склонов свои тысячепудовые блоки, — а кроме веревок, закрепленных на кольях, сдерживать этот продолговатый по форме груз было нечем, — тогда каррарцы увидели, что он не только скульптор, но и камнелом. Теперь, приехав в Каррару вторично, он был принят уже как свой человек, как каррарец, его приглашали субботними вечерами в таверны, где мужчины пили вино пятилетней давности и играли в карты; выигравшие и проигравшие сообща выпивали после каждого кона, и таверна гудела от смеха и пьяных шуток. Микеланджело гордился тем, что его сажали за игорный стол, где определенные места переходили от отца к сыну по наследству. Однажды, заметив на холме возле города пустой дом, глядевший окнами на реку Каррионе, вдоль которой тянулось с полдесятка мраморных мастерских, Микеланджело сказал себе: «Почему я должен возвращаться обратно в Рим или во Флоренцию и ваять там статуи, когда здесь, в Карраре, на человека, отдающего свою жизнь скульптуре, смотрят куда проще и верней?» В Карраре есть мастера smodellatori, обрабатывающие мрамор по модели, и, значит, у него никогда не будет недостатка в опытных помощниках. Когда, закончив тяжелый рабочий день, с головы до ног в мраморной пыли, он шел по Флоренции или Риму, все на него смотрели с удивлением, если не с насмешкой. А здесь он выглядел и сам себя ощущал таким же, как остальные люди, возвращающиеся домой из своих каменоломен и мраморных мастерских. Он был одним из них. В Раваччионе Микеланджело постигло, второе за это утро разочарование: новый камень, выломанный из белой отвесной стены и свалившийся вниз к ногам каменотесов, оказался с мягким изломом. Микеланджело не мог пустить его ни на одну из своих гигантских фигур. — Прекрасный блок, — сказал хозяин, топтавшийся рядом с Микеланджело. — Покупаешь? — Возможно. Я подумаю. И хотя он отвечал вежливо, лицо хозяина омрачилось. Микеланджело уже собирался идти в другую каменоломню, как услышал звук рога. Звук шел от каменоломни Гротта Коломбара, лежавшей за несколькими грядами гор, и разносился на огромном пространстве, проникая вниз, в долины. Все камнеломы словно застыли на месте. Они сложили свой инструмент, накинули на правое плечо куртки, затем, не произнося ни слова, стали спускаться по тропе. Кто-то из работавших в горах был ранен, быть может, убит. И каждый камнелом в Апуанских Альпах начинал долгий, занимающий не меньше часа спуск вниз, к своей деревне, где он будет ждать известия о судьбе пострадавшего. Всякая работа остановится вплоть до утра, никто не будет работать и утром, если окажется, что надо идти на похороны. Микеланджело спустился по тропе вдоль реки, наблюдая за женщинами, которые полоскали белье, — от мраморной пыли и щебня, выбрасываемого в реку мастерскими, вода тут была белая, как молоко. Сделав небольшую петлю, Микеланджело оказался под стенами города и через Свиной рынок дошел до своего жилья. Он снимал задние комнаты в доме аптекаря Пелличчии: в нижнем этаже дома помещалась аптека, а верхний этаж был жилым. Аптекарь Франческо ди Пелличчиа, пятидесяти пяти лет, более рослый и дородный, чем большинство каррарцев, был вторым по своей образованности человеком в городе — когда-то он учился в университете города Пизы, ближайшем от Каррары. В отличие от своих земляков он побывал и за пределами родины — ездил покупать лекарства на Ближний Восток, видел Микеланджелова «Давида» во Флоренции, видел, посетив Микеланджело в Риме, Сикстинский плафон и «Моисея». Микеланджело снимал у него квартиру и в новый свой приезд; ныне он сошелся с аптекарем еще ближе. Пелличчиа владел большими каменоломнями, но отнюдь не пользовался дружбой с Микеланджело, чтобы навязать ему свой мрамор. Пелличчии дома не было. Он ушел к пострадавшему рабочему. Хотя в Карраре был врач, но лишь немногие жители прибегали к его услугам. Каррарцы говорили так: «Природа лечит, а лекари зарабатывают деньги». Когда кто-либо заболевал, его родные шли в аптеку, рассказывали о признаках недуга и ждали, пока Пелличчиа приготовит лекарство. Синьора Пелличчиа, женщина с пышной грудью, лет сорока, накрыла стол в комнате, выходящей окнами на Соборную площадь. От своего семейного обеда она сберегла для Микеланджело немного свежей рыбы. Микеланджело не успел еще доесть чашку супа, как в дверь постучался посыльный из Рокка Маласпина. Он принес письмо от Антонио Альберико Второго, маркиза Каррарского, владетеля области Масса-Каррара, — маркиз просил Микеланджело безотлагательно пожаловать в его замок.6
К замку Рокка надо было пройти, поднимаясь вверх, совсем недалеко — крепость эта служила словно бы горной цитаделью Каррары, противоположным бастионом той подковы укреплений, которая была совершенно неприступна, так как под нею текла река Каррионе. Возникшая в двенадцатом веке, Рокка обросла зубчатыми боевыми башнями, окопалась рвом, наполненным водой, оделась в толстый камень: когда-то она постоянно ждала осады. Отчасти поэтому каррарцы так ненавидели чужаков: в течение пяти столетий этот край опустошал неприятель. Лишь недавно род Маласпина получил возможность дать округе настоящий мир. Суровая и неуклюжая в свое время оборонительная крепость превратилась теперь в элегантный дворец из мрамора, где были и фрески, и изысканная мебель, и дорогая утварь, собранная по всей Европе. Маркиз встретил Микеланджело, стоя на верхней площадке величественной лестницы. Едва обменявшись с ним первыми словами, Микеланджело с восхищением заметил великолепные мраморные полы и колонны, обступавшие лестницу. Маркиз был высокий мужчина, держался он предупредительно и в то же время властно. Лицо у него было узкое, худощавое, с выступавшими скулами, длинная волнистая борода спадала на грудь. — Очень любезно с вашей стороны пожаловать к нам, маэстро Буонарроти, — говорил маркиз густым внушительным голосом. — Мне пришло на ум, что вам, быть может, захочется посмотреть комнату, в которой жил Данте Алигьери, когда он гостил здесь, в нашем доме. — Данте гостил здесь? — Позвольте вас заверить. В «Божественной комедии» он посвятил несколько строк нашему краю. Вот его кровать. А вот и доска с его стихами о прорицателе Арунсе:«Маэстро Микеланджело, скульптор, которого мой муж глубоко любит и который является честнейшим, учтивым и любезным человеком, наделенным такими достоинствами, что, как мы думаем, в Европе сейчас нет подобного ему, отправился в Каррару добывать прославленный мрамор. Мы горячо желаем, чтобы вы оказали ему всяческую помощь и содействие».Маркиз с минуту смотрел на Микеланджело и потом негромко сказал: — У вас начинаются кое-какие неприятности. — Неприятности? Какого же свойства? — Вы припоминаете то прозвище, каким назвал вас хозяин каменоломни Бочка? — Мне показалось, что он назвал меня баламутом. Что бы это словечко могло означать? — У каррарцев оно означает человека, который шумит, жалуется и не желает брать то, что ему предлагают. Владельцы каменоломен говорят, что вы и сами не знаете, что вам надо. — В какой-то мере они правы, — с грустью ответил Микеланджело. — Дело касается фасада церкви Сан Лоренцо. Я подозреваю, что папа Лев и кардинал Джулио нарочно выдумали эту работу, чтобы отвлечь меня от гробницы Ровере. Они обещали прислать мне на закупку мрамора тысячу дукатов, но до сих пор я ничего не получил. В отместку им я тоже проявил нерадивость: обещал определить размеры статуй, а как уехал из Рима, даже не брал в руки пера. Неспокойный ум, маркиз, не располагает крисованию. — Могу я высказать одно предложение? Подпишите два-три скромных контракта на мраморы, поставив определенный срок. У хозяев каменоломен появится уверенность в надежности дела. Я полагаю, что, добывая блоки для вас, они просто опасаются, что камень не найдет применения и труд рабочих пропадет даром. У этих людей ведь нет никаких запасов. Они съедят свои бобы и хлеб в течение нескольких недель и окажутся перед лицом настоящего голода. И тогда они будут смотреть на вас как на заклятого врага. — Да, положение не из легких. Я поступлю так, как вы советуете. Не прошло и месяца, как Микеланджело подписал два контракта: по одному из них, дав задаток в сто флоринов, он закупил восемь блоков мрамора высотой в три с половиной аршина и пятнадцать малых блоков; другая сделка была заключена с Манчино, по прозвищу Левша, на три глыбы белого мрамора, добытых в его каменоломне в Полваччио. Контракты подписывались на Соборной площади при двух свидетелях. Отношение к Микеланджело изменилось, когда он пообещал Бочке и Пелличчии закупить мрамора гораздо больше, как только придут деньги от папы. Он рассеял опасения у каррарцев, но не мог рассеять их у себя. Хотя семейство Ровере сдалось, убоясь требований папы, и подписало с Микеланджело третий договор, еще раз уменьшив размеры гробницы и увеличив сроки исполнения ее от семи до девяти лет, Микеланджело знал, что наследники Юлия взбешены. Папа Лев, не раздумывая, заверил Ровере, что он, Микеланджело, может продолжить работу над гробницей и ваять для нее мраморы, одновременно трудясь над фасадом Сан Лоренцо, но никто, конечно, не придал значения этому обещанию, и меньше всего сам Микеланджело. Отныне ему придется работать на Медичи до тех пор, пока в Ватикане сидит папа Медичи. Оставленная, неоконченная гробница стала как бы язвой, которая неотступно точила ему нутро. Хотя Себастьяно обещал бдительно следить за его домом на Мачелло деи Корви, тем не менее душа у Микеланджело была неспокойна: он не знал, в целости ли там его мраморы и готовые блоки гробницы. Вести из Флоренции были тоже неутешительные. Радость горожан по поводу того, что впервые на папский престол попал флорентинец, была отравлена: выборы Льва стоили Флоренции свободы. Джулиано умер. Республика рухнула, выборные члены Совета были изгнаны, конституция отменена. Флорентинцам не нравилось подчиняться Лоренцо, двадцатичетырехлетнему сыну Пьеро, каждый шаг которому подсказывали из Рима или его мать, или кардинал Джулио. Не поднял духа горожан и приезд во Флоренцию Джулио, ставившего себе целью только усилить власть Медичи. Лавка брата Буонаррото приносила убытки. Но вины Буонаррото тут не было, так как для всякого рода прибыльных дел наступили плохие времена. Буонаррото требовались снова деньги, а дать их ему Микеланджело не мог. Брат ввел свою жену, Бартоломею, в дом отца. Брат по-прежнему надеялся, что Микеланджело она понравится. Она хорошая женщина. Она кормила Лодовико, когда тот недавно болел, и справляется со всей работой по дому, хотя помогает ей только пожилая кухарка, монна Маргерита, которая ухаживала за Лодовико со дня кончины Несравненной. Микеланджело догадывался, что жена Буонаррото не так уж красива лицом или фигурой, но что она достаточно мила и принесла с собой в дом изрядное приданое.
«Я полюблю ее, Буонаррото, — писал Микеланджело брату. — Только будем молиться о том, чтобы она даровала тебе сыновей. Ведь Сиджизмондо живет как кочевник, а Джовансимоне не способен прокормить даже сверчка, и твоя добрая Бартоломея — наша единственная надежда на продолжение рода Буонарроти».Лодовико доставлял все больше забот. Он стал сварлив, упрекал Микеланджело за напрасную трату денег на гробницу Ровере, корил за то, что она не окончена, за то, что Микеланджело принялся работать над фасадом Медичи без договора или каких-либо гарантий; за то, что Микеланджело не шлет больше денег на лавку Буонаррото; за то, что он отказывается приобретать все новые дома во Флоренции и земли в ее окрестностях, которые Лодовико целыми месяцами упорно высматривал. Старик не пропускал, пожалуй, ни одной почты, чтобы чего-то не потребовать от сына, на что-то не пожаловаться, в чем-то его не обвинить. Зимние дожди превратили горные тропинки в русла разлившихся рек. Потом выпали снега. Все работы в горах остановились. В своих сырых каменных жилищах камнеломы старались сохранить как можно больше тепла и съесть как можно меньше бобов и макарон. Микеланджело купил воз дров, поставил свой рабочий стол у горящего очага и занялся скопившимися письмами — тут были письма Баччио д'Аньоло, который собирался помочь ему изготовить деревянную модель фасада; письмо Себастьяно, который сообщал, что десяток скульпторов — в том числе и Рафаэль! — стараются перехватить у него, Микеланджело, заказ на фасад; письма Доменико Буонинсеньи, жившего в Риме, честного и одаренного человека, чем-то напоминавшего Якопо Галли: жертвуя своим временем, Доменико добивался того, чтобы с Микеланджело подписали договор на фасад, и умолял его приехать в Рим, потому что папа Лев гневается и требует представить ему рисунки с проектом фасада. Микеланджело расхаживал по холодной комнате, сложив руки на груди и сунув ладони под мышки. «Я должен, — говорил он себе, — вновь обрести то удивительное чувство, что вспыхнуло во мне, когда Великолепный подошел со мной к церкви Сан Лоренцо и сказал: „Придет день — и ты создашь такой фасад, который будет чудом всей Италии“».
Он приехал в Рим, когда город готовился к встрече Рождества. Прежде всего он поспешил к себе домой и с чувством облегчения увидел, что все там оставалось, как было. Его «Моисей» оказался ближе к завершению, чем ему представлялось по памяти. Если бы он только мог выкрасть месяц свободного времени… В Ватикане его приняли очень приветливо. Кардинал Джулио, по всей видимости, держал власть в церковных делах еще прочнее. Преклонив колена, чтобы поцеловать перстень папы, Микеланджело заметил, что двойной подбородок Льва снова каскадом падает на воротник горностаевой мантии, а мясистые щеки почти совсем укрыли маленький болезненный рот. — Мне доставляет удовольствие видеть тебя в Риме, сын мой, — говорил Лев, уводя Микеланджело в папскую библиотеку. Ароматные запахи пергаментных манускриптов мгновенно перенесли Микеланджело во Флоренцию, в библиотеку дворца Медичи: мысленно он увидел Великолепного — тот стоял, держа в руках разрисованную миниатюрами книгу в переплете из багряной кожи. Это видение было столь разительно, будто он беседовал с Великолепным не двадцать пять лет назад, а всего неделю, и оно укрепило жившее в нем ощущение: он разрабатывает ныне проект фасада для самого Лоренцо. Он раскинул свои листы на столе. Тут был рисунок голой кирпичной стены церкви, затем уже разработанный проект фасада, с двумя ярусами и башней — нижний ярус отделялся от верхнего карнизом, под ним помещались три портала, ведущие в храм. По сторонам порталов Микеланджело нарисовал четыре фигуры — Святого Лаврентия, Иоанна Крестителя, Петра и Павла; в нишах второго яруса должны были встать большие, больше натуральной величины, изваяния Матфея, Луки и Марка, а на башне — Дамиан и Козма, изображенные как медики: от этого именно слова и происходила сама фамилия Медичи. Он изваяет эти девять главных фигур сам, собственноручно; остальная работа по фасаду падет на долю архитекторов. Девятилетний срок исполнения заказа дал бы ему возможность завершить мраморы для гробницы Юлия. Когда пройдут эти годы, а вместе с тем кончится и срок договора, будут счастливы оба знатных рода — и Медичи и Ровере. — Что ж, мы будем великодушны, — сказал папа. — Только необходимо изменить одно условие, — громко добавил Джулио. — Какое же, ваше преосвященство? — Мраморы придется брать в Пьетрасанте. Для статуй это лучший мрамор на свете. — Да, ваше преосвященство, я слышал. Только там нет в горах дороги. — Это дело поправимое. — Говорят, древнеримские инженеры пробовали проложить в Пьетрасанте дорогу, но им не удалось. — Они плохо старались. По холодному, темному лицу кардинала Джулио Микеланджело понял, что разговор окончен. Он сразу же заподозрил, что тут кроется что-то другое и речь идет не только о качестве мрамора. Он вопросительно взглянул на Льва. — Тебе лучше брать мрамор в Пьетрасанте и Серавецце, — отозвался папа. — Каррарцы — бунтарское племя. Они не идут на соглашение с Ватиканом. А жители Пьетрасанты и Серавеццы считают себя верными тосканцами. Они передали свои каменоломни Флоренции. Так мы обеспечиваем себя чистейшим, годным для статуй мрамором, затрачивая средства лишь на рабочую силу. — Святой отец, я не могу поверить, что можно добывать мрамор в Пьетрасанте, — протестующе сказал Микеланджело. — Это свыше человеческих сил. Блоки надо доставлять с обрывов высотой в полторы версты! — Ты поедешь туда, побываешь на вершине горы Альтиссимы и скажешь нам, как обстоит дело. Микеланджело не сказал в ответ ни слова.
7
Микеланджело возвратился в Каррару и снова жил в комнатах Пелличчии, над аптекой. Когда Сальвиати выслал ему, наконец, тысячу папских дукатов, он перестал и думать о каменоломнях Пьетрасанты, а начал с лихорадочной энергией скупать мраморы в Карраре — три блока купил на Свином рынке у Якопо и Антонио, семь блоков купил у Манчино. Он вошел также в сделку с Раджионе, Разумником, вложив на паях свои деньги в добычу ста возов мрамора. Но дальше дело не двигалось. Он отверг деревянную модель фасада, которую сделал по его заказу Баччио д'Аньоло, заявив, что модель «выглядит как детская игрушка». Он смастерил модель сам, но она оказалась не лучше. Тогда он заказал Ла Грасса, сеттиньянскому резчику по светлому камню, изготовить модель из глины… и скоро уничтожил ее. Когда Сальвиати и Буонинсеньи написали ему — один из Флоренции, а другой из Рима, — что папа и кардинал обескуражены тем, что Микеланджело все еще не приступает к работе над фасадом, он заключил договор с Франческо и Бартоломео из Торано на добычу новых пятидесяти возов мрамора, а проект фасада продвинул очень мало, определив лишь размеры и форму блоков, которые должны были обработать для него мастера-каменотесы. Каррарский маркиз опять пригласил Микеланджело в Рокку, на воскресный обед, где его угощали традиционным каррарским пирогом, focaccia, испеченным из просеянной белой муки с яйцами, орехами и изюмом. Маркиз стал расспрашивать Микеланджело относительно плана папы об открытии каменоломни в Пьетрасанте — эта новость уже достигла здешних мест. — Уверяю вас, синьор, — сказал Микеланджело, — никаких работ в тех горах нет и не может быть. Потом Микеланджело получил встревожившее его письмо от Буонинсеньи:«Кардинал и папа считают, что вы пренебрегаете мрамором в Пьетрасанте. Они уверены, что вы делаете это с целью… Папа желает, чтобы мрамор у вас был из Пьетрасанты».Никому ничего не говоря о своих намерениях, Микеланджело нанял лошадь и на заре пустился в путь, держась берега моря. Пьетрасанта когда-то была важной оборонительной крепостью, но в отличие от каррарцев жители ее не замыкались в стенах своего города, которые они уже не рассчитывали защитить. Их дома стояли на обширной площади, где по праздникам устраивались ярмарки; с западной стороны городка открывался величественный вид на Тирренское море; крестьяне Пьетрасанты обычно умирали на своих постелях, от неизлечимой болезни — старости. Раннее утро Микеланджело провел на рынке, купил себе апельсинов и оглядел городок. Надо всей округой возвышалась гора Альтиссима — Высочайшая, как называли ее жители Пьетрасанты и Серавеццы. Уходя своими скалистыми уступами в небо на высоту полутора верст, эта твердыня из чистого камня вызывала благоговение; те, кто жил в ее устрашающей близости, чувствовали себя карликами. Впрочем, каррарцы не без вызова заявляли, что гора Альтиссима отнюдь не самая высокая, — горы Сагро, Пиццо д'Учелло и Пизанино, вставшие над Каррарой, были, по их мнению, выше. Жители Пьетрасанты говорили в ответ, что каррарцы могут хвастать своими горами, взбираться на них, копать их недра, но зато Альтиссима неприступна. Ни этруски, гениальные мастера камня, ни военные отряды древних римлян не могли покорить ее грозные кручи и ущелья. От Пьетрасанты к горному городку Серавецце шла узкая, с глубокими избитыми колеями дорога, служившая крестьянам для перевозки их товара. Микеланджело поехал этой дорогой к крепости, под защитой которой жила сотня семей, обрабатывающих долины и склоны гор. Всюду тут был камень и камень, домики в поселке располагались плотным кольцом вокруг вымощенной булыжником площади. Здесь он нашел себе ночлег и провожатого: это был крепкий, рослый мальчишка, сын сапожника. Звали его Антонио, или попросту Анто, — когда он улыбался или разговаривал, у него обнажались припухшие бледно-розовые десны с короткими и редкими зубами. — Сколько ты заплатишь? Идет! Тронемся в путь на рассвете. Но они вышли из Серавеццы гораздо раньше, когда было еще темным-темно. Подниматься на ближайшие холмы сначала было нетрудно, так как Анто знал местность великолепно и вел Микеланджело по тропинке. Когда же тропинка кончилась, им пришлось пробираться сквозь густые заросли кустарника, орудуя ножами, прихваченными Анто в мастерской отца. Они лезли через темные каменные гряды и нагромождения скал — скалы эти располагались так, будто служили ступенями для неких богов. Микеланджело и Анто либо карабкались вверх, либо скатывались по обрывам вниз, в глубокие лощины; чтобы не сорваться и не полететь в пропасть, они цеплялись руками за сучья и стволы деревьев. Потом они спустились в большое ущелье, тут все время стоял такой же сумрак, как в мастерской у отца Анто, и никогда не заглядывало солнце; холод словно обволакивал, прилипал к телу. Из ущелья они стали выбираться на четвереньках, порою скользя вниз и упираясь ногами в каменистые уступы, а гора Альтиссима по-прежнему угрюмо темнела впереди, на расстоянии многих немереных верст. До полудня было еще далеко, когда они поднялись на взлобье поросшего кустарником утеса, откуда открывался широкий обзор. Микеланджело увидел, что его отделяет от горы Альтиссимы еще один крутой хребет, за ним скрывался глубокий каньон, из которого и вырастала сама гора. У подошвы горы предстояло еще переправиться через горную речку. Анто вынул из своей кожаной сумки два каравая хлеба с толстой поджаристой коркой. Внутрь их, в душистый мякиш, была вложена рыба в гранатном соусе. Поев и отдохнув, они начали спуск в ложбину, затем не спеша взобрались на последний, уже осмотренный издали, хребет и скоро были на откосе, где плавно опускавшиеся вниз обнаженные пласты породы как бы подчеркивали отвесную, точно стена, крутизну горы Альтиссимы. Микеланджело присел на валун и поглядел вверх на страшные Альпы. — С помощью Господа Бога и всей французской армии кто-то, пожалуй, и доберется до нашего валуна. Но кто в силах проложить дорогу на эту отвесную стену? — Это невозможно. Зачем об этом и думать? — Затем, чтобы добывать тут мрамор. Анто уставился на Микеланджело, недоверчиво двигая верхней губой вверх и вниз и снова показывая, свои розовые десны. — О мраморе ты и не заикайся. Ты что, свихнулся? Никому не спустить оттуда ни одного камня. — É vero. Пожалуй. — Так зачем же ты сюда шел? — Чтобы удостовериться самому. Давай-ка мы взберемся на эту страшную гору, Анто. Надо посмотреть, хорош ли там мрамор, хоть нам все равно его и не добыть. Мрамор оказался не просто хорошим, он был совершенным: на поверхность выходили чистые, белейшие пласты, годные для статуй. Микеланджело нашел и следы древнего залома, где некогда работали римляне; поблизости лежали обломки добытого ими мраморного блока. Сколько они тратили сил, чтобы удержаться, пройти по этим каменистым кручам и ущельям, как страдали, шагая по снегу и одолевая оставшийся путь вверх, цеплялись за каменья ногтями, упирались в них пальцами ног! — думал Микеланджело. — Теперь ясно, почему императорам пришлось строить Рим из каррарского мрамора. И все же его огнем жгло желание вонзить свой резец в этот чистый, сияющий камень, равного которому он никогда в жизни не видел. В Каррару он возвратился затемно. Поднимаясь по дороге от Авенцы, он убедился, что крестьяне как бы не замечают его. Когда он миновал ворота Гибеллинов и был уже в городе, люди около своих мастерских и лавок делали вид, что они страшно заняты. На Соборной площади мужчины, сбившись в тесный кружок, когда он проходил мимо, повернулись к нему спиной. Он вошел в аптеку: Пелличчиа и его сын толкли на мраморной плите какие-то снадобья. — Что тут происходит? Вчера утром я уезжал отсюда каррарцем. А вернулся уже тосканцем. Пелличчиа не ответил ему, пока не высыпал лекарство в носовой платок, который подала ему ожидавшая старуха в черном, и не пожелал ей обычного «fa a modr». — Все дело в твоей поездке на гору Альтиссиму. — Выходит, ваши люди придерживаются древнеримского правила: человек виновен, пока он не доказал свою невиновность. — Люди просто напуганы. Каменоломни в Пьетрасанте их разорят. — Передай им, пожалуйста, что я ездил туда по приказу папы. — Они говорят, что все задумал ты сам. — Я сам? Каким образом? — Они считают, что ты поехал туда потому, что ищешь безупречного камня; баламута, мол, послушали и в Риме. — Но ведь я закупил множество блоков в Карраре. — Каррарцы чувствуют, что в душе ты стремишься к святая святых, к чистейшему мрамору гор, к самой его сердцевине. Они считают, что именно поэтому папа Лев послал тебя разведать Пьетрасанту — найти совершенный камень, который бы тебя полностью удовлетворил. Минуту Микеланджело молчал, не зная, что ответить. Ему было известно, что папа и кардинал Джулио приняли Альтиссиму в свое владение, что так они наказывают каррарцев, настроенных против Ватикана. Но неужто каррарцы правы в отношении его самого? Все эти семь месяцев, покупая у каррарцев блоки и выплачивая им огромные деньги, он ни на минуту не был уверен, что покупает для своих статуй самый лучший мрамор. И не хотел ли он в душе, уже после того, как сказал папе, что это невозможно, чтобы тот все-таки открыл каменоломню в Пьетрасанте? — Я доложу его святейшеству, что переправить с горы Альтиссимы хотя бы один блок — невозможное дело. — Значит, каррарцы могут на тебя положиться? — Я даю им слово чести. — Для них это будет добрая весть. Микеланджело был скорее позабавлен, чем озабочен, когда услышал, что Баччио д'Аньоло и Биджио получили пятьсот дукатов на то, чтобы ехать в горы Серавеццы и прокладывать там дорогу. Он знал их обоих: лечь костьми во имя идеи они не согласятся. Весна в Карраре была на редкость удачной: закупать мрамор скульпторы съехались отовсюду. Жили они в церковной гостинице, за мостом, недалеко от собора: тут были Бартоломео Ордоньес из Испании, Джованни де Росси и маэстро Симони из Мантуи, Доминик Таре из Франции, дон Бернардино де Чивос, работавший на испанского короля Карла Первого. Микеланджело тоже чувствовал, что ему улыбнулась удача, — Медичи согласились заплатить ему за фасад двадцать пять тысяч дукатов. Якопо Сансовино, ученик старого Андреа Сансовино, друга Микеланджело еще по работе в Садах, дождливым вечером приехал в Каррару и стоял теперь перед очагом Микеланджело, грея и обсушивая себе спину. Якопо был приятным на вид мужчиной лет тридцати, с каштановыми волосами. Он взял у своего учителя его фамилию и, видимо, обладал талантом. Микеланджело встречал его раньше в мастерской Сансовино, а потом не сталкивался с ним целые годы. — Якопо, как приятно мне видеть флорентинское лицо! Кто загнал тебя в Каррару по такой скверной погоде? — Ты. — Я? Почему я? — Папа Лев заказывает мне фриз. — Какой фриз? — Фриз для твоего фасада, разумеется. Я представил папе проект, и папа был очарован. Микеланджело отвернулся на минуту, чтобы Якопо не заметил, насколько он ошеломлен. — Но по моему проекту не предусмотрено никакого фриза. — Папа допустил к конкурсу всех, кто может предложить что-нибудь интересное. Я в этом конкурсе победил. Я предлагаю протянуть над тремя порталами длинную бронзовую ленту — и на ней изобразить эпизоды из жизни рода Медичи. — Но предположим, что твой фриз совсем не совпадает с моим замыслом? — Ты сделаешь свою часть работы, я — свою. Тон у Якопо не был вызывающим, но и не допускал возражений. Микеланджело сказал спокойно: — Я еще никогда ни с кем не сотрудничал, Якопо. — Что святой отец хочет, то и будет. — Это верно. Но согласно договору я обязан исправлять ошибки в работах моих помощников. — У меня ошибок не будет, поверь мне. О ком тебе надо беспокоиться, так это о Баччио и Биджио. — А что делают Баччио и Биджио? — Микеланджело чувствовал, как спину у него пробирает мороз. — Им предстоит украсить резьбой все блоки и колонны. В эту ночь Микеланджело не спал. Подбрасывая поленья в огонь, он расхаживал по двум своим комнатам и думал, стараясь понять самого себя. Почему он в течение целых двух месяцев не завершил модели, — ведь папа и кардинал Джулио сейчас уже, наверное, одобрили бы ее? Почему он все обдумывал главные изваяния фасада, а не съездил во Флоренцию и не приступил там прямо к работе? Он суетился, вел переговоры, покупая сотни мраморов, и был в ложной уверенности, что чего-то достиг, повлиял на ход дела. Приезд Сансовино и весть о том, что фасад уже уходит из его рук, доказали, что он обольщался. По сути, он пребывал в покое, — а более мучительной смерти для художника нет. Теперь нельзя больше терять времени. Если он взялся возводить этот фасад, надо приступать к работе немедленно и исполнить ее всю, во всем объеме — плоские камни и колонны, карнизы и капители, не говоря уже о статуях Святых. Он написал в Рим:
«Я обещаю вам, святой отец, что фасад церкви Сан Лоренцо станет зеркалом архитектуры и скульптуры всей Италии».
8
Он приехал во Флоренцию, когда весна была в полном цвету, и сразу попал на торжество: у Буонаррото родилась дочь Франческа, которую Микеланджело стал звать Чеккой. Он пригласил в дом на Виа Гибеллина друзей, угостил их вином и праздничным пирогом, а на другой день принялся за хлопоты. Он решил купить участок земли на Виа Моцца, близ церкви Санта Катерина, и построить там обширную мастерскую, где поместились бы его большие блоки для фасада Сан Лоренцо и для гробницы Юлия. Ему пришлось вступить в переговоры с канониками Собора, те запросили с него за участок триста больших золотых флоринов, что, по его мнению, на шестьдесят флоринов превышало справедливую цену. Когда он стал возражать, каноник важно ответил: — Я сожалею, но мы не можем отступать от папской буллы касательно земельной купли и продажи. — В таком случае прирежьте мне за эти шестьдесят флоринов еще кусок земли на задах. — Неужели вы хотите заставить нас пойти против приказа святого отца? В течение нескольких недель Микеланджело трудился, завершая деревянную модель фасада. Он расширил теперь свой проект, дополнительно ввел в него барельефы на исторические сюжеты — пять в квадратных рамах и два круглых: стоимость работы возросла, за фасад надо было требовать не меньше тридцати пяти тысяч дукатов. Папа отвечал по этому поводу через Буонинсеньи, который писал так:«Им нравится ваш новый план, но вы увеличили стоимость работы на десять тысяч дукатов. Что это — следствие расширения проекта или же просчетов в вашем прежнем плане?»Микеланджело ответил: «Это будет чудо архитектуры и скульптуры во всей Италии! Когда же мне отпустят деньги?» Буонинсеньи снова внушал ему:
«С деньгами затруднения, в казне их очень мало, но, не сомневайтесь, ваш договор будет подписан. Приступайте к делу сейчас же. Его святейшество обеспокоен тем, что вы все еще оттягиваете начало работы».Якопо Сансовино, узнав в Ватикане, что новая модель Микеланджело не предполагает никакого бронзового фриза, приехал к нему и учинил настоящий скандал. — Пусть я буду проклят, если ты скажешь доброе слово хоть о ком-то на свете! — Якопо, я отзывался о твоей работе очень высоко. Ведь я тебе пробовал объяснить в Карраре… — Ты мне объяснил в Карраре, что есть ты и только ты. Ни для кого другого уже нет места. Вот что я усвоил в Карраре. — Не надо нам становиться врагами, Якопо. Я обещаю тебе помочь получить заказ. Тогда ты поймешь, что в искусстве нельзя вести работу сообща — в нем требуется органическое единство разума и рук одного человека. Все другое будет ливорнской рыбной солянкой. В эти дни Лодовико опять принялся укорять Микеланджело за то, что он не позволяет отцу брать деньги у эконома церкви Санта Мария Нуова. — Отец, если вы не перестанете ворчать и вечно придираться ко мне, жить под одной крышей нам будет невозможно. К ночи Лодовико исчез, его комната оказалась пустой. Утром Буонарроти узнал, что Лодовико жаловался каждому встречному, как его выгнали из собственного дома. — Где же он теперь живет? — спрашивал Микеланджело. — В крестьянском домике за нашей усадьбой в Сеттиньяно. — Я сейчас же напишу ему письмо. Микеланджело уселся за письменный столик Лодовико — столик этот, имеющий форму пирога, выглядел в квадратной комнате довольно странно.
«Дражайший отец — я знаю, что вы жалуетесь на меня и рассказываете всем и каждому, что я выгнал вас из дому. Я удивлен этим, ибо могу с уверенностью сказать, что со дня моего рождения и по сию пору у меня не было и мысли сделать что-либо во вред вам. Из любви к вам я вынес столько трудностей и лишений!.. И вы знаете, что все, чем я располагаю, — ваше. Вот уже тридцать лет вы испытываете мое терпение, вы и ваши сыновья, и вам прекрасно известно, что все мои помыслы и все дела, на какие я только способен, направлены к вашему благу. Как можете вы говорить, что я вас выставил за дверь? Неужто вы не видите, как вы меня черните?.. Мне не хватает разве лишь этого, после всех тех мучений, которые я из-за вас претерпел. Вы воздаете мне по заслугам. Но как бы то ни было, я готов признать, что не принес вам ничего, кроме стыда и позора… умоляю вас простить меня, как прощают негодяя и грешника».Лодовико возвратился на Виа Гибеллина и простил Микеланджело. В городе у всех было подавленное настроение, флорентинские традиционные празднества и гуляния как бы переселились в Рим, ко двору папы Льва. Безрадостная жизнь Микеланджело стала еще горше, когда он узнал, что его картон «Купальщики» пропал. — Уничтожен — это будет не совсем верное слово, — скорбно повествовал Граначчи. — Исчерчен, исписан, истрепан, изрезан на куски, расхищен. — Но каким же образом? Ведь он принадлежал Флоренции. Разве его не охраняли? Граначчи рассказал ему все подробно. Картон был перенесен в Папский зал близ церкви Санта Мария Новелла, затем в верхний зал дворца Медичи. Сотни художников, проезжавших через Флоренцию, работали у картона, за ними никто не присматривал, многие отрезали от картона по куску и брали с собой. Недруг Микеланджело со времен его ссоры с Перуджино, скульптор Баччио Бандинелли, говорят, утащил и присвоил себе много кусков картона. Единственные обрывки, которые сейчас находятся во Флоренции, это те, что скупили друзья Микеланджело — семейство Строцци. — Так мне пришлось разделить участь Леонардо, — угрюмо промолвил Микеланджело. — Мой картон погиб. И погибла бронзовая статуя Юлия. Один только настоятель Бикьеллини был способен помочь Микеланджело взглянуть на свои несчастья философски: состарившийся и больной, он не вставал теперь с постели и ни на минуту не покидал стен монастыря Санто Спирито. — Постарайся подходить к своей жизни не как к чреде разрозненных событий, а как к единому целому, — говорил настоятель. — Тогда ты поймешь, что каждый период жизни возникает из предыдущего, и уверишься в том, что и новый период неизбежен. Не жалея сил, Микеланджело работал над проектом фасада, смастерил большую модель, обтачивал колонны, ваял капители, разрабатывал устройство ниш, в которых будут стоять его изваяния, лепил восковые фигуры, чтобы найти окончательный вид мраморных скульптур. Папа Лев подписал договор на фасад, отпустив сорок тысяч дукатов — по пяти тысяч на год, с выплатой в течение восьми лет; четыре тысячи выдавались сразу же, на расходы, не говоря о бесплатном жилище около церкви Сан Лоренцо. Однако… «Его святейшество желает, чтобы для всех работ по фасаду Сан Лоренцо был взят мрамор из Пьетрасанты, и никакой другой». Микеланджело стоял с непокрытой головой на кладбище Сан Лоренцо, внимая похоронным песнопениям по настоятелю Бикьеллини и чувствуя, что он утратил самого дорогого и близкого человека на земле. Святой настоятель говорил, что новый период возникает из предыдущего: его ждала награда на небесах. Микеланджело, который с болью смотрел на то, как его друга опускают в могилу, тоже предстояло вступить в «новый период», очень похожий, однако, не на небесные выси, а скорее на беспросветный ад. Через час после его возвращения в Каррару на Соборной площади начала собираться толпа. Она стекалась сюда с равнины за Свиным рынком, с горных склонов вдоль реки Каррионе, с далеких отрогов Торано, Колоннаты, Форестьери, от каменоломен Полваччио, Фантискритти, Гротта Коломбара, Баттальино. Набралось уже несколько сот каррарцев, они шагали по площади, надвигаясь все ближе и ближе, заполнили пространство под мостом, перед собором и были теперь под окнами аптеки. Окна столовой Пелличчии были большие, от пола до потолка, в стене, выходившей на улицу, были прорезаны двустворчатые стеклянные двери. Эти двери открывались наружу, и хотя там не существовало балкона, они были ограждены железными невысокими перилами. Микеланджело стоял за занавеской, прикрывавшей стекла дверей, и прислушивался: гул и ропот камнеломов звучал все громче, толпа густела и росла, заливая всю площадь. Кто-то заметил Микеланджело за занавеской. По толпе прошло движение. Люди начали кричать: — Баламут! Баламут! Микеланджело взглянул на безумное, белое, как мел, лицо Пелличчии, — тот растерянно метался, не зная, что предпочесть: остаться ли верным своим землякам или взять под покровительство гостя. — Лучше я выйду на площадь, — сказал Микеланджело. — Слишком опасно. Когда они напуганы, они ужасны. Они растопчут тебя насмерть. — Мне надо поговорить с ними. Он распахнул стеклянные двери, шагнул к невысоким, чуть выше колен, перилам. Снизу донесся вопль: — Figlio d'un can'! Сукин сын! Камнеломы тянули к нему грозно стиснутые кулаки. Микеланджело простер в воздухе руки, стараясь успокоить толпу. — Твое слово чести — овечье дерьмо. — Это сделал не я. Вы должны мне поверить. — Выродок! Ты продал нас! — Разве я не покупаю у вас мрамор! Я готов и на новые подряды. Поверьте же мне. Я каррарец! — Ты — прихвостень папы. — Я пострадаю от всего этого больше, чем вы. Толпа вдруг смолкла. Человек, стоявший в первом ряду, закричал истошным, надорванным голосом, в котором билась глубокая боль: — А брюхо у тебя не пострадает! Этот крик послужил как бы сигналом. Сотни рук взмахнули враз, как одна рука. В воздухе полетели, будто град, камни. Куски белого мрамора разбили сначала одну створку стеклянных дверей, затем другую. Крупный камень попал Микеланджело в лоб. Он был оглушен этим ударом, хотя боли не ощутил. Кровь начала струиться со лба, растекаясь по лицу. Он чувствовал, что она заливает брови, струйкой пробирается в угол глаза. Он не сделал ни одного движения, чтобы остановить кровь. Толпа увидела, что он ранен. — Хватит! Мы пустили кровь. Толпа стала редеть, люди, группа за группой, огибая собор, исчезали, поворачивая на те улицы, по которым они пришли. В течение нескольких минут площадь опустела, только белые камни да битые стекла, усыпавшие мостовую, говорили о том, что здесь произошло. Микеланджело прижимал ладонь к залитому кровью глазу. Случалось и раньше, когда мрамор ранил его до крови: при чересчур яростной работе резцом осколки летели ему в лицо, обдирая кожу. Но камнями кидали в него впервые.
9
В Пьетрасанте он снял домик на площади, ближе к морю — отсюда виднелась обширная, версты на полторы, топь, через которую ему надо было протянуть дорогу и выстроить на берегу причал для судов. Вместе с Микеланджело в домике остались жить и хозяева, старик и старуха: они присматривали за ним, делая все необходимое. Кардинал Джулио уведомил его, что он должен добывать мрамор не только для фасада церкви Сан Лоренцо, но и для строительства собора Святого Петра и для ремонта Собора во Флоренции. Цех шерстяников обещал вскорости выслать сюда специалиста по прокладке дороги. Был март. Микеланджело считал, что в запасе у него около шести месяцев хорошей погоды, пока снег и лед не закроют доступ в горы. Если бы ему удалось добиться, чтобы мраморы стали поступать из каменоломен в начале октября, его цель была бы достигнута. Но только сдвинутся ли эти мраморы когда-нибудь с места! Первые блоки Микеланджело хотелось направить во Флоренцию, — там, во Флоренции, работая над ними, он провел бы всю зиму. С наступлением весны старшина со своей артелью может снова приехать в Пьетрасанту и добывать тут камень. Он прикинул, в чем он в первую очередь нуждается, и поехал в Каррару. Там он направился в раскиданные по скатам гор, вне городских стен, мастерские. Мастерская веревочника стояла на берегу реки первой. — Мне нужны прочные веревки. Хозяин буркнул, не отрывая глаз от своей работы: — Нету ни мотка. Микеланджело пошел дальше, к кузнице. Звеня молотом, кузнец что-то ковал на своей наковальне. — Я хотел бы купить у тебя горн и железных брусьев. — Все давно продано. Инструментальная лавка выглядела по сравнению с другими очень богатой. — Можете ли вы продать мне десяток топоров, кирок, продольных пил? — Самим не хватает. Микеланджело поднялся в горы, желая поговорить с теми владельцами каменоломен, которым он давал подряды и платил большие деньги. — Поедешь со мной в Пьетрасанту, Левша? — У меня здесь крупный контракт. Не могу. В другом заломе, у Разумника, Микеланджело говорил: — Отпусти ко мне своего десятника на полгода. Я тебе заплачу вдвое. — Мне без него не обойтись. Микеланджело поднялся еще выше, направляясь к отдаленным каменоломням, — их хозяева не особенно слушались горожан, тяготея к своей собственной колокольне. — Переходите работать на мои каменоломни. Я буду платить вам те же деньги и еще заключу подряд на блоки из ваших каменоломен на будущее. Что скажете? Когда хозяин понял, что это обещает ему немалые выгоды, глаза у него заблестели, но он тут же заколебался. — Я не хочу, чтобы рог гудел по моей душе. Ничего не добившись в горах, Микеланджело быстро спустился в город; через задний садик он вошел в дом аптекаря. — Ты нанимаешь людей и обучаешь их работе всю свою жизнь, — сказал он Пелличчии. — Дай кого-нибудь мне. Я нуждаюсь в помощнике. Все, к кому я ни обращался, мне отказывали. — Я знаю, — грустно отозвался Пелличчиа. — Я твой друг. Друзья не должны покидать друг друга в беде. — Значит, ты даешь мне человека? — Не могу. — Наверное, не хочешь? — Это одно и то же. Наниматься к тебе никто не захочет. Все держатся своей колокольни. Нам, каррарцам, никогда еще после нашествия французских войск не грозила такая серьезная опасность. И разве я не должен думать о своей аптеке? Ведь на моих дверях будет как бы написан страшный крик: «Здесь чума!» Прости меня, пожалуйста. Микеланджело отвел глаза в сторону. — Напрасно я пришел к тебе. Это моя ошибка. Чувствуя себя таким усталым, каким он редко бывал, проработав резцом и молотком даже двадцать часов подряд, Микеланджело шагал по мощенным мрамором улицам. Встретив по пути несколько женщин, закутанных в свои scialima — черные шали, он поднялся к Рокка Маласпина. Маркиз был не только владетелем большинства земель Каррары, но и единственной властью во всем своем маркизате. Его слово тут было законом. Он встретил Микеланджело с достоинством, но без признаков неудовольствия или вражды. — Папа в этих краях бессилен, — объяснял маркиз. — Папа не может заставить людей добывать мрамор из вашей проклятой горы. И он ничего не добьется, если даже отлучит от церкви всю округу. — Если продолжить вашу мысль — вы тоже не в силах приказать камнеломам работать на меня? Маркиз тонко усмехнулся: — Мудрый владетель никогда не дает приказов, если он знает, что им не будут подчиняться. В комнате было неловкое, мучительное молчание, пока не вошел слуга и не поставил на стол вино и pasmata — булочки, испеченные по случаю пасхи. — Маркиз, я потратил тысячу дукатов на мраморы, которые до сих пор находятся в каменоломнях. Что с ними будет? — В договорах сказано, что мраморы должны быть доставлены на берег? — Сказано. — Значит, вы можете успокоиться, их доставят, мы выполняем свои договоры. Блоки и колонны скоро были уже у моря — их спустили с гор на телегах, к задним колесам которых в качестве тормоза были привязаны волочившиеся по земле тяжелые камни. Но когда мраморы сгрузили на берегу, каррарские корабельщики отказались везти их во Флоренцию. — Не сказано в договоре. — Я знаю, что не сказано. Я заплачу вам хорошие деньги. Мне надо доставить эти блоки в Пизу, а затем отправить их вверх по Арно, пока в реке держится высокая вода. — Нет судов. — Ваши барки стоят без дела. — Завтра же уйдут в рейс. Загружены полностью. Микеланджело выругался и сел на коня: через Специю и Рапалло, невзирая на тяжкий и дальний путь, он поехал в Геную. Здесь было множество корабельщиков, жаждавших подряда. Поговорив с Микеланджело, они рассчитали, сколько для него потребуется барок. Микеланджело уплатил корабельщикам авансом и условился о встрече с ними в Авенце, чтобы самому следить за погрузкой. Через двое суток, когда генуэзские барки появились у взморья, навстречу им вышла каррарская гребная лодка, Микеланджело стоял на берегу, весь горя от нетерпения. Наконец, лодка вернулась — в ней сидел капитан генуэзских барок. Он взглянул на Микеланджеловы блоки и колонны и сказал, кривя рот: — Не могу их взять. Чересчур велики. Микеланджело побелел от гнева. — Я говорил вам точно, сколько у меня мраморов, какой их вес, какие размеры! — Мраморов чересчур много. Капитан швырнул Микеланджело кошелек с деньгами, сел в лодку и поплыл к баркам. Каррарцы, постояв на берегу словно бы совсем безучастно, повернулись и побрели вверх по откосу. На следующий день Микеланджело поехал берегом в Пизу. Приближаясь к городу, он увидел в голубом небе падающую башню и припомнил свой первый приезд сюда с Бертольдо: тогда Микеланджело было пятнадцать лет и учитель привез его в этот город, чтобы пройти в Кампосанто и доказать ему, что он, Бертольдо, создал свою собственную «Битву римлян», а не скопировал какую-то древнюю. Теперь Микеланджело сорок три года. Неужто прошло всего лишь двадцать восемь лет с тех пор, как он вглядывался в дивные скульптуры Николо Пизано в баптистерии? Чем больше он жил, тем дальше уклонялся в сторону от сурового предостережения Бертольдо: «Ты должен создать целое полчище статуй». «Но как?» — устало спрашивал он себя. Он отыскал надежного капитана, уплатил ему задаток и возвратился в Пьетрасанту. Суда в условленный день не пришли… Не пришли они и назавтра, и на следующий день. Он был оставлен один на один со своими дорого стоившими, взыскательно отобранными мраморами. Как же ему вывезти их с этого каррарского берега? Он не знал, что предпринять, куда броситься. Долг повелевал ему быть в Пьетрасанте, налаживать каменоломню. Что ж, придется оставить мраморы там, где они лежат. Он постарается вывезти их позднее.Сеттиньянские каменотесы, работавшие по светлому камню, понимали, что какой бы славы Микеланджело ни достиг, он достиг ее дорогой ценою. Когда они увидели на дороге его худощавую фигуру, устало шагавшую к ним, в душе их не шевельнулось чувство зависти. Он же, взойдя на открытый утес и бросив взгляд на простершиеся внизу пласты голубовато-серого камня, радостно улыбнулся, душа его ликовала. Подле утеса, чуть ниже, артель рабочих била кувалдами угловатые, неровные глыбы, придавая им нужный размер и форму. Наступило обеденное время; уже шли к своим отцам мальчики с перекинутыми через плечо батожками, на обоих концах которых висело по горшку горячей пищи. Рабочие рассаживались у входа в прохладную пещеру. — Никто не слышал, нет ли тут, на каменоломнях, свободных рук? — спрашивал сеттиньянцев Микеланджело. — Я мог бы взять хороших работников в Пьетрасанту. Камнеломам не хотелось, чтобы про них говорили, будто они отказали старому приятелю, но работы в каменоломнях было столько, что приходилось дорожить каждым человеком. — Там выгодное дело, — продолжал Микеланджело, едва не прибавив: «Выгодное, но не для меня». — Может быть, мне стоит сходить в другие каменоломни — за виллу Питти, в Прато — и поискать людей в тех местах? Рабочие молча переглянулись. — Сходи. Преодолевая усталость, он пошел к каменоломням Фассато и Коверчиано, где добывался гранит, и к каменоломням Ломбреллино, где ломали известняк. Люди всюду оказались заняты, им не было никакого расчета бросать свои дома и семьи; многие к тому же были напуганы: о горах Пьетрасанты шли дурные слухи. В отчаянии Микеланджело поплелся назад, в Сеттиньяно, и скоро был в доме Тополино. Сыновья работали во дворе; семеро внуков разного возраста, начиная с семи лет, помогали им, учась ремеслу. Бруно, старший сын, с коротко стриженными седеющими волосами, вел все дела по подрядам; Энрико, средний брат, был приучен отцом к самой тонкой работе — обработке колонн и резных кружевных наличников — и как бы исполнял в семье роль художника; младший, Джильберто, был самым кряжистым, крепким из братьев, но отличался необыкновеннымпроворством и энергией. Микеланджело понимал, что здесь у него последняя возможность: если не помогут Тополино, то уже никто ему не поможет. Он обрисовал братьям свое положение, не утаив от них ни одной трудности, ни одной опасности. — Может кто-либо из вас поехать со мной? Мне нужен человек, которому бы я полностью доверял. Микеланджело почти слышал физически, как трое братьев обдумывали свой ответ. В конце концов и Энрико и Джильберто обратили свои взоры к Бруно. — Мы не можем допустить, чтобы ты уехал отсюда один, — медленно произнес Бруно. — Кто-то из нас должен с тобой ехать. — Кто? — Бруно не может, — сказал Энрико. — Есть подряды, о которых еще надо договариваться. — Энрико не может, — сказал Джильберто. — Без него тут не кончить работу. Два старших брата посмотрели на Джильберто и сказали, как один: — Значит, едешь ты. — Значит, еду я. — Глядя на Микеланджело, Джильберто почесал свою заросшую густыми волосами грудь. — Мастер я из троих самый неловкий, но силы у меня больше. Я тебе сгожусь. — Сгодишься вполне. А вам всем моя благодарность. — Благодарность в горшок с похлебкой не сунешь, — ответил Энрико, воспринявший от отца вместе с искусством управлять шлифовальным колесом и весь его запас народных поговорок. Наутро Микеланджело собрал целую артель: тут был Микеле, работавший у него раньше в Риме, и трое братьев Фанчелли: Доменико, парень маленького роста, но хороший скульптор, Дзара, которого Микеланджело знал уже много лет, и Сандро, младший. Ла Грасса, сеттиньянский мастер, делавший для Микеланджело модель фасада, тоже дал согласие присоединиться к нему, а кроме того, вызвалась ехать целая партия разного рода рабочих, соблазнившихся обещанным Микеланджело двойным заработком. Когда Микеланджело собрал этих людей вместе, чтобы дать им последние указания — отъезд завтра утром, ехать всем в одной специально нанятой крестьянской телеге, — сердце у него упало. Двенадцать камнерезов! И ни одного камнелома, знакомого с мрамором! Как же он справится с дикой горой, если у него такая неопытная артель? По пути домой, несмотря на свою задумчивость, Микеланджело заметил каменотесов, укладывающих новые блоки на Виа Сант Эджидио. Среди них, к великому его удивлению, был Донато Бенти, скульптор по мрамору, когда-то работавший во Франции и успешно выполнявший там заказы. — Боже мой, Бенти! Что ты тут делаешь? Бенти, которому было не более тридцати, выглядел почти стариком; под глазами сизые мешки, глубокие морщины прорезали щеки и пучком сходились на подбородке. Речь и жесты у Бенти были самые напыщенные. Заломив руки, будто в горячей мольбе, он воскликнул: — Смотри! Я высекаю изваяния, чтобы кинуть их-под ноги прохожим. Сколь ни скромны мои потребности, моя бренная плоть временами еще требует пищи. — Если ты согласишься ехать со мной в Пьетрасанту, я буду платить тебе больше, чем ты зарабатываешь на этих дорогах. Едешь? Ты мне очень нужен. — Я тебе нужен? — в крайнем удивлении переспросил Бенти, хлопая своими совиными глазами. — «Нужен!» Это самое прекрасное слово, какое только есть в итальянском языке. Конечно, еду! — Чудесно. На рассвете будь у меня. Я живу на Виа Гибеллина. В телеге нас будет теперь четырнадцать душ. Вечером к Микеланджело явился Сальвиати и привел с собой сероглазого лысеющего человека, представив его как Виери, отдаленного родича папы Льва. — Виери едет с вами в Пьетрасанту. Это интендант. Он будет заботиться у вас о хлебе, о доставке материалов, о средствах перевозки, а также вести счета. Жалованье ему будет платить цех шерстяников. — А я все беспокоился, кто же у меня будет подбивать цифры! Сальвиати рассмеялся. — Со всякими счетами Виери расправляется как истинный мастер. Бухгалтерские книги у него будут в таком же равновесии, как формы у вашего «Давида». Не ускользнет ни один грош. У Виери был чуть сиплый, сдавленный голос, говорил он невнятно, глотая слова. — Цифры — хозяева положения, пока они цифры. А когда я подведу баланс, тогда хозяином над цифрами стану я. Уезжал Микеланджело при счастливых обстоятельствах, ибо невестка Бартоломея разродилась здоровым мальчиком, которого назвали Симоне, — имя Буонарроти Симони, таким образом, было сохранено для грядущих времен. Виери, Джильберто Тополино и Бенти стали жить в Пьетрасанте в одном доме с Микеланджело; в одной из спален Виери устроил для себя контору. Для остальных девяти рабочих Микеланджело подыскал более просторный дом в Серавецце. Он наметил наиболее выгодную, на его взгляд, линию дороги к каменоломням и заставил своих людей кирками и лопатами пробивать тропу, чтобы потом на ослах возить по ней на гору снаряжение. Рабочим Микеланджело помогали подростки из ближайших деревень: под наблюдением Анто они кувалдами разбивали камень на горе, расчищая ложе для спуска мрамора вниз. Когда стало ясно, что одного кузнеца для всей кузнечной работы в Серавецце недостаточно, Бенти вызвал своего крестного отца Лаццеро — приземистого, без шеи, человека, с могучей, как у быка, грудью. Лаццеро выстроил и оборудовал кузницу с тем расчетом, чтобы она обслуживала и каменоломню и дорогу, он же сделал специальные телеги с железным остовом для перевозки мраморных колонн к морю. Микеланджело, Микеле, Джильберто и Бенти стали разведывать мрамор, на нижних склонах горы Альтиссимы они нашли несколько пластов, но не совсем чистых, окрашенных в разные оттенки, затем, почти у самой вершины, на один выступ от нее, под тонким слоем земли обнаружили залегание чистейшего, годного для статуй мрамора — по своему строению он был безупречен, с изумительно белыми кристаллами. — Что правда, то правда, — торжествующе говорил Микеланджело, обращаясь к Бенти. — Чем выше гора, тем чище мрамор. Создав свою артель из подростков, предводимых Анто, Микеланджело велел высечь тут площадку, чтобы начать на ней ломку мрамора. Залежи его уходили вглубь монолитным пластом; но с поверхности надо было срезать чуть ли не целый утес, ибо под воздействием ветра, снега и дождя внешние слои оказались немного попорчены. Однако под этой шершавой шкурой лежал камень редчайшей, несказанной чистоты. — Огромные блоки спят здесь со дня творения — нам остается лишь вырезать их! — возбужденно сказал Микеланджело. — И столкнуть их вниз с этой горы, — добавил Бенти, всматриваясь в даль, где в пяти-шести верстах за Серавеццой и Пьетрасантой синело море. — Честно говоря, меня беспокоит больше дорога, чем сам мрамор. В первые недели, когда начали ломать мрамор, дело почти не двигалось. Микеланджело показывал рабочим, как каррарцы загоняют мокрые колья в щели и борозды камня, как, разбухнув, колья рвут мрамор на части, вызывая в нем трещины, как с помощью огромных ваг выламывают наметившиеся в монолите глыбы. Мрамор и его добытчик подобны любовникам: всякий раз им надо знать настроение друг друга, знать капризы и увертки, знать, будет ли партнер оказывать сопротивление или готов сдаться. Мрамор всегда был своенравной принцессой всех горных пород, упорной в своем сопротивлении и в то же время податливой, нежно сдающейся; как некая драгоценность, он требовал в обращении с ним безграничной верности и ласки. Всех этих особенностей материала сеттиньянскне каменотесы совершенно не знали. Не знали их и Бенти с Доменико, хотя в прошлом они высекали статуи. Микеланджело постиг все это ценой тяжкого труда и заблуждений: в свое время он пристально следил за тем, как добывали блоки каррарцы, и стремился в несколько месяцев перенять мастерство, обретенное за много поколений. Артель его каменотесов старалась изо всех сил, но постоянно допускала ошибки. Светлый камень, к которому привыкли сеттиньянцы, был во много раз прочнее мрамора. Опыт в обращении с сияющим камнем им еще предстояло накопить — пока же вместо них Микеланджело мог бы с тем же успехом привезти на эту гору кузнецов или плотников. Джильберто Тополино как старшина артели являл собой настоящий вулкан энергии; он метался, суетился, бешено атакуя гору, заставлял всех работать с лихорадочной быстротой, но сам умел лишь обрабатывать, зажав между колен, строительные блоки светлого камня. Мрамор бесил его своим упрямым, непокорным нравом, он почему-то не хотел рассыпаться и крошиться, как сахар, под напором сеттиньянского резца, словно это был совсем и не камень. Великан Ла Грасса жаловался: — Работать с мрамором — все равно что работать в темноте. На нижних склонах горы, где, по словам Доменико, был, все-таки хороший мрамор, рабочие, потратив не меньше недели, вырубили блок, по которому спиралью шли круги темных жилок: в дело он не годился. Виери был превосходным интендантом, он закупал пищу и оборудование по самым дешевым ценам, лишних денег он не тратил. Он записывал каждый израсходованный дукат, но, когда истекал месяц, его безупречно точные счета не утешали Микеланджело. Ведь Микеланджело еще не добыл ни единого камушка, чтобы хоть на грош оправдать эти немалые затраты. — Смотри, Буонарроти, баланс у меня в полном равновесии, — хвастал Виери. — Но чтобы сбалансировать эти сто восемьдесят дукатов, которые мы израсходовали, сколько же у меня должно быть мрамора? — Мрамора? Не знаю. Моя задача — показать, куда потрачены деньги. — А моя — добыть мрамор, чтобы показать, зачем мы тратили деньги. Приближался июнь. Дорожного строителя от цеха шерстяников все еще не было. Размышляя о крутизне Альтиссимы, о тех верстах сплошного камня, в котором надо было пробивать дорогу, Микеланджело видел; если не начать строить ее немедленно, то до зимы, когда снега и метели наглухо закроют пути в горы, работ никак не закончить. Но наконец долгожданный строитель приехал; его звали Бокка, что значит Глотка. Неграмотный мастеровой, он с молодых лет работал на дорогах Тосканы: у него хватило энергии и честолюбия, чтобы в свое время научиться вычерчивать карты, управлять артелями дорожных рабочих; потом он стал брать самостоятельные подряды на прокладку дорог между крестьянскими селениями. Цех шерстяников облюбовал этого грубого, сплошь заросшего волосами человека потому, что он славился как подрядчик, выполнявший свои обязательства в кратчайшие сроки. Микеланджело показал ему чертежи дороги, объясняя, где ее лучше вести. — Я посмотрю эту гору своими глазами, — резко прервал его Бокка. — Если я найду хорошее место, я построю хорошую дорогу. Свое дело Бокка знал превосходно. В течение десяти дней он наметил самый простой из возможных путей к подошве горы Альтиссимы. Единственная беда заключалась в том, что его будущая дорога шла в сторону от места, где уже начали добывать мрамор. После того как Микеланджело вручную спустит свои тысячепудовые блоки вниз с горы Альтиссимы, ему придется покрывать еще немалое расстояние от дороги, проложенной Боккой. Микеланджело потребовал, чтобы Бокка поднялся вместе с ним к самым высоким разработкам мрамора, к Полле и Винкарелле, и чтобы он осмотрел те ложбины на склонах горы, которыми Микеланджело будет пользоваться для спуска своих колонн. — Ты видишь, Бокка, мне никак невозможно доставлять блоки к твоей дороге. — Я взял подряд провести дорогу к горе. К горе я ее и проведу. — Чему же будет служить эта дорога, если я не могу вывозить по ней мраморы? — Мое дело — дорога. А мраморы — это уж твое дело. — Но если дорога будет бесполезна для доставки мраморов к морю, то зачем ее вообще строить? — кричал Микеланджело в отчаянии. — У нас будет тридцать два вола с повозками… не сено же мы станем возить на этих волах! Дорога должна подходить к каменоломням как можно ближе. Вот сюда, например… Когда Бокка приходил в возбуждение, он начинал крутить и дергать длинные, не меньше дюйма, волосья, — росшие у него из ноздрей и ушей; забирая большим и указательным пальцем пучок темной растительности, он нервно потягивал его вниз. — Дорогу строю или я, или ты. Вдвоем мы не строим. Была теплая ночь, звезды гроздьями висели низко над морем. В мучительных думах Микеланджело шагал к югу, вдоль побережья, проходя через спящие деревни. Ради чего же строить эту дорогу, если по ней нельзя будет перевозить мраморы? Не взвалят ли потом вину на него, Микеланджело, если он не сумеет доставить свои блоки и колонны к морю? Дорога, которую хочет проложить Бокка, лишена всякого смысла, поскольку она никуда не ведет. Что делать с этим Боккой? Он мог пожаловаться на него папе Льву, кардиналу Джулио, Сальвиати, мог настаивать, чтобы вместо Бокки прислали другого строителя. Но разве есть гарантия, что новый строитель согласится с Микеланджело и примет ту трассу, которую он считает наилучшей? Папа может даже сказать, что все эти раздоры — Микеланджелова гордыня и горячность, что Микеланджело не способен ни с кем поладить. Какой же тут выход? Он должен построить дорогу сам! Вдохнув в себя теплый ночной воздух, Микеланджело застонал от муки. Он огляделся — перед ним, уходя к морю, темнели топи. Неужели он в силах взять на себя прокладку дороги в таком глухом и диком месте каких немного во всей Италии? Никогда он не строил дорог. Он скульптор. Что он понимает в дорожном строительстве? Да и какие тяжкие обязанности взвалит он на свои плечи. Надо будет собрать новую артель рабочих, надзирать за ними, придется засыпать эту топь, спиливать деревья, прорубать проходы сквозь скалы. И разве не скажут папа Лев и кардинал Джулио то же самое, что сказал папа Юлий, когда он, Микеланджело, так отчаянно боролся, пытаясь уклониться от росписи Сикстинского плафона, а затем разработал план, вчетверо увеличивший масштабы работ по этому плафону! Он помнил, как он кричал Льву и Джулио: «Я не каменотес!» А теперь он готов стать инженером. «Кто поймет этого человека?» — удивленно спросил бы сейчас папа Лев. На этот вопрос Микеланджело не мог бы ответить и сам. Хотя он достиг в этих местах ничтожно мало и не добыл пока ни одного годного в дело блока, он все же вскрыл ослепительно белую, кристально чистую плоть горы Альтиссимы. Он знал, что рано или поздно он вырубит, выломает этот чудесный мрамор для своих статуй. А когда это произойдет, ему будет нужна уже готовая дорога. Разве он не сознавал уже давным-давно, что скульптор обязан быть и архитектором и инженером? Если он сумел изваять «Вакха», «Оплакивание», «Давида», «Моисея», если он мог разработать проект мавзолея папы Юлия и проект фасада церкви Сан Лоренцо, неужто ему будет труднее проложить дорогу в семь с половиной верст?
10
Прочерчивая трассу дороги на карте, он включил в нее избитый, в глубоких колеях, проселок, идущий в Серавеццу, повернул от него к северу, обходя реку Веццу и ущелье, затем провел линию прямо к горе Альтиссиме, невзирая на тот факт, что в самом начале дорогу тут преграждали огромные валуны. За ними, чуть дальше, надо было пробивать путь вверх, к долине реки Серы, к Риманьо, представлявшему собой скопление каменных домов, искать удобный брод на Сере и, сообразуясь с рельефом, вести дорогу вдоль берега реки, опять на подъем. В двух местах он решил прорывать тоннель сквозь скалы: ему казалось, что это выгоднее, чем тянуть дорогу по камню на гребень и потом спускаться снова вниз, к лощине. Кончалась дорога по его плану у подножия горы, между двух ущелий, в которые он предполагал спускать свои блоки из Бинкареллы и Поллы. За два дуката он купил ореховое дерево и заказал каретнику в Массе сделать двуколку с окованными железом колесами: на такой повозке было удобно возить дробленый камень и засыпать им топь между Пьетрасантой и берегом моря. Донато Бенти, который ходил в эти дни со скорбной миной, Микеланджело назначил надсмотрщиком при прокладке дороги на всем ее протяжении от Пьетрасанты до подошвы Альтиссимы; Микеле было поручено засыпать топь; Джильберто Тополино остался старшиной в Винкарелле — эта каменоломня, расположенная на высоте шестисот сорока трех сажен, среди самых круч, являлась последним доступным местом в горах, где только можно было открыть залом и добывать чистейший мрамор. В конце нюня Виери заговорил с Микеланджело, держась самого сурового тона. — Вам надо прекратить строительство дороги. — Прекратить?.. Это почему же? — Больше нет денег. — Цех шерстяников богат. Ведь расходы оплачивает именно он. — Я получил пока всего-навсего сто флоринов, ни скудо больше. Эти деньги потрачены. Взгляните, если угодно, как тут сбалансированы колонки цифр. — Единственные колонны, которые я хочу видеть, — мраморные. А я не могу доставить их к морю, не проложив дороги. — Очень печально. Может быть, деньги еще придут. Но до тех пор… — в знак своего бессилия Виери красноречиво развел руками, — до тех пор работе конец. — Я не могу приостановить работу. Пустите на это другие деньги. Возьмите мои. — Взять ваши личные деньги, предназначенные на мраморы? Вы не можете тратить их на прокладку дороги. — Не вижу разницы. Не будет у меня дороги, не будет и мрамора. Берите деньги из моих восьмисот дукатов и платите, сколько надо, по счетам. — Но вам никогда уже не вернуть этих денег. Требовать их с цеха шерстяников у вас не будет юридических прав. — У меня вообще нет никаких прав. С кого я могу что-то требовать? — угрюмо отозвался Микеланджело. — Пока не добыты мраморы, святой отец не позволит мне быть скульптором. Пустите на дорогу мои деньги. Если цех шерстяников пришлет новую сумму, расплатитесь со мной из этой суммы. От зари до зари он разъезжал верхом на сбившем копыта муле, надо было поспевать всюду и следить, как идут работы. Бенти прокладывал дорогу достаточно быстро, но до самых трудных участков в горах он еще не добрался, оставляя их под конец; Джильберто в Винкарелле снял слой земли, покрывавшей залежи мрамора, и уже вколачивал намоченные колья в расселины и щели; местные возчики, carradori, сыпали в топь сотни пудов дикого камня и щебня и понемногу укрепляли берег, где Микеланджело хотел устроить пристань. Впереди оставалась еще сотня долгих, до предела заполненных работой летних дней, и Микеланджело надеялся, что к концу сентября несколько колонн, которые пойдут на главные статуи фасада, будут уже спущены с горы к погрузочной площадке. К июлю, согласно подсчетам Виери, из восьмисот дукатов Микеланджело было потрачено больше трехсот. Однажды в воскресенье, после заутрени, Микеланджело сел рядом с Джильберто на деревянные перила моста в деревне Стаццеме; их голые спины грело горячее солнце, щурясь, они смотрели на море, видневшееся за деревушкой. Джильберто искоса взглянул в лицо Микеланджело. — Я хотел спросить тебя… Тебя тоже не будет здесь, когда они уедут? — Кто это собрался уезжать? — Считай, половина артели — Анджело, Франческо, Бартоло, Бароне, Томмазо, Андреа, Бастиано. Как только Виери расплатится с ними, они уезжают во Флоренцию. — Но почему же? — Микеланджело был потрясен. — Разве им мало тут платят? — Они перепугались. Они считают, что здесь не мы оседлали мрамор, а мрамор нас. — Что за глупость! У нас наметился отличный блок. Через неделю мы его выломаем. Джильберто покачал головой. — На этом блоке прожилка за прожилкой, сплошь. Весь залом пропадает. Надо будет вклиниваться в утес глубже. — Что ты говоришь? — закричал Микеланджело. — Где у вас были глаза раньше? Вы что — малые дети? Джильберто потупился. — Прости меня, Микеланджело. Я подвел тебя. Все, что я знаю насчет светлого камня, — все здесь бесполезно. Микеланджело обнял Джильберто за плечи. — Ты сделал здесь все, что в твоих силах. Придется мне искать для тебя новых каменотесов. Видишь ли, Джильберто, у меня ведь нет такой привилегии — взять да отсюда уехать.В середине сентября все было готово для того, чтобы пробить тоннели через три больших скалы: одна была на повороте к Серавецце, другая за деревушкой Риманьо, последняя там, где к реке подходила старая тропинка. Стоит пробить эти тоннели — и дорога будет закончена! Микеланджело вбухал в топь столько камня, что им можно было бы заполнить все Тирренское море, и зыбкое, постоянно опускавшееся в этих местах полотно дороги стало, наконец, надежным и прочным вплоть до самого берега. На горе, в Винкарелле, чтобы избавиться от прожилок в камне, пришлось врубаться вглубь на толщину целой колонны, затратив на это шесть дополнительных недель, но зато Микеланджело обладал теперь уже готовым к спуску великолепным блоком. У него была также готова большая колонна, лежавшая на краю залома. И хотя кое-кто из рабочих покинул его, жалуясь на то, что он впряг их в слишком тяжелую работу, Микеланджело был все же счастлив, видя, каких результатов он добился за лето. — Тебе, Джильберто, время кажется, наверно, бесконечным. Но теперь мы применились к работе и до того, как нас накроют дожди, еще выломаем три-четыре новых колонны. Наутро он стал передвигать ту огромную колонну, что лежала на краю залома, вниз, к лощине: там за эти месяцы было насыпано достаточно мраморного щебня, чтобы создать возможность хорошего скольжения. Колонну всю, вдоль и поперек, обвязали веревками, подняли вагами на деревянные катки и с усилием откатили от залома, направляя носом к спусковой лощине. Вдоль всего пути, по которому колонна устремится вниз, справа и слева гнездами были вбиты колья. Когда колонна двинется с места, концы оплетавших ее веревок надо будет живо закреплять на этих прочно вколоченных в землю кольях — иного средства сдерживать движение мрамора не было. Колонна ползла, тридцать человек катили ее и одновременно притормаживали. Подражая каррарцам, Микеланджело подбадривал рабочих то резким, то распевно-протяжным криком, он следил за людьми, расставленными у катков: если колонна в своем движении высвобождала задний каток, его надо было подставить спереди. По сторонам, у кольев, другая группа рабочих крепко натягивала веревки, и, как только колонна проходила одно гнездо кольев, люди бросались вниз по тропе к другому, чтобы закрепить там веревки и таким образом снова затормозить ход колонны. Часы шли, солнце поднялось высоко, обливавшиеся потом люди совсем изнемогали, бранились и жаловались на то, что падают с ног от голода. — Нельзя нам останавливаться и обедать, — увещевал их Микеланджело. — Мы загубим мрамор. Он может вырваться из рук и уйти. На крутом и длинном откосе колонна вдруг стала сильно скользить, — рабочие, напрягая каждый мускул, едва удержали ее. Колонна двигалась теперь хорошо; вот она прошла сотню сажен, еще сотню, потом еще две-три сотни, прочертив сверху вниз все гигантское плечо горы Альтиссимы, — до дороги оставалось расстояние сажен в пятнадцать. Микеланджело ликовал: скоро рабочие столкнут колонну на погрузочную платформу, а уже оттуда тридцать два вола повезут ее на специальной телеге к морю. Он никогда не мог понять того, как это случилось. Проворный пизанский мальчишка по имени Джино — он шел среди тех, кто следил за катками, — только что опустился на колени, чтобы подсунуть под переднюю часть колонны новый каток, как вдруг раздался тревожный крик, что-то резко треснуло, и колонна начала катиться вниз сама собой. — Берегись, Джино! Скорей в сторону! — закричали рабочие. Но было уже поздно. Колонна подмяла мальчика и, изменив направление, пошла прямо на Микеланджело. Он отскочил и, не удержавшись на ногах, упал наземь и перевернулся несколько раз с боку на бок. Люди стояли, словно замерев, а сияющая белая колонна набирала скорость и, круша все, что попадалось на ее пути, летела вниз. Через какие-то считанные секунды она ударилась о погрузочную платформу и, расколовшись на сотни кусков, рухнула на дорогу. Джильберто, склонился над Джино. На земле были пятна крови. Микеланджело, рядом с Джильберто, тоже встал на колени. — У него сломана шея, — сказал Джильберто. — Он еще жив? — Нет. Убит мгновенно. Микеланджело уже словно бы слышал траурный звук рога, катившийся от одной горной вершины к другой. Он подхватил на руки мертвое тело Джино, поднялся и пошел, качаясь, как слепой, вниз по белой дороге. Кто-то подвел прямо к погрузочной платформе его мула. Все еще держа Джино на руках, Микеланджело сел на мула и тронулся в путь, остальные шли впереди — траурное шествие направилось в Серавеццу.
11
Смерть мальчика тяжким грузом легла на его совесть. Он не вставал с постели, у него болело сердце. Проливные дожди затопили площадь городка. Все работы прекратились. Артель разъехалась. Счета показывали, что Микеланджело израсходовал тридцать дукатов сверх тех восьми сотен, которые были ему выданы авансом в начале года на закупку мраморов. Он не погрузил и не отправил из своей морской пристани ни единого блока. Каким-то утешением был для него лишь приезд многих каррарских камнеломов на похороны Джино. Покидая кладбище, аптекарь Пелличчиа взял Микеланджело под руку: — Мы глубоко опечалены, Микеланджело. Гибель мальчика заставила нас взглянуть на все по-иному. Мы плохо обошлись с тобой. Но ведь и мы пострадали: многие агенты и скульпторы не хотели заключать с нами подряды, ждали возможности покупать мрамор из каменоломен папы. Теперь каррарские корабельщики были готовы переправить его блоки, все еще валявшиеся на берегу, к пристаням Флоренции. Несколько недель пролежал он совсем больным. Будущее казалось ему еще более темным, чем нависшее над Пьетрасантой грифельное небо. Он не сумел исполнить порученное ему дело; он без пользы потратил выданные ему авансом деньги, проработал целый год без всякого результата. На что же ему теперь рассчитывать? Ни у папы Льва, ни у кардинала Джулио не хватит терпения вновь возиться с неудачником. Лишь письмо Сальвиати, пришедшее в конце октября, подняло Микеланджело на ноги.«Я огорчился, узнав, что вы так расстроены всем происшедшим. В подобных предприятиях вы вполне могли столкнуться с куда более прискорбными случаями. Поверьте мне, что вы не будете ни в чем нуждаться, и бог воздаст вам за это несчастье. Помните, что, когда вы закончите этот труд, наш город будет вечно благодарен вам и всему вашему семейству. Великие и подлинно достойные люди извлекают из бедствия новую отвагу и становятся еще сильнее».Микеланджело уже не так боялся, что папа и кардинал будут проклинать его за неудачу. На него успокаивающе подействовало письмо из Рима, от Буонинсеньи, который писал:
«Святой отец и его преосвященство очень довольны тем, что вы открыли такое множество мрамора. Они желают, чтобы дело подвигалось вперед как можно быстрее».Через несколько дней Микеланджело сел на коня и в одиночестве поехал по новой своей дороге, затем поднялся по склону горы к Винкарелле. Облака набегали на солнце, ветер отовсюду нес запахи осени. В оставленной каменоломне он отыскал под деревянным навесом инструмент и ударами зубила наметил четыре вертикальных колонны, которые следовало выломать из пласта, когда он придет сюда уже с рабочими. Он спустился в Пьетрасанту, сложил свои скудные пожитки в седельную сумку и берегом моря поехал к Пизе. Скоро он был уже в долине Арно, и вставший на горизонте Собор Флоренции словно бы приблизил его к родному городу сразу на много верст. Флорентинцы знали, какое несчастье произошло у Микеланджело, но смотрели на это как на неудачу, временно задержавшую работу. Хотя кое-кто из приехавших домой каменотесов жаловался на то, что Микеланджело понуждал рабочих к чересчур тяжелой работе, многие хвалили его: он так быстро проложил дорогу и первым на памяти людей начал добывать мраморные блоки в Пьетрасанте. Микеланджело не пришел еще в душевное равновесие и не мог пока высечь даже простого изваяния, поэтому он взялся за самое целительное дело: стал строить себе новую мастерскую, для которой он купил участок земли на Виа Моцца. На этот раз он собирался построить не дом с мастерской, а просторную, с высоким потолком, студию и при ней лишь две маленьких жилых комнаты. Когда оказалось, что отведенного под мастерскую участка было мало, Микеланджело пошел к капеллану Фаттуччи и снова попытался прикупить кусок земли на задах Собора. Капеллан сказал: — Папа издал буллу, в которой говорится, что все церковные земли должны продаваться по самым высоким ценам. Микеланджело вернулся домой и написал кардиналу, Джулио письмо:
«Если папа издает буллы, поощряющие воровство и лихоимство, я прошу выпустить такую же буллу и для меня».Кардинал Джулио был позабавлен, а спор Микеланджело с церковью кончился тем, что он заплатил за добавочный кусок земли столько, сколько требовал капеллан. Микеланджело занялся строительством дома с невероятной энергией — нанимал рабочих, покупал у плотника Пуччионе тес и гвозди, у владельца печей для обжига Уголино известь, у Мазо черепицу, у Каппони еловый лес. Он разыскивал чернорабочих, чтобы таскать песок, гравий, камень, сам наблюдал за всей работой, не отлучаясь со стройки целыми днями. По ночам он изучал и пересматривал свои счета с тою же тщательностью, с какой Виери вел бухгалтерские книги в Пьетрасанте; он записывал имена свидетелей, которые могли бы подтвердить, что он уплатил Талози за вставку оконных рам, Бадджане за подвоз песка, поставщику Понти за пять сотен крупного кирпича, вдове, которая жила рядом, за постройку половины стены, разделяющей их усадьбы. Стараясь хотя бы раз в жизни проявить деловитость, за которую его одобрили бы и Якопо Галли, и Бальдуччи, и Сальвиати, он потребовал у занемогшего тогда Буонарроти роспись тех весьма скромных доходов с земель, которые он приобрел за долгие годы.
«Я указал на этом листе ту долю урожая, которая причитается мне за три года с имения, обрабатываемого Бастиано, по прозвищу Кит, которое я купил у Пьеро Тедальди. За первый год: двадцать семь бочонков вина, восемь бочек масла и восемь пудов пшеницы. За второй год: двадцать четыре бочонка вина, ни одной бочки масла и двадцать пудов пшеницы. За третий год: десять бочек масла, тридцать пять бочонков вина и десять пудов пшеницы».Зима выдалась теплая. К февралю крыша мастерской была уже покрыта черепицей, двери навешены, в высоких северных окнах вставлены рамы, литейщики изготовили четыре бронзовых шкива, нужных Микеланджело для работы над статуями. Со складов на набережной Арно он перевез с полдесятка своих каррарских блоков, почти в четыре аршина высотой, и поставил их в мастерской стоймя, чтобы лучше и вдумчивее разглядеть, — они предназначались для гробницы Юлия. Мастерская была построена, ему оставалось теперь лишь возвратиться в Пьетрасанту и вырубать там колонны: без них завершить фасад церкви Сан Лоренцо было невозможно. А затем он уже мог прочно осесть на Виа Моцца и сосредоточенно трудиться несколько лет на семейство Медичи и Ровере. Он не просил уже Джильберто Тополино снова ехать с ним работать в каменоломню — это было бы нечестно. Однако большинство его бывших рабочих, так же как и новая группа каменотесов, ехали с охотой. Страх перед Пьетрасантой действовал теперь не так сильно, люди понимали, что если дорога уже проведена и каменоломня открыта, то самая трудная работа была позади. Микеланджело закупил во Флоренции необходимое снаряжение: толстые и прочные веревки, тросы, канаты, кувалды, долота, резцы. Все еще терзаясь мыслью о непонятной случайности, погубившей Джино, он придумал систему охватывающих блок железных колец, которые позволяли рабочим удерживать мраморы, скатываемые с горы, гораздо крепче и уверенней. Лаццеро обещал отковать такие кольца в своей кузнице. Микеланджело направил Бенти в Пизу, поручив ему купить самого лучшего железа, какое только можно найти. Пришел день — и артель Микеланджело начала выламывать мрамор, заполняя готовыми блоками всю рабочую площадку. Сведения папы оказались верны: чудеснейшего мрамора было тут достаточно, чтобы снабжать им мир тысячу лет. Когда два верхолаза очистили взломанную стену мрамора от камней, комьев земли, грязи и щебня, снежно-белые утесы, радуя сердце, засверкали во всем своем гордом величии. Сначала Микеланджело не хотел спускать колонны вниз, пока ему не откуют железные кольца. Он решился на это лишь под влиянием Пелличчии, приехавшего к нему в Пьетрасанту: тот посоветовал удвоить число гнезд с кольями вдоль линии спуска, применить более толстые и прочные веревки и, чтобы блок двигался медленнее, уменьшить количество катков. Несчастных случаев больше не было. За несколько недель Микеланджело скатил с горы пять великолепных блоков, погрузил их на телеги и на тридцати двух волах перевез через Серавеццу, Пьетрасанту и прибрежную топь к морю. Здесь вплотную к берегу должны были подойти барки с толстым слоем песка на палубах; колонны поднимут и уложат на барки в этот песок, потом его смоют, спуская воду через шпигаты, и мраморы будут лежать на кораблях в полной безопасности. К концу апреля Лаццеро отковал нужный набор колец. Бесконечно радовавшийся удивительной красоте своих белых колонн, Микеланджело был доволен, что подоспела и эта дополнительная защита от возможной беды. Теперь, когда у него были готовы к спуску шесть колонн, он велел надеть на них железные кольца — так будет легче сдерживать огромную тяжесть мрамора, отказавшись в то же время от большого числа веревок. Это усовершенствование оказалось для него роковым. Когда колонну покатили вниз по лощине, кольцо на полпути лопнуло, колонна вырвалась из рук рабочих и, все убыстряя ход, выскочила за край ложбины. Сметая на своем пути все препятствия, она неслась по крутому склону Альтиссимы вниз к реке, пока не разбилась на куски в каменистом ложе ущелья. Микеланджело стоял будто пораженный громом. Придя в себя, он убедился, что ни один из рабочих не пострадал, потом осмотрел лопнувшее кольцо. Оно было сделано из негодного железа. Сразу же поднявшись наверх к залому, Микеланджело взял тяжелый молот и стал колотить им по железным лебедкам, которые изготовил Лаццеро. Железо рассыпалось под ударами молота, как сухая глина. Значит, только чудо спасло всю его артель от неминуемой гибели. — Бенти! — Слушаю. — Где закупали это железо? — …В Пизе… как ты сказал… — Я дал тебе денег на самое лучшее железо, а тут какая-то дрянь, в которой железа не больше, чем в лезвии ножа. — …очень… очень жаль, — заикаясь, ответил Бенти. — Но я… я не ездил в Пизу. Ездил Лаццеро. Я ему доверил. Микеланджело направился к навесу, где кузнец раздувал мехи горна. — Лаццеро! Почему ты не купил самого лучшего железа, как я приказывал? — …такое дешевле. — Дешевле? Но ведь ты не вернул из взятых денег ни скудо! — Не вернул. — Лаццеро пожал плечами. — А чего ты хочешь? Всякому надо разжиться хоть горсткой монет. — Горсткой! И тем загубить колонну, которая стоит сотню дукатов. Поставить под удар жизнь всех и каждого, кто здесь работает! Какое же у тебя дьявольское корыстолюбие! Лаццеро опять пожал плечами, он и не знал, что значит слово «корыстолюбие». — Ну, что за беда! Потеряли одну колонну. Тут тысячи таких колонн. Ломай новую. Как только весть о потере колонны дошла до Ватикана, а Ватикан в свою очередь направил письмо с инструкциями цеху шерстяников, Микеланджело вызвали во Флоренцию. В Пьетрасанте его заменил некий десятник, присланный от Собора. Получив приказ, Микеланджело сел на коня и наследующий день к вечеру был уже во Флоренции. Тотчас его провели во дворец Медичи, на доклад к кардиналу Джулио. Дворец был в трауре. Мадлен де ла Тур д'Овернь, жена Лоренцо, сына Пьеро, скончалась во время родов. Сам Лоренцо, будучи больным и спеша из Кареджи с виллы Медичи в Поджо а Кайано, по дороге схватил лихорадку и умер всего сутки назад. Эта смерть унесла последнего законного наследника и потомка Козимоде Медичи по мужской линии, хотя теперь появилось еще двое незаконных Медичи: Ипполито, сын покойного Джулиано, и Алессандро, если верить молве, сын кардинала Джулио. Дворец был в печали еще и потому, что ходили слухи, будто безудержная расточительность папы Льва довела до банкротства казну Ватикана. Флорентинские банкиры, снабжавшие Льва деньгами, необычайно встревожились. Микеланджело надел чистое платье, взял свою бухгалтерскую книгу и пошел по мучительно любимым, милым флорентинским улицам — от Виа Гибеллина к Виа дель Проконсоло, потом мимо Собора к улице Арбузов, где слева стоял Дом о Пяти Фонарях, а с Виа Калдераи, где жили чеканщики по меди и бронники, выбрался уже на Виа Ларга, ко дворцу Медичи. Кардинал Джулио, посланный во Флоренцию папой Львом, чтобы взять бразды правления в свои руки, служил сейчас заупокойную мессу в часовне Беноццо Гоццоли. Когда месса кончилась и часовня опустела, Микеланджело выразил Джулио свои сожаления по поводу кончины юного Лоренцо. Кардинал, казалось, даже не слышал его. — Ваше преосвященство, зачем вы отозвали меня из Пьетрасанты? Через несколько месяцев я перевез бы на берег все мои девять огромных колонн. — Мрамора у нас теперь уже достаточно. Микеланджело был обескуражен враждебностью тона, каким заговорил с ним кардинал. — Достаточно?.. Не понимаю. — Работу над фасадом Сан Лоренцо мы решили прекратить. Микеланджело побледнел, лишась дара речи. Джулио продолжал: — Надо ремонтировать полы в Соборе. Поскольку расходы на строительство твоей дороги оплачивали Собор и цех шерстяников, они распоряжаются и теми мраморами, которые ты добыл. У Микеланджело было такое чувство, словно кардинал наступил на его простертое тело выпачканными в навозной жиже сапогами. — Значит, вы будете устилать мраморами полы Собора? Моими мраморами? Бесценными, самыми прекрасными из всех, какие когда-либо добывались? Зачем вы меня так унижаете? — Мрамор есть мрамор, — с ледяным безразличием ответил Джулио. — Он будет пущен на то, в чем сейчас нужда. А сейчас блоки требуются на ремонт полов в Соборе. Чтобы унять дрожь, Микеланджело стиснул кулаки и тупо смотрел на чудесный портрет Великолепного и его брата Джулиано, написанный Гоццоли на стене часовни. — Вот уже почти три года, как его святейшество и ваше преосвященство оторвали меня от работы над гробницей Ровере. За все это время у меня не было свободного дня, чтобы взять в руки резец. Из двадцати трех сотен дукатов, которые вы мне послали, восемнадцать сотен я потратил на мраморы, устройство каменоломен и прокладку дороги. По указанию папы мраморы, предназначенные для гробницы Юлия, привезены сюда, чтобы я мог, ваять из них статуи, пока работаю над фасадом Сан Лоренцо. Если мраморы отправить обратно в Рим, корабельщики возьмут с меня более пятисот дукатов. Я уж не говорю о расходах на деревянную модель; не говорю о трех годах времени, которые я убил на эту работу; не говорю о нанесенной мне великой обиде, когда меня вызвали сюда работать, а потом отстранили от этой работы; не говорю о брошенном в Риме доме, где мне придется потерять еще не менее пятисот дукатов на мраморах и обстановке. Я не хочу говорить обо всем этом, я плюю на чудовищный ущерб, который вы мне причинили. Я хочу теперь одного — быть свободным! Кардинал Джулио внимательно слушал этот перечень жалоб и упреков Микеланджело. Его худое, плотно обтянутое кожей лицо потемнело. — Святой отец все это рассмотрит, когда придет время. Можешь идти. Микеланджело поплелся сквозь анфиладу залов и коридоров. Ноги сами собой вели его в комнату, когда-то служившую кабинетом Великолепного. Он распахнул дверь, вошел, тупо оглядел окна и стены. И, обращаясь к духу Лоренцо, громко во весь голос, крикнул: — Я конченый человек!
Часть девятая «Война»
1
Теперь, когда он был сокрушен и ограблен, где он мог найти опору и утешение? Ему оставалось лишь одно: укрыться, заперев двери мастерской, и работать под стражей десятка белых блоков, которые стояли вдоль стен, словно охранявшие его уединение солдаты. Новая мастерская доставляла ему истинную радость: прекрасные, в пять сажен высоты, потолки, высокие, обращенные к северу окна, — в такой просторной мастерской можно было ваять для гробницы несколько статуй одновременно. Именно здесь и должен быть скульптор, в своей мастерской. В Риме он когда-то подписал договор с Метелло Вари на «Воскресшего Христа» и решил в первую очередь взяться за эту работу. Набрасывая рисунки, он увидел, что рука не повинуется ему, — он не мог изобразить Христа воскресшим, так как в его представлении Христос никогда и не умирал. Никогда не было никаких распятий, никаких погребений; никто не мог лишить жизни Сына Божьего, ни Понтий Пилат, ни римские легионеры, сколько бы ни стояло их в Галилее. Увитые жилами сильные руки Христа держали крест с легкостью, поперечный его брус был слишком коротким, чтобы распять на нем хотя бы ребенка; правда, в рисунках пока были символы Страстей Господних — изящно выгнутый бамбуковый прут, смоченная в уксусе губка, — однако в мраморе все это исчезнет и не будет никаких следов смертных мук и страданий. Через рынок на Виа Сант'Антонио Микеланджело направился в церковь Санта Мария Новелла и, взойдя там на хоры, стал рассматривать крепкотелого, мужественного «Христа» Гирландайо — когда-то, мальчиком, он помогал Гирландайо рисовать для этого «Христа» картоны. Он никогда не считал, что одухотворенность должна быть анемичной или слишком изысканной. Небольшая глиняная модель далась ему легко и быстро, словно сама выскользнула из рук, затем его мастерская была освящена брызнувшими осколками белого мрамора — они казались Микеланджело чистыми, как святая вода. Отпраздновать начало работы пришли старые друзья — Буджардини, Рустичи, Баччио д'Аньоло. Налив в бокал кьянти, Граначчи поднял его и провозгласил: — Я пью за проводы трех последних лет, которые принесли тебе, Микеланджело, столько печали. Пусть они покоятся в мире. А теперь выпьем за грядущие годы, за то, чтобы эти великолепные блоки обрели жизнь под твоим резцом. Пьем до дна! — Желаю счастья! После трехлетнего поста Микеланджело работал как одержимый, его «Воскресший Христос» вырастал из колонны со стремительной быстротой. Микеланджело убедил Вари в том, что фигура должна быть обнаженной, и теперь его резец свободно намечал плавные, стройные пропорции мужского тела, вытачивал головуХриста, мягко смотревшего вниз, на людей, — благостное спокойствие его лица, при всей его мужественности, говорило зрителям: — Не теряйте веры в доброту Господа Бога. Я преодолел свой крест. Я победил его. Так вы можете победить и ваш крест. Насилие проходит. Любовь остается. Статую нужно было отправлять на корабле в Рим, и Микеланджело решил не трогать каменную перепонку, оставшуюся между левой рукой и торсом Христа, а также между его ногами; не пытался он и окончательно отделывать волосы и полировать лицо: волосы могли поломать, а лицо поцарапать при перевозке статуи. В день, когда статую увезли, в мастерскую явился Соджи. Красный, лоснящийся, будто жирная колбаса, он весь пылал жаром. — Знаешь, Микеланджело, только что состоялся конкурс на скульптуру. — О! Где же он был? — Да у меня в голове. Могу сообщить тебе, что ты в нем победил. — Ну, поскольку я победил, Соджи, что же я должен изваять? — Теленка для фасада моей мясной лавки. — Теленка из мрамора? — Разумеется. — Соджи, когда-то я поклялся изваять теленка, но только из чистого золота. Чтобы мой телец был в точности такой, какому поклонялись древние иудеи, когда Моисей спустился к ним с Синая. Тот был из золота. Соджи выпучил глаза. — Из золота! Что ж, это будет внушительно. Какой же толщины мы возьмем пластину? — Пластину? Соджи, я возмущен. Разве ты накладываешь пластины на свои колбасы? Чтобы теленок не опозорил твоей лавки, его всего надо сделать из чистого золота, сплошь, от морды до последнего волоска на хвосте! Соджи взопрел. — А ты знаешь, во сколько обойдется теленок из сплошного золота? В миллион флоринов. — Зато он тебя прославит. Соджи уныло покачал головой. — Что же, над протухшим мясом плакать не приходится. Поищем другого скульптора. Ты не подходишь! Микеланджело знал, что рассчитывать на хорошие заработки в ближайшие годы ему не приходится. За «Воскресшего Христа» обещали совсем скромную сумму — не больше двухсот дукатов, деньги же за надгробие Юлия были выплачены ему авансом. А ведь до сих пор семья опиралась только на него. У брата Буонаррото было уже двое детей, скоро должен был появиться третий. Он все прихварывал, работать много не мог. Джовансимоне целыми днями сидел в шерстяной лавке, но дела у него шли плохо. Брат Сиджизмондо не знал никакого ремесла, кроме военного. Лодовико болел теперь постоянно, и счета от доктора и аптекаря шли один за другим. Доходы с загородных земель все скудели и скудели. Микеланджело надо было теперь блюсти самую строгую экономию. — Ты не считаешь, Буонаррото, что сейчас, когда я стал жить во Флоренции, самое разумное для тебя — это вести мои дела? Буонаррото был поражен. Лицо у него посерело. — Ты хочешь закрыть нашу лавку? — Она ведь совсем не приносит прибыли. — Это потому, что я болею. Как только я поправлюсь, я буду работать в ней каждый день. А что будет с Джовансимоне? Микеланджело понял, что лавка была нужна Буонаррото и Джовансимоне прежде всего для того, чтобы поддержать свое положение в обществе. Пока у них была лавка, они были купцами — без лавки они становились просто иждивенцами, кормящимися за счет брата. Но разве мог Микеланджело хоть чем-либо нанести урон фамильной чести? — Ты прав, Буонаррото, — сказал он со вздохом. — Когда-нибудь лавка будет приносить доход. Чем упорнее он отгораживался в своей мастерской от внешнего мира, тем больше убеждался, что волнения и тревоги — естественное состояние человека. До него дошла весть, что во Франции, отвергнутый своими соотечественниками, скончался Леонардо да Винчи. Себастьяно писал из Рима, что Рафаэль болен, очень истощен и вынужден все чаще передавать свои работы ученикам. Беды осаждали и семейство Медичи: Альфонсина, сокрушенная потерей сына и власти над Флоренцией, перебралась в Рим, где вскоре умерла. События показали, что папа Лев не проявил достаточной проницательности в политике: он поддерживал французского короля Франциска Первого против Карла Первого, а недавно тот под именем Карла Пятого был избран императором Священной Римской империи, подчинив себе Испанию, Германию и Нидерланды. В Германии Мартин Лютер бросил вызов владычеству папы, заявляя: — Не знаю, может ли христианская вера терпеть еще одного главу вселенской церкви… если у нас есть Христос. Просидев в добровольном заточении не одну неделю, Микеланджело отправился на обед в Общество Горшка. Его повел туда Граначчи, зашедший за ним в мастерскую. Граначчи получил теперь родовое наследство и жил, соблюдая всяческие приличия, с женой и двумя детьми в доме своих предков близ Санта Кроче. Когда Микеланджело сказал, что он удивлен рвением, с каким Граначчи отдается своим хозяйственным делам, тот сухо ответил: — Долг каждого поколения хранить родовое имущество. — Может быть, тебе стоило бы посерьезней отнестись к своему таланту и написать хоть несколько картин? — А, мой талант… Вот ты не пренебрегал своим талантом, и посмотри, что тебе пришлось вынести. Я еще хочу насладиться жизнью. Ведь что остается, когда проходят годы? Одни горькие сожаления. — Если от меня не останется великолепных скульптур, я буду действительно горько сожалеть. Мастерская Рустичи помещалась все там же, на Виа делла Сапиенца, где художники когда-то пировали, поздравляя Микеланджело с заказом на «Давида». Выйдя на площадь Сан Марко, Микеланджело и Граначчи заметили знакомую фигуру. Микеланджело побледнел и схватил Граначчи за локоть — перед ними был Торриджани. Хохоча и размахивая руками, он разговаривал с девятнадцатилетним ювелиром Бенвенуто Челлини. Едва Граначчи и Микеланджело вошли в мастерскую, как там появился Челлини. Он тотчас завел разговор с Микеланджело: — Этот Торриджани — сущая скотина! Он рассказывал мне, как вы ходили с ним в церковь Кармине и учились рисовать с фресок Мазаччо и как однажды, когда вы стали подтрунивать над ним, он ударил вас по лицу. Если ему верить, он будто бы даже слышал, как хрустнула кость под его кулаком. Микеланджело сразу помрачнел. — Зачем ты пересказываешь мне эту историю, Челлини? — Чтобы сказать вам, что с этого дня я его почти ненавижу. Я собирался ехать с ним в Англию; он подбирает себе помощников, у него в Англии заказ… но теперь я не хочу даже глядеть на него. Хорошо было посидеть здесь, у Рустичи, в тесном кругу старых друзей и земляков. По рекомендации Микеланджело Якопо Сансовино уже получил крупный заказ в Пизе, и он не сердился больше на Микеланджело за то, что его отстранили от работы над фасадом Сан Лоренцо, — работа эта, кстати, ныне была совсем прекращена. Забыл свои обиды на Микеланджело и Баччио д'Аньоло, теперь прославившийся как мастер мозаичной инкрустации по дереву. Палла Ручеллаи заказал Буджардини написать для церкви Санта Мария Новелла запрестольный образ — «Мученичество Святой Катерины», — и Буджардини, как ни бился, не мог справиться с рисунком. Помогая старому другу, Микеланджело уже не первый раз рисовал ему углем фигуры раненых и убитых, склонившихся в разных позах людей — надо было определить, как на них падают тени, как ложится свет. Единственным человеком, кто внес в этот вечер неприятную ноту, был Баччио Бандинелли, который все отворачивался от Микеланджело и не хотел смотреть в его сторону. Микеланджело внимательно разглядывал своего недруга — Бандинелли нападал на него и всячески чернил с той самой поры, как произошла ссора с Перуджино. При тонкой, как проволока, переносице, кончик носа у него был очень широкий, глаза с тяжелыми веками казались обманчиво сонными, а невероятно подвижный рот принадлежал к числу самых болтливых ртов во всей Тоскане. Бандинелли, которому теперь исполнился тридцать один год, был облагодетельствован несколькими заказами от Медичи. Кардинал Джулио недавно поручил ему изваять «Орфея и Цербера». — В чем моя вина перед этим человеком? Чего он не может мне простить? — спрашивал Микеланджело у Граначчи. — Разве лишь того, что он изрезал мой картон с «Купальщиками»! — Твоя вина перед ним в том, что ты родился, живешь, дышишь, высекаешь статуи. Одно только сознание, что есть такой человек, как Микеланджело Буонарроти, лишает его покоя. Он убежден, что, не будь тебя, он стал бы первым скульптором по мрамору во всей Италии. — Неужто стал бы? — Он изваял ужаснейшую дрянь — «Геракла и Кака» для кафедры в Синьории. Он всего лишь искусный ювелир и пользуется благосклонностью Медичи за то, что его отец при разгроме дворца спас для них золотое блюдо. Стань ты таким же плохим скульптором, как он, или сделай его таким хорошим, как ты, — все равно задобрить и смягчить его невозможно. Аньоло Дони, для которого Микеланджело написал «Святое Семейство», ухитрился неофициально войти в Общество Горшка, финансировав несколько самых дорогостоящих пирушек. По мере того как росла слава Микеланджело, разрасталась и легенда об их дружбе. Дони утверждал, что когда-то они вместе играли в мяч в приходе Санта Кроче, составляя такую пару, которую никто не мог одолеть, что Микеланджело будто бы жил столько же в доме Дони, сколько и в своем, и что Дони всячески поощрял его к занятиям искусством. Теперь Микеланджело убедился, что за те пятнадцать лет, пока Дони выдумывал и распространял эти небылицы, он и сам в них уверовал. Обращаясь к Аристотелю да Сангалло, Дони в эту минуту рассказывал, как однажды в глухую ночь они с Микеланджело пробрались по черному ходу во дворец, где была чудесная фреска, рисовать с которой хозяева никому не разрешали: пока Микеланджело тайком срисовывал эту фреску, он, Дони, держал для него свечу. Граначчи подмигнул Микеланджело и нарочито громко заметил: — Какой любопытный случай, Микеланджело! Почему ты никогда о нем не рассказывал? Микеланджело вяло улыбнулся. Не мог же он при всех назвать Дони лжецом. И что в конце концов такое разоблачение даст? Лучше уж рассматривать эти россказни как свидетельство своей славы.Пока, месяц за месяцем, шло время, он врубался во все свои четыре огромных блока сразу. Он высекал сначала наиболее выпуклые формы фигур на углах блоков, затем, поворачивая блоки по направлению часовой стрелки, принимался за боковые грани. Он высекал изваяния Пленников, входившие в замысел гробницы. Стремясь выявить контуры скульптур, он измерял промежутки между частями тела и вбивал в мрамор короткие бронзовые гвозди. С резцом в руках он расхаживал вокруг блоков и то тут, то там отщипывал и надрезывал камень, чтобы примениться к его плотности. Когда он начинал обрабатывать часть блока во всех деталях, ему надо было знать, какая толща мрамора лежит за нею. Только молотом и резцом постигал он внутренний вес глыбы и ту глубину, в которую можно было вторгаться. Его глаз ваятеля заранее видел очертания скульптур. Для Микеланджело это были не четыре отдельные фигуры, а части единого замысла: дремлющий Юный Гигант, весь в стремлении высвободиться из каменной темницы времени; Пробуждающийся Гигант, разрывающий покровы своего жесткого кокона; Атлант, в расцвете лет, силы и разума, держащий на своих плечах землю Господа Бога; Бородатый Гигант, старый и усталый, готовый уйти из этого мира, отдав его Юному Гиганту, как своему наследнику в непрерывной чреде рождения и смерти. Микеланджело сам теперь жил вне времени и пространства, как эти полубоги, что в муках, корчась и извиваясь, пробивали себе путь из тяжкого плена каменных глыб. Он неустанно тесал, резал и обтачивал всю осень и зиму, греясь подле горящего полена, довольствуясь чашкой супа или куском телятины, принесенной ему из дому в теплом горшке монной Маргеритой. Если он чувствовал, что резец или долото перестали подчиняться его руке и глазу, он, не раздеваясь, в рабочей одежде, бросался на постель. Часа через два он просыпался освеженный, прикреплял к козырьку своего картуза свечу и снова работал; обтесывая переднюю сторону фигур, просверливая отверстия между ног, обтачивая четыре обнаженных тела острейшими резцами, он держал все изваяния на равной стадии отделки. К весне четыре «Пленника-Гиганта» уже обрели жизнь. Хотя тело Юного Гиганта было еще погружено в мраморную толщу, ступни ног совсем не обточены, а очертания лица под резко вскинутой рукой едва намечены, тело это было живое, оно обладало собственной тяжестью, в нем струилась кровь. Атлант, голова которого уходила в не тронутую резцом глубь камня, а гигантские руки поддерживали нависший сверху обломок скалы, — Атлант тоже жил всеми своими фибрами и остро ощущал вес удерживаемого им мира. Бородатый Гигант, иссеченный перекрестными ударами резца на спине и ягодицах, плотно прислонялся к опоре, будто отшатнувшись от бешеного натиска скульптора. Голова Пробуждающегося Гиганта была с силой повернута в сторону, руки раскинуты в мощном движении, одна нога была согнута в колене, другая глубоко уходила в камень. Когда он стоял среди своих Гигантов, то казался по сравнению с ними совсем маленьким. Но все они склонялись перед его верховной силой, перед его напористой энергией, все покорствовали летящему молоту и резцу, который творил четырех языческих богов, поддерживающих гробницу первосвященника христиан. Граначчи говорил Микеланджело: — Ты уже оттрубил три бессмысленных года в Каменоломнях. А теперь вот ваяешь эти таинственные создания. Где ты их взял? Кто они — олимпийцы Древней Греции? Или пророки Ветхого Завета? — В искусстве любое произведение — автопортрет. — Эти твои чудища так и хватают меня за душу — будто я должен проникнуть в их едва намеченные формы, что-то додумать за них, вообразить… Граначчи отнюдь не хотел склонять Микеланджело к тому, чтобы тот прекратил работу и оставил «Пленников» незавершенными, но именно этого потребовали папа Лев и кардинал Джулио. У папы и кардинала возник проект построить при церкви Сан Лоренцо сакристию и перенести в нее прах своих отцов — Великолепного и брата его Джулиано. Стены этой новой сакристии начали возводить уже давно и теперь эту работу возобновили. Когда Микеланджело проходил мимо стройки, он даже не смотрел на толпившихся там каменщиков — ввязываться в новый мертворожденный проект Медичи у него не было ни малейшего желания. Папа Лев и кардинал Джулио, который теперь снова жил в Ватикане, оставив вместо себя во Флоренции кардинала Кортоны, ничуть не смущались тем, что они отменили договор с Микеланджело на фасад Сан Лоренцо: они направили теперь к нему Сальвиати с предложением изваять скульптуры для новой капеллы. — Я больше не скульптор Медичи, — бросил Микеланджело, едва Сальвиати переступил порог его мастерской. — Этот высокий пост занимает теперь Баччио Бандинелли. К концу года четыре «Пленника» уже выйдут из блоков. А еще через два года спокойной работы я закончу Юлиеву гробницу, установлю ее — и считаю, что договор мой выполнен. Семейство Ровере должно будет выплатить мне около восьмидесяти пяти сотен дукатов. Вы можете понять, что значат такие деньги для человека, который не заработал за четыре года ни скудо? — Вам не надо пренебрегать добрым расположением семейства Медичи. — Мне надо заработать и денег… А Медичи мне не платят. Они до сих пор смотрят на меня как на пятнадцатилетнего подростка, которому каждую неделю оставляли на умывальнике три флорина на карманные расходы. По мере того, как поднимались стены новой сакристии, Медичи приступали к Микеланджело все упорней. Вторичное их предложение он прочел в письме Себастьяно из Рима. А Микеланджело по-прежнему высекал своих «Гигантов» — он обтачивал напрягшееся, приподнятое бедро Юного Гиганта, крепкие, как стволы деревьев, стянутые ременной петлей ноги Бородатого, все чувства которого таились где-то внутри. Только этот труд и был теперь реальной жизнью Микеланджело — так он провел последние недели весны, жаркое и сухое лето и весь сентябрь с его прохладными ветрами, подувшими с гор. Когда брат Буонаррото, у которого родился уже второй сын, названный Лионардо, пришел в мастерскую и спросил Микеланджело, почему он, работая дни и ночи, так давно не бывал дома и не скучает ли он по семье и друзьям, Микеланджело ответил: — Мои друзья — эти Гиганты. Они разговаривают не только со мной, но и друг с другом. Ведут споры… будто древние афиняне на агоре. — И кто же побеждает в этих спорах? Надеюсь, ты? — Dio mio, отнюдь нет! Иногда они устраивают настоящий заговор и сообща одолевают меня. — Они такие громадные, Микеланджело. Если кто-нибудь из них треснет тебя рукой по голове… — …она расколется, как орех. Но они не склонны к нападению, они жертвы, а не насильники и, скорей, утверждают мир, чем его рушат. Почему он уступил и сдался? Он и сам с уверенностью не мог бы ответить на этот вопрос. К октябрю давление Ватикана стало еще ощутимей. К октябрю счета Буонаррото показывали, что Микеланджело потратил за год денег больше, чем получил их в виде доходов с дома и имущества на Виа Гибеллина, от продажи вина, масла, ячменя, пшеницы, овса, сорго и соломы со всех земельных участков. К октябрю он так истощил свои силы, работая над четырехаршинными Пленниками, что дух его был уязвим и шаток. Весть о кончине Рафаэля потрясла Микеланджело — он остро ощутил теперь, как быстротечна жизнь человека, как ограничен срок, отпущенный ему на то, чтобы созидать и творить. Микеланджело стал задумчив и печален. Его вновь начали осаждать воспоминания о Лоренцо Великолепном, о его безвременной смерти. «Кем бы я был без Лоренцо де Медичи? — спрашивал он себя. — И что я до сих пор сделал, чтобы воздать ему должное? Разве это не явная неблагодарность, если я откажусь изваять ему надгробие?» И хотя Микеланджело предстояло снова заниматься надгробными фигурами, он мог потребовать себе на этот раз право высечь такую скульптуру, какая была бы подсказана лишь его собственным воображением, — мысль об этом уже горела в нем, как когда-то горела перед его взором багряная осень на горных пастбищах Каррары. Последний толчок был дан тем же папой Львом — тот открыто отозвался о Микеланджело в самом недружелюбном тоне. Себастьяно, изо всех сил старавшийся заполучить подряд на роспись зала Константина в Ватикане, как-то сказал папе, что он может написать поистине чудесные фрески, если только ему поможет Микеланджело. Лев закричал: — Чего от вас ждать иного? Все вы — ученики Микеланджело. Возьми хоть Рафаэля. Как только он увидел работы Микеланджело, он сразу же отказался от стиля Перуджино. Но Микеланджело упрям и неистов, он не хочет знать никаких резонов. Себастьяно по этому поводу писал:
«Я ответил папе, что вы таковы лишь потому, что вам приходится усиленно работать, завершая важные изваяния. Вы пугаете всех, не исключая первосвященника».Это был уже второй по счету папа, обвинявший Микеланджело в том, что он внушает ему страх. Но если это и правда, то разве не они сами тому причиной? Когда Микеланджело в ответном письме к Себастьяно стал сетовать на подобные обвинения, тот успокаивал его:
«Если вы и внушаете трепет, то, по-моему, только в искусстве; здесь вы величайший мастер из всех, какие были на свете».Скоро статуи для гробницы Юлия будут доведены до такой степени завершенности, что их можно будет передать семейству Ровере. И что тогда ему, Микеланджело, делать дальше? Нельзя допускать, чтобы тебя совсем отлучили от Ватикана. Ватикан держал под надзором все храмы Италии, даже дворянская знать и богатые купцы почтительно прислушивались к его голосу. Флоренцией правили Медичи. Микеланджело оставалось или работать на Медичи, или прекратить работу совсем. Он утешал себя той мыслью, что, поскольку стены новой сакристии уже почти закончены, небольшое, носившее интимный характер помещение не потребует много статуй. И принять такой скромный заказ посоветовал бы, наверное, даже Якопо Галли.
2
Когда Микеланджело стал склоняться к переговорам с Медичи, папа Лев и кардинал Джулио пошли на это весьма охотно. Их раздражение по поводу дел с каменоломнями и дорогой в Пьетрасанте улеглось, отчасти, может быть, потому, что посланная туда артель от Собора не сумела добыть ни одного блока. Каменоломни были закрыты. Пять белоснежных колонн Микеланджело лежали без присмотра на берегу. Отправляясь в Рим по папским делам, Сальвиати предложил Микеланджело свои услуги, чтобы наладить его отношения с Ватиканом. — Не знаю, поймем ли мы друг друга, — говорил Микеланджело печальным тоном. — Передайте папе и кардиналу, что я согласен работать на них на любых условиях — поденно, помесячно, даже не требуя денег. На следующий день, рано утром, он пошел осматривать новую сакристию, войдя в нее с черного хода, которым пользовались строительные рабочие. Стены были грубой бетонной кладки, купол едва начат. Как было бы чудесно, — подумал он, — если бы ему дали возможность, самому разработать все убранство капеллы, взяв для этого светлый камень из Майано. Он мог бы выбрать самые хорошие, лучистые плиты и сделать из этой тесной часовни истинное святилище: белый мрамор будет здесь прекрасно сочетаться с голубовато-серым светлым камнем — два материала, которые Микеланджело любил больше всего на свете. Флоренцию заливали дожди, дул невыносимый ветер. Микеланджело пододвинул свой рабочий стол поближе к очагу и начал чертить планы устройства капеллы. У папы к тому времени уже было решено, что в часовне разместятся гробницы не только старших, но и двух младших Медичи: брата его Джулиано и сына Пьеро — Лоренцо. Первоначальную мысль Микеланджело о четырех надгробьях, стоящих посреди часовни, кардинал Джулио отклонил на том основании, что часовня была слишком мала. Идея же кардинала, предлагавшего устроить в стенах несколько арок и поместить саркофаги над арками, а свое собственное надгробие поставить посредине часовни, была решительно отвергнута самим Микеланджело. Он набросал новый проект: два строгих саркофага, размещенных у двух противоположных стен, на обоих саркофагах по две полулежащих аллегорических фигуры — «Ночь» и «День» на одном, «Утро» и «Вечер» на другом, две мужских и две женских — четыре величавых, полных духовной и физической красоты изваяния, которые выражали бы собой глубокое раздумье, олицетворяя весь круг человеческой жизни. Именно этот план и был принят. Микеланджело думал о своих пяти белых колоннах, лежавших на берегу в Пьетрасанте. Но колонны были собственностью Собора. Гораздо проще оказалось послать две сотни дукатов, авансом выданных ему Ватиканом, в чудесную каррарскую каменоломню Полваччио и заказать мраморы там, дав точные указания, каковы они должны быть по размерам и очертаниям и как их надо отделывать. Когда блоки привезли во Флоренцию, Микеланджело убедился, что каррарцы заготовили для него превосходный мрамор и хорошо его обтесали. Все весенние и летние месяцы он провел за работой: проектировал стены и купол часовни, набрасывал фигуры «Ночи» и «Дня», «Утра» и «Вечера», обдумывал статуи двух молодых Медичи, в натуральную величину, — они должны были разместиться в нишах над саркофагами, — рисовал изваяние Богоматери с Младенцем, готовя ей место подле стены напротив алтаря. Во Флоренции появился кардинал Джулио: он должен был ехать в Ломбардию, к войскам папы, снова отражавшим нападение французов. Джулио вызвал Микеланджело во дворец Медичи и тепло его принял. — Микеланджело, мне хочется представить себе, увидеть как бы воочию ту часовню, которую ты украшаешь. — Ваше преосвященство, я покажу вам точные рисунки. Вы убедитесь, что двери, окна, пилястры, колонны, ниши и карнизы будут сделаны из светлого камня. Я построю деревянные модели саркофагов, в точных масштабах, вылеплю статуи в глине, их размеры и формы будут такими же, как в мраморе. Я поставлю эти модели на саркофаги. — Все это потребует немало времени. А у святого отца его нет. — Вы не правы, ваше преосвященство. Это не потребует много времени и обойдется совсем недорого. — Тогда пусть будет по-твоему. Я передам Буонинсеньи, чтобы тебе выдали денег, сколько понадобится. Но никаких денег так и не было выдано. Забывчивость Джулио не удивила Микеланджело и не помешала ему работать. Он стал изготовлять модели на свои собственные средства. Затем он с головой ушел в архитектуру, набрасывая рисунки и составляя расчеты для завершения купола. Он тщательно обдумывал, сколько же прорезать в капелле окон. Свою работу он прервал на один лишь день, чтобы отпраздновать рождение третьего сына Буонаррото — Буонарротино; с тремя наследниками мужского пола будущее фамилии Буонарроти Симони было теперь обеспечено. В конце ноября папа Лев возвратился со своей виллы Ла Мальяна, где он охотился, и заболел от простуды. Первого декабря 1521 года первый папа из рода Медичи лежал в Ватикане уже мертвым. Микеланджело слушал заупокойную мессу в Соборе, стоя рядом с Граначчи и вспоминая годы, проведенные вместе с Джованни во дворце; он припомнил и первую большую охоту, которую устроил юный Джованни, его доброжелательность, когда он стал влиятельным кардиналом в Риме и оказывал Микеланджело свою поддержку. Микеланджело молился теперь за упокой его души. Потом он шепнул Граначчи: — Как ты думаешь, будет отпущена папе Льву на небесах хоть малая доля тех развлечений и удовольствий, какие он позволял себе в Ватикане? — Сомневаюсь. Господь Бог не захочет тратить столько денег. На улицах дул ледяной ветер трамонтана. Обогреть мастерскую было невозможно, хотя Микеланджело то и дело подкладывал в очаг дров. Теперь, когда папа Лев умер, проект часовни Медичи тоже обдували холодные и зловещие ветры. За верховенство в коллегии кардиналов в Риме боролось не меньше полудесятка группировок, пока в конце концов они не достигли некоего компромисса, избрав папой шестидесятидвухлетнего Адриана из Утрехта, практичного фламандца, который был наставником у Карла Пятого. Кардинал Джулио переселился из Рима во Флоренцию: папа Адриан был высоконравственным церковником и с осуждением смотрел на правление папы Льва, возлагая ответственность за многие его деяния на Джулио. Адриан старался изгладить кое-какие несправедливости и обласкать тех, кто был ущемлен или обижен покойным папой. Адриан начал с того, что вернул власть герцогу Урбинскому, и кончил тем, что, сочувственно выслушав жалобы наследников Ровере, позволил им возбудить судебное дело против Микеланджело Буонарроти за то, что тот не выполнил своего договора с родственниками папы Юлия. Шагая по улице к дому нотариуса Рафаэлло Убальдини, Микеланджело чувствовал, что его бьет нервная дрожь. Нотариус Убальдини лишь недавно вернулся в город после свидания с папой Адрианом. — На каком основании они хотят притянуть меня к суду? — возмущенно спрашивал Микеланджело нотариуса. — Ведь я не оставляю работы над гробницей. Убальдини был маленьким человечком с голубыми от бритья щеками, по-своему очень ревностный и серьезный. — Ровере утверждают, что вы не работаете, — ответил он. — Четыре «Пленника» стоят в моей мастерской… — Согласно последнему тексту договора вы должны закончить гробницу в мае этого года. Вы дали обязательство не браться ни за какие другие работы и все-таки взялись за сакристию Медичи. — Я сделал для сакристии лишь рисунки… Дайте мне еще год и… — Герцог Урбинский больше не верит вашим обещаниям. Ровере доказали папе Адриану, что с момента заключения договора прошло уже семнадцать лет, а вы еще не сделали ничего. Трясясь от ярости, Микеланджело крикнул: — А сказали они папе Адриану, что первый, кто помешал мне работать, был сам папа Юлий? Он отказал мне в деньгах на гробницу. Он вычеркнул из моей жизни пятнадцать месяцев, принудив меня отливать его бронзовую статую в Болонье. Сказали они папе, что Юлий загнал меня на потолок Систины и заставил четыре года его расписывать? — Тише, тише. Присядьте вот тут, у стола. Микеланджело спросил вдруг осипшим голосом: — Если папа Адриан поддерживает этот иск, значит я проиграл? — Возможно. — Чего они хотят от меня? — Во-первых, чтобы вы выплатили им все деньги. — Я выплачу. — Больше восьми тысяч дукатов. — Восемь тысяч дукатов!.. — Он подскочил, словно кожаное кресло под ним вдруг загорелось. — Но я брал всего три тысячи. — У них есть квитанции, расписки… Убальдини показал Микеланджело бумаги. Тот позеленел. — Две тысячи дукатов, которые мне выплатил Юлий перед своей кончиной, — это деньги за Систину! — Как вы это докажете? — …никак. — Выходит, суд обяжет вас заплатить в их пользу восемь тысяч дукатов и, кроме того, проценты за все эти годы. — Сколько же это будет? — Не более двадцати процентов. Ровере требуют также выплаты неустойки за невыполнение договора. Это может вылиться в любую сумму, которую суд сочтет нужным назначить. Папа Адриан не питает интереса к искусству, он подходит к этому спору с чисто деловой точки зрения. Микеланджело едва удерживал слезы, навертывавшиеся на глаза. — Что мне теперь делать? — прошептал он. — Все мои земельные участки и дома, вместе взятые, едва ли стоят десяти тысяч флоринов. Я буду банкротом. Все сбережения, скопленные за целую жизнь, пойдут прахом… — По правде говоря, не знаю, как и быть. Надо нам искать друзей при дворе. Людей, которые восхищены вашими работами и заступятся за вас перед папой Адрианом. А тем временем — если только я могу дать вам совет — вы должны заканчивать ваших четырех «Пленников» и везти их в Рим. Хорошо бы вам собрать все, что вы создали для надгробия Юлия, в одно место… Спотыкаясь, как слепой, Микеланджело вернулся к себе в мастерскую, — его сильно лихорадило и тошнило. Слухи о нависшей над ним катастрофе разошлись по всей Флоренции. К нему стали являться друзья: Граначчи и Рустичи предложили свои кошельки с золотом, кое-кто из семейств Строцци и Питти вызвался съездить в Рим похлопотать за него. Он был обложен, как зверь, со всех сторон. Наследники Юлия, собственно, и не интересовались деньгами, им надо было наказать Микеланджело за то, что он, не закончив гробницу Ровере, принялся за работу над фасадом и часовней Медичи. Когда в письме к Себастьяно Микеланджело высказал желание приехать в Рим и завершить гробницу, герцог Урбинский отверг это предложение. Он заявил: — Мы не хотим уже никакой гробницы. Мы хотим, чтобы Буонарроти явился в суд и подчинился его приговору. И Микеланджело понял тогда, что есть разные степени крушения. Три года назад, когда кардинал Джулио вызвал его из Пьетрасанты и приостановил работы над фасадом, он, Микеланджело, понес тяжелый урон, но все же он был в силах вновь взяться за резец, изваять «Воскресшего Христа» и начать «Четырех Пленников». Теперь он стоял перед истинной катастрофой; на сорок восьмом году жизни он будет лишен всего своего имущества и ославлен как человек не способный или не желающий исполнить заказ. Ровере постараются заклеймить его как вора, взявшего у них деньги и ничего не создавшего взамен. Ему придется жить без работы все то время, пока Адриан будет папой. Путь его как художника и человека будет закончен. Он бродил по окрестностям города, разговаривая сам с собой, кляня всяческие козни и интриги врагов, сетуя на жестокость слепой судьбы. Часто он не сознавал, где находится, — мысли его метались от одной фантастической идеи к другой: то он решал бежать в Турцию, куда его уже вторично звал его друг Томмазо ди Тольфо, то ему хотелось тайком уехать к французскому двору и начать там новую жизнь под чужим именем; он мечтал отомстить всем, кто его обижал и мучил, рисуя себе, как он жестоко с ними расправится, и произнося страстные речи, — у него были все признаки больного, страдавшего тяжелым душевным недугом. Он не мог спать по ночам и не мог сидеть за столом во время еды. Ноги несли его куда-нибудь в Пистойю или в Понтассиеве, а мысленно он находился в Риме или в Урбино, в Карраре или во дворце Медичи, бранясь, обвиняя, изобличая, нанося удары, не в силах забыть несправедливость и унижение или примириться с ними. Он смотрел, как убирают урожай, как на вымощенных камнем токах обмолачивают цепами пшеницу, как, срезают гроздья винограда и давят его на вино, как мечут в стога сено и укрывают его на зиму, как собирают оливы и обрезают деревья, листва которых постепенно становилась желтой. Он был вконец истощен, его рвало после еды, как в те дни, когда он вскрывал в монастыре Санто Спирито трупы. Снова и снова он спрашивал себя: «Как это случилось? Когда я стал таким одержимым, когда проникся такой любовью к мрамору и ваянию, любовью к своей работе? Когда я забыл все остальное на свете? Что со мной происходит? Когда я выбился из общего уклада жизни?» «Что за преступление я совершил, о Господи! — кричал он уже не про себя, а вслух. — Почему ты покинул меня? Зачем я иду по кругам Дантова Ада, если я еще не умер?» И, читая «Ад», он находил в нем строки, порождавшие у него такое ощущение, будто Данте создал эту книгу, чтобы описать его, Микеланджело, жизнь и участь:Он был подобен человеку, который перенес опаснейшую болезнь и уже смотрел в лицо смерти. Теперь он пришел к мысли, что все, что происходило с ним прежде, до нынешних дней, — все было восхождением вверх, а все, что происходит теперь, — это уже нисхождение, закат. Но если он не в силах управлять и распоряжаться своей судьбой, зачем он рожден? Ведь Господь Сикстинского плафона, простерший десницу к Адаму, чтобы зажечь в нем искру жизни, обещал своему прекрасному творению свободу как неотъемлемое условие существования. Микеланджело начал высекать свои аллегорические фигуры для капеллы как существа, которые тоже познали тяжесть и трагичность жизни, постигли ее пустоту, ее тщету. Деревенский люд говорил: «Жизнь дана, чтобы жить». Граначчи говорил: «Жизнь дана, чтобы ею наслаждаться». Микеланджело говорил: «Жизнь дана, чтобы работать». «Утро», «День», «Вечер» и «Ночь» говорили: «Жизнь дана, чтобы страдать». Давид Микеланджело был юным, он знал, что он одолеет самые трудные преграды и добьется всего, чего захочет; Моисей был мужем преклонных лет, но обладал такой внутренней силой, что мог сдвинуть горы и придать четкий облик целому народу. А эти новые создания, над которыми Микеланджело сейчас трудился, были овеяны печалью и состраданием, они как бы спрашивали человека о самом мучительном и неразрешимом: для чего, для какой цели призваны мы на землю? Для того только, чтобы прожить положенный срок? Чтобы пройти тот путь, который проходит каждый в беспрерывной чреде существований, передавая бремя жизни от одного поколения к другому? Раньше он заботился прежде всего о мраморе, о том, что он может из него высечь. Теперь его интерес был сосредоточен на чувствах людей, на том, как ему передать и выразить сокровенный смысл жизни. Раньше он обрабатывал мрамор, теперь он как бы сливался с ним. Он всегда стремился к тому, чтобы его статуи выражали нечто значительное, но и «Давид», и «Моисей», и «Оплакивание» — все это были отдельные вещи, замкнутые в себе. В часовне же Медичи он обрел возможность разработать в группе статуй одну объединяющую тему. Мысль, которую он вдохнет в изваяние, будет для него гораздо важнее, чем все его искусство, все мастерство работы. Шестого марта 1525 года Лодовико в своем доме устроил обед, чтобы в пятидесятый раз отпраздновать день рождения Микеланджело. Микеланджело проснулся в грустном настроении, но, сев за стол в окружении Лодовико, Буонаррото, жены Буонаррото и четверых его детей, братьев Джовансимоне и Сиджизмондо, он чувствовал себя почти счастливым. Он вступил в осень своей жизни: как и у природы, у человека есть свой круг времен. Разве осенний сбор урожая менее важен, чем сев зерен весною? Одно без другого теряет свой смысл.
3
Он рисовал, лепил и ваял, будто человек, который вырвался из стен темницы и которому оставалась одна-единственная радость — свобода выразить себя в пространстве. Время было его каменоломней: он извлекал из него, словно белые кристаллические глыбы, год за годом. Что иное мог он высечь в скалистых горах будущего? Деньги? Они не давались ему. Славу? Она обманывала его, расставляла коварные ловушки. Работа была его единственной наградой, другой награды не существовало. Творить из белого камня самые прекрасные изваяния, когда-либо существовавшие на земле и на небе, выразить в них всеобщую истину — вот плата и слава художника. Все остальное — мираж, обманчивый дым, тающий на горизонте. Папа Клемент назначил ему пожизненную пенсию в пятьдесят дукатов месяц, дал расположенный на площади у церкви Сан Лоренцо дом, пригодный для мастерской. Герцога Урбинского и других наследников Ровере от судебного иска вынудили отказаться. Теперь Микеланджело предстояло возвести Юлиеву гробницу, придвинув ее к стене, для этого у него были готовы все фигуры, за исключением статуи папы и Богоматери. Он отдал гробнице Юлия целых двадцать лет — и все словно для того, чтобы убедиться в пророческой правоте Якопо Галли. Обдумывая, как отделать капеллу, Микеланджело условился с семейством Тополино, чтобы оно помогло в работе, и в частности взялось за обтеску светлого камня для дверей, окон, коринфских колонн и архитравов, деливших стены на три яруса; гигантские пилястры нижнего пояса сменялись во втором ярусе колоннами с изящно выточенными каннелюрами, люнеты и падуги третьего яруса поддерживали купол. В куполе он старался соединить найденные человеческим разумом очертания флорентинского Собора и естественную луковицеобразную форму зрелого плода. Купол был несколько сжат — этого требовали уже возведенные стены, но Микеланджело был счастлив, обнаружив, что архитектура заключает в себе столько же скульптуры, сколько скульптура содержит архитектуры. Теперь Микеланджело не знал, куда деваться от заказов и предложений, — его просили придумать форму окон для дворцов, возвести гробницу в Болонье, виллу в Мантуе, высечь статую Андреа Дориа в Генуе, разработать фасад особняка в Риме, изваять Богородицу с архангелом Михаилом в церкви Сан Миниато. Даже папа Клемент предложил ему новый заказ, прося на этот раз построить библиотеку для манускриптов и книг семейства Медичи, — ее надо было поместить над старой сакристией Сан Лоренцо. Микеланджело набросал несколько черновых проектов библиотеки, рассчитывая применить для ее отделки тот же светлый камень. У Микеланджело появился новый ученик — юный Антонио Мини, племянник его друга Джована Баттисты Мини. Это был длиннолицый, с впалыми щеками подросток, глаза и рот на его узкой физиономии казались слишком круглыми, но фигура у парня была ладная и крепкая, а отношение к жизни самое безмятежное и ясное. Он был добросовестен, на него можно было положиться в работе над моделями, в копировании рисунков, в заготовке и оттачивании резцов, — словом, он оказался таким же преданным и рьяным помощником, каким был Арджиенто, только гораздо способнее. Поскольку у Микеланджело жила теперь служанка, монна Аньола, прибиравшая в мастерской на Виа Моцца, пылкий Мини проводил все свое свободное время вместе с другими юношами на ступенях Собора, наблюдая гулявших у Баптистерия девушек в платьях с низким вырезом и буфами на плечах. Джованни Спина, купец-ученый той благородной породы, к которой принадлежали Якопо Галли, Альдовранди и Сальвиати, был назначен папой Клементом наблюдать за работой Микеланджело и за строительством капеллы и библиотеки. Это был высокий, сутулый мужчина, очень зябкий — он кутался даже в теплую погоду, — лицо у него было умное, с миндалевидными узкими глазами. Придя в мастерскую к Микеланджело, он говорил: — В Риме при папском дворе я познакомился с Себастьяно. Он разрешил мне побывать в вашем доме на Мачелло деи Корви — посмотреть «Моисея». Я всегда поклонялся скульптурам Донателло. Теперь я скажу, что Донателло и вы — это отец и сын. — Не отец и сын, а дед и внук. Я наследник Бертольдо, а Бертольдо был наследником Донателло. Это все однатосканская родственная линия. Спина разгладил ладонями свои длинные, спадавшие на уши волосы. — Когда у папы не окажется во Флоренции денег, вы можете рассчитывать на меня. Я постараюсь их раздобыть… Спина подошел к четырем незаконченным «Пленникам», придирчиво оглядел их со всех сторон и с нескрываемым удивлением широко раскрыл свои миндалевидные глаза. — Этот Атлант, поднимающий тяжелую глыбу камня… Ведь он говорит нам, что каждый, у кого есть голова на плечах, несет на себе и всю тяжесть мира? Они присели на скамью, разговорившись об изваяниях делла Кверча в Болонье, о статуе Лаокоона. Спина спросил: — Ручеллаи не признают, что вы приходитесь им кузеном, не так ли? — Откуда вы знаете, что я родственник Ручеллаи? — Я изучал документы. Не хотите ли вы побывать в саду при дворце Ручеллаи, где мы устраиваем наши встречи? Мы — это все, что осталось от Платоновской академии. В четверг Никколо Макиавелли будет читать первую главу своей истории Флоренции, которую он пишет по заказу Синьории. В часовне, которая была далеко еще не закончена, Микеланджело работал над блоками Утра, Вечера, Богоматери и молодого Лоренцо. Теплыми осенними вечерами, сидя у открытой двери, выходившей на дворик его мастерской, он лепил глиняные модели Речных Божеств, олицетворявших страдания, — эти божества он предполагал поместить у подножия статуй юных Медичи. Когда наступала темнота, он, усталый от работы, ложился в постель и с открытыми глазами слушал, как колокола ближних церквей отбивают ночные часы. Он видел перед собой нежное лицо Контессины, слушал особенный ее голос и в то же время ощущал рядом с собой горячее тело Клариссы, — прижимаясь к ней, он крепко обхватывал ее руками; два эти образа, будто в странном сне, сливалась теперь воедино, превращаясь в неведомую возлюбленную. Он спрашивал себя, будет ли еще когда-нибудь у него любовь, как это произойдет, кто ему встретится. Он поднимался, хватал лист бумаги, где были перечеркнутые крест-накрест фигуры «Утра» и «Вечера», наброски рук, ног, бедер, грудей, и до утра писал стихи, изливая в них накипевшие у него чувства.ГОРНИЛО ЛЮБВИ
Когда Медичи снова оказались на папском троне, Баччио Бандинелли получил от них заказ изваять «Геракла»: скульптуру предполагали установить напротив дворца Синьории. Это был тот самый заказ, с которым семнадцать лет назад гонфалоньер Содерини обращался к Микеланджело. Как-то раз, зная, что эти разговоры о Бандинелли огорчают Микеланджело, Мини с криком ворвался в мастерскую, пробежав без передышки не один квартал. — Только что привезли блок «Геракла»… и он свалился в Арно! Люди на берегу говорят, что мрамор сам затонул, только бы не попасть в руки к Бандинелли! Микеланджело расхохотался и в ту же минуту начал очередную серию ударов, ведя жало резца от чашечки колена «Вечера» к паху. На следующее утро один приехавший из Рима каноник доставил ему известие от папы. — Буонарроти, вы помните угол лоджии в Садах Медичи, напротив которого стоит дом Луиджи делла Стуфы? Папа спрашивает, не можете ли вы воздвигнуть там «Колосса» в двенадцать сажен вышины? — Восхитительная мысль, — саркастически ответил Микеланджело. — Только «Колосс», пожалуй, слишком загромоздит улицу. Почему бы не поставить его на том углу, где находится цирюльня? Статую можно сделать пустотелой и нижний ее этаж сдать цирюльнику. Тогда и он был бы не внакладе. В четверг вечером Микеланджело пошел во дворец Ручеллаи послушать, как будет читать Макиавелли свою «Мандрагору». Все, кто собирался в этом кружке, были настроены по отношению к папе Клементу резко враждебно: его называли здесь Мулом, Выродком, Отребьем Медичи. Платоновская академия являлась центром заговора, ставившего целью восстановление республики. Ненависть к Клементу разгоралась еще и потому, что во дворце жили два подростка, незаконные Медичи, которых воспитывали как будущих правителей Флоренции. — Какой же ужасный позор падет на наши головы, — возмущался Строцци, когда заговорили о сыне Клемента. — Чтобы нами управлял даже не сам Мул, а его отродье! Микеланджело не раз слышал, что Клемент фактически укреплял позиции антимедической партии, совершая в своей политике ошибки, которые можно было назвать роковыми и которые были бы непростительны даже для папы Льва. В беспрерывных войнах между соседними народами он неизменно поддерживал не ту сторону, какую следовало поддерживать; армию его союзников французов разбил император Священной Римской империи, дружественные предложения которого Клемент отверг, между тем как, говоря по-правде, Клемент менял союзников столь часто, что уже ни Микеланджело, ни вся Европа не могла уследить за его увертками и интригами. В Германии и Голландии тысячи верующих, отпадая от католицизма, поддерживали Реформацию, а папа Клемент решительно ее отвергал, хотя Мартин Лютер еще в 1517 году прибил к дверям замковой церкви в Виттенберге свои знаменитые девяносто пять тезисов. — Я нахожусь в очень неловком положении, — говорил Микеланджело Спине, когда они сели за стол, чтобы поужинать жареным голубем, приготовленным монной Аньолой. — Я хочу восстановления республики, а работаю на Медичи. Вся судьба часовни зависит от доброй воли папы Клемента. Если я примкну к противникам Медичи и мы добьемся их изгнания, что тогда будет с моими статуями? — Искусство есть высшее выражение свободы, — отвечал Джованни Спина. — Пусть политикой занимаются другие. Микеланджело заперся в капелле и с головой ушел в работу над мраморами. Пассерини, он же кардинал Кортоны, правил Флоренцией как самодержец. Будучи чужаком, он не любил Флоренции — не любил ее, кажется, и Клемент, ибо кто как не Клемент отверг все призывы Синьории и старинных флорентинских фамилий убрать кардинала: город считал его человеком грубым и жадным, он помыкал выборными советниками Флоренции и разорял ее жителей непосильными податями. Флорентинцы выжидали лишь удобного момента, чтобы восстать, взять в руки оружие и снова изгнать Медичи из города. Когда тридцатитысячная армия Священной Римской империи, идя на юг и готовясь занять Рим, чтобы наказать папу Клемента, подступила к Болонье, намереваясь затем двинуться на Флоренцию, город восстал. Огромные толпы штурмовали дворец Медичи и требовали оружия для защиты от врага. — Оружие! Дайте народу оружие! Кардинал Кортоны появился в верхнем окне дворца и обещал выдать оружие. Но когда он узнал, что войска папы под командованием вечного преследователя Микеланджело герцога Урбинского уже приближаются к Флоренции, он пренебрег обещанием и, прихватив с собой двух молодых Медичи, бежал из города к герцогу. Вскоре Микеланджело был уже вместе с Граначчи и его друзьями во дворце Синьории. Толпа, заполнявшая площадь, кричала: — Popolo! Libertà! Народ! Свобода! Охранявшая Синьорию флорентинская стража даже не пыталась препятствовать комитету горожан войти в правительственный дворец. В Большом зале состоялось собрание. Затем Никколо Каппони, отец которого когда-то возглавлял движение против Пьеро де Медичи, вышел на балкон и объявил: — Флорентинская республика восстановлена! Медичи изгнаны! Всем гражданам необходимо вооружиться и сойтись на площади Синьории! Кардинал Кортоны вернулся во Флоренцию, приведя с собой тысячу кавалеристов герцога Урбинского. Партия Медичи открыла им ворота города. Комитет, заседавший внутри дворца Синьории, наглухо запер двери. Кавалеристы герцога Урбинского штурмовали их с длинными пиками в руках. Из окон здания, с зубчатого парапета на головы герцогских солдат полетело все, что только можно было кинуть: конторки, столы, кресла, посуда, громоздкие доспехи. Тяжелая скамья, со свистом рассекая воздух, летела с парапета. Микеланджело видел, что она падает прямо на статую Давида. — Берегись! — завопил он, как будто статуя могла уклониться от удара. Но было уже поздно. Скамья ударилась об изваяние. Левая рука Давида, державшая пращу, отвалилась по локоть. Она упала на каменья площади и раскололась. Толпа отхлынула назад. Солдаты стали озираться вокруг, выжидая, что же будет дальше. Всякое движение в окнах и за парапетом Синьории замерло. Люди на площади смолкли. Не сознавая того, что он делает, Микеланджело рванулся к статуе. Толпа расступалась перед ним, люди негромко говорили друг другу. — Это Микеланджело. Дайте ему пройти. Он стоял перед «Давидом», глядя в его полное мысли и решимости прекрасное лицо. Голиаф даже не поцарапал Давида, не нанес ему никакого вреда, а гражданская война во Флоренции чуть не разбила его вдребезги, промахнувшись лишь на один дюйм. Рука у Микеланджело ныла, словно она тоже была оторвана. Из толпы выскочили два юнца — Джорджо Вазари, ученик Микеланджело, и Чеккино Росси. Они подбежали к «Давиду», собрали обломки его руки — три бесформенных куска мрамора — и скрылись в узкой боковой улочке. В мертвой тишине ночи кто-то пальцами забарабанил в дверь Микеланджело. Он отпер ее, впустив Вазари и Чеккино. Они заговорили, перебивая друг друга: — Синьор Буонарроти… — …мы спрятали три осколка… — …в сундуке в доме отца Росси. — Они спасены. Микеланджело смотрел на два сияющих юных лица и думал: — Спасены? Разве можно что-либо спасти в этом мире войны и хаоса?
4
Войско императора Священной Римской империи докатилось до Рима и проломило стены города. Разношерстные орды солдат-наемников заполнили Рим, вынудив папу Клемента перебраться по переходу в крепость Святого Ангела и укрыться там пленником, в то время как немецкие, испанские и итальянские отряды грабили, жгли, опустошали Рим, уничтожая священные произведения искусства, разбивая в куски алтари, мраморные изваяния девы Марии, пророков, святых, отливая из бронзовых статуй пушки, добывая из цветных стекол свинец, разводя на мраморных ватиканских полах костры, выкалывая глаза на портретах. Статую папы Клемента вытащили на улицу и разбили. — Что там творится с моим «Оплакиванием»? С плафоном Систины? — стонал Микеланджело. — Уцелела ли моя мастерская? «Моисей» и два «Раба»? Или от них остались одни осколки? Спина пришел уже поздно ночью. Весь день он провел на шумных сборищах и собраниях то во дворце Медичи, то в Синьории. Кроме небольшого кружка закоренелых сторонников Медичи, весь город был полон решимости свергнуть их власть. Поскольку папа Клемент был в Риме как бы под арестом, Флоренция могла вновь объявить себя республикой. Ипполито, Алессандро и кардинала Кортоны было решено выпустить из города с миром. — Теперь, — раздумчиво заключил Спина, — будет положен конец правлению Медичи на долгие времена. Микеланджело несколько минут не произносил ни слова. — А новая сакристия? Спина опустил голову. — Ее… ее закроют. — Медичи надо мной — как кара! — вскричал Микеланджело, не сдержав своей муки. — Сколько уж лет я работаю на Льва и Клемента, а посмотреть — что у меня сделано? Шесть вчерне обработанных блоков, не законченный интерьер часовни… Клемент сейчас в плену, и Ровере напустятся на меня снова… Он тяжело опустился на скамью. — Я буду рекомендовать тебя на службу республике, — мягко сказал Спина. — Теперь, после нашей победы, мы можем убедить Синьорию, что часовня посвящена памяти Лоренцо Великолепного, а его чтут все тосканцы. И тогда мы добьемся разрешения отпереть часовню и вновь начать в ней работу. Микеланджело оставил дом на площади Сан Лоренцо со всеми сделанными там рисунками и глиняными моделями, засел в мастерской на Виа Моцца и отдался работе над едва начатым блоком «Победы», который входил в его первоначальный замысел гробницы Юлия. «Победа» возникла у него в образе прекрасного, стройного, как древний грек, юноши, хотя и не столь мускулистого, как прежние его мраморные изваяния. Руки Микеланджело энергично работали, его резцы вгрызались в податливый камень, но скоро он почувствовал, что в мыслях у него нет того лада и собранности, какие требуются для работы. Вот он высекает «Победу». Победу над кем? Над чем? Если он не знает, кто Победитель, как он может сказать, кто Побежденный? Под ногами у Победителя он изваял лицо и голову Побежденного — старого, раздавленного бедой человека… самого себя? Так он, наверное, будет выглядеть лет через десять или двадцать — с длинной седой бородой. Что же сокрушило его? Годы? Неужто Победитель — это Юность, ибо только в юности человек способен вообразить, будто можно стать Победителем? Во всех чертах Побежденного чувствовался жизненный опыт, и мудрость, и страдание — и все же он был попираем, оказавшись у ног юноши. Не так ли во все века попираются мудрость и опыт? Не сокрушает ли их время, олицетворенное в юности? За стенами его мастерской, во Флоренции, восторжествовала республика. Гонфалоньером был избран Никколо Каппони правивший в традициях Содерини. Для защиты республики город принял революционный план Макиавелли: создать ополчение, призвав в него специально обученных и вооруженных горожан, дать им все необходимое, чтобы отразить неприятеля. Наряду с Синьорией Флоренцией правил Совет Восьмидесяти, в котором были представлены старинные роды. Торговля процветала, город благоденствовал, народ был счастлив, вновь обретя свободу. Мало кто задумывался над тем, что происходит с папой Клементом, все еще сидевшим в заточении в замке Святого Ангела, который защищали немногие его приспешники, в том числе Бенвенуто Челлини, молодой скульптор, отказавшийся идти в ученики к Торриджани. Но Микеланджело был жизненно заинтересован в судьбе папы Клемента. Целых четыре года любовной работы отдал он часовне Медичи. Теперь она была заперта и опечатана, и в ней стояли четыре частично законченных блока, с которыми Микеланджело связывал все свое будущее. Он пристально следил за участью узника замка Святого Ангела. Папа Клемент подвергался опасности с двух сторон. Католическая церковь распадалась в это время на церкви национальные, власть Рима постепенно слабела. Дело было не только в том, что в значительной части Европы восторжествовали лютеране. Английский кардинал Уолси предложил созвать во Франции совет независимых кардиналов и положить основы нового управления церковью. Итальянские кардиналы собрались в Парме и хотели установить свою собственную иерархию, а французские кардиналы уже самостоятельно назначали папских викариев. Немецкие и испанские отряды Карла, стоявшие в Риме, все еще бесчинствовали, грабили, крушили, требуя за свой уход большой выкуп. Сидя в замке Святого Ангела, Клемент пытался собрать требуемые деньги и был вынужден выдать в руки врага нескольких заложников: Якопо Сальвиати с позором протащили по улицам и едва не повесили. Время шло, каждый месяц приносил новые события — всюду желали переустройств, старались поставить нового папу или учредить совет, жаждали решительной реформы. В конце 1527 года в делах наступил крутой поворот. Моровая язва скосила в войсках императора Священной Римской империи каждого десятого человека. Немецкие солдаты ненавидели Рим и страстно мечтали о возвращении на родину. Для борьбы со Священной Римской империей в Италию вторглась французская армия. Клемент дал обязательство выплатить захватчикам в трехмесячный срок триста тысяч дукатов. Испанские отряды отошли от замка Святого Ангела… и после семи месяцев заточения папа Клемент, переодетый купцом, бежал из Рима в Орвието. Микеланджело тотчас получил от него весть. Продолжает ли он трудиться на папу? Не оставил ли он своего плана украсить новую сакристию скульптурой? Если Микеланджело будет по-прежнему работать, то папа Клемент перешлет с нарочным имеющиеся у него пять сотен дукатов для того, чтобы Микеланджело мог оплатить свои неотложные расходы. Микеланджело был глубоко тронут. Ведь, оказавшись в столь тяжелом положении, без денег, без помощников и сторонников, не видя прямой возможности вновь овладеть властью, папа согрел его словом участия, проявил к нему доверие, как будто Микеланджело был членом его семьи. — Я не могу брать деньги у Джулио, — говорил Микеланджело Спине, когда они обсуждали свои дела на Виа Моцца. — Но разве мне нельзя хоть немного поработать в часовне? Я бы ходил туда тайком, по ночам. Ведь это не принесет вреда Флоренции… — Потерпи. Выжди хотя бы год или два. Совет Восьмидесяти очень обеспокоен, он не знает, что предпримет против нас папа Клемент. Если ты начнешь работать в капелле, Совет будет считать это изменой. С наступлением теплой погоды чума ворвалась и во Флоренцию. У тех, кто заболевал, ужасно ломило голову, ныли поясница, руки и ноги, их мучил жар, скоро начиналась рвота, на третий день больной погибал. Если человек умирал на улице, к трупу его не прикасались, родственники тех, кого смерть настигала дома, сразу же покидали жилище. Флорентинцы гибли тысячами. Город напоминал огромную покойницкую. Буонаррото позвал Микеланджело домой на Виа Гибеллина. — Микеланджело, я боюсь за Бартоломею и детей. Можно нам переехать в наш дом в Сеттиньяно? Там мы были бы в безопасности. — Ну разумеется, можно. Возьми с собой и отца. — Я не поеду, — заявил Лодовико. — Когда человеку под восемьдесят, имеет он право умереть в собственной постели? Рок поджидал Буонаррото в Сеттиньяно, в той самой комнате, где он родился. Когда Микеланджело примчался туда, Буонаррото лежал уже в бреду, язык у него распух и был покрыт сухим желтоватым налетом. За день до того Джовансимоне увез жену и детей Буонаррото в другое место. Слуги и работавшие при доме крестьяне разбежались. Микеланджело пододвинул к кровати брата кресло и глядел на него, дивясь в душе, как они с Буонаррото до сих пор еще похожи друг на друга. При виде брата в глазах Буонаррото зажглась тревога. — Микеланджело… сейчас же уходи… тут чума. Микеланджело вытер запекшиеся губы брата влажной тряпкой, тихо сказал: — Я тебя не брошу. Ты один из всей нашей семьи по-настоящему любил меня. — Я всегда тебя любил… Но я был тебе… в тягость. Прости меня. — Мне нечего тебе прощать, Буонаррото. Если бы ты был со мной рядом все эти годы, мне было бы гораздо легче. Напрягая последние силы, Буонаррото улыбнулся. — Микеланджело… ты был всегда… хорошим. На закате Буонаррото стал отходить. Обхватив его левой рукой, Микеланджело положил голову брата себе на грудь. Буонаррото пришел в сознание только однажды, увидел перед глазами лицо Микеланджело. Врезанные мукой морщины на лбу разгладились, по лицу разлилось умиротворение. Через несколько минут он скончался. Завернув тело брата в одеяло, Микеланджело отнес его на кладбище за церковью. Гробов при церкви не было, не было и могильщиков. Он выкопал могилу, положил в нее Буонаррото, позвал священника, постоял молча, пока тот обрызгал покойного святой водой и благословил, затем стал кидать лопатой в могилу землю и засыпал ее доверху. Он вернулся на Виа Моцца, сжег во дворе свою одежду и тщательно вымылся, налив в деревянный ушат такой горячей воды, какую только мог выдержать. Он не знал, поможет ли это против чумы, и не очень об этом заботился. Скоро ему дали знать, что Симоне, его старший племянник, тоже заразился чумой и умер. Микеланджело думал: «Может быть и хорошо, что Буонаррото скончался первым и не узнает об этом?» Если он уже заразился сам, то, чтобы привести свои дела в порядок, у него оставались в запасе считанные часы. Микеланджело спешно составил документ, по которому жене Буонаррото возвращалось все ее приданое; она была еще достаточно молода, чтобы вновь выйти замуж, и это имущество могло ей понадобиться. Он позаботился о том, чтобы Чекка, его одиннадцатилетняя племянница, была помещена в женский монастырь Больдроне, и завещал на ее содержание в монастыре доходы от двух своих усадеб. Он выделил средства и на воспитание своих племянников Лионардо и маленького Буонарротино. Когда в запертую дверь мастерской постучался Граначчи, Микеланджело крикнул: — Уходи отсюда сейчас же. Я хоронил брата. Наверняка я заразный. — Перестань дурить, ты чересчур сварлив, чтобы свалиться так просто. Отворяй двери, я принес бутылку кьянти, мы будем отвращать злых духов. — Граначчи, иди домой и выпей эту бутылку без меня. Я не хочу быть причиной твоей смерти. Может, если мы останемся в живых, ты еще напишешь хотя бы одну хорошую картину. — Этим меня не прельстишь, — рассмеялся Граначчи. — Ну, ладно, если ты будешь завтра утром жив, приходи кончать свою половину бутылки. Чума отступила. Люди стали понемногу съезжаться обратно в город, покидая свои убежища в окрестных холмах. Вновь открывались лавки. Синьория тоже вернулась в город. На одном из первых заседаний она решила поручить Микеланджело Буонарроти изваять «Геракла» — того самого «Геракла», о котором двадцать лет назад говорил с Микеланджело Содерини. Блок, привезенный для Бандинелли и вчерне обтесанный им, передавался теперь Микеланджело. И снова в дело вмешался папа Клемент. Заключив союз с императором Священной Римской империи и вернувшись в Ватикан, он восстановил свою власть над предавшими его итальянскими, французскими, английскими кардиналами, сформировал армию, составленную из отрядов герцога Урбинского, отрядов Колонны, испанских войск. Он направил эту армию против независимой Флоренции, желая уничтожить республику, наказать врагов Медичи и восстановить власть своего семейства в городе. Как оказалось, Спина недооценивал папу Клемента и Медичи. Микеланджело вызвали в Синьорию; окруженный членами Совета гонфалоньер Каппони сидел за тем самым столом, за которым некогда сидел Содерини. — Поскольку ты скульптор, Буонарроти, — стремительно, без обиняков начал Каппони, — мы считаем, что ты можешь стать также и инженером по оборонительным сооружениям. Нам нужны стены, которые не одолеет и не пробьет никакой враг. И поскольку стены строятся из камня, а твое дело — камень… У Микеланджело перехватило дыхание. Теперь его и впрямь вовлекают в свои действия обе воюющие стороны! — Займись как следует южной линией города. С севера мы неприступны. Докладывай нам обо всем, что тебе покажется важным, не теряя ни минуты. Микеланджело объехал и осмотрел несколько верст стены, начиная от холма, где стояла церковь Сан Миниато. Виясь, как змея, стена шла с востока на запад, а затем поворачивала прямо к реке Арно. И сама стена, и оборонительные башни оказались в довольно скверном состоянии; помимо того, вдоль стен надо было еще вырыть рвы и траншеи, чтобы затруднить неприятелю подступы к городу. Камень на стенах местами обвалился, кладка из плохого кирпича выщербилась; для того чтобы стрелять из пушек на дальнее расстояние, надо было возводить более высокие, чем обычно, башни. Узлом обороны явно должна была стать колокольня церкви Сан Миниато — с этой высокой позиции можно было обороняться, господствуя над большей частью территории, по которой пойдут на приступ силы врага. Явившись в Синьорию, Микеланджело объяснил гонфалоньеру Каппони, сколько требуется собрать каменотесов, кирпичников, возчиков, землекопов, чернорабочих и каким образом придется чинить и укреплять стены. Гонфалоньер нетерпеливо заметил: — Только не трогай Сан Миниато. Укреплять эту церковь нет необходимости. — Напротив, ваша милость, ее следует укрепить в первую очередь. Если посмотреть на дело с точки зрения неприятеля, то ему нет нужды ломиться прямо сквозь стены. Враг должен будет наступать на нас с фланга именно там, к востоку от холма Сан Миниато. Микеланджело удалось доказать, что план его был лучшим из возможных. Теперь он заставил работать всех, кого только мог: Граначчи, Общество Горшка, каменотесов Собора. Он обходил знакомые места, где некогда выискивал для рисунка или статуи то характерную физиономию, то мускулистую, сильную руку, то удлиненную, бронзовую от загара шею, и набирал каменщиков, кирпичников, плотников, механиков, камнеломов и каменотесов Майано и Прато — их надо было расставить на места, чтобы преградить дорогу войне. Работы требовалось вести в спешном порядке: как передавали, войска папы надвигались на Флоренцию с нескольких сторон — городу предстояло отражать натиск грозного скопища опытных, хорошо вооруженных воинов. Для перевозки материалов Микеланджело пришлось прокладывать дорогу от Арно, укреплять бастионы, начиная с башни, которая стояла за церковной оградой Сан Миниато, ближе к Сан Джордже, — именно здесь надо было прикрыть жизненно важный для обороны холм, возведя высокие стены. Для стен требовался кирпич: его торопливо делали из битой глины, смешанной с паклей и коровьим навозом; сотня каменщиков, набранных из крестьян, разделившись на артели, тут же пускала этот кирпич в дело. Каменотесы рубили и обтесывали камень, латая в стенах трещины, выкладывая новые ярусы башен, возводя новые пролеты в наиболее уязвимых местах. Когда первая очередь работ была закончена, Синьория устроила инспекционный смотр. На следующее утро, войдя в угловую палату гонфалоньера, откуда была видна вся площадь Синьории и широкая даль флорентинских кровель, Микеланджело заметил, что на него смотрят особо приветливо. — Микеланджело, ты избран в руководство нашего ополчения, в Девятку Обороны, как главный начальник фортификаций. — Это большая честь для меня, гонфалоньер. — И еще бóльшая ответственность. Мы хотим направить тебя в Пизу и в Ливорно — надо проверить, надежна ли там наша оборона с моря. Он уже не думал больше о скульптуре. Он не кричал: «Война — это не мое ремесло!» Ему приходилось теперь заниматься особым делом. К нему взывала — в минуту острейшей опасности — Флоренция. Он никогда не представлял себя в роли командира, распорядителя, но сейчас он убедился, что расчеты и выкладки, к которым приходилось прибегать в скульптуре, научили его согласовывать друг с другом отдельные части, объединять их в целое и добиваться нужного результата. Он даже сожалел сейчас, что ему не хватает того дара изобретать машины и механизмы, каким обладал покойный Леонардо да Винчи. Возвратившись из Пизы и Ливорно, он начал систему глубоких, как рвы у старинных замков, траншей; вырытая при этой работе земля и щебень шли на постройку заграждений. Затем Микеланджело получил себе право снести все дома и строения, которые находились на полосе земли шириной в полторы версты, разделявшей оборонительные стены и холмы с южной стороны: именно отсюда и должна была наступать папская армия. Пустив в ход тараны того устройства, какие применялись еще в древности, ополченцы начали разбивать крестьянские жилища и амбары. Крестьяне сами помогали сносить с лица земли дома, в которых жили их отцы и деды уже сотни лет. Протестовали против разрушения своих вилл богачи, и Микеланджело в душе понимал, что они протестуют не без основания, — виллы эти были очень красивы. Пришлось снести и несколько мелких храмов: лишь редкие ополченцы соглашались принять участие в этой работе. Когда Микеланджело вошел в трапезную церкви Сан Сальви и увидел на полуразрушенной уже стене сияющую бесподобными красками «Тайную Вечерю» Андреа дель Сарто, он закричал: — Оставьте эту стену как есть! Столь прекрасное произведение искусства уничтожать нельзя. Разрушительная работа около оборонительного пояса стен была едва кончена, как Микеланджело стало известно, что кто-то проник в его мастерскую на Виа Моцца и обшарил там все углы. Модели были сброшены на пол, папки с рисунками и чертежами раскиданы в страшном беспорядке, многие из них пропали; были похищены и четыре восковых модели. Оглядывая пол, Микеланджело заметил, что там, в груде бумаг, валяется какой-то металлический предмет. Это был резец того типа, каким работали ювелиры и резчики по металлу. Микеланджело пошел к своему приятелю Пилото, хорошо знавшему всех ювелиров. — Ты не признаешь, чей это резец? — Ну как не признать! Это резец Бандинелли. Рисунки и модели были возвращены — их подбросили в мастерскую тайком; Микеланджело велел теперь Мини следить, чтобы мастерская постоянно охранялась. По поручению Синьории Микеланджело поехал в Феррару, осматривать вновь возведенные герцогом Феррарским укрепления. В письме, которое он вез с собой, говорилось:«Мы направляем нашего прославленного Микеланджело Буонарроти, человека, как вы знаете, редких дарований, по важному делу, которое он объяснит вам устно. Мы горячо желаем, чтобы вы приняли его как персону весьма нами уважаемую и обошлись с ним, как того требуют его заслуги».Герцог Феррарский, просвещенный человек из рода Эсте, очень любивший живопись, скульптуру, поэзию, театр, уговаривал Микеланджело остановиться и быть гостем в его дворце. Микеланджело учтиво отклонил это предложение и стал жить в гостинице, где он был вскоре обрадован шумной встречей с Арджиенто, который привез сюда девять своих отпрысков, чтобы они поцеловали руку его прежнего хозяина. — Ну, Арджиенто, ты, как видно, стал заправским хлебопашцем. Арджиенто скорчил гримасу: — Нет, не совсем. Земля все равно рожает, как ее ни обработай. А главный мой урожай — дети! — А мой урожай, Арджиенто, — пока все еще одни волнения. Когда Микеланджело благодарил герцога за то, что тот раскрыл ему все секреты крепостных сооружений, герцог сказал: — Напиши мне картину, Микеланджело. Вот тогда ты меня поистине отблагодаришь. Микеланджело криво усмехнулся: — О живописи не стоит и думать, пока не кончится война. Приехав домой, Микеланджело узнал, что из Перуджии был вызван во Флоренцию военачальник Малатеста и что он уже успел получить назначение, став одним из командующих обороной города. Малатеста сразу же разбранил план Микеланджело, предлагавшего строить по примеру феррарцев каменные контрфорсы для стен. — Нам и так мешает вся эта возня со стенами. Уберите ваших землекопов и крестьян прочь, мои солдаты сами прекрасно знают, как защищать Флоренцию! — Тон у Малатесты был ледяной, весь его вид таил что-то недоброе. В ту ночь Микеланджело бродил у подножия своих бастионов и придирчиво оглядывал их. Вдруг он наткнулся на восемь пушек, переданных Малатесте для обороны стены Сан Миниато. Пушкам надлежало быть внутри укреплений или за парапетами, а они стояли около стен, ничем не укрытые, не охраняемые. Микеланджело бросился будить военачальника. — Зачем вы оставили пушки снаружи? Ведь мы берегли их как зеницу ока. А тут их может украсть или попортить любой бродяга. — Вы кто — командующий флорентинской армией? — спросил Малатеста, побагровев от злости. — Нет, но я отвечаю за оборону стен. — В таком случае лепите из навоза свои кирпичи и не указывайте солдатам, что делать с пушками. Вернувшись в Сан Миниато, Микеланджело встретил другого военачальника, Марио Орсини. — Что случилось, мой друг? — удивился Орсини. — Лицо у вас прямо пылает. Микеланджело рассказал, что случилось. Когда он смолк, Орсини грустно заметил: — Вы, должно быть, знаете, что все мужчины в роду Малатесты — предатели. Придет время, он предаст и Флоренцию. — Вы говорили об этом в Синьории? — Я всего лишь наемный воин, как и Малатеста, я не флорентинец. Утром Микеланджело уже сидел в Большом зале дворца, ожидая, когда его пропустят в палату гонфалоньера. Однако слова Микеланджело не произвели на членов Синьории никакого впечатления. — Оставь наших командиров в покое. Делай свое дело, укрепляй стены. Они должны быть неприступны. — Зачем вообще укреплять стены, если их обороняет Малатеста! — Наверное, ты очень устал. Тебе надо немного отдохнуть. Он возвратился в Сан Миниато и, продолжая работать под жарким сентябрьским солнцем, все же не мог подавить своих тревожных мыслей о Малатесте. Ото всех, с кем бы он ни заговаривал, Микеланджело слышал о нем самое дурное: Малатеста без боя сдал Перуджию; отряды Малатесты не стали сражаться с войсками папы под Ареццо; когда папская армия подойдет к Флоренции, Малатеста сдаст город… Мысленно Микеланджело снова и снова шел в Синьорию и умолял гонфалоньера отстранить Малатесту; он уже словно видел воочию, как Малатеста открывает ворота навстречу войскам папы к весь его, Микеланджело, труд по укреплению стен и бастионов летит к черту. Но стоит ли обращаться к гонфалоньеру Каппони? Тот ли это человек, которого надо умолять? Не повторится ли сейчас история с папой Юлием и стенами собора Святого Петра, которые строились из тощего бетона и неизбежно должны были рухнуть?.. Ведь Малатеста сказал: «Вы кто — командующий армией?» А разве папа Юлий не спрашивал его: «Ты что, архитектор?» Микеланджело волновался все больше и больше. Он уже представлял себе, как войска папы разрушают Флоренцию, подвергая ее той же участи, что и Рим, как пьяные солдаты грабят дома и уничтожают произведения искусства. Он не спал ни минуты в течение нескольких суток подряд, забывал о еде и уже не следил за тем, как работают его артели каменщиков. Всюду он ловил настораживающие его словечки и фразы и убеждался в том, что Малатеста собрал на южной стене своих приспешников и плетет нити заговора, собираясь сдать Флоренцию врагу. Шесть дней и ночей метался Микеланджело, не находя себе места. Взбудораженный, не помня о пище и отдыхе, он весь был во власти дурных предчувствий. Как-то среди ночи, расхаживая по крепостному парапету, услышал он голос. Он мгновенно повернулся, будто к нему прикоснулись раскаленным железом. — Кто ты? — Друг. — Что ты хочешь? — Спасти твою жизнь. — Разве она в опасности? — В смертельной. — Из-за войск папы? — Из-за Малатесты. — Что он собирается сделать? — Убить тебя. — За что? — За разоблачение его предательства. — Но мне никто не верит. — Твой труп будет найден у бастиона. — Но я в силах защитить себя. — В таком-то тумане? — Что же мне делать? — Бежать. — Но это измена. — Это лучше, чем быть мертвым. — Когда я должен бежать? — Сейчас. — Но ведь я здесь на посту. — У тебя не будет больше ни минуты времени. — Как я объясню все это? — Спеши. — Но мои каменщики… стены… — Скорее! Скорее! Он спустился с парапета, пересек Арно, потом пошел в обратном направлении к Виа Моцца. Фигуры прохожих смутно выступали в густом тумане, то будто лишенные головы, то рук и ног, словно грубо обтесанные мраморные блоки. Он велел Мини быстро уложить одежду и деньги в седельные сумки. Скоро он был уже на лошади, Мини сел на другую. Когда они приближались к воротам Прато, их спросили, кто едет. Стража кричала: — Это Микеланджело, из Девятки Обороны. Дать ему дорогу! Он скакал, желая скрыться в Болонье, в Ферраре, в Венеции, во Франции… живой, невредимый. Семь недель спустя он вернулся во Флоренцию — униженный, опальный, утративший всякое доверие. Синьория оштрафовала его и изгнала из Совета на три года. Но поскольку папские войска силой в тридцать тысяч стояли теперь лагерем на холмах под укрепленными Микеланджело южными стенами, командование вновь направило его на прежний служебный пост. Благодарить за такую милость Микеланджело должен был Граначчи. Когда Синьория объявила Микеланджело, как и других флорентинцев, бежавших из города, вне закона, Граначчи выхлопотал ему временное прощение и послал Бастиано, который помогал Микеланджело в укреплении стен, за ним вдогонку. — Должен сказать, — сурово выговаривал ему Граначчи, — что Синьория проявила чрезвычайную снисходительность. Ведь ты вернулся уже через пять полных недель после того, как был принят закон об изгнании мятежников, и мог потерять все свое имущество в Тоскане, да и голову в придачу. Внук Фичино поплатился жизнью только за то, что утверждал, будто у Медичи больше прав на власть во Флоренции, чем у кого-либо другого, так как они сделали для города много полезного. Ты поступил бы гораздо умней, если бы запасся одеялом и пищей и просидел в церкви Сан Миниато всю осаду, пусть даже целый год… — Не беспокойся, Граначчи, второй раз я таким глупцом уже не буду. — И что тебе тогда взбрело на ум? — Я слышал голос. — Голос? Чей? — Да свой собственный. Граначчи ухмыльнулся. — Когда я хлопотал за тебя, мне очень помогли слухи, будто ты был принят при венецианском дворе и дож предложил тебе построить мост в Риальто. Говорили еще, что французский посланник старался заманить тебя ко французскому двору. Синьория пришла к убеждению, что ты идиот, — а разве это неправда? — но что ты великий художник, против чего я тоже не спорю. Флорентинцы едва ли были бы довольны, поселись ты в Венеции или в Париже. Выходит, тебе надо благодарить свою звезду за то, что ты умеешь обтесывать мрамор, иначе ты бы никогда уже не видал нашего Собора! Микеланджело выглянул в окно — комната Граначчи была на третьем этаже — и посмотрел на величественный купол Брунеллески: красная его черепица мерцала в отблесках закатного неба, по которому плыли огромные сизые облака. — Самая изящная архитектурная форма из всех форм, — задумчиво сказал он, — есть небесная сфера. И знаешь ли ты, Граначчи, что купол Брунеллески равен по красоте куполу неба!
5
Он разместил свои пожитки на колокольне Сан Миниато и сквозь мучнистый свет полной луны вгляделся в сотни вражеских шатров — с остроконечными вершинами, они стояли на холмах за тем пустым пространством в полторы версты, которое он очистил от всех строений, и полукругом охватывал оборонительную линию его стен. Его разбудила на заре пушечная пальба. Как он и предвидел, неприятель стянул все силы к колокольне Сан Миниато. Стоит только ее разбить, и папские войска ворвутся в город. Сто пятьдесят пушек, не смолкая, упорно вели огонь. Пушечные ядра вырывали в стенах камни и кирпичи огромными кусками. Обстрел длился два часа. Когда он кончился, Микеланджело вылез по скрытому ходу наружу и встал у подножия колокольни, оглядывая, какие разрушения произвел враг. Он кликнул охотников, выбирая тех солдат, которые знали, как обращаться с камнем и бетоном. Бастиано остался смотреть за работами внутри, а Микеланджело вывел свой отряд наружу и открыто, на виду у папских войск, восстанавливал рухнувшие или расшатанные каменные блоки в стенах. По какой-то причине, которой Микеланджело не мог понять, — может быть, потому, что неприятель не догадывался, насколько серьезный ущерб он нанес, — войска папы до сих пор недвижно стояли в своем лагере. Микеланджело приказал возчикам возить с Арно песок и доставить мешки с цементом, направил в город посыльных, чтобы собрать артели каменщиков и камнеломов, и вечером, когда стало темно, заставил их ремонтировать и восстанавливать колокольню. Люди работали всю ночь; однако нужно было еще время, чтобы бетон затвердел. Если артиллерия неприятеля откроет огонь без большого промедления, крепость Микеланджело сразу обрушится. Он все оглядывал колокольню, и вдруг ему бросился в глаза ее зубчатый карниз — он выступал над корпусом колокольни аршина на полтора с лишним. Если бы найти способ навесить на этот карниз что-то такое, что принимало бы на себя удары железных и каменных пушечных ядер, гася их силу и ограждая от разрушения саму колокольню… Микеланджело спустился с церковного холма, пересек Старый мост, велел страже разбудить нового гонфалоньера Франческо Кардуччи и объяснил ему свой замысел. Тот дал ему письменный указ взять отряд ополчения. С первыми же лучами рассвета Микеланджело и его ополченцы стали стучаться в двери шерстяных мастерских и лавок, складов и сараев, где хранилась шерсть, собранная в качестве налога. Потом они обежали весь город, собирая в лавках и частных домах пустые чехлы от тюфяков, затем реквизировали все попавшиеся на глаза повозки, чтобы переправить собранный материал к церкви. Микеланджело действовал быстро. К тому времени как поднялось солнце, он уже подвесил по линии обороны на карнизе колокольни десятки прочных, набитых шерстью тюфяков. Когда командиры папского войска сообразили, что происходит, они открыли по колокольне стрельбу, но было уже поздно. Пушечные ядра попадали в тяжелые, мягкие тюфяки. Несмотря на то, что тюфяки под ударами ядер подавались назад, полтора аршина расстояния, отделявшие их от стены, спасали колокольню от повреждений. Для залатанной, не успевшей просохнуть каменной кладки эти тюфяки служили надежным щитом. Ядра все летели и летели, но, не причинив вреда, падали в ров у подножия. Попалив до полудня, противник прекратил огонь. Успех Микеланджело, придумавшего эти буферные шерстяные щиты, восстановил его репутацию среди защитников города. Он ушел в свою мастерскую и, улегшись в постель, спокойно проспал целую ночь, впервые за много месяцев.Флоренцию заливали нескончаемые дожди. Очищенная от строений полоса земли между стенами Сан Миниато и лагерем неприятеля превратилась в сплошное болото. Развернуть новое наступление войскам папы было теперь невозможно. Микеланджело начал работать над картиной «Леда и Лебедь» для герцога Феррары — писал он ее темперой. Хотя онбоготворил чисто физический аспект красоты, но налета чувственности его искусство прежде не знало. Теперь он, напротив, был весь в ее власти. Леду он изобразил как обольстительно красивую женщину, раскинувшуюся на ложе, лебедь был меж ее ног, его длинная шея в форме буквы S приникла к груди Леды, клюв его впивался в ее губы. Микеланджело испытывал наслаждение, пересказывая своими красками сладострастную древнюю легенду. Тревоги и волнения между тем шли своим чередом. Целые дни Микеланджело проводил на своих башнях и парапетах, а ночами ловил каждую возможность проскользнуть в часовню и ваять там при свете свечи. В часовне было холодно, хмуро, темно, но одиночества там он не ощущал. Его изваяния были для него уже привычными, старыми друзьями — Утро, Вечер, Богоматерь. Хотя они еще и не освободились полностью из каменного плена, но уже жили, размышляли, рассказывали ему, как они воспринимают и чувствуют мир, и он тоже разговаривал с ними, внушая им свои думы о том, как искусство увековечивает человеческую жизнь, как оно прочно и навсегда связывает воедино прошедшее и будущее и как оно побеждает смерть — ибо пока живо искусство, человек не погибнет. Весной война возобновилась, но то была по преимуществу уже другая война, война с осаждавшим Флоренцию голодом. Восстановленный в своих правах как член Девятки Обороны, Микеланджело получал каждый вечер донесения и хорошо знал, что происходит вокруг. Захватив мелкие крепости по реке Арно, папская армия перерезала линии снабжения Флоренции с моря. Войска папы Клемента теперь значительно пополнились: с юга подошли отряды испанцев, а с севера немцы. Продовольствие в городе скоро стало большой редкостью. Сначала исчезло мясо, затем масло, овощи, мука, вино. Голод шел на приступ, вторгаясь в один дом за другим. Чтобы сохранить жизнь Лодовико, Микеланджело делился с ним последними крохами съестного. Люди стали поедать оставшихся в городе ослов, собак, кошек. Летний зной насквозь прожигал камни, воды стало совсем мало. Река Арно пересохла, снова то здесь, то там появлялась чума. Люди задыхались от духоты, падали прямо на улицах и уже не вставали. К середине июля в городе умерло пять тысяч человек. Флоренция жила одной только надеждой на то, что ее выручит удачливый и храбрый генерал Франческо Ферручи, армия которого находилась близ Пизы. Ферручи было предложено наступать через Лукку и Пистойю и освободить Флоренцию от осады. Шестнадцать тысяч способных сражаться людей, еще остававшихся в городе, дали клятву ударить по врагу, выйдя за городские стены и напав на него с двух сторон, в то время как генерал Ферручи должен был нагрянуть с третьей — с запада. Малатеста продал республику. Он отказался помочь Ферручи. Тот принял бой с войсками папы и был уже на грани победы, но Малатеста, вступив в переговоры с врагом, пошел с ним на мировую. Ферручи потерпел поражение и был убит. Флоренция капитулировала. Отряды Малатесты открыли ворота города папской армии. Папа Клемент направил в город своих подручных с тем, чтобы восстановить в нем власть Медичи. Флоренция дала согласие выплатить папским войскам восемь тысяч дукатов в качестве выкупа. Те члены республиканского правительства, кто мог бежать, бежали, остальные были повешены в Барджелло или брошены в тюрьму Стинке. Вся Девятка Обороны была осуждена на смерть. — Тебе лучше покинуть город сегодня же ночью, — убеждал Микеланджело его старый друг Буджардини. — Ждать пощады от папы не приходится. Ты строил против него стены, крепил оборону. — Я не могу снова бежать из Флоренции, — устало отозвался Микеланджело. — Тогда укройся в моем доме, — предложил Граначчи. — Не хочу навлекать опасность на твою семью. — Как архитектор города, я владею ключами от Собора. Я могу спрятать тебя там, — заявил Баччио д'Аньоло. Микеланджело сидел, глубоко задумавшись. — На том берегу Арно я знаю одну колокольню. Никому и в голову не придет, что я в ней скрываюсь. Я буду отсиживаться там до тех пор, пока Малатеста и его войска не уйдут из города. Попрощавшись с друзьями, он пробрался глухими переулками к Арно, пересек реку и тихонько вышел к колокольне церкви Сан Никколо. Он постучал в дверь соседнего с колокольней дома, в котором жили знакомые ему сыновья старого Бэппе, каменотесы, и сказал им, где он будет скрываться. Затем он запер за собой дверь колокольни, поднялся по деревянной винтовой лестнице наверх и скоротал остаток ночи, вглядываясь через холмы в опустевший теперь вражеский лагерь. Уже всходило солнце, а он, прислонившись к холодной каменной стене, все смотрел и смотрел невидящим взглядом на ту полосу земли, которую он очистил от всякого жилья, чтобы защитить город. Мыслями он ушел глубоко в себя и был где-то в далеком прошлом, оглядывая свою прожитую жизнь: теперь, в пятьдесят пять лет, она казалась ему такой же растоптанной и бессмысленно опустошенной, как эта израненная, истерзанная полоса земли, расстилавшаяся впереди. Он перебирал в уме годы, прошедшие после того, как папа Лев принудил его бросить работу над гробницей Юлия. Что он создал за это время, за эти долгие четырнадцать лет?! «Воскресшего Христа», который, как с гневом и печалью сообщил из Рима Себастьяно, был изувечен неловким подмастерьем, устранявшим прослойку камня между ногами и руками статуи и варварски зализавшим при полировке лицо Иисуса. Статую «Победы», которая казалась теперь Микеланджело более сомнительной и неясной, чем в тот день, когда он ее закончил. Четырех «Гигантов», все еще не высвобожденных из своих блоков, стоявших в мастерской на Виа Моцца, «Моисея» и двух «Юных Рабов», оставшихся в Риме, который был разграблен армией захватчиков. Выходит, ничего, решительно ничего, что было бы завершено, собрано вместе, составило единое целое. А однорукий, покалеченный «Давид» стоял на площади Синьории будто символ побежденной, разгромленной республики. Осаждены и разгромлены были не только города. Осажден был и человек. Лоренцо говорил, что разрушительные силы всегда следуют по пятам созидания, сокрушая на своем пути все и вся. Только это лишь и познал, начиная с дней Савонаролы, Микеланджело: резню и противоборство. Отец и дядя Франческо, возможно, были правы, стараясь вбить ему в голову хоть немного ума-разума. Кого он обогатил или сделал счастливым? Он потратил целую жизнь, часто вынужденный подчиняться чужой воле, сам страдая от своей неистовой гордыни и строптивости, но всегда стремился творить прекрасные, полные мысли и значения мраморы. Он любил искусство скульптора с пеленок, со дня своего рождения. Он хотел лишь вдохнуть в него новую жизнь, воссоздать заново, поднять его, обогатив свежими идеями, новым величием. Неужто он пожелал слишком многого? И для себя, и для своего времени? Давно, очень давно, друг его Якопо Галли уверял кардинала Сен Дени: «Микеланджело способен изваять из мрамора самую прекрасную статую, какую только можно видеть ныне в Риме, — ни один мастер нашего времени не сумеет создать ничего лучше». И вот он сидит ныне здесь, сам себя заточив в укрытии, — сидит на старинной колокольне и страшится сойти вниз, потому что его наверняка повесят в Барджелло: в дни своей юности он повидал там немало повышенных! Какой бесславный конец, а ведь огонь, издавна горевший в его груди, был и чист и ярок!
Между полночным звоном колоколов и предрассветным петушиным пением он выходил размять ноги на болотистый берег Арно и, возвращаясь, брал оставленную для него пищу и воду, а также записку, в которой Мини излагал новости. Гонфалоньеру Кардуччи отрубили голову на дворе Барджелло. Джиролами, принявший после него пост гонфалоньера, был увезен в Пизу и отравлен. Фра Бенедетто, священника, вставшего на сторону республики, отправили в Рим и уморили голодом в крепости Святого Ангела. Все, кто бежал из города, были объявлены вне закона, имущество их было конфисковано. Флорентинцы знали, где скрывается Микеланджело, но затаенная ненависть к папе Клементу, его полководцам и солдатам была столь остра, что его не только не собирались выдавать, но и считали героем. Лодовико, которого Микеланджело в самые тяжелые дни осады отправил в Пизу вместе с двумя сыновьями Буонаррото, вернулся во Флоренцию без своего младшего внука, Буонарротино. Мальчик в Пизе умер. В ноябре, в холодный полдень, Микеланджело услышал, как кто-то зовет его с улицы, зовет громко и отчетливо. Глянув вниз с колокольни, он увидел Джованни Спину. Одетый в огромную меховую шубу, тот приложил раструбом ладони ко рту и кричал, задирая голову: — Микеланджело, спускайся вниз! Микеланджело стремительно сбежал по винтовой лестнице, перепрыгивая через три ступеньки сразу, отпер дверь и был поражен, увидев, как сияют узкие миндалевидные глаза Спины. — Папа простил тебя. Он передал через настоятеля Фиджиованни, что если ты объявишься, то с тобой надо будет обращаться милостиво. Пенсию тебе восстановят, и дом подле церкви Сан Лоренцо будет возвращен. — …но почему? — Святой отец хочет, чтобы ты вернулся к работе в сакристии. Пока Микеланджело собирал свои вещи, Спина осмотрел колокольню. — Да тут страшная стужа!.. Что ты делал, чтобы согреться? — Негодовал, — ответил Микеланджело. — Гнев — лучшее топливо, какое я только знаю. Горит и не сгорает. Выйдя на холодное осеннее солнце и шагая по улицам вдоль фасадов домов, он проводил кончиками пальцев по высеченным из светлого камня блокам, и те понемногу отдавали ему свое тепло. Когда он вспомнил, что ему предстоит вновь работать в капелле, на душе у него стало гораздо отрадней. Мастерская на Виа Моцца оказалась далеко не в идеальном порядке: пытаясь разыскать Микеланджело, ее тщательно обшарили папские солдаты — они заглядывали даже в печную трубу и в сундуки. Однако все в ней было цело, ни один предмет не пропал. В часовне Сан Лоренцо сняли леса, — может быть, священники пустили их на дрова, но мраморы Микеланджело не пострадали. После трех лет войны он мог продолжить работу. Три года!.. Стоя среди своих аллегорических изваяний, он осознал, что время — это тоже инструмент, орудие работы; большое произведение искусства требует, чтобы прошли месяцы, даже годы, прежде чем заложенная в нем энергия чувств обретет отчетливость и твердость. Время играло роль своеобразной закваски — многое в образах Дня, Утра и Богоматери до сих пор ускользало от Микеланджело и только теперь стало ясным; формы скульптур выглядели более зрелыми и крепкими. Произведение искусства делает частное всеобщим. Время же придает произведению искусства вечность. После легкого ужина в родительском доме Микеланджело пошел в мастерскую на Виа Моцца. Мини там не оказалось. Микеланджело зажег масляную лампу и прошелся по мастерской, трогая и переставляя знакомые предметы, кресла и стулья. Хорошо было тихо посидеть в старом жилище, оглядывая немногие свои вещи: «Битва кентавров» и «Мадонна у лестницы» висели на задней стене, четыре незавершенных «Пленника» все еще стояли посредине мастерской, друг против друга, будто неразлучные друзья. Он вынул папку с рисунками, перелистал их, то полностью одобряя, то где-то заново нанося огрызком пера пронзительно точную линию. Затем он перевернул густо изрисованный лист изнанкой вверх и стал писать, ощущая особый прилив чувства:
6
Он весь ушел в работу в часовне и вновь стал нанимать мастеровых, кирпичников и плотников. Он не соорудил для своих Аллегорий, как это делал обычно, поворотного круга, а поставил их на большие деревянные подпоры, выбрав то положение, в котором фигуры окажутся в свое время на саркофагах. Он нашел это более разумным: пусть мраморы уже сейчас впитывают в себя тот свет и те тени, какие потом будут падать на них постоянно. Замыслив четыре полулежащие фигуры для двух гробниц, Микеланджело должен был позаботиться о том, чтобы глаз зрителя был сосредоточен именно на этих изваяниях, а не скользил книзу, под овалы крышек саркофагов. С этой целью торсы фигур ваялись в резком повороте на зрителя, а одна нога у каждой фигуры была согнута в колене и резко приподнята, тогда как другая касалась своими пальцами самого края саркофага. Крутое движение ноги вверх будет прочней удерживать обращенные друг к другу спинами изваяния на их словно бы совсем ненадежных, покатых ложах. Все время шли дожди, и в часовне было холодно; медленно сохнувший раствор, которым скреплялись кирпичи оконных проемов, источал пронизывающую сырость. Порой у Микеланджело, даже при напряженной и быстрой физической работе, от промозглой стужи стучали зубы. Вечером, возвращаясь в свою мастерскую на Виа Моцца, он обнаруживал, что в волосах у него застряла влажная слизь, в горле саднило и першило. Но он не хотел считаться ни с какими трудностями, угрюмо решив, что доведет работу до конца и что история с гробницей Юлия не должна повториться. Себастьяно, как и прежде, присылал письма из Рима: капелла, где находилось «Оплакивание», была под большой угрозой, но никто не дерзнул поднять руку на мертвого Иисуса, распростертого на коленях матери. «Вакха» наследники Якопо Галли зарыли в землю, в саду, поблизости от старой мастерской Микеланджело, и теперь откопали и установили на месте снова. Он, Себастьяно, принял монашество и назначен хранителем печати у папы, с солидным жалованьем, зовут его теперь Себастьяно дель Пьомбо. Что касается дома Микеланджело на Мачелло деи Корви, то со стен и с потолка там осыпается штукатурка, большая часть мебели исчезла, некоторые строения, расположенные в саду, разорены и пошли на топливо. Мраморы Микеланджело сохранились в целости, но дом надо немедленно ремонтировать. Не может ли Микеланджело прислать на это денег? Денег у Микеланджело не было, Флоренция еще не оправилась от войны; продовольствия и других товаров в городе было мало, торговля стала невыгодной, и те средства, которые Микеланджело выделял каждый месяц на лавку братьев, не приносили никакого дохода. Валори правил городом твердой, жестокой рукой. Папа Клемент старался разобщить и рассорить во Флоренции те партии, которые еще существовали; пусть они постоянно держат друг друга за горло. Флорентинцы рассчитывали, что в будущем вместо Валори будет править мягкий, добросердечный Ипполито, сын Джулиано, но у папы Клемента были другие планы. Ипполито, хотя он и очень не хотел этого, был возведен в сан кардинала и направлен в Венгрию как командующий итальянских войск, действующих против турок. Собственный сын Клемента — Алессандро, прозванный за свою смуглую кожу и толстые, вывороченные губы Мавром, с большой пышностью был привезен во Флоренцию и сделан пожизненным властителем города. Крайне распущенный, хищный, с неукротимой тягой к разгулу, безобразный на вид юноша, располагая войсками отца, не останавливался ни перед чем, чтобы удовлетворить малейшее свое желание, — он убивал среди дня своих противников, совращал и насиловал девушек, уничтожил в городе последние признаки свободы и быстро привел его в состояние анархии. Столь же быстро Микеланджело повздорил с Алессандро. Когда Алессандро попросил его разработать план нового форта у Арно, Микеланджело ответил отказом. Когда Алессандро передал Микеланджело, что он желает показать часовню Сан Лоренцо гостившему у него вице-королю Неаполя, Микеланджело запер часовню на замок. — Твое поведение опасно, — предостерегал его Джованни Спина. — Я в безопасности, пока не закончу гробницы. Клемент дал это понять совершенно ясно. Ясно это и его твердолобому сыну… иначе меня давно бы не было в живых. Он сложил свои резцы, вытер мраморную пыль с лица и бровей, посмотрел вокруг себя и весело воскликнул: — Моя часовня переживет любого Алессандро! И не так уж важно, если сам я сдохну. — Сдохнешь, и очень скоро, — можешь не сомневаться. Ты истощен донельзя, а как страшно ты кашляешь! Почему ты ни разу не погуляешь в солнечные дни за городом, на холмах, почему не лечишь свою простуду? Ведь на твоих костях уже нет, наверное, и фунта мяса! Микеланджело уселся на край доски, перекинутой между козлами, и сказал раздумчиво: — Во Флоренции не существует теперь ничего хорошего, кончился всякий порядок. В ней осталось только искусство. Когда я стою перед этим мрамором — а он называется «День»! — с молотком и резцом в руках, я чувствую, что исполняю закон Моисея и своим искусством как-то возмещаю ущерб, нанесенный духовным вырождением таких грабителей, как Алессандро и его приспешники. Что в конце концов выживет и останется — такие вот мраморные изваяния или разбой и распутство? — В таком случае хоть разреши мне перевезти эти мраморы в теплое и сухое помещение! — Нет, Спина. Я должен работать над ними именно здесь. Ведь освещение тут в точности такое, каким оно будет, когда мраморы возлягут на свои саркофаги. На Виа Моцца в тот вечер Микеланджело нашел записку от Джована Батисты, дядюшки Мини. Батиста писал, что его юнец по уши влюбился в дочку какой-то бедной вдовы и хочет на ней жениться. По мнению дяди, Мини надо было без промедления отослать за границу. Не может ли Микеланджело ему помочь в этом? Когда Мини возвратился после своих ночных похождений, Микеланджело спросил его: — Ты любишь эту девушку? — Страстно! — Это та самая девушка, которую ты так страстно любил прошлым летом? — Нет, конечно, не та. — Тогда возьми вот эту картину — «Леду с Лебедем». И эти рисунки. Денег, которые ты за все это выручишь, тебе вполне хватит, чтобы устроить собственную мастерскую в Париже. — Но «Леда» стоит целого состояния? — еле выговорил изумленный Мини. — Вот и не прогадай, получи за нее себе это состояние. Пиши мне из Франции. Едва Мини успел уехать на север, как в дверях мастерской предстал молодой, лет двадцати, человек, назвавшийся Франческо Амадоре. — Правда, меня зовут еще и Урбино, — застенчиво добавил он. — Священник в церкви Сан Лоренцо сказал мне, что вам нужен человек. — Какую работу вы себе ищете? — Я ищу себе, синьор Буонарроти, кров и семью, которых у меня нет. Когда-нибудь я женюсь, и у меня будет своя семья, но до тех пор мне надо работать, и много лет. Родители мои были бедные — кроме этой рубашки на плечах, у меня больше нет ничего ровным счетом. — Согласны ли вы стать учеником скульптора? — Учеником прославленного мастера, мессер. Микеланджело всмотрелся в юношу, что стоял перед ним: одежда у него была потертая, ветхая, но опрятная; был он так тощ, что всюду у него торчали кости, живот впалый, будто парень никогда не наедался досыта; твердый взгляд серых глаз, темные, нечистые зубы и тонкие белокурые волосы пепельного оттенка. Хотя Урбино и нуждался в крове и работе, в манерах его чувствовалось некое достоинство, и душа у него была, видимо, чистая и ясная. Он явно уважал себя, и это Микеланджело понравилось. — Ну, что ж, давай испытаем друг друга. Урбино обладал тем благородством духа, которое озаряло все, что он ни делал. Он был так счастлив найти себе наконец какое-то место, что весь будто светился, наполняя отблесками своей радости всю мастерскую, а с Микеланджело обращался так почтительно, словно бы тот был ему отцом. Микеланджело чувствовал, что он все больше привязывается к юноше. Папа Клемент вновь заставил наследников Юлия согласиться на пересмотр договора, хотя Ровере давно уже гневались и считали себя обманутыми. На этот раз они, не подписывая никаких особых бумаг, условились с папой, что Микеланджело соорудит гробницу, ограничившись только одной стеной, и украсит ее теми фигурами, которые он уже изваял. Микеланджело следовало передать семейству Ровере статуи «Моисея» и двух «Рабов», закончить четырех «Пленников» и отослать их на корабле, вместе с изваянием «Победы», в Рим. Помимо того, ему надо было изготовить рисунки для замышлявшихся, но пока не высеченных фигур, а также выплатить Ровере две тысячи дукатов, чтобы те передали их другому скульптору, который и завершит гробницу. Таким образом, по истечении двадцати семи лет хлопот и треволнений, изваяв восемь больших статуй, за которые ему не удалось получить ни скудо вознаграждения, Микеланджело мог теперь избавиться от ярма, наложенного на него им же самим. Чтобы раздобыть две тысячи дукатов и расплатиться с Ровере, Микеланджело хотел было продать один из своих земельных участков или домов. Но никто их не купил бы, так как в Тоскане ни у кого теперь не было денег. Единственным достоянием, которое могло найти себе спрос и за которое можно было получить приличную сумму, являлась его мастерская на Виа Моцца. — У меня сердце кровью обливается, как подумаю, что ее надо продать, — горько жаловался Микеланджело Спине. — Я люблю эту боттегу. — Дай-ка я напишу в Рим, — вздыхал Спина. — Может, мы добьемся отсрочки. Именно эти дни выбрал Джовансимоне для своего визита к Микеланджело, что само по себе было редкостью. — Я намерен поселиться в большом доме на Виа ди Сан Прокуло, — заявил он. — Зачем тебе такой громадный дом? — Чтобы жить на широкую ногу. — Этот дом сдается жильцам. — Так не будем его сдавать! Мы не нуждаемся ни в какой плате. — Может быть, ты и не нуждаешься, а я нуждаюсь. — Почему же? Ты достаточно богат. — Джовансимоне, я бьюсь из последних сил и не знаю, как мне выплатить долг Ровере. — Это ты только отговариваешься. Ты такой же скряга, как отец. — Скажи, ты когда-нибудь в чем-нибудь нуждался? — В достойном положении в обществе. Ведь мы благородные горожане. — Вот и веди себя благородно. — У меня нет денег. Ты вечно их утаиваешь от нас. — Джовансимоне, тебе уже пятьдесят три года, и ты никогда не жил на свои средства. Я кормлю тебя почти тридцать пять лет, с тех пор как казнили Савонаролу. — Что ж, тебя надо благодарить за то, что ты исполняешь свой долг? Ты рассуждаешь так, будто какой-то мужлан или мастеровой. Наш род такой же старинный, как род Медичи, Строцци и Торнабуони. Мы платим налоги во Флоренции вот уже три столетия! — Ты поешь ту же песню, что и отец, — с досадой бросил Микеланджело. — Нам дано право пользоваться гербом Медичи. Я хочу укрепить его на фронтоне дома на Виа ди Сан Прокуло, я найму себе слуг. Ты постоянно твердишь, что все, что ты делаешь, — это для блага семейства. Так вот делай что хочешь, но чтобы деньги у нас были! — Джовансимоне, ты не видишь в чашке молока черного таракана! Нет у меня таких средств, чтобы сделать из тебя флорентинского вельможу. Скоро Микеланджело узнал, что Сиджизмондо поселился в деревушке под Сеттиньяно и, как простой крестьянин, работает на земле. Он оседлал коня и поехал в эту деревню: действительно, Сиджизмондо шагал за плугом, погоняя двух белых волов; лицо и волосы у него под соломенной шляпой были мокрыми от пота, на одном сапоге налип навоз. — Сиджизмондо, да ты работаешь, как мужик! — Я всего-навсего вспахиваю поле. — Но зачем? У нас здесь есть арендаторы, пусть они и пашут. — Я люблю работу. — Да, но ведь не крестьянскую же! Сиджизмондо, что о тебе подумают, что будут говорить люди? Ведь никто из Буонарроти не работал руками вот уже триста лет. — А ты сам? Микеланджело покраснел. — Я скульптор. Что скажут во Флоренции, когда там узнают, что мой брат трудится как крестьянин? В конце концов, род Буонарроти — это знатный род, нам дано право на герб… — Герб меня не прокормит. Я уже состарился и не могу служить в войсках, вот и работаю. Это наша земля, я выращиваю здесь пшеницу, оливы, виноград. — И для этого непременно надо ходить вымазанным в навозе? Сиджизмондо посмотрел на свой сапог. — Навоз дает полю плодородие. — Я всю жизнь трудился, чтобы сделать имя Буонарроти уважаемым по всей Италии. Неужто ты хочешь, чтобы люди говорили, что у меня есть в Сеттиньяно брат, который ходит за быками? Сиджизмондо поглядел на двух своих белых работяг и ответил с любовью: — Быки отличные! — Да, не спорю, это красивые животные. А теперь иди-ка ты как следует вымойся, оденься в чистую одежду. А плуг свой передай кому-нибудь из наших арендаторов, пусть шагает по борозде он! Микеланджело ни в чем не мог убедить ни того, ни другого брата. Джовансимоне распустил по Флоренции слух, что Микеланджело сквалыга и мужлан, что он не позволяет своей семье жить так, как ей подобало бы по ее положению в тосканском обществе. Сиджизмондо же говорил в Сеттиньяно всем и каждому, что его брат Микеланджело — аристократ и ломака, воображает, будто род Буонарроти стал уже столь высоким, что его позорит даже честный труд. Так братья добились того чего хотели; Джовансимоне выманил себе денег, а Сиджизмондо получил добавочной землицы.Теперь он был погружен в работу над двумя женскими фигурами — «Утро» и «Ночь». Никогда еще он не ваял, кроме Божьей матери, женщин. У него не было желания изображать юных, на заре их жизни, девушек, он хотел высечь зрелое, щедрое тело, источник человеческого рода, — крепких, вполне взрослых женщин, которые много потрудились на своем веку и были еще в поре работы, с натруженными, но неукрощенными, неуставшими мышцами. Должен ли он совмещать в себе оба пола, чтобы изваять фигуры истинных женщин? Все художники двуполы. Он высекал «Утро» — еще не совсем проснувшуюся, захваченную на грани сновидения и реальности женщину; ее голова еще сонно покоилась на плече; туго затянутая под грудями лента лишь подчеркивала их объем, их напоминавшую луковицы форму; мускулы живота чуть обвисли, чрево устало от вынашивания плода; весь тяжкий путь ее жизни читался в полузакрытых глазах, в полуоткрытом рте; приподнявшаяся, словно переломленная в локте, левая рука повисла в воздухе и была готова упасть в то мгновение, как только женщина отведет от плеча свою голову, чтобы взглянуть в лицо дня. Стоило ему отойти на несколько шагов в сторону, и вот он уже работал над мощной и сладострастной фигурой «Ночи»: еще юная, желанная, полная животворящей силы, исток и колыбель мужчин и женщин; изысканная греческая голова, покоящаяся на грациозно склоненной шее, глаза, закрытые, покорствующие сну и мраку; чуть заметное напряжение, пронизывающее все члены ее длинного тела, острая, захватывающая пластика плоти, несущая ощущение чувственности, которое он потом еще усилит тщательной полировкой. Когда свет будет свободно скользить по очертаниям молочно-белого мрамора, он еще яснее обрисует женственность форм: твердые, зрелые груди, источник пищи, величественное в своей силе бедро, рука, резко заломленная за спину, чтобы гордо выставить грудь, — прекрасное, изобильно щедрое женское тело, мечта любого мужчины. Ночь, готовая — ко сну? к любви? к зачатию? Он протер фигуру соломой и серой, раздумывая о том, как его далекие предки этруски высекали свои полулежащие на саркофагах каменные фигуры. «Утро» он закончил в июне, «Ночь» — в августе: два великих мраморных изваяния заняли у него после того, как он покинул свою колокольню, всего девять месяцев, — его огромная внутренняя энергия потоком лилась в это жаркое и сухое лето. Затем он обратился к мужским фигурам — «Дня» и «Вечера». Он оставлял на головах этих изваяний сильные каллиграфические штрихи резца, не оттачивая поверхность и не полируя, потому что следы инструмента сами по себе давали ощущение мощи и мужественности. У изваяния «Дня», мудрого и сильного мужчины, познавшего всю боль и все наслаждения жизни, голова была повернута над массивным плечом и предплечьем так, что каждый мускул торса уводил взгляд зрителя к спине, которая могла выдержать на себе всю тяжесть мира. Лицо «Вечера», с глубоко запавшими глазами, костистым носом и небольшой округлой бородой, было лицом самого Микеланджело; чуть склоненная набок, как позднее, опускающееся к горизонту солнце, голова; суровое, с жесткой кожей, лицо, перекликавшееся с фактурой загрубелых трудовых рук; крупные, чеканной формы колени скрещенных ног, простертая левая нога, которую поддерживал неотделанный слой мрамора, выступавший за край гробницы. Раньше Микеланджело изучал анатомию для того, чтобы постичь, как действуют ткани и мышцы внутри человеческого тела, теперь он обращался с мрамором так, будто это были его собственные ткани и мышцы. Он хотел оставить в этой часовне какую-то часть самого себя, нечто такое, что не могло бы стереть и изгладить время. Он завершил статую «Вечера» в сентябре. Пошли дожди, в часовне стало холодно и сыро. Снова Микеланджело исхудал до последней степени. Его кости, сухожилия и хрящи, почти лишенные телесной плоти, не весили, вероятно, и сотни фунтов, а он все вздымал и вздымал молот и резец, перекачивая свою кровь и свои костный мозг и кальций в вены и кости «Дня», «Богоматери с Младенцем», в статую задумчиво сидящего Лоренцо. По мере того как мраморы оживали, обретая трепетную чуткость, силу и страсть, сам он становился все более опустошенным и измученным. Мраморы получали заряд своей вечной энергии из того запаса воли, отваги, дерзания и ума, который таился в его существе, в его теле. Он излил в эти мраморы последние капли сил, но дал им бессмертие. — Так больше нельзя, ты же знаешь! — Теперь укорял его уже не Спина, а Граначчи, который сам похудел от хлопот и волнений, выпавших на его долю в эти дурные месяцы жизни Флоренции. — Смерть от потворства своим желаниям есть форма самоубийства, независимо от того, чему ты предаешься — работе или вину. — Если я не буду работать двадцать часов в сутки, я никогда не завершу того, что задумал. — Можно взглянуть на дело и с другого бока. Если ты проявишь достаточно разума, чтобы отдыхать, ты можешь жить бесконечно и завершишь все, что надо. — Боюсь, моя бесконечность уже кончается. Граначчи затряс головой. — В пятьдесят семь лет у тебя мощь тридцатилетнего человека. Что касается меня, то я… я износился. От любви к удовольствиям. А ты, при твоей сомнительной удачливости, почему-то считаешь, что умереть будет проще и легче, чем жить… Микеланджело расхохотался впервые за многие недели. — Граначчи, дружище, как тускла была бы моя жизнь, не будь нашей дружбы. Ведь это только ты… эта скульптура… Ты ввел меня в Сады Лоренцо, ты всегда подбадривал меня. На лице Граначчи светилась лукавая улыбка. — Вот ты когда-то клялся не делать никаких надгробий и могильных памятников, а сам большую часть своей жизни потратил на мраморы для могил. Ты все время уверял, что не будешь ваять портреты, а теперь изготовился смастерить их сразу два, в натуральную величину. — Какую чушь ты несешь, Граначчи. — А что, разве в твоих нишах будут не портреты? — Конечно же, нет. Кто будет знать через сто лет, сильно ли похожи мои мраморы на юного Лоренцо и Джулиано? Я хочу изваять универсальные фигуры, олицетворяющие действие и созерцание. В этих фигурах не будет никого в частности, и однако будут все. Любой объект служит для скульптора только телегой, которая вывозит на рынок его идеи и мысли! Урбино умел читать и писать, грамоте его научили священники в Кастель Дуранте. Мало-помалу теперь он оказался на положении слуги как на Виа Гибеллина, так и в мастерской Микеланджело. Лионардо уже учился у Строцци, и Микеланджело поручил Урбино вести свои счетные книги. Урбино рассчитывался с наемными рабочими, платил по счетам и стал играть подле Микеланджело ту роль, которую играл в свои молодые годы Буонарроти, — он был как бы защитником и стражем, который облегчал Микеланджело жизнь, снимая с его плеч докучные дела и заботы. Дружеские чувства Микеланджело к юноше укреплялись все больше. Он отдыхал, отдаваясь лепке моделей из глины; для того чтобы глина была жирнее и легче повиновалась его пальцам, он добавлял в нее обрывки ткани; он мял и размазывал эту смесь, облекая ею каркасы. Влажность глины заставляла с такой остротой вспоминать сырую часовню, что у Микеланджело появлялось чувство, будто он воспроизводит своими руками ее хмурое и промозглое пространство. Перейдя от глины к мраморному блоку, он принялся высекать статую юного Лоренцо — статуя должна была занять нишу над изваяниями «Утра» и «Вечера». Микеланджело постоянно думал об архитектуре всей часовни и, разрабатывая эту фигуру, олицетворявшую созерцание, стремился выразить в ней замкнутость и статичность, отрешенность от внешнего мира. Лоренцо весь должен был быть во власти своего раздумья. И словно для контраста, статуя Джулиано была пронизана движением: ей было предназначено место на противоположной стороне, у гробницы, поддерживавшей мраморы «Дня» и «Ночи». В свободной позе Джулиано чувствовалось как бы круговое движение, не знающее никакого перерыва. Если голова Лоренцо была как бы вдавлена в плечи, то Джулиано порывисто вытянул шею, устремляясь куда-то в пространство. Но наибольшую радость доставляла ему «Богоматерь с Младенцем». Всеми корнями своей души, каждым своим фибром жаждал он наделить ее божественной красотой: лицо ее сияло любовью и состраданием — этим живым родником человеческого бытия и упования на будущее, божественным средством, благодаря которому род людской, грудью встречая напасти и бедствия, продолжит свое существование. Подступая к теме матери и ребенка, он нашел столь свежее и яркое ее решение, будто никогда и не работал над нею прежде: острое желание порождало и остроту замысла — младенец, сидя на коленях матери, с силой изогнул свое тельце и жадно потянулся к ее груди; тщательно разработанные, обильные складки платья матери еще усиливали ее внутреннюю взволнованность, передавая то чувство исполненного долга и боли, которое испытывала Богоматерь, пока ее земное прожорливое дитя упивалось найденной им пищей. У Микеланджело возникло теперь веселое и легкое ощущение беззаботности, будто он снова трудился в старой, первой своей мастерской и высекал «Богоматерь» для купцов из города Брюгге… в те прежние дни, когда судьба была к нему еще милостива. Но это была лишь хмельная взбудораженность, лихорадка. Когда она проходила, он чувствовал себя таким слабым, что еле держался на ногах. Папа прислал во Флоренцию карету с кучером, приказав Микеланджело ехать в Рим: пусть он немного окрепнет под лучами южного солнца, и, помимо того, папе надо поделиться с ним новым планом. Клемент устроил в Ватикане торжественный обед, пригласив на него друзей Микеланджело по флорентинской колонии; для развлечения гостя тут же было разыграно несколько комедийных пьес. Клемент заботился о здоровье Микеланджело вполне искренне, словно о здоровье любимого брата, но скоро он открыл и свой замысел: не согласится ли Микеланджело написать на огромной алтарной стене Систины Страшный Суд? На обеде Микеланджело познакомился с юношей удивительной красоты — его можно было сравнить разве с теми молодыми эллинами, которых Микеланджело написал на заднем плане «Святого Семейства», исполненного по заказу Дони. У юноши были лучистые серо-голубые глаза, напоминавшие флорентинский светлый камень, античной формы нос и рот, словно изваянные Праксителем из мрамора телесного цвета, высокий округлый лоб, большой, крепко вырезанный подбородок, расположенный по той же вертикали, что и лоб, продолговатые, симметрично вылепленные щеки с высокими скулами, каштановые волосы, розовато-бронзовая, как у атлета древнегреческих стадионов, кожа. Высокообразованный и вдумчивый, Томмазо де Кавальери происходил из патрицианской римской семьи. Ему было двадцать два года. Горя желанием стать первоклассным живописцем, он спросил Микеланджело, может ли он попасть к нему в ученики. Обожание, светившееся в глазах Томмазо, граничило с идолопоклонством. Микеланджело ответил, что он должен возвращаться во Флоренцию и заканчивать часовню Медичи, но что он не видит препятствий к тому, чтобы они какое-то время занялись рисованием в Риме. И они действительно занялись. Микеланджело очень льстило, с какой обостренной пристальностью Томмазо следил за его чудодейственным летучим пером. Микеланджело нашел, что Томмазо одаренный художник, прилежный труженик и человек тонкой души. Томмазо прекрасно умел как бы устранить тридцатипятилетнюю разницу в их возрасте, и в его присутствии Микеланджело чувствовал себя совсем молодым, мог весело смеяться и забыть многие свои горести. Расставаясь, они дали слово писать друг другу. Микеланджело предложил прислать Томмазо из Флоренции свои рисунки, специально для того, чтобы тот по ним учился. Он обещал также дать ему знать, когда вновь приедет в Рим к папе. Вернувшись во Флоренцию, он принялся за работу в часовне. Чувствовал он себя освеженным и к весне уже забыл все свои мысли о скорой смерти. Обрабатывая поверхность двух мужских статуй, он прибегнул к тому способу перекрестной штриховки, которому когда-то учил его в рисунке пером Гирландайо: одна сетка каллиграфических линий, нанесенных двузубым резцом, покрывалась другой, прочерченной закругленной скарпелью. Штрихи эти пересекались под прямым углом, так что сравнительно тонкий след двузубого резца не совпадал с более грубыми и выпуклыми рубчиками скарпели. Фактура кожи на этих изваяниях Микеланджело обрела ту эластичную напряженность и упругость, какая присуща живой ткани. А на щеках Богородицы он добивался фактуры нежной и гладкой, как речной голыш. Красота ее лица была чистой и возвышенной.
7
Время можно было уподобить не скалистой горе, а реке; оно меняло скорость своего течения, так же как и свое русло. Оно могло вздуться, захлестнуть свои берега или высохнуть, еле просачиваясь узеньким ручейком; оно могло вольно литься, чистое и ясное, по своему ложу или могло вбирать в себя всякую муть и мусор и выбрасывать загрязненные обломки на поворотах и излучинах. Когда Микеланджело был молод, любой день воспринимался им по-особому; у каждого из них был свой лик, свое тело, содержание и форма; день был целен и неповторим, его можно было занумеровать, записать и запомнить. Теперь время как бы растворилось: недели и месяцы текли однообразным потоком, со все возраставшей скоростью. Он взваливал на себя столько работы, что сама ткань времени изменилась для него, а границы времени стали неразличимы. Годы уже не казались ему отдельными блоками, а каким-то нагромождением,Апуанскими Альпами, которые человек для своего удобства разбивает на отдельные вершины и утесы. Может быть, недели и месяцы стали короче или он спутал счет, приняв какую-то другую меру? В прошлом у времени были очертания, оно было твердое, с прочными краями. Теперь оно стало зыбким, текучим. Облик времени ныне, казалось ему, отличался от прежнего так же резко, как ландшафт Римской Кампаньи от ландшафта Тосканы. Когда-то он думал, что время неизменно от века, что оно везде и для всех одно и то же, теперь он убедился, что время так же разнообразно, как человеческие характеры или погода. По мере того как 1531 год становился 1532-м и 1532-й сокращался и переходил в 1533-й, Микеланджело спрашивал себя: «Куда бежит время?» Ответ был достаточно прост: оно бежит, чтобы стать из аморфного реальным, превратиться в частицу жизненной силы — в «Богородицу с Младенцем», в «Утро», в «Вечер», в «Ночь», в изваяния юных Медичи. Он не мог понять только того, что время сокращалось в зависимости от угла зрения, как сокращается порой пространство. Когда он стоял на холме, оглядывая Тосканскую долину, ближайшая часть лежавшего перед ним пространства была с ясностью видна во всех ее подробностях; более дальняя часть, будучи столь же емкой и обширной, казалась сдавленной, сплющенной, сжатой, будто это была не далеко простертая, огромная равнина, а полоса узкого поля. То же происходило и со временем, если касаться отдаленной, давней поры жизни человека: как бы пристально ни вглядывался он в пролетающие, текущие на его глазах часы и дни — все равно они казались короче, чем широко раскинувшаяся начальная часть его жизни. Он высек крышки двух саркофагов — они были чистых и скупых линий, овальные их плоскости заканчивались изящными волютами; в верхней части несущих колонн он изваял несколько простых листьев. Работа над Речными Божествами или символами Неба и Земли, которых он было замыслил и начал уже готовить, совсем не продвигалась. Под выдававшимся вперед плечом Ночи он изваял маску, а в углу, образованном поднятым коленом, поместил изображение совы. И больше он не добавлял ни одной детали. Красота человека для него всегда была альфой и омегой искусства. Слухи о том, что создает Микеланджело в часовне, распространились по всей Италии; а затем и Европе. Ему приходилось принимать у себя порой крупных художников, которые рисовали и что-то записывали, в то время как он продолжал работать. Скоро эти посещения стали действовать ему на нервы. Один изысканно одетый вельможа спрашивал: — Как вы додумались до того, чтобы высечь эту потрясающую фигуру Ночи? — Я взял блок мрамора, в котором была заключена эта статуя. Мне оставалось только отсечь небольшие куски, покрывавшие фигуру и мешавшие ее увидеть. Для каждого, кто умеет это делать, нет ничего легче. — Придется мне посылать своего слугу, не найдет ли он такие блоки, в которых скрываются статуи. Микеланджело съездил в Сан Миниато аль Тедеско на свидание с папой Клементом, который остановился там по дороге на свадьбу Катерины де Медичи, дочери Лоренцо, сына Пьеро, выходившей замуж за дофина Франции. Он получил огромное наслаждение от бесед с кардиналом Ипполито, состоявшим теперь при папе, и с Себастьяно дель Пьомбо, по-прежнему любимцем Клемента. И вот Микеланджело снова оказался внутри четырехугольника, образованного капеллой Медичи, где он ваял, домом напротив, где он готовил модели, и мастерской на Виа Моцца, где он жил и где за ним присматривал Урбино. Опять он страшно исхудал, таким он раньше себя и не помнил — кожа да кости. Но он испытывал великое удовлетворение от того, что его окружали теперь, помогая завершить убранство часовни, хорошие скульпторы: Триболо должен был изваять по моделям Микеланджело фигуры Неба и Земли, Анджело Монторсоли — высечь фигуру Святого Козмы; работал в часовне, закончив к тому времени статуи двух пап Пикколомини, и Рафаэлло да Монтелупо, сын старого друга Микеланджело — Баччио, потешника и паяца Садов Медичи. Порой, по ночам, Микеланджело, чтобы отвлечься, брал в руки карандаш и бумагу и набрасывал рисунки, стараясь выяснить, что он способен сказать по поводу Страшного Суда. Бандинелли закончил своего «Геракла», заказанного папой Клементом. Герцог Алессандро распорядился установить статую на площади Синьории, напротив Микеланджелова «Давида», а дворец Синьории переименовал в Старый дворец — Палаццо Веккио, так как Флоренция была лишена теперь права избирать свой правительственный Совет. Народ не хотел, чтобы статуя Бандинелли была на площади, и так возмущался этим, что Бандинелли пришлось ехать в Рим и испрашивать у папы формальный приказ об установлении «Геракла». Микеланджело пошел с Урбино на площадь Синьории посмотреть на статую. Ночью кто-то налепил на нее исписанные листки бумаги, они трепетали теперь на ветру. Микеланджело поморщился, глядя на бессмысленно вздутые мускулы изваяния. Прочтя рифмованные строчки на одном из листков, он хмуро заметил: — Бандинелли будет не очень-то приятно, когда он ознакомится с этими песнопениями. Он понял теперь, как прав был Леонардо да Винчи, когда он говорил ему в Бельведере: — Изучив ваш плафон, художник должен проявить чрезвычайную осторожность, чтобы не стать в своих работах деревянным, слишком подчеркивая структуру костей, мускулов и сухожилий… А что будет с живописцами, которые попытаются пойти дальше вас? Микеланджело понял теперь, о чем говорил ему в тот день Леонардо. — Не довершайте же переворота в искусстве. Оставьте что-нибудь и на долю тех, кто пойдет по вашим стопам. Но если бы он и постиг полностью мысли Леонардо в ту пору, то все-таки что он мог бы сделать?Подобно какому-нибудь каррарскому камнелому, он был приверженцем своей кампанилы и постоянно прохаживался вокруг соборной колокольни Джотто, словно это был центр вселенной. Но Флоренция стала теперь безразлично-покорным городом, ее свободу удушил герцог Алессандро. Поскольку вместе с политической свободой на том же кровавом ложе было удушено и искусство, то те, кто раньше принадлежал к Обществу Горшка, в большинстве своем разъехались по другим городам. Флоренции поры правления первых Медичи уже не существовало. Величавые мраморы Орканьи и Донателло по-прежнему украшали ниши Орсанмикеле, но флорентинцы ходили по улицам с опущенными головами. Появление Мавра, «отродья Мула», нанесло, после бесконечных войн и поражений, как бы последний удар прямо в душу города. Проходя на площади Синьории мимо «Льва» Мардзокко, Микеланджело отворачивался. Он даже не мог заставить себя восстановить отломленную руку «Давида» — ему не хотелось этого делать, пока не восстановлена республика и величие Флоренции, столицы искусства и интеллектуальной жизни, которую называли Афинами Европы. В девяностый день рождения Лодовико, в июне 1534 года, стояла чудесная солнечная погода. Теплый воздух был изумительно прозрачен. Флоренция сверкала в оправе своих холмов, как драгоценный камень. Микеланджело собрал на торжество остатки семейства Буонарроти. За обеденным столом сидел Лодовико, столь ослабевший, что его приходилось подпирать подушками, бледный и худой от затянувшейся болезни Джовансимоне, молчаливый Сиджизмондо, все еще одиноко живший на наследственной земле, где родились все собравшиеся; тут же была и Чекка, семнадцатилетняя дочь Буонаррото, и юный Лионардо, заканчивавший срок ученичества у Строцци. — Дядя Микеланджело, ты обещал снова открыть шерстяную лавку отца, как только я вырасту и смогу управлять ею. — Я так и сделаю, Лионардо. — А скоро? Мне уже пятнадцать лет, и я знаю, как вести дело. — Скоро, Лионардо. Как только у меня появятся деньги. Лодовико съел лишь несколько ложек супа, поднося их ко рту дрожащими руками. Не дождавшись конца обеда, он попросил отвести его в постель. Микеланджело поднял отца на руки. Тот весил не больше чем вязанки хвороста, которые Микеланджело применял для укрепления стен у колокольни Сан Миниато. Он уложил отца в кровать, осторожно закутал его в одеяло. Старик слегка повернул голову, так, чтобы видеть свой похожий на пирог стол и свои счетные книги, аккуратно сложенные в стопки. Улыбка скользнула по его серым, как пепел, губам. — Микеланьоло. Это было ласкательное, домашнее имя. Лодовико не называл его так уже много-много лет. — Слушаю, отец. — Я хотел… дожить… до девяноста. — Вот вы и дожили. — …но это было тяжко. Я трудился… каждый день… постоянно… чтобы только выжить. — Что ж, и хорошо потрудились, отец. — А теперь… я устал. — Так отдыхайте! Я притворю двери. — Микеланьоло?.. — Да, отец? — …ты позаботишься… о мальчиках… Джовансимоне… Сиджизмондо? Микеланджело подумал: «Мальчики! Им давно за пятьдесят!» Вслух он сказал: — Наша семья — это все, что у меня осталось, отец. — Ты купишь… Лионардо… лавку? — Как только он подрастет. — А Чекке… дашь приданое? — Да, отец. — Тогда все хорошо. Я старался, чтобы семья была… вместе. У нас дела шли на лад… снова появились деньги… состояние… которое потерял мой отец. Я прожил жизнь… не напрасно. Пожалуйста, позови священника из церкви Санта Кроче. Лионардо сбегал за священником. Лодовико скончался тихо, окруженный тремя сыновьями, внуком и внучкой. На щеках у него был такой румянец и лицо казалось таким спокойным, что Микеланджело не верилось, что отец умер. Теперь, лишившись отца, он почувствовал себя странно одиноко. Всю свою жизнь он прожил без матери, да и отцовской любви, привязанности и понимания он тоже не знал. Но что было теперь об этом думать, — все равно он любил отца, как, на свой суровый тосканский манер, любил его и Лодовико. Без отца на свете будет пусто, очень пусто. Лодовико причинял ему бесконечные муки, но не вина Лодовико, если только один из пятерых его сыновей умел добыть себе хлеб. Потому-то Лодовико и приходилось заставлять Микеланджело работать так усердно и так тяжело: кому-то надо было заменить остальных четырех, которые не могли внести никаких утешительных цифр в те счетные книги, что лежали на столике, похожем на пирог. И Микеланджело гордился тем, что он утолил честолюбие отца, что отец скончался с ощущением достигнутого успеха. В эту ночь он сидел в своей мастерской, с открытыми окнами в сад, писал при свете лампы. Вдруг, в какую-то минуту, и сад, и его комнату заполнили тысячи налетевших маленьких белых мушек — из тех, что называют манной небесной. Они густою сетью вились вокруг лампы и его головы, шелестели крыльями, как птицы. Покружившись, они тут же падали мертвыми, усыпав мастерскую и деревья в саду так, будто только что выпал небольшой мягкий снежок. Микеланджело смыл толстый слой насекомых с верстака, взял перо и стал писать:
Часть десятая «Любовь»
1
Проезжая Народные ворота, он пришпорил коня. Рим, после недавней войны, показался теперь еще более разбитым и опустошенным, чем это было в 1496 году, когда Микеланджело впервые его увидел. Микеланджело осмотрел свое полуразвалившееся жилище на Мачелло деи Корви. Большая часть обстановки была расхищена, исчезли матрацы, кухонная утварь и посуда, кто-то украл и опорные блоки для гробницы Юлия. «Моисей» и «Пленники» оказались в целости. Микеланджело обошел комнаты, заглянул в разросшийся, запущенный сад. Придется штукатурить и красить стены, настилать новые полы, заново обзаводиться мебелью. Из пяти тысяч дукатов, полученных за работу в часовне Медичи, — это был весь его заработок за последние десять лет, — он сумел сберечь и привезти с собой в Рим лишь несколько сотен. — Урбино, нам надо всерьез заняться домом. — Мессер, я отремонтирую его сам. Через два дня после приезда Микеланджело в Рим в Ватикане скончался папа Клемент Седьмой. В несказанной радости горожане высыпали на улицы. Ненависть к Клементу дала себя знать и во время его похорон несмотря на всю их пышность: народ считал папу виновным в разграблении и позоре Рима. Микеланджело вместе с Бенвенуто Челлини нанес ему визит за день до его смерти. Папа был в хорошем расположении духа, рассуждал о новой медали, которую хотел выбить Челлини, а с Микеланджело поговорил о замысле «Страшного Суда». Хотя кузен Джулио причинил Микеланджело немало страданий, все же теперь в душе у него было чувство утраты: ведь ушел из жизни его сверстник, последний человек из того круга, в котором он провел свои отроческие годы во дворце Медичи. Целых две недели, пока коллегия кардиналов выбирала нового папу, Рим жил словно бы затаившись, задержав дыхание. Исключение составляла одна лишь флорентинская колония. Попав во дворец Медичи, Микеланджело убедился, что он был затянут в траурные драпировки только снаружи. Внутри же дворца царило ликование: там бурно радовались смерти Клемента флорентинцы-изгнанники. Теперь уже никто не будет оказывать покровительство сыну Клемента Алессандро; теперь можно добиваться того, чтобы его заменил Ипполито, сын всеми любимого Джулиано. Кардинал Ипполито, молодой человек двадцати пяти лет, встретил Микеланджело, стоя наверху лестницы дворца; его бледное, с патрицианскими чертами лицо освещала ласковая улыбка, иссиня-черные волосы были прикрыты красной шапочкой. По темно-красному бархату, поперек груди, шла полоса крупных золотых пуговиц. Микеланджело почувствовал, как кто-то положил руку ему на плечо, и, обернувшись, увидел кардинала Никколо Ридольфи — у него, как и у его матери, была легкая тонкая фигура и карие искрометные глаза. — Может, вы поживете здесь, в нашем дворце, пока ваш дом не отремонтируют? — сказал Ипполито. — Так пожелала бы и моя покойная мать, — добавил Никколо. Микеланджело окружили старые его друзья. Тут были гости из многих флорентинских семей: Кавальканти, Ручеллаи, Аччаюоли, Оливьери, Пацци; был бывший наместник папы Клемента во Флоренции Баччио Валори; были Филиппе Строцци и его сын Роберто; кардинал Сальвиати-старший и кардинал Джованни Сальвиати, сын Якопо; был Биндо Альтовити. В Риме жило теперь великое множество семей, бежавших из родного города, — Алессандро лишил их всякого имущества, влияния и власти. Со смертью папы Клемента им уже не надо было скрывать свои чувства и сохранять осторожность. Подспудный, тайный заговор, ставящий целью изгнать Алессандро из Флоренции, вылился теперь в открытое движение. — Вы поможете нам в этом деле, Микеланджело? — допытывался у него Джованни Сальвиати. — Конечно, помогу, — отвечал Микеланджело. — Алессандро — это дикий зверь! Услышав это слова, все одобрительно зашумели. Никколо сказал: — Существует только одно серьезное препятствие: Карл Пятый. Если император будет на нашей стороне, мы можем двинуться на Флоренцию и свергнуть Алессандро. Горожане восстанут и поддержат нас. — Но чем же именно я могу вам помочь? За всех ответил Якопо Нарди, флорентинский историк: — Император Карл не очень-то жалует искусство. Тем не менее нам стало известно, что он выразил интерес к вашей работе. Могли бы вы изваять или написать что-нибудь специально для него, если бы это содействовало нашим планам? Микеланджело заверил, что он готов пойти на это. После обеда Ипполито сказал: — Конюшни над проектом которых работал для моего отца Леонардо да Винчи, отстроены. Не хотите ли их осмотреть? В первом же стойле, под брусьями высоких стропил, Микеланджело увидел белоснежного арабского скакуна. Он погладил длинную теплую шею лошади. — Какой красавец! Будто чудесный блок мрамора. — Пожалуйста, примите коня в подарок. — Благодарю, это невозможно, — ответил Микеланджело — Только сегодня утром Урбино разобрал последний наш старый сарай. Такого чудесного жеребца у меня и держать-то негде. Но когда Микеланджело вернулся домой, он застал там такую картину: Урбино стоял в саду и опасливо держал коня под уздцы. Микеланджело снова потрепал скакуна по белой прекрасной шее. — Как ты думаешь, — спросил он Урбино, — принять его или отказаться? — Мой отец говорил, что принимать подарок, который требует пищи, никогда не надо. — Но как же не взять такое великолепное животное? Придется купить лесу и построить для него конюшню. Микеланджело вновь и вновь спрашивал себя, хватит ли у него силы взвалить на свои плечи такое тяжкое бремя, как «Страшный Суд». Чтобы расписать алтарную стену Систины, потребуется не меньше пяти лет: это будет самая большая стена в Италии, отведенная под одну фреску. Но ремонт и меблировка дома уже пожирали у Микеланджело дукаты, и он понял, что скоро столкнется с нуждой. Бальдуччи, теперь уже воспитывавший множество внуков, сильно раздался вширь, но нисколько не сгорбился — мясо нарастало на нем крепкое, щеки пылали румянцем. Выслушав Микеланджело, он раскричался: — Ну конечно, у тебя худо с деньгами! Иначе и быть не может: сколько лет ты жил во Флоренции, не прибегая к помощи такого финансового гения, как я! Отдавай мне все деньги, какие заработаешь, и я помещу их так, что ты будешь богат и независим! — Есть во мне, Бальдуччи, какое-то свойство, что деньги просто уплывают от меня. Дукаты словно бы говорят себе: «Э, такой человек не предоставит нам спокойного жилища и не даст размножаться. Поищем-ка другого хозяина». Как ты думаешь, кто будет новым папой? — Хотел бы узнать у тебя. От Бальдуччи Микеланджело направился к Лео Бальони, в тот же знакомый дом на Кампо деи Фиори. Лео, с львиной гривой волос и гладким, не тронутым морщинами лицом, жил прекрасно: не без содействия Микеланджело на первых порах он стал доверенным лицом папы Льва, а потом и папы Клемента. — Теперь я готов подать в отставку, — говорил Лео, усадив Микеланджело за обед в чудесно обставленной столовой. — У меня было столько денег, столько женщин и приключений, что дай Бог каждому. А сейчас мне пора на покой — пусть будущий папа управляется со своими делами сам. — А кто будет следующим папой? — Этого никто не знает. Наутро, чуть свет, к Микеланджело явился герцог Урбинский — за ним шел слуга, держа в руках кожаный портфель с текстами четырех договоров на гробницу Юлия. Герцог был свирепым мужчиной, лицо его напоминало изрытое траншеями поле битвы, на правом бедре у него висел смертоносный кинжал. Микеланджело не встречался со своим врагом двадцать с лишним лет: впервые он видел его на коронации папы Льва. Герцог заявил, что стена для гробницы Юлия в церкви Сан Пьетро ин Винколи, в которой Юлий служил в бытность кардиналом Ровере, готова. Герцог вынул из портфеля последний договор с Микеланджело, подписанный в 1532 году, — договор этот «освобождал, разрешал и избавлял Микеланджело от обязательств по всем договорам, учиненным прежде», — и швырнул бумагу к ногам Микеланджело. — Теперь не существует уже никаких Медичи, никаких твоих защитников и покровителей! Если ты не исполнишь этот последний договор к маю будущего года, как в нем указано, я заставлю тебя выполнить другой, договор — от тысяча пятьсот шестнадцатого года! Ты должен по нему сделать нам двадцать пять статуй крупных, больше натуральной величины. Те самые двадцать пять статуй, за которые мы с тобой уже расплатились. Стиснув рукоять кинжала, герцог стремительно вышел из мастерской. Микеланджело до сих пор не пытался перевезти из Флоренции ни четырех своих незавершенных «Гигантов», ни «Победителя». Решение строить гробницу не круглой, а примыкающей к стене очень радовало его, однако он опасался, что его огромные статуи не подойдут по своим размерам к мраморному фасаду гробницы. Чтобы исполнить условия договора, Микеланджело должен был изваять для семейства Ровере еще три статуи. Из блоков, хранившихся в саду, он стал высекать «Богоматерь», «Пророка» и «Сивиллу». Это будут, считал он, сравнительно небольшие фигуры, и они не доставят много хлопот. Он был уверен, что и наследники Ровере останутся довольны; архитектурное чутье диктовало ему, что новый проект требует именно таких пропорций. К маю следующего года, как гласил договор, он закончит эти три малых изваяния, и его помощники получат возможность собрать всю гробницу в церкви Сан Пьетро ин Винколи. Но завершить гробницу Юлия все же не удалось: судьбы тут были враждебны как к герцогу Урбинскому, так и к Микеланджело. Одиннадцатого октября 1534 года коллегия кардиналов избрала на папство Алессандро Фарнезе. Фарнезе воспитывался у Лоренцо Великолепного, но Микеланджело не знал его, попав во дворец в то время, когда тот уже уехал из Флоренции в Рим. На всю жизнь Фарнезе воспринял от Великолепного любовь к искусству и наукам. Когда его необычайно красивая сестра Юлия была взята папой Александром Шестым в наложницы, Фарнезе назначили кардиналом. Попав в распущенную среду двора Борджиа, он прижил от двух любовниц четырех незаконных детей. Так как Фарнезе возвысился лишь благодаря влиянию сестры, Рим насмешливо называл его «кардиналом нижней юбки». Однако в 1519 году он принял постриг и с тех пор отверг плотские удовольствия, ведя примерный образ жизни. Папа Павел Третий прислал в дом на Мачелло деи Корви гонца: не пожалует ли Микеланджело Буонарроти сегодня к вечеру в Ватиканский дворец? Святой отец должен сообщить Микеланджело нечто важное. Микеланджело отправился в бани на Виа де Пастини, где цирюльник подровнял ему бороду и вымыл волосы, начесав их на лоб. Сидя в спальне и глядя на себя в зеркало, пока Урбино помогал ему надеть горчичного цвета рубашку и плащ, он с удивлением заметил, что янтарные крапинки в его глазах стали тускнеть и что вмятина на его носу уже не кажется такой глубокой. — Вот чудеса-то! — ворчал он, нахмурясь. — Теперь, когда моя физиономия уже ничего для меня не значит, я выгляжу, пожалуй, не столь безобразным, как прежде. — Если вы не станете следить за собой, — усмехнулся Урбино, — то скоро вас начнут путать с вашими скульптурами. Войдя в малый тронный зал Ватикана, Микеланджело застал папу Павла Третьего за оживленной беседой с Эрколе Гонзага, кардиналом Мантуанским, — то был сын высокоученой Изабеллы Эсте, человек превосходного вкуса. Микеланджело опустился на колени, поцеловал у папы перстень. Глядя на нового первосвященника, Микеланджело мысленно набрасывал рисунок; узкая голова, умные, проницательные глаза, длинный тонкий нос, нависший над белоснежными усами, впалые щеки и тонкогубый рот, говорящий о преодоленном сластолюбии и о любви к красоте. — Сын мой, я считаю добрым предзнаменованием, что ты будешь работать в Риме в годы моего понтификата. — Ваше святейшество, вы очень добры. — Я скорее корыстен. Ведь нескольких моих предшественников люди будут помнить только потому, что они были твоими заказчиками. Услышав такой комплимент, Микеланджело учтиво поклонился. — Я хотел бы, чтобы ты служил мне, — с чувством произнес папа. Микеланджело помолчал, выдерживая ту паузу, которую внутренне отсчитывает каменотес между ударами молота: раз-два-три-четыре. — Как я мог бы служить вам, ваше святейшество? — Продолжив работу над «Страшным Судом». — Святой отец, я не могу взяться за столь обширный и тяжелый заказ. — Почему же? — По договору с герцогом Урбинским я обязан закончить гробницу папы Юлия. Герцог грозился обрушить на меня всяческие беды, если я не буду работать над одной только гробницей. — Неужто папский престол убоится вельможного воителя? Забудь думать об этой гробнице. Я хочу, чтобы ты во славу нашего понтификата завершил убранство Сикстинской капеллы. — Святой отец, вот уже тридцать лет, как я мучаюсь, отвечая за свой грех, — ведь договор подписан моею рукой. Павел поднялся с трона, голова его в красной бархатной шапочке, отороченной горностаем, дрожала. — Вот уже тридцать лет, как мне хочется заполучить тебя на свою службу. Теперь я папа — так неужели же мне не позволено удовлетворить это желание? — Как видите, святой отец, ваши тридцать лет и мои тридцать лет столкнулись лбами. Гневным жестом Павел сдвинул красную бархатную шапочку на затылок и воскликнул: — Я говорю, что ты будешь служить мне, — и все остальное меня не касается! Микеланджело поцеловал папский перстень, и, пятясь вышел из тронного зала. Скоро он уже сидел в своем старом домашнем кожаном кресле и раздумывал, что ему делать. Вдруг резкий, требовательный стук в дверь заставил его вскочить на ноги. Урбино ввел в комнату двух стражников-швейцарцев — эти громадные русоволосые воины были в одинаковых желто-зеленых мундирах. Они кратко объявили, что завтра перед обедом Микеланджело Буонарроти должен будет принять у себя его святейшество Павла Третьего. — Я найму женщин, которые хорошенько приберут у нас, — говорил невозмутимый Урбино. — А чем обычно закусывает святой отец и его свита? Вот беда: никогда не видел живого папы, разве что во время уличных шествий. — Вот бы и мне тоже видеть его только во время уличных шествий! — угрюмо проворчал Микеланджело. — Купи, Урбино, изюмного вина и печенья. И расстели на столе нашу лучшую флорентинскую скатерть. Вызвав немалое волнение на площади перед форумом Траяна, папа Павел приехал вместе с кардиналами и слугами. Он милостиво улыбнулся Микеланджело, потом быстро прошел к статуе «Моисея». Кардиналы окружили изваяние, образовав сплошное поле красных сутан. По первому взгляду, который папа Павел украдкой бросил Эрколе Гонзага, было ясно, что мантуанский кардинал считался в Ватикане признанным знатоком искусства. Гонзага отступил от статуи, вытянув, как петух, голову, глаза его горели. — Одного такого «Моисея» вполне достаточно, чтобы воздать честь папе Юлию, — произнес кардинал, и в голосе его звучали одновременно и гордость, и благоговение, и благодарность. — Ни один человек не вправе желать себе памятника более великолепного. Папа Павел заметил задумчиво: — Как было бы хорошо, Эрколе, если бы это сказал не ты, а я. — Затем, повернувшись к Микеланджело, добавил: — Ты видишь, сын мой, я не ошибался. Напиши же для меня «Страшный Суд». Я сумею договориться с герцогом Урбинским, и он примет «Моисея» и этих двух «Пленников» прямо из твоих рук.2
Когда он был молод, ум его тревожили замыслы гигантского размаха. Однажды в Карраре он хотел превратить в изваяние целый мраморный утес, с тем чтобы его работа служила маяком на Тирренском море. Но в эту ночь, беспокойно ворочаясь в своей кровати, он спрашивал себя: «Где я возьму силы заполнить росписью столь огромную стену, на которую даже не хватит всех сикстинских фресок Гирландайо, Боттичелли, Росселли и Перуджино, вместе взятых?» Конечно, ему не надо будет лежать на спине и писать на потолке прямо над головой, но времени эта стена потребует не меньше, чем весь плафон, и изнурит она его тоже до последней степени. Как найти в себе в шестьдесят лет те стремительные, как ураган, силы, какие у него были в тридцать три года? Измученный бессонницей, он встал и пошел к заутрене в церковь Сан Лоренцо ин Дамазо, где встретил Лео Бальони. Покаявшись в грехах и причастившись, они вышли из церкви и остановились на Кампо деи Фиори; на лица их струился бледный свет ноябрьской утренней зари. — Лео, ты, наверное, только что с попойки, а я всю ночь провел в мучительном споре со своей бессмертной душой. И все же исповедовался ты гораздо быстрее, чем я. — Милый Микеланджело, с моей точки зрения, все, что доставляет удовольствие, — добро, а все, что приносит боль и страдание, — зло и грех. Выходит, я безгрешен моя совесть чиста. Судя по тому, как ты бледен, я сказал бы, что за эту ночь ты немало страдал и, значит, у тебя много прегрешений, а чтобы в них покаяться, требуется время. Зайдем-ка ко мне, выпьем по чашке горячего молока, — надо же нам как-то отозваться на те похвалы, которые расточает твоему «Моисею» кардинал Гонзага. Весь Рим почти об этом лишь и толкует. Час, отданный дружбе, освежил и успокоил Микеланджело. Выйдя от Бальони, он медленно шагал по пустым улицам, направляясь к Пантеону. Обогнув его и полюбовавшись величественным куполом, он по Виа Ректа прошел к Тибру, а оттуда по Виа Алессандрина к собору Святого Петра. Архитектором собора был теперь Антонио да Сангалло, племянник Джулиано да Сангалло и бывший помощник Браманте. Насколько мог судить Микеланджело, с той поры, как он восемнадцать лет назад покинул Рим, строительство продвинулось очень мало: были лишь отремонтированы гигантские пилоны и возведено основание стен. На бетон и камень было потрачено двести тысяч дукатов, собранных со всего христианского мира, однако большая часть этих денег оседала в кошельках поставщиков и подрядчиков — они-то и прилагали все мыслимые старания, чтобы затянуть строительство как можно дольше. При такой медлительности, раздумывал Микеланджело, собор будут строить до самого Судного дня. Маленькая часовня Марии Целительницы Лихорадки была еще не тронута, хотя ее предполагалось снести, чтобы освободить место для трансепта. Он вошел в нее, остановился перед своим «Оплакиванием». Как прекрасна Мария. Какое в ней изящество и нежность. Какое тонкое, чувствительное лицо у ее сына, к которому она склонилась. Он встал на колени. На минуту он задумался, можно ли молиться перед собственным творением, не грех ли это, но ведь он изваял эту статую так давно, еще совсем молодым, в двадцать четыре года. И хотя на него нахлынула волна тех ощущений, которыми он жил в ту далекую пору, когда он впервые утвердил себя как скульптор, он не мог вспомнить решительно ни одной подробности, ни одной мелочи тогдашнего кропотливого своего труда над статуей. Словно бы ее создал не он, а кто-то другой, человек, которого он знал сто лет тому назад. Рим сегодня весь высыпал на улицы — был праздник; красочно одетые люди ждали, когда от Капитолийского холма к площади Навона тронется двенадцать триумфальных колесниц. В этом году собирались показать состязания буйволов с лошадьми, потом двенадцать быков, впряженных в колесницы, побегут по крутому склону горы Тестаччио вниз до того места, где их для удовольствия публики зарежут, как резали поросят в тот давний праздник, когда Микеланджело слонялся по римским улицам вместе с Бальдуччи. Не сознавая отчетливо, куда он идет, Микеланджело оказался перед домом Кавальери, расположенным среди обширного сада, в квартале Святого Евстахия. Это приземистое, похожее на крепость здание, фасадом выходившее на площадь, уже несколько столетий подряд было родовым гнездом Хранителей — так издавна называли семейство Кавальери за его деятельную заботу о древностях Рима, о старинных церквах, фонтанах и статуях. Микеланджело собирался посетить этот дом уже три недели, и ходьбы до него от Мачелло деи Корви было всего десять минут: сначала прямо по узенькой Виа ди Сан Марко, а потом по Виа делле Боттеге Оскуре. Ударив молотком по металлической доске подле парадного входа, Микеланджело с удивлением подумал, почему он так долго не заходил к Томмазо де Кавальери, хотя весь последний год своей мучительной жизни во Флоренции он чувствовал, что, помимо прочего, его влечет в Рим и мысль об этом юном очаровательном друге. Слуга открыл дверь и провел Микеланджело налево, в зал, где хранилось одно из лучших в Риме частных собраний античных мраморов. Переходя от статуи к статуе, Микеланджело осматривал то фавна с виноградной кистью, то спящего на скале ребенка, рука которого сжимала пучок маков, то барельеф с морским конем и женщиной, сидящей на этом коне и окруженной дельфинами. И все время он думал о тех полных горячей дружбы письмах, которыми они обменивались с Томмазо, и о своих рисунках с изображением Ганимеда и Тития, посланных юноше, чтобы тот учился мастерству. Он услышал шаги за спиной, повернул голову… и чуть не вскрикнул от удивления. За те два года, которые они не виделись, Томмазо сильно изменился. Он был теперь уже не привлекательным молодым человеком, а таким красивым мужчиной, каких Микеланджело еще никогда не видел: перед этой красотою словно бы поблекло даже греческое изваяние дискобола, рядом с которым остановился Томмазо, — столь широки и мускулисты были у него плечи, столь тонка талия и стройны, изящны ноги. — Вы пришли наконец, — сказал Томмазо, и в голосе его прозвучала неожиданная для такого молодого человека нота спокойствия и испытанной светской учтивости. — Я не хотел тебя обременять своими печалями. — Друзья могут делиться и печалями. Они шагнули навстречу друг к другу и порывисто обнялись. Микеланджело заметил, что глаза у Томмазо стали более темными, обретя почти кобальтовую синеву, и черты лица казались отточенней и выразительней, чем прежде. — Теперь я понял, где я видел тебя давным-давно — на плафоне Систины! — воскликнул Микеланджело. — Как я мог там оказаться? — Я поместил тебя на плафоне собственными руками. Помнишь: Адам, готовый принять искру жизни от Господа Бога. Это же ты, ты, вплоть до такой детали, как твои светло-каштановые волосы, ниспадающие на шею. — Но вы писали Адама так много лет назад. — Около двадцати четырех. Как раз в то время, когда ты родился. И написанный мною образ ты воплотил в действительность. — Смотрите, до какой степени я уважаю своих друзей! — сказал Томмазо с улыбкой. — Я даже склонен поверить в чудо. — Отрицать чудеса невозможно. Вот я вошел в этот зал тяжкой поступью, с тяжелым сердцем. И прошло только десять минут, как я с тобою, а с моих плеч свалилось десять лет. — Ваши рисунки сделали меня как рисовальщика на десять лет старше. — Как хорошо, что старый человек и юноша могут обмениваться своими годами, будто это не года, а подарки на Крещенье. — Не зовите себя старым, — возразил Томмазо. Когда он сердился, глаза его темнели еще больше, напоминая чернила. — Я поражен, слыша от вас столь неподобающие слова. Человек бывает стар или молод в зависимости от того, сколько в нем осталось творческой силы. Широкая улыбка осветила лицо Микеланджело. Тяжесть, до той поры давившая ему грудь и голову, сразу исчезла. — Ты, наверное, знаешь, что я должен писать для папы Павла «Страшный Суд». — Мне говорили об этом на заутрене. Ваша фреска будет блистательным завершением капеллы, под стать великому плафону. Чтобы скрыть нахлынувшие на него чувства, Микеланджело отвернулся от Томмазо и молча стоял, проводя кончиками пальцев по чудесно изваянным ягодицам Венеры. Волна счастья охватывала его, и, с трудом овладев собой, он заговорил, обращаясь к другу: — Томмазо, до этой минуты я не думал, что дерзну приняться за «Страшный Суд». Теперь я знаю, что я могу его написать. Они стали подниматься по широкому маршу лестницы. Вверху, под защитой балюстрады, у Кавальери были расставлены меньшие и более хрупкие изваяния: женская голова, служившая подставкой для корзины, древнеримская статуя императора Августа, морская раковина, внутри которой была заключена обнаженная фигура. Половину своего рабочего дня Томмазо Кавальери тратил на исполнение своих обязанностей в налоговой комиссии и в конторе по строительству публичных зданий, остальное время он посвящал рисованию. Мастерская его размещалась в задней части дворца, выходя окнами на Торре Арджентина, — это была почти пустая комната с деревянными козлами, на которых лежали голые доски. На стене, подле рабочего стола, висели рисунки Микеланджело — и те, которые он сделал два года назад в Риме, и те, что он прислал из Флоренции. На досках были разложены десятки рисунков самого Томмазо. Микеланджело внимательно оглядел их и воскликнул: — У тебя замечательный талант! И ты упорно работаешь. Лицо Томмазо заволокло облако печали. — В прошлом году я попал в дурную компанию. Рим, как вы знаете, полон искушений. Я слишком много пил, предавался разврату, а работал очень мало. Микеланджело удивился той сумрачной серьезности, с какой Томмазо корил самого себя. — Даже Святой Франциск был необуздан в молодости, Томао. — Эта ласкательная форма имени, к которой прибегнул Микеланджело, заставила Томмазо наконец улыбнуться. — Могу я работать с вами хотя бы два часа в день? — Моя мастерская всегда открыта для тебя. Что может принести мне больше счастья? Погляди, как укрепляет меня твоя вера, твоя любовь. Я уже жажду приняться за рисунки для «Страшного Суда». Я хочу быть тебе не только другом, но и учителем. Ты поможешь мне увеличить мои рисунки, будешь рисовать моих натурщиков. Мы вырастим из тебя великого художника. Томмазо стоял бледный, потускневшие его глаза словно подернула серая пелена. Он глухо сказал: — Вы — само олицетворение искусства. Пристрастие, которое вы проявляете ко мне, вы могли бы проявить к любому человеку, обожающему искусство и готовому посвятить ему жизнь. Я скажу вам так: никого я не любил больше, чем люблю вас, ничьей дружбы не желал горячей, чем желаю вашей. — Мне бесконечно жаль, что я не в состоянии отдать тебе все свое прошлое, как я могу отдать тебе будущее. — А мне жаль, что я не могу ничем одарить вас в ответ. — Ах, — сказал Микеланджело мягко, — тут ты заблуждаешься. Когда я стою вот у этого рабочего стола и смотрю на тебя, я не чувствую своих лет и не боюсь смерти. Это самое драгоценное из всего, что человек может дать другому человеку. Они стали неразлучны. Они выходили рука об руку на площадь Навона подышать свежим воздухом, вместе по воскресеньям делали зарисовки на Капитолии или на Форуме, ужинали друг у друга дома после работы, а затем целыми вечерами беседовали или увлеченно рисовали. Радость, которую они испытывали в обществе друг друга, каким-то отблеском озаряла и других людей, кто их видел вместе; теперь это нерасторжимое единство признавали уже все и, желая куда-либо пригласить Томмазо или Микеланджело, неизменно приглашали обоих. Как он мог бы назвать свое чувство к Томмазо? Несомненно, это было прежде всего поклонение красоте. Физическое обаяние Томмазо действовало на него с огромной силой, вызывая ощущение щемящей пустоты где-то под сердцем. Он понимал, что то, что он чувствовал по отношению к Томмазо, можно было определить только словом «любовь», но не хотел признаться себе в этом. Если припомнить все увлечения, какие он испытывал в своей жизни, то как можно назвать эту привязанность? С какой былой любовью сравнить эту любовь? Она даже отдаленно не напоминала ту любовь, которую он питал к своему семейству и которая скорей походила на подчинение; она была совсем не похожа и на топоклонение, с которым он относился к Великолепному, или на глубокую почтительность к Бертольдо; нельзя было сопоставить ее ни с терпеливой и долгой, хотя и приглушенной, любовью к Контессине, ни с незабываемой страстью к Клариссе, ни с чувством дружеской любви к Граначчи, ни с отеческой его любовью к Урбино. Быть может, эта любовь, пришедшая в его жизнь так поздно, вообще не поддавалась определению словом. — Вы чтите во мне свою утраченную юность, — сказал Томмазо. — Даже в своих мечтах я не заносился так высоко, чтобы быть похожим на тебя, — с горечью отозвался Микеланджело. Они рисовали за столом, поставленным у горящего камина. Микеланджело делал первые наброски будущей фрески в Систине, вычерчивая уравновешивающие друг друга фигуры для боковых частей стены: справа люди словно взлетали вверх, к небесам, слева низвергались в преисподнюю. — Когда вы возражаете мне, — снова заговорил Томмазо, — вы думаете лишь о своей внешней оболочке. А ведь мой внутренний облик очень беден и прост. Я с удовольствием отдал бы свои физические черты за ваш гений. — И свалял бы дурака, Томмазо. Физическая красота — это один из редчайших даров Господа. — И один из самых бесполезных, — отозвался Томмазо с мукой, весь побледнев. — Нет, нет! — воскликнул Микеланджело. — Красота дает радость всем и каждому. Скажи, зачем, по-твоему, я создал целое племя великолепных существ в мраморе и красках, отдав на это свою жизнь? Да потому, что я поклоняюсь красоте — этому внешнему проявлению божественного начала в человеке. — Ваши творения прекрасны потому, что вы вдохнули в них душу. Ваше «Оплакивание», «Моисей», фигуры Сикстинского плафона — они чувствуют, размышляют, им ведомо сострадание… Только потому они живые, и только потому они для нас что-то значат. Этот взрыв страсти заставил Микеланджело сразу же сдаться. — В твоих словах звучит мудрость человека, которому шестьдесят, а я рассуждал с легкомыслием двадцатичетырехлетнего юноши. Он просыпался с рассветом, горя желанием сесть за рабочий стол. К тому времени когда солнце освещало колонну Траяна, приходил Томмазо: в руках его был сверток со свежими булочками, на завтрак Микеланджело. Постепенно приноровясь к требованиям Микеланджело, Урбино теперь искал натурщиков — в мастерской каждый день появлялись разные незнакомцы — рабочие, механики, дворяне, ученые, люди всякого вида, всех национальностей. В фреску «Страшного Суда» должно было войти много женщин: пришлось нанимать натурщиц в банях, в борделях, приглашать самых дорогостоящих гетер — те позировали обнаженными ради забавы. Микеланджело нарисовал портрет Томмазо — это был единственный случай в жизни, когда он соблаговолил сделать портрет. С помощью черного мела он выразительно передал его гладкие щеки, чудесно изваянные скулы; Томмазо был изображен в античном костюме и держал в руках медальон. — Узнаешь себя, Томмазо? — Рисунок великолепный. Но это не я. — Нет, ты — такой, каким я тебя вижу. — Это лишает меня последней веры… Вы лишь подтвердили то, о чем я догадывался с самого начала: у меня есть вкус, я могу отличить хорошую работу от плохой, но во мне нет творческого огня. Томмазо, сгорбившись, сидел на скамье, Микеланджело, вскинув голову, стоял рядом — любовь к Томмазо словно бы делала его всесильным гигантом. — Томао, разве моими стараниями Себастьяно не стал известным живописцем? Разве я не обеспечил его крупными заказами? А ведь ты одареннее его в тысячу раз. Томмазо стиснул челюсти. Отступать и отказываться от своего убеждения он не хотел. — Учась у вас, я глубже постигаю природу искусства, но творческие мои способности от этого не возрастут. Вы напрасно теряете время, занимаясь со мной. Мне не надо больше приходить к вам. После ужина Микеланджело уселся за своим длинным столом и начал писать. К утру он закончил два сонета:ЛЮБОВЬ, ДАЮЩАЯ СВЕТ
3
Он вошел в Сикстинскую капеллу один и, став под многолюдное сборище из Книги Бытия, тщательно осматривал алтарную стену. С краю потолка, на своем мраморном троне, восседал Иона — этот пророк из Ветхого завета будет теперь сидеть над головой творящего суд Христа из Евангелия. Стена, распростершаяся почти на восемь сажен в вышину и на пять с лишним в ширину, вся была заполнена и расписана; в нижнем ее поясе были изображены шпалеры, почти в точности такие, как и на боковых стенах; над престолом были две фрески Перуджино — «Спасение младенца Моисея» и «Рождество Христово»; выше располагались два окна, парные окнам на боковых стенах, с портретами двух первых пап — Святого Лина и Святого Клита, а затем, в самом верху, в четвертом ярусе, были два его, Микеланджело, собственных люнета, расписанных изображениями предшественников Христа. Снизу стена была задымлена; запачкана и повреждена она была и во втором ярусе, а вверху виднелись подтеки от сырости; пыль, сажа и копоть от свеч, зажигаемых на алтаре, покрывала всю ее поверхность. Микеланджело не хотелось уничтожать фрески Перуджино, но поскольку требовалось сбить и два его собственных люнета, его нельзя будет упрекнуть в мстительности. Он устранит два мешающих ему окна, возведет совершенно новую, из свежего кирпича, стену — он поставит ее чуть наклонно, отведя низ дюймов на десять вглубь, так, чтобы пыль, грязь и сажа не прилипали к ней столь легко. Папа Павел охотно дал свое согласие на все эти планы. Фарнезе нравился Микеланджело все больше и больше, между ними завязались чисто дружеские отношения. Бурно проведя свою молодость, в конце концов Павел стал ученым, знатоком греческого и латинского, прекрасным оратором и писателем. Он был намерен избегать военных столкновений, к которым так рвался Юлий, он не желал устраивать при своем дворе оргий, какие устраивал папа Лев, надеялся не допустить тех ошибок в международных делах, какие были у Клемента, и не хотел вести те интриги, какие вел тот. Как убедился Микеланджело, когда его пригласили в Ватикан, Павел был щедро наделен чувством юмора. Видя блестящие, лукавые глаза первосвященника, Микеланджело сказал: — Вы сегодня чудесно выглядите, ваше святейшество. — Не говори об этом слишком громко, — с усмешкой шепнул ему в ответ Павел. — Иначе ты огорчишь всю коллегию кардиналов. Ведь они избрали меня папой только потому, что считали, будто я при смерти. Но папство пришлось мне так по вкусу, что я решил пережить всех кардиналов. Микеланджело чувствовал себя счастливым — он прилежно рисовал в своей мастерской, которую Урбино привел в порядок и заново выкрасил. Рисование, подобно пище, напиткам и сну, прибавляет человеку сил. Чертя по бумаге, рука подавала Микеланджело первые зародыши мыслей, и он быстро их ухватывал. Судный день, гласит христианская догма, должен совпасть с концом света. Верно ли это? Мог ли Господь сотворить мир только для того, чтобы его оставить? Ведь Господь Бог создал человека по своему собственному побуждению. Так разве у Бога недостанет могущества, чтобы хранить и поддерживать этот мир всегда и вечно, вопреки всем бесчестиям и злу? Разве Господь не стремился к этому, разве не такова его воля? Поскольку каждый человек перед смертью сам себя подвергает суду, каясь в грехах или умирая нераскаявшимся, разве нельзя предположить, что Страшный Суд — это преддверье золотого века, который Господь уготовил людям, только ожидая часа, чтобы послать народам Христа и начать судилище? Микеланджело считал, что Страшный Суд ему надо писать отнюдь не совершившимся, а едва только начатым, на пороге свершения. Тогда он мог бы показать суд человека над самим собой перед лицом смертных мук. Тут уж не могло быть уверток и обмана. Микеланджело верил, что каждый несет ответственность за свои деяния на земле, что существует внутренний суд человека. Мог ли даже пылающий гневом Христос принести человеку большее возмездие? Мог ли Дантов Харон, плывя в своей ладье по Ахерону, низвергнуть злодеев в преисподнюю более страшную, чем та, что видится взору человека, суровым судом осудившего самого себя? С той секунды, как перо его прикоснулось к бумаге, он уже искал очертания человеческих форм, той единственной, нервной линии для каждой фигуры, которая передавала бы отчаянную напряженность движения. Сердясь на то, что приходится прерывать линию, он окунал перо в чернила и снова вел ее, стремясь выразить и форму и пространство одновременно. Внутри возникшего контура он наносил как бы пучки перекрестных штрихов и линий — так выявлялась игра мускулов в их различных состояниях, проступала взаимосвязь внутренних тканей и покровов. Он стремился как можно острее отграничить телесные формы от живого, трепетного воздуха — этого он достигал, вторгаясь в голые нервы пространства. Каждый мужчина, женщина и ребенок должны были предстать в совершенной ясности и явить свое человеческое достоинство во всей полноте, ибо каждый из них был личностью и чего-то стоил. Это был главный мотив в борьбе за возрождение знания и свободы, которые после сна и мрака многих веков вновь воспрянули во Флоренции. Никогда и никто не скажет, что он, Микеланджело Буонарроти, тосканец, низводил человека до незаметной, неразличимой частицы примитивной массы, изображал ли он его на пути к раю или к аду. Хотя он сам и не признался бы в этом, но руки его были утомлены беспрерывным десятилетним ваянием фигур в часовне Медичи. Чем пристальней осматривал он свой плафон в Сикстинской капелле, тем больше склонялся к мысли, что в конце концов живопись могла бы стать благородным и вечным видом искусства. Постепенно вокруг Микеланджело собралась целая группа молодых флорентинцев — каждый вечер они приходили в отремонтированную его мастерскую на Мачелло деи Корви и обсуждали с ним свои планы свержения Алессандро. Во главе этого кружка стояли такие лица, как блестящий, полный энергии кардинал Ипполито и кардинал Эрколе Гонзага, разделявшие верховенство в ученых и художественных сферах Рима; изящный и милый кардинал Никколо; Роберто Строцци, отец которого в свое время помог Микеланджело пристроить Джовансимоне и Сиджизмондо к шерстяной торговле, а дед купил у Микеланджело первую проданную им скульптуру; многие сыновья и внуки давних жителей флорентинской колонии, в чьи дома любезно приглашали Микеланджело и ту пору, когда он впервые приехал в Рим и когда кардинал Риарио вынудил его долго слоняться без дела. Начав теперь в воскресные вечера наносить визиты, Микеланджело сделался центром внимания со стороны другой деятельной группы молодых людей: там были Пьерантонио, скульптор; Пьерино дель Вага, наиболее известный лепщик и декоратор в Риме; его ученик Марчелло Мантовано; Якопино дель Конте, флорентинец, ученик Андрея дель Сарто, приехавший в Рим вслед за Микеланджело; Лоренцетто Лотти, архитектор при соборе Святого Петра, сын колокольного мастера, того самого, что работал с Микеланджело в Болонье. Эти юноши видели в Микеланджело смелого человека, который бросал вызов папам, достойного воспитанника Лоренцо Великолепного. Флоренция катилась теперь в глубокую пропасть, ее сыны приходили в отчаяние и теряли веру в себя, и этим юношам было отрадно знать и думать, что Микеланджело возвышается над Европой подобно горе Альтиссиме. Он укреплял в них гордость от сознания того, что они тосканцы; он один создал столько поистине гениальных произведений, сколько не создали все остальные художники, вместе взятые. Если Флоренция могла породить Микеланджело, она переживет Алессандро. С болью в душе Микеланджело сознавал, что никогда раньше он не пользовался подобного рода признаньем и что вряд ли бы он благосклонно отнесся к подобной популярности, приди она в былые годы. — У меня меняется характер, — говорил он Томмазо. — Когда я расписывал плафон, ни с кем, кроме Мики, я тогда и не разговаривал. — Это было для вас несчастное время? — Художник, когда он в расцвете своих сил, живет в особом мире — обычное человеческое счастье ему чуждо. Микеланджело понимал, что перемена в его характере отчасти вызвана его чувством к Томмазо. Он восхищался телесной красотой и благородством духа Томмазо так, как мог бы восхищаться впервые влюбленный юноша нежной девушкой. Он ощущал все симптомы подобной любви: его переполняла радость, когда Томмазо входил в комнату, томила печаль, когда он уходил, он мучился ожиданием, когда предстояла с ним встреча. Вот он смотрит на Томмазо, сосредоточенно рисующего что-то углем. Он не смеет сказать ему, какие чувства его обуревают, и только глубокой ночью, оставшись один, он расскажет о них в сонете:«Когда же приидет Сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с Ним: тогда сядет на престоле славы своей. И соберутся перед Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлиц. И поставит овец по правую свою сторону, а козлиц по левую».На пути домой, любуясь с горы Кавалло раскинувшимся в лучах закатного солнца городом, Микеланджело спросил: — Томмазо, когда мы можем повидать ее снова? — Когда она пригласит нас. — А до той поры нам придется ждать? — Придется. Сама она никуда не выходит, нигде не появляется. — Тогда я буду ждать! — сказал Микеланджело твердо. — Буду ждать, как молчаливый проситель, пока госпожа не соизволит пригласить меня вновь. Улыбка тронула углы губ Томмазо. — Я так и думал, что она произведет на вас впечатление. Всю эту ночь перед Микеланджело сияло лицо Виттории Колонны. Уже много лет мысли о женщине не захватывали его с такой неотвратимой силой. Строки стихов, блуждавшие у него в голове, говорили уже не о Томмазо де Кавальери, а о маркизе Пескарской, и утром, едва только запели петухи, он вскочил с постели и написал:
4
Прошло две недели, прежде чем он дождался приглашения. За это время в сознании Микеланджело скульптурная красота Виттории — формы ее тела, ее сильное, но нежное лицо каким-то образом слились с мраморным изваянием Ночи в часовне Медичи. Стоял теплый и ясный день, майское воскресенье, когда слуга маркизы Фоао принес от нее известие. — Моя госпожа просила передать вам, мессер, что она находится в часовне Святого Сильвестра на Квиринале. Часовня эта закрыта для прихожан, там очень приятно. Госпожа спрашивает, не угодно ли вам будет пожертвовать часом времени, чтобы она могла побеседовать с вами. Освежаясь в ушате холодной воды, который Урбино поставил на веранде, выходящей в сад, Микеланджело не мог подавить волнения. Он надел специально купленную на случай приглашения к маркизе темно-синюю рубашку и чулки и зашагал вверх по холму. Он рассчитывал побыть с нею наедине, но когда Виттория Колонна в белоснежном шелковом платье, с белой кружевной мантильей на голове, встала ему навстречу, он увидел, что часовня полна приглашенных. Здесь были известнейшие лица из Ватикана и университета. Художник-испанец жаловался на то, что в Испании нет уже хорошего искусства, так как испанцы не придают значения ни живописи, ни скульптуре и не хотят тратить на них деньги. После этого все принялись говорить об искусстве своих городов-государств: венецианцы о портретах Тициана, падуанцы о фресках Джотто, сиенцы об уникальной своей ратуше, феррарцы об украшениях замка, затем в разговор вступили пизанцы, болонцы, жители Пармы, Пьяченцы, Милана, Орвието… Микеланджело хорошо знал большинство упоминаемых работ, но слушал гостей рассеянно: он все время смотрел на Витторию, неподвижно сидевшую у окна с цветными стеклами, которые бросали свой радужный отблеск на ее безупречно белое лицо и руки. Он невольно раздумывал: если брак Виттории с маркизом был так счастлив и полон любви, то почему за все его шестнадцать лет они жили вместе лишь несколько месяцев? Почему маркиза пребывала в одиночестве на севере Италии в долгие дождливые зимы, когда никаких военных действий не могло и быть? И почему один старый друг отвел глаза в сторону, когда Микеланджело спросил его, какие подвиги совершил муж маркизы на том поле боя, где его убили? Вдруг Микеланджело почувствовал, что в часовне наступила тишина. Все взоры были обращены на него. Эрколе Гонзага вежливо повторил свой вопрос: не скажет ли Микеланджело, какие произведения искусства во Флоренции ему нравятся больше других? Микеланджело чуть покраснел, голос его дрогнул. Он заговорил о красоте изваяний Гиберти, Орканьи, Донателло, Мино да Фьезоле, о живописи Мазаччо, Гирландайо, Боттичелли. Когда он смолк, Виттория Колонна сказала: — Зная, что Микеланджело скромный человек, мы воздерживались говорить об искусстве в Риме. Но в Систине наш друг создал роспись, которая под силу лишь двадцати великим художникам, работай они вместе. Кто сомневается, что наступит время, когда все человечество будет видеть и понимать сотворение мира по фрескам Микеланджело? Ее огромные зеленые глаза поглотили его без остатка. Все, что она говорила, было обращено как бы к нему одному; слова ее звучали спокойно, сдержанно, но в голосе все же прорывалась какая-то особая горловая нота; губы ее, казалось ему, были так близко от его губ. — Не думайте, Микеланджело, что я захваливаю вас. По существу, я хвалю совсем и не вас, вернее, хвалю вас как верного слугу. Ибо я давно считаю, что у вас истинно божественный дар и что вы избраны для исполнения вашей великой цели самим Господом. Микеланджело напряг свой ум в поисках ответа, но слова не приходили. Ему хотелось лишь сказать Виттории, какие чувства он к ней испытывает. — Святой отец осчастливил меня, дав разрешение построить у подножия горы Кавалло монастырь для девушек, — продолжала Виттория. — Место, которое я выбрала, находится около разбитого портика при башне Мецената, с которой, как говорят, Нерон любовался горящим Римом. Мне нравится сама мысль, что святые женщины сотрут следы ног столь порочного человека. Я только не знаю, Микеланджело, какие придать монастырю архитектурные формы и можно ли там воспользоваться некоторыми старыми строениями. — Если вы готовы спуститься к этому месту, синьора, мы осмотрим все руины. — Вы очень любезны. Он и не помышлял о любезности, он просто рассчитывал, спустившись к древнему храму и расхаживая по грудам камня, провести с нею час наедине, без посторонних глаз. Однако маркиза пригласила на эту прогулку и всех остальных гостей. Микеланджело был вознагражден лишь тем, что ему позволили идти с нею рядом — эта физическая, духовная и интеллектуальная близость взбудоражила его, совсем затуманив рассудок. Но он все же выбрался из окутывавшего его облака чувств — пришлось вспомнить, что он архитектор, и выбирать место для будущего монастыря. — Этот разрушенный портик, маркиза, можно, на мой взгляд, превратить в колокольню. Я мог бы сделать и несколько набросков монастырского здания. — Я не решалась просить вас о такой услуге. Теплота благодарности, с которой были произнесены эти слова, так тронула его, точно это были и не слова, а обнимавшие его руки. Он уже поздравлял себя, полагая, что его стратегический расчет, как разбить барьер безразличия, воздвигаемый Витторией между собой и окружающими, вполне оправдывается. — Я сделаю эти наброски за день или за два. Куда вам их принести? Глаза Виттории сразу стали непроницаемы. Она ответила ему сдержанно, почти сухо: — У меня очень много забот по монастырским делам. Может быть, Фоао известит вас, когда я буду свободна? Через неделю или две? Он вернулся в свою мастерскую разъяренный, расшвыривая все вокруг. Какую игру ведет с ним эта женщина? Неужто она расточает эти чрезмерные комплименты лишь для того, чтобы склонить его к своим ногам? Тронул он ее сердце или не тронул? Если она желает его дружбы, то почему так отталкивает его? Отсрочить встречу… на целых две недели! Понимает ли она, как глубоко он очарован ею? Есть ли в ее жилах человеческая горячая кровь? И хоть какие-то чувства в груди? — Вы должны понять, что она посвятила всю себя памяти мужа, — говорил ему Томмазо, видя, как он взволнован. — Все эти годы, как погиб маркиз, она любила одного только Иисуса. — Если бы любовь к Христу отвращала женщин от любви к живым мужчинам, итальянский народ давным-давно бы вымер. — Я принес вам кое-какие стихи маркизы. Быть может, вы извлечете из них что-то новое и об авторе. Вот послушайте такое стихотворение:5
Любовь Микеланджело к Виттории ничуть не изменила его чувств к Томмазо Кавальери. Как и прежде, прихватив с собой кувшин холодного молока или корзинку фруктов, Томмазо являлся каждое утро в мастерскую к Микеланджело и часа два, пока держалась прохлада, рисовал в непосредственной близости от его критического ока. Микеланджело заставлял Томмазо десятки раз перерисовывать каждый набросок и никогда не показывал вида, что он доволен, хотя в душе считал, что Томмазо работает очень успешно. Томмазо был теперь принят при папском дворе. Павел назначил его на пост смотрителя римских фонтанов. Оторвав взгляд от работы, Томмазо посмотрел на Микеланджело, в голубых его глазах чувствовалась озабоченность. — В Риме теперь нет ни одного инженера, Микеланджело, который бы толком знал, как древние строили водопроводы. Никто не дерзнет сейчас хотя бы перестроить акведук. В чем тут дело? Почему люди совершенно лишились умения, растеряли способности? Я теперь думаю, что мне не надо становиться художником. Я хочу стать архитектором. Мои предки жили в Риме не меньше восьми веков. Этот город вошел в моюкровь. Я хочу не только охранять его, но и помочь в его перестройке. Архитекторы — вот кто нужен теперь Риму в первую очередь. Весь проект росписи алтарной стены в Сикстинской капелле был теперь завершен. У Микеланджело насчитывалось более трехсот фигур, которые он перенес в композицию со своих первоначальных рисунков, эти фигуры, все до одной, были в движении, составляя бурную толпу, обступившую Христа, — они располагались по окружностям, расходящимся от центра фрески, и захватывали все пространство стены: на одном ее крае человеческие тела взлетали, точно поднятые ураганом, на другом — низвергались, падали в бездну. Но ни одно существо не касалось белого поля облаков под ногами Христа. Внизу фрески, слева, было изображено зияющее подземелье ада с его вековыми погребениями, справа текла река Ахерон. Микеланджело установил для себя распорядок работы: за один день писать на стене одну фигуру в натуральную величину, два дня отводил он на фигуры более крупные. В Деве Марии Микеланджело слил, сплавил образ собственной матери, Богородиц «Оплакивания» и часовни Медичи, Сикстинской Евы, принимающей яблоко от змия и Виттории Колонны. Подобно Еве, она была юной, крепкой, полной жизни женщиной, но в ее фигуре проступало и возвышенное очарование Богоматери. Мария отвернулась от Иисуса, не желая видеть его безжалостный суд и сама ему неподвластная. Может быть, она отстранялась от него потому, что страдала, жалела этих людей, подвергнутых судилищу, невзирая на то, какую жизнь они прожили? Разве судил Господь овец, коров, птиц? Как мать, не чувствовала ли она боли за обреченные души, съежившиеся под карающей рукой ее сына, объятого справедливым гневом? Могла ли она считать, что не отвечает за него, если он и был сыном Господним? Она носила его в своем чреве девять месяцев, кормила его грудью, залечивала его раны. И вот ее сын судил сынов других матерей! Добрые будут спасены, святые возвращены на небо, но их было так мало по сравнению с бесконечными толпами грешников. Все, что ни совершал ее сын, было непререкаемо, и, однако, она не могла не содрогнуться перед ужасающими страданиями, на которые обрекались эти людские толпы. Карл Пятый не приехал в Рим, он был занят подготовкой флота в Барселоне, собираясь в поход против берберийских пиратов. Флорентинские изгнанники направили к нему делегацию: им хотелось уговорить императора, чтобы он назначил правителем Флоренции кардинала Ипполито. Приняв эту делегацию и успокоив ее Карл отложил решение вопроса о правителе до тех пор, пока не возвратится с войны. Когда Ипполито узнал об этом, он решил поехать к Карлу и сражаться на его стороне. В Итри, куда он прибыл, чтобы сесть на корабль, один из агентов Алессандро дал ему яду, и Ипполито тут же скончался. Флорентинская колония была погружена в глубочайшее уныние. Для Микеланджело эта утрата была особенно тяжелой: в Ипполито он видел все, что любил в его отце, Джулиано. К осени исполнился год, как Микеланджело жил в Риме; его стена в Систине была к тому времени уже сложена из нового кирпича и даже просохла; картон, где были вычерчены фигуры более трехсот человек, из «всех народов», как сказано у Матфея, был тоже готов, оставалось только увеличить его, доведя до тех размеров, каких требовала стена. Папа Павел, желая дать Микеланджело уверенность в будущем, выпустил послание, в котором говорилось, что Микеланджело Буонарроти назначается скульптором, живописцем и архитектором всего Ватикана, с пожизненной пенсией в сто дукатов помесячно — пятьдесят дукатов из папской казны, пятьдесят со сборов за перевоз через реку По в Пьяченце. Себастьяно дель Пьомбо, стоя с Микеланджело в Систине и оглядывая уже поставленные у стены подмостки, спрашивал: — Вы не позволите мне, крестный, оштукатурить для вас эту стену? Я это делаю хорошо. — Это скучная работа, Себастьяно. Подумай сначала, стоит ли тебе за нее браться. — Мне будет лестно сказать, что и я приложил руку к «Страшному Суду». — В таком случае действуй. Только не примешивай в раствор римскую поццолану, стена от этого долго не просыхает; добавляй вместо нее мраморной пыли, а воды в известь лей поменьше. — Стена у вас будет прекрасной. Действительно, когда Себастьяно кончил работу, по виду к его штукатурке нельзя было придраться, но, подойдя к алтарю, Микеланджело потянул носом и почуял что-то неладное. Оказалось, что Себастьяно добавлял к извести мастики и камеди и наносил эту смесь на стену раскаленным на огне мастерком. — Себастьяно, ты что — готовил мне стену под масляную живопись? — А разве вы хотели не так? — невинно отозвался Себастьяно. — Ты же знаешь, что я пишу фреску! — Вы не говорили мне этого, крестный. А ведь в церкви Сан Пьетро ин Монторио я писал масляными красками. Микеланджело смерил взглядом венецианца от лысой макушки до жирного чрева — тот явно трусил. — И ты считаешь, твой опыт дает тебе право расписать кусок моей стены? — Я хотел лишь помочь… — …написать «Страшный Суд»? — в голосе Микеланджело все явственнее звучала ярость. — Раз ты умеешь работать только маслом, значит, ты приготовил стену для себя, чтобы писать вместе со мной! Что ты тут наделал еще? — Еще… еще… я поговорил с папой Павлом. Ему ведь известно, что я из вашей боттеги. Вы упрекали меня, что я ничего не делаю. А здесь у вас такая возможность… — Выгнать тебя вон! — вскричал Микеланджело. — Пусть бы вся эта штукатурка обрушилась на твою неблагодарную голову! Себастьяно поспешно скрылся, но Микеланджело понимал, что потребуется не один день и даже не одна неделя, прежде чем удастся ободрать и очистить стену. Затем надо будет дать стене подсохнуть и только потом покрывать ее заново, уже действительно под фреску. Свежая штукатурка тоже должна сохнуть — на это уйдет еще какое-то дополнительное время. Себастьяно похитил у него целый рабочий месяц, а может, даже два или три! Трудолюбивый и ловкий Урбино все же привел стену в порядок, а вот восстановить мир с Антонио Сангалло, взбешенным указом папы о новом архитекторе, Микеланджело не удалось до конца своих дней. Антонио да Сангалло было теперь пятьдесят два года, худощавое свое лицо он оснастил точно такими же по-восточному пышными усами, какие носил его покойный дядя Джулиано. Он был учеником Браманте, когда тот строил собор Святого Петра, а после кончины этого зодчего состоял помощником у Рафаэля. Он входил в ту клику Браманте — Рафаэля, которая бранила плафон Систины и нападала на Микеланджело. Но вот умер Рафаэль, и Сангалло занял пост архитектора собора Святого Петра и архитектора Рима, лишь некоторое время делясь своей властью с сиенцем Балдассаре Перуцци, которого ему в качестве равноправного коллеги навязал папа Лев. За те пятнадцать лет, что Микеланджело работал в Карраре и во Флоренции, никто ни разу не отважился бросить вызов авторитету и могуществу Сангалло. Нынешнее послание папы с назначением Микеланджело привело его в неистовый гнев. Томмазо первый предупредил своего учителя, что разъяренный Сангалло все больше выходит из себя. — Он рвет и мечет не столько из-за того, что вас официально назначили скульптуром и живописцем Ватикана. Этот шаг папы он просто высмеивает как проявление дурного вкуса. Но вот то, что вы стали теперь и официальным архитектором, — это его бесит до безумия. — Я не просил папу вписывать этот пункт в послание. — Сангалло вам в этом не убедить. Он уверяет, что вы хотите отнять у него собор Святого Петра. — Что он называет собором? Те фундаменты и пилоны, которые он громоздит вот уже пятнадцать лет? В тот же вечер, уже запоздно, Сангалло пришел к Микеланджело сам — архитектора сопровождали двое его учеников, освещавших ему фонарями дорогу через форум Траяна. Микеланджело впустил всех их в дом и пытался умиротворить Сангалло, напомнив ему о прежних днях, когда они встречались под кровом его дяди во Флоренции. Но Сангалло был неумолим. — Мне надо было явиться сюда в тот самый день, как я узнал, что ты поносишь меня перед папой Павлом. Ведь это та же злобная клевета, которую ты пускал в ход и против Браманте. — Я говорил папе Юлию, что бетон у Браманте скверный и что пилоны треснут. Рафаэль потратил целые годы, чтобы их укрепить и отремонтировать. Разве это неправда? — Ты рассчитываешь, что тебе удастся восстановить против меня папу Павла. Это ты потребовал, чтобы он объявил тебя архитектором Ватикана. Ты хочешь изгнать меня отовсюду. — Нет, нисколько. Я забочусь о строительстве. Деньги на него уже все израсходованы, а храма пока и не видно, ни одна часть не готова. — Только послушать, что говорит великий архитектор! Я видел твой унылый купол, который ты насадил на часовню Медичи. — Сангалло прижал к груди стиснутые кулаки. — Предупреждаю тебя: не суй свой переломанный нос в дела собора! Ты всегда любил встревать в дела которые тебя не касались. Тебя не отучил от этого даже Торриджани. Если ты дорожишь своей жизнью, запомни: собор Святого Петра — мое дело! Вспыхнув при упоминании имени Торриджани, Микеланджело все же сдержался, сжал губы и ответил холодно: — Твое, да не совсем. Собор задумывал я, и, вполне возможно, мне и придется завершать его. Теперь, когда Сангалло объявил открытую войну, Микеланджело решил, что ему надо внимательно изучить модель собора, построенную противником. Она хранилась в конторе попечителей собора; с помощью Томмазо Микеланджело проник в контору в праздничный день, когда там не было людей. Увидев модель, Микеланджело ужаснулся. Интерьер храма, задуманный в свое время Браманте в форме простого греческого креста, был целомудрен и чист, полон света хорошо изолирован от всех пристроек. Сангалло же собирался окружить собор кольцом часовен; доступ света внутрь храма, о чем так заботился Браманте, был таким образом сильно затруднен. Ярусы колонн, поставленные друг на друга, бесчисленные башенки и выступы, обилие мелких деталей лишали собор первоначальной ясности и спокойствия. Сангалло строил раньше лишь крепости и оборонительные стены, ему не хватало дара, чтобы создать величественный, исполненный высокого духа храм, достойный стать церковью-матерью христианского мира! Если Сангалло беспрепятственно будет действовать и дальше, собор у него получится тяжелый и громоздкий, без малейших признаков вкуса. Идя домой, Микеланджело говорил задумчиво: — Напрасно я беспокоился о бессмысленной трате денег и предупреждал об этом папу. Из всех бед с собором это самая малая. — Значит, вы больше не собираетесь заговаривать об этом с папой? — По твоему тону, Томмазо, я чувствую, что ты советуешь мне больше не заговаривать. И на самом деле, что ответит мне папа? «Это выставит тебя в дурном свете». Конечно же, выставит. Но ведь собор Святого Петра будет не собором, а мрачной Стигийской пещерой!6
Все изображения Страшного Суда, которые ему приходилось видеть, казались сентиментальными, чуждыми всякого реализма сказками для детей; в недвижных, словно застывших этих картинах нельзя было ощутить ни духовного озарения, ни пространственной глубины. Христос в них был изображен равнодушно-мертвенным, скованным — обычно он сидел на троне, и суд его уже совершился. А Микеланджело искал в своих работах то поворотное, решающее мгновение, в котором он видел отблеск вечной истины: Давид, замерший на месте за минуту до битвы с Голиафом, Господь Бог, еще только простерший десницу, чтобы зажечь искру жизни в Адаме, Моисей, лишь решающий поддержать израильтян и укрепить их дух. Так и теперь Микеланджело хотел написать Страшный Суд только готовящимся: Христос, полный порывистой силы, лишь появился, а стекающиеся со всех концов земли и изо всех времен люди идут к нему, объятые леденящим страхом: — Что со мной будет? Он создаст ныне самый могучий образ Христа из всех, какие ему доводилось создавать раньше, — в нем будут слиты воедино Зевс и Геракл, Аполлон и Атлант, хотя Микеланджело и чувствовал, что вершить суд над народами будет он, Микеланджело Буонарроти, и никто иной. Правую ногу Христа он чуть подогнет, отодвинет назад, воспользовавшись точно таким же приемом, к какому прибегнул, высекая Моисея: нарушив равновесие фигуры, Микеланджело придал ей напряженность. Над всею стеной будет властвовать огненная ярость Христа, его внушающий благоговение гнев — террибилитá. Расписывая плафон и воссоздавая Книгу Бытия, он применял яркие, драматические краски; в «Страшном Суде» он будет придерживаться более спокойных, притушенных телесных и коричневатых тонов. Работая над плафоном, он разделил его на отдельные поля, отграниченные друг от друга сюжеты; в «Страшном Суде» он создаст магический эффект — плоскость стены как бы исчезнет, ее поглотит пространственная глубина фрески. Теперь, готовый приступить непосредственно к росписи стены, он уже не чувствовал ни груза прошедших лет, ни усталости; неуверенность в будущем тоже больше не грызла его. Любовь к Томмазо давала ему покой и тепло, у него была еще надежда и на то, что он завоюет любовь Виттории: он принялся за роспись с огромной энергией. — Скажи, Томмазо, как может человек чувствовать себя счастливым, если он пишет «Страшный Суд», где спасется лишь жалкая горстка людей? — Вы счастливы не потому, что пишете суд и проклятие. С самых ранних пор церковь несла в своем лоне красоту. И даже в этих проклинаемых грешниках есть та же самая возвышенность и благородство, какие вы запечатлели на плафоне. Он хотел уловить, выразить обнаженную истину через наготу, сказать человеческой фигурой все, что она только способна сказать. Его Христос будет окутан лишь узкой набедренной повязкой, Пресвятая Дева одета в бледно-сиреневое платье, — и все же, когда он писал ее прекрасные ноги, он едва принудил себя прикрыть их легчайшим сиреневым шелком. Всех остальных — мужчин, женщин, младенцев, ангелов — он написал нагими. Он писал их такими, какими сотворил их Господь Бог… и какими ему хотелось писать их еще тринадцатилетним мальчишкой. Он ничуть не придерживался каких-либо иконографических образцов в расчете на отклик зрителя, от ритуального словаря религиозной живописи в фреске оставалось очень мало. Он не смотрел на себя как на религиозного художника и фреску «Страшного Суда» тоже не считал религиозной. Это была живопись, исполненная высокого духа, говорящая о вечном существовании человеческой души, о Господнем могуществе, которое заставляет человека подвергнуть себя собственному суду и осознать свои прегрешения. Микеланджело собрал воедино все человечество, изобразив его лишенным покровов, нагим и борющимся с одною и тою же судьбой, к каким бы народам и расам земли ни принадлежали выведенные им люди. Даже апостолы и святые, выставляющие напоказ свои символы мученичества из боязни, как бы их не спутали с другими людьми и не забыли об их святости, — даже апостолы были ошеломлены появлением Христа, этого, как говорил Данте, «самого величественного Юпитера», готового обрушить на виновных и грешных свои яростные громы. На целые дни затворялся он в Систине и расписывал теперь те люнеты, в которых ему пришлось сбить свои прежние работы: рядом с ним, на высоком помосте, находился один лишь Урбино. Внизу была фигура Христа — он стоял на небесной скале, за спиной его, где обычно изображался трон, горело золотистое солнце. Оглядывая стену с пола капеллы, Микеланджело почувствовал необходимость придать большую зрительную весомость руке Христа, гневно занесенной вверх. Он поднялся на помост и увеличил руку, покрыв краской влажную штукатурку за пределами той линии, которая ограничивала фигуру Христа. Затем он единым порывом написал рядом с Христом Марию — по обе стороны от них уже теснились смятенные людские толпы. Ночами он читал Библию, Данте и проповеди Савонаролы, присланные ему Витторией Колонной; все, что он читал теперь, сходилось воедино, как части чего-то целого. Вникая в проповеди Савонаролы, он будто слышал его голос: казалось, монах говорил со своей кафедры в храме не сорок лет назад, а сию минуту. Теперь этот святитель-мученик, как называла его Виттория, вставал в воображении Микеланджело полный славы и величия, подобно пророку. Все, что предсказывал фра Савонарола, оправдалось: пришло и разделение церкви, и утверждение новой веры в рамках христианства, и упадок папства и клира, и разложение нравов, и разгул насилия:«Сила войны и раздора сметет твою роскошь и гордыню, о Рим, всесильная чума заставит тебя забыть твою суетность. Смотри же, Флоренция: это и твоя судьба, если ты будешь покорствовать тирану. Язык твой порабощен, сыны твои в его подчинении, добро и имущество твое в его власти… ты будешь унижена несказанно».Во внешнем мире, за стенами Систины, все складывалось так, будто Судный день для папы Павла уже наступил. Кардинал Никколо, теперь один из самых влиятельных кардиналов при папском дворе, сообщил Микеланджело: Карл Пятый Испанский и Франциск Первый Французский опять объявили войну друг другу. Карл продвигался к северу от Неаполя с той самой армией, которая однажды уже разгромила Рим и сокрушила Флоренцию. У папы Павла не было для борьбы с ней ни войска, ни иных средств: он готовился бежать. — Но куда? — гневно вопрошал Томмазо. — Укроется в замке Святого Ангела, а войска Карла снова будут бесчинствовать в городе? Мы не вынесем нового нашествия. Рим станет грудой камня, вторым Карфагеном. — А какие у него силы, чтобы сражаться? — возражал Микеланджело. — Под стенами Сан Миниато я видел армию императора. У него пушки, пики, кавалерия. Что бы ты противопоставил этому, коснись дело тебя самого? — Вот эти голые руки! — Томмазо побагровел; Микеланджело впервые видел его в такой ярости. Папа Павел решил противопоставить императору… мир и величавое спокойствие. Он встретил Карла на ступенях собора Святого Петра в окружении всей церковной иерархии, сверкавшей великолепными одеяниями, и трех сотен отважных молодых римлян. Карл держался учтиво и как бы признал духовную власть папы. На следующий день он посетил Витторию Колонну, маркизу Пескарскую, друга своей семьи. Та позвала на встречу с императором в сады монастыря Святого Сильвестра на Квиринале своего друга, Микеланджело Буонарроти. Глава Священной Римской империи, сухой, высокомерный монарх, заговорил с Микеланджело, когда Виттория представила его, довольно оживленно. Микеланджело стал просить императора устранить тирана Флоренции Алессандро. Император не проявил большого интереса к этой теме, но, когда Микеланджело смолк, наклонился к нему и сказал с необычной для него сердечностью: — Когда я буду во Флоренции, я обещаю тебе сделать одно дело. — Благодарю вас, ваше величество. — Я побываю в твоей новой сакристии. Возвращаясь в Испанию, мои придворные уверяли меня, что это одно из чудес света. Микеланджело посмотрел на Витторию, желая понять, можно ли ему продолжать свои речи. Лицо Виттории было спокойно; она была готова идти на риск вызвать неудовольствие императора, чтобы только дать Микеланджело возможность вступиться за свою родину. — Ваше величество, если скульптуры в новой сакристии хороши, то они хороши потому, что я воспитан в столице европейского искусства. Флоренция будет и дальше создавать великолепные произведения искусства, надо только освободить ее из-под сапога Алессандро. Сохраняя ту же любезную мину, Карл пробормотал: — Маркиза Пескарская говорит, что ты величайший художник от начала времен. Я уже видел расписанный тобою свод в Сикстинской капелле; через несколько дней я увижу твои скульптуры в часовне Медичи. Если они действительно таковы, как я слышал, даю тебе свое королевское слово… мы что-нибудь сделаем. Флорентинская колония в Риме была вне себя от радости. Карл Пятый сдержал свое слово: он посетил часовню Медичи и пришел в такой восторг, что распорядился, чтобы венчание его дочери Маргариты с Алессандро состоялось именно тут, перед Микеланджеловыми изваяниями. Узнав об этом приказе, Микеланджело заболел и перестал работать. Не замечая видневшихся по обочинам гробниц, он брел по Виа Аппиа, уходя в просторы Римской Кампаньи; потрясение было столь глубоким, что его била дрожь, мучила тошнота, — когда его рвало, он словно бы очищал себя от того яда, которым был пропитан мир. Высокий брак оказался недолговечным; Алессандро был убит в доме, расположенном рядом с дворцом Медичи; убил его родственник Медичи, Лоренцино Пополано, вообразив однажды, будто Алессандро идет на свидание с его сестрой, юной и чистой девушкой. Флоренция была теперь свободна, ее хищный тиран погиб, но Микеланджело отнюдь от него не избавился. Труп Алессандро, вызывавшего отвращение и ненависть во всей Тоскане, был тайно, под покровом ночи, положен в саркофаг, на котором покоились изваяния «Утра» и «Вечера», высеченные Микеланджело со всем жаром его пылкого сердца. — Все флорентинцы избавились от Алессандро… кроме меня, — говорил Микеланджело, обратив угрюмый взгляд к Урбино. — Ты теперь видишь, для чего нужен ваятель по мрамору — изготовлять надгробия деспотам.
Потрясение проходит, как проходит и радость. Каждый тяжелый удар судьбы держал Микеланджело вне стен Систины неделю или две. Но такая добрая весть, как весть о свадьбе его племянницы Чекки, выходившей замуж за сына знаменитого флорентинского историка Гвиччиардини, или посвящение духовника и наставника Виттории Колонны, Реджинальдо Поле, в кардиналы, что обещало серьезную поддержку церковной партии, стоявшей за реформу, — все такие события вновь подталкивали Микеланджело к работе. И он тут же принимался за нее: он писал сейчас тесную группу святых, ошеломленных гневом Христа: Катерину с обломком колеса, Себастьяна с пучком стрел, и чуть дальше — искаженные мукой тела, взлетающие к небесному своду, прекрасные женские фигуры среди полчищ мужских. Микеланджело нашел силы и время еще и для того, чтобы умилостивить до сих пор бесновавшегося герцога Урбинского: он сделал ему модель бронзового изваяния коня и богато украшенный ларец для соли. Микеланджело очень утешало то обстоятельство, что Флоренцией ныне правил наследник той ветви рода Медичи, которая носила фамилию Пополано, — скромный и сдержанный Козимо де Медичи, семидесятилетний старик, — и что многие изгнанники-флорентинцы, жившие в Риме, возвращались теперь домой. Юные сыновья сверстников и друзей Микеланджело шли теперь к нему в мастерскую, чтобы сердечно с ним попрощаться. И тем не менее его уже ожидало новое потрясение. Коварная судьба, властвовавшая над Флоренцией с той поры, как безвременно скончался Лоренцо Великолепный, творила свое злое дело, готовя настоящую трагедию: Козимо, при всей его моральной непогрешимости, тоже превратился в тирана и лишил вновь избранные в городе советы всякого влияния. В ответ молодые флорентинцы сколотили армию, закупили оружие. Они обратились к Франциску Первому, прося у него военной помощи, чтобы разбить сторонников Козимо. Но Карл Пятый отнюдь не хотел восстановления республики во Флоренции: он предоставил свои войска Козимо, и тот раздавил восстание. Руководители повстанцев — лучшие, благороднейшие люди Тосканы — были казнены; почти каждая семья понесла тяжелую утрату; был зарублен мечом Филиппе Строцци, убит был и его сын; вместе со своим сыном был приговорен к смерти Баччио Валори; десятки молодых изгнанников, когда-то толпами ходивших в мастерскую Микеланджело, отважных, жаждавших возвратиться на родину и сражаться за свой город, были теперь мертвы, мертвы вопреки своей юной красе и славе. — В чем они были грешны? Чем провинились? — горестно вопрошал Микеланджело. — За что их осудили на смерть без колебания и пощады? В каких диких лесах мы живем, если эти зверские, бессмысленные преступления совершаются безнаказанно? Как он, Микеланджело, был прав, поместив на этой стене разгневанного, яростного Иисуса в день Страшного Суда! Он перерисовал теперь весь нижний край картона — и правый угол и левый, где мертвые вставали из могил: впервые набросал он группу уже осужденных, проклятых людей: Харон вез их в своей ладье к теснинам ада. Теперь человек казался лишь особой формой животного, которое ищет себе пропитание, бродя по лику земли. Неужто человек обладает бессмертной душой? А если и обладает, то как мало это значит! Ведь душа всего лишь некий довесок, который человек должен тащить с собой в преисподнюю. Может быть, она поможет ему снова попасть в чистилище и, в конечном итоге, даже в рай? Однако сейчас Микеланджело был склонен сказать: «Позвольте усомниться в этом»… ибо Виттория Колонна тоже переживала тяжелое время. Джованни Пьетро Караффа, давно уже подозревавший Витторию в том, что она интересуется новыми учениями и бросает вызов вере, был теперь назначен кардиналом. Этот религиозный фанатик прилагал все усилия к тому, чтобы ввести в Италии инквизицию, истребить еретиков, вольнодумцев, инакомыслящих… и, что уже имело прямое касательство к Виттории Колонне, тех, кто воздействовал на церковь извне, стараясь побудить ее к внутренним реформам. Кардинал Караффа не делал секрета из того, что считает Витторию Колонну и небольшой ее кружок опасным для церкви. Хотя кружок был малочислен и собиралось у Виттории обычно не больше восьми-девяти человек, среди них все же нашелся доносчик: каждый понедельник утром Караффа располагал подробной записью бесед, которые велись у Виттории в воскресный вечер. — Чем это грозит вам? — с тревогой спрашивал Микеланджело Витторию. — Да ничем, — ведь многие кардиналы сами стоят за реформу. — А если Караффа захватит власть? — Тогда — изгнание. У Микеланджело упало сердце. Он смотрел на ее белое, как алебастр, лицо и сам страшно побледнел. — Может быть, вам надо держаться осторожней? От волнения голос его звучал хрипло. О ком он беспокоится, за кого молит судьбу — за нее или за себя? Ведь она знала, как важно для него ее присутствие в Риме. — Осторожность ни к чему не приведет. Я могла бы просить и вас быть более осторожным. — Казалось, ее голос звучит тоже чуть хрипло. О ком она беспокоится, за кого молит — за себя или за него? Разве она не дала ему понять, что она желает, чтобы он был подле нее? — Караффе очень не нравится, как вы пишете в Систине. — Откуда ему знать, как я пишу? Я всегда запираю капеллу. — Он узнает об этом тем же способом, каким узнает о наших беседах. С тех пор как Микеланджело начал увеличивать свои картоны, он никого, кроме Урбино, Томмазо, кардинала Никколо и Джованни Сальвиати, в мастерскую не пускал, и ни одна живая душа, помимо Урбино, не бывала у него в капелле. И все же о том, что именно он писал на стене, знал не только кардинал Караффа. Микеланджело стал получать письма с откликами на свою работу из многих мест Италии. Самое странное письмо пришло от Пьетро Аретино. Микеланджело знал его по слухам как одаренного писателя и в то же время негодяя, лишенного всякой совести: путем наглых вымогательств он нажил целое состояние, добивался всяческих благ, загребал огромные деньги. Он получал эти деньги даже у принцев и кардиналов, запугивая их тем, какой вред он нанесет им, если наводнит Европу своими злобными письмами, в которых будет столько острот и комических подробностей, что при дворах сразу же начнут пересказывать эти клеветнические письма как забавные анекдоты. Жадность и неумная похоть иногда толкали его на край нищеты, навлекали немилость власть имущих, но в данное время он был важной персоной в Венеции, интимным другом Тициана, общался с королями. Аретино в своем послании вздумал подсказать Микеланджело, как тот должен писать «Страшный Суд»:
«Среди бесчисленной толпы я вижу Антихриста с такими чертами, какие вы один можете вообразить; я вижу ужас на лицах живых; я вижу, как угасает лик солнца, луны, и звезд; вижу, как жизнь превращается в огонь, воздух, землю и воду и исчезает, как сама усталая Природа становится дряхлой и бесплодной… Я вижу жизнь и смерть, охваченные ужасом и смятением… Я вижу, как стремительно срываются слова осуждения, которые среди страшных громов произносит Сын Божий…»Аретино заканчивал свое пространное письмо замечанием, что, хотя он клялся никогда больше не приезжать в Рим, его одолевает желание поклониться гению Микеланджело. Стараясь отвязаться от непрошеного советчика, Микеланджело отвечал ему в насмешливом тоне:
«Если вы говорите, что приедете в Рим только для того, чтобы посмотреть на мои произведения, то прошу вас отказаться от вашего намерения. Это было бы уж слишком много! Получив ваше письмо, я испытал радость и в то же время огорчился, так как, закончив уже большую часть росписи, я никак не могу воспользоваться вашим замыслом».Аретино засыпал Микеланджело ворохом писем, назойливо домогаясь то рисунка, то куска картона, то модели. «Разве я не заслужил своею преданностью того, чтобы получить от вас, князя скульптуры и живописи, один из тех картонов, которые вы кидаете в огонь?» Он присылал письма даже друзьям Микеланджело — юному Вазари, которого Аретино знал по Венеции, и другим художникам, часто бывавшим в мастерской на Мачелло деи Корви, — желая заручиться их помощью и все же получить от Микеланджело кое-какие рисунки, чтобы потом продать их. Микеланджело отвечал венецианцу все уклончивей, потом эта история ему надоела и он резко оттолкнул Аретино. Это было ошибкой. Аретино таил свою злобу до тех пор, пока Микеланджело не закончил фреску «Страшного Суда», затем он испустил две зловонных чернильных струи, одна из которых едва не уничтожила пятилетний труд Микеланджело, а другая изрядно попортила его характер.
7
Время и пространство теперь слились для него воедино. Он не мог бы сказать, сколько дней, недель или месяцев прошло с тех пор, как 1537 год уступил свое место 1538-му, но он мог в точности перечислить все фигуры на алтарной стене, взлетающие сквозь нижние слои облаков вверх, к скалистому утесу, по обе стороны от Божьей Матери и Сына. Христос, с яростной угрозой занесший над головою десницу, возник здесь не для того, чтобы выслушивать мольбы и пени. Грешники тщетно просили бы о пощаде. Нечестивцы были обречены заранее, в воздухе веял ужас. И все же никогда и нигде еще формы человеческих тел не были написаны так любовно и трепетно, как на этой стене. Неужели столь низкий и бедный дух мог жить в столь благородном воплощении? Почему тела перепуганных смертных созданий были так сильны и прекрасны, что любые подвиги их ума и души не могли сравниться с высоким совершенством их плоти? Каждое утро Урбино готовил нужное на данный день поле стены под фреску; к вечеру Микеланджело заполнял это поле то фигурой свергаемого в преисподнюю грешника, то изображениями уже состарившихся Адама и Евы. Урбино стал теперь, подобно Росселли, настоящим мастером и так искусно подгонял участок свежей, утренней штукатурки к подсохшему вчерашнему, что швов и линий соединения нельзя было заметить. В полдень служанка Катерина приносила в капеллу горячую пищу, Урбино ставил ее на жаровню, тут же, на лесах, а потом подавал Микеланджело. — Ешьте как следует. Вам нужны силы. Вот кулебяка. Приготовлена в точности так, как это делала ваша мачеха: цыпленок зажарен на масле и перемолот вместе с луком, петрушкой, яйцами и шафраном. — Урбино, ты знаешь, я слишком взвинчен, чтобы есть в середине рабочего дня. — …и слишком устаете, чтобы есть в конце. Посмотрите-ка, что тут у меня есть — салат! Такой, что сам тает во рту. Микеланджело усмехнулся. Чтобы доставить удовольствие Урбино, он начинал есть и сам дивился тому, что еда казалась ему вкусной и напоминала блюда покойной мачехи. А Урбино был рад: его тактика возымела успех. Поработав месяц или два без перерыва, Микеланджело едва держался на ногах, и Урбино заставлял его посидеть дома, отдохнуть, отвлечься, занявшись блоками «Пророка», «Сивиллы» и «Богоматери», предназначенных для наследников Ровере. Когда Микеланджело услышал, что умер герцог Урбинский, он почувствовал огромное облегчение, хотя и сознавал, что радость по поводу смерти человека достойна покаяния. Скоро в мастерскую на Мачелло деи Корви явился новый герцог Урбинский. Взглянув на стоявшего в дверях герцога, Микеланджело поразился: так он был похож на своего отца. «Боже мой, — подумал Микеланджело, — мне достаются в наследство сыновья не только моих друзей, но и заклятых врагов». Однако в отношении молодого герцога Микеланджело ошибался. — Я пришел положить конец раздорам, — сказал тот негромко. — Я никогда не соглашался с отцом, я не считаю, что ответственность за неудачу с надгробьем моего двоюродного деда лежит на вас. — Вы хотите сказать, что отныне я могу назвать герцога Урбинского своим другом? — И поклонником. Я часто говорил отцу, что, если бы вам дали возможность, вы бы закончили эту гробницу. Завершили же вы работу в Систине и в капелле Медичи. Вас надо на время оставить в покое и не отвлекать от дела. Микеланджело опустился в кресло. — Сын мой, понимаете ли вы, какую тяжесть вы только что сняли с моих плеч?.. — В то же самое время, — продолжал молодой человек, — вы должны осознать, как горячо мы желаем, чтобы вы закончили это святое надгробие моего деда, папы Юлия. Из уважения, которое мы питаем к папе Павлу, мы не станем прерывать вашу работу и подождем, пока фреска не будет закончена. Но потом, после завершения фрески, мы просим вас отдать все свои силы гробнице и удвоенным прилежанием наверстать упущенное время. — Готов всей душой! Вы получите гробницу. Долгими зимними ночами он набрасывал рисунки для Виттории: «Святое Семейство», чудесно задуманное «Оплакивание»; в ответ на такое внимание она подарила ему только что напечатанную книгу своих стихотворений. Подобный характер общения не удовлетворял Микеланджело, ему хотелось излить свою страсть более открыто и полно, но его любовь и его уверенность, что и Виттория чувствует к нему глубокое влечение, поддерживали его творческие силы, пока он писал своих по-крестьянски кряжистых ангелов: плывя на крепком суденышке ниже облаков, окутывающих скалу Христа, ангелы дули в трубы с такой адской громогласностью, что мертвецы, изображенные на нижнем крае стены, должны были непременно услышать их и восстать из могил. Братья Микеланджело, его племянник Лионардо и племянница Чекка постоянно писали ему, сообщая о семейных делах. Лионардо стал уже совсем взрослым, скоро ему должно было исполниться двадцать лет, и он добился того, что шерстяная лавка Буонаррото впервые начала приносить доход. Чекка каждый год преподносила Микеланджело нового племянника. Время от времени Микеланджело приходилось писать своим родственникам очень сердито: то его не соизволили известить, получены ли посланные им деньги, то опять ссорились Джовансимоне и Сиджизмондо, не договорившись, кому из них и сколько причитается пшеницы с того или иного участка. Иногда раздражал Микеланджело и Лионардо — так, однажды он попросил племянника прислать ему лучших флорентинских сорочек, и тот прислал ему три штуки, но они оказались «такими жесткими, что их не мог бы носить и крестьянин». Когда Лионардо присылал из Флоренции хорошие груши и вино треббиано, Микеланджело нес часть посылки в Ватикан в подарок папе Павлу. С папой он крепко сдружился. Бывало, он долго не навещал папу, и тогда папа вызывал его, отрывая от работы, в свой тронный зал и спрашивал обиженным тоном: — Микеланджело, почему ты не приходишь ко мне повидаться? — Святой отец, здесь я вам совсем не нужен. Думаю, что своей работой я служу вам гораздо лучше, чем все те, кто толчется у вас с утра до вечера. — Художник Пассенти бывает у меня каждый день. — Пассенти — человек ординарных способностей; такой талант вы отыщете без фонаря на любом рынке. Папу Павла можно было бы считать хорошим папой: кардиналов назначал уважаемых и дельных и был твердо намерен осуществить реформу церкви. Несмотря на то, что он противопоставил военной силе императора Карла лишь авторитет и власть церкви, ему удалось избежать и войны, и вражеского нашествия. Он был глубоко предан искусству и науке. Тем не менее всеми своими корнями он был связан со временем господства Борджиа, и это делало его уязвимым для нападок. Так же нежно привязанный к своим сыновьям и внукам, как папа Борджиа был привязан к Цезарю и Лукреции, он не брезговал любой интригой, если только считал, что это идет на пользу его сыну Пьеру Луиджи, для которого он всеми силами старался раздобыть герцогство. Своего четырнадцатилетнего внука Алессандро Фарнезе он назначил кардиналом, а другого внука женил на дочери Карла Пятого, вдове Алессандро де Медичи, и отнял для него у герцога Урбинского герцогство Камерино. За такие его дела враги называли Павла подлым и безжалостным. В конце 1540 года, уже расписав две трети стены, весь ее верх, Микеланджело с помощью нанятого плотника Лудовико перестроил помост, сделал его ниже. Папа Павел, прежде ни разу не заходивший в капеллу, чтобы не помешать Микеланджело, прослышал о его успехах и однажды, без всякого предупреждения, постучал в запертую дверь капеллы. Урбино открыл дверь и, увидя первосвященника, не мог его не впустить. Микеланджело сошел с низенького своего помоста, приветствуя папу Павла и его церемониймейстера Бьяджо да Чезену самым сердечным образом. Папа постоял минуту, оборотясь лицом к алтарной стене, затем, не сводя с нее глаз и с трудом сгибая больные ноги, двинулся с места. Дойдя до алтаря, он опустился на колени и стал горячо молиться. Бьяджо да Чезена стоял недвижно и горящими глазами смотрел на «Страшный Суд». Павел поднялся с колен, осенил крестным знамением Микеланджело, а потом и его фреску. По щекам его катились слезы гордости и смирения. — Сын мой, ты создал вещь, которая прославит мое царствование. — Полное бесстыдство, — сказал, словно выплюнул, Бьяджо да Чезена. Папа Павел смолк, пораженный. — Совершенно безнравственная фреска! Я не в силах отличить тут святых от грешников. Здесь только сотни голых людей, выставляющих свои срамные места. Чистый позор! — Вы считаете человеческое тело позорным? — спросил Микеланджело церемониймейстера. — В бане это годится. Но в папской капелле — нет! Это же настоящий скандал! — Скандал будет только в том случае, если ты, Бьяджо, вздумаешь его устроить, — твердо сказал Павел. — В день Страшного Суда мы все предстанем перед господом голыми. Сын мой, как я могу выразить тебе мою величайшую благодарность? Микеланджело умиротворяюще взглянул на церемониймейстера и пытался протянуть ему руку: наживать врагов своей фрески он не хотел. В ответ на это Бьяджо да Чезена сказал ему с угрозой: — Придет день, и твоя кощунственная роспись будет уничтожена, как ты уничтожил ради нее прекрасную работу Перуджино. — Пока я жив, этого не будет! — гневно вскричал папа Павел. — Я отлучу от церкви каждого, кто только посмеет тронуть этот шедевр! Папа и церемониймейстер ушли. Микеланджело стоял, потирая грудь, мучительно занывшую под левым соском. Он велел Урбино замесить свежей штукатурки и покрыть ею пустое место внизу стены, в крайнем углу справа. Как только Урбино сделал свое дело, Микеланджело принялся писать карикатуру на Бьяджо да Чезену. Он представил его судьей в царстве Аида, с ослиными ушами, чудовищная змея обвивала нижнюю часть его тела; в лице было убийственное сходство с церемониймейстером: тот же заостренный нос, те же тонкие, как бы обтягивающие клыки, губы. Микеланджело знал, что это не очень-то достойный способ мести, но как иначе мог отомстить художник? Слух о карикатуре каким-то образом проник в Ватикан. Бьяджо да Чезена потребовал нового осмотра фрески. — Вы видите, святой отец, — вопил церемониймейстер, — слухи были верны! Буонарроти вставил меня в фреску. И нарисовал какую-то омерзительную змею, где должны быть мои сокровенные места. — Это взамен одежды, — ответил Микеланджело. — Я же знал, что вы будете против того, чтобы вас показывали голым. — Поразительное сходство! — заметил папа, в глазах его играли лукавые искорки. — А разве ты не говорил, Микеланджело, что портретное сходство тебе не удается? — Это было какое-то озарение, святой отец. Бьяджо да Чезена приплясывал, судорожно переступая с одной ноги на другую, словно бы на адском огне поджаривали его самого, а не бесплотное его изображение. — Святой отец, прикажите ему, пусть он уберет меня с фрески! — Убрать из ада? — изумленно посмотрел папа на церемониймейстера — Если бы он поместил тебя в чистилище, я приложил бы все старания, чтобы тебя вызволить оттуда. Но ты прекрасно знаешь, что из ада исхода нет. На следующий день Микеланджело убедился, что никому не дано смеяться последним. Стоя на помосте, он писал Харона — с выпученными глазами, с рогами вместо ушей, Харон выбрасывал проклятых грешников из своей ладьи в огненные потоки. Вдруг Микеланджело почувствовал головокружение. Он попытался ухватиться за ограждение на помосте, но сорвался и упал на мраморный пол. От страшной боли он лишился сознания. Придя в себя, он увидел, что Урбино брызжет ему в лицо холодной водой, — вода была с песчинками, из грязного ведра. — Слава господу, наконец вы очнулись. Ничего не поранили? Не сломали? — Право не знаю. Такой глупец, как я, мог переломать себе все кости. Пять лет я работал на этих лесах. И вот, когда работа уже почти закончена, все-таки свалился. — У вас кровь на ноге. Наверно, резануло этой тесиной. Я побегу искать карету. — Не выдумывай. Не надо мне никакой кареты. Никто не должен знать, до какой дурости я дошел. Помоги мне подняться. Держи за плечо. Я еще в силах ехать домой верхом. Урбино уложил Микеланджело в постель, поднес к его губам и заставил выпить стакан треббиано, обмыл рану. Когда он собрался идти за доктором, Микеланджело сказал: — Никаких докторов. Я не хочу быть посмешищем всего Рима. Запри на ключ парадную дверь. Несмотря на то что Урбино прикладывал к ране горячие полотенца, она стала гноиться. У Микеланджело начался жар. Урбино охватил страх, он послал нарочного за Томмазо. — Я не позволю вам умереть… — В смерти есть и свои выгоды, Урбино. Умру, и не надо будет больше взбираться на эти леса. — Как сказать. А вдруг в аду человека заставляют вечноделать то, что ему осточертело при жизни? Томмазо явился на Мачелло деи Корви вместе с доктором Баччио Ронтини. Микеланджело отказался их впустить и даже велел не отпирать парадную дверь, но они вошли в дом с черного хода. Доктор Ронтини был в ярости. — Никто не может тягаться с флорентинцами в упрямстве и тупоумии, — говорил он, обследуя гноящуюся рану. — Еще бы день или два — и… Прошла неделя, прежде чем Микеланджело поднялся на ноги. Чувствовал он себя очень ослабевшим. Урбино помог ему влезть на помост, наложил слой свежего раствора на небесный фон, чуть ниже фигуры Святого Варфоломея. Микеланджело начал выводить кистью карикатурное изображение самого себя: искаженное горем, изможденное лицо, голова с курчавыми волосами, вместо тела пустая кожа, которую держал в руке Святой Варфоломей. — Теперь Бьяджо да Чезена немного порадуется, — сказал Микеланджело, обращаясь к Урбино и оглядывая вздернутую в воздухе, пустотелую свою фигуру. — Мы оба, и он и я, предстали перед судом, и обоим нам воздали должное. Микеланджело расписывал теперь третий, нижний ярус стены, — работа тут была проще, поскольку фигур намечалось немного: требовалось лишь символически показать кладбище и преисподнюю, встающих из могил мертвецов. Один из них — скелет, лишенный плоти, — тянулся к небесам, туда, где парили праведники. В правом углу фрески Микеланджело показал живых грешников и адский огонь, в который они угодили. Как раз в это время дела Виттории приняли самый дурной оборот. Влиятельнейшая и одареннейшая женщина Рима, поэтесса, стихи которой ценил великий Ариосто, святая женщина, почитаемая самим папой, близкий друг императора Карла Пятого, принадлежавшая по крови к богатейшему роду Колонна и к роду д'Авалос по браку, Колонна была теперь под угрозой изгнания: этого добивался кардинал Караффа. Казалось невероятным, чтобы знатная дама, занимавшая столь высокое положение в обществе, подверглась таким суровым гонениям. Микеланджело пошел во дворец Медичи — просить помощи у кардинала Никколо. Тот старался всячески успокоить его. — Необходимость реформы признают теперь в Риме буквально все. Мои дядья — Лев и Клемент — были слишком деспотичны, они старались подчинить инакомыслящих путем наказаний. А Павел послал друга маркизы, кардинала Контарини, вести переговоры с лютеранами и кальвинистами. Я думаю, придет время, и успех будет на нашей стороне. Оказавшись на сейме в Регенсбурге, кардинал Контарини достиг многого и был уже на пороге победы, но кардинал Караффа отозвал его с сейма, обвинил в тайном сговоре с императором Карлом Пятым и отправил в ссылку в Болонью. Виттория прислала Микеланджело записку: не может ли он прийти к ней незамедлительно? Она желала проститься с ним. Был упоительно прекрасный апрельский день, в садах Колонны распускалась зеленая листва, вольные запахи весны струились даже внутри высоких каменных стен. Зная, какой им предстоит разговор, Микеланджело рассчитывал застать Витторию в одиночестве, но сад был полон людей. Виттория встала, встретив его с печальной улыбкой. Она была одета во все черное, черная мантилья покрывала ее золотистые волосы; лицо казалось изваянным из чудесного мрамора Пьетрасанты. Он молчал, стоя перед нею. — Как хорошо, что вы пришли, Микеланджело. — Не будем терять времени на обмен любезностями. Вас отправляют в ссылку? — Мне дали понять, что было бы желательно, если бы я покинула Рим. — Куда вы едете? — В Витербо. Я жила там в монастыре Святой Катерины и считаю его одним из своих домов. — Когда я увижу вас снова? — Когда того пожелает Господь. Они замолчали и долго смотрели друг другу в глаза: разговор как бы продолжался. — Я очень сожалею, Микеланджело, что у меня не будет возможности посмотреть ваш «Страшный Суд». — Вы увидите его. Когда вы уезжаете? — Завтра утром. Вы будете писать мне? — Я буду писать, и я буду присылать вам рисунки. — Я буду отвечать вам и пришлю вам свои стихотворения. Он круто повернулся и вышел из сада; потом он, подавленный горьким чувством утраты, укрылся в мастерской и запер на ключ двери. Было уже темно, когда он стряхнул с себя оцепенение и сказал Урбино, чтобы он зажег фонарь и шел с ним в Систину. В окнах кварталов, где жили флорентинцы, всюду горели огни. По другую сторону моста вздымался замок Святого Ангела, напоминая собой цилиндрически высеченную каменную гору. Урбино отпер дверь капеллы и, держа в руке зажженную тонкую свечу, поднялся на помост, накапал на ограждение горячего воска и потом укрепил и зажег там еще две свечи, более крупные. «Страшный Суд» прянул из мрака подобно циклону и предстал, осиянный, в мерцающем полусвете огромной капеллы. Судный День стал Судной Ночью. Три сотни мужчин, женщин, детей, святых, ангелов, демонов, многие из которых были едва различимы даже при свете дня, выступили вперед, чтобы стать распознанными и разыграть свою зловещую драму, заполнив пространство часовни. Что-то заставило Микеланджело взглянуть на плафон. Вскинув голову, он увидел Господа Бога, созидающего вселенную. В уме Микеланджело пронеслись строки из Книги Бытия:«И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ея, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И создал Бог два светила великия, светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. И управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И увидел Бог, что это хорошо весьма».Микеланджело снова вгляделся в огромную роспись, сделанную им на алтарной стене. И увидел он, что это хорошо весьма.
Часть одиннадцатая «Купол»
1
В канун Дня Всех Святых, ровно через двадцать девять лет после того, как папа Юлий освятил плафон, папа Павел отслужил торжественную мессу по поводу завершения фрески «Страшного Суда». В Рождество 1541 года капеллу открыли для посещения публики. Сюда устремился весь Рим: люди и ужасались, и взирали на фреску с благоговением, — каждый был потрясен. Мастерскую на Мачелло деи Корви заполнили флорентинцы, кардиналы, художники, их ученики и подмастерья. Когда все они ушли, Микеланджело понял, что его не хотели замечать и не удостоили посещением две римские группировки: сложившийся еще во времена Браманте — Рафаэля кружок художников и архитекторов во главе с Антонио да Сангалло и приверженцы кардинала Караффы. Очень скоро война разгорелась уже в открытую. Бывший монах Бернардино Окино допрашивал папу: — Как вы можете, ваше святейшество, допустить, чтобы в капелле, где происходят самые торжественные богослужения, находилась непристойная фреска Микеланджело? Но, зайдя на следующий день в Систину, Микеланджело увидел, что с полдесятка художников, сидя на мягких стульях, рисовали и копировали «Страшный Суд». А папа вновь обратился к его помощи, попросив расписать в часовне, названной по имени Павла Паулиной, две стены размером более трех с половиной квадратных аршин. Часовня Паулина, недавно выстроенная Антонио да Сангалло по его же проекту, находилась между Сикстинской капеллой и собором Святого Петра. Это было тяжеловесное, громоздкое здание с двумя верхними окнами, дававшими мало света, тусклые его стены были со вкусом оттенены красноватыми коринфскими колоннами. Папа Павел просил Микеланджело написать на одной стене «Обращение апостола Павла», на другой — «Распятие апостола Петра». Исподволь вдумываясь в образы «Обращения», Микеланджело целыми днями не расставался с молотком и резцом. Он высек бюст Брута — создать изваяние этого тираноборца его упрашивала флорентинская колония. Он отделывал волосы Моисея, шлифуя и оттачивая каждую прядь, каждый завиток; тогда же он изваял на лбу Моисея два рога, или, как говорилось о них в Ветхом завете, два световых луча. Когда наступили знойные дни, он вынес на террасу, выходившую в сад, два мрамора, один из них должен был стать «Рахилью», другой — «Лией»; в Рахили Микеланджело хотелось дать олицетворение Созерцательной жизни, в Лии — Деятельной. Статуи предназначались для двух ниш по обе стороны изваяния Моисея: эти ниши теперь, когда гробница Юлия по новому проекту примыкала к стене, казались слишком малыми, чтобы вместить «Восставшего Раба» и «Умирающего Раба». Он закончил рисунки к «Богородице», «Пророку» и «Сивилле» — последним статуям для гробницы Юлия, а высекать их вызвал того Раффаэло да Монтелупо, который изваял «Святого Дамиана» в часовне Медичи. Ныне, когда «Рабы» как бы отделились от надгробия, а четыре незаконченных «Гиганта» и «Победитель» все еще стояли во Флоренции, Эрколе Гонзага оказался истинным провидцем. «Моисей» один станет красой и величием усыпальницы Юлия, один будет говорить о мастерстве Микеланджело. Разве этого недостаточно, чтобы, как утверждал кардинал мантуанский, воздать честь любому человеку? И Микеланджело спрашивал себя, как отнесся бы Якопо Галли к тому, что в конце концов на гробнице Юлия будет стоять лишь одно крупное изваяние вместо сорока, которые Микеланджело был обязан высечь по первоначальному договору.Он решил, что настала пора дать Урбино возможность жить самостоятельно, что верный подмастерье этого заслужил. — Урбино, тебе уже больше тридцати. В такие годы мужчине нужно добывать свой хлеб без посторонней помощи. Папа согласен платить тебе восемь дукатов в месяц, пока я расписываю его часовню. Может быть, ты хочешь потрудиться и над стеной, когда будут возводить Юлиеву гробницу, заключишь на это формальный договор? — Да, мессер, я согласен. Мне надо скопить денег на женитьбу. В семействе, которое купило наш родовой дом в Урбино, есть маленькая девочка… лет через десять она будет мне хорошей женой. Микеланджело жестоко страдал, тоскуя по Виттории Колонне. Ночами, в самые глухие часы, он писал ей длинные письма, часто прилагая к ним сонет или рисунок. Сначала Виттория отвечала ему без задержки, но чем горячей и требовательнее становились его письма, тем реже она отзывалась на них. На его возмущенный и полный горечи вопрос: «Почему?» — она ответила так:
«Благороднейший мессер Микеланджело! Я долго отмалчивалась, собираясь ответить на ваше письмо, и этот мой ответ будет, если можно так выразиться, окончательным. Я убеждена, что если мы будем писать друг другу беспрерывно, то, принимая во внимание данное мной слово и вашу неизменную любезность, я должна буду пренебречь всеми своими делами в монастыре Святой Катерины и совсем не видеться в установленные часы со своими сестрами, а вам придется оставить вашу работу в часовне Святого Павла, не бывая там целыми днями. …Таким образом это помешает обоим нам исполнять свой долг и свои обязанности».Микеланджело был сокрушен. Словно мальчика, получившего суровый нагоняй, его язвили боль и досада. Он по-прежнему сочинял ей страстные стихи… и прятал их дома, не отсылая. Он довольствовался обрывками слухов, которые передавали ему люди, приезжавшие из Витербо. Узнав однажды, что Виттория больна и редко выходит из своей комнаты, он страшно взволновался, отбросив прочь всякое чувство смирения. Смотрят ли там за нею врачи? Заботится ли она сама хоть немного о своем здоровье? Он изнервничался, устал, выбился из колеи, но надо было снова входить в эту колею и работать. Он готовил под роспись стену в Паулине, он внес в банк Монтауто четырнадцать сотен дукатов для выплаты этих денег Урбино и Раффаэло да Монтелупо после того, как они завершат свою работу по гробнице. Он сделал небольшой композиционный набросок к будущей фреске «Обращение Павла» — в нее входило около пятидесяти полных фигур и немало голов и лиц, видневшихся в толпе, окружавшей Павла, когда тот лежал, поверженный наземь столбом желтого огня, сошедшего с неба, — впервые в жизни Микеланджело взялся изображать чудо из Нового завета. В эти же недели он высекал «Рахиль» и «Лию» — двух молодых, нежных женщин. Это были закутанные в одеяния фигуры-символы, и Микеланджело трудился над ними без особого воодушевления, как когда-то без большого интереса он ваял статуи по заказу Пикколомини. И «Лия» и «Рахиль» казались ему лишенными истинной души, страсти, в них не было того трепета, того сгустка энергии, который насыщал бы собой окружающее статую пространство. В мастерской и в саду Микеланджело кипела теперь работа: полдесятка молодых людей помогали Урбино и Раффаэло да Монтелупо как можно скорей закончить надгробие. Микеланджело был тронут, когда убедился, что в Риме жило немало евреев, которые считали себя сыновьями и внуками натурщиков, позировавших ему при работе над его первым «Оплакиванием», — эти люди просили теперь разрешения зайти в мастерскую и посмотреть на «Моисея». Со смешанным чувством гордости и изумления они стояли перед своим великим учителем и беззвучно нашептывали что-то: как Микеланджело хорошо знал, что это не могло быть молитвой, ибо Десять Заповедей запрещали молитву всуе. Время теперь — и настоящее и будущее — интересовало его только с точки зрения работы. Сколько ему еще отпущено лет? Сколько новых работ, новых проектов еще ждет его впереди? «Обращение апостола Павла» займет, по-видимому, очень много времени, «Распятие апостола Петра» — и того больше. Не лучше ли считать предстоящие работы, а не дни и недели; годы тогда не будут лететь, мелькая один за другим, подобно монетам, которые ты сыплешь в ладонь прижимистого ростовщика. Гораздо проще думать о времени как о физической возможности творить: сначала две фрески в Паулине, потом «Снятие со Креста», которое Микеланджело хотел высечь для собственного удовольствия, потратив на это последний из оставшихся прекрасных каррарских блоков… Господь не захочет прервать работу художника в самом ее разгаре. Он тратил время с такой же легкостью, с какой выпивал чашку воды: несколько дней уходило у него на то, чтобы придумать и нарисовать слугу, удерживающего испуганную лошадь апостола Павла, неделя — на то, чтобы изобразить бескрылого ангела, месяц — чтобы создать образ Павла, пораженного светом, исходящим от десницы Христа; понятие год означало работу над фигурами путников и воинов, теснившихся около Павла: одни из них замерли в ужасе, другие пытались бежать, кто-то, оцепенев, смотрел, как завороженный, ввысь, к небу. Разве это не лучший способ — исчислять время по тому, чем оно заполнено? В Риме был учрежден инквизиционный трибунал. Кардинал Караффа, отличавшийся высоконравственным образом жизни еще при развращенных нравах двора папы Алессандра Шестого Борджиа, стягивал сейчас в свои руки огромную власть вопреки желанию своих подчиненных. Хотя Караффа похвалялся тем, что он никому не угождает, резко отвергая любые домогательства и просьбы об услугах, хотя он был горяч и несдержан, отталкивающе худ лицом и телом, его рьяная защита церковных догм сделала его самым влиятельным человеком во всей коллегии кардиналов — Караффу там и почитали, и трепетали перед ним, не смея ослушаться. Инквизиционный трибунал, где верховодил Караффа, уже выпустил Индекс, в котором указывалось, какие книги можно было печатать и читать. Виттория Колонна приехала в Рим и поселилась в монастыре Святого Сильвестра близ Пантеона. Микеланджело считал, что ей не надо было покидать безопасное убежище в Витербо. Он настаивал на том, чтобы они встретились. Виттория отказывалась. Он обвинял ее в жестокости; она отвечала, что это не жестокость, а милосердие. Он упорствовал и в конце концов добился свидания… увы, он увидел, что у этой женщины уже не стало ни былой красоты, ни силы. Недуги и тяжесть предъявленных ей обвинений состарили ее на двадцать лет сразу. Нет, это была не прежняя Виттория, полная энергии, обаяния, чувства; лицо ее покрывали морщины, губы иссохли и побледнели, зеленые глаза глубоко запали, золотистая медь волос поблекла. Сложив руки на коленях, она одиноко сидела в монастырском саду, голова ее была покрыта вуалью. Это была сломленная, смирившаяся душа. — Я старалась уберечь вас от этого, — тихо сказала она Микеланджело. — Вы считаете, что моя любовь так мелка? — Даже в вашей учтивости есть что-то жестокое. — Жестока сама жизнь, а не любовь. — Любовь жесточе всего. Я знаю… — Вы так мало знаете о любви, — прервал он ее. — Зачем вы отталкивали меня? Не позволяли нам сблизиться? И почему вы приехали сюда — ведь жить здесь для вас гораздо опаснее? — Я должна обрести мир и покой в лоне церкви. Вымолить прощение своих грехов перед ней. — Своих грехов? — Да. Я была строптива, позволяла себе высказывать суетные мысли, направленные против божественного учения, помогала инакомыслящим… У него стиснуло горло. Еще одно эхо из прошлого! Он вспомнил ту мучительную боль, с которой он слушал умиравшего Лоренцо де Медичи, — тот молил о прощении Савонаролу, склонялся перед человеком, уничтожившим его Платоновскую академию. И он как бы снова разговаривал с братом Лионардо, осуждавшим Савонаролу за бунт против папы Борджиа. Неужто же жизнь и кончина идут порознь и между ними нет никакой связи? — Мое последнее желание — умереть в благодати, — тихо и спокойно произнесла Виттория. — Я должна возвратиться в лоно церкви, приникнуть к ней, как дитя приникает к материнской груди. Только там я обрету искупление своих грехов. — Это все ваша болезнь! Она говорит вашими устами, — воскликнул Микеланджело. — Инквизиция замучила вас. — Я сама себя замучила. Истомилась душой. Микеланджело, я поклоняюсь вам как человеку, посланному к нам самим Богом. Но и вы, готовясь к смерти, будете искать себе спасения. Он слушал, как жужжат пчелы, собирая нектар с чашечек цветов. Его сердце сжималось от боли и жалости к Виттории: она была в таком отчаянии, смотрела на мир столь безнадежно. А ведь и он и она были еще живы, еще не ушли с лица земли. Виттория же рассуждала так, словно они были уже мертвы. Он сказал: — Мои чувства к вам, которых вы никогда не позволяли мне выразить, не изменились. Неужели вы думаете, что я юнец, влюбившийся в деревенскую девчонку? Разве вы не понимаете, какое громадное место вы занимаете в моей душе и разуме?.. По щекам у нее покатились слезы. — Спасибо, спасибо вам, саrо, — прошептала она, часто дыша. — Вы исцелили мои раны, которые были нанесены мне… очень… очень давно. И она, встала, направляясь в боковую дверь монастыря. А он сидел на каменной скамье, которая вдруг показалась ему страшно холодной, — страшно холодным и мертвым стал теперь и мгновенно смолкнувший сад.
2
Когда Антонио да Сангалло приступил к закладке фундамента часовен, лепившихся к собору Святого Петра с южной стороны, давняя вражда между ним и Микеланджело вспыхнула с новой силой. Все вычисления Микеланджело свидетельствовали: северное крыло собора, если следовать замыслу Сангалло, вытянется в направлении папского дворца так, что надо будет снести и часовню Паулину, и часть Сикстинской капеллы. — Не могу поверить своим глазам! — удивлялся папа, когда Микеланджело показал ему на чертежах, к чему приведут намерения Сангалло. — И зачем ему уничтожать часовню, которую он сам же проектировал и строил? — Для того, чтобы как можно дольше тянуть и раздувать строительство. — Какую часть Систины надо снести, чтобы поставить его часовни? — Приблизительно ту часть, в которой написаны «Потоп», «Опьянение Ноя», «Дельфийская Сивилла» и «Захария». Фреска с Господом зиждителем останется. — Какая удача для Господа! — пробормотал Павел. Папа приостановил работы в соборе под тем предлогом, что у него иссякли средства. Но Сангалло знал, что виной всему был Микеланджело. И, не решаясь нападать прямо, он натравил на него своего помощника, Нанни ди Баччио Биджио, — тот питал вражду к Микеланджело издавна, переняв ее от отца, который был когда-то отстранен от архитектурных работ над мертворожденным проектом фасада Сан Лоренцо, и от старого своего друга, флорентинца Баччио Бандинелли, самого горластого противника Микеланджело во всей Тоскане. Этот Баччио Биджио, способствовавший в свое время тому, что Сангалло захватил верховенство на строительстве собора Святого Петра, тоже не мог бы жаловаться на слабость своих голосовых связок: теперь он постоянно упражнял их, браня и понося «Страшный Суд» как произведение, потрафляющее вкусам врагов церкви и способствующее умножению числа лютеран. Сангалло и Биджио добились того, что кардинал Караффа издал приказ, согласно которому все новые произведения искусства, подобно книгам, должны быть одобрены инквизиционным трибуналом. Однако приезжавшие в Рим люди, зайдя в Систину, при виде «Страшного Суда» опускались, как и папа Павел, на колени и каялись в своих грехах. Говорили, что известный своим распутством моденский поэт Мольца под влиянием фрески Микеланджело обратился на путь благочестия. Микеланджело ворчал, ища сочувствия у Томмазо: — Когда дело касается меня, то тут середины не бывает. Меня объявляют или великим мастером, или страшным чудовищем. Приспешники Сангалло врут и рисуют меня, пользуясь той скверной, которую источают их черные души. — Это просто крысы, — успокаивал его Томмазо. — Крысы, пытающиеся прогрызть Великую китайскую стену. — Скорей упыри, — отвечал Микеланджело. — Они кусаются достаточно больно и пьют нашу кровь. — Ничего, крови у нас хватит. Именно в эти дни Биндо Альтовити, бывший член городского совета во Флоренции и вожак флорентинских изгнанников в Риме, сказал при папском дворе, что оборонительные стены, которые построил Микеланджело у церкви Сан Миниато, были «истинным произведением искусства». Папа Павел тотчас же вызвал Микеланджело во дворец и велел ему принять участие в совещании, где целая комиссия обсуждала вопрос об укреплении оборонительных сооружений Ватикана. Главой комиссии был сын папы Пьеро Луиджи, вместе с ним во дворец были приглашены архитектор Антонио да Сангалло, опытный военачальник Алессандро Вителли и артиллерист-инженер Монтемеллино. Сангалло бросил на Микеланджело свирепый взгляд. Микеланджело поцеловал перстень у папы, тот представил его членам комиссии. Указывая на стоявшую на столе модель Сангалло, папа сказал: — Микеланджело, мы хотим знать твое мнение о проекте стен. Это серьезное дело: ведь при нападении Карла наши бастионы оказались слабыми. Неделю спустя, тщательно осмотрев все стены, Микеланджело снова был в кабинете папы. Комиссия сидела на своих местах, ожидая, что скажет Микеланджело. — Ваше святейшество, я не один день изучал подступы к Ватикану. Мое мнение таково, что стены, которые задумал Сангалло, защитить будет невозможно. Сангалло вскочил на ноги. — Почему невозможно? — Потому что они охватывают слишком большую территорию. Некоторые участки обороны на холмах очень уязвимы, а стену, которая идет к Трастевере вдоль Тибра, неприятель легко проломит. — Разреши тебе напомнить, — с холодным сарказмом сказал Сангалло, — что люди считают тебя лишь художником и скульптором! — Однако мои бастионы во Флоренции устояли. — Да враг на них и не нападал. — Войска императора слишком уважали их, чтобы подступать близко. — Значит, если ты слепил эту маленькую стену у Сан Миниато, так уже стал знатоком фортификаций и можешь уничтожить всю мою работу! — вскричал Сангалло. — Довольно! — сказал папа Павел суровым тоном. — Совещание закрывается. Уходя, Микеланджело передал папе записку со своими замечаниями к плану Сангалло и чертежи, на которых было предусмотрено, как надо изменить этот план, чтобы зона Ватикана, или город папы Льва Четвертого, получила надежную защиту. Пьер Луиджи Фарнезе и Монтемеллино согласились с замечаниями Микеланджело. Папа разрешил достроить в соответствии с планом Сангалло лишь небольшую часть стен-куртин по берегу реки да великолепные ворота дорического стиля. Остальные работы были отложены. Как консультанта-архитектора Микеланджело ввели в состав комиссии, ведавшей строительством оборонных укреплений, но он не заменил собою Сангалло, а должен был работать рядом с ним. Скоро произошла новая стычка. Поводом к ней послужил представленный Сангалло чертеж окон верхнего этажа и карниза дворца Фарнезе, который архитектор строил уже много лет — кардинал Фарнезе за это время успел стать папой Павлом. Микеланджело не раз присматривался к постройке: дворец Фарнезе был расположен всего за квартал от дома Лео Бальони. Строящееся здание казалось Микеланджело громоздким, оно напоминало стародавние крепостные бастионы, мощный каменный корпус был лишен всякого устремления ввысь; Сангалло не сумел придать ему ни красоты, ни ощущения полета. Теперь папа Павел попросил Микеланджело чистосердечно изложить на бумаге все, что он думает об этом дворце. Взяв книгу Витрувия об архитектуре, Микеланджело отметил в ней нужную главу и велел Урбино отнести ее в Ватикан, затем написал несколько язвительных строчек, доказывая, что у дворца Фарнезе «нет и признаков ордера, ибо ордер есть своеобразное равновесие отдельных элементов, разумное их размещение, добрая согласованность». В возводимом Сангалло здании, писал Микеланджело, нет ни стройности, ни элегантности, ни верности стилю, ни удобства, нет в нем и гармонии или «выгодного распределения пространства». Свое письмо Микеланджело заключил так: если бы заново спроектировать — и спроектировать блестяще — окна верхнего этажа, а также карниз, это придало бы дворцу спасительное изящество. Прочитав письмо, папа объявил свободный конкурс на проект верхнего этажа и на разработку карниза. Такие художники, как Джордже Вазари, Пьерино дель Вага, Себастьяно дель Пьомбо и Якопо Мелегино, дали знать, что они участвуют в состязании, и принялись за работу. К ним присоединился и Микеланджело Буонарроти. — Это ниже вашего достоинства, — урезонивал его Томмазо. — Что за соперничество с художниками, которых можно найти без фонаря на любом рынке? А предположим, вы проиграете? Такой провал пагубно отразится на вашем престиже. — Я не проиграю, Томмазо. Карниз, задуманный им, сильно выступал над стеною, — он был резной, богато декорированный. Сандрики и изящные колонны у окон придавали дворцу элегантность, которой так недоставало мрачному творению Сангалло. Разложив все поданные проекты на столе, служившем для завтрака, папа Павел внимательно разглядывал их. Сангалло, Вазари, Себастьяне, Пьерино дель Вага ждали, что он скажет. — Мне хочется похвалить все эти чертежи, в них уйма изобретательности и красоты, — заговорил Павел, посмотрев на художников. — Но, конечно, вы не будете спорить, что в проекте Микеланджело есть что-то божественное. Микеланджело, по существу, спас дворец Фарнезе, он не дал ему выйти тусклым, посредственным и скучным. Однако по Риму был пущен слух, что Микеланджело вмешался в строительство дворца лишь для того, чтобы опорочить Сангалло в глазах папы и отнять у него пост архитектора собора Святого Петра, и что, если он попросит Павла об этом, папа охотно пойдет ему навстречу. — А я и не собираюсь просить папу, — уверял Микеланджело кардинала Никколо однажды воскресным вечером, приехав к нему во дворец на своем белоснежном арабском жеребце.Инквизиционный трибунал кардинала Караффа теперь пересматривал сочинения классиков и всячески препятствовал печатанию новых книг. С изумлением Микеланджело узнал, что люди воспринимают его стихи как серьезную литературу: сонеты о Данте, о Красоте, о Любви, о Скульптуре, об Искусстве и Художнике читали, переписывали и передавали из рук в руки. Некоторые его мадригалы были положены на музыку. Ему стало известно, что в Платоновской академии во Флоренции о его поэзии читаются лекции, что о стихах его говорят в университетах Болоньи, Пизы и Падуи. Урбино поставил надгробие папы Юлия в церкви Сен Пьетро ин Винколи. Изваяния «Лии» и «Рахили» были размещены в нишах нижнего яруса стены, статуи «Богоматери», «Пророка» и «Сивиллы», высеченные Раффаэло да Монтелупо, — вверху. Микеланджело считал, что гробница не удалась, но «Моисей», занявший центральный выступ мраморной стены надгробия, господствовал в церкви с тою же непререкаемой силой, какая была лишь у Господа Бога в Книге Бытия и у Христа в «Страшном Суде». В доме Микеланджело образовалась настоящая архитектурная мастерская; надзор за работой над чертежами для дворца Фарнезе Микеланджело поручил Томмазо де Кавальери. Фреска «Обращение апостола Павла» была завершена. Склонившийся сверху Христос как бы разрезал небесную твердь, по обе его стороны теснилось множество бескрылых ангелов. Павел, упавший с лошади, обмер от ужаса, пораженный знамением, одни из сопровождавших его людей старались его поднять, другие убегали в панике. Могучая фигура лошади разделяла толпу путников и солдат надвое, как Христос разделял собою ангелов в небесах. Через несколько дней Микеланджело приказал Урбино наложить свежий слой штукатурки для «Распятия апостола Петра». Пока штукатурка просыхала, Микеланджело укрылся от всего мира и стал работать над мрамором «Снятие со Креста»: Спасителя поддерживала с одной стороны Богоматерь, с другой — Мария Магдалина, им помогал, стоя позади, Никодим — он был разительно похож на самого Микеланджело. Предугадать, кого и когда в Риме ославят, а кого превознесут, было почти невозможно. Видя, что Микеланджело не воспользовался своей победой над Сангалло и не захватил его должности при соборе Святого Петра, римляне не корили его за нападки на архитектуру дворца Фарнезе и уже считали как бы прощенным. Но скоро Микеланджело получил письмо от Аретино, из Венеции. Хотя он ни разу не встречался с этим человеком, тот прислал ему за последние годы не меньше десятка писем: перемешивая раболепную лесть с угрозами, Аретино твердил, что если Микеланджело по-прежнему будет отказывать ему в своих рисунках, то он не остановится ни перед чем, даже перед убийством. Сейчас Микеланджело собирался кинуть письмо в огонь, не вскрывая, но размашистая, с брызгами чернил, подпись Аретино, которую тот начертал поперек послания, чем-то задела его любопытство. Он сломал печать. Письмо начиналось с того, что Аретино разнес на все корки «Страшный Суд». Какое несчастье, что Микеланджело пренебрег советами Аретино и не представил и земную жизнь, и рай, и ад во всем их блеске и ужасе, как то описывал он, Аретино, в своих прежних посланиях. Вместо этого «вы, христианин, поступились верой ради искусства и позволили себе лишить всякой скромности и мучеников, и святых дев, вы изобразили их так, что перед подобным зрелищем даже в публичном доме пришлось бы закрыть от стыда глаза». Затем Аретино обвинил Микеланджело в «жадности»: разве он не согласился ваять гробницу недостойному папе? И разве он, Микеланджело, не мошенник и не вор, если, получив «горы золота, которые папа Юлий ему завещал», он ничем не расплатился за это с семейством Ровере? «Ведь это же чистейший грабеж!» Испытывая отвращение и в то же время забавляясь напыщенным тоном Аретино, неистовыми его попреками, рядом с которыми шли униженные просьбы, Микеланджело читал это длинное послание дальше, пока не наткнулся на такие строки: «С вашей стороны было бы очень благоразумно исполнить свое обещание с должной заботой и аккуратностью, — тогда, быть может, смолкли бы те злые языки, которые утверждают, что только некий Герардо и некий Томмазо знают, чем вас завлечь и выманить у вас хоть какую-то подачку». Микеланджело била холодная дрожь. О каких злых языках идет речь? О каких подачках? Свои рисунки он дарит тем, кто ему нравится. Их никто у него не выманивает. Он швырнул на пол исписанные рукой Аретино листки и вдруг почувствовал, что он болен. Ему уже семьдесят лет, и в чем только за эти долгие годы его не обвиняли — в том, что он сварлив, высокомерен, замкнут, не желает сотрудничать ни с кем из коллег, кроме тех, у кого есть величайший талант, разум и обаяние. Все это Микеланджело слышал прежде, но такого навета, какой был в письме Аретино, на него еще никто не возводил. Герардо был его старый приятель, более двадцати лет назад, во Флоренции, он подарил ему несколько своих рисунков. А Томмазо де Кавальери — благороднейшая душа, человек такого ума и воспитания, каких не найти во всей Италии. Как это все невероятно, немыслимо! Вот уже полсотни с лишним лет, с тех пор как к нему пришел Арджиенто, в его доме жили ученики, помощники, слуги — всего их перебывало при нем человек тридцать. Они трудились и росли у него на глазах, его дружба с ними неизменно крепла. Никто не истолковывал его отношений с учениками превратно. Никогда, с первых своих дней в боттеге Гирландайо, не слышал он и слова, бросавшего тень на его поведение. Какую из него сделали бы мишень для шантажа, попади он только в зависимость от чьего-то милосердия! Обвинение в непристойности его «Страшного Суда» или в обмане семейства Ровере можно было легко опровергнуть. Но быть запятнанным клеветой в таком возрасте, быть обвиненным почти в том же, за что когда-то открыто преследовали во Флоренции Леонардо да Винчи, — более тяжкого удара Микеланджело не помнил за всю свою долгую, беспокойную жизнь. Прошло совсем немного времени, и яд Аретино просочился в дома римлян. Однажды Томмазо пришел к Микеланджело бледный, со стиснутыми губами. Когда Микеланджело стал настойчиво спрашивать, что случилось, Томмазо потер ладонь об ладонь, будто счищая с них какую-то грязь. Потом он произнес скорей печально, чем гневно: — Вчера вечером один епископ при дворе рассказал мне о письме Аретино. Сокрушенный Микеланджело опустился в кресло. — И как только люди идут на сделки с этой скотиной? — тихо сказал он. — А никто и не идет. Просто поддаются, уступают его наглости. Благодаря этому он и процветает. — Мне очень жаль, Томмазо. Никогда не хотел быть причиной твоих огорчений. — Я обеспокоен, Микеланджело, за вас, а не за себя. Моя семья, мои близкие меня знают — на эту клевету они лишь с презрением плюнут… Но, дорогой мой друг, вас чтит вся Европа. И Аретино нападает именно на вас, на ваши труды, на ваш авторитет… Я готов принести любые жертвы, чтобы только не повредить вам. — Ты не можешь повредить мне, Томмазо. Твоя любовь и привязанность были мне хлебом и воздухом. А теперь, когда маркиза Виттория больна, наша любовь — это единственное, на что я могу рассчитывать. Другой поддержки у меня нет. Я тоже буду плевать на Аретино, как надо плевать на всех шантажистов. Если он разрушит нашу дружбу, он действительно добьется своей цели, хотя бы частично, — он нанесет мне вред. — Но все римские сплетники постараются раздуть этот скандал. Это им выгоднее, чем какая-то ваша скульптура, — предостерегающе сказал Томмазо. — Будем жить и работать так, как жили и работали раньше. Это наилучший ответ всем любителям скандалов.
3
Готовя рисунки к «Распятию апостола Петра», Микеланджело пошел на смелую попытку придать особую выразительность фреске. В центре композиции он поместил яму, в которой покоилось основание тяжелого креста. Петр был распят на кресте, вниз головою, а сам крест лежал в наклонном положении, будучи прислонен к огромному камню. Напрягая силы, Петр зорко смотрел с креста; его немолодое бородатое лицо с яростным осуждением было обращено не только к воинам, руководившим казнью, или к землекопам, старавшимся поднять и поставить крест прямо, но и ко всему миру, который простирался позади этих людей, — это был приговор тирании и жестокости, столь же гневный и разящий, какой звучал и в «Страшном Суде». Микеланджело тихо сидел, нанося последние штрихи у фигур двух римских центурионов и досадуя на то, что ему не удается изобразить коней так гениально, как изображал их Леонардо да Винчи. И вдруг он услышал колокольный звон: колокола звучали над городом печально, явно оплакивая кого-то. В мастерскую с криком вбежала служанка. — Мессер, умер Сангалло! — …умер? Он же работал в Терни… — Заболел лихорадкой. Только что привезли его мертвого. Папа Павел устроил Антонио да Сангалло пышные похороны. Гроб архитектора торжественно несли по улицам, за гробом шли художники и мастера, работавшие с покойным в течение долгих лет. Стоя в церкви рядом с Томмазо и Урбино, Микеланджело слушал, как превозносили Сангалло, называя его одним из величайших строителей со времен древних зодчих, возводивших Рим. Идя домой, Микеланджело рассуждал: — Все эти восхваления слово в слово совпадают с теми речами, которые я уже слышал на похоронах Браманте. И все же папа Лев приостановил все работы, начатые Браманте, как папа Павел приостанавливал работу Сангалло над дворцом Фарнезе, над оборонительными укреплениями… и над собором Святого Петра… Томмазо задержал шаг, повернулся к Микеланджело и испытывающе посмотрел на него. — Вы полагаете… — О нет, Томмазо. Главный смотритель на строительстве собора настаивал на том, чтобы из Мантуи вызвали Джулио Романо, ученика Рафаэля, и назначили его архитектором собора Святого Петра. Но папа Павел не хотел об этом и слышать. — Архитектором будет Микеланджело Буонарроти. И никто другой! — кричал он. Специально присланный грум позвал Микеланджело в Ватикан. Микеланджело сел на своего жеребца и поехал. Папа ждал его в окружении полного состава кардиналов и придворных чинов. — Сын мой, сегодня я назначаю тебя архитектором собора Святого Петра. — Ваше святейшество, я не могу принять этого назначения. В поблекших, но все еще проницательных и лукавых глазах Павла загорелись огоньки. — Не хочешь ли ты сказать мне, что архитектура — это не твое ремесло? Щеки Микеланджело залила краска. Он только сейчас вспомнил, что папа Павел, в ту пору кардинал Фарнезе, был в этом тронном зале, когда Юлий поручал ему, Микеланджело, расписывать плафон Систины и он кричал в отчаянии: «Это не мое ремесло!» — Святой отец, ведь может случиться, что я снесу до последнего камня все, что построил Сангалло, отменю все договоры, которые он заключил. Рим единодушно восстанет против меня. А я должен еще дописать «Распятие апостола Петра». Мне уже за семьдесят. Где мне найти силы, чтобы возвести, начав с самого основания, величайший храм во всем христианском мире?.. Святой отец, я не Авраам, который жил сто семьдесят пять лет. Горестная речь Микеланджело ничуть не тронула папу Павла. Глаза его горели по-прежнему. — Сын мой, ты совсем еще юноша. Тебе можно будет говорить о старости, когда ты доживешь до моих почтенных лет: а мне семьдесят восемь. Но раньше и не помышляй об этом. К тому времени строительство у тебя пойдет полным ходом. Микеланджело оставалось только печально улыбнуться. Он выехал из Ватикана через Бельведерские ворота, потом долго взбирался на вершину Монте Марио; отдохнув здесь и полюбовавшись закатом, он поехал вниз, к тыльной стороне собора Святого Петра. Рабочие уже разошлись по домам. Он осмотрел заложенные Сангалло фундаменты, низкие стены часовен, кольцом облегающих собор с юга. Тяжелые пилоны, на которых Сангалло рассчитывал возводить главный неф и два боковых корабля собора, надо будет снести начисто. Огромная бетонная опора для двух башен или колоколен останется. Хорошо будут служить и контрфорсы, построенные для громадного купола. Было уже темно, когда Микеланджело закончил осмотр собора. Оказавшись у входа в часовню Марии Целительницы Лихорадки, он вошел внутрь и остановился перед своим «Оплакиванием». Сердце его раздирали сомнения. Ведь после того, как он, Микеланджело, открыл глаза папе Юлию на махинации Браманте с цементом, каждый его шаг неизбежно вел к тому чтобы взять строительство собора в свои руки. В душе он давно хотел вывести строительство на верный путь, спасти собор, сделать его действительно величественным памятником христианства. Микеланджело никогда не покидало чувство, что это его собор, что, не будь его, Микеланджело, собор, возможно, не строился бы вообще. Так неужели он не отвечает за него? Он знал всю тяжесть задачи, знал, с каким сильным сопротивлением он столкнется, какие изнурительные годы работы ему предстоят. Закат его жизни окажется много труднее, чем любой отрезок пути, оставшегося позади. Старая женщина вошла в часовню, поставила перед Богородицей зажженную тонкую свечу. Микеланджело шагнул к овальной корзинке, где лежали свечи, взял одну, зажег, укрепил ее рядом со свечой старухи. Конечно же, он должен строить собор Святого Петра! Разве не для того и дана жизнь, чтобы работать и страдать, вплоть до самого конца, до последнего вздоха?Принять какую-либо плату за свою службу на посту архитектора он отказался; не взял денег и у папского хранителя гардероба, когда тот по приказу Павла явился на Мачелло деи Корви с кошельком, в котором лежала сотня дукатов. С рассвета до обеденного времени Микеланджело расписывал часовню Паулину, затем он шел — а это было совсем рядом — к собору и смотрел, как там уничтожают построенное. Рабочие были угрюмы и поглядывали на него враждебно… и все же послушно исполняли его распоряжения. К своему ужасу, он обнаружил, что четыре главных пилона собора, построенные Браманте, а потом не раз перестраивавшиеся при Рафаэле, Перуцци и Сангалло, были непригодны: они могли бы выдержать тяжесть барабана и купола лишь в том случае, если бы их возвести заново, потратив сотни пудов цемента. Эти прямые улики мошенничества еще более восстановили против Микеланджело главного смотрителя и тех подрядчиков, которые работали при Сангалло. Они стали чинить ему столько препятствий, что папе Павлу пришлось выпустить декрет, объявляющий Микеланджело как главным смотрителем, так и архитектором; папа повелел всем, работающим на строительстве собора, подчиняться приказам Микеланджело безоговорочно. Подрядчиков и мастеров, которые продолжали ему перечить, Микеланджело скоро уволил. Теперь строительство пошло гораздо быстрее; римляне поражались, глядя, как растет собор, и ходили подивиться на два спиральных пандуса, которые Микеланджело построил по обе стороны здания: сейчас, подавая строительные материалы кверху, рабочие ужене таскали их на спине, а возили по пандусам, сидя верхом на лошади, что ускоряло подачу буквально в пятьдесят раз. Комитет по охране римских древностей, воодушевленный успехами Микеланджело, обратился к нему с просьбой привести в порядок Капитолийский холм, или, как его ныне называли — Кампидольо, этот священный очаг римской религии и государственности, где когда-то возвышались храмы Юпитера и Юноны Монеты. От дома Микеланджело до Кампидольо было рукой подать; там он сидел с Контессиной в тот давний день, когда папа Лев объявил Джулиано де Медичи капитаном папских войск. Древние храмы, слава этих мест, уже давно превратилась в груды камня, дворец сенаторов напоминал теперь старомодную крепость; тут же рядом паслись козы и коровы; зимою на скатах холма была грязь по колено, летом толстым слоем лежала пыль. Не желает ли Микеланджело, приступали члены комиссии, возродить Кампидольо, вернуть ему былое величие? — Странное дело — они еще спрашивают! — изумлялся Микеланджело, беседуя с Томмазо после того, как члены комиссии ушли, прося подумать об их предложении. — Если бы только Джулиано да Сангалло услышал о таком проекте! Ведь это было его мечтой. Ты должен помочь мне, Томао. Мы попробуем осуществить твои мысли о перестройке Рима. Томмазо покраснел; глаза его вспыхивали и меркли, словно звезды в ветреную ночь. — Я могу взяться за это лишь благодаря учению у вас. Вы увидите: я буду хорошим архитектором. — Мы наметим, Томао, обширный план работы, на целых пятнадцать лет вперед. Когда я умру, ты будешь вести дело по этому плану до полного завершения.
Теперь, когда Микеланджело работал как признанный архитектор, он назначил Томмазо своим помощником; в доме на Мачелло деи Корви пришлось выделить под чертежные мастерские новые комнаты. Томмазо, превосходный рисовальщик, стал одним из виднейших молодых архитекторов Рима. Брат Виттории Колонны Асканио рассорился с папой из-за соляного налога, и папское войско разбило отряды Асканио. Он был изгнан из Рима, а все имущество семейства Колонна конфисковано. Кардинал Караффа стал преследовать Витторию еще ожесточенней. Кое-кто из ее прежних единомышленников бежал в Германию и примкнул к лютеранам, что еще усугубило ее прегрешения в глазах инквизиционного трибунала. Виттория укрывалась теперь в монастыре Святой Анны у Канатчиков, среди садов и колоннад театра Помпея. Когда Микеланджело пришел к ней в воскресенье, перед закатом солнца, она долго не начинала разговора. Он старался заинтересовать ее рассказами о предстоящих своих работах, показывая принесенные рисунки, но она оживилась лишь при упоминании Сикстинской капеллы, сказав, что ей дано разрешение сходить туда и посмотреть «Страшный Суд». Микеланджело заговорил о куполе собора Святого Петра, который вставал в его воображении еще туманно. Виттория вскользь упомянула о его давней и неизменной любви к Пантеону и флорентинскому Собору. — Я люблю эти здания потому, что это чистейшая скульптура, — сказал Микеланджело. — А как вы представляете себе купол собора Святого Петра? Неужели это будет только крыша для защиты от дождя? — Как хорошо, что вы улыбаетесь, Виттория, и даже подтруниваете надо мной! — Не надо думать, что я несчастна, Микеланджело. Я полна трепетной радости — ведь скоро я соединюсь с Богом. — Вы сердите меня, cara. Зачем вам думать о смерти, стремиться к ней, когда здесь, на земле, столько людей, которые вас любят? Разве это не эгоизм? Она обеими руками сжала его руку. Раньше, когда он так мечтал о ее любви, это было бы целым событием, теперь же он с горечью думал лишь о том, как костлявы и сухи стали ее пальцы. Глаза ее загорелись, она прошептала: — Простите меня за то, что я не пошла вам навстречу. Себя я прощаю только потому, что знаю: в действительности я не нужна вам. Новое «Снятие со Креста» в мраморе, царственная лестница на Кампидольо, купол собора Святого Петра — вот ваши страсти, ваша любовь. Вы создавали великие творения и прежде, пока не встретились со мною, вы будете создавать их и тогда, когда меня не станет. Еще до того, как наступил новый воскресный день с условленным свиданием, Микеланджело срочно вызвали во дворец Чезарини, жена которого была кузиной Виттории. Пройдя Торре Арджентина, Микеланджело скоро был у дворца; его сразу же провели через ворота в сад. — Что с маркизой? — спросил Микеланджело у доктора, который вышел, чтобы поздороваться. — Ей уже не увидеть рассвета. Он мерил шагами сад, над садом своим чередом двигались небесные сферы. Когда истекал семнадцатый час ожидания, Микеланджело впустили во дворец. Голова Виттории лежала на подушке, поблекшие золотые волосы были покрыты шелковым капюшоном. Одели ее в рубаху из тонкой льняной ткани, шею плотно обхватывал белый кружевной воротник. Она казалась такой же юной и прекрасной, как в тот весенний день, когда Микеланджело впервые ее увидел. Величественное спокойствие снизошло на лик Виттории: все ее земные тревоги, и страдания уже миновали. Донна Филиппа, настоятельница монастыря Святой Анны у Канатчиков, приглушенным голосом велела внести гроб. Гроб был вымазан смолой. — Что это значит? — вскричал Микеланджело. — К чему смола? Маркиза умерла не от заразной болезни. — Синьор, мы страшимся преследований, — вполголоса сказала настоятельница. — Нам надо увезти маркизу отсюда в монастырь и похоронить ее там, пока враги не потребовали ее тело. Микеланджело хотелось наклониться и поцеловать Витторию в лоб. Но он помнил, что она позволяла ему, целовать только руку, и это удержало его. Когда он вернулся домой, у него болел и ныл каждый сустав, каждая косточка, череп давило и плющило словно обручами. Он присел к столу и начал писать:
4
Заказы шли к нему беспрерывно. Он был истинным мастером в глазах всего мира. Папа Павел возложил на него, еще одну задачу — построить крепостные сооружения, создающие большую безопасность города Льва Четвертого; он поручил ему также выпрямить обелиск Калигулы на площади Святого Петра. Герцог Козимо уговаривал его возвратиться во Флоренцию и высекать изваяния для родного города. Король Франции внес на имя Микеланджело деньги в римской банк на тот случай, если он пожелает ваять или писать для него. Турецкий султан звал его в Константинополь, предлагая выслать эскорт для сопровождения. Где бы ни задумывалось крупное произведение искусства — «Матерь Божья Утоли Моя Печали» для короля Португалии, надгробие для одного из отпрысков Медичи в Милане, герцогский дворец во Флоренции — к Микеланджело обращались за советом, обсуждали с ним намеченный проект и имена художников, которые могли бы исполнить работу. Лучшие часы рабочего дня он проводил в Паулине — писал искаженные ужасом лица женщин, смотревших на распятого Петра, писал пожилого бородатого воина, сокрушенного тем, что он должен принимать участие в казни. Устав от работы кистями, Микеланджело шел домой и, взявшись за молоток и резец, с радостным чувством свободы предавался своей страсти — ваянию. Только работа по мрамору пробуждала в нем ощущение собственной весомости, трехмерности. Он был очень огорчен неудачей с «Лией» и «Рахилью», стыдился оставить после себя эти непервоклассные работы, и он со страхом думал, что для такого тяжелого и мужественного искусства — ваять по мрамору — он уже стал слишком старым. И все же резец его пел, с каждым нажимом «Пошел!» глубоко вгрызаясь в сияющий камень. Микеланджело высекал тело поникшего, мертвого Христа и склонившегося над ним Никодима — с такой же, как у него, Микеланджело, белой бородой, с такими же запавшими глазами и приплюснутым носом: голову Никодима покрывал шлык, рот у него казался нежным, чувствительным. Работая в Паулине, он никому не разрешал входить в часовню, но мастерская его обычно была полна художников, стекавшихся со всех концов Европы: он давал им работу, воодушевлял, учил, искал для них заказы. Так, не считая недель и месяцев, Микеланджело расточал свою энергию без оглядки, пока к нему вдруг не подступала какая-нибудь болезнь, назвать которую он не мог бы и сам: то ныла поясница, то мучительно резало в паху, иногда у него так слабела грудь, что было трудно дышать, иногда донимали почки. В такие дни у него появлялось ощущение, словно бы мозг его сжимался, и он давал волю своей раздражительности и капризам, ворчал и обижался на друзей, на родственников. Например, он обвинил племянника Лионардо в том, что тот, узнав об очередной болезни Микеланджело, приехал в Рим якобы только затем, чтобы захватить в наследство все имущество дяди. Одного из своих помощников Микеланджело укорял за то, что тот будто бы продавал экземпляры его гравюр и наживался на этом. Реальдо Коломбо, величайший анатом Италии, написавший первую книгу по анатомии, проводил на Мачелло деи Корви все свободное время, прополаскивая Микеланджело желудок родниковой водой из Фьюджи. Когда Микеланджело наконец поправлялся и чувствовал, что мозг его принял прежние размеры, он спрашивал Томмазо: — Почему это я делаюсь таким сварливым? Только потому, что мой восьмой десяток летит столь стремительно? — Граначчи говорил, что вы были достаточно раздражительны уже в двенадцать лет, когда он познакомился с вами. — Да, так оно и было, он прав. Да будет светла его память! Граначчи, старейший друг Микеланджело, уже ушел из жизни; не было на свете и Бальдуччи, и Лео Бальони и Себастьяно дель Пьомбо. Каждый минувший месяц, казалось, приближал Микеланджело к тому круговороту, где рождение и смерть смыкались воедино. Из письма Лионардо он узнал, что умер его брат Джовансимоне и что похоронили его в Санта Кроче. Он отчитал племянника за то, что тот не сообщил подробно, чем болел Джовансимоне. Он неоднократно писал Лионардо, что поскольку ему уже почти тридцать, то пришло время искать себе жену и обзаводиться сыновьями: ведь кому-то надо наследовать имя Буонарроти.«Я уверен, что во Флоренции много благородных, но бедных семейств, и ты сделаешь доброе дело, женившись на девушке из такой семьи, даже если у ней нет порядочного приданого; по крайней мере, она не будет проявлять гордыни. Тебе нужна жена, которая бы тебе всецело принадлежала и которой ты мог бы распоряжаться; она не должна тянуться к роскоши и бегать каждый день на званые обеды и свадьбы. Ведь женщине так легко оступиться, если она тщеславна и любит роскошь. В таком случае никто не упрекнет тебя и не скажет, что ты хотел стать знатнее, женившись на знатной девушке; всем известно, что мы старинные и знатные граждане Флоренции, не хуже любых других семейств».Томмазо де Кавальери женился. Он воздерживался от брака до тридцати восьми лет, а теперь сделал предложение молодой девушке из родовитой римской семьи. Свадьба была пышная, на ней присутствовали папа и его двор, вся римская знать, флорентинская колония, многие художники. Через год синьора Кавальери подарила мужу первого сына. За рождением вскорости последовала кончина: умер папа Павел. Умер он от горя: был убит его сын Пьер Луиджи, которому Павел добыл герцогство Пармы и Пьяченцы; очень дурно и не подавая никаких надежд на исправление вел себя внук Оттавио. В отличие от похорон Клемента Рим погребал папу Павла с чувством искренней печали. Следя за тем, как собирается коллегия кардиналов, римские флорентинцы радовались: они считали, что настал час кардинала Никколо Ридольфи, сына Контессины. Никколо должен стать папой! За исключением небольшой кучки, властвовавшей во главе с герцогом Козимо во Флоренции, врагов у него в Италии не было. Но у Никколо существовал могучий противник за пределами страны: Карл Пятый, император Священной Римской империи. На конклаве, заседавшем в Сикстинской капелле, успех целиком клонился в пользу Николло, но тут он заболел, совершенно внезапно. К утру он умер. Доктор Реальдо Коломбо сделал вскрытие трупа. Когда он после этого пришел на Мачелло деи Корви, Микеланджело вопросительно посмотрел на него. — Отравлен? — Вне всякого сомнения. — У вас есть доказательства? — Если бы я подал Николло яд собственными руками, то и тогда у меня не было бы доказательств точнее. Наверное, его отравил Лоттини, агент герцога Козимо. Пораженный горем, Микеланджело опустил голову. — Это конец нашим надеждам на свободу Флоренции. Как и всегда, когда он чувствовал, что мир внушает ему отвращение, он обратился к мрамору. Сейчас это было «Снятие со Креста» — он ваял эту статую с надеждой, что после его смерти друзья поставят ее ему на могилу. Уже далеко продвинувшись в работе, он столкнулся со странным затруднением: левая нога Христа явно мешала воплощению замысла. Хорошенько поразмыслив, он отсек всю ногу целиком. Опущенная вниз, к коленям Богоматери, рука Христа прекрасно маскировала отсутствие левой ноги. Коллегия кардиналов выбрала нового папу — шестидесятидвухлетнего Джована Марию де Чьокки дель Мойте, названного Юлием Третьим. Микеланджело встречался с ним при дворе и знал его уже много лет; в свое время кардинал Чьокки дель Монте помогал ему при неоднократном пересмотре договора на гробницу папы Юлия. Во время осады Рима в 1527 году войсками императора его трижды подводили к виселице, которая стояла напротив дома Лео Бальони в Кампо деи Фиори; все три раза кардинала освобождали в самую последнюю минуту. Теперь, придя к власти, новый папа жаждал только удовольствий. — Ему следовало бы принять имя Льва Одиннадцатого, — говорил Микеланджело Томмазо. — Он вполне может повторить девиз Льва, чуть-чуть его изменив: «Поскольку Господь Бог три раза спасал меня от виселицы, чтобы сделать папой, дайте же мне насладиться папским троном!» — Он будет добр к художникам, — отвечал Томмазо. — Он любит их общество. И он хочет превратить свою маленькую виллу близ Народных ворот в роскошный дворец. Прошло немного времени, и Микеланджело был приглашен на виллу папы Юлия, к обеду. Микеланджело поразился, увидев там множество античных статуй, колонн, произведений живописи. Среди гостей оказались самые разные художники, большинство их уже получили от папы заказы. Был там друг Микеланджело Джорджо Вазари, только что назначенный архитектором папской виллы, были Чеккино Росси, спасший вместе с Вазари отбитую руку «Давида», и Гульельмо делла Порта, преемник покойного Себастьяно, и Аннибале Караччи. Микеланджело с волнением ждал, когда папа за говорит о строительстве собора Святого Петра, но тот явно избегал этого предмета. Над плотной, будто войлок, седой бородой папы свисал длинный крючковатый нос. Укрывшийся в бороде рот, точно силок, захватывал огромное количество еды — папа был чудовищным обжорой. В какую-то минуту, Юлий Третий призвал всех к молчанию. Гости утихли. — Микеланджело, — загудел папа своим грубым низким голосом. — Я не обременял тебя никакими просьбами о работе из уважения к твоему почтенному возрасту. — У нас с вами, ваше святейшество, ничтожная разница в возрасте — двенадцать лет, — с насмешливым смирением ответил Микеланджело. — А поскольку мы все хорошо знаем, что вы не пожалеете сил, чтобы придать блеск своему понтификату, я не смею просить себе льгот и скидок на возраст. Этот саркастический ответ Юлию, видимо, понравился. — Дорогой маэстро, мы ценим тебя так высоко, что я охотно отдал бы несколько лет своей жизни, если этим можно было бы продлить твою жизнь. Микеланджело посмотрел на то, как папа расправлялся с жареным гусем, занимавшим огромное блюдо, и подумал: «Мы, тосканцы, всегда были воздержанны в еде, потому-то мы и долговечны». Вслух он сказал: — Я тронут вашими словами, но, учитывая интересы всего христианского мира, я не могу допустить, чтобы вы шли на такую жертву. — Тогда, сын мой, если Господь судил мне пережить тебя, как это диктует естественный порядок вещей, я велю набальзамировать твое тело и положу его во дворец — пусть оно хранится, пока будут жить твои произведения. Аппетит у Микеланджело сразу пропал. Он только и думал теперь, под каким бы предлогом ему улизнуть из-за стола. Но отделаться от папы было не так-то просто. — Мне все же хотелось бы, Микеланджело, чтобы ты исполнил кое-какие работы для меня: новую лестницу и фонтан в Бельведере, фасад дворца в Сан Рокко, надгробие моему дяде и дедушке… И ни слова о соборе Святого Петра. Папа повел гостей в виноградник — послушать музыку и посмотреть представление. Микеланджело незаметно скрылся. Ведь все, чего он хотел добиться от папы, — это подтверждения своих прав как архитектора собора. Папа долго мешкал, откладывая свое решение со дня на день. Видя это, Микеланджело стал скрывать свои чертежи и планы, снабжая подрядчиков только теми сведениями, которые были необходимы на ближайшие дни. У него всегда была привычка держать свои замыслы в тайне, пока работа не завершена. Теперь для такой скрытности были веские причины, но эта скрытность навлекла на Микеланджело и беду. Часть отстраненных Микеланджело подрядчиков во главе с красноречивым Баччио Биджио обратились с жалобой к кардиналу Червини: тому был поручен надзор за счетными книгами строительства. Кардинал подал по этому делу специальное письмо папе. Микеланджело срочно вызвали на виллу Юлия. — Ты не побоишься встретиться со своими противниками лицом к лицу? — спросил Юлий. — Нет, ваше святейшество, только я прошу, чтобы встреча была назначена прямо на стройке. На площадке, где должна была вырасти новая часовня Королей Франции, собралась целая толпа. Атаку открыл Баччио Биджио. — Буонарроти снес прекрасный храм, а сам построить такого не может! — Давайте обсуждать то, что у нас перед глазами, — миролюбиво поправил его папа. — Святой отец! — воскликнул кто-то из присутствующих. — Тут тратятся огромные деньги, и никто не объясняет, на что они идут. Нам совершенно неизвестно, как в конце концов будет выглядеть собор. — За это отвечает архитектор, — вмешался Микеланджело. — Ваше святейшество, Буонарроти разговаривает с нами так, будто мы на стройке посторонние люди. Будто мы здесь совсем и не нужны! Папа еле удержался, чтобы не выпалить уже готовую остроту. Кардинал Червини, дрожа, вскинул руки и показал на возводившиеся своды. — Ваше святейшество, посмотрите сами. У каждого из этих сводов Буонарроти строит по три часовни. При таком расположении, на наш взгляд, он лишает храм доступа света, особенно со стороны самой южной абсиды. Папа скосил глаза, упершись взглядом в край своей плотной, как войлок, бороды. — Я готов согласиться с этим замечанием, Микеланджело. Обратившись к Червини, Микеланджело сказал спокойно: — Монсеньер, поверх этих окон в каменном своде будут сделаны еще три окна. — Раньше вы не говорили об этом ни слова. — И не обязан был говорить. — Мы вправе знать, что именно мы строим, — вскипел кардинал Червини. — Ведь вы тоже можете ошибаться! — Я не давал обязательства, ваше преосвященство, делиться своими планами и намерениями ни с вами, ни с кем другим. Ваше дело — отпускать деньги и смотреть, чтобы их не раскрадывали. Архитектурные планы — это моя забота. Никого другого они не касаются. Среди вздымавшихся высоко к небу пилонов, арок и стен недостроенного собора легла напряженная тишина, готовая тотчас взорваться. — Святой отец, — заговорил Микеланджело, глядя в лицо папе. — Вы видите собственными глазами, какое прекрасное здание я воздвигаю на отпущенные мне средства. Поскольку я уже отказался от какого-либо вознаграждения, мне надо заслужить этой работой спасение души, иначе я буду тратить время и силы напрасно. Папа положил руку на его плечо. — Ни земные твои дела, ни небесное благополучие не должны пострадать хотя бы на йоту. Ты верховный архитектор собора Святого Петра. — Повернувшись к кружку обвинителей, он сказал сурово: — И так будет до тех пор, пока я папа. Это была победа Микеланджело. Но, одержав ее, он нажил себе нового врага — кардинала Марчелло Червини.
5
Стараясь задобрить Баччио Биджио, папа Павел отнял у Микеланджело порученную ему и уже начатую работу — перестройку, моста Святой Марии. Биджио разобрал старинные устои моста, сложенные из травертина, и, чтобы уменьшить вес сооружения, построил его из бетона. Проезжая однажды верхом по этому мосту, Микеланджело сказал Вазари, ехавшему рядом: — Ты чувствуешь, Джордже, как трясется под нами эта махина? Давай-ка пришпорим лошадей, а то мост вот-вот рухнет. Вазари стал рассказывать об этой шутке по всему городу. Биджио багровел от злости. — Что смыслит Буонарроти в мостах? В начале 1551 года Юлий Третий выпустил, наконец, послание, официально утвердив Микеланджело архитектором собора Святого Петра. Однако через несколько месяцев папе пришлось приостановить все работы на стройке. Он тратил на украшение своей виллы такие громадные суммы и предавался удовольствиям с таким жаром, что израсходовал все средства, предназначенные на строительство собора. Теперь пришла очередь багроветь от злости Микеланджело. Сидя вместе с Томмазо за чертежными досками, он брюзжал и жаловался ему: — Разве я могу пойти и сказать папе: «Святой отец, ваша ненасытная алчность к удовольствиям нас совершенно разоряет. Сдержите себя хоть немного, чтобы мы могли завершить собор Святого Петра»? — За такую речь он посадит вас в темницу замка Святого Ангела. — Тогда я буду молчать, хотя мне это и дорого дается. Когда он вечером, в тот же день, принялся за работу над «Снятием со Креста», нервы у него были все еще взбудоражены. Высекая предплечье Христа, он наткнулся на кремневую жилу. Из-под резца посыпались искры. Рассвирепев, Микеланджело с силой ударил несколько раз по руке Христа… И она упала на пол. Откинув молоток и резец, Микеланджело вышел из дому. Он шагал по направлению к храму Марса, мимо ларьков и лавочек Траянова рынка, которые, взбираясь вверх по склону, казались черными скважинами какой-то большой скалы. Расстроенный тем, что он испортил руку Иисусу, Микеланджело решил начать новое изваяние. Теперь это будет «Положение во гроб». Близ форума Цезаря он зашел во двор, где был склад камня, и выбрал античный блок, когда-то служивший частью карниза, — это был палестринский известняк, по цвету очень похожий на мрамор. Несмотря на то что камень был с глубокими впадинами, Микеланджело распорядился отвезти его к себе в мастерскую и стал размышлять о будущей работе. В новом его изваянии уже не будет Никодима; у Христа выступят на первый план массивная голова, руки и торс, ноги его, бессильные принять на себя тяжесть тела, будут вяло подогнуты; у Марии зрителю будет видна лишь голова и руки; в судорожном напряжении старается она удержать отяжелевшее, длинное тело мертвого сына. Освеженный прогулкой, Микеланджело возвратился на Мачелло деи Корви. Там его ожидал Урбино, лицо у парня было тревожно-огорченное. — Мессере, мне не хотелось доставлять вам новые неприятности, но я должен покинуть вас. Микеланджело был так ошеломлен, что не нашелся, что ответить. — Покинуть меня? — Вы помните девочку в Урбино, которую я выбрал десять лет назад? Микеланджело покачал головой, не веря своим ушам. Неужели прошло десять лет? — Ей сейчас восемнадцать. Нам самый раз пожениться. — Но зачем тебе уходить? Приведи свою жену сюда, Урбино, мы устроим тебе квартиру, купим мебель. Дадим твоей жене служанку… Урбино от удивления так широко открыл глаза, что они напоминали теперь окружности, начертанные рукой Джотто. — Вы говорите это всерьез, мессере? Ведь мне уже исполнилось сорок, и надо обзаводиться детьми как можно скорее. — Этот дом, Урбино, — твой дом. А ты мне все равно что сын. Твои дети будут мне внуками. Чтобы обеспечить независимость Урбино, он выдал ему две тысячи дукатов, затем оплатил расходы по меблировке комнаты для невесты, купил молодоженам новую кровать. Через несколько дней Урбино поехал за женой. Корнелия Колонелли, милая девушка, взяла на себя заботы по дому и оказалась хорошей хозяйкой. Она была очень привязана к Микеланджело, почитая его как свекра. Девять месяцев спустя она родила сына, которого назвали Микеланджело. Своего племянника Лионардо Микеланджело уговаривал купить во Флоренции «хороший дом, ценой от полутора до двух тысяч дукатов, в своем приходе. Как только ты подыщешь его, я вышлю тебе денег». Когда Лионардо поселится в приличном доме, ему надо будет найти жену и подумать о серьезнейшем деле — продолжении рода Буонарроти. Лионардо выбрал Кассандру Ридольфи, отдаленную родственницу того семейства, в которое была выдана в свое время Контессина. Микеланджело был от всего этого в восхищении и послал Кассандре два кольца — одно с бриллиантом, другое с рубином. Кассандра отдарила его преподнеся восемь превосходных рубашек. Лионардо назвал своего первенца Буонарроти, по имени отца. Второго сына назвали Микеланджело, но ребенок скоро умер, и Микеланджело по этому поводу сильно горевал.Перестраивая площадь Капитолия, Микеланджело принялся прежде всего за античное здание конторы соляных пошлин, которое уже несколько веков служило дня собраний сенаторов и напоминало по виду военную крепость. Микеланджело превратил это здание в величественный дворец: одухотворенный полет лестниц, поднимавшихся от обоих крыльев дворца, приковывал взор к парадному входу. Затем Микеланджело спроектировал два совершенно одинаковых дворца, поместив их по боковым сторонам площади, в течение столетий служившей рынком. Он выровнял эту площадь, выложив на ней узор цветным камнем, и теперь раздумывал, какое именно произведение искусства поставить посредине. Ему приходил на ум то «Лаокоон», то «Бельведерский торс», то гигантская каменная голова Августа. Однако все эти изваяния казались ему неподходящими. И тут он вспомнил бронзовую конную статую императора Марка Аврелия, которая вот уже несколько веков в полной сохранности стояла напротив церкви Святого Иоанна в Латеране: верующие считали, что статуя изображает Константина, первого императора-христианина. Цоколь, на котором Микеланджело поместил статую, был так невысок, что великолепный, будто живой всадник, казалось, находится на одном уровне с народом, заполнявшим пространство между дворцами, — словно бы Марк Аврелий только что спустился по ступеням лестницы дворца Сенаторов и сел на своего коня, чтобы скакать по Риму. В марте 1555 года Томмазо, Вазари, Раффаэло да Монтелупо, Амманати и Даниеле да Вольтерра устроили вечеринку в честь восьмидесятилетия Микеланджело. Стены мастерской они увешали рисунками и надписями, желая юбиляру прожить еще восемь десятков лет… Две недели спустя умер папа Юлий Третий, так и не исполнив обещания ссудить несколько лет своего земного века другу Микеланджело. И, к ужасу Микеланджело, кардинал Марчелло Червини, отвечавший за расходование средств на строительство собора Святого Петра, был избран папой. Он принял теперь имя Марцелла Второго. Хладнокровно взвесив обстоятельства, Микеланджело решил, что для него наступил конец. Ведь именно кардиналу Червини он заявлял, что планы строительства собора его, кардинала, не касаются. Теперь Червини сделался папой, и все дела, связанные с собором, касались его в первую очередь! Микеланджело не стал тратить времени на оплакивание своей доли. Вместо этого он принялся энергично завершать дела в Риме и условился о переводе своих банковских счетов и перевозке мраморов во Флоренцию. Урбино он хотел оставить в своем римском доме, так как его жена была опять беременна. Микеланджело сжег все черновые рисунки и чертежи собора Святого Петра и купола и уже собрался укладывать свои седельные сумки, как, совершенно неожиданно, после трех недель пребывания на троне, папа Марцелл скончался. Микеланджело пошел в церковь и поблагодарил Бога за то, что тот дал ему сил не радоваться смерти Червини. Спустя еще три недели Микеланджело увидел, что он, пожалуй, напрасно не уехал во Флоренцию: кардинал Джованни Пьетро Караффа стал папой Павлом Четвертым. Никто не знал в точности, каким образом его избрали папой. Это был крайне неприятный, отталкивающий человек, вспыльчивый до неистовства, нетерпимый ко всем окружающим. Он чувствовал меру всеобщей ненависти к себе и говорил по этому поводу: — Я сам не понимаю, почему меня выбрали папой; отсюда я могу заключить, что папой делает человека Господь, а не кардиналы. Объявив, что он считает делом своей чести вымести ересь из Италии, новый папа обрушил на римлян все ужасы испанской инквизиции. В похожем на крепость здании, стоявшем близ Ватикана, инквизиционный папский трибунал пытал и без суда предавал смерти попавших в его руки людей, заточал их в подземные темницы, жег на кострах на Кампо деи Фиори… а в те же самые дни папа назначил своего развратного племянника кардиналом и оделял герцогскими титулами других своих родичей. Микеланджело видел, что его вполне могут пустить на топливо для костров, пылавших напротив дома Лео Бальони, но никаких попыток к бегству не предпринимал. Папа не тревожил его… пока не наступил час расплаты. Папа Павел Четвертый принял его в маленькой монашеской комнате с выбеленными известкой стенами и скудной, неуклюжей мебелью. Выражение лица папы было столь же суровым, сколь сурово и строго было его одеяние. — Буонарроти, я уважаю твою работу. Но воля Совета Тридцати непреклонна. Еретические фрески, вроде тех, что ты написал на алтарной стене, должны быть уничтожены. — …«Страшный Суд»? Он стоял перед деревянным креслом папы, ощущая себя трупом из мертвецкой монастыря Санто Спирито — будто у него только что вскрыли череп, вынули мозг и швырнули его на пол. Он бессильно опустился на угол скамьи и сидел, слепо уставясь в выбеленную известью стену. — Многие наши иерархи считают тебя богохульником; такая точка зрения подкрепляется и письмом из Венеции, от Аретино… — Вымогатель! — …друга Тициана, Карла Пятого, Бенвенуто Челлини, покойного короля Франции Франциска Первого, Якопо Сансовино… Вот список с его письма, который в Риме передают из рук в руки. Я уверен, что Совет Тридцати тоже ознакомится с его содержанием.
«Разве это мыслимо, — читал Микеланджело, — чтобы в священном Господнем храме, над алтарем сына Божьего, в величайшей капелле мира, где кардиналы, епископы и сам наместник Христа, совершая священные обряды, исповедуют, предаются размышлениям и поклоняются телу и крови Иисуса… были помещены столь земные изображения, в которых ангелы и святые лишены остатков скромности и каких-либо признаков небесной своей природы!»Микеланджело судорожно дернул головой. — Ваше святейшество, это клевета. Аретино написал эту пакость после того, как я отказался послать ему свои рисунки и картины. Таким образом он хочет отомстить мне… — Все пристойные люди потрясены: ты изобразил святых и мучеников голыми, сотни мужчин и женщин представлены у тебя в самом неприличном виде. — Это говорят узколобые, ограниченные люди, святой отец, у них нет ни малейшего понятия о том, что такое истинное искусство. — Значит, ты, Микеланджело, называешь узколобым и ограниченным человеком своего святого отца? Ты уверен, что у меня нет понятия о том, что такое искусство? Ведь я принадлежу именно к тем людям, о которых мы говорим. — Моя фреска не несет ничего дурного и пагубного. Я создал ее с такой любовью к Богу, с какой никто еще не писал ни одну фреску. — Ну, хорошо. Я не требую ломать стену до основания. Мы просто покроем ее слоем извести. А по этому слою потом ты можешь написать что-нибудь другое, приятное всем без исключения. Что-нибудь очень простое и благочестивое. Такое, чтобы ты завершил эту работу быстро. Микеланджело был слишком подавлен, чтобы бороться. Вместо него борьбу начал Рим. Друзья Микеланджело, его приверженцы, его старые покровители при дворе, в том числе несколько кардиналов во главе с Эрколе Гонзага, делали все, что могли, чтобы спасти фреску. Каждый вечер Томмазо рассказывал Микеланджело, какие новые сторонники примкнули к его лагерю: тут был и французский посол, и епископ из Венеции, и знатное римское семейство. Затем в дело вмешался анонимный посредник, предложивший компромисс, который весь Рим нашел блестящим. Даниеле да Вольтерра, в прошлом ученик живописца Содомы и архитектора Перуцци, а теперь один из самых горячих поклонников Микеланджело, вбежал однажды в мастерскую с пылающими щеками: — Маэстро, «Страшный Суд» спасен! — Не могу поверить… И папа согласился? — …не уничтожать фреску. Теперь не надо будет накладывать никакого слоя извести. Тяжело дыша, Микеланджело рухнул в свое кожаное кресло. — Я пойду и лично поблагодарю всех, всех, кто помог мне… — Маэстро, — заговорил Даниеле, отводя глаза в сторону, — нам придется расплачиваться. — Расплачиваться? — …понимаете, чтобы успокоить папу… он оставит фреску как она есть, если на все голые фигуры мы наденем штаны. — Штаны? Какие штаны?.. — И юбки на женщин. Мы должны закрыть все детородные части. Можно оставить голыми по пояс только несколько женских фигур. От бедер до колен все должно быть закрыто, в особенности у тех фигур, которые обращены лицом к зрителю. А столь чтимых папой святых следует одеть в мантии, так же как и Святую Катерину, юбку у Девы Марии надо сделать гораздо плотней… — Если бы я с молодых лет посвятил себя изготовлению серных спичек, — с гневом сказал Микеланджело, — я был бы теперь куда счастливее. Даниеле вздрогнул, будто его ударили. — Маэстро, постарайтесь взглянуть на дело разумнее. Папа собирался вызвать ко двору какого-нибудь живописца… но я уговорил его поручить эту работу мне. Я приложу все силы, чтобы не нанести большого вреда фреске. Если же мы отдадим работу в руки чужого человека… — Адам и Ева сплетали фиговые листы и делали из них опояски. — Не сердитесь на меня. Я не член Совета Тридцати. — Ты прав, Даниеле. Мы должны принести эти детородные части в жертву инквизиции. Всю жизнь изображал я красоту человека. А теперь человек снова стал постыдным, греховным существом, его опять хотят сжигать на кострах суетности. Ты понимаешь, Даниеле, что это значит? Мы идем вспять, к самым темным векам беспросветного невежества. — Послушайте меня, Микеланджело, — успокаивал его Даниеле. — Я покрою все как бы легкой дымкой, цвета тканей подберу как можно ближе к вашим телесным тонам. Я положу такой тонкий слой красок, что будущий папа может содрать все эти штаны и набедренные повязки, не повредив нижнего слоя. Микеланджело тряхнул головой. — Действуй, Даниеле. Закутай их всех в простыни. — Пожалуйста, доверьтесь мне. Я обведу папу вокруг пальца. Работа над фреской потребуется тонкая, деликатная, и пройдут месяцы, а то и годы, пока я осмелюсь к ней приступить. Кто знает, может, Караффа к тому времени умрет и с инквизицией будет покончено… — Даниеле был прилежным, хотя и лишенным дарования художником, но работал так медленно, что про него говорили, будто он еще не выполнил ни одного заказа при жизни заказчика. Чтобы как-то оградить себя от черных мыслей, надо было взять в руки молоток и резец и начать работать. Недавно Микеланджело приобрел блок очень неправильной, даже уродливой формы, как бы сжатый в середине, с утолщенными концами. Микеланджело не стал выравнивать камень: воспользовавшись его странными очертаниями, он хотел высечь вдавленный, как полумесяц, профиль. Начав обтесывать его именно с выемки, на середине, он с любопытством ждал, отзовется ли мрамор, подскажет ли, что из него создать. Мрамор оставался глухим, неподатливым, молчаливым. Микеланджело требовал от грубой глыбы — хотя это и был сияющий мрамор — слишком многого: чтобы сырой материал творил произведение искусства сам по себе, помимо воли ваятеля. Однако вызов, брошенный своенравным камнем, расшевелил Микеланджело, пробудил в нем энергию. Теперь, в восемьдесят лет, жить и работать было столь же необходимо, как и в тридцать пять, только это оказалось чуть труднее.
6
В Сеттиньяно умер Сиджизмондо, последний из братьев Микеланджело. Микеланджело пережил все свое поколение. И тут же, вслед за кончиной Сиджизмондо, подступила другая печаль: занемог Урбино, проживший у Микеланджело двадцать шесть лет. Благородный дух Урбино не оставлял его и в болезни. — Меня огорчает не моя смерть, — говорил он. — Мне горько, что вы остаетесь один на один с этим вероломным миром. Жена Урбино Корнелия родила второго сына в тот самый день, когда хоронили ее мужа. Она жила в доме Микеланджело до тех пор, пока не были исполнены все предсмертные распоряжения Урбино. Микеланджело оказался опекуном и наставником двух мальчиков Урбино; когда мать увезла их, уехав в свой родительский дом, все вокруг Микеланджело сразу опустело. Он усердно трудился, строя барабан собора Святого Петра; высекал новое «Оплакивание»; купил еще одно имение для Лионардо; послал Корнелии Урбино — о чем та просила его — два с половиной аршина легкой черной материи; подыскивал какого-нибудь бедного человека, чтобы помочь ему деньгами во имя спасения своей души. Затем Микеланджело пришлось снова прекратить работу на строительстве собора, так как испанская армия грозила вторгнуться в Рим. Когда человеку пошел девятый десяток, думал Микеланджело, жизнь оборачивается к нему отнюдь не самой приятной стороной. Он покинул Флоренцию в шестьдесят лет и горевал тогда, что дни его уже на исходе, но любовь сделала его снова юным, и седьмой десяток пролетел как на крыльях. В то время когда ему перевалило за семьдесят, он был с головой погружен в работу, расписывая часовню Паулину, высекая «Снятие со Креста», обдумывая свои архитектурные проекты и надзирая за строительством собора: ему не хватало ни дней, ни ночей, чтобы исполнить все, что он намечал. Но теперь, когда он вступил в восемьдесят второй год своей жизни, каждый уходящий час жалил его, как шершень. Зрение у Микеланджело было уже далеко не такое острое, как прежде, шаг не столь тверд; недуги мало-помалу подтачивали его здоровье и убавляли силы, мешая ему достроить собор Святого Петра и создать для собора величественный купол. Жестокая боль от камней в почках заставила его однажды слечь. Доктор Коломбо с помощью неустанного Томмазо выходил Микеланджело, но, прикованный к постели в течение нескольких месяцев, он был вынужден передать рабочие чертежи одной из часовен смотрителю, человеку на стройке новому. Когда он выздоровел и с трудом взошел на леса, то увидел, что новый смотритель не разобрался в его чертежах и допустил при работе ошибки. Микеланджело мучил и жег стыд: это была первая его неудача за десять лет строительных работ. Такой ошибкой он давал Баччио Биджио основательный повод для новых нападок. Промах был допущен столь серьезный и непростительный, что оправдаться казалось невозможным. Микеланджело поспешил пойти к папе, но, как он ни торопился, Биджио побывал у папы раньше. — Это правда? — спросил папа, взглянув в огорченное лицо Микеланджело. — Придется сносить всю часовню? — Почти всю, ваше святейшество. — Печально. Как ты мог допустить это? — Я был болен, святой отец. — Понимаю. Биджио говорит, что ты уже слишком стар, чтобы отвечать за столь трудное дело. — Такая заботливость меня трогает. Но ведь Биджио со своими помощниками старался снять с меня это тяжкое бремя еще много лет назад. И разве не смыло половодьем мост Святой Марии, который строил сам Биджио? Святой отец, вы уверены, что даже в расцвете своих сил Баччио Биджио лучше, чем я при всех моих болезнях и старости? — В твоих способностях никто не сомневается. Микеланджело помолчал минуту, уйдя мыслями в прошлое. — Ваше святейшество, тридцать лет я смотрел, как хорошие архитекторы строили фундамент собора. И все же не мог дождаться, когда они возведут собор. За те десять лет, что я состою архитектором, храм поднялся и взмыл к небу, как орел. Если вы уволите меня, от всего строительства в конце концов останутся одни развалины. У папы передернуло губы. — Микеланджело, пока у тебя есть силы бороться, ты останешься архитектором собора Святого Петра. В этот вечер в доме на Мачелло деи Корви собралось много народа. Поскольку Микеланджело однажды уже был чуть ли не при смерти, Томмазо, другие его давние друзья, а также кардинал Карпи, ставший теперь покровителем Микеланджело при папском дворе, начали его уговаривать, чтобы он изготовил законченную модель купола. До сих пор у Микеланджело были сделаны лишь фрагментарные рисунки. — Если бы мы потеряли вас на прошлой неделе, — решительно говорил Томмазо, — кто бы мог догадаться, каким вы задумали строить этот купол? — Помню, вы заметили однажды, — вмешался кардинал Карпи, — что вам хочется довести строительство собора до такой стадии, чтобы уже никто не мог изменить вашего замысла, если вы умрете. — Я уповаю на это. — Тогда изготовьте нам купол! — воскликнул Лоттино, начинающий художник. — Другого выхода нет. — Вы правы! — со вздохом ответил Микеланджело. — Но я еще не совсем додумал, как мне строить этот купол. Мне еще надо искать его. А уж потом мы смастерим деревянную модель. Гости разошлись, остался один Томмазо.Микеланджело подошел к своему письменному столу, пододвинул к нему деревянное кресло. Бормоча что-то себе под нос, он водил пером по чистому листу бумаги. У Пантеона и флорентинского Собора было, по существу, два купола — один вставлялся в другой, структурно переплетаясь так, чтобы друг друга поддерживать. У него, Микеланджело, внутренний купол будет скульптурой, а наружный — архитектурой… Купол — это не просто покрытие храма; для этой цели может служить любая кровля. Купол — это великое произведение искусства, это совершенное слияние скульптуры и архитектуры, какое явлено в самом небе. А небесный свод, по представлению людей, самый совершенный из сводов, он простирается от горизонта к горизонту, с изумительным изяществом покрывая землю. Купол — это самая естественная из всех архитектурных форм и самая одухотворенная: он весь устремлен к тому, чтобы воспроизвести величественную форму, под гранью которой ведет свою жизнь человечество. Купол храма — это не соперник куполу неба, а само небо в миниатюре; купол и небо — это как сын и отец. Какие-то люди говорят, что земля круглая; человеку, который, подобно Микеланджело, объехал лишь пространство между Венецией и Римом, поверить в это было трудно. В грамматической школе мастера Урбино его учили, что земля плоская и кончается там, где начинаются изогнутые края небесного свода. Однако он пытливо вглядывался в изменчивую грань горизонта, которая, как говорили, недвижна: когда он шел или ехал верхом на лошади, приближаясь к горизонту, горизонт неизменно отступал на расстояние, равное тому, на которое он к нему приближается. То же самое и здесь, с его куполом. Купол не знает пределов, он бесконечен. Человек, ставший под купол, всегда должен чувствовать, что края купола недостижимы. Небо — совершенное творение; кто бы и где бы ни стал на земле, он всегда ощущает себя в центре, в середине земли, и купол небес простирается на равное расстояние от него во все четыре стороны. Лоренцо Великолепный, мужи Платоновской академии, гуманисты учили Микеланджело, что человек есть центр вселенной; в этом он убеждался самым непререкаемым образом, глядя вверх, в небо, и чувствуя себя тем серединным столбом, той осью, на которой держалось гигантское полотнище облаков и солнца, луны и звезд; как ни одинок, как ни сиротлив он на земле, небеса, лишившись его поддержки, сразу обрушились бы вниз. Если разрушить этот купол как форму, как идею, если убрать эту симметрично изваянную кровлю, простирающуюся над человеком, — что тогда останется от Божьего мира? Лишь плоская доска, вроде той, на которой резала свои хлебы его мачеха, Несравненная, вынув их из горячей печи. Стоит ли удивляться, если человек поместил рай на небе! Это произошло не потому, что он видел хотя бы одну душу, поднимавшуюся к небу, или уловил далекий отблеск блаженных мест; это произошло потому, что самые божественно прекрасные формы сущего, какие только доступны разуму и чувствам человека, находятся, по его представлению, на небесах. Микеланджело хотел достичь того, чтобы его купол был тоже исполнен тайны, чтобы он не стал только кровлей, защищающей от зноя и дождя, грома и молнии, а явил бы собой несравненную красоту, которая укрепит в человеке веру в Бога… Чтобы купол предстал ощутимой формой, которую можно будет не только видеть или осязать, но которая позовет войти в нее. Под куполом, который он построит, душа человека должна возноситься вверх, к Богу, как это бывает в ту последнюю минуту, когда она сбрасывает иго плоти. Разве можно человеку стать ближе к Господу, пока он пребывает на земле? Замышляя свой громадный купол, Микеланджело хотел показать образ Бога с такой же убедительностью, с какой он написал его на плафоне Систины. Спасение своей души отнюдь не было единственной заботой Микеланджело, когда он трудился над куполом собора Святого Петра. Эта последняя великая его работа оказалась самой тяжелой из всех, какие исполнил Микеланджело за шестьдесят восемь лет, начиная с того дня, когда Граначчи взял его под руку на улице Живописцев и привел в мастерскую на Виа деи Таволини, объявив: «Синьор Гирландайо, вот Микеланджело, о котором я вам говорил». Его разум и пальцы действовали проворно и точно. Проработав несколько часов пером и углем, он брался, чтобы немного освежить себя, за мраморную глыбу с выемкой посредине в форме полумесяца. Он оставил свою первоначальную мысль сделать голову и колени Христа обращенными в противоположные стороны. Теперь им владело другое желание: пусть голова и колени Христа идут по одной оси, зато голова Богоматери, склоненная над плечом Христа, должна быть изваяна совсем в иной плоскости — это придаст статуе драматическую контрастность. И не выпуская из рук резца, он высекал по впадине блока простертую фигуру Иисуса, пока не стал уставать и делать промахи. Потом он снова вернулся к своему куполу.7
Он жаждал достичь абсолютного равновесия, совершенной линии, плавных изгибов, объемности, весомости, воздушности, плотности, изящества, бесконечной пространственной глубины. Он хотел создать произведение искусства, которое переживет его и останется людям навеки. Отложив уголь и перья, он принялся лепить из глины — ее влажность и податливость, думал он, дадут ему куда больше свободы, чем жесткая линия, прочерченная пером. Шли недели и месяцы, он лепил модель за моделью уничтожая их и делая новые. Он чувствовал, что уже стоит на пороге открытия: сначала он добился ощущения монументальности, потом достиг нужных пропорций затем величия и простоты — и все же модель пока свидетельствовала скорей о мастерстве художника, чем о возвышенном озарении. Наконец, пришло и оно, пришло после одиннадцати лет стараний и опытов, одиннадцати лет мольбы, надежд и отчаяния, успехов и неудач. Купол был рожден. Это был плод его воображения, слитый, сотканный из всех искусств, какими он владел, сооружение неимоверно громадное и в то же время хрупкое, как птичье яйцо в гнезде; легкое, как облако, высотой почти в сто сорок четыре аршина, его тело обрело те же грушевидные очертания, какие были у грудей «Богоматери» Медичи, оно летело ввысь, словно музыка, взмывало к небу, будто совсем лишенное веса. Это был купол, не похожий ни на один другой купол в мире. — Совершилось, — с восторгом прошептал Томмазо, взглянув на законченные рисунки. — И откуда такое только берется? — А откуда берутся идеи, Томмазо? Себастьяно, когда он был молод, задавал мне тот же самый вопрос. Я отвечу тебе теми же словами, какими отвечал тогда ему: ведь теперь, в свои восемьдесят два года, я не мудрее, чем был в тридцать девять. Идеи — это естественная функция ума, как дыхание у легких. Может быть, идеи приходят от Бога. Чтобы построить деревянную модель, он нанял в помощь плотника, Джованни Франческо. Он изготовил модель из липы, в масштабе одной пятнадцатитысячной предполагаемой величины. Гигантский купол будет покоиться на арках и пилонах. Круглый обширный барабан будет выложен из кирпича, облицованного травертином, на внешние ребра купола пойдет тиволийский травертин, каркас барабана будет сварен из железа, колонны и антаблементы будут тоже из травертина. Восемь наклонных плоскостей вдоль нижнего пояса барабана можно использовать для подачи материалов, перевозя их к стенам купола на ослах. Разработка инженерных планов потребовала много времени, но Микеланджело сумел с ними справиться, — к тому же Томмазо был теперь в этих делах настоящим экспертом. Все это было проделано в мастерской на Мачелло деи Корви, в строжайшей тайне. Внутренний купол модели Микеланджело смастерил до последней мелочи сам, наружный он велел Франческо выкрасить особой краской. Фасонная резьба и украшения были слеплены из глины, смешанной с опилками и клеем. Микеланджело вызвал из Каррары Баттисту, искусного резчика по дереву, и тот изготовил статуэтки и капители, бородатые лица, апостолов. Внезапно умер папа Павел Четвертый. В Риме вспыхнул самый буйный мятеж, какой только видел Микеланджело после смерти очередного первосвященника. Толпа свалила наземь недавно установленную статую Павла, долго волочила голову изваяния по улицам; после того как городские власти прокляли эту голову, толпа швырнула ее в Тибр. Попутно толпа взяла штурмом здание инквизиционного трибунала, выпустила оттуда арестованных и уничтожила документы, по которым инквизиторы уличали свои жертвы в ереси. Устав от раздоров и крови, коллегия кардиналов выбрала папой шестидесятилетнего Джованни Анджело Медичи, представителя захудалой ломбардской ветви знаменитого рода. Папа Пий Четвертый был опытным юристом. Человек рассудительный, профессиональный адвокат, он доказал свое блестящее умение вести переговоры и улаживать дела, и скоро Европа стала смотреть на него как на многоопытного и честного политика. Инквизиция, совершенно чуждая характеру итальянцев, прекратила в Италии свое существование. Проведя ряд юридических конференций и заключив договоры, папа добился мира в Италии, не ссорился он и с пограничными государствами, не наступал на лютеранство. Из дипломатических соображений церковь установила внутренний мир, и это благотворно сказалось на укреплении единства среди всех католиков Европы. Папа Пий Четвертый подтвердил права Микеланджело как архитектора собора Святого Петра и отпустил новые средства, чтобы подвести своды под барабан. Он также поручил Микеланджело разработать проект ворот для городских стен — ворота должны были называться Пиевыми. Это было истинное единоборство со временем. Возраст Микеланджело приближался к середине девятого десятка. Если бы ему отпустили средств и рабочей силы вдоволь, он мог бы приступить к строительству барабана через два или три года. Он не в состоянии был даже приблизительно сказать, сколько бы ему потребовалось времени, чтобы завершить купол с его окнами, колоннами и резным фризом. В десять — двенадцать лет, думал Микеланджело, он, наверное, довел бы дело до конца. К тому времени ему, пожалуй, исполнится круглая сотня. Никто не доживал до этого срока, и все-таки, несмотря на приступы боли от камней в почках, несмотря на головные боли, на колики, которые расстраивали его желудок, на ломоту в спине и пояснице, на повторяющиеся приступы головокружения и слабости, когда Микеланджело должен был лежать в течение нескольких дней в постели, он, по существу, не чувствовал, чтобы силы его покидали. Он до сих пор предпринимал прогулки в Римскую Кампанью… Глядя в зеркало, он видел, что цвет лица у него хороший. На лоб спадали пряди вьющихся черных, хотя и с густой проседью, волос, в бороде, раскинутой надвое, седины появилось еще больше. Но глаза были чистые и проницательные. Он должен построить этот купол. Разве его отец, Лодовико, не дожил до девяноста? Неужели он окажется слабее, чем отец, и не перекроет его век хотя бы на лишний десяток?Ему предстояло пройти еще через одно испытание огнем. Баччио Биджио, пробравшийся на высокий пост в конторе строительных работ, подобрал документы и цифры, которые говорили, в какую сумму обошлась стройке болезнь Микеланджело: ведь вследствие этой болезни надо было заново перестраивать часовню, Биджио выжал из этих документов все, что было можно, и даже склонил на свою сторону друга Микеланджело, кардинала Карпи: тот теперь тоже считал, что строительство собора идет плохо. Биджио уже готовился занять место Микеланджело на стройке, выжидая, когда он вновь заболеет и сляжет. Микеланджело не мог теперь каждый день лазить на леса, и потому один из способных его учеников, Пьер Луиджи Гаэта, был назначен помощником производителя работ. По вечерам Гаэта докладывал Микеланджело, что делается на стройке. В эту пору убили производителя работ, и Микеланджело предложил, чтобы его место занял Гаэта. Однако производителем стал не Гаэта, а Баччио Биджио. Гаэта же был со стройки уволен. Биджио начал перетаскивать и перемещать заготовленные ранее балки и разбирать леса, собираясь вести строительство по новому плану. Мучительно взбираясь на леса времени, Микеланджело перешагнул восемьдесят седьмой год своей жизни. Дурные вести со стройки так его угнетали, что он уже не находил сил подняться с кровати, которая давно стояла у него прямо в мастерской. — Вам надо непременно встать, — убеждал его Томмазо, стараясь вывести учителя из болезненного оцепенения. — Иначе Биджио уничтожит на стройке все, что вы создали. — Тому, кто сражается с ничтожным противником, не одержать великой победы. — Простите меня, но сейчас не время вспоминать тосканские пословицы. Сейчас надо действовать. Если вы сегодня не в силах идти на строительство сами, вы должны послать туда кого-нибудь вместо себя. — А ты пошел бы, Томмазо? — Но ведь всем известно, что я у вас вроде родного сына. — Тогда я пошлю Даниеле да Вольтерру. Что касается штанов в «Страшном Суде», то он пока успешно обводит папский двор вокруг пальца. Справится он и с этими заговорщиками в строительной конторе. Даниеле да Вольтерру на стройку даже не допустили. Баччио Биджио чувствовал себя там полным хозяином. Встретив однажды на Капитолии папу, шествовавшего со своей свитой, Микеланджело сказал ему сварливо: — Ваше святейшество, я требую, чтобы вы убрали Биджио! Если вы не сделаете этого, я навсегда уеду во Флоренцию. Зачем вы позволяете разрушать собор? — Спокойней, Микеланджело, спокойней, — в своей, как всегда, мягкой, сдержанной манере ответил ему Пий Четвертый. — Давай-ка зайдем во дворец Сенаторов и побеседуем там, как полагается. Папа выслушал его очень внимательно. — Мне придется вызвать к себе тех строителей, которые действуют против тебя. Потом я попрошу своего родственника, Габрио Сербеллони, сходить на строительство и разобраться во всех обвинениях. Завтра утром будь в Ватикане. Микеланджело явился туда слишком рано и попал к папе не сразу. Ожидая приема, он оглядывал стены станцы делла Сеньятура, которые расписывал Рафаэль — сам он в ту пору был занят плафоном Систины. Он всмотрелся в четыре Рафаэлевы фрески: «Афинскую Школу», «Парнас», «Диспут» и «Правосудие». Раньше он не мог смотреть на работы Рафаэля без предубеждения, не мог себе этого позволить. Ему было ясно, что он никогда не стал бы лелеять и писать эти идеализированные и застывшие сцены; но, видя, с каким подлинным мастерством, с каким изысканным изяществом они исполнены, он понял, что по лиричности и романтической грациозности Рафаэль был лучшим художником из всех художников Италии. Микеланджело вышел из станцы в философско-раздумчивом настроении. Переступив порог малого тронного зала, он увидел папу — Пий Четвертый сидел в окружении всех тех людей из строительной конторы, которые уволили Гаэту и не пожелали признать Даниеле да Вольтерру. Через несколько минут в зал вошел и Габрио Сербеллони. — Ваше святейшество, в докладе, который написал Баччио Биджио, я не нахожу и доли истины. Доклад весь подделан, подтасован… Буонарроти хочет возвести великий собор, а в докладе одно злопыхательство — иных мотивов, кроме самолюбия и корысти, в действиях Биджио усмотреть невозможно. Тоном судьи, который выносит безоговорочное решение, папа Пий сказал: — Отныне Баччио Биджио от работы на строительстве собора Святого Петра отстраняется. Планы Микеланджело Буонарроти остаются на будущее в полной силе, изменять их в каких-либо деталях я запрещаю.
8
Пока собор с его гигантским фасадом, колоннами и сводами постепенно приобретал все более ясные очертания и вздымался все выше, Микеланджело целыми днями сидел в своей мастерской, завершая проект Пиевых ворот и обдумывая, как превратить по просьбе папы часть разрушенной громады терм Диоклетиана в чудесную церковь Санта Мария дельи Анджели. Работу над своим мрамором, по очертанию напоминавшим полумесяц, он оставил уже несколько лет назад. Как-то в полдень, когда он лежал на боку, отдыхая в своей кровати, его осенила мысль, что для завершенности блока ему надо добиваться не просто новых форм фигур, а новой формы всей скульптуры. Он поднялся с постели, взял в руки свой самый тяжелый молоток и резец и отсек голову Христа, изваяв новую голову и лицо из того выступа блока, который раньше был плечом Богородицы. Затем от отсек у Христа правую руку, перерубив ее чуть выше локтя — кисть и предплечье, погруженное в толщу камня, как бы составляли теперь часть постамента. Ту боковую грань блока, которая была прежде левым плечом и ключицей Иисуса, Микеланджело превратил в левую руку Богоматери. Великолепные длинные ноги Христа изменили теперь все пропорции фигуры: на них приходилось три пятых длины тела. Усекновение придало статуе новый эмоциональный, эффект: в ней появились свет, прозрачность, юная грация. Теперь Микеланджело был почти доволен. Он чувствовал, что, прибегая к искажениям вытянутой, удлиненной фигуры, он говорит некую правду о человеке: сердце может устать, утомиться, но человечность, шагая на своих вечно юных ногах, будет шествовать по лику земли все дальше и дальше. — Если бы у меня было в запасе еще десять лет, пусть даже пять, — сказал Микеланджело изваянию, — я создал бы совершенно новую по духу скульптуру. Вдруг его накрыла темнота. Через несколько минут он пришел в сознание, но мысли у него путались. Он снова взял в руки резец, уставился взглядом в прозрачного, будто светящегося Христа. Он уже не мог сосредоточить внимание, не знал, куда направить острие резца. Он не мог, как ни старался вспомнить, что именно он делал с мрамором за минуту до этого. Что-то случилось — он знал это, — но как это было? И что было прежде? Может быть, он задремал на секунду? Может, еще не проснулся? Тогда почему он чувствует такую онемелость и слабость в левой руке и ноге? Почему у него такое ощущение, будто мышцы на одной щеке обвисли? Он кликнул служанку. Когда он стал говорить ей, чтобы она вызвала Томмазо, он заметил, что слова у него звучат неразборчиво, слитно. Старая женщина, смотрела на него, широко открыв глаза. — Мессере, вы здоровы? Она помогла ему лечь в постель, затем накинула на себя шаль и вышла на улицу. Томмазо явился со своим домашним доктором. По выражению их лиц Микеланджело видел, что произошло нечто серьезное, хотя они уверяли его, что он лишь сильно переутомился. Доктор Донати дал Микеланджело какое-то горячее питье, размешав в нем отвратительное на вкус лекарство. — Отдых исцеляет все, — сказал доктор. — За исключением старости. — Я слышу о вашей старости уже так давно, что не хочу об этом и говорить, — отозвался Томмазо, подкладывая под голову Микеланджело еще одну подушку. — Я посижу здесь, пока вы не заснете. Он проснулся и увидел, что за окном глубокая ночь. Он осторожно приподнялся. Боль в голове затихла, глаза видели очень ясно, — надо было пойти взглянуть, что еще требовалось сделать с этим выгнутым в форме полумесяца блоком, с «Оплакиванием». Он встал с постели, прикрепил к бумажному картузу свечу из козьего сала, подошел к изваянию. Путаница в мыслях прошла, думалось очень отчетливо. Как хорошо прикоснуться кончиками пальцев к мрамору! Он щурился, защищая глаза от летящей крошки, и размашистым «Пошел!» начинал одну очередь ударов за другой, обтачивал правый бок и плечо Иисуса. Каллиграфические штрихи его резца трепетали на мраморном торсе, тая в пространстве. На рассвете Томмазо бесшумно отворил парадную дверь и не мог удержаться от смеха. — Ну, вы, надо сказать, и мошенник! Это же чистый обман! Я ушел от вас в полночь, вы спали так, что я думал, проспите неделю. Прошло несколько часов, я прихожу и вижу — тут снегопад, белая вьюга! — Чудесно пахнет мрамор, не правда ли, Томао? Когда в моих ноздрях запекаются эти лепешки белой пыли, я легче дышу. — Доктор Донати говорит, что вам надо отдыхать. — Отдохну на том свете, caro. Рай уже переполнен скульптурой. Там мне ничего не останется, как только отдыхать. Он работал весь день, поужинал вместе с Томмазо, потом сам улегся в постель, спал несколько часов, затем снова поднялся, укрепил еще одну свечу на своем картузе и начал полировать статую. Сначала он пустил в ход пемзу и серу, потом солому, придавая длинным ногам Иисуса гладкость атласа. Он уже и забыл, что лишь сутки назад он терял сознание. Спустя два дня, когда он стоял перед мрамором, замышляя отрубить еще одну руку с кистью, чтобы явственнее высвободилось удлиненное тело Христа, его поразил новый удар. Он уронил молоток и резец, побрел, спотыкаясь, к кровати и упал на колени — повернутая набок голова его бессильно уткнулась в одеяло. Когда он очнулся, комната была полна людей: тут собрались Томмазо, доктор Донати и доктор Фиделиссими, Гаэта, Даниеле да Вольтерра, друзья-флорентинцы. Перед глазами у него плыла отъятая по плечо рука изваяния — она трепетала, пульсировала каждой своей жилкой. С внутренней стороны руки, у локтя, виднелась вена, совершенно живая, набухшая кровью. Рука висела в воздухе, но была неистребимой, явственной. Он не мог уничтожить ее, как никто не мог уничтожить «Лаокоона», на столетия погребенного в земле, попираемого ногами. Вглядываясь в свою собственную вену на руке, с внутренней стороны, у локтя, он видел, какая она плоская, увядшая, ссохшаяся. Он подумал: «Человек проходит. Лишь произведения искусства бессмертны». Он настоял на том, чтобы ему разрешили посидеть в кресле у горящего камина. Однажды, когда его оставили одного, он накинул на себя верхнюю одежду, вышел на улицу и под дождем пошел в направлении собора Святого Петра. Одни из его новых учеников, Калканьи, встретившись с ним, спросил: — Маэстро, разве можно вам выходить в такую погоду? Он дал Калканьи отвести себя домой, но на следующий день, в четыре часа, опять оделся и хотел ехать верхом на лошади. Однако ноги у него к тому времени так ослабели, что взобраться в седло он уже не сумел. Римляне шли к нему проститься. Те, кто не мог попасть в дом, клали цветы и подарки у порога. Доктор Донати старался удержать Микеланджело в постели: — Не спешите спровадить меня на тот свет, — говорил Микеланджело доктору. — Мой отец прожил ровно девяносто и успел отпраздновать день рождения. Значит, у меня есть еще две недели впереди — ведь образ жизни, который я веду, очень полезен для здоровья. — Раз вы такой бесстрашный, — вмешался Томмазо, — то как вы посмотрите на утреннюю прогулку в карете? Барабан уже выстроен. В честь торжества по поводу вашего девяностолетия решено выложить первое кольцо купола. — Слава всевышнему! Теперь уже никому не удастся исказить мой замысел. А все же, как ни прикинь, печально, что приходится умирать. Теперь я начал бы все снова — я создал бы формы и фигуры, о которых раньше и не мечтал. — Глаза его, испещренные янтарными крапинками, смотрели твердо. — Больше всего я люблю работать по белому мрамору. — Кажется, вы удовлетворили свою страсть. В эту ночь, лежа без сна в своей кровати, он думал: «Жизнь была хороша. Господь Бог создал меня не для того, чтобы покинуть. Я любил мрамор, очень любил, и живопись тоже. Я любил архитектуру и любил поэзию. Я любил свое семейство и своих друзей. Я любил Бога, любил формы всего сущего на земле и на небе, любил и людей. Я любил жизнь во всей ее полноте, а теперь я люблю смерть как естественный исход и завершение жизни. Великолепный был бы доволен: если посмотреть на мою жизнь, то силы разрушения тут не победили сил созидания». На него огромной волной нахлынула темень. Прежде чем он потерял сознание, он сказал себе: «Я должен повидать Томмазо. Есть дела, о которых надо позаботиться». Когда он открыл глаза, Томмазо сидел у него на краю кровати. Томмазо подсунул руку и приподнял Микеланджело, прижав его голову к своей груди. — Томао… — Я здесь, caro. — Я хочу, чтобы меня похоронили в Санта Кроче, вместе с нашим семейством. — Папа намерен похоронить вас в вашем собственном храме, храме Святого Петра. — Это… это не моя родина. Поклянись, что ты отвезешь меня во Флоренцию… — Папа не позволит этого, но флорентинские купцы могут тайком вывезти вас через Народные ворота с караваном товаров… — Пусть так и будет, Томао. — Силы его быстро падали. — Я предаю свою душу в руки Господа… тело земле, а достояние — своему семейству… Буонарроти… — Все будет сделано по вашей воле. Я завершу работу на Кампидольо в точности так, как вы задумали. Будут стоять в Риме и собор Святого Петра и Капитолий. Во все века Рим будут считать не только городом Цезаря или Константина, но и городом Микеланджело. — Спасибо тебе, Томмазо… Я очень устал… Томмазо поцеловал Микеланджело в лоб и, рыдая, вышел. Спускались сумерки. Оставшись один, Микеланджело стал перебирать в уме образы всех прекрасных работ, какие он создал. Он видел их, одну за другой, так ясно, как будто бы только что завершил их, — изваяния, росписи и архитектурные сооружения сменяли друг друга с той же поспешностью, с какой шли годы его жизни: «Богоматерь у Лестницы» и «Битва кентавров», которых он высекал для Бертольдо и Великолепного, — платоновский кружок тогда смеялся над ним, потому что работа его казалась ученым «чисто греческой»; «Святой Прокл» и «Святой Петроний», изваянные в Болонье для Альдовранди; деревянное распятие для настоятеля Бикьеллини; «Спящий Купидон», которым он хотел одурачить торговца в Риме; «Вакх», которого он изваял в саду Якопо Галли; «Оплакивание», исполненное по заказу кардинала Сен Дени — для храма Святого Петра; гигант «Давид», созданный для гонфалоньера Содерини во Флоренции; «Святое Семейство», которое выпросил у него Аньоло Дони; картон для картины Битва при Кашине, прозванный «Купальщиками», — он был написан из чувства соперничества с Леонардо да Винчи; «Богоматерь с Младенцем», изваянная по заказу купцов из Брюгге в первой его собственной мастерской; злосчастная бронзовая статуя — портрет папы Юлия Второго; «Книга Бытия», написанная для Юлия Второго на плафоне Систины; фреска «Страшного Суда», исполненная по желанию папы Павла Третьего для того, чтобы закончить украшение капеллы; «Моисей» для гробницы Юлия; четыре незавершенных «Гиганта», оставшихся во Флоренции, «Утро» и «Вечер», «Ночь» и «День» в часовне Медичи; «Обращение Павла» и «Распятие Петра» в часовне Паулине; Капитолий, Пиевы ворота, три статуи «Оплакивания», высеченные ради собственного удовольствия… и вереница образов вдруг остановилась и замерла: мысленным взором Микеланджело видел теперь только собор Святого Петра. Собор Святого Петра… Он вошел в этот храм через главный его портал, шагнул на яркий, по-римскому густой солнечный свет, сиявший в широком нефе собора, остановился под самой серединой купола, у гробницы Святого Петра. Он чувствовал, как душа покидает его тело, взмывая все выше и выше, к самому куполу, сливаясь с ним — сливаясь с пространством, с временем, с небом, с Богом.Ирвинг Стоун ЖАЖДА ЖИЗНИ Повесть о Винсенте Ван Гоге
ОТ АВТОРА
Читатель, быть может, захочет узнать, насколько эта повесть соответствует истине. Должен сказать, что все диалоги мне пришлось придумывать; есть в книге и чистый вымысел, например, сцена с Майей, – это читатель без труда определит и сам; в одном или двух случаях я описал мелкие эпизоды, в истинности которых я убежден, хотя и не могу подтвердить это документами, – в частности, короткую встречу Ван Гога с Сезанном в Париже. Кое—где я прибег к умышленным упрощениям – так, описывая скитания Винсента по Европе, я всюду беру лишь одну денежную единицу – франк; кроме того, я опустил некоторые маловажные обстоятельства жизни Ван Гога. Если не считать этих беллетристических вольностей, то в остальном книга полностью соответствует фактам. Главным источником для меня послужило трехтомное издание писем Винсента Ван Гога к его брату Тео (Houghton, Mifflin, 1927—1930). Большую часть материала я собрал в Голландии, Бельгии и Франции, посетив все те места, где бывал Винсент. С моей стороны было бы неблагодарностью не выразить свою признательность множеству друзей и почитателей Ван Гога в Европе – они щедро отдавали мне свое время и делились материалами. В их числе Колин ван Осе и Луи Брон из «Гаагше пост», Иоганн Терстех из галереи Гупиль в Гааге; семья Антона Мауве из Схевенингена; господин и госпожа Жан—Батист Дени из Малого Вама; семья Хофке из Нюэнена; Ж.Барт де ла Фай из Амстердама; доктор Феликс Рей из Арля; доктор Эдгар Леруа из приюта св. Павла Мавзолийского; Поль Гаше из Овера на Уазе, который и поныне остается самым преданным другом Винсента в Европе. Я весьма обязан Лоне Моск, Алисе и Рей Браунам и Жану Фактору за их помощь в издании книги. И, наконец, я хотел бы выразить глубокую благодарность Руфи Алей, которая первой прочла эту книгу в рукописи. И.С. 6 июня 1934
ПРОЛОГ. ЛОНДОН
1
– Господин Ван Гог! Пора вставать! Еще не проснувшись, Винсент уже ждал, когда раздастся голос Урсулы. – Я встал, мадемуазель Урсула, – ответил он. – Нет, вы не встали, вы только встаете, – засмеялась девушка. Винсент слушал, как она спускается по лестнице и идет на кухню. Опершись на ладони, он резким движением спрыгнул с кровати. Плечи и грудь были у него массивные, руки большие и сильные. Он наскоро оделся, плеснул из кувшина холодной воды и стал править бритву. Винсент любил ежедневный ритуал бритья – взмах лезвия вдоль правой щеки, от бакенбарда до уголка чувственного рта, затем верхняя губа, сначала справа, от крыла носа, потом слева, потом крупный, словно скатанный кусок теплого гранита, подбородок. Он приник всем лицом к душистой охапке брабантских трав и дубовых листьев, лежавших на шифоньерке. Его брат Тео собрал эти листья и травы близ Зюндерта и прислал сюда, в Лондон. Лишь вдохнув запах Голландии, Винсент почувствовал, что день начался. – Господин Ван Гог! – крикнула Урсула, снова постучавшись в дверь. – Почтальон принес вам письмо. Разорвав конверт, он узнал почерк матери. «Дорогой Винсент, – читал он, – мне захотелось сказать тебе словечко хотя бы на бумаге». Вспомнив, что у него еще не вытерто лицо, он сунул письмо в карман брюк – его можно будет прочесть потом, в свободное время у Гупиля. Он откинул назад и расчесал свои длинные, густые, изжелта—рыжие волосы, надел тугую белую сорочку, низкий воротничок, завязал черный галстук с двумя длинными концами и сошел вниз, где его ждал завтрак и улыбка Урсулы. Урсула Луайе вместе с матерью, вдовой провансальского викария, содержала во флигеле, на заднем дворе, детский сад для мальчиков. Ей минуло девятнадцать, это была улыбчивая большеглазая девушка, с тонким, словно пастелью тронутым овальным лицом и стройной фигуркой. Винсент упивался, глядя, как она смеется и сияет, будто какой—то яркий цветной зонт под лучами солнца бросал свой отсвет на ее обольстительное личико. Пока он ел, Урсула быстро и изящно пододвигала ему тарелки и оживленно разговаривала. Винсенту был двадцать один год, и он впервые влюбился. Жизнь как бы раскрылась перед ним во всей полноте. Ему казалось, что он будет счастливейшим человеком, если до конца своих дней сможет завтракать, сидя за одним столом с Урсулой. Урсула принесла Винсенту ломтик ветчины, яйцо и чашку крепкого черного чая. Она присела на стул, пригладила на затылке свои вьющиеся каштановые волосы и, все улыбаясь, глядела на него, проворно подавая ему соль, перец, масло и поджаренный хлеб. – Ваша резеда уже прорастает, – сказала она, облизывая губы. – Вы не взглянете на нее перед тем, как идти в галерею? – Непременно, – ответил он. – А вы не проводите меня? Я хочу сказать. .. вы не покажете, где она? – Чудак этот Винсент, право, чудак! Сам посадил резеду, и сам не знает, где она растет. – У нее была привычка говорить с людьми так, как будто их и нет рядом. Винсент поперхнулся. Манеры у него, под стать его грузному телу, были неловкие, и он никак не мог найти нужных слов в разговоре с Урсулой. Они вышли во двор. Было холодное апрельское утро, но яблони стояли уже в цвету. Между домом Луайе и флигелем был небольшой фруктовый сад. Несколько дней назад Винсент посадил здесь мак и душистый горошек. Всходы резеды уже пробивались из земли. Винсент и Урсула присели на корточки лицом друг к другу, их головы почти соприкасались. От волос Урсулы исходил сильный, волнующий запах. – Мадемуазель Урсула, – произнес Винсент. – Да? – Она слегка отстранила от него голову и вопросительно улыбнулась. – Я... я... – Боже мой, да говорите же наконец! – Она проворно вскочила на ноги. Он прошел с нею до двери флигеля. – Скоро сюда придут мои малыши, – заговорила Урсула. – А вы не опоздаете в галерею? – Нет, я успею. Я дохожу до Стрэнда за сорок пять минут. Она не знала, что еще сказать, и, ничего не придумав, закинула руки и стала ловить у себя на затылке выбившуюся прядь волос. Грудь у нее, при ее тонкой фигуре, была удивительно полная. – Где же та брабантская картина, которую вы обещали мне для детского сада? – спросила она. – Я послал репродукцию одной картины Сезара де Кока в Париж. Он хочет сделать на ней надпись специально для вас. – Ах, как это мило! – Она захлопала в ладоши и начала кружиться на месте, потом снова повернулась к нему. – Иногда вы, господин Ван Гог, бываете просто очаровательны, но только иногда! Она улыбнулась ему прямо в лицо и хотела уйти. Он схватил ее за руку. – Ночью я придумал вам имя. Я буду звать вас l'ange aux poupons [ангел малышей (фр.)]. Урсула откинула голову и громко расхохоталась. – L'ange aux poupons! – воскликнула она. – Пойду скажу маме! Она вырвала у него свою руку, расхохоталась, взглянув на него через плечо, и побежала к дому.2
Винсент надел цилиндр, взял перчатки и вышел на Клэпхем—роуд. Здесь, вдалеке от центра Лондона, дома стояли привольно, вразброс. Во всех садах цвела сирень, боярышник и ракитник. Было четверть девятого, а к Гупилю надо было поспеть к девяти. Ходил он быстро, и по мере того как дома теснились друг к другу плотнее, все больше людей, спешивших на службу, попадалось ему навстречу. Ко всем этим прохожим он испытывал необычайно дружелюбное чувство: они ведь тоже знали, как это чудесно – быть влюбленным. Он шел по набережной Темзы, потом через Вестминстерский мост, потом миновал Вестминстерское аббатство и здание парламента и, выйдя на Стрэнд, свернул к дому номер семнадцать на Саутгемптон—стрит, где помещался лондонский филиал фирмы «Гупиль и компания» – торговля картинами и эстампами. Проходя через главный салон, застланный толстыми коврами и затененный пышными занавесями, он увидел полотно, на котором было изображено нечто вроде длинной, в шесть ярдов, рыбины или дракона; над чудищем парил какой—то человечек. Картина называлась «Архангел Михаил, поражающий сатану». – На литографском столе лежит для вас посылка, – сказал Винсенту один из приказчиков в салоне. За салоном, где висели полотна Милле, Боутона и Тернера, была комната с офортами и литографиями. Сделки же обычно совершались в третьей комнате – она и выглядела иначе, чем две первые, гораздо более напоминая деловую контору. Вспомнив, как одна женщина покупала вчера уже перед закрытием последнюю в этот день картину, Винсент расхохотался. – Мне эта картина, Гарри, совсем не нравится, а тебе? – спрашивала она мужа. – Собака тут точь—в—точь такая, как та, что укусила меня прошлым летом в Брайтоне. – Послушай, любезный, – сказал Гарри, – на что нам собака? Моя хозяйка из—за собак и так вечно лается. Винсент понимал, что он продает сущую дрянь. Большинство клиентов не имело и понятия о том, что они покупают. Они платили огромные деньги за дешевку, за ерунду, но какое до этого дело ему? От него требовалось лишь одно – чтобы торговля эстампами приносила доход. Он вскрыл посылку от Гупиля, из Парижа. Там была картина Сезара де Кока с собственноручной его надписью: «Винсенту Ван Гогу и Урсуле Луайе – Les amis de mes amis sont mes amis» [друзья моих друзей – мои друзья (фр.) ]. – Я поговорю с Урсулой сегодня вечером, когда буду отдавать картину, – пробормотал он. – Через несколько дней мне исполнится двадцать два, я зарабатываю пять фунтов в месяц. Дольше ждать нет смысла. В тихой маленькой комнатке у Гупиля время летело быстро. За день Винсент продавал в среднем пятьдесят репродукций, и, хотя он предпочел бы торговать картинами маслом и офортами, ему было все же приятно, что он зарабатывает для фирмы такие деньги. Он отлично ладил с товарищами по работе, немало приятных часов провели они вместе, обсуждая события в Европе. С детства он был немного угрюм и сторонился товарищей. Окружающим он казался странным, даже чудаковатым. Но встреча с Урсулой перевернула все его существо. Теперь ему хотелось, чтобы он всем нравился, чтобы все любили его; раньше он был целиком погружен в себя, Урсула же помогла ему по—новому взглянуть на мир, оценить красоту и радость повседневной жизни. В шесть часов вечера магазин закрывался. У выхода Винсента остановил господин Обах. Он сказал: – Я получил письмо от вашего дяди Винсента Ван Гога. Он интересуется, как идут у вас дела. Я был рад написать ему, что вы один из лучших служащих магазина. – Благодарю, с вашей стороны это очень любезно, сэр. – Не стоит благодарности. Когда вернетесь из летнего отпуска, получите повышение, – я хочу доверить вам офорты и литографии. – Ах, сэр, для меня это сейчас так важно... Вы знаете, я... я собираюсь жениться! – В самом деле? Вот это новость! Когда же у вас свадьба? – Видимо, этим летом. – До сих пор он о свадьбе и не думал. – Превосходно, молодой человек, превосходно. Вы служите всего год и уже получили повышение, а когда вернетесь из свадебного путешествия, тогда – смею надеяться – мы придумаем для вас что—нибудь еще.3
– Мадемуазель Урсула, картину я получил, – сказал Винсент после обеда, отставив стул. Урсула была в модном вышитом платье из зеленого шелка. – Художник сделал для меня какую—нибудь приятную надпись? – спросила она. – О да. Если вы мне посветите, я повешу картину у вас в детском саду. Она чмокнула губами, изобразив поцелуй, и, искоса взглянув на Винсента, сказала: – Мне надо помочь маме. Может, займемся этим через полчаса? Уйдя к себе, Винсент облокотился о шифоньерку и долго смотрел в зеркало. Он редко задумывался о своей внешности, в Голландии это не имело для него значения. Здесь же, присматриваясь к англичанам, он убедился, что весь его облик и тяжеловесен и груб. Глаза сидели в орбитах глубоко, словно в трещинах каменной глыбы, покатый лоб был высок, нос выпирал вперед, широкий и прямой, словно берцовая кость, – он едва втиснулся между его густыми бровями и чувственным ртом, скулы широки и мощны, шея толста и коротка, а массивный подбородок был живым олицетворением голландского упорства и воли. Он отвернулся от зеркала и присел, задумавшись, на край кровати. Он вырос в строгой, суровой семье. До сих пор он ни разу не любил, никогда не заглядывался на девушек и не заигрывал с ними. В его любви к Урсуле не было ни страсти, ни желания. Он был молод, он был наивен, он любил впервые в жизни. Он взглянул на часы. Прошло всего—навсего пять минут. Те двадцать пять минут, которые еще оставалось ждать, казались бесконечными. Он вынул из конверта с письмом матери записку от брата Тео и перечитал ее еще раз. Тео был на четыре года моложе Винсента и занимал теперь его место у Гупиля в Гааге. Тео и Винсент, подобно их отцу Теодору и дяде Винсенту, смолоду крепко дружили. Винсент взял книжку, положил на нее листок бумаги и написал ответ Тео. Из верхнего ящика шифоньерки он вынул несколько своих рисунков набережной Темзы, взял репродукцию «Девушки с мечом» Жаке и запечатал все в конверт, куда положил и письмо. – Бог мой, – спохватился он, – я и забыл об Урсуле! Он снова взглянул на часы и увидел, что опаздывает на четверть часа. Схватив гребень, он с трудом расчесал копну своих волнистых рыжих волос, взял со стола картину Сезара де Кока и выбежал из комнаты. – А я думала, вы обо мне совсем забыли, – сказала Урсула, когда Винсент вошел в гостиную. Она клеила бумажные игрушки для своих малышей. – Принесли картину? Дайте—ка я взгляну. – Лучше я ее сначала повешу. А где лампа? – Она у мамы. Когда он принес лампу из кухни, она сунула ему в руки яркий голубой шарф и попросила набросить его ей на плечи. От одного прикосновения к этому шарфу его бросило в дрожь. На дворе пахло яблонным цветом. Было совсем темно; своими тонкими пальчиками Урсула касалась рукава его грубошерстного черного пальто. Споткнувшись, она крепко схватила его за руку и весело засмеялась над собственной неловкостью. Винсент не мог понять, что веселого в том, что она споткнулась, но ему было приятно слышать ее смех. Он распахнул дверь флигеля, давая ей дорогу, а она, проходя, почти коснулась своим точеным лицом его лица и, пристально поглядев ему в глаза, будто ответила на вопрос, который он ей еще не задал. Винсент поставил лампу на стол. – Где вы хотели бы повесить картину? – спросил он. – Пожалуй, вот здесь, над моим столом. В комнате было не меньше пятнадцати низких стульев и столиков; прежде семейство Луайе переселялось сюда на лето. В одном углу, на небольшом возвышении, стоял стол Урсулы. Касаясь плечами друг друга, они прикидывали, где лучше поместить картину. Винсент нервничал, кнопки, когда он пытался вогнать их в стену, то и дело падали на пол. Она тихо и дружелюбно подсмеивалась над ним: – Ах, какой вы медведь, дайте—ка лучше я. Подняв руки над головой, она ловко принялась за дело – двигался каждый ее мускул. Работала она умело, проворно, грациозно. Винсенту хотелось тут же, при тусклом свете лампы, схватить ее на руки и решить все сразу одним крепким объятием. Но она все как—то увертывалась, ускользала, хотя и часто прикасалась к нему. Он поднял лампу, и Урсула прочла надпись на картине. От удовольствия она захлопала в ладоши и стала притопывать каблучками. Она так суетилась и прыгала, что Винсент опять не смог улучить момент, чтобы обнять ее. – Значит, он и мой друг, ведь правда? – допытывалась она. – Мне всегда хотелось подружиться с художником. Винсент подыскивал слова, ему хотелось сказать ей что—то нежное,что– то такое, с чего он мог бы начать объяснение. Она следила глазами за ним, стоя в темноте. В ее глазах, отражавших пламя лампы, мерцали крошечные искорки света. Полумрак оттенял овал ее—лица, и когда взгляд Винсента скользнул по ее красным, влажным губам, четко рисовавшимся на гладком бледном лице, в его душе шевельнулось что—то такое, чего он сам не мог бы объяснить. Наступила многозначительная пауза. Ему казалось, что Урсула тянется к нему, ждет и боится его признания. Он несколько раз облизал губы. Урсула отвернулась, взглянула на него через чуть вздернутое плечо и выбежала в сад. В ужасе оттого, что он теряет возможность поговорить с ней, Винсент бросился следом. Она остановилась под яблоней. – Урсула, послушайте... Она обернулась и, поежившись, взглянула на него. В небе горели холодные звезды. Кругом было темным—темно. Лампу Винсент оставил во флигеле. Тускло светилось только одно окно кухни. Винсент все еще ощущал запах волос Урсулы. Она плотно стянула на плечах свой шелковый шарф и скрестила на груди руки. – Вы замерзли, – сказал он. – Да. Пойдемте лучше в дом. – Нет, ни за что! Я... – Он преградил ей дорогу. Она уткнула подбородок в шарф и глядела на него широко раскрытыми, удивленными глазами. – Но, господин Ван Гог, боюсь, что я вас не понимаю. – Я только хотел сказать вам... Видите ли... Я... я... – Поговорим потом, прошу вас. Я вся дрожу. – Мне кажется, я должен сказать вам это. Сегодня я получил повышение. Меня переводят в отдел офортов... Это уже второе повышение за год. Урсула отступила на несколько шагов, сняла шарф и резко остановилась, забыв о холоде. – Так что же вы хотите сказать мне, господин Ван Гог? Тон у нее был ледяной, и Винсент проклинал себя за неловкость. Вся сумятица чувств, которая его обуревала, вдруг улеглась – он сразу овладел собой. Он помолчал, обдумывая, как заговорить с ней, и наконец решился. – Я хочу сказать вам, Урсула, то, что вы, собственно, уже знаете. Я люблю вас всем сердцем и буду счастлив лишь тогда, когда вы станете моей женой. Он почувствовал, что его спокойствие и самообладание ее удивило. Может быть, сейчас самое время обнять ее? – Вашей женой? – Голос Урсулы стал звонче. – Нет, господин Ван Гог, это невозможно. Он посмотрел на нее из—под своих крутых, бугристых надбровий, и она ясно увидела во тьме его глаза. – Боюсь, что я... я не... – Странно, что вы ничего не знаете. Я уже больше года помолвлена. Винсент не мог бы сказать, долго ли он простоял не двигаясь, о чем он думал и что чувствовал. – Кто же ваш жених? – угрюмо спросил он. – Ах да, вы же его ни разу не видели! Он раньше жил в вашей комнате. Я думала, вы знаете. – Откуда мне было знать? Она привстала на цыпочки и поглядела в сторону кухни. – Я думала... я думала, вам кто—нибудь говорил! – Зачем же вы целый год скрывали это от меня! Ведь вы знали, что я люблю вас. – В его голосе не было теперь и следа растерянности и волнения. – Я не виновата, что вы влюбились. Я хотела, чтобы мы были только друзьями. – А он приезжал к вам за то время, что я у вас? – Нет. Он живет в Уэльсе. Он приедет к нам летом, в отпуск. – И вы не видели его больше года? Да ведь вы позабыли его! Теперь вы любите меня! Уже не думая ни о благоразумии, ни об осторожности, он грубо схватил ее и силой поцеловал в губы. Он ощутил влажность и сладость этих губ, опять уловил запах ее волос, и весь жар любви вспыхнул в нем снова. – Не надо любить его, Урсула! Я не позволю. Вы будете моей женой. Иначе мне конец. Я не отступлюсь, пока вы не забудете его и не выйдете за меня замуж! – Замуж за вас? – воскликнула она. – Разве я обязана выходить за каждого, кто в меня влюбится? Оставьте меня! Слышите! Не то я позову на помощь. Она вырвалась и, тяжело дыша, бросилась по дорожке в темноту. Взбежав на крыльцо, она обернулась и тихонько, почти шепотом, произнесла два слова, которые хлестнули его, словно это был яростный крик: – Рыжий дурак!4
Наутро его уже никто не будил. Он нехотя встал с постели, вялый и хмурый. Брился небрежно, кое—как, на подбородке остались кустики щетины. Урсула к завтраку не вышла. Когда он брел к Гупилю, те же встречные, которых он видел только вчера, казались ему теперь совсем другими. Это были грустные, одинокие люди, торопливо шагающие на свою постылую работу. Он не замечал ни цветущего ракитника, ни выстроившихся вдоль дороги каштанов. Солнце сияло даже ярче вчерашнего, но он будто и не чувствовал этого. За день он продал двадцать цветных гравюрных оттисков «Венеры Анадиомены» Энгра. Для Гупиля это было весьма выгодно, но Винсент уже утратил всякий интерес к обогащению фирмы. С покупателями он был крайне нетерпелив. Они не только не видели разницы между плохими и хорошими вещами, – у них был прямо—таки дар выбирать все напыщенное, банальное, пустое. Продавцы никогда не считали Винсента веселым человеком, хотя он и старался быть с ними как можно любезнее. – Что это так расстроило отпрыска славного рода Ван Готов? – спрашивал один продавец другого. – Видно, он встал сегодня с левой ноги. – Ну, ему есть о чем волноваться. Его дядя, Винсент Ван Гог, – совладелец Гупиля, ему принадлежит половина магазинов в Париже, Берлине, Брюсселе, Гааге и Амстердаме. Старик болеет, а детей у него нет, все говорят, что он оставил свои богатства этому парню. – Везет же людям! – Но это еще не все. Другой его дядя, Хендрик Ван Гог, – владелец больших художественных магазинов в Брюсселе и Амстердаме, а третий дядя, Корнелис Ван Гог, – глава крупнейшей голландской фирмы. Да что там говорить! Среди торговцев картинами во всей Европе не сыщешь такого богатого семейства, как Ван Гоги. В один прекрасный день наш рыжий приятель станет повелевать всем европейским искусством! Когда вечером Винсент появился в столовой Луайе, Урсула и ее мать о чем—то разговаривали вполголоса. Винсент остановился на пороге, и они замолчали – незаконченная фраза оборвалась на полуслове. Урсула вышла на кухню. – Добрый вечер, – сказала мадам Луайе, и в глазах ее блеснуло любопытство. Винсент пообедал за большим столом в полном одиночестве. Удар, нанесенный ему Урсулой, оглушил, но не обескуражил его. Нет, он не примет ее отказа. Он заставит Урсулу забыть этого человека. Прошла почти целая неделя, прежде чем он улучил момент, чтобы поговорить с ней. Все эти дни он ел и спал очень мало, апатию сменило внезапное возбуждение. В галерее он продавал теперь куда меньше эстампов, чем бывало. Его зеленоватые глаза стали страдальчески—голубыми. Подбирать слова, когда надо было что—то сказать, ему казалось теперь еще труднее. В воскресенье, после праздничного обеда, он вышел за Урсулой в сад. – Мадемуазель Урсула, – сказал он, – простите, если я напугал вас в тот вечер. Она подняла на него свои большие холодные глаза, словно удивившись тому, что он идет за ней. – О, пустяки, не стоит извиняться. Давайте забудем это. – Я охотно забуду, что был груб с вами. Но каждое мое слово было истинной правдой. Он подошел к ней ближе. Она отшатнулась. – Зачем вы говорите об этом снова? Я уже все давно позабыла. – Она повернулась к нему спиной и пошла по дорожке. Он нагнал ее. – Я должен говорить об этом, Урсула. Вы не понимаете, как я люблю вас! Вы не знаете, как я страдал всю эту неделю. Почему вы убегаете от меня? – Пойдемте лучше в дом. Мама ждет гостей. – Не может быть, чтобы вы любили того человека. Я прочел бы это в ваших глазах. – Простите, но мне пора идти. Так когда же вы едете в отпуск на родину? – В июле, – с трудом вымолвил он. – Подумайте, как удачно! В июле ко мне приедет жених, ему понадобится комната. – Я ни за что не отдам вас этому человеку, Урсула! – Выбросьте это из головы. Иначе мама предложит вам съехать с квартиры. Он уговаривал ее еще два месяца. Он снова стал замкнутым, как в детстве; раз ему нельзя быть с Урсулой, он хотел быть наедине с собой, чтобы никто не мешал ему думать о ней. С товарищами в магазине он держался холодно. Свет, который зажгла в нем любовь к Урсуле, снова померк: теперь он был тем же угрюмым подростком, каким его привыкли видеть родители в Зюндерте. Наступил июль, Винсент получил отпуск. Ему не хотелось уезжать из Лондона на целых две недели. У него было такое чувство, что Урсула не сможет любить другого, пока он, Винсент, живет с ней под одной крышей. Он сошел в гостиную, где сидели Урсула и ее мать. Они многозначительно переглянулись. – Я беру с собой только один саквояж, мадам Луайе, – сказал он. – Все остальные вещи я оставляю в комнате. Вот вам деньги за две недели, пока я буду в отъезде. – Мне кажется, вам лучше бы забрать все ваши вещи, господин Ван Гог, – отозвалась мадам Луайе. – Почему? – Я сдала вашу комнату с будущего понедельника. Мы считаем, что будет лучше, если вы снимете квартиру в другом месте. – Мы? Он повернулся и взглянул на Урсулу из—под своих тяжелых бровей. Его взгляд был полон недоумения. – Да, мы, – ответила за нее мать. – Жених моей дочери пишет, что не желает видеть вас в доме. Я склонна думать, господин Ван Гог, что будет лучше, если вы навсегда забудете дорогу к нам.5
Теодор Ван Гог приехал на станцию Бреда встречать сына. На нем был тяжелый черный пасторский сюртук, жилет с широкими отворотами, белая накрахмаленная рубашка и огромный черный галстук в виде банта, из—под которого виднелась лишь узенькая полоска высокого воротничка. Винсент быстро взглянул в лицо отца и снопа увидел в нем две знакомые особенности: веко правого глаза было опущено гораздо ниже левого, закрывая его почти до половины, а левая сторона рта была тонкая и сухая, тогда как правая – полная и чувственная. Глаза у пего были смиренные, они, казалось, говорили: «Это всего—навсего я». Жители Зюндерта нередко видели, как пастор Теодор, надев шелковый цилиндр, ходил навещать бедных. До конца своих дней он не мог понять, почему судьба не проявила к нему большей благосклонности. Он считал, что ему давно уже должны бы дать крупный приход в Амстердаме или в Гааге. Прихожане в Зюндерте называли его «дорогим учителем», он был образован, имел доброе сердце, выдающиеся духовные достоинства, в служении богу не зная усталости. И, однако, вот уже двадцать пять лет он прозябал в безвестности в маленькой деревеньке Зюндерт. Из шести братьев Ван Гогов он один не занял в своей стране достойного места. Деревянный пасторский дом в Зюндерте, где родился Винсент, стоял напротив рыночной площади и здания управы. За кухней был разбит сад, там росли акации, среди заботливо взлелеянных цветов бежали тропинки. Церковь – легкое деревянное сооружение – пряталась за деревьями, тут же, поблизости от сада. В церкви было два маленьких готических окна из простого стекла, дюжина грубых скамей, расставленных на деревянном полу, в стены было вделано несколько жаровен. Ступени у задней стены вели к старенькому органу. Все здесь было сурово, просто, все пропитано духом Кальвина, духом его учения. Мать Винсента, Анна—Корнелия, ждала их, глядя в окно, – повозка не успела еще остановиться, как она уже отворила дверь. В первую же минуту, когда она с нежностью обняла сына, прижав его к своей тучной груди, Анна– Корнелия почувствовала, что с ее мальчиком творится что—то неладное. – Myn liev zoon [мой дорогой сын (голл.)], – шептала она. – Мой Винсент. Ее глаза, порой голубые, порой зеленые, всегда были широко открыты; ласковые и проницательные, они видели все и никого не осуждали слишком сурово. Вниз от ноздрей к уголкам губ пролегли легкие морщинки, и чем глубже становились они с годами, тем больше казалось, что она постоянно чуть—чуть улыбается. Анна—Корнелия Карбентус родилась в Гааге, где отец ее носил почетный титул «королевского переплетчика». Дела у Виллема Карбентуса шли прекрасно, а когда ему поручили переплести первую конституцию Голландии, он прославился на всю страну. Дочери его, старшая из которых вышла за дядю Винсента Ван Гога, а младшая за достопочтенного пастора Стриккера из Амстердама, были что называется bien elevees [воспитаны по всем правилам ( фр.)]. Анна—Корнелия была доброй женщиной. Она не видела в мире зла и не знала его. Она знала лишь слабость, искушение, невзгоды и горести. Теодор Ван Гог тоже был добрый человек, но зло он видел прекрасно и проклинал малейшие его проявления. Центром дома Ван Готов была столовая, где вокруг широкого стола, когда с него убирали после ужина посуду, сосредоточивалась жизнь всего семейства. При уютном свете керосиновой лампы оно собиралось здесь в полном составе и коротало вечера. Анна—Корнелия беспокоилась за Винсента: он похудел и манеры его стали какими—то резкими, порывистыми. – Что—нибудь случилось, Винсент? – спросила она его после ужина. – Ты плохо выглядишь. Винсент окинул взглядом стол, где сидели Анна, Елизавета и Виллемина, три совершенно чужие девушки, которые приходились ему сестрами. – Нет, – сказал он, – все хорошо. – Понравился ли тебе Лондон? – спросил в свою очередь Теодор. – Если нет, то я поговорю с дядей Винсентом. Он может перевести тебя в один из парижских магазинов. Винсент не на шутку взволновался. – Нет, нет, не надо! – воскликнул он. – Я не хочу уезжать из Лондона. Я... – Тут он взял себя в руки: – Если дядя Винсент захочет перевести меня в другое место, он позаботится об этом сам. – Ну, как хочешь, – согласился Теодор. «А все из—за той девушки, – подумала Анна—Корнелия. – Теперь понятно, почему он писал такие письма». На вересковых пустошах вокруг Зюндерта местами рос сосняк, высились купы дубов. Винсент проводил целые дни в поле, мечтательно всматриваясь в водную гладь прудов, – их было здесь множество. Иногда он рисовал – это было единственное его развлечение; он сделал несколько набросков в саду, в полдень из окна нарисовал субботний рынок, изобразил на листке бумаги парадную дверь родительского дома. Только рисуя, он забывал об Урсуле. Теодор всегда сокрушался по поводу того, что его старший сын не пошел по стопам отца. Однажды вечером, возвращаясь от больного крестьянина, оба они слезли с повозки и пошли пешком. За соснами садилось красное солнце, вечернее небо отражалось в лужах, сизый вереск и желтый песок чудесно оттеняли друг друга. – Мой отец был священником, Винсент, и я всегда считал, что ты тоже пойдешь по этому пути. – Ты, кажется, думаешь, что я хочу бросить свое теперешнее занятие? – Я говорю это на тот случай, если ты все же решишься... Ведь ты мог бы жить в Амстердаме у дяди Яна и учиться в университете. А преподобный Стриккер готов руководить твоим образованием. – Ты советуешь мне уйти от Гупиля? – Нет. Конечно, нет. Но если тебе там плохо... Ведь все меняется... – Само собой. Но я не собираюсь уходить от Гупиля. Провожать его на станцию Бреда поехали оба – отец и мать. – Тебе писать по тому же адресу, Винсент? – спросила Анна—Корнелия. – Нет. Я переезжаю. – Я очень рад, что ты не будешь жить у Луайе, – вставил отец. – Эта семейка мне никогда не нравилась. Слишком много у них всяких секретов. Винсент помрачнел. Мать положила свою теплую ладонь на его руку и ласково сказала, так, чтобы не слышал Теодор: – Не печалься, мой дорогой. С хорошей голландской девушкой тебе будет лучше, – надо только подождать, пока ты как следует устроишься. Она не принесет тебе счастья, эта Урсула. Это не твоего поля ягода. «И откуда только мать все знает?» – удивился он.6
Приехав в Лондон, он снял меблированную комнату на Кенсингтон Нью– роуд. Хозяйка – маленькая старушка – ложилась спать в восемь часов. В доме царила мертвая тишина. И каждый вечер, борясь с собой, он жестоко страдал, его мучительно тянуло к Луайе. Он запирал дверь и решительно говорил себе, что будет спать. А через пятнадцать минут он непостижимым образом оказывался на улице и торопливо шагал к Урсуле. Подходя к ее дому, он уже как бы ощущал ее присутствие. Это была истинная пытка – чувствовать, что она тут, рядом, и все же недосягаема, но еще хуже было сидеть дома и не коснуться хотя бы ее тени, не ощутить ее незримого присутствия. Оттого, что он страдал, с ним происходили странные вещи. Он сделался чувствительным к страданиям других. Он стал нетерпим ко всему тому, что было фальшиво, крикливо—аляповато и что находило широкий сбыт. В магазине от него уже не было пользы. Когда покупатели спрашивали, что он думает о той или другой гравюре, он без обиняков говорил, что это просто ужасно, и покупатели уходили, ничего не взяв. Жизненность и эмоциональную глубину он находил лишь там, где художник изображал страдание. В октябре в магазин явилась дородная дама в высоком кружевном воротничке, с пышной грудью, в соболях, в круглой бархатной шляпе с голубым пером. Дама попросила показать ей какие—нибудь картины – она хотела украсить ими свой новый городской дом. Обслуживал ее Винсент. – Мне надо самое лучшее, что только у вас есть, – заявила она. – За ценой я не постою. Размеры такие: в гостиной есть две широкие сплошные стены по пятьдесят футов, есть стена с двумя окнами, промежуток между ними. .. Он убил почти полдня, стараясь продать ей несколько офортов Рембрандта, превосходную репродукцию картины Тернера, где были изображены каналы Венеции, литографские оттиски кое—каких произведений Тейса Мариса, репродукции музейных полотен Коро и Добиньи. Покупательница безошибочно выбирала самое скверное из того, что показывал ей Винсент, и так же безошибочно, с первого взгляда, отвергала все, что он считал подлинным искусством. Шли часы, и эта чванливо—простодушная толстая женщина стала в его глазах истинным олицетворением того самодовольства и скудоумия, которое присуще среднему буржуа и вообще всем торговцам. – Ну вот! – воскликнула она не без гордости. – Кажется, я выбрала картины на совесть! – Если бы вы закрыли глаза и наугад ткнули пальцем, – сказал Винсент, – вы бы и то не выбрали хуже. Женщина грузно поднялась, подобрав свою широкую бархатную юбку. Винсент видел, как она залилась краской от туго затянутого бюста до шеи, прикрытой кружевным воротничком. – Вы!.. – завопила она. – Вы... просто дубина и деревенщина! Вне себя она хлопнула дверью, высокое перо на ее бархатной шляпе сердито колыхалось. Господин Обах был в ярости. – Дорогой Винсент, – начал он, – что с вами такое? Вы упустили самую крупную покупательницу за всю неделю и вдобавок оскорбили ее! – Господин Обах, разрешите задать вам один вопрос. – Ну, что еще за вопрос? Кой—какие вопросы есть и у меня к вам. Винсент отодвинул в сторону выбранные дамой гравюры и положил руки на край стола. – Человек живет на свете только один раз. Скажите, как оправдать то, что он попусту тратит свою жизнь, продавая дуракам дрянные картины? Обах и не подумал ответить. – Если дела и дальше пойдут так, как теперь, – сказал он, – мне придется написать вашему дяде и просить его перевести вас в другой филиал. Я не могу терпеть из—за вас убытки. Движением руки Винсент отстранил от себя тяжело дышавшего Обаха. – И как только мы можем наживать такие деньги, продавая один хлам, господин Обах? И почему это люди, у которых есть средства, чтобы покупать картины, терпеть не могут ничего подлинно художественного? Или именно деньги сделали их тупыми? Почему же у бедняков, умеющих по—настоящему ценить искусство, нет ни фартинга за душой, чтобы украсить свое жилье гравюрой? Обах пристально посмотрел на него. – Что это, социализм? Придя домой, Винсент взял со стола томик Ренана и раскрыл его на заложенной странице. «Чтобы идти в этом мире верным путем, – читал он, – надо жертвовать собой до конца. Назначение человека состоит не в том только, чтобы быть счастливым, он приходит в мир не затем только, чтобы быть честным, – он должен открыть для человечества что—то великое, утвердить благородство и преодолеть пошлость, среди которой влачит свою жизнь большинство людей». Незадолго до рождества Луайе поставили у окна великолепную елку. Через два дня Винсент, прогуливаясь около их дома, увидел, что он ярко освещен и что к парадной двери сходятся соседи. Изнутри доносился говор и смех. Луайе праздновали рождество. Винсент бросился домой, торопливо побрился, переменил рубашку и галстук и поспешил обратно в Клэпхем. У крыльца он должен был минуту—другую постоять, чтобы перевести дыхание. Было рождество, всюду витал дух любви и всепрощения. Винсент поднялся на крыльцо и постучал молотком в дверь. Он услышал знакомые шаги в прихожей, услышал, как знакомый голос кого—то позвал из гостиной. Дверь отворилась. Свет лампы упал на его, лицо. Он посмотрел на Урсулу. Она стояла перед ним с обнаженными руками, в пышном зеленом платье; крупные банты и целый каскад кружев дополняли ее туалет. Никогда она не казалась ему такой прекрасной. – Урсула, – сказал он. По ее лицу пробежала какая—то тень, которая будто повторила все то, что сказала ему Урсула тогда ночью в саду. Он ясно вспомнил каждое ее слово. – Уходите, – бросила Урсула. Она захлопнула перед ним дверь. Утром он отплыл в Голландию. На рождество у Гупиля торговля шла особенно бойко. Господин Обах написал дяде Винсенту письмо, извещая, что его племянник отлучился со службы, не испросив отпуска. Дядя Винсент решил устроить племянника в главный художественный салон на улице Шанталь в Париже. Винсент хладнокровно ответил, что торговать картинами он не будет, – с этим покончено навсегда. Дядя Винсент был уязвлен до глубины души. Он заявил, что умывает руки и за судьбу Винсента отныне не несет никакой ответственности. Однако после рождества он смягчился и устроил своего тезку приказчиком в книжную лавку Блюссэ и Браама в Дордрехте. С тех пор оба Винсента больше не имели друг с другом никаких дел. Винсент—младший прожил в Дордрехте около четырех месяцев. Ему было там ни сладко, ни горько, ни хорошо, ни плохо. Он как бы и не жил там. Однажды в субботу он сел на ночной поезд и уехал из Дордрехта в Ауденбос, а оттуда пешком отправился в Зюндерт. Как чудесно было вдыхать холодный ночной воздух, пронизанный острым запахом вереска. Хотя уже давно стемнело, он различал и сосновые рощи вокруг, и уходящие вдаль болота. Это напоминало ему гравюру Бодмера, которая висела в кабинете отца. Небо было совсем черное, но кое—где сквозь облака сияли звезды. Рассвет еле брезжил, когда он добрался до церковного двора в Зюндерте, – откуда—то издалека, с темных полей, покрытых молодыми всходами, доносилось пение жаворонков. Родители понимали, что сын переживает черные дни. Летом все семейство переехало в Эттен, маленький городок в нескольких километрах от Зюндерта. Теодор получил таи вновь место священника. В Эттене была обширная площадь, обсаженная вязами, на паровике можно было поехать в Бреду – довольно большой, оживленный город. Для Теодора назначение в Эттен было все—таки шагом вперед. Близилась осень. Винсенту надо было снова устраивать свою судьбу. Урсула все еще была не замужем. – Ты не на месте там, в этих магазинах, Винсент, – говорил отец. – Сердце твое внушает тебе служить богу. – Да, ты прав, отец. – Так почему бы тебе не поехать в Амстердам и не начать учиться? – Я поехал бы, но... – Неужели ты в душе все еще колеблешься? – Нет, отец. Мне трудно объяснить это сейчас. Дай мне время подумать. В Эттене проездом побывал дядя Ян, живший в Амстердаме. – Комната в моем доме ждет тебя, Винсент, – сказал он племяннику. – Досточтимый Стриккер пишет, что он подыщет тебе хороших наставников, – добавила мать. В те дни, когда Урсула одарила его страданием, он стал самым обездоленным из всех обездоленных на земле. И он знал, что лучшего образования, чем в Амстердамском университете, он нигде не получит. Ван Гоги и Стриккеры примут его с распростертыми объятиями, ободрят, согреют, поддержат деньгами, снабдят книгами. Но он никак не мог решиться. Урсула была еще в Англии, не замужем. Разузнать о ней что—либо в Голландии не было никакой возможности. Он раздобыл английские газеты, написал по нескольким объявлениям и в конце концов устроился учителем в Рамсгейте – приморском городе в четырех с половиной часах езды по железной дороге от Лондона.7
Школа мистера Стокса стояла на площади, посреди которой был большой сквер, обнесенный железной оградой. В школе училось двадцать четыре мальчика от десяти до четырнадцати лет. Винсент должен был преподавать французский, немецкий и голландский языки, присматривать за мальчиками после уроков и помогать им мыться по субботам. За это он получал стол, квартиру и ни гроша деньгами. Рамсгейт был унылым городком, но Винсенту в его состоянии он даже нравился. Сам не сознавая того, Винсент в конце концов полюбил свои муки и лелеял их, как любят и лелеют дорогого друга, – непрестанная боль давала ощущение того, что Урсула всегда тут, рядом. Раз ему нельзя быть с той, которую он любит, ему все равно, где жить. Он хотел лишь одного – чтобы никто не мешал ему нести ту тяжесть, которую взвалила на него Урсула. – Вы не могли бы дать мне немножко денег, мистер Стоке? – спросил Винсент. – Хотя бы на табак и одежду... – Ну нет, с какой же стати? – отвечал Стоке. – Ведь я в любое время найду учителя только за стол и квартиру. В ближайшую субботу Винсент с утра пешком пошел в Лондон. Путь был долгий, а жара не спадала до самого вечера. Наконец он добрался до Кентербери. Здесь он немного отдохнул в тени деревьев, окружавших старинный собор. Затем побрел дальше и заночевал на песчаном берегу небольшого пруда, под буками и вязами. Проснулся он в четыре часа утра – на заре защебетали птицы и разбудили его. К полудню он был близ Чатама, и вдали за низкими затопленными лугами уже виднелась Темза и густой лес мачт. Вечером Винсент вошел в знакомые предместья Лондона и, несмотря на усталость, поспешил к дому Луайе. Желание быть ближе к Урсуле, заставившее его вновь приехать в Англию, властно захватило все его существо, как только он подошел к ее дому. Здесь, в Англии, Урсула еще принадлежала ему, ибо он мог ощутить ее присутствие. Сердце громко стучало. Винсент был не в силах успокоиться. Он прислонился к дереву, чувствуя тупую боль, описать которую слова были бессильны. Но вот лампа в гостиной погасла, затем погас свет и в ее спальне. Дом погрузился в темноту. Усилием воли Винсент сдвинулся с места и, спотыкаясь, поплелся по Клэпхем—роуд. Когда дом Урсулы остался позади, он понял, что потерял ее вновь. Рисуя себе женитьбу на Урсуле, он уже не мыслил ее в роли жены преуспевающего торговца картинами. Он видел ее терпеливой, верной женой проповедника – рука об руку с ним она работает в трущобах, они посвятили себя служению беднякам. Почти каждую субботу он ходил в Лондон, но возвращаться в понедельник к началу уроков ему было трудно. Иногда он отправлялся в пятницу с вечера, шел ночь, день и еще ночь – и все лишь для того, чтобы поглядеть, как воскресным утром Урсула выходит из дома, торопясь в церковь. У него не было денег ни на хлеб, ни на теплый угол под крышей, и, когда наступила зима, он жестоко мерз. Возвращаясь на рассвете в Рамсгейт по понедельникам, он дрожал от озноба, усталости и голода. Только к концу недели ему удавалось оправиться и восстановить силы. Через несколько месяцев Винсент подыскал себе службу получше – в методистской школе в Айлворте. Школа принадлежала мистеру Джонсу, священнику большого прихода. Он нанял Винсента учителем, но скоро сделал его своим помощником в церкви. И снова в воображении Винсента переменилась вся картина будущего. Урсула уже не была более женой бродячего проповедника и не трудилась в трущобах, она была женой сельского священника, она помогала своему мужу во всех приходских делах, как помогала его мать отцу. Он уже видел, как счастлива Урсула, с каким одобрением она отнеслась к тому, что он покинул мир узколобых коммерсантов, покинул Гупиля и теперь трудится на благо человечества. О том, что день свадьбы Урсулы все приближается, он старался не думать. Того, другого, ее жениха, он ни на минуту не представлял себе живым человеком. Ему всегда казалось, что отказ Урсулы – это следствие некоего изъяна в нем самом и что от этого изъяна он должен каким—то путем избавиться. А какой же путь вернее, чем путь служения богу? У Джонса учились дети лондонских бедняков. Однажды Джонс дал Винсенту адреса и отправил его пешком в Лондон собирать с родителей плату за учение. Так Винсент оказался в трущобах Уайтчепела. Здесь били в нос отвратительные запахи, многодетные семьи ютились в холодных, убогих жилищах, голод и недуг так и сквозили в каждом взгляде умных глаз. Многие отцы семейств тайком продавали здесь тухлое мясо, торговать которым было запрещено. Винсент видел целые семьи, дрожавшие в своих лохмотьях от холода, питавшиеся похожей на помои похлебкой, сухими корками и вонючим мясом. До самого вечера Винсент слушал их рассказы о нищете и лишениях. Он рад был случаю побывать в Лондоне, потому что на обратном пути мог взглянуть на дом Урсулы. Но трущобы Уайтчепела вытеснили из его сознания всякую мысль о ней, и в Клэпхем он так и не пошел. В Айлворт он возвратился, не принеся мистеру Джонсу ни фартинга. В четверг вечером во время службы Джонс сделал вид, что ему стало плохо, и оперся на плечо своего помощника. – Сегодня я страшно устал, Винсент. Ведь вы уже писали проповеди, не правда ли? Прочтите одну из них. Посмотрим, какой из вас получится священник. Винсент с трепетом поднялся на кафедру. Он весь покраснел и не знал, куда девать руки. Голос у него сразу осип, он говорил запинаясь. С огромным усилием он вспоминал те закругленные фразы, которые столь искусно писал на бумаге. Но он чувствовал, что его ликующий дух парит, прорываясь сквозь неловкие слова и неуклюжие жесты. – Вы говорили великолепно, – сказал мистер Джонс. – На будущей неделе я пошлю вас в Ричмонд. Стоял погожий осенний денек, и идти вдоль Темзы из Айлворта в Ричмонд было восхитительно. В воде, словно в зеркале, отражалось синее небо и высокие каштаны с неопавшей желтой листвой. Из Ричмонда мистеру Джонсу написали, что молодой проповедник—голландец там понравился, и добрый Джонс решил дать Винсенту возможность выдвинуться. У Джонса был большой приход в Тэрнем—Грин – многочисленная паства была настроена там весьма скептически. Если Винсент с успехом произнесет проповедь в Тэрнем– Грин, ему можно будет доверить кафедру где угодно. Для своей проповеди Винсент выбрал псалом сто восемнадцатый, стих девятнадцатый: «Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих». Он говорил просто и горячо. Его молодость, огонь, его тяжеловесная сила, массивная голова и пронзительные глаза – все это произвело на прихожан огромное впечатление. Многие подходили к Винсенту и благодарили его за проповедь. Он пожимал им руки и недоуменно улыбался. Когда из церкви вышел последний прихожанин, он тихонько выскользнул в заднюю дверь и зашагал к Лондону. Разразилась гроза. Винсент не захватил с собой ни шляпы, ни пальто. Вода в Темзе, особенно у берегов, пожелтела. На горизонте вспыхивали молнии, плыли огромные серые тучи, из которых косыми струями хлестал дождь. Винсент вымок до нитки, но только прибавил шагу. Наконец он добился успеха! Он нашел себя. Он положит свою удачу к ногам Урсулы, разделит ее с нею. Дождь барабанил по узенькой белой тропинке и раскачивал кусты боярышника. В стороне виднелся какой—то городок – его башни, мельницы, черепичные крыши и домики в готическом стиле словно встали с гравюры Дюрера. Винсент упорно шагал к Лондону, вода хлестала ему в лицо, хлюпала в башмаках. Лишь на исходе дня добрался он до дома Луайе. Над городом сгущались пепельно—серые сумерки. Еще не дойдя до дома, он уловил звуки музыки, голоса скрипок. Это удивило его, он не мог понять, что здесь случилось. Весь дом был ярко освещен. Около крыльца, в пелене дождя, вереницей стояли кареты. Винсент увидел, что в гостиной танцуют. Старик возница сидел на козлах, укрывшись от дождя под большущим зонтом. – Что тут происходит? – спросил Винсент. – Надо полагать, свадьбу справляют. Винсент прислонился к карете, вода струйками стекала с его рыжих волос на лицо. Шло время, и наконец открылась парадная дверь. В ее проеме показалась Урсула с высоким, стройным мужчиной. Из дома хлынула шумная толпа гостей, они хохотали и пригоршнями разбрасывали рис. Винсент отступил в тень за карету. Туда уже усаживались Урсула и ее муж. Кучер стегнул лошадей. Лошади тронули. Винсент, пригибаясь, побежал рядом и приник лицом к мокрому окну кареты. Мужчина крепко, обеими руками обхватил Урсулу и взасос целовал ее. Карета укатила. Что—то тонкое оборвалось в груди Винсента, оборвалось без возврата. Чары рассеялись. Он и не знал, что это может произойти так легко. Под проливным дождем он потащился обратно в Айлворт, собрал свои пожитки и уехал из Англии навсегда.ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БОРИНАЖ
1
Морской офицер высшего ранга, вице—адмирал голландского флота Иоганнес Ван Гог стоял в глубине адмиралтейского двора на крыльце своей обширной резиденции, предоставленной ему безвозмездно. В честь приезда племянника он надел парадную форму – на плечах красовались золотые эполеты. Над массивным ван—гоговским подбородком выдавался крупный, с резко очерченной острой спинкой нос, над которым сходились крутые бугристые надбровья. – Рад видеть тебя, – приветствовал Винсента дядя. – С тех пор как мои дети переженились и уехали, дом совсем опустел. Они поднялись по широкой внушительной лестнице, дядя Ян распахнул двери. Винсент шагнул в комнату и поставил там свои чемодан. Большое окно выходило прямо на Адмиралтейство. Дядя Ян присел на край кровати, стараясь держаться как можно проще, насколько ему позволял расшитый золотом мундир. – Мне было приятно услышать, что ты решил учиться и стать священником, – сказал он. – Из семейства Ван Готов кто—нибудь всегда служил богу. Винсент вытащил трубку и старательно набил ее табаком – он делал это всякий раз, когда хотел выиграть минутку, чтобы поразмыслить. – Видите ли, я хотел бы стать проповедником в сразу приняться за дело. – Прошу тебя, Винсент, не вздумай идти в проповедники. Это невежественные люди, и бог знает какую чепуху они проповедуют. Нет, мой мальчик, Ван Гоги всегда учились в университете и были священниками. А теперь тебе надо разобрать свои вещи. Обед в восемь. Как только широкая спина вице—адмирала скрылась за дверью, Винсент почувствовал легкую грусть. Он оглядел комнату. Кровать была широкая и удобная, шкаф вместительный, а низкий и гладкий письменный стол словно манил к себе. Но Винсент испытывал какую—то неловкость, – такое чувство всегда бывало у него в присутствии незнакомых людей. Он схватил свою кепку и выбежал на площадь Дам. Перейдя ее, он наткнулся на еврея—букиниста, который выставил на продажу чудесные гравюры. Винсент долго рылся в них, купил тринадцать листов, зажал их под мышкой и, не торопясь, берегом канала пошел домой, вдыхая крепкий запах дегтя. Когда Винсент осторожно, чтобы не испортить стены, пришпиливал офорты, в дверь постучали. Вошел преподобный Стриккер. Он, хотя и не был Ван Гогом, тоже доводился Винсенту дядей: он был женат на сестре его матери. Стриккера как духовного пастыря хорошо знали в Амстердаме и считали умным человеком. Одет он был в добротный черный костюм изящного покроя. После первых приветствий священник сказал: – Я договорился с Мендесом да Коста, это известный знаток классических языков, он будет учить тебя латыни и греческому. Живет он в еврейском квартале, в понедельник в три часа ты пойдешь туда на первый урок. Но зашел я не из—за этого, а чтобы пригласить тебя на завтрашний воскресный обед. Твоя тетка Виллемина и кузина Кэй непременно хотят тебя видеть. – Я очень рад. К какому часу мне прийти? – В полдень, после поздней заутрени. – Пожалуйста, передайте от меня привет всему вашему семейству, – попросил Винсент, когда преподобный Стриккер взял свою черную шляпу и увесистый требник. – До завтра, – сказал дядя и вышел.2
Бульвар Кейзерсграхт, где жили Стриккеры, принадлежал к числу самых аристократических в Амстердаме. Это был один из тех бульваров, что идут вдоль четырех главных амстердамских каналов, которые начинаются в южной части гавани и, подковой обогнув центр города, вновь упираются в нее с севера. Все здесь было аккуратно, все сияло чистотой, нигде не увидишь и следа «кроса» – таинственного зеленого мха, уже столетия покрывающего воду каналов в других, более скромных районах. Дома на бульваре были чисто фламандского стиля: узкие, крепкие, плотно прижатые друг к другу, словно строгие шеренги пуританского войска, вытянувшиеся по команде «смирно». На следующий день, прослушав проповедь дяди Стриккера, Винсент направился к его дому. Яркое солнышко разогнало пепельно—серые облака, вечно плывущие по голландскому небу, воздух в эти редкостные минуты сверкал и лучился. Винсент шел не торопясь, у него было много времени. Он задумчиво смотрел, как борются с течением поднимающиеся по каналу лодки. Это были почерневшие от воды, длинные плоскодонные лодки, с острым носом и такой же острой кормой, с небольшими трюмами для груза. От носа к корме были протянуты веревки, на которых сушилось белье. Отец семейства упирал шест в дно, изогнувшись в мучительном напряжении, налегал на него плечом и делал несколько шагов, а лодка скользила вперед из—под его ног. Жена, полная, коренастая, краснощекая, неизменно сидела на корме и правила неуклюжим деревянным рулем. Дети играли с собакой и через каждые пять минут заползали в дощатую будку, служившую им жилищем. Дом преподобного Стриккера был построен как все дома фламандской архитектуры, – узкий, трехэтажный, с продолговатой башенкой, украшенной пышными арабесками; в башенке было прорезано окно. Над окном торчал брус с железным крюком на конце. Тетя Виллемина поздоровалась с Винсентом и провела его в столовую. Здесь висел портрет Кальвина работы Ари Шеффера, на буфете сиял серебряный сервиз. Стены были отделаны темными деревянными панелями. Глаза Винсента не успели еще приноровиться к сумраку комнаты, как откуда—то из тени выступила высокая, стройная молодая женщина и сердечно поздоровалась с ним. – Вы, конечно, меня не знаете, – голос ее звучал очень мягко, – я ваша двоюродная сестра Кэй. Пожимая ей руку, Винсент впервые за много месяцев ощутил нежность и теплоту женского тела. – Мы никогда не встречались, – говорила Кэй тем же сердечным тоном. – Как это странно, ведь мне уже двадцать шесть лет, а вам... сколько же вам? .. Винсент молчал, разглядывая ее. Прошло несколько секунд, прежде чем он сообразил, что необходимо ответить. Чтобы как—нибудь выйти из глупого положения, он громко выпалил: – Двадцать четыре. Меньше, чем вам. – О да. И, говоря по правде, все это не так уж удивительно. Вы никогда не бывали в Амстердаме, а я не бывала в Брабанте. Но боюсь, что я плохая хозяйка. Садитесь, прошу вас. Он присел на краешек стула. И тут с ним произошло что—то странное – из неотесанного мужлана он превратился в учтивого светского человека. Он сказал: – Мама не раз выражала желание, чтобы вы к нам приехали. Брабант, надо думать, вам бы понравился. Там очень красиво. – Я знаю. Тетя Анна писала и приглашала меня несколько раз. Я собираюсь туда в самое ближайшее время. – Да, непременно приезжайте, – сказал Винсент. Он почти не слушал Кэй и машинально отвечал на ее вопросы. Всем своим существом он впивал ее красоту с неутолимой жаждой мужчины, слишком долго томившегося у студеного родника одиночества. Черты лица у Кэй были, как у большинства голландок, крупные, но отточенные и отшлифованные до изящества. Волосы ее не были ни пшенично—желтые, ни красно—рыжие, как у других ее соотечественниц, нежно—золотистый цвет причудливо сочетался в них с ярко—огненным блеском, рождая теплое, мягкое сияние. Она оберегала свое лицо от солнца и ветра; белизна ее подбородка незаметно переходила в румянец щек, как на полотнах старых голландских мастеров. Глаза у нее были темно—синие, радость жизни так и искрилась в них, а полные губы были чуть– чуть приоткрыты, словно для поцелуя. Видя, что Винсент молчит, она спросила: – О чем вы думаете, кузен? Вы чем—то озабочены? – Я думаю, что Рембрандт, наверное, захотел бы писать вас. Кэй негромко рассмеялась, смех у нее был грудной и сочный. – Рембрандт, кажется, любил писать только безобразных старух? – Нет, – возразил Винсент, – он писал красивых старух, бедных и несчастных, тех, которые в печали и горе обрели свою истинную душу. Кэй в первый раз внимательно всмотрелась в Винсента. Когда он вошел в комнату, она лишь бегло скользнула по нему взглядом, отметив копну ярко– рыжих волос и крупное, грубоватое лицо. Теперь она разглядела полные губы, глубоко посаженные горящие глаза, высокий ван—гоговский лоб и могучий подбородок, направленный прямо на нее. – Простите меня, я сказала глупость, – тихо, почти шепотом извинилась она. – Я понимаю, что вы хотели сказать о Рембрандте. Рисуя этих согбенных старцев, чьи лица избороздили безнадежность и страдания, он проникает в самую сущность красоты. – О чем это вы так серьезно толкуете, дети? – спросил досточтимый Стриккер, появляясь в дверях. – Мы знакомились, – ответила Кэй. – Почему ты не сказал мне, что у меня есть такой милый кузен? В столовую вошел еще один мужчина, высокий и стройный, с открытой, обаятельной улыбкой. Кэй встала и нежно поцеловала его. – Кузен Винсент, – сказала она, – это мой муж, минхер Вос. Она вышла и через несколько минут возвратилась с двухлетним кудрявым мальчиком; у него было задумчивое лицо и синие материнские глаза. Кэй взяла его на руки. Вос обнял и ее и ребенка. – Садись вот здесь, возле меня, Винсент, – сказала тетя Виллемина. Кэй сидела напротив Винсента, а по обе стороны от нее – Вос и дядя Ян. Теперь, когда ее муж был рядом, она забыла о Винсенте. Румянец на ее щеках заиграл ярче. Однажды, когда ее муж тихо, сдержанным тоном сказалчто—то остроумное, она быстро наклонилась в поцеловала его. Трепетные волны их любви захлестывали Винсента. Впервые после того рокового воскресенья прежняя боль, причиненная Урсулой, поднялась в нем из каких—то таинственных глубин и властно охватила его душу и тело. Когда он увидел это маленькое семейство, где царили радостное единение и привязанность, ему стало ясно, что все эти тоскливые месяцы он жаждал, отчаянно жаждал любви и что совладать с этой жаждой не так—то просто.3
Каждое утро Винсент вставал до рассвета и садился читать Библию. Около пяти часов он выглядывал в окно, выходившее на двор Адмиралтейства, и смотрел на рабочих, – длинной, неровной вереницей их черные фигуры вливались в ворота. По Зейдер—Зее сновали пароходики, а вдали, у деревушки, на другом берегу залива Эй, он различал плывущие мимо бурые паруса. Когда солнце поднималось высоко и под его лучами таял туман, стоявший над штабелями леса, Винсент отходил от окна, завтракал куском сухого хлеба, выпивал стакан пива и садился на семь часов штурмовать латынь и греческий. После четырех или пяти часов сосредоточенной работы голова становилась тяжелой; нередко Винсента бросало в жар, мысли у него путались. Он не знал, как после всех этих лет, полных душевной смуты, заставить себя регулярно и упорно заниматься. Он зубрил грамматику до тех пор, пока солнце не начинало клониться к закату – тогда наступал час урока у Мендеса да Коста. Винсент обычно ходил к нему по Бейтенкант, огибал часовню Аудезейдс, Старую и Южную церкви и выходил на извилистые улочки, где были разбросаны кузницы, бондарные и литографские мастерские. Глядя на Мендеса, Винсент всякий раз вспоминал «Подражание Иисусу Христу» Рейпереса. Это был классический тип еврея с мудрыми, глубоко запавшими глазами, сухим, тонким, одухотворенным лицом и мягкой остроконечной бородкой стародавних раввинов. В еврейском квартале в этот поздний час было душно. Винсенту, просидевшему семь часов над греческим и латынью и еще несколько часов убившему на голландскую историю и грамматику, хотелось поболтать с Мендесом о картинах. Однажды он принес своему учителю «Крещение» Мариса. Подставляя лист под пыльный сноп солнечных лучей, падавших из высокого окна, Мендес держал «Крещение» в своих тонких, костлявых пальцах. – Это хорошо, – сказал он с гортанным еврейским акцентом. – Тут схвачен всеобщий дух религий. Усталость Винсента как рукой сняло. Он начал с воодушевлением рассказывать о творчестве Мариса. Мендес тихонько покачивал головой. Ведь преподобный Стриккер платил ему большие деньги за то, чтобы он учил Винсента латыни и греческому. – Винсент, – сказал он спокойно, – Марис чудесный художник, но время идет, не лучше ли нам приняться за дело? Как вы считаете? Винсент вынужден был согласиться. По пути домой, после двухчасового урока, он часто останавливался и заглядывал в окна домов, где работали столяры, плотники и корабельные поставщики. Двери винного погреба были распахнуты настежь, и люди с фонарями то и дело входили и выходили оттуда, исчезая в темноте. Дядя Ян уехал на неделю в Хелвойрт. Как—то вечером, зная, что Винсент остался один в большом доме на адмиралтейском дворе, к нему пришли Кэй и Вос и пригласили его обедать. – Заходите к нам каждый вечер, пока не вернется дядя Ян, – сказала Кэй. – Мама просит вас обедать с нами каждое воскресенье после церковной службы. После обеда все садились играть в карты, но так как Винсент играть не умел, он устраивался в тихом уголке и читал книгу Огюста Грюзона « История крестовых походов». Отсюда он мог видеть Кэй, смотреть, как она улыбается своей быстрой, многозначительной улыбкой. Она встала из—за стола и подошла к нему. – Что вы читаете, кузен Винсент? Он назвал книгу и добавил: – Это чудная книжка, я сказал бы, что она написана в духе Тейса Мариса. Кэй улыбнулась. Он всегда приплетает эти странные литературные аналогии. – Почему же Тейса Мариса? – спросила она. – Прочтите – и вы увидите, как это похоже на полотна Мариса, когда автор описывает древний замок на скале, сумерки осенних лесов, а вдали – темные поля и пахаря, идущего за белой лошадью. Пока Кэй читала страницу, Винсент принес ей кресло. Она взглянула на Винсента, ее синие глаза потемнели в задумчивости. – Да, – сказала она, – это похоже на Мариса. Писатель и художник пользуются разными средствами, но выражают одну и ту же мысль. Винсент взял книгу и быстро провел пальцами по странице. – А вот эту строчку можно найти у Мишле или Карлейля! – Знаете, кузен Винсент, для человека, который так мало учился, вы удивительно образованны. Вы и сейчас много читаете? – Нет, и хотел бы, да не могу. По правде сказать, это теперь мне уже не нужно, все можно найти в Писании, которое совершеннее и прекраснее любой книги. – Ох, Винсент, – воскликнула Кэй, быстро вставая, – это так не похоже на вас! Винсент удивленно уставился на нее. – Вы мне гораздо больше нравитесь, когда ищете Тейса Мариса в « Истории крестовых походов», хотя отец и говорит, что вам надо быть сосредоточенней и не думать о подобных вещах. А сейчас вы толкуете, как заплесневелый деревенский священник. Вос подошел к ним и сказал: – Карты сданы, Кэй. Кэй посмотрела секунду в глаза Винсента, сверкавшие под низко нависшими бровями, как раскаленные угли, потом взяла мужа за руку, и они снова сели за карты.4
Мендес да Коста, видя, что Винсенту нравится говорить с ним на общие темы, несколько раз в неделю находил предлог проводить своего ученика после урока. Однажды он завел Винсента в самую интересную часть города – это была окраина, тянувшаяся от Лейденской гавани близ парка Вондела и до вокзала. Тут было множество лесопилен и домиков рабочих с крохотными садиками – люди здесь жили очень тесно. Узенькие каналы то и дело пересекали улицы. – Как это, должно быть, замечательно – служить священником в таком месте, – произнес Винсент. – Да, – отозвался Мендес, набивая трубку и протягивая треугольный кисет Винсенту, – этим людям бог и религия гораздо нужнее, чем нашим друзьям из богатых кварталов. Они шли по легкому деревянному мостику, до странности похожему на мостики в Японии. Винсент остановился и спросил: – Что вы хотите сказать этим, минхер? – У этих рабочих, – ответил Мендес, плавно проведя рукой в воздухе, – трудная жизнь. Если они болеют, у них нет денег на доктора. Если сегодня они не работают, завтра у них не будет хлеба, а работа их тяжела. Жилища у них, как вы сами видите, тесные и убогие. Нужда и несчастье всегда на пороге. Жизнь обделила их своими благами – им нужен бог для утешения. Винсент зажег трубку и бросил спичку в канал. – Ну, а люди в других кварталах? – спросил он. – Они хорошо одеваются, живут в достатке, у них всегда есть деньги на черный день. Бог, по их представлениям, – богатый старик, весьма довольный тем, как он устроил дела на земле. – Одним словом, – заметил Винсент, – они малость заплесневели. – Что вы! – воскликнул Мендес. – Я этого не говорю. – Но это говорю я. В тот вечер Винсент разложил перед собой свои греческие книги и долго сидел, уставившись в стену. В памяти его всплывали лондонские трущобы, грязь и нищета, он вспомнил о своем желании стать проповедником и помогать беднякам. Затем он представил себе прихожан в церкви дяди Стриккера. Это были состоятельные, образованные люди, они знали толк в благах жизни и умели ими пользоваться. Проповеди дяди Стриккера были прекрасны, они воистину утешали, но кто из его прихожан нуждался в утешении? С тех пор как Винсент поселился в Амстердаме, прошло полгода. Он уже начал осознавать, что прилежный труд едва ли заменит ему природные способности. Отодвинув словари и грамматику, он взялся за алгебру. В полночь приехал дядя Ян. – Я увидел, что в твоей комнате свет, – сказал вице—адмирал. – А сторож говорит, что ты утром в четыре часа уже разгуливал по Адмиралтейству. Сколько же часов в день ты работаешь? – Как когда. От одиннадцати до двенадцати. – До двенадцати! – Дядя Ян покачал головой. Лицо у него становилось все огорченней. Вице—адмиралу было трудно примириться с мыслью, что в роду Ван Гогов есть тупица и неудачник. – Почему же так много? – Надо сделать все, что положено, дядя Ян. Мохнатые брови дяди Яна поползли вверх. – Ну, как бы то ни было, – сказал он, – а я обещал твоим родителям позаботиться о тебе. Поэтому будь любезен лечь спать и никогда не засиживайся так поздно. Винсент отодвинул тетради. Ему не нужен был сон, не нужны были ни любовь, ни сочувствие, ни развлечения. Ему нужно было одно – вызубрить эту латынь и греческий, алгебру и грамматику, чтобы выдержать экзамен, поступить в университет, получить сан священника и начать на деле служить богу.5
К началу мая, прожив в Амстердаме ровно год, Винсент почувствовал, что ему не суждено одолеть науки. Пока это было не признание факта, а лишь мысль о возможности неудачи, и всякий раз, как ему приходила такая мысль, он, стараясь отделаться от нее, задавал своему мозгу как можно более тяжкую работу. Он ничуть бы не беспокоился, если бы речь шла только о трудностях и о его явной неспособности справиться с ними. Но его днем и ночью мучил другой вопрос: хочет ли он быть таким же умным, благовоспитанным духовным пастырем, как дядя Стриккер? Что будет с его мечтой о служении нищим, страждущим и угнетенным, если ему еще целых пять лет придется думать об одних склонениях и алгебраических формулах? Как—то, в последних числах мая, под вечер, когда урок уже кончился, Винсент сказал Мендесу: – Минхер да Коста, у вас не найдется времени погулять со мной? Мендес догадывался, какое смятение переживает Винсент, он знал, что юноша вот—вот должен на что—то решиться. – Ну, конечно. Я все равно хотел прогуляться. Воздух после дождя такой чистый. С удовольствием пройдусь с вами. Мендес обмотал шею шерстяным шарфом и надел черное пальто с высоким воротником. Они шли, минуя синагогу, в которой три с лишним столетия назад был отлучен Барух Спиноза, а через несколько кварталов увидели старый дом Рембрандта на Зеестраат. – Он умер нищим и отверженным, – сказал, не повышая голоса, Мендес, когда старый дом остался позади. Винсент быстро взглянул на него. Мендес умел проникать в сущность дела раньше, чем о нем заходила речь. У этого человека был необыкновенно гибкий ум: все, что он слышал, видимо, проникало в самые сокровенные глубины его сознания. Дядя Ян и дядя Стриккер – те совсем другие, от них, что им ни скажи, все отскакивает, как от стенки, – или «да», или «нет». А вот Мендес непременно прежде окунет твою мысль в глубокий колодец своей древней мудрости, а потом уже отзовется на нее. – Но все же он умер счастливым, – сказал Винсент. – О да, – согласился Мендес, – он выразил себя во всей полноте и знал цену тому, что создал. Он – единственный из всех людей своего времени, кому это удалось. – Что с того, если он знал себе цену? А вдруг он заблуждался? Вдруг мир был прав, отвергая его? – Это не—имело значения. Не писать Рембрандт не рог. Хорошо он писал или плохо – не важно, но только Живопись делала его человеком. Искусство тем и дорого, Винсент, что оно дает художнику возможность выразить себя. Рембрандт сделал то, что считал целью своей жизни, и в этом его оправдание. Даже если бы его искусство ничего не стоило, то и тогда он прожил бы свою жизнь в тысячу раз плодотворнее, чем если бы подавил свой порыв и стал богатейшим купцом Амстердама. – Да, конечно. – И если произведения Рембрандта сегодня дают радость всему миру, – продолжал Мендес развивать свою мысль, – то это уже не имеет никакого отношения к Рембрандту. Он прожил свою жизнь сполна, он сделал свое дело, хотя его продолжали травить, даже когда он был уже в могиле. Книга его жизни закрылась, и какая чудесная это была книга! Его упорство, его приверженность идее – вот что важно, а отнюдь не достоинства его картин. У залива Эй они остановились, глядя, как рабочие грузят песком телеги, а потом долго шли по узеньким улицам, мимо увитых плющом садовых решеток. – Ну, а как молодому человеку узнать, правильную ли он избрал дорогу? Предположим, он считает какое—то дело делом своей жизни, а потом убеждается, что он совсем не подходит для этого? Мендес высвободил подбородок из воротника пальто, его черные глаза заблестели. – Глядите, Винсент, какой красный отсвет падает от солнца вон на те серые облака! – воскликнул он. Они вышли к гавани. В Зейдер—Зее, на фоне заката, отражались и мачты кораблей, и дома на набережной, и деревья. Мендес набил трубку и протянул, кисет Винсенту. – Я уже курю, минхер, – заметил Винсент. – Ах да, в самом деле. А не пройти ли нам вдоль дамбы до Зеебурга? Там еврейское кладбище, и мы посидим немного у могил моих родных. Они молча шагали вперед, и ветер относил в сторону дым их трубок. – Ни в чем нельзя быть уверенным твердо, Винсент, – сказал Мендес. – Можно лишь найти в себе мужество и силы делать то, что вы считаете правильным. Может статься, что вы и ошибались, но по крайней мере вы сделали, что хотели, а это самое главное. Вы должны поступать так, как велит вам разум, и пусть судит бог, что из этого выйдет. Если вы сейчас уверены в том, что призваны так или иначе служить создателю, то эта ваша уверенность должна стать для вас единственной путеводной нитью. Верьте себе и не робейте. – А если я недостаточно подготовлен? – Недостаточно подготовлены служить господу? – переспросил Мендес, еле заметно улыбаясь. – Нет, недостаточно подготовлен, чтобы стать таким ученым служителем церкви, какие выходят из университета. Мендес отнюдь не собирался давать Винсенту советы, он хотел лишь побеседовать с ним в самой общей форме, а потом пусть юноша сам решает свою судьбу. Вот они и дошли до еврейского кладбища. Тут все было просто, кругом стояли каменные надгробья с древнееврейскими надписями, росли кусты бузины, кое—где пятнами темнела высокая, густая трава. Мендес и Винсент подошли к каменной скамье на участке, отведенном для семьи да Коста, и присели на нее. Винсент спрятал трубку в карман. На кладбище в этот вечерний час было безлюдно, ни один звук не нарушал тишины. – У каждого есть нечто свое, свой неповторимый характер, Винсент, – промолвил Мендес, глядя на могилы, в которых покоились его родители. – И если человек считается с этим, то, что бы он ни делал, в конце концов все бывает хорошо. Если бы вы продолжали служить продавцом картин, целостность вашего характера сделала бы вас хорошим продавцом. Так и с вашим служением богу. Настанет срок, и вы выразите себя во всей полноте, какой бы путь вы для себя ни избрали. – А что, если я брошу Амстердам и не стану профессиональным священником? – Это не имеет значения. Вы можете уехать в Лондон и стать там проповедником, или служить в магазине, или крестьянствовать в Брабанте. Чем бы вы ни занялись, вы все будете делать на совесть. Я чувствую в вашей натуре что—то очень хорошее, вы станете настоящим человеком. Вероятно, вы не раз будете считать себя неудачником, но в конце концов выразите себя, и это будет оправданием вашей жизни. – Спасибо вам, минхер да Коста. Как помог мне этот разговор. Мендес зябко поежился. Каменная скамья, на которой они сидели, была холодна, и солнце уже скрылось за морем. Они встали. – Пойдемте, Винсент, – сказал Мендес.6
На другой день, когда город уже окутывали вечерние сумерки, Винсент стоял у окна, глядя на Адмиралтейство. На фоне бледного неба нежно рисовалась вереница тополей, высоких и стройных. «Раз я не в ладах со школьной наукой, – рассуждал Винсент сам с собой, – значит ли это, что я совсем бесполезный человек? В конце концов разве латынь и греческий непосредственно связаны с любовью к ближнему?» Внизу по двору Адмиралтейства прогуливался дядя Ян. Вдали можно было различить мачты судов, стоявших в доках, а рядом совершенно черного «Атье» в окружении красных и серых мониторов. «Я хочу всегда, всю жизнь служить богу, а не чертить треугольники и окружности. Я никогда не мечтал о большом приходе и о блестящих проповедях. Я хочу быть с униженными и страждущими – и хочу быть сейчас, сейчас, а не через пять лет!» Зазвонил колокол, и со двора Адмиралтейства через ворота хлынула толпа рабочих. Фонарщик начал зажигать фонари. Винсент отошел от окна. Он прекрасно понимал, что за этот год и отец, и дядя Ян, и дядя Стриккер потратили на него много времени и средств. Если он бросит ученье, они будут считать свои деньги пропавшими даром. Что ж, он старался на совесть, изо всех сил. Работать больше двенадцати часов в сутки он не в силах. Очевидно, ученые занятия не для него. Он начал слишком поздно. Если он, неся людям слово божье, завтра же станет проповедником, будет ли это означать, что он потерпел неудачу? Если он исцелит болящего, ободрит уставшего, утешит грешника, обратит неверующего – неужели и тогда он будет неудачником? Родные, конечно, так и скажут. Они скажут, что он вечный неудачник, пустой и неблагодарный человек, паршивая овца в роду Ван Гогов. «Чем бы вы ни занялись, – сказал Мендес, – вы все будете делать на совесть. В конце концов вы выразите себя, и это будет оправданием вашей жизни». Проницательная Кэй с удивлением уже разглядела в нем задатки узколобого захолустного священника. Да, таким он и будет, если останется в Амстердаме, где его истинные порывы глохнут с каждым днем. Он знает, где его место, а Мендес вселил в него мужество занять это место. Пусть близкие проклянут его, теперь ему уже все равно. Разве можно думать о самом себе, когда речь идет о боге? Он быстро уложил свой чемодан и вышел из дома, ни с кем не простившись.7
Бельгийский евангелический комитет, куда входили преподобный ван ден Бринк, де Йонг и Питерсен, предполагал открыть в Брюсселе новую бесплатную школу, где ученики должны будут вносить лишь небольшую сумму за питание и квартиру. Винсент обратился в комитет, и его приняли в школу. – Через три месяца, – заявил преподобный Питерсен, – вы получите назначение где—нибудь в Бельгии. – Если он будет достаточно подготовлен, – угрюмо бросил преподобный де Йонг, обернувшись к Питерсену. Де Йонг в молодости, работая мельником, потерял большой палец, и это толкнуло его на путь богословия. – От проповедника, господин Ван Гог, прежде всего требуется умение говорить с людьми и доступно и красиво, – предупредил преподобный ван ден Бринк. Из церкви, где происходила эта беседа, преподобный Питерсен вышел вместе с Винсентом; когда они оказались под ослепительным брюссельским солнцем, Питерсен взял его под руку. – Я очень рад, что вы поступаете к нам, мой мальчик, – сказал он. – В Бельгии столь многое предстоит сделать, и вы с вашим молодым пылом, думается мне, очень здесь пригодитесь. Винсент не знал, что греет его сильнее, теплое ли солнышко или неожиданная благосклонность священника. Они шагали по узенькой улице, которую с обеих сторон, словно утесы, обступали шестиэтажные каменные здания. Винсент не находил слов, чтобы ответить Питерсену. Наконец Питерсен остановился. – Ну, мне в эту сторону, – сказал он. – Вот моя визитная карточка, и когда у вас выдастся свободный вечер, загляните ко мне. Буду рад потолковать с вами. В евангелической школе оказалось всего три ученика, включая Винсента. Их препоручили учителю Бокме – низенькому жилистому человечку, с лицом, которое было словно вогнуто внутрь: если бы от его бровей к подбородку провести отвесную линию, она не коснулась бы ни носа, ни губ. Товарищи Винсента были девятнадцатилетние деревенские парни. Быстро подружившись между собой, они принялись издеваться над Винсентом. – Я хотел бы стать в душе как можно смиреннее, mourir a moi—meme [умереть в себе (фр.)], – сказал как—то Винсент, еще не подозревая ничего дурного, одному из них. И вот, видя, как он зубрит лекцию на французском или потеет над каким—нибудь ученым фолиантом, они всякий раз допытывались: – Ты что, Ван Гог, снова умираешь в себе? Но самые жестокие стычки разгорались у Винсента с учителем Бокмой. Бокма хотел сделать из своих учеников хороших ораторов – вечером на дому каждый должен был подготовить проповедь и прочесть ее на другой день на уроке. Одноклассники Винсента сочиняли бойкие, примитивные речи и уверенно произносили их наизусть. Винсент же писал свои проповеди с трудом, вкладывая душу в каждую строчку. То, что ему хотелось сказать, он чувствовал всем своим существом, но когда он отвечал в классе, язык у него будто отнимался. – Ну какой из вас проповедник, Ван Гог, – распекал его Бокма, – если вы даже двух слов связать не можете? Кто вас будет слушать? Бокма просто рассвирепел, когда Винсент наотрез отказался говорить экспромтом. Винсент сидел над своей проповедью до глубокой ночи, стараясь сделать ее как можно содержательней, тщательно выискивая в французском языке слово поточнее. А назавтра в классе оба его соученика без малейшего затруднения рассказали о спасении и об Иисусе Христе, заглянув в свои тетрадки всего раз или два, и Бокма одобрительно кивал головой. Затем наступила очередь Винсента. Он развернул свою рукопись и начал читать ее. Бокма не стал даже слушать. – Так вот чему научили тебя в Амстердаме? Знай же, Ван Гог, что я еще не выпустил ни одного ученика, который бы не умел говорить экспромтом в любую минуту, да так, чтобы люди плакали. Винсент попробовал говорить экспромтом, но тут же сбился, потеряв последовательность мыслей. Ученики без всякого стеснения хохотали над его потугами, Бокма им вторил. После мучительного года в Амстердаме нервы у Винсента сильно сдали. – Послушайте, господин учитель, – заявил он, – я буду произносить проповеди так, как считаю нужным. Я пишу их хорошо и издеваться над собой не позволю. Бокма пришел в бешенство. – Ты будешь делать так, как я приказываю, – заорал он, – или я выставлю тебя вон отсюда! С тех пор между ними началась открытая война. Винсент сочинял проповедь за проповедью, вчетверо больше, чем требовалось, – он совсем потерял сон, и ложиться вечерами в постель все равно не имело смысла. Он лишился аппетита, похудел, стал раздражителен. В ноябре его вызвали в церковь, где собрался комитет, чтобы дать выпускникам назначение. Все трудности были наконец позади, и, несмотря на усталость, он испытывал чувство удовлетворения. Когда он вошел в церковь, два его соученика были уже там. Досточтимый Питерсен даже не взглянул на него, зато в глазах Бокмы светилось злорадство. Преподобный де Йонг поздравил соучеников Винсента с успешным окончанием школы и вручил им назначения – одному в Хохстраатен, другому в Этьехове. Они вышли, взявшись под руку. – Господин Ван Гог, – сказал де Йонг, – комитет не уверен в том, что вы подготовлены для проповедования слова божья. Мне очень жаль, но мы не можем дать вам назначения. После паузы, которая казалась бесконечной, Винсент спросил: – Разве я плохо учился? – Вы отказывались подчиняться старшему. Первая заповедь нашей церкви – это беспрекословное повиновение. Далее, вы не научились говорить экспромтом. Ваш учитель считает, что вы не подготовлены для миссии проповедника. Винсент посмотрел на преподобного Питерсена, но тот уставился куда– то в окно. – Что же мне теперь делать? – спросил Винсент, не обращаясь ни к кому в отдельности. – Вы можете остаться в школе еще на полгода, – ответил ван ден Бринк. – Может быть, после этого... Винсент, опустив глаза, поглядел на свои грубые тупоносые башмаки и увидел, что они порваны во многих местах. Затем, не найдя, что сказать, он повернулся и вышел при общем молчании. Быстрым шагом он прошел через весь город и очутился в Лакене. Не думая о том, куда он идет, Винсент вышел на берег, – сюда долетал шум многочисленных мастерских. Вот уже дома и постройки остались позади, Винсент был в открытом поле. Тут бродила старая белая лошадь, худая, изнуренная, едва живая. Вокруг было тихо в пустынно. На земле валялся конский череп, а чуть подальше, рядом с хижиной живодера, белел целый скелет. Оцепенение, владевшее Винсентом, стало понемногу проходить, и он неторопливо потянулся за трубкой. Дым табака показался ему непривычно горьким. Он присел на валявшееся поблизости бревно. Старая белая лошадь подошла и потерлась мордой о его плечо. Он обернулся и погладил ее по тощей шее. Скоро он вспомнил о боге, и эта мысль его утешила. «Иисус сохранял спокойствие и в бурю, – сказал он себе. – Я не одинок, ибо бог не покинул меня. Когда—нибудь так или иначе я найду свой путь к служению господу». Когда он вернулся в свою комнату, там ждал его преподобный Питерсен. – Я зашел пригласить вас к обеду, Винсент, – сказал он. Они шли по улицам, запруженным рабочим людом, который спешил по домам. Питерсен говорил о том о сем, как будто бы ничего не случилось. Винсент слушал его, воспринимая каждое слово с необыкновенной ясностью. Питерсен повел Винсента в переднюю, превращенную в художественную студию. На стене висело несколько акварелей, в углу стоял мольберт. – Вот как, значит, вы рисуете! – воскликнул Винсент. – А я не знал. Питерсен смутился. – Я всего—навсего любитель, – сказал он. – Немного рисую в свободное время ради развлечения. Только, пожалуйста, не говорите об этом моим коллегам. Они сели обедать. У Питерсена была дочка, робкая пятнадцатилетняя девочка – во время обеда она ни разу не подняла глаз от тарелки. Питерсен говорил о посторонних делах, Винсент из вежливости принуждал себя хоть немного есть. И вдруг он с интересом стал слушать Питерсена; он даже не заметил, когда и как тот заговорил на эту тему. – Боринаж, – говорил хозяин, – это район каменноугольных шахт. Там буквально все добывают уголь. Углекопы работают, рискуя жизнью каждую минуту, а заработка им едва хватает на то, чтобы свести концы с концами. Живут они в полуразвалившихся лачугах, их жены и ребятишки страдают от холода и голода. Винсент недоумевал, зачем Питерсен говорит все это. – Где это – Боринаж? – спросил он. – На юге Бельгии, близ Монса. Я недавно побывал там и скажу вам, Винсент, – если где—нибудь люди нуждаются в человеке, который бы нес им слово божье и утешал их, так это в Боринаже. У Винсента перехватило дыхание, кусок застрял у него в горле. Он положил вилку. Зачем Питерсен мучит его? – Винсент, – сказал священник, – почему бы вам не поехать в Боринаж? С вашей молодостью и пылом вы сделали бы там много добра. – Но как же мне быть? Комитет... – Да, я знаю. Я написал недавно вашему отцу и объяснил положение вещей. Сегодня я получил ответ. Он пишет, что на первых порах готов помогать вам, а потом я добьюсь для вас формального назначения в Боринаж. Винсент вскочил. – Вы добьетесь для меня назначения! – Да, но на это потребуется время. Когда комитет увидит, как хорошо вы работаете, он, без сомнения, смягчится. А если даже и нет... Де Йонг и ван ден Бринк скоро будут вынуждены обратиться ко мне за содействием, и взамен... Беднякам в тех местах нужен такой человек, как вы, Винсент, и, бог свидетель, все пути хороши, только бы вы туда попали!8
Когда поезд уже приближался к южной границе, на горизонте показались горы. Винсент всматривался в них, испытывая чувство облегчения и радости, – однообразная равнина Фландрии его утомила. Скоро он понял, что в этих горах есть что—то необыкновенное. Каждая из них стояла отдельно от другой, вырастая словно из—под земли на совершенно ровном месте. – Черный Египет, – шептал Винсент, приникая к окну и разглядывая вереницу фантастических пирамид. Он повернулся к соседу и спросил: – Вы не знаете, откуда взялись здесь эти горы? – Как не знать, – отозвался пассажир. – Они состоят из терриля, – так тут называется порода, которую добывают вместе с углем. Видите, вон там, на вершине, маленькую вагонетку? Поглядите, что она будет делать. Не успел он договорить, как вагонетка опрокинулась набок, и по склону, застилая пирамидальную гору, поползло черное облако. – Так эти горы и растут, – продолжал собеседник Винсента. – Вот уже пятьдесят лет я каждый день смотрю, как они помаленьку поднимаются все выше и выше. В Ваме поезд остановился, и Винсент спрыгнул с подножки. Город раскинулся в унылой долине, и при бледном свете солнца, бросавшем на него свои косые лучи, Винсент увидел, что в воздухе висит густая пелена угольной пыли. Два ряда закопченных кирпичных строений тянулись вверх по склону холма. Там, у вершины, кирпичные дома кончались, – это был уже Малый Вам. Шагая вверх по холму, Винсент удивлялся, почему вокруг так малолюдно и тихо. Мужчин он не встретил ни одного, кое—где у порога стояли женщины, лица у них были бледные, застывшие. Малый Вам был шахтерским поселком. В нем оказался один—единственный каменный дом, стоявший на самом гребне холма, – он принадлежал булочнику Жану—Батисту Дени. К этому—то каменному дому и шел Винсент: преподобный Питерсен получил в свое время от Дени письмо, в котором булочник предлагал пустить к себе нового проповедника, которого пришлют в Боринаж. Мадам Дени встретила Винсента очень приветливо, провела его через пекарню, где пахло опарой, и показала отведенную ему комнату, наверху, под самой крышей; из окна открывался вид на единственную в Малом Ваме улицу, а по задней стене круто шли вниз стропила. Все тут было вымыто до блеска большими умелыми руками мадам Дени. Эта женщина понравилась Винсенту с первого взгляда. Он был так взволнован, что даже не распаковал свои вещи, а сбежал по грубым деревянным ступенькам вниз, в кухню, и сказал мадам Дени, что выйдет прогуляться. – Только не опаздывайте к ужину, – предупредила она. – Мы садимся за стол в пять. Мадам Дени нравилась Винсенту все больше. Он чувствовал, что она принадлежит к тем людям, которые понимают все, не вдаваясь в рассуждения. – Я скоро вернусь, мадам, – ответил он. – Только погляжу, что тут за место. – Сегодня к нам придет один приятель, с которым вам не мешает познакомиться. Он работает мастером в Маркассе и может рассказать многое такое, что будет полезно для вашего дела. Поселок был весь засыпан снегом. Винсент шагал по дороге, глядя на изгороди, окружавшие сады и поля, черные от дыма, которым постоянно чадили шахты. К востоку от дома Дени был глубокий овраг, по склону которого лепилось большинство шахтерских хижин; по другую сторону тянулось широкое поле, а посреди него виднелась гора из терриля и чернели трубы Маркасской шахты, там работали жители Малого Вама. Узкой ложбинкой по полю шла дорога, вся прошитая корнями узловатых деревьев и окаймленная колючим кустарником. Маркасская шахта вместе с другими семью шахтами принадлежала компании «Шарбонаж бельжик», – она была самой старой и самой опасной во всем Боринаже. Про нее шла дурная слава – немало углекопов погибло в ней то при спуске клети, то при подъеме, то отравившись газом, то захлебнувшись в воде, случались там и взрывы и обвалы. В двух низких кирпичных строениях работали подъемники, на поверхности уголь сортировали и грузили в вагоны. Высокие трубы, кирпичная кладка которых когда—то была желтоватой, все двадцать четыре часа в сутки изрыгали тяжелый черный дым, оседавший далеко окрест. Вокруг Маркасса были разбросаны жалкие жилища углекопов, тут же росли реденькие, чахлые деревья, темные от копоти, тянулись изгороди, высились кучи золы, мусора, бросового угля, и над всей местностью торжествующе вздымалась черная пирамидальная гора терриля. Это было унылое место, и все тут с первого взгляда показалось Винсенту мрачным и заброшенным. – Не удивительно, что этот край прозвали черной страной, – пробормотал он. Не успел Винсент повернуть обратно, как из ворот шахты начали выходить углекопы. На них была грубая, рваная одежда, на головах кожаные фуражки; женщины были одеты точно так же, как и мужчины. Все они были черны, как трубочисты, на закопченных лицах резко выделялись сверкающие белки глаз. Чернорожие – так называли их, и называли не без основания. Этим людям, спускавшимся во мрак подземелья еще до рассвета, бледные лучи вечернего солнца резали глаза. Полуослепшие, они ковыляли по дороге и переговаривались между собой на быстром, грубом наречии. Это был все узкогрудый, сутулый народ с костлявыми руками и ногами. Винсент понял теперь, почему поселок показался ему таким пустынным и заброшенным: Малый Вам – это отнюдь не та горстка лачуг, которые лепятся по оврагу, а город—лабиринт, раскинувшийся под землей на глубине семисот метров; в этом лабиринте и проводит большую Часть суток почти все здешнее население.9
– Жак Верней вышел в люди собственным умом, – говорила мадам Дени Винсенту за ужином, – и как был, так и остался другом углекопов. – А разве не все, кто выходит в люди, остаются друзьями рабочих? – Нет, господин Ван Гог, не все. Как только кто—нибудь выберется из Малого Вама в Вам, он уже на все смотрит по—иному. Ради денег он держится хозяев и забывает, что когда—то сам надрывался в шахте, как каторжный. Но Жак правдивый и честный человек. Когда у нас бывает стачка, рабочие его одного только и слушают. Ничьих советов не признают, кроме его. Вот только жить ему, бедняге, осталось недолго. – Что же с ним такое? – спросил Винсент. – Обыкновенное дело – чахотка. Ни одному шахтеру не миновать этого. Уж не знаю, протянет ли он до весны. Скоро пришел и сам Жак Верней. Это был низкорослый, сгорбленный мужчина с ввалившимися и печальными, как у всех боринажцев, глазами. Из ноздрей и ушей у него торчали волосы, брови были лохматые, голова давно облысела. Услышав, что Винсент – проповедник, присланный облегчить долю углекопов, он горестно вздохнул. – Ах, господи, – сказал он Винсенту, – столько людей уже старались нам помочь. Но все идет по—прежнему. Ничуть не лучше, чем было. – Значит, в Боринаже живется тяжко? – спросил Винсент. Жак помолчал, потом ответил: – Мне—то самому живется неплохо. Мать выучила меня читать, и поэтому я стал мастером. У меня маленький кирпичный домик у дороги в Вам, да и на еду нам всегда хватает. Мне жаловаться не на что... Жак оборвал разговор – его начал душить приступ сильнейшего кашля; Винсенту казалось, что его плоская грудь вот—вот лопнет от натуги. Несколько раз Жак выходил за дверь и отхаркивался, потом снова уселся на свое место в теплой кухне и стал тихонько теребить вылезавшие из ушей и носа волосы и пощипывать брови. – Видите ли, господин, мастером я стал только в двадцать девять лет. Легкие у меня к тому времени были уже попорчены. Но все—таки последние годы я жил не так уж плохо. А вот углекопы... – Он покосился на мадам Дени и спросил: – Как вы думаете, не свести ли мне его к Анри Декруку? – Конечно, сведи. Ему не вредно будет узнать всю правду, как есть. Жак Верней повернулся к Винсенту и сказал, словно бы извиняясь: – Как—никак, господин, я все же мастер и должен оказывать им уважение. Ну, а Анри, он вам порасскажет! Винсент и Жак вышли на улицу и, вдыхая холодный ночной воздух, направились к оврагу. Домишки были тут совсем жалкие, все деревянные, в одну комнату. Их понастроили безо всякого плана, они беспорядочно лепились по склону оврага, образуя самые причудливые закоулки; в, этой грязи и путанице мог найти дорогу только свой человек. Шагая вслед за Жаком, Винсент то и дело натыкался на какие—то камни, бревна и кучи мусора. Не доходя до дна оврага, они остановились у жилища Декрука. В заднем оконце лачуги был свет. Они постучали, на стук выглянула жена Декрука. Хижина Декруков ничем не отличалась от всех остальных. Пол в ней был земляной, крыша из мха, щели между стенными плахами законопачены от ветра рогожей. По углам разместились кровати, на одной из них спали трое ребятишек. Вся обстановка состояла из круглой печки, деревянного стола, скамеек, стула и прибитого к стене ящика с несколькими горшками и мисками. Декруки, чтобы хоть изредка есть мясо, держали, как и все жители Боринажа, козу и кроликов. Коза спала под детской кроватью, а кролики примостились на охапке соломы за печкой. Жена Декрука откинула верхнюю створку двери и посмотрела, кто пришел, затем впустила Жака и Винсента в дом. Она работала в тех же забоях, что и ее муж, еще задолго до того, как они поженились, – откатывала вагонетки с углем к контрольному посту. Это была уже надорванная женщина, бледная и состарившаяся, хотя ей не исполнилось еще и двадцати шести лет. Когда Жак и Винсент вошли, Декрук, сидевший у холодной печки, вскочил со стула. – Вот хорошо—то, – сказал он Жаку, распрямляя спину. – Давненько ты ко мне не заглядывал. Рад тебя видеть, Добро пожаловать вместе с твоим другом. Декрук хвастался тем, что из всех жителей Боринажа он один никогда и ни за что не погибнет в шахте. «Я умру стариком на своей кровати, – говаривал он нередко, – шахте меня не прихлопнуть, я ей не поддамся». На голове у него, с правой стороны, меж густых волос краснела большая квадратная проплешина. Это была память о том дне, когда клеть, в которой он спускался в шахту, сорвавшись, камнем пролетела добрую сотню метров, и в ней погибло двадцать девять его товарищей. Одну ногу Декрук заметно волочил, она была сломана в четырех местах: как—то в забое рухнули крепления и замуровали Декрука на пять суток. На правом боку, под черной, заскорузлой рубахой, бугрился заметный нарост: это выступали три сломанных и не вправленных толком ребра, – однажды, при взрыве рудничного газа, его швырнуло о вагонетку. Но Декрук был боевым, задиристым человеком, он был неукротим, несмотря ни на что. Он, не сдерживаясь, постоянно говорил о шахтовладельцах что—нибудь резкое, и за это его посылали в самые гиблые забои, где уголь доставался ценой неимоверных усилий. Чем тяжелее приходилось Декруку, тем яростнее он воспламенялся против них – против неведомых, невидимых и все же вездесущих врагов. Из—за ямочки, сидевшей на круглом подбородке чуть—чуть сбоку, его небольшое, плотное лицо казалось кривоватым. – Да, господин Ван Гог, – заявил он, – приехав сюда, вы не ошиблись. Здесь, в Боринаже, мы даже не рабы, мы животные. Мы спускаемся в Маркасскую шахту в три утра, отдыхаем мы за смену пятнадцать минут, когда обедаем, а потом снова работаем до четырех часов дня. Там темно и жарко, как в пекле. Мы работаем нагишом, воздух полон угольной пыли и ядовитого газа, – не продохнешь! Рубишь уголь в забое, а самому нельзя и выпрямиться, все на коленях или согнувшись в три погибели. А ребятишки наши, мальчики и девочки, идут в шахту с восьми или девяти лет. К двенадцати у всех у них лихорадка и чахотка. Если нас не удушит рудничный газ или не прихлопнет клеть, – он дотронулся пальцами до своей красной проплешины, – мы доживаем до сорока, а потом околеваем от чахотки. Скажи—ка, Верней, правда это или нет? Говорил он на местном наречии и с такой горячностью, что Винсент с трудом понимал его. Ямка, сидевшая сбоку на подбородке, придавала его лицу забавное выражение, хотя глаза у пего потемнели от гнева. – Истинная правда, – подтвердил Жак. Жена Декрука отошла в дальний угол и села на кровать. Тусклый свет керосиновой лампы еле освещал ее лицо. Она внимательно слушала мужа, хотя слышала все это уже тысячу раз. Бесконечные вагонетки с углем, которые она откатывала из года в год, трое детей, холодные зимы в проконопаченной рогожей хижине – все это сделало ее покорной и равнодушной. Волоча свою искалеченную ногу, Декрук подошел вплотную к Винсенту. – А что мы за это получаем? Лачугу в одну комнату и еду – ровно столько, чтобы хватило сил держать в руках кирку. А какая наша еда? Хлеб, тощий творог да черный кофе. Мясо видим раз или два в год! Если они срежут нам пятьдесят сантимов в день, мы начнем дохнуть с голоду. У нас уже не будет сил добывать им уголь – только поэтому они и не снижают нам заработки. Мы все время смотрим в глаза смерти, каждый божий день! Стоит нам заболеть, и нас гонят в шею без единого франка в кармане, и мы подыхаем, как собаки, а наших вдов и сирот приходится кормить соседям. С восьми лет и до сорока, – тридцать два года под землей, не видя белого света, а потом могила, где—нибудь здесь же рядом, и тогда уж все кончено, никаких страдании.10
Винсент убедился, что углекопы невежественны, – большинство их не умело читать, – но смелы, прямодушны, отзывчивы и в своей работе проявляют немало сообразительности и ума. Это были худые, бледные от лихорадки, усталые, изнуренные люди. Их серые, болезненные лица (солнце углекопы видели только по воскресеньям) были усеяны крошечными черными крапинками. Запавшие печальные глаза – глаза угнетенных – смотрели с безнадежной покорностью. У Винсента эти люди вызывали теплое чувство. Он находил в них большое сходство с брабантцами, с жителями Зюндерта и Эттена – такими же простыми и добродушными. Даже здешние места уже не казались ему тоскливыми, он понял, что у Боринажа есть свое лицо, свой характер, – он это чувствовал теперь всей душой. Прошло несколько дней, и в ветхом сарае, позади булочной Дени, состоялось первое молитвенное собрание. Винсент старательно подмел пол и расставил скамейки. Углекопы собрались к пяти часам, они привели с собой жен и детей, на шеях у всех были шарфы, на головах – кепки. При тусклом свете керосиновой лампы, которую Винсент взял на время у своих хозяев, они рассаживались по местам, смотрели, как Винсент листает свою Библию, и сосредоточенно слушали его, скрестив руки на груди и засунув ладони под мышки, чтобы было теплее. Винсент долго раздумывал, какой текст взять для первой проповеди. В конце концов он остановился на «Деяниях апостолов», – глава шестнадцатая, стих девятый: «И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам». – Под македонянином, друзья мои, мы должны понимать труженика, лицо которого избороздили и печаль, и страдания, и усталость. Но и в нем есть красота и благородство, ибо у него бессмертная душа и он нуждается в пище, которая нетленна вовеки, – в слове божьем. Господь хочет, чтобы по примеру Иисуса Христа человек жил смиренно и не стремился к возвышенным целям, довольствуясь малым и укрощая, как того требует Писание,сердце свое, чтобы в назначенный день войти в царство небесное и обрести мир. В поселке было множество больных, и каждый день Винсент обходил их, словно доктор; он приносил им, когда мог, молоко или хлеб, теплые носки или одеяло. Брюшняк и злокачественная лихорадка, которую углекопы называли la sotte fievre [дурацкая лихорадка (фр.)], властвовали в каждой хижине, больные бредили и метались во сне. Людей, прикованных к постели, вконец истощенных и изнуренных, становилось с каждым днем все больше. Весь Малый Вам называл проповедника «господин Винсент», в этих словах была и любовь к нему, и вместе с тем некая сдержанность. Не было лачуги, куда не заходил бы Винсент, принося хлеб и слово утешения, где он не ухаживал бы за больными, не молился вместе с несчастными, не склонял к раскаянию грешников. Незадолго перед рождеством он набрел на заброшенную конюшню близ Маркасса, – здесь могла поместиться добрая сотня верующих. В конюшне было холодно и неуютно, но углекопы Малого Вама заполнили ее всю, до самых дверей. Винсент говорил им о Вифлееме и о мире на земле. Он прожил в Боринаже уже шесть недель и видел, что условия жизни углекопов становятся день ото дня все более тяжкими, но здесь, в этой холодной конюшне, при свете дымных ламп, он чувствовал, что ему удалось запечатлеть образ Христа в сердцах этих чернолицых, дрожащих от непогоды людей, что надеждой на грядущее царство божье он согрел им души. Теперь только одно омрачало жизнь Винсента и постоянно тревожило его – он все еще жил на средства отца. Каждый вечер он молился, чтобы скорей наступило время, когда он сможет зарабатывать несколько франков на свои скромные нужды. Погода портилась. Небо заволокли черные тучи. Хлынули неистовые дожди, дороги покрылись грязью, грязь хлюпала и на земляном полу шахтерских хижин. В первый день Нового года Жан—Батист сходил в Вам и принес оттуда Винсенту письмо. На конверте в левом верхнем углу значилось имя преподобного Питерсена. Дрожа от волнения, Винсент побежал наверх в свою комнатку. Дождь громко барабанил по крыше, но он не слышал этого. Негнущимися пальцами он разорвал конверт и прочитал письмо. "Дорогой Винсент! Евангелическому комитету стало известно о вашей самоотверженной работе, и он с первого января временно, на шесть месяцев, назначает вас проповедником в Малом Ваме. Если к концу июня все будет благополучно, вы получите постоянное назначение. До того времени вам решено выплачивать пятьдесят франков в месяц. Пишите мне почаще и не теряйте веры в будущее. Преданный вам Питерсен". Винсент, стиснув письмо в руке, бросился на кровать. Он ликовал. Наконец—то он достиг успеха! Нашел свой путь в жизни, нашел свое дело! Он стремился к этому давным—давно, у него только не хватало сил и отваги идти без оглядки, напролом. Он будет получать пятьдесят франков в месяц, этого более чем достаточно, чтобы прокормиться и оплатить квартиру. Теперь ему уже никогда не придется жить на чужой счет, теперь он независим. Он уселся за стол и написал взволнованное, торжествующее письмо отцу, в котором сообщал, что больше не нуждается в его помощи и надеется, что сам сможет Помогать родным. Когда он закончил письмо, свет в окнах померк, над Маркассом гремел гром и сверкала молния. Винсент ринулся вниз по лестнице и, вне себя от радости, через кухню выбежал под дождь. Вслед за ним на пороге показалась мадам Дени. – Господин Винсент, куда вы? Вы позабыли надеть пальто и шляпу! Винсент даже не ответил. Он добежал до ближайшего пригорка, взобрался на него и увидел перед собой почти весь Боринаж, его трубы и терриконы, его шахтерские хибарки. Всюду, как муравьи, сновали черные фигурки людей, только что выбравшихся из шахт. Вдали темнел сосновый лес, на фоне его вырисовывались маленькие белые домики, а еще дальше виднелся шпиль церкви и старая ветряная мельница. Все вокруг было окутано легкой дымкой. Бегущие по небу облака рождали на земле причудливую игру света и тени. Впервые за все свое пребывание в Боринаже Винсент увидел, что раскинувшийся перед ним ландшафт напоминает картины Мишеля и Рейсдаля.11
Теперь, когда Винсент получил официальное назначение, ему было нужно какое—нибудь постоянное место для молитвенных собраний. После долгих поисков он наткнулся на довольно большой дом, стоявший на самом дне оврага, у тропинки, шедшей через сосновый лес; дом этот назывался Детским Залом, потому что когда—то тут учили детей танцам. Винсент украсил дом всеми репродукциями и гравюрами, какие у него были, и там стало очень уютно. По вечерам Винсент собирал здесь маленьких – от четырех до восьми лет – ребятишек, учил их читать, рассказывал им как можно проще и понятнее что– нибудь из Библии. Больше они никогда и ничему уже не учились. – Где бы нам достать угля? – спрашивал Винсент у Жака Вернея, который помог ему получить Детский Зал. – Дети не должны мерзнуть, да и верующие могут посидеть здесь по вечерам подольше, если топится печка. Жак подумал минутку и сказал: – Приходите сюда завтра в полдень, и я научу вас доставать уголь. Назавтра в Детском Зале Винсента ждала целая толпа шахтерских жен и дочерей. На всех были черные кофты и юбки, на головах синие платки, и каждая принесла с собой по пустому мешку. – Господин Винсент, вот мешок и для вас, – громко сказала молоденькая дочка Вернея. – Вы тоже должны набить его дополна. Оли поднялись вверх по склону, пробираясь по лабиринту тропинок меж лачуг, миновали булочную Дени на гребне холма, пересекли поле, посреди которого находилась Маркасская шахта, обогнули ее и добрались до черного террикона. Тут все разбежались в разные стороны и полезли на гору, усеяв ее, как усеивают гнилую колоду муравьи. – Лезьте наверх, господин Винсент, уголь там, – сказала дочка Вернея. – Внизу за много лет мы уже выбрали все начисто. Идемте, я покажу вам, как искать уголь. Сама она взбиралась на гору легко, словно козочка, а Винсент почти все время карабкался на четвереньках – терриль то и дело осыпался под ним. Дочка Вернея, обогнав Винсента, садилась и шаловливо кидала в него сверху комочками спекшейся глины. Это была хорошенькая, розовощекая, живая девушка; ее отец стал мастером, когда ей было семь лет, и спускаться в шахту ей не пришлось ни разу. – Живее, господин Винсент, живее, – кричала она, – а то ваш мешок так и останется пустым! Для нее это была лишь веселая прогулка: компания шахтовладельцев отпускала Вернею уголь по сниженной цене. Но ни девушка, ни Винсент не добрались до верхушки пирамиды, так как то с одной, те с другой стороны через одинаковые промежутки времени подходили вагонетки и сваливали пустую породу. Собирать уголь было не так– то просто. Дочка Вернея показала Винсенту, как это делается: надо было набирать в руки терриль и отсеивать сквозь пальцы все ненужное – песок, камни, глину. Угля было мало: компания на ветер ничего не выбрасывала. Жены шахтеров могли собирать лишь такой уголь, который нельзя было продать. От снега и дождя терриль был мокрый, руки Винсента скоро покрылись царапинами и ссадинами, но он все же наполнил на четверть свой мешок, полагая, что там у него один уголь, – у женщин к тому времени мешки были набиты почти доверху. Мешки женщины оставили в Детском Зале, а сами спешно разошлись по домам – готовить ужин. Но все они обещали прийти вечером на проповедь и привести своих мужей. Дочка Вернея позвала Винсента к ужину, и он охотно согласился. Жилище Вернея делилось на две половины: в одной была печь, кухонная утварь и столовая посуда, в другой стояли кровати. Хотя Жак далеко не бедствовал, в доме не было мыла: Винсент уже знал, что для жителей Боринажа мыло – немыслимая роскошь. С того дня, когда мальчики отправлялись в шахту, а девочки шли копаться в терриле, и до самой смерти боринажцы никогда дочиста не отмывали свои лица от угольной пыли. Дочь Вернея вынесла для Винсента на улицу таз холодной воды. Он старательно вымыл лицо и руки. Он, конечно, не знал, удалось ли ему отмыться как следует, но, сев за стол напротив девушки и увидев на ее лице черные полосы от угольной пыли и копоти, понял, что и сам он ничуть не чище ее. Девушка весело болтала весь вечер. – Видите ли, господин Винсент, – сказал Жак, – вы живете в Малом Ваме уже почты два месяца, а что такое Боринаж – по—настоящему не знаете. – Это правда, – покорно согласился Винсент, – во мне кажется, я начинаю понимать здешних людей все лучше и лучше. – Я говорю о другом, – возразил Жак, вырывая из ноздри длинную волосину и с интересом ее разглядывая. – Я хочу сказать, что вы знаете нашу жизнь только на поверхности. А это далеко не самое главное. Ведь мы только спим на земле. Если хотите понять нашу жизнь, вы должны спуститься в шахту и поглядеть, как мы работаем – работаем с трех утра до четырех вечера. – Мне очень хочется попасть в шахту, – сказал Винсент, – но разрешит ли компания? – Я уже справлялся об этом, – ответил Жак, прихлебывая тепловатый черный, как смола, кофе и держа во рту кусок сахара. – Завтра я спускаюсь в Маркасскую шахту проверить, как поставлена там охрана труда. Ждите меня около дома Дени без четверти три утром, я возьму вас с собой. Вместе с Винсентом в Детский Зал отправилось все семейство Вернея; очутившись там, Жак, казавшийся дома, в тепле, здоровым и оживленным, стал страшно кашлять и вынужден был уйти. Анри Декрук уже ждал Винсента; волоча искалеченную ногу, он возился около печки. – А, господин Винсент, добрый вечер! – встретил он Винсента, и улыбка оживила все его маленькое морщинистое лицо. – Эту печку, кроме меня, никому не растопить во всем Малом Ваме. Я ее знаю давно, с тех самых пор, как здесь устраивались танцы. Эта печка коварная, но мне—то известны ее фокусы. Уголь в мешках оказался сырым, к тому же большей частью это был совсем не уголь, но Декрук умудрился разжечь в печке огонь, и от нее пошло приятное тепло. Декрук не переставал хлопотать и суетиться, проплешина на его голове налилась кровью и стала багровой. Послушать первую проповедь Винсента в Детском Зале пришли почти все углекопы Малого Вама. Когда свободных мест на скамьях уже не осталось, из соседних домом притащили ящики и стулья. Собралось больше трехсот человек. Винсент, чувствуя горячую благодарность к женщинам, ходившим за углем, и радуясь, что наконец проповедует в собственном храме, говорил с такой силой и убежденностью, что угрюмые лица боринажцев просветлели. – Давно, очень давно сказано, – говорил Винсент своим чернолицым прихожанам, – что мы на земле только гости. И это воистину так. Но мы не одиноки, ибо с нами господь, наш отец. Мы странники, жизнь наша – это долгий путь в царство небесное. Лучше печаль, чем радость, ибо сердце печально даже в радости. Лучше идти в дом, где скорбь и слезы, чем в дом, где пир и веселье, ибо сердце смягчается только от горя. Того, кто верует в Иисуса Христа, печаль не посещает одна, она приходит вместе с надеждой. Каждый миг мы рождаемся вновь, каждый миг шествуем от тьмы к свету. Отврати нас от зла, создатель! Не бедность и не богатство дай нам, а лишь хлеб наш насущный. Аминь. Первой к Винсенту подошла жена Декрука. Глаза ее затуманились, губы дрожали. – Господин Винсент, – сказала она, – у меня была такая тяжкая жизнь, что я потеряла бога. Но вы вновь вернули его мне. Спасибо вам за это. Когда все разошлись, Винсент запер дверь и задумчиво побрел к дому Дени. По тому, как его приняли сегодня вечером, он чувствовал, что углекопы ему верят и что прежний холодок в их отношении к нему исчез. « Чернорожие» окончательно признали его теперь своим духовным наставником! Чем же вызвана эта перемена? Дело, конечно, не в том, что он нашел помещение для проповедей, этому углекопы не придавали значения. Они не знали и того, что Винсент теперь официально утвержден в должности – ведь он, когда приехал, никому не рассказывал о своих делах. Правда, сегодня он говорил очень горячо и вдохновенно, но прежние его проповеди в хижинах или заброшенной конюшне были ничуть не хуже. В доме Дени вся семья улеглась спать в своей уютной комнатке, но в булочной, как днем, аппетитно пахло свежим хлебом. Винсент достал воды из глубокого колодца, вырытого прямо под кухней, вылил ее в таз и сходил наверх за мылом и зеркалом. Он приставил зеркало к стенке и стал разглядывать в нем свое отражение. Да, он не ошибся: отмыться как следует у Вернея ему не удалось. На веках и на скулах осталась угольная пыль. Он улыбнулся, представив себе, как он освящал свой новый храм с перепачканным углем лицом и как ужаснулись бы его отец и дядя Стриккер, если бы они могли его видеть. Он погрузил руки в холодную воду, взбил пену – мыло он привез еще из Брюсселя – и хотел хорошенько намылить лицо, как вдруг ему пришла в голову неожиданная мысль. Держа на весу мокрые руки, он еще раз пристально вгляделся в зеркало: угольная пыль чернела у него в морщинах лба, на веках, на скулах, на крупном, выпуклом подбородке. – Ну, конечно, – сказал он вслух. – Вот почему они хорошо меня приняли. Я стал наконец таким же, как они. Так и не умыв лица, он сполоснул руки и пошел спать. С тех пор, живя в Боринаже, он нарочно натирал лицо угольной пылью, чтобы не отличаться от шахтеров.12
Винсент проснулся в половине третьего утра, съел на кухне всухомятку кусок хлеба и без четверти три вышел на улицу, где встретился с Жаком. За ночь выпало много снега. Снег толстым слоем покрывал дорогу, ведущую к шахте. Идя с Жаком через поле к черным трубам и терриконам, Винсент видел, как отовсюду по снегу спешили черные фигурки углекопов – издали казалось, будто это бегут к своей норе какие—то маленькие черные зверьки. Было очень морозно, рабочие ежились и прятали подбородки в воротники своих легких пальто. Сначала Жак привел Винсента в помещение, где на крюках висело множество керосиновых ламп, каждая под особым номером. – Когда под землей что—нибудь случается, – объяснил Жак, – по номеру узнают, кто попал в беду: если лампы на месте нет, значит, человек в шахте. Углекопы торопливо брали свои лампы и через заснеженный двор бежали к кирпичному зданию, где работал подъемник. Винсент и Жак присоединились к ним. Клеть состояла из шести отделений, расположенных одно над другим, в каждом таком отделении можно было поднять вагонетку с углем. В нем едва хватало места для двоих, но туда втискивали пятерых шахтеров. Поскольку Жак был мастером, в верхнем отделении клети спускался только он с одним из своих помощников и Винсент. Упершись в стенку носками башмаков, они низко присели на корточки, и все же головы их касались проволокшего потолка. – Прижмите руки к груди, господин Винсент, – сказал Жак. – Если коснетесь стены – останетесь без руки. Раздался звонок, и клеть, висевшая на двух стальных тросах, полетела вниз. Она заполняла почти весь шахтный ствол, между ней и стеной оставалась лишь ничтожная доля дюйма. Когда Винсент представил себе, что под ним разверзлась черная пропасть в полмили глубиной и при малейшей неисправности механизма он разобьется насмерть, его охватила невольная дрожь. То было жуткое ощущение, какого он прежде никогда не знал, – этот стремительный полет вниз, во мрак преисподней. Он успокаивал себя мыслью, что опасности нет, что за последние два месяца подъемник не отказывал ни разу, но жуткая темень, в которой тускло мерцали керосиновые лампы, парализовала все доводы рассудка. Он признался в своем страхе Жаку, тот сочувственно улыбнулся. – Всякий шахтер испытывает то же, что и вы, – сказал он. – Но углекопы, конечно, привыкают к спуску? – Нет, никогда! Страх перед клетью не проходит. Они боятся ее до своего последнего дня. – Ну, а вы сами? – И я боюсь точно так же, как вы, хотя и спускаюсь в шахту вот уже тридцать три года! На полпути, на глубине трехсот пятидесяти метров, клеть на мгновение остановилась, затем снова полетела вниз. Винсент заметил, что из стен шахты сочится вода, и опять содрогнулся. Он посмотрел вверх и увидел там маленькое, словно звездочка, пятно дневного света. Спустившись на шестьсот пятьдесят метров, Жак и Винсент вышли из клети, а углекопы продолжали спуск. Винсент увидел широкую выработку с рельсовыми путями. Он ожидал адской жары, но, к его удивлению, тут было довольно прохладно. – Господин Верней, а ведь здесь совсем не так плохо! – воскликнул он. – Но тут никто не работает. Угольные пласты на этом горизонте давно истощены. Мы устроили здесь вентиляцию, но шахтерам внизу от этого ничуть не легче. Они прошли по выработке, может быть, с четверть мили, и тут Жак свернул в сторону. – Не отставайте от меня, господин Винсент. Только осторожней, как можно осторожней. Если вы поскользнетесь, – не миновать беды. Он тут же нырнул куда—то, словно провалился. Винсент шагнул вперед и, обнаружив под ногами колодец, нащупал лестницу. Колодец был узкий – едва впору пролезть худощавому человеку. Первые пять метров Винсент спускался легко, но потом ему пришлось повернуться лицом к лестнице. Всюду сочилась вода, и ступени покрывала склизкая грязь. Винсент чувствовал, как на него падают холодные капли. Когда Винсент и Жак наконец достигли дна, им пришлось ползти на четвереньках по длинному штреку, ведущему к дальним забоям. Перед ними, словно отсеки в трюме, рядами тянулись выемки, укрепленные нетесаными деревянными стойками. В каждом забое трудилось пятеро шахтеров – двое рубили кирками уголь, третий отгребал его, четвертый грузил в маленькие вагонетки, пятый откатывал их по узкому рельсовому пути. На рабочих была полотняная одежда, вся пропитанная пылью и грязью. Грузил уголь обыкновенно мальчишка, весь черный и совершенно голый, если не считать холщовой повязки на бедрах, а откатывали вагонетки, как правило, девушки, в грубых рубахах, такие же черные, как и все углекопы. С кровли постоянно сочилась вода, образуя сталактитовые наросты. Забои освещались маленькими лампами; чтобы сберечь керосин, углекопы прикручивали фитили до предела. Вентиляции не было никакой. В воздухе столбом стояла угольная пыль. От глубинного жара с людей черными струйками стекал пот. В первых забоях углекопы работали стоя, но по мере того как Винсент шел дальше, кровля нависала все ниже, и люди уже работали лежа, орудуя киркой с локтя. От разогретых тел углекопов в забоях становилось все жарче, а горячая угольная пыль сгущалась в воздухе и набивалась в рот. – Эти люди зарабатывают два с половиной франка в день, – сказал Жак Винсенту, – да и то лишь в случае, если инспектор на контрольном пункте одобрит качество угля. Пять лет назад они получали три франка, но с тех пор плату снижали каждый год. Жак осмотрел крепление в забое – единственную преграду, стоящую между шахтером и смертью, – и сказал рабочим: – Крепление у рас скверное. Стойки забиты слабо. Спохватитесь, когда рухнет кровля, – да будет поздно. Один из углекопов, старший в артели, в ответ разразился ругательствами, которые сыпались так быстро, что Винсент разобрал лишь несколько слов. – Вот когда нам будут платить за то, что мы крепим, – шумел он, – начнем крепить как следует. А если мы станем тратить на это время, то когда же рубить уголь? Что погибнуть под землей, что сдохнуть дома от Голода – все едино! В конце штрека оказался новый колодец. Здесь даже не было лестницы. Чтобы порода не обрушилась и не засыпала углекопов, поперек колодца на некотором расстоянии друг от друга были укреплены бревна. Жак взял лампу Винсента и повесил ее на пояс. – Осторожнее, господин Винсент, – сказал он. – Не наступите мне на голову, иначе я полечу вниз! С трудом нащупывая ногами бревна и цепляясь руками за грязные стены, они спустились по темному колодцу метров на пять. Внизу был еще один угольный пласт, но здесь шахтеры не могли сделать даже обычной выемки. Людям приходилось рубить тут уголь непосредственно в узком, тесном штреке, стоя на коленях и упираясь согнутой спиной в кровлю. Только теперь Винсент понял, что в верхних забоях было сравнительно просторно и прохладно; здесь же стояла жара, как в раскаленной печи, а воздух был такой спертый, что казалось, его можно резать ножом. Люди дышали с трудом, словно загнанные звери, они работали с открытыми ртами, высунув сухие распухшие языки, тела их были покрыты сплошным слоем сажи и грязи. Попав в эту страшную жару, Винсент подумал, что, даже оставаясь праздным зрителем, он не выдержит здесь и минуты. Углекопы же занимались тяжкой физической работой и страдали в тысячу раз сильнее Винсента, но им нельзя было передохнуть ни секунды. Если остановить работу, они не выдадут положенное количество вагонеток с углем и не получат свои два с половиной франка. Винсент и Жак на четвереньках поползли по узкому штреку, то и дело прижимаясь, к стене, чтобы пропустить вагонетку. Штрек этот был еще теснее, чем наверху. Девочки, откатывавшие вагонетки, были здесь совсем маленькие, не старше десяти лет. Чтобы толкать тяжелые вагонетки, им приходилось напрягать все свои слабые силы. В конце штрека находился скат с металлическим настилом, по которому вагонетки спускали на тросах. – Пошли, господин Винсент, – сказал Жак. – Спустимся в самый низ, на семьсот метров, и вы увидите такое, чего не найти больше нигде в целом свете. Они съехали по скату метров на тридцать и оказались в широкой выработке с двумя рельсовыми колеями. С полмили они шли по ней, а потом, когда выработка кончилась, протиснулись через узкий лаз и очутились у недавно вырубленного колодца. – Это вот и есть новый пласт, – объяснил Жак. – Самая жуткая дыра, такого ада не сыскать ни на одной шахте в мире. От того места, где стояли Жак и Винсент, расходились двенадцать узких выработок. Жак нырнул в одну из них и крикнул Винсенту: «Лезьте за мной!» Винсент еле протиснул в эту нору плечи и, как змея, пополз на животе, отталкиваясь руками и ногами. Ног Жака он не видел, хотя полз всего лишь дюймах в трех позади него. Выработка имела всего—навсего около полуметра в высоту и три четверти метра в ширину. Воздуха не хватало уже и там, где начиналась эта выработка, а здесь было настоящее пекло. Наконец они очутились в сводчатой пещере, в которой человек мог стоять почти во весь рост. Тут было совсем темно, лишь через некоторое время Винсент разглядел у стены четыре голубоватых пятна. Он был весь мокрый, едкий пот, смешанный с угольной пылью, стекая со лба, заливал ему глаза. С чувством огромного облегчения Винсент встал на ноги и выпрямился. Он едва не задохнулся, пока полз, и теперь жадно хватал ртом воздух, но в его легкие, мучительно обжигая их, врывался не воздух, а огонь, жидкий огонь. Винсент был теперь в самом страшном подземелье Маркасса, в чудовищной камере пыток, достойной средневековья. – Tiens, tiens! – услышал Винсент знакомый голос. – C'est monsieur Vincent [Ну и ну! Да ведь это господин Винсент (фр.)]. Пришли поглядеть, как нам достаются наши два с половиной франка? Жак тут же принялся осматривать шахтерские лампы. Язычки пламени в них окружала голубая кайма. – Ему нельзя спускаться сюда, – говорил о Жаке Декрук на ухо Винсенту, сверкая белками глаз. – У пего может пойти кровь горлом, и тогда тащи его наверх на блоках. – Декрук! – сказал Жак. – У вас лампы горят вот так с самого утра? – Да, именно так, – беззаботно отозвался Декрук. – Рудничного газа накапливается все больше день ото дня. Когда—нибудь будет взрыв, и всем нашим несчастьям разом придет конец. – Но в этих забоях газ выкачивали в прошлое воскресенье, – заметил Жак. – А он, видишь ли, опять накопился, – сказал Декрук, с видимым удовольствием почесывая свою проплешину. – Раз так, нужно на один день остановить работу и снова откачать газ. Углекопы возмущенно зашумели. – У нас и так не хватает на хлеб, чтобы прокормить ребятишек! – Заработок и без того маленький, а тут еще пропадет целый день! – Пусть откачивают газ, когда нас нет в шахте; мы тоже люди, нам надо кормиться! – Ладно, ладно, Верней! – рассмеялся Декрук. – Не бойся, шахта меня не прихлопнет. Пробовала, но ничего не вышло. Я умру в своей постели на старости лет. А кстати, раз уж заговорили о еде, скажи—ка, который теперь час? Жак поднес свои часы к голубому пламени лампы. – Девять. – Отлично. Самое время пообедать. Черные, залитые потом люди, со сверкающими белками глаз, побросали инструмент, сели, привалившись спинами к стене, и стали развязывать свои сумки. Они не решались отползти туда, где прохладнее, потому что на это ушло бы минут пятнадцать, а больше пятнадцати минут на отдых шахтеры не могли себе позволить. В невыносимой жаре они стали с жадностью есть ломти хлеба с творогом, и угольная пыль, покрывавшая их руки, оставляла на хлебе жирные черные полосы. Свой обед углекопы запивали тепловатым кофе, который принесли с собой в пивных бутылках. Кофе, хлеб и творог – вот все, ради чего они работали по тринадцати часов в сутки. Винсент пробыл под землей уже шесть часов. Он задыхался от недостатка воздуха, изнемогал от жары и пыли. Он чувствовал, что больше не выдержит и десяти минут, и очень обрадовался, когда Жак сказал, что пора идти. – Следи за газом, Декрук, – предупредил Жак на прощание. – Если станет плохо, лучше вывести артель наверх. Декрук хрипло захохотал. – А они заплатят нам по два с половиной франка, если мы не выдадим на—гора уголь? На этот вопрос нечего было ответить, Декрук знал это не хуже самого Вернея. Жак пожал плечами и на животе пополз по штреку. Винсент, почти ослепший от едкого пота, который заливал ему глаза, последовал за ним. Через полчаса они были уже на рудничном дворе, откуда клеть поднимала на поверхность людей и уголь. Жак завернул в загон, где держали лошадей, и долго кашлял, выплевывая черную мокроту. В клети, которая поднималась из шахты, словно ведро из колодца, Винсент сказал: – Не понимаю, Верней, почему эти люди не бросят шахту? Почему не переберутся куда—нибудь еще, не поищут другой работы? – Ах, дорогой Винсент, другой работы нигде нет. И перебраться в другое место мы не можем, потому что у нас нет денег. Во всем Боринаже не найти такой семьи, у которой было бы отложено хоть десять франков. Да если бы мы и могли уехать куда—нибудь, все равно мы бы этого не сделали. Вот моряк, к примеру, знает, что на корабле ему грозят всяческие опасности, а как попадет на сушу, – начинает скучать по морю. Так и мы, господин Винсент. Мы любим свои шахты, под землей нам лучше, чем наверху. Все, что нам нужно, – это такая плата, чтобы хватало на жизнь, рабочий день покороче и хорошая охрана труда. Клеть дошла доверху и остановилась. Винсент, ослепленный тусклым светом зимнего дня, пересек заснеженный двор. В умывальной, взглянув в зеркало, он увидел, что он черен, как печная заслонка. Но умываться Винсент не стал. Он быстро вышел в поле, почти не сознавая, что с ним происходит, полной грудью вдыхая холодный воздух. Уж не болен ли он лихорадкой, не пригрезилось ли ему все это в кошмарном сне? Ведь не может же господь бог допустить, чтобы его чада несли это рабское иго! Нет, все, что он только что видел, – это лишь чудовищный сон! Он прошел мимо дома Дени и, сам того не замечая, углубился в грязный лабиринт шахтерского поселка, направляясь к хижине Декрука. Сначала на его стук никто не откликнулся. Потом на пороге показался шестилетний, не по годам малорослый мальчик. Но в этом бледном, слабеньком заморыше странным образом чувствовался знакомый боевой задор Декрука. Через два года этот малыш будет каждое утро в три часа спускаться в Маркасскую шахту и нагружать углем вагонетки. – Мама ушла на террилевую гору, – сказал мальчик тоненьким голоском. – А я присматриваю за малышами. Вам придется подождать, господин Винсент. Два малыша, сидя на полу, играли какими—то деревяшками и веревками; на детях были одни рубашонки, и они посинели от холода. Старший мальчик подбросил в топку угля, но печь грела плохо. Глядя на детей, Винсент содрогнулся. Он уложил малышей в кровать и укрыл их до подбородка. Винсент и сам не знал, зачем он пришел в это жалкое жилище. У него было только одно чувство: он должен что—то сделать, что—то сказать этим людям, как—то помочь им. Он должен дать им почувствовать, что по крайней мере понимает весь ужас их нищеты. Жена Декрука вернулась домой, руки и лицо ее были черны. Она не сразу узнала Винсента – так он был перепачкан. Из маленького ящика, в котором хранилась еда, она достала кофе и поставила его подогреть на печку. Чтобы сделать приятное доброй женщине, Винсент пил этот тепловатый, жидкий, отдававший горечью кофе. – Терриль нынче никуда не годится, господин Винсент, – пожаловалась жена Декрука. – Компания ничего нам не оставляет, ни крошки угля. Ну чем я согрею своих ребят? Одежонки у них никакой, только эти рубашки да вот кое– что сшили из мешковины. Эта дерюга натирает им тело до красноты. А если их держать все время в кровати, как же они будут расти? Винсент проглотил подступившие к горлу слезы и не мог сказать ни слова. Такой страшной нищеты он еще не видал. Что могут дать этой женщине молитвы и Священное писание, когда ее дети замерзают? И куда смотрит господь бог? Эта мысль пришла Винсенту впервые. В кармане у него было несколько франков, он протянул их жене Декрука. – Купите, пожалуйста, детям шерстяные штанишки, – сказал он. Винсент сознавал, что это ничего не изменит: в Боринаже коченели от холода сотни малышей. И дети Декрука будут снова жестоко мерзнуть, как только износят эти штанишки. Он медленно поднялся на холм, к дому Дени. На кухне было тепло и уютно. Мадам Дени согрела ему воды, чтобы он вымылся, и подала на завтрак чудесного тушеного кролика, оставшегося со вчерашнего дня. Видя, что Винсент устал и расстроен, она намазала ему на хлеб немного масла. Винсент поднялся к себе наверх. После еды по его телу разлилась приятная теплота. Кровать у него была широкая и удобная, наволочка на подушке белоснежная. На стенах висели гравюры с картин великих мастеров. Он открыл шифоньерку и оглядел сложенные в ней рубашки, белье, носки, жилеты. Подошел к платяному шкафу и посмотрел на две пары башмаков, теплое пальто и костюмы. Теперь он понял, что он обманщик и трус. Он внушал углекопам, что бедность – это добродетель, а сам жил в комфорте и достатке. Да, он лишь лицемерный пустослов. Его вера, его убеждения не меняют дела, от них нет никакого прока. Углекопы должны презирать его, они должны бы выгнать его из Боринажа. Он делал вид, будто разделяет их участь, а у самого красивая, теплая одежда, удобная, покойная постель, и съедает он зараз столько, сколько шахтер не видит и за неделю. И за всю эту роскошь, все эти удобства он даже не платит работой. Он только болтает—языком и разыгрывает из себя хорошего человека. Боринажцы не должны верить ни единому его слову, не должны ходить на его проповеди и считать его своим духовным пастырем. Вся эта беззаботная, легкая жизнь делает его слова лживыми. И, значит, он вновь потерпел крах, еще более страшный, чем раньше! Теперь ему оставалось одно из двух: либо бежать из Боринажа, бежать тайком, ночью, и как можно скорей, пока углекопы еще не поняли, какой он лживый, трусливый пес, либо сделать вывод из всего того, что сегодня открылось его глазам, и стать воистину божьим человеком. Он вынул все свои вещи из шифоньерки и торопливо уложил их в чемодан. Туда же он сунул свои костюмы, башмаки, книги и гравюры. Бросив чемодан на стул, он опрометью выбежал на улицу. По дну оврага протекал ручей. За ручьем, на другом склоне, зеленел сосновый лесок. В этом сосняке было разбросано несколько шахтерских лачуг. Побродив с полчаса, Винсент нашел там пустующую дощатую хибарку без окон. Она стояла над оврагом, на самой круче. Пол в ней был земляной, плотно утрамбованный ногами прежних обитателей, под ветхую крышу, державшуюся на грубых брусьях, проникал талый снег. Зимой в хибарке никто не жил, поэтому в дыры и щели между досками свободно задувал ледяной ветер. – Чья это хижина? – спросил Винсент у женщины, которую встретил по дороге. – Одного торговца из Вама. – Не знаете, какая за нее плата? – Пять франков в месяц. – Прекрасно. Я снимаю ее. – Но, господин Винсент, вы не сможете здесь жить! – Это почему же? – Да ведь... ведь она совсем развалилась. Она даже хуже моей. Хуже ее не найти во всем Малом Ваме. – Именно такую мне и надо. Винсент вернулся в дом Дени. На душе у него было теперь спокойно и ясно. Пока он ходил в овраг, мадам Дени заглянула случайно в его комнату и увидела уложенный чемодан. – Господин Винсент! – воскликнула она, бросаясь ему навстречу. – Что случилось? Почему вы так спешно собрались ехать в Голландию? – Я не еду в Голландию, мадам Дени. Я остаюсь в Боринаже. – Тогда в чем же дело?.. – И лицо ее вытянулось от удивления. Когда Винсент все объяснил ей, она сказала мягко: – Поверьте, Винсент, вы не сможете там жить, вы не привыкли к этому. Со времени Иисуса Христа многое переменилось, нынче всякий стремится жить получше. А люди по вашим делам знают, что вы хороший человек. Но Винсент был непоколебим. Он разыскал торговца в Ваме, снял хижину и перебрался в нее. Когда через несколько дней ему прислали чек на пятьдесят франков – его первое жалованье, – он купил узенькую деревянную кровать и подержанную печку. После этого у него еще хватило денег, чтобы обеспечить себя до конца месяца хлебом, творогом и кофе. Он натаскал земли на чердак, чтобы уберечься от сырости, а щели законопатил дерюгой. Теперь он жил в такой же лачуге, как все углекопы, ел ту же пищу, что и они, спал на такой же, как у них, кровати. Он ничем от них не отличался. Теперь он имел право проповедовать им слово божье.13
Директор компании «Шарбонаж бельжик», которой принадлежали четыре шахты в окрестностях Вама, оказался совсем не такой жадной скотиной, как представлял его себе Винсент. Правда, он был немного толстоват, но у него были добрые, ласковые глаза и несколько виноватые манеры. Внимательно выслушав горячую речь Винсента о тяжкой жизни углекопов, он сказал: – Я знаю, господин Ван Гог. Это старая история. Люди думают, что мы нарочно морим их голодом, чтобы загрести побольше барышей. Но поверьте мне, все это далеко не так. Позвольте, я покажу вам диаграммы, выпущенные международным горнопромышленным бюро в Париже. Он развернул на столе большой лист бумаги и указал пальцем на синюю линию внизу. – Глядите, господин Ван Гог, бельгийские угольные копи – самые бедные в мире. Добыча угля у нас настолько затруднена, что продать его при нынешней конкуренции с выгодой почти немыслимо. Производственные расходы у нас самые высокие во всей Европе, а прибыли – самые низкие! Вы понимаете, мы вынуждены продавать уголь по той же цене, что и те шахты, которым тонна угля обходится гораздо дешевле. Мы все время стоим на грани банкротства. Вы меня понимаете? – Кажется, да. – Если мы увеличим плату шахтерам на один франк в сутки, наши расходы будут выше рыночной цены на уголь. Тогда нам придется закрыть копи. И тут уж рабочие в самом деле будут умирать с голоду. – А не могут ли владельцы получать чуть поменьше дохода? Тогда бы больше оставалось для рабочих. Директор печально покачал головой. – Нет, господин Ван Гог. Вы знаете, благодаря чему существует шахта? Благодаря капиталу, как и всякое другое дело. А капитал должен давать прибыль, иначе он утечет в другое место. В настоящее время акции «Шарбонаж бельжик» приносят всего—навсего три процента дохода. Если дивиденды снизятся хотя бы на полпроцента, владельцы акций изымут свои капиталы и наши шахты закроются, потому что без денег работать нельзя. И опять—таки углекопы окажутся без куска хлеба. Как видите, господин Ван Гог, не акционеры и не директора компании несут ответственность за ужасные условия труда в Боринаже. Все дело в неблагоприятном залегании пластов. А за это, мне кажется, надо винить только господа бога! В другое время Винсент содрогнулся бы от такого богохульства, но теперь он пропустил это мимо ушей. Он раздумывал над тем, что сказал ему директор. – Сократите по крайней мере рабочий день. Тринадцать часов работы – ведь это убийство. Скоро у вас не останется ни одного рабочего. – Господин Ван Гог, мы не можем сократить рабочий день, это равносильно повышению платы. Ведь рабочий за два с половиной франка в день будет выдавать гораздо меньше угля и расходы на тонну угля возрастут. – Но все же у вас есть одна возможность облегчить участь шахтеров. – Вы говорите об охране труда? – Вот именно. Уменьшить количество несчастных случаев вы, конечно, можете. Директор снова без всякого раздражения покачал головой. – Нет, господин Ван Гог, не можем. Мы не можем выпустить новые акции, потому что дивиденды у нас низкие. Откуда же взять дополнительную прибыль на всякие усовершенствования? Ах, господин Ван Гог, получается воистину порочный круг. Это безнадежное дело. Я думал о нем тысячу раз. В результате из убежденного католика я превратился в отъявленного атеиста. Я не могу понять, как это всемогущий бог намеренно создал такие условия жизни и обрек целые поколения людей на вечное рабство и нищету, без единого проблеска надежды. Винсенту больше нечего было сказать. Глубоко потрясенный, он поплелся в свою хижину.14
Февраль в эту зиму выдался необыкновенно холодный. В долину врывался свирепый ветер, валивший людей с ног. Чтобы отапливать хижины, шахтерам теперь нужно было гораздо больше терриля, но стужа и ветры так лютовали, что женщины не могли ходить на терриконы. Им не во что было одеться – у них были лишь грубые юбки, кофты, бумажные чулки и платки. Чтобы не окоченеть от холода, дети по целым суткам не вылезали из постелей. Горячей пищи они и не видели: нечем было топить печки. Когда рабочие выбирались из своих пышущих жаром подземных нор, их сразу охватывала пронизывающая стужа, а в открытом заснеженном поле ветер резал лицо, как нож. Каждый день кто—нибудь умирал от чахотки или воспаления легких. Много раз пришлось Винсенту читать заупокойную в этот месяц. Учить грамоте посиневших от холода ребятишек Винсент не мог, он целыми днями собирал на Маркасской горе уголь и делил свою жалкую добычу между теми семьями, которые бедствовали больше других. Теперь у него не было нужды натирать себе лицо угольной пылью, и это клеймо углекопа уже не сходило с него. Какой—нибудь путешественник, заехав в Малый Вам и встретив здесь Винсента, не отличил бы его от остальных «чернорожих». Винсент трудился на террилевой горе уже в течение многих часов, набрав лишь полмешка топлива. Руки у него посинели и были исцарапаны обледеневшими кусками породы. Около четырех часов он решил отнести в поселок то, что собрал: пусть хоть несколько женщин к приходу мужей вскипятят кофе. К воротам Маркасской шахты он подошел в тот самый момент, когда оттуда выходили рабочие. Кое—кто узнавал его и бормотал «bojou» [добрый день (искаж. фр. bonjour)], остальные шли, тупо опустив глаза в землю, ссутулив плечи и засунув руки в карманы. Последним из ворот вышел невысокий старик. Он так тяжело закашлялся, что все его тело ходило ходуном, а когда с поля налетел порыв ветра, он пошатнулся, как от удара. Он чуть было не упал лицом на обледенелую землю. Отдышавшись, он собрался с силами и пошел через поле, все время отворачиваясь от ветра. На плечи у него был накинут кусок мешковины, видимо, добытой в какой—нибудь лавке в Ваме. Винсент заметил, что на мешковине что—то написано крупными буквами. Приглядевшись, он разобрал надпись: «Стекло. Не бросать». Разнеся уголь по шахтерским хижинам, Винсент пошел к себе, вынул из чемодана всю одежду и разложил ее на кровати. Тут было пять рубашек, три смены нижнего белья, четыре пары носков, две пары башмаков, два костюма и второе его пальто, похожее на солдатскую шинель. Одну рубашку, пару носков и смену белья он оставил на кровати, а остальное снова уложил в чемодан. Скоро один из костюмов Винсента перекочевал к старику, который носил на спине надпись «Стекло». Белье и рубашки были раскроены и пошли на платьица для детишек. Носки были поделены между чахоточными, работавшими в шахте. Теплое пальто Винсент отдал одной беременной женщине; ее муж недавно погиб при обвале, и, чтобы прокормить двух детей, она должна была занять его место в шахте. Детский Зал пришлось закрыть, так как Винсент не хотел лишать хозяек хотя бы горсти терриля. Кроме того, боринажцы без особой необходимости редко выходили на улицу в слякоть, чтобы не промочить ноги. Винсент ходил по домам и наспех читал молитву. Но скоро он убедился, что ему надо заниматься только практическими делами – лечить и умывать больных, готовить горячее питье и лекарства. Отправляясь в обход, он уже не брал с собой Библию, потому что все равно ее некогда было и раскрыть. Слово божье стало роскошью, которую углекопы уже не могли себе позволить. В марте холода смягчились, зато начала свирепствовать лихорадка. Из февральского жалованья у Винсента сорок франков ушло на еду и лекарства для больных, себя же он посадил буквально на голодный паек. От недоедания он сильно похудел, стал еще более нервным и порывистым. Стужа так истощила его силы, что он и сам заболел лихорадкой. Глаза у него ввалились и горели мрачным огнем, а массивный ван—гоговский лоб словно усох. На щеках появились глубокие впадины, и только крутой подбородок, как всегда, гордо выступал вперед. Старший сын Декрука заболел брюшным тифом, и другим детям стало негде спать. Кроватей было всего две: на одной спали родители, на другой – трое детей. Если малыши останутся в одной кровати с больным мальчиком, они могут заразиться. Если положить их на полу, они заболеют воспалением легких. Если же на полу будут спать родители, у них назавтра не хватит сил работать. Винсент сразу сообразил, как быть. – Декрук, – сказал он шахтеру, когда тот вернулся с работы, – вы мне не поможете сделать до ужина одно дело? Декрук дьявольски устал, к тому же его мучила головная боль, но он, волоча искалеченную ногу, последовал за Винсентом в его лачугу, не задав ни единого вопроса. Когда они пришли, Винсент снял с кровати одно одеяло – их у него было два – и сказал Декруку: – Берите—ка кровать с той стороны; мы отнесем ее к вам для мальчика. Декрук яростно скрипнул зубами. – У нас трое детей, – сказал он, – и если богу угодно, мы можем с одним расстаться. Ногосподин Винсент, который заботится обо всех и лечит весь поселок, у нас только один, и я не позволю ему убивать себя! Прихрамывая, он вышел из лачуги. Винсент отодвинул кровать от стены, взвалил ее себе на спину и дотащил до хижины Декрука. Декрук и его жена, ужинавшие черствым хлебом и кофе, удивленно подняли головы. Винсент перенес больного ребенка на свою кровать и укрыл его одеялом. В тот же вечер Винсент пошел к Дени и попросил соломы; чтобы устроить себе постель. Мадам Дени была поражена, услышав, зачем ему солома. – Господин Винсент, – сказала она, – ваша комната еще не занята. Вы должны снова поселиться в ней. – Вы очень добры, мадам Дени, но я не могу. – Я знаю, вы беспокоитесь насчет платы. Но, право, об этом не стоит говорить. Мы с Жан—Батистом зарабатываем вполне достаточно. Можете жить у нас бесплатно, как брат. Ведь вы не раз говорили нам, что все чада господа бога – братья! Винсент чувствовал, что он прозяб, прозяб до мозга костей. К тому же он был голоден. Его трепала лихорадка, которая не отпускала его вот уже несколько недель. Он ослабел от недоедания и бессонницы. От бед и страданий, терзавших весь поселок, он почти обезумел. Здесь, наверху, его ждала теплая, уютная, чистая постель. Мадам Дени—накормит его ужином, и мучительное, сосущее чувство голода исчезнет; мадам Дени будет лечить его от лихорадки, даст ему крепкого подогретого вина, озноб пройдет, и ему вновь станет тепло. Винсента трясло, ему было дурно, и он чуть не упал на красный кафельный пол булочной. Но он преодолел слабость и взял себя в руки. Бог хочет испытать его в последний раз. Если сейчас он ослабеет духом и отступит, все, что он сделал, окажется тщетным. Неужто в эти дни, когда в поселке царит самая вопиющая нужда и черное горе, он дрогнет и свернет с пути, станет подлецом и трусом, при первой же возможности польстится на уют и достаток? – Бог видит вашу доброту, мадам Дени, и вознаградит вас, – сказал Винсент. – Но вы не должны искушать меня и отвращать от исполнения моего долга. Если у вас не найдется охапки соломы, боюсь, мне придется спать на голой земле. Но прошу вас, не предлагайте мне ничего, кроме соломы, я все равно не возьму. Он разостлал солому в углу своей лачуги, на сырой земле, и закутался в тонкое одеяло. Он не мог заснуть всю ночь, а когда наступило утро, его стал мучить кашель, и глаза у него ввалились глубже прежнего. Лихорадка все усиливалась, он уже плохо понимал, что делает. Терриля у него не было: он считал, что не имеет права в ущерб шахтерам взять себе хоть пригоршню того топлива, которое ему удавалось собрать на черной горе. Заставив себя проглотить два—три куска черствого хлеба, он вышел из хижины и принялся за свои обычные дела.15
Март наконец уступил место апрелю, и жить стало легче. Злые ветры утихли, солнце пригревало все теплее, и снег начал подтаивать. Обнажились черные поля, запели жаворонки, в лесу на деревьях набухли почки. Лихорадка в поселке исчезла, и с наступлением теплой погоды женщины вновь пошли на Маркасский террикон за углем. Скоро в круглых печках весело запылал огонь, и детям уже не надо было целыми днями лежать в кровати. Винсент снова открыл Детский Зал. На первую проповедь собрался весь поселок. Печальные глаза углекопов вновь лучились улыбками, люди немного приободрились. Декрук, добровольно взявший на себя обязанности постоянного истопника и привратника Зала, отпускал шутки и остроты насчет печки и энергично потирал свою проплешину. – Грядут добрые времена, – радостным голосом говорил Винсент с кафедры. – Господь бог послал вам испытание, и вы доказали свою веру. Самые горькие наши беды и страдания позади. В полях скоро заколосятся хлеба, солнце будет согревать вас, когда вы присядете отдохнуть перед своими домами после трудового дня. Дети будут слушать песню жаворонка и пойдут в лес по ягоды. Обратите ваш взор к господу, ибо он готовит вам радости в жизни. Господь бог милостив. Господь бог справедлив. Он воздаст вам за веру и терпение. Возблагодарим же господа, ибо добрые времена не за горами. Грядут добрые времена! Углекопы горячо молились, благодаря господа. Зазвучали радостные голоса, все говорили друг другу: – Господин Винсент прав. Наши страдания позади. Зима прошла. Грядут добрые времена! Спустя несколько дней, когда Винсент с целой ватагой детей рылся на горе в терриле, он увидел, как от здания, где помещался подъемник, метнулись прочь маленькие черные фигурки людей и рассыпались по полю во все стороны. – Что такое? – удивленно сказал Винсент. – Неужто уже три часа? По солнышку еще нет и полудня. – Случилось несчастье! – крикнул старший из ребят. – Я уже раз видел, как они бежали от шахты. Что—то неладно под землей! Вместе с детьми Винсент бросился вниз с горы, – камни царапали им руки, рвали одежду. Все поле вокруг Маркасской шахты, как муравейник, кишело черными фигурками, – люди спасались от опасности. К тому времени, когда Винсент оказался близ шахты, сюда уже хлынул людской поток из поселка: в поле со всех ног бежали женщины, детей они несли на руках или тащили за собой. Добежав до ворот шахты, Винсент услышал, как кругом кричали: «Газ! Газ! В новой штольне! Они пропали! Они в западне!» Жак Верней, который во время холодов слег в постель, теперь несся по полю что было духу. Он страшно исхудал, грудь его впала еще больше. Поравнявшись с ним, Винсент спросил: – Скажите, что происходит? – Штрек Декрука! Помните голубое пламя? Я знал, что это кончится взрывом! – Сколько там людей? Сколько? Как их спасти? – Вы ведь видели, там двенадцать забоев. По пять человек в каждом. – Можем ли мы что—нибудь сделать? – Не знаю. Сейчас соберу спасательную команду из добровольцев. – Возьмите меня. Я тоже хочу помочь. – Нет, нет. Мне нужны опытные люди. – Жак кинулся через двор к подъемной клети. К воротам шахты подкатила телега, запряженная белой лошадью. Сколько уж раз отвозили с шахты в поселок мертвецов и калек на этой телеге с белой лошадью! Углекопы, разбежавшиеся по полю, стали разыскивать в толпе свои семьи. Одни женщины истерически кричали, другие, глядя прямо перед собой широко раскрытыми глазами, шагали молча, ребятишки плакали. Надсадными голосами кого—то выкликали десятники, собирая спасательные команды. Вдруг шум и крики смолкли. Несколько человек, медленно спускаясь по лестнице, вышли на двор, неся на руках что—то завернутое в одеяло. Минуту стояла жуткая тишина. Потом толпа закричала и завыла. – Кого это понесли? Живы ли они? Или умерли? Ради бога, покажите их нам! Назовите имена! Под землей мой муж! Мои дети! В тех забоях было двое моих детей! Люда, вышедшие из подъемника, остановились у телеги с белой лошадью. Один из них, обращаясь к толпе, сказал: – Трое откатчиков, которые со своими вагонетками оказались в стороне от взрыва, спасены. Но их здорово обожгло. – Кого спасли? Бога ради, скажите, кого спасли? Покажите их! Покажите! Мой сын под землей! Мой сын, мой сын! Спасатель, откинув одеяло, открыл обожженные лица двух девочек – им было лет по девять – и десятилетнего мальчугана. Все трое были без сознания. С криком, в котором звучали одновременно ужас и радость, к ним бросились родные. Затем их уложили на телегу с белой лошадью и по тряской дороге повезли через поле. Винсент и родственники пострадавших, тяжело дыша, бежали рядом с телегой. Винсент слышал, как толпа сзади выла и причитала все громче и громче. Он оглянулся и увидел позади, на горизонте, вереницу террилевых пирамид. – Черный Египет! – воскликнул он, давая выход своему горю и отчаянию. – Черный Египет, в котором снова томился в рабстве избранный богом народ! О господи, как мог ты это допустить? Как ты только мог? Спасенные девочки и мальчик едва не умерли от ожогов, на головах у них не осталось ни единого волоса, с лица и рук слезла кожа. Винсент зашел в хижину, куда перенесли с телеги одну девочку. Мать плакала и ломала руки. Винсент раздел ребенка и крикнул: – Растительного масла, живо! У женщины нашлось немного масла. Винсент смазал ожоги. – Теперь повязку! Женщина с ужасом смотрела на него и молчала. – Повязку! – сердито повторил Винсент. – Или вы хотите, чтобы ребенок умер? – У нас ничего нет, – рыдая, проговорила женщина. – В доме не найти ни одной белой тряпки. С самой осени! Девочка металась и стонала. Винсент скинул пальто и обе рубашки, верхнюю и нижнюю. Пальто он снова надел прямо на голое тело, а рубашки разорвал на длинные лоскуты и перевязал ими девочку с головы до ног. Прихватив банку с растительным маслом, он побежал ко второй девочке и тоже перевязал ее. Мальчугана перевязать было уже нечем. Он был при смерти. Винсент перевязал его, разорвав свои шерстяные кальсоны. Плотно запахнув пальто на голой груди, он пошел через поле к Маркассу. Еще издали до него донеслись вопли и плач матерей и жен. Углекопы толпились у ворот шахты. Под землю можно было спустить только одну спасательную команду – слишком узок был проход к месту катастрофы. Спасатели стояли без дела, ожидая своей очереди. Винсент заговорил с одним из десятников: – Есть ли надежда на спасение? – Боюсь, что они там уже умерли. – Можно ли до них добраться? – Их завалило породой. – Сколько же потребуется времени, чтобы разобрать завал? – Не одна неделя. А может быть, и не один месяц. – Но почему? Почему же? – Быстрее нельзя. – Тогда они наверняка погибнут! – Их там пятьдесят семь мужчин и девушек! – Все погибнут, все до одного! – Да, мы их уж больше не увидим! Спасательные команды, сменяя друг друга, работали тридцать шесть часов без перерыва. Отогнать от шахты женщин, у которых под землей были мужья и дети, так и не удалось. Им говорили, что всех шахтеров непременно спасут, но женщины хорошо знали, что это неправда. Те, кого беда не коснулась, несли своим несчастным соседкам горячий кофе и хлеб, но никто не притрагивался к пище. В полночь из шахты вытащили Жака Вернея, завернутого в одеяло. У него было сильное кровотечение. К утру он скончался. Когда минуло двое суток, Винсент уговорил жену Декрука уйти с детьми домой. Спасатели двенадцать дней не прекращали работу. Добыча остановилась. Поскольку уголь на—гора не выдавался, денег никому не платили. Те скудные франки, которые были отложены у шахтеров на черный день, быстро иссякли. Мадам Дени продолжала печь хлеб и раздавала его хозяйкам в кредит. Средства у нее кончились, и ей грозило полное разорение. Компания углекопам ничем не помогала. На тринадцатый день было приказано прекратить спасательные работы и возобновить добычу угля. К тому времени во всем Малом Ваме не осталось ни одного сантима. Углекопы объявили забастовку. Винсент получил жалованье за апрель. Он сходил в Вам, купил на пятьдесят франков провизии и разделил ее между шахтерами. Этого хватило углекопам на шесть дней. Потом им пришлось бродить по лесам и собирать в лесу ягоды и коренья. Люди охотились за любой живностью – за крысами, сусликами, улитками, лягушками, ящерицами, кошками и собаками, только бы чем—нибудь набить желудок и заглушить постоянный мучительный голод. Скоро во всей округе не осталось ни кошек, ни крыс. Винсент написал в Брюссель, моля о помощи. Ответа не последовало. Углекопы вынуждены были сидеть сложа руки и смотреть, как их жены и дети умирают с голоду. Однажды они попросили Винсента отслужить службу за упокой пятидесяти семи душ, погибших во время катастрофы. Около ста мужчин, женщин и детей толпились в его маленькой хижине и у дверей. Винсент уже несколько суток жил на одном кофе. Со дня взрыва он почти ничего не ел. Он уже не мог стоять на ногах. Его трясла лихорадка, в душе царили мрак и отчаяние. Глаза у него сузились, чернея в орбитах, словно булавочные острия, скулы торчали, все лицо заросло грязной рыжей бородой. Он кутался в грубую мешковину, заменявшую ему и белье, и верхнюю одежду. Лачугу тускло освещал фонарь, подвешенный на сломанной балке. Положив голову на руку, Винсент лежал в углу на соломе. На стенах трепетали причудливые тени, на измученные, исстрадавшиеся лица углекопов падал мерцающий отблеск. Винсент начал говорить слабым, сиплым голосом, но в тишине было слышно каждое его слово. Чернолицые, худые, изнуренные голодом и невзгодами люди смотрели на него, как на самого бога. Увы, бог был слишком далек от них. Вдруг откуда—то снаружи донеслись чужие взволнованные голоса. Дверь отворилась, и детский голосок крикнул: – Господин Винсент здесь! Винсент оборвал свою речь. Все повернули головы к двери. В хижину вошли два хорошо одетых человека. Фонарь на мгновение ярко вспыхнул, и Винсент уловил на лицах вошедших выражение испуга и ужаса. – Привет вам, преподобный де Йонг и преподобный ван ден Бринк, – сказал он, не вставая с места. – Мы служим заупокойную по пятидесяти семи углекопам, которые заживо погребены в шахте. Может быть, вы скажете людям слово утешения? Прошло довольно много времени, прежде чем ошеломленные священники обрели дар речи. – Позор! Какой позор! – воскликнул де Йонг, звонко хлопнув себя по толстому брюху. – Можно подумать, что мы в африканских джунглях! – злобно сказал ван ден Бринк. – Один бог знает, сколько вреда он тут натворил! – Понадобятся годы, чтобы вернуть этих людей в лоно христианской церкви! – Де Йонг скрестил руки на животе и добавил: – Я говорил вам, что не надо было давать ему назначения! – Да, конечно... но Питерсен... Кто бы мог подумать?.. Этот человек воистину сошел с ума. – Я с самого начала заподозрил, что он помешанный. Мне он никогда не внушал доверия. Священники изъяснялись на чистейшем французском языке и говорили быстро, так что боринажцы не поняли ни слова. Винсент же был слишком слаб и болен, чтобы уяснить себе все значение их разговора. Де Йонг, расталкивая людей своим толстым брюхом, подошел вплотную к Винсенту и злобно прошипел: – Гоните этих грязных собак по домам! – А заупокойная?.. Мы еще не кончили... – Плевать на заупокойную. Гоните их в шею, я вам говорю! Углекопы, не понимая, в чем дело, начали медленно расходиться. – Боже, до чего вы себя довели! – напустились на Винсента преподобные. – И что вы только думаете, совершая богослужение в таком вертепе? Ведь это же варварство! Какой—то новый языческий культ! Есть ли у вас хоть малейшее чувство приличия? Разве мыслимо так вести себя христианскому проповеднику? Или вы совсем спятили? Вы, наверно, хотите опозорить нашу церковь? Преподобный де Йонг умолк на минуту и оглядел убогую, темную хижину Винсента, его соломенное ложе, мешковину, в которую он кутался, и его воспаленные, ввалившиеся глаза. – Счастье для нашей церкви, господин Ван Гог, – сказал он, – что мы вам дали лишь временное назначение. Можете считать себя свободным. И нового назначения от нас уже не ждите. Вы вели себя постыдно и возмутительно. Жалованья вы больше не получите, а ваше место сейчас же займет другой. Если бы я не считал вас сумасшедшим, достойным жалости, я сказал бы, что вы злейший враг христианства, какого только знала евангелистская церковь Бельгии! В хижине воцарилась—тишина. – Ну, господин Ван Гог, что можете вы сказать в свое оправдание? Винсент вспомнил тот день в Брюсселе, когда эти священники отказались дать ему место проповедника. На душе у него стало так пусто, что он не мог вымолвить ни единого слова. – Что ж, пойдемте, брат де Йонг, – сказал ван ден Бринк после долгого молчания. – Нам здесь нечего делать. Случай безнадежный, тут ничем не поможешь. Если в Ваме мы не найдем приличной гостиницы, то сегодня же придется ехать в Монс.16
Наутро к Винсенту пришла группа пожилых углекопов. – Теперь, когда не стало Жака Вернея, – сказали они, – мы можем довериться только вам, господин Ван Гог. Скажите, что нам делать? Мы не хотим подыхать с голоду. Может быть, вы убедите их посчитаться с нашими требованиями. Поговорите с ними, и если вы потом скажете, что нам надо выйти на работу, мы выйдем. А если скажете, что надо подыхать, то мы подохнем. Мы послушаемся только вас, господин Ван Гог, и никого другого. В конторе «Шарбонаж бельжик» было мрачно и пусто. Директор охотно принял Винсента и выслушал его с самым сочувственным видом. – Я знаю, господин Ван Гог, шахтеры возмущены тем, что мы не откопали мертвых. Но что толку, если бы мы их откопали? Компания решила не разрабатывать больше этот пласт, он не окупает расходов. Нам пришлось бы копать, может, целый месяц, а каков результат? Выкопали бы людей из одной могилы, чтобы зарыть их в другую. Только и всего. – Ну, а как насчет живых? Неужели вы не можете ничего сделать, чтобы улучшить условия труда в шахте? Неужели они должны работать всю жизнь под непрестанной угрозой смерти? – Да, господин Ван Гог, должны. К сожалению, должны. У компании нет средств на усовершенствование техники безопасности. Рабочие это дело неизбежно проиграют, им ничего не добиться, ибо против них железные законы экономики. И хуже всего то, что если они не выйдут на работу еще неделю, Маркасская шахта вообще закроется. Один бог знает, как тогда будут жить рабочие. Винсент шел по извилистой дороге к Малому Ваму в полном отчаянии. « Да, может быть, бог и знает, – с горечью говорил он себе, – а что, если и он не знает, – как же тогда?» Ему было ясно, что углекопам он больше не нужен. Он должен сказать им, чтобы они снова спустились в эту преисподнюю а работали там по тринадцать часов в сутки за голодный паек. Снова они окажутся лицом к лицу со смертью, которая постоянно подстерегает их. А те, кто избежит гибели под землей, будут медленно угасать, став жертвой чахотки. Он не сумел помочь им, как ни старался. Даже господь бог не мог им помочь. Он приехал в Боринаж, чтобы вложить им в сердца слово божье, но что сказать им теперь, когда он увидел, что извечный враг углекопов – не шахтовладельцы, а сам всемогущий? В тот час, когда. Винсент сказал углекопам, чтобы они шли на работу и снова надели на себя ярмо рабства, в тот самый час он потерял в их глазах все, он стал для них бесполезен. Он уже не мог больше выступать с проповедью, даже если бы евангелический комитет и разрешил ему это, ибо какой толк был теперь рабочим в Писании? Господь был неумолимо глух к ним, а Винсент оказался не в состоянии смягчить его. И внезапно Винсент понял нечто такое, что он, по существу, знал уже давным—давно. Все эти разговоры о боге – детская увертка, заведомая ложь, которой в отчаянии и страхе утешает себя смертный, одиноко блуждая во мраке этой холодной вечной ночи. Бога нет. Ведь это проще простого. Бога нет, есть только хаос, нелепый и жестокий, мучительный, слепой, беспросветный, извечный хаос.17
Углекопы вышли на работу. Теодор Ван Гог, которому обо всем сообщил евангелический комитет, прислал Винсенту деньги и письмо, прося его возвратиться в Эттен. Вместо этого Винсент перебрался из своей лачуги обратно к Дени. Он сходил в Детский Зал, попрощался с ним, снял со стены все гравюры и перенес их в свою комнатку наверху. Вновь он пережил банкротство, и теперь надо было подвести итог. Но итог был неутешительный. У него не было ничего – ни работы, ни денег, ни здоровья, ни сил, ни мыслей, ни желаний, ни душевного пыла, ни честолюбивых устремлений и, самое главное, не стало опоры, на которой держалась бы его жизнь. Ему было двадцать шесть лет, в пятый раз он потерпел неудачу и уже не чувствовал в себе мужества начать все с начала. Он поглядел на себя в зеркало. Лицо обросло чуть вьющейся рыжей бородой. Волосы поредели, сочные губы высохли и сузились, вытянувшись в ниточку, а глаза ушли глубоко—глубоко, словно спрятались в темные пещеры. Все, что когда—то было Винсентом Ван Гогом, как бы сжалось, застыло, оцепенело, почти умерло. Он попросил у мадам Дени кусочек мыла и, стоя в тазу, тщательно вымылся с головы до ног. Какой он худой и изможденный, как истаяло его большое, могучее тело! Он аккуратно выбрился и пришел в изумление, увидев, как неожиданно и нелепо выступили у него на лице кости. Впервые за много месяцев он причесал волосы так, как причесывал когда—то. Мадам Дени подала ему верхнюю рубашку своего мужа и смену белья. Винсент оделся и сошел в уютную кухню. Вместе с супругами Дени он сел обедать: горячей домашней пищи он не пробовал со времени взрыва на шахте. Самая мысль о еде вызывала у него удивление. Ему казалось, что он жует горячую кашицу из древесных опилок. Хотя он ни слова не сказал углекопам о том, что ему запрещено выступать с проповедями, никто и не просил его об этом; видимо, теперь они не нуждались в проповедях. Винсент редко разговаривал с ними. Он теперь вообще редко разговаривал с людьми. Разве что скажет при встрече «добрый день», вот и все. Он не заходил больше в хижины углекопов и не интересовался их жизнью. Рабочие, о чем—то безотчетно догадываясь, по молчаливому уговору даже не упоминали его имени. Они видели, что он чуждается их, но никогда не осуждали его за это. В душе они понимали, что с ним творится. И жизнь в Боринаже шла своим чередом. Винсент получил из дома известие, что скоропостижно скончался муж Кэй Вос. Но он был в таком душевном упадке, что известие это затерялось где—то в самой глубине его сознания. Проходили недели. Винсент жил в каком—то оцепенении – ел, спал, сидел, уставясь глазами в пространство. Лихорадка беспокоила его теперь все реже и реже. Он начал набираться сил, прибавлять в весе. Но глаза у него были по—прежнему остекленевшие, как у трупа. Наступило лето – черные поля, трубы, терриконы заблестели под ярким солнцем. Винсент часто выходил на прогулку. Он шел не для того, чтобы проветриться, не ради удовольствия. Он шел, сам не сознавая куда и ничего не замечая вокруг. Шел лишь потому, что уставал лежать, сидеть, стоять на месте. А когда он уставал от ходьбы, то опять сидел, или лежал, или стоял. Вскоре после того, как у него вышли все деньги, он получил письмо из Парижа от Тео; брат уговаривал его не тратить попусту время в Боринаже, а воспользоваться той суммой, которую он прилагал к письму, и предпринять решительные шаги, чтобы вновь найти свое место в жизни. Винсент отдал деньги мадам Дени. Он остался в Боринаже не потому, что ему нравилось здесь, а потому, что ехать было некуда; кроме того, чтобы сдвинуться с места, требовалось слишком большое усилие. Он потерял бога и потерял себя. А теперь он потерял и самое дорогое на земле, единственного человека, который всегда был дорог и близок ему, который понимал его так, как Винсент мечтал, чтобы его понимали. Тео забыл своего брата. Всю зиму от него приходили письма, одно или два в неделю, пространные, живые, бодрые письма, в которых сквозил интерес к Винсенту. Теперь писем больше не было. Тео тоже потерял веру в него, он не питал больше никаких надежд. Винсент был одинок, бесконечно одинок, у него не осталось теперь даже господа бога – он бродил как мертвец, один во всем мире, недоумевая, почему он все еще здесь.18
Вслед за летом незаметно наступила осень. Умерла скудная боринажская зелень, но в душе Винсента что—то ожило. Он не мог еще трезво взглянуть на свою собственную жизнь, но чужая жизнь уже начала его интересовать. Он взялся за книги. Чтение всегда доставляло ему чудесную радость, а теперь, читая рассказы о чужих победах и поражениях, чужих страданиях и радостях, он забывал о собственной катастрофе. Когда позволяла погода, он шел в поле и читал там целыми днями; в дождь он читал у себя, лежа в постели или сидя в кресле на кухне Дени, читал по многу часов не отрываясь. Так вникал он в жизнь сотен таких же, как он, обыкновенных людей, которые боролись, одерживая маленькие победы и терпя большие поражения, и мало—помалу перед ним самим начала маячить какая—то цель. Он уже не твердил себе постоянно одно и то же: «Я неудачник! Неудачник! Неудачник!», он спрашивал себя: «Что мне делать сейчас? К чему я больше всего пригоден? Где мое истинное место в этом мире?» В каждой книге, которая попадала ему в руки, он искал ответа, как ему дальше быть, к чему стремиться. Из дома ему писали, что та жизнь, которую он ведет, ужасна; по словам отца, он, Винсент, стал праздным бродягой, бросил вызов общепризнанным приличиям и морали. Когда же он снова возьмется за дело, начнет работать и добывать свой хлеб, станет полезным членом общества и внесет свою лепту в общий труд на земле? Увы, Винсент сам бы хотел получить ответ на этот вопрос. В конце концов он пресытился чтением и уже не мог взять книгу в руки. В первые недели после своего поражения он был слишком подавлен, слишком разбит, в его душе не осталось места ни для каких чувств. Потом он заглушал свои чувства и мысли чтением. Он уже почти выздоровел, и поток страданий, как бы запруженный в нем на целые месяцы, вырвался на волю и, бушуя, захлестнул все его существо горем и отчаянием. Доводы ума уже не успокаивали его. Он пережил самую тяжкую пору в своей жизни и сам сознавал это. Он чувствовал, что в нем есть что—то ценное, что он не последний глупец, не ничтожество, что и он может принести какую—то, пусть маленькую, пользу людям. Но как? Для обычной деловой карьеры он не годился, а все, к чему у него была склонность, он уже испробовал. Неужели он обречен на одни только неудачи и страдания? Неужели жизнь его уже кончена? Эти вопросы напрашивались сами собой, но на них не было ответа. Винсент жил словно в полусне. Близилась зима. Отец время от времени приходил в негодование и переставал высылать деньги; тогда Винсент отказывался от обедов у Дени и садился на голодный паек. Тут просыпалась совесть у Тео, и он присылал небольшую сумму через Эттен. Потом терпение Тео лопалось, но подоспевала помощь от отца, внезапно проявлявшего родительскую заботу. В промежутки же Винсенту приходилось есть через день. Однажды в ясный ноябрьский день Винсент бродил около Маркасской шахты, бродил праздно, без единой мысли в голове, а потом присел на ржавое железное колесо у кирпичной стены неподалеку от шахты. Из ворот вышел старый углекоп, черная кепка была у него низко надвинута на глаза, руки засунуты в карманы, плечи ссутулились, костлявые колени дрожали. Что—то в этом человеке безотчетно привлекло Винсента. Бездумно, без всякой цели, он опустил руку в карман, вытащил огрызок карандаша и письмо из дома и на обратной стороне конверта быстро набросал маленькую фигурку человека, бредущего по черному полю. Потом он вынул из конверта отцовское письмо – одна сторона листа была чистая. Через несколько минут из ворот шахты вышел еще один углекоп, молодой парень лет семнадцати. Он был выше старика, держался прямее, и в очертании его плеч, когда он зашагал вдоль кирпичной стены к железнодорожным путям, чувствовалась какая—то бодрость. Винсент рисовал несколько минут, пока парень не скрылся из виду.19
У Дени Винсент нашел пачку чистой бумаги и толстый карандаш. Он разложил на столе свои наброски и начал перерисовывать их. Пальцы не гнулись и не слушались его, он никак не мог нанести на бумагу такую линию, какую ему хотелось. Он пускал в ход резинку чаще, чем карандаш, но все– таки не бросал свою затею. Он был так увлечен, что не заметил, как наступили сумерки. Когда мадам Дени постучала в дверь, он изумился. – Господин Винсент, ужин на столе, – сказала мадам Дени. – Ужин! – отозвался Винсент. – Даже не верится, что уже так поздно! За столом он оживленно разговаривал с супругами Дени, и в глазах его появился былой блеск. Дени многозначительно переглянулись. Быстро отужинав, Винсент извинился и тотчас ушел к себе в комнату. Там он зажег керосиновую лампу, приколол к стене свои рисунки и отошел подальше, чтобы взглянуть на них в перспективе. – Плохо, – вполголоса сказал он, пристально вглядываясь в рисунки. – Очень плохо. Но, может быть, завтра я сумею нарисовать лучше. Винсент лег на кровать, поставив горящую лампу на полу у изголовья. Он все смотрел и смотрел на свои рисунки, ни о чем не думая, потом перевел взгляд на гравюры, висевшие тут же на стене. Он увидел эти гравюры, в сущности, в первый раз после того, как семь месяцев назад унес их из Детского Зала. И вдруг он понял, что тоскует по картинам. Было время, когда он знал, кто таксе Рембрандт, Милле, Жюль Дюпре, Делакруа, Марис. Он припомнил все чудесные репродукции, которые когда—то принадлежали ему, все литографии и гравюры, которые он посылал Тео и родителям. Он представил себе все великолепные полотна, какие ему довелось видеть в музеях Лондона и Амстердама, и, размышляя об этих чудесах, уже не чувствовал себя несчастным и погрузился в глубокий, освежающий сон. Керосиновая лампа, потрескивая, горела все бледнее и наконец угасла. Проснулся он рано, в половине третьего, свежий и бодрый. Легко спрыгнул с кровати, оделся, взял свой толстый карандаш и писчую бумагу, нашел в пекарне тонкую дощечку и поспешил к Маркасской шахте. Еще до рассвета он устроился на том же ржавом железном колесе и стал ждать, когда пойдут углекопы. Рисовал он торопливо, начерно, стремясь лишь зафиксировать первое впечатление от каждого человека. Через час, когда все углекопы прошли, на его листах было пять фигур с совсем не прорисованными лицами. Винсент поспешно вернулся домой, выпил у себя наверху чашку кофе, а когда совсем рассвело, перерисовал свои наброски. Он пытался придать фигурам боринажцев тот несколько странный и причудливый характер, который он так хорошо чувствовал, но не мог схватить в темноте, когда углекопы быстро проходили мимо. Анатомия в этих набросках была неверна, пропорции гротескны, а рисунок до смешного нелеп. И все же на бумаге получились именно боринажцы, их нельзя было спутать ни с кем другим. Сам дивясь своей беспомощности и неловкости, Винсент разорвал рисунки. Потом он присел на край кровати напротив гравюры Аллебе с изображением старушки, несущей по зимней улице горячую воду и угли, и стал ее копировать. Уловить характер старушки ему удалось, но передать соотношение фигуры и фона – улицы и домов, – он не мог, как ни бился. Винсент скомкал листок, бросил его в угол и примостился на стуле напротив этюда Босбоома, изображающего одинокое дерево на фоне бегущих по небу облаков. Казалось, все тут просто: дерево, клочок глинистой земли, а сверху облака. Но Босбоом был необыкновенно точен и изящен, и Винсент убедился, что именно простые вещи, где требуется предельная сдержанность, обычно труднее всего воспроизвести. Утро пролетело незаметно. Когда у Винсента совсем не осталось бумаги, он обшарил свои пожитки и подсчитал, сколько у него денег. У него было два франка, и, надеясь купить в Монсе хорошей бумаги и, может быть, угольный карандаш, он отправился в путь. До Монса было двенадцать километров. Спускаясь с высокого холма между Малым Вамом и Вамом, он увидел, что из дверей хижин на него смотрят шахтерские жены. К своему обычному «bonjour» он теперь машинально добавил: «Comment ca va?» [как поживаете? (фр.)] В Патюраже, крошечном городке, стоявшем на полпути к Монсу, в окне булочной он увидел красивую девушку. Он Вошел в булочную и купил сдобную булочку за пять сантимов только для того, чтобы полюбоваться на девушку. Поля между Патюражем и Кемом, омытые ливнем, ярко зеленели. Винсент решил еще раз прийти сюда и зарисовать их, когда у него будет зеленый карандаш. В Монсе он купил альбом гладкой желтоватой бумаги, угольные и свинцовые карандаши. Около магазина в ларьке торговали старинными гравюрами. Винсент рылся в них битый час, хотя прекрасно знал, что ничего не купит. Торговец начал разглядывать гравюры вместе с Винсентом, и они долго любовались ими и разговаривали о каждой, словно два добрых приятеля, разгуливающих по музею. – Я должен извиниться перед вами, – сказал под конец Винсент, вдоволь наглядевшись на гравюры. – У меня нет денег, я не могу купить у вас ни листа. Торговец красноречивым галльским жестом вскинул над головой руки. – О, это ровно ничего не значит! Приходите сюда еще, пусть даже без сантима в кармане. Все двенадцать километров до Вама Винсент прошел так, словно совершал приятную прогулку. Солнце закатывалось за иззубренный угольными пирамидами горизонт и кое—где окрашивало края облаков в нежный перламутровый цвет. Винсент приметил, что каменные домики Кема, будто гравюры, созданные самой природой, так и просятся в раму, а поднявшись на холм, почувствовал, каким покоем дышит раскинувшаяся внизу зеленая долина. Сам не зная почему, он был счастлив. На другой день он пошел к Маркасскому террикону и зарисовал девочек и женщин, которые взбирались на гору, выковыривая из ее боков крупинки черного золота. После обеда он сказал супругам Дени: – Пожалуйста, посидите еще минутку за столом. Я хочу кое—что сделать. Он побежал в свою комнату, принес альбом и карандаш и набросал очень похожий портрет своих друзей. Мадам Дени встала и заглянула в альбом через плечо Винсента. – Ах, господин Винсент! – воскликнула она. – Да вы художник! Винсент смутился. – Что вы, – возразил он. – Это только ради забавы. – Нет, это просто чудесно, – настаивала мадам Дени. – Я здесь почти как живая. – Почти! – рассмеялся Винсент. – В том—то и дело, что почти, а не совсем. Домой о своем новом занятии он не писал, прекрасно зная, как там к этому отнесутся. «Ох, Винсент снова чудит! Когда же он возьмется за ум и станет практичнее!» Помимо всего, это новое увлечение имело любопытную особенность: оно как бы касалось его одного и никого более. Он не мог ни говорить, ни писать о своих рисунках. Никогда и ничего Винсент не скрывал так ревниво, как эти наброски; он и мысли не допускал о том, чтобы их увидели чужие глаза. Пусть все в них до последнего штриха лишь жалкое дилетантство – в каком—то смысле они были для него священны. Винсент вновь стал заходить в хижины углекопов, но теперь вместо Библии в руках у него был альбом и карандаш. Однако углекопы были рады ему ничуть не меньше. Винсент рисовал, глядя, как на полу играют дети, как хозяйки, наклонясь, возятся у печек, как семья ужинает после трудового дня. Он зарисовывал в своем альбоме Маркасс с его высокими трубами, черные поля, сосновый лес по ту сторону оврага, крестьян, пахавших в окрестностях Патюража. В непогоду он сидел в своей комнате наверху, копируя висевшие на стене гравюры и свои черновые эскизы, сделанные накануне. Ложась вечером спать, он считал, что день не прошел даром, если одна или две вещи ему удались. А наутро, проспавшись после вчерашнего творческого опьянения, он убеждался, что рисунки плохи, безнадежно плохи. И он без колебания выбрасывал их вон. Винсент избавился от мучительной тоски, он был счастлив потому, что уже не думал о своих несчастьях. Он знал, что стыдно жить на деньги отца и брата, не пытаясь прокормиться собственным трудом, но не слишком заботился об этом и весь отдался рисованию. Через несколько недель, по многу раз перерисовав все свои гравюры, он понял, что, если он хочет совершенствоваться, ему надо побольше копировать, и непременно больших мастеров. Хотя от Тео не было писем вот уже целый год, Винсент, глядя на ворох своих неудачных рисунков, смирил гордость и сам написал брату: "Дорогой Тео! Если я не ошибаюсь, у тебя когда—то были «Полевые работы» Милле. Будь любезен, пришли их мне ненадолго по почте. Дело в том, что я копирую большие этюды Босбоома и Аллебе. Если бы ты взглянул на мои рисунки, то, может быть, остался бы доволен. Пришли все, что у тебя есть, и не беспокойся обо мне. Если только у меня будет возможность продолжать работу, я так или иначе найду свое место. Пишу тебе, оторвавшись от рисунка, очень тороплюсь его кончить. Итак, будь здоров и пришли мне гравюры как можно скорей. Крепко жму твою руку. Винсент". Постепенно у Винсента родилось еще одно желание – ему захотелось поговорить о своей работе с каким—нибудь художником, уяснить себе, что он делает правильно, а что неправильно. Он знал, что его рисунки плохи, но они были слишком дороги ему, чтобы он мог увидеть, в чем их порок. Нужен был чужой, строгий глаз, не ослепленный авторской гордостью. Но к кому он мог обратиться? Это было даже не желание, а настоящий голод, голод еще белее сильный, чем тот, который его одолевал зимой, когда он по неделям сидел на одной воде и хлебе. Ему необходимо было постоянно чувствовать, что на свете есть другие художники, люди, похожие на него, – они бьются над теми же вопросами мастерства, думают о том же, о чем и он: серьезно относясь к работе художника, они по справедливости оценят его рисунки. Винсент знал, что такие люди, как Марис и Мауве, всю свою жизнь отдали живописи. Но здесь, в Боринаже, это казалось невероятным. Однажды, в дождливый день, когда Винсент сидел дома и копировал гравюру, он вдруг припомнил, как преподобный Питерсен у себя в мастерской в Брюсселе предупредил его: «Только не говорите об этом моим коллегам». Вот кто ему нужен! Винсент просмотрел свои рисунки, сделанные с натуры, выбрал углекопа, хозяйку у круглой печки и старуху, собирающую уголь на терриконе, и отправился в Брюссель. В кармане у него было немногим более трех франков. Поэтому ехать поездом он не мог. Пешком до Брюсселя нужно было пройти около восьмидесяти километров. Винсент вышел в тот же день после полудня и шагал весь вечер, всю ночь и большую часть следующего дня. До Брюсселя оставалось еще тридцать километров. Он не останавливаясь пошел бы и дальше, но пришлось заночевать – его ветхие башмаки совсем развалились, из одного уже высовывались наружу пальцы. Пальто, которое он носил в Малом Ваме всю зиму, теперь покрылось густым слоем пыли. Винсент не взял с собою ни гребешка, ни запасной рубашки; поэтому, встав рано утром, он лишь сполоснул лицо холодной водой. Подложив в башмаки картонные стельки, Винсент двинулся дальше. В том месте, где пальцы вылезали наружу, в них больно врезалась кожа башмака; скоро на них выступила кровь. Картон быстро истерся, на ногах вскочили сначала волдыри, потом кровавые мозоли, которые быстро лопнули. Винсенту хотелось есть, пить, он страшно устал, но был несказанно счастлив. Ведь он шел повидаться с художником! Еще засветло он, без единого сантима в кармане, вошел в предместье Брюсселя. Он хорошо помнил, где жил Питерсен, и торопливо шагал по улицам. Люди сторонились его и глядели ему вслед, покачивая головами. Но Винсент не замечал никого, он спешил, не щадя своих окровавленных ног. На звонок вышла дочка Питерсена. Она с ужасом взглянула на грязное, потное лицо Винсента, его спутанные, лохматые волосы, грязное платье, измазанные глиной брюки, черные, стертые в кровь ноги и, взвизгнув, убежала из передней. Вслед за этим на пороге появился сам преподобный Питерсен, он вгляделся в Винсента и не сразу узнал его, затем лицо священника озарилось широкой, сердечной улыбкой. – Винсент, сын мой! – воскликнул он. – Как я рад видеть вас снова! Входите же, входите! Он провел Винсента в мастерскую и усадил в удобное мягкое кресло. Теперь, когда Винсент достиг своей цели, нервы у него вдруг сдали, и он сразу остро почувствовал, что прошел пешком восемьдесят километров, питаясь одним хлебом и сыром. Спина его сгорбилась, плечи поникли, он никак не мог перевести дух. – У одного моего друга поблизости есть свободная комната, Винсент. Не хотите ли привести себя там в порядок и отдохнуть с дороги? – Да, конечно. Я и не подозревал, что так утомился. Питерсен взял шляпу и, не обращая внимания на любопытные взгляды соседей, вышел вместе с Винсентом на улицу. – Сейчас вам, наверное, лучше всего в постель, – сказал он Винсенту на прощание. – А завтра в двенадцать приходите ко мне обедать. Нам обо многом надо поговорить. Винсент хорошенько вымылся, стоя в железном тазу, и, хотя было всего шесть часов, лег спать голодный. Проспал он до десяти утра, да и то проснулся лишь потому, что в пустом желудке словно стучал какой—то железный молот. Он попросил у хозяина бритву, гребень, платяную щетку и старательно привел в порядок всю свою одежду, но с башмаками ничего поделать было нельзя. За обедом Питерсен непринужденным тоном рассказывал брюссельские новости, а Винсент без стеснения набросился на еду. После обеда они перешли в мастерскую. – О, вы, я вижу, немало поработали, не правда ли? На стенах много новых картин, – заметил Винсент. – Да, теперь я нахожу в живописи гораздо больше удовольствия, чем в проповедях, – отозвался Питерсен. – Скажите, вас не мучит порой совесть, что вы отрываете столько времени от своей настоящей работы? – спросил с улыбкой Винсент. Питерсен засмеялся. – А вы не слыхали анекдот о Рубенсе? Он был голландским послом в Испании и имел обыкновение проводить время после полудня в королевском саду за мольбертом. Идет однажды по саду разодетый в пух и прах придворный и говорит: «Я вижу, что наш дипломат иногда балуется живописью». А Рубенс ему в ответ: «Нет, это живописец иногда балуется дипломатией!» Питерсен и Винсент понимающе взглянули друг на друга и расхохотались. Винсент развернул свой сверток. – Я сам сделал несколько набросков, – сказал он, – и три рисунка принес показать вам. Не будете ли вы так любезны сказать мне, что вы о них думаете? Питерсен поморщился, он хорошо знал, что разбирать работу начинающего – задача неблагодарная. Тем не менее он поставил рисунки на мольберт и, отойдя подальше, стал внимательно их разглядывать. Винсент мгновенно увидел свои рисунки глазами Питерсена и с горечью понял, как они беспомощны. – Сразу видно, – сказал, помолчав, Питерсен, – что вы рисовали, стоя слишком близко к натуре. Ведь так? – Да, я не мог иначе. Мне приходилось рисовать по большей части в тесных шахтерских хижинах. – Понятно. Вот почему в ваших рисунках такие огрехи в перспективе. А вы не могли бы найти для работы такое место, где можно стоять подальше от натуры? Вы видели бы ее гораздо яснее, уверяю вас. – Там есть и довольно большие хижины. Я мог бы недорого снять одну из них под мастерскую. – Превосходная мысль. – Питерсен опять умолк, а потом спросил с некоторым усилием: – Вы когда—нибудь учились рисунку? Рисовали лицо по квадратам? Пропорции вы соблюдаете? Винсент покраснел. – Я ничего не умею. Видите ли, меня никто ничему не учил. Мне казалось, что надо только решиться и рисовать, вот и все. – О нет, – грустно возразил Питерсен. – Вам прежде всего необходимо овладеть элементарной техникой, и тогда дело пойдет. Дайте я покажу вам ваши ошибкивот на этом рисунке с женщиной. Он взял линейку, разбил фигуру на квадраты и показал, как искажены у Винсента пропорции, а затем, все время давая пояснения, начал сам перерисовывать голову. Он работал почти целый час, а закончив, отступил на несколько шагов, оглядел рисунок и сказал: – Ну, вот, теперь мы, пожалуй, нарисовали фигуру правильно. Винсент встал рядом с ним и всмотрелся в рисунок. Старуха была нарисована правильно, с соблюдением всех пропорций, в этом сомневаться не приходилось. Но это была уже не жена углекопа, не жительница Боринажа, собирающая терриль. Это была просто женщина, отлично нарисованная женщина, нагнувшаяся к земле. Не сказав ни слова, Винсент подошел к мольберту, поставил рядом с исправленным рисунком рисунок женщины у печки и снова встал за плечом Питерсена. – Гм, – задумчиво хмыкнул тот. – Я понимаю, что вы хотите сказать. Я нарисовал ее по всем правилам, но она потеряла всякую характерность. Они долго стояли рядом, глядя на мольберт. – А вы знаете, Винсент, – внезапно вырвалось у Питерсена, – эта женщина у печки недурна. Право же, совсем недурна. Техника рисунка ужасная, пропорций никаких, с лицом бог знает что творится. Собственно, лица совсем нет. Но вы что—то уловили. Что—то такое, чего я не могу понять. А вы понимаете, Винсент? – Нет, не понимаю. Я просто—напросто рисовал ее такой, какой видел. Теперь к мольберту подошел Питерсен. Передвинув женщину у печки на середину, он снял с мольберта исправленный им рисунок и бросил его в корзинку. – Вы не возражаете? – спросил он Винсента. – Ведь я его, все равно испортил. Питерсен и Винсент сели рядом. Питерсен много раз порывался что—то сказать, но не находил слов и замолкал. – Винсент, – заговорил он наконец, – я удивляюсь самому себе, но должен признаться, что эта женщина мне почти нравится. Сначала она показалась мне ужасной, но есть в ней нечто такое, что западает в душу. – Почему же вы удивляетесь себе? – Да потому, что она не должна мне нравиться. Тут все неправильно, все до последнего штриха! Если бы вы хоть немного поучились в художественной школе, вы бы изорвали этот набросок и начали все снова. А все—таки женщина чем—то меня трогает. Я готов поклясться, что где—то ее видел. – Может быть, вы видели ее в Боринаже? – простодушно спросил Винсент. Питерсен бросил на него быстрый взгляд, чтобы удостовериться, всерьез он говорит или шутит. – Да, пожалуй, так оно в есть. Она ведь у вас безликая. Это не какая– то определенная женщина, а жительница Боринажа вообще. Вы ухватили, Винсент, самый дух, самую душу шахтерских женщин, а это в тысячу раз важнее правильной техники рисунка. Да, мне нравится ваша женщина. Она мне что—то говорит. Винсент ждал, дрожа от волнения. Ведь Питерсен опытный художник, профессионал... Вот если бы он попросил подарить этот рисунок, раз он ему действительно нравится! – Вы не подарите мне его, Винсент? Я с удовольствием повесил бы его на стене. Мне кажется, мы будем с этой женщиной добрыми друзьями.20
Когда Винсент собрался обратно в Малый Вам, преподобный Питерсен дал ему свои старые башмаки и денег на билет до Боринажа. Винсент принял эти деньги, как принимают помощь от друга, расквитаться с которым – лишь дело времени. В поезде Винсент осознал две важные для себя вещи: преподобный Питерсен ни разу не заговорил о неудавшейся духовной карьере Винсента и принял его как своего собрата художника. Ему так понравилась женщина у печки, что он захотел оставить рисунок у себя, а это – главная победа. «Он указал мне путь, – подумал Винсент. – Если ему нравятся мои наброски, значит, они понравятся и другим». Добравшись до дома Дени, Винсент нашел там «Полевые работы», присланные Тео, но при них не было никакого письма. Поездка к Питерсену так ободрила Винсента, что он рьяно принялся за старика Милле. Вместе с альбомом гравюр Тео прислал большие листы рисовальной бумаги, и Винсент за несколько дней скопировал десять страниц из «Полевых работ», покончив с первым томом. Затем, чувствуя, что ему необходимо рисовать обнаженную натуру, а в Боринаже не найти никого, кто согласился бы позировать в таком виде, он написал своему старому другу Терстеху, управляющему галереей Гупиля в Гааге, прося его прислать книгу Барга «Упражнения углем». Тем временем, помня совет Питерсена, он снял за девять франков в месяц шахтерскую хижину на окраине Малого Вама. На этот раз он искал уже не самую худшую, а самую лучшую хижину. В ней был грубый дощатый пол, два больших окна, кровать, стол, стул и печка. Тут было достаточно просторно, чтобы отойти от модели, добиваясь нужной перспективы. Прошлой зимой Винсент так или иначе помог каждой хозяйке, каждому ребенку в Малом Ваме, и теперь никто не отказывался ему позировать. По воскресным дням углекопы заполняли его хижину, и он делал множество быстрых набросков. Углекопов все это забавляло. Они толпились за спиной Винсента и с любопытством смотрели, как он работает. Из Гааги пришла книга «Упражнения углем», и целых две недели Винсент, трудясь с утра до ночи, копировал те шестьдесят этюдов, которые в ней были. Терстех прислал ему также «Курс рисования» Барга, на который Винсент набросился с необыкновенным жаром. Все пять катастроф, пережитые Винсентом в прошлом, теперь были забыты. Творчество наполняло его душу таким восторгом и всегда приносило такое удовлетворение, какого он не знал, даже служа богу. Когда одиннадцать дней у него не было в кармане ни сантима и он был вынужден брать в долг у мадам Дени краюху хлеба, ему и в голову не пришло хоть раз пожаловаться на голод. Не все ли равно, полон или пуст у тебя желудок, если перед тобой такое изобилие духовной пищи? Целую неделю он каждое утро в половине Третьего ходил к Маркасской шахте и на больших листах рисовал углекопов – мужчин и женщин, шедших на работу по тропинке вдоль изгороди из колючего кустарника, – смутные тени, которые, показавшись на несколько минут, тонули в предрассветном сумраке. Фоном для этих фигур он брал огромные надшахтные строения и кучи шлака, едва видневшиеся на темном небе. Когда рисунок бывал закончен, Винсент делал с него копию и отсылал вместе с письмом Тео. Так прошло два месяца. Винсент рисовал от зари до зари, а копировал уже при свете лампы. И вот его вновь охватило желание поговорить с каким– нибудь художником, уяснить себе, верным ли путем он идет; хотя ему и казалось, что он добился кое—каких успехов, развил гибкость руки и зоркость глаза, уверенности в этом у него не было. Теперь ему хотелось встретиться с настоящим мастером, который взял бы его под свое крыло и настойчиво, кропотливо учил бы азам высокого искусства. Ради этого он готов на все: он будет чистить своему наставнику башмаки и десять раз на день подметать мастерскую. Художник Жюль Бретон, картинами которого Винсент восхищался с юности, жил в Курьере, в ста семидесяти километрах от Малого Вама. Винсент купил билет на все свои деньги, а когда билет кончился, шел пешком пять дней, ночуя в стогах сена и выменивая хлеб на свои рисунки. Когда Винсент очутился среди зеленых садов Курьера и увидел новую, только что выстроенную из красного кирпича великолепную мастерскую Бретона, – вся его смелость мигом пропала. Два дня бродил он по городу, но преодолеть свою робость перед строгой, выглядевшей столь неприступной мастерской так и не смог. Измученный, зверски голодный, без сантима в кармане, в башмаках Питерсена, подошвы которых стали угрожающе тонкими, он прошел пешком все сто семьдесят километров до Боринажа. Он добрался до своей хижины совсем больной и подавленный. Ни денег, ни писем не было. Он слег в постель. Отрывая скудные крохи у своих мужей и ребятишек, его выходили шахтерские жены. За время своего путешествия он страшно исхудал, щеки опять провалились, бездонные темно—зеленые глаза горели лихорадочным огнем. Но во время болезни он сохранял ясность мыслей и знал, что снова наступило, время на что—то решиться. Что ему делать с собой? Как жить? Стать учителем или букинистом? Вновь вернуться к торговле, продавать картины? А где жить? В Эттене, с родителями? В Париже, с братом Тео? С дядьями в Амстердаме? Или без конца скитаться всюду, куда забросит случай, и делать все, что заставит судьба? Однажды, когда ему стало лучше, он, опираясь на подушку, сидел в постели и срисовывал «Пекарню в ландах» Теодора Руссо, спрашивая себя, долго ли сможет он предаваться этому безобидному и милому занятию, как вдруг кто—то без стука открыл дверь и тихо вошел в хижину. Это был Тео.21
Время пошло Тео на пользу. В двадцать три года он уже был преуспевающим торговцем картинами в Париже, его уважали и коллеги и родные. Он постиг все светские тонкости, знал, как надо одеваться, как держать себя в обществе, о чем говорить. Одет он был в добротный, наглухо застегнутый черный сюртук с широкими отворотами, обшитыми шелковой тесьмой, подбородок упирался в высокий жесткий воротничок, шея была повязала пышным белым галстуком. Лоб у него был огромный, ван—гоговский, волосы темно—каштановые, черты лица тонкие, почти женственные, глаза задумчиво—мечтательные, овал лица удивительно нежный. Он прислонился к двери хижины и в ужасе смотрел на Винсента. Всего несколько часов назад он был у себя в Париже. Там у него была красивая мебель в стиле Луи—Филиппа, умывальник с полотенцами и мылом, занавеси на окнах, ковры на полу, письменный стол, книжные шкафы, приятные для глаз лампы, красивые обои на стенах. А Винсент лежал на голом грязном матраце, укрытый стареньким одеялом. Стены и пол были здесь из грубых досок, вся мебель состояла из ветхого стола и стула; Он был неумыт, непричесан, его лицо и шея заросли жесткой рыжей бородой. – Здравствуй, Тео! – сказал Винсент. Тео бросился к кровати и заглянул брату в лицо. – Винсент, что с тобой? Ради бега, скажи, что случилось? – Ничего. Теперь все в порядке. Я прихворнул немного. – Но это... это логово! Ты, конечно, живешь не здесь... это не твоя квартира? – Моя. А что особенного? У меня тут мастерская. – О, Винсент! – Тео погладил брата по волосам, комок в горле мешал ему говорить. – Как хорошо, что ты здесь, Тео. – Винсент, скажи, что с тобой творится? Почему ты хворал? Что произошло? Винсент рассказал ему о своем путешествии в Курьер. – Вот оно что, значит, ты совсем обессилел. Ну, а потом, когда ты вернулся из Курьера, ты не голодал? Берег себя? – За мной ухаживали жены углекопов. – Да, но что ты ел? – Тео окинул взглядом хижину. – Где твои запасы? Я их не вижу. – Женщины приносят мне помаленьку каждый день. Несут все, что могут: хлеб, кофе, творог и даже кусочек крольчатины. – Но, Винсент, ты сам знаешь, что на хлебе и кофе не поправишься! Почему ты не купишь яиц, овощей, мяса? – Все это стоит в Боринаже денег, как, впрочем, и в любом другом месте. Тео присел на кровать. – Винсент, ради бога, прости меня! Я не знал. Я и понятия не имел обо всем этом. – Брось, старина, ты сделал для меня все, что мог. Я прекрасно себя чувствую. Через несколько дней я буду уже на ногах. Тео провел рукою по глазам, словно хотел смахнуть с них паутину, мешавшую ему смотреть. – Нет, нет, я не понимал. Я думал, ты... Я ничего не знал, Винсент, ничего не знал... – Ах, пустяки. Все это не важно. Как дела в Париже? Куда теперь едешь? В Эттене был? Тео вскочил на ноги. – Есть в этом проклятом поселке магазины? Можно тут что—нибудь купить? – Можно, только в Ваме, внизу за холмом. Но лучше ты возьми стул и сядь. Мне хочется поговорить с тобой. Боже мой, ведь все это длится уже почти два года! Тео нежно погладил Винсента по лицу. – Прежде всего я начиню тебя самой лучшей едой, какую только можно сыскать в Бельгии. Ты изголодался, Винсент, вот в чем беда. А потом я дам тебе хорошую дозу какого—нибудь лекарства от этой лихорадки и уложу спать на мягкой подушке. Слава богу, что я приехал сюда. Если бы я только знал... Лежи смирно и не шевелись, пока я не приду. Он вышел. Винсент взял карандаш и снова принялся срисовывать « Пекарню в ландах». Через полчаса Тео вернулся в сопровождении двух мальчишек. Он принес простыни, подушку, кучу банок и свертков со снедью. Он постелил на кровать прохладные, чистые простыни в заставил Винсента лечь. – А теперь скажи, как растопить эту печку? – спросил он, сняв свой щегольской сюртук и засучивая рукава. – Вон там бумага и сучья. Сначала разожги их, а потом подбрось угля. – Угля! Ты называешь это углем? – возмутился Тео, с удивлением глядя на грязные комья, выбранные из терриля. – Да, такое у нас топливо. Погоди—ка, я покажу тебе, как надо разжигать печку. Винсент хотел было встать с кровати, но Тео подскочил к нему и закричал: – Болван! Лежи смирно и не шевелись, или мне придется задать тебе хорошую трепку! Винсент улыбнулся – впервые за много месяцев. Улыбка приглушила лихорадочный блеск его глаз. Тео положил пару яиц в один из горшков, насыпал бобов в другой, в третий налил парного молока и стал поджаривать белый хлеб на рашпере. Винсент глядел, как Тео, высоко закатав рукава, хлопочет у печки, и одно сознание, что брат снова около него, было ему дороже всякой еды. Наконец Тео справился со стряпней. Он пододвинул к кровати стол, вынул из саквояжа белоснежное полотенце и разостлал его вместо скатерти. Затем он положил в бобы порядочный кусок масла, отправил туда же сваренные всмятку яйца и вооружился ложкой. – Ну вот, старина, – сказал он, – разевай—ка рот. Один бог знает, как давно ты не ел по—человечески. – Оставь, Тео, – сопротивлялся Винсент. – Я вполне могу есть сам. Тео поддел ложкой яичный желток, поднес его к носу Винсента и сказал: – Открой рот, мальчик, или я залеплю тебе яйцом прямо в глаз! Поев, Винсент откинулся на подушку и вздохнул с чувством глубокого удовлетворения. – Ах, как вкусно! – сказал он. – Я совсем забыл, что на свете есть вкусные вещи. – Теперь уже не забудешь, мой мальчик. – Расскажи мне, Тео, обо всем. Как идут дела у Гупиля? Я изголодался по новостям. – Придется тебе поголодать еще немного. У меня припасено для тебя кое—что, от чего ты сразу заснешь. Выпей и лежи спокойно, пусть еда хорошенько тебя подкрепит. – Но я совсем не хочу спать, Тео. Мне хочется поболтать. Выспаться я могу и потом. – Никто тебя не спрашивает, чего ты хочешь и чего нет. Тебе приказывают. Выпей это, будь умницей. А когда выспишься, я тебе приготовлю чудесный бифштекс с картошкой, и ты сразу выздоровеешь. Винсент проспал до самого вечера и проснулся, чувствуя себя уже гораздо лучше. Тео сидел у окна и разглядывал рисунки брата. Винсент долго молча наблюдал за ним, на душе у него было легко и спокойно. Когда Тео заметил, что Винсент не спит, он встал и широко улыбнулся. – Ну вот! Как ты себя чувствуешь? Лучше? Спал ты довольно крепко. – Что скажешь в моих рисунках? Понравился тебе хоть один? – Погоди, я сперва поджарю бифштекс. Картошку я уже почистил, остается только сварить ее. Он повозился у печки, поднес к постели таз с горячей водой. – Какую взять бритву, Винсент, мою или твою? – Разве нельзя съесть бифштекс, не побрившись? – Ну, нет! И кроме того, к бифштексу нельзя и прикоснуться, если сначала не вымоешь шею и уши да не причешешься как следует. Засунь—ка это полотенце себе под подбородок. Он тщательно выбрил Винсента, умыл его, причесал и одел в новую рубашку, которую тоже достал из саквояжа. – Прекрасно! – воскликнул он, отойдя на несколько шагов и любуясь своей работой. – Теперь ты похож на Ван Тога! – Живей, Тео! Бифштекс подгорает! Тео опять пододвинул стол к кровати и поставил на него толстый, сочный бифштекс, вареную картошку с маслом и молоко. – Черт возьми, Тео, неужели ты думаешь, что я съем весь этот бифштекс? – Разумеется, нет. Половину я беру на себя. Ну, принимайся за дело. Нужно только покрепче зажмурить глаза, и все будет совсем как дома, в Эттене. После обеда Тео набил трубку Винсента парижским табаком. – Закуривай, – сказал он. – Не следовало бы разрешать тебе это, но мне кажется, что настоящий табак принесет скорей пользу, чем вред. Винсент с наслаждением затягивался, потирая время от времени себе щеку теплым, чуть влажным чубуком трубка. А Тео, пуская облачко дыма, задумчиво глядел на шершавые доски стены и видел свое детство в Брабанте. Винсент всегда был для него самым близким человеком на свете, гораздо более близким, чем мать или отец. Благодаря Винсенту все его детство было светлым и чудесным. За этот год в Париже он забыл Винсента, но больше уже никогда его не забудет. Без Винсента ему все время чего—то недоставало. Он чувствовал, что оба они как бы были частью единого целого. Вместе они ясно видели свою жизненную цель, а порознь – заходили в тупик. Вместе они понимали смысл жизни и дорожили ею, а сам он, без Винсента, не раз спрашивал себя, к чему все его старания и все успехи? Надо, чтобы Винсент был рядом, тогда жизнь будет полной. И Винсенту он необходим, ведь Винсент настоящий ребенок. Надо его вытащить из этой дыры, поставить опять на ноги. Надо заставить его понять, что он впустую растрачивает себя, надо как—то встряхнуть его, чтобы он обрел новую цель, новые силы. – Винсент, – сказал он, – подождем день или два, пока ты немного окрепнешь, а потом я заберу тебя домой, в Эттен. Несколько минут Винсент дымил трубкой и не отзывался. Он хорошо понимал, что теперь надо все обсудить самым тщательным образом, и для этого, к несчастью, нет иного средства, кроме слов. Что ж, он постарается раскрыть Тео свою душу. И тогда все уладится. – Тео, а есть ли смысл мне возвращаться домой? Сам того не желая, я стал в глазах семьи пропащим, подозрительным человеком, во всяком случае на меня смотрят с опаской. Вот почему я думаю, что лучше мне держаться подальше от родных, чтобы я как бы перестал для них существовать. Меня часто обуревают страсти, я в любую минуту могу натворить глупостей. Я несдержан на язык и часто поступаю поспешно там, где нужно терпеливо ждать. Но должен ли я из—за этого считать себя человеком опасным и не способным ни на что толковое? Не думаю. Нужно только эту самую страстность обратить на хорошее дело. К примеру, у меня неудержимая страсть к картинам и книгам и я хочу всю жизнь учиться, – для меня это так же необходимо, как хлеб. Надеюсь, ты понимаешь меня. – Понимаю, Винсент. Но любоваться картинами и читать книги – в твои годы всего лишь развлечение. Это не может стать делом твоей жизни. Вот уже пять лет ты не устроен, мечешься от одного к другому. За это время ты опускался все больше и больше. Винсент взял щепоть табаку, растер его между ладонями, чтобы он стал влажным, и набил себе трубку. Но зажечь ее он позабыл. – Это верно, – отвечал он. – Верно, что порой я зарабатывал себе кусок хлеба сам, а порой мне давали его друзья из милости. Это правда, что я потерял у многих людей всякое доверие и мои денежные дела в самом плачевном состоянии, а будущее темным—темно. Но разве это непременно значит, что я опустился? Я должен, Тео, идти дальше по той дорожке, которую выбрал. Если я брошу искать, брошу учиться, махну на это рукой – вот тогда я действительно пропал. – Ты что—то стараешься мне втолковать, старина, но убей меня бог, если я понимаю, в чем дело. Плотно прижимая к табаку горящую спичку, Винсент раскурил трубку. – Я помню те времена, – произнес он, – когда мы бродили вдвоем около старой мельницы в Рэйсвейке. Тогда мы на многое смотрели одинаковыми глазами. – Но, Винсент, ты так изменился с тех пор. – Это не совсем верно. Жизнь у меня была тогда гораздо легче, это правда, но что касается моих взглядов на жизнь – они остались прежними. – Ради твоего же блага мне хочется верить в это. – Ты не думай, Тео, что я отрицаю факты. Я верен себе в своей неверности, меня волнует только одно – как стать полезным людям. Неужели я не могу найти для себя полезного дела? Тео встал со стула, повозился с керосиновой лампой и в конце концов зажег ее. Он налил стакан молока. – Выпей. Я не хочу, чтобы ты опять ослабел. Винсент пил быстро и чуть не захлебнулся. Еще не вытерев губы, он уже снова заговорил: – Наши сокровенные мысли, – находят ли они когда—нибудь свое выражение? У тебя в душе может пылать жаркий огонь, и никто не подойдет к нему, чтобы согреться. Прохожий видит лишь легкий дымок из трубы и шагает дальше своей дорогой. Скажи, что тут делать? Надо ли беречь этот внутренний огонь, лелеять его и терпеливо ждать часа, когда кто—нибудь подойдет погреться? Тео пересел со стула на кровать. – Знаешь, что мне сейчас представилось? – спросил он. – Нет, не знаю. – Старая мельница в Рэйсвейке. – Она была чудесная, эта мельница... Правда? – Правда. – И детство у нас было чудесное. – Ты сделал мое детство светлым, Винсент. Все мои первые воспоминания связаны с тобой. Оба долго молчали. – Винсент, надеюсь, ты понимаешь, – все, что я тут тебе говорил, исходит от родители, а не от меня. Они уговорили меня поехать сюда и постараться убедить тебя вернуться в Голландию и найти службу. Велели тебя пристыдить. – Да, Тео, все, что они говорят, – истинная правда. Только они не понимают, почему я так поступаю, и не видят, как важно то, что я сейчас делаю, для всей моей жизни. Но ведь если я опустился, зато преуспел ты. Если сейчас никто меня не любит, то зато любят тебя. И потому я счастлив. Я говорю тебе это от чистого сердца и буду так говорить всегда. Но мне бы очень хотелось, чтобы ты видел во мне не только неисправимого бездельника. – Забудем об этом. Если я не писал тебе целый год, то это только по небрежности, а не в осуждение. Я верил в тебя, верил неизменно еще с тех дней, когда мы брались за руки и шли по высокой траве через луга Зюндерта. Я и сейчас верю в тебя не меньше. Мне только надо быть около тебя – и тогда, я знаю, что бы ты ни делал, все в конце концов будет хорошо. Винсент улыбался широкой, счастливой улыбкой, как улыбался когда—то в Брабанте. – Какой ты добрый, Тео. Вдруг Тео загорелся жаждой действия. – Послушай, Винсент, давай все решим сейчас же, на месте, без всяких отлагательств. Мне кажется, что за всеми твоими рассуждениями кроется желание чего—то добиться, сделать нечто такое, что принесет тебе счастье и успех. Скажи, старина, о чем же ты мечтаешь? За последние полтора года Гупиль и компания дважды повышали мне жалованье, у меня теперь столько денег, что я не знаю, куда их девать. Если ты хочешь чего—то достичь в нуждаешься в помощи, если ты нашел свое дело в жизни, – скажи прямо, и мы образуем своего рода товарищество. С твоей стороны будет труд, с моей – капитал. А когда дело начнет приносить доход, ты сможешь вернуть мне мой капитал с процентами. Признайся, разве у тебя нет каких—либо планов? Ведь ты, наверно, давно решил, чем ты станешь заниматься в будущем, всю свою жизнь! Винсент взглянул на груду рисунков, которые Тео только что рассматривал у окна. На лице его появилась удивленная улыбка, затем мелькнуло недоверие, словно он еще не осознал, что происходит, потом вспыхнула нескрываемая радость. Изумленно вскинув глаза и открыв рот, он весь засиял, будто подсолнух под жаркими лучами солнца. – Какое счастье! – тихо произнес он. – Именно это я и хотел сказать, но не мог... Тео тоже взглянул на груду рисунков. – Я давно знал, о чем ты мечтаешь, – сказал он. Винсент трепетал от радости, у него было такое чувство, будто он вдруг пробудился от глубокого, долгого сна. – Ты понял это, Тео, раньше меня! Я не смел и думать об этом. Я боялся. Ну, конечно же, у меня есть свое дело, и я не отступлюсь от него. Я всю жизнь стремился к нему, хоть и сам того не подозревал. Когда я учился в Амстердаме и Брюсселе, мне страшно хотелось рисовать, изображать на бумаге все, что я видел. Но я не давал себе воли. Я боялся, что это помешает моему настоящему делу. Настоящее дело! Как я был слеп. В последние годы во мне что—то шевелилось, стремясь вырваться наружу, но я противился, я подавлял в себе это. И вот мне уже двадцать семь, и я ничего не сделал, ровным счетом ничего. Какой же я был идиот и слепец! – Не огорчайся, Винсент. С твоей энергией и решимостью ты сделаешь в тысячу раз больше, чем любой другой начинающий. У тебя впереди целая жизнь. – Лет десять по крайней мере у меня еще есть. За это время я успею сделать кое—что стоящее. – Конечно, успеешь! И можешь жить, где тебе угодно: в Париже, Брюсселе, Амстердаме, Гааге. Только реши, где, и я буду высылать тебе деньги каждый месяц. Пускай на это потребуется много лет, я всегда буду верить и надеяться, пока будешь верить ты. – Ох, Тео, все эти страшные месяцы я чего—то искал, я старался нащупать настоящую цель своей жизни, ее смысл, и не знал этой цели. Но теперь, когда я ее знаю, я никогда больше не паду духом. Понимаешь ли ты, Тео, что это значит? После стольких бесплодных лет я наконец нашел себя! Я буду художником! Непременно буду художником. Я не могу не быть им. Вот почему раньше у меня ничего не выходило – я был не на своем месте. А теперь я нашел дело, которое мне никогда не изменят. О Тео, темница наконец отперта, и это ты, ты распахнул мне двери! – Никто уже не разлучит нас, Винсент! Мы теперь снова вместе, правда? – Да, Тео, на всю жизнь. – А сейчас отдыхай и поправляйся. Через день—два, когда тебе станет лучше, я увезу тебя в Голландию, или в Париж, или куда ты захочешь. Одним прыжком Винсент перемахнул с кровати на середину комнаты. – К черту день—два! – кричал он. – Мы едем сейчас же! Поезд на Брюссель отходит в девять вечера. И он яростно начал натягивать на себя одежду. – Но ты не можешь ехать сегодня, Винсент. Ты болен. – Болен, болен! С этим теперь покончено. В жизни я не чувствовал себя лучше. Живей, Тео, нам нужно добраться до станции за десять минут. Кинь в свой саквояж эти чудесные простыни – и в путь!ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЭТТЕН
1
Тео провел один день в Брюсселе с Винсентом, а затем уехал в Париж. Наступила весна, брабантскне просторы звали и манили к себе, родной дом казался небесным раем. Винсент купил костюм мастерового из грубого черного вельвета, который здесь называли велутином, купил небеленой энгровской бумаги для рисования и с первым же поездом отправился в Эттен, в родительское гнездо. Анна—Корнелия осуждала образ жизни Винсента потому, что видела, как сын мучается и как он несчастен. Теодор осуждал сына совсем из других соображений; не будь Винсент его родным сыном, он попросту отмахнулся бы от него. Он знал, что грешная жизнь Винсента не угодна богу, но в то же время опасался, что бегу будет еще более не угодно, если он пренебрежет своими отеческими обязанностями в бросит сына на произвол судьбы. Винсент заметил, что отец сильно поседел и что веко правого глаза опустилось у него еще ниже. Годы как бы высушили все его черты; убыль эта ничем не восполнялась, так как бороды он не носил, а глаза его уже не говорили, как прежде: «Это я», – а, казалось, спрашивали: «Я ли это?» Мать показалась Винсенту еще более бодрой и обаятельной, чем раньше. С возрастом она не высохла и не ссутулилась, а, напротив, словно распрямилась. Улыбка, затаившаяся в морщинах ее лица около ноздрей в губ, словно бы заранее прощала людям все ошибки и промахи, а большое, широкое, доброе лицо было всегда открыто навстречу красоте земли. Несколько дней все семейство пичкало Винсента едой в всячески опекало его, невзирая на то, что он приехал с пустым кошельком и без всяких видов на будущее. Винсент бродил по вересковым пустошам, среди которых были разбросаны крытые соломой домики, глядя на лесорубов, хлопотавших около поваленного сосняка, лениво прогуливался по дороге до Розендала, мимо Протестантского подворья, напротив которого на лугу стояла мельница и зеленели на кладбище густые вязы. Боринаж уходил все дальше в прошлое, здоровье Винсента крепло, силы возвращались, и вскоре его вновь потянуло к работе. Однажды ранним дождливым утром Анна—Корнелия спустилась в кухню и увидела, что печь уже докрасна раскалилась, а около нее, поставив ноги на решетку, сидит Винсент – на коленях у него лежала почти готовая копия картины «В часы труда». – А, это ты, сынок! Доброе утро, – с удивлением сказала Анна– Корнелия. – Доброе утро, мама. – Винсент ласково поцеловал ее в щеку. – Что ты встал сегодня так рано, Винсент? – Мне захотелось поработать, мама. – Поработать? Анна—Корнелия поглядела сначала на рисунок, потом на горящую печь. – Ты хочешь сказать, что решил растопить печь. Но тебе не стоило беспокоиться из—за этого. – Нет, мама, мне надо рисовать. Анна—Корнелия через плечо Винсента снова взглянула на его рисунок. Ей казалось, что это ребяческая забава; ведь срисовывают же дети картинки из журналов. – Ты собираешься всю жизнь заниматься рисованием, Винсент? – Да, мама. Он рассказал ей о своих планах в о том, что Тео согласен ему помочь. Вопреки ожиданиям, Анна—Корнелия была довольна. Она быстро вышла в свою комнату и вернулась с письмом в руке. – Наш родственник Антон Мауве – художник и зарабатывает кучу денег. Это письмо от сестры пришло всего только позавчера, – Мауве, ты знаешь, женат на ее дочери Йет, – она пишет, что минхер Терстех у Гупиля продает всякую картину Антона за пять или шесть сотен гульденов. – Да, Мауве становится одним из самых известных наших художников. – А сколько надо времени, чтобы сделать одну такую картину, Винсент? – По—разному бывает, мама. На одно полотно уходит несколько дней, а на другое целые годы. – Целые годы! Бог мой! Анна—Корнелия задумалась на минуту, затем спросила: – Можешь ты нарисовать человека так, чтобы было похоже? – Право, не знаю. Наверху у меня есть кое—какие рисунки. Я тебе их покажу. Когда он вернулся, мать, уже в белом кухонном чепчике, ставила на печь чугуны с водой. Бело—голубой кафель, которым были облицованы стены кухни, наполнял ее веселым блеском. – Я готовлю твой любимый творожный пудинг, – сказала Анна—Корнелия. – Помнишь? – Ну, как не помнить, мама! Он неуклюже обнял ее за шею. Мать задумчиво улыбалась. Винсент был ее старшим сыном, ее любимцем; единственное, что омрачало ей жизнь, – это его неудачи. – Хорошо жить дома, у матери? – спросила она. – Замечательно, моя дорогая, – ответил Винсент, шутливо ущипнув ее свежую, хоть и морщинистую щеку. Анна—Корнелия взяла в руки боринажские рисунки и стала внимательно рассматривать их. – Винсент, что же получилось с лицами? – Ничего. А в чем дело? – Ведь у этих людей нет лиц! – Ну да. Меня интересовали лишь фигуры. – Но ты, конечно, можешь нарисовать лица? Я уверена, что здесь, в Эттене, найдется много женщин, которые захотят иметь свой портрет. И на это можно жить. – Да, пожалуй. Но надо дождаться, пока я научусь как следует рисовать. Мать разбила яйца на сковородку с творогом, который она вчера сама приготовила. Она замерла на мгновение, держа в каждой руке по половинке яичной скорлупы, потом повернулась к Винсенту. – Ты хочешь сказать, что, когда начнешь рисовать как следует, твои портреты будут покупать? – Не в этом дело, – отозвался Винсент, быстро водя карандашом по бумаге. – Я должен рисовать как следует, по—настоящему хорошо. Анна—Корнелия некоторое время задумчиво обмазывала пудинг яичным желтком, затем сказала: – Боюсь, что мне этого не понять, сынок. – Да и мне тоже, но все—таки это так, – промолвил Винсент. За завтраком, когда ели пышный золотистый пудинг, Анна—Корнелия передала этот разговор мужу. Она уже не раз тайком обсуждала с ним дела Винсента. – Даст ли тебе это что—нибудь в будущем, Винсент? – спросил отец. – Сможешь ли ты заработать себе на хлеб? – Не сразу, отец. Тео будет помогать мне, пока я не встану на ноги. Когда я научусь рисовать хорошо, я смогу этим прокормиться. Рисовальщики в Лондоне и Париже зарабатывают от десяти до пятнадцати франков в день, а те, которые делают иллюстрации для журналов, получают уйму денег. Теодор испытывал чувство облегчения уже от одного того, что Винсент поставил перед собой хоть какую—то цель и не намерен праздно болтаться, как все эти годы. – Надеюсь, Винсент, что если ты уж возьмешься за эту работу, то не бросишь ее и больше не будешь метаться от одного дела к другому. – С этим покончено, отец. Теперь я не отступлюсь.2
Дожди скоро прошли, и установилась ясная, теплая погода. Винсент брал свой мольберт и рисовальные принадлежности и бродил по округе. Больше всего ему нравилось работать на вересковой пустоши близ Сеппе, но нередко ходил он и к большому болоту у Пассьеварта рисовать водяные лилии. В Эттене, маленьком городке, где все хорошо знали друг друга, люди смотрела на него с подозрением. Здешние жители еще не видали, чтобы кто—нибудь носил черный вельветовый костюм, и приходили в недоумение, видя, как взрослый человек целыми днями бродит в поле с карандашом и бумагой в руках. При встречах с прихожанами отца Винсент, несмотря на свою угловатость и замкнутость, всегда был вежлив, но они упорно сторонились его. Здесь, в этом малолюдном и тихом городишке, его считали страшилищем и чудаком. Все в нем было странно, необычно: его платье, манеры, рыжая борода, слухи о его прошлом, его откровенное безделье и то, что он целыми днями сидит в поле и все время на что—то смотрит. Они не доверяли ему и боялись его уже потому, что он был не похож на них, хотя он не причинял им никакого вреда и желал лишь одного – чтобы они ему не мешали. Винсент и не подозревал, что жители Эттена так невзлюбили его. Однажды он на большом листе рисовал рубку сосняка: на переднем плане он изобразил одинокое дерево, стоявшее на отшибе у ручья. Один из лесорубов время от времени подходил к нему, глядел через плечо на рисунок, бессмысленно улыбался, а потом громко захохотал. Винсент работал над этим рисунком несколько дней, и крестьянин смеялся над ним все более открыто. Винсент решил выяснить, что же его так забавляет. – Вам смешно, что я рисую дерево? – вежливо осведомился он. Лесоруб в ответ опять разразился хохотом и сказал: – Ясное дело, смешно. А ты, должно быть, дурак. Винсент задумался на минуту и спросил: – А был бы я дураком, если бы посадил дерево? Лицо Крестьянина сразу стало серьезным. – Нет, конечно, нет. – А был бы я дураком, если бы стал ухаживать за этим деревом? – Ясное дело, нет. – А если бы я собрал с него плоды? – Ты надо мной просто смеешься! – Ну, а дурак я или нет, если я срублю дерево, как делают вот здесь? – Почему же? Деревья надо рубить. – Значат, сажать деревья можно, ухаживать за ними можно, снимать с них плоды можно, рубить можно, а если я их рисую, то я уже дурак. Правильно ли это? Крестьянин снова ухмыльнулся. – Конечно, ты дурак, коли тратишь время на такое дело. И все говорят, что ты дурак. Вечером Винсент никуда не пошел, семья сидела в гостиной, вокруг большого деревянного стола. Один писал письмо, другой читал, женщины шили. Брат Кор был еще совсем ребенком и редко вмешивался в разговоры. Сестра Анна вышла замуж и жила у мужа. Елизавета относилась к Винсенту с таким пренебрежением, что делала вид, будто его совсем нет в доме. Только Виллемина сочувствовала брату, охотно позировала ему, не искала в нем никаких пороков. Но разделить его духовные интересы она не могла. При ярком свете большой лампы с желтым абажуром, стоявшей посреди стола, Винсент перерисовывал свои наброски, которые сделал за день в поле. Теодор смотрел, как сын рисует одну и ту же фигуру десятки раз и с недовольным видом отбрасывает прочь рисунок за рисунком. Наконец пастор не вытерпел. – Винсент, – сказал он сыну, наклоняясь к нему через стол, – а когда– нибудь у тебя получается как надо? – Нет, – отозвался Винсент. – Тогда боюсь, что ты делаешь большую ошибку. – Я их делаю множество, отец. О какой именно ты говоришь? – Мне кажется, что если бы у тебя был талант, если бы ты и впрямь родился художником, то все получалось бы как надо с первого раза. Винсент взглянул на свой рисунок – крестьянина, который, стоя на коленях, собирал картофель в мешок. Линию руки крестьянина Винсент никак не мог найти, сколько ни бился. – Да, отец, может быть, это и так. – Вот я и говорю, что тебе нет смысла рисовать одно и то же по сто раз без всякого успеха. Если бы у тебя были природные способности, это удалось бы тебе сразу, без всякой мазни. – На первых порах натура всегда оказывает художнику сопротивление, отец, – промолвил Винсент, не выпуская из рук карандаша. – Но если я взялся за это всерьез, то я должен одолеть сопротивление и не поддаваться натуре. Наоборот, надо еще упорнее биться и победить ее. – Не думаю, – сказал Теодор. – Зло никогда не рождает добро, а плохая работа хорошую. – В теологии это, может быть, в так. Но не в искусстве. У искусства свои законы. – Сын мой, ты заблуждаешься. Работа художника может быть либо плохой, либо хорошей. И если она плоха – он не художник. Он должен понять это с самого начала и не тратить времени понапрасну. – Ну, а если художник счастлив, пусть даже работа удается плохо? Что тогда? Теодор старательно перебрал в уме все богословские доводы, но ответа на этот вопрос не нашел. – Нет, – сказал Винсент и стер на рисунке мешок с картошкой, отчего левая рука крестьянина неуклюже повисла в воздухе. – В самой сути природа и истинный художник всегда в согласии. Может быть, потребуются многие годы борьбы и стараний, прежде чем природа подчинится художнику, но в конце концов даже очень плохая работа станет хорошей, и труд оправдает себя. – А если работа все—таки окажется плохой? Ты вот рисуешь этого парня с мешком уже сколько дней, и все без толку. Представь себе, вдруг ты будешь корпеть над ним год за годом, а лучше не сделаешь? Винсент пожал плечами. – Это игра, отец, и художник идет на риск. – А стоит ли такого риска выигрыш? – Выигрыш? Какой же именно? – Деньги. Положение в обществе. Впервые за весь разговор Винсент оторвал глаза от бумаги и вгляделся в лицо отца, вгляделся зорко и пристально, словно перед ним сидел чужой человек. – Но мы, кажется, говорили не об этом, а об искусстве, – сказал он.3
Овладевая мастерством, он работал днем и ночью. Если он и задумывался над своим будущим, то только затем, чтобы представить себе желанный миг, когда он перестанет сидеть на шее у Тео и работа его будет близка к совершенству. Если он уставал от рисования, то садился за книгу. А когда уставал в читать, ложился в постель. Тео прислал Винсенту энгровской бумаги, анатомические рисунки лошади, коровы и овцы, изданные для ветеринарных училищ, несколько рисунков Гольбейна из книги «Образцы графики», карандашей, гусиных перьев, сепии, макет человеческого скелета, истратив на это все свои свободные деньги; вместе с тем он наказывал усердно работать и не быть посредственным художником. На это Винсент ответил: «Сделаю все, что могу, но я вовсе не презираю посредственность в широком смысле этого слова. И, уж конечно, презрение к посредственности нисколько не возвышает художника над ее уровнем. А вот насчет усердной работы ты совершенно прав. „Ни одного дня без линии“, – как советовал нам Гаварни». Винсент все яснее сознавал, что рисование человеческих фигур приносит ему огромную пользу и косвенно помогает в работе над пейзажем. Если, рисуя иву, он смотрел на нее как на живое, существо, – а в конце концов ведь так оно и было, – ему удавалось хорошо передать и весь фон, – надо было только сосредоточить все внимание на этой иве и не отступаться, не бросать работы, пока дерево не оживет. Он очень любил пейзаж, но гораздо больше ему нравились те жанровые наброски, порой поражавшие своим реализмом, которые так мастерски делали Гаварни, Домье, Доре, Де Гру и Фелисьен Ройс. Изо дня в день рисуя с натуры, Винсент надеялся со временем научиться делать иллюстрации для журналов и газет; ему хотелось стать независимым и самому содержать себя в те трудные и долгие годы, пока он усовершенствует свою технику и добьется высших форм художественного выражения. Думая, что сын читает для развлечения, Теодор однажды сказал ему: – Винсент, ты все время твердишь, что тебе надо много работать. Так зачем же ты тратишь время на эти глупые французские книжонки? Винсент сунул закладку между страницами «Отца Горио» и поднял глаза. Он не терял надежды, что когда—нибудь Теодор поймет, как его сын смотрит на серьезные вещи. – Видишь ли, – заговорил он медленно, – чтобы рисовать людей и жанровые сцены, надо не только владеть техникой рисования, но и глубоко изучить литературу. – Признаться, мне это непонятно. Если я хочу произнести хорошую проповедь, мне незачем идти на кухню и смотреть, как твоя мать коптит языки. – Между прочим, – ввернула Анна—Корнелия, – те языки, которые я недавно закоптила, можно будет подать к завтраку. Винсент не стал возражать против такой аналогии. – Я не могу рисовать фигуру человека, не изучив тщательно все его кости, мускулы и сухожилия, – сказал он. – И лицо не могу рисовать, если я не знаю, что творятся в людских душах; Чтобы изображать жизнь, надо разбираться не только в анатомии, надо постичь, что человек чувствует и что он думает о мире, в котором живет. Тот, кто знает только свое ремесло и ничего больше, способен быть лишь очень поверхностным художником. – Ах, Винсент, – тяжко вздохнул Теодор. – Боюсь, что из тебя получится теоретик! Винсент вновь взялся за «Отца Горио». Пришла бандероль от Тео, которая привела Винсента в волнение, – там оказалось несколько книг Кассаня, которые должны были помочь ему как следует овладеть перспективой. Винсент с нежностью перелистал книги и показал их Виллемине. – Лучшего лекарства от моей болезни и не придумаешь, – говорил он сестре. – Если я исцелюсь, то только благодаря этим книгам. Виллемина улыбалась, ласково щуря свои ясные, как у матери, глаза. – Уж не думаешь ли ты, Винсент, – спросил Теодор, подозрительно относившийся ко всему парижскому, – что можно научиться правильно рисовать, читая в книгах рассуждения об искусстве? – Конечно. – Чудеса, да и только. – Точнее говоря, я должен суметь применить прочитанное на практике. Ну, а практика – дело особое, ее вместе с книгами не купишь. Иначе эти книги шли бы нарасхват. Счастливые, полные труда дни текли быстро, наступило лето, и теперь уже не дожди, а зной не давал Винсенту бродить по вересковым пустошам. Он нарисовал Виллемину за швейной машиной, в третий раз перерисовал этюды из книги Барга, пять раз в разных положениях набрасывал фигуру мужчины с лопатой, «Un Becheur» ["Землекоп" (фр.)], дважды нарисовал сеятеля и девушку с метлой. Затем из—под его карандаша появилась женщина в белом чепчике за чисткой картошки, пастух с длинным посохом и, наконец, старый больной крестьянин, – обхватив руками голову и поставив локти на колени, он сидел на стуле у очага. Землекопы, сеятели, пахари, мужчины и женщины, – Винсент чувствовал, что их надо рисовать и рисовать без конца, надо пристальнее вглядываться в сельскую жизнь и закреплять свои наблюдения на бумаге. Он уже не был, как прежде, беспомощен перед лицом природы, и это приносило ему такую радость, какой он дотоле никогда не испытывал. Жители городка по—прежнему сторонились Винсента и смотрели на него как на чудака. Хотя и мать, и Виллемина, и по—своему даже отец выказывали ему свою любовь и всячески баловали сына, в тех тайниках его души, куда никто из обитателей Эттена не мог заглянуть, было пусто и одиноко. А крестьяне со временем полюбили его и прониклись к нему доверием. Винсент находил в них что—то общее с землей, которую они обрабатывали. Именно это он и старался выразить в своих рисунках. Глядя на них, его родные часто не могли сказать, где кончается фигура крестьянина и где начинается земля: Винсент сам не отдавал себе отчета, как это у него выходит, но чувствовал, что рисунки правильны, и этого было достаточно. – Четкой линии, разделяющей человека и землю, не нужно, – сказал он однажды вечером матери, которая вдруг заинтересовалась его работой. – Все это земля в разных видах, которые переходят один в другой, они нераздельны; это две формы единой сущности, отличить их друг от друга почти невозможно. Мать решила, что раз у Винсента нет жены, ей следует взять на себя все заботы о нем и устроить его судьбу. – Винсент, – заявила она сыну как—то утром. – Прошу тебя к двум часам быть дома. Ты не откажешь мне в этом? – Нет, мама. А в чем дело? – Мы пойдем в гости. Винсент был ошеломлен. – Мама, я не могу терять время попусту! – То есть как это попусту? – Да ведь мне надо рисовать, а там рисовать нечего! – Ты ошибаешься. Там будут все важные аттенские дамы. Винсент искоса взглянул на дверь. Еще мгновение, и он бросился бы прочь из дому. Он с трудом взял себя в руки и стал объяснять матери, почему он не может пойти в гости; слова он подбирал с большим трудом. – Как бы это сказать тебе, мама, – начал он. – У этих женщин, что бывают на званых вечерах, нет характерности, а мне необходимы характеры. – Глупости! У них отличные характеры. Никогда не слыхала, чтобы кто– нибудь сказал про них дурное. – Ну, конечно, милая мама, конечно. Я хотел только сказать, что все они похожи друг на друга. Жизнь, которую они ведут, как бы вылепила их на один манер. – Ну, положим, я—то их различаю безо всякого труда. – Да, дорогая, но как бы тебе объяснить... У всех у них такая легкая жизнь, что на лицах не запечатлелось ничего интересного. – Я тебя не понимаю, сынок. Ведь ты рисуешь веяного мастерового или крестьянина, какой только попадется тебе в поле. – Ну, да. – А какая тебе от этого польза? Они бедняки, они ничего не купят. А городские дамы за свои портреты могут хорошо заплатить. Винсент одной рукой обнял мать, а другой взял ее за подбородок. Голубые глаза матери были так ясны и ласковы, в них было столько нежности и любви. Почему же они не могут заглянуть в его душу? – Милая, – сказал он тихо, – прошу, поверь в меня хоть немного. Я прекрасно знаю, что нужно делать, вот потерпи, я добьюсь успеха. Пусть сейчас тебе кажется, будто я корплю над бесполезным делом, – в конце концов я буду получать деньги за свои рисунки и стану прекрасно зарабатывать. Анна—Корнелия стремилась понять сына так же горячо, как тот хотел, чтобы она его поняла. Она прикоснулась губами к жесткой рыжей щетине Винсента, и ей вспомнился тот тревожный день в Зюндерте, когда от ее плоти отделился трепетный комочек, превратившийся в этого сильного, грубоватого мужчину, которого она обнимала теперь. Первый ее ребенок родился мертвым, и долгий требовательный крик, которым Винсент возвестил о своем появлении на свет, наполнил ее счастьем и безграничной благодарностью. Любовь Анны– Корнелии к Винсенту всегда была окрашена печалью о ее первом ребенке, так никогда и не открывшем глаз, и радостью за других, которые родились вслед за Винсентом. – Ты хороший мальчик, Винсент, – сказала она. – Делай как знаешь. Ты сам знаешь, что для тебя лучше. Я хочу лишь помочь тебе. В тот день, вместо того чтобы идти рисовать в доле, Винсент попросил позировать садовника Пита Кауфмана. Пришлось его долго уговаривать, но в конце концов Пит согласился. – После обеда в саду, – сказал он. Когда Винсент вышел в сад. Пит ожидал его, вырядившись в свой воскресный костюм и старательно вымыв руки и лицо. – Минуточку! – с волнением воскликнул он. – Я принесу стул. Тогда можете приступать. Он вынес низенький стул и уселся, прямой, как жердь, будто позируя перед фотоаппаратом. Винсент невольно расхохотался. – Ну, Пит, – сказал он, – я не могу рисовать тебя в таком наряде. Пит с удивлением оглядел себя. – А что, разве штаны не в порядке? Они совсем новые. Я надевал их всего несколько раз по воскресеньям. – Знаю, – отвечал Винсент. – Но это—то и плохо. Мне хотелось нарисовать тебя в старой рабочей одежде, когда ты орудуешь граблями. Тогда становится ясной каждая линия. Мне надо видеть твои локти, колени, лопатки. А теперь я вижу только твой костюм. Услышав о лопатках, Пит заупрямился. – Мои старые штаны грязные и к тому же сплошная рвань. Если хочешь меня рисовать, рисуй как я есть сейчас. Винсенту ничего не оставалось, как снова идти в поле и рисовать крестьян, которые не разгибая спины копали землю. Лето уже кончалось, и он понял, что исчерпал все, чему мог научиться самостоятельно. Он вновь почувствовал желание завязать дружбу с каким—нибудь художником и работать в хорошей мастерской. Да, ему было необходимо смотреть на полотна настоящих мастеров, видеть, как художники работают, – тогда он сможет понять свои недостатки и решить, как же быть дальше. Тео в письмах звал его в Париж, но Винсент сознавал, что ему еще рано отваживаться на такой шаг. Слишком еще грубы, слишком неуклюжи и по– любительски беспомощны его работы. А Гаага всего в нескольких часах езды, там ему поможет друг минхер Терстех, управляющий Гупиля, и родственник Антон Мауве. Может быть, следующую ступень своего долгого и мучительного ученичества ему лучше пройти в Гааге? Он спросил в письме совета у Тео, и тот в ответ выслал деньги на дорогу. Прежде чем переселиться в Гаагу, Винсент решил разузнать, как отнесутся к нему Терстех и Мауве, согласятся ли они помочь; если нет, он поедет в какой—нибудь другой город. Он тщательно упаковал свои рисунки – на этот раз вместе со сменой белья – и отправился в столицу, что было вполне в духе традиций всех молодых провинциальных художников.4
Минхер Герман Гейсберт Терстех был организатором гаагской школы живописи и самым крупным торговцем картинами во всей Голландии. Со всей страны люди, которым нужно было купить картину, приезжали к нему за советом: если минхер Терстех сказал, что полотно достойное, значит, так оно и есть. В то время, когда минхер Терстех сменил дядю Винсента Ван Гога в должности управляющего у Гупиля, все молодые, подающие надежды голландские художники жили кто где, в разных концах страны. Антон Мауве и Йосеф были в Амстердаме, Якоб и Биллем Марисы обретались в провинции, а Йосеф Израэльс, Иоганнес Босбоом и Бломмерс странствовали из города в город, не имея постоянного пристанища. Терстех написал им всем такое письмо: «Почему бы нам не объединить свои силы в Гааге и не сделать ее столицей голландского искусства? Мы сможем помогать друг другу, учиться друг у друга и общими усилиями постараемся возвратить голландской живописи мировую славу, которая по праву принадлежала ей во времена Франса Хальса и Рембрандта». Художники откликнулись не сразу, но постепенно все живописцы, у которых Терстех находил талант, один за другим переезжали в Гаагу. В те годы они не могли продать ни одного полотна. И хотя их картины не пользовались спросом, Терстех опекал этих художников, видя, что у них есть задатки подлинного мастерства. Он начал приобретать произведения Ираэльса, Мауве и Якоба Маркса за шесть лет до того, как ему удалось убедить публику, что они достойны внимания. Шел год за годом, Терстех терпеливо скупал работы Босбоома, Мариса и Нейхейса и складывал их у стены в задней комнате своего магазина. Он был убежден, что этих художников, пока они бьются, овладевая высотами искусства, нужно поддерживать; если голландское общество слишком близоруко, чтобы оценить свои национальные таланты, то он, критик и деловой человек, позаботится, чтобы эти замечательные молодые люди не погибли, задавленные нищетой, безвестностью и неудачами, и дали миру то, что способны дать. Он покупал их полотна, критиковал их работу, знакомил друг с другом и всячески ободрял их все эти тяжелые годы. Изо дня в день он старался развить у голландцев вкус, открыть им глаза, чтобы они наконец увидели всю красоту и силу дарований своих соотечественников. К тому времени, когда Винсент собрался поехать в Гаагу, Терстех уже добился успеха. Мауве, Нейхейс, Израэльс, Якоб и Биллем Марисы, Босбоом и Бломмерс не только продали через Гупиля за большие деньги все свои картины, но вскоре обещали стать классиками. Минхер Терстех был красивый мужчина в староголландском духе: крупные, энергичные черты лица, высокий лоб, каштановые, зачесанные назад волосы, плоская, изящно подстриженная, растущая от самых ушей борода и ясные, серо– голубые, как голландское небо, глаза. Он носил просторный черный сюртук в стиле принца Альберта, широкие, закрывавшие штиблеты брюки в полоску, высокий воротничок и черный галстук, который ему каждое утро завязывала жена. Терстех любил Винсента, и когда юношу перевели в лондонское отделение фирмы Гупиля, он дал ему теплое рекомендательное письмо к тамошнему управляющему. Он выслал Винсенту в Боринаж книги «Упражнения углем» и «Курс рисования» Барга, так как знал, что это принесет молодому художнику пользу. Пока гаагское отделение фирмы Гупиля принадлежало дяде Винсенту Ван Гогу, Винсент мог не сомневаться в расположении Терстеха. Он был не такой человек, которого надо учить, как вести дело. Галерея Гупиля помещалась на Плаатсе, самой аристократической площади Гааги, в доме 20. Отсюда было рукой подать до Гаагского замка, вокруг которого начала строиться Гаага, – тут был и средневековый дворик, и ров, превращенный теперь в прекрасное озеро, а на задах – Маурицхейс, где висели картины Рубенса, Хальса, Рембрандта и малых голландских мастеров. С вокзала Винсент пошел по узенькой, извилистой и многолюдной Вагенстраат, пересек Плейн и Бинненхоф у замка и оказался на Плаатсе. В последний раз он вышел из здания фирмы Гупиля восемь лет назад; волна горечи захлестнула душу и тело Винсента, оглушила его. Восемь лет назад! Тогда все любили его, гордились им. Он был любимым племянником дяди Винсента. Никто не сомневался, что он не только заменит дядю в делах, но и станет его наследником. Он мог бы быть сейчас могущественным и богатым, всеми уважаемым человеком. А со временем он забрал бы в свои руки крупнейшие в Европе картинные галереи. Что же случилось с ним? Он не стал терять времени, раздумывая над этим вопросом, а пересек Плаатс и вошел в здание фирмы. Здесь на всем лежала печать роскоши и утонченности, о которых Винсент уже успел и забыть. В своем черном вельветовом костюме мастерового он сразу почувствовал себя нищим и жалким. Нижний этаж здания целиком занимал огромный салон, задрапированный тяжелыми кремовыми занавесями, над ним был другой салон, поменьше, со стеклянным потолком, а еще выше находилась особая маленькая галерея, только для посвященных. На втором этаже, куда вела широкая лестница, помещалась контора Терстеха и его квартира. Стены над лестницей были сплошь увешаны картинами. Все в галерее говорило о богатстве и высокой культуре. Приказчики были великолепно вымуштрованы и отличались изысканными манерами. Полотна висели в дорогих рамах, на фоне великолепной драпировки. Винсент ощутил под ногами мягкие роскошные ковры, и ему вспомнилось, что стулья, скромно расставленные по углам, – это ценнейшая старинная мебель. Он подумал о своих рисунках, где были изображены оборванные углекопы, выходящие из шахты, их жены, которые, согнувшись, собирают терриль, брабантские землекопы и пахари. Можно ли будет, подумал он, когда—нибудь выставить на продажу его скромные рисунки здесь, в этом пышном дворце искусства? Пожалуй, что немыслимо. Он замер на месте, с восхищением рассматривая голову овцы, написанную Мауве. Приказчики негромко разговаривали между собой у стола с эстампами, и никто из них, взглянув на платье Винсента, не дал себе труда спросить, что ему угодно. Терстех, распоряжавшийся развешиванием картин в маленькой галерее, спустился в главный зал. Винсент не заметил его. Терстех остановился на нижней ступеньке и разглядывал своего бывшего служащего. Ему бросились в глава коротко остриженные волосы, рыжая щетина на щеках, грубые крестьянские башмаки, одежда мастерового, отсутствие галстука и громоздкий узел, зажатый под мышкой. В Винсенте чувствовалось что—то неуклюжее, нескладное, и здесь, в изысканной обстановке салона, это было особенно заметно. – Ну, Винсент, – сказал Терстех, бесшумно ступая по мягкому ковру. – Я вижу, ты любуешься нашими полотнами. Винсент быстро обернулся. – Ах, они просто чудесны! Как поживаете, минхер Терстех? Мои старики просили вам кланяться. И они пожали друг другу руки, протянув их через бездну восьми лет. – Вы прекрасно выглядите, минхер Терстех. Даже лучше, чем в то время, когда я видел вас в последний раз. – Да, годы идут мне на пользу, Винсент. Поэтому я не старею. Ну, пойдем ко мне в кабинет. Винсент последовал за ним по широкой лестнице и все время спотыкался, потому что не мог оторвать глаз от полотен, висевших на стенах. После тех коротких часов, которые он провел вместе о Тео в Брюсселе, он впервые видел настоящую живопись. Он был ошеломлен. Терстех распахнул дверь своего кабинета и пригласил Винсента войти. – Садись, пожалуйста, Винсент, – сказал он, видя, что Винсент не может оторвать глаз от картины Вейсенбруха, которого он до тех пор не знал. Винсент сел, уронив на поя свой узел, поднял его и положил на полированный письменный стол Терстеха. – Я привез вам книги, которые вы так любезно одолжили мне, минхер Терстех. Он развязал узел, отодвинул в сторону рубашку в носки, вынул книгу « Упражнения углем» и положил ее на стол. – Я много работал над рисунком и очень благодарен вам за эту книгу. – Покажи—ка мне твои копии, – сказал Терстех, приступая к главному. Винсент разобрал стопку бумаг и достал те рисунки, которые он сделал в Боринаже. Терстех хранил молчание. Винсент быстро подсунул ему другую серию, сделанную уже в Эттене. Разглядывая ее, Терстех временами неопределенно хмыкал, но не говорил ни слова. Тогда Винсент вынул третью серию рисунков – их он сделал перед самым отъездом в Гаагу. Терстех заинтересовался. – Вот хорошая линия, – сказал он об одном рисунке. – Мне нравится, как ты делаешь тени, – заметил он о другом. – Ты почти что добился того, что надо. – Я и сам чувствую, что это неплохо, – сказал Винсент. Он показал Терстеху уже все свои работы и ждал, что тот скажет. – Да, Винсент, – заговорил Терстех, положив свои длинные, тонкие руки на стол и слегка барабаня по нему пальцами, – ты немного продвинулся вперед. Не слишком, но все же продвинулся. Я было испугался, глядя на твои первые рисунки... Но по ним видно, что ты по крайней мере стараешься. – Стараюсь – и только? Одно старание? И никаких способностей? Винсент знал, что этого вопроса задавать не следует, но он не мог удержаться. – По—моему, о способностях говорить еще рано, Винсент. – Что ж, быть может, это верно. Я привез еще несколько оригинальных рисунков. Не хотите ли посмотреть их? – С удовольствием. Винсент вынул несколько рисунков, изображавших углекопов и крестьян. Воцарилось то жуткое, знаменитое до всей Голландии молчание, после которого молодые художники выслушивали неоспоримый приговор, гласивший, что их работа никуда не годится. Терстех просмотрел все рисунки, даже не издав свое обычное «хмм». У Винсента заныло под ложечкой. Терстех откинулся в кресле и поглядел в окно, где за Плаатсом в пруду плавали лебеди. Винсент по опыту знал, что, если он не заговорит первым, молчание никогда не кончится. – Неужели я ничего не добился, минхер Терстех? – спросил он. – Вам не кажется, что мои брабантские наброски лучше тех, которые сделаны в Боринаже? – Ты прав, – отвечал Терстех, отрываясь от окна, – они лучше. Но хорошими их не назовешь. Есть там что—то неверное в самой основе. А что именно – я сразу не могу и сказать. Мне кажется, тебе лучше какое—то время продолжать копировать. Для оригинальных рисунков ты еще веден. Тебе надо хорошенько усвоить элементарные вещи, а уж потом обратиться к натуре. – Мне хотелось бы пожить в Гааге и поучиться тут. Как по—вашему, это было бы полезно? Терстех не хотел брать на себя никаких обязательств по отношению к Винсенту. Все это казалось ему очень странным. – Гаага, конечно, чудесный город, – сказал он. – Тут и хорошие галереи, и много молодых живописцев. Но, право, я не знаю, чем она лучше Антверпена, Парижа или Брюсселя. Винсент вышел от Терстеха в довольно бодром настроении. Ведь Терстех все же признал некоторые его успехи, а во всей Голландии нет критика придирчивее его. Хорошо уже, что он, Винсент, не стоит на месте. Разумеется, он знает, что его рисунки с натуры далеки от совершенства, но если он будет работать долго и упорно, то, без сомнения, в конце концов добьется своего.5
Гаага, пожалуй, самый опрятный и благопристойный город во всей Европе. Сохраняя истинно голландский дух, она проста, строга и прекрасна. Безукоризненно чистые улицы окаймлены цветущими деревьями, дома изящны и аккуратны, перед каждым домом разбит крошечный цветник с розами и геранями, за которыми любовно ухаживают. Там нет трущоб, нет бедняцких кварталов, ничего, что оскорбляло бы взор; все там проникнуто неумолимой голландской суровостью. Уже с давних времен на официальном гербе Гааги изображался аист. И действительно, население ее с каждым годом росло и росло. Дождавшись следующего утра, Винсент отправился к Мауве на улицу Эйлебоомен, 198. Теща Мауве была из семьи Карбентусов и приходилась сестрой Анне—Корнелии; поскольку родственные связи в этих кругах много значили, Винсента приняли очень ласково. Мауве был крепкий, коренастый мужчина с покатыми плечами и широкой грудью. Как у Терстеха и почти у всех Ван Гогов, в его внешности прежде всего привлекал внимание огромный лоб, подчинявший себе все остальное. Глаза у него были светлые, чуть—чуть грустные, хрящеватый нос шел прямо от надбровья, уши плотно прилегали к черепу, а седеющая, словно солью посыпанная борода прикрывала правильный овал лица. Волосы у Мауве были зачесаны набок и пышной волной спадали к правой брови. Мауве был полон энергии и не давал ей рассеяться попусту. Он все время что—нибудь писал; если его одолевала усталость, он бросал одну работу и хватался за другую. Скоро он чувствовал себя отдохнувшим и приступал к третьей. – Йет нету дома, Винсент, – сказал Мауве. – Может быть, мы пройдем в мастерскую? Я думаю, там нам будет удобнее. – Ну что ж, пойдемте, – согласился Винсент, которому очень хотелось посмотреть мастерскую. Они вышли из дома и направились к мастерской Мауве – большой деревянной постройке в саду, рядом с домом. Живая изгородь окружала сад, и когда Мауве работал, ему не мешало ничто на свете. Восхитительный запах табака, старинные трубки и лакированное дерево – все это окружило Винсента, едва он перешагнул порог. Мастерская была просторная, со множеством картин на мольбертах, стоявших на толстом девентерском ковре. Все стены были увешаны этюдами, один угол занимал старинный стол, перед ним был разостлан небольшой персидский коврик. На северной стороне было большое окно в полстены. Повсюду валялись книги, и на каждом шагу можно было наткнуться на какое—нибудь орудие художнического ремесла. Несмотря на множество предметов, наполнявших мастерскую, Винсент чувствовал, что здесь царит неукоснительный порядок, столь свойственный характеру Мауве и наложивший свою печать на всю комнату. Разговоры о семейных делах заняли всего несколько минут; после этого Мауве и Винсент начали тот единственный разговор, который обоим был интересен. Мауве с некоторых пор избегал встреч с художниками (он всегда говорил, что можно либо заниматься живописью, либо разглагольствовать о ней, совместить же то и другое нельзя) и был увлечен своим новым замыслом – написать мглистый пейзаж в печальных сумеречных отсветах. Он не советовался с Винсентом, а просто обрушил на него этот проект, не допуская возражений. Пришла жена Мауве и уговорила Винсента остаться ужинать. Плотно закусив, Винсент сидел у камина и болтал с детьми Мауве, думая о том, как было бы чудесно, если бы у него была своя, пусть маленькая, семья – жена, которая любила бы его и верила в его силы, и дети, которые, вместо того чтобы называть его «папой», называли бы его «императором» и «повелителем». Неужели эти счастливые дни никогда не наступят? Вскоре Мауве и Винсент вновь пошли в мастерскую и уселись там, с удовольствием покуривая трубки. Винсент вынул и показал свои копии. Мауве быстро окинул их опытным взглядом профессионала. – Это сделано неплохо, – заметил он. – Неплохо для копий. Но какой в них толк? – Какой толк? Право, я не могу... – Ты все копируешь, Винсент, будто школьник. Но ведь настоящую работу за тебя проделал другой. – Я думал, что копирование научит меня лучше чувствовать натуру. – Вздор! Если ты стремишься к творчеству, обращайся к жизни. Не трать время на подражание. Есть у тебя свои собственные наброски? Винсент вспомнил, что сказал о его рисунках Терстех. Стоит ли показывать их Мауве? Он приехал в Гаагу с тем, чтобы просить Мауве взять его к себе в ученики. И вдруг все его опыты окажутся никуда не годными... – Да, – ответил он, – я все время делал жанровые зарисовки. – Прекрасно! – У меня есть кое—какие наброски – я рисовал углекопов в Боринаже и брабантских крестьян. Это не очень удачные вещи, но... – Это не важно, – перебил его Мауве. – Покажи—ка их. Ты должен был в какой—то мере схватить там истинный дух этих людей. Подавая листы, Винсент чувствовал, как у него перехватило дыхание. Мауве склонился над рисунками в несколько раз провел рукою по своим пышным волосам, приглаживая их. Вдруг он рассмеялся мягким, как бы приглушенным его седой бородой смешком. Он снова потер голову, взъерошил шевелюру и метнул ревнивый взгляд на Винсента. Потом он взял рисунок, изображавший рабочего, вскочил и поставил его рядом с наброском человеческой фигуры на своем незаконченном полотне. – Теперь я вижу, в чем у меня промах! – воскликнул он. Он схватил карандаш, повернул мольберт к свету и провел несколько стремительных линий, не сводя глаз с рисунка Винсента. – Вот теперь лучше, – сказал он, отступая от полотна. – Нищий как будто стал похож на живого человека. Он подошел к Винсенту и положил ему руку на плечо. – Не волнуйся, – сказал он. – Ты на верной дороге. Наброски у тебя топорные, но в них есть правда. В них есть жизненность и ритм, которого я часто не могу найти. Бросай к черту свои копии, Винсент, берись за кисть и палитру! Чем скорее ты начнешь работать красками, тем лучше. Рисунок у тебя пока неважный, тебе нужно будет еще потрудиться над ним. Винсент решил, что наступило время рискнуть. – Кузен Мауве, я собираюсь переехать в Гаагу и продолжить работу здесь, – сказал он. – Вы не откажетесь помочь мне? Мне необходима помощь такого человека, как вы. Хотя бы в мелочах, вроде тех, что вы показали мне на ваших этюдах сегодня. Каждому молодому художнику нужен учитель, кузен Мауве, и я был бы очень вам благодарен, если бы вы позволили мне работать под вашим руководством. Мауве задумчиво оглядел все свои незаконченные полотна. Когда он отрывался от работы, пусть даже ненадолго, он любил быть дома, в кругу своей семьи. Теплоты и радушия, с которыми он встретил Винсента, вдруг словно не бывало. Вместо них появилась внезапная отчужденность. Винсент, который всегда хорошо улавливал перемену в отношении к себе, сразу же почувствовал это. – Я занятой человек, Винсент, – сказал Мауве, – мне трудно помогать другим. Художник должен быть эгоистом, он должен беречь каждую секунду своего времени. Я сомневаюсь, что смогу оказать тебе серьезную помощь. – Я и не прошу многого! – воскликнул Винсент. – Позвольте мне хоть иногда работать здесь с вами и смотреть, как вы пишете картину. Рассказывайте мне о вашей работе, как рассказывали сегодня, а я буду смотреть, как находит свое воплощение замысел. А иногда, когда вы будете отдыхать, вы могли бы взглянуть на мои рисунки и указать ошибки. Вот и все, чего я прошу. – Тебе кажется, что ты просишь немного. Но поверь, взять ученика – для меня дело нешуточное. – Право же, я не буду вам в тягость. Мауве погрузился в долгое раздумье. Он не хотел иметь ученика, потому что не терпел подле себя посторонних во время работы. У него редко появлялось желание поговорить о своих картинах, а в ответ на советы, которые он давал начинающим, он слышал лишь оскорбления. Но Винсент его родственник, дядя Винсент Ван Гог и Гупиль покупали его картины, и, кроме того, в юноше есть какая—то грубая, неистовая страстность, которая чувствуется в его рисунках и располагает к нему. – Ну, хорошо, Винсент, – сказал Мауве, – давай попробуем. – О, кузен Мауве! – Имей в виду, мне трудно тебе что—либо обещать. Из этого может ровным счетом ничего не выйти. Когда устроишься здесь, приходи ко мне в мастерскую, и мы посмотрим, можем ли мы помочь друг другу. На осень я собираюсь уехать в Дренте, а ты приезжай в Гаагу, ну, скажем, в начале зимы. – Как раз в это время я и думал приехать. Мне еще надо поработать несколько месяцев в Брабанте. – Значит, договорились. Пока Винсент ехал обратно, в душе его не умолкал какой—то ликующий голос: «У меня есть учитель. У меня есть учитель. Скоро я буду учиться у великого живописца, скоро начну писать сам. Я буду работать, о, как я буду работать тогда, и он увидит, чего я добьюсь». Приехав в Эттен, он застал там Кэй Вос.6
Горе, постигшее Кэй, сделало ее одухотвореннее. Она горячо любила мужа, и его смерть оборвала что—то в самом ее существе. Исчезла вся ее жизнерадостность, ее бодрость, энергия и веселость. Казалось, потускнел и потерял свою теплоту даже цвет ее пышных волос. Лицо заострилось, приобрело что—то аскетическое, в голубых глазах сквозили глубокие темные крапинки, восхитительный блеск кожи словно померк. Но если в ней уже не было прежней живости, которая поразила Винсента в Амстердаме, то красота ее стала более зрелой, а неизбывная печаль придала ее натуре глубину и значительность. – Как чудесно, что вы наконец приехали к нам, Кэй, – сказал Винсент. – Спасибо, Винсент. Они назвали друг друга по имени, не добавляя слова «кузен» или « кузина», и сами не знали, как это произошло, даже не заметили этого. – Яна вы, конечно, привезли с собой? – Да, он в саду. – Вы ведь впервые в Брабанте. Как хорошо, что я здесь и могу показать вам город. Мы вволю побродим по полям. – С удовольствием, Винсент. Она говорила ласково, но без всякого воодушевления. Винсент заметил, что голос у нее стал более глубоким и звучным. Он вспоминал, как тепло она отнеслась к нему там, в доме на Кейзерсграхт. Нужно ли говорить теперь о смерти ее мужа, стараться утешить ее? Конечно, полагалось бы что—то сказать по этому поводу, но он чувствовал, что будет деликатнее совсем не касаться ее горя. Кэй оценила такт Винсента. Муж для нее был святыней, и она не могла разговаривать о нем. Как и Винсент, она тоже вспомнила те чудесные зимние вечера на Кейзерсграхт, когда она играла у камина в карты с Восом и родителями, а Винсент садился у лампы, где—нибудь в дальнем углу. Глухая боль стеснила ей грудь, а темные глаза словно заволокла дымка. Винсент мягко накрыл ладонью ее руки, и она взглянула на него с трепетом горячей благодарности. Он видел, как страдание обострило все ее чувства. Прежде она была лишь счастливой девочкой, теперь перед ним сидела много испытавшая женщина во всей красоте, которую только могут родить глубокие душевные муки. И снова ему вспомнилась старинная мудрость: «Красоту и порождает страдание». – Вам здесь понравится, Кэй, – сказал он тихо. – Я целыми днями брожу в поле и рисую; мы будем брать Яна и ходить вместе. – Но ведь я вам только помешаю! – О нет! Я люблю ходить не один. Я покажу вам много интересного. – Ну, раз так, я охотно пойду в вами. – И Яну это будет очень полезно. На воздухе он окрепнет. Она слабо сжала ему руку. – Мы будем друзьями, правда, Винсент? – Да, Кэй. Она выпустила его руку и устремила невидящей взгляд через дорогу на протестантскую церковь. Винсент вышел в сад, поставил там скамейку для Кэй и помог Яну построить из песка домик. На время он совершенно забыл, какую важную новость он привез из Гааги. За обедом он объявил, что Мауве согласился взять его в ученики. В другое время он не обмолвился бы и словом о тех похвалах, которые он слышал по своему адресу от Терстеха или Мауве, но сейчас ему хотелось предстать перед Кэй в самом лучшем свете. Анна—Корнелия была безмерно польщена. – Ты должен во всем слушаться кузена Мауве, – наставляла она сына. – Кузен Мауве знает, как добиться успеха. Рано утром Кэй, Ян и Винсент пошли в Лисбос, где Винсент собирался рисовать. Сам он никогда не заботился о том, чтобы взять с собой поесть, но мать сунула ему в руки корзинку с завтраком на всех троих. Она воображала, что они решили устроить нечто вроде пикника. Проходя через кладбище, они увидели высокую акацию с сорочьим гнездом; мальчик был взволнован этим, и Винсент обещал ему добыть яйцо сороки. Скоро они очутились в сосновом лесу, где под ногами сухо потрескивали иглы хвои, потом вышли на желтовато—серые пески пустошей. Там они наткнулись на брошенный плуг и повозку. Винсент установил свой маленький мольберт, усадил Яна на повозку и быстро сделал набросок. Кэй отошла в сторону, глядя, как играет Ян. Она была очень молчалива. Винсент же не хотел докучать ей, ему было довольно и того, что она с ним рядом. Раньше он и не подозревал, до чего хорошо работать, когда рядом сидит женщина. Они прошли мимо нескольких домиков, крытых соломой, и вышли на дорогу к Розендалу. И только тут Кэй заговорила. – Знаете, Винсент, – сказала она, – увидев вас за мольбертом, я вспомнила одну вещь, которая часто приходила мне в голову в Амстердаме. – Что же это такое, Кэй? – Даете слово, что не обидитесь? – Конечно, даю! – Ну, тогда я скажу. Я всегда была уверена, что вы не рождены быть духовным пастырем. И я знала, что вы понапрасну тратите на это время. – Почему же вы мне не сказали этого тогда? – У меня не было на это права, Винсент. Она убрала несколько прядей своих рыже—золотых волос под черную шляпку; крутой поворот дороги заставил ее прижаться к плечу Винсента. Чтобы помочь ей удержать равновесие, он взял ее Под локоть и забыл убрать свою руку. – Я понимала, что вам надо дойти до всего самому, – продолжала она. – Разговоры не принесли бы никакой пользы. – Теперь я вспоминаю, – сказал Винсент, – как вы предостерегали меня, чтобы я не сделался узколобым пастором! В устах дочери священника это прозвучало странно. Он ласково улыбнулся, но глаза Кэй были грустны. – Да, конечно, – сказала она. – Но видите ли, Винсент, Вос открыл мне многое такое, чего сама я никогда бы не поняла. Рука Винсента, поддерживавшая локоть Кэй, мгновенно опустилась. Всякий раз, как он слышал имя Воса, между ним и Кэй вставала какая—то непреодолимая, невидимая преграда. Через час они вышли к Лисбосу, и Винсент установил свой мольберт для работы. Теперь он хотел нарисовать маленькое болотце. Ян принялся копаться в песке, а Кэй села позади на складной стул, который Винсент прихватило собой. Она держала в руках книгу, но не читала ее. Винсент рисовал быстро, вдохновенно. Этюд рождался под его рукой с такой стремительностью, как никогда прежде. Винсент сам не знал, почему его карандаш обрел такую смелость и уверенность – то ли от похвал Мауве, то ли потому, что рядом сидит Кэй. Винсент сделал несколько рисунков, один вслед за другим. Он ни разу не оборачивался и не смотрел на Кэй, и она тоже не заговаривала с ним, но сознание того, что она рядом, наполняло его ощущением необыкновенной полноты жизни. Ему хотелось рисовать сегодня как можно лучше, так, чтобы Кэй восхищалась им. Когда наступило время завтрака, они пошли в ближнюю дубовую рощицу, и в прохладной тени Кэй вынула еду из корзинки. День был безветренный. К еле ощутимому запаху дубовых листьев примешивался аромат водяных лилий, долетавший с болотца. Кэй и Ян сели по одну сторону корзинки, Винсент по другую. Кэй подавала ему бутерброды с сыром. Винсент вспомнил, что вот так же мирно сидела за обеденным столом семья Мауве. Винсент глядел на Кэй и думал о том, что никогда не видал женщины прекраснее ее. Толстые ломти желтого сыра были очень аппетитны, вкусен был и хлеб, испеченный матерью, но есть Винсент не мог. В нем просыпался новый, неутолимый голод. Он как зачарованный смотрел на нежную кожу Кэй, ее точеное лицо, задумчивые, темные глаза, полные, свежие губы, которые теперь немного поблекли, но скоро, он знал это, расцветут снова. Позавтракав, Ян заснул, положив головку на колени матери. Винсент смотрел, как Кэй гладит светлые волосы ребенка, вглядываясь в его безмятежное личико. Он знал, что в чертах сына она ищет другие черты, черты мужа, что теперь она там, в своем доме на Кейзерсграхт, с человеком, которого она любила, а не здесь, в брабантской глуши, со своим кузеном Винсентом. Он рисовал до самого вечера, и Ян частенько сидел у него на коленях. Ребенок привязался к Винсенту. Винсент позволил ему разрисовать черными пятнами несколько листов энгровской бумаги. Мальчик громко смеялся, кричал и носился по пустошам, то и дело подбегая к Винсенту, о чем—то спрашивал, поднимал что—то с земли, показывал и требовал, чтобы его забавляли. Винсент не сердился; ему было приятно, что маленькое теплое существо льнет к нему с такой любовью. Осень была уже не за горами, и солнце село очень рано. Возвращаясь домой, они часто останавливались у озер, чтобы полюбоваться отраженными в воде красками заката, яркими, словно крылья бабочки, – они медленно гасли и исчезали в сумерках. Винсент показал Кэй свои рисунки. Она едва скользнула по ним взглядом – то, что она увидела, показалось ей грубым и неуклюжим. Но Винсент был ласков с Яном, и к тому же она слишком хорошо знала, что такое боль. – Мне нравятся рисунки, – сказала она. – Правда, Кэй? От этой похвалы все его чувства прорвались наружу. Кэй была так ласкова к нему в Амстердаме, она поймет все, к чему он стремится. Пожалуй, только она одна во всем мире может его понять. С родными бесполезно разговаривать – они толком не знают даже, о чем речь, а перед Терстехом и Мауве приходится держаться со смирением начинающего, которое он испытывает далеко не всегда. Он раскрывал перед Кэй свою душу, бормоча торопливые, бессвязные фразы. В пылу влечения он все ускорял шаг, и Кэй едва поспевала за ним. Когда Винсент бывал чем—то глубоко взволнован, от его сдержанности не оставалось и следа, он вновь становился нервным и порывистым. Благовоспитанного человека, каким он был весь день, словно подменили: этот неотесанный, грубый провинциал одновременно удивил и напугал Кэй. Его страстный порыв казался Кэй нелепым мальчишеством. Она и не подозревала, что Винсент оказывает ей редчайшую честь, какую только может оказать мужчина женщине. Он излил перед ней все, что таилось в нем со дня отъезда Тео в Париж. Он рассказал ей о своих мечтах и планах, о том, что хочет он вложить в свои рисунки. Кэй не поняла его волнения. Она не прерывала его, но и не слушала. Она вся была в прошлом, только в прошлом, и ей было неприятно, что кто—то может с такой бодрой уверенностью заглядывать в будущее. А Винсент был слишком увлечен собой, чтобы почувствовать ее отчужденность. Размахивая руками, он все говорил, пока не произнес имя, которое привлекло внимание Кэй. – Нейхейс? Это художник, который живет в Амстердаме? – Жил раньше. А сейчас он в Гааге. – Да, да. Вос дружил с ним. Он приводил его к нам несколько раз. Винсент сразу осекся. Вос! Всегда и всюду Вос! Зачем? Ведь он умер. Умер вот уже более года. Пора забыть его. Вос принадлежал прошлому так же, как и Урсула. Почему же Кэй по всякому поводу вспоминает Воса? Еще в Амстердаме Винсент недолюбливал мужа Кэй. Осень вступала в свои права. Хвойный ковер, устилавший землю в сосновых рощах, стал ржаво—коричневым. Кэй и Ян каждый день ходили вместе с Винсентом в поле. От долгих прогулок на щеках Кэй появился легкий румянец, а ее походка приобрела уверенность и твердость. Она брала теперь с собой свою рабочую корзинку, чтобы, как и Винсент, заниматься делом. Говорила она теперь больше и охотнее, рассказывала о своем детстве, о книгах, которые она прочла, об интересных людях, которых знала в Амстердаме. Семейство Ван Гогов смотрело на эти прогулки с одобрением. Винсент развлекал Кэй, будил в ней интерес к жизни. А ее присутствие в доме смягчало характер Винсента. Анна—Корнелия и Теодор благодарили бога и делали все возможное, чтобы молодые люди бывали вместе почаще. Винсент обожал в Кэй буквально все – ее хрупкую, изящную фигуру, затянутую в строгое черное платье, ее красивую черную шляпку, которую она надевала, идя в поле, аромат ее тела, который он чувствовал всякий раз, как она наклонялась к нему, манеру двигать губами, когда Она быстро говорила, испытующий взгляд ее темно—голубых глаз, прикосновение ее трепещущей руки, когда она брала у него Яна, ее грудной низкий голос, который потрясал все его существо и звучал у него в душе, когда он ложился спать, блестящую белизну ее кожи, рождавшую в нем нестерпимое желание жадно прильнуть к ней губами. Он понял теперь, что много лет жил неполной жизнью, что в нем погибло столько нерастраченной нежности и его иссохшие уста не могли припасть к чистому студеному роднику любви. Он был счастлив только тогда, когда Кэй была рядом с ним; ее присутствие как бы окружало его лаской. Когда она шла с ним в поле, он рисовал быстро и легко, но стоило ей остаться дома, и каждая линия давалась ему с мучительным трудом. По вечерам он сидел напротив Кэй за большим деревянным столом в гостиной и, склонившись, перерисовывал свои этюды, но ее нежный облик неизменно стоял перед его взором. Время от времени он поднимал на нее глаза, а она, в тусклом свете большой желтой лампы, отвечала ему слабой, печальной и ласковой улыбкой. Порой он чувствовал, что не может выдержать больше ни минуты, что он сейчас вскочит с места и схватит, прижмет ее к себе что есть силы, припадет своими горячими губами к ее прохладному рту. Он боготворил не одну только красоту Кэй, но все ее существо, каждое ее движение: ее спокойную поступь, ее удивительное самообладание, ее воспитанность, сквозившую в каждом жесте. Он даже не подозревал, как одинок он был все эти семь долгих лет, утратив Урсулу. За всю жизнь ни одна женщина не подарила его ни единым нежным словом, ни единым ласковым, любящим взглядом, не дотронулась тихонько до его лица и не прижалась губами к его губам, которых только что коснулись ее ласковые пальцы. Ни одна женщина не любила его. Такая жизнь равносильна смерти. Когда он любил Урсулу, это было еще не так ужасно, потому что в ту пору – пору юности – он стремился отдать самого себя, и его лишили только этого. А теперь, когда пришла зрелая мужская любовь, он хотел не только давать, но и брать в равной мере. Он знал, что если Кэй не утолит охватившую его жажду, жизнь будет немыслима. Как—то раз ночью он читал Мишле и наткнулся на такую фразу: «Il taut qu'une femme souffle sur toi pour que tu sois homme» [чтобы стать мужчиной, нужно, чтобы на тебя дохнула женщина (фр.)]. Мишле, как всегда, прав. Он, Винсент, не был мужчиной. Хотя ему двадцать восемь лет, он еще как бы не родился. Кэй дохнула на него всем благоуханием своей красоты и любви, и лишь теперь он стал наконец мужчиной. Он желал теперь Кэй с неудержимой мужской страстью. Желал горячо, желал отчаянно. Он любил и Яна, так как мальчик был частицей женщины, которую он любил. Но он ненавидел Воса, ненавидел всеми силами души, потому что Кэй не могла и не хотела забыть его. Прежняя ее любовь к нему и ее замужество огорчало Винсента не больше, чем годы мучений, которые принесла ему любовь к Урсуле. Оба они закалились в горниле страданий, и любовь их будет от этого только чище. Он чувствовал, что сумеет заставить Кэй забыть этого человека, который ушел в прошлое. Его любовь вспыхнет таким пламенем, что испепелит это прошлое без остатка. Скоро он поедет в Гаагу, станет учиться у Мауве. Он возьмет с собой Кэй, и у них будет семья вроде той, какую он видел на Эйлебоомен. Он хотел, чтобы Кэй стала его женой, чтобы она всегда была с ним. Ему хотелось иметь свой дом, детей, которые были бы похожи на него. Он стал мужчиной, бродяжничество пора было бросить. Ему была нужна любовь: любовь сгладит острые углы, смягчит грубость его рисунков, придаст им жизненность, которой им недостает. Он только теперь понял, что без любви многое в нембыло мертво, знай он это раньше, он не рассуждая влюбился бы в первую встречную женщину. Любовь – главное в жизни, только в любви человек может почувствовать счастье бытия. Теперь он был даже рад, что Урсула не любила его. Как мелка и поверхностна была любовь в то время и как глубока, как богата она теперь! Если бы он женился на Урсуле, ему никогда бы не довелось узнать меру истинной любви. Он никогда не полюбил бы Кэй! Впервые он отдал себе отчет в том, что Урсула была ветреным, легкомысленным ребенком, лишенным всякой чуткости и духовных достоинств. Он убил целые годы, терзаясь любовью к poupon! Один час, проведенный с Кэй, стоит целой жизни с Урсулой. Путь, лежащий за плечами, был тернист, но он привел его к Кэй, и в этом было оправдание всего перенесенного им. Жизнь отныне пойдет хорошо; он будет трудиться, будет любить, будет зарабатывать, продавая свои рисунки. Вместе они будут счастливы. Жизнь каждого человека имеет свою цель, свой идеал, и надо терпеливо трудиться, чтобы достичь его. Вопреки своей пылкой натуре и любовному опьянению, Винсент не давал себе воли. В полях, когда они с Кэй вели наедине разговоры о разных пустяках, ему часто хотелось воскликнуть: «Послушай, оставим все это притворство, всю эту мишуру! Я хочу подхватить тебя на руки и целовать твои губы, целовать, целовать без конца. Я хочу, чтобы ты стала моей женой и не покидала меня никогда! Мы принадлежим друг другу, мы одиноки и нужны друг другу, нужны бесконечно!» Но каким—то чудом он брал себя в руки и сдерживался. Он не мог ни с того ни с сего заговорить о своей любви – это было бы слишком дерзко. Кэй никогда не давала ему никакого повода для этого. Она упорно избегала всяких разговоров о любви или замужестве. Как и когда ему открыться ей? Он понимал, что откладывать это надолго нельзя: скоро наступит зима, и ему надо будет ехать в Гаагу. Наконец, он не выдержал. Произошло это у дороги на Бреду. Целое утро Винсент рисовал землекопов за работой. Потом он вместе с Кэй сел у ручья под вязами завтракать. Ян спал на траве. Кэй сидела у корзинки с бутербродами. Стоя на коленях, Винсент стал показывать ей свои наброски. Вдруг он почувствовал, что потерял нить разговора: его обожгло теплое плечо Кэй, склонившейся над рисунком; Винсент уже не отдавал себе отчета в том, что он говорит; плечо Кэй жгло его, лишая рассудка. Рисунки выпали у него из рук, резким, порывистым движением он прижал к себе Кэй, и на нее хлынул поток слов, пылавших безудержной страстью: – Кэй, я мучаюсь, я не могу больше молчать! Знайте, Кэй, – я люблю вас, люблю больше жизни! Я всегда любил вас, с первого дня, как увидел вас в Амстердаме? Я хочу чтобы вы были со мной всегда! Кэй, скажите же, что вы любите меня хоть немного. Мы уедем в Гаагу и будем жить там вдвоем. У нас будет свой дом, мы будет счастливы. Вы ведь любите меня, Кэй? Скажите, что мы поженимся, Кэй, дорогая! Кэй не пыталась высвободиться из его объятий. От ужаса и смятения у нее перекосилось лицо. Она будто и не слышала того, что он говорил, не поняла ни слова, но она угадала, что он хотел сказать, и задрожала от страха. В ее темно—голубых глазах появилось жестокое выражение, и, чтобы не закричать, она ладонью зажала себе рот. – Нет, никогда, никогда! – со злобой прошептала она. Она судорожно оттолкнула Винсента, схватила на руки спящего ребенка и опрометью бросилась бежать через поле. Винсент кинулся вслед за ней. Но страх придал ей проворства. Она оставила его далеко позади. Винсент не мог понять, что же произошло. – Кэй! Кэй! – кричал он. – Постойте! Услышав его крик, Кэй побежала еще быстрее. Винсент гнался за нею, размахивая руками как сумасшедший, голова его неуклюже раскачивалась. Кэй споткнулась и упала в борозду. Ян расплакался. Винсент бросился на колени прямо в грязь и схватил Кэй за руку. – Кэй, почему вы убегаете от меня? Ведь я вас так люблю! Разве вы не видите, без вас я не могу жить. Вы же любите, любите меня, Кэй! Не бойтесь, ведь я только сказал, что люблю вас. Мы забудем прошлое, Кэй, и начнем новую жизнь. Глаза Кэй, минуту назад полные ужаса, теперь смотрели на Винсента с выражением жгучей ненависти. Она вырвала руку. Ян тем временем совсем проснулся. Безумное, горящее страстью лицо Винсента и его громкий, взволнованный голос испугали его. Он обхватил ручонками шею матери и заплакал. – Кэй, дорогая, скажи же мне, что ты любишь меня хоть капельку! – Нет, никогда, никогда! И, вскочив на ноги, она опять побежала через поле к дороге. Винсент сидел на земле, ошеломленный. Кэй выскочила на дорогу и исчезла из глаз. Винсент собрался с силами и вновь ринулся вслед за ней, громко зовя ее. Когда он очутился на дороге, то увидел, что Кэй уже далеко и все еще бежит не останавливаясь, а мальчик прильнул к ее груди. Винсент замер на месте. Вот Кэй скрылась за поворотом дороги. Он долго стоял не двигаясь. Потом поплелся через поле назад и подобрал с земли свои этюды. Они были немного запачканы. Он сложил бутерброды в корзину, закинул за спину мольберт и устало потащился к дому. А дома уже сгустились черные тучи; Винсент почувствовал это, как только переступил порог. Кэй заперлась в своей комнате вместе с Яном. Мать и отец сидели в гостиной. Они о чем—то говорили, но резко оборвали разговор, едва Винсент вошел. Он плотно закрыл за собой дверь. Отец, вероятно, был в страшном гневе, веко на правом глазу у него совсем закрылось. – Винсент, и как ты только мог?.. – жалобным голосом начала мать. – Что такое? – Он не совсем понимал, в чем его упрекают. – Как мог ты так оскорбить свою кузину! Винсент не знал, что ответить. Он снял со спины мольберт и поставил его в угол. Отец все еще был вне себя и словно лишился дара речи. – Кэй объяснила вам, что именно произошло? – спросил Винсент. Отец рванул высокий воротничок, врезавшийся в его багровую шею. Другой рукой он стиснул край стола. – Она сказала, что ты чуть не задушил ее и орал как бешеный. – Я говорил, что люблю ее, – спокойно возразил Винсент. – Не вижу, что тут могло ее оскорбить. – И это все, что ты ей сказал? – Тон у отца был холодный как лед. – Нет. Я просил ее быть моей женой. – Твоей женой! – Да. Что вас так удивляет? – Ох, Винсент, Винсент, – сказала мать, – как ты только мог подумать об этом! – Ты сама, должно быть, об этом подумывала... – Но я не думала, что ты в нее влюбишься! – Винсент, – вмешался отец, – знаешь ли ты, что Кэй доводится тебе двоюродной сестрой? – Да, знаю. Ну и что из этого? – Ты не можешь жениться на двоюродной сестре. Это было бы... было бы. .. Пастор не мог заставить себя даже произнести роковое слово. Винсент подошел к окну и задумчиво глядел в сад. – Что же это было бы? – Грех! Винсент с трудом сдержался. Как они смеют пачкать его любовь всякими затасканными словами? – Ты говоришь бессмыслицу, недостойную тебя, отец. – А я говорю тебе, что это грех! – вскричал пастор. – Я не допущу такого безобразия в роду Ван Гогов! – Надеюсь, ты не воображаешь, что цитируешь Библию, отец! Двоюродным братьям и сестрам всегда разрешалось вступать в брак. – Ох, Винсент, милый Винсент, – взмолилась мать, – если ты ее любишь, почему бы тебе не подождать? Муж ее умер всего год назад. Она все еще любит его всей душой. К тому же, ты сам знаешь, у тебя нет денег, чтобы содержать жену. – То, что ты сделал, я считаю мальчишеством и бестактностью, – заявил отец. Винсент содрогнулся от отвращения. Он нащупал в кармане трубку, вынул ее, подержал секунду в руке и сунул обратно. – Отец, я решительно прошу тебя не употреблять таких выражений. Моя любовь к Кэй – самое светлое, что было у меня в жизни. Я не желаю, чтобы ты называл это мальчишеством и бестактностью. Винсент схватил мольберт и ушел в свою комнату. Сидя на кровати, он спрашивал себя: «Что же произошло? Что я сделал? Я сказал Кэй, что люблю ее, и она убежала. Почему? Неужели я ей противен?» "Нет, никогда, никогда!" Он терзался всю ночь напролет, снова и снова вспоминая происшедшее. И всегда его размышления кончались одним и тем же. Эти короткие слова звучали у него в ушах словно похоронный звон, словно приговор судьбы. Утро было уже на исходе, когда он, насилуя себя, спустился вниз. Черные тучи в дома как бы рассеялись. Мать хлопотала на кухне. Увидев Винсента, она поцеловала его и любовно потрепала по щеке. – Как ты спал, милый? – спросила она. – Где Кэй? – Отец повез ее в Бреду. – Зачем? – К поезду. Она уезжает домой. – В Амстердам? – Да. – Понимаю... – Она считает, что так будет лучше, Винсент. – Она написала мне что—нибудь? – Нет, дорогой. Садись—ка завтракать. – Не написала ни слова? Насчет вчерашнего? Она рассердилась на меня? – Нет, нет, она просто решила уехать домой к родителям. Анна—Корнелия сочла за благо не повторять того, что сказала Кэй; она помолчала, и разбив яйцо, вылила его на сковородку. – В котором часу поезд отходит из Бреды? – В двадцать минут одиннадцатого. Винсент взглянул на голубые кухонные ходики. – Сейчас как раз двадцать минут одиннадцатого. – Да. – Значит, я ничего уже не могу поделать. – Садись завтракать, сынок. Я приготовила вкусные копченые языки. Она расчистила место на кухонном столе, постелила салфетку и поставила еду. Она не отходила от Винсента, уговаривая его поесть; ей почему—то казалось, что если сын хорошенько набьет себе живот, все обойдется. Винсент, чтобы сделать матери приятное, съел все до крошки. Но горечь слов, сказанных Кэй: «Нет, никогда, никогда!» – отравляла ему каждый кусок.7
Он понимал, что любит свою работу куда больше, чем Кэй. Если бы ему пришлось выбирать, он не колебался бы ни минуты. Но теперь он вдруг утратил всякий вкус к рисованию. Работа его уже не занимала. Оглядывая брабантские рисунки, висевшие на стене, он убеждался, что с тех пор, как в нем проснулась любовь к Кэй, он шагнул в своем искусстве далеко вперед. Он чувствовал, что в его рисунках есть что—то грубое, суровое, но надеялся, что любовь Кэй сделает их мягче. Он любил Кэй так глубоко и страстно, что сколько бы она ни твердила: «Нет, никогда, никогда», – это не могло его остановить; ее отказ был для него подобен ледяной глыбе, которую он должен растопить, прижав к своему сердцу. Однако в душе у него шевелилось сомнение, мешавшее приняться за работу. А вдруг ему не удастся поколебать ее решимость? Ведь она, пожалуй, считает за грех даже мысль о возможности новой любви. А он хотел исцелить ее от этого рокового недуга, оторвать от прошлого, за которое она так упорно цеплялась. Он хотел соединить свою большую руку рисовальщика с ее нежной рукой и трудиться, зарабатывая насущный хлеб и право на счастье. Целыми днями он сидел у себя в комнате и писал Кэй письма, полные страсти и мольбы. Прошло несколько недель, прежде чем он понял, что она даже не читает этих писем. Почти ежедневно писал он и брату Тео, которому поверял все свои тайны, борясь против собственных сомнений и защищаясь от дружных нападок родителей и преподобного Стриккера. Он мучился, мучился жестоко и не всегда умел скрыть это. Мать с жалостливым лицом говорила ему утешительные слова. – Винсент, – сказала она однажды, – ты бьешься головой о каменную стену. Дядя Стриккер говорит, что она отказала наотрез. – Мне плевать на то, что говорит дядя. – Милый мой, но она сама сказала это дяде. – Сказала, что не любит меня? – Да, таково ее последнее слово. – Ну, насчет этого мы еще посмотрим. – Но тебе не на что надеяться, Винсент. Дядя Стриккер говорит, что если бы Кэй и любила тебя, она бы все равно не согласилась выйти за тебя, раз ты не зарабатываешь тысячу франков в год. А ты сам знаешь, до этого тебе далеко. – Ах, мама, кто любит, тот живет, кто живет, тот работает, а кто работает, тот не остается без хлеба. – Все это очень мило, золотой мой, но Кэй выросла в роскоши. У нее всегда все было самое лучшее. – И тем не менее она сейчас не очень—то счастлива. – Вы оба такие чувствительные, что если бы вы поженились, было бы одно горе: бедность, голод, холод, болезни. Ты же знаешь, что отец не даст тебе ни франка. – Я уже испытал все эти напасти, мама, меня они не пугают. При всем том нам гораздо лучше будет вместе, чем порознь. – Но, дитя мое, ведь Кэй не любит тебя! – Мне бы только поехать в Амстердам, и уверяю тебя, она согласится. То, что он не может поехать к любимой женщине, не может заработать ни франка на билет, Винсент воспринимал как одну из petites miseres de la vie humaine [мелких горестей человеческой жизни (фр.)]. Собственное бессилие приводило его в ярость. Ему было двадцать восемь лет; вот уже двенадцать лет как он упорно трудился, отказывая себе во всем, кроме самого необходимого, и все же он никакими стараниями не мог достать даже ту ничтожную сумму, которая нужна на билет до Амстердама. Винсент подумывал о том, чтобы пройти пешком сто километров, но это значило, что он появится в Амстердаме грязный, голодный и оборванный. Его ничуть не смущали трудности, но войти в дом преподобного Стриккера в таком же виде, в каком он явился к Питерсену, – нет, это немыслимо! Хотя Винсент утром отправил Тео длинное письмо, он в тот же день написал ему вновь. "Дорогой Тео! Мне очень нужны деньги на поездку в Амстердам. Пусть даже только на билет. Посылаю тебе несколько рисунков; напиши, почему их не покупают и что надо сделать, чтобы их можно было продать. Я должен заработать денег, съездить к ней и дознаться, что значит это «Нет, никогда, никогда». Через несколько дней Винсент почувствовал новый прилив сил. Любовь придала ему решимости. Он подавил в себе все сомнения и твердо верил теперь, что стоит ему повидаться с Кэй, и он сумеет раскрыть ей глаза, заставит ее понять его душу и вместо слов «Нет, никогда, никогда» услышит: «Да, навсегда, навсегда!» Он с новым рвением принялся за работу; и хотя он чувствовал, что его руке еще недостает твердости и мастерства, в нем жила непреоборимая уверенность, что время поможет ему добиться своего и в работе, и в любви к Кэй. На другой день он написал откровенное письмо преподобному Стриккеру. Он ничего не смягчал и усмехался при мысли о том, что скажет дядя, читая это письмо. Отец запретил Винсенту писать Стриккеру – в доме вот—вот могла разразиться настоящая буря. Теодор считал, что главное в жизни – это послушание и строгое соблюдение приличий; о порывах человеческой души он не хотел и слышать. Если сын не может ужиться с родителями, то виновен только он, но не родители. – А все эти французские книжки, которых ты начитался, – сказал Теодор за ужином. – Если водишь компанию с ворами и убийцами, можно ли ожидать, что ты станешь послушным сыном и порядочным человеком? Винсент поднял глаза от томика Мишле и посмотрел на отца с кротким удивлением. – С ворами и убийцами? По—твоему, Виктор Гюго и Мишле воры? – Нет, но они только и пишут о всяких жуликах. Их книги исполнены зла. – Глупости, отец. Мишле чист, как Библия. – Довольно богохульствовать в моем доме, молодой человек! – яростно крикнул Теодор, приходя в негодование. – Все эти книги аморальны. Французские идеи тебя и погубили. Винсент встал, обошел вокруг стола и, положил перед отцом «Любовь и женщину». – Я знаю, как тебя переубедить, – сказал он. – Прочитай сам хоть несколько страничек. Вот увидишь, тебе понравится. Мишле стремится только помочь нам преодолеть трудности и мелкие невзгоды. Теодор швырнул книгу на пол с видом праведника, отметающего зло. – Не стану я читать твои книги! – зарычал он. – У тебя был дед, он один во всем роду Ван Гогов заразился французскими идеями, а потом стал пьяницей! – Mille pardons [тысяча извинений (фр.)], отец Мишле, – бормотал Винсент, поднимая книгу с пола. – Позволь тебя спросить, почему это ты называешь Мишле отцом? – холодно произнес Теодор. – Хочешь оскорбить меня? – У меня и в мыслях этого не было, – возразил Винсент. – Но должен сказать прямо, что если мне понадобится совет, я скорее попрошу его у Мишле, чем у тебя. Так будет гораздо вернее. – О Винсент, – взмолилась мать, – зачем говорить такие вещи? Отчего ты хочешь порвать с семьей? – Да, именно это он и делает, – громогласно заявил отец. – Он хочет порвать с семьей. Винсент, ты ведешь себя бесстыдно... Уходи из моего дома на все четыре стороны. Винсент поднялся к себе и сел на кровать. Сам не зная почему, он всегда после тяжелого удара садился не на стул, а на кровать. Он оглядел стены, на которых висели его рисунки – землекопы, сеятели, мастеровые, швея, кухарки, лесорубы, копии из учебника Хейке. Да, он добился кое—каких успехов. Он явно продвинулся вперед. Но он сделал в Эттене еще далеко не все, что надо бы сделать. Мауве сейчас в Дренте и возвратится не раньше будущего месяца. Уезжать из Эттена Винсенту не хотелось. Здесь удобно работать; в любом другом месте жизнь потребует от него гораздо больших затрат. Нужно время, чтобы преодолеть неуклюжую тяжеловесность рисунка и уловить истинный дух брабантцев, – тогда можно будет и уехать. Отец гонит его из дома, он, можно сказать, проклял его. Но все это сказано в гневе. Ну, а что, если отец сказал то, что действительно думает?.. Неужто он такой дурной человек, что его надо гнать из отчего дома? Наутро он получил сразу два письма. Одно было от преподобного Стриккера – ответ на заказное письмо Винсента. К письму была приложена записка его супруги. Оба они, весьма нелестно отзываясь о прошлом Винсента, сообщали, что Кэй любит другого, человека с большими средствами, и просили Винсента немедля отказаться от нелепых притязаний на их дочь. «Да, видно, более безбожных, черствых и суетных людей, чем церковники, нет на всем свете», – сказал себе Винсент, комкая в кулаке письмо Стриккера с такой яростью, словно в его руках был сам преподобный пастор. Второе письмо было от Тео. «Рисунки твои очень выразительны. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы их продать. А пока прилагаю двадцать франков на поездку в Амстердам. Желаю тебе удачи, старина».8
Когда Винсент вышел из Центрального вокзала, уже спускались сумерки. Он быстро зашагал по Дамраку к площади Дам, миновал королевский дворец, почтамт и очутился на Кейзерсграхт. Был час, когда из всех магазинов и контор валом валили продавцы и служащие. Он пересек Сингел и остановился на мосту Херенграхт, глядя, как внизу, на барже, груженной корзинами цветов, люди, сидя за столом, закусывают хлебом с селедкой. Он повернул направо по Кейзерсграхт и, пройдя вдоль длинной шеренги узеньких фламандских домиков, оказался у каменной лестницы с черными перилами: тут жил преподобный Стриккер. Винсент вспомнил, как он, приехав в Амстердам, впервые вошел в этот дом, и ему подумалось, что есть на свете города, где человек обречен на вечные неудачи. Идя по Дамраку и через центр города, Винсент спешил изо всех сил, теперь же, когда цель была достигнута, его охватил страх и неуверенность. Он поднял голову и увидел, что железный крюк над чердачным окном торчит, как и прежде. Какое удобство для человека, который вздумает повеситься, – усмехнулся про себя Винсент. Он перешел широкую улицу, вымощенную красным кирпичом, и остановился, глядя на канал. Он знал, что не позже чем через час решится его судьба. Если ему только удастся повидать Кэй, поговорить с нею, все будет хорошо. Но ключ от входной двери у ее отца. А преподобный Стриккер может просто не впустить его в дом. По каналу медленно ползла против течения груженная песком баржа, готовясь встать на ночь на якорь. На темной груде песка, в тех местах, где поработала лопата, желтели влажные впадины. Винсент с праздным любопытством заметил, что на барже нет обычных веревок для белья, протянутых от носа до кормы. Худой, костлявый человек наваливался грудью на шест, с трудом делал несколько шагов, и неуклюжая лодка скользила вперед из—под его ног. На корме, неподвижная, как камень, сидела женщина в грязном переднике, – вытянув за спиной руку, она правила грубым рулем. Маленький мальчик, девочка и вывалявшаяся в грязи собака стояли на крыше рубки и тоскливо глядели на дома, тянувшиеся вдоль Кейзерсграхт. Винсент поднялся по каменным ступеням и позвонил. Спустя несколько минут на звонок вышла служанка. Она взглянула на стоявшего в тени Винсента, узнала его я загородила собой дверь. – Преподобный Стриккер дома? – спросил Винсент. – Нет. Он ушел. – Видимо, она получила соответствующее распоряжение. Винсент услышал в комнатах голоса. Решительным движением он оттолкнул горничную. – Пустите! – сказал он. Девушка вцепилась в Винсента сзади, пытаясь удержать его. – Они обедают! – негодующе закричала она. – Туда нельзя! Пройдя длинную прихожую, Винсент вошел в столовую. Он успел заметить, как в дверях мелькнуло знакомое черное платье. За столом сидели преподобный Стриккер, тетя Виллемина и двое младших детей. Приборов было пять. Перед стулом, косо сдвинутым в сторону, стояла тарелка с жареной телятиной, картофелем и бобами в стручках. – Я не могла удержать его, – сказала горничная. – Он ворвался силой. На столе стояли два серебряных подсвечника с большими белыми свечами. Висевший на стене портрет Кальвина в желтоватом мерцании свечей казался жутким. В полутьме на резном буфете блестел серебряный сервиз, а рядом Винсент увидел узкое окно, у которого он впервые разговаривал с Кэй. – Вот как, Винсент, – сказал дядя. – Видно, манеры у тебя не улучшаются. – Я хотел бы поговорить с Кэй. – Ее нет дома. Она в гостях. – Она сидела вот здесь, когда я позвонил. Она обедала с вами. Стриккер повернулся к жене: – Выведи детей из комнаты. Затем он сказал: – Ну, Винсент, ты причинил нам массу неприятностей. Теперь не только у меня, но и у всей нашей семьи лопнуло всякое терпение. Мало того, что ты бродяга, лентяй, грубиян, ты еще и неблагодарный негодяй. Да как тебе в голову пришло влюбиться в мою дочь? Это неслыханное оскорбление! – Позвольте мне повидаться с Кэй, дядя Стриккер. Я должен с ней поговорить. – Кэй не хочет с тобой говорить. Ты больше никогда ее не увидишь. – Она так сказала? – Да. – Я вам не верю. Стриккер был поражен как громом. Никто еще не обвинял его во лжи с тех пор, как он принял духовный сан. – Как ты смеешь говорить, что я лгу! – Я не поверю вам, пока не услышу это из ее собственных уст. Да и тогда не поверю. – Неблагодарный! И зачем только я тратил на тебя время и деньги, когда ты жил в Амстердаме! Винсент устало опустился на стул, где недавно сидела Кэй, и положил обе руки на край стола. – Дядя, выслушайте меня. Докажите, что даже у человека, облеченного в духовный сан, под тройной кольчугой из стали все же бьется человеческое сердце. Я люблю вашу дочь. Люблю до безумия. Каждую минуту я думаю и тоскую о ней. Вы служите господу богу, так во имя бога окажите же мне милость. Не будьте столь жестоки. Конечно, я пока ничего не достиг, но подождите немного, я добьюсь успеха. Позвольте доказать ей, как я ее люблю. Я заставлю ее понять, что она должна полюбить меня. Вы ведь и сами любили когда—то, дядя, вы знаете, как страдает и мучается человек. Я весь истерзан: дайте мне попытать счастья хоть раз. Дайте возможность завоевать ее любовь – вот все, о чем я прошу. Я не могу больше жить в тоске и одиночестве! Преподобный Стриккер смерил его взглядом и сказал: – Неужели ты такой трус и слюнтяй, что не можешь совладать с собой? Так и будешь выть и скулить всю жизнь? Винсент в бешенстве вскочил со стула. От его кротости теперь не осталось и следа. Он ударил бы священника, если бы их не разделял широкий стол с двумя серебряными подсвечниками, в которых горели высокие свечи. В комнате воцарилась напряженная тишина; Стриккер и Винсент смотрели друг другу прямо в глаза, в которых вспыхивали злобные искры. Винсент не знал, сколько времени это длилось. Он поднял руку и положил ее на стол рядом с подсвечником. – Позвольте поговорить с ней, – сказал он. – Я буду говорить ровно столько, сколько продержу свою руку в огне этой свечи. Повернув руку тыльной стороной к свече, он сунул ее в огонь. В комнате сразу стало темнее. Рука Винсента быстро почернела от копоти. Через несколько мгновений она стала ярко—красной. Винсент не дрогнул, не отвел взгляда от лица Стриккера. Прошло пять секунд. Десять. Кожа на руке вздулась волдырями. Глаза пастора были полны ужаса. Казалось, его хватил паралич. Несколько раз он пытался заговорить, шевельнуться, но не мог сделать этого. Беспощадный, пронизывающий взгляд Винсента словно пригвоздил его к месту. Прошло пятнадцать секунд. Волдыри на коже потрескались, но рука даже не дрогнула. Преподобный Стриккер, придя наконец в чувство, судорожно дернулся и изо всех сил закричал: – Ты совсем спятил! Идиот! Он ринулся вперед, выхватил из—под руки Винсента свечу и ударом кулака погасил ее. Затем, нагнувшись над столом, он торопливо задул и вторую свечу. Комната погрузилась во мрак. Стриккер и Винсент, упираясь ладонями в стол, стояли в полной темноте, но все же видели друг друга до ужаса ясно. – Ты сумасшедший! – орал пастор. – Кэй презирает тебя, презирает всей душой! Убирайся из этого дома и не смей больше сюда приходить! – Винсент медленно побрел по темной улице и опомнился, только когда вышел на окраину города. Заглянув в мертвый, заброшенный канал, он ощутил знакомый запах стоячей воды. Газовый фонарь на углу тускло осветил его левую руку – какой—то инстинкт рисовальщика не дал ему сунуть в огонь правую, – и он увидел, что на руке чернеет огромная язва. Он перешел множество узких каналов, вдыхая еле ощутимый запах давно забытого моря. В конце концов он оказался близ дома Мендеса да Коста. Он присел на берегу, бросил горсть камешков в плотное зеленое покрывало кроса, устилавшего канал. Галька шлепнулась в крое так мягко, словно под ним не было воды. Кэй ушла из его жизни. Эти слова: «Нет, никогда, никогда», – вырвались тогда из самой глубины ее души. Теперь они уже стали не ее, а его словами. Он без конца повторял их про себя, он говорил: «Нет, никогда, никогда ты не увидишь ее. Никогда не услышишь ты ее ласковый голос, не сможешь любоваться улыбкой в ее глубоких синих глазах, не ощутишь своей щекой теплоту ее тела. Никогда не знать тебе любви, ее нет, нет даже в те краткие мгновения, когда твоя плоть горит в горниле страданий!» Невыносимая, безысходная боль подступила к горлу. Он зажал себе рот, чтобы не закричать, – пусть Амстердам и весь мир никогда не узнают о том, что он предстал перед судом и был признан недостойным. Губы его ощутили лишь горький, как полынь, пепел неутоленного желания.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГААГА
1
Мауве был еще в Дренте. Винсент обошел весь квартал, прилегающий к Эйлебоомен, и около вокзала Рэйн снял комнатушку за четырнадцать франков в месяц. Мастерская – пока в нее не вселился Винсент, она называлась просто комнатой – была довольно просторная, с нишей, в которой можно было готовить еду, и большим окном, выходившим на юг. В углу стояла низенькая печка, длинная черная труба которой уходила в стену под самым потолком. Обои были чистые, светло—серые; в окно Винсент мог видеть хозяйский дровяной склад, за ним зеленый луг и широкие полосы дюн. Дом стоял на Схенквег, окраинной улице Гааги, за которой к юго—востоку сразу открывались луга. Крыша его была закопчена паровозами, постоянно грохочущими у вокзала Рэйн. Винсент купил прочный кухонный столик, два простых стула, одеяло и, укрываясь им, спал прямо на полу. Эти затраты, вконец истощили его денежные ресурсы, но близилось первое число, когда Тео должен был прислать ему очередные сто франков. Январская стужа не позволяла работать на воздухе, а так как денег на модель у Винсента не было, то ему оставалось лишь сидеть сложа руки и ждать приезда Мауве. Наконец Мауве вернулся домой на Эйлебоомен. Винсент не замедлил явиться к нему в мастерскую. Мауве с жаром трудился над большим полотном, волосы прядями рассыпались у него по лбу и падали на глаза. Он начал главную работу этого года – картину, предназначенную для Салона, замыслив изобразить, как на побережье Схевенингена лошади вытаскивают из воды рыбачий баркас. Мауве и его жена Йет были уверены, что Винсент не приедет в Гаагу: они знали, что чуть ли не каждого человека в тот или иной период жизни охватывает смутное желание стать художником. – Значит, ты все—таки приехал, Винсент. Ну что ж, прекрасно. Мы сделаем из тебя художника. Ты нашел себе квартиру? – Да, я живу на Схенквег, в доме сто тридцать восемь, сразу же за вокзалом Рэйн. – Ну, это совсем рядом. Как у тебя с деньгами? – Денег маловато, особенно не разгуляешься. Я купил стол и пару стульев. – И кровать, – подсказала Йет. – Нет, я сплю на полу. Мауве что—то шепнул Йет, она вышла и через минуту принесла бумажник. Мауве вынул оттуда сотню гульденов. – Возьми—ка эти деньги, Винсент, потом отдашь, – сказал он. – Купи себе кровать; по ночам надо хорошенько высыпаться. За комнату ты уплатил? – Нет еще. – Ну так уплати, и делу конец. Как там со светом? – Свету сколько угодно, хотя окно у меня только одно. К сожалению, выходит оно на юг. – Это плохо, тут надо что—то придумать. Иначе освещение модели будет меняться каждые пятнадцать минут. Обязательно купи занавеси. – Мне бы не хотелось брать у вас деньги, кузен Мауве. Достаточно того, что вы согласны учить меня. – Пустяки, Винсент. Обзаводиться хозяйством приходится один раз в жизни. Так что в конечном счете дешевле всего купить собственную мебель. – Да, пожалуй, это так. Надеюсь, что скоро мне удастся продать несколько рисунков, и тогда я верну вам долг. – Терстех тебе поможет. Он покупал мои картины, когда я только еще учился писать. Но тебе надо начинать работать акварелью и маслом. Рисунки карандашом не находят сбыта. При всей грузности Мауве движения у него были нервные и стремительные. Выставив одно плечо вперед, он порывисто бросался к тому, что его в тот миг привлекало. – Винсент, – сказал он, – вот этюдник, а в нем акварельные и масляные краски, кисти, палитра, мастихин, лак и скипидар. Дай—ка, я тебя научу держать палитру и стоять у мольберта. Он показал Винсенту несколько технических приемов. Винсент усвоил их очень быстро. – Отлично! – воскликнул Мауве. – Я думал, ты туповат, но теперь вижу, что ошибался. Можешь приходить сюда каждое утро и писать акварелью. Я попрошу, чтобы тебя приняли в «Пульхри», там ты сможешь несколько раз в неделю по вечерам рисовать модель. Кроме того, ты познакомишься там с художниками. А когда начнешь продавать свои вещи, станешь полноправным членом клуба. – Да, мне очень хочется рисовать модель. Я постараюсь нанять натурщицу, чтобы работать каждый день у себя дома. Нужно только научиться как следует рисовать человеческую фигуру, все остальное придет само. – Это верно, – согласился Мауве. – Труднее всего справиться с фигурой, но когда ты этого добился, деревья, коровы и закаты даются уже совсем легко. Художники, которые пренебрегают фигурой, делают это потому, что чувствуют свое бессилие. Винсент купил кровать и занавеси для окна, уплатил за комнату и развесил на стенах свои брабантские рисунки. Он знал, что продать их не удастся, и прекрасно видел теперь все свои промахи, но в этих набросках чувствовалось нечто от самой природы, и сделаны они были с истинной страстью. Винсент не мог бы сказать, в чем эта страсть проявлялась и откуда она шла; он даже не знал ей истинной цены, пока не подружился с Де Боком. Де Бок оказался обаятельным человеком. Он был хорошо воспитан, обладал прекрасными манерами и постоянным доходом. Образование он получил в Англии. Винсент познакомился с ним у Гупиля. Де Бок был полной противоположностью Винсента: к жизни он относился легко, все воспринимал спокойно и беспечно, характер у него был мягкий. Рот у него был узенький, не шире, чем крылья ноздрей. – Не зайдете ли ко мне на чашку чая? – предложил он Винсенту. – Я показал бы вам кое—какие свои работы. Мне кажется, я как бы обрел новое чутье с тех пор, как Терстех стал продавать мои картины. Мастерская Де Бока была в Виллемс—парке, самом аристократическом квартале Гааги. Стены в ней были задрапированы светлым бархатом. В каждом углу стояли удобные диваны с мягкими подушками; были тут и столики для курения, и шкафы, полные книг, и настоящие восточные ковры. Вспоминая убожество своей мастерской, Винсент чувствовал себя нищим пустынником. Де Бок зажег газовую горелку под русским самоваром и велел экономке принести печенья. Потом он вынул из стенного шкафа картину и поставил ее на мольберт. – Это моя последняя вещь, – сказал он. – Не угодно ли сигару, пока вы будете смотреть? Быть может, картина от этого станет лучше, как знать? Он говорил шутливым, непринужденным тоном. С тех пор как Терстех открыл и оценил Де Бока, художник стал необычайно самоуверен. У него не было сомнений, что Винсенту картина понравится. Взяв в руки длинную русскую папиросу, – пристрастием к этим папиросам он был известен на всю Гаагу – Де Бок закурил и стал следить за выражением лица Винсента. Окутанный голубым дымком дорогой сигары, Винсент рассматривал полотно. Он понимал, что Де Бок переживает теперь ту ужасную минуту, когда художник впервые открывает свое творение для чужих глаз и, волнуясь, ждет, что о нем скажут. А что сказать об этой картине? Пейзаж недурен, но и не слишком хорош. В картине много от характера самого Де Бока: она легковесна. Винсент вспомнил, как он злился и заболевал от огорчения, когда какой– нибудь юный выскочка осмеливался свысока отозваться о его работе. Хотя картина Де Бока была из тех, которые можно охватить одним взглядом, Винсент долго смотрел на нее. – Вы неплохо чувствуете пейзаж, Де Бок, – промолвил он. – И прекрасно знаете, как придать ему очарование. – О, благодарю, – сказал польщенный Де Бок, принимая этот отзыв за комплимент. – Прошу вас, чашечку чая. Винсент схватил чашку обеими руками, боясь расплескать чай на дорогой ковер. Де Бок подошел к самовару и налил чаю себе. Винсенту ужасно не хотелось говорить о картине Де Бока. Ему нравился этот человек, и он дорожил его дружбой. Но в Винсенте восстал честный художник, и он не мог удержаться. – Есть одна штука в вашем пейзаже, которая, пожалуй, мне не очень нравится. Де Бок взял из рук экономки поднос и сказал: – Ешьте печенье, мой друг. Винсент отказался, не представляя себе, как можно держать на коленях чашку с чаем и одновременно есть печенье. – Что же вам не понравилось? – спокойно спросил Де Бок. – Человеческие фигуры. Они кажутся неестественными. – А знаете, – признался Де Бок, удобно разлегшись на диване, – я частенько подумывал о том, чтобы заняться как следует фигурой. Но, кажется, это мне не дано. Я брал модель и усердно работал по нескольку дней, а потом вдруг бросал ее и переходил к какому—нибудь интересному пейзажу. В конце концов ведь моя стихия – именно пейзаж, так стоит ли мне слишком много возиться с фигурой – как вы полагаете? – Когда я работаю над пейзажами, – ответил Винсент, – я стараюсь внести в них что—то от человеческой фигуры. Вы опередили меня на много лет, кроме того, вы признанный художник. Но разрешите по—дружески высказать вам одно критическое замечание? – Буду очень рад. – Вот что я вам скажу: вашей живописи недостает страсти. – Страсти? – переспросил Де Бок и, потянувшись со своей чашкой к самовару, хитро покосился на Винсента одним глазом. – Какую же из множества страстей вы имеете в виду? – Это не так легко объяснить. Но ваше отношение к предмету несколько туманно. На мой взгляд, его надо бы выражать более энергично. – Но, послушайте, старина, – сказал Де Бок, вставая с дивана и внимательно поглядев на одно из своих полотен. – Не могу же я выплескивать свои чувства на холсты только потому, что этого требует публика! Я пишу то, что вижу и чувствую. А если я не чувствую никакой страсти, то как я придам ее своей кисти? Ведь страсть в зеленной лавке на вес не купишь! После визита к Де Боку собственная мастерская показалась Винсенту жалкой и убогой, но он знал, что взамен роскоши у него есть кое—что другое. Он задвинул кровать в угол и спрятал подальше всю свою кухонную утварь – ему хотелось, чтобы комната имела вид мастерской, а не жилого помещения. Тео еще не прислал денег, но у Винсента пока оставалось кое—что от тех ста гульденов, которые дал ему Мауве. Он потратил их на натуру. Вскоре к нему пришел и сам Мауве. – Я добрался до тебя всего—навсего за десять минут, – сказал он, оглядывая комнату. – Да, здесь неплохо. Конечно, лучше бы окно выходило на север, но ничего и так. Теперь люди перестанут считать тебя дилетантом и лодырем. Ты, я вижу, рисовал сегодня модель? – Да. Я рисую модель каждый день. Это обходится недешево. – Но в конце концов себя оправдывает. Тебе нужны деньги, Винсент? – Благодарю вас, кузен Мауве. Я как—нибудь перебьюсь. Винсент вовсе не хотел садиться на шею Мауве. В кармане у него оставался один—единственный франк, на него можно было прожить еще день; только бы Мауве бесплатно учил его, а деньги на хлеб он как—нибудь добудет. Мауве целый час показывал Винсенту, как надо писать акварельными красками и потом смывать их с листа. Винсенту это никак не давалось. – Не смущайся, – ободрял его Мауве. – Нужно испортить по крайней мере десяток набросков, прежде чем ты научишься правильно держать кисть. Покажи—ка мне что—нибудь из твоих последних брабантских этюдов! Винсент вынул свои наброски. Мауве владел техникой в таком совершенстве, что мог в немногих словах раскрыть главный недостаток любой работы. Он никогда не ограничивался словами: «Это плохо», – а всегда добавлял: «Попытайся сделать вот так». Винсент слушал его с жадностью, зная, что Мауве говорит ему то же, что он сказал бы самому себе, если бы у него не ладилась работа над каким—нибудь полотном. – Рисовать ты умеешь, – говорил он Винсенту. – То, что ты весь этот год не расставался с карандашом, принесло тебе огромную пользу. Я не удивлюсь, если Терстех скоро начнет покупать твои акварели. Это утешение мало помогло Винсенту, когда он через два дня оказался без сантима. Первое число давно минуло, а сто франков от Тео все не приходили. Что же случилось? Может быть, Тео сердится на него? Неужели он откажется помогать брату как раз теперь, когда он на пороге успеха? Порывшись в кармане, Винсент нашел почтовую марку: теперь он мог написать Тео и попросить хотя бы часть денег – только бы не умереть с голоду и время от времени платить за натуру. Три дня во рту у него не было маковой росинки; но утром он писал акварелью у Мауве, днем делал зарисовки в столовых для бедняков и в зале ожидания на вокзале, а вечером работал в «Пульхри» или снова в мастерской Мауве. Он очень боялся, что Мауве догадается, в чем дело, и утратит веру в его успех. Винсент понимал, что хотя Мауве привязался к нему, он бросит его без колебания, как только убедится, что заботы об ученике мешают его собственной работе. Когда Йет приглашала Винсента к обеду, он отказывался. Тупая, гложущая боль под ложечкой заставила его вспомнить Боринаж. Неужто он обречен голодать всю жизнь? Неужто он никогда не познает довольства и покоя? На другой день Винсент поборол свою гордость и отправился к Терстеху. Может быть, у этого человека, опекающего половину художников Гааги, удастся занять десять франков? Оказалось, что Терстех уехал по делам в Париж. Винсента сильно лихорадило, и он уже не мог держать в руках карандаш. Он слег в постель. На следующий день он вновь потащился на Плаатс и застал Терстеха в галерее. В свое время Терстех обещал Тео позаботиться о Винсенте. Он одолжил ему двадцать пять франков. – Я все собираюсь, наведаться к тебе в мастерскую, Винсент, – сказал он. – Жди, скоро приду. Винсент с трудом заставил себя вежливо ответить Терстеху. Ему хотелось тотчас же уйти и где—нибудь поесть. По пути к галерее Гупиля он думал: «Если только я достану денег, все опять будет хорошо». Но теперь, когда у него в кармане были деньги, он чувствовал себя еще более несчастным. Его давило чувство страшного, невыносимого одиночества. «Вот пообедаю, и все как рукой снимет», – сказал он – себе. Еда заглушила боль в желудке, но не могла заглушить чувства одиночества и заброшенности, которое гнездилось у Винсента где—то глубоко внутри. Он купил дешевого табака, пошел домой, лег на кровать и закурил трубку. Тоска по Кэй снова нахлынула на него. Он чувствовал себя таким обездоленным, что у него от обиды теснило грудь. Он вскочил с кровати, открыл окно и высунул голову в темень снежной январской ночи. Он вспомнил о преподобном Стриккере. Его пронизал такой озноб, словно он прижался всем телом к каменной церковной стене. Он закрыл окно, схватил пальто и шляпу и вышел, направляясь в кафе, которое приметил перед вокзалом Рэйн.2
Кафе было освещено двумя керосиновыми лампами – одна висела у входа, другая – над стойкой. Посреди зала царил полумрак. Вдоль стен стояли скамейки и столики с каменными столешницами, испещренные щербинами и царапинами. Это заведение с мертвенно—тусклыми стенами и цементным полом было предназначено для рабочего люда и скорее походило на жалкое убежище, чем на место, где веселятся и отдыхают. Винсент присел за одним из столиков и устало прислонился спиной к стене. Не так уж плохо жить, когда работаешь, когда есть деньги на еду и на модель. Но где твои друзья, где близкий человек, с которым можно было бы запросто переброситься словечком хотя бы о погоде? Мауве – твой наставник, учитель, Терстех – вечно занятый, важный коммерсант, Де Бок – богатый светский человек. Может быть, стакан вина принесет облегчение? Завтра он снова сможет работать, и все будет выглядеть не так мрачно. Он неторопливо потягивал красное вино. В кафе было малолюдно. Напротив него сидел какой—то мастеровой. В углу, около стойки, устроилась парочка, женщина была одета ярко и аляповато. За соседним столиком сидела еще какая—то женщина, одна, без мужчины. Винсент ни разу не посмотрел на нее. Официант, проходя мимо, грубо спросил у женщины: – Еще стаканчик? – У меня нет ни су! – отвечала она. Винсент повернулся к ней. – Может быть, выпьете стаканчик со мной? Женщина окинула его взглядов. – Конечно. Официант принес стакан вина, получил двадцать сантимов и ушел. Винсент и женщина сидели теперь совсем близко друг к другу. – Спасибо, – сказала женщина. Винсент вгляделся в нее повнимательней. Она была немолода, некрасива, с несколько увядшим лицом – видимо, жизнь крепко потрепала ее. При своей худобе она была очень хорошо сложена. Винсент обратил внимание на ее руку, державшую стакан, – это была не рука аристократки, как у Кэй, а рука женщины, много поработавшей на своем веку. В полумраке кафе она напоминала ему некоторые типы Шардена и Яна Стена. Нос у нее был неровный, с горбинкой, на верхней губе слегка пробивались усики. Глаза смотрели тоскливо, но все же в них чувствовалась какая—то живость. – Не за что, – ответил Винсент. – Спасибо вам за компанию. – Меня зовут Христиной, – сказала она. – А вас? – Винсентом. – Вы работаете здесь, в Гааге? – Да. – Что вы делаете? – Я художник. – О! Тоже собачья жизнь – не правда ли? – Всякое бывает. – А я вот прачка. Когда у меня хватает сил работать. Но часто сил и не хватает. – Что же вы тогда делаете? – Я долго промышляла на панели. Вот и теперь снова иду на улицу, когда хвораю и не могу работать. – Тяжело работать прачкой? – Еще бы! Мы работаем по двенадцать часов. И нам не сразу платят. Бывает, проработаешь целый день, а потом ищешь мужчину, чтобы малыши не сидели совсем голодные. – Сколько у тебя детей, Христина? – Пятеро. А сейчас я опять с прибылью. – Муж твой умер? – Я всех прижила с разными мужчинами. – Тебе, видать, нелегко приходится, правда? Она пожала плечами. – Господи боже! Не может же шахтер отказаться идти в шахту только потому, что там его того и гляди прихлопнет. – Конечно. А ты знаешь кого—нибудь из тех мужчин, от которых у тебя дети? – Только самого первого. Других я даже не звала, как звать. – А как с тем ребенком, которым ты беременна сейчас? – Ну, тут трудно сказать. Я была тогда очень хворая, стирать не могла, все время ходила на улицу. Да и не все ли равно! – Хочешь еще вина? – Закажи джину и пива. – Она порылась в своей сумочке, вынула огрызок дешевой черной сигары и закурила его. – Вид у тебя не шибко шикарный, – сказала она. – Ты продаешь свои картины? – Нет, я только начинающий. – Староват ты для начинающего. – Мне тридцать. – А выглядишь на все сорок. На какие же деньги ты живешь? – Мне немного присылает брат. – Черт побери, это не лучше, чем быть прачкой! – Где ты живешь, Христина? – У матери. – А знает мать, что ты зарабатываешь на улице? Женщина громко захохотала, но смех ее прозвучал невесело. – Господи, конечно, знает! Она меня и послала на улицу. Она сама занималась этим всю жизнь. И меня и брата прижила на улице. – Что делает твой брат? – Содержит у себя женщину. И водит к ней мужчин. – Наверное, это не очень полезно для твоих пятерых детишек. – Плевать. Когда—нибудь все они займутся тем же самым. – Невеселые дела. Так ведь, Христина? – Ну, если распустишь нюни, лучше не станет. Можно еще стаканчик джина? Что это у тебя с рукой? Большущая черная рана... – Это я обжегся. – Ох, тебе было, наверно, очень больно. Она ласково взяла руку Винсента и чуть приподняла ее над столом. – Нет, Христина, не больно. Это я нарочно. Она опустила его руку. – Почему ты пришел сюда один? У тебя нет друзей? – Нет. Есть брат, но он в Париже. – Небось тоска тебя заедает, ведь правда? – Да, Христина, ужасно. – Меня тоже. Дома дети, мать, брат. Да еще мужчины, которых я ловлю на улице. Но все время чувствуешь себя одинокой, понимаешь? Нет никого, кто бы мне действительно был нужен. И кто бы нравился. – А тебе нравился кто—нибудь, Христина? – Самый первый парень. Мне тогда было шестнадцать. Он был богатый. Не мог жениться на мне из—за своих родных. Но давал деньги на ребенка. Потом он умер, и я осталась без сантима в кармане. – Сколько тебе лет? – Тридцать два. Поздновато уже рожать детей. Доктор в больнице сказал, что этот ребенок меня погубит. – Если врач будет внимательно следить за тобой – тогда ничего. – А где я возьму такого врача? Я не скопила ни франка. Доктора в бесплатных больницах за нами не очень—то смотрят – там у них слишком много больных. – Неужели тебе негде раздобыть хоть немного денег? – Негде, хоть лопни. Разве что выходить на улицу каждую ночь месяца два подряд. Но это погубит меня еще быстрее, чем ребенок. Несколько мгновений Винсент и Христина молчали. – Куда ты пойдешь сейчас, Христина? – Я весь день простояла у лохани. Устала как собака и пришла сюда выпить стаканчик. Они должны были заплатить мне полтора франка, но задержали деньги до субботы. А мне надо два франка на жратву. Хотела здесь отдохнуть, пока не подвернется мужчина. – Можно мне пойти с тобой, Христина? Я очень одинок. Можно? – Само собой. Мне это в самый раз. К тому же ты очень милый. – Ты мне тоже нравишься, Христина. Когда ты притронулась к моей руке и сказала... это было первое ласковое слово, которое я услышал от женщины уж не знаю с каких пор. – Странно. С виду ты не урод. И такой воспитанный. – Просто мне не везет в любви. – Да, тут уж ничего не поделаешь. Можно мне выпить еще стаканчик джина? – Слушай, ни тебе, ни мне не нужно напиваться, чтобы что—то почувствовать друг к другу. Лучше положи себе в карман вот эти деньги, я могу без них обойтись. Жаль, что их маловато. – Поглядеть на тебя, так деньги тебе еще нужнее, чем мне. Ступай—ка своей дорогой. Когда ты уйдешь, я подцеплю какого—нибудь другого парня и заработаю два франка. – Нет. Возьми деньги. Я обойдусь без них. Я занял двадцать пять франков у приятеля. – Ну, ладно. Идем отсюда. Шагая по темным улицам к ее дому, они разговаривали как старые друзья. Христина рассказывала о своей жизни, ничуть не приукрашивая себя и не жалуясь на судьбу. – Тебе никогда не приходилось позировать у художников? – спросил ее Винсент. – Приходилось, когда я была молодая. – Тогда почему бы тебе не позировать для меня? Много я платить не в состоянии. Даже франк в день не могу. Но когда у меня начнут покупать картины, я стану платить тебе по два франка. Это будет лучше, чем стирка. – Идет. Я согласна. Я приведу своего мальчишку, можешь рисовать его бесплатно. Или, когда я тебе надоем, будешь рисовать маму. Она не прочь получить время от времени лишний франк. Она работает поденщицей. Наконец они добрались до дома Христины. Это был каменный одноэтажный дом с небольшим двориком. – Нас никто не увидит, – сказала Христина. – Моя комната первая. Комната Христины была тесновата и без всяких претензий; гладкие обои на стенах окрашивали ее в спокойный, серый тон, заставивший Винсента вспомнить полотна Шардена. На деревянном полу лежал половик и кусок темно– красного ковра. В одном углу стояла обыкновенная кухонная печка, в другом комод, а посредине – широкая кровать. Это была типичная комната женщины– работницы. Когда, проснувшись утром, Винсент почувствовал, что он не один, и разглядел в полумраке лежащее рядом с ним человеческое существо, мир показался ему гораздо дружелюбнее, чем прежде. Боль и одиночество, терзавшие его душу, исчезли, уступив место чувству глубокого покоя.3
С утренней почтой он получил письмо от Тео вместе с ожидаемой сотней франков. Прислать деньги раньше Тео никак не мог, Винсент выбежал на улицу и, увидев копавшуюся в огороде старушку, попросил ее позировать ему за пятьдесят сантимов. Старуха охотно согласилась. Винсент усадил ее в мирной позе у печки, поставив сбоку чайник. Он искал нужный тон: голова старухи была очень выразительна и живописна. Три четверти акварели он написал в тоне зеленого мыла. Уголок, где сидела старушка, он старался сделать как можно мягче, нежнее, с чувством. Прежде у него все получалось жестковато, резко, неровно, теперь же ему удалось добиться плавности. Винсент быстро закончил этюд, выразив в нем то, что ему хотелось. Он был глубоко благодарен Христине за все, что она сделала для него. Неудовлетворенная жажда любви отравляла все его существование, но не смогла его сломить; голод плоти был страшнее – он мог убить в нем жажду творчества, а это означало бы для него смерть. – Плотская любовь будит силы, – бурчал себе под нос Винсент, легко и свободно орудуя кистью. – Удивляюсь, почему об этом не пишет отец Мишле. В дверь постучали. Винсент отворил ее и впустил в комнату минхера Терстеха. Его полосатые брюки были безукоризненно отутюжены. Тупоносые коричневые штиблеты блестели как зеркало. Борода была аккуратно подстрижена, волосы расчесаны на пробор, воротничок сиял безупречной белизной. Терстех был искренне обрадован, увидев, что у Винсента есть настоящая мастерская и что он усердно работает. Терстех радовался, когда молодые художники завоевывали успех: это было одновременно его любимым коньком и профессией. Однако он предпочитал, чтобы успех приходил к ним узаконенным, предопределенным путем; он считал, что лучше пусть художник идет обычной дорогой и потерпит неудачу, чем нарушит все законы и добьется славы. В глазах Терстеха правила игры были важнее самого выигрыша. Терстех был честным и праведным человеком и полагал, что и все остальные люди должны быть точно такими же. Он не допускал и мысли, что на свете бывают обстоятельства, когда зло оборачивается добром или грех засчитывается во спасение. Художники, продававшие свои картины фирме Гупиль, знали, что они должны беспрекословно подчиняться правилам. Если же они восставали против кодекса приличий, Терстех отвергал их картины, хотя бы это были истинные шедевры. – Молодец, Винсент, – сказал он. – Рад видеть тебя за работой. Я люблю наведываться к своим художникам, когда они работают. – Вы очень любезны, что зашли ко мне, минхер Терстех. – Нисколько. Я давно хотел заглянуть к тебе в мастерскую, с той самой поры, как ты сюда приехал. Винсент окинул взглядом кровать, стол, стулья, печку в мольберт. – Признаться, глядеть тут особенно не на что. – Это не имеет значения. Трудись не покладая рук, и у тебя будет кое– что получше. Мауве говорил мне, что ты начинаешь работать акварелью; не забывай – на акварели большой спрос. Я постараюсь продать некоторые из твоих этюдов, а другие возьмет Тео. – На это я и надеюсь, минхер. – Сегодня ты выглядишь бодрее, чем вчера при нашей встрече. – Да, вчера я был болен. Но потом все прошло. Он вспомнил вино, джин, Христину; при мысли о том, что сказал бы Терстех, если бы он знал все это, у него мурашки побежали по коже. – Не хотите ли посмотреть кое—какие этюды, минхер? Ваше мнение для меня очень важно. Терстех разглядывал этюд, написанный в тоне зеленого мыла, – старушку в белом фартуке. Молчание его было уже не столь красноречиво, как в ту памятную для Винсента встречу на Паатсе. Опершись всей своей тяжестью на трость, он постоял минуту, затем повесил трость на руку. – Да, да, ты несомненно шагнул вперед. Мауве сделает из тебя акварелиста, я уже вижу. Конечно, на это потребуется время, но в конечном счете ты научишься. И поторапливайся, Винсент, пора начать самому зарабатывать на жизнь. Та сотня франков в месяц, которую посылает тебе Тео, достается ему нелегко, я видел это, когда был в Париже. Ты должен обеспечить себя как можно скорее. Я постараюсь купить у тебя несколько этюдов в самое ближайшее время. – Благодарю вас, минхер. Вы так заботитесь обо мне! – Я хочу, чтобы ты добился успеха, Винсент. Это в интересах фирмы Гупиль. Как только я начну продавать твои работы, ты сможешь снять хорошую мастерскую купить приличное платье и изредка бывать в обществе. Это необходимо, если ты хочешь, чтобы потом у тебя покупали картины маслом. Ну, мне пора к Мауве. Надо взглянуть на его схевенингенскую работу, которую он пишет для Салона. – Вы зайдете ко мне еще, минхер? – Непременно. Через неделю—другую загляну опять. Работай прилежно, я хочу видеть твои успехи. Я не стану приходить к тебе даром, понимаешь? Они пожали друг другу руки, и Терстех ушел. Винсент снова погрузился в работу. Если бы он мог заработать себе на жизнь, хотя бы самую скромную! Ничего больше ему и не надо. Он обрел бы независимость, не был бы никому в тягость. И, самое главное, ему не пришлось бы спешить: он мог бы медленно и спокойно нащупывать путь к мастерству, к собственной манере. Вечером Винсент получил от Де Бока записку на розовой бумаге: "Дорогой Ван Гог! Завтра утром я приведу к вам натурщицу от Артца, и мы порисуем вместе. Де Б.". Натурщица оказалась красивой молодой девушкой, – за сеанс она брала полтора франка. Винсент был необычайно рад подвернувшемуся случаю: нанять ее самостоятельно он не мог и мечтать. Девушка раздевалась около печки, в которой пылал яркий огонь. Во всей Гааге только профессиональные натурщицы соглашались позировать обнаженными. Винсента это очень огорчало: ему хотелось рисовать тело стариков и старух, имеющее свой тон, свою характерность. – Я захватил кисет с табаком и скромный завтрак, который приготовила моя экономка, – сказал Де Бок. – Так нам не придется выходить из дому и заботиться о еде. – Что ж, попробуем вашего табаку. Мой несколько крепковат, чтобы курить его с утра. – Я готова, – заявила натурщица. – Можете устанавливать позу. – Сидя или стоя, Де Бок? – Давайте порисуем сначала стоя. В новом пейзаже у меня есть несколько стоящих фигур. Они рисовали почти полтора часа, пока девушка не устала. – Пусть теперь сядет, – сказал Винсент. – В фигуре будет меньше напряженности. Они работали до полудня, склонившись над своими рисовальными досками и изредка перекидываясь словечком насчет освещения или табака. Затем Де Бок развернул пакет с завтраком, и все трое уселись у печки, закусывая тонкими ломтями хлеба с холодным мясом и сыром. Винсент и Де Бок не могли оторваться от своих рисунков и все смотрели на них. – Просто удивительно, какой объективный взгляд появляется у меня на свою работу, стоит только немного подкрепиться, – сказал Де Бок. – Можно взглянуть, что у вас получилось? – Сделайте одолжение! Де Бок добился в своем рисунке большого сходства в лице, что же касается фигуры, то в ней не было ничего индивидуального. Это было изумительно красивое тело – и только. – Боже! – воскликнул Де Бок, взглянув на рисунок Винсента. – Что вы нарисовали вместо лица? Это и называется у вас вдохнуть страсть? – Мы ведь рисовали не портрет, – возразил Винсент. – Мы рисовали фигуру. – Впервые слышу, что лицо не имеет отношения к фигуре. – А вы поглядите, как у вас получился живот, – сказал в свою очередь Винсент. – Как? – Вид у него такой, будто он надут горячим воздухом. Совершенно не чувствуется кишок. – А почему они должны чувствоваться? Я не заметил, чтобы у бедной девушки они вылезали наружу. Натурщица продолжала жевать бутерброд и даже не улыбнулась. Она считала всех художников немножко помешанными. Винсент положил свой рисунок рядом с рисунком Де Бока. – Вот видите, – сказал он, – здесь в животе их полным—полно. Глядя на этот живот вы можете сказать, что по ним прошла не одна тонна пищи. – Но при чем тут искусство? – удивился Де Бок. – Мы ведь не специалисты по внутренностям. Я хочу, чтобы люди, глядя на мои пейзажи, видели, как туман окутывает деревья, как прячется в облаках багровое солнце. Я совсем не хочу, чтобы они видели какие—то кишки. Каждый день спозаранок Винсент отправлялся на поиски натуры. Сегодня это был сынишка кузнеца, завтра старуха из лечебницы для душевнобольных в Геесте, послезавтра разносчик торфа, а однажды он привел из еврейского квартала Паддемуса бабушку вместе с внуком. Натурщики стоили ему немалых денег, хотя он знал, что должен беречь каждое су, чтобы дотянуть до конца месяца. Но какой толк жить в Гааге и учиться у Мауве, если не работать в полную силу? А поесть вволю он успеет и потом, когда завоюет себе положение. Мауве продолжал терпеливо с ним заниматься. Каждый вечер Винсент сидел в теплой, удобной мастерской на Эйлебоомен и упорно трудился. Порой, когда его акварели получались скучными и грязноватыми, он приходил в отчаяние. Мауве только смеялся. – Ну, разумеется, это еще не бог весть что, – говорил он. – Если бы твои работы сверкали уже сегодня, в них был бы лишь поверхностный лоск, а завтра ты наверняка стал бы работать скучнее и хуже. Сейчас ты корпишь над ними и у тебя выходит плохо, зато потом будешь писать быстро и с блеском. – Это верно, кузен Мауве, но если человеку надо зарабатывать на хлеб, что тогда прикажете делать? – Поверь мне, Винсент, если будешь спешить, ты лишь загубишь в себе художника. Выскочка всегда выскочкой и остается. В искусстве по сию пору действует старое правило: «Честность есть лучшая политика!» Лучше терпеть невзгоды и серьезно учиться, чем усвоить лишь тот шик, который льстит публике. – Я хочу быть верным себе, кузен Мауве, и выразить суровую правду в суровой манере. Но когда приходится зарабатывать на жизнь... Я написал несколько этюдов, которые, по—моему, Терстех мог бы... конечно, я понимаю.. – Покажи—ка мне эти этюды, – сказал Мауве. Беглым взглядом он окинул акварели и изорвал их в мелкие клочки. – Держись своей резкой манеры, Винсент, – сказал он, – и не старайся угодить любителям и торговцам. Пусть те, кто поймет тебя, сами идут к тебе. Настанет время, когда ты пожнешь плоды своего труда. Винсент посмотрел на разбросанные по полу клочки. – Спасибо вам, кузен Мауве. Этот урок пойдет мне на пользу. В тот вечер Мауве устраивал вечеринку, и скоро начали сходиться художники: Вейсенбрух, за немилосердную критику работ своих коллег прозванный Карающим Мечом, Брейтнер, Де Бок, Юлиус Бакхейзен и Нейхейс, друг Воса. Вейсенбрух был маленький, необычайно энергичный человечек. Он не пасовал ни перед кем и ни перед чем. То, что ему не нравилось, – а не нравилось ему почти все, – он уничтожал одним язвительным словом. Он писал только то, что считал нужным, и так, как считал нужным, но заставил публику полюбить свои работы. Однажды Терстех не одобрил что—то в его полотнах, и Вейсенбрух навсегда отказался от услуг фирмы Гупиль. Тем не менее он продавал все, что выходило из—под его кисти, и никто не мог догадаться, кому и каким образом. Лицо у него было столь же резкое, как и язык: лоб, нос и подбородок походили на лезвие ножа. Все побаивались Вейсенбруха и заискивали перед ним, стараясь добиться его расположения. Он презирал вся и все, чем прославился на всю страну. Отведя Винсента в угол к камину и сплевывая в огонь, Вейсенбрух с удовольствием слушал, как шипит слюна на раскаленных углях, и поглаживал гипсовую ногу, стоявшую на каминной доске. – Мне сказали, что вы Ван Гог, – начал он. – Неужели вы пишете картины с таким же успехом, как ваши дядюшки продают их? – Нет, мне ничто не приносит успеха. – Тем лучше для вас! Художник должен голодать по крайней мере до шестидесяти лет. Тогда, может быть, он создаст несколько достойных полотен. – Вздор! Вам едва за сорок, а вы пишете превосходные вещи. Вейсенбруху понравился этот решительный возглас: «Вздор!» Впервые за многие годы ему осмелились возразить подобным образом. Свое удовольствие он выразил новым выпадом: – Если вам нравится то, что я пишу, лучше бросьте живопись и наймитесь консьержем. Почему я продаю свои картины дуре публике, как вы думаете? Да потому, что они дерьмо! Если бы они были хороши, я бы с ними не расстался. Нет, мой мальчик, пока я еще только учусь. Вот когда мне стукнет шестьдесят, тогда я начну писать по—настоящему. Все, что я тогда сделаю, я никому не отдам, буду держать при себе, а умирая, велю положить со мной в могилу. Художник не упускает из своих рук ничего, что он считает достойным, Ван Гог. Он продает публике только заведомую дрянь. Де Бок украдкой подмигнул Винсенту из своего угла, и Винсент сказал: – Вы ошиблись в выборе профессии, Вейсенбрух, вам надо бы стать критиком. Вейсенбрух громко расхохотался. – Ну, Мауве, ваш кузен только с виду тихоня. Язык у него подвешен неплохо! Он повернулся к Винсенту и бесцеремонно спросил: – Черт возьми, зачем это вы нарядились в такое отрепье? Почему не купите приличное платье? Винсент носил старый перешитый костюм Тео. Перешит он был неудачно, и вдобавок Винсент каждый день пачкал его акварельными красками. – У ваших дядьев хватит денег, чтобы одеть все население Голландии. Неужто они вам не помогают? – А разве они обязаны мне помогать? Они вполне разделяют вашу точку зрения, что художник должен жить впроголодь. – Если они не верят в вас, то дело плохо. Говорят, у Ван Гогов такой нюх, что они чуют настоящего художника за сотню километров. Видимо, вы бездарь. – Ну и катитесь к чертовой матери! Винсент сердито отвернулся, но Вейсенбрух ухватил его за руку. Лицо у него сияло в широкой улыбке. – Ох и характер! – воскликнул он. – Я хотел только испытать, насколько у вас хватит терпения. Не падайте духом, мой мальчик. Вы скроены из крепкого материала. Мауве с удовольствием разыгрывал перед гостями разные сценки. Он был сыном священника, но всю жизнь знал лишь одну религию – живопись. Пока Йет разносила чай, пирожные и сыр, Мауве прочитал проповедь насчет рыбачьей лодки апостола Петра. Купил Петр эту лодку или получил по наследству? Или, может быть, приобрел ее в рассрочку? А может, – страшно подумать, – он ее украл? Художники дымили трубками и от души хохотали, налегая на сыр. – Мауве сильно изменился, – пробормотал Винсент. Винсент не знал, что Мауве переживает одну из своих творческих метаморфоз. Мауве начинал свои картины вяло, работая почти без интереса. Постепенно, по мере того как замысел креп и овладевал его сознанием, в нем просыпалась и энергия. С каждым днем он трудился все усерднее и простаивал за мольбертом все дольше. И по мере того, как изображение проступало на полотне яснее, художник становился все требовательнее к себе. Теперь он уже забывал о семье, о друзьях, обо всем, кроме работы. Он терял аппетит и целыми ночами лежал без сна, обдумывая картину. Силы его падали, беспокойство росло. Он держался на одних нервах. Его большое тело становилось тощим, а мечтательные глаза заволакивала дымка. И чем больше он уставал, тем упорнее работал. Нервный подъем, владевший им, захватывал его все сильнее и сильнее. Внутренним чутьем он угадывал, сколько времени потребуется, чтобы кончить работу, и напрягал свою волю, чтобы выдержать до конца. Он был похож на человека, одержимого тысячью бесов; у него были впереди целые годы, и он мог не торопиться, но он все подгонял себя, не зная ни минуты покоя. В конце концов он доходил до такого неистовства, что, если ему кто—нибудь попадался под руку, разыгрывались ужасные сцены. Он вкладывал в картину все свои силы, до последней капли. Как бы ни затягивалась работа, у него доставало упорства тщательно отделать ее, довести ее до последнего мазка. Ничто не могло сокрушить его волю, пока полотно не было завершено. Закончив картину, он валился с ног от изнеможения. Он был слаб, болен, почти безумен. Йет должна была долго ухаживать за ним, как за ребенком, пока к нему не возвращались силы и рассудок. Мауве был так измучен, что один вид или запах красок вызывал у него тошноту. Медленно, очень медленно приходило к нему выздоровление. Вместе с крепнувшими силами появлялся и интерес к работе. Он уже бродил по мастерской, стирая и стряхивая пыль с полотен. Потом выходил в поле, но на первых порах ничего не видел вокруг себя. В конце концов какой—нибудь пейзаж выводил его из оцепенения. И все начиналось снова. Когда Винсент приехал в Гаагу, Мауве только приступал к своей схевенингенской картине. А теперь его лихорадило все сильнее и сильнее, он стоял на пороге самого безумного, самого прекрасного и всепоглощающего исступления – творческого исступления художника.4
Как—то вечером в мастерскую Винсента постучалась Христина. На ней была черная юбка, темно—синяя блуза, волосы прикрывала темная шляпка. Весь день она простояла у корыта. Как всегда в минуты крайней усталости, рот у нее был полуоткрыт, а оспины на лице показались Винсенту особенно крупными и глубокими. – Здравствуй, Винсент, – сказала она. – Решила поглядеть, как ты живешь. – Христина, ты первая женщина, которая зашла ко мне. Как я рад тебя видеть! Позволь, я помогу тебе снять платок. Она присела к печке погреться. Затем внимательно оглядела комнату и сказала: – Тут не плохо. Только вот пустовато. – Я знаю. У меня нет денег на мебель. – Да, денег у тебя, как видно, не густо. – Я как раз собирался ужинать, Христина. Не хочешь ли поесть вместе со мной? – Почему ты не зовешь меня Син? Меня все так зовут. – Ну, хорошо, пусть будет Син. – А что у тебя на ужин? – Картошка и чай. – Я сегодня заработала два франка. Пойду куплю немного говядины. – Деньги—то у меня есть. Мне кое—что прислал брат. Сколько надо на мясо? – Больше чем на пятьдесят сантимов мы, я думаю, не съедим. Скоро она вернулась со свертком в руках. Винсент взял у нее мясо и принялся было за стряпню. – Садись на место, слышишь? Ты ничего не понимаешь в хозяйстве. Это женское дело. Когда она склонилась над печкой, отблеск пламени заиграл на ее щеках. Теперь она казалась очень хорошенькой. Когда она нарезала картошку, положила ее вместе с мясом в горшок и поставила на огонь, это выглядело так естественно и дышало таким уютом! Винсент сел на стул у стены и смотрел на Христину – на душе у него стало тепло. Это был его дом, и вот рядом с ним женщина, любовно готовящая ему ужин. Как часто он мечтал об этом, представляя себе в роли хозяйки Кэй! Син взглянула на него. Она увидела, что Винсент вместе со стулом резко откинулся к стене. – Эй, дурной, – сказала она, – сядь как следует. Ты что, хочешь свернуть себе шею? Винсент улыбнулся. Все женщины, с которыми ему приходилось жить под одной крышей – мать, сестры, тетки, кузины, – все до одной говорили ему: « Винсент, сиди на стуле как следует. А то свернешь себе шею». – Ладно, Син, – отозвался он. – Я буду умником. Как только она отвернулась, он опять привалился вместе со стулом к стене и, довольный, закурил трубку. Христина поставила ужин на стол. Кроме мяса, она купила еще две булочки; когда с жарким было покончено, они подобрали подливку кусочками хлеба. – Могу поспорить, что ты такой ужин не сготовишь, – сказала она. – Конечно, нет, Син! Когда я готовлю сам, то не могу и разобрать, что я ем – то ли рыбу, то ли птицу, то ли самого черта. За чаем Син закурила свою неизменную черную сигару. Они дружески болтали. Винсент чувствовал себя с нею гораздо проще, чем с Мауве или Де Боком. Между ним и Сии чувствовалось какое—то родство, и Винсент даже не пытался разобраться, в чем тут дело. Они говорили о самых обычных вещах, говорили просто, нисколько не рисуясь друг перед другом. Она слушала Винсента, не перебивая и не стараясь вставить словечко о себе. Она ничего не хотела навязывать Винсенту. Ни тот, ни другой не стремились произвести впечатление друг на друга. Когда Син рассказывала о себе, о своих горестях и несчастьях, Винсенту нужно было изменить лишь немногое – и получался как бы рассказ о его собственных горестях и несчастьях. Разговор тек спокойно, без возбуждения, а молчание было непринужденным. Это было общение двух душ, открытых, свободных от всяких условностей, от всякого расчета и искусственности. Винсент встал с места. – Что ты намерен делать? – спросила Син. – Мыть посуду. – Садись. Мыть посуду ты не умеешь. Это женское дело. Он откинулся со стулом к печке, набил трубку и с довольным видом пускал клубы дыма, а она мыла в тазу посуду. Ее крепкие руки покрылись мыльной пеной, вены на них набухли, мелкая сеть морщинок красноречиво говорила о том, что они много поработали на своем веку. Винсент взял карандаш и бумагу и набросал ее руки. – Ну, вот и готово, – заявила она, покончив о посудой. – Теперь бы выпить немного джину и пива... Они просидели весь вечер, потягивая пиво, и Винсент рисовал Син. Сидя на стуле у горящей печки и положив руки на колени, Син не скрывала своего удовольствия. Тепло и приятные разговоры с человеком, который ее понимал, делали ее оживленной. – Когда ты покончишь со стиркой? – спросил Винсент. – Завтра. И слава богу. Уже никаких сил нет. – Ты плохо себя чувствуешь? – Нет, но теперь это близко, совсем близко. Проклятый ребенок все шевелится во мне. – Тогда, может быть, ты начнешь мне позировать на той неделе? – А что надо делать – сидеть и только? – Конечно. Иногда надо встать или раздеться. – Ну, тогда совсем хорошо. Ты работаешь, а я получаю денежки. Она выглянула в окно. На улице шел снег. – Хотела бы я быть уже дома. Вон какой холод, а у меня только платок. И идти далеко. – Тебе надо опять сюда завтра утром? – В шесть часов. Еще затемно. – Тогда, Син, если хочешь, оставайся здесь. Я буду рад. – А я тебе не помешаю? – Нисколько. Кровать у меня широкая. – Двое в ней улягутся? – Вполне. – Значит, я остаюсь. – Ну и отлично. – Как хорошо, что ты предложил мне остаться, Винсент. – Как хорошо, что ты осталась. Утром Христина заварила – кофе, прибрала постель и подмела мастерскую. Потом она ушла стирать. И тогда мастерская показалась Винсенту совсем пустой.5
В тот же день к Винсенту опять пришел Терстех. Глаза у него блестели, а щеки раскраснелись от мороза. – Как идут дела, Винсент? – Отлично, минхер Терстех. Я тронут, что вы снова заглянули ко мне. – Не покажешь ли мне что—нибудь интересное? За этим я, собственно, и пришел. – Да, у меня есть несколько новых вещей. Прощу вас, присядьте. Терстех покосился на стул, полез в карман за платком, чтобы смахнуть пыль, но в конце концов решил, что это не совсем вежливо, и, скрывая брезгливость, сел. Винсент показал ему три—четыре небольшие акварели. Терстех торопливо взглянул на них, словно пробегая длинное письмо, затем вернулся к первому этюду и стал пристально его рассматривать. – Дело идет на лад, – сказал он, помолчав. – Акварели, конечно, еще оставляют желать лучшего, они грубоваты, но ты продвигаешься вперед. Ты поскорее должен сделать что—нибудь такое, что я мог бы купить. – Хорошо, минхер. – Пора подумать о самостоятельном заработке, мой мальчик. Жить на чужой счет не годится. Винсент взял в руки свои акварели и поглядел на них. Он и раньше догадывался, что они грубоваты, но, как всякий художник, не мог видеть все несовершенство своих произведений. – Только о том и мечтаю, чтобы самому зарабатывать на жизнь, минхер. – Так трудись усерднее. Надо спешить. Если б ты создал стоящую вещь, я с удовольствием купил бы ее у тебя. – Благодарю вас, минхер. – Как бы то ни было, я рад видеть, что ты не унываешь и работаешь. Тео просил меня присматривать за тобой. Напиши что—нибудь стоящее. Винсент, я хочу, чтобы ты занял свое место на Плаатсе. – Я стараюсь писать как можно лучше. Но не всегда рука повинуется моей воле. А все—таки Мауве понравилась одна из этих вещей. – Что же он сказал? – Сказал: «Это уже начинает походить на акварель». Терстех рассмеялся, обмотал свой шерстяной шарф вокруг шеи и со словами: «Работай, Винсент, работай; только так и создаются великие произведения», – вышел из мастерской. Винсент написал дяде Кору, что он устроился в Гааге, и звал его приехать. Дядя часто наведывался в Гаагу, чтобы купить материалов и картин для своего художественного магазина – самого большого в Амстердаме. Однажды в воскресенье Винсент зазвал к себе в гости детишек, с которыми успел свести знакомство. Чтобы ребятам не было скучно, пока он их рисовал, Винсент купил им конфет и, не отрываясь от своей рисовальной доски, рассказывал сказку за сказкой. Услышав резкий стук в дверь и басовитый, зычный голос, Винсент понял, что приехал дядя. Корнелис Маринюс Ван Гог пользовался известностью, был богат, и дело его процветало. Но несмотря на это, в его больших, темных глазах сквозила печаль. Губы у него были тоньше и суше, чем у остальных Ван Гогов. Голова же была типично ван—гоговская: выпуклые надбровья, квадратный лоб, широкие скулы, массивный округлый подбородок и крупный, резко очерченный нос. Корнелис Маринюс приметил в мастерской все до последней мелочи, хотя сделал вид, будто ни на что не обращает внимания. Он перевидал больше мастерских, чем любой другой человек в Голландии. Винсент роздал детям остатки конфет и отправил их по домам. – Не выпьете ли вы со мной чашку чая, дядя Кор? На улице, наверно, ужасный холод. – Спасибо, Винсент, выпью. Винсент подал ему чай и подивился, как беззаботно в ловко держит дядя свою чашку на коленях, рассуждая о всяких новостях. – Итак, ты решил стать художником, Винсент, – сказал Корнелис. – Да, пора Ван Гогам иметь своего художника. Хейн, Винсент и я покупаем картины у чужих людей вот уже тридцать лет. Теперь же часть денег будет оставаться в семье. – Ну, если трое дядьев и брат торгуют картинами, я могу развернуться вовсю! – засмеялся Винсент. – Не хотите ли кусок хлеба с сыром, дядя Кор? Может, вы проголодались? Корнелис Маринюс хорошо знал, что отказываться от еды у бедного художника – значит жестоко оскорбить его. – Спасибо, поем с удовольствием. Сегодня я рано завтракал. Винсент положил несколько ломтей грубого черного хлеба на щербатую тарелку и вынул из бумаги кусок дешевого сыра. Корнелис Маринюс сделал над собой усилие, чтобы отведать того и другого. – Терстех сказал мне, что Тео присылает тебе сто франков в месяц. – Да, присылает. – Тео молодой человек, ему надо бы беречь деньги. А ты должен зарабатывать свой хлеб сам. Винсент был сыт по горло теми поучениями, которые он только вчера выслушал от Терстеха. Он быстро, не подумав, ответил: – Зарабатывать свой хлеб, дядя Кор? Что это значит? Зарабатывать свой хлеб... или не даром его есть? Есть свой хлеб даром или, иными словами, быть недостойным его, – это, конечно, преступление, ибо каждый честный человек должен быть достоин своего хлеба. Но не уметь зарабатывать на хлеб, хотя и быть достойным его, – это уже несчастье, большое несчастье. Отщипнув кусочек черного мякиша, Винсент скатал из него твердый шарик. – Так вот, если вы скажете мне, дядя Кор: «Ты недостоин своего хлеба», – вы меня обидите. Но если вы справедливо заметите, что я не всегда зарабатываю свой хлеб, то возражать тут не приходится. Но что толку об этом говорить? Если больше вам нечего сказать, это мне ничуть не поможет. О хлебе Корнелис больше не заговаривал. Беседа текла в самом спокойном тоне, пока, совершенно случайно, Винсент, заговорив о выразительности в искусстве, не упомянул имя художника Де Гру. – А знаешь ли ты, Винсент, – сказал Корнелис, – что о личной жизни Де Гру идет худая слава? Винсент не мог спокойно слушать, когда говорили такие вещи о славном Де Гру. Он понимал, что гораздо лучше смиренно поддакнуть дяде, но, видимо, разговаривая с Ван Гогами, он уже ни с чем не мог бы согласиться. – Дядя Кор, мне всегда казалось, что художник, вынося свою работу на суд публики, вправе сохранить при себе свои переживания, свою личную жизнь, хотя она роковым образом связана со всеми трудностями, которые приходится преодолевать, создавая произведение искусства. – Но вместе с тем, – возразил Корнелис, прихлебывая чай, к которому Винсент не подал сахара, – один тот факт, что человек не ходит за плугом или не корпит над счетной книгой, а работает кистью, еще не дает ему орава вести распущенную жизнь. Я сомневаюсь, что мы должны покупать картины художников, которые пренебрегают нравственностью. – А я считаю, что еще безнравственней копаться в грязном белье художника, если его работа безупречна. Труд художника и его личная жизнь – все равно что роженица и ее ребенок. Вы можете глядеть на ребенка, но нечего задирать у роженицы рубашку и смотреть, не запачкана ли она кровью. Это в высшей степени нескромно. Корнелис только что откусил кусочек бутерброда с сыром. Он поспешно выплюнул его в горсть и швырнул в печку. – Ну и ну, – бормотал он. – Ну и ну! Винсент испугался, что Корнелис рассердится, но все сошло благополучно. Усадив дядю поближе к огоньку, Винсент вынул папку со своими набросками и этюдами. Сначала Корнелис молчал, но когда дошел до небольшого рисунка, изображавшего Паддемус со стороны торфяного рынка, – Винсент сделал его в двенадцать часов ночи, гуляя с Брейтнером, – дядя не удержался. – Это здорово, – сказал он. – Можешь ты нарисовать еще несколько городских пейзажей? – Конечно. Я рисую их, когда хочу отдохнуть от работы с моделью. Тут и еще есть такие пейзажи. Вот поглядите! Винсент, заглядывая через плечо Корнелиса, стал перебирать в папке листы разных размеров. – Это Флерстех... а это Геест. Вот рыбный рынок. – Можешь ты нарисовать для меня дюжину таких пейзажей? – Могу, но это уже сделка, а раз сделка – давайте условимся о цене. – Хорошо, сколько же ты хочешь? – На рисунки такого размера, все равно, карандашом или пером, у меня цена одинаковая – два с половиной франка. Это не слишком дорого, как вы полагаете? Корнелису оставалось только рассмеяться про себя, – такие это были ничтожные деньги! – Разумеется, не дорого. Если рисунки будут удачные, я попрошу тебя нарисовать еще двенадцать видов Амстердама. И тогда уже назначу цену сам, чтобы ты получил немного больше. – Дядя Кор, это мой первый заказ! Я не могу и сказать, как я счастлив! – Мы все хотим помочь тебе, Винсент. Только доведи свои работы до нужного уровня, и мы станем покупать у тебя все, что ты нарисуешь. – Он взял шляпу и перчатки. – Будешь писать Тео, передай ему привет от меня. Опьяненный успехом, Винсент схватил свою новую акварель и побежал на улицу Эйлебоомен. Дверь открыла Йет. Вид у нее был расстроенный. – На твоем месте я не стала бы заходить в мастерскую, Винсент. Антон не в себе. – Что случилось? Он болен? Йет вздохнула. – Мечется, как всегда. – Ну, тогда ему, конечно, не до меня. – Лучше обожди до другого раза, Винсент. Я скажу ему, что ты приходил. Когда он будет спокойнее, он сам к тебе зайдет. – Ты не забудешь сказать ему обо мне? – Не забуду. Винсент ждал не одну неделю, но Мауве все не было. Вместо него дважды приходил Терстех. Каждый раз он повторял одно и то же: – Да, да, ты, пожалуй, шагнул немного вперед. Но это еще не то, что нужно. Я еще не могу продавать твои вещи на Плаатсе. Боюсь, что ты работаешь недостаточно усердно или слишком торопливо, Винсент. – Дорогой минхер Терстех, я встаю в пять утра и работаю до одиннадцати или двенадцати ночи. Я отрываюсь от работы лишь для того, чтобы немного перекусить. Терстех недоумевающе покачал головой. Он снова всмотрелся в акварель. – Не понимаю, не понимаю. Твои работы отдают тою же грубостью и резкостью, которая была у тебя, когда ты впервые появился на Плаатсе. Тебе уже давно бы пора это преодолеть. Если у человека есть способности, при упорной работе этого вполне можно добиться. – При упорной работе! – повторил Винсент. – Видит бог, я рад бы купить твои этюды, Винсент! Я хочу, чтобы ты зарабатывал себе на жизнь. Это несправедливо, что Тео приходится тебя кормить... Но я не могу, не могу покупать твои вещи, пока они плохи! Ведь тебе не нужна милостыня. – Нет, не нужна. – Ты должен спешить, это главное. Должен начать продавать свои вещи и зарабатывать себе на жизнь. Когда Терстех повторил эти слова в четвертый раз, Винсент подумал, что он просто издевается над ним. «Ты должен зарабатывать себе на жизнь... но я не могу у тебя купить ничего, ровным счетом ничего!» Как же, черт возьми, он может заработать себе на жизнь, если у него ничего не покупают? Однажды Винсент встретил на улице Мауве. Художник шел быстрым шагом, шел, сам не зная куда, опустив голову и выставив вперед правое плечо. Винсента он словно не узнал. – Давно не видел вас, кузен Мауве. – Я был занят. – Тон у Мауве был холодный, равнодушный. – Да, я знаю, у вас новая картина. Как она продвигается? – Ах... – Он сделал неопределенное движение рукой. – Можно мне как—нибудь зайти к вам в мастерскую? Боюсь, что я со своими акварелями так и застрял на одном месте. – Не сейчас. Говорю тебе, я занят. Я не могу тратить время попусту. – Тогда не заглянете ли вы ко мне, когда выйдете прогуляться? Несколько ваших слов направили бы меня на верную дорогу. – Возможно, как знать. Только я сейчас занят. Мне надо идти. Он зашагал дальше, устремляясь вперед всем телом. Винсент в недоумении глядел ему вслед. Что же такое случилось? Неужели он чем—нибудь оскорбил Мауве? Оттолкнул его? Винсент был очень удивлен, когда через несколько дней к нему в мастерскую наведался Вейсенбрух. Ведь этот человек снисходил до разговора с молодыми или даже с признанными художниками лишь затем, чтобы разругать их на все корки. – Вот это да! – с порога закричал Вейсенбрух, оглядывая комнату. – Дворец, настоящий дворец! Скоро вы будете здесь писать портреты короля и королевы. – Если вам здесь не нравится, можете убираться, – огрызнулся Винсент. – Почему вы не плюнете на живопись, Ван Гог? Ведь это собачья жизнь. – Вы же вот процветаете. – Да, но я добился успеха. А вы никогда не добьетесь. – Возможно. Но я буду писать куда лучше вас. Вейсенбрух расхохотался. – Нет, это вам не удастся! Но, наверное, вы будете писать лучше всех в Гааге, за исключением меня. Если только в вашей живописи отразится ваш характер. – А вы считаете, что тут нет характера? – спросил Винсент, доставая свою папку. – Присядьте, посмотрите. – Я не могу смотреть рисунки сидя. Акварели Вейсенбрух отодвинул в сторону, едва взглянув на них. – Это не в вашей манере; акварель – слишком пресная, вялая техника, чтобы выразить то, что вы хотите. Он заинтересовался карандашными рисунками,изображавшими боринажцев, брабантцев, стариков и старух, которых Винсент часто рисовал в Гааге. Рассматривая лист за листом, он только посмеивался, Винсент ждал, что сейчас на него обрушится град издевательств. – Рисуете вы просто великолепно, – сказал Вейсенбрух, и глаза у него заблестели. – Пожалуй, по этим эскизам я и сам не прочь бы поработать. У Винсента будто подломились колени, так неожиданны были слова Вейсенбруха. Он упал на стул как подкошенный. – Вас, кажется, называют Карающим Мечом? – Так оно и есть. Если бы я увидел, что ваши рисунки плохи, я бы сказал это прямо. – А Терстех разбранил меня за них. Говорит, что они чересчур грубы и резки. – Глупости! В этом—то их сила. – Я хотел рисовать пером, но Терстех говорит, что мне надо целиком перейти на акварели. – И тогда он будет продавать эти акварели, да? Нет, мой друг, если вы видите натуру как рисунок пером, то и передавайте ее рисунком. И, главное, никого не слушайте, даже меня. Идите своим путем. – Пожалуй, так и придется. – Когда Мауве сказал, что вы художник божьей милостью, Терстех не согласился с ним, и Мауве стал вас защищать. Это было при мне. Если это повторится, то теперь, когда я видел ваши работы, я тоже буду стоять за вас. – Мауве сказал, что я художник божьей милостью? – Не вбивайте себе это в голову. Благодарите бога, если хотя бы умрете художником. – Тогда почему же он так холоден ко мне? – Он ко всем холоден, Винсент, когда заканчивает картину. Не обращайте на это внимания. Вот он покончит со своим схевенингенским полотном, и все образуется само собой. А пока можете заходить ко мне, если вам понадобится помощь. – Разрешите задать вам один вопрос, Вейсенбрух? – Пожалуйста. – Это Мауве прислал вас сюда? – Да, Мауве. – А зачем? – Ему хочется знать мое мнение о вашей работе. – Но зачем же ему знать? Если он считает меня художником божьей милостью... – Не знаю. Быть может, Терстех заронил в него сомнение.6
Терстех все больше терял веру в Винсента, а Мауве становился к нему все холоднее, но их место в его жизни постепенно занимала Христина: она дарила его той простой дружбой, по которой он так тосковал. Она приходила в мастерскую каждый день, рано поутру, и приносила корзинку с шитьем – ей хотелось; чтобы ее руки, как и руки Винсента, были тоже заняты работой. Голос у нее был грубый, слова неловкие, но говорила она спокойно, тихо, и когда Винсенту надо было сосредоточиться, она ему нисколько не мешала. Почти все время Христина мирно сидела у печки, глядя в окно или занимаясь шитьем каких—то вещей для будущего ребенка. Позировала она плохо и с трудом понимала, что от нее хотят, но старалась изо всех сил. Скоро у нее вошло в обычай, перед тем как уйти домой, варить ему обед. – Ты напрасно беспокоишься, Сип, – говорил ей Винсент. – Тут нет никакого беспокойства. Просто я делаю это лучше, чем ты. – Но ты пообедаешь вместе со мной? – Само собою. За малышами мать присмотрит. Мне у тебя нравится. Винсент платил ей франк в день. Он понимал, что это ему не по средствам, но ему было приятно, что она постоянно рядом с ним – кроме того, ему доставляла удовольствие мысль, что он спасает ее от стирки. Когда Винсенту приходилось отлучаться из дому днем, он рисовал ее по вечерам до поздней ночи, и Христина уже не уходила от него. Просыпаясь, Винсент с наслаждением вдыхал запах только что сваренного кофе, глядя, как заботливая женщина хлопочет у печки. Впервые в жизни у него была своя семья, и он чувствовал себя очень уютно. Порой Христина оставалась у него на ночь просто так, без всякой причины. – Я сегодня буду спать здесь, Винсент, – говорила она. – Можно? – Ну конечно, Син. Оставайся, когда хочешь. Ты ведь знаешь, я этому рад. И хотя он ни о чем не просил ее, она начала стирать ему белье, чинить платье и ходить за покупками. – Ведь вы, мужчины, не умеете следить за собой, – говорила она. – Вам надо, чтобы под боком была женщина. Я уверена, что тебя надувают в каждой лавочке. Она вовсе не была хорошей хозяйкой; лень, царившая в доме ее матери, за долгие годы притупила в ней стремление к чистоте и порядку. Она принималась за уборку лишь временами, но решительно и энергично. Ведь она в первый раз за свою жизнь вела хозяйство мужчины, который ей нравился, и поэтому с удовольствием бралась за дело... когда не забывала о нем. Винсент был в восторге; за что бы она ни принималась, ему и в голову не приходило в чем—нибудь ее упрекнуть. Теперь, когда она оправилась от своей вечной усталости, голос у нее стал уже не такой грубый, бранные слова одно за другим исчезали из ее речи. Но она не умела сдерживать свои чувства, и если что—нибудь ее раздражало, она приходила в ярость и снова начинала ругаться хриплым голосом, употребляя такие выражения, каких Винсент не слышал со школьных дней. В эти минуты он видел в Христине карикатуру на самого себя; он тихо сидел на своем стуле, дожидаясь, пока буря утихнет. Христина была столь же терпелива по отношению к нему. Если у него не получался рисунок или она вдруг забывала все, чему он учил ее, и плохо позировала, он разражался бешеной бранью, сотрясавшей стены. Она спокойно давала ему выговориться, и скоро снова наступала тишина. К счастью, получалось так, что они никогда не выходили из себя одновременно. Изо дня в день рисуя Христину, Винсент хорошо изучил ее фигуру и решил теперь сделать настоящий, серьезный этюд. На эту мысль его натолкнула фраза у Мишле: «Comment se fait—il qu'il y ait sur la terre une femme seule desesperee?» ["Как это могло случиться, что на свете живет такая одинокая, отчаявшаяся женщина?" (фр.)] Он усадил обнаженную Христину на обрубок дерева подле печки. Разрабатывая этюд, он превратил этот обрубок в пень, вокруг которого пучками росла трава, и перенес всю сцену на природу. Христину он изобразил так: узловатые кисти рук лежат на коленях, голову она уронила на тощие руки, жидкая коса распущена по спине, острые груди свисают к худым бедрам, длинные плоские ступни неуверенно поставлены на землю. Он назвал свой рисунок «Скорбь». Это была женщина, из которой выжаты все соки жизни. Внизу он написал строчку из Мишле. Работа над рисунком заняла целую неделю и вконец опустошила карман Винсента, а до первого марта оставалось еще десять дней. Два—три дня можно было протянуть на черном хлебе из прежних запасов. Винсент почувствовал, Что надо прекратить работу с натурой, хотя это и отбросит его назад. – Син, – сказал он, – боюсь, что я не смогу рисовать тебя до начала следующего месяца. – А что случилось? – У меня вышли все деньги. – Ты не можешь мне платить? – Да. – Мне сейчас все равно нечего делать. Я буду к тебе ходить просто так. – Но тебе надо зарабатывать деньги, Син. – Немножко заработаю как—нибудь. – Но ведь если ты будешь целыми днями сидеть здесь, когда же тебе стирать? – Брось думать об этом... Я обойдусь. Она приходила к нему еще три дня, пока был хлеб. Потом хлеб съели, до первого числа оставалась целая неделя, и Винсент сказал Христине, что он едет в Амстердам к дяде, а когда вернется, зайдет к ней. Три дня он просидел, не выходя из мастерской, на одной воде и делал кое—какие копии; голод не особенно мучил его. На третий день вечером он пошел к Де Боку, надеясь попить у него чаю с печеньем. – Добро пожаловать, старина, – приветствовал его Де Бок, стоя у мольберта. – Устраивайтесь поудобнее. Скоро мне надо будет идти на званый ужин, а до тех пор я поработаю. На столе есть несколько журналов. Читайте, пожалуйста. И ни слова о чае. Винсент знал, что Мауве не хочет его видеть, а просить о чем—нибудь Йет ему было стыдно. Что же касается Терстеха, то после того, как этот коммерсант очернил его в глазах Мауве, Винсент предпочел бы скорее умереть с голоду, чем идти к нему на поклон. Но как бы ни было отчаянно положение Винсента, ему даже в голову не пришло, что можно заработать несколько франков не рисованием, а чем—то иным. Снова воскрес его старый недуг – лихорадка, заныли в коленях ноги, и он слег в постель. Он понимал, что ждет напрасно, но все же надеялся на чудо – вдруг Тео пришлет сто франков на несколько дней раньше срока. Но Тео сам получал жалованье только первого числа. На пятый день к вечеру в мастерскую без стука вошла Христина. Винсент спал. Она постояла над ним, разглядывая его изборожденное морщинами лицо, рыжую бороду, под которой сквозила бледная кожа, шершавые воспаленные губы. Потом осторожно приложила руку к его лбу – у Винсента был жар. Христина обшарила полку, на которой обычно хранилась еда. Там не было ни крошки черствого хлеба, ни зернышка кофе. Христина вышла, тихонько прикрыв за собой дверь. А через час Винсенту приснилось, будто он сидит на кухне в Эттене и мать варит ему кофе. Он очнулся и увидел Христину, она сидела у печки и мешала ложкой в горшке. – Син, – пробормотал он. Она подошла к кровати и коснулась своей прохладной ладонью его рыжей щетины: щека Винсента была словно в огне. – Брось ты свою гордость, – проговорила она, – и хватит мне врать. Если мы бедны, это не наша вина. Нам надо помогать друг другу. Разве ты не помог мне, когда мы в первый раз встретились в кафе? – Син, – повторил он. – Лежи спокойно. Я принесла из дому картошки и бобов. Все уже готово. Она размяла картошку, положила в нее зеленых бобов и, присев к изголовью, стала кормить Винсента. – Зачем ты каждый день давал мне деньги, если тебе самому не хватало? Жить впроголодь не годится. Теперь он мог, ожидая денег от Тео, бороться с нуждой не одну неделю. Но неожиданная доброта, как всегда, сломила его. Он решил пойти к Терстеху. Христина выстирала Винсенту рубашку, но выгладить ее было нечем. Утром она дала ему хлеба с кофе. Он поплелся прямо на Плаатс. Башмаки у него были в грязи, один каблук отвалился, засаленные брюки были в заплатах. Пальто, подаренное ему Тео, едва налезало на плечи. Старенький галстук съехал на левую сторону. На голове у него была одна из тех нелепых шапок, которые он где—то выкапывал на удивление всем. Он брел вдоль железнодорожных путей у вокзала Рэйн, огибая опушку леса и платформы, откуда поезда отходили на Схевенинген. Под неяркими лучами солнца Винсент особенно остро почувствовал, как он ослабел. На Плейне он случайно взглянул на свое отражение в окне магазина. И вдруг его словно озарило – он увидел себя таким, каким видели его жители Гааги: нескладным, лохматым, грязным бродягой, больным, обессиленным, опустившимся. Плаатс раскинулся широким треугольником, переходя около замка в Хоф– фейфер. Только самые богатые торговцы могли позволить себе держать здесь магазины. Винсент с трепетом вступил в этот священный треугольник. Он только сейчас понял, какое огромное расстояние отделяет его от Плаатса. Приказчики фирмы Гупиль были заняты уборкой. Они уставились на Винсента с нескрываемым любопытством. Ведь его родичи вершат судьбы искусства во всей Европе. Что же этот дурак ходит таким оборванцем? Терстех сидел наверху, в своем кабинете. Ножом с нефритовым черенком он распечатывал утреннюю почту. Подняв глаза, он увидел маленькие, круглые уши Винсента, сидевшие гораздо ниже бровей, его лицо, заострявшееся книзу от скул, а затем переходившее в квадратный подбородок, лоб, над левой бровью прикрытый густыми волосами, зеленовато—голубые глаза, смотревшие на него испытующе, но бесстрастно, полные красные губы, казавшиеся еще краснее от обрамлявшей их бороды и усов. Терстех никогда не мог решить, красив Винсент или безобразен. – Итак, ты сегодня в нашем магазине самый ранний посетитель, Винсент, – сказал он. – Чем могу служить? Винсент рассказал о своих затруднениях. – Куда же ты дел свои сто франков? – Истратил. – Если ты был так расточителен, то не рассчитывай на мою поддержку. В каждом месяце тридцать дней; ты не должен тратить в день больше чем положено. – Я не был расточительным. Почти все деньги ушли на модель. – Выходит, не надо нанимать модель. Дешевле работать одному. – Работать без модели – значит загубить в себе художника, который хочет писать людей. – Что ж, не пиши людей. Рисуй коров и овец. Им платить не нужно. – Как я могу рисовать коров и овец, минхер, если не чувствую их? – Так или иначе, рисовать людей тебе незачем; такие рисунки все равно не продашь. Пиши акварели и ничего больше. – Акварель не в моем—характере. – Мне кажется, рисунок для тебя – вроде наркотика, который ты Принимаешь, чтобы заглушить в себе чувство обиды, оттого что не можешь писать акварели. Наступило молчание. Винсент не знал, что сказать. – Де Бок не пользуется моделью, хоть он и богат. Не станешь же ты отрицать, что его полотна великолепны; они ценятся с каждым днем дороже. Я все ждал, что ты сумеешь перенять у него хоть немного изящества. Но, как видишь, ничего не выходит. Я просто разочарован, Винсент, – твои работы по– любительски неуклюжи. Теперь я совершенно уверен, что ты не художник. У Винсента внезапно подкосились ноги: давал себя знать голод, который терзал его вот уже пять суток. Он сел на резную ручку итальянского кресла. Слова у него будто застряли где—то внизу, в пустой утробе, и он никак не мог совладать со своим голосом. – Почему вы так со мной говорите, минхер? – вымолвил он, помолчав. Терстех вынул белоснежный платок, вытер им нос, углы рта, бороду. – Потому что у меня есть обязательства перед тобой и перед твоей семьей. Ты должен знать правду. У тебя есть еще время, чтобы спасти себя, Винсент, если ты поторопишься. Ты не родился художником, тебе надо искать другое место в жизни. Насчет художников я никогда не ошибался. – Я знаю, – сказал Винсент. – Главная беда в том, что ты начал слишком поздно. Если бы ты взялся рисовать мальчишкой, может быть, теперь ты чего—нибудь и достиг бы. Но тебе тридцать, Винсент, пора бы уже добиться успеха. В твои годы я был уже человеком. А как ты можешь рассчитывать на успех, если у тебя нет таланта? Хуже этого, – как можешь ты оправдать себя в своих глазах за то, что принимаешь милостыню от Тео? – Мауве однажды сказал мне: «Винсент, когда ты рисуешь, ты истинный живописец». – Мауве твой кузен: он просто щадит тебя. Я друг тебе и, поверь, отношусь к тебе лучше, чем Мауве. Брось свое рисование, пока не поздно, пока ты не понял, что жизнь прошла попусту. Когда—нибудь, когда ты поймешь, где твое место в жизни, и добьешься успеха, ты придешь ко мне и скажешь спасибо. – Минхер Терстех, у меня нет ни сантима на хлеб вот уже пять дней. Но я не попросил бы у вас денег, если бы речь шла только обо мне. У меня есть натурщица, бедная, больная женщина. Я задолжал ей. Она страшно нуждается. Прошу вас, одолжите мне десять гульденов, пока я не получу денег от Тео. Я верну их вам. Терстех встал и поглядел в окно: на озере – единственном, которое уцелело от дворцовых водоемов, – плавали лебеди. Он не мог понять, почему Винсенту вздумалось поселиться в Гааге, когда его дядья владеют художественными магазинами в Амстердаме, Роттердаме, Брюсселе и Париже. – Ты полагаешь, что я сделаю доброе дело, если дам тебе десять гульденов, – не поворачивая головы и не разнимая стиснутых за спиной рук, сказал Терстех. – Но мне кажется, что я сделаю еще более доброе дело, отказав тебе. Винсент знал, как достала Син денег на картошку и бобы. Он не мог допустить, чтобы она и дальше кормила его. – Минхер Терстех, вы, конечно, правы. Я не художник, у меня нет таланта. Давать мне деньги было бы с вашей стороны неразумно. Я должен сам начать зарабатывать и найти свое место в жизни. Но во имя нашей старой дружбы я прошу вас одолжить мне десять гульденов. Терстех вынул из кармана сюртука бумажник, отыскал в нем ассигнацию в десять гульденов и протянул ее Винсенту, не проронив ни слова. – Благодарю вас, – сказал Винсент. – Вы очень добры. Проходя по чисто подметенным улицам мимо аккуратных кирпичных домиков, от которых веяло покоем и уютом, он бормотал про себя: «Нельзя постоянно быть со всеми в дружбе, иногда приходится ссориться. Но по крайней мере полгода я ни разу не зайду к Терстеху, ни разу не заговорю с ним, не покажу ему ни одной работы». Он пошел прямиком к Де Боку, чтобы взглянуть на его полотна, которые пользовались таким успехом у публики и в которых было изящество – то, чего не хватало Винсенту. Де Бок сидел, положив ноги на стул, и читал английский роман. – Доброе утро! – сказал он. – У меня сплин. Не могу взять карандаша в руки. Берите стул и попробуйте развлечь меня. Сейчас не слишком рано, чтобы закурить сигару? Расскажите что—нибудь интересное. – Позвольте мне посмотреть еще раз ваши полотна, Де Бок. Мне надо разобраться, почему ваши работы покупают, а мои нет. – Талант, старина, талант! – усмехнулся Де Бон, лениво вставая с места. – Талант – это божий дар. Либо он у вас есть, либо его нет. Мне трудно сказать, что я за человек, но пишу я чертовски здорово! Он вытащил дюжину картин, еще на подрамниках, и беспечно Шутил и острил, а Винсент горящими глазами чуть ли не насквозь пронзал эти холсты с их худосочной живописью. «Мои работы лучше, – говорил он себе. – Мои правдивее, глубже. Плотничьим карандашом я выражаю больше, чем он целой палитрой красок. Он изображает лишь очевидное. И по существу не говорит ничего. Почему же его осыпают похвалами и деньгами, а мне отказывают в черном хлебе и кофе?» Когда Винсент уходил от Де Бока, он бормотал себе под нос: – Что—то гнетет меня у Де Бока. Есть в нем какая—то пресыщенность, что—то мертвящее и неискреннее. Милле был прав: «J'aimerais mieux ne rien dire que m'exprimer faiblement» ["Я скорее предпочел бы вовсе ничего не делать, чем выразить себя слабо" (фр.)]. Пусть Де Бок кичится своим изяществом и своими деньгами. Я рисую реальную жизнь, нужду и лишения. Идя по этой дороге, не пропадешь. Христина встретила его с мокрой тряпкой в руках – она мыла в мастерской пол. Волосы у нее были повязаны черным платком, а в оспинах на лице поблескивали капельки пота. – Достал денег? – спросила она, поднимая голову. – Достал. Десять гульденов. – Хорошо иметь богатых друзей! – Ну, еще бы. Вот шесть франков, которые я тебе должен. Син выпрямилась и вытерла лицо черным фартуком. – Можешь не давать мне ничего, – сказала она. – Пока не получишь денег от брата. Ведь на четыре франка долго не протянешь. – Я обойдусь, Син. А тебе эти деньги необходимы. – Тебе тоже. Мы вот как сделаем. Я останусь здесь, пока не придет письмо от твоего брата. Мы будем жить на эти десять франков, как будто они наши общие. Я их растяну дольше, чем ты. – А позировать как же? Ведь я не смогу тебе платить ни сантима. – Ты даешь мне ночлег и еду. Разве этого мало? Я вполне довольна, мне хорошо тут, в тепле, не надо идти работать и надрываться. Винсент обнял Син и ласково откинул с ее лба жидкие жесткие волосы. – Син, иногда ты делаешь настоящие чудеса! Я даже готов поверить, что на небе действительно есть бог!7
Неделю спустя он решил навестить Мауве. Кузен впустил его в мастерскую, но торопливо набросил покрывало на свою схевенингенскую картину, прежде чем Винсент успел на нее взглянуть. – Что тебе нужно? – спросил он, как будто не догадываясь, зачем пришел Винсент. – Хочу показать вам несколько акварелей. Я думал, вы выкроите для меня минутку времени. Мауве промывал кисти, движения у него были нервные, лихорадочные. Он не ложился в кровать уже трое суток. Урывками он спал тут же, в мастерской, на кушетке, но этот сон не освежал его. – Я далеко не всегда в состоянии учить тебя, Винсент. Порой я слишком устаю, и тогда, бога ради, выбирай другое время. – Извините меня, кузен Мауве, – сказал Винсент, отступая к двери. – Я не хотел вам мешать. Я лучше зайду завтра вечером. Мауве снял с полотна покрывало и даже не слушал Винсента. На следующий вечер, придя к Мауве, Винсент застал там Вейсенбруха. Мауве был измотан до крайности, почти впал в истерику. Он накинулся на Винсента, выискивая повод, чтобы рассеяться и позабавить приятеля. – Вейсенбрух! – воскликнул он. – Смотрите, какая у него рожа! И он начал показывать свое искусство, – так скривил лицо, что оно покрылось глубокими морщинами, и выпятил подбородок – совсем как Винсент. Это была злая карикатура. Затем Мауве подошел к Вейсенбруху, поглядел на него прищуренными глазами и объявил: «А сейчас он будет говорить». И, брызгая слюной, разразился потоком хриплых бессвязных слов, как это нередко делал Винсент. Вейсенбрух покатывался со смеху. – Ох, это изумительно! – кричал он. – Таким вас и видят люди, Ван Гог. Вам, наверно, и в голову не приходило, что вы такое удивительное чудовище? Мауве, выставьте—ка снова подбородок и поскребите пальцами бороду. Это убийственно! Винсент был ошарашен. Он забился в угол. Когда он заговорил, собственный голос показался ему чужим: – Если бы вам пришлось бродить до рассвета под дождем по лондонским улицам, дрожать в холодные ночи в Боринаже, без еды, без крова, в лихорадке – и у вас тоже появились бы безобразные морщины на лице и у вас тоже был бы хриплый голос. Через несколько минут Вейсенбрух ушел. Как только за ним закрылась дверь, Мауве едва дыша упал в кресло. Бурная выходка истощила его силы. Винсент молча стоял в углу; наконец Мауве заметил его. – А, ты еще здесь? – удивился он. – Кузен Мауве, – с горячностью заговорил Винсент и сморщился точно так, как это только что изобразил Мауве. – Что между нами произошло? Скажите, что я вам сделал? Почему вы так обращаетесь со мной? Мауве устало поднялся и откинул со лба непослушную прядь. – Я недоволен тобой, Винсент. Ты должен сам зарабатывать себе на жизнь. Как можешь ты позорить фамилию Ван Гогов, выклянчивая деньги где попало? Винсент на мгновение задумался. – Вы виделись с Терстехом? – спросил он. – Нет. – Значит, вы не будете больше меня учить? – Нет. – Ну что ж, давайте пожмем друг другу руки и расстанемся без вражды и горечи. Ничто не может заглушить во мне чувство признательности к вам. Мауве долго молчал, не говоря ни слова. Потом он сказал: – Не принимай это близко к сердцу, Винсент. Я усталый и больной человек. Я помогу тебе чем только сумею. Ты захватил свои рисунки? – Захватил. Но сейчас вам, кажется, не до этого... – Покажи их мне. Он посмотрел на этюды покрасневшими от усталости глазами и сурово заметил: – Рисунок у тебя плох. Безнадежно плох. Удивляюсь, как я не видел этого раньше. – Вы сказали мне однажды, что когда я рисую, я истинный живописец. – Я ошибся, я принял грубость за силу. Если ты в самом деле хочешь учиться, надо начинать все сначала. Вон там, в углу, у ведра с углем, несколько гипсов. Можешь рисовать их хоть сейчас. Удивленный Винсент поплелся в угол. Там он сел перед белой гипсовой ногой. Долгое время он не мог ни соображать, ни двигаться. Потом он вынул из кармана несколько листов рисовальной бумаги, но не в силах был провести ни одной линии. Он обернулся и посмотрел на Мауве – тот стоял у мольберта. – Как продвигается ваша работа, кузен Мауве? Мауве бросился на диван, его налитые кровью глаза сразу же закрылись. – Терстех сказал сегодня, что это лучшая вещь из всех, какие я создал. Спустя несколько секунд Винсент раздумчиво произнес: – Так, значит, Терстех все—таки был здесь! Мауве слегка похрапывал и уже ничего не слышал. Время шло, и Винсент понемногу успокоился. Он начал рисовать гипсовую ногу. Когда часа через три Мауве проснулся, у Винсента было готово уже семь рисунков. Мауве, как кошка, спрыгнул с дивана, словно он и не засыпал ни на минуту, и бросился к Винсенту. – Покажи! – сказал он. – Покажи! Он посмотрел все семь рисунков, твердя одно и то же: – Нет! Нет! Нет! Он изорвал их и бросил клочки на пол. – Все та же грубость, тот же дилетантизм! Неужели ты не в силах нарисовать этот гипс таким, каков он на самом деле? Неужели не можешь найти верную линию? Хоть раз в жизни нарисуй в точности то, что видишь! – Вы говорите совсем как учитель в художественной школе, кузен Мауве. – Если бы ты как следует поучился в школе, ты бы теперь знал, как надо рисовать. Переделай все сызнова. И смотри, чтобы нога была ногой! Он вышел в сад, а оттуда пошел на кухню ужинать, потом вернулся и начал работать при лампе. Наступила ночь, проходил час за часом. Винсент рисовал и рисовал ногу, лист за листом. И чем больше он работал, тем большее отвращение внушал ему этот мерзкий кусок гипса, который стоял перед ним. Когда в северном окошке забрезжил хмурый рассвет, у Винсента было готово множество рисунков. Он встал, тело его затекло, сердце ныло. Мауве подошел, взглянул на рисунки и скомкал их. – Плохо, – сказал он. – Совсем плохо. Ты нарушаешь все элементарные правила. Знаешь что, иди—ка домой и прихвати с собой эту ногу. Рисуй ее снова и снова. И не являйся ко мне, пока не нарисуешь ее как следует. – Как же, черта с два! – вскричал Винсент. Он швырнул гипсовую ногу в ведро с углем, и она разлетелась на тысячу осколков. – Не говорите мне больше о гипсах, я не хочу и слышать о них. Я буду рисовать с гипсов, когда на свете не останется ни одной живой ноги или руки, но не раньше! – Ну что ж, если ты так считаешь... – начал ледяным тоном Мауве. – Кузен Мауве, я не позволю навязывать мне мертвую схему, не позволю ни вам, ни кому другому. Я хочу рисовать, повинуясь своему темпераменту, своему характеру. Мне надо рисовать натуру так, как вижу ее я сам, а не так, как ее видите вы! – Мне нечего больше тебе сказать, – бесстрастно произнес Мауве, будто врач у одра умирающего. Проснувшись в полдень, Винсент увидел в своей мастерской Христину и ее старшего сына Германа, Это был бледный мальчик с испуганными зеленоватыми глазами и крошечным подбородком. Чтобы Герман сидел тихо, Христина дала ему лист бумаги и карандаш. Читать и писать он не умел. К Винсенту он подошел очень робко, так как дичился незнакомых людей. Винсент показал ему, как надо держать карандаш, и научил рисовать корову. Мальчик пришел в восторг, и скоро они с Винсентом подружились. Христина положила на стол немного сыра и хлеба, и все трое сели завтракать. Винсент думал о Кэй и о ее прелестном малыше Яне. В горле у него стоял комок. – Я сегодня неважно себя чувствую, так что рисуй вместо меня Германа. – Что с тобой, Син? – Не знаю. Внутри все крутит и переворачивает. – Случалось у тебя так раньше, когда ты была беременна? – Тоже скверно приходилось, но не так. Сейчас куда хуже. – Тебе надо сходить к доктору. – Что толку идти к доктору в бесплатную больницу? Он даст мне лекарство – и только. От лекарства легче не будет. – Поезжай в государственную больницу в Лейден. – Ох, пожалуй, придется. – Поездом это совсем не долго. Мы поедем завтра с утра. Люди приезжают в эту больницу со всей Голландии. – Да, больница, говорят, хорошая. Весь день Христина не вставала с кровати. Винсент рисовал мальчика. Перед обедом он взял Германа за руку и отвел его к матери Христины. А на другой день рано утром они с Христиной сели в лейденский поезд. – Ничего удивительного, что вам было плохо, – сказал доктор, осмотрев Христину и задав множество вопросов. – Ребенок у вас в неправильном положении. – Можно чем—нибудь помочь, доктор? – спросил Винсент. – О да, нужна операция. – Это опасно? – Пока еще нет. Ребенка надо просто повернуть щипцами. Но это будет стоить денег. Не операция, а содержание в больнице. – Он повернулся к Христине. – Есть у вас какие—нибудь сбережения? – Ни франка. Доктор вздохнул, почти не скрывая своего сожаления. – Обычная история, – сказал он. – Во сколько это обойдется, доктор? – спросил Винсент. – Не больше пятидесяти франков. – А что, если операцию не делать? – Тогда нет никакой надежды ее спасти. Винсент на минуту задумался. Двенадцать акварелей для дяди Кора почти готовы: это даст тридцать франков. Остальные двадцать он возьмет из денег, которые пришлет в апреле Тео. – Я достану деньги, доктор, – сказал он. – Вот и хорошо. Привезите ее в субботу утром, и я сам сделаю операцию. И еще одно: я не знаю, какие у вас отношения, и не хочу этого знать. Доктора в такие дела не вмешиваются. Но я считаю своим долгом предупредить вас, что, если эта крошка снова пойдет на улицу, она не протянет и шести месяцев. – Она никогда не вернется к такой жизни, доктор. Даю вам слово. – Прекрасно. Тогда до субботы. Через несколько дней к Винсенту пришел Терстех. – Я вижу, ты все корпишь, – сказал он. – Да, работаю. – Я получил те десять гульденов, которые ты послал по почте. Ты бы мог по крайней мере сам прийти ко мне и поблагодарить. – Идти далеко, минхер, а погода была плохая. – Ну, а когда тебе нужны были деньги, идти было недалеко, так, что ли? Винсент не отвечал. – Это невежливо, Винсент, и отнюдь не располагает меня в твою пользу. Теперь я не верю в тебя и не смогу покупать твои работы. Винсент сел на край стола и приготовился дать отпор Терстеху. – Мне кажется, что, покупаете вы мои работы или нет, – это не имеет никакого отношения к нашим личным спорам, – сказал он. – По—моему, вы должны исходить из достоинств самой работы. Если личные отношения могут влиять на ваше суждение о работе, то с вашей стороны это просто нечестно. – Нет, конечно, нет. Если бы ты смог создать что—то изящное, такое, что можно было бы продать, я бы с радостью выставил это на Плаатсе. – Минхер Терстех, работа, в которую вложен упорный труд, темперамент и чувство, никого не привлекает и не находит сбыта. Может быть, мне даже лучше не стараться на первых порах угодить чьим—то вкусам. Терстех сел на стул, даже не расстегнув пальто и не сняв перчаток. Он сидел, положив обе руки на набалдашник трости. – Знаешь, Винсент, мне иногда кажется, что ты и не хочешь продавать свои вещи, а предпочитаешь жить на чужой счет. – Я был бы счастлив продать хоть один рисунок, но еще более я счастлив, когда такой замечательный художник, как Вейсенбрух, говорит мне о вещи, которую вы считаете непригодной для продажи: «Это очень правдиво. Я мог бы работать по этому эскизу и сам». Хотя деньги мне очень нужны, особенно сейчас, главное для меня – это создать что—то серьезное. – Так мог бы говорить богатый человек вроде Де Бока, но, уж конечно, не ты. – Принципы в искусстве, дорогой минхер Терстех, не имеют никакого отношения к доходам. Терстех положил свою трость на колени и откинулся на спинку стула. – Твои родители просили меня, Винсент, сделать для тебя все возможное. Ну так вот. Если я не могу со спокойной совестью покупать твои рисунки, то по крайней мере дам тебе маленький практический совет. Ты губишь себя, одеваясь в эти невероятные лохмотья. Тебе необходимо купить новое платье и следить за своей внешностью. Не забывай, что ты Ван Гог. Кроме того, лучше бы ты постарался завязать знакомство с достойнейшими людьми Гааги, чем возиться все время с мастеровыми и всяким сбродом. У тебя какое—то пристрастие к грязи и уродству, тебя не раз видали в самых подозрительных местах и в самой подозрительной компании. Как можешь ты надеяться на какой—то успех, если ведешь себя подобным образом? Винсент спрыгнул со стола и подошел к Терстеху. Он знал, что вернуть расположение этого человека можно только сейчас, здесь же, в мастерской. Винсент старался говорить мягко и дружелюбно: – Минхер, вы очень добры, пытаясь помочь мне, и я отвечу вам со всей искренностью и прямотой, на какую я только способен. Как же мне прилично одеваться, если у меня нет на платье ни единого франка и я не имею возможности его заработать? Конечно, бродить по набережным, глухим переулкам, по вокзалам и даже по трактирам – не такое уж удовольствие, но художнику это необходимо! Лучше рисовать в самых страшных трущобах, чем распивать чаи с очаровательными дамами. Поиски сюжета, жизнь среди рабочего люда, зарисовки с натуры прямо на месте – это тяжелая, а иногда даже грязная работа. Манеры коммерсантов, их одежда меня не устраивают, как и всякого, кто не расположен болтать с красивыми дамами и богатыми господами только для того, чтобы сбыть им свои картины и заполучить побольше денег. Мое дело – рисовать землекопов в Геесте, чем я и занимался сегодня весь день. Там мое безобразное лицо я рваное пальто вполне подходят к обстановке, и я работаю с наслаждением. Ну, а нарядись я в шикарное платье, рабочий люд, все те, кого я хочу рисовать, будут бояться меня, перестанут мне доверять. Я хочу своими рисунками указать людям на то, что—достойно внимания и что видит далеко не всякий. И если порой ради работы приходится жертвовать светскими манерами – то разве жертва не оправдана? Унижаю ли я себя, если живу среди тех людей, которых рисую? Унижаю ли я себя, когда иду в жилища бедняков, когда я веду их в свою мастерскую? Мне кажется, этого требует мое ремесло. А по—вашему, именно это меня и губит? – Ты очень упрям, Винсент, и не слушаешь старших, которые желают тебе добра. Ты уже терпел неудачи, и впереди тебя ждет то же самое. Так будет всегда. – У меня рука художника, минхер Терстех, и я не брошу карандаш вопреки всем вашим советам! Как по—вашему, с тех пор, как я начал рисовать, сомневался ли я в себе, колебался ли, отступал? Вы же видите, я борюсь и иду вперед и становлюсь все сильнее. – Возможно. Но ты борешься за безнадежное дело. Терстех встал, застегнул перчатки и надел высокий шелковый цилиндр. – Мы с Мауве постараемся, чтобы Тео не посылал тебе больше денег. Это единственный способ образумить тебя. Винсент почувствовал, как что—то оборвалось у него в груди. Если они настроят против него Тео, он пропал. – Боже мой! – вскричал он. – Зачем вам эти козни? Что я вам сделал, почему вы хотите погубить меня? Разве это честно – убить человека только за то, что он думает не так, как вы? Почему вы не даете мне идти своей дорогой? Обещаю вам – я вас больше не побеспокою. Брат для меня – это единственная родная душа в мире. Разве можно его у меня отнять? – Мы должны сделать это ради твоего же блага, – сказал Терстех и вышел из мастерской. Винсент схватил кошелек и бросился на улицу, чтобы купить гипсовый слепок ноги. На его звонок на улице Эйлебоомен вышла Йет. Увидев Винсента, она была очень удивлена. – Антона нет дома, – сказала она. – Он ужасно на тебя сердит. Он сказал, что больше не хочет тебя видеть. Ох, Винсент, мне очень жаль, что все так вышло! Винсент сунул ей гипсовую ногу. – Отдай это, пожалуйста, Антону, – сказал он, – в скажи ему, что я прошу у него прощения. Он повернулся и пошел было прочь, но вдруг почувствовал на своем плече ласковое прикосновение Йет. – Схевенингенская картина уже закончена. Хочешь посмотреть? Молча стоял он перед громадным полотном Мауве, на котором лошади тянули на берег рыбачий баркас. Винсент видел, что перед ним истинный шедевр. Лошади на картине – вороная, серая и гнедая – были загнанные, заморенные, настоящие клячи; они застыли на миг, терпеливые, покорные и безответные. Тяжелую лодку осталось протащить совсем немного, работа почти кончена. Лошади дышат с натугой, они все в мыле, но не бунтуют. Они привыкли к тяжкой работе, привыкли давно, уже много, много лет. Они готовы так жить и работать и дальше, но если завтра их погонят на живодерню – что ж, пусть будет и это, они готовы ко всему. Винсент усмотрел в картине глубокий житейский смысл. Она как бы говорила ему: «Savoir souffrir sans se plaindre ca c'est la seule chose pratique, c'est la grande science, la lecon a apprendre, la solution du probleme de la vie» ["Уметь сносить страдания без жалоб – это единственное, что нужно, это великая наука, урок, который надо усвоить; это решение проблемы жизни" (фр.)]. Он вышел из мастерской обновленный, улыбаясь при мысли, что человек, который нанес ему самый тяжелый удар за всю его жизнь, был единственным, кто научил его сносить удары с покорностью и смирением.8
Операция прошла благополучно, но за лечение надо было платить. Винсент отослал двенадцать акварелей дяде Кору и ждал тридцать франков. Ждать пришлось долго: дядя Кор имел обыкновение высылать деньги когда ему вздумается. Поскольку доктор из лейденской больницы, делавший операцию, должен был принимать у Христины ребенка, нужно было сохранить с ним добрые отношения. Винсент послал ему свои последние двенадцать франков задолго до первого числа. Старая история началась сызнова. Сперва кофе и черный хлеб, потом только черный хлеб, потом одна вода, а за ней истощение, лихорадка, и жар, и бред. Христину кормили дома, но принести Винсенту она ничего не могла: не оставалось ни крошки. Наконец Винсент, собрав последние силы, с трудом слез с кровати и в каком—то кровавом тумане, застилавшем ему глаза, поплелся в мастерскую Вейсенбруха. У Вейсенбруха была уйма денег, но он считал, что жить надо по– спартански строго. Мастерская у него была на четвертом этаже, с верхним светом на север. Здесь не было ничего лишнего, что мешало бы работать: ни книг, ни журналов, ни диванов, ни мягких кресел, ни этюдов на стенах, ни окон с видом на улицу – одни только орудия художнического ремесла. Не было даже свободного стула, чтобы усадить гостя; поневоле люди здесь не задерживались. – А, это вы? – проворчал Вейсенбрух, не выпуская из рук кисти. Он не стеснялся мешать другим художникам, но бывал не более гостеприимен, чем лев, попавший в капкан, когда кто—нибудь мешал ему. Винсент изложил свою просьбу. – Ох, нет, мой мальчик, нет! – воскликнул Вейсенбрух. – Вы обратились не по адресу, совсем не по адресу! Я не дам вам и десяти сантимов. – У вас нет свободных денег? – Разумеется, есть! Уж не думаете ли вы, что я такой же проклятый богом дилетант, как вы, и не могу ничего продать? Да у меня в банке денег больше, чем я могу потратить за три жизни. – Тогда почему же вы не хотите одолжить мне двадцать пять франков? Я в ужасном положении! У меня не осталось ни крошки хлеба. Вейсенбрух с торжеством потер руки. – Чудесно! Чудесно! Это именно то, что вам надо! Вам это очень полезно. Из вас еще может выйти художник. Винсент прислонился к стене, он уже не в силах был стоять без опоры. – Что же тут чудесного, если человек голодает? – Это для вас самое лучшее, что только может быть, Ван Гог. Это заставит вас страдать. – Почему вы так хотите, чтобы я страдал? Вейсенбрух уселся на единственный стул, скрестил ноги и кистью, на которой была красная краска, ткнул чуть ли не в лицо Винсента. – Потому что это сделает из вас истинного художника. Чем больше вы страдаете, тем больше вам надо благодарить судьбу. Только в горниле страданий и рождаются подливные живописцы. Запомните, Ван Гог, пустой желудок лучше полного, а страдающая душа лучше счастливой! – Вы несете вздор, Вейсенбрух, и сами это знаете. Вейсенбрух тыкал кистью в сторону Винсента. – Тому, кто не был несчастным, не о чем писать, Ван Гог. Счастье – это удел коров и коммерсантов. Художник рождается в муках: если ты голоден, унижен, несчастен – благодари бога! Значит, он тебя не оставил! – Нищета губит человека. – Да, она губит слабых. А сильных – никогда! Если вас погубит бедность, значит, вы слабый человек, туда вам и дорога. – И вы пальцем не шевельнете, чтобы помочь мне? – Нет, даже если я буду убежден, что вы величайший живописец в мире. Если человека могут убить голод и страдания, значит, он не заслуживает спасения. Только тем художникам место на земле, которых не может погубить ни бог, ни дьявол, пока они не сделали всего того, что должны сделать. – Но я голодаю уже много лет, Вейсенбрух. Я жил без крова над головой, бродил под дождем и снегом почти голый, валялся в лихорадке, одинокий, покинутый. Все это я уже испытал, мне нечему тут учиться. – Вы едва коснулись страдания, Винсент. Это еще только начало. Говорю вам, боль – единственное в мире, что не имеет конца. А теперь идите домой и беритесь за карандаш. Чем сильнее вы страдаете от голода и лишений, тем лучше вы будете работать. – И тем скорее публика отвергнет мои рисунки! Вейсенбрух весело рассмеялся. – Ну конечно, отвергнет! Иначе и быть не может. И это тоже хорошо для вас. Это сделает вас еще несчастнее. А ваше очередное полотно окажется еще прекрасней, чем предыдущее. Если вы будете терпеть голод и лишения, а вашу работу станут поносить и презирать много лет, то в конце концов вы можете создать – заметьте, я говорю: можете создать, а не создадите – такое произведение, что его не стыдно будет повесить рядом с полотнами Яна Стена или... – Или Вейсенбруха! – Вот, вот. Или Вейсенбруха. Если же теперь я ссужу вам денег, я ограблю вас, лишу вас шансов на бессмертие. – Провались оно к дьяволу, это бессмертие! Я хочу рисовать сейчас, здесь. И я не могу работать с пустим желудком. – Чепуха, мой мальчик. Все стоящее было написано на голодный желудок. Когда ваше брюхо набито, вы работаете как бы на холостом ходу. – Что—то не похоже, чтобы вы так уж много страдали. – У меня богатое творческое воображение. Я могу достичь страдание, даже не испытав его. – Вы просто старый лгун! – Ничего подобного. Если бы я убедился, что пишу так же пресно и вяло, как Де Бок, я плюнул бы на свои деньги и жил бы как последний бродяга. Но факт остается фактом: я могу создать совершенную иллюзию страдания, но пройдя через него. Вот почему я великий художник. – Вот почему вы великий хвастун! Слушайте, Вейсенбрух, будьте человеком и дайте мне двадцать пять франков. – И двадцати пяти сантимов не дам! Вы что думаете, я шучу? Я о вас слишком высокого мнения, чтобы портить вас, одалживая вам деньги. Придет день, и вы напишете что—нибудь блестящее, если не спасуете перед судьбой; гипсовая нога в ведре у Мауве убедила меня в этом. Ну, а теперь ступайте да съешьте по дороге миску бесплатного супа в столовой для бедных. Винсент молча посмотрел на Вейсенбруха, повернулся и пошел к двери. – Постойте—ка! – окликнул его Вейсенбрух. – Уж не хотите ли вы сказать, что сдаетесь и переменили решение? – насмешливо осведомился Винсент. – Слушайте, Ван Гог, я не скряга, я поступил так из принципа. Если бы я считал вас дураком, я дал бы вам двадцать пять франков, чтобы отвязаться от вас. Но я уважаю вас, уважаю как собрата—художника. Я дам вам нечто такое, чего не купишь ни за какиеденьги. И я не показал бы этого никому во всей Гааге, разве только Мауве. Подойдите—ка сюда. Сдвиньте эту штору, откройте верхний свет. Вот так. Теперь взгляните на этот этюд. Вот как я намерен его разработать и разместить все на полотне. Господи боже, да что вы можете увидеть, если заслоняете окно? Винсент вышел от Вейсенбруха через час, радостный и окрыленный. Он узнал за короткое время гораздо больше чем мог бы усвоить за целый год учебы в художественной школе. Он шел довольно долго, прежде чем вспомнил, что он голоден, болен, измучен, что у него пусто в кармане.9
Через несколько дней, бродя по дюнам, Винсент внезапно наткнулся на Мауве. Если он еще надеялся помириться со своим учителем, то его ждало разочарование. – Кузен Мауве, я хочу попросить прощения за то, что произошло в мастерской. Я поступил как глупец. Можете ли вы простить меня? Не зайдете ли как—нибудь ко мне посмотреть мои работы и поговорить? Мауве отказался наотрез. – Я к тебе больше никогда не приду. – Неужели вы потеряли всякую веру в меня? – Да, потерял. У тебя порочная натура. – Если бы вы сказали мне, что я сделал порочного, я постарался бы исправиться. – Мне теперь все равно, что ты делаешь. – Я только ел, спал и работал, как всякий художник. Что же тут порочного? – Ты называешь себя художником? – Да. – Какая чушь. Ты не продал ни одной картины за всю жизнь. – Разве быть художником значит продавать картины? Я думал, что художник – это человек, который всегда ищет и никогда не находит. Для него не существует слов: «я знаю, я нашел». Когда я говорю, что я художник, это значит лишь: «я ищу, я стремлюсь, я отдаюсь этому всем сердцем». – И все же у тебя порочная натура. – Вы в чем—то подозреваете меня, это сразу видно, вам кажется, я что– то скрываю: «У Винсента какая—то тайна, которой он стыдится». В чем дело, Мауве? Скажите откровенно. Мауве отвернулся к своему мольберту и стал водить кистью по полотну. Винсент медленно поплелся прочь. Да, он не ошибся. Над его головой действительно собирались тучи. В Гааге узнали о его связи с Христиной. Первым принес эту новость Де Бок. Он пришел в мастерскую с гаденькой улыбкой на своих сложенных бутоном губах. Христина позировала Винсенту, и он заговорил по—английски. – Ну, ну, Ван Гог, – сказал он, сбрасывая свое тяжелое черное пальто и закуривая длинную папиросу. – Весь город говорит, что вы завели любовницу. Я слышал это от Вейсенбруха, Мауве и Терстеха. Вся Гаага ополчилась против вас. – А, так вот оно что, – отозвался Винсент. – Надо быть осторожнее, старина. А это кто, натурщица? Мне казалось, я знаю их всех. Винсент взглянул на Христину, сидевшую у печки со своим рукоделием. На коленях у нее лежала шерсть, глаза были устремлены на какой—то узор, который она вышивала, во всей ее фигуре было что—то необычайно уютное и милое. Вдруг Де Бок бросил папиросу на пол и вскочил с места. – Бог мой, – воскликнул он, – неужели это и есть ваша любовница? – У меня нет любовницы, Де Бок. Но я полагаю, что речь идет именно об этой женщине. Де Бок сделал вид, будто вытирает пот со лба, и пристально взглянул на Христину. – Не понимаю, как вы можете спать с ней? – Почему это вас интересует? – Мой дорогой, но ведь это какая—то старая ведьма! Настоящая ведьма! О чем вы только думаете? Не мудрено, что Терстех так шокирован. Если вам нужно завести любовницу, почему вы не взяли какую—нибудь миленькую натурщицу? Их так много в Гааге. – Я уже сказал вам, Де Бок, что эта женщина мне не любовница. – Так кто же она? – Она моя жена! Де Бок сложил свои губы так, что рот его стал похож на бутоньерку. – Ваша жена! – Да. Я на ней женюсь. – Боже мой! Де Бок еще раз с ужасом и отвращением взглянул на Христину и выбежал из мастерской, даже не надев как следует пальто. – Что вы говорили там обо мне? – спросила Христина. Скрестив руки на груди, Винсент секунду смотрел на нее. – Я сказал Де Боку, что ты будешь моей женой. Христина долго молчала, пальцы ее были заняты работой. Рот у все был приоткрыт, и в нем быстро—быстро, как у змеи, шевелился язык, облизывая пересохшие губы. – Ты и вправду женишься на мне, Винсент? Зачем? – Если я не женюсь на тебе, то честнее сразу же бросить тебя навсегда. Я хочу пройти через все радости и печали семейной жизни, чтобы изображать их по собственному опыту. Когда—то я любил одну женщину, Христина. Когда я пришел к ней, мне сказали, что я ей ненавистен. Моя любовь была настоящей, честной и глубокой любовью, Христина, и, покинув ее дом, я знал, что моя любовь убита. Но после смерти наступает воскресение; мое воскресение – это ты. – Ты не можешь жениться на мне! У меня же дети! Твой брат перестанет посылать тебе деньги. – Я уважаю в тебе женщину и мать, Христина. Твой будущий ребенок и Герман будут жить с нами, а остальные могут остаться у матери. А Тео... да. .. он может прямо—таки снять с меня голову. Но я напишу ему всю правду, и, надеюсь, он не оставит меня. Он сел на пол у ее ног. Теперь она выглядела куда лучше, чем в то время, когда он встретил ее впервые. В ее печальных карих глазах появился едва приметный счастливый блеск. Все ее существо словно бы ожило. Позирование давалось ей нелегко, но она была прилежна и терпелива. Когда он в первый раз увидел ее, она была грубой, больной, несчастной женщиной; теперь она стала гораздо бодрее и спокойнее. Она вновь обрела здоровье и вкус к жизни. Глядя на ее некрасивое, тронутое оспой лицо, в котором теперь появился слабый проблеск нежности, он опять вспомнил слова Мишле: « Comment se fait—il qu'il y ait sur la terre une femme seule desesperee?» – Син, мы будем беречь каждый сантим, не правда ли? Боюсь, что наступит время, когда я окажусь совсем без средств. Я буду помогать тебе, пока ты снова не ляжешь в больницу, но когда ты вернешься, не знаю, будет у меня хлеб или нет. Но все, до последней корки, я разделю с тобой и ребенком. Христина соскользнула на пол, села рядом с Винсентом, обняла его за шею и положила голову ему на плечо. – Позволь только остаться с тобой, Винсент. Больше я ничего не прошу. Если у нас будет хотя бы хлеб и кофе, этого довольно. Я люблю тебя, Винсент. Ты первый мужчина, который был добр ко мне. Можешь не жениться на мае, если не хочешь. Я буду позировать, работать, буду делать все, что ты скажешь. Только бы быть вместе в тобой! В первый раз в жизни я счастлива, Винсент. Мне ничего не нужно. Я разделю с тобой все и буду счастлива. Винсент чувствовал, как шевелится в ее животе ребенок, теплый, живой. Он нежно провел пальцами по ее некрасивому лицу, целуя каждую морщинку, каждую оспину. Он распустил у нее на спине волосы, ласково поглаживая их жидкие пряди. Она прижала раскрасневшуюся от счастья щеку к его бороде и тихонько терлась о жесткую щетину. – Ты меня любишь, Христина? – Да, Винсент. – Как хорошо, когда тебя любят. Пусть люди называют это порочным, если хотят. – Плевать на людей, – сказала Христина просто. – Я буду жить как мастеровой, это мне по душе. Мы с тобой понимаем друг друга, и нам все равно, что о нас скажут. Нам незачем притворяться, беречь свое положение в обществе. Люди моего круга давным—давно изгнали меня. Лучше довольствоваться коркой сухого хлеба в бедной лачуге, чем жить без тебя. Они сидели на полу, греясь у раскаленной печки, крепко обняв друг друга. Идиллию нарушил почтальон. Он вручил Винсенту письмо из Амстердама. В письме было сказано: "Винсент! Я только что узнал о твоем постыдном поведении. Будь любезен, забудь о моем заказе на шесть рисунков. Твоя работа меня более нисколько не интересует. К.—М. Ван Гог". Теперь судьба Винсента была целиком в руках Тео. Если он не сумеет объяснить брату истинный характер своих отношений с Христиной, Тео тоже будет вправе отказать ему в ста франках. Винсент может обойтись без своего учителя Мауве, может обойтись без торгаша Терстеха, он может обойтись без родных, друзей и коллег – пока у него есть работа и Христина. Но ему никак не обойтись без этих ста франков в месяц! Винсент писал длинные, страстные письма брату, старался все ему объяснить, просил Тео войти в положение и не оставлять его. День проходил за днем. Винсента терзало предчувствие беды. Он уже не осмеливался взять в магазине рисовальных принадлежностей больше, чем мог оплатить, боялся начать новую работу акварелью и продолжать начатую. Тео выдвинул свои возражения, их было немало, но он не осудил Винсента бесповоротно. Он дал ему совет, но в его письме не было и намека, что если Винсент не согласится, то не получит больше денег. В заключение Тео, хоть и выражал недовольство поступком Винсента, заверял его, что будет помогать ему, как прежде. Наступил май. Доктор сказал Христине, что возьмет ее в больницу в июне. Винсент решил, что будет лучше, если она переедет к нему после родов: он рассчитывал за это время снять свободный домик на Схенквег рядом с мастерской. Христина целые дни проводила у него, но вещи ее оставались у матери. Было решено, что они официально поженятся после того, как она окончательно оправится. Винсент отвез Христину в больницу. Схватки начались в девять вечера, но ребенок родился лишь в половине второго ночи. Его тянули щипцами, но он остался невредим. Христина сильно страдала, но, увидев Винсента, забыла о боли. – Скоро мы опять начнем рисовать, – сказала она. Винсент смотрел на нее со слезами на глазах. Он и не думал о том, что этот ребенок не его, а другого мужчины. Нет, это его жена, его ребенок, – от счастья у него перехватывало дыхание. Вернувшись на Схенквег, Винсент застал у себя владельца соседнего дома и примыкавшего к нему дровяного склада. – Ну, как насчет того, чтобы снять дом, минхер Ван Гог? Он будет вам стоить всего—навсего восемь франков в неделю. Я велю все там заново выкрасить и оштукатурить. Если вы подберете обои, какие вам нравятся, я оклею ими комнаты. – Дайте срок, – отвечал Винсент. – Мне нужен будет новый дом, когда приедет из больницы жена, но сначала я должен написать об этом брату. – Ну что ж. А оклеивать комнаты все равно надо, так что выбирайте обои, какие вам по вкусу. Даже если вы не сможете снять дом, обои все равно пригодятся. Тео знал об этом свободном доме по соседству уже несколько месяцев. Это был просторный дом с мастерской, гостиной, кухней и спальней в мансарде. Платить нужно было на четыре франка в неделю дороже, чем за старую мастерскую, но теперь, когда на Схенквег перебирались Христина, Герман и новорожденный, места требовалось гораздо больше. Тео написал, что ему повысили жалованье и Винсент может рассчитывать на сто пятьдесят франков в месяц. Винсент без промедления снял дом. Через неделю должна была вернуться Христина, и ему хотелось, чтобы она приехала уже в обжитое гнездо. Хозяин дал ему двух рабочих со склада, которые перетащили из прежней мастерской все вещи. Мать Христины навела в их новом жилище чистоту и порядок.10
Новая мастерская стала теперь реальностью – гладкие светло– коричневые обои, чисто вымытые деревянные полы, этюды на стенах, в каждом углу мольберт, длинный сосновый стол для работы. Мать Христины повесила на окна белые муслиновые занавески. В мастерской была ниша, Винсент хранил там свои рисовальные доски, папки и гравюры; в углу было отведено особое место для бутылок, банок с красками и книг. В гостиной стоял стол, несколько простых стульев, керосиновая печурка, у окна – большое плетеное кресло для Христины. Рядом с креслом Винсент поставил железную кроватку с зеленым пологом, а над ней повесил на стене офорт Рембрандта: две женщины сидят у колыбели, одна из них при свете свечи читает Библию. Он купил все необходимое для кухни, чтобы Христина; вернувшись из больницы, могла приготовить обед за несколько минут. На случай, если приедет в гости Тео, Винсент купил лишний ножик, вилку, ложку и тарелку. В мансарде он поставил большую кровать для себя и Христины, и здесь же – свою старую койку вместе с постельным бельем для Германа. Мать Христины помогла Винсенту раздобыть соломы, водорослей, тюфяки, и они вместе набили их здесь же, в мансарде. Когда Христина выписывалась из больницы, проститься с ней пришли и доктор, и няня, и старшая сестра. Винсент еще острее почувствовал, что Христина, будь у нее иная судьба, заслуживала бы любви и уважения самых серьезных, умных людей. «Ведь она не видела в жизни ничего хорошего, – говорил он себе, – как же она может быть хорошей?» Мать Христины и Герман встретили Христину в доме на Схенквег. Христина была приятно удивлена: Винсент ничего не говорил ей об их новом жилище. Она ходила по комнате и трогала все – детскую кроватку, плетеное кресло, горшок с цветами, который Винсент поставил на подоконник перед этим креслом. Она была радостно возбуждена. – Этот профессор такой чудак! – громко рассказывала она. – Он мне говорит: «Скажи, ты любишь джин и пиво? А сигары ты куришь?» – «Да», – говорю. «Я это спрашиваю только так, – говорит он, – тебе бросать пить и курить не надо. Но ты, говорит, не употребляй ни уксуса, ни перца, ни горчицы. А мясо тебе, говорит, нужно есть по крайней мере раз в неделю». Спальная сильно напоминала корабельный трюм – она была обшита досками. Железную кроватку младенца Винсенту приходилось каждый вечер переносить наверх, а каждое утро – вниз, в гостиную. Так как Христина была еще слаба, Винсент сам делал всю домашнюю работу, – он стелил постель, топил печку, носил дрова, подметал пол; у него было такое чувство, словно он живет с Христиной и ее детьми уже давным—давно, что это его родная семья. Христина еще не оправилась после операции, но чувствовала себя как бы обновленной и помолодевшей. Винсент вернулся к своей работе, в душе у него снова наступил мир. Хорошо иметь свой очаг, видеть вокруг себя хлопотливое семейство. Жизнь с Христиной давала ему силы и решимость продолжать свой труд. Он не сомневался, что, если только Тео не оставит его, он непременно будет хорошим художником. В Боринаже он был рабом бога; теперь у него появился новый, более реальный и осязаемый бог, новая религия, сущность которой можно было определить несколькими словами: фигура работника, борозды на вспаханном поле, кусок песчаного берега, моря и неба – это серьезнейшие темы, столь трудные и в то же время столь прекрасные, что стоит не задумываясь посвятить всю свою жизнь тому, чтобы выразить скрытую в них поэзию. Однажды под вечер, возвращаясь после работы в дюнах, он увидел у своих дверей Терстеха. – Рад тебя видеть, Винсент, – сказал Терстех. – Решил вот зайти к тебе, узнать, как идут дела. Винсент ужаснулся: какая разразится буря, когда Терстех войдет в дом! Он постоял на улице, разговаривая с Терстехом, чтобы собраться с духом. Терстех был любезен и дружелюбен. Винсента била дрожь. Когда они вошли в комнату, Христина, сидя в своем плетеном кресле, кормила ребенка. Герман играл у печки. Терстех долго с изумлением глядел на них. Потом он заговорил по—английски. – Что это значит – эта женщина и ребенок? – Христина – моя жена. А на руках у нее наш ребенок. – Неужели ты женился на ней? – Нет, официальной свадьбы еще не было, если вы об этом спрашиваете. – Как же ты можешь жить с этой женщиной и ее детьми, когда она... – Рано или поздно мужчины женятся, не правда ли? – Но у тебя нет денег. Тебя содержит брат. – Ничего подобного. Тео платит мне жалованье. Все, что я вишу, принадлежит ему. Когда—нибудь он вернет все свои деньги. – Ты с ума сошел, Винсент! Только настоящий безумец может сказать такое! – Человеческие поступки, минхер, имеют много общего с живописью. Стоит отступить на шаг, как меняется вся перспектива, так что впечатление зависит не только от объекта, но и от зрителя. – Я напишу твоему отцу, Винсент. Он должен знать обо всем. – А не будет ли это смешно, если они получат от вас возмущенное письмо и вслед за ним другое, от меня, с приглашением приехать за мой счет сюда в гости? – Ты им хочешь написать сам? – А вы как думали? Конечно! Но согласитесь, что сейчас для этого неподходящее время. Отец перебирается в новый приход в Нюэнене. Жена моя еще не понравилась, и всякое беспокойство или напряжение сил для нее равносильно убийству. – В таком случае я, разумеется, не стану писать. Мой мальчик, ты безрассуден, как человек, который Готов сам себя утопить. Я хочу лишь спасти тебя от этого. – Я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях, минхер Терстех, и только поэтому стараюсь не сердиться на вас за ваши слова. Но весь этот разговор мне крайне неприятен. Когда Терстех уходил, лицо у него было недоуменное и расстроенное. А вскоре Винсент получил от Вейсенбруха первый настоящий удар. Вейсенбрух заглянул мимоходом однажды вечером, чтобы удостовериться, жив ли еще Винсент. – Добрый день, – сказал он. – Я вижу, вы сумели выкарабкаться и без моих двадцати пяти франков. – Как будто. – Теперь вы, наверное, рады, что я не потакал вам тогда? – Помнится, во время нашей встречи у Мауве первое, что я сказал вам, было: «Катитесь к черту!» Так вот, теперь я повторяю это напутствие. – Если вы будете продолжать в том же духе, из вас выйдет второй Вейсенбрух; у вас есть задатки настоящего человека. Почему вы не представите меня вашей хозяйке? Я не имею чести быть с ней знакомым. – Издевайтесь надо мной сколько вам угодно, Вейсенбрух, но ее не трогайте. Христина качала железную кроватку, завешенную зеленым пологом. Она чувствовала, что над нею смеются, и смотрела на Винсента со страдальческим выражением лица. Винсент подошел к ней и стал рядом с детской кроваткой, как бы защищая мать и ребенка. Вейсенбрух взглянул на них, потом на офорт Рембрандта, висевший над кроваткой. – Ей—богу, прекрасный сюжет для картины! – воскликнул он. – Вот бы написать вас всех. Я назвал бы картину «Святое семейство»! Винсент с проклятиями бросился на Вейсенбруха, но тот благополучно выскользнул за дверь. Винсент вернулся к Христине и ребенку. На стене, рядом с офортом Рембрандта, висело маленькое зеркальце. Винсент увидел в нем Христину, себя, ребенка и с ужасающей ясностью взглянул на все это глазами Вейсенбруха... Ублюдок, шлюха и добросердечный благодетель! – Как он назвал нас? – спросила Христина. – Святое семейство. – А что это такое? – Изображение девы Марии, Иисуса и Иосифа. Из глаз ее покатились слезы, она уткнулась лицом в пеленки. Желая ее утешить, Винсент опустился на колени рядом с кроваткой. Через северное окно вползали сумерки, погружая комнату в спокойный полумрак. Винсент вновь взглянул на свою семью со стороны, словно издалека. Сейчас он смотрел на нее глазами своего сердца. – Не плачь, Син, – сказал он. – Не плачь, дорогая. Подними голову и вытри слезы. Вейсенбрух был прав!11
Винсент открыл для себя Схевенинген и начал писать маслом почти в одно и то же время. Схевенинген – маленькая рыбачья деревушка, приютившаяся в лощине между песчаными дюнами на берегу Северного моря. Близ деревни вереницей стояли на якоре одномачтовые рыбачьи барки с темными, потрепанными непогодой парусами. На корме у них были прилажены грубые, прочные рули, тут же лежали наготове сети, а на мачте развевались треугольные флажки, ржаво—красные и голубые. Были тут синие повозки с красными колесами, на которых перевозили рыбу с берега в деревню; жены рыбаков в белых клеенчатых чепцах, заколотых спереди двумя позолоченными булавками; семьи, толпами выходившие к морю встречать барки; курзал с разноцветными стягами – увеселительное заведение для иностранцев, которым нравилось чувствовать вкус моря на губах, но не хотелось задыхаться от соленого ветра. Море у берега было седым от пены, потом постепенно становилось зеленым, потом тускло—синим; по сероватому небу плыли причудливые облака, лишь кое—где проглядывала голубизна, как бы напоминавшая рыбакам, что над Голландией еще светит солнце. В Схевенингене жил трудовой люд, крепкими узами связанный с этими берегами и морем. Винсент написал немало акварельных этюдов на открытом воздухе и понял, что акварель хороша для передачи лишь беглого впечатления. У нее не было глубины, плотности, не было той фактуры, которая нужна была Винсенту. Он мечтал работать маслом, но боялся за него взяться, так как знал, что много художников загубили свой талант, начав работать маслом, прежде чем овладели рисунком. В это время в Гаагу приехал Тео. Тео в свои двадцать шесть лет уже стал вполне солидным торговцем картинами. Он много ездил по делам своей фирмы и всюду был известен как один из самых способных молодых людей. Парижское отделение фирмы Гупиль перекупили Буссо и Валадон (в деловом мире эта фирма была известна под названием «Месье»), и, хотя они оставили Тео в прежней должности, торговля шла теперь далеко не так хорошо, как при Гупиле и дяде Винсенте. Новые владельцы старались продавать картины как можно дороже, независимо от их достоинств, и благоволили только к преуспевающим живописцам. Дядя Винсент, Терстех и Гупиль считали своим первым долгом находить и поддерживать новых, молодых художников; теперь же внимание оказывалось только признанным мастерам. Новое поколение живописцев – Мане, Моне, Писсарро, Сислей, Ренуар, Берта Морнзо, Сезанн, Дега, Гийомен и более молодые – Тулуз—Лотрек, Гоген, Съра и Синьяк – стремились сказать свежее слово, а не повторять Бугро и академиков, но никто не котел их слушать. Ни одно полотно, принадлежавшее кисти этих смельчаков, не было выставлено или продано фирмой «Месье». Тео питал глубокое отвращение к Бугро и академикам, все его симпатии были ни стороне молодых бунтарей. Не было дня, чтобы он не путался склонить своих хозяев выставить новую живопись и убедить публику покупать ее. «Месье» считали молодых безрассудными юнцами, которые совершенно не владеют техникой. Тео же видел в них будущих корифеев. Когда братья встретились в мастерской, Христина была в спальне наверху. После первого обмена приветствиями Тео сказал: – Я приехал сюда по делам, но должен тебе признаться, что моя главная цель – убедить тебя, чтобы ты не связывал свою судьбу с этой женщиной. Какова она собой? – Помнишь нашу старую няню в Зюндерте, Леен Ферман? – Помню. – Син такого же типа. Она обыкновенная женщина из народа, но я нахожу в ней нечто возвышенное. Когда любишь ничем не замечательного, обыкновенного человека и он тоже любит тебя – это счастье, какой бы тяжкой ни была жизнь. Меня воскресило сознание, что я кому—то нужен. Я не искал этого чувства, оно само нашло меня. Син мирится с горестями и неудобствами жизни художника и позирует мне так охотно, что, живя с ней, я, пожалуй, стану лучшим художником, чем если бы я женился на Кэй. Тео прошелся по мастерской и наконец сказал, не отрывая взгляда от одной из акварелей: – Одного я не пойму, – как мог ты влюбиться в эту женщину после такой страстной любви к Кэй. – Я не влюбился в нее, Тео, то есть влюбился далеко не сразу. Если Кэй отвергла меня, значит ли это, что все человеческие чувства во мне должны угаснуть? Вот ты приехал ко мне и видишь, что я не падаю духом, не тоскую, у меня новая мастерская, семья, свой дом; и мастерская моя не какая—то таинственная келья, нет, она открыта для жизни, в ней стоит колыбель и высокий детский стульчик, здесь нет затхлости, все живет, побуждает работать. Для меня ясно как день, что художник должен чувствовать то, что он пишет, что надо иметь семью, если хочешь глубоко показать семейную жизнь в своих произведениях. – Ты знаешь, Винсент, я никогда не придавал значения классовым предрассудкам, но неужели ты считаешь разумным... – Нет, – перебил его Винсент, – я не считаю, что унизил иди опозорил себя, если мое дело влечет меня в самую гущу народа, если я должен держаться ближе и земле, схватывать самую суть жизни и пробиваться вперед вопреки нужде и лишениям. – С этим я не спорю. – Тео быстро подошел к брату и взглянул ему в лицо. – Но почему ты обязательно должен жениться? – Потому что мы дали друг другу слово. Я не хочу, чтобы ты смотрел на нее как на мою любовницу или случайную женщину, перед которой у меня нет никаких обязательств. Мы обещали друг другу две вещи: во—первых, вступить в гражданский брак, как только это станет возможным, и, во—вторых, помогать друг другу, заботиться друг о друге, как муж и жена, делить все пополам. – Но ты, конечно, подождешь немного, прежде чем вступить в гражданский брак? – Подожду, если ты этого хочешь. Мы будем ждать до тех пор, пока я не начну зарабатывать полтораста франков, и твоя помощь станет не нужна. Обещаю тебе не жениться, пока не смогу жить на свои средства. Постепенно я буду зарабатывать, ты сможешь посылать мне все меньше, а потом я и совсем смогу обходиться без твоих денег. Тогда поговорим и о гражданском браке. – Пожалуй, это будет самое разумное. – Тео, вот она идет. Ради меня, постарайся смотреть на нее только как на жену и мать! Ведь так оно и есть на деле. Христина спустилась по лестнице в мастерскую. На ней было аккуратное черное платье, волосы тщательно зачесаны назад, а слабый румянец, выступивший на щеках, делал оспины почти незаметными. Вся она была такая милая, уютная. Любовь Винсента придала ее облику уверенность, в ней теперь проглядывало невозмутимее удовлетворение. Она спокойно пожала руку Тео, предложила ему чашку чая и стала уговаривать его остаться ужинать. Потом она села в свое кресло и, покачивая детскую кроватку, взялась за шитье. Винсент в волнении бегал по мастерской и показывал рисунки углем, акварели, групповые этюды, словно отчеканенные плотничьим карандашом. Ему хотелось, чтобы Тео увидел, каких успехов он достиг. Тео верил, что когда—нибудь Винсент станет великим живописцем, но все же до сих пор работы Винсента не очень ему нравились... по крайней мере пока. Тео был тонким знатоком искусства, он прошел хорошую школу, но свое отношение к работам Винсента он никак не мог определить. Ему казалось, что Винсент постоянно находится в процессе становления и никогда не создает ничего по—настоящему зрелого. – Если ты чувствуешь потребность работать маслом, почему бы тебе не начать? – заметил он, после того как Винсент, показав ему все, что мог, признался в своем желании. – Чего ты ждешь? – Жду, чтобы мой рисунок стал по—настоящему хорош. Мауве и Терстех говорят мне, что я не добился... – А Вейсенбрух говорит, что ты добился... И судить об этом в конце концов должен только ты. Если ты чувствуешь, что должен выразить себя в более звучной цветовой гамме, значит, время настало. Действуй! – Ах, Тео, а сколько надо денег! Эти тюбики продаются чуть ли не на вес золота. – Приходи завтра в десять утра ко мне в гостиницу. Чем скорее ты начнешь присылать мне полотна, написанные маслом, тем скорее я выручу свои деньги. За ужином Тео и Христина оживленно разговаривали. Когда Тео уходил, он обернулся на лестнице к Винсенту и сказал по—французски: – Она милая, право же, милая. Я и не ожидал! На следующее утро они шли рядом по Вагенстраат, такие не похожие друг на друга: младший брат был одет с иголочки, ботинки у него сверкали, рубашка была накрахмалена, галстук повязан безукоризненно, костюм отутюжен, черный котелок небрежно сдвинут набок, мягкая каштановая бородка аккуратно подстрижена, и шел он размеренным, ровным шагом; старший – в стоптанных башмаках, в залатанных брюках, по цвету совсем не подходивших к его узкому пальто, без галстука, на макушке – нелепая крестьянская шапка, борода завивается буйными рыжими кольцами, – шел сбивчивым шагом и без умолку говорил, размахивая руками. Они и не подозревали, как странно они выглядели со стороны. Тео привел Винсента в магазин Гупиля купить тюбики с красками, кисти и холст. Терстех очень уважал и любил Тео; он хотел бы полюбить и понять также и Винсента. Услышав, зачем они пришли, он, несмотря на их возражения, самолично подобрал все требуемое и разъяснил Винсенту достоинства различных красок. Пройдя шесть километров вдоль дюн, Тео и Винсент добрались до Схевенингена. К берегу причаливал рыбачий баркас. У моря, близ каменного столба, стоял деревянный навес, под которым сидел дозорный. Завидев подходившее судно, дозорный махнул большим флагом. Вокруг дозорного толпились ребятишки. Через несколько минут после того, как он махнул флагом, к нему подъехал человек на старой кляче, чтобы подтянуть якорь к берегу. По песчаному склону из деревни встречать рыбаков бежали мужчины и женщины. Когда судно приблизилось, человек, сидевший на лошади, въехал в воду и подтащил к берегу якорь. Затем молодые парни в высоких резиновых сапогах стали переносить рыбаков на берег, и каждого из них толпа приветствовала веселыми криками. Когда все рыбаки очутились на суше и лошади вытащили баркас на берег, толпа, растянувшись, подобно каравану, над которым, словно призрак, маячил верховой, поднялась на песчаный склон. – Вот что мне хотелось бы написать масляными красками, – сказал Винсент. – Присылай мне свои полотна, как только почувствуешь, что чего—то достиг. Может быть, я найду в Париже покупателей. – О Тео, прошу тебя! Ты должен найти покупателей на мои картины!12
Когда Тео уехал, Винсент попробовал писать масляными красками. Он сделал три этюда: написал подстриженные ивы за мостом в Геесте, беговую дорожку и огород в Мердерфорте, где мужчина в синей блузе копал картофель. Земля на огороде была белая, песчаная, местами взрытая и усыпанная сухой ботвой с зеленеющими кое—где стеблями. Поодаль виднелись крыши домов и темная зелень деревьев. Глядя на свою работу в мастерской, Винсент ликовал; как ему казалось, никто и не догадается, что это его первые опыты маслом. Рисунок – основа живописи, скелет, на котором держится все, – был точен в верен. Винсент даже удивился, так как ожидал, что его первые попытки кончатся неудачей. Он с увлечением писал склон лесного оврага, засыпанный сухими буковыми листьями. Земля тут была коричневая, светлых и темных оттенков, вся испещренная тенями деревьев: эти тени подчас совсем изменяли ее цвет. Надо было уловить и передать всю глубину цвета, всю огромную силу земли, ее весомость, ее плоть. Только теперь он впервые понял, какое изобилие света заключено в этих темных тонах. Он стремился перенести на полотно этот свет и в то же время передать все богатство и насыщенность колорита. В лучах предзакатного осеннего солнца, слегка приглушенных листвой деревьев, земля казалась темным красновато—коричневым ковром. Молодые березки тянулись вверх и, освещенные сбоку солнцем, сверкали яркой веленью, а затененные стволы отливали густой зеленоватой чернью. Вдалеке за деревьями и кустами над красно—коричневой землей виднелось нежное—нежное небо, голубовато—серое, теплое, насквозь пронизанное светом. На его фоне рисовалась зыбкая полоса зелени, сплетение тонких стволов и желтеющих листьев. По лесу бродили сборщики хвороста, их одинокие фигуры казались сгустками каких—то таинственных теней. Рядом с жирной коричневой землей резко выделялся белый чепец женщины, нагнувшейся за сухой веткой. В густом кустарнике темнел силуэт мужчины, на фоне неба он казался огромным, исполненным поэзии. Накладывая на холст краски, Винсент говорил себе: «Я не уйду отсюда, пока не исчезнет это очарование осеннего вечера, эта таинственность, это величие». Но свет быстро мерк. Винсент торопился закончить этюд. Фигуры людей он писал моментально, несколькими сильными и решительными ударами кисти. Его поразило, как крепко сидят корнями в земле молодые деревца. Он пытался передать это, но краски на холсте так загустели, что кисть попросту увязала в них. Винсент с ожесточением снова и снова пытался прописать землю, торопясь, так как надвигались сумерки. Наконец он убедился в своем бессилии: эти тона жирного суглинка немыслимо было написать кистью. В безотчетном порыве он отбросил кисть и, выдавливая краску на холст прямо из тюбиков, вылепил корни и стволы, потом снова схватил кисть и стал моделировать жирные сгустки рукояткой. – Да, – воскликнул он, когда в лесу совсем стемнело. – Теперь они у меня прочно сидят корнями в земле. Я добился того, чего хотел! Вечером к нему зашел Вейсенбрух. – Идемте со мной в «Пульхри». Там будут живые картины и шарады. Винсент не забыл последнего визита Вейсенбруха. – Спасибо, мне не хочется оставлять жену. Вейсенбрух подошел к Христине, поцеловал ей руку, справился о ее здоровье и весело поиграл с младенцем. Он, видно, уже не помнил того, что сказал здесь в прошлый раз. – Покажите мне ваши новые работы, Винсент. Винсент охотно согласился. Вейсенбрух отобрал несколько этюдов: рынок после воскресной торговли, когда торговцы убирают товар; очередь у столовой для бедных; три старика в приюте для умалишенных; рыбачий баркас в Схевенингене с поднятым якорем и, наконец, набросок, сделанный Винсентом в грязи, на коленях, среди дюн, во время бури. – Они продаются? Я хотел бы купить их. – Снова ваши дьявольские шуточки, Вейсенбрух? – Когда речь идет о живописи, я не шучу. Эти этюды великолепны. Сколько вы хотите за них? – Назначьте цену сами, – смущенно пробормотал Винсент, боясь, что Вейсенбрух сейчас же его высмеет. – Прекрасно. Что вы скажете, если я предложу по пять франков за штуку? Итого двадцать пять франков. Винсент широко раскрыл глаза. – Это чересчур много! Дядя Кор платил мне по два с половиной франка. – Он надул вас, мой мальчик! Торгаши всегда нас надувают. Когда– нибудь они будут продавать ваши вещи по пять тысяч франков. Ну, так как, по рукам? – Вейсенбрух, иногда вы прямо ангел, а иногда – сущий дьявол! – О, это для разнообразия, чтобы не наскучить друзьям. Он вынул бумажник и положил перед Винсентом двадцать пять франков. – А теперь идемте в «Пульхри». Вам надо немножко развлечься. Посмотрим фарс Тони Офферманса. Посмеетесь, это вам будет на пользу. Так Винсент оказался в «Пульхри». В клубе было полно народа, все курили дешевый, крепкий табак. Первая картина была поставлена по гравюре Николаса Мааса «Хлев в Вифлееме»; характер и колорит артисты выдержали прекрасно, но экспрессия пропала решительно вся. Вторая картина была по Рембрандту: «Исаак благословляет Иакова», с великолепной Ревеккой, которая с волнением ждала, удастся ли ее проделка. От спертого воздуха у Винсента разболелась голова. Он ушел из клуба, не дождавшись фарса, и по дороге домой сочинял письмо отцу. Он сдержанно сообщил ему о своих отношениях с Христиной и пригласил его приехать в гости в Гаагу, приложив к письму двадцать пять франков Вейсенбруха. Через неделю отец приехал. Его голубые глаза потускнели, походка стала медлительной. С тех пор как Теодор выгнал сына из дома, они больше не виделись. Время от времени они лишь обменивались довольно дружелюбными письмами. Теодор и Анна—Корнелия иногда посылали сыну белье и платье, сигары, домашнее печенье или десяток франков. Винсент не знал, как его отец отнесется к Христине. Порой люди бывают чуткими и благородными, а порой, наоборот, – слепыми и злобными. Но он был все—таки уверен, что вид детской колыбели тронет сердце отца и он смягчится. Колыбель – вещь совсем особенная, это не шутка. Отец вынужден будет простить его, несмотря на прошлое Христины. Теодор приехал с большим свертком под мышкой. Винсент развернул его и увидел теплое пальто для Христины – теперь было ясно, что все уладилось. Когда Христина ушла наверх в спальню, Теодор и Винсент остались одни в мастерской. – Винсент, – сказал отец, – ты ничего не написал нам о ребенке. Он твой? – Нет. Она была беременна, когда я с ней познакомился. – А где же его отец? – Он бросил ее. – Винсент решил не говорить Теодору, что отец ребенка вообще неизвестен. – Но ты ведь женишься на ней, Винсент, правда? Так жить не годится. – Согласен. Я хотел вступить в законный брак как можно скорее, но мы с Тео договорились, что лучше подождать до тех пор, пока я стану получать за свои рисунки сто пятьдесят франков в месяц. Теодор вздохнул. – Да, пожалуй, так будет лучше. Винсент, твоя мать просит тебя приехать как—нибудь погостить домой. Я тоже прошу. Нюэнен тебе понравится, сынок, это одно из самых красивых мест во всем Брабанте. Церковь там крошечная, похожа на эскимосское иглу. Представь себе, там не усядется и сотни прихожан! Вокруг дома у нас изгородь из боярышника, а на кладбище за церковью много цветов, песчаные могилки и старые деревянные кресты. – Деревянные кресты! Белые? – Белые. Имена написаны черной краской, но почти смыты дождем. – А есть на церкви высокий, красивый шпиль? – Есть, Винсент. Тоненький, хрупкий, но тянется в самое небо. Бывают минуты, когда я думаю, что он доходит почти до бога. – И бросает узкую тень на кладбище. – Глаза у Винсента заблестели. – Хорошо бы написать это! – Там и заросли вереска, и сосновые леса рядом, а на полях работают крестьяне. Приезжай поскорее, сынок. – Да, я должен непременно увидеть Нюэнен. Маленькие кресты, церковный шпиль и крестьяне на полях. Это Брабант, настоящий Брабант! Теодор вернулся домой и успокоил Анну—Корнелию, рассказав ей, что дела у их мальчика обстоят не так уж плохо, как можно было ожидать. Винсент с еще большим рвением погрузился в работу. Все чаще ему вспоминались слова Милле: «L'art c'est un combat; dans l'art il faut y mettre sa peau» ["Искусство – это сражение; в искусстве надо жертвовать своей шкурой" (фр.)]. Тео верил в него, мать и отец не отвергли Христину, никто больше не беспокоил его в Гааге. Он был совершенно свободен, он мог целиком отдаться своей работе. Хозяин дровяного склада посылал позировать ему всех людей, которые просили работы. И если кошелек Винсента тощал, то папки его пухли от рисунков. Много раз рисовал он малыша в колыбели, стоящей у печки. Когда начались осенние дожди, он работал под открытым небом на промасленной бумаге торшон, ловя интересовавшие его эффекты. Он скоро понял, что истинный колорист, видя цвет в природе, должен тут же разложить его на составные элементы: «Этот серо—зеленый тон надо передавать желтым с черным, добавив чуть—чуть голубого». Рисовал ли он человека или пейзаж, он стремился выразить не сентиментальную меланхолию, а подлинную печаль. Он хотел, чтобы зритель понял его настроение и сказал: «Он чувствует глубоко и тонко». Он знал, что люди смотрят на него как на странного, малоприятного бездельника, не нашедшего себе места в жизни. Ему хотелось показать в своих работах, чем переполнено сердце этого бездельника и чудака. В самых жалких лачугах, в самых грязных углах ему виделись картины и рисунки. Чем больше он писал, тем больше терял интерес ко всякой другой работе. И по мере того как он отдалялся от посторонних дел, глаза его все острее схватывали в жизни яркое, живописное. Искусство требовало упорной работы, несмотря ни на канве трудности, оно требовало неусыпной наблюдательности. Только одно мешало теперь Винсенту – масляные краски стоили ужасно дорого, а он накладывал их на холст очень толстым слоем. Когда он выдавливал из тюбика на полотно обильную струю краски, ему казалось, что он швыряет франки в Зейдер—Зее. Он работал быстро и должен был оплачивать огромные счета за холсты; за один день он расходовал столько красок, сколько Мауве хватило бы на два месяца. Что ж, он не мог писать тонким слоем, не мог работать медленно; деньги его таяли, а мастерская наполнялась грудами картин. Как только приходили деньги от Тео – брат посылал ему по пятьдесят франков первого, десятого и двадцатого числа каждого месяца, – он опрометью бежал к торговцу и закупал большие тубы охры, кобальта, берлинской лазури, маленькие тюбики неаполитанской желтой, сиены, ультрамарина и гуммигута. Счастливый, он вдохновенно работал, – пока, обычно за пять—шесть дней до очередного перевода из Парижа, не кончались краски и франки и снова не начинались заботы. Он удивлялся, видя, как много вещей приходится покупать для ребенка; удивлялся, что Христине постоянно нужны лекарства, новые платья, особая еда; что Герману надо покупать книги и письменные принадлежности, так как мальчика отдали в школу; что домашнее хозяйство – это какая—то прорва, беспрерывно поглощающая лампы, горшки, одеяла, уголь, дрова, занавески, ковры, свечи, простыни, ножи и ложки, тарелки, столы, стулья и невероятное количество продуктов. Было мучительно трудно распределить очередные пятьдесят франков между живописью и тремя душами, которых он содержал. – Ты как мастеровой, который бежит в кабак, как только получит деньги, – съязвила однажды Христина, когда Винсент вынул пятьдесят франков из конверта и сразу же принялся собирать пустые тубы. Он сам сделал себе инструмент для определения перспективы – это приспособление на двух длинных ножках хорошо стояло на песке в дюнах, – и заказал кузнецу железные угольники для рамы. Схевенинген с его морем, песчаными дюнами, рыбаками, барками, лошадьми и сетями поистине пленил его. Нагруженный тяжелым мольбертом и своим неуклюжим инструментом, он каждый день бродил по дюнам, стараясь уловить изменчивый блик моря и неба. Осень вступала в свои права, художники укрылись под теплым кровом своих мастерских, а он все ходил и писал и при ветре, и под дождем, и в туман, и в настоящую бурю. В ненастную погоду его сырые полотна нередко покрывались песком и соленой морской водой. Дождь мочил его без пощады, туман и ветер пробирали до костей, песок забивался в глаза и ноздри... но он упивался каждой минутой работы. Остановить его теперь могла только смерть. Как—то вечером он показал свою новую картину Христине. – Винсент! – удивленно воскликнула она. – И как это у тебя все получается так похоже? Винсент забыл, что он разговаривает с простой, неграмотной женщиной. Ему казалось, будто он говорит с Вейсенбрухом или Мауве. – Сам не знаю, – отвечал он. – Я сажусь с чистым холстом возле того места, которое меня поразило, и говорю себе: «Из этого чистого холста надо сделать некую вещь». Я долго работаю, возвращаюсь домой недовольный и бросаю свое полотно куда—нибудь в чулан. Немного отдохнув, я со страхом иду снова взглянуть на него. Я недоволен им и теперь, потому что перед моим внутренним взором еще не поблек тот чудесный оригинал, с которого я работал, – мне пока трудно примириться со своей картиной. Но в конце концов я нахожу, что моя работа – это как быотголосок того, что меня поразило. Природа что—то сказала, поведала мне, и я это застенографировал. В моей стенограмме могут оказаться слова, которые не расшифруешь, могут быть ошибки и пропуски, но все равно – в ней есть нечто от того, что сказали мне и леса, из пески, и люди. Ты меня понимаешь? – Нет.13
Христина вообще мало что понимала в его работе. Ей казалось, что его страсть рисовать разные предметы – просто разорительная причуда. Она видела, что это краеугольный камень, на котором держится вся его жизнь, и никогда не пыталась мешать Винсенту, но цель его работы, его медленные успехи и болезненная выразительность его картин – все это ее совершенно не трогало. Она была хорошей спутницей в повседневной жизни, но Винсент отдавал этой жизни лишь малую частицу своей души. Когда ему хотелось поделиться с кем—нибудь мыслями, он вынужден был писать Тео: в длинных страстных письмах он почти каждый вечер рассказывал ему обо всем, что он видел, рисовал и думал. Когда ему хотелось насладиться чужим творчеством, он читал французские, английские, немецкие и голландские романы. Христина разделяла с ним лишь часть его существования. Но он был доволен; он не жалел, что Христина стала его женой, не пытался навязать ей интеллектуальные занятия, к которым она была явно не подготовлена. Все шло как нельзя лучше летом и осенью, когда он уходил из дома в пять или шесть утра и возвращался лишь с наступлением вечера, ковыляя в холодных сумерках по дюнам. Но когда первая свирепая метель ознаменовала годовщину их встречи в кафе напротив вокзала Рэйн и Винсенту пришлось работать дома целыми днями с утра до вечера, поддерживать добрые отношения стало труднее. Он вновь взялся за рисунки, экономя таким образом на красках, но натурщики грозили пустить его по миру. Люди, охотно соглашавшиеся на самую тяжелую и унизительную работу за ничтожную плату, требовали больших денег только за то, чтобы посидеть перед ним. Он просил разрешения рисовать в приюте для умалишенных, но ему ответили, что такого у них никогда не бывало и к тому же в приюте перестилают полы, так что работать можно только в приемные дни. Единственная надежда оставалась на Христину. Теперь она чувствовала себя хорошо, и он думал, что она будет позировать ему так же старательно, как и раньше, до появления ребенка. Но Христина смотрела на это иначе. Сначала она говорила: – Я еще не совсем поправилась. Подожди немного. К чему тебе спешить? А потом, выздоровев окончательно, она заявила, что слишком занята. – Теперь ведь совсем не то, что раньше, Винсент, – говорила она. – Я кормлю ребенка. И в доме мне надо убирать, и готовить на четыре рта. Винсент вставал в пять часов утра и делал всю работу по дому, чтобы днем Христина могла ему позировать. – Какая я тебе натурщица? – возмущалась Христина. – Я твоя жена. – Син, ты должна мне позировать! Я не могу нанимать модель каждый день. Это одна из причин, благодаря которым ты здесь. Христина разразилась той бешеной, неудержимой бранью, которой Винсент немало наслушался в первые дни знакомства с ней. – Вот зачем ты меня держишь! Ты экономишь на мне деньги! Я для тебя паршивая служанка! Если я не буду позировать, ты меня выставишь за дверь! Винсент подумал немного и сказал: – Это твоя мать тебя так настроила. Сама ты так не думала. – А что, если думала и сама? Ведь это истинная правда, разве нет? – Син, ты туда больше не пойдешь. – Это почему же? Выходит, по—твоему, я не должна любить маму? – Эти люди испортят всю нашу жизнь. Ты снова станешь такой же, как они. Как же тогда наша свадьба? – А разве ты сам не посылаешь меня к ним, когда в доме нечего жрать? Зарабатывай больше денег, и я не буду туда ходить. Когда в конце концов он упросил ее позировать, из этого ничего не вышло. Она делала все те ошибки искоренить которые ему стоило такого труда год назад. Иногда он подозревал, что она притворяется, делает неловкие движения нарочно, чтобы отвязаться от него, чтобы он оставил ее в покое. И он, действительно, вынужден, был прекратить работать с нею. Нанимать натурщиков теперь приходилось все чаще. Все чаще семья сидела теперь без сантима на хлеб, и все больше времени Христина должна была проводить у матери. Всякий раз, когда она приходила оттуда, Винсент видел едва заметную перемену в ее манерах и ее отношении к нему. Это был какой—то порочный крут: если тратить все средства на жизнь, то Христина выйдет из– под влияния матери, и он сумеет с ней поладить. Но тогда ему придется бросить свою работу. Для того ли он спас ей жизнь, чтобы убить себя? Если же Христина не будет ходить по нескольку раз в месяц к матери, ей и ее детям придется голодать; а если она будет ходить туда, это в конечном счете разрушит их семью. Что тут было делать? Христина больная и беременная, Христина в больнице, Христина, выздоравливавшая после родов, – это была одна женщина: покинутая, отчаявшаяся, стоявшая на пороге жалкой смерти, до глубины души благодарная за одно сочувственное слово, за малейшую помощь, женщина, изведавшая все горести в мире и готовая на все, только бы хоть на минуту вздохнуть свободно, способная давать самые пылкие и смелые клятвы себе и другим. Христина выздоровевшая, пополневшая от хорошей еды, лечения, заботливого ухода, – это была уже совсем иная Христина. Она забыла пережитые страдания, ее решимость быть хорошей женой и матерью слабела, прежние взгляды и привычки исподволь снова завладевали ею. Четырнадцать лет она жила, как хотела, среди пьянства, сигар, ругани и грубых, жестоких мужчин. Теперь, когда она окрепла, эти четырнадцать разгульных лет с лихвой перевесили единственный год, согретый любовью и вниманием. В ней совершалась тайная перемена. На первых порах Винсент не понял этого; затем мало—помалу он осознал, что происходит. В это самое время, вскоре после Нового года, Винсент получил любопытное письмо от брата. Тео встретил на улице в Париже какую—то женщину, совершенно одинокую, больную, опустившуюся. У нее болели ноги, работать она не могла. Она была близка к самоубийству. Пример Винсента подействовал на Тео, и он пошел по его стопам. Он устроил эту женщину в доме своих старых знакомых. Он пригласил к ней врача, оплатил все расходы по ее содержанию. В письмах он называл ее своей пациенткой. «Должен ли я жениться на своей пациентке, Винсент? Будет ли это для нее самое лучшее? Должен ли я оформить этот брак официально? Она очень страдает; она несчастна; ее покинул единственный человек, которого она любила. Как мне спасти ее?» Винсент был глубоко тронут и отвечал Тео в самом теплом тоне. Но с Христиной ему становилось все труднее. Когда семья сидела на одном хлебе и кофе, Христина ворчала. Она требовала, чтобы Винсент не тратил деньги на натуру, а все до последнего сантима отдавал на хозяйство. Не имея возможности купить новое платье, она не берегла и старое: оно было все в жирных пятнах и грязи. Чинить одежду и белье Винсента она перестала. Она снова подпала под влияние матери, которая уверяла дочь, что Винсент или сбежит сам, или выгонит ее. Поскольку постоянная совместная жизнь с Христиной стала невозможной, какой смысл было жить с ней временно? Мог ли он советовать Тео жениться на его пациентке? Был ли официальный брак лучшим путем для спасения таких женщин? Разве кров над головой, восстанавливающая здоровье сытная еда и доброе отношение – это самое важное для того, чтобы снова вдохнуть в них любовь к жизни? «Подожди! – предостерегал он брата. – Делай для нее все, что можешь, – это благородно! Но женитьба ничем тут не поможет. Будет между вами любовь, будет и брак. Но подумай сначала, способен ли ты ее спасти». Тео присылал по пятьдесят франков трижды в месяц. Теперь, когда Христина не занималась хозяйством, деньги уходили гораздо быстрее, чем раньше. Винсент всюду жадно искал натуру, ему хотелось накопить побольше этюдов, чтобы писать настоящие картины. Он жалел каждый франк, который приходилось тратить не на рисование, а на домашние нужды. Христина оплакивала каждый франк, который приходилось отрывать от хозяйства и выбрасывать на рисование. Это была борьба не на жизнь, а на смерть. Ста пятидесяти франков в месяц едва хватило бы на еду, жилье и материалы для работы одному Винсенту, – старания обеспечить на эти деньги четырех человек были мужественны, но тщетны. Мало—помалу Винсент задолжал квартирохозяину, сапожнику, бакалейщику, булочнику, торговцу красками. В довершение всего пошатнулись денежные дела Тео. Винсент писал ему слезные письма. «Если можешь, пришли, пожалуйста, деньги чуть раньше двадцатого, но никак не позже. У меня осталось всего– навсего два листа бумаги и последний огрызок цветного карандаша. На модель и еду нет ни франка». Такие письма он посылал Тео три раза в месяц; когда приходили очередные пятьдесят франков, он тотчас же раздавал их своим поставщикам, и на предстоящие десять дней у него ничего не оставалось. «Пациентке» Тео необходимо было сделать операцию – удалить опухоль на ноге. Тео поместил ее в хорошую больницу. Кроме того, ему надо было посылать деньги в Нюэнен, так как приход там был маленький, и Теодору не всегда удавалось свести концы с концами. Тео содержал себя, свою « пациентку», Винсента, Христину, Германа, Антона и помогал родителям в Нюэнене. От жалованья у него не оставалось ни одного лишнего сантима, и прислать Винсенту что—либо сверх ста пятидесяти франков он никак не мог. И вот в начале марта наступил день, когда у Винсента остался один– единственный франк – рваная, замусоленная бумажка, которую торговцы отказывались брать. Еды в доме не было ни крошки. Денег от Тео можно было ожидать не раньше чем через девять дней. Отпускать Христину к матери на долгое время Винсент боялся. – Син, – сказал он, – нельзя, чтобы дети умерли с голоду. Лучше тебе отвести их к матери, пока я не получу от Тео денег. Они посмотрели друг на друга, думая об одном и том же, но не решаясь высказать это вслух. – Да, – сказала она. – Пожалуй, придется. Бакалейщик согласился взять рваный франк и отпустил Винсенту горбушку черного хлеба и немного кофе. Натурщиков Винсент нанимал в долг. Нервы у него были напряжены до предела. Работа шла тяжело, с большой натугой. От голода он исхудал и ослабел. Бесконечные заботы о куске хлеба замучили его вконец. Не работать он не мог, но всякий раз, берясь за карандаш, убеждался, что рисует все хуже и хуже. Ровно через девять дней от Тео пришло письмо с пятьюдесятью франками. Его «пациентка» оправилась после операции, и он устроил ее в частный дом. Денежные затруднения подкосили и его, он совсем пал духом. Он писал: « Боюсь, что не могу тебе что—либо обещать на будущее». Эта фраза чуть не свела Винсента с ума. Хотел ли Тео сказать этим, что он больше не сможет посылать Винсенту деньги? Само по себе это было бы еще не так ужасно. А вдруг брат намекает на то, что наброски, которые Винсент почти каждый день посылал ему, чтобы Тео видел его успехи, убедили его, что Винсент лишен таланта и не может надеяться на что—либо в будущем? По ночам он лежал, не смыкая глаз, и все размышлял об этом. Он писал бесконечные письма Тео, прося объяснений, и мучительно думал, как найти выход и Добыть себе средства на жизнь. Выхода не было.14
Придя за Христиной, он нашел ее в обществе матери, брата, любовницы брата и какого—то чужого мужчины. Христина курила сигару и пила джин. По– видимому, возвращаться на Схенквег ей вовсе не хотелось. За девять дней, проведенные у матери, она вернулась к старым привычкам, к своей прежней губительной жизни. – Захочу и буду курить сигары! – кричала она. – Ты не имеешь никакого права запретить мне; сигары не на твои деньги куплены. Доктор в больнице сказал, что я могу пить джин и пиво сколько угодно. – Да, как лекарство... для аппетита. Она хрипло захохотала. – Лекарство! Ах, ты... Таких слов он не слышал от нее с самых первых дней их знакомства. У Винсента внутри все перевернулось. Он пришел в неистовую ярость. Христина ни в чем не уступала ему. – Ты обо мне и думать забыл! – кричала она. – Ты даже не даешь мне куска хлеба! Почему ты зарабатываешь так мало денег? Что ты, черт тебя дери, за мужчина? Шли дни, суровая зима медленно уступала место робкой весне, а дела Винсента принимали все худший оборот. Он совсем запутался в долгах. От недоедания Винсент стал страдать животом. Он не мог теперь безнаказанно проглотить ни крошки. Потом у него заболели зубы. Он не спал ночи напролет. А тут еще начало стрелять в правом ухе, и Винсент мучился с утра до вечера. Мать Христины повадилась приходить в дом Винсента и стала пить и курить здесь вместе с дочерью. Эта женщина уже не считала, что брак с Винсентом – счастье для Христины. Однажды Винсент застал у себя и брата Христины, который улизнул, едва завидев его. – Зачем он приходил? – спросил Винсент. – Что он от тебя хочет? – Они говорят, ты собираешься меня выгнать. – Ты прекрасно знаешь, Син, что я этого никогда не сделаю. Разумеется, пока ты сама хочешь жить здесь. – Мать требует, чтобы я ушла. Говорит, нет никакого толку тут жить, если жрать совсем нечего. – Куда же ты пойдешь? – Домой, понятное дело. – И детей заберешь туда? – Все лучше, чем голодать здесь. Я могу работать и содержать себя. – А что ты будешь делать? – Ну, что—нибудь найдется... – Пойдешь в поденщицы? Или снова прачкой? – Не знаю... Пожалуй. Он видел, что Христина лжет. – Так вот на что они тебя подбивали! – Что ж... это не так уж плохо... по крайней мере всегда есть деньги! – Слушай, Син, если ты уйдешь к матери, ты погибнешь. Ведь она снова пошлет тебя на улицу. Вспомни, что сказал доктор в Лейдене. Если ты вернешься к прежней жизни, это тебя убьет! – Не убьет. Я теперь здоровая. – Ты здорова, потому что жила по—человечески... Но если ты начнешь все снова... – Господи Иисусе, кто это начнет снова? Разве что ты сам пошлешь меня. Винсент сел на ручку плетеного кресла и положил ладонь на плечо Христине. Волосы у нее были растрепаны. – Поверь мне, Син, я тебя никогда не брошу. До тех пор, пока ты захочешь делить со мной все, что у меня есть, ты будешь жить у меня. Но ты должна порвать с матерью и братом. Они тебя погубят! Обещай мне, ради твоего же блага, что ты не будешь больше видеться с ними. – Обещаю. Через два дня он рисовал в столовой для бедных, а когда вернулся, увидел, что Христины в мастерской нет. Не было и ужина. Христину он разыскал у матери, она сидела там и пила джин. – Я тебе говорю, что люблю маму, – твердила она, когда они пришли домой. – Ты не запретишь мне ходить к ней когда угодно. Я тебе не рабыня. Я могу делать, что хочу. Она стала теперь такой же грязной и неряшливой, как в прошлом. Если Винсент пытался образумить ее, объяснить, что она сама отталкивает его от себя, Христина твердила: – Да, я прекрасно знаю, ты не хочешь, чтобы я жила с тобой. Винсент говорил ей, что она запустила дом, что всюду грязь, беспорядок, а она заявляла: – Хорошо, пусть я бездельница и лентяйка. Я всегда была такая, тут уж ничего не поделаешь. Когда он старался объяснить ей, куда заведет ее в конце концов лень, она говорила: – Знаю, что я пропащая, это правда. Вот возьму и брошусь в реку. Мать Христины приходила теперь в мастерскую почти каждый день и лишала Винсента того, что он ценил всего больше, – возможности быть наедине с Христиной. В доме воцарился хаос. Обедали и ужинали когда придется. Герман ходил оборванный и немытый, пропускал уроки. Христина все меньше работала, все больше курила и пила джин. Откуда она брала на это деньги, Винсент не знал. Наступило лето. Винсент опять с утра уходил из дома и целыми днями писал на открытом воздухе. Опять понадобилось больше денег на краски, кисти, холсты, рамы, мольберты. Тео сообщал в письмах, что здоровье его « пациентки» улучшилось, но он не представляет себе, как построить свои отношения с ней. Что делать с этой женщиной теперь, когда она выздоровела? Винсент закрывал глаза на то, что творилось у него в доме, и продолжал упорно писать. Он понимал, что семья разваливается, что Христина и его увлекает за собой в пропасть. Он старался забыться в работе. Каждое утро, принимаясь за новый холст, он тешил себя надеждой, что картина будет прекрасна и совершенна, что ее немедленно купят и он станет признанным художником. И каждый вечер он возвращался домой с грустным дознанием того, что от желанного мастерства его отделяют еще долгие годы. Единственным его утешением был Антон, ребенок Христины. Это был удивительно живой, подвижный малыш; смеясь и лепеча, он с аппетитом уплетал все, что ему давали. Он часто сидел с Винсентом в мастерской, устроившись в уголке на полу. Глядя, как Винсент рисует, он радостно улыбался, а потом притихал и таращил свои глазенки на развешанные по стенам картины. Мальчик рос здоровым и крепким. Чем меньше заботилась о нем Христина, тем больше Винсент к нему привязывался. Он видел в Антоне единственный смысл и оправдание того, что он сделал за минувшую зиму. Вейсенбрух навестил его за все это время лишь один раз. Винсент показал ему кое—какие наброски, сделанные еще осенью, и сам был поражен их несовершенством. – Не огорчайтесь, – сказал ему Вейсенбрух. – Через много лет вы посмотрите на эти ранние работы и поймете, что в них немало искреннего чувства и трогательности. Работайте, работайте, мой мальчик, не останавливайтесь ни перед чем. Но скоро Винсенту пришлось остановиться от жестокого удара, нанесенного прямо в лицо. Еще весной Винсент пошел в хозяйственную лавку починить лампу. Лавочник навязал ему две новые тарелки. – Но я не могу их взять, у меня нет денег. – Пустяки. Мне не к спеху. Берите, заплатите как—нибудь потом. Спустя два месяца он громко постучал в дверь мастерской. Это был здоровенный малый с такой толстой шеей, что она сливалась у него с головою. – Что же это вы меня морочите? – закричал он сердито. – Берете товар и не платите, а сами все время при деньгах? – Сейчас у меня ничего нет. Я расплачусь, как только получу деньги. – Враки! Вы только что уплатили моему соседу—сапожнику. – Я работаю и прошу мне не мешать, – сказал Винсент. – Я рассчитаюсь с вами, как только смогу. Уходите, пожалуйста. – Я уйду, когда вы отдадите мне деньги, – не раньше! Винсент опрометчиво толкнул лавочника к двери. – Проваливайте вон отсюда! – крикнул он. Лавочник только этого и ждал. Едва Винсент к нему прикоснулся, он ударил его кулаком в лицо и отбросил к стенке. Потом ударил Винсента еще раз, сбил его с ног и вышел из мастерской, не говоря ни слова. Христина была в тот день у матери. Антон, игравший на полу, подполз к Винсенту и с плачем гладил его по лицу. Через несколько минут Винсент пришел в сознание, дотащился до лестницы, кое—как взобрался наверх и лег в постель. Лицо у Винсента не было поранено. Боли он не ощущал. Он не ушибся, когда упал на пол. Но эти два удара кулаком что—то сломили в нем, опустошили его. Он это чувствовал. Пришла Христина. Она поднялась наверх. В доме не было ни еды, ни денег. Христина не раз удивлялась, как это Винсент при такой жизни еще держится на ногах. Теперь он лежал поперек кровати, свесив голову и руки в одну сторону, а ноги в другую. – Что случилось? – спросила она. Прошло много времени, прежде чем он собрался с силами, приподнялся и положил голову на подушку. – Син, я должен уехать из Гааги. – Что ж... Это понятно. – Мне необходимо уехать отсюда. Куда—нибудь в деревню. Может быть, в Дренте. Там мы сумеем прожить дешевле. – Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой? Это же ужасная дыра, этот Дренте. Что я там буду делать, если у тебя нет ни денег, ни хлеба? – Не знаю, Син. Придется тебе потерпеть. – А ты обещаешь расходовать все свои сто пятьдесят франков только на жизнь? Не будешь тратить их на натурщиков и краски? – Не могу, Син. Ведь это для меня главное. – Да, для тебя! – Ясное дело, не для тебя. Разве тебе это понять! – Мне нужно как—то жить, Винсент. Я не могу жить без еды. – А я не могу жить без живописи. – Ну, что ж, ведь деньги твои... тебе и решать... я понимаю. У тебя есть хоть несколько сантимов? Давай сходим в кафе у вокзала Рэйн. В кафе пахло кислым вином. Было уже довольно поздно, но ламп не зажигали. Те два столика, за которыми они когда—то сидели, были свободны. Христина повела Винсента к ним. Они заказали вина. Христина играла своим стаканом. Винсент вспомнил, как восхитили его почти два года назад ее натруженные рабочие руки, когда она вот так же играла стаканом. – Они говорили, что ты бросишь меня, – сказала она тихо. – Да я и сама это знала. – Я не собираюсь бросать тебя, Син. – Да, конечно, это не назовешь – бросить. Я от тебя не видела ничего, кроме хорошего. – Если ты хочешь жить вместе со мной, я заберу тебя в Дренте. Она покачала головой. – Нет, вдвоем нам никак не прокормиться. – Ты это поняла, Син, правда? Если бы я был богаче, я ничего бы для тебя не пожалел. Но когда приходится выбирать между тобой и работой... Она накрыла его руку своей, и Винсент почувствовал, как шершава ее ладонь. – Ладно. Брось огорчаться. Ты сделал для меня все, что мог. Просто пришло время... вот и все. – Хочешь, Син, мы поженимся? Я возьму тебя с собой, только бы ты была счастлива. – Нет, я останусь с мамой. Каждому свое. Все устроится; брат снимает новую квартиру для своей девки и для меня. Винсент допил вино, последние капли со дна горчили. – Син, я старался помочь тебе. Я любил тебя и отдавал тебе всю свою нежность. Прошу тебя за это об одном, только об одном. – О чем же? – равнодушно спросила Христина. – Не иди снова на улицу. Это тебя убьет! Ради Антона, не возвращайся к прежней жизни. – У тебя хватит еще денег на стакан вина? – Да. Она отпила залпом почти полстакана и сказала: – Я ведь знаю, что так мне не прожить, особенно с двумя детьми. И если я пойду на улицу, то не по охоте, а поневоле. – Но если у тебя будет работа, ты обещаешь не делать этого? – Хорошо, обещаю. – Я буду посылать тебе денег, Син, буду посылать каждый месяц, на ребенка. Мне хочется, чтобы ты вывела малыша в люди. – Все будет хорошо... он не пропадет... как и все остальные. Винсент написал Тео о своем намерении переехать в деревню и порвать с Христиной. Тео ответил со следующей почтой, – он одобрил решение Винсента и прислал лишнюю сотню франков, чтобы Винсент расплатился с долгами. «Вчера ночью моя пациентка исчезла, – писал он. – Она совсем выздоровела, но мы никак не могли найти общий язык. Она забрала с собой все вещи и не оставила мне даже адреса. Думаю, что так будет лучше всего. Теперь мы оба освободились». Винсент перетащил всю мебель в мансарду. Он еще надеялся когда– нибудь вернуться в Гаагу. За день до отъезда в Дренте он получил письмо и посылку из Нюэнена. В посылке оказался табак и творожный пудинг от матери, завернутый в промасленную бумагу. «Когда же ты приедешь к нам порисовать деревянные кресты на церковном кладбище?» – спрашивал Винсента отец. И Винсент сразу почувствовал, что его тянет домой. Он был болен. Он изголодался, истрепал нервы, бесконечно устал и пал духом. Он съездит на несколько недель домой, к матери, поправит здоровье и воспрянет духом. При мысли о брабантских пейзажах, об изгородях, дюнах и крестьянах, работающих в полях, к нему пришло ощущение мира и покоя, которого он не знал уже много месяцев. Христина с обоими детьми проводила его на вокзал. Они стояли на платформе и не знали, что сказать. Подошел поезд, Винсент сел в вагон. Христина стояла, прижимая малыша к груди и держа Германа за руку. Винсент смотрел на них, пока поезд не вышел на сияющий, залитый солнцем простор, и тогда женщина, стоявшая на закопченной платформе, скрылась из виду, скрылась навсегда.ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. НЮЭНЕН
1
Дом священника в Нюэнене был двухэтажный, белый, каменный, с большим садом. В саду ровными рядами зеленели кусты, были там клумбы, пруд, три аккуратно подстриженных дубка. Хотя в Нюэнене насчитывалось две тысячи шестьсот жителей, только сто из них были протестанты. Церковь у Теодора была совсем крошечная; после людного и богатого Эттена Нюэнен был для него шагом назад. Нюэнен, собственно говоря, был маленьким, скромным поселком, – его дома стояли по обе стороны широкой дороги на Эйндховен, центр округа. Но большинство жителей – ткачи и крестьяне – ютились в хижинах, разбросанных среди полей. Это были богобоязненные, трудолюбивые люди, жившие по традициям и обычаям предков. По фасаду священнического дома, над дверью, тянулись черные железные цифры: 1764. Парадная дверь выходила прямо на дорогу, через нее попадали в большую залу, разделявшую дом на две части. Слева, между столовой и кухней, была грубо сколоченная лестница, которая вела на второй этаж, в спальни. Винсент вместе с братом Кором жил наверху, над гостиной. Просыпаясь по утрам, он видел, как над тоненьким шпилем отцовской церкви поднимается солнце, как оно окрашивает в нежные пастельные тона пруд. На закате, когда эти тона становились темнее, чем утром, Винсент садился у окна и смотрел, как вечерние краски ложатся на воду подобно тяжелому маслянистому покрывалу, а затем постепенно растворяются в сумерках. Винсент любил своих родителей, и они тоже любили его. Все трое молчаливо решили про себя жить в мире и согласии. Винсент много ел, много спал, иногда бродил по полям. Он охотно разговаривал, рисовал и совсем не читал. Все в доме относились к нему подчеркнуто предупредительно, и он платил им тем же. Это давалось нелегко; каждому приходилось взвешивать любое олово, все время напоминать себе: «Нужно быть осторожным! Я не должен нарушать согласия!» Согласие длилось до тех пор, пока Винсент не выздоровел. Он не мог спокойно сидеть в одной комнате с людьми, которые думали не так, как он. Когда отец сказал однажды: «Хочу прочитать „Фауста“ Гете. Эту книгу перевел преподобный Тен Кате, поэтому она не может быть слишком безнравственной», – Винсента едва не стошнило от отвращения. Винсент приехал сюда отдохнуть всего на две недели, но он любил Брабант и ему захотелось пожить тут подольше. Он собирался работать, спокойно и просто писать природу, писать не мудрствуя то, что видел. Ему хотелось теперь лишь одного – жить здесь, в самой глуши, и запечатлевать на полотнах деревенскую жизнь. Подобно доброму отцу Милле, он хотел быть среди крестьян, научиться понимать их, писать их портреты. Он был твердо убежден, что некоторые люди, попавшие в город и вынужденные жить там, сохраняют неувядаемые воспоминания о деревне и до конца своих дней тоскуют по полям и простым людям. В нем издавна жило чувство, что когда—нибудь он вернется в Брабант и останется здесь навсегда. Но он не мог жить в Нюэнене против желания родителей. – Лучше уж сразу за дверь, чем у порога торчать, – сказал он отцу. – Давай—ка попробуем объясниться. – Винсент, я хочу этого всей душой. Я вижу, что из твоих занятий живописью в конце концов что—то получится, и это меня радует. – Хорошо. Тогда скажи мне прямо, сможем мы ужиться в мире? Хотите ли вы, чтобы я остался? – Да, хотим. – И надолго? – Живи у нас сколько угодно. Это твой дом. Твое место здесь, среди нас. – А если мы поссоримся? – Что ж, не станем принимать это близко к сердцу. Постараемся жить спокойно и приспособиться друг к другу. – А как мне быть с мастерской? Вы же не хотите, чтобы я работал в доме. – Я уже думал об этом. Почему бы тебе не воспользоваться прачечной в саду? Можешь занять ее всю. Там тебе никто не помешает. Прачечная была рядом с кухней, но не соединялась с ней. Высокое маленькое окошко прачечной выходило в сад, пол был земляной и в зимнее время всегда сырой. – Мы разведем там большой костер, Винсент, и хорошенько все просушим. Потом настелем пол из досок, и тебе там будет удобно. Что ты на это скажешь? Винсент осмотрел прачечную. Это было убогое строение, очень похожее на крестьянские хижины в полях. Из него вполне могла выйти настоящая мастерская деревенского художника. – Если окошко маловато, – сказал Теодор, – то у меня есть немного свободных денег, позовем мастера, чтобы он сделал его побольше. – Нет, нет, все хорошо и так. На натурщика тут будет падать столько же света, сколько в здешних хижинах. В прачечную втащили дырявую бочку и разожгли в ней огонь. Когда стены и потолок просохли, а земляной пол затвердел, на него настлали доски. Винсент перенес сюда свою узкую кровать, стол, стул и мольберты. Он развесил свои этюды, а на побеленной стене, выходившей к кухне, большущими грубыми буквами намалевал слово ГОГ и теперь готов был стать голландским Милле.2
Из всех жителей Нюэнена Винсента больше всего интересовали ткачи. Они жили в маленьких глинобитных хижинах с соломенными крышами, обычно разделенных на две части. Одну комнату, с крошечным оконцем, пропускавшим лишь тонкую полоску света, занимала семья. В стенах были квадратные ниши, высотой около метра, для кроватей; кроме того, здесь стоял стол, несколько стульев, печка, которую топили торфом, и грубо сколоченный шкаф для посуды. Пол был земляной, неровный, стены глиняные. В другой комнате, втрое меньшей и очень низкой из—за нависавших стропил, стоял станок. Ткач, работая с утра до вечера, мог выткать шестьдесят локтей материи в неделю. Пока он ткал, его жена должна была сматывать для него пряжу. За шестьдесят локтей материи ткач получал четыре с половиной франка. Когда он приносил свою работу скупщику, ему нередко говорили, что следующий заказ он получит лишь через неделю или две. Винсент заметил, что по своему складу здешние ткачи резко отличались от углекопов Боринажа: они вели себя тихо, и нигде не было и духа бунтарских речей. Своим безнадежным смирением эти Люди напоминали извозчичьих кляч или овец, отправляемых на пароходах в Англию. Винсент быстро подружился с ними. Ему нравились эти простые души, которым нужна только работа, чтобы иметь возможность купить картофель, кофе да изредка кусок ветчины. Они не возражали, когда Винсент писал их за станком; он никогда не приходил к ним без сластей для ребятишек или пачки табаку для старика деда. Однажды Винсент увидал ветхий станок из зеленовато—коричневого дубового дерева, на котором была вырезана дата – 1730 год. Рядом со станком, у окошечка, из которого была видна зеленая лужайка, стоял детский стул. Ребенок, сидевший на нем, целыми часами зачарованно глядел на беспрерывно снующий челнок. Комнатушка была жалкая, с земляным полом, но Винсент почувствовал в ней какое—то безмятежное спокойствие и красоту и попытался передать это на своих полотнах. Он вставал рано утром и целые дни проводил то в поле, то в хижинах крестьян и ткачей. С ними он чувствовал себя как дома. Ведь недаром он просидел столько вечеров у очага с углекопами, рабочими с торфяных промыслов и землепашцами. Наблюдая крестьянскую жизнь постоянно, изо дня в день, во всякое время суток, он был теперь так поглощен ею, что почти не думал ни о чем другом. Всем своим существом он стремился уловить ce qui ne passe pas dans ce qui passe [непреходящее в преходящем (фр.)]. Страсть рисовать людей снова проснулась в нем, но вместе с ней появилась у него и другая страсть: колорит. Зреющие хлеба были цвета темного золота, красноватой и золотистой бронзы, в контрасте с бледным кобальтом неба цвета эти казались особенно глубокими и яркими. В отдалении виднелись женщины – простые, энергичные, с бронзовыми от загара лицами и руками, в запыленной грубой одежде цвета индиго и в черных шапочках на коротких волосах. Когда он с мольбертом за спиной и сырыми полотнами под мышкой враскачку шагал по дороге, шторы на всех окнах слегка приподнимались, и он оказывался под обстрелом робких и любопытных женских глаз. Он убедился теперь, что старая поговорка: «Лучше сразу за дверь, чем у порога торчать» к его отношениям с родными уже неприменима. Двери домашнего благополучия не захлопнулись перед ним, но и не раскрылись настежь. Сестра Елизавета ненавидела его: она боялась, что нелепые чудачества Винсента лишат ее возможности выйти замуж в Нюэнене. Виллемина любила его, но считала скучным. Лишь в последнее время он подружился с младшим братом Кором. Винсент обедал не за общим столом, а где—нибудь в углу, держа тарелку на коленях и поставив перед собой на стул очередной этюд, – он пристально разглядывал свою работу и беспощадно отмечал любой порок, любой промах. С родными он не заговаривал. Они тоже редко обращались к нему. Ел он мало, так как не хотел себя баловать. Только изредка, когда за столом возникал спор о каком—нибудь писателе, которого он любил, Винсент вставлял в беседу два—три слова. Но, в общем, он убедился, что чем меньше он будет разговаривать с родными, тем лучше для всех.3
Он писал в полях уже почти целый месяц, когда вдруг почувствовал, что кто—то постоянно следит за ним. Он знал, что жители Нюэнена дивятся ему, что крестьяне, опершись на мотыги, иногда смотрят на него с недоумением. Но теперь было нечто другое. У него появилось ощущение, что за ним не только следят, ни и ходят по пятам. В первые дни он пробовал избавиться от этого наваждения, но чувство, что ему в спину все время смотрят чьи—то глаза, не оставляло его. Много раз он внимательно оглядывал поле, но ничего не видел. Однажды он резко обернулся, и ему показалось, будто за деревом мелькнула белая юбка. В другой раз, выйдя из хижины ткача, он увидел, как кто—то метнулся прочь и побежал по дороге. А был еще случай, когда, работая в лесу, Винсент оставил на минуту свой мольберт и пошел к пруду напиться. Вернувшись, он рассмотрел на сыром холсте отпечатки чьих—то пальцев. Узнать, кто эта женщина, ему удалось лишь спустя две недели. Он писал фигуры мужчин, взрыхлявших мотыгами пустошь; поблизости стоял старый, брошенный фургон. Пока Винсент работал, женщина пряталась за фургоном. Винсент сложил свои холсты и мольберт и сделал вид, будто идет домой. Женщина побежала впереди него. Он шел следом, не возбуждая ее подозрений, и увидел, как она свернула к дому, соседнему с домом священника. – Мама, кто живет слева от нас? – спросил он вечером, когда все сели за ужин. – Семейство Бегеманн. – А кто они такие? – Мы их почти не знаем. Мать с пятью дочерьми. Отец, видать, давно умер. – А что это за люди? – Трудно сказать, они такие скрытные. – Они католики? – Нет, протестанты. Отец был священником. – Есть там хоть одна незамужняя девица? – Конечно! Они все незамужние. А ты почему спрашиваешь? – Просто любопытно. Кто же кормит это семейство? – Никто. Они, видимо, богаты. – А имен этих девушек ты, наверное, не знаешь? Мать пытливо взглянула на него. – Нет, не знаю. Утром он отправился в поле на то же место. Ему хотелось написать синие фигуры крестьян среди вызревших хлебов и увядшей листвы буковых изгородей. Крестьяне носили блузы из грубого домотканого полотна, основа у него была черная, а уток синий, – получался черно—синий клетчатый рисунок. Когда блузы выцветали от солнца и ветра, они приобретали спокойный, нежный оттенок, великолепно подчеркивавший цвет тела. К полудню он почувствовал, что женщина притаилась опять где—то у него за спиной. Краем глаза он увидел, как ее платье мелькнуло около брошенного фургона. – Сегодня я ее поймаю, даже если мне придется бросить этюд недописанным, – пробормотал Винсент. Он все больше и больше привыкал наносить на холст то, что видел, стремительно, фиксируя свое впечатление одним страстным порывом. В старых голландских картинах его прежде всего поражало то, что они были написаны быстро, что великие мастера очерчивали предмет одним движением кисти и больше уже не прикасались к нему. Они писали с жадной торопливостью, чтобы не утратить свежесть первого впечатления и сохранить то настроение, в котором родился замысел. В пылу работы Винсент забыл о женщине. Когда он через полчаса случайно глянул в сторону, то заметил, что женщина вышла из—за дерева и стояла теперь перед фургоном. Он хотел броситься к ней, схватить ее и потребовать ответа, зачем она все время преследует его, но не мог оторваться от работы. Немного погодя он оглянулся снова и с удивлением увидел, что она все еще стоит у фургона и в упор смотрит на него. В первый раз она, не прячась, вышла из своего укрытия. Винсент продолжал лихорадочно работать. Чем усерднее он писал, тем ближе подходила к нему женщина. Чем азартнее он углублялся в свое полотно, тем нестерпимее жгли его эти глаза, устремленные ему в спину. Он слегка повернул мольберт, чтобы приноровиться к свету, и тут увидел, что женщина замерла теперь на полпути между ним и фургоном. Казалось, она загипнотизирована и двигается во сне. Шаг за шагом она подходила к нему все ближе и ближе, то и дело останавливаясь, пытаясь повернуть назад, но продолжала идти вперед, повинуясь какой—то непреодолимой силе. Он почувствовал ее за своей спиной. Тогда он резко обернулся и взглянул ей прямо в глаза. Испуг и смятение читались на ее лице; казалось, ее переполняли какие—то чувства, с которыми она не могла совладать. Смотрела она не на Винсента, а на его полотно. Винсент ждал, когда она заговорит. Она молчала. Он повернулся к своей работе и несколькими энергичными мазками закончил ее. Женщина не двигалась. Он чувствовал, как ее платье касается его куртки. Близился вечер. Женщина простояла в поле много часов. Винсент устал, творческое возбуждение еще владело всем его существом. Он вскочил и повернулся к женщине. У нее внезапно пересохли губы. Она провела языком по верхней губе, потом по нижней. Но слюна тут же высохла, рот у нее словно жгло огнем. Она поднесла руку к горлу, – казалось, ей трудно дышать. Она хотела заговорить, но не смогла. – Я Винсент Ван Гог, ваш сосед, – сказал он. – Но вам наверняка это известно и так. – Да, – прошептала она еле слышно. – Вы из сестер Бегеманн. Которая же? Она пошатнулась, схватила его за рукав, но оправилась и удержалась на ногах. Снова она облизала губы своим сухим языком и несколько раз пыталась заговорить, прежде чем ей удалось вымолвить: – Марго. – Зачем вы преследуете меня, Марго Бегеманн? Я замечаю это вот уже не одну неделю. Она глухо вскрикнула, судорожно вцепилась в рукав Винсента и, теряя сознание, упала на землю. Винсент встал на колени, подложил ей под голову руку и откинул с ее лба волосы. Красное вечернее солнце садилось за полями, усталые крестьяне медленно брели домой. Винсент и Марго были одни. Он пристально вгляделся в нее. Она не была красива. Ей было, по—видимому, далеко за тридцать. Левый угол ее рта был очерчен резко и твердо, а от правого шла тонкая линия почти до самой скулы. Под глазами у нее были синие круги, усеянные мелкими веснушками. На лице кое—где уже начинали прорезываться морщинки. У Винсента в фляжке было немного воды. Тряпочкой, которой он вытирал кисти, он смочил девушке лицо. Она быстро открыла глаза, и Винсент увидел, что они у нее хорошие – темно—карие, нежные, таинственные. Он плеснул себе на руку воды и провел пальцами по лицу девушки. Почувствовав его прикосновение, она вздрогнула. – Вам лучше, Марго? – спросил он. Она лежала еще секунду, глядя в его зеленовато—синие глаза, такие ласковые, такие проницательные и понимающие. Потом, с отчаянным рыданием, которое вырвалось из самых глубин ее существа, она обхватила его за шею и зарылась лицом в его бороду.4
На следующий день они встретились в условленном месте в стороне от деревни. Марго была в очаровательном белом батистовом платье с низким вырезом, в руках она держала соломенную шляпу. Она волновалась, но владела собой гораздо лучше, чем накануне. Когда она пришла, Винсент отложил палитру в сторону. В Марго не было и намека на тонкую красоту Кэй, но по сравнению с Христиной это была очень привлекательная женщина. Винсент встал со своего стула, не зная, что делать дальше. Женские платья были не в его вкусе; ему больше нравились на женщине юбка и жакет. Голландских женщин того круга, который принято называть респектабельным, он рисовать не любил – они были не очень—то хороши собой. Винсент предпочитал служанок: нередко они бывали истинно шарденовского типа. Марго приподнялась на носки и поцеловала его, просто, привычно, словно они давно уже были любовниками; потом она вдруг прижалась к нему всем телом и затрепетала. Винсент постелил для нее на земле куртку, а сам сел на стул. Марго прикорнула у его ног и посмотрела на него с таким выражением, какого Винсент никогда еще не видел в глазах женщины. – Винсент, – сказала она ради одного только удовольствия услышать, как чудесно звучит его имя. – Да, Марго? Он не знал, что сказать, как вести себя. – Вчера ты, наверно, подумал обо мне плохо? – Плохо? Нет. А с чего ты взяла? – Можешь мне не верить, Винсент, но вчера, поцеловав тебя, я в первый раз в жизни целовала мужчину. – Неужели? Разве ты никогда не любила? – Нет. – Это жаль. – Правда? – Она помолчала. – А ты любил других женщин, ведь любил, да? – Любил. – И многих? – Нет... Только троих. – А они тебя любили? – Нет, Марго, не любили. – И как они только могли? – Мне всегда не везло в любви. Марго придвинулась плотнее к Винсенту и положила руку ему на колено. Другой рукой она шаловливо провела по его лицу, коснувшись массивного носа, полных, приоткрытых губ, твердого, округлого подбородка. Легкая дрожь опять пробежала по ее телу; она быстро отдернула пальцы. – Какой ты сильный, – тихо сказала она. – Все у тебя сильное – и руки, и скулы, и шея. Я никогда не встречала раньше такого мужчину. Он грубо обхватил ее лицо ладонями. Страсть и возбуждение, кипевшие в ней, передались и ему. – Я тебе нравлюсь хоть немного? – В ее голосе звучала тревога. – Да. – Ты поцелуешь меня? Он поцеловал. – Пожалуйста, не думай обо мне плохо, Винсент. Я не могу ничего с собой поделать. Ты видишь, я влюбилась в тебя... и не смогла удержаться. – Ты влюбилась в меня? В самом деле? Но почему? Она прильнула к нему и поцеловала его в уголок рта. – Вот почему, – шепнула она. Они сидели не шевелясь. Неподалеку было крестьянское кладбище.Столетие за столетием крестьяне ложились на вечный отдых в тех самых полях, которые они обрабатывали при жизни. Винсент стремился показать на своих полотнах, какая это простая вещь – смерть, такая же простая, как падение осенней листвы, – маленький земляной холмик да деревянный крест. За кладбищенской оградой зеленела трава, а вокруг расстилались поля, где—то далеко—далеко сливаясь с небом и образуя широкий, как на море, горизонт. – Ты знаешь хоть что—нибудь обо мне, Винсент? – мягко спросила она. – Очень мало. – Говорил тебе кто—нибудь... сколько мне лет? – Нет, никто. – Мне тридцать девять. Скоро будет сорок. Вот уже пять лет я все говорю себе, что если не полюблю кого—нибудь до сорока лет, то убью себя. – Но ведь это так легко – полюбить. – Ты думаешь? – Да. Трудно другое – чтобы и тебя полюбили в ответ. – Нет, нет. В Нюэнене все трудно. Больше двадцати лет я мечтала кого– нибудь полюбить. И мне ни разу не довелось. – Ни разу? Она посмотрела куда—то вдаль. – Только однажды... я была еще девчонкой... мне нравился мальчик. – И что же? – Он был католик. Они его выгнали. – Кто это – они? – Мама и сестры. Она встала на колени, пачкая в глине свое чудесное белое платье, и закрыла лицо руками. Колени Винсента слегка касались ее тела. – Жизнь женщины пуста, если в ней нет любви, Винсент. – Я знаю. – Каждое утро, просыпаясь, я твердила себе: «Сегодня я обязательно кого—то встречу и полюблю. Ведь влюбляются же другие, чем я хуже них?» А потом наступала ночь, и я чувствовала себя одинокой и несчастной. И так много—много дней, без конца. Дома мае ничего не приходится делать – у нас есть служанки, – и каждый мой час был исполнен тоски по любви. Каждый вечер я говорила себе: "От такой жизни впору умереть, и все—таки ты живешь! " Меня поддерживала мысль, что когда—нибудь я все же встречу человека, которого полюблю. Проходили годы, мне исполнилось тридцать семь, тридцать восемь и, наконец, тридцать девять. Свой сороковой день рождения я не могла бы встретить, не полюбив. И вот пришел ты, Винсент. Наконец—то, наконец полюбила и я! Это был крик торжества, словно она одержала великую победу. Она потянулась к нему, подставляя губы для поцелуя. Он откинул с ее ушей шелковистые волосы. Она обняла его за шею и осыпала тысячью быстрых поцелуев. Здесь, около крестьянского кладбища, сидя на маленьком складном стуле, отложив в сторону палитру и кисти, прижимая к себе стоявшую на коленях женщину, захлестнутый потоком ее страсти, Винсент впервые в жизни вкусил сладостный и целительный бальзам женской любви. И он трепетал, чувствуя, что это – святыня. Марго снова опустилась к его ногам, положив голову ему на колени. На щеках у нее горел румянец, глаза блестели. Дышала она тяжело, с трудом. В пылу любви она казалась не старше тридцати. Винсент, ошеломленный, почти ничего не сознавая, гладил ее лицо. Она схватила его руку, поцеловала ее и приложила к своей пылающей щеке. Немного погодя она заговорила. – Я знаю, что ты не любишь меня, – сказала она тихо. – Это было бы слишком большое счастье. Я молила бога лишь о том, чтобы полюбить самой. Я не смела и мечтать, что кто—то полюбит меня. Любить – вот что важно, любить, а не быть любимым. Правда, Винсент? Винсент подумал об Урсуле и Кэй. – Да, – ответил он. Она потерлась головой о его колено, глядя в голубое небо. – Ты позволишь мне всюду ходить с тобой? Если тебе не захочется разговаривать, я буду сидеть тихо и не скажу ни слова. Позволь только быть около тебя; я обещаю не докучать тебе и не буду мешать работать. – Конечно, ты можешь ходить со мной. Но скажи, Марго, если в Нюэнене нет мужчин, почему ты отсюда не уехала? Хотя бы на время. У тебя не было денег? – Что ты, денег у меня много. Дедушка оставил мне большое наследство. – Тогда почему ты не уехала в Амстердам или в Гаагу? Там ты встретила бы интересных мужчин. – Меня не пускали. – Все твои сестры незамужние, ведь правда? – Да, дорогой, мы все пятеро не замужем. Сердце его сжалось от боли. В первый раз за всю его жизнь женщина сказала ему «дорогой». Он знал, как это ужасно – любить, не встречая ответного чувства, но никогда даже не подозревал, как это чудесно, когда тебя всем существом любит добрая, хорошая женщина. Ему все казалось, что внезапно вспыхнувшая любовь Марго – лишь странная случайность, в которой сам он не сыграл никакой роли. И это простое слово, произнесенное Марго с таким спокойствием и любовью, сразу перевернуло все его мысли. Он схватил Марго в объятия и крепко прижал ее к себе. – Винсент, Винсент, я так люблю тебя! – шептала она. – Как странно слышать, когда ты говоришь это. – Теперь я не жалею, что жила все эти годы без любви. Ты вознаградил меня, мой дорогой, мой милый. Даже в мечтах я не представляла себе, что можно испытать такое счастье, какое я испытываю сейчас. – Я тебя тоже люблю, Марго. Она слегка откинулась назад. – Не говори этого, Винсент. Может быть, потом, через некоторое время, ты будешь меня любить немного. А теперь я прошу только одного: позволь мне любить тебя! Она выскользнула из его объятий, откинула в сторону куртку и села на нее. – Работай, мой дорогой, – сказала она. – Я не буду тебе мешать. Мне нравится смотреть, как ты пишешь.5
Почти каждый день Марго ходила вместе с Винсентом в поле. Нередко он выбирал место для работы километрах в десяти от Нюэнена, и они приходили туда, замученные жарой. Но Марго никогда не жаловалась. В ней совершалась поразительная перемена. Ее темно—каштановые волосы приобрели живой светлый оттенок. Губы у нее раньше были тонкие и сухие, теперь они стали полными и красными. Кожа, прежде вялая, с морщинками, стала теперь гладкой, мягкой и теплой. Глаза расширились, груди налились, голос звучал жизнерадостно, походка стала уверенной и упругой. Страсть как бы открыла в ней новый живительный родник, и Марго купалась в пьянящем эликсире любви. Чтобы сделать Винсенту приятное, она носила ему в поле завтраки; стоило Винсенту с восхищением упомянуть о какой—нибудь гравюре, как она тотчас заказывала ее в Париже. И она никогда не мешала ему работать. Пока он писал, она сидела рядом, не шевелясь, захваченная тем самозабвенным порывом, которым он одухотворял свои полотна. Марго ничего не понимала в живописи, но она обладала гибким, живым умом и умением сказать слово вовремя и к месту. Винсент считал, что Марго, не разбираясь в картинах, чутьем все же понимает его. Она напоминала, ему кремонскую скрипку, которую чинили неумелые руки. – Как жаль, что я не встретил ее десять лет назад! – говорил он себе. Однажды, когда Винсент принимался за очередное полотно, Марго спросила: – Откуда ты знаешь, что выбранное тобой место удачно выйдет на картине? Винсент подумал мгновение и сказал: – Тому, кто хочет действовать, нечего бояться неудачи. Когда я вижу пустой холст, который глупо уставился на меня, я беру в руки кисть и мгновенно покрываю его красками. – Да, пишешь ты и впрямь мгновенно. Я не представляю себе, чтобы кто– нибудь заканчивал картину с такой быстротой. – По—иному я не могу. Пустой холст словно сковывает меня, он будто говорит: «Эх ты, ничего ты не умеешь!» – И тем самым как бы бросает тебе вызов? – Вот именно. Пусть полотно глядит на меня тупо и бессмысленно, но я знаю, – оно боится горячего, смелого художника, который раз и навсегда разрушил это заклинание: «Ты не умеешь!» Ведь и сама жизнь, Марго, повернута к человеку своей бессмысленной, равнодушной, безнадежно пустой стороной, на которой написано ничуть не больше, чем на чистом холсте. – Да, ничуть не больше. – Но человек, полный веры и сил, не боится этой пустоты; он идет вперед, он действует, созидает, творит, и в конце концов полотно уже не пусто, оно расцветает всеми красками жизни. Винсент был счастлив любовью Марго. Она не видела в нем никаких недостатков. Она одобряла все, что он делал. Она не говорила, что у него грубые манеры, или хриплый голос, или топорные черты лица. Она ни разу не упрекнула его за то, что он не зарабатывает денег, ни разу не обмолвилась, чтобы он занялся чем—нибудь другим, кроме живописи. Возвращаясь домой в тихом свете сумерек, обняв ее за талию, он рассказывал ей ласковым голосом о своих работах, объяснял, почему он охотнее пишет крестьянина в трауре, чем какого—нибудь бургомистра, почему, на его взгляд, простая деревенская девушка в залатанном синем платьице с узким лифом гораздо красивее, чем знатная дама. Марго ни о чем не спрашивала, со всем соглашалась. Он был с ней самим собой, и она любила его бесконечно. Винсент никак не мог привыкнуть к своим отношениям с Марго. Каждый день он ждал разрыва, жестоких и грубых попреков за все его жизненные неудачи. Но любовь ее в эти жаркие летние дни становилась все горячее; она любила его с такой полнотой чувства, на какую способна лишь зрелая женщина. Видя, что она ни в чем его не винит, Винсент сам пытался толкнуть ее на это, представляя в самом черном свете все свои прошлые злоключения. Но она принимала их лишь как объяснение, почему он поступил именно так, а не иначе. Он рассказал ей о своих неудачах в Амстердаме и Боринаже. – Это был крах, полнейший крах, – уверял он. – Все, что я делал там, все было ошибкой. Как ты считаешь? В ответ она мягко улыбнулась: – Король не ошибается. Винсент поцеловал ее. В другой раз она сказала ему: – Мать говорит, что ты дурной, порочный человек. Она слышала, что в Гааге ты жил с гулящими женщинами. А я возразила, что все это сплетни. Винсент рассказал о Христине. Марго слушала его с легкой печалью в глазах, но скоро в них опять светилась одна только любовь. – Знаешь, Винсент, ты чем—то похож на Христа. Я уверена, что мой отец подумал бы то же самое. – И это все, что ты можешь сказать после того, как я признался, что два года жил с проституткой? – Она была не проститутка, а твоя жена. Тебе не удалось ее спасти, но ты в этом не виноват, так же как не виноват в том, что не смог спасти углекопов в Боринаже. Один в поле не воин. – Это верно, Христина была моей женой. Когда я был помоложе, я говорил своему брату Тео: «Если я не смогу найти хорошую жену, то возьму плохую. Лучше плохая жена, чем никакой». Наступило неловкое молчание: о женитьбе они еще ни разу не заговаривали. – Во всей этой истории с Христиной меня огорчает только одно, – сказала Марго. – Жаль, что эти два года твоей любви принадлежали не мне! Винсент уже не пытался толкнуть Марго на разрыв и безоговорочно принял ее любовь. – Когда я был моложе, Марго, – сказал он, – я думал, что все на свете зависит от случая, от мелких, пустяковых недоразумений. С годами я стал понимать, что всему есть глубокие причины. Такова уж неизбежная участь большинства людей – они долго должны искать света. – Так же, как я искала тебя! Они подошли к хижине ткача с низенькой дверью. Винсент крепко сжал руку Марго. Она ответила ему такой нежной и преданной улыбкой, что он недоумевал и досадовал, почему судьба лишала его ее любви все эти годы. Они вошли под соломенную крышу хижины. Лето уже кончилось, стояла осень, на дворе смеркалось рано. В хижине горела лампа, подвешенная к потолку. На станке было натянуто красное полотно. Ткачу помогала его жена: их темные склоненные фигуры четко рисовались против света на фоне красного полотна и отбрасывали огромные тени на брусья и перекладины станка. Марго и Винсент понимающе взглянули друг на друга – он научил ее чувствовать скрытую красоту самых нищенских жилищ. В ноябре, в пору листопада, когда деревья облетели в несколько дней, в Нюэнене только и было разговоров что о Винсенте и Марго. Жители поселка любили Марго. Винсенту же они не доверяли и боялись его. Мать и четыре сестры порывались положить конец их отношениям, но Марго уверяла, что между нею и Винсентом нет ничего, кроме дружбы, а что дурного в совместных прогулках по полям? Бегеманны знали, что Винсент бродяга, и надеялись, что в один прекрасный день он исчезнет. Поэтому они не особенно волновались. Зато весь поселок был в смятении; все только и судачили о том, что от этого чудака Ван Гога добра не жди и что семейство Бегеманн пожалеет, если не вырвет дочку из его лап. Винсент никак не мог понять, почему его здесь так не любят. Он никому не мешал, никого не обидел. Он и не догадывался, какое странное впечатление производил он в этой тихой деревушке, где жизнь текла по однажды заведенному порядку уже сотни лет. Он оставил надежду подружиться с местными жителями лишь тогда, когда убедился, что они считают его лодырем. Однажды Винсента окликнул на дороге лавочник Дин ван ден Бек и бросил ему вызов от лица всего поселка. – Осень на дворе, и хорошей погоде конец, э? – начал он. – Похоже, что так. – Надо думать, вы скоро приметесь за работу, э? Винсент поправил на спине мольберт. – Да, я иду на пустошь. – Нет, я говорю о работе, – возразил Дин. – О настоящей работе, которой вы занимаетесь весь год. – Моя работа – это живопись, – спокойно сказал Винсент. – Работой называют то, за что платят деньги. – Как видите, я хожу в поле и там работаю, минхер ван ден Бек. Это такая же работа, как и торговля. – Да, но я—то свой товар продаю! А вы свой продаете? С кем бы он ни разговаривал здесь, все задавали ему этот вопрос. Винсенту он надоел до отвращения. – Иногда продаю. Брат у меня торгует картинами, он покупает мои рисунки. – Вам надо заняться делом, минхер. Не годится так вот бездельничать. Плохо, когда приходит старость, а у человека за душой нет ни сантима. – Что значит бездельничать! Я каждый день работаю в два раза больше, чем вы сидите в своей лавочке. – А, вы называете это работой! Сидеть на лужайке и малевать. Да это же детская забава! Торговать в лавке, пахать землю – вот настоящая работа для мужчины. Ваши годы уже не те, чтобы тратить время попусту. Винсент понимал, что устами Дина ван ден Бека говорит все селение и что для здешних умов художник и работник – понятия несовместимые. Он перестал интересоваться тем, что о нем думают, и, проходя по улице, старался ни с кем не разговаривать. Когда враждебность и Винсенту достигла предела, произошел случай, благодаря которому он вдруг снискал общее расположение. Сходя с поезда в Хэлмонде, Анна—Корнелия сломала ногу. Ее спешно привезли домой. Доктор опасался за ее жизнь, хотя и скрывал это от близких. Винсент без колебания бросил работу. В Боринаже он научился прекрасно ухаживать за больными. Врач побыл в доме с полчаса и сказал Винсенту: – Вы справляетесь с делом лучше всякой женщины. Ваша мать в хороших руках. Жители Нюэнена, столь жестокие к Винсенту, оказались очень отзывчивыми в беде: они приходили к больной с лакомствами, книгами и словами утешения. Глядя на Винсента, они удивлялись: он менял белье на постели, не потревожив мать, умывал и кормил ее, поправлял гипсовую повязку на ноге. Через две недели от прежнего предубеждения против Винсента не осталось и следа. Когда соседи заходили в дом, он разговаривал с ними как равный; они советовались, как лучше избежать несчастных случаев, чем кормить больного, часто ли нужно топить у него в комнате. Беседуя с Винсентом на близкие им темы, они убедились, что он – самый обыкновенный человек. Когда матери стало полегче и он смог выкраивать время, чтобы пойти немного порисовать, нюэненцы улыбались ему и окликали его по имени. Проходя по улице, он даже не видел, как приподнимаются занавески на окнах. Марго всегда была рядом с Винсентом. Она одна не удивлялась его чуткости. Как—то, разговаривая шепотом с Марго в комнате больной, Винсент сказал: – В живописи есть вещи, которые немыслимы без знаний человеческого тела, а изучить его стоит больших денег. Я мог бы купить прекрасную книгу Джона Маршалла «Анатомия для художников», но она очень дорогая. – А у тебя нет денег? – Нет и не будет, пока я не продам что—нибудь из своих работ. – Винсент, я была бы так счастлива, если бы ты взял у меня денег в долг. Ты ведь знаешь, у меня большой доход, я просто не знаю, куда девать деньги. – Ты очень добра, Марго, но это невозможно. Она не настаивала, но недели через две вручила ему, пакет, полученный из Гааги. – Что это? – Вскрой и посмотри. К пакету была приклеена карточка. Внутри оказалась книга Маршалла, а на карточке значилось: «С днем рождения, счастливейшим в жизни». – Но сегодня вовсе не день моего рождения! – воскликнул Винсент. – Конечно, нет! – засмеялась. Марго. – Не твоего, а моего. Понимаешь? Мне сорок, Винсент. Ты подарил мне жизнь. Пожалуйста, возьми это, дорогой. Я так счастлива сегодня и хочу, чтобы ты тоже был счастлив. Они сидели в мастерской Винсента. Во всем доме никого не было, одна только Виллемина осталась с больной матерью. Наступал вечер, предзакатное солнце отбрасывало на выбеленную известкой стену неяркий квадрат света. Винсент с нежностью взял в руки книгу – никто, кроме Тео, не помогал ему с такой радостью, как Марго. Он бросил книгу на кровать и крепко обнял Марго. Глаза ее слегка затуманились от любви. В последнее время ласки их были редки: даже гуляя в поле, они боялись, что их увидят. Марго всегда отдавалась его объятиям пылко, с самоотверженной готовностью. Прошло уже пять месяцев с тех пор, как Винсент расстался с Христиной; и теперь, когда дело могло зайти далеко, он старался не давать себе воли. Он не хотел обидеть Марго, оскорбить ее любовь к нему. Целуя ее, он заглянул в ее ласковые карие глаза. Она улыбнулась, опустила веки и чуть приоткрыла губы, ожидая нового поцелуя. Они крепко прижались друг к другу всем телом. Кровать была от них в двух шагах. Они сели на нее. Жарко обнимая друг друга, они уже не помнили о тех долгих годах, когда они томились без любви. Солнце село, и квадрат света на стене исчез. Мастерская погрузилась в мягкий полумрак. Марго провела рукой по лицу Винсента, любовь исторгла из ее груди какие—то непонятные, нежные слова. Винсент чувствовал, что вот– вот полетит в пропасть, нельзя было терять ни секунды. Он вырвался из объятий Марго и вскочил на ноги. Он отошел к своему мольберту и скомкал лист с начатым рисунком. Было тихо, только с акаций слабо доносилась трескотня сороки да звенели колокольчики на шеях у коров, возвращавшихся с пастбища. Спустя минуту Марго сказала спокойно и просто: – Дорогой, если хочешь, тебе все можно. – Можно? – повторил он, не оборачиваясь. – Да, потому что я тебя люблю. – Это было бы ошибкой. – Я уже говорила тебе, Винсент, что король не ошибается. Он встал на колени и положил голову на подушку. И опять увидел он на лице Марго морщинку, идущую от правого уголка рта к скуле, и приник к ней губами. Он целовал ее слишком тонкую переносицу, слишком широкие ноздри, он провел губами по всему ее лицу, сразу помолодевшему лет на десять. В сумеречном свете, доверчиво приникнув к его груди, она словно снова стала той красивой девушкой, какой была в двадцать лет. – Я тоже люблю тебя, Марго, – говорил Винсент. – Раньше я не знал этого, а теперь знаю. – Спасибо тебе, дорогой. – Голос ее звучал нежно и мечтательно. – Я знаю, что нравлюсь тебе немного. А я люблю тебя всей душой. И мне этого довольно. Он не любил ее так, как любил некогда Урсулу и Кэй. Он не любил ее даже так, как любил Христину. Но все же он чувствовал глубокую нежность к этой женщине, покорно лежавшей в его объятиях. Он знал, что любовь охватывает почти все отношения между людьми. Ему было горько, когда он думал, как мелко чувство, которое он испытывает к единственной в мире женщине, страстно любящей его, и он вспомнил свои страдания, когда Урсула и Кэй были глухи к его любви. Безудержная страсть Марго вызывала у него уважение, к которому по непонятной причине примешивалась какая—то брезгливость. Стоя на коленях на грубом деревянном полу, поддерживая руками голову женщины, любившей его так, как он любил Урсулу я Кэй, Винсент понял наконец, почему обе эти женщины отвергли его. – Марго, – сказал он, – у меня нелегкая жизнь, но я буду счастлив, если ты разделишь ее со мной. – Я готова разделить ее с тобой, любимый. – Мы можем остаться здесь, в Нюэнене. Или ты хочешь куда—нибудь уехать, после того как мы поженимся? Она ласково потерлась лбом о его руку. – Помнишь, что сказала Руфь? «Куда ты пойдешь, туда и я пойду».6
Они никак не ожидали той бури, которая поднялась на следующее утро, когда каждый сообщил дома о своем решении. У Ван Гогов все упиралось только в деньги. Как может Винсент думать о женитьбе, если его самого содержит Тео? – Тебе надо прежде начать зарабатывать и пробить себе дорогу в жизни, а потом уже жениться, – сказал ему отец. – Если я пробью себе дорогу правдой своего искусства, – отвечал Винсент, – то деньги в свое время у меня будут. – Что ж, вот в женись в свое время. Только не сейчас! Но тревога в пасторском доме была сущей безделицей по сравнению с тем, что творилось рядом, в семействе Бегеманн. До того времени все пять незамужних сестер дружно поддерживали друг друга против враждебного им мира. Замужество одной сестры только подчеркнуло бы перед всем поселком неудачу других. Мадам Бегеманн полагала, что лучше лишить счастья одну дочь и избавить от несчастья остальных четырех. В этот день Марго уже не пошла вместе с Винсентом к ткачам. Под вечер она заглянула к нему в мастерскую. Глаза у нее опухли и покраснели; теперь особенно ясно было видно, что ей уже сорок. Она судорожно обняла Винсента. – Они весь день бранили тебя на чем свет стоит, – сказала она. – Право же, трудно представить себе человека, который совершил бы столько зла, как ты, и остался жив. – Этого следовало ожидать. – Конечно. Но я не думала, что они будут так бесноваться. Он нежно обхватил ее рукой и поцеловал в щеку. – Предоставь это дело мне. Я зайду к вам после ужина. Может быть, мне удастся убедить их, что я не такое уж страшилище. Едва Винсент переступил порог их дома, как почувствовал себя на вражеской территории. Что—то зловещее было в этом жилище шестерых женщин, где давным—давно не раздавался мужской голос, не звучали мужские шаги. Его пригласили в гостиную. Это была затхлая и холодная комната. Сюда не заходили по целым неделям. Винсент знал всех сестер по именам, но никогда не давал себе труда запомнить их в лицо. Каждая из них была как бы живой карикатурой на Марго. В доме всем заправляла старшая, она и приступила к допросу. – Марго говорит, что вы хотите жениться на ней. Позвольте узнать, что произошло с вашей женой в Гааге? Винсент рассказал про Христину. Атмосфера в комнате стала холоднее еще на несколько градусов. – Сколько вам лет, минхер Ван Гог? – Тридцать один. – Говорила вам Марго, что ей... – Да, я знаю. – Разрешите спросить, какой у вас доход? – Сто пятьдесят франков в месяц. – Из каких же это источников? – Эти деньги мне присылает брат. – Вы хотите сказать, что он вас содержит? – Йет. Он платит мне жалованье. За это я отдаю ему все свои картины. – Сколько же из этих картин он продает? – Сказать по правде, не знаю. – Что ж, зато я знаю. Ваш отец говорит, что брат еще не продал ни одной. – В конце концов он их продаст. И ему заплатят во много раз больше, чем он мог бы получить теперь. – Ну, это по меньшей мере сомнительно. Давайте обратимся к фактам. Винсент разглядывал ее строгое некрасивое лицо. Он понимал, что сочувствия тут ждать не приходится. – Если вы ничего не зарабатываете, – продолжала она, – то, разрешите спросить, на какие средства вы предполагаете содержать жену? – Мой брат считает нужным давать мне сто пятьдесят франков в месяц; зачем он это делает, вас не касается. Я смотрю на эти деньги как на жалованье. Я зарабатываю их тяжким трудом. Мы с Марго проживем на них, если будем экономно вести хозяйство. – Да нам незачем будет экономить! – воскликнула Марго. – У меня довольно денег, чтобы самой содержать себя. – Замолчи, Марго, – оборвала ее старшая сестра. – И не забывай, – вставила мать, – что я могу лишить тебя дохода, если ты опозоришь честь семейства. Винсент улыбнулся. – Разве выйти за меня замуж – такой уж позор? – спросил он. – Мы о вас очень мало знаем, минхер Ван Гог, да и то, что знаем, говорит не в вашу пользу. Давно вы стали художником? – Уже три года. – И до сих пор ничего не достигли! Сколько же лет вам потребуется, чтобы добиться успеха? – Не знаю. – А кем вы были, пока не взялись за живопись? – Торговал картинами, был учителем, продавцом книг, студентом– богословом и проповедником. – И ни в чем не преуспели? – Я все это бросил. – Почему же? – Все это не для меня. – А когда вы бросите свою живопись? – Он ее никогда не бросит! – вмешалась Марго. – Мне кажется, минхер Ван Гог, – сказала старшая сестра, – что рассчитывать на брак с Марго с вашей стороны слишком самонадеянно. Вы безнадежно опустились, у вас нет ни франка, заработать вы ничего не можете, взяться за какое—нибудь дело не способны, вы лодырь, вы шатаетесь по свету, как бродяга. Как можем мы позволить сестре выйти за вас замуж? Винсент вынул было из кармана трубку, но тут же сунул ее обратно. – Мы с Марго любим друг друга. Со мной она будет счастлива. Мы поживем здесь год—другой, а потом уедем за границу. Она увидит от меня только ласку и любовь. – Да вы бросите ее! – пронзительно закричала одна из сестер. – Она скоро надоест вам, и вы бросите ее ради какой—нибудь шлюхи, вроде той, что была у вас в Гааге! – Вы и женитесь—то на Марго только из—за ее денег! – подхватила другая. – Но вам не видать их, как своих ушей, – заявила третья. – Мать снова вложит эти деньги в недвижимость. У Марго покатились из глаз слезы. Винсент встал. Ему было ясно, что тратить время на этих ведьм бесполезно. Надо просто жениться на Марго в Эйндховене и немедленно ехать в Париж. Уезжать из Брабанта ему не хотелось, надо было поработать здесь еще. Но оставить Марго в этом царстве старых дев – нет, Винсент содрогнулся при одной мысли об этом. Целую неделю Марго не находила себе места. Выпал снег, и Винсент был вынужден работать в мастерской. Навещать его Марго не разрешали сестры. С раннего утра и до вечера, когда она ложилась в постель и притворялась спящей, ей приходилось выслушивать гневные речи против Винсента. Она прожила в этом доме сорок лет, Винсента же она знала всего несколько месяцев. Она ненавидела сестер, понимая, что они искалечили ей жизнь, но ведь ненависть – это одно из темных проявлений скрытой любви, которое иногда лишь обостряет чувство долга. – Не понимаю, почему ты не хочешь уехать со мной, – говорил ей Винсент. – Ты можешь, наконец, выйти за меня и здесь, без их согласия. – Они не допустят этого. – Кто? Твоя мать? – Нет, сестры. Мать им только подпевает. – А стоит ли обращать внимание на то, что говорят сестры? – Помнишь, я рассказывала тебе, как еще девчонкой я едва не влюбилась в одного мальчика? – Да. – Сестры нас разлучили. Даже не знаю зачем. Всю жизнь они не давали мне делать то, что я хотела. Когда я однажды собралась в город навестить родственников, они не пустили меня. Когда я начала читать, они отобрали у меня все хорошие книги, какие были в доме. Если я приглашала в гости мужчину, они потом так перемывали ему все косточки, что в следующий раз я уже не знала, куда глаза девать. Я порывалась что—то сделать в жизни – стать сестрой милосердия, заняться музыкой. Но нет, они заставляли меня думать лишь о том, о чем думали сами, и жить так, как жили они. – Ну, а теперь? – А теперь они не дают мне выйти за тебя замуж. Вся ее недавняя живость исчезла. Губы снова стали сухими, под глазами проступили мелкие веснушки. – Не обращай на них внимания, Марго. Мы поженимся, и делу конец. Брат не раз предлагал мне переехать в Париж. Мы будем жить в Париже. Она не отвечала. Она сидела на краю кровати и тупо смотрела в пол. Плечи ее поникли. Он сел рядом и взял ее за руку. – Ты боишься выйти за меня без их согласия? – Нет. – В голосе ее не было ни силы, ни уверенности. – Я убью себя, Винсент, если они разлучат нас. Я не переживу этого. После того, как я полюбила тебя, это невозможно. Я покончу с собой, вот и все. – Они ничего не будут знать. Сначала поженимся, а потом ты им все скажешь. – Не могу я идти против них. Слишком их много. Мне не под силу бороться с ними. – Незачем и бороться. Выходи за меня замуж, и конец. – Нет, это будет не конец, а начало. Ты не знаешь моих сестер. – И знать не хочу! Но так уж и быть, вечером я попробую поговорить с ними еще раз. Он понял тщетность этой попытки, как только вошел в гостиную. Он забыл, какой ледяной холод царит в этом доме. – Все это, минхер Ван Гог, мы слышали и раньше, – сказала старшая сестра, – но это нас не трогает и вряд ли может убедить. Мы уже все решили. Мы желаем Марго всяческого счастья и не можем позволить ей погубить свою жизнь. Так вот, если через два года вы по—прежнему будете готовы на ней жениться, то мы возражать не станем. – Через два года! – воскликнул Винсент. – Через два года меня уже здесь не будет, – тихо сказала Марго. – Где же ты будешь? – Я умру. Я убью себя, если вы не дадите мне выйти за него. Под злобные крики: «Да как ты смеешь говорить такие вещи!», «Вон чего она у него нахваталась!» – Винсент выскочил из зала. Ничего другого ему не оставалось. Годы тягостной жизни не прошли для Марго даром. Она не обладала ни крепкими нервами, ни хорошим здоровьем. Под сплоченным натиском пяти разъяренных женщин она отступала и все больше падала духом. Двадцатилетняя девушка вышла бы из этого испытания невредимой, но у Марго уже недоставало ни упорства, ни воли. Лицо ее избороздили морщины, в глазах снова появилась грусть, кожа стала болезненно—желтой и шершавой. Складка у правого угла рта обозначилась еще резче. Привязанность, которую питал Винсент к Марго, исчезла вместе с ее красотой. В сущности, он никогда не любил ее и не хотел на ней жениться; теперь же он хотел этого меньше, чем когда—либо. Он стыдился своей черствости и поэтому старался выказывать Марго самую горячую любовь. Он не мог понять, угадывает ли она его истинные чувства. – Разве ты их любишь больше, чем меня? – спросил он Марго, когда она, улучив минуту, забежала к нему в мастерскую. Она бросила на него удивленный и укоризненный взгляд. – Ах, Винсент, что ты! – Тогда почему же ты хочешь меня бросить? Она отдыхала в его объятиях, словно усталый ребенок. Голос ее звучал тихо и грустно. – Будь я уверена, что ты меня любишь, как я тебя, я пошла бы против целого света. Но для тебя это значит так мало... а для них – так много... – Марго, ты ошибаешься, я люблю тебя... Она легонько прижала пальцы к его губам. – Нет, дорогой, нет, ты хотел бы любить, но не можешь. Пусть это не тревожит тебя. Я хочу, чтобы моя любовь была сильнее твоей. – Почему ты не решаешься порвать с ними и быть себе хозяйкой? – Тебе легко так говорить. Ты сильный. Ты можешь бороться с кем угодно. А мне уже сорок... Я с малых лет живу в Нюэнене... Я нигде не бывала дальше Эйндховена. Разве ты не видишь, милый, что я никогда не могла порвать ни с кем и ни с чем. – Да, пожалуй. – Если бы ты этого хотел, я стала бы бороться изо всех сил. Но хочу– то только одна я. И потом, все это пришло так поздно... моя жизнь уже кончена... Она говорила теперь совсем тихо, шепотом. Он взял ее за подбородок и поглядел ей в лицо. В глазах у нее стояли слезы. – Девочка моя, – сказал он. – Дорогая моя Марго. Мы с тобой никогда не расстанемся. Для этого тебе стоит сказать одно только слово. Сегодня ночью, когда у вас в доме все уснут, увяжи свои платья в узел и кинь его мне в окошко. Мы дойдем до Эйндховена и утром с первым поездом уедем в Париж. – Нет, дорогой, это бесполезно. Я связана с ними одной веревочкой. Но в конце концов будет по—моему. – Марго, у меня сердце разрывается, когда я вижу, как ты несчастна. Она взглянула ему в лицо. Слезы ее мгновенно высохли. Она улыбнулась. – Нет, Винсент, я счастлива. У меня теперь есть все, что я хотела. Это было так чудесно – любить тебя. Он поцеловал Марго, ощутив на ее губах соленый вкус слез, которые только что катились по ее щекам. – Снег перестал, – сказала она, помолчав. – Ты не пойдешь завтра работать в поле? – Да, собираюсь пойти. – А куда? Я пришла бы к тебе вечером. На другой день Винсент допоздна писал в поле; на голове у него была меховая шапка, шею плотно облегал воротник синей полотняной блузы. Вечернее небо отливало золотисто—сиреневыми тонами, на фоне рыжего кустарника четко выделялись темные силуэты домов. Вдали высились тонкие черные тополи, зеленый покров полей выцвел, местами лежал снежок, кое—где чернели пятна взрытой земли, а по краям канав щетинился сухой желтый камыш. Марго торопливо шла через поле. На ней было то самое белое платье, в котором он впервые увидел ее, на плечи она накинула шарф. Винсент заметил, что на щеках у нее заиграл слабый румянец. Теперь она снова была похожа на ту женщину, которая расцвела, согретая любовью, всего несколько недель назад. В руках она держала корзинку с рукодельем. Она крепко обняла его за шею. Он почувствовал, как неистово бьется ее сердце. Он запрокинул ей голову и заглянул в самую глубину ее карих глаз. Теперь они не были печальны. – В чем дело? – спросил он. – Что—нибудь случилось? – Нет, нет! – воскликнула она. – Просто... просто я счастлива, что мы снова вместе... – Но почему ты пришла в этом легоньком платье? Она помолчала мгновение, потом сказала уже другим тоном: – Винсент, как бы далеко ты ни уехал, я хочу, чтобы ты всегда помнил только одно... – Что же, Марго? – Что я любила тебя! Всегда помни, что я любила тебя так, как не любила тебя ни одна женщина за всю твою жизнь. – Почему ты так дрожишь? – О, пустяки. Меня не пускали. Поэтому я и запоздала. Ты уже кончаешь? – Да, осталось совсем немного. – Тогда позволь мне посидеть около тебя, пока ты работаешь, так, как я сидела раньше. Ты знаешь, дорогой, я всегда старалась ничем не мешать тебе, не становиться на твоем пути. Я хотела лишь одного: чтоб ты позволил любить тебя. – Да, Марго, – только и сказал он, не зная, что ответить. – Ну, принимайся же за работу, мой дорогой, а когда закончишь, мы пойдем назад вместе. Ее опять охватила дрожь, она плотнее закуталась шарфом и сказала: – Пока ты не начал, Винсент, поцелуй меня еще раз. Так поцелуй, как целовал там... в мастерской... когда мы были счастливы в объятиях друг друга. Он нежно поцеловал ее. Она расправила подол платья в села у Винсента за спиной. Солнце скрылось, и короткие зимние сумерки спустились на равнину. Винсента и Марго поглотила вечерняя тишина полей. Вдруг звякнула склянка. Марго глухо вскрикнула, поднялась на колени и в страшной судороге рухнула на землю. Винсент мгновенно бросился к ней. Глаза у нее были закрыты, лицо искажено мучительной улыбкой. Она корчилась в беспрерывных конвульсиях, потом откинулась назад и, вытянувшись, словно окаменела; руки у нее свело, все тело застыло. Винсент схватил флакон, валявшийся на снегу. В горлышке оставалось немного белого кристаллического вещества. Оно ничем не пахло. Винсент подхватил Марго на руки и как безумный бросился бежать через поле. До Нюэнена было не меньше километра. Он боялся, что, пока он доберется до поселка, Марго умрет. Было время ужина. Люди отдыхали, сидя возле своих домов. Винсенту надо было пронести Марго через весь поселок. Он добежал до дома Бегеманнов, пинком распахнул входную дверь, пронес Марго в гостиную и положил ее на диван. Вбежали ее мать и сестры. – Марго отравилась! – крикнул Винсент. – Я позову доктора! Доктор ужинал, но Винсент поднял его из—за стола. – Вы уверены, что это стрихнин? – спросил доктор. – Да, очень похоже на стрихнин. – И она была еще жива, когда вы ее принесли? – Да. Когда они вошли в дом, Марго, все еще корчась, лежала на диване. Доктор склонился над ней. – Совершенно верно, это стрихнин, – сказал он. – Но, кроме того, она приняла еще что—то болеутоляющее. Судя по запаху, тинктуру опиума. Она не знала, что это действует как противоядие. – Значит, она останется жива, доктор? – спросила мать. – Есть надежда. Надо немедленно везти ее в Утрехт. Ей необходима постоянная медицинская помощь. – Вы можете рекомендовать нам больницу в Утрехте? – Я не думаю, что ее нужно класть в больницу. Лучше поместите ее временно в санаторий. Я знаю там один очень хороший санаторий. Распорядитесь насчет лошадей. Мы должны попасть на последний поезд в Эйндховен. Винсент молча стоял в темном углу гостиной. К дому подъехал экипаж. Доктор завернул Марго в одеяло и вынес ее на улицу. За доктором шли мать Марго и четверо ее сестер. Винсент последовал за ними. Семейство Ван Гогов высыпало на улицу и стояло у крыльца. К дому Бегеманнов сбежалась вся деревня. Когда доктор с Марго на руках вышел из дверей, толпа зловеще смолкла. Доктор уложил Марго в карету, туда же сели мать и сестры. Винсент молча стоял рядом. Доктор взял в руки вожжи. Мать Марго повернулась, увидела Винсента и закричала: – Это ты, ты убил мою дочь! Толпа хмуро смотрела на Винсента. Доктор поднял кнут и ударил по лошадям. Карета покатила и скрылась из вида.7
До того как Анна—Корнелия сломала ногу, жители Нюэнена недолюбливали Винсента, потому что не доверяли ему и не могли понять, отчего он ведет такой странный образ жизни. Но враждебности своей они открыто не проявляли. Теперь же они ополчились на него не таясь, и он чувствовал их ненависть на каждом шагу. При его появлении все поворачивались к нему спиной. Никто не хотел его замечать, никто с ним не разговаривал. Он стал парией. Самого Винсента это мало трогало – ткачи и крестьяне по—прежнему принимали его в своих хижинах как друга, – но когда соседи перестали заходить к его родителям, он понял, что надо уезжать. Винсенту было ясно, что самое лучшее – это уехать из Брабанта навсегда и оставить родителей в покое. Но куда ехать? Брабант был его родиной. Ему хотелось жить тут до конца своих дней. Хотелось рисовать крестьян и ткачей – в этом он видел единственный смысл своей работы. Он знал, как славно жить зимой среди глубоких снегов, осенью – среди желтой листвы, летом – среди спелых хлебов, а весной – среди зеленых трав; знал, как это чудесно – быть рядом с косцами, с деревенскими девушками то летом – под высоким необъятным небом, то зимой – у теплого камелька и знать, что все тут так ведется издавна и так останется до скончания века. Винсент считал, что «Анжелюс» Милле – божественная картина, не сравнимая ни с каким другим созданием человеческих рук. Простая крестьянская жизнь была в его глазах той единственной реальностью, которая не обманет и пребудет вечно. Он хотел писать эту жизнь, писать с натуры, в широких полях. Да, ему придется мириться и с мухами, и с песком, и с пылью, портить и царапать свои полотна, часами блуждая по пустошам и перелезая через изгороди. Зато, приходя домой, он будет знать, что он только что смотрел в лицо самой жизни и ему удалось уловить хотя бы отзвук ее изначальной простоты. Если его деревенские полотна будут попахивать ветчиной, дымком, паром, поднимающимся от вареной картошки, – что ж, ведь это здоровый запах. Ведь если в конюшне пахнет навозом – на то она и конюшня. Если над полем стоит запах спелой пшеницы, птичьего помета или других удобрений – это тоже здоровый запах, в особенности для горожан. Винсент нашел простой выход из положения. Неподалеку от дороги стояла католическая церковь, а рядом с ней домик сторожа. Сторож этот, Иоганн Схафрат, был портным; он занимался своим ремеслом в свободное время. У него была жена Адриана, добрейшая женщина. Она сдала Винсенту две комнаты, испытывая даже некоторое удовольствие оттого, что оказала услугу человеку, от которого отвернулся весь поселок. Дом Схафратов был разделен посередине большим коридором: справа от входа помещались жилые комнаты, а слева – гостиная, выходившая окнами на дорогу; за гостиной была еще одна маленькая комнатушка. Гостиную отвели Винсенту под мастерскую, а в задней комнатке он хранил свой скарб. Спал он на чердаке, где Схафраты сушили белье. Там стояла в углу высокая кровать и стул. Раздеваясь на ночь, Винсент кидал на этот стул свою одежду, ложился в кровать, выкуривал трубку, глядя, как гаснет вечерняя заря, и засыпал. В гостиной он развесил по стенам свои акварели и рисунки углем и мелом: головы мужчин и женщин, у которых были широкие, как у негров, чуть вздернутые носы, выступающие скулы и большие уши, фигуры ткачей, ткацкие станки, женщины с челноками в руках, крестьяне, сажающие картофель. Он еще крепче подружился с братом Кором; они вместе смастерили посудный шкаф, вместе собрали коллекцию, в которой было не меньше тридцати самых различных птичьих гнезд, всевозможные мхи и растения, ткацкие челноки, прялки, грелки, земледельческие орудия, старые шапки и шляпы, деревянные башмаки, посуда и всякие другие вещи, связанные с деревенским обиходом. В дальнем углу мастерской они даже посадили маленькое деревцо. Винсент принялся за работу. Он обнаружил, что бистр и битум, почти не употребляемые художниками, придают его палитре своеобразную мягкость и теплоту. Он нашел, что достаточно положить самую малость желтой краски, чтобы желтый цвет зазвучал на полотне во всю силу, если рядом с ним будет лиловый или сиреневый. Он понял также, что одиночество – это своего рода тюрьма. В марте его отец пошел навестить больного прихожанина, жившего далеко за пустошами, и, возвращаясь, упал с черной лестницы своего дома. Когда Анна—Корнелия спустилась к нему, он уже был мертв. Похоронили его в саду, рядом с церковью. На похороны приехал Тео. Вечером он сидел в мастерской Винсента – разговор сначала зашел о семейных делах, а потом и об их работе. – Мне предлагают уйти от Гупиля и поступить в другую фирму, дают тысячу франков в месяц, – сказал Тео. – Ну и что же, ты согласился? – Нет, хочу отказаться. Мне кажется, что эта фирма преследует чисто коммерческие цели. – Но ты ведь писал, что и у Гупиля... – Да,конечно, «Месье» тоже гонятся за прибылью. Но я служу там уже двенадцать лет. Зачем мне уходить от Гупиля ради нескольких лишних франков? Быть может, придет время, когда мне поручат руководить одним из филиалов. И тогда я начну продавать импрессионистов. – Импрессионистов? Кажется, я видел это слово где—то в газете. Кто они такие? – Это молодые парижские художники – Эдуард Мане, Дега, Ренуар, Клод Моне, Сислей, Курбе, Лотрек, Гоген, Сезанн, Съра. – А почему их так называют? – Это слово появилось после выставки тысяча восемьсот семьдесят четвертого года у Надара. Клод Моне выставил тогда полотно, которое называлось «Impression. Soleil Levant» ["Впечатление. Восход солнца" (фр.) ]. Критик Луи Леруа назвал в газете эту выставку выставкой импрессионистов, и так с тех пор я повелось. – Они пишут в светлых или темных тонах? – О, разумеется, в светлых! Темные тона они ненавидят. – В таком случае, не думаю, что я смог бы работать с ними. Я собирался изменить свою палитру, но вместо светлых хотел искать еще более темные тона. – Весьма возможно, что ты взглянешь на это дело по—иному, когда приедешь в Париж. – Может быть. А картины у кого—нибудь из них покупают? – Дюран—Рюэль изредка продает картины Мане. Этим, собственно, все и ограничивается. – На какие же средства они живут? – Бог их знает. Изворачиваются, как могут. Руссо дает детям уроки игры на скрипке; Гоген занимает деньги у своих бывших друзей по бирже; Съра содержит мать, Сезанна – отец. А на что живут остальные – ума не приложу. – Ты всех их знаешь, Тео? – Да, постепенно я перезнакомился со всеми. Я все убеждал своих хозяев отвести им хоть небольшой угол под выставку, но они не хотят подпускать импрессионистов и на пушечный выстрел. – Пожалуй, мне стоило бы встретиться с этими людьми. Послушай, Тео, ты пальцем не пошевельнул, чтобы познакомить меня с кем—нибудь из художников, а мне бы это так пригодилось. Тео подошел к окну и поглядел на зеленую лужайку между домом сторожа и дорогой на Эйндховен. – Тогда перебирайся в Париж и живи со мной. В конце концов тебе все равно этого не миновать. – Пока я не готов. Мне сначала надо закончить кое—какие работы. – Но если ты будешь жить здесь, в глуши, то об общении с художниками говорить не приходится. – Это, может быть, и так, Тео, но одного я не могу понять. Ты до сих пор не продал ни единого моего рисунка, ни единой картины маслом, ты даже не пытался это сделать. Ведь правда? – Нет, не пытался. – А почему? – Я показывал твои работы знатокам. Они говорят... – Ох уж эти знатоки! – Винсент пожал плечами. – Знаю я, какие банальности они изрекают. Ты же понимаешь, Тео, что оценить работу по достоинству они не могут. – Ну, я бы этого не сказал. Твоим работам недостает совсем немногого, чтобы их можно было продать, но... – Тео, Тео, ты то же самое писал и о моих эттенских набросках! – Это правда, Винсент; ты все время подходишь к порогу зрелости и совершенства. Я с жадностью хватаюсь за каждый твой новый этюд, надеясь, что наконец ты достиг мастерства. Но пока что... – Ну, разговоры о том, продаются картины или не продаются, – прервал его Винсент, выколачивая трубку об печку, – это старая песня, я больше не хочу ее слушать. – Вот ты говоришь, что у тебя есть незаконченные работы. Заканчивай их поживей. Чем скорее ты приедешь в Париж, тем лучше для тебя. И если ты хочешь, чтобы я за это время продал что—нибудь из твоих вещей, присылай мне картины, а не этюды. Этюдами никто не интересуется. – Да, но ведь трудно сказать, где кончается этюд и где начинается картина. Нет, Тео, мы уж лучше будем трудиться, как можем, и останемся самими собой, со своими недостатками и достоинствами. Я говорю «мы», потому что деньги, которые ты мне платишь и которые достаются тебе нелегко, дают тебе право считать, что ты такой же автор моих работ, как и я. – Ну, это уж лишнее... – Тео отошел в дальний угол комнаты в стал играть старым чепцом, висевшим на деревце.8
Пока был жив отец, Винсент хоть и изредка, но все же навещал пасторский дом. Он приходил сюда то поужинать, то просто поговорить. После похорон Теодора сестра Елизавета дала понять Винсенту, что он persona non grata [лицо нежелательное (лат.)]. Семья хотела сохранить свое положение в обществе; Анна—Корнелия считала, что Винсент сам отвечает за себя, а ее долг – позаботиться о дочерях. Винсент был в Нюэнене совсем один; вместо общения с людьми ему оставалось только общение с природой. Он начал с того, что безуспешно старался ее копировать, и все выходило из рук вон плохо; кончил он спокойно обдуманным творчеством, уже исходя из собственной палитры, в природа тогда подчинилась ему, стала послушной. Мучаясь в своем одиночестве, Винсент вспоминал бурный спор в мастерской Вейсенбруха и те хвалы, которые злоязычный мастер возносил страданию. У своего неизменного Милле он нашел фразу, в которой философия Вейсенбруха была выражена еще убедительнее: «Я даже не хочу подавлять страдание, ибо нередко именно оно заставляет художника выразить себя с наибольшей силой». Он подружился с крестьянским семейством Де Гроот. Семья эта состояла из матери, отца, сына и двух дочерей; все они работали в поле. Подобно большинству брабантских крестьян, Де Гроотов с таким же правом можно было назвать «чернорожими», как и углекопов Боринажа. В лицах у них было что—то негритянское – широкие, открытые ноздри, сильно выдвинутые вперед носы и челюсти, большие выпуклые губы и длинные, угловатых очертаний уши. Лбы были покатые, головы маленькие, с острыми макушками. Они жили в хижине, где была всего одна комната с нишами для постелей. Посередине хижины стоял стол, пара стульев и какие—то ящики, с грубого бревенчатого потолка свисала лампа. Де Грооты были едоками картофеля. За ужином они выпивали по чашке черного кофе и раз в неделю съедали по куску ветчины. Они сажали картофель, копали картофель и ели картофель: в картофеле заключалась вся их жизнь. Стин Де Гроот была милая семнадцатилетняя девушка. Она носила широкий белый чепец и черную кофту с белым воротником. Винсент стал ходить к Де Гроотам каждый вечер. Они со Стин часто веселились от всей души. – Ох, смотрите! – взвизгивала она. – Какая из меня получилась красивая дама! Смотрите, как меня рисуют! А не надеть ли для вас новый чепец, минхер? – Не надо, Стин, ты очаровательна и так. – Я – очаровательна! И она заливалась звонким хохотом. У нее были большие веселые глаза и милое личико. Когда она, копая картофель, наклонялась, в ее фигуре Винсент находил больше истинной грации, чем даже у Кэй. Он понял, что, рисуя человеческую фигуру, главное – передать движение и что в рисунках старых мастеров есть большой недостаток – они статичны, люди там не показаны в труде. Он рисовал Де Гроотов в поле, в хижине за столом, когда они ели дымящийся картофель, и всегда Стин заглядывала через его плечо и шутила с ним. Иногда, в воскресный день, она надевала чистый чепец и белый воротничок и шла с ним погулять на пустоши. Иных развлечений у здешних крестьян не было. – Любила вас Марго Бегеманн? – спросила она однажды. – Да, любила. – Тогда почему же она хотела покончить с собой? – Потому что родные не позволили ей выйти за меня замуж. – Она просто дура. Знаете, что я сделала бы на ее месте? Я не стала бы травиться, я бы вас любила! Стин расхохоталась прямо ему в лицо и побежала к сосновому леску. Весь день они резвились и смеялись, бродя меж деревьев. Их не раз видели другие гуляющие парочки. Стин была хохотунья от природы: что бы ни говорил и ни делал Винсент, все вызывало у нее безудержные взрывы смеха. Она схватывалась бороться с ним и всячески норовила свалить его наземь. Когда ей не нравились рисунки, которые он делал у нее в доме, она обливала их кофе или кидала в огонь. Она стала часто ходить к Винсенту в мастерскую, и после ее ухода все вещи в комнате валялись в невообразимом беспорядке. Так прошло лето и осень и снова наступила зима. Снегопады вынуждали Винсента целыми днями сидеть в мастерской. Жители Нюэнена не любили позировать, и если бы Винсент не платил им, у него не было бы ни одного натурщика. В Гааге он делал наброски чуть ли не с сотни белошвеек, чтобы скомпоновать этюд из трех фигур. Теперь ему хотелось написать семейство Де Гроотов за ужином, когда они едят свой картофель и пьют кофе, но, чтобы картина была верна, он считал, что сначала надо перерисовать всех крестьян в округе. Католический священник был не очень доволен, что церковный сторож сдает комнату язычнику и художнику, но поскольку Винсент вел себя тихо и вежливо, он не мог найти повода его выставить. Однажды Адриана Схафрат вошла в мастерскую очень взволнованная. – Вас хочет видеть отец Паувелс! Андреас Паувелс был дородный, краснолицый мужчина. Он быстро оглядел комнату и решил про себя, что подобного хаоса ему еще не приходилось видеть. – Чем я могу быть вам полезен, отец мой? – любезно осведомился Винсент. – Ничем вы мне не можете быть полезны! А вот я вам – могу. Я окажу вам помощь в этом деле, если только вы будете меня слушаться. – О каком деле вы говорите, досточтимый отец? – Да ведь она католичка, а вы—то протестант. Но я выхлопочу для вас специальное разрешение у епископа. Готовьтесь, через день—два будет венчание! Винсент шагнул к окну, чтобы видеть священника получше. – Боюсь, что я вас не понимаю, отец мой, – сказал он. – О, вы все прекрасно понимаете. Не притворяйтесь, это бесполезно. Стин Де Гроот беременна! Честь семейства должна быть спасена. – Ну и чертовка! – Вы можете называть ее как угодно, хотя бы и чертовкой. Тут и впрямь без черта не обошлось. – А вы уверены, что это так, отец мой? Вы не заблуждаетесь? – Я никогда не обвиняю людей, если не имею неоспоримых доказательств. – И сама Стин... Неужели она сказала вам... что это я? – Нет. Назвать имя мужчины она отказывается. – Тогда почему же вы приписываете эту заслугу именно мне? – Вас неоднократно видели вместе. Разве она не ходила в вашу мастерскую? – Ходила. – Разве вы не гуляли с ней по воскресеньям? – Да, гулял. – Какие же еще нужны доказательства? Винсент минуту молчал. Потом он сказал спокойно: – Я очень огорчен всем этим, отец мой, в особенности потому, что беда постигла моего друга Стин. Но должен уверить вас, что мои отношения с нею были совершенно чистыми. – Неужели вы думаете, что я вам поверю? – Нет, не думаю, – ответил Винсент. Вечером, когда Стин возвращалась с поля, он ждал ее у порога хижины. Все семейство село ужинать, а Стин, не заходя в хижину, опустилась на землю рядом с Винсентом. – Скоро вы сможете рисовать еще кое—кого, – сказала она. – Так это правда, Стин? – Конечно. Хотите пощупать? Она взяла его руку и положила к себе на живот. Винсент почувствовал, как сильно он округлился. – Отец Паувелс сегодня сказал мне, что этот ребенок от меня. Стин засмеялась. – Хотела бы я, чтобы он был от вас. Но вы—то никогда этого не хотели, правда? Винсент поглядел на Стин, на ее грубоватые, неправильные черты лица, толстый нос, толстые губы, на ее смуглое, пропитанное потом тело. Она тоже взглянула на него и улыбнулась. – Сказать по чести, Стин, я бы не отказался. – Значит, отец Паувелс говорит, что это вы. Вот, забава—то! – Что ж тут забавного? – Если я вам скажу, от кого у меня ребенок, вы меня не выдадите? – Даю слово. – От сторожа его церкви! Винсент даже присвистнул. – Ваши родные знают? – Конечно, нет. Я им никогда и не скажу. Но они знают, что это не вы. Винсент вошел в хижину. Там было все по—прежнему, как будто ничего и не случилось. Де Грооты отнеслись к беременности Стин с таким равнодушием, словно это была не их дочь, а чужая корова. Винсента они встретили как обычно, и он видел, что они его не винят. Но в поселке думали иначе. Адриана Схафрат подслушала у двери разговор отца Паувелса с Винсентом. Она тут же передала его соседям. Через час жители Нюэнена все до одного знали, что Стин Де Гроот беременна от Винсента и что отец Паувелс решил непременно обвенчать их. Был уже ноябрь, наступила настоящая зима. Пора было уезжать. Жить в Нюэнене дольше не имело смысла. Он уже написал здесь все, что можно было написать, и узнал о крестьянской жизни все, что можно было узнать. Оставаться в этой деревне, где снова вспыхнула вражда к нему, он не хотел. Было ясно, что надо уезжать. Но куда? – Минхер Ван Гог, – сокрушенно сказала Адриана, предварительно постучав в дверь. – Отец Паувелс говорит, что вы должны сегодня же покинуть наш дом и поселиться где—нибудь в другом месте. – Что ж, пусть будет так. Винсент прошелся по мастерской, оглядывая свои работы. Два года непрерывного каторжного труда! Сотни этюдов – ткачи, их жены, ткацкие станки, крестьяне, работающие в поле, тополи, растущие в саду пасторского дома, церковь с ее шпилем, пустоши и изгороди под жарким солнцем и в холодных зимних сумерках. Он почувствовал, как на него навалилась невыносимая тяжесть. Все эти работы так отрывочны, так фрагментарны. Здесь были мелкие осколки крестьянской жизни в Брабанте во всех ее проявлениях, но картина, которая бы цельно, в едином сгустке показала крестьянина, выразила самый дух деревенской хижины и дымящегося картофеля – такой картины не было. Где же его брабантский «Анжелюс»? И как можно уехать отсюда, пока он не создан? Винсент взглянул на календарь. До начала следующего месяца оставалось двенадцать дней. Он кликнул Адриану: – Скажите отцу Паувелсу, что я уплатил за квартиру до первого числа и до тех пор никуда не уеду. Он взял краски, холсты, кисти, мольберт и поплелся к хижине Де Гроотов. Там было пусто. Он принялся набрасывать карандашом обстановку их комнаты. Когда семейство вернулось с поля домой, он разорвал рисунок. Де Грооты принялись за свой дымящийся картофель, черный кофе и ветчину. Винсент натянул холст и работал, пока хозяевам не пришло время ложиться. Всю эту ночь он дописывал полотно у себя в мастерской. Спать он лег уже утром. Проснувшись, он с отвращением и яростью бросил картину в огонь и снова пошел к Де Гроотам. У старых голландских мастеров он усвоил, что рисунок и цвет неотделимы друг от друга. Де Грооты сели за стол точно так же, как садились всю свою жизнь. Винсент стремился как можно яснее показать, что эти люди, едящие картофель при свете висячей лампы, теми же руками, которыми они теперь брали еду, копали землю; он хотел рассказать о тяжком физическом труде, о том, как честно эти люди зарабатывают свой хлеб насущный. – Сегодня приходил отец Паувелс, – сказала жена Де Гроота. – Что ему надо? – спросил Винсент. – Он предлагал нам денег, если мы откажемся позировать. – Ну, а вы? – Мы сказали, что вы наш друг. – Он обошел тут все дома, – добавила Стин. – Но все ему сказали, что лучше будут позировать вам за одно су, чем примут от него подачку. На следующее утро Винсент вновь уничтожил свою картину. Им овладело чувство гнева и бессилия. У него оставалось теперь всего—навсего десять дней. Он должен был уехать из Нюэнена; жизнь здесь становилась невыносимой. Но он не мог уехать, не исполнив своего обета, данного Милле. Каждый вечер он приходил к Де Гроотам. Он работал там, пока они не засыпали, сидя за столом. Каждый раз он пробовал новое сочетание тонов и масс, новые пропорции и каждый раз убеждался, что не достиг своей цели, что картина его несовершенна. Наступил последний день месяца. Винсент дошел в своей работе до исступления. Он перестал спать, почти ничего не ел. Он жил лишь за счет нервной энергии. Каждая новая неудача только подстегивала его. Он сидел в хижине Де Гроотов и ждал, когда они вернутся с поля. Мольберт был установлен в нужном месте, краски смешаны, холст натянут на подрамник. У него оставался последний шанс. Завтра утром он покинет Брабант навсегда. Он работал, не отрываясь, много часов подряд. Де Грооты понимали его волнение. Окончив ужин, они не встали из—за стола, а продолжали сидеть, тихонько разговаривая на своем крестьянском жаргоне. Винсент уже сам не разбирал, что он пишет. Он стремительно метал краски на широкий холст, не думая и не соразмеряя того, что творила его рука. К десяти часам Де Грооты уже не могли бороться со сном, а Винсент был вымотан вконец. Он сделал все, что мог. Он собрал свои вещи, поцеловал Стин и распрощался со всеми. Потом он в темноте поплелся домой, машинально переставляя ноги. В мастерской он поставил свое полотно на стул, закурил трубку и остановился перед ним. Картина не получилась. Он вновь промахнулся. Он не сумел схватить истинный дух деревни. Снова – в который раз – катастрофа. Два года тяжкого труда в Брабанте пропали даром. Он выкурил трубку до последней затяжки, до последней крошки табака. Потом стал упаковывать вещи. Он снял со стены и убрал со стола все свои этюды и рисунки в положил их в большой ящик. Потом он лег на диван. Он не сознавал, сколько прошло времени. Он встал с дивана, сорвал полотно с подрамника, швырнул его в угол и натянул новый холст. Смешал краски, уселся и стал работать. "Начинаешь с того, что безуспешно копируешь природу, и все выходит из рук вон плохо; кончаешь спокойно обдуманным, творчеством, уже исходя из собственной палитры, и тогда природа подчиняется тебе, становится послушной. On croit que j'imagine – ce n'est pas vrai – fe me souviens [полагают, что я выдумываю, – это неправда – я вспоминаю (фр.)]". Да, да, именно это говорил ему в Брюсселе Питерсен: он сидел слишком близко к натуре. Он не мог уловить перспективы. В ту пору он вкладывал всего себя в воссоздание натуры; теперь же он выразил натуру через свое восприятие. Он писал композицию в тоне картофеля – доброго, пыльного, нечищеного картофеля. Грязная домотканая скатерть на столе, закопченная стена, лампа, подвешенная к грубым балкам, Стин, подающая отцу дымящуюся картошку, мать, наливающая черный кофе, брат, поднесший чашку ко рту, – и на всех лицах печать спокойствия, терпеливого смирения перед извечным распорядком вещей. Утреннее солнце робко заглянуло в окно его комнаты. Винсент встал с табурета. На душе у него был полнейший покой и умиротворение. Двенадцать дней лихорадочных волнений остались позади. Он посмотрел на свою работу. Она попахивала ветчиной, дымком и картофельным паром. Он улыбнулся. Он создал свой «Анжелюс». Он уловил то непреходящее, что живет в преходящем. Брабантский крестьянин никогда не умрет. Он смазал картину яичным белком. Потом отнес ящик с рисунками и этюдами в дом, отдал его матери и попрощался с нею. Он вернулся в мастерскую, вывел на полотне два слова: «Едоки картофеля», захватил вместе с ним несколько лучших своих этюдов и уехал в Париж.ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПАРИЖ
1
– Значит, ты не получил мое последнее письмо? – спросил Тео Винсента на следующее утро, когда они пили кофе с булочками. – Нет, как будто не получил, – отозвался Винсент. – А что ты там писал? – Я писал, что мне дали повышение у Гупиля. – Ах, Тео, почему же ты не сказал об этом ни слова вчера? – Ты был слишком взволнован, чтобы слушать. Мне поручили галерею на бульваре Монмартр. – Да ведь это замечательно! Иметь свою картинную галерею! – Она отнюдь не моя, Винсент. Я должен строго следовать политике фирмы Гупиль. Но все же мне разрешили выставлять импрессионистов на антресолях, так что... – Кого же ты выставил? – Моне, Дега, Писсарро и Мане. – Не видел ни разу. – В таком случае приходи в галерею и хорошенько, не торопясь, посмотри их. – Отчего ты так лукаво улыбаешься, Тео? Что это значит? – О, ровно ничего. Через несколько минут нам надо идти. Я каждое утро хожу туда пешком. Хочешь еще кофе? – Спасибо. Нет, нет, только полчашки. Черт возьми, Тео, до чего же все—таки приятно снова позавтракать вместе с тобой! – Я давно ждал, что ты приедешь в Париж. В конце концов это было неизбежно. Но, пожалуй, лучше бы тебе потерпеть до июня, а я к тому времени перебрался бы на улицу Лепик. Там у нас будет три просторные комнаты. Здесь, как видишь, работать тесновато. Винсент поглядел вокруг. Квартира Тео состояла из одной жилой комнаты, кабинета и маленькой кухни. Комната была обставлена мебелью в стиле Луи—Филиппа, и от этого в ней негде было повернуться. – Если я поставлю здесь мольберт, – сказал Винсент, – то нам придется вынести часть этой чудесной мебели на двор. – Я и сам вижу, что комната загромождена вещами, но мне повезло: я купил эту мебель по случаю, и мне хочется обставить новую квартиру именно так. Собирайся же скорее, Винсент, я тебя проведу бульваром – это моя любимая дорога. Тот не знает Парижа, кто не видал, каков он ранним утром. Тео надел тяжелое черное пальто, из—под которого выглядывал безукоризненно белый галстук—бабочка, в последний раз притронулся щеткой к завиткам, лежавшим по обе стороны его пробора, пригладил усы и мягкую бородку. Затем он надел черный котелок, взял перчатки и трость и шагнул к двери. – Ну, Винсент, ты готов? Боже, что у тебя за вид! Если бы ты вышел, на улицу в таком платье где—нибудь еще, тебя бы арестовали! – Неужели? – Винсент удивленно оглядел себя. – Я носил его почти два года, и никто не сказал ни слова. Тео расхохотался. – Ну, ладно, дело хозяйское. К таким, как ты, парижане привыкли. Вечером я куплю тебе что—нибудь поприличней. Они спустились по винтовой лестнице, миновали каморку консьержа и вышли на улицу Лаваль. Это была довольно широкая, и фешенебельная улица с большими магазинами, в которых торговали лекарствами, рамами для картин и всякими древностями. – Взгляни—ка на этих прекрасных дам, – вон, на третьем этаже нашего дома, – сказал Тео. Винсент поднял голову и увидел три гипсовых бюста. Под первым было написано «Скульптура», под вторым «Архитектура», а под третьим – «Живопись» – Но почему же они представляют себе Живопись в образе такой отвратительной шлюхи? – Трудно сказать, – ответил Тео. – Но, во всяком случае, ты попал в самый подходящий дом. Винсент и Тео прошли антикварный магазин «Старый Руан», где Тео купил свою мебель в стиле Луи—Филиппа. Скоро они были уже на улице Монмартр, которая отлогими изгибами поднималась одним концом к авеню Клиши и холму Монмартра, а другим шла вниз, к центру города. Улица была залита лучами утреннего солнца и запахами просыпающегося Парижа, во всех кафе ели слоеные рожки и пили кофе, открывались зеленные, мясные и молочные лавочки. Это были оживленные буржуазные кварталы с великим множеством торговых заведений. Мастеровой люд уже высыпал на улицы. Хозяйки ощупывали и осматривали товар, разложенный на лотках у магазинов, и яростно торговались с продавцами. Винсент вздохнул всей грудью. – Париж! – вырвалось у него. – После всех этих лет! – Да, Париж. Столица Европы. И столица живописи. Винсент упивался этим буйным потоком жизни, захлестывавшим Монмартр; мелькали красные и черные куртки гарсонов; женщины несли под мышкой длинные незавернутые хлебы; по обочинам стояли ручные тележки; из подъездов выходили горничные в мягких домашних туфлях; преуспевающие дельцы торопились в свои конторы. Когда многочисленные колбасные, пирожные, булочные и прачечные заведения и кафе кончились, улица Монмартр сбежала к подножию холма и влилась в площадь Шатодэн, – неправильный крут, у которого встречаются шесть улиц. Винсент и Тео прошли эту площадь и оказались у церкви Нотр—Дам де Лоретт – квадратного, грязноватого здания из темного камня с тремя ангелами на крыше, идиллически парившими в небесной голубизне. Винсент зорко вгляделся в надпись, начертанную над входом. – Верят они сами этим словам: Liberte, Egalite, Fraternite? [Свобода, Равенство, Братство (фр.)] – Пожалуй, верят. Третья республика продержится, наверное, очень долго. С роялистами покончено, а социалисты входят в силу. Эмиль Золя сказал мне недавно, что грядущая революция будет направлена уже против капитализма, а не против королей. – Золя! Какой ты счастливец, Тео, – ты знаешь Золя. – Меня познакомил с ним Поль Сезанн. Каждую неделю мы все встречаемся в кафе «Батиньоль». В следующий раз мы пойдем туда вместе. За площадью Шатодэн улица Монмартр имела уже иной, не столь торгашеский характер – она стала более величественной. Магазины были роскошнее, кафе шикарнее, люди лучше одеты, дома красивее. Вдоль тротуара тянулись концертные залы, рестораны и отели, по мостовой вместо грузовых фургонов катили экипажи. Братья шли крупным, спорым шагом. Холодный свет зимнего солнца бодрил, мягкий ветерок шептал о чарах богатой столичной жизни. – Раз ты не можешь работать дома, то не пойти ли тебе в студию Кормона? – сказал Тео Винсенту. – А кто этот Кормон? – Понимаешь, Кормон такой же академик, как в большинство наших учителей, но если ты не захочешь выслушивать его критические замечания, то он оставит тебя в покое. – А это дорого стоит? Тео похлопал Винсента тростью по бедру. – Разве ты забыл, что я получил повышение? Скоро я буду одним из тех плутократов, которых Золя собирается уничтожить в своей грядущей революции. Наконец улица Монмартр влилась в великолепный широкий бульвар Монмартр с его огромными универмагами и пассажами. Этот бульвар, через несколько кварталов называвшийся уже Итальянским, вел к площади Оперы и был одной из главнейших артерий города. Хотя в этот ранний час здесь было малолюдно, приказчики в магазинах уже готовились встретить посетителей. Галерея, порученная Тео, помещалась в доме 19, всего в одном квартале от улицы Монмартр. Винсент и Тео пересекли широкий бульвар, остановились у газового фонаря, чтобы пропустить проезжавший экипаж, и направились к галерее. Превосходно вышколенные приказчики почтительно кланялись Тео, когда он шел по салону. Винсент мгновенно припомнил, что в свою бытность приказчиком он так же почтительно кланялся Терстеху и Обаху. В самом воздухе здесь он чувствовал ту изысканность и утонченность, от которой он, как ему казалось, уже давным—давно отвык. По стенам были развешаны полотна Бугро, Эннера и Делароша. Лестница в глубине салона вела на узкие антресоли. – Картины, которые ты хочешь посмотреть, на антресолях, – сказал Тео. – Когда наглядишься, спустись сюда в скажи свое мнение. – Что же ты так загадочно улыбаешься, Тео? Тео усмехнулся еще откровеннее. – A tout a l'heure [до скорой встречи (фр.)], – бросил он, не ответив на вопрос, и скрылся за дверью своего кабинета.2
«Неужели я в сумасшедшем доме?» Винсент растерянно подошел к креслу, одиноко стоявшему на антресолях, опустился в него и протер глаза. С двенадцати лет он знал только одну живопись – темную и мрачноватую, где мазок был незаметен, где все детали на полотне были выписаны правильно и законченно, где ровные тонкие слои красок постепенно переходили один в другой. Та живопись, которая теперь весело смеялась над ним со стены, не имела ничего общего с картинами, виденными им до сих пор. Исчезли ровные и тонкие красочные слои. Исчезла сентиментальность и невозмутимая степенность. Исчезла коричневая подливка, в которой плавала живопись Европы не одно столетие. Здесь были картины, напоенные буйным, неистовым солнцем. Всюду здесь трепетал и пульсировал свет и воздух. Фигуры балерин за кулисами были написаны чистым красным, зеленым и голубым, положенными рядом друг с другом с вызывающей смелостью. Он взглянул на подпись: Дега. Вот целая сюита речных пейзажей – в них сверкало зрелое знойное лето и щедро лучилось солнце. Фамилия художника – Моне. Винсент пересмотрел в своей жизни сотни картин, но такой силы света, такой одухотворенности и обаяния, как на этих сияющих полотнах, ему еще не доводилось видеть. Даже самый темный тон в пейзажах Моне был в десять раз светлее любого светлого тона на всех полотнах, хранящихся в музеях Голландии. Мазок был явственно виден, он не стыдился, не прятался; каждое прикосновение кисти, каждый ее удар передавал ритм облюбованной натуры. Красочный слой был густой, глубокий, весь в содрогании и трепете расточительных пятен и наплывов. Винсент остановился перед полотном, на котором был изображен мужчина в полосатой шерстяной рубашке; с истинно галльской сосредоточенностью он правил рулем своей небольшой яхты – француз наслаждается послеобеденной воскресной прогулкой. Жена его, сложив руки на коленях, сидит рядом. Винсент взглянул на фамилию художника. – Опять Моне? – воскликнул он. – Вот чудеса! Ни малейшего сходства с теми речными пейзажами. Он посмотрел на подпись снова и понял, что ошибся. Этого художника звали Мане, а не Моне. Тут он вспомнил историю с его картинами «Завтрак на траве» и «Олимпия», – чтобы публика не оплевала и не изрезала полотна, полиции пришлось огородить их веревками. Винсент не мог понять, почему живопись Мане напоминала ему книги Эмиля Золя. Пожалуй, тут были те же неистовые искания правды, та же отважная проницательность, та же убежденность, что во всяком характере, каким бы непривлекательным, он ни казался, есть своя красота. Винсент внимательнейшим образом приглядывался к технике Мане – тот накладывал чистые, несмешанные краски рядом, без плавных переходов и оттенков, многие детали у него были только намечены, свет и тени не имели четких очертаний, а, дробясь и расплываясь, переходили одна в другую. – Именно так видит их глаз в природе, – сказал Винсент. И тут он мысленно услышал голос Мауве: «Неужели ты не можешь найти верную линию, Винсент?» Он снова сел в кресло и уже внутренним взором вновь окинул все эти картины. Скоро ему стало понятно, благодаря чему в живописи произошел такой решительный переворот. Эти художники наполнили свои полотна воздухом! И этот живой, струящийся, щедрый воздух так действовал на изображения предметов, что, глядя на них, зритель видел и самый воздух. Винсент знал, что для академиков воздух не существует; для них это лишь пустое пространство, в котором они размещали твердые, устойчивые тела. Но эти новые живописцы! Они открыли воздух! Они открыли свет и ветер, атмосферу и солнце; они увидели, что мир пронизан неисчислимыми струями, трепещущими в этой текучей стихии. Винсент понял, что прежняя живопись отжила свой век. Фотоаппараты и академики будут делать точные воспроизведения; художники же будут смотреть на все сквозь призму собственного восприятия и сквозь тот пронизанный солнцем воздух, в котором они живут и работают. Впечатление было такое: эти люди создали еще не виданное, совсем новое искусство. Спотыкаясь, Винсент пошел вниз по лестнице. Тео был в салоне. С улыбкой на лице он повернулся к Винсенту и пристально посмотрел на него, стараясь угадать впечатление, произведенное картинами. – Ну как, Винсент? – спросил он. – Ох, Тео! – только и вымолвил тот. Он попытался что—то сказать, но не мог. Он снова бросил взгляд вверх, на антресоли. Потом повернулся и выбежал из галереи. Он шагал по широкому бульвару, пока не вышел к восьмиугольному– зданию, в котором узнал Оперу. Вдали, в каньоне огромных каменных домов, он увидел мост и побрел к реке. Он спустился к самой воде и, присев на корточки, окунул пальцы в Сену. Потом перешел мост, даже не поглядев на бронзового всадника, и сквозь лабиринт улиц выбрался на левый берег. Он упорно шагал вперед, поднимаясь все выше. Миновав кладбище, он повернул направо и оказался у большого вокзала. Забыв, что он пересек Сену, он стал спрашивать у полицейского, как пройти на улицу Лаваль. – На улицу Лаваль? – удивился полицейский. – Вы не в том конце города, сударь. Это Монпарнас. Вам нужно спуститься вниз, перейти Сену и там подняться на Монмартр. Долго бродил Винсент по Парижу, не особенно заботясь о том, куда он идет. Ему попадались широкие, опрятные бульвары с богатыми магазинами, жалкие, грязные переулки, торговые улицы с бесконечными винными лавками. Снова он оказался на холме, где возвышалась Триумфальная арка. К востоку отсюда тянулся обсаженный деревьями проспект, который с обеих сторон окаймляли узкие полосы зелени; бульвар этот выходил на обширную площадь с египетским обелиском. Взглянув на запад, Винсент увидел густой лес. Улицу Лаваль он разыскал уже довольно поздно. Он чувствовал, что сильно устал, где—то внутри шевелилась тупая боль. Он сразу же принялся распаковывать свои картины и этюды, раскладывая их на полу. Он долго смотрел на свои полотна. Боже! Как они темны, унылы. Как неуклюжи, безжизненны, мертвы! Сам того не подозревая, он писал их поистине в минувшем веке. Тео вернулся уже в сумерки и застал Винсента грустно сидящим на полу. Он опустился рядом с братом. Последний луч дневного света угасал, в комнате становилось темно. С минуту Тео молчал. – Винсент, – начал он наконец, – я знаю, что у тебя на душе. Ты ошеломлен. Это грандиозно, правда? Мы выбрасываем за борт почти все, что считалось в живописи священным. Своими сузившимися, покрасневшими глазами Винсент поймал взгляд брата. – Тео, почему ты молчал? Почему я ничего не знал? Почему ты не привез меня сюда раньше? Из—за тебя я потерял даром шесть долгих лет. – Потерял даром? Глупости. Ты вырабатывал свою манеру. Ты пишешь как Винсент Ван Гог и никто другой на свете. Если бы ты приехал сюда раньше, не выносив и не найдя собственный стиль, Париж подчинил бы тебя и увлек за собой. – Но что мне теперь делать? Взгляни на это дерьмо! – Носком башмака Винсент подбросил большое темное полотно. – Все это мертвым—мертво, Тео. И никому не нужно. – Ты спрашиваешь, что тебе делать? Слушай же. Ты должен учиться у импрессионистов. Свет и колорит – это ты должен у них позаимствовать. Но не больше. Понимаешь? Ты не должен подражать. Не давай себя оболванить. Не позволяй Парижу подчинить и подмять себя. – Но, Тео, ведь я должен учиться заново. Все, что в делаю, неверно. – Все, что ты делаешь, верно... за исключением света и колорита. Ты был импрессионистом с того самого дня, как взял в руки карандаш в Боринаже. Посмотри на свой рисунок! Посмотри на свой мазок! Никто до Мане так никогда еще не писал. Посмотри на свои линии! Ты почти никогда не определяешь их точно. Посмотри, как ты пишешь лица, деревья, фигуры в полях! Это же твои впечатления, это настоящий импрессионизм. Они резки, грубоваты, они прошли сквозь призму твоего восприятия. Это и значит – быть импрессионистом: писать не так, как пишут все, не следовать рабски правилам и канонам. Ты принадлежишь своему веку, Винсент, и ты импрессионист, независимо от того, нравится тебе это или нет. – Ах, Тео, конечно, нравится! – Те молодые парижские художники, с чьим мнением стоит считаться, знают твои работы. О, не думай, что я говорю о художниках, которые успешно сбывают свои полотна, нет, я имею в виду тех, которые серьезно ищут новых путей. Они хотят познакомиться с тобой. Ты узнаешь от них удивительные вещи. – Они знают мои работы? Молодые импрессионисты знают меня? Винсент, все еще сидевший на полу, встал на колени, чтобы яснее видеть Тео. А Тео думал о тех днях в Зюндерте, когда они вот так же вместе играли на полу в детской. – Ну конечно. Что, по—твоему, я делал в Париже все эти годы? Они считают, что у тебя проницательный глаз и рука художника. Тебе надо теперь только высветлить свою палитру и научиться писать живой, светящийся воздух. Ну, разве это не замечательно, Винсент, жить в такое время, когда совершаются столь важные дела? – Тео, ты просто черт, старый черт, вот кто ты такой! – Вставай с пола и зажги свет. Давай переоденемся и пойдем пообедаем. Я поведу тебя в ресторан «Брассери Юниверсель». Там подают самый лучший шатобриан во всем Париже. Мы закатим настоящий банкет. С бутылкой шампанского, старина! Отпразднуем тот великий день, когда Париж и Винсент Ван Гог наконец встретились!3
На следующее утро Винсент взял свои рисовальные принадлежности и отправился к Кормону. Студия помещалась на четвертом этаже; это был большой зал с широким окном, выходившим на север. Напротив двери стоял обнаженный натурщик. Вокруг было установлено около тридцати мольбертов. Кормон записал имя Винсента и указал ему стул и мольберт для работы. Винсент рисовал уже с час, когда какая—то женщина открыла дверь и вошла в зал. На голове у нее была повязка, а одну руку она прижимала к щеке. Она бросила перепуганный взгляд на голого мужчину, воскликнула: «Mon Dieu!» [Боже мой! (фр.)] – и выбежала вон. Винсент обернулся к ученику, сидевшему позади. – Как вы думаете, что с ней такое? – О, это случается здесь каждый день. Она ищет дантиста, который живет рядом со студией. От одного вида голого мужчины зубная боль у них разом проходит. Если дантист не сменит квартиру, он непременно разорится. А вы, кажется, новичок? – Да. Я всего третий день в Париже. – Как вас звать? – Ван Гог. А вас? – Анри Тулуз—Лотрек. Вы не родственник Тео Ван Гогу? – Я его брат. – Так вы, должно быть, Винсент! Рад, очень рад познакомиться с вами. Ваш брат – лучший продавец картин в Париже. Он единственный, кто дает возможность пробиться молодым. Более того, он борется за нас. Если парижская публика когда—нибудь нас признает, то лишь благодаря Тео Ван Гогу. Все мы считаем его молодчиной. – Я тоже так считаю. Винсент пристально посмотрел на собеседника. У Лотрека был приплюснутый череп, а нос, губы, подбородок сильно выдавались вперед. Большая черная борода топорщилась во все стороны и росла как бы не вниз, а вверх. – Что привело вас в эту дыру, к Кормону? – спросил Лотрек. – Мне негде больше рисовать. А вас что сюда привело? – Ей—богу, сам не знаю. Я жил целый месяц на Монмартре в борделе. Писал портреты девушек. Это, скажу вам, настоящая работа. А рисовать в студии – детская игра. – Хотелось бы поглядеть на эти портреты ваших девушек. – В самом деле? – Конечно. Почему же нет? – Многие считают меня помешанным, потому что я пишу танцовщиц, клоунов и проституток. Но ведь именно в них настоящая характерность. – Я знаю. В Гааге я сам был женат на проститутке. – Bien! [Прекрасно! (фр.)] Я вижу, что Ван Гоги – это настоящие люди! Позвольте посмотреть, как вы нарисовали эту модель. – Вот, пожалуйста, я сделал четыре рисунка. Лотрек посмотрел с минуту на рисунки и сказал: – Мой друг, мы с вами поладим. Мы мыслим одинаково. Кормон эти рисунки видел? – Нет. – Как только он увидит их, ваша песенка спета. Раскритикует в пух и прах. Недавно он мне говорит: «Лотрек, вы преувеличиваете, вы всегда все преувеличиваете. Каждая линия в ваших рисунках – настоящая карикатура». – А вы ему, конечно, ответили: «Это, дорогой мой Кормон, характер, – характер, а не карикатура!» Острые, как иголки, черные зрачки Лотрека загорелись любопытством. – Так, значит, вы все—таки хотите досмотреть портреты моих девушек? – Ну, разумеется, точу. – Тогда идемте. А то здесь пахнет прямо—таки покойницкой. У Лотрека была толстая, короткая шея и могучие руки. Когда он встал с места, Винсент увидел, что его новый друг – калека. Стоя на ногах, Лотрек был не выше, чем когда сидел на стуле. Его грузный торс круто клонился вперед, а ноги были хилые и тонкие. Они шли к бульвару Клиши. Лотрек тяжело опирался на свою палку. Каждые пять минут он останавливался передохнуть и указывал какую—нибудь красивую линию в архитектуре зданий. Не доходя одного квартала до «Мулен Руж», они стали подниматься вверх, на Монмартр. Лотрек вынужден был отдыхать все чаще и чаще. – Вы, наверно, любопытствуете, Ван Гог, что с моими ногами? Любопытствуют буквально все. Хорошо, я расскажу. – Да что вы! В этом нет никакой надобности. – Ладно уж, слушайте. – Он весь скорчился, навалившись на палку плечом. – Я родился с хрупкими костями. Когда мне было двенадцать лет, я поскользнулся на натертом полу и сломал берцовую кость правой ноги. Через год я упал в канаву и сломал левую ногу. С тех пор мои ноги не выросли ни на дюйм. – Вы очень страдаете от этого? – Нет. Если бы я был здоров, мне никогда бы не стать художником. Мой отец граф Тулузский, вот кто. Я должен был унаследовать его титул. Если бы я захотел, мне бы вручили маршальский жезл и я бы скакал верхом рядом с королем Франции. Конечно, если бы король Франции был в наличии. Mais sacrebleu [но, черт побери (фр.)], зачем быть графом, если можно стать художником? – Да, боюсь, что времена графов миновали. – Ну, что ж, пойдемте? Вон там, чуть подальше по этой улице, мастерская Дега. Болтают, будто я подражаю Дега, потому что он пишет балетных танцовщиц, а я пишу девушек из «Мулен Руж». Ну и пусть болтают, что хотят. Вот и мое жилище, улица Фонтен, девятнадцать—бис. Я живу в нижнем этаже, как вы можете догадаться. Он открыл дверь и пропустил Винсента вперед. – Живу я один, – сказал он. – Садитесь, если отыщете себе местечко. Винсент огляделся. В мастерской, загроможденной холстами, рамами, мольбертами, стульями, стремянками, свертками тканей, стояли еще два широких стола. На одном из них было множество бутылок с дорогими винами в разноцветные графины с ликерами. Второй стол был завален балетными туфельками, париками, старинными книгами, женскими платьями, перчатками, чулками, непристойными фотографиями и редчайшими японскими гравюрами. В этом хаосе едва оставалось место, где Лотрек мог бы сидеть и работать. – В чем дело, Ван Гог? – спросил хозяин. – Вам некуда сесть? Отодвиньте этот хлам на полу и поставьте стул поближе к окну. В том борделе было двадцать семь девушек. Я спал со всеми без исключения. Вы согласны, что необходимо поспать с женщиной, чтобы понять ее до конца? – Согласен. – Вот вам этюды. Я носил их к торговцу картинами на бульваре Капуцинок. «Лотрек, – сказал он мне, – зачем вы постоянно рисуете безобразие? Зачем вы все время пишете самых грязных, самых беспутных людей? Эти женщины отвратительны, просто отвратительны. Пьяный разгул и грязные пороки начертаны у них на лицах. Разве новое искусство заключается лишь в том, чтобы щеголять безобразием? Неужели вы, художники, стали так слепы к красоте, что способны изображать только самую мерзость?» А я ему говорю: « Извините, но меня тошнит, а я не хочу блевать на ваши шикарные ковры». Вам достаточно света, Ван Гог? Не хотите ли выпить? Скажите, что вы предпочитаете? У меня есть всечто угодно. Лотрек проворно заковылял по комнате, лавируя между стульями, столами и свертками, налил бокал и протянул его Винсенту. – Выпьем за безобразие, Ван Гог! – воскликнул он. – Пусть и духа его не будет в Академии! Винсент потягивал вино и рассматривал двадцать семь портретов девушек из веселого дома на Монмартре. Он понял, что художник изобразил их такими, какими видел в действительности. Это были портреты без всяких прикрас, без тени осуждения или упрека. Лица девушек выражали обездоленность и страдание, бездушную чувственность, грубый разврат и духовную нищету. – Вам нравятся портреты крестьян, Лотрек? – спросил Винсент. – Да, если они написаны без сантиментов. – Так вот, я пишу крестьян. И сейчас меня поразило, что эти женщины – тоже крестьянки. Так сказать, возделывательницы плоти. Земля и плоть – это ведь лишь две разные формы одной и той же субстанции, как вы считаете? Эти женщины возделывают плоть, человеческое тело, которое нужно возделывать, чтобы заставить его рождать жизнь. У вас хорошие работы, Лотрек, вы сказали нечто стоящее. – А вы не находите их безобразными? – Тут все в глубоком соответствии с подлинной жизнью. А ведь это самая высшая форма красоты, верно? Если бы вы идеализировали женщин, писали их сентиментально, – вот тогда они были бы безобразны, тогда ваша работа была бы фальшью, трусостью. А вы во весь голое говорите всю правду, выражая ее так, как видите. Только в этом и состоит красота, не так ли? – Господи боже! Почему на свете мало таких людей, как вы? Давай выпьем еще! А этюды, смотрите сами. Берите, что захочется. Винсент поднес к свету одно полотно, задумался на секунду, потом воскликнул: – Домье! Вот кого мне напоминает эта вещь. Лотрек просиял. – Да, Домье. Это величайший из художников. Единственный человек, у кого я чему—то научился. Боже! Как великолепно умел этот человек ненавидеть! – Но к чему писать то, что ненавидишь? Я пишу только то, что люблю. – Всякое великое искусство порождается ненавистью, Ван Гог. О, я вижу, вас заворожил мой Гоген. – Кто, кто? Чья это, вы говорите, работа? – Поля Гогена. Вы не знаете его? – Нет. – Надо вам познакомиться с ним. А это туземная женщина с острова Мартиники. Гоген там жил одно время. Он просто помешан на примитивах, но живописец это великолепный. У него была жена, трое детей и недурное положение на бирже, которое давало ему тридцать тысяч франков в год. Он накупил на пятнадцать тысяч франков картин Писсарро, Мане и Сислея. Написал портрет своей жены ко дню их свадьбы. Она восприняла это как благородный жест. Гоген обычно писал по воскресеньям: слыхали вы о Биржевом клубе искусств? Однажды Гоген показывает свою работу Мане, а тот говорит, что она очень хороша. «О, – возражает Гоген, – я всего—навсего любитель!» – «Ну нет, – говорит Мане, – любители – это те, кто пишет плохие картины». Эта фраза опьянила Гогена, словно чистый спирт; с тех пор он уже не протрезвлялся ни на минуту. Бросил службу на бирже, жил с семьей на свои сбережения год в Руане, затем отослал и детей и жену к ее родителям в Стокгольм. Одним словом, вконец свихнулся. – Это любопытно! – Будьте осторожны, когда встретитесь с ним; он любит мучить своих друзей. А скажите, Ван Гог, как вы насчет того, чтобы я показал вам «Мулен Руж» и «Элизе—Монмартр»? Я знаю там всех девочек. Вы любите женщин, Ван Гог? Я имею в виду – любите спать с ними? Я, например, люблю. Что вы скажете, если мы покутим там мочку? – Что ж, с удовольствием. – Отлично. Однако боюсь, нам пора снова идти к Кормону. Не выпить ли еще на дорогу? Вот так. Налейте—ка себе, и мы покончим с этой бутылкой. Ого, этак вы перевернете стол. Ну, пустяки, служанка приберет. Я богат, Ван Гог. Мой знатный отец чувствует себя виноватым в том, что он породил меня на свет калекой, и поэтому ни в чем мне не отказывает. Когда я переезжаю на новую квартиру, я не беру с собой ничего, кроме своих работ. Я снимаю пустую мастерскую и покупаю всю обстановку заново. Наступает время, когда вещи меня душат, и я опять бросаю мастерскую. Между прочим, каких женщин вы предпочитаете? Блондинок? Рыжеволосых? Плюньте, дверь не стоит и закрывать. Посмотрите, как железные крыши плывут по бульвару Клиши, словно черный океан. А, к черту! Мне нет нужды ломаться перед вами. Я наваливаюсь на эту палку и показываю вам всякие красивые места, потому что я проклятый богом калека, потому что я могу пройти без передышки лишь десяток шагов! Что ж, все мы калеки в том или ином смысле. Пошли дальше!4
На первый взгляд все казалось так просто. Ему надо было лишь отказаться от своих привычных тонов, накупить светлых красок и начать писать, как пишут импрессионисты. Но, проработав день, Винсент был озадачен и слегка рассержен. На второй день его охватило смятение. Затем оно уступило место досаде, горечи и страху. К концу недели он уже не находил себе места от злости. После всех долгих поисков колорита он все еще чувствовал себя начинающим! Полотна у него получались темные, тусклые, вялые. Лотрек, сидя у Кормона рядом с Винсентом, видел, как он мучается и бранится, но от советов воздерживался. Это была тяжелая неделя для Винсента, но в тысячу раз тяжелей переживал ее Тео. Тео был человеком застенчивым, мягким и деликатным во всех своих поступках. Ему во всем была свойственна изысканная разборчивость – в одежде, в манерах, в обстановке квартиры и служебного кабинета. Природа наделила его лишь малой долей той сокрушающей жизненной силы и энергии, какой обладал Винсент. Квартирка на улице Лаваль была достаточно просторна лишь для Тео и его изящной мебели в стиле Луи—Филиппа. Через неделю Винсент превратил ее в какую—то свалку. Он перевернул вверх дном все, что там было, рассовал как попало мебель, закидал весь пол своими холстами, кистями, пустыми тюбиками, завалил диваны и столы грязной одеждой, бил посуду, пачкал вещи краской – словом, разрушил тот идеальный порядок, который так тщательно поддерживал Тео. – Винсент! Винсент! – восклицал Тео. – Не будь же таким варваром! Винсент ходил по комнате, бормоча себе под нос и кусая ногти. Потом он с размаху бросился в хрупкое кресло. – Ничего не выйдет, – стонал он. – Я начал работать слишком поздно. Я уже стар, чтобы изменить свою манеру. Боже мой, Тео, я старался изо всех сил. Я начал на этой неделе двадцать новых полотен. Но у меня уже своя выработанная техника, мне поздно начинать все сначала! Говорю тебе – я человек конченый. Не могу же я вернуться в Голландию и рисовать там овец, после всего того, что я увидел здесь. А сюда я приехал слишком поздно и уже не в силах войти в русло нового искусства. Господи, что же мне делать? Он вскочил с кресла, дошел, шатаясь, до двери, открыл ее, чтобы глотнуть свежего воздуха, снова закрыл, подбежал к окну, распахнул его, поглядел на ресторан «Батай», потом рывком захлопнул окно, так что чуть не посыпались стекла, выбежал на кухню напиться, залил там пол и вернулся к Тео со струйками воды, сбегающими по подбородку. – Ну, что ты скажешь, Тео? Бросить мне свое ремесло? Покончить с ним совсем? Ведь дело к этому идет, верно? – Винсент, ты ведешь себя как ребенок. Успокойся на минутку и послушай, что я тебе скажу. Нет, нет, перестань бегать по комнате, сядь! Я не могу говорить, пока ты не сядешь. И, ради всего святого, сними эти тяжелые башмаки, если тебе непременно надо пинать золоченое кресло, когда ты проходишь мимо. – Но послушай, Тео, целых шесть лет я мирился с тем, что ты меня содержишь. И что ты получил в результате? Кучу мертвых коричневых полотен и несчастного неудачника на шею. – А припомни—ка, дружище, когда ты решил писать крестьян, удалось ли тебе овладеть этой премудростью в одну неделю? Или ты работал целых пять лет? – Да, но в ту пору я только начинал... – А теперь ты только начинаешь овладевать цветом! И это займет у тебя, может быть, еще лет пять. – Но когда же конец, Тео? Неужели мне всю жизнь числиться в учениках? Мне уже тридцать три; когда же я, черт подери, стану зрелым художником? – Тебе предстоит преодолеть последнее препятствие, Винсент. Я видел все, что только пишут в Европе; картины на моих антресолях – это новейшее слово в живописи. Как только ты высветлишь свою палитру... – Ох, Тео, неужели ты и вправду думаешь, что я на это способен? Ты не считаешь меня самым что ни на есть жалким неудачником? – Я склонен скорее считать тебя ослом. Тут величайшая революция в истории искусства, а ты хочешь всего достичь за одну неделю! Давай—ка выйдем на Монмартр и остудим немного головы. Если я просижу с тобой в этой комнате еще пять минут, то могу лопнуть от злости. На следующий день Винсент допоздна работал у Кормона, а потом зашел за Тео в галерею. Спускались ранние апрельские сумерки, ряды шестиэтажных каменных домов отлипали тускнеющим розовато—жемчужным блеском. Весь Париж пил свой аперитив. Кафе на улице Монмартр были полны веселых, шумных посетителей. Через окна и двери оттуда доносились мягкие звуки музыки, услаждавшей слух парижан, – парижане отдыхали после трудового дня. Загорались газовые фонари, гарсоны в ресторанах сервировали столы, приказчики в универмагах опускали на окнах железные шторы и убирали товары с уличных лотков. Тео и Винсент беззаботно шагали по улицам. Они пересекли площадь Шатодэн, на которую по шести сходящимся улицам вливались непрерывные потоки экипажей, миновали церковь Нотр—Дам де Лоретт и стали подниматься вверх на улицу Лаваль. – А не выпить ли нам аперитив, Винсент? – Пожалуй. Давай сядем где—нибудь так, чтобы наблюдать толпу. – Тогда пойдем в «Батай», на улицу Аббатисы. Кое—кто из моих друзей, вероятно, уже там. Ресторан «Батай» посещали преимущественно художники. В переднем зале стояло лишь четыре—пять столиков, но сзади были две просторные, красиво обставленные комнаты. Мадам Батай обычно проводила художников в одну комнату, а всех остальных – в другую; она с первого взгляда безошибочно угадывала, к какой категории принадлежит посетитель. – Гарсон! – крикнул Тео. – Подайте мне кюммель эко два нуля. – А меня ты чем собираешься угостить, Тео? – Попробуй куантро. Ты должен какое—то время поэкспериментировать, прежде чем остановиться на чем—нибудь одном. Официант принес и поставил перед ними рюмки на блюдцах, на которых черными цифрами были обозначены цены. Тео закурил сигару, Винсент – трубку. По тротуару прошли прачки в черных фартуках, прижимая к бокам корзины с отглаженным бельем; мастеровой, помахивающий селедкой, которую он нес, держа за хвост; художники в блузах, с сырыми еще полотнами, натянутыми на подрамники; дельцы в черных котелках и серых клетчатых пальто; хозяйки в матерчатых туфлях с бутылкой вина или куском завернутого в бумагу мяса; красавицы в длинных волочащихся юбках, с тонкими талиями и в маленьких, надвинутых на лоб шляпках, украшенных перьями. – Блестящий парад, не правда ли, Тео? – О да. Париж, в сущности, просыпается лишь в час аперитива. – Я вот все думаю... что именно делает Париж таким чудесным? – По правде говоря, не знаю. Это вечная тайна. Дело, мне кажется, в характере французов. Им свойственно чувство свободы и терпимости, легкое и веселое отношение к жизни... А, вот идет один мой приятель, с которым мне хочется тебя познакомить. Добрый вечер, Поль. Как поживаешь? – Благодарю, Тео, прекрасно. – Разреши представить тебе моего брата, Винсента Ван Гога. Винсент, это Поль Гоген. Присаживайся, Поль, и выпей свой неизменный абсент. Гоген взял рюмку, лизнул абсент и провел кончиком языка по небу. – Как вы находите Париж, господин Ван Гог? – спросил он, повернувшись к Винсенту. – О, мне он очень и очень нравится. – Tien! C'est curieux! [Вот как! Это любопытно! (фр.)] Ведь есть же люди, которым он нравится. Что касается меня, то я считаю его огромной помойкой, не более. Вся цивилизация – помойка. – Куантро мне не очень по вкусу, Тео. Можешь ты предложить чего– нибудь еще? – Попробуйте абсент, господин Ван Гог, – посоветовал Гоген. – Это единственный напиток, достойный художника. – Как ты думаешь, Тео? – Чего ты меня—то спрашиваешь? Решай сам. Гарсон! Еще один абсент. У тебя сегодня очень довольный вид, Поль. Что случилось? Продал картину? – Фу, какая проза, Тео. Нет, сегодня утром со мной произошло нечто необычайное. Тео украдкой подмигнул Винсенту. – Расскажи нам, Поль. Гарсон! Еще абсент для господина Гогена. Гоген снова прикоснулся к абсенту кончиком языка, провел им по небу и начал рассказывать. – Вы, конечно, знаете тупик Френье, – тот, что идет от улицы Форно? Так вот, сегодня, в пять часов утра, я слышу там, как мамаша Фурель, жена возчика, орет благим матом: «Караул! У меня повесился муж!» Я вскочил с кровати, натянул брюки (приличие прежде всего!), схватил нож, побежал вниз и перерезал веревку. Возчик уже задохнулся, хотя был совсем теплый. Я хотел перенести его и положить на кровать. «Не тронь! – кричит мамаша Фурель. – Надо дождаться полиции!» А рядом с моим домом живет огородник, который торгует овощами со своих грядок. «Найдется у вас канталупа?» – спрашиваю я его. «Как же, господи, найдется, совсем спелая». За завтраком я съел эту дыню, совершенно не думая о человеке, который повесился. Как видите, в жизни не все уж столь дурно. Кроме яда, есть и противоядие. Я был приглашен на завтрак, а поэтому надел лучшую рубашку, рассчитывая потрясти общество. Я рассказал об этом происшествии всем, кто там был. Они беззаботно улыбались и только попросили себе на счастье по куску веревки, на которой повесился возчик. Винсент внимательно вгляделся в Поля Гогена. У Гогена была крупная черноволосая голова варвара, массивный, перекошенный к правому углу рта нос, большущие, навыкате, миндалевидные глаза, постоянно сохранявшие выражение жестокой меланхолии. Крепкие кости проступали у него буграми в надбровьях, под глазами, на длинных скулах и широком подбородке. Это был настоящий гигант, в нем чувствовалась огромная первобытная сила. Тео вяло усмехнулся. – Боюсь, Поль, что ты слишком смакуешь свои садистские шутки, чтобы они казались естественными. Ну, мне пора, я приглашен на обед. Пойдем вместе, Винсент? – Пусть он останется со мной, Тео, – сказал Гоген. – Я хочу познакомиться с твоим братом поближе. – Что ж, прекрасно. Но не вливай в него слишком много абсента. Он к этому не привык. Гарсон, сколько с меня? – Ваш брат – хороший человек, Винсент, – продолжал Гоген уже на улице. – Он еще боится выставлять работы молодых художников, но, мне кажется, ему мешает лишь Валадон. – На антресолях у него выставлены Моне, Сислей, Писсарро и Мане. – Верно. Но где же Съра? Где Гоген? А Сезанн и Тулуз—Лотрек? Ведь кое—кто уже стареет, и время скоро будет упущено. – Вы знаете Тулуз—Лотрека? – Анри? Ну, разумеется! Кто его не знает! Чертовски интересный художник, но совсем сумасшедший. Думает, что если будет спать с пятью тысячами женщин, то докажет себе, что он полноценный мужчина. Каждое утро, когда он просыпается, его мучает сознание, что он безногий урод, и каждый вечер он топит свою боль в вине и любовных утехах. Но наутро все его терзания начинаются снова. Если бы он не был таким психопатом, то стал бы одним из самых блестящих наших художников. Ну, нам сюда, за угол. Моя мастерская на четвертом этаже. Осторожней на лестнице, тут сломана ступенька. Гоген вошел в свое жилище первым и зажег лампу. Это была жалкая мансарда: здесь стояли лишь мольберт, металлическая кровать, стол и стул. В нише у двери Винсент заметил несколько вызывающе неприличных фотографий. – Судя по этим картинкам, у вас не слишком возвышенные взгляды на любовь, – заметил Винсент. – Где вас усадить, на кровати или на стуле? На столе есть табак, можете набить свою трубку. А что касается любви, то я люблю женщин толстых и порочных. Мне скучно, когда женщины проявляют интеллект. Я давно мечтаю найти толстую любовницу, и мне никогда это не удавалось. Словно в насмешку, они вечно оказываются беременными. Читали вы новеллу этого юноши Мопассана, которая была напечатана в прошлом месяце? Мопассан – протеже Золя. Так вот, там рассказывается, как человек, который любит толстых женщин, велел приготовить рождественский обед на две персоны и вышел на улицу в поисках подруги. Ему встретилась женщина, вполне удовлетворяющая его вкус, но едва они сели за стол, она возьми да и роди ему мальчика! – Все это не имеет ничего общего с любовью, Гоген. Подложив свою мускулистую руку под голову, Гоген растянулся на кровати и стал жадно курить, пуская к некрашеному потолку клубы дыма. – Вы не подумайте, Винсент, что я нечувствителен к красоте, – нет, я попросту ее не перевариваю. Как вы догадываетесь, я не признаю любви. Сказать «Я люблю вас» для меня немыслимо, не повернется язык. Но я отнюдь не жалуюсь. Подобно Христу, я заявляю: «Плоть есть плоть, а дух есть дух». И вследствие этого скромный доход удовлетворяет мою плоть, а дух пребывает в мире. – И все это, как видно, дается вам очень легко! – Нет, когда дело касается постели, все это совсем не легко. С женщиной, которая испытывает наслаждение, и я наслаждаюсь вдвое сильнее. Но я скорее опущусь до онанизма, чем стану растрачивать свои чувства. Я берегу их для живописи. – В последнее время такие мысли приходили и мне. Нет, нет, спасибо, я больше не выдержу ни капли абсента. А вы пейте, не смотрите на меня. Мой брат Тео очень хорошо отзывается о ваших работах. Можно мне взглянуть на них? Гоген спрыгнул с кровати. – Право, не знаю. Мои полотна – это совершенно частные, личные вещи, такие же, как, скажем, письма. Ладно, я все—таки покажу их вам. Но вы понимаете, при таком свете много не увидишь. Ну, хорошо, хорошо, смотрите, если вам так хочется. Гоген присел на корточки, вытащил из—под кровати груду полотен и начал одно за другим ставить их на стол, прислоняя к бутылке абсента. Винсент приготовился к чему—то необыкновенному, но то, что он увидел, вызвало у него лишь недоумение. Все на этих полотнах насквозь пронизывало солнце; тут были деревья, которые не мог бы определить ни один ботаник; животные, о существовании которых не подозревал и сам Кювье; люди, каких мог сотворить только Гоген; море, словно излившееся из кратера вулкана; небо, на котором не мог бы жить ни одни бог. Тут были неуклюжие остроплечие туземцы, в их детски наивных глазах чудилась таинственность бесконечности; были фантазии, воплощенные в пламенно—алых, лиловых и мерцающих красных тонах; были чисто декоративные композиции, в которых флора и фауна источали солнечный зной и сияние. – Вы как Лотрек, – сказал Винсент. – Вы ненавидите. Ненавидите всей силой вашего сердца. Гоген рассмеялся. – Что вы скажете о моей живописи, Винсент? – Откровенно говоря, не знаю, что и сказать. Дайте мне время собраться с мыслями. Разрешите, я приду к вам еще раз и посмотрю ваши работы. – Приходите сколько угодно. В Париже есть сейчас только один молодой человек, который пишет так же хорошо, как я, – Жорж Съра. Он – тоже примитив. Все остальное парижское дурачье вполне цивилизованно. – Жорж Съра? – отозвался Винсент. – Кажется, я о нем и не слыхал. – Наверняка не слыхали. Его полотна не хочет выставлять ни один торговец картинами. А между тем он великий художник. – Мне хотелось бы встретиться с ним, Гоген. – Я сведу вас к нему. А сейчас что вы скажете, если я предложу вам пойти в «Брюан» и пообедать? Деньги у вас есть? У меня всего—навсего два франка. Эту бутылку мы лучше прихватим с собой. Идите вперед. Я подержу лампу, пока вы спуститесь, а то вы сломаете себе шею.5
Было уже почти два часа ночи, когда они подошли к дому Съра. – А мы не разбудим его? – спросил Винсент. – Бог мой, куда там! Он работает ночи напролет. И почти целые дни. Мне кажется, он никогда не спит. Вот его дом. Это собственность его мамаши. Однажды она мне сказала: «Жорж, мой сын, хочет заниматься живописью. Ну, что ж, пусть занимается ею. У меня достаточно денег, чтобы жить нам обоим. Лишь бы он был счастлив». А Жорж у нее – примерный сын. Не пьет, не курит, не ругается, не шляется по ночам, не волочится за женщинами, не тратит денег ни на что, кроме холстов и красок. У него только один порок – живопись. Говорят, у него тут неподалеку есть любовница и сын от нее, но сам он о них никогда словом не обмолвился. – В доме, кажется, темно, – сказал Винсент. – Как бы нам войти, не потревожив семейство? – У Жоржа есть мансарда. Зайдем с другой стороны, может быть, там горит свет. Кинем ему в окно камешек. Нет, нет, кидать буду я. А то вы еще бросите неудачно, попадете в окно на третьем этаже и разбудите мамашу. Жорж Съра сошел вниз, открыл дверь и, приложив палец к губам, повел гостей наверх. Когда он притворил дверь своей мансарды, Гоген сказал: – Жорж, я хочу тебя познакомить с Винсентом Ван Гогом, братом Тео. Он пишет как голландец, но во всем остальном это чертовски хороший парень. Мансарда у Съра была очень большая, она занимала чуть—ли не целый этаж во всю длину. На стенах висели огромные неоконченные картины, под ними высились подмостки. Висячая газовая лампа освещала высокий квадратный стол, на котором лежало сырое полотно. – Рад познакомиться с вами, господин Ван Гог. Сделайте милость, простите меня, я поработаю минутку. Надо еще раз пройтись в одном месте, пока краски не просохли. Он взобрался на высоченный табурет и склонился над своей картиной. Газовая лампа бросала ровный, желтоватый свет. Двадцать маленьких горшочков с краской были аккуратно расставлены вдоль края стола. Съра обмакнул в краску кончик кисточки – таких маленьких кисточек Винсенту никогда не доводилось видеть – и с математической точностью начал наносить на холст цветные пятнышки. Он работал ровно, без всякого волнения. Движения у него были рассчитанные и бесстрастные, как у машины. Точка– точка—точка. Зажав отвесно кисточку в пальцах, он едва касался ею краски и тук—тук—тук—тук – сотни раз быстро ударял ею по полотну. Винсент смотрел на него разинув рот. Наконец Съра обернулся и сказал: – Ну, вот, я и выдолбил это место. – Ты не покажешь свою работу Винсенту, Жорж? – спросил Гоген. – Он ведь из тех краев, где пишут только коров да овец. О существовании нового искусства он узнал всего неделю назад. – Тогда, пожалуйста, влезьте на этот табурет, господин Ван Гог. Винсент взобрался на табурет и глянул на лежавшее перед ним полотно. Ничего подобного он не видел до этих пор ни в искусстве, ни в жизни. Картина изображала остров Гранд—Жатт. Здесь, подобно пилонам готического собора, высились какие—то странные, похожие скорее на архитектурные сооружения, человеческие существа, написанные бесконечно разнообразными по цвету пятнышками. Трава, река, лодки, деревья, – все было словно в тумане, все казалось абстрактным скоплением цветных пятнышек. Картина была написана в самых светлых тонах – даже Мане и Дега, даже сам Гоген не отважились бы на такой свет и такие яркие краски. Она уводила зрителя в царство почти немыслимой, отвлеченной гармонии. Если это и была жизнь, то жизнь особая, неземная. Воздух мерцал и светился, но в нем не ощущалось ни единого дуновения. Это был как бы натюрморт живой, трепетной природы, из которой начисто изгнано всякое движение. Гоген, стоявший рядом с Винсентом, увидев выражение его лица, расхохотался. – Ничего, Винсент, с первого раза полотна Жоржа поражают любого точно так же, как и вас. Не смущайтесь! Что вы о них думаете? Винсент поглядел на Съра, как бы прося прощения. – Вы меня извините, господин Съра, но в последнее время на меня свалилось столько неожиданностей, что я утратил всякое равновесие. Я воспитан в голландских традициях. Того, за что борются импрессионисты, у меня и в мыслях не бывало. А теперь вот я с удивлением вижу, как все мои прежние представления рушатся. – Понимаю, – спокойно ответил Съра. – Мой метод переворачивает все искусство живописи, и нельзя требовать, чтобы вы приняли его с первого взгляда. Видите ли, господин Ван Гог, до сего времени живопись основывалась на личном опыте художника. Я поставил себе цель сделать ее абстрактной наукой. Мы должны научиться классифицировать наши ощущения и добиться здесь математической точности. Любое человеческое ощущение может и должно быть сведено к абстрактному выражению в цвете, линии, тоне. Видите эти горшочки о краской на моем столе? – Да, я сразу обратил на них внимание. – Каждый из этих горшочков заключает в себе какое—то человеческое чувство. По моей формуле чувства можно изготовить на фабрике и продавать в аптеке. Довольно нам смешивать краски на палитре, полагаясь на случай, – этот метод уже стал достоянием прошлого века, Отныне пусть художник идет в аптеку и покупает горшочки с красками. Наступил век науки, и я намерен превратить живопись в науку. Личности предстоит исчезнуть, а живопись должна подчиниться строгому расчету, как архитектура. Вы меня понимаете, господин Ван Гог? – Нет, – сказал Винсент. – Боюсь, что не понимаю. Гоген подтолкнул Винсента локтем. – Но послушай, Жорж, почему ты уверяешь, что это именно твой метод? Писсарро открыл его, когда тебя еще не было на свете. – Это ложь! Лицо Съра побагровело. Соскочив с табурета, он быстро подошел к окну, побарабанил пальцами по подоконнику и напустился на Гогена: – Кто сказал, что Писсарро открыл это прежде меня? Я утверждаю, что это мой метод. Я первым применил его. Писсарро воспринял пуантилизм от меня. Я переворошил всю историю искусства, начиная с итальянских примитивов, и говорю вам, что до меня никому это не приходило в голову. Да как ты только смеешь... Он свирепо закусил нижнюю губу и отошел к подмосткам, повернув к гостям свою сутулую спину. Винсент был изумлен такой резкой переменой. У этого человека, который только что тихо сидел, склонившись над своей работой, были на редкость правильные, строгие в своем совершенстве черты лица. У него были бесстрастные глаза, суховато—сдержанные манеры ученого, погруженного в свои исследования. Голос его звучал холодно, почти назидательно. Минуту назад во всем его облике было нечто столь же абстрактное, как и в его полотнах. А теперь он, стоя в углу мансарды, кусал свою толстую красную губу, выпяченную из пышной бороды, и сердито ерошил кудрявую темно—русую шевелюру, которая только что была аккуратнейшим образом причесана. – Хватит тебе, Жорж! – увещевал его Гоген, подмигивая Винсенту. – Всем известно, что это твой метод. Без тебя не было бы никакого пауантилизма. Съра смягчился и подошел к столу. Гневный блеск его глаз понемногу гаснул. – Господин Съра, – заговорил Винсент, – разве мы можем превратить живопись в отвлеченную, безличную науку, если в ней всего важнее выражение личности художника? – Одну минуту. Сейчас сами увидите. Съра схватил со стола коробку цветных мелков и уселся прямо на пол. Газовая лампа ровно освещала мансарду. Было по—ночному тихо. Винсент присел по одну сторону Съра, Гоген – по другую. Съра все еще не мог унять свое волнение, и голос его прерывался. – На мой взгляд, – сказал он, – все способы воздействия, существующие в живописи, можно выразить какой—то формулой. Допустим, я хочу изобразить цирк. Вот наездница на неоседланной лошади, вот тренер, а здесь публика. Я хочу выразить дух беспечного веселья. А какие у нас есть три элемента живописи? Линия, цвет и тон. Прекрасно. Чтобы выразить дух веселья, я веду все линии вверх от горизонта – вот так. Я беру яркие, светящиеся цвета, они у меня преобладают – в результате у меня преобладает теплый тон. Видите? Ну разве это не абстракция веселья? – Верно, – согласился Винсент. – Это, может быть, и абстракция веселья, но самого веселья я здесь не вижу. Все еще сидя на корточках, Съра взглянул на Винсента. Его лицо было в тени. Теперь Винсент снова увидел, как красив этот человек. – Я не стараюсь выразить само веселье. Вы знакомы с учением Платона, мой друг? – Знаком. – Так вот, художник должен научиться изображать не предмет, а сущность предмета. Когда он пишет лошадь, это должна быть не та конкретная лошадь, которую вы можете опознать на улице. Камера создает фотографию; нам же следует идти гораздо дальше. Мы должны уловить, господин Ван Гог, платоновскую лошадиную сущность, идею лошади в крайнем ее выражении. И когда мы пишем человека, это должен быть не какой—то, к примеру, консьерж, с бородавкой на носу, а дух и сущность всех людей. Вы меня понимаете, мой друг? – Я понимаю, – ответил Винсент, – но я не могу согласиться с вами. – Придет время, и вы со мной согласитесь. Съра встал на ноги и полой халата стер свой рисунок. – Теперь поговорим, как надо изображать покой, тишину, – продолжал он. – Я пишу сейчас остров Гранд—Жатт. Все линии тут я веду горизонтально, видите? У меня будет равновесие между теплыми и холодными тонами – вот таким образом; равновесие между темным в светлым цветом – вот так. Понимаете? – Продолжай, Жорж, и не задавай дурацких вопросов, – сказал Гоген. – А теперь мне надо показать печаль. Делаем все линии ниспадающими, вот как тут. Делаем преобладающим холодный тон – вот так, и накладываем темные краски – так. И поглядите – вот сущность печали! Это может сделать даже ребенок. Математические формулы компоновки пространства на полотне будут изложены в маленькой книжечке. Я уже разработал эти формулы. Художнику остается только прочесть книжку, сходить в аптеку, приобрести горшки с различными красками и неукоснительно соблюдать правила. Он будет истинным ученым и в то же время совершенным живописцем. Он сможет работать на солнце и при свете газа, сможет быть монахом или распутником, и не важно, сколько ему будет лет – семь или семьдесят, – всякая работа неизменно получится у него архитектоничной, безличной и совершенной. Винсент в ответ только заморгал глазами. Гоген рассмеялся. – Он думает, что ты сумасшедший, Жорж. Съра стер последний штрих на полу и кинул халат в темный угол. – Вы в самом деле так думаете, господин Ван Гог? – спросил он. – Нет, нет, что вы! – запротестовал Винсент. – Меня самого слишком часто называли сумасшедшим, чтобы это могло прийти мне в голову. Но все же я допускаю это: ваши речи звучат очень странно! – Видишь, он все—таки хочет сказать, что ты сумасшедший, Жорж, – не унимался Гоген. В эту секунду все услышали громкий стук в дверь. – Mon Dieu! – простонал Гоген. – Мы опять разбудили твою мамашу! Ведь она предупреждала, что если еще раз застанет меня здесь ночью, то задаст мне хорошую взбучку. Вошла мамаша Съра. Она была в халате и ночном чепце. – Жорж, ты обещал мне не работать больше целыми ночами. А, это вы, Поль? Почему вы не платите мне за квартиру? Тогда уж я устроила бы здесь для вас и постель. – Ну, если бы вы, мадам Съра, пустили меня в свой дом, я вообще перестал бы платить за квартиру. – Нет уж, спасибо, одного художника в доме вполне достаточно. Я принесла вам кофе и бриошей. Если вам приходится работать, так по крайней мере надо хоть поесть. Поль, кажется, мне надо спуститься вниз и принести вам бутылку абсента? – А вы, случайно, не выпили ее, мадам Съра? – Поль, не забывайте, что я вам уже обещала головомойку. Тут вышел из темного угла Винсент. – Мама, – сказал Съра, – это мой новый друг, Винсент Ван Гог. Мамаша Съра подала ему руку. – Я рада видеть друзей моего сына даже в четыре часа утра. Чего бы вам хотелось выпить, господин Ван Гог? – Если не возражаете, я выпил бы стакан гогеновского абсента. – Ни за что! – воскликнул Гоген. – Мадам Съра держит меня на пайке. Одна бутылка в месяц. Попросите чего—нибудь другого. Ведь на ваш басурманский вкус все равно – что абсент, что дрянной шартрез. Три художника и мамаша Съра, разговаривая, сидели за кофе и бриошами до тех пор, пока в окно не заглянуло, осветив мансарду желтым светом, утреннее солнце. – Пора идти одеваться, – заметила мамаша Съра. – Приходите к нам как– нибудь пообедать, господин Ван Гог. Мы с Жоржем будем вам рады. Провожая Винсента до двери, Съра сказал: – Боюсь, что я объяснил вам свой метод чересчур примитивно. Приходите ко мне в любое время, мы будем вместе работать. Когда вы поймете мой метод, вы увидите, что старой живописи пришел конец. Ну, а теперь мне пора вернуться к своей картине. Надо выдолбить еще одно место, а потом уже я лягу спать. Передайте, пожалуйста, привет вашему брату. Винсент и Гоген прошли по пустынным каменным ущельям улиц и поднялись на Монмартр. Париж еще не проснулся. Окна домов были плотно закрыты зелеными ставнями, на витрины магазинов опущены жалюзи; по улицам катили маленькие крестьянские тележки, – они возвращались домой, сгрузив на рынке овощи, фрукты и цветы. – Давай поднимемся на вершину Монмартра и посмотрим, как солнышко будит утренний Париж, – предложил Гоген. – О, с удовольствием! Миновав бульвар Клиши, они пошли по улице Лепик, которая, огибая Мулен де ла Галетт, извивами поднималась на Монмартр. Дома здесь попадались реже, появились лужайки с цветниками и купами деревьев. Улица Лепик внезапно оборвалась. Винсент и Гоген двинулись по извилистой тропинке через рощу. – Скажите откровенно, Гоген, что вы думаете о Съра? – спросил Винсент. – О Жорже? Я так и знал, что вы спросите о нем. Жорж чувствует цвет, как ни один человек со времен Делакруа. Но он умничает и сочиняет всякие теории. А это уже не годится. Художники не должны размышлять над тем, что делают. Теориями пусть занимаются критики. Жорж внесет определенный вклад в живопись, обогатив колорит, и его готическая архитектоничность, вероятно, ускорит возврат искусства к примитивизму. Но он сумасшедший, право же, сумасшедший, – вы могли убедиться в этом сами. Идти было нелегко, но когда они взобрались на вершину, перед ними открылся весь Париж – море черных кровель и церковных шпилей, вырисовывавшихся в утренней дымке. Сена рассекала город пополам, сияя, словно извилистая лента чистого света. Дома сбегали по склонам Монмартра и уходили вниз, в долину реки, потом вновь поднимались на высоты Монпарнаса. Чуть пониже ярко горел, будто подожженный солнцем, Венсенский лес. На другом краю города сонно темнела не тронутая лучами зелень Булонского леса. Три главных ориентира столицы – Опера в центре, Собор Парижской богоматери на востоке и Триумфальная арка на западе – высились, мерцая в утреннем свете, подобно огромным курганам, выложенным разноцветными каменьями.6
В маленькой квартирке на улице Лаваль воцарился мир. Вкушая покой, Тео уже благодарил счастливую звезду. Но скоро это благостное затишье кончилось. Вместо того чтобы медленно и настойчиво искать новых путей, обновив свою старомодную палитру, Винсент начал подражать парижским друзьям. В неудержимом стремлении стать импрессионистом он позабыл все то, чего достиг раньше. Его полотна напоминали теперь скверные копии с картин Съра, Тулуз—Лотрека и Гогена. А он был убежден, что дела его идут блестяще. – Послушай, старина, – сказал Тео однажды вечером. – Как тебя зовут? – Винсент Ван Гог. – А ты уверен, что не Жорж Съра и не Поль Гоген? – Черт побери, к чему этот разговор, Тео? – Уж не думаешь ли ты, что в самом деле сможешь стать Жоржем Съра? Пойми же, с тех пор как создан мир, существует только один Лотрек, а не два. И, слава богу, один—единственный Гоген!.. Глупо с твоей стороны подражать им. – Я не подражаю. Я у них учусь. – Нет, подражаешь. Покажи мне твое последнее полотно, и я скажу, с кем из них ты вчера встречался. – Но я совершенствуюсь с каждым днем, Тео. Взгляни, насколько светлее прежних эти этюды. – Ты катишься все ниже и ниже. С каждой твоей картиной от Винсента Ван Гога остается все меньше. Нет, старина, не это твоя столбовая дорога. Чтобы добиться толку, надо усердно работать, работать не один год. Неужто ты так слаб, что должен подражать другим? Разве ты не способен воспринять от них лишь то, что тебе нужно? – Тео, я тебя уверяю, что эти полотна хороши! – А я говорю, что они ужасны! Битва была начата. Каждый вечер, когда Тео, усталый и издерганный, возвращался из галереи, его встречал Винсент, которому не терпелось показать свои новые этюды. Он буквально набрасывался на Тео, не давая ему времени снять шляпу и раздеться. – Посмотри! Неужели и теперь ты скажешь, что это плохо? Разве моя палитра не совершенствуется? Посмотри, какое солнце... Взгляни вот сюда... Тео оставалось одно из двух – либо лгать и наслаждаться по вечерам обществом веселого и довольного брата, либо говорить правду и яростно пререкаться с ним до самого утра. Тео бесконечно устал. Ему не следовало бы говорить правду. Но он не хотел лгать. – Когда ты был последний раз у Дюран—Рюэля? – спрашивал он устало. – А какое это имеет значение? – Нет, ты мне ответь! – Хорошо, – безропотно соглашался Винсент. – Вчера вечером. – Знаешь ли ты, Винсент, что в Париже почти пятьсот художников, которые пытаются подражать Эдуарду Мане? И большинство из них делают это удачнее, чем ты. Поле битвы было слишком тесным, чтобы оба противника уцелели: одному из них предстояло пасть. Винсент не унимался. Однажды он втиснул буквально всех импрессионистов в одно полотно. – Восхитительно! – говорил Тео в тот вечер. – Мы назовем этот этюд « Резюме». Наклеим ярлычки на каждый кусочек полотна. Вот это дерево – настоящий, чистейший Гоген. Девушка в углу – несомненный Тулуз—Лотрек. По солнечным бликам в ручье я узнаю Сислея, тон – как у Моне, листья – Писсарро, воздух – Съра, а центральная фигура – Мане, как есть Мане. Винсент не отступал. Он упорно трудился целыми днями, а вечером, когда возвращался Тео, ему еще приходилось выслушивать укоры, как маленькому ребенку. Тео спал в гостиной, и работать там по ночам Винсент не мог. Стычки с Тео выводили его из равновесия, и у него началась бессонница. Долгими часами он яростно спорил с Тео. Тот не сдавался, пока не засыпал в полном изнеможении – свет при этом продолжал гореть, а Винсент все говорил и размахивал руками. Тео мирился с такой жизнью лишь потому, что рассчитывал вскоре переехать на улицу Лепик, где у него будет отдельная спальня и крепкий запор на двери. Когда Винсенту надоедало спорить о своих собственных полотнах, он приставал к Тео с рассуждениями об искусстве вообще, о торговле картинами и проклятой доле художника. – Я не понимаю, Тео, – жаловался он. – Вот ты управляешь одной из крупнейших картинных галерей в Париже, а не хочешь выставить работы своего брата. – Мне не позволяет Валадон. – А ты пробовал? – Тысячу раз. – Ну ладно, допустим, моя живопись недостаточно хороша. Ну, а что же Съра? А Гоген? А Лотрек? – Каждый раз, как они приносят мне свои работы, я прошу у Валадона разрешения повесить их на антресолях. – Так кто же распоряжается в этой галерее, ты или еще кто—нибудь? – Увы, я там только служу. – Тогда тебе надо уходить оттуда. Ведь это унижение, одно только унижение. Тео, я бы этого не вынес. Я ушел бы от них. – Давай поговорим об этом за завтраком, Винсент. У меня был тяжелый день, и я должен лечь спать. – А я не хочу откладывать этого до завтра. Я хочу поговорить об этом сейчас же. Тео, что толку, если выставляются лишь Мане и Дега? Они уже признаны. Их полотна начинают покупать. Молодые художники – вот за кого ты должен сейчас биться. – Дай срок! Может быть, года через три... – Нет! Мы не можем ждать три года. Нам нужно действовать сейчас. Ох, Тео, почему ты не бросишь службу и не откроешь собственную галерею? Только подумай – никаких Валадонов, никаких Бугро, никаких Эннеров! – На это нужны деньги, Винсент. А я не скопил ни сантима. – Денег мы где—нибудь раздобудем. – Сам знаешь, торговля картинами налаживается медленно. – Ну и пусть медленно. Мы будем работать день и ночь и помогать тебе, пока ты не поставишь дело. – А как мы до той поры будем жить? Ведь надо же подумать и о хлебе. – Ты упрекаешь меня в том, что я ем твой хлеб? – Бога ради, Винсент, ложись спать. Ты меня совсем замучил. – А я не хочу спать. Я хочу, чтобы ты сказал мне правду. Почему ты не уходишь от Гупиля? Потому только, что тебе надо содержать меня? Ну, говори же правду. Я тебе как жернов на шее. Я тяну тебя на дно. Я вынуждаю тебя держаться за службу. Если бы не я, ты был бы свободен. – Если бы я был немного поздоровее да посильнее, я задал бы тебе хорошую трепку. Видно, придется мне позвать Гогена, чтобы он тебя отдубасил. Мое дело служить у Гупиля, Винсент, служить верой и правдой. Твое дело – писать картины, писать до конца дней. Половина моих трудов у Гупиля принадлежит тебе; половина твоих полотен принадлежит мне. А теперь марш с моей кровати, дай мне заснуть, не то я позову полицию! На следующий день Тео, вернувшись с работы, протянул Винсенту конверт и сказал: – Если тебе сегодня нечего делать, можешь пойти со мной на этот званый вечер. – А кто его дает? – Анри Руссо. Посмотри на пригласительную карточку. Там были две строчки простеньких стихов и цветы, нарисованные от руки. – Кто это такой? – Мы зовем его Таможенником. До сорока лет он служил сборщиком пошлин где—то в глуши. А по воскресеньям, как Гоген, занимался живописью. Приехал в Париж несколько лет назад и поселился в рабочем районе близ площади Бастилии. Он нигде не учился, ни одного дня, однако пишет картины, сочиняет стихи и музыку, дает уроки игры на скрипке детям рабочих, играет на фортепьяно и обучает рисованию каких—то двух стариков. – Что же он пишет? – Главным образом фантастических зверей, среди еще более фантастических джунглей. А джунгли он видел только в ботаническом саду. Это крестьянин и примитив по самой натуре, хотя Поль Гоген и подсмеивается над ним. – А какого ты мнения о его работах, Тео? – Понимаешь, трудно сказать. Все смотрят на него как на слабоумного. – Ну, а ты как думаешь? – В нем есть что—то от невинного младенца. Вот пойдем сегодня к нему, и тогда суди сам. Все его полотна висят у него на стенах. – Должно быть, у него водятся деньги, раз он устраивает вечера. – Ну нет, это, пожалуй, самый бедный художник во всем Париже. Даже скрипку, чтобы давать уроки, ему приходится брать напрокат, так как купить ее он не в состоянии. А вечера он устраивает сопределенной целью. Погоди, сам увидишь. Руссо жил в доме, где ютились одни рабочие. Его комната была на четвертом этаже. Улица кишела пронзительно визжавшими ребятишками; смешанный запах кухни, прачечной и нужника мощной струей ударял в ноздри стороннего человека, стоило только ступить на порог. Тео постучал, и Анри Руссо открыл дверь. Это был невысокий коренастый человек, по своему сложению очень похожий на Винсента. Пальцы у него были короткие и толстые, голова почти квадратная. Его нос в подбородок казались крепкими, как камень, а взгляд—широко раскрытых глаз был совершенно невинным. – Вы оказали мне честь своим приходом, господин Ван Гог, – сказал он мягким, приветливым тоном. Тео представил ему Винсента. Руссо пододвинул стулья и пригласил их сесть. Комната у него была живописная, даже веселая. На окнах Руссо повесил занавески из деревенского полотна в красную и белую клетку. Стены тесными рядами покрывали картины, изображавшие диких зверей, джунгли и невероятные, фантастические пейзажи. В углу, около старого разбитого пианино, явно волнуясь, стояли четыре мальчика со скрипками в руках. На каминной доске лежало домашнее печенье, посыпанное тмином, – произведение рук Руссо. По всей комнате в ожидании гостей были расставлены скамейки и стулья. – Вы пришли первым, господин Ван Гог, – говорил Руссо, обращаясь к Тео. – Критик Гийом Пилль обещал удостоить меня своим присутствием и привести целую компанию. С улицы донесся шум – завопили дети, протарахтели по булыжнику колеса экипажа. Руссо кинулся к двери. В коридоре послышались звонкие женские голоса. – Не останавливаться, не останавливаться! – гудел какой—то мужчина. – Одной рукой держись за перила, а другой зажимай нос! За этой остротой последовал взрыв смеха. Руссо, который все это хорошо слышал, повернулся к Винсенту с улыбкой на лице. Винсент подумал, что ни у одного мужчины ему еще не приходилось видеть таких ясных, таких невинных глаз, – глаз, в которых не было и тени неприязни. В комнату ввалилась компания, человек десять – двенадцать. Мужчины были во фраках, женщины в нарядных платьях, изящных туфлях и длинных белых перчатках. Они принесли с собой запах дорогих духов, пудры, шелков и старинных кружев. – Ну, ну, Анри, – кричал Гийом Пилль своим басовитым, рассчитанным на эффект голосом, – как видите, мы явились. Но мы не можем здесь долго засиживаться. Мы идем на бал к принцессе де Брой. А пока что вы должны развлечь моих друзей. – О, как я хотела познакомиться с вами, – проникновенно сказала тоненькая девушка с темно—рыжими волосами, в платье ампир с низким вырезом. – Только подумать, великий художник, о котором говорит весь Париж! Вы поцелуете мне руку, господин Руссо? – Будь осторожнее, Бланш, – предостерег ее кто—то. – Знаешь... эти художники... Руссо улыбнулся и поцеловал ей руку. Винсент отошел в угол. Пилль и Тео занялись разговором. Остальные парами расхаживали по комнате, обсуждали, громко смеясь, полотна Руссо, щупали занавески, перебирали вещи и обшарили, в поисках нового повода для шуток и острот, каждый закоулок. – Господа и дамы, не угодно ли вам присесть, – обратился к ним Руссо. – Оркестр исполнит для вас одно из моих произведений. Я посвятил его господину Пиллю. Оно называется «Шансон Раваль». – Сюда, все сюда! – скомандовал Пилль. – Руссо хочет дать нам представление. Жани! Бланш! Жан! Садитесь же. Это будет неповторимо. Четыре дрожащих от страха мальчика подошли к единственному пюпитру и стали настраивать скрипки. Руссо сел за пианино и закрыл глаза. Через секунду он сказал: «Начали», – и ударил по клавишам. Его сочинение представляло собой наивную пастораль. Винсент старался внимательно слушать, но наглые смешки гостей не давали ему сосредоточиться. Когда музыка смолкла, все шумно зааплодировали. Бланш подбежала к пианино, положила руки на плечи Руссо и сказала: – Это было так прекрасно, господин Руссо, так прекрасно! Я растрогана, как никогда в жизни. – Вы мне льстите, мадам. Бланш взвизгнула от смеха. – Гийом, вы слышите? Он считает, что я ему льщу! – Я сыграю вам сейчас еще одно сочинение, – объявил Руссо. – Спойте нам одну из ваших поэм, Анри. Ведь у вас их так много! Руссо улыбнулся улыбкой младенца. – Хорошо, господин Пилль, я спою вам поэму, если угодно. Он отошел к столу, перелистал пачку бумаг и выбрал какой—то листок. Затем он вновь уселся за пианино и взял несколько аккордов. Винсенту музыка понравилась. Несколько строк стихотворения, которые он уловил, тоже показались ему очаровательными. Но общее впечатление было до нелепости смешным. Все сборище стонало и завывало. Гости тянулись к Пиллю и хлопали его по спине. – Ох, и проказа же ты, Гийом, ох, и плут! Кончив петь, Руссо вышел на кухню и принес для гостей несколько грубых, толстых чашек с кофе. Гости выщипывали из печенья зернышки тмина и бросали их друг другу в чашки. Винсент, сидя в углу, молча дымил трубкой. – А теперь, Анри, покажите нам свои новые картины. Собственно ради этого мы и пришли. Нам хочется посмотреть их здесь, в вашей мастерской, пока их не приобрел Лувр. – Да, у меня есть несколько недурных новых полотен, – согласился Руссо. – Сейчас я сниму их со стены. Гости сгрудились вокруг стола, стараясь перещеголять друг друга в комплиментах. – Это божественно, просто божественно! – восклицала Бланш. – Я должна повесить эту картину у себя в будуаре. Я не проживу без нее ни одного дня! Дорогой мэтр, сколько стоит этот бессмертный шедевр? – Двадцать пять франков. – Двадцать пять франков! Вообразите, всего—навсего двадцать пять франков за великое произведение искусства! Вы не посвятите его мне? – Почту за честь. – Я дал слово Франсуазе, что куплю для нее одну картину, – сказал Пилль. И он снял со стены полотно, да котором был изображен некий таинственный зверь, выглядывающий из каких—то сказочных тропических зарослей. Гости все как один бросились к Пиллю. – Что это такое? – Это лев. – Нет, не лев, а тигр! – А я вам говорю, что это моя прачка: я ее сразу узнал. – Это полотно немного больше первого, господин Пилль, – вежливо разъяснил Руссо. – Оно оценено в тридцать франков. – Оно стоит того, Анри, в самом деле стоит. Когда—нибудь мои внуки продадут это прелестное полотно за тридцать тысяч франков! – Я тоже хочу картину, я тоже! – перебивая друг друга, кричали гости. – Мне надо преподнести ее друзьям. Это же нынче гвоздь сезона! – Ну, пора идти, – объявил Пилль. – А то опоздаем на бал. Забирайте свои полотна! Когда их увидят у принцессы Брой, будет настоящий фурор! До свидания, Анри. Мы чудесно провели у вас время. Устройте поскорее еще один такой вечер. – Прощайте, дорогой мэтр! – сказала Бланш, взмахнув своим надушенным платком перед самым носом Руссо. – Я вас никогда не забуду. Вы останетесь в моей памяти навеки. – Не тронь его, Бланш! – крикнул ей один из мужчин. – Бедняга не сможет заснуть всю ночь. Они с шумом стали спускаться по лестнице, громко подшучивая друг над другом и оставив за собой аромат дорогих духов, смешавшийся с тяжелыми запахами коридора. Тео и Винсент тоже собрались уходить. Руссо стоял у стола, уставившись на кучку монет. – Может быть, ты пойдешь домой один, Тео? – тихо сказал Винсент. – Я хочу еще побыть здесь и познакомиться с ним покороче. Тео вышел. Руссо и не заметил, как Винсент затворил дверь и прислонился к стене. Он все еще пересчитывал лежавшие на столе монеты. – Восемьдесят франков, девяносто франков, сто, сто пять. Он поднял голову и увидел Винсента. В глазах его снова появилось выражение детской наивности. Он отодвинул деньги в сторону и глупо улыбнулся. – Снимите маску, Руссо, – проговорил Винсент. – Поймите, я тоже крестьянин и художник. Руссо выбежал из—за стола и горячо стиснул ему руку. – Тео показывал мне ваши полотна из жизни голландских крестьян. Они очень хороши. Они лучше картин Милле. Я смотрел их много—много раз. Я восхищен вами, господин Ван Гог! – А я смотрел ваши картины, Руссо, пока эти... валяли тут дурака... Я тоже восхищен вами. – Благодарю вас. Пожалуйста, садитесь. Возьмите табаку и набейте себе трубку. Сто пять франков, господин Ван Гог, сто пять франков! Я накуплю теперь в табаку, и еды, и холстов! Они уселись друг против друга и молча курили, погрузившись в раздумье. – Полагаю, для вас не секрет, Руссо, что вас называют сумасшедшим? – О, конечно. Говорят, что в Гааге вас тоже считали сумасшедшим. – Да, это правда. – Пусть думают, что хотят. Когда—нибудь мои полотна будут висеть в Люксембургском музее. – А мои в Лувре! – подхватил Винсент. Они взглянули друг другу в глаза и вдруг громко, от всего сердца расхохотались. – А ведь они правы, Анри, – сказал Винсент. – Мы в есть сумасшедшие! – Так не пойти ли нам выпить по стаканчику? – предложил Руссо.7
Гоген постучал в дверь квартиры Ван Гогов в среду, незадолго перед обедом. – Твой брат просил меня отвести тебя сегодня в кафе «Батиньоль». Сам он будет допоздна работать в галерее. А, вот интересные полотна! Можно взглянуть? – Разумеется. Одно из них я написал в Брабанте, другие в Гааге. Гоген рассматривал картины долго и пристально. Несколько раз он поднимал руку и открывал рот, словно собираясь заговорить. Но ему, видимо, было трудно выразить свои мысли. – Прости меня за откровенный вопрос, Винсент, – сказал он наконец, – но ты, случайно, не эпилептик? Винсент в это время надевал овчинный полушубок, который он, к ужасу Тео, купил в лавке подержанных вещей и никак не хотел с ним расстаться. Он повернулся и поглядел на Гогена: – Кто я, по—твоему? – Я спрашиваю, ты не эпилептик? Ну, не из тех, у кого бывают нервные припадки? – Насколько мне известно, нет. А почему ты об этом спрашиваешь, Гоген? – Понимаешь... твои картины... кажется, что они вот—вот взорвутся и спалят самый холст. Когда я гляжу на твои работы... и это уже не первый раз... я чувствую нервное возбуждение, которое не в силах подавить. Я чувствую, что если не взорвется картина, то взорвусь я! Ты знаешь, где у меня особенно отзывается твоя живопись? – Не знаю. Где же? – В кишках. У меня выворачивает все нутро. Так давит и крутит, что я еле сдерживаюсь. – Что ж, может быть, я стану сбывать свои произведения в качестве слабительного. Повесишь такую картину в уборной и поглядывай на нее ежедневно в определенный час. – Говоря серьезно, я вряд ли смог бы жить среди твоих картин, Винсент. Они свели бы меня с ума за одну неделю. – Ну, пойдем? Они поднялись по улице Монмартр к бульвару Клиши. – Ты еще не обедал? – спросил Гоген. – Нет. А ты? – Тоже нет. Не зайти ли нам к Батай? – Прекрасная мысль. Деньги у тебя есть? – Ни сантима. А у тебя? – Как всегда, в кармане пусто. Я думал, что меня накормит Тео. – Черт побери! Тогда, пожалуй, нам не пообедать. – Давай все—таки зайдем и посмотрим, какое там сегодня дежурное блюдо. Они прошли вверх по улице Лепик, затем повернули направо, на улицу Аббатисы. У мадам Батай на одном из искусственных деревьев, стоявших у входной двери, висело написанное чернилами меню. – М—мм, – промычал Винсент. – Телятина с зеленым горошком. Мое любимое блюдо. – Терпеть не могу телятину, – отозвался Гоген. – Я даже рад, что мне не придется здесь обедать. – Какая чушь! Они побрели дальше и скоро очутились в маленьком садике у подножия Монмартра. – Ба! – воскликнул Гоген. – Вон видишь, – Поль Сезанн спит на скамейке. Но почему этот кретин кладет башмаки вместо подушки под голову – ума не приложу. Давай—ка разбудим его. Он снял с себя ремень, сложил его вдвое и хлестнул им по босым ногам спящего. Сезанн подскочил с криком боли. – Гоген, ты чертов садист! Что за идиотские шутки? Когда—нибудь я размозжу тебе череп! – Так тебе и надо, не выставляй голые ноги. И зачем ты кладешь свои грязные провансальские башмаки под голову вместо подушки? Лучше уж спать на голой скамье, – так гораздо удобней. Сезанн вытер ладонью ноги, натянул башмаки и ворчливо сказал: – Я кладу башмаки под голову не вместо подушив. Я делаю это затем, чтобы, пока я сплю, их никто не стащил! Гоген повернулся к Винсенту. – Послушать его, так перед нами голодающий художник, не правда ли? А у его отца целый банк, ему принадлежит почти весь город Экс в Провансе. Поль, это Винсент Ван Гог, брат Тео. Сезанн и Винсент пожали друг другу руки. – Очень жаль, Сезанн, что мы не наткнулись на тебя полчаса назад, – сказал Гоген. – Ты бы пошел вместе с нами обедать. У Батай сегодня такая телятина с горошком, какой я еще никогда не пробовал. – В самом деле хорошая телятина, а? – заинтересовался Сезанн. – Хорошая? Изумительная! Правда, Винсент? – Да что говорить! – Тогда, я думаю, надо пойти попробовать. Вы не составите мне компанию? – Не знаю, смогу ли я съесть еще одну порцию. А ты, Винсент? – Право, едва ли. Но если господин Сезанн настаивает... – Ну, будь другом, Гоген! Ты знаешь, я ненавижу есть в одиночестве. Закажем чего—нибудь еще, если вы уже объелись телятиной. – Ну хорошо, только ради тебя, Поль. Пойдем, Винсент. Они вновь вернулись на улицу Аббатисы и вошли в ресторан «Батай». – Добрый вечер, господа, – приветствовал их официант. – Что прикажете подать? – Принесите три дежурных блюда, – сказал Гоген. – Хорошо. А какое вино? – А уж вино, Сезанн, выбирай сам. Ты в этом разбираешься гораздо лучше меня. – Ну, что ж, тут есть сент—эстеф, бордо, сотерн, бон... – А пил ты здесь когда—нибудь поммар? – перебил его Гоген самым простодушным тоном. – Это лучшее вино у Батай. – Принесите нам бутылку поммара, – приказал Сезанн официанту. Гоген мигом проглотил свою телятину и заговорил с Сезанном, который не съел еще и половины. – Между прочим, Поль, – сказал он, – я слышал, что «Творчество» Золя расходится в тысячах экземпляров. Сезанн метнул на него злобный взгляд и с отвращением отодвинул тарелку. – Вы читали эту книгу, Ван Гог? – спросил он Винсента. – Нет еще. Я только что кончил «Жерминаль». – "Творчество" – плохая, фальшивая книга, – сказал Сезанн. – К тому же это худшее предательство, какое когда—либо совершалось под прикрытием дружбы. Это роман о художнике, господин Ван Гог. Обо мне! Эмиль Золя – мой старый друг. Мы вместе росли в Эксе. Вместе учились в школе. Я приехал в Париж только потому, что он был здесь. Мы с Эмилем жили душа в душу, дружнее, чем братья. Всю свою юность мы мечтали, как плечо к плечу мы пойдем вперед и станем великими художниками. А теперь он сделал такую подлость! – Что же он вам сделал? – спросил Винсент. – Высмеял меня. Зло подшутил надо мной. Сделал меня посмешищем всего Парижа. Я столько раз излагал ему свою теорию света, объяснял, как надо изображать твердые тела, делился с ним мыслями о том, как обновить коренным образом палитру. Он слушал меня, поддакивал, выпытывал у меня самое сокровенное. И все это время он лишь собирал материал для своего романа, чтобы показать, какой я дурак. Сезанн выпил бокал вина, снова повернулся к Винсенту и продолжал говорить, поблескивая своими маленькими угрюмыми глазками, в которых таилась ненависть. – Золя вывел в своей книге трех человек, господин Ван Гог: меня, Базиля и несчастного мальчишку, который подметал пол в мастерской у Мане. Мальчик мечтал стать художником, но в конце концов с отчаяния повесился. Золя изобразил меня как фантазера, этакого беднягу мечтателя, который воображает, будто революционизирует искусство, и не пишет в обычной манере только потому, что у него вообще не хватает таланта писать. Золя заставляет меня повеситься на подмостках возле Моего шедевра, потому что в конце концов я понял, что я не гений, а слабоумный мазила. Рядом со мной он вывел другого человека из Экса, сентиментального скульптора, который лепит какой—то банальный, академический хлам, – он—то и оказывается великим художником! – Это в самом деле забавно, – сказал Гоген, – особенно если вспомнить, что Золя был первым поборником переворота в живописи, произведенного Эдуардом Мане. Эмиль сделал для импрессионистической живописи больше, чем кто—либо другой на свете. – Да, он преклонялся перед Мане за то, что Эдуард сверг академиков. Но когда я пытаюсь пойти дальше импрессионистов, он называет меня дураком и кретином. А я скажу вам, что Эмиль человек среднего ума и очень ненадежный друг. Я давно перестал ходить к нему. Он живет как презренный буржуа. Дорогие ковры на полу, вазы на камине, слуги, роскошный резной стол, на котором он пишет свои шедевры. Тьфу! Да он самый обыкновенный буржуа, Мане перед ним просто щенок. Это были два сапога пара, Золя и Мане, вот почему они так долго ладили между собой. Только потому, что я родом из того же города, что и Эмиль, и он знал меня ребенком, он не допускает мысли, что я могу создать нечто значительное. – Я слышал, что несколько лет назад он написал брошюру о ваших картинах в Салоне отверженных? Что с нею сталось? – Эмиль разорвал ее в клочья в ту минуту, когда ее надо было отправить в типографию. – Но почему же? – спросил Винсент. – Он испугался, что критики подумают, будто он покровительствует мне лишь потому, что я его старый друг. Опубликуй он эту брошюру, моя репутация была бы раз навсегда установлена. Вместо этого он напечатал « Творчество». Вот вам и дружба. Над моими полотнами в Салоне отверженных смеялись девяносто девять человек из ста. Дюран—Рюэль выставляет Дега, Моне и моего друга Гийомена, а мне на своих стенах не отводит ни дюйма. Даже ваш брат, господин Ван Гог, отказался выставить меня на антресолях. Единственный торговец в Париже, который согласен поместить мои полотна в окнах своей лавки, – это папаша Танги, но он, бедняга, не мог бы продать и корки хлеба голодающему миллионеру. – Не осталось еще поммара в бутылке, Сезанн? – спросил Гоген. – Благодарю. Что меня раздражает у Золя, так это то, что прачки у него говорят как истинные, живые прачки, а когда он начинает писать о других людях, то забывает переменить стиль. – Да, Парижа с меня довольно. Вернусь в Экс и буду жить там до конца своих дней. Там есть такая гора – она поднимается над долиной и с нее видна вся окрестность. Какое ясное, яркое солнце в Провансе, какой колорит! Ах, какой колорит! Есть там, я знаю, на той горе один участок, который продается. Он сплошь порос соснами. Я выстрою там мастерскую и разобью яблоневый сад. Участок обнесу каменной стеной. А поверху вмажу в стену битое стекло, чтобы ко мне никто не лез. И я уже никогда не покину Прованса, – никогда в жизни! – Станешь отшельником, да? – промычал Гоген, не отрывая губ от бокала с поммаром. – Да, отшельником. – Отшельник из Экса. Чудесно звучит. Но сейчас нам лучше перебраться в кафе «Батиньоль». Там, наверное, уже все в сборе.8
Действительно, там почти все были в сборе. Перед Лотреком высилась гора блюдец, едва не доходившая ему до подбородка. Жорж Съра спокойно разговаривал с Анкетеном, тощим долговязым живописцем, который пытался сочетать манеру импрессионистов со стилем японских гравюр. Анри Руссо доставал из кармана свое самодельное печенье и макал его в кофе с молоком, в то время как Тео вел оживленный спор с двумя ультрасовременными парижскими критиками. В прошлом Батиньоль был предместьем, расположенным у самого начала бульвара Клиши, и именно здесь Эдуард Мане собирал вокруг себя родственные души. Пока он был жив, художники, принадлежавшие к Батиньольской школе, имели обыкновение дважды в неделю собираться в этом кафе. Легро, Фантен– Латур, Курбе, Ренуар – все они встречались тут и разрабатывали свои теории искусства, но теперь вместо них пришло новое, молодое поколение. Увидев Эмиля Золя, Сезанн прошел к дальнему столику, заказал кофе и уселся особняком поодаль. Гоген познакомил Винсента с Золя и опустился на стул рядом с Тулуз—Лотреком. Золя и Винсент остались вдвоем за одним столиком. – Я видел, что вы пришли с Полем Сезанном, господин Ван Гог. Он, конечно, говорил вам что—нибудь про меня? – Говорил. – Что же? – Боюсь, ваша книга ранила его слишком глубоко. Золя вздохнул и отодвинул столик от кушетки с кожаными подушками, чтобы очистить побольше места для своего толстого живота. – Вы слыхали о швейнингерском способе лечения? – спросил он. – Говорят, что если совсем перестать пить за едой, то в три месяца потеряешь тридцать фунтов веса. – Нет, я ничего об этом не слышал. – Мне было очень горько писать книгу о Поле Сезанне, но в ней каждое слово – правда. Вот вы художник. Разве согласитесь вы исказить портрет друга только для того, чтобы не причинить ему страданий? Конечно, нет. Поль – чудесный малый. Долгие годы он был моим самым задушевным другом. Но его картины смехотворны. Моя семья еще как—то терпит их, но когда к нам приходят друзья, поверьте, я вынужден прятать его полотна в шкаф, чтобы над ними не издевались. – Неужто у него все так уж плохо, как вы говорите? – Еще хуже того, дорогой мой Ван Гог, еще хуже! Вы совсем не видали его работ? Потому—то вы и не верите. Он рисует как пятилетний ребенок. Клянусь вам честью, мне кажется, он совсем спятил. – Гоген его уважает. – Я просто в отчаянии, – продолжал Золя, – я не могу видеть, как Сезанн безрассудно губит свою жизнь. Ему надо вернуться в Экс и занять место своего отца в банке. Тогда он чего—нибудь достигнет в жизни. А теперь... что ж... когда—нибудь он повесится... как я предсказал в « Творчестве». Вы читали этот роман? – Нет, еще не читал. Я только что окончил «Жерминаль». – Да? И как вы находите «Жерминаль»? – Я считаю его лучшей вещью со времен Бальзака. – Да, это мой шедевр. Я печатал его в прошлом году отдельными главами в «Жиль Блазе» и получил изрядные деньги. А теперь распродано уже более шестидесяти тысяч экземпляров книги. Никогда прежде у меня не было таких доходов. Я собираюсь пристроить новое крыло к своему дому в Медане. Книга уже вызвала четыре забастовки в шахтерских районах Франции. Да, « Жерминаль» станет причиной колоссальной революции, и когда это произойдет – прощай капитализм! А что именно вы пишете, господин... забыл, как это Гоген назвал вас по имени? – Винсент. Винсент Ван Гог. Брат Тео Ван Гога. Золя положил карандаш, которым он что—то писал на каменной столешнице, и пристально посмотрел на Винсента. – Это любопытно, – сказал он. – Что именно любопытно? – Да ваше имя. Я где—то его слышал. – Может быть, Тео что—нибудь говорил обо мне. – Да, говорил, но я не о том. Минуточку! Это было... это было... « Жерминаль»! Вы бывали когда—нибудь в угольных шахтах? – Бывал. Я два года жил в Боринаже, в Бельгии. – Боринаж! Малый Вам! Маркасс! – Золя вытаращил свои большие глаза, его круглое, бородатое лицо выражало изумление. – Так это вы... вы тот самый второй Христос! Винсент покраснел. – Не понимаю, о чем вы говорите. – Я пять недель прожил в Боринаже, собирая материал для «Жерминаля». «Чернорожие» рассказывали мне о земном Христе, который был у них проповедником. – Говорите потише, прошу вас! Золя сложил руки на своем толстом животе, словно хотел скрыть его. – А вы не стыдитесь, – успокоил он Винсента. – Вы старались сделать достойное дело. Только вы избрали неверный путь. Религия никогда не выведет человека на верную дорогу. Одни нищие духом приемлют нищету на этом свете ради надежды на загробное блаженство. – Я понял это слишком поздно. – Вы провели в Боринаже два года, Винсент. Вы отказывали себе в еде, в одежде, забывали о деньгах. Вы работали там до изнеможения, до смертельной усталости. И что вы получили за это? Ровным счетом ничего. Вас объявили сумасшедшим и отлучили от церкви. А когда вы уезжали, жизнь углекопов была такой же, как в в тот день, когда вы приехали. – Даже хуже. – А вот мой путь – верный. Печатное слово поднимет революцию. Мою книгу прочитали все грамотные углекопы в Бельгии и Франции. Нет ни одного кабачка, ни одной хижины, где бы не лежала зачитанная до дыр книжка « Жерминаля». Тому, кто не умеет читать сам, ее читают вслух другие, читают и перечитывают. Она вызвала уже четыре забастовки. И их еще будет не один десяток. Поднимается вся страна. «Жерминаль» создаст новое общество, чего не смогла сделать ваша религия. А знаете, что я получаю в награду? – Что же? – Франки. Тысячи и тысячи. Выпьете со мной? Спор за столом Лотрека становился все оживленнее и привлек всеобщее внимание. – Ну, Съра, как поживает твой «новейший метод»? – осведомился, похрустывая пальцами, Лотрек. Съра словно не слышал насмешки. Его аристократически правильное, холодное лицо застыло, как маска, – это было уже как бы не лицо живого мужчины, а олицетворение мужской красоты. – Вышла новая книга о законах отражения цвета, ее написал американец, Огден Руд. Я считаю, что после Гельмгольца и Шеврейля это шаг вперед, хотя книга и не столь ценна, как труд Сюпервилля. Вы можете прочитать ее с пользой для себя. – Я не читаю книг по живописи, – сказал Лотрек. – Пусть их читают любители. Съра расстегнул свою клетчатую черно—белую куртку и расправил большой, синий в горошек, галстук. – Вы и сами любитель, – сказал он, – потому что всякий раз гадаете, какую краску положить на полотно. – Я не гадаю. Я определяю чутьем. – Наука – это метод, Жорж, – вставил Гоген. – Благодаря упорному многолетнему труду и опыту мы вырабатываем научный подход к колориту. – Этого мало, мой друг. Наш век требует объективности. Времена вдохновения, дерзаний и неудач миновали. – Я тоже не могу читать такие книги, – вмешался Руссо. – Они вызывают у меня головную боль. И, чтобы отделаться от этой боли, я должен писать целый день, не выпуская кисти из рук. Все засмеялись. Анкетен повернулся к Золя и спросил: – Вы читали, как нападают на «Жерминаль» в сегодняшней вечерней газете? – Нет, не читал. Что же там сказано? – Критик называет вас самым безнравственным писателем девятнадцатого века. – Это старая песня. Поновее они ничего не придумали? – А ведь они правы, Золя, – заявил Лотрек. – На мой взгляд, ваши книги слишком чувственны, они непристойны. – Да, уж кто—кто, а вы—то разглядите непристойность с первого взгляда! – Не в бровь, а в глаз, Лотрек! – Гарсон! – крикнул Золя. – Всем по бокалу вина! – Ну, мы влипли, – шепнул Сезанн Анкетену. – Когда Эмиль заказывает вино, так и знай, он вам будет читать лекцию не меньше часа! Официант подал вино. Художники раскурили свои трубки и сели тесным дружеским кружком. Свет волнами струился от газовых ламп. Глухой шум голосов за соседними столиками почти не мешал разговору. – Они называют мои книги безнравственными, – говорил Золя, – в силу тех же самых причин, по которым считают безнравственными ваши картины, Анри. Публика не способна понять, что в искусстве нет и не может быть моральных критериев. Искусство аморально, как аморальна и жизнь. Для меня не существует непристойных картин или непристойных книг – есть только картины и книги дурно задуманные и дурно написанные. Шлюха Тулуз—Лотрека вполне нравственна, ибо она являет нам ту красоту, которая кроется под ее отталкивающей внешностью; невинная сельская девушка у Бугро аморальна, ибо она до того слащава и приторна, что достаточно взглянуть на нее, чтобы вас стошнило! – Да, да, это так, – кивнул Тео. Винсент видел, что художники уважают Золя не потому, что он достиг успеха – сам по себе успех в его обычном понимании они презирали, – а потому, что он работает в такой области, которая казалась им таинственной и невероятно трудной. Они внимательно прислушивались к его словам. – Человек с обыкновенным мозгом мыслит дуалистически: свет и мрак, сладкое и горькое, добро и зло. А в природе такого дуализма не существует. В мире нет ни зла, ни добра, а только бытие и деяние. Когда мы описываем действие, мы описываем жизнь; когда мы даем этому действию имя – например, разврат или непристойность, – мы вступаем в область субъективных предубеждений. – Но, послушайте, Эмиль, – возразил Тео. – Разве народ может обойтись без стандартных нравственных мерок? – Мораль похожа на религию, – подхватил Тулуз—Лотрек. – Это такое снадобье, которое ослепляет людей, чтобы они не видели пошлость жизни. – Ваша аморальность, Золя, не что иное, как анархизм, – сказал Съра. – Нигилистический анархизм. Он уже давно испробован, но не дал никаких результатов. – Конечно, мы должны придерживаться определенных правил, – согласился Золя. – Общественное благо требует от личности жертв. Я не возражаю против морали, я протестую лишь против той ханжеской стыдливости, которая обрызгала ядовитой слюной «Олимпию» и которая хочет, чтобы запретили новеллы Мопассана. Уверяю вас, вся мораль в сегодняшней Франции сведена к половой сфере. Пусть люди спят, с кем им нравится! Мораль заключается совсем не в этом. – Это напомнило мне обед, который я давал несколько лет назад, – начал Гоген. – Один из приглашенных говорит мне: «Вы понимаете, дружище, я не могу водить свою жену на ваши обеды, потому что там бывает ваша любовница». – «Ну, что ж, – отвечаю я, – на этот раз я ее куда—нибудь ушлю» . Когда обед кончился и супруги пришли домой, наша высоконравственная дама, зевавшая весь вечер, перестала наконец зевать и говорит мужу: «Давай поболтаем о чем—нибудь неприличном, а потом уж займемся этим делом». А супруг ей отвечает: «Нет, мы только поболтаем об этом, тем дело и кончится. Я сегодня объелся за обедом». – Вот вам и вся мораль! – воскликнул Золя, перекрывая хохот. – Оставим на минуту мораль и вернемся к вопросу о безнравственности в искусстве, – сказал Винсент. – Никто ни разу не называл мои полотна неприличными, но меня неизменно упрекали в еще более безнравственном грехе – безобразии. – Вы попади в самую точку, Винсент, – подхватил Тулуз—Лотрек. – Да, в этом нынешняя публика и видит сущность аморальности, – заметил Гоген. – Вы читали, в чем обвиняет нас «Меркюр де Франс»? В культе безобразия. – То же самое критики говорят и по моему адресу, – сказал Золя. – Одна графиня недавно мне заявляет: «Ах, дорогой Золя, почему вы, человек такого необыкновенного таланта, ворочаете камни, только бы увидеть, какие грязные насекомые копошатся под ними?» Лотрек вынул из кармана старую газетную вырезку. – Послушайте, что написал критик о моих полотнах, выставленных в Салоне независимых. «Тулуз—Лотрека следует упрекнуть в смаковании пошлых забав, грубого веселья и „низких предметов“. Его, по—видимому, не трогает ни красота человеческих лиц, ни изящество форм, ни грация движений. Правда, он поистине вдохновенной кистью выводит напоказ уродливые, неуклюжие и отталкивающие создания, но разве нам нужна такая извращенность?» – Тени Франса Хальса, – пробормотал Винсент. – Что ж, критик не ошибается, – повысил голос Съра. – Если вы, друзья, неповинны в извращенности, то тем не менее вы заблуждаетесь. Искусство должно иметь дело с абстрактными вещами – с цветом, линией, тоном. Оно не может быть средством улучшения социальных условий или какой– то погоней за безобразным. Живопись, подобно музыке, должна отрешиться от повседневной действительности. – В прошлом году умер Виктор Гюго, – сказал Золя, – и с ним умерла целая культура. Культура изящных жестов, романтики, искусной лжи и стыдливых умолчаний. Мои книги прокладывают путь новой культуре, не скованной моралью, – культуре двадцатого века. То же делает ваша живопись. Бугро еще влачит свои мощи по улицам Парижа, но он занемог в тот день, когда Эдуард Мане выставил свой «Завтрак на траве», и был заживо погребен, когда Мане в последний раз прикоснулся кистью к «Олимпии». Да, Мане уже нет в живых, нет и Домье, но еще живы и Дега, и Лотрек, и Гоген, которые продолжают их дело. – Добавьте к этому списку Винсента Ван Гога, – сказал Тулуз—Лотрек. – Поставьте его имя первым! – воскликнул Руссо. – Отлично, Винсент, – улыбнулся Золя. – Вы приобщены к культу безобразия. Согласны ли вы стать его адептом? – Увы, – сказал Винсент, – боюсь, что я приобщен к этому культу с рождения. – Давайте сформулируем наш манифест, господа, – предложил Золя. – Во– первых, мы утверждаем, что все правдивое прекрасно, независимо от того, каким бы отвратительным оно ни казалось. Мы принимаем все, что существует в природе, без всяких исключений. Мы считаем, что в жестокой правде больше красоты, чем в красивой лжи, что в деревенской жизни больше поэзии, чем во всех салонах Парижа. Мы думаем, что страдание, – благо, ибо это самое глубокое из всех человеческих чувств. Мы убеждены, что чувственная любовь – прекрасна, пусть даже ее олицетворяют уличная шлюха и сутенер. Мы считаем, что характер выше безобразия, страдание выше изящности, а суровая неприкрытая действительность выше всех богатств Франции. Мы принимаем жизнь во всей ее полноте, без всяких моральных ограничений. Мы полагаем, что проститутка ничем не хуже графини, привратник – генерала, крестьянин – министра, – ибо все они часть природы, все вплетены в ткань жизни! – Поднимем бокалы, господа! – вскричал Тулуз—Лотрек. – Выпьем за безнравственность и культ безобразия. Пусть этот культ сделает мир более прекрасным, пусть он сотворит его заново! – Какой вздор! – сказал Сезанн. – Вздор и чепуха, – подтвердил Жорж Съра.9
В начале июня Тео и Винсент перебрались на новую квартиру – Монмартр, улица Лепик, 54. Это было совсем близко от улицы Лаваль, стоило только подняться немного по улице Монмартр в сторону бульвара Клиши, а затем пройти по извилистой улице Лепик, минуя Мулен де ла Галетт, к той части холма, которая имела почти деревенский вид. Квартира была на четвертом этаже. Она состояла из трех комнат, кабинета и кухни. В столовой Тео поставил свою мебель в стиле Луи—Филиппа и большую печь для защиты от парижских холодов. У Тео был настоящий талант обставлять квартиры. Он любил, чтобы все было как следует. Спал он рядом со столовой. Винсент спал в кабинете, за которым находилась его мастерская – небольшая комната с одним окном. – Ну, теперь тебе не придется больше работать у Кормона, Винсент, – сказал Тео. Братья расставляли и переставляли мебель в столовой. – Да, теперь уж не придется. Но мне надо будет еще немного порисовать там обнаженную женскую натуру. Тео поставил диван поперек комнаты и окинул ее критическим взглядом. – Ты ведь за последнее время не закончил ни одного полотна? – спросил он Винсента. – Нет. – Почему же? – А что толку? До тех пор, пока я не научился как следует смешивать краски... где ты хочешь поставить это кресло, Тео? Под лампой или у окна? Вот теперь, когда у меня есть своя мастерская... Наутро Винсент встал с солнышком, наладил мольберт, натянул на подрамник холст, приготовил новую дорогую палитру, которую купил ему Тео, вымыл и размял кисти. Когда пришло время будить Тео, он сварил кофе и отправился в кондитерскую купить свежих рассыпчатых рожков. Тео сквозь сон почувствовал, как хлопочет у стола Винсент. – Ну, Винсент, – сказал он, – вот уже три месяца, как ты в школе. Нет, нет, я говорю не о Кормоне, я говорю о школе Парижа! Ты видел здесь все самое значительное в живописи, что только создала Европа за три столетия. И теперь ты готов... Винсент вскочил, отодвинув тарелку. – Тогда я сейчас же... – Садись, садись. Доешь завтрак. У тебя уйма времени. Беспокоиться тебе не о чем. Красок и холстов я накуплю тебе сколько угодно, будешь ими обеспечен. А ты бы тем временем полечил себе зубы, я хочу видеть тебя здоровым. И, ради бога, не торопись, пиши медленно я тщательно! – Не говори глупостей, Тео. Когда это я работая медленно и тщательно? Вернувшись вечером домой, Тео увидел, что Винсент вне себя от ярости. Только подумать – он упорно вырабатывал свое мастерство шесть долгих лет в невыносимо тяжких условиях, а теперь, когда он живет на всем, готовом, он с горьким стыдом чувствует свое бессилие! Лишь часам к десяти Тео удалось успокоить Винсента. Они пошли обедать, и мало—помалу Винсент снова обрел уверенность в себе. Тео выглядел бледным и усталым. Следующие недели были для братьев истинной пыткой. Возвращаясь из галереи, Тео заставал одну и ту же картину: Винсент метал громы и молнии. Крепкий запор уже не мог оградить спальню Тео. Споря с братом, Винсент просиживал у него на кровати до самого утра. Когда Тео в изнеможении засыпал, Винсент тряс его за плечо и будил без всякой жалости. – Перестань ходить по комнате, посиди хоть минуту, – взмолился Тео в одну из таких ночей. – И брось пить этот проклятый абсент. Гоген выработал свой стиль отнюдь не благодаря абсенту. А еще послушай, чертов болван: тебе надо не меньше года, чтобы взглянуть на свои полотна критически. Ну какой толк, если ты свалишься с ног? Ты все худеешь, нервничаешь. Разве не ясно, что в таком состоянии тебе не написать ничего путного? Наступило жаркое парижское лето. Солнце немилосердно накаляло мостовые. Потягивая прохладительные напитки, парижане просиживали в своих излюбленных уличных кафе до часу, а то и до двух ночи. Цветы на Монмартре яростно полыхали всеми красками. Сена серебристо поблескивала, струясь меж извилистых берегов, где росли пышные деревья и зеленели прохладные лужайки. Каждое утро Винсент взваливал свой тяжелый мольберт на спину и отправлялся на поиски мотива. Никогда он не видел в Голландии такого знойного солнца, такого глубокого, чистого цвета. Почти каждый вечер он после работы заглядывал на антресоли галереи Гупиля и присоединялся к горячим спорам, которые здесь закипали. Однажды Гоген зашел к Винсенту, чтобы поучить его смешивать краски. – Где ты их покупаешь? – спросил он Винсента, указывая на тюбики. – Тео купил их где—то оптом. – Ты должен поддерживать папашу Танги. У него самые дешевые краски во всем Париже, а когда художник садится на мель, он отпускает ему товар в кредит. – Кто это – папаша Танги? Я уже не в первый раз слышу от тебя это имя. – Так вы до сих пор еще не знакомы? Господи, да за чем же дело стало? Из всех, кого я знаю, только у тебя и папаши Танги коммунистические начала заложены в самой натуре. Надевай—ка свою великолепную заячью шапку. Мы идем на улицу Клозель. Пока они шли по улице Лепик, Гоген рассказывал Винсенту о папаше Танги: – До того как Танги приехал в Париж, он работал штукатуром. В Париже он сначала растирал краски у Эдуарда, потом нашел место консьержа, где—то на Монмартре. Но работала за него жена, а сам Танги начал торговать вразнос красками. Он познакомился с Писсарро, Моне и Сезанном, и так как те полюбили его, все мы Стали покупать краски у папаши Танги. Во время последнего восстания он примкнул к коммунарам. Однажды, когда он дремал на посту, на него напала банда версальцев. Бедняга не мог заставить себя выстрелить в человека. Он бросил мушкет наземь. Его приговорили к двум годам каторги за измену, сослали в Брест на галеры, но мы его вызволили оттуда. Он скопил немного денег и открыл лавочку на улице Клозель. Лотрек расписал в голубых тонах весь фасад этой лавочки. Папаша Танги первым выставил полотна Сезанна. С тех пор мы все выставляем картины у него. Не потому, что он их продает – вовсе нет! Просто папаша Танги – горячий поклонник искусства, но он беден и не в состоянии покупать картины. Вот он и выставляет их у себя в лавчонке и любуется ими в свое удовольствие целыми днями. – Ты хочешь сказать, что он не согласится продать картину, даже если ему предложат хорошую цену? – Ни за что не согласится. Ведь он берет только те полотна, которые ему нравятся, и так привязывается к ним, что уже не может выпустить их из своих рук. Однажды, когда я сидел у него, в лавочку зашел хорошо одетый мужчина. Он залюбовался Сезанном и спросил, сколько стоит это полотно. Любой другой торговец был бы рад продать картину за шестьдесят франков. Папаша Танги долго глядел на нее и наконец сказал: «Ах это! Это необыкновенно красивый Сезанн. Я не могу его уступить меньше чем за шестьсот франков». Покупатель живо ретировался, а папаша снял картину со стены, поставил ее перед собой и заплакал. – Тогда какой же смысл выставлять у него картины? – Видишь ли, папаша Танги – странный человек. Все его познания в искусстве сводятся к тому, как растирать краски. Но он обладает безошибочным чутьем на настоящую живопись. Если он когда—нибудь попросит твои работы – отдай ему их без колебаний. Это будет для тебя вступлением в храм парижского искусства. А вот и улица Клозель, нам осталось только повернуть за угол. Улица Клозель была короткая, всего в один квартал, и соединяла улицу Мартир с улицей Анри Монье. Здесь было множество лавчонок, над которыми помещались два или три жилых этажа с белыми ставнями на окнах. Миновав женскую начальную школу и перейдя наискось улицу, Гоген и Винсент оказались в лавке папаши Танги. Папаша Танги, склонясь над столом, рассматривал японские гравюры, которые входили тогда в моду в Париже. – Папаша, я привел к тебе моего друга, Винсента Ван Гога. Он по натуре чуть ли не коммунист. – Рад вас видеть у себя, – сказал папаша Танги; голос у него звучал мягко, почти как у женщины. Это был невысокий человек с одутловатым лицом и задумчивыми, ласковыми, как у собаки, глазами. На нем была широкополая соломенная шляпа, которую он нахлобучивал до самых бровей. Руки у него были короткие, ладони широкие, борода жесткая, щетинистая. Правый его глаз был постоянно прищурен и казался от этого вдвое меньше левого. – Вы в самом деле коммунист, господин Ван Гог? – робко спросил он Винсента. – Не знаю, что вы понимаете под коммунизмом, папаша Танги. Я считаю, что каждый должен трудиться столько, сколько позволяют ему силы, и заниматься тем делом, какое ему по сердцу, а взамен этого получать все, в чем он нуждается. – Видите, как просто, – рассмеялся Гоген. – Ах, Поль, – сказал папаша Танги, – ты же служил на бирже. Ведь деньги делают человека зверем, не так ли? – Да, равно как и отсутствие денег. – Нет, не денег, а еды и всего необходимого для жизни. – Именно так, папаша Танги, – подтвердил Винсент. – Наш приятель Поль, – продолжал Танги, – презирает людей, которые зарабатывают деньги, и он же презирает нас, потому что мы не можем их заработать. Но я предпочитаю принадлежать к числу последних. Тот негодяй, кто тратит на себя более пятидесяти сантимов в день. – Ну, раз так, я поневоле могу служить примером добродетели, – сказал Гоген. – Папаша Танги, де отпустишь ли ты мне в кредит еще немного красок? Правда, я и так задолжал тебе кучу денег, но я не смогу работать, если... – Хорошо, Поль, я отпущу тебе красок в кредит. Если бы я доверял людям поменьше, а ты побольше, нам обоим жилось бы куда лучше. Где твоя новая картина, которую ты мне обещал? Может быть мне удастся ее продать и выручить деньги за свои краски. Гоген подмигнул Винсенту. – Я принесу тебе не одну картину, папаша Танги, а целых две, и ты повесишь их рядом. А теперь, если ты дашь мне один тюбик черной и один тюбик желтой... – Заплати сначала по счету, тогда получишь краски! Услышав этот окрик, все обернулись. Из задней комнаты, хлопнув дверью, в лавочку вошла мадам Танги. Это была маленькая жилистая женщина с суровым, худым лицом и злыми глазами. Она ястребом налетела на Гогена. – Уж не думаешь ли ты, что у нас благотворительное заведение? По– твоему, мы должны быть сыты папашиным коммунизмом? Плати по счету, мошенник, а то я пожалуюсь в полицию! Гоген с самой неотразимой улыбкой поцеловал у мадам Танги руку. – Ах, Ксантиппа, вы сегодня просто очаровательны! Мадам Танги не понимала, почему этот по—своему красивый беспардонный наглец всегда величает ее Ксантиппой, но ей нравилось звучное имя, и она чувствовала себя польщенной. – Ты не думай, что вскружишь мне голову, бездельник. Я загубила всю свою жизнь, растирая эти проклятые краски, а тут, представь, является какой—то проходимец и ворует их у меня на глазах! – Бесценная моя Ксантиппа, не будьте столь жестоки! Ведь у вас душа художника. Это написано на вашем обольстительном личике. Мадам Танги поднесла передник к лицу, словно хотела стереть с него все, что могло напомнить о художниках. – Тьфу! – отплюнулась она. – Хватит и одного художника в доме! Наверно, он говорил тебе, что собирается жить на пятьдесят сантимов в день. А где он, по—твоему, возьмет эти пятьдесят сантимов, если я их не заработаю для него? – Весь Париж говорит о вашей доброте и талантах, дорогая Ксантиппа. Гоген снова склонил голову и коснулся губами узловатой, загрубелой руки мадам Танги. На этот раз она оттаяла. – Ладно, хоть ты и мошенник, да еще и льстец, но, так и быть, возьми себе немного красок. Только смотри, чтобы по счету было уплачено! – За такую доброту, моя милая Ксантиппа, я напишу ваш портрет. Когда– нибудь его повесят в Лувре и он увековечит наши имена. В этот миг звякнул колокольчик входной двери. Вошел незнакомый человек. – Я насчет той картины, которая выставлена в окне, – сказал он. – Натюрморт с яблоками. Чья эта картина? – Это картина Поля Сезанна. – Сезанна? Никогда не слыхал о таком художнике. Она продается? – Ах, нет, к сожалению, она уже... Мадам Танги опустила передник, оттолкнула супруга и со всех ног кинулась к покупателю. – Ну, конечно, она продается. Какой чудесный натюрморт, не правда ли, сударь? Вам приходилось видеть когда—нибудь такие дивные яблоки? Мы продадим его совсем недорого, сударь, раз он вам так уж понравился. – Сколько же вы просите? – Сколько мы просим, Танги? – с угрозой в голосе спросила мадам мужа. – Три сот... – поперхнулся папаша Танги. – Танги! – Две сот... – Танги! – Хорошо, сто франков. – Сто франков? – разочарованно протянул покупатель. – Сто франков за полотно неизвестного художника? Боюсь, что это дорого. Я мог бы дать за него франков двадцать пять. Мадам Танги сняла натюрморт с окна. – Поглядите, сударь, это же очень большая картина. Здесь четыре яблока. Четыре яблока стоят сто франков. Вы можете потратить только двадцать пять. Так почему бы вам не купить одно яблоко? Покупатель поглядел на картину и, подумав, сказал: – Что ж, пожалуй. Отрежьте это яблоко во всю длину полотна – я покупаю его. Мадам Танги кинулась к себе в комнату, принесла ножницы и отхватила крайнее яблоко натюрморта. Затем она завернула отрезанный кусок холста в бумагу, отдала его покупателю и получила двадцать пять франков. Покупатель ушел, держа сверток под мышкой. – Мой драгоценный Сезанн! – застонал папаша Танги. – Я выставил его в окне лишь затем, чтобы люди, поглядев на него минутку, шли дальше счастливые! Мадам положила искалеченное полотно на прилавок. – Если в следующий раз кто—нибудь спросит Сезанна, а денег у него будет мало, продай ему одно яблоко. Возьми, сколько тебе удастся. Ему ведь эти яблоки ничего не стоят, он их напишет, если надо, хоть сотню! А ты перестань скалить зубы, Гоген, все это касается и тебя. Я вот сниму со стены твои полотна и буду продавать этих голых язычниц по пяти франков за штуку. – Моя дорогая Ксантиппа, – отвечал ей Гоген, – как жаль, что мы познакомились слишком поздно! А то вы были бы моим партнером на бирже и мы забрали бы в свои руки весь Французский банк! Когда мадам удалилась к себе в комнату, папаша Танги вновь обратился к Винсенту: – Вы ведь художник, господин Ван Гог? Надеюсь, вы будете покупать краски у меня. И, может быть, покажете мне свои картины? – Буду счастлив услужить вам. Ах, какие чудесные японские гравюры! Они продаются? – Продаются. Они вошли в моду в Париже с тех пор, как братья Гонкуры начали их коллекционировать. Они сильно влияют на наших молодых художников, уверяю вас. – Вот эти две мне особенно нравятся. Я хотел бы ими заняться. Сколько вы за них просите? – Три франка за штуку. – Я беру их. Ах, господи, совсем забыл! Я потратил сегодня утром последний франк. Гоген, у тебя нет шести франков? – Не будь смешным, Винсент. Винсент с сожалением положил гравюры на прилавок. – Видно, придется оставить их у вас, папаша Танги. Папаша Танги схватил гравюры, сунул их в руки Винсенту. Он глядел на Винсента и застенчиво, грустно улыбался. Его морщинистое лицо лучилось добротой. – Вам ведь они нужны для работы. Возьмите их, пожалуйста. А расплатитесь в другой раз.10
Тео решил устроить вечеринку и созвать друзей Винсента. Братья сварили четыре дюжины яиц вкрутую, купили бочонок пива и выставили множество подносов с бриошами и печеньем. Табачный дым плавал в воздухе такими густыми клубами, что когда могучий торс Гогена передвигался из одного угла комнаты в другой, казалось, будто океанский корабль рассекает пелену тумана. Лотрек, усевшись в сторонке, колотил яйца о подлокотник любимого кресла Тео и швырял скорлупу на ковер. Руссо никак не мог прийти в себя от того, что получил утром надушенную записку от какой—то поклонницы, которая желала с ним встретиться. Широко раскрывая изумленные глаза, он то и дело принимался говорить об этом необыкновенном событии. Съра развивал свою новую теорию, которую он подробно растолковывал Сезанну, притиснув его к окну. Винсент цедил пиво из бочонка, хохотал над скабрезными анекдотами Гогена, недоумевал вместе с Руссо, кем могла быть его корреспондентка, спорил с Лотреком, как лучше передать цветовое впечатление – пятнами или линиями, – и, наконец, вызволил Сезанна из рук неумолимого Съра. Все в комнате ходило ходуном, гости возбужденно шумели. Это были люди необычайно самобытные, сильные и неистово эгоистичные, все страстные иконоборцы. Тео называл их маньяками. Они любили пылко спорить, бороться, проклинать, ожесточенно отстаивая свои взгляды и предавая анафеме все остальное. Голоса у них были зычные, грубые, – они нападали буквально на все и вся. Если бы гостиная Тео была просторнее в двадцать раз, то и тогда она оказалась бы тесной для буйной энергии этих воинственных и шумных художников. Бурное оживление, царившее в комнате, заразило и Винсента: он размашисто жестикулировал и без умолку говорил. У Тео же от всего этого раскалывалась голова. Шум и неистовство были чужды его натуре. Он души не чаял в этих людях, которые собрались в его квартире. Разве не ради них вел он свою молчаливую, непрерывную борьбу с хозяевами фирмы? Но он чувствовал, что их грубоватые ухватки, их резкость и воинственный пыл ему нестерпимы. В характере Тео было много чисто женского. Тулуз—Лотрек, со свойственным ему едким юмором, сказал однажды: – Как жаль, что Тео приходится Винсенту братом. Он был бы ему прекрасной женой! Торгуя картинами Бугро, Тео испытывал такое же отвращение, какое испытывал бы Винсент, если бы он писал их. Однако если он продавал Бугро, Валадон позволял ему выставлять Дега. Когда—нибудь, возможно, удастся склонить Валадона выставить и работы Сезанна, а потом Гогена или Лотрека и – в конечном счете – Винсента Ван Гога... Тео в последний раз оглядел шумную, полную горячих споров и сизого дыма комнату и незаметно вышел погулять по Монмартру. Он одиноко бродил по улицам, в задумчивости любуясь яркими огнями ночного Парижа. Гоген препирался с Сезанном. Он размахивал яйцом и бриошью, которые сжимал в одной руке, а в другой руке держал стакан пива. Он хвастался тем, что во всем Париже он один способен пить пиво, не вынимая изо рта трубки. – Твои полотна холодны, – кричал он, – холодны, как лед! Я коченею при одном взгляде на них. Ты исписал целые мили холстов и не вложил в них ни крупицы чувства! – Я не пытался изображать какие—то чувства, – отвечал Сезанн. – Это я предоставляю беллетристам. Я пишу яблоки и пейзажи. – Ты не изображаешь чувства, потому что тебе это не под силу. Ты пишешь одними глазами, – вот в чем твоя беда. – Помилуй, а чем же пишут другие? – Да всем, чем только можно! – Гоген быстро оглядел собравшихся. – Лотрек пишет селезенкой. Винсент – сердцем. Съра пишет мозгом, и это почти так же плохо, как и писать одними глазами, Сезанн. А Руссо пишет воображением. – Интересно, Гоген, чем же пишешь ты? – Я? Не знаю. Никогда не задумывался над этим. – А я тебе скажу, чем ты пишешь, – сказал Лотрек. – Ты пишешь своим мужским естеством! Когда хохот над этой остротой Лотрека смолк, Съра уселся на ручку дивана и закричал: – Можете издеваться над человеком, который пишет мозгом, но именно это позволило мне открыть, как можно усилить выразительность наших картин вдвое. – Неужто я должен опять слушать эту чушь? – взмолился Сезанн. – Сезанн, заткни глотку, Гоген, сядь на место и не загромождай собою всю комнату! Руссо, хватит трезвонить о своей несчастной поклоннице. Лотрек, киньте мне яйцо. Винсент, вы не передадите мне бриошь? А теперь слушайте все! – Какая муха тебя укусила сегодня, Съра? Я никогда не видал тебя в таком волнении с тех самых пор, как тот малый плюнул на твою картину в Салопе отверженных! – Ну, слушайте же! Что такое современная живопись? Свет. А какой именно свет? Градуированный свет, Пятнышки красок, сливаясь друг с другом.. – Это не живопись, это пуантилизм! – Ради бога, Жорж, неужели ты хочешь снова мучить нас своими мудреными рассуждениями? – Да замолчите же! Вот вы кончаете очередное полотно. Что вы делаете вслед за этим? Отдаете полотно какому—нибудь болвану, который вставляет его в отвратительную золотую раму и тем уничтожает все ваши старания. А я предлагаю вам не выпускать полотна из своих рук, пока вы не вставили его в раму сами и не покрасили ее так, чтобы она стала неотъемлемой частью картины. – Но ведь это далеко не все, Съра. Каждая картина должна висеть в комнате. И если стены не такого цвета, как надо, они убивают и картину и раму. – Правильно! Но почему же не выкрасить стены так, чтобы они гармонировали с рамой? – Прекрасная мысль! – воскликнул Съра. – А как тогда быть с домом, в котором помещается комната? – И с городом, в котором помещается дом? – Ох, Жорж, Жорж, какие дурацкие мысли приходят тебе в голову! – Вот что получается, когда пишешь мозгом! – А как вам, слабоумным, писать мозгом, если у вас его нет и в помине? – Вы только гляньте на Съра! Видали, как рассвирепел этот ученый! – К чему вам, друзья, все время ссориться? – спросил Винсент. – Почему вы не попробуете работать сообща? – Ты среди нас единственный коммунист, Винсент, – сказал Гоген. – Может быть, ты скажешь, что же мы выиграем, если будем работать сообща? – Ну хорошо, скажу, – ответил Винсент, отправляя в рот яичный желток. – Я все время обдумываю один небольшой проект. Кто мы сейчас такие? Никто, безвестные люди. За нас все сделали Мане, Дега, Сислей. Они уже признаны, их полотна висят в крупнейших галереях. Они стали художниками Больших Бульваров. Ну, а нам надо идти в боковые, в глухие улички. Мы – художники Малых Бульваров. Почему бы нам не выставлять свои полотна в маленьких ресторанах, на скромных улицах, в кафе для рабочих? Каждый из нас выставляет, скажем, пять полотен. Каждый вечер мы будем переносить их в новое место. Мы станем продавать их за те скудные деньги, которые может дать нам рабочий. Таким образом, мы будем постоянно выставлять свои полотна для публичного обозрения и дадим возможность бедному люду Парижа любоваться хорошим искусством и дешево покупать прекрасные картины. – Вот это да! – воскликнул Руссо, в восхищении широко раскрывая глаза. – Это чудесно! – Чтобы написать картину, мне надо ухлопать год, – кисло заметил Съра. – Неужто вы думаете, что я продам ее какому—нибудь дубине плотнику за пять су? – Вы можете выставлять небольшие этюды. – Да, но предположим, что хозяин ресторана не захочет вывесить наши картины? – Как это не захочет? Захочет! – Почему бы и нет? Ему это ничего не будет стоить, а зал украсится картинами. – Но как взяться за это? Кто нам подыщет ресторан? – Все это я уже обдумал, – заявил Винсент. – Мы сделаем распорядителем папашу Танги. Он найдет ресторан, развесит картины и будет вести денежные дела. – Прекрасно. Лучшего человека и не сыщешь. – Руссо, сделай милость, сходи к папаше Танги. Скажи ему, что мы хотим поговорить с ним по важному Делу. – На меня можете не рассчитывать, – сказал Сезанн. – Почему же? – язвительно спросил Гоген. – Боишься, что взоры рабочих осквернят твои бесценные полотна? – Вовсе нет. К концу месяца я уезжаю в Экс. – Ну, попробуем хоть один раз, Сезанн, – уговаривал его Винсент. – Если ничего не получится, вам от этого убытка не будет. – Так и быть, согласен. – Когда нам опостылеют рестораны, – сказал Лотрек, – мы можем выставляться в борделях. Я знаком почти со всеми хозяйками притонов Монмартра. Клиентура там богатая, и, мне кажется, мы заработаем больше. Папаша Танги прибежал запыхавшись, в сильном волнении. Руссо по дороге наспех изложил ему дело и все перепутал. Соломенная шляпа Танги была сдвинута набок, а пухлое маленькое лицо горело воодушевлением. Выслушав план Винсента, он с жаром воскликнул: – Да, да, я знаю подходящее место! Ресторан «Норвэн». Хозяин его мне приятель. Стены там совсем голые, и он будет доволен. А когда надо будет переменить место, я отведу вас в другой ресторан на улице Пьер. О, таких ресторанов в Париже тысячи! – Когда же мы открываем первую выставку клуба Малых Бульваров? – спросил Гоген. – А зачем откладывать! – отозвался Винсент. – Почему бы не открыть ее завтра? Папаша Танги вскочил со стула, снял шляпу, потом опять нахлобучил ее на голову. – Конечно, завтра! Несите мне с утра картины. К вечеру я их развешу в ресторане «Норвэн». А когда люди придут обедать и увидят нашу работу – это будет настоящая сенсация! Мы станем продавать картины, как пасхальные свечи. Что вы мне наливаете? Пиво? Прекрасно. Выпьем, господа, за коммунистический клуб искусств Малых Бульваров! За успех его первой выставки!11
На следующий день около полудня папаша Танги пришел к Винсенту. – Я уже побывал у всех и со всеми договорился, – заявил он. – Мы можем устроить выставку в «Норвэне» при одном условии: если мы будем там обедать. – Ну, что ж, я не возражаю. – Вот и чудесно. Все остальные тоже согласны. Картины начнем развешивать в половине пятого. Можете вы прийти ко мне в лавку к четырем? Там мы все и соберемся. – Хорошо, приду. Когда Винсент подошел к голубой лавчонке на улице Клозель, папаша Танги уже укладывал картины на ручную тележку. Художники сидели в лавке, покуривая трубки и обсуждая японские гравюры. – Ну вот! – крикнул папаша Танги. – Теперь все готово! – Позвольте, папаша, я помогу вам везти тележку, – предложил Винсент. – Что вы, что вы! Ведь я же распорядитель! Он выкатил тележку на мостовую и повез ее вверх по склону. Художники следовали за ним, разбившись на пары. Первыми шли Гоген и Лотрек – они нарочно ходили вместе, зная, какой смешной и нелепый у них вид, когда они рядом. Съра внимательно слушал излияния Руссо: Таможенник был крайне взволнован, получив в тот день второе надушенное письмо. Винсент и Сезанн, который хмурился и ворчал, что все это недостойно и неприлично, замыкали шествие. – Эй, папаша Танги! – крикнул Гоген немного погодя. – Тебе, наверное, тяжело, ведь ты тащишь бессмертные шедевры. Дай—ка, я повезу немного тележку. – Нет, нет, куда тебе! – отшучивался папаша. – Ведь знаменосец нашей революции я! Когда раздастся первый выстрел, я и паду первым. Это было забавное зрелище – несхожие с виду, причудливо одетые мужчины шагали посредине улицы за самой обыкновенной ручной тележкой. Встречные бросали на них насмешливые взгляды, но художники не смущались. Они хохотали и оживленно разговаривали между собой. – Винсент! – крикнул Руссо. – Вы знаете, я получил сегодня письмо. Опять надушенное. От той же дамы! Он поравнялся с Винсентом и, размахивая руками, в десятый раз стал рассказывать свою историю. Когда он наконец умолк и вернулся к Съра, Лотрек сказал Винсенту: – А знаете, что за поклонница у Руссо? – Нет, конечно. Откуда мне знать? Лотрек заржал. – Это Гоген. Он устроил для Руссо любовную интрижку. У бедного малого до сих пор не было ни одной женщины. Гоген месяца два будет бомбардировать его надушенными письмами, а потом назначит свидание. Наденет женское платье и встретится с Руссо на Монмартре в одной из тех комнат, где есть дырки для подглядывания. Мы все пойдем глядеть, как Руссо подступится в первый раз к женщине. Это будет бесподобно! – Гоген, ты изверг! – Не злись, Винсент, – заулыбался Гоген. – По—моему, это отменная шутка! Но вот тележка подкатила к ресторану «Норвэн». Это был более чем скромный дом, зажатый между винной лавкой и складом шорных товаров. Снаружи ресторан был выкрашен в ярко—желтый цвет, а стены внутри оказались бледно—голубыми. В зале стояло десятка два столиков, покрытых скатертями в красную и белую клетку. У задней стены, рядом с кухонной дверью, помещалась высокая конторка для хозяина. Битый час художники спорили, где какую картину повесить. Папаша Танги от хлопот едва не лишился рассудка. Хозяин ворчал и сердился, так как приближался час обеда, а в ресторане царил беспорядок. Съра отказывался вывешивать свои полотна вообще, так как голубые стены будто бы съедали на его картинах небо. Сезанн не разрешал повесить свои натюрморты рядом с «жалкими афишами» Лотрека, а Руссо разобиделся, узнав, что его вещи будут висеть на задней стене, у кухни. Лотрек настаивал, чтобы одну из его больших картин отнесли в уборную. – Нигде человек не предается столь глубокому созерцанию, как там, – утверждал он. В отчаянии папаша Танги обратился к Винсенту: – Возьмите, пожалуйста, эти два франка, добавьте к ним, что можете, и уведите их всех в погребок через улицу. Если меня оставят одного хоть на пятнадцать минут, я все сделаю. Хитрость удалась. Когда художники вернулись в ресторан, выставка была готова. Они перестали спорить и уселись за большой стол возле двери. Папаша Танги расклеил по стенам объявления: «Эти полотна продаются по дешевым ценам, обращаться к хозяину». Было уже пять тридцать. Обед подавался только в шесть. Художники ерзали на своих местах, как школьники. Всякий раз, как открывалась дверь, они нетерпеливо поворачивали головы. Посетители «Норвэна» приходили ровно к шести, ни на минуту раньше. – Взгляни на Винсента, – шепнул Гоген Съра. – Он волнуется, как примадонна. – Знаешь, Поль, – сказал Лотрек Гогену, – я готов поспорить с тобой на сегодняшний обед, что продам свою картину раньше, чем ты. – Что ж, спорим! – А что касается тебя, Сезанн, – продолжал Лотрек, – то я готов ставить три против одного! Сезанн побагровел от обиды, а все остальные засмеялись. – Помните, – говорил Винсент, – все переговоры о продаже ведет папаша Танги. Никто из нас не должен торговаться с покупателями. – Что же они не приходят? – тоскливо спросил Руссо. – Ведь уж давно пора. Стрелка на стенных часах подползала к шести. Художники нервничали все больше. Всякие шутки смолкли. Все не сводили глаз с двери, томясь тягостным ожиданием. – У меня не было такого гнетущего чувства даже на выставке Независимых, перед всеми критиками Парижа, – шепотом признался Съра. – Смотрите, смотрите, – сказал Руссо. – Вон там, на улице, человек. Он идет сюда, в ресторан. Человек прошел мимо и скрылся из виду. Часы на стене пробили шесть. С последним их ударом дверь открылась и вошел рабочий. Это был бедно одетый человек. Его поникшие плечи и сутулая спина красноречиво говорили об усталости. – Ну вот, – сказал Винсент, – теперь посмотрим. Рабочий тяжелой походкой подошел к столу в другом конце комнаты, швырнул свою кепку на вешалку и сел. Шестеро художников, подавшись вперед, пристально глядели на него. Рабочий внимательно прочел меню, заказал дежурное блюдо и через минуту уже хлебал большой ложкой суп. Он ни разу не поднял глаз, ни разу не оторвался от тарелки. – Вот тебе и на! – сказал Винсент. – Это забавно. Вошли двое жестянщиков. Хозяин поздоровался с ними, они что—то буркнули в ответ, сели за первый попавшийся столик и начали—злобно ругаться по поводу каких—то своих дел. Мало—помалу ресторан наполнялся. Пришли еще какие—то мужчины и женщины. Каждый, как видно, занимал свое привычное место, свой столик. Все первым делом смотрели меню, а когда блюда были поданы, никто уже не отрывался от них ни на секунду. Покончив с едой, посетители закуривали трубки, болтали, разворачивали вечерние газеты и читали. – Господа, прикажете подать обед? – осведомился, у художников официант, когда время приближалось к семи. Ему никто не ответил. Официант удалился. В ресторан вошли мужчина и женщина. Вешая шляпу, мужчина заметил на картине Руссо тигра, высунувшего морду из тропических зарослей. Мужчина указал на него своей спутнице. Художники затаили дыхание. Руссо привстал. Женщина что—то тихо сказала, потом расхохоталась. Они сели за стол и, касаясь друг друга головами, стали усердно изучать меню. В четверть восьмого официант, уже не спрашивая позволения, подал художникам суп. К нему никто не прикоснулся. Когда суп остыл, официант молча унес тарелки. Затем он подал второе. Лотрек принялся что—то рисовать вилкой в соусе. Ел один Руссо. Все, не исключая и Съра, выпили по графинчику кисловатого красного вина. В ресторане стоял запах еды и пота людей, целый день проработавших на солнце. Посетители один за другим платили по счету, небрежно бросали хозяину: «Всего доброго», – и уходили. – Прошу извинения, господа, но уже половина девятого, – сказал официант. – Ресторан закрывается. Папаша Танги снял со стен картины, вынес их на улицу и в медленно сгущавшихся сумерках покатил свою тележку домой.12
Дух старого Гупиля и дяди Винсента Ван Гога исчез из художественных галерей навсегда. Теперь там торговали картинами так, словно это были совсем не картины, а какой—нибудь другой товар, вроде туфель или селедок. Тео весь измучился: хозяева изводили его непрестанными требованиями повысить доходы и сбывать с рук скверные полотна. – Слушай, Тео, – говорил Винсент, – почему ты не уходишь от Гупиля? – Другие торговцы картинами ничуть не лучше, – устало отмахивался Тео. – И потом, я так давно служу в этой фирме. Нет никакого смысла уходить... – Ты должен уйти. Я требую, чтобы ты ушел. Тебе с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Не беспокойся за меня! Я как—нибудь перебьюсь. Ты здесь самый известный и самый уважаемый из всех молодых торговцев картинами, Тео. Почему бы тебе не открыть свою галерею? – Боже мой, опять та же песня. Неужели мы мало об этом говорили? – Послушай, Тео, у меня есть замечательная мысль. Мы откроем галерею на началах коммуны. Мы будем отдавать тебе все наши полотна, а деньги, которые ты выручишь за них, станем делить поровну. Все вместе мы сумеем наскрести достаточную сумму, чтобы открыть небольшую галерею в Париже и снять дом где—нибудь в деревне – там мы все будем жить и работать. Недавно у Портье купили картину Лотрека, а папаша Танги продал уже несколько вещей Сезанна. Я уверен, что мы обратим на себя внимание молодых парижан, которые покупают картины. И нам не понадобится много денег на содержание дома в деревне. Мы будем жить сообща, вместо того чтобы оплачивать десяток квартир в Париже. – У меня ужасно болит голова, Винсент. Я пойду лягу. – Ничего, выспишься в воскресенье. Послушай, Тео... да куда же ты? Ну, хорошо, раздевайся, если хочешь, но мне необходимо поговорить с тобой. Ладно, я присяду вот тут, у кровати. Так вот, если тебе тяжело у Гупиля, а все молодые парижские художники согласятся и мы соберем ту небольшую сумму. .. На следующий вечер Винсент привел к себе папашу Танги и Лотрека, хотя Тео надеялся, что Винсента не будет дома. Маленькие глазки Танги так у бегали от волнения. – Господин Ван Гог, господин Ван Гог, это блестящая мысль! Вы непременно должны согласиться. Я брошу свою лавочку и поеду с вами в деревню. Я буду тереть краски, натягивать холсты, сколачивать подрамники. Мне нужен лишь кусок хлеба и крыша над головой. Тео со вздохом отложил книгу. – А где вы возьмете денег, чтобы начать такое дело? Деньги, чтобы открыть галерею, деньги, чтобы снять дом в деревне, деньги, чтобы кормиться художникам? – Да вот они, деньги, я их принес! – воскликнул папаша Танги. – Двести двадцать франков. Все, что я скопил. Возьмите их, господин Ван Гог! Для начала это сгодится. – Лотрек, ты человек рассудительный. Что ты скажешь обо всей этой дурацкой затее? – Я думаю, что это чертовски хорошая затея. Ведь сейчас нам приходится бороться не только со всем Парижем, но и друг с другом. А если бы мы смогли выступить единым фронтом... – Прекрасно. Вот ты богатый человек, – ты поможешь нам деньгами? – Ну, нет! Если колония будет жить на вспомоществование, она утратит всякий смысл. Я внесу двести двадцать франков, ровно столько, сколько и папаша Танги. – Какое безумие! Если бы вы хоть чуточку понимали, что такое торговля... Папаша Танги бросился к Тео и схватил его за руку. – Дорогой господин Ван Гог, не говорите, что это безумие, умоляю вас. Это великолепная идея! Вы должны, вы непременно должны... – Теперь уже поздно идти на попятный, Тео, – сказал Винсент. – Мы все решили за тебя. Мы вот только соберем немного денег и сразу назначим тебя управляющим. Ты должен будешь распрощаться с Гупилем. Ты покончишь со своими хозяевами навсегда. Теперь ты управляешь коммуной художников. Тео провел рукой по глазам. – Это все равно что управлять стаей диких зверей! На следующий день, придя с работы, Тео увидел, что его квартира битком набита взволнованными, разгоряченными художниками. В воздухе столбом стоял синий дым, звучали громкие, тревожные голоса. Посредине комнаты на хрупком изящном столике восседал Винсент, главный церемониймейстер. – Нет, нет! – кричал он. – Никакой платы. Никаких денег! Мы на целые годы вообще забудем, что такое деньги. Тео станет продавать наши картины, а мы – получать пропитание, жилье и материалы для работы. – А как насчет тех художников, чьи картины никто не купит? – спросил Съра. – До каких пор мы будем содержать их? – До тех пор, пока они пожелают оставаться у нас и работать. – Что ж, превосходно, – проворчал Гоген. – К нам хлынут ничтожные мазилки со всей Европы! – А вот и господин Ван Гог, – объявил папаша Танги, увидев, как Тео тихонько вошел и прислонился к двери. – Крикнем «ура» в честь нашего управляющего! – Ура Тео! Ура Тео! Ура Тео! – в один голос закричали художники. Все были взбудоражены до крайности. Руссо непременно хотел узнать, сможет ли он давать в колонии уроки игры на скрипке. Анкетен говорил, что он задолжал за три месяца хозяйке квартиры и что лучше бы подыскать дом в деревне не мешкая. Сезанн утверждал, что член коммуны имеет право тратить свои деньги, если они у него есть. – Нет, это разрушит нашу коммуну! – возражал Винсент. – Мы должны делить все поровну! Лотрек любопытствовал, можно ли будет жить в колонии с женщинами. Гоген твердил, что необходимо обязать всех членов коммуны писать хотя бы по две картины в месяц. – Тогда я не пойду в колонию! – кричал Съра. – Я пишу одну большую картину в год! – А как быть с материалами? – спрашивал папаша Танги. – Давать ли мне одинаковое количество красок и холста на неделю каждому художнику? – Что вы, что вы, конечно, нет! – воскликнул Винсент. – Все мы будем брать столько материалов, сколько потребуется, не меньше и не больше. Точно так, как хлеб, как пищу. – Да, а куда мы станем девать денежные излишки? Потом, когда начнем продавать картины? Кто будет получать прибыль? – Никто не будет получать прибыли, – отрезал Винсент. – Как только у нас скопится немного денег, мы снимем второй дом в Бретани. А потом еще один – в Провансе. И скоро у нас появятся дома по всей стране, мы станем переезжать с одного места на другое. – Ну, а как относительно дорожных расходов? Мы будем ездить за счет прибылей? – И много ли мы сможем ездить? Кто будет решать это? – А вдруг на лучший сезон в один дом съедется слишком много художников? Кому тогда убираться оттуда и ехать на север, скажите мне? – Тео, Тео, ты – управляющий. Разъясни нам все по порядку. Все ли могут вступить в коммуну? Или же число членов будет ограничено? Должны ли мы писать по какой—нибудь единой системе? Будут ли у нас в доме натурщики? Разошлись художники только на рассвете. Жильцы нижнего этажа выбились из сил, стуча метлой в потолок. Тео лег спать около четырех, но Винсент, папаша Танги и несколько наиболее горячих энтузиастов обступили постель Тео и убеждали его заявить Гупилю об уходе с первого числа следующего месяца. Возбуждение росло с каждой неделей. Парижские художники разделились на два лагеря. Те, кто уже завоевал себе положение, называли братьев Ван Гогов помешанными. У всех остальных только и разговоров было что о новом эксперименте. Винсент хлопотал дни и ночи, не зная усталости. Надо было сделать тысячу разных дел, решить, где раздобыть денег, где поместить галерею, каким образом устанавливать цены на картины, кого принимать в колонию, кого назначить управляющим дома в деревне и какие ему дать права. В эту бурную деятельность, почти против его воли, был втянут и Тео. Каждый вечер квартира на улице Лепик была полна народу. Газетные репортеры сбегались сюда в погоне за новостями. Искусствоведы и критики приходили поговорить о новом движении среди художников. Живописцы, уехавшие из Парижа, спешно возвращались, чтобы примкнуть к новому объединению. Если Тео был королем, то Винсент был его первым министром. Он разрабатывал бесконечные проекты, конституции, бюджеты, сметы, кодексы, правила, готовил манифесты и статьи для печати, которые должны были познакомить европейскую публику с целями коммуны художников. Он был так занят, что совсем забыл о своих полотнах. В кассу коммуны поступило уже около трех тысяч франков. Художники тащили в нее все, что им удавалось выкроить. На бульваре Клиши была устроена ярмарка, где сами художники торговали своими полотнами. Со всей Европы приходили письма, в которые порой были вложены грязные и мятые бумажные франки. На квартиру Ван Гогов являлось множество любителей искусства, – заразившись общим настроением, они бросали перед уходом несколько франков в стоявший тут же ящик—копилку. Винсент был секретарем и казначеем. Тео был убежден, что дело можно начать, собрав не менее пяти тысяч франков. Он приискал небольшой магазин на улице Тронше, которую считал вполне подходящим местом, а Винсент нашел превосходную старую усадьбу в лесах Сен—Жермен—ан—Лэ: ее можно было снять почти за бесценок. Полотна художников, которые хотели присоединиться к коммуне, поступали на улицу Лепик непрерывно, и скоро в маленьких комнатах Ван Гогов стало негде повернуться. Посетители валили валом, сотня за сотней. Они шумели, спорили, ругались, ели, пили и отчаянно размахивали руками. Тео был предупрежден, что если так будет продолжаться, ему предложат съехать с квартиры. К концу месяца от мебели в стиле Луи—Филиппа остались жалкие обломки. О совершенствовании своей палитры Винсент теперь и не думал – не хватало времени. Его ждали письма, которые надо было написать, люди, с которыми надо было побеседовать, дома, которые надо было осмотреть, новые художники и любители, которых надо было воспламенить и увлечь своим планом. От непрерывных разговоров он даже охрип. Глаза у него горели лихорадочным блеском. Он ел когда придется и с трудом урывал несколько часов для сна. Он постоянно спешил, спешил, спешил. К весне пять тысяч франков были собраны. Тео уведомил своих хозяев, что со следующего месяца он уходит. Он решил снять магазин на улице Тронше. Винсент внес небольшой задаток за поместье в Сен—Жермен. Список художников, которые должны были поселиться в колонии с самого начала, был составлен Тео, Винсентом, папашей Танги, Гогеном и Лотреком. Из кучи полотен, загромождавших квартиру, Тео отобрал картины для своей первой выставки. Руссо и Анкетен жестоко поссорились из—за того, кто из них будет расписывать магазин Тео внутри и кто снаружи. Тео уже не сердился, когда ему не давали спать по ночам. Он стал теперь таким же энтузиастом коммуны, каким был при ее зарождении Винсент. Он лихорадочно работал, делая все, чтобы к лету колония открылась. Он без конца спорил с Винсентом, где подыскивать для коммуны второй деревенский дом – на побережье Атлантики или у Средиземного моря. Как—то раз, около четырех утра, Винсент, совершенно изнемогавший от усталости, лег спать. Тео ушел на службу, не потревожив его. Винсент проспал до полудня и встал освеженный. Он зашел в свою мастерскую. Полотно, стоявшее на мольберте, было начато уже много недель назад. Краски на палитре засохли, потрескались и покрылись пылью. По углам валялись тубы и затвердевшие от несмытой краски кисти. Внутренний голос шептал ему с мягким упреком: «Подожди—ка минуту, Винсент. Кто же ты такой? Художник или организатор коммуны?» Все чужие картины, загромождавшие мастерскую, Винсент решил перенести в комнату Тео и свалил их там на кровать. В мастерской остались лишь его собственные полотна. Он ставил их на мольберт одно за другим и, кусая ногти, внимательно разглядывал. Да, он продвинулся вперед. Мало—помалу его палитра становилась светлее, приобретая чистоту и яркость. Уже не было прежней подражательности. Уже не найти следов влияния того или иного из его друзей. В первый раз он почувствовал, что у него вырабатывается своя, индивидуальная техника. Она не похожа ни на один из тех образцов, которые он видел в своей жизни. Он и сам не знал, как ему удалось добиться этого. Он словно пропустил импрессионистов сквозь призму своей индивидуальности и уже почти нашел собственные, оригинальные средства выражения. А потом наступила какая—то заминка. Винсент поставил на мольберт свои работы, исполненные совсем недавно. И тут он чуть не вскрикнул от изумления. Он почти, почти уловил нечто настоящее! Полотна не оставляли сомнений в том, что у него начал складываться собственный метод, что оружие, которое он закалял в течение долгой зимы, уже было пущено в дело. Перерыв в работе, который длился много недель, позволил ему взглянуть на свою живопись как бы со стороны. Винсент увидел, что он развивает импрессионистическую манеру на свой собственный лад. Он внимательно поглядел на себя в зеркало. Бороду надо было подрезать, волосы подстричь, рубашка была грязная, брюки мятые, словно изжеванные. Он нагрел утюг и выгладил свой костюм, надел одну из рубашек Тео, взял из ящика пятифранковую бумажку и пошел к парикмахеру. Приведя себя в порядок, он медленно, в глубокой задумчивости направился по бульвару Монмартр, в галерею Гупиля. – Тео, – сказал он, – ты не можешь выйти на минутку? – Что случилось? – Надень, пожалуйста, шляпу. Есть тут поблизости кафе, где нам никто не помешает? Когда они уселись в укромном уголке, Тео сказал: – Ты знаешь, Винсент, ведь мы говорим с тобой наедине впервые за целый месяц. – Знаю, Тео. Боюсь, что все это время я был последним глупцом. – Как так? – Скажи мне прямо, Тео, кто я: художник или организатор коммуны? – К чему это ты клонишь? – Я был так занят делами коммуны, что у меня не было времени писать. С того дня, как мы начали устраивать этот дом в деревне, я уже не мог выкроить ни минуты на живопись. – Понимаю. – Тео, я хочу писать! Не для того я затратил эти семь лет труда, чтобы стать домоправителем у других художников. Я изголодался по живописи, Тео, так изголодался, что готов сбежать из Парижа с первым поездом. – Но, Винсент, после того, как мы уже... – Говорю тебе, я свалял дурака. Могу я признаться тебе откровенно? – Да, конечно. – Меня тошнит от одного вида этих художников. Я устал от их разговоров, от их теорий, от их бесконечных распрей. Ах, не смейся, Тео, я знаю, что и сам повинен в этих сварах. В этом—то все и дело. Помнишь, что говорил Мауве? «Человек может или заниматься живописью, или рассуждать о ней, но одновременно делать то и другое он не может». Неужели ты семь лет кормил меня для того, чтобы слушать, как я разглагольствую о всяких идеях? – Ты многое сделал для колонии, Винсент. – Да, а теперь, когда настало время ехать в колонию, я понял, что не хочу этого. Если я буду жить там, то наверняка даже не возьму кисть в руки. Не знаю, понимаешь ли ты меня, Тео... думаю, что понимаешь. Когда я жил в Брабанте и в Гааге, совсем один, я чувствовал, что я кое—что значу. Я в одиночку боролся с целым миром. Я был художником, единственным художником на всей земле. Все, что я писал, имело цену. Я знал, что у меня есть талант и что в конце концов люди скажут: «Это прекрасный живописец». – А теперь? – Увы, теперь я лишь один из многих. Вокруг сотни художников. Куда ни глянь, я вижу карикатуры на самого себя. Вспомни эти жалкие полотна в наших комнатах, которые прислали желающие вступить в коммуну. Ведь они тоже думали, что станут великими живописцами. Что ж, может быть, я такой же, как они. Почем я знаю? Как мне теперь поддержать в себе мужество? До приезда в Париж я и не знал, что есть на свете такие безнадежные дураки, которые тешат себя иллюзиями всю жизнь. Теперь я знаю. И это ранит мне душу. – Но при чем же здесь ты? – Может быть, и ни при чем. Но мне уже не избавиться от этого червя сомнения. Когда я жил один, в глуши, я забывал, что каждый день люди пишут тысячи полотен. Я воображал, что мое полотно – единственное, что оно рождается как чудесный подарок миру. Я бы не оставил свою работу, если бы даже был уверен, что мои полотна ужасны... ну, а эти... эти иллюзии художника... они помогают. Ты меня понимаешь? – Да. – Кроме того, я не городской художник. Я здесь чужой. Я крестьянский художник. Я хочу вернуться в свои поля. Хочу выйти на жаркое солнце, которое выжгло бы из меня все, кроме желания писать! – Значит, ты хочешь... уехать из Парижа? – Да. Это необходимо. – А как же с колонией? – Я выхожу из нее. Но ты должен продолжать дело. Тео покачал головой. – Нет, без тебя я все брошу. – Почему же? – Не знаю. Я делал это ради тебя... потому что ты хотел этого. Несколько минут они молчали. – Ты еще не совсем покончил со службой, Тео? – Нет. Я собирался уйти с первого числа. – Я думаю, мы сможем возвратить деньги тем, кто их внес? – Конечно... Когда ты думаешь уехать? – Не раньше, чем моя палитра станет светлой. – Понимаю. – А потом я уеду. На юг, вероятно. Впрочем, не знаю. Надо уехать туда, где я буду один. И писать, писать, писать. В полном одиночестве! С грубоватой нежностью он обнял брата за плечи. – Тео, скажи, что ты меня не презираешь. Бросить все на полпути, когда я уже втянул тебя в это дело... – Презирать тебя? Тео улыбнулся с бесконечной грустью. Он ласково потрепал Винсента по руке, лежавшей у него на плече. – Нет... нет, конечно, нет. Я все понимаю. Пожалуй, ты прав. Что ж, старина... допивай—ка свой стакан. Мне пора в галерею.13
Винсент работал еще месяц, и хотя его палитра стала такой же светлой и чистой, как и палитра его друзей, он все же не выработал той манеры выражения, которая бы его удовлетворяла. Сначала он думал, что все дело в грубости его рисунка, и старался работать медленно, с холодной рассудительностью. Писать до тонкости рассчитанными, боязливыми мазками казалось ему пыткой, а смотреть на результаты своих стараний было еще тяжелей. Он пытался скрыть мазок, делая поверхность гладкой, пытался класть краски тонким слоем, а не теми щедрыми струящимися наплывами, к каким он привык. Все было бесполезно. Вновь и вновь он чувствовал, что должен найти манеру, которая была бы не только совершенно самобытна, но и позволила ему выразить то, что он хотел. Но он никак не мог нащупать эту манеру. – Вот, кажется, я попал почти в точку, – бормотал он себе под нос однажды вечером в мастерской. – Почти, но не в самую! Если бы только я мог понять, что мне мешает... – А я, кажется, понимаю, – сказал Тео, взяв полотно из рук Винсента. – Понимаешь? Тогда скажи, что же? – Париж. – Париж? – Да, Париж. Он был для тебя школой. До тех пор, пока ты остаешься здесь, ты не болеекак ученик. Помнишь нашу школу в Голландии? Мы узнавали там, как люди делают вещи и как нужно их делать, но никогда ничего не сделали своими руками. – Ты хочешь сказать, что здесь я не нахожу темы, в которой у меня лежало бы сердце? – Нет, я хочу сказать, что ты здесь не можешь полностью освободиться от влияния своих учителей. Мне будет очень одиноко без тебя, Винсент, но я понимаю, что тебе надо уехать. Где—то на свете должно быть такое место, где ты станешь самим собой. Не знаю, где оно, придется тебе искать его самому. Но тебе надо оставить школу – только тогда ты обретешь зрелость. – А знаешь, старина, о какой стране я все время думаю в последнее время? – Нет, не знаю. – Об Африке. – Об Африке? Неужели? – Да, всю эту чертовски долгую и холодную зиму я мечтал о сверкающем солнце. Под солнцем нашел свой колорит Делакруа, под солнцем, может быть, найду себя и я. – До Африки, Винсент, так далеко, – раздумчиво произнес Тео. – Я хочу солнца, Тео. Солнца – во всем его свирепом зное и могуществе. Я чувствовал, как солнце, словно колоссальный магнит, всю зиму тянуло меня на юг. Пока я жил в Голландии, я и не знал, что на свете существует солнце. Теперь я знаю, что без солнца нет живописи. Быть может, чтобы обрести зрелость, мне нужно лишь горячее солнце. Парижская зима проморозила меня до мозга костей, мне даже кажется, что эта стужа дохнула на мои кисти и краски, сковала их. Я не из тех людей, Тео, которые останавливаются на полдороге: уж если я попаду на африканское солнце, оно выжжет из меня весь холод, оживит своим огнем мою палитру... – Гм—м, – промычал Тео, – надо это обдумать. Возможно, ты и прав. Поль Сезанн пригласил всех друзей на прощальную вечеринку. Он договорился через своего отца о покупке участка земли на горе близ Экса и готовился к отъезду в родные места строить мастерскую. – Уезжай из Парижа, Винсент, – говорил он, – и перебирайся в Прованс. Не в Экс, конечно, – это мое владение, а куда—нибудь поблизости. Во всем мире нет солнца жарче и чище, чем солнце Прованса. Ты найдешь там такие светлые и прозрачные краски, какие тебе и не снились. Я буду жить там до конца своих дней. – Я тоже скоро уеду из Парижа, – сказал Гоген. – Вернусь в тропики. Если ты думаешь, Сезанн, что в Провансе настоящее солнце, то непременно побывай на Маркизских островах. Свет и краски там столь же примитивны, как и люди. – Вам, друзья, надо бы стать солнцепоклонниками, – проговорил Съра. – Что касается меня, – объявил Винсент, – то я, пожалуй, поеду в Африку. – Что ж, недурно, – язвительно заметил Лотрек, – у нас будет новый маленький Делакруа. – Так ты в самом деле едешь, Винсент? – спросил Гоген. – Да. Конечно, не сразу в Африку. Должно быть, мне придется остановиться где—нибудь в Провансе и немного привыкнуть к солнцу. – В Марселе тебе останавливаться нельзя, – сказал Съра. – Этот город принадлежит Монтичелли. – Я не могу ехать в Экс, – сказал Винсент, – потому что он принадлежит Сезанну, Моне завладел Антибами, а Марсель навеки посвящен Фада. Кто посоветует – куда же мне отправиться? – Послушай! – воскликнул Лотрек. – Я тебе укажу самое подходящее место. Ты никогда не думал об Арле? – Арль? Это, кажется, еще древнеримское поселение? – Да, да. На Роне, часах в двух езды от Марселя. Я был там однажды. Колорит в этих местах такой, что африканские пейзажи Делакруа перед ним бледнеют. – В самом деле? И там жаркое солнце? – Солнце? Такое жаркое, что можно сойти с ума. А поглядел бы ты на арлезианок – это самые прекрасные женщины в мире. Они еще сохраняют чистые, тонкие черты своих греческих предков, и вместе с тем в них есть что—то крепкое, кряжистое, унаследованное от римских завоевателей. Но самое любопытное – в них чувствуется Восток: я думаю, это результат сарацинских набегов восьмого века. Ты знаешь, Винсент, однажды там нашли в земле настоящую Венеру. И, вообрази, она была чисто арлезианского типа! – В таком случае арлезианки должны быть обворожительны. – Можешь не сомневаться. А вот подожди, как подует мистраль!.. – Что это такое – мистраль? – спросил Винсент. – Поживешь, увидишь, – ответил Лотрек, криво усмехнувшись. – А как там жизнь? Дешевая? – Да там и деньги не на что тратить, разве только на еду и квартиру, а это стоит недорого. Если ты рвешься уехать из Парижа, то почему бы тебе не побывать в Арле? – В Арле, – пробормотал Винсент. – Арль и арлезианки. Вот бы написать такую женщину! Париж вконец измотал Винсента. Он выпил здесь слишком много абсента, выкурил слишком много табаку, слишком много хлопотал и волновался. Он был сыт Парижем по горло. Он испытывал жгучее желание ухать и жить в одиночестве, в тишине, отдавая все душевные силы живописи. Его таланту, чтобы расцвести во всю мощь, не хватало лишь жаркого солнца. Он чувствовал, что высший его взлет, высшее напряжение творческих сил, все то, к чему он стремился все восемь долгих лет, уже близко. То, что он до сих пор создал, не имело для него ценности; может быть, впереди еще один небольшой перевал, и он сумеет написать те несколько картин, благодаря которым его жизнь будет прожита не напрасно. Как это сказал Монтичелли? «Мы должны трудиться, не щадя сил десять лет для того, чтобы в конце концов написать два или три настоящих портрета» В Париже ему была обеспечена безбедная жизнь, дружеское участие, любовь. Здесь у него всегда был кров над головой. Брат не допустил бы, чтобы он остался без куска хлеба, не стал бы ждать, чтобы он дважды попросил денег на холсты и краски, не отказал бы ему ни в чем, что было в его силах, не говоря уже о любви и сочувствии. Винсент знал, что как только он уедет из Парижа, его начнут одолевать заботы. Он не умел разумно расходовать те деньги, которые давал ему Тео. Половину месяца он будет ходить голодный. Он будет вынужден целые дни просиживать в заплеванных кафе, терзаясь, что не может купить красок, и чувствуя, как слова застревают у него в горле, потому что рядом нет друга, с которым можно бы отвести душу. – Тебе понравится Арль, – говорил Винсенту Тулуз—Лотрек на следующий день. – Там тихо, никто не будет тебе мешать. Там жарко, но воздух сухой, краски великолепные, – это единственное место в Европе, где ты найдешь японскую ясность и чистоту колорита. Для живописца там сущий рай. Если бы я не был так привязав к Парижу, я бы сам поехал туда. В тот вечер Тео и Винсент пошли на концерт слушать музыку Вагнера. Домой они вернулись рано и целый час тихо проговорили о своем детстве в Зюндерте. Утром Винсент приготовил для Тео кофе, а когда брат ушел на службу, стал прибирать квартиру и навел в ней такой блеск, какого здесь не бывало с того самого дня, как они сюда въехали. Он повесил на стену свой натюрморт с розовыми креветками, портрет папаши Танги в круглой соломенной шляпе, пейзаж с Мулен де ла Галетт, обнаженную женщину, написанную со спины, и панораму Елисейских полей. Когда вечером Тео возвратился домой, он нашел на столе записку. "Дорогой Тео! Я уехал в Арль; напишу тебе, как только туда доберусь. Я повесил на стену несколько своих полотен, чтобы ты не забывал меня. Мысленно жму руку. Винсент".ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. АРЛЬ
1
Арлезианское солнце ударило Винсенту в глаза и настежь распахнуло его душу. Это был клубящийся, зыбучий шар лимонно—желтого огня, который стремительно катился по ярко—голубому небу и заливал все вокруг ослепительным светом. Нестерпимый зной и необыкновенная прозрачность воздуха делали мир новым и непривычным. Винсент вышел из вагона третьего класса рано утром и по извилистой дороге направился с вокзала к площади Ламартина, по одну сторону которой тянулась набережная Роны, а по другую – убогие гостиницы и кафе. Арль лежал впереди, словно вмазанный в склон холма лопаткой каменщика, и дремал в лучах жаркого южного солнца. О том, где ему поселиться, Винсент не особенно заботился. Он вошел в первую же гостиницу, которая попалась ему на площади – «Отель де ла Гар», – и занял там комнату. В номере стояла чудовищная медная кровать, треснутый кувшин с тазом, плохонький стул. Хозяин втащил туда еще некрашеный деревянный стол. Поставить мольберт здесь было негде, но Винсент собирался работать целыми днями на воздухе. Он швырнул свой чемодан на кровать и пошел осматривать город. С площади Ламартина к центру Арля было два пути. Слева, огибая город по окраине, шла проезжая дорога – пологими извивами поднималась она мимо древнего римского форума и амфитеатра на вершину горы. Винсент выбрал более короткий путь, через лабиринт мощенных булыжником узеньких уличек. После долгого подъема он выбрался наконец на залитую знойным солнцем площадь Мэрии. По пути ему попадались дышащие прохладой каменные дворики – они словно ничуть не изменились с далеких римских времен. Чтобы в переулки не проникало палящее солнце, они были узкие, и Винсент, раскинув руки, мог коснуться стен домов по обе стороны мостовой. А для защиты от жестокого мистраля улицы были проложены по склону холма самым замысловатым образом: через каждые десять шагов они сворачивали в сторону, нередко образуя острые углы. Всюду валялись кучи мусора, около домов копошились грязные ребятишки, все вокруг выглядело мрачно и уныло. Винсент пересек площадь Мэрии, коротким проулком вышел к большой дороге, ведущей к рынку, и, очутившись в маленьком парке, стал осторожно спускаться к арене римского амфитеатра. Прыгая, как козел, со скамьи на скамью, Винсент взобрался на самый верх. Он сел на шершавую каменную глыбу, свесил ноги на высоте десятка сажен над землей, закурил трубку и окинул взглядом владения, повелителем и господином которых он сам себя назначил. Город, раскинувшийся под ним будто поток рухнувших камней, круто сбегал вниз и обрывался у Роны. Кровли домов были как бы вписаны одна в другую изощренной рукой рисовальщика. Дома все как один были крыты черепицей, некогда она была красной, но постоянно палившее солнце выжгло на ней причудливые пятна всех оттенков, от желто—лимонного и нежно– розового до ядовито—лилового и землисто—коричневого. Широкая, быстрая Рона, подступив к подошве холма, на котором лепился Арль, делала крутой изгиб и устремлялась прямо к Средиземному морю. Оба берега были закованы в каменные набережные. На дальней стороне виднелся, будто нарисованный, городок Тренкетай. Позади Винсента раскинулась горная цепь – громадные кряжи, вершины которых уходили в прозрачную высь. Впереди открывалась широкая панорама – возделанные поля, цветущие сады, высокая гора Монмажур, плодородные долины, прочерченные тысячами глубоких борозд, сходившихся где—то в бесконечности в одной точке. И куда ни глянь, всюду сверкали такие краски, что Винсент в удивлении тер глаза. Небо было такой напряженной, чистейшей, глубокой голубизны, что голубое уже не казалось голубым – цвет словно бы растворялся, исчезал. А зелень полей, расстилавшихся у Винсента под ногами, воплощала в себе самую душу зеленого цвета в его поистине безумной чистоте. Жгучее лимонно—желтое солнце, кроваво—красная почва, ослепительно белое одинокое облако над Монмажуром, розовый пушок, каждую весну окутывающий сады... этому отказывался верить глаз. Разве мыслимо все это написать! Разве в силах он заставить кого—нибудь поверить, что такие цвета существуют на самом деле, если его кисть и перенесет их на полотно! Лимонно—желтое, голубое, зеленое, красное, розовое – природа захлестывала его неистовой выразительностью этих пяти красок. Винсент вернулся проезжей дорогой на площадь Ламартина, схватил мольберт, палитру и холст и пошел вдоль Роны. Всюду уже зацветал миндаль. Солнце искрилось и сверкало в воде так, что было больно глазам. Шляпу Винсент забыл в гостинице. Солнце пекло его рыжую голову, гнало прочь парижскую стужу, уныние и постылую усталость, какими измучила его столичная жизнь. Пройдя с километр вниз по реке, Винсент увидел подъемный мост, по мосту ехала небольшая повозка, четко рисовавшаяся на фоне голубого неба. Вода была голубая, как в роднике, берега оранжевые, местами покрытые зеленой травой. Женщины в коротких кофтах и разноцветных чепчиках полоскали и колотили вальками белье в тени одинокого дерева. Винсент установил мольберт, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Никто не смог бы удержать в сознании такие краски с открытыми глазами. Винсент совсем забыл а Съра с его рассуждениями о научном пуантилизме, и проповеди Гогена о декоративности примитивов, и мысли Сезанна об изображении твердых тел, и Лотрековы линии, исполненные желчи и ненависти. Теперь существовал только он, Винсент. В гостиницу он вернулся к обеду, сел за столик в маленьком ресторанчике и заказал абсент. Он был слишком взволнован, слишком полон впечатлений, чтобы думать о еде. Какой—то мужчина, сидевший рядом, заметил на руках, лице и одежде Винсента пятна краски и вступил с ним в разговор. – Я парижский журналист, – представился он. – Живу в этом городке уже три месяца, собираю материал для книги о провансальском наречии. – А я только что из Парижа, приехал сегодня утром, – сказал Винсент. – Так я и думал. Долго собираетесь здесь прожить? – Да, вероятно, долго. – Послушайтесь моего совета, не делайте этого. Арль – самое нездоровое место на земле. – Почему вам так кажется? – Мне не кажется, я знаю это. Я наблюдал здешних людей целых три месяца и говорю вам, что все они ненормальны. Вы только посмотрите на них. Взгляните хорошенько им в глаза. Вы не найдете ни одного нормального, здорового человека во всей Тарасконской округе! – Странно слышать это, – заметил Винсент. – Пройдет неделя, и вы со мной согласитесь. Окрестности Арля – самые гиблые, самые проклятые места во всем Провансе. Сегодня вы почувствовали, какое тут солнце. Можете себе представить, что происходит с этими людьми, если оно палит их постоянно, день за днем? Уверяю вас, у них все мозги выжжены. А мистраль! Вы еще не нюхали мистраля? Бог мой, вот увидите. Мистраль, словно бич, обрушивается на город и не стихает двести дней в году. Если вы пытаетесь пройти по улице, мистраль швыряет вас, прижимая к стенам домов. Если вы в открытом поле, он валит вас с ног и вдавливает в землю. Он переворачивает вам все кишки, – вам уже кажется, что вот—вот всему конец, крышка. Я видел, как этот дьявольский ветер вырывает оконные рамы, выворачивает с корнями деревья, рушит изгороди, хлещет людей и животных так, что, того и гляди, разорвет их в клочья. Я прожил здесь лишь три месяца и уже чувствую, что сам немного рехнулся. Завтра утром я уезжаю! – А вы не преувеличиваете? – спросил Винсент. – Арлезианцы, на мой взгляд, вполне нормальны, хотя за сегодняшний день я видел их немного. – Вот погодите, скоро вы познакомитесь с ними поближе. Знаете, что я думаю об этом городе? – Нет, не знаю. Не хотите ли абсента? – Благодарю. Так вот, я думаю, что Арль – совсем как эпилептик. Он доводит себя до такого нервного возбуждения, что только и ждешь – вот—вот начнется припадок и он будет биться в судорогах, с пеной на губах. – Ну и что же, начинается припадок? – Нет. И это самое любопытное. Город все время на грани припадка, но припадок никогда не начинается. Три месяца я ждал, что здесь вспыхнет революция или на площади Мэрии произойдет извержение вулкана. Десятки раз я думал, что жители внезапно сойдут с ума и перережут друг другу глотки! Но в тот самый миг, когда катастрофа была неизбежна, мистраль на пару дней стихал, а солнце пряталось за облаками. – Ну что ж, – засмеялся Винсент, – если Арль никогда не доходит до припадка, его нельзя назвать эпилептиком, ведь правда? – Нельзя, – согласился журналист. – Но я вправе назвать этот город эпилептоидным. – Это еще что такое? – Я пишу на эту тему статью для своей газеты. А мысль мне подал вот этот немецкий журнал! Он вытащил из кармана журнал и кинул его через стол Винсенту. – Врачи исследовали сотни больных, страдавших нервными заболеваниями, которые напоминали эпилепсию, но никогда не выливались в припадки падучей. По диаграммам вы можете проследить, как поднималась кривая нервозности и возбуждения; доктора называют это перемежающейся горячкой. Буквально во всех исследованных случаях лихорадочное возбуждение с течением времени все возрастало, пока больной не достигал тридцати пяти – тридцати восьми лет. Как правило, в возрасте тридцати шести лет у больных происходит страшный припадок падучей. А потом еще пять—шесть—приступов, и через год—другой – конец. – Это слишком ранняя смерть, – сказал Винсент. – Человек в эти годы только берется за ум. Незнакомец спрятал журнал в карман. – Вы собираетесь жить в этой гостинице? – спросил он. – Я почти закончил свою статью; пришлю ее вам, как только она будет напечатана. Моя точка зрения такова; Арль – эпилептоидный город. Его пульс учащается уже не одно столетие. Приближается первый припадок. Он неотвратим. И ждать его не долго. Когда он наступит, мы будем свидетелями ужасающей катастрофы. Убийства, поджоги, насилия, всеобщее разрушение! Не может этот город постоянно, из года в год, жить в такой мучительной, изнуряющей лихорадке. Что—то должно случиться, этого не избежать. Я покидаю этот город, пока люди тут еще не начали биться в падучей, с пеной на губах. Советую уехать и вам. – Спасибо, – сказал Винсент. – Мне здесь нравится. А теперь я, пожалуй, пойду к себе. Мы увидимся завтра утром? Нет? Тогда желаю вам всего доброго. И не забудьте прислать мне вашу статью.2
Каждое утро Винсент вставал до рассвета, одевался и шел пешком за несколько километров вниз по реке или бродил по окрестностям города, отыскивая живописные места. Каждый вечер он возвращался с готовым полотном – готовым, потому что Винсенту уже нечего было к нему добавить. Сразу после ужина он ложился спать. Он превратился в слепую, бесчувственную машину – писал одно полотно за другим, без передышки, даже не сознавая, что он делает. Фруктовые сады стояли в полном цвету. Винсент с неудержимой страстью писал их и не мог остановиться. Он уже не думал больше о своих картинах. Он просто писал. Все восемь лет напряженного труда проявились теперь в могучем приливе творческой энергии. Порой, начиная работу с первыми проблесками зари, он заканчивал полотно уже к полудню. Тогда он возвращался в город, выпивал чашку кофе и снова шел с чистым холстом куда—нибудь в другую сторону. Он не имел ни малейшего представления, хороши ли теперь его картины. Его это не тревожило. Он был опьянен красками. С ним никто не разговаривал. Он тоже не заговаривал ни с кем. Те скудные силы, которые оставались у него от упорной работы, он тратил на борьбу с мистралем. Не меньше трех дней в неделю ему приходилось привязывать мольберт к вбитым в землю колышкам. Холст трепетал и бился на ветру, словно простыня на веревке. К вечеру все тело у Винсента ныло, как будто после жестоких побоев. Винсент постоянно ходил без шляпы. От свирепого солнца волосы у него на макушке мало—помалу стали выпадать. Когда он, вернувшись в гостиницу, ложился на постель, у него было такое чувство, словно ему на голову нахлобучили горшок с горящими угольями. Солнце совсем ослепило его. Он уже не мог отличить зелень полей от голубизны неба. Но, кончив работу и принеся ее в комнату, он убеждался, что на его полотне запечатлела свое сияние и блеск сама природа. Однажды он работал в саду с сиреневой землей, красной изгородью и двумя розоватыми персиковыми деревьями на фоне неба, где голубое чудесно сочеталось с белым. «Пожалуй, это будет лучший пейзаж из всех, какие я написал», – сказал себе Винсент. В гостинице его ждало письмо, извещавшее, что в Гааге скончался Антон Мауве. На полотне с персиковыми деревьями Винсент сделал надпись: «В память о Мауве. Винсент и Тео» – и послал его в дом на Эйлебоомен. На другое утро Винсент набрел на сливовый сад, весь в цвету. Он начал писать, но тут поднялся яростный ветер, он налетал порывами, словно морской прибой. В минуты затишья солнце заливало своим сиянием сад, и белые цветы ярко сверкали в его лучах. Ветер грозил каждую минуту опрокинуть мольберт, но Винсент все писал и писал. Это напоминало ему схевенингенские времена, когда он работал под проливным дождем, в тучах песка, в соленых брызгах морской воды. Белый цвет на полотне отливал всеми оттенками желтого, голубого и сиреневого. Когда он кончил писать, то увидел на своей картине нечто такое, чего он вовсе и не думал в ней выразить, – мистраль. – Люди подумают, что я писал ее спьяну, – рассмеялся Винсент. Ему вспомнилась строчка из письма, которое он получил от Тео накануне. Минхер Терстех, приехав в Париж, сказал, глядя на полотно Сислея: «У меня такое чувство, что художник, написавший его, порядком выпил». «Если бы Терстех видел мои арлезианские работы, – думал Винсент, – он решил бы, что у меня белая горячка!» Жители Арля сторонились Винсента. Они видели, как он без шляпы еще до рассвета спешил за город, взвалив на спину мольберт, решительно выставив вперед подбородок, с лихорадочным блеском в глазах. Они видели, как он возвращался: глаза под насупленными бровями – словно два огненных круга, красное, как парное мясо, темя, сырое полотно под мышкой... Он размахивал руками и что—то бормотал себе под нос. Ему дали прозвище, которое знал весь город: «Fou—Rou!» [рыжий дурак (фр.)] – Может быть, я и в самом деле рыжий дурак, – говорил он себе, – но что же делать? Хозяин гостиницы без зазрения совести обсчитывал Винсента при каждом удобном случае. Винсент нигде не мог прилично поесть, так как жители Арля питались дома. Цены в ресторанах были высокие. Винсент обошел их как—то раз все до единого, спрашивал крепкого бульона, но везде получал отказ. – Нельзя ли поджарить картошки, мадам? – спросил он в одном ресторанчике. – Нельзя, сударь. – В таком случае, нет ли у вас риса? – Рис будет только завтра. – Ну, а как насчет макарон? – Для макарон у нас маловата плита. В конце концов он перестал заботиться о еде и кормился чем попало. Горячее солнце придавало ему сил, несмотря на то что он пренебрегал желудком. Вместо сытной пищи он поглощал абсент, табак и повести Доде о Тартарене. Долгие часы сосредоточенного труда за мольбертом изматывали ему нервы. Он чувствовал потребность подхлестнуть себя. Абсент взбадривал его на весь следующий день, мистраль только взвинчивал возбуждение, а солнце внедряло его в самую плоть. Лето становилось жарче и жарче, кругом все было сожжено его дыханием. Винсент видел вокруг себя лишь тона старого золота, бронзы и меди, осененные чуть поблекшим от зноя зеленовато—лазурным небом. От палящего солнца на всем лежал какой—то сернисто—желтый оттенок. Винсент лил на свои полотна поток яркой, сверкающей желтизны. Он знал, что желтый цвет не применялся в европейской живописи со времен Возрождения, но это не останавливало его. Тюбики с желтой краской пустели один за другим, кисть щедро наносила его на полотно. Картины Винсента были захлестнуты ослепительным солнцем, опалены им, они были насквозь пронизаны воздухом. Винсент был убежден, что создать хорошую картину ничуть не легче, чем найти алмаз или жемчуг. Он испытывал недовольство и собой и тем, что выходило из—под его кисти, но в нем теплился луч надежды, что рано или поздно он станет писать лучше. Порою эта надежда казалась призрачной. Но, только работая, Винсент чувствовал, что он живет. Иной жизни у него не было. Он был лишь механизмом, слепым автоматом, который глотал по утрам еду и кофе, жадно хватал краски, выплескивал их на холст, а вечером приносил законченное полотно. Для чего? Для продажи? Конечно, нет! Он знал, что никто не купит его картины. Какой же смысл торопиться? Зачем он гонит, пришпоривает себя и пишет одну за другой десятки картин, для которых уже не хватает места под его жалкой металлической кроватью? Винсент уже не жаждал успеха. Он работал потому, что не мог не работать, потому что работа спасала его от душевных страданий и занимала его ум. Он мог обходиться без жены, без своего гнезда, без детей; мог обходиться без любви, без дружбы, без бодрости и здоровья; мог работать без твердой надежды, без самых простых удобств, без пищи; мог обходиться даже без бога. Но он не мог обойтись без того, что было выше его самого, что было его жизнью – без творческого огня, без силы вдохновения.3
Винсент пытался нанять натурщиков, но арлезианцы упорно отказывались. Они считали, что Винсент их уродует. Им казалось, что знакомые будут смеяться над их портретами. Винсент понимал, что если бы он писал так же слащаво, как Бугро, то арлезианцы не стыдились бы ему позировать. Пришлось оставить мысль о портретах и работать только над пейзажами. Лето было в разгаре, стояли великолепные знойные дни, ветер совсем стих. На полотнах Винсента преобладали желтые тона – от серно—желтого до золотистого. Он часто вспоминал Ренуара, его чистые, ясные линии. В прозрачном воздухе Прованса все казалось четким и ясным, словно на японских гравюрах. Однажды ранним утром он увидел девушку – у нее было кофейного оттенка тело, пепельные волосы, серые глаза, под бледно—розовой ситцевой кофточкой отчетливо проступали груди, твердые и маленькие. Во всем ее облике, в каждой линии ее девственной фигуры чувствовалось родство с этими знойными полями. С ней была мать, странного вида женщина. Грязновато– желтые и тускло—синие тона ее одежды в ярком солнечном свете прекрасно гармонировали с белыми и лимонно—желтыми цветами, росшими вокруг. За небольшую мзду женщины позировали ему несколько часов. Вернувшись к вечеру в гостиницу, Винсент поймал себя на том, что думает о девушке с кофейной кожей. Заснуть он никак не мог. Он знал, что в Арле есть веселые дома, их посещали главным образом зуавы – африканцы, привезенные в Арль для обучения военному делу; за вход там брали пять франков. Уже несколько месяцев Винсент не разговаривал ни с одной женщиной, кроме тех случаев, когда он просил чашку кофе или пачку табака. Он вспомнил сейчас, какие нежные слова говорила ему Марго, как она кончиками пальцев проводила по его лицу и быстро, страстно его целовала. Он вскочил с кровати, выбежал на площадь Ламартина и углубился в лабиринт темных улиц. Через несколько минут, взбираясь все выше по холму, он услышал где—то впереди страшный шум. Он кинулся бежать и вскоре оказался на улице Риколетт, у входа в бордель, где полицейские укладывали в повозку двух зуавов, заколотых пьяными итальянцами. Красные фески зуавов валялись в луже крови, растекшейся по камням мостовой. Другой наряд полицейских, схватив итальянцев, тащил их в тюрьму, а за ними бушевала разъяренная толпа, крича: – На фонарь их! На фонарь! Винсент воспользовался суматохой и незаметно проскользнул в дом терпимости – улица Риколетт, номер один. Луи, хозяин борделя, встретил его и провел в маленькую комнату, слева от зала, в котором за столиками пили вино несколько парочек. – У меня есть молоденькая девушка Рашель, очень милая, – сказал Луи. – Не желаете ли, сударь, ее? Если она вам не понравится, можете выбрать любую другую. – Можно взглянуть на нее? Винсент присел к столику и закурил трубку. Из зала донесся взрыв хохота, и в комнату танцующей походкой вошла девушка. Она уселась в кресло напротив Винсента и улыбнулась ему. – Я Рашель, – сказала она. – Неужели? – воскликнул Винсент. – Ведь ты еще совсем дитя. – Мне уже шестнадцать, – с гордостью заявила Рашель. – И давно ты в этом доме? – У Луи? Уже год. – Дай—ка я погляжу на тебя. Желтая газовая лампа освещала девушку сзади, лицо ее было в тени. Она откинула голову к стене и повернулась к свету, чтобы Винсент мог ее видеть. У нее было круглое, пухлое лицо, большие глуповатые глаза, мясистый подбородок и шея. Черные волосы были гладко зачесаны, отчего лицо казалось еще круглее. На ней было лишь легкое ситцевое платье и сандалии. Соски ее круглых грудей были нацелены прямо на Винсента, словно указующие персты. – Ты красива, Рашель, – сказал он. В ее пустых глазах заиграла ребячливая, веселая улыбка. Она закружилась на месте и схватила Винсента за руку. – Как хорошо, что я тебе нравлюсь, – сказала она. – Я люблю, когда я нравлюсь мужчинам. Тогда все гораздо приятнее, не правда ли? – Конечно. А я тебе нравлюсь? – По—моему, ты очень смешной, Фу—Ру. – Фу—Ру! Так ты знаешь меня? – Я видела тебя на площади Ламартина. Зачем это ты вечно таскаешь какую—то раму на спине? И почему никогда не носишь шляпы? Разве солнце тебя не печет? Смотри, какие у тебя глаза красные. Тебе больно? Ее детская наивность рассмешила Винсента. – Какая ты славная, Рашель. Будешь звать меня по имени, если я скажу, как меня зовут? – А как тебя зовут? – Винсент. – Нет, мне больше нравится Фу—Ру. Ты не против, если я буду звать тебя Фу—Ру? И можно мне чего—нибудь выпить? Старый Луи следит за мной из зала. Рашель притронулась пальцами к своей шее; Винсент смотрел, как они погружались в мягкое тело. Она улыбалась своими глуповатыми голубыми глазами, и он понимал, что она улыбается в предвкушении счастья и хочет, чтобы и он был счастлив. У нее были ровные, красивые, хотя и темные зубы; полная нижняя губа слегка отвисала и почти закрывала впадинку над пухлым подбородком. – Закажи бутылку вина, – сказал Винсент. – Но не очень дорогого, – у меня мало денег. Когда вино было подано, Рашель спросила: – Не перейти ли нам в мою комнату? Там гораздо удобней. – Что ж, с удовольствием. Они поднялись по каменной лестнице и вошли в комнатку Рашели. Там стояла узкая кровать, шифоньерка, стул, на выбеленных стенах висело несколько цветных юлианских медальонов. На шифоньерке Винсент заметил две рваные, затасканные куклы. – Я привезла их из дому, – сказала Рашель. – Возьми их, Фу—Ру. Вот это Жак, а вот это Катерина. Я играю с ними в папу и маму. Ой, Фу—Ру, почему у тебя такое смешное лицо? Действительно, Винсент стоял посреди комнаты и глупо улыбался, – в каждой руке у него было по кукле. Вдоволь нахохотавшись, Рашель отняла у Винсента и Жака и Катерину, посадила их на шифоньерку, сбросила с ног сандалии и сняла платье. – Сядь, пожалуйста, Фу—Ру, – сказала она. – Давай играть в папу и маму. Ты будешь папа, а я мама. Ты любишь играть в папу и маму? Это была невысокая, коренастая и крепко сбитая девушка с выпуклыми, крутыми бедрами; ее острые груди сильно выдавались вперед, а пухленький круглый живот круто сбегал к промежному треугольнику. – Рашель, – сказал Винсент, – если ты будешь звать меня Фу—Ру, я тоже придумаю тебе имя. Рашель захлопала в ладоши и бросилась к нему на колени. – Ох, скажи, скажи, какое же это имя? Я люблю, когда мне придумывают новые имена. – Я буду звать тебя Голубкой. В светлых глазах Рашели мелькнуло недоумение и обида. – Почему же Голубкой, папа? Винсент легонько провел ладонью по ее круглому, девическому животу. – Потому что ты похожа на голубку: у тебя нежные глазки и маленький толстенький животик. – А это хорошо – быть голубкой? – Ну, конечно. Голуби очень милые, очень нежные... и ты такая же, как они. Рашель потянулась к нему губами и поцеловала его в ухо, потом вскочила с кровати и достала два стакана для вина. – Какие у тебя смешные уши, Фу—Ру, – сказала она между двумя глотками. Она пила, как пьют дети, сунув в стакан нос. – Тебе нравятся мои уши? – спросил Винсент. – Да. Они мягкие и круглые, как у щенка. – Возьми их, раз они тебе нравятся. Рашель громко засмеялась. Потом, поднеся стакан к губам, снова вспомнила шутку Винсента и снова засмеялась. С ее левой груди стекала тоненькая красная струйка вина, извиваясь по животу, исчезала в темном треугольнике. – Ты очень милый, Фу—Ру, – сказала она. – А все говорят, что ты тронутый. Ведь это неправда, верно? Винсент пожал плечами. – Я тронутый, но только чуть—чуть, – сказал он. – А ты будешь моим возлюбленным? – спросила Рашель. – У меня нет возлюбленного уже больше месяца. Будешь ходить ко мне каждый вечер? – Боюсь, что я не смогу ходить к тебе Каждый вечер, Голубка. Рашель надула губы. – Это почему же? – Помимо всего прочего, у меня нет денег. Понимаешь? Рашель игриво ущипнула его за правое ухо. – Если у тебя нет пяти франков, Фу—Ру, то, может быть, ты отрежешь свое ухо и дашь его мне? Я положила бы его на этажерку, играла с ним каждый вечер. – А потом ты вернешь его мне, если я принесу пять франков? – Ох, Фу—Ру, ты такой чудной и такой милый! Если бы все мужчины, которые приходят сюда, были как ты! – Тебе здесь нравится, Рашель? – О, конечно, здесь очень весело... и мне все нравится... кроме зуавов. Рашель поставила стакан на столик и обняла Винсента. Он чувствовал, как она прижалась к нему своим мягким животом, а ее острые груди словно прожгли его насквозь. Она впилась губами в его рот. Он чувствовал, что целует мягкую, бархатистую изнанку ее нижней губы. – Ты ведь придешь ко мне еще, Фу—Ру? Ты не забудешь меня и не пойдешь к другой девушке? – Я приду к тебе, Голубка. – Ну, а теперь мы поиграем, ладно? Будем играть и папу и маму. Когда через полчаса Винсент вышел от Рашели, его томила страшная жажда, которую он утолил, лишь выпив множество стаканов холодной, чистой воды.4
Винсент пришел к заключению, что чем тщательнее растерта краска, тем лучше она пропитывается маслом. Масло лишь растворяло краску; он не придавал ему особого значения, тем более что грубая фактура его картин его вполне устраивала. Вместо того чтобы покупать краски, которые были растерты в Париже на камне бог знает сколько дней назад, Винсент решил готовить их собственноручно. По просьбе Тео папаша Танги прислал Винсенту три разных хрома, малахит, киноварь, свинцовую оранжевую, кобальт и ультрамарин. Винсент растер их у себя в гостинице. Теперь краски не только обходились ему дешевле, но были более свежими и стойкими. Затем Винсент с огорчением убедился, что его холсты недостаточно впитывают краску. Тонкий слой грунтовки, покрывавший холст, не всасывал те щедрые мазки, которые клал Винсент. Тео прислал ему рулон негрунтованного холста. Винсент разводил по вечерам в маленькой миске грунт и покрывал им полотно, на котором он собирался писать утром. Жорж Съра научил его тщательно подбирать раму дли каждой картины. Посылая свои первые арлезианские работы в Париж Тео, Винсент давал точные указания, какую древесину надо взять для рамы и какой краской ее покрасить. Но он успокоился лишь тогда, когда сам начал делать рамы для своих картин. Он купил у бакалейщика деревянных планок, подгонял их под нужные размеры и красил в соответствующие цвета. Он растирал себе краски, сколачивал подрамники, грунтовал холсты, писал картины, мастерил рамы и красил их. – Жаль, что я не могу сам у себя покупать картины, – бормотал Винсент. – Тогда я был бы вполне обеспечен. Мистраль подул вновь. Казалось, природа неистовствовала. На небе не было ни облачка. Солнце пекло и слепило, стояла страшная сушь, жару сменял пронзительный холод. Сидя в комнате, Винсент писал натюрморт: синий эмалированный кофейник, ярко—синяя с золотом фарфоровая чашка, белый молочник в бледно—голубых квадратиках, синий майоликовый кувшин с красными, зелеными и коричневыми узорами, два апельсина и три лимона. Когда ветер стих, Винсент опять вышел на воздух и написал вид Роны с железным мостом на Тренкетай – небо и реку он сделал в тоне абсента, набережную написал лиловой, фигуры людей, облокотившихся на парапет, почти черными, самый мост – густо—синим, а темный фон оживил вспышкой оранжевого и яркими пятнами малахитовой зелени. Винсент пытался выразить в пейзаже бесконечную тоску, от которой сжалась бы душа зрителя. Вместо точного воспроизведения того, что он видел, Винсент выбирал краски и писал ими так, чтобы с наибольшей силой выразить себя самого. Он убедился, как справедливы были слова, которые сказал ему Писсарро в Париже: «Вы должны смело преувеличивать тот эффект, который дают краски, гармонируя или дисгармонируя друг с другом». В предисловии Мопассана к роману «Пьер и Жан» он нашел подобную же мысль: «Реалист, если он художник, будет стремиться не к тому, чтобы показать нам банальную фотографию жизни, а к тому, чтобы дать ее воспроизведение, более полное, более захватывающее, более убедительное, чем сама действительность». Он упорно, не разгибая спины, проработал целый день под солнцем в поле. В результате он написал полотно: широкая вспаханная нива с глыбами фиолетовой земли, уходящими к горизонту; фигура сеятеля в синих и белых тонах, вдали полоса невысокой, вызревшей пшеницы; и надо всем – желтое небо с желтым солнцем. Парижские критики сказали бы, что он пишет слишком быстро. Но Винсент думал иначе. Разве не переполнявшие его чувства, не искреннее восхищение природой двигали его кистью? А раз чувства его так сильны, что он работает, забывая о времени, раз мазок ложится за мазком легко и непринужденно, как слова в разговоре, значит, придет день, когда кисть опять будет валиться из рук и вдохновение уйдет от него. Значит, надо ковать железо, пока оно горячо, и складывать около себя готовые поковки. Винсент закинул мольберт за спину и пошел домой по дороге мимо горы Монмажур. Он шел так быстро, что скоро нагнал мужчину и мальчика, которые потихоньку брели впереди него. Винсент узнал старика Рулена, арлезианского почтальона, и его маленького сынишку. Винсент часто сиживал с Руленом в кафе, и ему не раз хотелось заговорить с ним, но удобного случая не представлялось. – Добрый день, господин Рулен, – сказал Винсент. – А, это вы, господин художник! – отозвался Рулен. – Добрый день. Я вот ходил с сыном погулять – сегодня ведь воскресенье. – Замечательный был денек, правда? – И впрямь замечательный. Чертов мистраль наконец—то унялся. А вы сегодня написали картину? – Да, написал. – Я человек простой, господин художник, и ничего не понимаю в искусстве. Но вы оказали бы мне большую честь, если бы позволили взглянуть на вашу картину. – С удовольствием. Мальчишка, подпрыгивая, убежал вперед. Винсент и Рулен шли рядом. Пока Рулен смотрел на полотно, Винсент внимательно разглядывал его самого. На голове у Рулена была синяя форменная фуражка, глаза у него были мягкие и пытливые, а длинная и широкая волнистая борода плотно прикрывала шею и воротник, падая на темно—синюю куртку. Винсент почувствовал в этом человеке ту же мягкость и мечтательность, которая так нравилась ему в папаше Танги. Он был как—то по—семейному трогателен, и пышная древнегреческая борода не вязалась с его простым крестьянским лицом. – Я человек простой, – повторил Рулен, – и вы уж простите меня, если я скажу что не так. Пшеница у вас совсем как живая, все равно что на том поле, которое мы прошли, – я видел, как вы там работали. – Значит, картина вам нравится? – Нет, я не могу сказать, что нравится. Я только чувствую, что у меня вот здесь что—то зашевелилось. И он провел рукой по груди. У подножия Монмажура они на минуту остановились. Красное солнце закатывалось над древним монастырем, его косые лучи падали на стволы и кроны сосен, росших среди скал, заливая деревья оранжевым огнем; а дальние сосны, как бы вписанные в нежное зеленовато—голубое небо, казалось, были нанесены берлинской лазурью. Белый песок и белые камни под деревьями будто кто—то слегка тронул синим. – Все это тоже совсем как живое, не правда ли, господин художник? – спросил Рулен. – Да, и останется живым, когда нас уже не будет на свете, Рулен. Они пошли дальше, продолжая вести тихую, дружескую беседу. Рулен говорил рассудительно и спокойно. У него был простой ум, простые и вместе с тем глубокие мысли. Он жил с женой и четырьмя детьми на сто тридцать пять франков в месяц. Почтальоном он прослужил уже двадцать пять лет, не получая никакого повышения – ему лишь делали ничтожные надбавки я жалованью. – Когда я был молод, – говорил он, – я много думал о боге. Но с годами бог как—то таял и таял в моей душе. Я еще могу увидеть его в поле пшеницы, которую вы писали, в закате солнца над Монмажуром, но когда думаешь о людях... и о мире, который они устроили... – Знаю, Рулен, но я все более и более убеждаюсь, что мы не вправе судить о боге по этому нашему миру. Мир этот – лишь неудачный набросок. Что вы делаете, когда видите в мастерской любимого художника неудавшийся набросок? Вы не пускаетесь в критику, а держите язык за зубами. Но вы вправе желать чего—нибудь получше. – Верно, – с радостью согласился Рулен, – что—нибудь хоть чуточку получше. – Чтобы судить о мастере, надо посмотреть и на другие его работы. Наш мир, видимо, создан в спешке, в один из тех черных дней, когда у творца был помрачен разум. На извилистую проселочную дорогу спускались сумерки. Пронзая плотное кобальтовое одеяло ночи, на небе затеплились первые искорки звезд. Наивные глаза Рулена смотрели Винсенту прямо в лицо. – Значит, вы полагаете, что есть и другие миры? – Не знаю, Рулен, я бросил размышлять обо всем этом с тех пор, как увлекся своим ремеслом. Но наша жизнь кажется мне в чем—то неполной, несовершенной. Ведь правда? Иногда мне думается, что подобно тому, как поезда и экипажи переносят нас с одного места на другое, точно так же тиф и чахотка переселяют нас из одного мира в другой. – Да, вы, художники, о многом думаете! – Рулен, вы не откажете мне в одном одолжении? Позвольте мне написать ваш портрет. Жители Арля не хотят мне позировать. – Вы окажете мне честь, сударь. Но зачем вам писать меня? Ведь я так некрасив. – Если только существует бог, Рулен, то, по—моему, у него именно такая борода и такие глаза, как у вас. – Вы смеетесь надо мной! – Наоборот, я говорю серьезно. – Приходите, пожалуйста, к нам завтра поужинать. Еда у нас очень нехитрая, но мы будем вам рады. Жена Рулена оказалась простой крестьянской женщиной и напомнила Винсенту мадам Дени. На столе, покрытом красно—белой клетчатой скатертью, было тушеное мясо с картошкой, хлеб домашней выпечки и бутылка кислого вина. После ужина Винсент рисовал мадам Рулен, разговаривая с ее мужем. – Во время революции я был республиканцем, – говорил Рулен, – нотеперь я вижу, что мы ничего не добились. Правят ли нами короли или министры, мы, бедные люди, живем по—прежнему, ничуть не лучше. Прежде я думал, что, если у нас будет республика, мы станем все делить поровну. – Ах, что вы, Рулен! – Всю свою жизнь я стараюсь понять, господин Ван Гог, почему одному принадлежит больше, а другому меньше, почему человек должен тяжко трудиться, когда его сосед сидит сложа руки. Может быть, я слишком темен, чтобы разобраться, в чем тут дело. Как по—вашему, – если бы у меня было образование, я бы, наверное, понял все гораздо скорее? Винсент бросил быстрый взгляд на Рулена, чтобы убедиться, не издевается ли над ним этот арлезианец. Лицо Рулена сохраняло то же невинное, простодушное выражение. – Да, мой друг, многие образованные люди, кажется, все отлично понимают. Но я, как и вы, человек темный, и мне никогда не понять этого и никогда с этим не примириться.5
Он вставал в четыре утра, часа за три добирался до какого—нибудь живописного места и работал там до самого вечера. Это было не так уж приятно – тащиться домой за десять или двенадцать километров по пустынной дороге, но сырое полотно, которое он нес под мышкой, придавало ему бодрости. Он написал семь больших картин за семь дней. К концу недели он валился с ног от смертельной усталости. Это было чудесное лето, но работать теперь он больше не мог. Яростный мистраль поднимал клубы пыли, от которой побелели деревья. Винсент был принужден сидеть дома. Он спал по шестнадцати часов без просыпу. Карман у него был пуст, последний сантим вышел в четверг, а письмо Тео с пятьюдесятью франками должно было прийти не раньше, чем в понедельник к обеду. Тео тут был не виноват. Каждые десять дней он присылал Винсенту пятьдесят франков, не считая материалов. Но Винсент помешался на мысли вставить свои новые картины в рамы и заказывал их столько, что его скудный бюджет этого не выдерживал. Четыре дня, оставшиеся до понедельника, он прожил на двадцати чашках кофе и буханке хлеба, которую отпустил ему в долг булочник. Теперь он глядел на свою работу холодно и неприязненно. Ему уже не казалось, что его полотна стоят той самоотверженной доброты, которую проявлял к нему Тео. Он мечтал выручить те деньги, которые он ухлопал, и вернуть их брату. Он разглядывал свои картины одну за другой и переживал мучительное чувство стыда, думая, что они далеко не оправдали затрат. Если время от времени и получалась приличная вещь, то, по его убеждению, дешевле было бы купить такую у кого—нибудь другого. Думы, которые подспудно тревожили Винсента все лето, теперь разом нахлынули на него. Хотя он жил в полном одиночестве, до сих пор у него не было времени хорошенько разобраться в своих чувствах и мыслях. Он вечно спешил вперед на всех парах. А теперь мозг у него раскис, словно каша, и не было ни франка, чтобы развлечься, как следует поесть или пойти к Рашели. Он решил, что все написанные им за лето полотна никуда не годятся. – Как бы то ни было, – сказал он себе, – холст, который я закрасил, все—таки стоит дороже, чем чистый. На большее я и не претендую – в этом мое право писать, мое оправдание. Он был убежден, что, оставаясь в Арле, он сохранит свою индивидуальную свободу. Жизнь коротка. Она быстро проходит. А раз он живописец, ему остается только писать и писать. «Эти пальцы стали гибкими и послушными, – думал он, – и они будут такими, если даже все тело начнет сдавать и разрушаться». Он составил длинный перечень красок, которые хотел попросить у Тео. Просматривая список, он вдруг увидел, что там нет ни одной краски, которая входила бы в палитру голландцев – Мауве, Мариса или Вейсенбруха. Арль окончательно оторвал его от голландской традиции. Когда в понедельник деньги наконец пришли, он разыскал такое место, где можно было хорошенько поесть за один франк. Это был странный на вид ресторанчик, сплошь серого цвета – пол был из серого асфальта, словно уличная мостовая, серые обои на стенах, серовато—зеленые, всегда закрытые ставни и зеленые портьеры на дверях, чтобы снаружи не залетала пыль. Тоненький, ослепительный луч солнца, словно лезвие кинжала, прокалывал ставень. Отдохнув от работы с неделю, Винсент решил попробовать писать по ночам. Он написал серый ресторан в тот час, когда посетители ужинали, а служанки сновали между столиками. На площади Ламартина он написал густое, теплое кобальтовое ночное небо, усеянное яркими, звездами Прованса. Сидя на обочине дороги, он написал кипарисы, залитые лунным светом. Потом написал ночное кафе, которое не закрывалось до утра, – там отсиживались бродяги, когда у них не было денег на жилье или они были слишком пьяны, чтобы уйти домой. Сначала он писал кафе с улицы, а в следующую ночь – его интерьер. С помощью красного и зеленого цветов он старался выразить дикие человеческие страсти. Интерьер кафе он написал кроваво—красным и темно—желтым, с зеленым бильярдным столом посредине. Четыре лимонно—желтые лампы были окружены оранжевым и зеленым сиянием. Самые контрастные, диссонирующие оттенки красного и зеленого боролись и сталкивались в маленьких фигурках спящих бродяг. Он хотел показать, что кафе – это такое место, где человек может покончить самоубийством, сойти с ума или совершить преступление. Арлезианцам странно было видеть, что их Фу—Ру всю ночь работает на улице, а днем спит. Что бы Винсент ни делал, они все обращали в забаву для себя. Когда наступило первое число, хозяин гостиницы не только повысил плату, но заявил, что будет брать деньги за чулан, в котором Винсент хранил свои полотна. Взбешенный жадностью хозяина, Винсент возненавидел гостиницу. Серый ресторанчик, где он обедал, его вполне устраивал, но ему хватало денег сходить туда лишь два или три раза в десять дней. Надвигалась зима, а мастерской для работы у него не было; номер в гостинице был мрачен, да и жить в нем казалось Винсенту унизительным. Дешевая еда, которую он наспех проглатывал в ресторанчиках, снова вконец расстроила желудок. Надо было найти постоянное жилище и настоящую мастерскую. Однажды вечером, идя со стариком Руленом по площади Ламартина, он увидел на доме, выкрашенном в желтый цвет, в двух шагах от гостиницы, объявление: «Сдается внаем». Дом состоял из двух крыльев, с двором посередине. Винсент остановился, в задумчивости оглядывая его. – Великоват немного, – сказал он Рулену. – А то я бы поселился в таком доме. – Нет нужды снимать весь дом, господин Ван Гот. Вы можете снять, скажем, одно только правое крыло. – Верно! Сколько, по—вашему, там комнат? Во сколько мне это обойдется? – Кажется, там три или четыре комнаты. А обойдутся они вам очень дешево, вдвое дешевле, чем номер в гостинице. Если хотите, завтра во время обеда мы зайдем сюда и посмотрим дом. Может быть, я помогу вам сторговаться. Наутро Винсент был так взволнован, что уже не мог ни за что взяться – он бродил по площади Ламартина и осматривал дом со всех сторон. Дом был прочный и очень светлый. При более тщательном осмотре Винсент увидел, что там имеются два отдельных входа и что левое крыло уже занято. В обеденный час явился Рулен. Они вместе вошли в правое крыло дома. Из прихожей они попали в большую комнату, потом в другую, поменьше. Стены были чисто выбелены. Пол в прихожей и лестница, ведущая на второй этаж, были выложены гладким красным кирпичом. Наверху оказалась еще одна просторная комната и кладовая. Полы в комнатах были из красных керамических плиток, на белых стенах играло и искрилось яркое солнце. Наверху их ждал хозяин, заранее предупрежденный запиской Рулена. Несколько минут он разговаривал с Руленом на быстром провансальском наречии, и Винсент ничего не понял. Потом Рулен сказал Винсенту: – Он непременно хочет знать, на какой срок вы снимаете квартиру. – Скажите ему, что навечно. – Вы согласны гарантировать хотя бы шесть месяцев? – Ну, разумеется! – В таком случае он сдаст вам квартиру за пятнадцать франков в месяц. Пятнадцать франков! И это почти за целый дом! Всего—навсего треть того, что он платил за номер в гостинице. Даже мастерская в Гааге стоила ему дороже. Постоянное, удобное жилище за пятнадцать франков в месяц! Он торопливо вынул деньги из кармана. – Вот! Скорее же! Отдайте их ему. Дом снят. – Хозяин хочет знать, когда вы сюда переберетесь, – сказал Рулен. – Сегодня. Сейчас же. – Но, господин—Ван Гог, у вас нет мебели. Как вы тут устроитесь? – Я куплю тюфяк и стул. Рулен, вы и представить себе не можете, что значит жить в проклятых гостиницах. Я должен переехать сюда немедленно. – Что ж, как вам будет угодно. Хозяин удалился. Рулен пошел обратно на службу. Винсент бродил из одной комнаты в другую, несколько раз поднимался и спускался по лестнице, снова и снова осматривая каждый уголок своих владений. Пятьдесят франков от Тео он получил только накануне; из них почти тридцать еще лежали у него в кармане. Он вышел на улицу, купил дешевый тюфяк и стул и принес их в дом. Он решил, что в нижней комнате у него будет спальня, а наверху – мастерская. Он кинул тюфяк на красные гладкие плиты, втащил стул в мастерскую и в последний раз пошел в гостиницу. Хозяин гостиницы под каким—то вздорным предлогом приписал к счету лишних сорок франков. Он отказался отдать Винсенту его полотна, пока не получит денег. Чтобы вернуть полотна, Винсенту пришлось обратиться в полицию, по половину требуемых хозяином денег с него все—таки взыскали. К вечеру ему удалось найти торговца, который согласился дать ему в кредит керосинку, два горшка и лампу. У Винсента осталось всего—навсего три франка. Он купил немного кофе, хлеба, картошки и кусок мяса на суп. Денег у него теперь совсем не осталось. В нижней маленькой комнатке он устроил кухню. Когда над площадью Ламартина спустилась ночь, Винсент на керосинке сварил себе кофе и суп. Стола у него не было, поэтому он расстелил на тюфяке газету, поставил на нее еду, и, скрестив ноги, уселся на пол ужинать. Купить нож и вилку он позабыл. Пришлось выуживать мясо и картофель из горшка рукоятью кисти. По этой причине еда слегка отдавала масляной краской. Покончив с ужином, он взял керосиновую лампу и по красным кирпичным ступеням поднялся наверх. Мастерская была голой и пустынной, в лунном свете лишь одиноко торчал застывший мольберт. За окном темнел сад на площади Ламартина. Винсент лег спать на тюфяке. Проснувшись утром, он отворил окно и увидел зелень сада, встающее солнце и дорогу, извивами уходящую в город. Он поглядел на гладкие красные плитки пола, на белые, без единого пятнышка, стены, на удивительно просторные комнаты. Потом сварил кофе и расхаживал по дому с чашкой в руках, обдумывая, как он обставит свое жилище, какие картины развесит на стенах и как счастливо заживет в этом чудесном доме, – своем собственном доме. На следующий день Винсент получил письмо от своего друга Поля Гогена; больной и совсем обнищавший, он застрял в грязном кафе в Понт—Авене, в Бретани. «Я не могу вырваться из этой дыры, – писал Гоген, – потому что мне нечем заплатить по счету, и хозяин держит мои картины под замком. Изо всех несчастий, какие выпадают на долю человека, ничто меня так не бесит, как безденежье. Но я чувствую себя обреченным на вечную нищету». Винсент думал о художниках всей земли, – издерганных, больных, бедствующих: все сторонятся их, насмехаются над ними, они голодают и мучаются до смертного часа. За что? В чем их вина? За какие грехи стали они отверженными? Как находят в себе силы эти парии, эти гонимые души создавать что—то хорошее? Художник будущего – ах, это будет такой колорист и такой человек, каких еще не видел мир! Он не станет жить в жалких кафе и не пойдет в бордели, где бесчинствуют зуавы. Бедняга Гоген. Гниет заживо в какой—то поганой дыре в Бретани, хворый, не в силах работать, без друзей, которые помогли бы ему, без единого сантима в кармане, чтобы купить хлеба или позвать врача. Винсент считал Гогена великим живописцем и великим человеком. А если Гоген умрет! Или вдруг ему придется бросить работу! Это будет трагедия для искусства. Винсент сунул письмо в карман, вышел из дома и побрел по набережной Роны. Груженная углем баржа пришвартовалась к пристани. Мокрая от прошедшего дождя, баржа вся сняла. Вода была желтовато—белой и жемчужно– серой. Сиреневое небо на западе отливало оранжевым, город казался фиолетовым. Грязные грузчики в синей и белой одежде сновали взад и вперед, таская уголь на берег. Это был чистейший Хукосаи. И Винсенту вспомнился Париж, японские гравюры в лавочке папаши Танги... и Поль Гоген, которого он любил больше всех остальных своих друзей. Теперь он знал, что ему делать. Его дом достаточно просторен для двоих. Каждый из них может устроить в нем отдельную спальню и отдельную мастерскую. Если они сами будут готовить себе пищу, растирать краски и беречь деньги, то смогут прожить на сто пятьдесят франков в месяц. Ведь плата за квартиру останется прежней, а расходы на еду увеличатся ненамного. Как хорошо, если рядом опять будет друг, художник, который говорит на одном с тобой языке и понимает твое ремесло. А каким чудесам может научить его Гоген в живописи! До сих пор Винсент не отдавал себе отчета, до чего он здесь одинок. Если они не сумеют прожить на сто пятьдесят франков, то, может быть, Тео согласится давать еще пятьдесят, а Гоген будет за это посылать ему каждый месяц по картине. Да, да! Гоген должен непременно приехать сюда, в Арль. Жаркое солнце Прованса выжжет из него все недуги точно так же, как оно выжгло их из Винсента. Скоро работа у них в мастерской пойдет полным ходом. Это будет первая мастерская на юге Франции. Они продолжат традиции Делакруа и Монтичелли. Их живопись будет пронизана светом и воздухом, они раскроют людям глаза на буйные краски Юга. Гогена нужно спасти! Винсент повернул назад и рысцой побежал к площади Ламартина. Он открыл дверь своего дома, взобрался наверх по красной кирпичной лестнице и тут же начал обдумывать, как они разделят между собой комнаты. "У нас с Полем будет здесь, наверху, по спальне. Нижние комнаты мы отведем под мастерские. Я куплю кровати, тюфяки, постельное белье, стулья, столы, и у нас будет настоящий дом. Я распишу его весь подсолнечниками и цветущими деревьями. О, Поль, Поль, как чудесно, что ты опять будешь рядом со мной!"6
На деле все оказалось не так просто, как представлялось Винсенту. Тео согласился посылать еще пятьдесят франков в месяц, но, кроме того, нужно было оплатить проезд Гогена по железной дороге, – а денег на это не оказалось ни у Тео, ни у самого Гогена. Гоген был слишком болен, чтобы действовать решительно, слишком обременен долгами, чтобы вырваться из Понт– Авена, слишком убит неудачами, чтобы горячо взяться за выполнение какого– либо плана. Письмо за письмом летело из Арля в Париж, из Парижа в Понт– Авен и обратно. Винсент полюбил свой дом до безумия. На деньги, присланные Тео, он купил еще стол и комод. «К концу года, – писал он брату, – я буду совсем другим человеком. Но не думай, что я опять куда—то уеду. Ни в коем случае. Я решил прожить остаток своей жизни в Арле. Я буду художником Юга. А ты всегда помни, что у тебя есть в Арле свой дом. Мне очень хочется обставить его так, чтобы ты мог приезжать сюда в отпуск». На повседневные нужды он расходовал ничтожные средства, а все остальное вкладывал в обстановку. Каждый день ему приходилось решать, как потратить деньги – на себя или на какую—нибудь вещь для дома. Купить ли мяса на обед или приглянувшийся майоликовый кувшин? Новые башмаки или чудесное зеленое стеганое одеяло для Гогена? Заказать ли сосновую раму для картины или купить тростниковые стулья? И всегда на первом месте был для него дом. Он вселял в душу Винсента чувство покоя, так как все, что делалось для дома, делалось для будущего. Довольно он уже плавал по воле волн, без руля и без ветрил. Больше он не двинется с места. Когда он умрет, какой– нибудь художник продолжит начатое им дело. Он устроит постоянную мастерскую, в которой будут работать художники из поколения в поколение, – они станут живописцами Юга. Им завладела мысль расписать дом так, чтобы этот его труд оправдал все средства, затраченные на него в те годы, когда он не создал ничего достойного. Он снова с головой ушел в работу. Он знал, что время и пристальное внимание к вещам сделали его зрелым и научили глубже понимать действительность. Раз пятьдесят ходил он к полю у подножия Монмажура и упорно вглядывался в него, не выпуская из рук кисти. Мистраль мешал ему работать свободно, одухотворяя чувством каждый мазок, а мольберт отчаянно трепетал и колыхался от ветра. Винсент работал с семи утра до шести вечера, не разгибая спины. Каждый день по картине! – Завтра будет настоящее пекло, – сказал Рулен однажды вечером, когда уже наступила поздняя осень. Они сидели за кружкой пива в кафе на площади Ламартина. – И тем не менее зима уже на носу. – А какая зима в Арле? – спросил Винсент. – Скверная. Все время дожди, отвратительный ветер и холод, холод. Но все это длится очень недолго. Не больше двух месяцев. – Значит, завтра у нас будет последний солнечный денек. В таком случае я пойду на одно место, которое мне равно хочется написать. Вообразите себе, Рулен: осенняя роща, два кипариса цвета бутылочного стекла, по форме тоже похожие на бутылки, и три невысоких каштана, листья у них табачного и оранжевого тона. Есть там еще маленький тис – крона у него бледно—лимонная, а ствол фиолетовый, и два каких—то куста с кроваво– красной, пурпурной и багряной листвой. И немного песка, травы и клочок голубого неба... – Ах, господин Ван Гог, когда вы описываете то, что видели, я чувствую, что всю жизнь был словно слепой! Наутро Винсент встал вместе с солнышком. У него было прекрасное настроение. Он подстриг себе бороду, причесал остатки волос, которые пощадило на его голове арлезианское солнце, надел свой единственный приличный костюм и привезенную еще из Парижа заячью шапку. Рулен не ошибся в своем предсказании. Желтый, пышущий жаром шар солнца выкатился на небо. Заячья шапка надежно защищала голову, но не прикрывала от солнца глаза. Роща, которую облюбовал Винсент, была в двух часах ходьбы от Арля, по дороге на Тараскон. Деревья жались друг к другу, взбегая по склону холма. Винсент поставил мольберт на вспаханном поле, наискось от рощи. Он бросил на землю заячью шапку, снял куртку и укрепил на мольберте подрамник. Хотя было еще совсем рано, солнце припекало ему макушку, а глаза словно застилала танцующая огненная пелена, к которой он давно уже привык и приноровился. Он пристально вгляделся в пейзаж, отметил про себя составляющие его цветовые компоненты и проследил его линии. Убедившись, что он понял пейзаж, Винсент размял кисти, открыл тюбики с краской и очистил нож, которым он разглаживал свои жирные мазки. Он взглянул еще раз на рощу, наметил на белом полотне углем несколько линий, смешал на палитре краски и уже занес в воздухе кисть. – Ты так торопишься начать работу, Винсент? – услышал он голос за спиной. Винсент резко повернулся. – Еще очень рано, дорогой. У тебя впереди целый день. Винсент в изумлении смотрел на незнакомую женщину. Она была совсем юная, но уже не девочка. У нее были синие—синие, как кобальтовое небо арлезианских ночей, глаза и волной спадавшие на плечи густые лимонно– желтые, словно солнце, волосы. Черты лица были нежнее и тоньше, чем у Кэй Вос, но в них чувствовалась знойная зрелость южанки. Кожа у нее была темная, золотистая, открывавшиеся меж улыбчивых губ зубы белели подобно цветку олеандра, если смотреть на него сквозь пурпуровое вино. На ней было длинное, плотно облегающее фигуру белое платье, заколотое сбоку квадратной серебряной пряжкой. На ногах у нее были простые сандалии. Охватывая ее крепкую, сильную фигуру, глаз плавно скользил по чистым, сладострастным линиям ее груди и бедер. – Я так долго была вдали от тебя, Винсент, – сказала она. Она встала между Винсентом и мольбертом, прислонившись к белому полотну и загораживая собой рощу. Солнце полыхало в ее лимонно—желтых волосах, огненными волнами скатываясь на спину. Она улыбалась Винсенту с такой нежностью, с такой любовью, что он провел рукой по глазам, словно стараясь убедиться, что он не бредит и не спит. – Ты не понимаешь меня, мой дорогой, мой милый мальчик, – говорила женщина. – Как ты жил, когда я была так далеко? – Кто ты? – Я твой друг, Винсент. Самый лучший твой друг на свете. – Откуда ты знаешь мое имя? Я никогда тебя не видел. – Да, но я видела тебя много, много раз. – А как тебя зовут? – Майя. – Майя – и только? И ничего больше? – Для тебя, Винсент, я только Майя. – Почему ты пришла за мной сюда, в поле? – Потому же, почему я шла за тобой по всей Европе... чтобы быть с тобой. – Ты принимаешь меня за кого—то другого. Я не тот человек, о котором ты говоришь. Женщина положила прохладную белую ладонь на его обожженные рыжие волосы и легким движением откинула их назад. Прохлада ее руки и прохлада ее мягкого, тихого голоса были подобны свежести глубокого, зеленого родника. – На свете есть только один Винсент Ван Гог. Я никогда не спутаю его ни с кем другим. – И давно ты знаешь меня? – Восемь лет, Винсент. – Но ведь восемь лет назад я был в... – ...да, дорогой, в Боринаже. – И ты знала меня тогда? – Я увидела тебя впервые поздней осенью, вечером, когда ты сидел на ржавом железном колесе напротив Маркасской шахты... – ...глядя, как углекопы расходятся по домам! – Да. Когда я в первый раз взглянула на тебя, ты сидел там без дела. Я хотела пройти мимо. Но ты вынул из кармана мятый конверт и карандаш и начал рисовать. Я следила через твое плечо, что у тебя выходит. И когда я увидела... я полюбила тебя. – Полюбила? Ты полюбила меня? – Да, Винсент, мой дорогой, мой милый Винсент, я полюбила тебя. – В ту пору я, наверно, был не так безобразен. – Ты не был и вполовину так красив, как сейчас. – Твой голос... Майя... он звучит так странно. Лишь однажды в жизни женщина разговаривала со мной таким голосом... – ...и это была Марго. Она любила тебя, Винсент, и я тоже люблю тебя. – Ты знала Марго? – Я прожила в Брабанте два года. Я ходила за тобой по полям каждый день. Я смотрела, как ты работаешь в прачечной, около кухни. И я была счастлива, потому что Марго любила тебя. – Значит, тогда ты меня уже не любила? Она ласково прикоснулась кончиками прохладных пальцев к его глазам. – Ах, что ты, я любила тебя. Я уже не могла разлюбить тебя с самого первого дня. – И ты не ревновала к Марго? Женщина грустно улыбнулась. По ее лицу пробежала тень бесконечной печали и сострадания. Винсент вспомнил Мендеса да Коста. – Нет, я не ревновала к Марго. Ее любовь принесла тебе благо. Но мне не нравилась твоя любовь ж Кэй. Она оскорбляла тебя. – А знала ты меня, когда я любил Урсулу? – Нет, это было до меня. – Я бы тебе не понравился тогда. – Нет. – Я был глупцом. – Иногда человек должен быть глупцом в начале, чтобы стать мудрым в конце. – Но если ты любила меня в Брабанте, почему ты не пришла ко мне тогда? – Ты еще не был готов к этому, Винсент. – А теперь... я готов? – Да. – И ты все еще любишь меня? Даже теперь... сегодня... в эту минуту? – Теперь... сегодня... в эту минуту... и вечно. – Как ты можешь любить меня? Посмотри, мои десны сочатся кровью. У меня вставные зубы. Все волосы на моей голове выпали, их сожгло солнце. Глаза у меня красные, как у сифилитика. Все мое лицо – сплошь торчащие кости. Я безобразен. Безобразней всех на свете. У меня расстроены нервы, плоть моя бесплодна, весь я до кончиков ногтей отравлен ядом. Как можешь ты любить такого человека? – Присядь на минуту, Винсент. Он сел на свой складной стул. Женщина опустилась на колени, прямо в темную рыхлую глину. – Что ты делаешь? – вскричал Винсент. – Ты запачкаешь свое платье! Позволь, я подстелю тебе куртку. Женщина отстранила его нежнейшим прикосновением ладони. – Много раз пачкала я свое платье, следуя за тобой, Винсент, но оно снова становилось чистым. Своею сильной белой рукой она приподняла голову Винсента и пригладила у него прядь волос за ухом. – Ты не безобразен, Винсент. Ты красив. Ты истерзал и измучил бедное тело, в котором заключена твоя душа, но душу ты бессилен умертвить. А ведь ее—то я и люблю. И когда ты погубишь себя своей неистовой работой, эта душа будет жить... вечно. И с нею моя любовь к тебе. Солнце поднималось по небу все выше и выше, обрушивая яростный зной на Винсента и женщину. – Дай я уведу тебя куда—нибудь, где прохладней, – сказал Винсент. – Вон там, неподалеку, растут кипарисы. В тени тебе будет лучше. – Я счастлива с тобой и здесь. Солнце мне не мешает. Я привыкла к нему с детства. – Ты давно уже в Арле? – Я приехала сюда вслед за тобой из Парижа. Винсент в гневе вскочил на ноги и опрокинул стул. – Ты просто обманщица! Тебя подослали сюда, чтобы посмеяться надо мной. Кто—то рассказал тебе о моем прошлом, подкупил тебя, – и ты хочешь меня одурачить! Сейчас же уходи отсюда. Я не скажу тебе больше ни слова! Женщина ответила на его гневные слова улыбкой. – Я не обманщица, мой милый. Я – самое верное, самое настоящее, что только есть в твоей жизни. Мою любовь к тебе не убить ничем. – Это ложь! Ты не любишь меня. Ты издеваешься надо мной. Сейчас я положу конец этой игре. Он грубо подхватил ее на руки. Она нежно прильнула к нему. – Сейчас я сделаю тебе больно, если ты не уйдешь отсюда и не перестанешь мучить меня. – Сделай мне больно, Винсент. Ты делал мне больно и раньше. Нельзя любить, не испытывая боли. – Хорошо, тогда получай! Он крепко стиснул ее в объятиях, прижался ртом к ее рту, кусая его, с силой вдавливая в него свой поцелуй. Женщина приоткрыла мягкие теплые губы и позволила ему пить сладость своего рта. Она прижалась к нему всем телом, всем своим существом, полностью отдавая себя в его власть. Вдруг Винсент резко выпустил ее из рук, отшатнулся и шагнул к своему стулу. Женщина скользнула наземь рядом с ним, положила ему на колено руку и оперлась на нее подбородком. Он гладил ее пышные, лимонно—желтые волосы. – Ну, теперь ты видишь, что я говорю правду? – спросила она. Помолчав с минуту, Винсент сказал: – Ты приехала в Арль вслед за мной. Знаешь ли ты о Голубке? – Рашель – прелестное дитя. – И ты ничего не имеешь против? – Ты мужчина, Винсент, тебе нужна женщина. А поскольку в то время еще не наступил мой срок прийти к тебе, ты был волен делать, что хотел. Но теперь... – Теперь? – Теперь тебе нет в этом нужды. И никогда не будет. – Ты хочешь сказать, что ты... – Конечно, милый. Я люблю тебя... – И за что только ты любишь меня? Женщины всегда меня презирали. – Ты создан не для любви. Твое призвание – это работа. – Работа? Чушь! Я был безумцем! Какой толк в этих сотнях полотен? Кому они нужны? Кто купит их? Кто скажет мне хотя бы скупое слово похвалы, кто признает, что я сумел понять природу и передал ее красоту? – Придет день, и весь мир признает это, Винсент. – Придет день... Это пустая мечта! Вроде мечты о том, что когда– нибудь я стану здоровым человеком, что у меня будет дом, семья, что моя живопись даст мне средства к существованию. Я пишу уже восемь долгих лет. И за это время никто не пожелал купить у меня хотя бы одну картину. Я был поистине безумцем. – Да, но каким чудесным безумцем! Когда тебя не будет на свете, Винсент, мир поймет, что ты хотел сказать. Полотна, которые ты не можешь продать сегодня за сотню франков, будут стоить миллионы. Ах, ты смеешься, но я говорю тебе правду. Твои картины будут висеть в музеях Амстердама и Гааги, Парижа и Дрездена, Мюнхена и Берлина, Москвы и Нью—Йорка. Им не будет цены, потому что никто не захочет их продать. О твоем искусстве, Винсент, напишут целые книги, из романов и пьес люди узнают о твоей жизни. Там, где сойдутся хотя бы два человека, любящие живопись, имя Винсента Ван Гога будет священно. – Если бы я до сих пор не чувствовал вкус твоих губ, то решил бы, что брежу или схожу с ума. – Сядь рядом со мною, Винсент. Дай мне твою руку. Солнце стояло у них прямо над головой. Склон холма в лощина были окутаны серно—желтой дымкой. Винсент сидел в борозде, рядом с женщиной. Шесть долгих месяцев он ни с кем не разговаривал, кроме Рашели и Рулена. В нем бурлил и бился поток слов. Женщина заглянула в глубину его глаз, и он начал говорить. Он рассказал ей об Урсуле и о том времени, когда он служил приказчиком у Гупиля. Рассказал о своих бесплодных усилиях и разочарованиях, о своей любви к Кэй, о том, как он пытался жить с Христиной, введя ее женой к себе в дом. Рассказал о надеждах, которые он возлагал на свою живопись, о брани, которой его осыпали со всех сторон, об ударах, которые наносила ему судьба, о том, почему он хотел, чтобы рисунок его был грубым, мазок легким и стремительным, колорит жарким, накаленным; обо всем, что он хотел сделать для живописи а живописцев; наконец, о том, как он довел себя до полного истощения и болезни. Чем больше он говорил, тем больше волновался и взвинчивал себя. Слова лились из его уст, словно краски из тюбиков. В лад со словами дергалось все его тело. Он говорил пальцами, руками, локтями, плечами – вскочив на ноги, он расхаживал взад и вперед, и все его тело содрогалось. Сердце у него билось все чаще, кровь словно кипела, палящее солнце возбуждало в нем лихорадочную, яростную энергию. Женщина слушала его не шевелясь, не упуская ни одного слова. По ее глазам он видел, что она все понимает; Она с жадностью ловила то, что он говорил, и с жадностью ждала, что он скажет еще, всеми силами стараясь проникнуться его чувствами и принять все, что рвалось из его души. Вдруг Винсент замолчал. Он весь дрожал от возбуждения. Лицо и глаза у него налились кровью, ноги ослабели. Женщина притянула его к себе и усадила рядом. – Поцелуй меня, Винсент, – сказала она. Он поцеловал ее в губы. Они уже не были теперь прохладными. Винсент лег рядом с женщиной на жирную, рыхлую глину. Она целовала его глаза, уши, ноздри, целовала ложбинку на его верхней губе, прикасалась своим сладким, нежным языком к его языку и небу, трепещущими пальцами ласкала его заросшую волосами шею и плечи, гладила под мышками. Ее поцелуи пробудили в нем мучительную страсть, какой он не испытывал никогда в жизни. Каждая частица его тела томилась и ныла тупой болью плоти, которую была уже не способна насытить и успокоить одна только плоть. Никогда еще женщина не отдавалась ему с поцелуем горячей любви. Он прижимал ее к себе, ощущая, как под мягким белым платьем струится но ее жилам жаркая кровь. – Подожди, – сказала она. Она отстегнула серебряную пряжку на бедре и сбросила с себя платье. Ее тело отливало таким же темным золотом, как и лицо. Это было девственное тело, девственное до последней жилки. Он и не подозревал, что женское тело может быть вылеплено с таким совершенством. Он и не знал, что страсть может быть такой чистой, такой чудесной и опаляющей. – Ты весь дрожишь, дорогой, – сказала она. – Прижмись ко мне крепче. Не бойся, мой дорогой, мой милый мальчик. Делай со мной все, что хочешь. Солнце достигло зенита и стало спускаться по небосклону. От свирепых солнечных лучей земля за день накалилась, как печь. Она источала запахи того, что было посеяно, выросло и созрело в ней, а потом было сжато и снова умерло. Она пахла жизнью – острым, пряным запахом жизни, которая непрерывно рождалась и вновь обращалась в прах, готовый для нового творения. Возбуждение Винсента все возрастало. В нем бился и трепетал каждый фибр, и где—то внутри, в какой—то одной точке, этот трепет пронзал его резкой болью. Женщина открыла Винсенту свои объятия, отдавая ему весь свой пыл и принимая его мужскую ласку, она впивала его всепоглощающую страсть, которая все более и более переполняла его существо, и своими нежными объятиями, каждым своим движением вела его к сладкому беспамятству созидательных судорог последнего мгновения. Обессиленный, он уснул на ее груди. Когда Винсент проснулся, он был уже один. Солнце закатилось за горизонт. Пока Винсент лежал, зарывшись лицом в землю, на щеке у него налипла лепешка глины. Земля теперь похолодела, от нее шел запах полусгнивших, погребенных в ней растений. Он надел куртку и заячью шапку, взвалил на спину мольберт и взял полотно под мышку. По темной дороге он побрел к дому. Придя к себе, он кинул мольберт и чистое, пустое полотно на тюфяк и вышел на улицу, чтобы выпить где—нибудь чашку кофе. Облокотившись на холодный каменный столик и уткнув лицо в ладони, он мысленно вновь переживал все то, что произошло с ним в этот день. – Майя, – шептал он. – Майя... Слышал ли я когда—нибудь это имя?.. Оно значит... оно значит... что же оно значит? Он заказал еще чашку кофе. Через час он потащился по площади Ламартина обратно к дому. Дул холодный ветер. Вот—вот должен был хлынуть дождь. Полтора часа назад, войдя в спальню и швырнув мольберт на тюфяк, он даже не зажег свою керосиновую лампу. Теперь он чиркнул спичкой и поставил горящую лампу на стол. Желтое пламя осветило комнату. Уголком глаза Винсент заметил на тюфяке что—то цветное, яркое. Пораженный, он шагнул к тюфяку и взял в руки полотно, с которым ходил сегодня работать. В великолепии дивного солнца перед ним сияла осенняя роща – два зеленых, цвета бутылочного стекла, кипариса, похожие по форме на бутыли; три невысоких каштана, листья у них табачного и оранжевого тона; тис с бледно—лимонной кроной и фиолетовым стволом; два куста с кроваво—красной, пурпурной и багряной листвой; впереди немного песка, травы, и над всем – голубое—голубое небо с витым шаром серно—лимонного огня. Несколько минут он стоял, остолбенев, и смотрел на картину. Потом осторожно повесил ее, на стену. Отойдя к тюфяку, он сел, скрестив ноги, и стал смотреть на полотно, криво улыбаясь. – Это хорошо, – сказал он вслух. – Это сделано хорошо.7
Наступила зима. Целыми днями Винсент сидел в своей теплой, уютной мастерской. Тео писал, что Гоген, на один день приехавший в Париж, был в тяжелом состоянии духа и всеми силами сопротивлялся поездке в Арль. В мечтах Винсента его дом был не просто пристанищем для двух человек, а постоянной мастерской для всех художников Юга. Он обдумывал планы, как вместе с Гогеном они расширят жилую площадь в доме и наладят свою работу. Всякий художник, который захочет жить с ними, будет желанным гостем; вместо платы за приют он должен будет посылать Тео одну картину в месяц. Как только у Тео скопится достаточно полотен импрессионистов, он уйдет от Гупиля и откроет в Париже галерею Независимых. В своих письмах Винсент давал ясно понять, что Гоген будет распорядителем мастерской и старшиной всех художников, которые захотят тут работать. Винсент старался сберечь каждый франк, чтобы получше обставить свою спальню. Стены он выкрасил в бледно—фиолетовый цвет. Пол был из красных плиток. Он купил тонкие, зеленовато—лимонные простыни и наволочки, ало—красное одеяло и окрасил деревянную кровать и стулья в цвет свежего сливочного масла. Туалетный столик он покрыл оранжевой, таз голубой, а дверь лиловой краской. Он повесил на стену несколько своих картин, открыл ставни и, написав комнату, послал полотно Тео, чтобы брат знал, какая у него уютная спальня. Он написал ее в легких прозрачных тонах, как на японских гравюрах. С комнатой Гогена дело обстояло иначе. Украшать дешевыми, случайными вещами комнату распорядителя мастерской Винсент не хотел. Жена Рулена говорила, что ореховая кровать, которую ему так хотелось купить для Гогена, обойдется не дешевле трехсот пятидесяти франков, а таких денег у Винсента не было. Тем не менее он постоянно покупал мелкие вещи для комнаты друга и тем ставил свой бюджет на грань катастрофы. В те дни, когда у Винсента не было денег на модель, он, стоя перед зеркалом, снова и снова писал автопортреты. Приходила позировать ему и Рашель; однажды воскресным вечером побывала у него вместе со своими детьми мадам Рулен; мадам Жину, жена владельца кафе, куда постоянно ходил Винсент, позировала ему в своем арлезианском костюме. Он закончил ее портрет в один час. Фон он написал бледно—лимонным, лицо серым, платье черным, с пятнами берлинской лазури. Сидела мадам Жину в специально взятом для этого случая у соседей оранжевом деревянном кресле, облокотившись на зеленый стол. Молодой зуав, совсем мальчик, с мелкими чертами лица, с бычьей шеей и глазами тигра согласился позировать Винсенту совсем за пустячную сумму. Винсент написал его по пояс, в голубой – цвета эмали – форме зуавов, с красновато—оранжевыми шнурами и двумя бледно—лимонными звездами на груди. На его бронзовой кошачьей головке лихо сидела красная феска, фон на портрете Винсент сделал зеленым. Получилось дикое сочетание самых несовместимых цветов – резких, грубых, кричащих, – но характер зуава это вполне выражало. Винсент часами сидел у окна с карандашом и бумагой, отрабатывая рисунок, – ему хотелось несколькими штрихами очертить фигуру мужчины, женщины, ребенка, лошади или собаки так, чтобы голова, туловище и ноги составляли единое органическое целое. Он сделал копии многих своих летних картин, прикидывая в уме, что если бы он продавал в год пятьдесят полотен по двести франков за штуку, то мог бы есть и пить, не краснея, – у него было бы на это полное право. За зиму он сделал для себя массу удивительных открытий: он узнал, что, изображая тело, ни в коем случае нельзя применять берлинскую лазурь, ибо тело тогда становится безжизненным, словно деревянным; что тона на его полотнах должны быть гораздо плотнее и резче, чем теперь; что самый существенный элемент живописи на Юге – это контрасты красного и зеленого, оранжевого и голубого, серно—желтого и сиреневого; что своими полотнами он хотел сказать людям что—то утешительное, нечто такое, что есть в музыке; что он стремился вложить в образы мужчин и женщин нечто божественное, – то, что обычно символически обозначают нимбом вокруг головы и что он пытался выразить сиянием и трепетом своих красок; и, наконец, он понял, что для того, чьим уделом с рождения стала нищета, она неизбывна вовеки. Один из дядей Ван Гогов скончался и оставил Тео маленькое наследство. Зная о страстном желании Винсента жить вместе с Гогеном, Тео решил половину этого наследства потратить на обстановку гогеновской спальни и на его переезд в Арль. От радости Винсент был на седьмом небе. Он начал обдумывать, как еще лучше украсить свой дом. Ему хотелось написать дюжину панно с изображением великолепных арлезианских подсолнечников – симфонию голубого и желтого. Возможность переехать в Арль на деньги Тео Гогена, видимо, даже не обрадовала. В силу каких—то непонятных для Винсента причин, Гоген предпочитал околачиваться в Понт—Авене. Винсент рвался поскорей и получше украсить дом, чтобы к приезду старшины мастерская была готова. Наступила весна. Кусты олеандра на заднем дворе расцвели с таким невероятным буйством, что Винсент лишь диву давался. Рядом с только что распустившимися цветами на склоненных от тяжести ветках были уже увядшие, а молодые побеги, словно брызги зеленых струй, множились с неистощимой силой. Снова Винсент закинул мольберт за спину и снова отправился в поле – ему хотелось найти подсолнухи для задуманных двенадцати панно. Вспаханная земля была приглушенно—мягких тонов и напоминала цветом крестьянские сабо, по голубому, как незабудки, небу плыли хлопья белых облаков. Несколько подсолнухов Винсент написал на месте еще ранним утром, в самом стремительном темпе, а часть сорвал, унес домой и писал их в зеленой вазе. Стены дома снаружи Винсент, к немалой потехе обитателей площади Ламартина, заново выкрасил желтой краской. Когда все работы были закончены, пришло лето. Вместе с ним вернулся изнуряющий зной, и упорный мистраль, и беспокойство, которым был заражен самый воздух, и мучительный, тягостно—унылый вид окрестностей и самого городка, прилепившегося к склону холма. Тем временем приехал Гоген. Он сошел с поезда до рассвета и дожидался утра в маленьком ночном кафе. Хозяин кафе взглянул на него и воскликнул: – Да вы ж и есть тот самый его приятель! Я сразу признал вас. – О каком, черт подери, приятеле ты толкуешь? – Господин Ван Гог показывал мне портрет, который вы прислали. Вы на нем точь—в—точь, как вылитый. Гоген отправился будить Винсента. Встреча их была шумной и сердечной. Винсент показал Гогену дом, помог ему распаковать чемодан, расспрашивал о парижских новостях. Они без умолку разговаривали несколько часов. – Собираешься сегодня работать, Гоген? – Ты что, принимаешь меня за Каролюса—Дюрана? Вот я только—только сошел с поезда, схватил кисть и тут же увековечил прекрасный закат? – Нет, что ты, я просто так спросил... – Тогда не задавай дурацких вопросов. – Я тоже устрою себе сегодня праздник. Пошли, я покажу тебе город. Он повел Гогена по холму, через раскаленную солнцем площадь Мэрии; скоро они были уже на проезжей дороге, в другом конце городка. Зуавы маршировали взад и вперед по полю перед своими казармами; их красные фески горели на солнце. Винсент повел Гогена через небольшой парк к римскому форуму. Навстречу то и дело попадались арлезианки, вышедшие подышать свежим воздухом. Винсент с восхищением заговорил о том, как они красивы. – Ну, что ты скажешь об арлезианках, Гоген? – допытывался он. – Если хочешь знать, я от них не в таком уж восторге. – Ты не смотри на формы, ты погляди, какой у них цвет кожи. Полюбуйся, какой колорит придало им солнце. – А как тут насчет борделей, Винсент? – Ах, нет ничего приличного – только пятифранковые заведения для зуавов. Они вернулись домой и принялись обсуждать распорядок жизни. В кухне они прибили к стене ящик и положили в него половину наличных денег – столько—то на табак, столько—то на непредвиденные расходы, столько—то на квартиру. На крышку был положен лист бумаги и карандаш – записывать каждый франк, который берется из ящика. В другой ящик они положили остальные деньги, на еду, разделив их на четыре части – на неделю каждая. – Ты ведь хороший повар – правда, Гоген? – Превосходный! Научился, когда плавал в море. – Ну тогда ты и будешь стряпать. Носегодня по случаю твоего приезда я сварю суп сам. Когда вечером Винсент подал суп, Гоген не смог его есть. – Но понимаю, как это ты умудрился сварить такую адскую бурду. Сказать по правде, это похоже на ту мешанину красок, которая у тебя на картинах. – А что тебе не нравится на моих картинах? – Дорогой мой, ты все еще барахтаешься в волнах неоимпрессионизма. Лучше бы тебе бросить этот метод. Он не отвечает твоей натуре. Винсент резко отодвинул тарелку. – И у тебя хватает смелости судить так с первого взгляда? Да ты, я вижу, заправский критик! – А ты посмотри сам. Ведь не слепой же ты, правда? Эти бешеные желтые цвета, например, они же совершенно беспорядочны. Винсент взглянул на свои панно. – И это все, что ты можешь сказать о моих подсолнухах? – Нет, дорогой друг, в них есть еще много такого, что можно критиковать. – Что те, к примеру? – Да, к примеру, их дисгармоничность. Они однообразны и незаконченны. – Это ложь! – Ах, сядь, пожалуйста, Винсент. И не гляди на меня так, как будто ты собираешься меня пристукнуть. Я много старше тебя, и у меня более зрелые взгляды. Ты все еще пробуешь, все еще ищешь себя. Слушайся моих советов, они принесут тебе пользу. – Извини меня, Поль. Я бы очень хотел, чтобы ты помог мне. – Прежде всего ты должен начисто выбросить из головы всякую чепуху. Ты целыми днями бредишь о Мейссонье и Монтичелли. Оба они ни к черту не годятся. Пока ты восхищаешься такого рода живописью, тебе не написать ни одного хорошего полотна. – Монтичелли был великим художником. Он так понимал колорит, как ни один его современник. – Твой Монтичелли был кретин и пьяница, вот кто! Винсент вскочил на ноги и метнул свирепый взгляд на Гогена. Тарелка с супом упала на красные плитки пола и разбилась вдребезги. – Ты не смеешь так говорить о Фада! Я люблю его почти как брата! Все эти разговоры о том, что он был пьяница и не в своем уме, – все это злостная клевета. Хотел бы я видеть, как это пьяница напишет такие картины, как Монтичелли! Напряженная работа, чтобы согласовать шесть основных цветов, глубочайшая сосредоточенность, тонкий расчет, умение решить тысячу вопросов в какие—нибудь полчаса – да тут необходим самый здравый ум! И притом абсолютно трезвый! А ты, повторяя сплетни о Фада, поступаешь ничуть не лучше, чем та баба, которая их распустила! – Тю—тю! Нашелся дурак, да не впору колпак! Винсент отшатнулся, словно ему выплеснули в лицо стакан холодной воды. Его душил гнев. Он пытался подавить свою ярость, но не смог. Хлопнув дверью, он ушел к себе в спальню.8
Наутро ссора была забыта. Они вместе напились кофе и пошли в разные стороны искать мотивы для пейзажа. Когда Винсент, страшно уставший от того, что он называл согласованием шести основных цветов, вернулся к вечеру домой, он увидел, что Гоген уже готовит ужин на керосинке. Они начали тихо и мирно беседовать; скоро разговор коснулся живописцев и живописи – единственного предмета на свете, в котором они были страстно заинтересованы. И схватка началась. Тех художников, которыми восхищался Гоген, Винсент презирал. Кумиры Винсента были в глазах Гогена исчадием ада. Они расходились буквально во всем, что касалось их ремесла. Любую тему они могли обсуждать спокойно, дружески, пока речь не заходила о самом для них дорогом – о живописи. Каждый отстаивал свою точку зрения до изнеможения, до хрипоты. Грубой физической силы у Гогена было вдвое больше, но бешеная страстность Винсента уравнивала их шансы в борьбе. Даже в том случае, когда они заговаривали о вещах, по поводу которых у них не было разногласий, доводы их звучали слишком запальчиво. К концу разговора головы у них раскалялись, как раскаляются пушки после баталии. – Тебе не бывать художником до тех пор, пока ты не привыкнешь, взглянув на натуру, уходить в мастерскую и писать ее с совершенно холодной душой, – говорил Гоген. – А я не хочу писать с холодной душой! Неужели ты так глуп, что не понимаешь этого? Я хочу писать горячо, страстно. Для этого я и приехал в Арль. – Все твои полотна – это лишь рабское подражание натуре. Ты должен научиться писать отвлеченно! – Отвлеченно! Боже милостивый! – И еще одно: тебе бы следовало поуважительней прислушиваться к Съра. Живопись – это абстракция, мой мальчик. В ней нет места для разных басен и для поучений, которыми ты тычешь в нос. – Я тычу в нос поучениями? Да ты рехнулся! – Если хочешь читать проповеди, Винсент, иди—ка ты обратно в священники. Живопись – это цвет, линия, форма и ничего более. Художник может воспроизвести декоративность природы – и точка. – Декоративность! – фыркнул Винсент. – Если ты хочешь брать в природе только декоративность, возвращайся на биржу. – Если я вернусь на биржу, то буду ходить по воскресеньям слушать твои проповеди. Но что же стремишься брать в природе ты, мой дорогой командир? – Движение, Гоген, движение и ритм жизни. – Ну, вот, додумался! – Когда я лишу солнце, я хочу, чтобы зрители почувствовали, что оно вращается с ужасающей быстротой, излучает свет и жаркие волны колоссальной мощи! Когда я пишу поле пшеницы, я хочу, чтобы люди ощутили, как каждый атом в ее колосьях стремится наружу, хочет дать новый побег, раскрыться. Когда я пишу яблоко, мне нужно, чтобы зритель почувствовал, как под его кожурой бродит и стучится сок, как из его сердцевины хочет вырваться и найти себе почву семя! – Сколько раз я тебе говорил, Винсент, что художник не должен забивать себе голову теориями. – Возьмем этот пейзаж с виноградником, Гоген. Ты только взгляни! Эти гроздья вот—вот готовы лопнуть и брызнуть соком прямо тебе в глаза. Или посмотри на этот овраг. Я стремился показать зрителю все те миллионы тонн воды, которые бились о его обрывы. А когда я пишу человека, мне надо передать весь поток его жизни, все, что он повидал на своем веку, все, что совершил и выстрадал! – К чему ты, черт возьми, клонишь? – А вот к чему, Гоген. Нива, которая прорастает хлебным колосом, вода, которая бурлит и мечется по оврагу, сок винограда и жизнь, которая кипит вокруг человека, – все это, по сути, одно и то же. Единство жизни – это лишь единство ритма. Того самого ритма, которому подчинено все: люди, яблоки, овраги, вспаханные поля, телеги среди вздымающейся пшеницы, дома, лошади, солнце. Та плоть, из которой состоишь ты, Гоген, завтра будет трепетать в виноградной ягоде, ибо ты и виноградная ягода суть одно и то же. Когда я пишу крестьянина, работающего в поле, я стараюсь написать его так, чтобы тот, кто будет смотреть картину, ясно ощутил, что крестьянин уйдет в прах, как зерно, а прах снова станет крестьянином. Мне хочется показать людям, что солнце воплощено и в крестьянине, и в пашне, и в пшенице, и в плуге, и в лошади, так же как все они воплощены в самом солнце. Как только художник начинает ощущать ритм, которому подвластно все на земле, он начинает понимать жизнь. В этом и только в этом есть бог. – Мой командир, да ты, я вижу, голова! Винсент дрожал с ног до головы, как в лихорадке. Слова Гогена ожгли его, будто пощечина. Он стоял, глупо разинув рот, и не мог вымолвить ни слова. – Нет, ты объясни мне, что ты хочешь сказать, что это значит? – Это значит, что время перебираться в кафе и выпить абсента. Через две недели Гоген сказал: – Давай—ка сегодня вечером сходим в тот самый дом, о котором ты говорил. Может быть, я найду там симпатичную толстушку. – Только, пожалуйста, не бери Рашель. Она моя. Они прошли через лабиринт мощенных камнем проулков и оказались в доме терпимости. Услышав голос Винсента, Рашель вприпрыжку выбежала из зала и бросилась к нему на шею. Винсент познакомил Гогена с Луи. – Господин Гоген, – сказал Луи, – вы ведь художник. Вы не выскажете свое мнение о двух новых картинах, которые я купил в прошлом году в Париже? – С удовольствием. Где именно вы их купили? – У Гупиля, на площади Оперы. Они вот здесь, в первой гостиной. Заходите, господин Гоген. Рашель провела Винсента в комнатку налево, усадила его в кресло, стоявшее у одного из столиков, и забралась к нему на колени. – Я хожу сюда уже полгода, и Луи ни разу не спросил моего мнения об этих картинах, – обиженно сказал Винсент. – Он не считает тебя художником, Фу—Ру. – Что ж, может быть, он и прав. – Ты меня больше не любишь, – сказала Рашель, надувая губы. – Почему ты так думаешь, Голубка? – Ты не приходил ко мне уже несколько недель. – Я был очень занят, Голубка, готовил дом к приезду своего друга. – Значит, ты любишь меня, даже когда не приходишь ко мне? – Даже когда не прихожу. Она ущипнула Винсента за его маленькие, круглые уши и поцеловала их оба, одно за другим. – Чтобы доказать свою любовь, Фу—Ру, отдай мне твои смешные маленькие уши. Ты ведь обещал! – Если ты можешь оторвать их, они твои. – О, Фу—Ру, если бы они были у тебя пришиты, как у моей куклы. Из гостиной донесся шум, там кто—то завизжал – это был не то смех, не то крик боли. Винсент столкнул Рашель с колен и кинулся через зал в гостиную. Гоген, скорчившись, сидел на полу и весь дрожал, по лицу его текли слезы. Луи, с лампой в руках, смотрел на него, совершенно ошарашенный. Винсент нагнулся и потряс Гогена за плечи. – Поль, Поль, что с тобой? Гоген пытался что—то сказать, но не мог. – Винсент, – через минуту заговорил он, задыхаясь. – Винсент, наконец—то мы... отомщены... глянь... на стене... две картины... Луи купил их у Гупиля... для гостиной своего борделя. И только подумай, обе – работы Бугро! Гоген вскочил и бросился к двери. – Обожди минутку! – крикнул Винсент, устремляясь за ним. – Куда ты? – На почту. Я должен сейчас же сообщить об этом по телеграфу в клуб « Батиньоль». Лето было в разгаре, ужасающе знойное, ослепительное. В окрестностях Арля пылали неистовые краски. Зеленые и синие, желтые и красные, они были так резки и напряженны, что ломило в глазах. К чему бы ни прикасалось солнце, его лучи прожигали все насквозь. Долина Роны словно колыхалась в набегающих зыбких волнах зноя. Солнце безжалостно обрушивалось на двух художников, палило и истязало их, лишая человеческого облика и отнимая последние силы. Мистраль сек их тела, выматывая душу, рвал голову с плеч, так что, казалось, он вот—вот разнесет их на куски. И все же каждое утро с рассветом они выходили из дому и работали до тех пор, пока нестерпимая синева дня не сгущалась в нестерпимую синеву ночи. Между Винсентом и Гогеном назревала решительная схватка: один из них был подобен грозному вулкану, а другой лаве, клокочущей под земной корой. По ночам, когда они бывали слишком измучены, чтобы спать, и слишком взвинчены, чтобы сидеть спокойно, все свое внимание они сосредоточивали друг на друге. Денег у них оставалось мало. Развлечься было совершенно нечем. Они давали выход своим чувствам, постоянно задирая друг друга. Гоген не упускал случая взбесить Винсента, а когда Винсент доходил до белого каления, бросал ему в лицо: « Мой командир, да ты, я вижу, голова!» – Не удивительно, Винсент, что ты не можешь писать. Посмотри, какой беспорядок у тебя в мастерской. Посмотри, какой хаос у тебя в ящике для красок. Господи боже, если бы твои голландские мозги не были так забиты этими Доде и Монтичелли, может быть, ты взялся бы за ум и навел хоть какой– нибудь порядок в своей жизни. – Это тебя не касается, Гоген. Здесь моя мастерская. Наводи порядок у себя, если хочешь. – Раз уж мы заговорили об этом, я тебе скажу, что в голове у тебя такая же каша, как и в твоем ящике. Ты восхищаешься последним пачкуном, рисующим почтовые марки, и тебе никак невдомек, что Дега... – Дега! Разве он написал хоть одну вещь, которую можно было бы поставить рядом с картинами Милле? – Милле! Этот сентиментальный болван, этот... Слыша, как Гоген поносит Милле, Винсент доходил до исступления: Милле он считал своим учителем и духовным отцом. Он бросался на Гогена и бегал за ним из комнаты в комнату. Гоген отступал. Дом был невелик. Винсент кричал, брызгал слюной, размахивая кулаками перед внушительной физиономией Гогена. В глухой час душной южной ночи между ними разыгрывались жестокие ссоры. Они оба работали как черти, высекая из своих сердец и из природы искру созидания. День за днем сражались они со своими огненно—яркими, полыхающими палитрами, и ночь за ночью – друг с другом. В те вечера, когда не вспыхивали злобные перебранки, их дружеские споры приобретали такой накал, что после них было невозможно заснуть. Пришли деньги от Тео. Они тут же потратили их на табак и абсент. Стояла такая жара, что о еде не хотелось и думать. Им казалось, что абсент успокоит их нервы. На деле он их только расстроил еще больше. Подул отвратительный, свирепый мистраль. Он приковал Винсента и Гогена к дому. Гогену не работалось. Он коротал время, издеваясь над Винсентом и вызывая в нем постоянное негодование. Никогда еще он не видывал, чтобы человек приходил в такое бешенство, споря об отвлеченных вещах. Для Гогена препирательства с Винсентом были единственным развлечением. И он без зазрения совести пользовался всяким случаем, чтобы вывести его из себя. – Если бы ты так не горячился, Винсент, тебе же было бы лучше, – сказал он на шестой день мистраля. Он уже довел своего друга до такого состояния, что по сравнению с бурей, бушевавшей в их доме, мистраль казался легким ветерком. – Погляди—ка лучше на себя, Гоген. – А знаешь, Винсент, те люди, которые часто бывали в моем обществе и имели обыкновение со мной спорить, – все они как один сошли с ума. – Это что же, угроза? – Нет, просто предостережение. – Можешь оставить свои предостережения при себе. – Хорошо, в таком случае не пеняй, если что стрясется. – Ох, Поль, Поль, хватит нам ссориться. Я знаю, что ты талантливее, чем я. Знаю, что ты многому можешь меня научить. Но я не хочу, чтобы ты презирал меня, – слышишь? Я работал как каторжный девять долгих лет, и, клянусь богом, у меня есть что сказать этими проклятыми красками! Разве не так? Ну ответь же, Гоген! – Мой командир, да ты голова! Мистраль мало—помалу утих. Арлезианцы осмелились снова выйти на улицу. Вновь пылало сумасшедшее солнце. В воздухе было что—то лихорадочное, неудержимо тревожное. У полиции прибавилось работы – всюду начались насилия и дерзкие преступления. В глазах прохожих таилось беспокойство. Никто не смеялся. Никто не разговаривал. Черепичные крыши плавились под солнцем. На площади Ламартина возникали драки, сверкали ножи. Назревала катастрофа. Арль задыхался, выносить такое напряжение он был больше не в силах. Казалось, долина Роны вот—вот взлетит на воздух, брызнув миллионом осколков. Винсент вспомнил слова парижского журналиста. «Что же будет? – спрашивал он себя. – Землетрясение или революция?» Вопреки всему, он по—прежнему работал в поле без шляпы. Ему нужен был этот белый ослепительный зной, чтобы растопить ужасающие страсти, обуревавшие его душу. Мозг его был словно жаркий тигель, выплавлявший одно докрасна раскаленное полотно за другим. С каждой новой картиной он все острее чувствовал, что девять лет труда во всю силу сказались только теперь, в эти тяжелые недели, сделав его на короткий срок могучим и совершенным живописцем. Он теперь далеко превзошел то, что создал в прошлое лето. Никогда уж потом не написать ему полотен, столь полно выражающих существо природы и его самого! Он работал с четырех утра до позднего вечера, пока сумерки не скрадывали пейзаж. Он писал две, а порой и три картины в день. Каждое полотно, которое он создавал единым судорожным порывом, отнимало у него целый год жизни. Продолжительность его существования на земле не интересовала Винсента, для него важно было лишь то, как он распорядится отпущенными ему днями. Время для него измерялось лишь полотнами, которые выходили из—под его кисти, а не шелестом отрываемых листков календаря. Он понимал, что его искусство достигло наивысшего расцвета, что наступил зенит его жизни, его час, к которому он стремился многие годы. Он не знал, как долго это продлится. Он знал одно – он должен писать и писать, полотно за полотном, полотно за полотном... Этот зенит жизни, этот краткий миг в бесконечности времен надо удержать, продлить, растянуть до тех пор, пока он не создаст все то, чем переполнена его душа. Трудясь без устали целыми днями, ссорясь и ругаясь по ночам, не зная сна, довольствуясь самой скудной пищей, упиваясь солнцем, красками, возбуждением, табаком и абсентом, терзаемые стихиями и творческим жаром, изводя себя яростными нападками и злобой, друзья все больше и больше ненавидели друг друга. Их палило солнце. Их бичевал мистраль. Им слепили глаза краски. Абсент обжигал их пустые желудки. Душной, тягостной ночью, когда разражалась буря, их дом стонал и содрогался. Гоген написал портрет Винсента, пока тот рисовал в поле плуги. Винсент долго смотрел на этот портрет. В первый раз он ясно понял, что думает о нем Гоген. – Это, конечно, я, – сказал он. – Я, но только сумасшедший! Вечером они пошли в кафе. Винсент заказал себе легкого абсента. Вдруг он швырнул свой налитый до краев стакан Гогену в лицо. Гоген увернулся. Он схватил Винсента и на руках перенес его через всю площадь Ламартина. Винсент опомнился уже в кровати. Он тотчас же уснул. – Мой милый Гоген, – сказал он утром тихим и спокойным голосом, – мне смутно помнится, что вчера вечером я оскорбил тебя. – Я прощаю тебя от всего сердца, – отозвался Гоген, – но вчерашняя сцена может повториться. Если бы стакан попал мне в лицо, я мог бы потерять самообладание и задушить тебя. Поэтому позволь мне написать твоему брату, что я уезжаю отсюда. – Нет, нет! Поль, ты не уедешь! Неужели ты бросишь наш дом? Все, что я сделал здесь, я сделал для тебя. Спор не утихал целый день. Винсент горячо уговаривал Гогена остаться. Гоген отвергал каждый его довод. Винсент упрашивал, льстил, ругался, грозил, даже плакал. И на этот раз он одержал верх. Он чувствовал, что вся его жизнь зависит от того, останется ли его друг в доме. К вечеру Гоген изнемог и еле стоял на ногах. Он сдался лишь затем, чтобы немного отдышаться. Во всем доме воздух трепетал и содрогался, словно насыщенный электричеством. Гоген был не в силах заснуть. Он задремал лишь под утро, на заре. Странное ощущение заставило его проснуться. Открыв глаза, он увидел, что над его кроватью стоит Винсент и пристально смотрит на него из темноты. – Что с тобой, Винсент? – сурово спросил Гоген. Винсент вышел из комнаты, лег в постель и забылся тяжелым сном. На следующую ночь Гоген был разбужен тем же самым ощущением. У его кровати стоял Винсент и пристально смотрел на него из темноты. – Винсент! Иди ложись! Винсент повернулся и вышел. На другой день за ужином у них вспыхнула жестокая ссора из—за супа. – Ты бухнул в него краски, Винсент, стоило мне зазеваться! – крикнул Гоген. Винсент расхохотался. Он подошел к стене и, взяв мел, написал: Je suis Saint Esprit, Je suis sain d'esprit [Я святой дух, У меня здоровый дух (фр.)]. Несколько дней он вел себя очень тихо. Вид у него был унылый и угнетенный. С Гогеном он едва обмолвился словом. Он не брал в руки кисть. Не читал. Он сидел на стуле и упорно смотрел прямо перед собой, в пространство. На четвертый день, когда дул свирепый мистраль, он попросил Гогена пойти с ним прогуляться. – Идем в парк, – сказал он, – я хочу тебе кое—что сказать. – Разве ты не можешь сказать это дома, ведь здесь нам гораздо уютнее? – Нет, я не могу говорить сидя в четырех стенах. Мне надо пройтись. – Ну что ж, пусть будет по—твоему. Они пошли по проезжей дороге, которая огибала левую окраину города. Чтобы сделать шаг, им приходилось наклоняться вперед всем телом и пробивать мистраль, словно он был чем—то твердым и упругим. Кипарисы в парке гнулись под ветром почти до земли. – Что ты хотел сказать мне? – спросил Гоген. Он должен был кричать Винсенту прямо в ухо. Ветер уносил его слова раньше, чем Винсент успевал их расслышать. – Поль, я все думал эти последние дни. У меня родилась замечательная идея. – Извини, пожалуйста, но я побаиваюсь твоих замечательных идей. – Мы все зашли в тупик в своей живописи. А знаешь почему? – Что, что? Не слышу ни слова. Крикни мне на ухо! – ЗНАЕШЬ, ПОЧЕМУ МЫ ВСЕ ЗАШЛИ В ТУПИК В СВОЕЙ ЖИВОПИСИ? – Нет. Почему? – Потому, что мы пишем в одиночку! – Что за чепуха! – Кое—что мы пишем хорошо, кое—что – плохо. И вот, представь, мы соединяем свои силы в одном полотне. – Мой командир, я ловлю каждое твое слово! – Помнишь ты братьев Бот? Голландских живописцев? Одному удавался пейзаж. Другой был силен в изображении человеческой фигуры. Они писали картину совместно. Один делал пейзаж. Другой вписывал в него фигуры. И они превосходно работали. – Короче говоря, к чему это ты клонишь? – Что? Я не слышу. Подойди поближе. – Я ГОВОРЮ – ПРОДОЛЖАЙ! – Поль, именно так и должны делать мы. Ты и я, Съра, Сезанн, Лотрек, Руссо. Мы все должны работать совместно над одними полотнами. Это будет истинная коммуна художников. Мы будем сносить в картину все лучшее, на что каждый из нас способен. Съра – воздух. Ты – пейзаж. Сезанн предметы. Лотрек фигуры. Я – солнце, луну и звезды. Все вместе мы составим одного великого живописца. Что ты скажешь? – Тю—тю! Нашелся дурак, да не впору колпак! Гоген разразился хриплым, неистовым хохотом. Ветер швырял его хохот прямо в лицо Винсенту, как швыряет пену с морской волны. – Командир, – сказал Гоген, когда, насмеявшись, он перевел наконец дух. – Если твоя идея не самая величайшая из всех идей в мире, то провалиться мне на месте! А пока, извини меня, я посмеюсь еще немного. И он пошел по тропинке, хватаясь за живот и корчась от хохота. Винсент не шевелясь стоял на месте. Целая туча черных птиц стремительно опускалась на Винсента с неба. Тысячи черных птиц, крича, летели на него и били крыльями. Они кружились над ним, хлестали его, накрывали с головой своими черными телами, лезли ему в волосы, врывались в уши, в глаза, в ноздри, в рот, погребая его под плотным, траурно—черным, душным облаком трепещущих крыл. Гоген вернулся назад. – Слушай, Винсент, давай—ка пойдем отсюда прямо к Луи. По—моему, необходимо отпраздновать рождение твоей восхитительной идеи. Винсент молча потащился за Гогеном на улицу Риколетт. Гоген ушел наверх с одной из девушек. Рашель села к Винсенту на колени тут же в зале. – Ты не пойдешь ко мне, Фу—Ру? – спросила она. – Нет. – Почему же? – У меня нет пяти франков. – Тогда, может быть, ты отдашь мне вместо этого свое ухо? – Отдам. Гоген скоро вернулся. Они медленно пошли вниз по холму к своему дому. Гоген наскоро проглотил ужин. Затем, не говоря ни слова, он вышел из дома. Он пересек уже почти всю площадь Ламартина, когда услышал за спиной знакомые шаги – короткие, торопливые, сбивчивые. Он обернулся. Винсент догонял его, в руках у него была открытая бритва. Гоген стоял, не двигаясь, не спуская с Винсента глаз. Винсент остановился в двух шагах от него. Он пристально смотрел на Гогена из темноты. Потом он понурил голову, повернулся и побежал обратно к дому. Гоген пошел в гостиницу. Он снял там комнату, запер на замок дверь и лег в постель. Винсент вернулся домой. Он поднялся по красным кирпичным ступенькам в спальню. Взял в руки зеркало, перед которым столько раз писал свой автопортрет. Поставил его на туалетный столик, прислонив к стене. Он увидел в зеркале свои красные, налитые кровью глаза. Это конец. Его жизнь прошла. Он читал это по своему лицу. Лучше свести все счеты сейчас же. Он поднял бритву. Он почувствовал, как острая сталь прикоснулась к горлу. Чьи—то голоса шептали ему странные, небывалые слова. Арлезианское солнце метнуло между его глазами и зеркалом вал ослепительного огня. Одним движением бритвы он отхватил, правое ухо. На голове осталась лишь узкая полоска мочки. Он выронил бритву из рук. Обмотал голову полотенцем. Кровь большущими каплями падала на пол. Он вынул ухо из таза. Обмыл его. Завернул в несколько листков бумаги, потом упаковал сверток в газету. Он натянул на обмотанную голову баскский берет. Спустился по лестнице к двери. Перешел площадь Ламартина, поднялся на холм, позвонил у входа в дом номер один на улице Риколетт. Служанка открыла дверь. – Позови мне Рашель. Через минуту вышла Рашель. – А, это ты, Фу—Ру! Чего тебе надо? – Я принес тебе кое—что. – Мне? Подарок? – Да, подарок. – Как это мило с твоей стороны, Фу—Ру. – Смотри, береги его. Это подарок на память от меня. – А что это такое? – Разверни, увидишь. Рашель развернула бумагу. Она в ужасе уставилась на ухо. Потом как мертвая рухнула на плиты тротуара. Винсент поплелся прочь. Он шел вниз по склону холма. Пересек площадь Ламартина. Потом затворил за собой дверь и лег в кровать. Когда Гоген утром в половине восьмого пришел к дому Винсента, там у дверей была уже толпа народа. Рулен в отчаянии ломал руки. – Что вы сделали со своим товарищем, сударь? – спросил Гогена какой– то человек в котелке, похожем на дыню. Тон у него был резкий и суровый. – Право, не знаю... – Ну, нет... вы прекрасно знаете... он мертв. Прошло довольно много времени, прежде чем Гоген вновь обрел способность соображать. Взгляды, которые бросала на него толпа, словно разрывали его на части, стискивали ему горло. – Пройдемте наверх, сударь, – сказал он запинаясь. – Там мы сможем спокойно поговорить. В нижних комнатах на полу валялись мокрые полотенца. Ступеньки лестницы, которая вела в спальню Винсента, были запачканы кровью. Винсент лежал на кровати, плотно укрытый простынями, скрюченный, словно ружейный курок. Жизнь, казалось, покинула его. Осторожно, очень осторожно Гоген коснулся тела Винсента. Оно было теплое. Гоген почувствовал, как к нему внезапно возвращается прежняя бодрость и энергия. – Будьте любезны, сударь, – сказал он ровным, тихим голосом полицейскому комиссару, – разбудите этого человека как можно осторожнее. Если он спросит обо мне, скажите ему, что я уехал в Париж. Встреча со мной может оказаться для него губительной. Полицейский комиссар послал за доктором и каретой. Винсента повезли в больницу. Рулен, тяжело вздыхая, брел рядом.9
Доктор Феликс Рей, молодой врач Арльской больницы, был коренастый, приземистый человек со скуластым лицом, острым подбородком и стоявшими дыбом жесткими черными волосами. Он перевязал Винсенту рану и поместил его в комнату, напоминавшую келью, из которой было вынесено все лишнее. Уходя, он запер дверь на ключ. Вечером, когда он щупал у Винсента пульс, больной проснулся. Он посмотрел неподвижным взглядом на потолок, потом на выбеленные известкой стены, потом на синевшее в окне вечернее небо. Наконец глаза его остановились на лице доктора Рея. – Здравствуйте, – сказал он тихо. – Здравствуйте, – ответил доктор Рей. – Где я? – Вы в Арльской больнице. – Ох! Лицо Винсента побледнело от боли. Он поднес руку к тому месту, где у него было правое ухо. Доктор Рей остановил его. – Трогать нельзя, – сказал он. – Да... Я припоминаю... теперь я припоминаю... – Рана у вас, друг мой, хорошая, чистая. Я вас поставлю на ноги за несколько дней. – А где мой приятель? – Он уехал в Париж. – Понимаю... Можно мне покурить трубку? – Не сейчас, друг мой. Доктор Рей промыл и перевязал рану. – Это совсем пустяковый случай, – говорил он. – В конце концов человек ведь слышит не этой капустой, которая у него прилеплена снаружи. На слух это не повлияет. – Вы очень добры, доктор. Почему эта комната... такая голая? – Я велел вынести все лишнее, чтобы защитить вас. – Защитить меня? От кого? – От самого себя. – Да... понимаю... – Ну, мне пора идти. Я пришлю к вам служителя с ужином. Постарайтесь лежать совершенно спокойно. Потеря крови очень ослабила вас. Когда утром Винсент проснулся, у его кровати сидел Тео. Лицо у Тео было бледное, перекошенное, глаза покраснели. – Тео, – сказал Винсент. Тео соскользнул со своего стула, встал у кровати на колени и взял Винсента за руку. Он плакал, не стараясь сдержаться и не стыдясь своих слез. – Тео... вот так всегда... когда я просыпаюсь... и ты мне очень нужен... ты рядом. Тео не мог вымолвить ни слова. – Это жестоко... погнать тебя в такую даль. Как ты узнал? – Вчера я получил телеграмму от Гогена. Успел сесть на вечерний поезд. – Напрасно Гоген ввел тебя в такие расходы. Ты сидел тут всю ночь, Тео? – Да, Винсент. Они помолчали. – Я разговаривал с доктором Реем, Винсент. Он говорит, что это солнечный удар. Ты все время работал на солнце без шляпы, Винсент, ведь правда? – Да. – Вот видишь, старина, этого не надо было делать. Теперь ты должен всегда надевать шляпу. Здесь, в Арле, у стольких людей бывает солнечный удар. Винсент с нежностью пожал брату руку. У Тео застрял комок в горле, и он никак не мог его проглотить. – У меня есть одна новость, Винсент, но, я думаю, лучше нам подождать несколько дней. – Хорошая новость, Тео? – Надеюсь, что тебя она обрадует. В комнату вошел доктор Рей. – Ну, как сегодня чувствует себя больной? – Доктор, брат хочет сообщить мне хорошую новость. Можно? – Полагаю, что можно. Обождите, – минуточку, минуточку. Позвольте, я взгляну. Что ж, отлично, прямо—таки отлично! Теперь рана быстро начнет затягиваться. Когда доктор вышел, Винсент попросил Тео рассказать новость. – Винсент, – сказал Тео. – Я... ну, как тебе сказать... я встретил девушку. – Правда, Тео? – Да. Она голландка. Иоганна Бонгер. Очень похожа на нашу мать, Винсент. – Ты ее любишь, Тео? – Да. Я был одинок без тебя в Париже, Винсент. Раньше, до твоего приезда в Париж, мне никогда не бывало так плохо, но после того, как мы прожили вместе целый год... – Со мной нелегко было жить, Тео. Боюсь, я доставил тебе много хлопот! – Ох, Винсент, если бы ты знал, как часто я мечтал войти в квартиру на улице Лепик и опять увидеть твои башмаки у порога и сырые полотна на моей кровати! Однако хватит нам болтать. Тебе нужен покой. Я только посижу рядышком с тобой – вот и все. Тео пробыл в Арле два дня. Он уехал лишь после того, как доктор Рей заверил его, что Винсент быстро поправится и что он, доктор, будет заботиться о нем не только как о своем пациенте, но и как о друге. Рулен навещал Винсента каждый вечер и приносил цветы. По ночам Винсента мучили галлюцинации. Чтобы избавить его от бессонницы, доктор Рей пропитывал его подушку и матрац камфарой. На четвертый день, убедившись, что Винсент вполне в здравом рассудке, доктор перестал запирать дверь и велел внести в комнату мебель. – Можно мне встать и одеться, доктор? – спросил Винсент. – Если вы чувствуете себя достаточно крепким, Винсент. Когда пройдетесь и немного подышите свежим воздухом, зайдите ко мне в кабинет. Арльская больница помещалась в двухэтажном доме, построенном в виде четырехугольника, с двориком посредине, где было множество великолепных цветов и папоротников, а дорожки были посыпаны гравием. Винсент медленно прошелся по двору и через несколько минут был уже в кабинете доктора Рея, на первом этаже. – Ну, как вы себя чувствуете, встав с постели? – спросил доктор. – Очень хорошо. – Скажите, Винсент, зачем вы это сделали? Винсент долго молчал. – Не знаю, – ответил он наконец. – Что вы думали, когда вы это делали? – Я... я не думал, доктор. Прошло несколько дней, Винсент быстро набирал силы. Однажды утром, когда Винсент разговаривал с доктором Реем в его кабинете, он взял с умывальника бритву и открыл ее. – Вам надо побриться, доктор, – сказал он. – Хотите, я вас сейчас побрею? Доктор Рей попятился в угол и заслонил лицо ладонью. – Нет, нет, не надо! Положите бритву! – Но я в самом деле превосходный цирюльник, доктор. Я могу вас побрить отличнейшим образом. – Винсент! Положите бритву на место! Винсент засмеялся, закрыл бритву и положил ее на умывальник. – Не пугайтесь, доктор. С этим теперь покончено. В конце второй недели доктор Рей разрешил Винсенту работать. Служитель сходил к нему домой и принес мольберт и холсты. Чтобы развлечь Винсента, доктор Рей согласился ему позировать. Винсент писал его медленно, по нескольку минут в день. Когда портрет был готов, Винсент преподнес его доктору. – Я хочу, чтобы вы хранили его в память обо мне, доктор. У меня нет другой возможности выразить вам свою благодарность за вашу доброту. – Вы очень любезны, Винсент. Я весьма польщен. Доктор унес портрет домой и прикрыл им трещину в стене. Винсент пробыл в больнице еще две недели. Он писал дворик, залитый солнцем. Работал он теперь в широкополой соломенной шляпе. Больничный дворик с его цветами доставил ему материал для работы на эти две недели. – Вы должны заходить ко мне каждый день, – говорил доктор Рей, пожимая Винсенту руку у ворот больницы. – И, помните, никакого абсента, никаких волнений, никакой работы на солнце без шляпы. – Обещаю вам, доктор. И большущее спасибо за все. – Я напишу вашему брату, что вы совершенно здоровы. Винсент узнал, что хозяин его квартиры намерен расторгнуть с ним контракт и сдать его комнаты какому—то торговцу табаком. Винсент был всей душой привязан к дому. Именно здесь пустил он корни в землю Прованса. Он расписал его весь, до последнего дюйма, внутри и снаружи. Он сделал его пригодным для жилья. Несмотря на все происшедшее, он считал этот дом своим на всю жизнь и был полон решимости бороться за него всеми средствами. Сначала он боялся ложиться спать в одиночестве, так как его мучила бессонница, перед которой была бессильна даже камфара. Чтобы избавить Винсента от невыносимых галлюцинаций, пугавших его, доктор Рей дал ему бромистого калия. В конце концов голоса, шептавшие ему на ухо странные, небывалые слова, смолкли, чтобы зазвучать вновь только во время ночных кошмаров. Он был еще слишком слаб в не отваживался работать на открытом воздухе. Но ум его, хоть и медленно, обретал ясность. Кровь струилась по жилам все живее, появился аппетит. Винсент с удовольствием пообедал в ресторане с Рулоном, шутил и смеялся, уже не боясь новых страданий. Потихоньку он приступил к работе над портретом жены Рулена, который был начат еще до болезни. Ему нравилось, как теплые красноватые тона переходили на его полотне от розового к оранжевому, как желтое переливалось в лимонное, как ложились светло—зеленые и темно—зеленые краски. Здоровье Винсента мало—помалу крепло, работа шла все быстрее. Он знал, что можно сломать руку или ногу и после этого вылечиться, но был очень удивлен, убедившись, что можно вылечить даже и голову, мозг. Однажды вечером он пошел справиться о здоровье Рашели. – Голубка, – сказал он, – мне очень жаль, что я причинил тебе столько огорчений. – Пустяки, Фу—Ру, не беспокойся. В нашем городе это дело обычное. Знакомые и друзья тоже уверяли его, что в Провансе каждый страдает или лихорадкой, или галлюцинациями, или сходит с ума. – Тут нет ничего особенного, Винсент, – говорил Рулен. – Здесь, на земле Тартарена, все мы немножко сумасшедшие. – Что ж, – отвечал Винсент, – значит, мы понимаем друг друга, как понимают друг друга члены одной семьи. Прошло еще несколько недель. Винсент уже достаточно окреп, чтобы работать весь день у себя в мастерской. Он теперь не думал ни о сумасшествии, ни о смерти. Он чувствовал себя почти нормальным. Наконец он осмелился выйти с мольбертом за город. Под знойным солнцем спелая пшеница полыхала чудесным желтым пламенем. Но Винсент уже не мог передать эти тона на полотне. Он вовремя ел, вовремя ложился спать, избегал волнений и сильного душевного напряжения. Он чувствовал себя настолько нормальным, что не мог писать. – Вы неврастеник, Винсент, – говорил ему доктор Рей. – Нормальным вы никогда и не были... И, знаете, нет художника, который был бы нормален: тот, кто нормален, не может быть художником. Нормальные люди произведений искусства не создают. Они едят, спят, исполняют обычную, повседневную работу и умирают. У вас гипертрофированная чувствительность к жизни и природе; вот почему вы способны быть их толкователем для остальных людей. Но если вы не будете беречь себя, эта гипертрофия чувствительности вас погубит. В конце концов она достигает такого напряжения, что влечет за собой смерть. Винсент знал: чтобы уловить эту предельно высокую ноту желтого, которая преобладала в его арлезианских картинах, нужно все время скользить над пропастью, быть в непрерывном возбуждении, мучительно напрягать все свои чувства, обнажить каждый нерв. Если он позволит такому состоянию духа вновь овладеть собой, он снова сможет писать так же блестяще, как раньше. Но этот путь приведет его к гибели. – Художник – это человек, который призван делать свое дело, – бормотал он про себя. – Как было бы глупо с моей стороны жить на свете, если бы я не мог писать так, как хочу. Он стал ходить в поле без шляпы, впитывая в себя могучую силу солнца. Он упивался безумными тонами неба, желтым солнечным шаром, зеленью полей, красками распускающихся цветов. Его сек мистраль, душило плотное ночное небо, подсолнухи лихорадили и воспламеняли его мозг. По мере того как росло его возбуждение, у него пропадал аппетит. Он снова держался на одном кофе, абсенте и табаке. Ночи напролет он лежал без сна, и глубокие краски окрестных пейзажей проходили перед его налитыми кровью глазами. В конце концов он вскидывал на спину мольберт и опять отправлялся в поле. Творческие силы вновь вернулись к нему – вернулось чувство единого ритма всей природы, способность написать большое полотно буквально в несколько часов и напоить его ослепительным, сверкающим солнцем. С каждым днем появлялась новая картина, с каждым днем его лихорадило все сильнее. Он написал тридцать семь полотен без передышки, без единой паузы. Однажды он проснулся в состоянии полной апатии. Он не мог работать. Он праздно сидел на стуле, упершись взглядом в стену. За весь день он едва пошевельнулся. Опять в его ушах зазвучали голоса, нашептывая ему странные, небывалые слова. Когда опустились сумерки, он пошел в серый ресторан, сел за столик и заказал себе супу. Служанка поставила перед ним тарелку. Вдруг над его ухом явственно прозвучал чей—то предостерегающий голос. Он швырнул тарелку с супом на пол. Она раскололась на мелкие кусочки. – Вы хотите отравить меня! – взвизгнул Винсент. – Вы подсыпали в этот суп яду! Он вскочил на ноги и стал колотить кулаками по столу. Кое—кто из посетителей бросился к выходу. Другие смотрели на него, разинув в изумлении рты. – Вы все хотите отравить меня! – кричал он. – Вы хотите убить меня! Я видел, как вы сыпали яд в этот суп! Явились двое полицейских и на руках отнесли Винсента в больницу. Через сутки он уже был совсем спокоен и обсуждал происшедшее с доктором Реем. Он работал потихоньку каждый день, ходил на прогулку за город, а к ужину возвращался в больницу и ложился спать. Бывали дни, когда он страшно тосковал, иногда же ему казалось, что все тяготы и несчастья вот—вот рассеются в мгновение ока. Доктор Рей снова разрешил ему работать. Винсент написал персиковые деревья у дороги, на фоне Альп; рощицу олив, у которых листья были цвета старого серебра с зеленым и голубым отливом, а позади олив – вспаханное оранжевое поле. Прошло три недели, и Винсент возвратился в свой дом. Теперь жители всего города, и в особенности те, кто жил на площади Ламартина, ополчились против него. Отрезанного уха и истории с отравленным супом было более чем достаточно, чтобы возмутить арлезианцев. Они были твердо убеждены, что живопись сводит человека с ума. Когда Винсент шел по улице, они пялили на него глаза, отпускали вслух обидные замечания, подчас переходили на другую сторону, чтобы избежать встречи с ним. Ни в один ресторан его не пускали с парадного хода. Дети толпами собирались под окнами дома и потешались, изводя Винсента. – Фу—Ру! Фу—Ру! – кричали они. – Отрежь себе второе ухо! Винсент наглухо закрывал окна. Но крики и хохот детей все равно проникали к нему в комнату. – Фу—Ру! Фу—Ру! – Полоумный! Полоумный! Они сочинили песенку и распевали ее у него под окном: Фу—Ру, Фу—Ру, Фу—Ру С ума сошел в жару, Себе отрезал ухо, Совсем лишился слуха! Чтобы скрыться от них, Винсент уходил из дома. Но они бежали за ним по пятам, шли в поле – веселая ватага хохочущих и распевающих во все горло сорванцов. День ото дня их становилось все больше. Винсент затыкал уши ватой. Он сидел у мольберта и работал, делая копии своих полотен. Крики детей проникали сквозь щели в стенах. Они жгли ему мозг. Мальчишки наглели с каждым днем. Они, как обезьяны, карабкались вверх по водосточным трубам, усаживались на карниз, прижимали лица к стеклам, заглядывая в комнату, и орали за спиной у Винсента: – Фу—Ру, отрежь себе второе ухо! Дай нам твое второе ухо! Волнение на площади Ламартина все возрастало. Мальчишки приставляли к стене доски и добирались по ним до второго этажа. Они били стекла, просовывали внутрь головы, кидали в Винсента всякой всячиной. Толпа снизу подзадоривала их, подхватывая их песенки и крики. – Дай нам второе ухо! Дай второе ухо! – Фу—Ру! Хочешь конфетку? Только смотри, она с ядом! – Фу—Ру! А не хочешь супу? Гляди, туда подсыпан яд! Фу—Ру, Фу—Ру, Фу—Ру С ума сошел в жару, Себе отрезал ухо, Совсем лишился слуха! Сидевшие на подоконнике мальчишки весело дирижировали, толпа внизу распевала хором. Песенка звучала все громче. – Фу—Ру, Фу—Ру, брось нам свое ухо, брось нам ухо! – ФУ—РУ! ФУ—РУ! БРОСЬ НАМ СВОЕ УХО, БРОСЬ НАМ УХО! Винсент, шатаясь, встал из—за мольберта. На подоконнике сидели три сорванца и распевали во всю мочь. Он кинулся на них с кулаками. Те стремглав соскользнули вниз по доскам. Толпа на улице заревела. Винсент стоял у окна и глядел вниз. Целая туча черных птиц стремительно спускалась на Винсента с неба, тысячи черных птиц. Они покрыли площадьЛамартина, кружились над Винсентом, хлестали его, заполнили всю комнату, накрыли его с головой своими черными телами, лезли ему в волосы, врывались в уши, в глаза, в ноздри, в рот, погребая его под плотным, траурно—черным, душным облаком трепещущих крыл. Винсент вскочил на подоконник. – Пошли прочь! – закричал он. – Пошли прочь, изверги! Бога ради, оставьте меня в покое! – ФУ—РУ! ФУ—РУ! БРОСЬ НАМ СВОЕ УХО, БРОСЬ НАМ УХО! – Идите к дьяволу! Оставьте меня! Слышите, оставьте меня в покое! Он схватил со стола умывальный таз и швырнул его в толпу. Таз со звоном ударился о булыжник. Винсент в бешенстве метался по комнате, хватая все, что попадалось под руку, и швыряя на площадь Ламартина. Стулья, мольберт, зеркало, стол, одеяло и простыни, панно с подсолнухами – все летело в толпу мальчишек. И с каждой вещью, которая падала на мостовую, в его мозгу вспыхивало воспоминание о том, как он жил в этом доме, какие жертвы принес, покупая по мелочам всю эту нехитрую обстановку, чтобы украсить дом, где он собирался работать до конца своих дней. Когда швырять за окно было уже нечего, он остановился, глядя на площадь: каждый его нерв, каждая жилка дрожала от возбуждения. Он упал грудью на подоконник. Голова его свесилась вниз, к булыжникам площади.10
Площадь Ламартина сразу же обошла петиция. Ее подписали девяносто мужчин и женщин. "Мэру города Тардье: Мы, нижеподписавшиеся жители Арля, твердо убеждены, что Винсент Ван Гог, проживающий на площади Ламартина, дом 2, – буйнопомешанный и не может быть оставлен на свободе. Ввиду этого мы просим вас как мэра посадить названного сумасшедшего под замок". В Арле скоро должны были состояться выборы. Мэр Тардье отнюдь не желал терять столько голосов. Он приказал комиссару полиции арестовать Винсента. Полицейские нашли его на полу, у самого окна. Они отвезли Винсента в тюрьму. Там его заперли в камере. У двери был поставлен стражник. Как только Винсент очнулся, он попросил свидания с доктором Реем. Ему отказали. Тогда он попросил карандаш и бумагу, чтобы написать Тео. Ему отказали и в этом. В конце концов доктор Рей добился разрешения навестить Винсента. – Старайтесь сдержать свое негодование, Винсент, – сказал он, – иначе они признают вас опасным сумасшедшим, и тогда вам конец. Кроме того, сильное волнение лишь усугубит болезнь. Я напишу вашему брату, и – пусть только это останется между нами – мы вас отсюда вызволим. – Прошу вас, доктор, сделайте так, чтобы Тео не приезжал сюда. Он как раз собрался жениться. Это омрачит ему всю свадьбу. – Я напишу, чтобы он не приезжал. Я, кажется, придумал, как нам быть с вами, и, по—моему, неплохо придумал. Два дня спустя доктор Рей снова пришел к Винсенту. Стражник все еще стоял у двери его камеры. – Послушайте, Винсент, – сказал доктор Рей, – я только что видел, как из дома выносили ваши вещи. Хозяин свалил всю мебель в подвале одного кафе, а картины запер в чулан. Говорит, что не отдаст их, пока вы не расплатитесь сполна за квартиру. Винсент молчал. – Поскольку вы уже не сможете вернуться в дом, я полагаю, что вам лучше всего послушаться моего совета. Трудно сказать, как часто могут повторяться у вас эти припадки эпилепсии. Если вы будете жить тихо, в спокойной обстановке, не взвинчивая себя, вы, пожалуй, и совсем излечитесь. С другой стороны, припадки могут повторяться и каждый месяц или два. А поэтому, чтобы обезопасить и себя в других, по—моему, было бы разумно... жить... – В сумасшедшем доме? – Да. – Значит, вы считаете, что я... – Нет, мой милый Винсент, вовсе нет. Можете сами убедиться, что вы такой же нормальный, здравомыслящий человек, как и я. Но эти приступы эпилепсии все равно что приступы лихорадки. Человек теряет всякий рассудок. И, когда наступает нервный кризис, он, естественно, совершает неразумные поступки. Вот почему вы должны жить в лечебнице, где за вами будут присматривать. – Понятно. – Есть одно хорошее местечко в Сен—Реми, всего в двадцати пяти километрах отсюда. Это приют святого Павла Мавзолийского. Там принимают пациентов в отделения первого, второго и третьего разряда. Третий разряд обходится в сто франков в месяц. Вам это будет по средствам. Приют стоит у самых предгорий, в прошлом там был монастырь. Там очень красиво, Винсент, и тихо, ах, как тихо. У вас будет врач, который всегда сможет вам помочь, и сестры – они будут заботиться о вас. Пища там простая и хорошая. Вы отлично поправите свое здоровье. – А позволят мне там писать? – Ну, конечно, мой дорогой. Вы сможете делать все, что угодно... если только это не пойдет вам во вред. Это все равно что лечиться в санатории. Если вы проживете там год тихо и спокойно, то можете совсем выздороветь. – Ну, а как я вырвусь из этой тюрьмы? – Я уже говорил с комиссаром полиции. Он согласен отпустить вас в приют святого Павла, если я поеду вместе с вами. – И вы говорите, это действительно красивое место? – Очаровательное, Винсент. Для вашей живописи там уйма сюжетов. – Вот это хорошо! Сто франков в месяц – не такие уж большие деньги. Может быть, год тишины и покоя – это все, что мне нужно, чтобы прийти в себя. – Ну, конечно! Я уже сообщил вашему брату, как обстоит дело. Я написал ему, что при теперешнем состоянии здоровья вам не следует уезжать далеко, тем более в Париж. А еще я написал, что, на мой взгляд, лучше лечебницы святого Павла для вас не найти. – Что ж, если Тео согласен... Что угодно, лишь бы не доставлять ему новых огорчений... – Я жду от него ответа с часу на час. Как только получу письмо, приду к вам сразу же. У Тео не было выбора. Ему пришлось согласиться. Он выслал денег, чтобы заплатить долги брата. Доктор Рей повез Винсента на вокзал, где они сели на тарасконский поезд. Из Тараскона они поехали в Сен—Реми; поезд шел по извилистой железнодорожной ветке, поднимаясь по зеленой плодородной долине. Чтобы добраться до приюта святого Павла, надо было проехать через сонный городок и подняться на два километра вверх по крутой горе. Винсент и доктор Рей наняли повозку. Дорога шла прямо к голому черному отрогу. Скоро в долине у подножия гор Винсент разглядел землисто—коричневые стены монастыря. Повозка остановилась. Винсент и доктор Рей вылезли из нее. Справа от них было открытое круглое плоскогорье, где стояли храм Весты и Триумфальная арка. – И откуда только они здесь взялись? – удивился Винсент. – Тут было большое поселение римлян. Река, которую вы видите внизу, когда—то заливала всю долину. Она текла по тому самому месту, где вы стоите. По мере того как река отступала, город рос и спускался все ниже по склону горы. Теперь от него не осталось ничего, кроме вот этих каменных сооружений да монастыря. – Интересно. – Идемте, Винсент, доктор Пейрон ожидает нас. Они свернули с дороги и через сосновый лесок дошли до ворот монастыря. Доктор Рей дернул за железную ручку, и во дворе раздался громкий удар колокола. Вскоре ворота отворились, и вышел доктор Пейрон. – Как поживаете, доктор Пейрон? – приветствовал его доктор Рей. – Я привез вам моего друга, Винсента Ван Гога, как было условлено. Не сомневаюсь, что вы обеспечите ему самый внимательный уход. – Да, доктор Рей, мы обеспечим ему самый внимательный уход. – Вы меня простите, доктор, но я пойду: надо успеть к тарасконскому поезду, а времени у меня в обрез. – Пожалуйста, доктор Рей. Я вас отлично понимаю. – До свидания, Винсент, – сказал доктор Рей. – Будьте счастливы, поправляйтесь. Я постараюсь навещать вас как можно чаще. Пройдет год – и, я уверен, вы станете совершенно здоровым человеком. – Спасибо вам, доктор. Вы очень добры. До свидания. – До свидания, Винсент. Доктор Рей повернулся и скоро исчез среди сосен. – Ну, пойдемте, Винсент, – сказал доктор Пейрон, пропуская его вперед. Винсент прошел мимо доктора. Ворота лечебницы для душевнобольных тотчас захлопнулись за ним.ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. СЕН—РЕМИ
1
Палата, в которой жили больные, напоминала зал для пассажиров третьего класса на какой—нибудь захолустной станции. Обитатели палаты всегда были в шляпах, очках, с тростями, в дорожных плащах, будто собирались куда—то ехать. Сестра Дешанель провела Винсента через длинную, как коридор, комнату и указала ему свободную кровать. – Вы будете спать здесь, сударь, – сказала она. – На ночь можете опускать вот этот полог. Доктор Пейрон просит вас зайти к нему в кабинет, как только вы устроитесь. Одиннадцать человек, сидевшие вокруг холодной печки, не обратили на Винсента внимания и не сказали ни слова. Когда сестра Дешанель в своем накрахмаленном белом платье и черной пелерине выходила из палаты, черная вуаль важно колыхалась за ее спиной. Винсент поставил чемодан и огляделся. Вдоль стен палаты двумя рядами стояли кровати, их изголовья были приподняты, и над каждой кроватью висел на металлической раме грязноватый кремовый полог. Потолок был из грубых балок, стены выбелены известкой, а посреди палаты стояла печка с изогнутой под углом трубой, вставленной с левой стороны. Во всей комнате была одна– единственная лампа, которая висела над печкой. Винсент удивился тихому поведению больных. Они не разговаривали друг с другом. Они не читали, не играли ни в какие игры. Опираясь на свои трости, они сидели вокруг печки и глядели на огонь. У изголовья кровати к стене был прибит ящик, но Винсент предпочел оставить свои вещи в чемодане. В ящик он положил только трубку, табак, книжку, задвинул чемодан под кровать и пошел в сад. Он шел по коридору мимо пустых, запертых, темных келий. На монастырском дворе не было ни души. Здесь росли высокие сосны, зеленела густая нетронутая трава и буйный сорняк. Все было залито жгучим солнечным светом. Винсент свернул налево и постучал в дверь домика, где жил доктор Пейрон со своим семейством. Доктор Пейрон некогда был морским врачом в Марселе, потом окулистом. Жестокая подагра заставила его поступить в эту лечебницу для умалишенных, чтобы жить в спокойном, глухом уголке. – Вот видите, Винсент, – говорил доктор, положив руки на край стола, – раньше я исцелял тело, а теперь исцеляю души. Это ведь одно и то же ремесло. – Вы имеете дело с нервными болезнями, доктор. Можете вы объяснить мне, почему я отрезал себе ухо? – С эпилептиками это бывает, Винсент. Я сталкивался с подобными случаями дважды. Слуховые нервы приобретают обостренную чувствительность, и больному кажется, что если он отрежет ушную раковину, то галлюцинации прекратятся. – Так... понимаю. Ну, а как насчет лечения?.. – Лечения? Что ж... ах да... вам надо принимать горячие ванны не меньше двух раз в неделю. Это будет действовать на вас успокаивающе. – А что еще я должен делать, доктор? – Сохранять полное спокойствие. Не волноваться. Не работать, не читать, не спорить, не расстраиваться. – Я знаю... Теперь я слишком слаб, чтобы работать. – Если вы хотите остаться в стороне от религиозной жизни приюта, я скажу сестрам, чтобы они вас не принуждали. Если вам что—нибудь понадобится, приходите ко мне. – Благодарю вас, доктор. – Ужин в пять. Вы услышите колокол. Постарайтесь поскорее привыкнуть к здешнему распорядку, Винсент. Это будет способствовать вашему выздоровлению. Винсент пересек заросший травой садик и, войдя под полуразрушенный каменный свод, где помещалось отделение третьего разряда, прошел мимо темных пустых келий. Добравшись до своей палаты, он сел на кровать. Одиннадцать человек по—прежнему молчали, уставясь глазами в печку. Скоро в соседней комнате послышался шум. Одиннадцать человек вскочили и с мрачной решимостью ринулись из палаты. Винсент последовал за ними. Комната, служившая столовой, была без окон, с земляным полом. Посредине стоял длинный, грубо сколоченный деревянный стол и деревянные скамейки. Тарелки с едой подавали сестры. Еда попахивала плесенью, словно в каком—нибудь дрянном пансионе. На первое был подан суп с черным хлебом; увидя в супе тараканов, Винсент с тоской вспомнил парижские рестораны. На второе подали месиво из гороха, бобов и чечевицы. Больные ели с отменным аппетитом, собирая на ладонь крошки черного хлеба и слизывая их языком. После ужина одиннадцать больных из палаты Винсента уселись на те же стулья вокруг печки и стали сосредоточенно переваривать пищу. Посидев немного, они один за другим поднимались с места, раздевались, опускали полог и ложились спать. Винсент не слышал, чтобы за все это время они обменялись хоть одним словом. Солнце уже закатывалось. Винсент стоял у окна и смотрел на зеленую долину. На фоне чудесного бледно—лимонного неба четким кружевом темнели кроны печальных сосен. Ничто не шевельнулось в душе Винсента, ничто не вызвало у него желания взяться за кисть. Он стоял у окна до тех пор, пока густые южные сумерки не стерли лимонные отсветы на небе и не поглотили все цвета. Лампу в палате никто не зажигал. Оставалось только лечь в постель и думать о своей жизни. Винсент разделся и лег. Он лежал с открытыми глазами и смотрел на грубые балки потолка. То и дело он съезжал вниз, потому что изголовье кровати было приподнято. Он вспомнил, что у него есть книга Делакруа. Он пошарил в ящике, нашел ее и прижал кожаный переплет к сердцу. Книга его ободрила. Он был не в лечебнице, среди помешанных, он был с великим живописцем, чье мудрое и утешительное слово проникало сквозь твердый переплет прямо в его измученное сердце. Скоро Винсент заснул. Его разбудили приглушенный стоны на соседней койке. Они становились все громче и громче, потом раздались крики, перемежаемые бессвязными, лихорадочными речами. – Отойди, отойди! Зачем ты шпионишь за мной? Зачем? Я не убивал его! Нет, ты меня не одурачишь. Я знаю, что ты за птица. Ты из тайной полиции! Что ж, можешь шпионить сколько угодно. Я не крал этих денег. Он сам покончил с собой в среду! Проваливай! Оставь меня в покое! Винсент вскочил и откинул полог. Кричал светловолосый молодой человек, лет двадцати трех; он метался на койке, вцепившись зубами в свою рубашку. Увидев Винсента, он встал на колени, судорожно ломая руки. – Господин Муне—Сюлли, не забирайте меня отсюда! Я не виноват, уверяю вас! Я не педераст! Я юрист! Я выиграю все ваши дела, господин Муне– Сюлли, только не арестовывайте меня. Я не мог убить его в среду! У меня и денег никаких нет. Взгляните, у меня нет ни одного су! Он сорвал с себя одеяло и стал биться в страшном припадке, все время крича и протестуя против тайной полиции и против обвинений, которые на него возводились. Винсент не знал, что делать. Остальные обитатели палаты, казалось, крепко спали. Винсент бросился к ближайшей кровати, откинул полог в стал трясти спящего за плечо. Тот открыл глаза и глупо уставился на Винсента. – Встаньте, пожалуйста, и помогите мне успокоить его, – сказал Винсент. – А то я боюсь, что он нанесет себе какое—нибудь увечье. Человек, которого разбудил Винсент, глядел на него и пускал слюни. Потом он что—то жалобно замычал, в этом мычании нельзя было разобрать ни слова. – Скорей! – торопил его Винсент. – Вдвоем мы с ним справимся. Вдруг он почувствовал, что кто—то положил ему на плечо руку. Он обернулся. За спиной у него стоял какой—то старик. – Бесполезно будить этого человека, – сказал старик. – Он идиот. С тех пор как его привезли сюда, он не сказал ни слова. Пойдемте, мы уймем того парня. Светловолосый юноша, стоя на четвереньках, рвал ногтями матрас и вытаскивал из него солому. Увидев Винсента, он снова начал кричать, сыпля юридическими терминами. Он упирался и толкал Винсента в грудь. – Да, да, я убил его! Убил! Но не за педерастию! Нет, совсем не за это, господин Муне—Сюлли! И не в среду! Я убил его из—за денег! Гляньте! Они у меня здесь, все целехоньки! Я спрятал бумажник в матрас. Я сейчас его найду. Только пусть тайная полиция перестанет меня преследовать! Я могу оставаться на свободе, даже если я убил его! Я приведу прецеденты... Вот! Я откопаю бумажник в этом матрасе! – Берите его за другую руку, – сказал старик Винсенту. Они силой уложили юношу на кровать, но тот бредил и метался еще не меньше часа. Наконец он совсем обессилел, бормотание его становилось все неразборчивей и глуше, и он забылся лихорадочным сном. Старик присел на кровать Винсента. – Этот парень учился, хотел стать адвокатом, – сказал он. – И вот перетрудил себе голову. Такие припадки бывают с ним каждые десять дней. Но он ни разу никого не обидел. Ну, спокойной ночи, сударь. Старик лег на свою кровать и через пять минут уже крепко спал. Винсент снова подошел к окну, из которого открывался вид на долину. До восхода солнца было еще далеко, и во тьме горела лишь одна утренняя звезда. Ему вспомнилось полотно Добиньи, где была и утренняя звезда, и дух великого покоя, обнимавший вселенную... и чувство тоскливого одиночества, которое охватывает человека, жадно вглядывающегося в эту звезду.2
Утром, после завтрака, больные вышли в сад. За дальней стеной высилась цепь пустынных, голых гор, никем не тревожимых с того самого времени, когда через них прошли римляне. Винсент смотрел, как больные лениво играли в крокет. Сидя на каменной скамье, он переводил взгляд с могучих, увитых плющом деревьев на росшие вокруг барвинки. Сестры, принадлежавшие к ордену святого Иосифа Обенского, медленно прошли к древнеримской часовне; похожие на мышей, все в черном и белом, с глубоко запавшими глазами, они перебирали четки и бормотали утренние молитвы. Молча поиграв с час, больные вернулись в свою прохладную палату. Там они уселись вокруг печки. Их полнейшая праздность приводила Винсента в изумление. Он не мог понять, почему эти люди хотя бы не почитают газету. Когда это зрелище ему опостылело, он снова вышел в сад. Даже солнце в убежище святого Павла казалось умирающим. Древний монастырь был построен в традиционной форме четырехугольника: с северной стороны находилось отделение третьего разряда; с востока – дом доктора Нейрона, часовня и собор десятого века; с юга – отделения первого и второго разряда; с запада – двор для буйнопомешанных и длинная глухая кирпичная стена. Единственные ворота были всегда на запоре. Гладкие, без малейшего выступа стены достигали в высоту полутора метров, перелезть через них было невозможно. Винсент вернулся к каменной скамье у куста шиповника и сел на нее. Ему хотелось разобраться в происшедшем и понять, как он попал в убежище святого Павла. Глубокое уныние и страх сжали ему сердце и спутали мысли. В душе его уже не было ни надежд, ни желаний. Он поплелся в свою палату. У входа он услышал какой—то странный собачий визг. Винсент не успел войти в дверь, как собачий визг перешел в волчий вой. Винсент пересек палату. В самом дальнем ее углу, оборотясь лицом к стене, сидел старик, его ночной знакомец. Задрав голову вверх, он выл во всю мощь своих легких, со зверским выражением на лице. Потом волчий вой сменился совершенно невероятным воплем, какой можно услышать только в джунглях. Этот зловещий вопль гулко прокатился по всей палате. «Боже, в какой зверинец меня посадили!» – воскликнул про себя Винсент. Обитатели палаты сидели вокруг печки, не обращая на старика внимания. Его звериный вой становился все громче и тоскливее, в нем звучало безысходное отчаяние. – Надо что—то сделать, – громко сказал Винсент. Светловолосый юноша остановил его. – Самое лучшее – не трогать старика, – объяснил он. – Если вы заговорите с ним, он придет в бешенство. А так он повоет час или два и утихнет. Стены в монастыре были толстые, но и во время второго завтрака Винсента терзали чудовищные завывания несчастного человека, громко раздававшиеся в мертвой тишине. Винсент ушел в самый глухой уголок сада, стараясь скрыться от этих диких звуков. В тот же вечер, за ужином, один молодой человек, у которого левая рука и плечо были парализованы, схватил со стола нож, вскочил на ноги и приставил нож к сердцу. – Час настал! – кричал он. – Я кончаю с собой. Больной, сидевший справа от него, устало поднялся и отвел руку с ножом в сторону. – Не сегодня, Раймонд, – сказал он. – Сегодня ведь воскресенье. – Нет, нет, сегодня! Сейчас же! Не хочу жить! Я отказываюсь жить! Пусти мою руку! Я хочу убить себя! – Завтра, Раймонд, завтра. Сегодня неподходящий день. – Пусти! Я хочу вонзить этот нож в сердце! Говорю тебе, я решил покончить с собой! – Знаю, знаю, но не теперь. Не сегодня. Он отобрал у Раймонда нож и увел его, рыдающего от бессильного гнева, в палату. Винсент повернулся к своему соседу, который трясущейся рукой старался поднести ко рту ложку супа, глядя на нее своими красными глазами. – Что с ним такое? – спросил Винсент. Сифилитик опустил ложку и ответил: – Вот уже целый год не проходит дня, чтобы Раймонд не пытался покончить самоубийством. – Но зачем же он делает это здесь, за столом? – удивился Винсент. – Почему он не спрячет нож и не заколет себя ночью, когда все спят? – Наверное, ему не хочется умирать, сударь. На следующий день Винсент снова сидел во дворе и смотрел, как больные играют в крокет. Вдруг один из них упал наземь и начал биться в страшных судорогах. – Живо! – крикнул кто—то. – Это припадок падучей! – Держите его за руки и за ноги! Четыре человека схватили эпилептика за руки и за ноги. Он дергался и бился так, что казалось, силы его удесятерились. Светловолосый юноша вытащил из кармана ложку и стал разжимать стиснутые зубы припадочного. – Эй, поддержите ему голову! – крикнул он Винсенту. Судороги усиливались, потом затихали и возобновлялись, терзая беднягу еще яростней. Больной закатил глаза, в углах его рта выступила пена. – Зачем вы засунули ему в рот ложку? – проворчал Винсент. – Чтобы он не откусил себе язык. Через полчаса эпилептик впал в забытье. Винсент и еще двое больных отнесли его на кровать. Этим все и кончилось; никто больше не вспоминал и не заговаривал об эпилептике. За две недели Винсент нагляделся, как все одиннадцать больных впадали в ту или иную форму сумасшествия: один буйствовал, рвал на себе одежду и кидался на всякого, кто попадался ему на глаза; другой выл словно зверь; двое болели сифилисом; Раймонд вечно помышлял о самоубийстве; паралитиков по временам охватывала невероятная ярость; эпилептик бился в судорогах; шизофреник страдал манией преследования; светловолосый юноша панически боялся тайной полиции. Каждый день с кем—нибудь случался припадок; каждый день Винсента звали успокоить кого—нибудь из больных. Пациентам третьего разряда приходилось заменять друг другу и врачей и сиделок. Пейрон заглядывал сюда раз в неделю, а смотрители заботились лишь о пациентах первого и второго разряда. Больные из палаты Винсента держались дружно, помогали друг другу во время припадков и обнаруживали при этом бесконечное терпение; каждый прекрасно знал, что наступит и его черед, когда ему понадобится помощь и терпеливая забота соседей. Это было настоящее братство сумасшедших. Винсента радовало, что он попал в это братство. Воочию наблюдая жизнь душевнобольных, он уже не чувствовал смутного страха перед сумасшествием. Мало—помалу он пришел к мысли, что это такая же болезнь, как и все другие. На третьей неделе он решил, что этот недуг не более ужасен, чем, например, чахотка или рак. Он часто заговаривал с идиотом, лишившимся дара речи. Тот отвечал ему лишь бессвязным мычанием, но Винсент чувствовал, что несчастный понимает его и разговор доставляет ему радость. Сестры заговаривали с больными лишь по необходимости. Каждую неделю Винсент вел пятиминутную беседу с доктором Пейроном, и этим ограничивалось его общение с нормальными людьми. – Скажите мне, доктор, – спрашивал Винсент, – почему больные не разговаривают друг с другом? Некоторые из них, когда чувствуют себя хорошо, вполне разумны. – Они не могут разговаривать, Винсент. С первой же минуты они начинают спорить, волнуются, воспламеняются, и с ними начинаются припадки. Они поняли, что единственный способ избегнуть всего этого – вести себя спокойно и не разговаривать. – По—моему, это все равно что не жить. Пейрон пожал плечами. – Но, дорогой Винсент, можно по—разному смотреть на вещи. – Ну, а почему они по крайней мере не читают? Мне кажется, что книги. .. – Чтение возбуждает их мозг, Винсент, а это, как известно, влечет за собой буйный припадок. Нет, мой друг, они должны жить только в своем внутреннем мире. И не стоит особенно их жалеть. Помните, что писал Драйден? «Есть радость в сумасшествии самом, она лишь сумасшедшему известна». Прошел месяц. Винсент ни разу не испытал желания куда—нибудь уехать. Не замечал он такого желания и у своих соседей. Он знал, что это вызвано сознанием полной непригодности к жизни во внешнем мире. В палате стоял тлетворный запах заживо разлагающихся людей. Винсент старался не унывать, ожидая того дня, когда желание и способность работать вновь вернутся к нему. Его товарищи прозябали в безделье, думая лишь о еде. Чтобы не поддаться их влиянию и взять себя в руки, Винсент отказывался есть тухлую и даже чуть несвежую пищу. Он жил на одном черном хлебе и супе. Тео прислал ему однотомное издание Шекспира; он прочел «Ричарда II», «Генриха IV» и «Генриха V», мысленно переносясь в другие времена и страны. Он стойко противился мраку и тоске, не давая им застояться в его душе, подобно воде в болоте. Тео к тому времени уже женился. Винсент часто получал письма от него и его жены Иоганны. У Тео было плохо со здоровьем. Винсент беспокоился о брате больше, чем о себе. В письмах он просил Иоганну кормить Тео здоровыми голландскими кушаньями – ведь он десять лет питался в одних только ресторанах. Винсент знал, что работа для него – лучшее средство рассеяться, и если бы он мог отдаться ей со всем своим пылом, то, вероятно, вскоре был бы здоров. Ведь у этих людей в палате нет ничего, что могло бы спасти их от разложения и смерти, а у него есть живопись – она выведет его из лечебницы для умалишенных здоровым и счастливым! В конце шестой недели доктор Пейрон отвел Винсенту маленькую комнату под мастерскую. Комнатка была оклеена серо—зелеными обоями, там висели две занавеси цвета зеленой морской воды с бледными набивными розами. Эти занавеси и старое кресло, обитое яркой, напоминавшей картины Монтичелли, тканью, остались от одного богатого пациента, который здесь скончался. Из окна было видно сбегающее по склону горы пшеничное поле – видна была свобода. Но окно было забрано крепкой черной решеткой. Винсент единым духом написал открывшийся перед ним пейзаж. На переднем плане было поле пшеницы, прибитой к земле недавней грозой. Межевая каменная стена шла вниз по склону, за ней виднелась серая листва олив, несколько хижин и голубеющие горы. В чистую синеву неба Винсент вписал большое серое, с белой каймою, облако. Возвращаясь в свою палату к ужину, он ликовал. В нем живы еще творческие силы. Он снова выдержал встречу с природой. Желание работать не покинуло его, он снова будет творить. Он не погибнет теперь в этой лечебнице. Он на пути к выздоровлению. Через несколько месяцев он отсюда уедет. Если он захочет, то сможет вернуться в Париж, к старым друзьям. Его жизнь начнется снова. Он написал длинное, бурное письмо Тео, требуя красок, холстов, кистей и хороших книг. Наутро взошло солнце, желтое и горячее. В саду трещали цикады, – с ними не сравнились бы и целые полчища сверчков. Винсент вынес во двор свой мольберт и писал сосны, кусты, дорожки. Его соседи по палате подходили к нему, заглядывали через плечо, но хранили уважительное молчание. – Манеры у них гораздо лучше, чем у добрых горожан Арля, – улыбаясь, бормотал про себя Винсент. Вечером он пошел к доктору Пейрону. – Я превосходно себя чувствую, доктор, и прошу вас разрешить мне писать за стенами лечебницы. – Да, вы, несомненно, выглядите лучше, Винсент. Ванны и покой помогли вам. Но вы не думаете, что выходить за ворота вам еще опасно? – Опасно? Нет, почему же? Я не думаю. – Ну, а предположим, что вы... что с вами приключится припадок... где—нибудь в поле? Винсент рассмеялся. – У меня не будет больше никаких припадков, доктор. С ними покончено. Я теперь здоровее, чем до того, как они начались. – Но, Винсент, я все же опасаюсь... – Ах, пожалуйста, доктор. Поймите, что если я смогу ходить, куда хочу, и писать то, что мне нравится, то буду чувствовать себя гораздо лучше. – Ну, хорошо, если уж вам непременно хочется работать... Так перед Винсентом распахнулись ворота лечебницы. Он закинул мольберт за спину и отправился искать мотивы для своих картин. Целыми днями бродил он по горам, окружавшим приют святого Павла. Его воображением завладели кипарисы, росшие близ Сен—Реми. Ему хотелось написать их с той же силой, как когда—то подсолнухи. Он дивился, почему никто до сих пор не написал кипарисы так, как он их теперь видел. Очертания и пропорции этих деревьев казались ему прекрасными, словно у египетских обелисков: всплески черного на залитом солнцем фоне. К нему вернулись прежние арлезианские привычки. Каждое утро с рассветом он уходил из лечебницы, взяв чистый холст; к заходу солнца на нем уже был запечатлен кусок природы. Если Винсент и переживал какой—то упадок творческих сил, то не замечал этого. С каждым днем он чувствовал себя все более крепким, восприимчивым к впечатлениям и уверенным в себе. Теперь, когда он вновь стал хозяином своей судьбы, он уже не боялся есть за больничным столон. Он с жадностью поглощал все, что там подавали, даже съедал до последней ложки суп с тараканами. Чтобы работать во всю силу, ему нужна была еда. Он уже ничего теперь не боялся. Он отлично владел собой. Когда Винсент пробыл в приюте Сен—Реми три месяца, он нашел такой живописный мотив с кипарисами, который поднял его над всеми горестями и заботами, заставил забыть все пережитые страдания. Кипарисы были большие, могучие. Передний план заполняли низкие кусты ежевики. За деревьями проступали фиолетовые горы, виднелось зеленое и розовое небо с тонким серпом луны. Кусты ежевики на переднем плане Винсент написал жирными мазками, с искрой желтого, фиолетового и зеленого. Глядя на это полотно, он понял, что окончательно выкарабкался из бездны и опять стоит на твердой земле, обратив взор к солнцу. Радость переполняла его, он вновь видел себя свободным. Тео прислал денег немного больше обычного, и Винсент испросил разрешения съездить в Арль и выручить там свои полотна. Люди на площади Ламартина были с ним учтивы, но при виде своего дома ему стало дурно. Он боялся, что вот—вот упадет в обморок. Вместо того, чтобы зайти к Рулену и к доктору Рею, как он думал сделать раньше, Винсент отправился на поиски хозяина дома, у которого остались картины. Винсент не вернулся в тот вечер в приют, как обещал. На следующий день его нашли между Тарасконом и Сен—Реми: он лежал, свесив голову в канаву.3
Жар словно облаком заволакивал его мозг целых три недели. Товарищи по палате терпеливо ухаживали за ним, – ведь он и сам всегда жалел их, когда с ними случались припадки. Оправившись немного и осознав, что с ним произошло, он повторял про себя: «Это ужасно! Ужасно!» К концу третьей недели, когда Винсент начал ходить по голой, похожей на коридор, палате, сестры привели нового пациента. Новичок покорно прошел к указанной ему кровати, но стоило сестрам выйти, как он впал в настоящее бешенство. Он сорвал с себя всю одежду и растерзал ее на мелкие клочья, он вопил истошным голосом, не давая себе передышки ни на минуту. Он исступленно царапал ногтями матрас, отодрал от стены прибитый у изголовья ящик, сорвал полог вместе с рамой, а свой чемодан растоптал, превратив в бесформенный ком. Больные к новичкам никогда не прикасались и пальцем. В конце концов пришли два служителя и увели помешанного. Его заперли в отдельной келье. Он ревел там, как дикий зверь, целых две недели. Винсент слышал этот рев днем и ночью. Потом крики внезапно стихли. Винсент видел, как служители похоронили несчастного на маленьком кладбище за часовней. Ужасная подавленность овладела Винсентом. Чем крепче становилось его здоровье, чем яснее и хладнокровнее он мог мыслить, тем глупее и нелепее казалась ему дальнейшая работа, потому что она давалась ему так дорого и ничего не приносила взамен. Но если бы он перестал писать, он не мог бы жить. Доктор Пейрон посылал ему со своего стола немного вина и мяса, но не разрешал и близко подходить к мастерской. Пока Винсент был слаб, он мирился с этим, но когда к нему вернулись силы и он увидел, что обречен на такое же постыдное безделье, как и его товарищи, он поднял бунт. – Доктор Пейрон, – сказал он, – для того чтобы я выздоровел, мне необходимо работать. Если вы заставите меня сидеть сложа руки, как этих помешанных, я скоро ничем не буду отличаться от них. – Я знаю, Винсент, но ведь именно напряженная работа и вызвала припадок. Я обязан ограждать вас от волнений. – Нет, доктор, дело тут не в работе. Я свалился оттого, что поехал в Арль. Пока я не увидел площадь Ламартина и свой дом, все было в порядке. А если я больше туда не поеду, у меня не будет никаких припадков. Пожалуйста, пустите меня в мастерскую. – Я не хочу брать на себя такую ответственность. Я напишу вашему брату. Если он согласится, я снова позволю вам работать. В письме, которое Тео прислал доктору Пейрону, прося разрешить Винсенту работать, была потрясающая новость. Тео должен был стать отцом. Винсент почувствовал себя таким счастливым и сильным, словно недавнего припадка и не бывало. Он тут же сел за стол и написал ликующее письмо Тео. «Знаешь, о чем я мечтаю, Тео? Чтобы семья стала для тебя тем, чем для меня природа, – глыбы земли, травы, желтые колосья хлебов и крестьяне. Ребенок, которого тебе подарит Иоганна, заставит тебя по—настоящему ощутить подлинную реальность, которую в огромном городе иным путем и не ощутишь. Ты и сейчас поставлен лицом к лицу с природой, поскольку Иоганна, по твоим словам, уже чувствует, как ребенок шевелится в ней». Винсент снова вернулся в свою мастерскую и писал пейзаж, открывавшийся из зарешеченного окна: поле пшеницы с маленькой фигуркой жнеца и огромным солнцем в небе. Все полотно было желтым, кроме межевой стены, круто сбегавшей вниз по склону, и заднего плана, где виднелись горы, подернутые фиолетовой дымкой. Доктор Пейрон уступил настояниям Тео и разрешил Винсенту работать за стенами приюта. Винсент писал кипарисы, – они фонтанами били из земли, словно упираясь в желтую кровлю солнца. Писал женщин, собирающих маслины: земля на переднем плане была лиловая, а на заднем – цвета желтой охры, стволы у олив бронзовые, листва серо—зеленая; небо и фигуры трех женщин он написал в глубоком розовом тоне. Бродя с мольбертом за спиной, Винсент часто останавливался и разговаривал с людьми, работавшими в поле. В своем собственном мнении он ставил себя гораздо ниже этих крестьян. – Вот видите, – говорил он одному из них, – я тоже вспахиваю, только не ниву, как вы, а свои холсты. Поздняя осень сияла во всей своей красе. Земля Прованса раскрывала целую гамму фиолетовых тонов, в саду среди выгоревшей под солнцем травы пылали алые лепестки цветов; желтая листва всех оттенков подчеркивала блеклую зелень небосвода. В эти осенние дни талант Винсента достиг полного своего расцвета. Он видел, что его работы становятся все совершенней. Вновь в его голове один за другим рождались замыслы; воплощая их на полотне, он был счастлив. Он жил здесь уже достаточно долго и начал чувствовать своеобразие этих мест. Они мало походили на Арль. Зверскую силу мистраля укрощали защищавшие долину горы. Солнце было не так ослепительно. Теперь, когда Винсент понял всю прелесть окрестностей Сен—Реми, ему совсем не хотелось покидать лечебницу. В первое время, когда он только попал сюда, он молил бога, чтобы за год жизни в приюте не лишиться рассудка. Сейчас, уйдя с головой в работу, он уже не сознавал, где он находится – в больнице или в гостинице. И хотя он чувствовал себя вполне здоровым, ему казалось глупым перебираться куда—то в другое место и убивать еще шесть месяцев на ознакомление с новым ландшафтом. Письма из Парижа подбадривали его. Жена Тео стряпала мужу домашние блюда; здоровье его быстро поправлялось. Беременность. Иоганны протекала легко, без осложнений. Каждую неделю Тео присылал брату табак, шоколад, краски и бумажку в десять или двадцать франков. Воспоминание о припадке, случившемся во время поездки в Арль, постепенно стерлось. Винсент вновь и вновь уверял себя, что если бы он не поехал в этот проклятый город, то целых шесть месяцев наслаждался бы отличным самочувствием. Когда его этюды с кипарисами и сливовыми рощами хорошенько просохли, он, чтобы снять лишнее масло, промыл их водой, добавив туда немного вина, и послал Тео. Получив известие, что Тео предложил несколько его работ на выставку Независимых, Винсент огорчился: он чувствовал, что настоящие его шедевры еще впереди. Ему хотелось бы держаться в тени до тех пор, пока его техника не достигнет совершенства. Тео в письмах уверял брата, что его мастерство стремительно растет. Винсент уже подумывал о том, чтобы, прожив в лечебнице год, найти себе кров в городке Сен—Реми и продолжать работать на Юге. Он снова ощущал ту ликующую радость творчества, которую испытывал в Арле до приезда Гогена, замышляя панно с подсолнухами. Как—то к вечеру, спокойно работая в поле, он почувствовал, что начинает бредить. Ночью служители лечебницы нашли его в нескольких километрах от мольберта. Он лежал, обвившись телом вокруг ствола кипариса.4
К исходу пятых суток он был уже в полном сознании. Больше всего его расстроило то, что другие больные восприняли этот новый припадок как нечто неизбежное. Наступила зима. У Винсента не хватало воли подняться с кровати. Печка, стоявшая посреди палаты, теперь была раскалена докрасна. Больные сидели вокруг нее, храня ледяное молчание, с утра до вечера. Окна в палате были узкие и высокие – света они пропускали мало. Печка нагревала воздух, распространяя запах тления. Сестры, еще глубже надвинув на головы свои черные чепцы и капюшоны, бродили по палате и, трогая пальцами кресты, шептали молитвы. Обнаженные горы высились вдали, словно зловещие черепа. Винсент лежал, не смыкая глаз, на своей кровати. Что внушала ему когда—то схевенингенская картина Мауве? «Savoir souffrir sans se plaindre». Учиться страдать не жалуясь, смотреть на страдание без ужаса... да, но как легко может закружиться голова! Если он поддастся этой боли, этому чувству безнадежности – это убьет его. В жизни каждого человека наступает время, когда он должен стряхнуть, сбросить с себя страдание, словно забрызганный грязью плащ. Проходили дни, похожие друг на друга как две капли воды: у Винсента уже не было ни мыслей, ни надежд. Он слушал, как сестры рассуждали о его занятиях; они не могли решить, то ли он пишет оттого, что помешался, то ли помешался оттого, что пишет. Идиот часами сидел на кровати Винсента и что—то тоскливо мычал. Винсент чувствовал, что несчастный видит в нем друга, и не гнал его. Нередко он и сам заговаривал с идиотом, так как никто другой не стал бы его слушать. – Они думают, что меня свела с ума живопись, – сказал он идиоту однажды, глядя на проходящих сестер. – Я знаю, что, в сущности, так оно и есть; художник – это человек, который слишком поглощен тем, что видит его глаз, а потому не может найти в себе силы для всех остальных дел. Но разве это лишает его права на существование? Собеседник в ответ лишь пускал слюни. Одна строчка из книги Делакруа, которую Винсент постоянно читал, заставила его наконец собраться с духом и встать с постели. «Я открыл живопись, – писал Делакруа, – когда у меня уже не было ни зубов, ни здоровья». Несколько недель Винсент не чувствовал ни малейшего желания выйти хотя бы на дворик, в сад. Он сидел в палате у печки и читал книги, которые ему присылал из Парижа Тео. Когда однажды с его соседом случился припадок, Винсент даже не взглянул на него и не поднялся со стула. Безумие для него стало естественным состоянием, ненормальное нормальным. С тех пор как он покинул общество нормальных, здравомыслящих людей, прошла целая вечность – теперь нормальными людьми были для него его товарищи по палате. – Мне очень жаль, Винсент, – сказал доктор Пейрон, – но я не могу больше выпускать вас за ворота лечебницы. Вы должны постоянно находиться здесь. – А работать в мастерской я могу? – Советую вам не делать этого. – Значит, вы хотите, чтобы я покончил самоубийством, доктор? – Ну, так и быть, в мастерской можете работать. Но только понемногу, час—два в день. Даже вид мольберта и кистей не мог вывести Винсента из оцепенения. Он сидел в кресле с обивкой под Монтичелли и тупо глядел сквозь железные прутья на пустые поля. Через несколько дней Винсента позвали в кабинет доктора Пейрона – надо было расписаться в получении заказного письма. Вскрыв конверт, Винсент обнаружил чек на четыреста франков, выписанный на его имя. Такой крупной суммы у него еще не было ни разу в жизни. Он недоумевал: чего ради вздумалось Тео посылать ему столько денег? "Дорогой Винсент! Наконец—то! Одно из твоих полотен продано за четыреста франков! Это « Красный виноградник», который ты написал в Арле прошлой весной. Купила его Анна Бок, сестра голландского художника. Поздравляю тебя, старина! Скоро я буду продавать твои картины по всей Европе! Воспользуйся этими деньгами, чтобы вернуться в Париж, если доктор Нейрон не будет возражать. Недавно я познакомился с замечательным человеком, доктором Гаше, у которого есть дом в Овере на Уазе, всего в часе езды от Парижа. Все знаменитые живописцы, начиная с Добиньи, работали в его доме. Он уверяет, что ему вполне ясен характер твоей болезни и что в любое время, когда ты пожелаешь приехать в Овер, он возьмется за твое лечение. Завтра же напишу тебе еще. Тео". Винсент показал письмо доктору Пейрону и его жене. Пейрон прочитал письмо, задумался, потрогал чек. Потом он поздравил Винсента с удачей. Когда Винсент шел через двор, мозг его снова ожил и лихорадочно заработал. Дойдя до середины двора, он заметил, что держит в руке один лишь чек, а письмо Тео забыл в кабинетедоктора. Он повернул назад и быстро зашагал к домику Пейрона. Только он хотел постучать, как услышал, что за дверью произнесли его имя. Мгновение он колебался, не зная, как быть. – Тогда зачем же, по—твоему, он это сделал? – спрашивала госпожа Пейрон. – Наверное, думал, что это пойдет брату на пользу. – Да, но если у него мало денег?.. – Мне кажется, он готов на любые жертвы, лишь бы Винсент выздоровел. – Значит, ты уверен, что все это чистый обман? – Дорогая Мари, а как же иначе? Эта женщина даже будто бы сестра какого—то художника. Но подумай только, разве может нормальный человек... Винсент побрел прочь от двери. Во время ужина он получил телеграмму от Тео. «Мальчика назвали в честь тебя Иоганна и Винсент чувствуют себя превосходно». Продажа картины и радостная телеграмма от Тео сделали Винсента за ночь здоровым человеком. Рано утром он был уже в мастерской, промывал кисти и разбирал картины и этюды, стоявшие у стены. «Если Делакруа смог открыть живопись, когда у него не было больше ни зубов, ни здоровья, я могу ее открыть теперь, когда у меня нет ни зубов, ни рассудка». Он набросился на работу с глухой яростью. Он сделал копию «Доброго самаритянина» Делакруа, «Сеятеля» и «Землекопа» Милле. Он решил принимать свое недавнее несчастье со спокойствием истинного северянина. Искусство не дается даром, оно пожирает художника; он знал это, когда только вступал на стезю живописца. Зачем же жаловаться теперь, когда дело зашло так далеко? Ровно через две недели после получения чека на четыреста франков неожиданно пришел по почте январский номер журнала «Меркюр де Франс». Винсент увидел, что Тео отчеркнул для него в оглавлении статью, называвшуюся «Одинокие». "Для всех полотен Винсента Ван Гога, – читал он, – характерен избыток силы и страстность выражения. В его настойчивом подчеркивании сущности и характера взятого объекта, в его зачастую слишком дерзком упрощении форм, в его отважном желании взглянуть на солнце широко раскрытыми глазами, в напряженности его рисунка и колорита – всюду видна могучая рука, настоящий мужчина, смельчак, который бывает порой зверски груб, а порой – удивительно нежен. Живопись Ван Гога уходит своими корнями в великое искусство Франса Хальса. Его реализм намного превзошел ту верность жизни, которую мы находим в работах его предшественников – знаменитых малых голландских мастеров, столь крепких и столь уравновешенных. Его картины несут на себе печать осознанного стремления постигнуть и раскрыть характер, печать неутолимой жажды выразить сущность изображаемого, печать глубокой, почти детски наивной любви к природе и истине. Этот сильный, правдивый художник с горячей душой – вкусит ли он когда—нибудь радость признания среди широкой публики? Едва ли. С точки зрения нынешнего буржуа Ван Гог слишком прост и в то же время слишком тонок. Он никогда не будет понят до конца никем, кроме его же собратьев художников. Ж.Альбер Орье". Доктору Пейрону эту статью Винсент не показал. Снова вернулась к нему вся его творческая мощь, вся его жажда жизни. Он писал палату, в которой жил, писал смотрителя лечебницы и его жену, сделал еще несколько копий с картин Милле и Делакруа – все его дни и ночи были наполнены лихорадочной работой. Вспоминая во всех подробностях течение своей болезни, он ясно видел, что припадки носили у него циклический характер, повторяясь каждые три месяца. Что же, теперь он знает, когда их ждать, и может принять меры предосторожности. Когда наступит черед нового приступа, он прекратит работу, ляжет в постель и приготовится перенести в ней это короткое недомогание. Через несколько дней он снова встанет на ноги, как ни в чем не бывало, словно после легкой простуды. Единственное, что теперь раздражало Винсента, – это религиозный дух, царивший в лечебнице. Ему казалось, что с наступлением сумрачных зимних дней сестры сами стали страдать припадками истерии. Глядя, как они бормочут молитвы, прикладываются к кресту, перебирают четки, прогуливаются, не поднимая глаз от Библии, ходят на молебны в часовню пять—шесть раз в день, Винсент нередко дивился: кто же в этой лечебнице больные и кто – медицинский персонал? С тех памятных дней, которые Винсент пережил в Боринаже, он испытывал ужас перед всяким религиозным исступлением. Бывали минуты, когда фанатизм сестер выводил его из себя. Он с еще большим рвением отдавался работе, стараясь выбросить из головы эти зловещие фигуры с их черными капюшонами и крестами. Когда до конца третьего месяца оставалось два дня, Винсент лег в постель совершенно здоровый, в твердом рассудке. Он опустил полог, чтобы всякие проявления религиозной экзальтации, в которую сестры впадали все чаще и чаще, не нарушали его покоя. Наступил день, когда должен был начаться припадок. Винсент ждал его с нетерпением, почти с радостью. Часы тянулись один за другим. Никакого припадка не последовало. Винсент был удивлен, затем раздосадован. Прошел еще один день. Он чувствовал себя вполне нормальным. Когда и на третий день ожидания ничего не случилось, он сам посмеялся над собой. «Я свалял дурака. Тот припадок был последним, вот и все. Доктор Пейрон ошибается. Отныне мне нечего бояться. Я только потерял время, валяясь в постели. Завтра утром я встаю и иду работать». Глубокой ночью, когда все крепко спали, он тихонько сполз со своей кровати. Босой, пошел он по каменному полу палаты. В темноте он добрался до двери подвала, где хранили уголь. Он встал на колени, набрал пригоршню угольной пыли и размазал ее по лицу. – Мадам Дени, вы видите? Они признали меня! Теперь я такой же, как они. Они не доверяли мне раньше, а теперь я тоже стал чернорожий. Теперь– то углекопы согласятся, чтобы я нес им слово божье. Смотрители нашли его в подвале вскоре после рассвета. Он бормотал бессвязные молитвы, твердил отрывочные фразы из Писания, откликался на голоса, которые нашептывали ему на ухо странные, небывалые слова. Эти религиозные галлюцинации длились у него несколько дней. Когда помрачение прошло и к нему вернулся рассудок, он послал одну из сестер за доктором Пейроном. – Мне думается, доктор, что никакого припадка у меня бы не было, – сказал он, – если бы я не видел вокруг себя этой дурацкой религиозной истерии. Доктор Пейрон пожал плечами, склонился над кроватью и опустил за собой полог. – А что я могу поделать, Винсент? Здесь так уж заведено, это бывает каждую зиму. Я не одобряю этого, но к запретить не могу. Что там ни говори, сестры делают полезное дело. – Все это, может быть, и так, – согласился Винсент, – но ведь трудно сохранить рассудок, если вокруг тебя одни сумасшедшие, а тут еще это религиозное помешательство! Время, когда у меня должен был быть припадок, прошло... – Винсент, не обманывайте себя. Припадок должен был случиться. Ваша нервная система испытывает кризис каждые три месяца. Если бы у вас не было религиозных галлюцинаций, то были бы какие—нибудь другие. – Если со мной случится подобное еще раз, доктор, я попрошу брата взять меня отсюда. – Как вам угодно, Винсент. Он вернулся к работе в мастерской в первый же по—настоящему весенний день. Он снова писал пейзаж, открывавшийся за окном, – поле, покрытое желтой стерней, которое уже опять вспахивали. Лиловые пласты перевернутой плугом земли резко контрастировали на его полотне с щетинистыми желтыми клочьями жнивья, а вдалеке виднелись горы. Всюду зацветал миндаль, и небо на закате, как прежде, светилось бледно—лимонными красками. Извечное возрождение природы на этот раз не придало сил Винсенту. Впервые с тех пор, как он поселился в приюте, идиотский лепет его сотоварищей и постоянные припадки, валившие их с ног, начали отравлять ему существование. И нигде не мог он укрыться от этих, похожих на мышей, вечно молящихся существ в черно—белых одеждах. При одном взгляде на них Винсент содрогался от отвращения. "Тео, – писал он брату, – мне очень не хотелось бы уезжать из Сен– Реми; здесь еще уйма интересной работы. Но если со мной снова случится припадок на почве религии, знай, виной этому здешний приют, а не мои нервы. Двух—трех таких припадков достаточно, чтобы убить меня. Имей в виду, если у меня снова начнутся религиозные галлюцинации, я приеду в Париж, как только встану с постели, не медля ни минуты. Может быть, переезд на север пойдет мне на пользу, там можно рассчитывать хоть на какой—то минимум душевного здоровья. Как насчет этого твоего доктора Гаше? Согласится ли он лечить меня?" Тео отвечал, что он разговаривал с доктором Гаше еще раз и показал ему кое—какие полотна Винсента. Доктор приглашает Винсента в Овер и готов предоставить ему возможность работать в своем, доме. «Он не только специалист по нервным болезням, но и знаток живописи. Я убежден, что лучшего врача тебе не найти. Как только ты решишься, телеграфируй мне, и я сразу же выеду в Сен—Реми». Наступили первые жаркие дни ранней весны. В саду зазвенели цикады. Винсент писал портик у входа в отделение третьего разряда, садовые дорожки, деревья и, пользуясь зеркалом, автопортрет. Он работал, глядя одним глазом на полотно, а другим – на календарь. Очередной припадок должен был произойти в мае. В пустых коридорах он слышал какие—то голоса, раздававшиеся над самым ухом. Он отзывался на них, и эхо его собственного голоса вновь возвращалось к нему, словно злобный оклик судьбы. Теперь его нашли без сознания в часовне. Оправился он от религиозных галлюцинаций, помрачивших его ум, только к середине мая. Тео непременно хотел сам приехать в Сен—Реми и увезти Винсента. Но Винсент решил ехать один, на тарасконский поезд его должен был посадить смотритель. "Дорогой Тео! Я еще не калека и не свирепый зверь, опасный для окружающих. Позволь мне доказать себе и тебе, что я нормальный человек. Если я выберусь из этого приюта самостоятельно, на собственных ногах, и начну новую жизнь в Овере, то, может быть, я найду в себе силы победить болезнь. Это будет последняя попытка. Я уверен, что, выйдя из этого сумасшедшего дома, я опять стану разумным, нормальным существом. Судя по тому, что ты пишешь, Овер тихое и красивое место. Если я буду соблюдать осторожность и жить под присмотром доктора Гаше, то, без сомнения, мне удастся одолеть свой недуг. Я сообщу тебе по телеграфу, когда мой поезд отходит из Тараскона. Встречай меня на Лионском вокзале. Я хочу выехать в субботу, чтобы провести воскресенье дома вместе с тобой, Иоганной и малышом".ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. ОВЕР
1
От волнения Тео не спал всю ночь. За два часа до прибытия поезда, с которым ехал Винсент, он был уже на Лионском вокзале. Иоганне пришлось остаться дома с ребенком. Она стояла на балконе их квартиры на четвертом этаже, в Ситэ Пигаль, и вглядывалась в даль сквозь листву огромного темного дерева, скрывавшего весь фасад дома. Она с нетерпением ждала, когда с улицы Пигаль завернет экипаж и подкатит к их дому. От квартиры Тео до Лионского вокзала было далеко. Иоганне казалось, что ее ожиданию не будет конца. Она уже начала беспокоиться, не случилось ли с Винсентом в дороге несчастье. Но вот из—за угла улицы Пигаль вынырнул открытый фиакр, двое мужчин приветливо улыбались ей и махали руками. Иоганна горела нетерпением поскорей взглянуть на Винсента. Ситэ Пигаль, небольшой тупик, упирался в крыло каменного здания с двором, засаженным деревьями. По обеим сторонам этого тупика стояло по два внушительных дома. Тео жил в доме восемь, втором от угла. Перед домом зеленел садик, а вдоль него был настлан тротуар. Через несколько минут фиакр уже подкатил к большому темному дереву и остановился у подъезда. Винсент побежал наверх по лестнице, Тео не отставал от него. Иоганна готовилась увидеть инвалида, но у мужчины, который схватил ее в объятия, был прекрасный цвет лица, широкая улыбка и открытый решительный взгляд. «Да он выглядит совершенно здоровым. С виду он гораздо крепче, чем Тео», – подумала Иоганна в первую же секунду. Но она никак не могла заставить себя посмотреть на его ухо. – Ну, Тео! – воскликнул Винсент, держа Иоганну за руки и глядя на нее с восхищением. – Жену ты себе выбрал очаровательную! – Спасибо, Винсент, – смеясь, сказал Тео. Иоганна во многом напоминала их мать. У нее были карие, такие же ласковые, как и у Анны—Корнелии, глаза, те же мягкие манеры, то же сочувственное и внимательное отношение к людям. Теперь, когда у нее родился ребенок, материнство уже наложило на нее свою печать. Это была полная женщина с правильными чертами овального, почти бесстрастного лица и густыми светло—каштановыми волосами, которые были скромно зачесаны назад, открывая высокий, как у всех голландок, лоб. Свою любовь к Тео она переносила и на Винсента. Тео потащил Винсента в спальню, где спал в кроватке малыш. Братья молча смотрели на него, и на глазах у них выступили слезы. Иоганна поняла, что лучше оставить их наедине друг с другом; она тихонько пошла к двери. Но не успела она взяться за дверную ручку, как ее окликнул Винсент и, указывая на вышитое одеяльце, с улыбкой сказал: – Не надо так кутать малыша, сестрица. Иоганна бесшумно затворила за собой дверь. Винсент, снова залюбовавшись ребенком, почувствовал страшную тоску бобыля, которому суждено умереть, не оставив после себя потомства. Тео как будто прочел его мысли. – У тебя есть еще время, Винсент. В один прекрасный день ты найдешь себе подругу, которая будет любить тебя и разделит все невзгоды твоей жизни. – Ах, нет, Тео, теперь уже поздно! – Совсем недавно я столкнулся с женщиной, которая словно создана для тебя. – Правда? Кто ж это такая? – Это девушка из романа Тургенева «Новь». Ты ее помнишь? – Ты говоришь о той, которая дружила с нигилистами и переправляла опасные бумаги через границу? – О той самой. Твоя жена должна быть похожа на нее, Винсент, она должна быть из тех, кто прошел через все несчастья и горести жизни... – Ну, а что она найдет во мне? В человеке об одном ухе? Маленький Винсент, проснувшись, открыл глазки и улыбнулся. Тео взял ребенка из кроватки и передал его Винсенту. – Он такой мягкий и тепленький, словно щенок, – сказал Винсент, прижимая его к груди. – Слушай, ты, медведь, разве так держат младенца? – Да, боюсь, что я умею держать только кисть и палитру. Тео взял ребенка на руки и бережно прижал его к плечу, касаясь щекой каштановых локонов мальчика. И дитя, и Тео на миг показались Винсенту как бы высеченными из одного куска камня. – Ну что ж, Тео, – сказал Винсент со вздохом, – у каждого человека своя дорога. Ты создал живое существо... а я создаю картины. – Да, Винсент, видно, так уж тому и быть. В тот же вечер у Тео собрались друзья Винсента по случаю его приезда в Париж. Первым пришел Орье, изящный молодой человек с волнистыми волосами и бородой, которая росла у него по обе стороны выбритого подбородка. Винсент провел его в спальню, где у Тео висел натюрморт Монтичелли – букет цветов. – Вы пишете в своей статье, господин Орье, что я единственный художник, который улавливает в колорите вещей металлическое звучание, блеск драгоценного камня. Но посмотрите на этот натюрморт. Фада достиг этого за много лет до того, как я приехал в Париж. Однако вскоре Винсент оставил споры с Орье и в знак благодарности за статью преподнес ему одно из своих полотен с кипарисами, написанных в Сен– Реми. Ввалился Тулуз—Лотрек, запыхавшийся после шести маршей лестницы, но, как всегда, говорливый и в любую минуту готовый отпустить непристойную шутку. – Винсент, – воскликнул он, пожимая приятелю руку. – Знаешь, там на лестнице я видел гробовщика. Как по—твоему, кого он дожидается, тебя или меня? – Тебя, Лотрек! На мне он много не заработает. – Предлагаю небольшое пари, Винсент. Спорим, что твое имя будет занесено в его приходную книгу раньше моего. – Идет! А на что мы спорим? – На обед в кафе «Афины» и билет в Оперу. – Я бы просил вас, ребята, шутить чуточку повеселей, – слабо улыбнулся Тео. Вошел какой—то незнакомый человек, поглядел на Лотрека и уселся на стуле в самом дальнем углу. Все ждали, что Лотрек представит его, но тот продолжал разговаривать как ни в чем не бывало. – Познакомь же нас со своим другом, – сказал Лотреку Винсент. – А он мне не друг, – расхохотался Лотрек. – Это мой сторож! В комнате наступила напряженная тишина. – Разве ты не знаешь, Винсент? Месяца два я был non compos mentis [не в здравом рассудке (лат.)]. Говорят, что это от злоупотребления спиртным, так что теперь я пью только молоко. Я пришлю тебе пригласительный билет на мою очередную вечеринку. На нем ты увидишь любопытный рисунок – я дою корову, да только вымя у нее не на том месте, где надо. Иоганна подала угощение. Все говорили одновременно, перебивая друг друга, в воздухе плавал табачный дым. Это напомнило Винсенту прежние парижские времена. – А как поживает Жорж Съра? – спросил он Лотрека. – Жорж! Неужели ты ничего не знаешь? – Тео не писал мне о нем, – сказал Винсент. – А что такое? – Жорж умирает от чахотки. Доктор говорит, что он не дотянет и до дня своего рождения – ему скоро исполнится тридцать один. – От чахотки? Как же это, ведь Жорж был такой крепкий! Какого же черта... – Он слишком много работал, Винсент, – объяснил Тео. – Ведь ты не видел его уже два года. Жорж трудился, как вол. Спал два—три часа в сутки, остальное время работал с дьявольским ожесточением. Даже его добрая мамаша была не в силах спасти его. – Значит, Жоржа скоро не станет, – задумчиво произнес Винсент. Явился Руссо, притащив Винсенту кулек своего печенья. Папаша Танги, все в той же круглой соломенной шляпе, преподнес Винсенту японскую гравюру и сказал горячую речь но поводу того, как они все рады снова видеть Винсента в Париже. В десять часов Винсент, несмотря на протесты друзей, сходил в лавку и купил большую банку маслин. Он заставил есть эти маслины всех, даже незнакомца, пришедшего с Лотреком. – Если бы вы хоть раз увидели, как прекрасны серебристо—зеленые рощи олив в Провансе, – восторженно говорил он, – право же, вы ели бы маслины до конца своих дней! – Кстати, если уж речь зашла об сливовых рощах, Винсент, – сказал Лотрек, – как тебе понравились арлезианки? Утром Винсент вынес коляску на улицу и поставил ее около дома, чтобы малыш мог полежать часок на солнышке под присмотром Иоганны. Затем Винсент вернулся в квартиру, скинул пиджак и долго стоял, оглядывая стены. Они были украшены его картинами. В столовой, над камином, висели «Едоки картофеля», в гостиной «Вид в окрестностях Арля» и «Рона ночью», в спальне «Фруктовый сад в цвету». К отчаянию горничной, под кроватями, под диваном, под буфетом, в чулане были свалены целые кучи полотен, еще не вставленных в рамы. Однажды Винсент искал что—то в письменном столе Тео и увидел толстую пачку писем, перевязанных крепкой бечевкой. Он очень удивился, обнаружив, что это его собственные письма. Тео тщательно хранил каждую строчку, написанную ему братом с того самого времени, как, двадцать лет назад, Винсент уехал из Зюндерта в Гаагу и поступил к Гупилю. В общей сложности у него накопилось семьсот писем. Винсент изумлялся: чего ради брат бережет эти древние пожелтевшие листки? В другом ящике Винсент нашел рисунки, которые он посылал Тео последние десять лет, – все они были аккуратнейшим образом разложены по периодам его жизни. Вот углекопы Боринажа, их жены, собирающие терриль; вот землепашцы и сеятели в полях близ Эттена; вот старики и старухи, нарисованные в Гааге; вот землекопы Гееста, рыбаки Схевенингена; едоки картофеля и ткачи Нюэнена; вот рестораны и уличные сцены Парижа; вот самые первые подсолнухи и наброски фруктовых садов Арля; а вот двор с высокими деревьями в лечебнице Сен—Реми. – Сейчас я устрою свою собственную выставку! – сказал Винсент. Он снял все картины со стен, разложил перед собой рисунки и вытащил все холсты из—под кроватей и прочей мебели. Он тщательно распределил свои работы по периодам. Потом выбрал рисунки и полотна, в которых ему удалось наиболее верно выразить дух изображаемых мест. В прихожей, куда прежде всего попадал всякий, кто приходил к Тео, Винсент развесил около тридцати своих ранних этюдов: боринажские углекопы около шахт, возле овальных печурок, за ужином в своих жалких лачугах. – Это будет зал рисунка углем, – объявил Винсент сам себе. Он осмотрел остальные комнаты и решил, что теперь лучше всего приняться за ванную. Он встал на стул и ровными рядами развесил на всех четырех стенках свои эттенские наброски, изображавшие брабантских крестьян. – А это будет у нас зал рисунка плотничьим карандашом. Затем Винсент перешел в кухню. Здесь он поместил гаагские и схевенингенские этюды, – вид из окна мастерской на дровяной склад, песчаные дюны, баркасы, которые рыбаки вытаскивают на берег. – Зал номер три, – провозгласил Винсент. – Зал акварелей. В крохотном чуланчике он повесил картину, изображавшую его добрых друзей Де Гроотов – «Едоки картофеля»; это была первая его картина маслом, в которой он полностью себя выразил. Вокруг нее он поместил множество этюдов – нюэненские ткачи, крестьяне в траурной одежде, кладбище за отцовской церковью, тонкий, изящный шпиль колокольни. Свою собственную комнату Винсент отвел под полотна, написанные маслом в Париже, те самые, что он развесил у Тео на улице Лепик, перед тем как уехать в Арль. В гостиной он повесил свои сияющие яркими красками арлезианские полотна. Спальню Тео Винсент украсил картинами, написанными в приюте Сен—Реми. Кончив работу, он подмел полы, надел пальто и шляпу, спустился по лестнице и покатил маленького тезку по солнечной стороне Ситэ Пигаль, а Иоганна шла рядом, держа Винсента за руку и болтая с ним по—голландски. В начале первого из—за угла улицы Пигаль появился Тео; счастливо улыбаясь, он помахал им рукой, подбежал к коляске и любовно вынул оттуда младенца. Они оставили коляску у консьержки и, оживленно разговаривая, стали подниматься по лестнице. Когда они были уже у дверей квартиры, Винсент остановил их. – Сейчас я покажу вам выставку Ван Гога, – сказал он. – Тео и Ио, приготовьтесь к суровому испытанию. – Выставку, Винсент? – удивился Тео. – Где же она? – Зажмурьтесь! – скомандовал Винсент. Он распахнул дверь настежь, и трое Ван Гогов вошли в прихожую. Тео и Иоганна, пораженные, глядели во все глаза. – Когда я жил в Эттене, – говорил Винсент, – отец сказал однажды, что зло не может породить добро. Я возразил ему, что оно не только может, но и должно породить добро, особенно в искусстве. Если вы не против, дорогие мои брат и сестра, я расскажу вам историю жизни человека, который начал с неуклюжих, грубых рисунков, словно неловкий ребенок, и за десять лет постоянного труда добился того... впрочем, вы сами увидите, чего он добился. И он повел их из комнаты в комнату, строго соблюдая временную последовательность. Они стояли перед полотнами, словно экскурсанты в музее, и глядели на труд целой человеческой жизни. Они видели, как медленно, ценой тяжких учений созревал живописец, как он на ощупь, вслепую искал верных и совершенных средств выражения, видели, какой переворот пережил он в Париже, с какой страстью зазвучал его могучий голос в Арле, когда в едином порыве дали себя знать все труды прежних лет... а потом... катастрофа... полотна, написанные в Сен—Реми... отчаянные усилия поддержать творческий жар и медленное падение вниз... вниз... вниз... Они смотрели на выставку глазами случайных сторонних посетителей. За какие—то полчаса перед ними прошел весь земной путь человека. Иоганна приготовила настоящий брабантский завтрак. Винсент с удовольствием снова отведал голландской пищи. После того как Иоганна убрала со стола, братья закурили трубки и начали разговор. – Винсент, ты должен во всем слушаться доктора Гаше. – Да, Тео. – Понимаешь, он специалист по нервным болезням. Если ты будешь выполнять его указания, то непременно вылечишься. – Хорошо, Тео. – Кроме того, Гаше занимается и живописью. Он каждый год выставляет свои работы у Независимых под именем П.ван Рэйсела. – А хорошие у него картины, Тео? – Нет, я бы не сказал. Но он из тех людей, у которых настоящий талант распознавать таланты. Двадцатилетним юношей он приехал в Париж изучать медицину и подружился с Курбе, Мюрже, Шанфлери и Прудоном. Он частенько заходил в кафе «Новые Афины» и скоро близко сошелся с Мане, Ренуаром, Дега, Дюраном и Клодом Моне. Добиньи и Домье работали в его доме задолго до того, как появился импрессионизм. – Да неужели? – Почти все полотна, которыми он владел, написаны или у него в саду, или в гостиной. Писсарро, Гийомен, Сислей, Делакруа – все они жили и работали в Овере у Гаше. У него ты увидишь также полотна Сезанна, Лотрека и Съра. Уверяю тебя, Винсент, с середины этого века не было ни одного талантливого живописца, который не дружил бы с доктором Гаше. – Да неужели? Довольно, Тео, ты меня совсем запугал! Я ведь не принадлежу к этой блестящей плеяде. А видал он хоть одно мое полотно? – Ну и болван же ты! А как по—твоему, почему ему так хочется, чтобы ты приехал в Овер? – Убей меня бог, если я знаю. – Да потому, что он считает твои арлезианские ночные картины лучшим, что только было на последней выставке Независимых. Клянусь тебе, когда я показал ему панно с подсолнухами, которые ты написал в Арле для Гогена, у него слезы навернулись на глаза. Он посмотрел на меня и сказал: «Господин Ван Гог, ваш брат – великий художник. За всю историю живописи еще никто не находил такого желтого цвета, как на этих подсолнухах. Один эти полотна сделают имя вашего брата бессмертным». Винсент почесал в затылке и смущенно улыбнулся. – Хорошо, – сказал он, – если доктор Гаше такого мнения о моих подсолнухах, то мы с ним поладим.2
Доктор Гаше встретил Тео и Винсента на станции. Это был суетливый, нервный, порывистый человечек с тревожной грустью в глазах. Он с жаром пожал руку Винсенту. – Да, да, наши места – просто клад для художника. Вам понравится здесь. Я вижу, вы прихватили с собой мольберт. А красок вы взяли достаточно? Вам надо приниматься за работу не теряя времени. Сегодня вы обедаете у меня. Привезли вы какие—нибудь новые полотна? Боюсь, у нас вам не найти арлезианских желтых тонов, зато тут есть кое—что другое, да, да, кое—что другое. Вы должны писать у меня в доме. Я покажу вам вазы и столы, которые писали все художники от Добиньи до Лотрека. Как вы себя чувствуете? Вид у вас прекрасный. Ну что, нравится вам здесь? Да, да, мы займемся вами. Мы сделаем из вас здорового человека! Еще с железнодорожной платформы Винсент увидел рощу, мимо которой по благодатной долине текла зеленая Уаза. Он даже отошел немного в сторону, чтобы лучше охватить взглядом пейзаж. Тео тихонько заговорил с доктором Гаше. – Прошу вас, следите за братом как можно внимательней, – сказал он. – Если заметите, что приближается кризис, немедленно телеграфируйте мне. Я должен быть около него, когда он... ему нельзя позволять, чтобы... говорят, что он... – Ну, ну! – прервал его доктор Гаше, пританцовывая на месте и теребя свою козлиную бородку. – Разумеется, он сумасшедший. Но что вы хотите? Все художники сумасшедшие. Это самое лучшее, что в них есть. Я это очень ценю. Порой мне самому хочется быть сумасшедшим. «Ни одна благородная душа не лишена доли сумасшествия». Знаете, кто это сказал? Аристотель – вот кто. – Прекрасно, доктор, – заметил Тео. – Но Винсент еще молод, ему всего тридцать семь лет. Лучшие годы жизни у него впереди. Доктор Гаше сорвал с головы свою забавную белую фуражку и несколько раз провел рукою по волосам без всякой надобности. – Предоставьте все мне. Я знаю, как обращаться с художниками. Он у меня через месяц будет здоровым человеком. Я заставлю его работать. Это его живо излечит. Я предложу ему писать мой портрет. Сейчас же. Сразу после обеда. Я исцелю ему мозг, можете быть уверены. Подошел Винсент, полной грудью вдыхая чистый деревенский воздух. – Ты должен привезти сюда Ио вместе с малышом, Тео. Это преступление – держать детей в городе. – Да, да, вы должны приехать сюда на воскресенье и провести с нами весь день! – воскликнул Гаше. – Спасибо, спасибо. Это будет прекрасно. А вот в мой поезд. До свидания, доктор Гаше, благодарю вас за заботу о брате. Винсент, пиши мне каждый день. У доктора Гаше была привычка брать спутника за локоть и тащить за собой. Подталкивая Винсента вперед, он так и сыпал словами, перескакивал с предмета на предмет, сам отвечал на свои вопросы и резким, пронзительным голосом произносил длинные монологи. – Вон та дорога ведет в поселок, – говорил Гаше, – та, длинная и прямая. Но сейчас я поведу вас другой дорогой на вершину холма – оттуда видна вся окрестность. Ничего, что вы тащите мольберт? Вам не тяжело? Вон там, слева, католическая церковь. Вы заметили, что католики всегда строят свои церкви на холмах, чтобы они были хорошо видны? Ох, господи, должно быть, я старею, этот подъем кажется мне все круче и круче с каждым годом. Видите, какие там прелестные хлебные поля? Весь Овер окружен ими. Вы непременно должны их написать. Конечно, они не такие желтые, как в Провансе... а вон там, справа, – кладбище... оно на самой вершине холма, над рекой и над всей долиной... как вы полагаете, разве не все равно мертвым, где лежать?.. а мы отдали им лучшее место во всей долине Уазы... Может быть, зайдем туда? Ниоткуда так хорошо не видно реки, как с кладбища. .. ведь там увидишь все вплоть до Понтуаза... да, да, ворота не заперты, надо только толкнуть их... вот так... Ну, разве тут не чудесно? Эти высокие стены мы выстроили, чтобы защищаться от ветра... мы хороним здесь и католиков и протестантов... Винсент скинул с плеч мольберт и, чтобы отдохнуть от речей доктора Гаше, прошел немного вперед. Кладбище имело форму квадрата и занимало не только вершину холма, но и часть склона. Винсент дошел до задней стены, откуда была прекрасно видна расстилавшаяся внизу долина Уазы. Холодная зеленая лента реки красиво вилась среди изумрудных берегов. Справа выглядывали тростниковые крыши какой—то деревни, а чуть подальше – другой холм, на котором возвышался старинный замок. Лучи яркого майского солнца заливали кладбище, густо поросшее весенними цветами. А над ним, сияя, опрокинулся нежно—голубой купол неба. Здесь царил удивительный, невозмутимый, почти неземной мир и покой. – Вы знаете, доктор Гаше, – сказал Винсент, – это очень хорошо, что я побывал на юге. Теперь я гораздо лучше вижу север. Посмотрите, какая лиловость на том, дальнем берегу реки, где трава еще не тронута солнышком. – Да, да, лиловость, именно лиловость, иначе не скажешь... – И каким здесь веет здоровьем, – задумчиво продолжал Винсент. – Какой тут покой, какая тишина. Они спустились с холма, миновали пшеничное поле, церковь и вышли на прямую дорогу, которая вела в поселок. – Мне, право, жаль, что я не могу поместить вас у себя в доме, – сказал доктор Гаше, – но, увы, у нас нет ни одной свободной комнаты. Я укажу вам хорошую гостиницу, а вы каждый день станете приходить ко мне писать и будете чувствовать себя как дома. Доктор схватил Винсента за локоть и потащил его мимо мэрии к реке, где была летняя гостиница. Он поговорил с хозяином, и тот согласился предоставить Винсенту комнату и стол за шесть франков в день. – Ну вот, можете устраиваться, – весело сказал Гаше. – А в час приходите ко мне обедать. И тащите свой мольберт и краски. Вы должны написать мой портрет. А еще принесите показать ваши новые работы. Мы там вволю поболтаем. Идет? Как только доктор скрылся из виду, Винсент взял свои пожитки и поплелся к выходу. – Постойте! – окликнул его хозяин. – Куда же вы? – Я рабочий, а не капиталист, – ответил ему Винсент. – Я не могу платить вам шесть франков в день. Он вернулся на площадь и разыскал там маленькое кафе, как раз напротив мэрии. Называлось оно по фамилии хозяина – Раву, там Винсент договорился, что будет платить за комнату и стол три с половиной франка в день. Кафе Раву было излюбленным местом встречи крестьян и рабочих, живших близ Овера. Войдя в него, Винсент увидел справа небольшую стойку, все остальное пространство сумрачного, унылого зала было заставлено грубыми деревянными столами и скамьями. В углу, за стойкой, виднелся бильярдный стол с грязным и рваным зеленым сукном. Стол этот был гордостью и украшением кафе. В дальнем конце зала была дверь на кухню, а сразу же за дверью – витая лестница, которая вела наверх, где были три комнатки с кроватями. Из своего окна Винсент видел шпиль католической церкви и кусок кладбищенской стены, – в мягком свете оверского солнца ее коричневый тон был чист и нежен. Винсент взял мольберт, краски и кисти, захватил портрет арлезианки и отправился на поиски дома Гаше. Та же дорога, что вела со станции к кафе Раву, у площади круто сворачивала на запад и шла вверх по склону. Скоро Винсент очутился у развилки. Правая дорога поднималась к холму с замком, а левая через зеленое поле гороха уходила к реке. Гаше велел ему идти прямо, оставляя холм в стороне. Винсент медленно шел и думал о докторе, заботам которого его поручил Тео. Он заметил, что домики с тростниковыми крышами сменились богатыми виллами и поселок приобрел совсем другой вид. Винсент потянул медную ручку звонка, торчавшую в высокой каменной стене. На звон колокольчика выбежал Гаше. Он повел Винсента по крутой каменной лестнице на террасу, где был разбит цветник. Дом был трехэтажный, прочный, удобный и красивый. Доктор взял Винсента под руку и вывел на задний двор, где у него жили утки, куры, индейки, павлины и множество кошек. – А теперь идемте в гостиную, Винсент, – сказал Гаше, поведав Винсенту во всех подробностях историю каждой птицы. Гостиная, занимавшая переднюю часть дома, была просторная, с высоким потолком, но в ней было всего—навсего два маленьких окна, выходивших в сад. Эта большая комната была так заставлена мебелью, антикварными редкостями и всякой рухлядью, что у стола, стоявшего посередине, едва хватало места для двух человек. Окна пропускали очень мало света, и Винсенту показалось, что все вещи в гостиной черные. Гаше метался по комнате, то и дело хватал какой—нибудь предмет, совал его Винсенту и вырывал из рук, раньше чем тот успевал что—либо рассмотреть. – Поглядите. Видите букет на той картине? Делякруа держал цветы вот в этой вазе. Можете ее потрогать. Разве вы не чувствуете, что это та самая вещь? Видите это кресло? На нем сидел у окна Курбе, когда писал мой сад. А эти красивые блюда? Их привез мне Демулен из Японии. Одно из этих блюд брал для своего натюрморта Клод Моне. Натюрморт наверху. Идемте, я покажу. За обедом Винсент познакомился с сыном Гаше, Полем, живым и красивым пятнадцатилетним мальчиком. Несмотря на то что Гаше страдал желудком, обед у него был из пяти блюд. Винсент, привыкнув в Сен—Реми к одной чечевице да черному хлебу, спасовал уже после третьего блюда. – А теперь нам надо поработать! – воскликнул доктор. – Вы будете писать мой портрет, Винсент; я буду позировать вот так, как сижу сейчас, хорошо? – Мне сначала надо бы узнать вас поближе, доктор, а то, боюсь, портрет выйдет очень поверхностный. – Ну что ж, возможно, вы правы, возможно, и правы. Но что—нибудь вы все—таки напишете? Позвольте мне посмотреть, как вы работаете. Мне так хочется посмотреть! – Я видел в саду место, которое стоило бы написать. – Чудесно! Чудесно! Сейчас мы поставим вам мольберт. Поль, вынеси господину Винсенту мольберт в сад. Вы мне покажите это место, и я скажу, писал ли его кто—нибудь из художников. Пока Винсент работал, доктор бегал вокруг него, размахивая руками и выражая восторг, ужас, удивление. Винсент слышал за своей спиной тысячу советов, возгласов и всевозможных наставлений. – Да, да, это у вас получилось хорошо. Вот, вот, красный краплак. Осторожнее! Вы испортите все дерево. Ага, сейчас в самый раз... Нет, нет! Хватит, оставьте в покое кобальт. Это вам не Прованс. Теперь, по—моему, хорошо! Да, да, просто прекрасно! Осторожней, осторожней, Винсент. Сделайте, пожалуйста, желтое пятнышко на этом цветке. Да, да, вот здесь. Как сразу все оживает и играет! У вас прямо—таки животворная кисть. Нет, нет! Умоляю вас, не надо! Легче, легче! Не так энергично. А, да, да, теперь я понял. Merveilleux! [Восхитительно! (фр.)] Винсент терпел кривлянье и болтовню доктора, сколько хватило сил. Потом он обернулся и сказал: – Дорогой друг, вам не кажется, что такое волнение может вредно отразиться на вашем здоровье? Вы медик и должны знать, как важно держать себя в руках и не волноваться. Но когда кто—нибудь писал на глазах у Гаше, он не мог не волноваться. Закончив этюд, Винсент вместе с доктором Гаше вернулся в дом и показал ему портрет арлезианки, который он принес. Доктор прищурил один глаз и насмешливо посмотрел на полотно. Он долго что—то бормотал, пререкаясь сам с собой насчет достоинств и недостатков портрета, и наконец изрек: – Нет, этого я не могу принять. Не могу согласиться с ним полностью. Не вижу, что вы хотели сказать в этом портрете. – Я и не старался ничего сказать, – заметил Винсент. – Это, если угодно, обобщенный портрет арлезианки. Я просто хотел выразить красками арлезианский характер. – Увы, – промолвил доктор скорбным тоном. – Я не могу с ним полностью согласиться. – Вы не возражаете, если я посмотрю ваши коллекции? – Конечно, конечно, смотрите сколько угодно. А я тем временем посижу около этой дамы и подумаю, могу ли я принять ее. В сопровождении услужливого Поля Винсент бродил по комнатам целый час. В каком—то пыльном углу он наткнулся на небрежно брошенное полотно Гийомена; нагая женщина, лежащая на кровати. Картина валялась без всякого присмотра и начала уже трескаться. Пока Винсент разглядывал ее, в комнату взволнованно вбежал доктор Гаше и засыпал Винсента вопросами относительно арлезианки. – Неужели вы смотрели на нее все это время? – изумился Винсент. – Да, да, она постепенно до меня доходит, она доходит, я уже начинаю чувствовать ее. – Извините меня, доктор Гаше, за нескромный совет, но это великолепный Гийомен. Если вы не вставите его в раму, он погибнет. Гаше даже не слушал Винсента. – Вы утверждаете, что следовали в рисунке Гогену... Я не могу согласиться с вами... эти резкие контрасты цвета... Они убивают всю ее женственность... нет, не то чтобы убивают, но... да, да, пойду посмотрю на нее снова... она постепенно доходит до меня... понемногу... вот—вот, кажется, и сойдет с полотна! Весь остаток дня Гаше метался около арлезианки, тыкал в нее пальцем, всплескивал руками, без умолку тараторил, задавал бесчисленные вопросы и сам же отвечал на них, принимая все новые позы. Когда наступил вечер, арлезианка окончательно завоевала его сердце. На доктора снизошло радостное успокоение. – Ах, как она трудна – простота, – произнес он, стоя перед портретом, умиротворенный и измученный. – Да, трудна. – А эта дама прекрасна, прекрасна! Никогда я не чувствовал характер так глубоко. – Если она вам нравится, доктор, – она ваша. И этюд, который я написал сегодня в саду, тоже ваш. – Но зачем же вы дарите мне картины, Винсент? Ведь это ценность. – Скоро наступит время, когда вам, может быть, придется заботиться обо мне, лечить меня. У меня не будет денег, чтобы заплатить вам. Вместо денег я плачу вам полотнами. – Но я и не хочу лечить вас ради денег, Винсент. Я сделаю это из дружбы к вам. – Значит, так тому и быть! Я тоже дарю вам эти картины из дружбы.3
Так Винсент снова вступил на стезю живописца. Он лег спать в девять, вдоволь насмотревшись, как под тусклой лампой кафе Раву рабочие играли в бильярд. Встал он в пять утра. Погода была чудесная, солнце светило мягко, долина сияла свежей зеленью. Долгий недуг и вынужденная праздность в приюте святого Павла давали себя чувствовать: кисть выскальзывала у Винсента из пальцев. Винсент попросил Тео прислать ему книгу Барга, чтобы упражняться, копируя оттуда рисунки, так как боялся, что если он не будет опять постоянно изучать пропорции обнаженного тела, ему это даром не пройдет. Винсент все время присматривался, нельзя ли найти в Овере маленький домик и поселиться тут навсегда. Ему не давала покоя мысль: а вдруг Тео был прав, когда говорил, что где—то на свете есть женщина, которая соединила бы с ним свою судьбу. Он вынул несколько своих полотен, написанных в Сен—Реми, и кое—где тронул их кистью, стараясь довести до совершенства. Но эта внезапная вспышка энергии скоро угасла – то был лишь рефлекс организма, еще слишком крепкого, чтобы поддаться разрушению. Теперь, после долгого заключения в лечебнице, дни казались Винсенту неделями. Он не знал, чем их заполнить, так как писать с утра до вечера он уже не мог. Да у него уже и не было такого желания. Пока не стряслась беда в Арле, ему не хватало для работы и суток, теперь же время тянулось бесконечно. Из того, что он видел, лишь немногое заставляло его взяться за кисть, а начав работать, он испытывал странное спокойствие, почти безразличие. Лихорадочной страсти писать всегда, каждую минуту, писать горячо и самозабвенно Винсент уже не испытывал. Он работал теперь словно бы для провождения времени. И если к вечеру полотно бывало не окончено... что ж, это его уже не трогало. Доктор Гаше по—прежнему был единственным его другом в Овере. Гаше, проводивший почти все дни в своем врачебном кабинете в Париже, по вечерам нередко заглядывал в кафе Раву посмотреть на новые полотна. Винсент часто задумывался, видя в его глазах глубокую, безысходную печаль. – Отчего вы так несчастны, доктор Гаше? – спрашивал он. – Ах, Винсент, я работал столько лет... и так мало сделал хорошего. Врач видит только одно страдание, страдание и страдание... – Я охотно поменялся бы с вами профессией, – сказал Винсент. В грустных глазах Гаше блеснуло восхищение. – Ах, что вы, Винсент, призвание живописца – самое прекрасное на свете. Всю жизнь я хотел быть художником... но я мог уделять этому час– другой лишь изредка, урывками... вокруг так много больных людей, которым я нужен. Доктор Гаше встал на колени и вытащил из—под кровати Винсента груду полотен. Он поставил перед собой пылающийжелтый подсолнух. – Если бы я написал хоть одно такое полотно, Винсент, я считал бы, что моя жизнь не прошла даром. Я потратил долгие годы, облегчая людские страдания... но люди в конце концов все равно умирают... какой же смысл? Эти подсолнухи... они будут исцелять людские сердца от боли и горя... они будут давать людям радость... много веков... вот почему ваша жизнь не напрасна... вот почему вы должны быть счастливым человеком. Спустя несколько дней Винсент закончил портрет доктора в его белой фуражке и темно—синей куртке, на чистом кобальтовом фоне. Лицо доктора было написано в очень красивых, светлых тонах, кисти рук были тоже светлые. Доктор Гаше сидел, облокотившись на красный стул, на столе лежала желтая книга и веточка наперстянки с лиловыми цветами. Когда портрет был готов, Винсент подивился тому, как разительно он напоминает его автопортрет, написанный в Арле еще до приезда Гогена. Доктор влюбился в портрет до безумия. Никогда еще Винсенту не доводилось выслушивать столь пылкие похвалы и шумные восторги. Гаше настаивал, чтобы Винсент сделал для него копию. Когда Винсент согласился, радости доктора не было границ. – Вы должны воспользоваться моим печатным станком, Винсент, – с жаром говорил доктор. – Мы привезем из Парижа все ваши полотна и сделаем с них литографии. Это не будет вам стоить ни одного сантима. Идемте, вы сейчас увидите мою печатню. Они поднялись по приставной лестнице, открыли люк и влезли на чердак. Мастерская Гаше была набита такими таинственными, фантастическими инструментами, что Винсенту показалось, будто он попал в лабораторию средневекового алхимика. Спускаясь вниз, Винсент увидел, что нагая женщина Гийомена по– прежнему валяется без всякого присмотра. – Доктор Гаше, – сказал он, – я просто настаиваю, чтобы вы вставили эту картину в раму. Вы губите шедевр. – Да, да, я давно собираюсь заказать для нее раму. Так когда же мы поедем в Париж за вашими полотнами? Вы можете печатать литографии в любом количестве. Я вам дам все материалы. Май незаметно прошел, наступил июнь. Винсент писал католическую церковь на холме. К вечеру он сильно утомился и бросил полотно, не закончив. Огромным усилием воли он заставил себя написать поле пшеницы; он писал его лежа, почти зарывшись в пшеницу головой. Кроме того, он завершил большое полотно – дом госпожи Добиньи; изобразил на фоне ночного неба еще один дом – белый, с оранжевыми огнями в окнах, с темной зеленью деревьев и травы вокруг – все это было пронизано минорной нотой розового; вечерний мотив был и на другом этюде – два совершенно черных грушевых дерева с желтоватым небом на заднем плане. Но живопись уже не приносила ему радости. Он работал по привычке, так как ему нечего было больше делать. Могучая инерция десяти лет огромного труда еще влекла его вперед. Но если прежде при виде живой природы его бросало в трепет, то теперь он оставался холодным и равнодушным. – Я писал это столько раз, – бормотал он себе под нос, шагая по дороге с мольбертом за спиной в поисках мотива. – Мне нечего больше к этому добавить. Зачем повторять самого себя? Отец Милле был прав. «Я скорее предпочел бы вовсе ничего не делать, чем выразить себя слабо». Но его любовь к природе еще не умерла – просто исчезла непреодолимая, жгучая потребность с жадностью наброситься на открывшийся пейзаж и воссоздать его на холсте. Он уже отгорел. За весь июнь он написал только пять полотен. Он устал, несказанно устал. Он чувствовал себя измученным, обессиленным, опустошенным – словно каждая из тех сотен рисунков и картин, которые одна за другой выходили из—под его руки в последние десять лет, отнимала у него по искорке жизни. Теперь он работал уже только потому, что считал себя обязанным как– то рассчитаться с Тео за его долголетнюю денежную помощь. И все же, когда он однажды, доведя очередной этюд до половины, сообразил, что тех полотен, которыми набита квартира Тео, не распродать и за десять человеческих жизней, легкая тошнота сдавила ему горло и он с отвращением оттолкнул мольберт. Винсент знал, что следующий припадок будет в июле, через три месяца после предыдущего. Он очень боялся, что во время приступа он сделает что– нибудь дикое и восстановит против себя весь поселок. Уезжая из Парижа, он не условился с Тео о деньгах и теперь лишь гадал, сколько же франков в месяц будет ему присылать брат. Глаза Гаше, в которых то таилась бесконечная печаль, то горел восторг, раздражали его все больше. В довершение всего, заболел ребенок Тео. Винсент совсем потерял голову от беспокойства за своего тезку. Он крепился, сколько мог, потом, не выдержав, поехал в Париж. Его неожиданное появление в Ситэ Пигаль лишь увеличило смятение в доме. Тео осунулся, вид у него был нездоровый. Винсент всеми силами старался ободрить его. – Меня беспокоит не только малыш, Винсент, – признался он наконец. – Кто же еще, Тео? – Валадон. Он грозит меня уволить. – Как он может, Тео? Ты служишь у Гупиля уже шестнадцать лет! – Я знаю. Но он говорит, что я пренебрегаю своими обязанностями, увлекаясь импрессионистами. А я их продаю очень немного и всегда по дешевке. Валадон заявил, что моя галерея за последние годы приносит только убытки. – И он действительно может выгнать тебя? – Почему же нет? Паи Ван Гогов давно уже все распроданы. – Что же ты тогда будешь делать, Тео? Откроешь собственную галерею? – Где уж тут! У меня были кое—какие сбережения, но я все потратил на жену и ребенка. – Вот если бы не тратил на меня попусту тысячи франков... – Оставь, пожалуйста, Винсент. Это не имеет никакого отношения к делу. Ты знаешь, что я... – Но как же ты теперь, Тео? У тебя ведь Ио и малыш. – Да, да. Ну, что ж... я, право, не знаю... сейчас меня больше всего тревожит ребенок. Винсент прожил в Париже несколько дней. Он старался поменьше бывать дома, чтобы не беспокоить ребенка. Париж и старые друзья растревожили его. Он чувствовал, как к нему подкрадывается болезнь. Когда маленький Винсент начал понемногу выздоравливать, он сел в поезд а уехал в тихий Овер. Но оверская тишина не принесла исцеления. Винсент терзался, одолеваемый заботами. Что с ним будет, если Тео потеряет место? Неужели он окажется на улице, как последний нищий? А как же Но с малышом? Что, если ребенок умрет? Он знал, что Тео с его хрупким здоровьем не вынесет этого удара. И кто будет кормить их всех, пока Тео подыщет новое место? И найдет ли он в себе силы, чтобы обивать пороги? Винсент часами сидел в темном зале кафе Раву. Здесь все напоминало ему кафе на площади Ламартина – и запах перекисшего пива, и едкий дым табака. Он вяло гонял бильярдным кием по столу обшарпанные шары. У него не было денег, чтобы выпить. Не было денег ни на краски, ни на холст. В такое трудное время он не мог попросить у Тео ни сантима. И он холодел от страха при мысли, что если в июле с ним случится припадок, он натворит в безумии что—нибудь такое, что вовлечет Тео в новые хлопоты и расходы. Он старался работать, но это не приносило облегчения. Он уже написал все, что хотел написать. Он уже сказал все, что хотел сказать. Природа больше не возбуждала в нем творческой страсти, и он знал, что все лучшее в нем уже умерло. Шли дни. Наступила середина июля, а с нею зной и духота. Тео, постоянно живший под угрозой лишиться куска хлеба, мучимый тревогами за ребенка, осаждаемый счетами врачей, все же выкроил пятьдесят франков и послал их брату. Винсент расплатился этими деньгами с Раву. Теперь он мог жить здесь до конца июля. А потом... что потом? Ему уже не приходилось больше рассчитывать на помощь Тео. Он подолгу лежал на спине в пшеничном поле, близ кладбища, на самом солнцепеке. Он бродил по берегам Уазы, вдыхая запах холодной воды и пойменных трав. Он шел обедать к Гаше и набивал живот едой, уже не чувствуя ее вкуса, не в состоянии ее переварить. Когда доктор восторгался его полотнами, Винсент думал: «Он говорит не обо мне. Эти картины, должно быть, не мои. Я никогда не писал ни одного полотна. Я даже не узнаю свою подпись на холсте. Я не помню, чтобы я хоть раз прикоснулся кистью к этим полотнам. Видно, их написал кто—то другой!» Лежа в своей темной комнате, он говорил себе: «Предположим, Тео не потеряет работы. Предположим, он сможет посылать мне сто пятьдесят франков в месяц. Что мне тогда делать? Я держался все эти тяжкие годы потому, что мне надо было писать, надо было выразить то, что горело в моей душе и жгло меня. Но теперь во мне все угасло. Я сейчас словно пустая раковина. Так стоит ли мне прозябать в безделье, подобно тем несчастным из приюта святого Павла, ожидая, пока какая—нибудь случайность сотрет меня с лица земли?» Были дни, когда Винсент беспокоился только о Тео, Иоганне и малыше: «Пусть даже силы ко мне вернутся, дух окрепнет, и я снова захочу писать. Как я смогу брать деньги у Тео, когда они нужны ему для Иоганны и ребенка? Он не должен разоряться из—за меня. Он должен отправить свою семью в деревню, там мальчик будет расти здоровым и крепким. Я и так сидел у Тео на шее десять долгих лет. Разве этого мало? Не пора ли освободить его от такого бремени, чтобы он мог подумать о будущем. Нет, я решил твердо: теперь все должно принадлежать малышу!» В основе всех этих мыслей лежал гнетущий страх перед возможными последствиями эпилепсии. Теперь он в полном разуме, он может распоряжаться своей жизнью. А вдруг следующий припадок превратит его в помешанного, в безумца? Вдруг мозг не выдержит напряжения? Вдруг он станет беспомощным, слюнявым идиотом? Что тогда делать бедному Тео? Запереть его в лечебницу для безнадежно больных? Он преподнес доктору Гаше еще два полотна и стал допытываться у него правды. – Нет, Винсент, – сказал доктор, – припадков у вас больше не будет. Отныне вы здоровый человек. Но далеко не все эпилептики так счастливы. – А что в конце концов бывает с ними, доктор? – Порой, если припадки следуют один за другим, они полностью лишаются рассудка. – И уже никак не могут излечиться? – Нет. Это для них конец. Правда, они могут протянуть несколько лет в какой—нибудь лечебнице, но здравый рассудок к ним уже не возвращается. – А как же можно определить, доктор, выздоровеют они после очередного приступа или совсем свихнутся? – Этого определить нельзя, Винсент. Но, послушайте, к чему нам говорить о таких печальных вещах? Давайте—ка поднимемся в мастерскую и напечатаем несколько литографий. Четыре следующих дня Винсент не выходил из своей комнаты. Мадам Раву каждый вечер подавала ему туда ужин. «Сейчас я здоров и в полном рассудке, – твердил он себе. – Я хозяин своей судьбы. Но когда начнется этот припадок... разум мой помрачится... я буду уже не в состоянии убить себя... а это – конец, смерть заживо. Ох, Тео, Тео, что же мне делать?» На четвертый день, после обеда, он пошел к доктору Гаше. Доктор был в гостиной. Винсент направился прямо в кабинет, где он несколько дней назад оставил нагую женщину Гийомена. Он взял полотно в руки. – Я говорил вам, что нужно вставить эту картину в раму, – сказал он доктору. Доктор Гаше посмотрел на него с удивлением. – Конечно, Винсент. На следующей неделе я закажу здешнему столяру деревянную раму. – Ее надо вставить в раму сейчас же! Сегодня! Сию минуту! – Винсент, Винсент, не говорите глупости! Винсент свирепо посмотрел на доктора, шагнул к нему с угрожающим видом, потом сунул руку в карман куртки. Доктору показалось, что в кармане у Винсента револьвер и что он наставил его сквозь куртку прямо ему в грудь. – Винсент! – закричал он. Винсент вздрогнул. Он опустил глаза, вынул руку из кармана и кинулся бежать прочь. Наутро он взял мольберт и холсты, пошел по длинной дороге к станции, взобрался на холм за католической церковью и сел писать среди желтой пшеницы, напротив кладбища. Когда близился полдень и неистовое солнце безжалостно жгло Винсенту голову, вдруг целая туча черных птиц стремительно опустилась с неба. Птицы заполнили воздух, заслонили солнце, окутали Винсента тяжелым покровом тьмы, лезли ему в волосы, врывались в уши, в глаза, в ноздри, в рот, погребая его под траурно—черным облаком плотных, душных, трепещущих крыл. Винсент продолжал работать. Он писал черных птиц над желтым полем пшеницы. Он не знал, сколько времени это длилось, а когда увидел, что картина закончена, сделал в углу надпись: «Стая ворон над хлебным полем», закинул мольберт за спину, добрался до кафе Раву, упал навзничь поперек кровати и заснул. На следующий день, после обеда, он снова вышел из дома, но направился с площади Мэрии в другую сторону. Он поднялся на холм, обогнув замок. Один крестьянин видел, как он сидел на дереве. – Это немыслимо! Я больше не могу! – услышал крестьянин его слова. Немного погодя Винсент слез с дерева и вышел на вспаханное поле позади замка. Теперь это был уже конец. Он знал это еще в Арле, в тот первый раз, когда он почувствовал, что с ним творится неладное, но не нашел тогда в себе силы разом свести все счеты. Ему хотелось сказать миру свое «прости». Несмотря ни на что, это все– таки чудесный мир. Как говорил Гоген: «Кроме яда, есть и противоядие». И теперь, покидая этот мир, Винсент хотел проститься с ним, хотел проститься со всеми друзьями, которые помогли ему найти свой путь, – проститься с Урсулой, чье презрение заставило его порвать с обыденной жизнью и стать отверженным; с Мендесом да Коста, который вселил в него веру в то, что рано или поздно он сумеет выразить себя и что именно это будет оправданием его жизни; с Кэй Вос, чье «Нет, никогда! Никогда!» глубоко врезалось ему в душу; с мадам Дени, Жаком Вернеем и Анри Декруком, которые научили его любить презренных и сирых; с преподобным Питерсеном, в доброте своей не смутившимся ни лохмотьями Винсента, ни его мужицкой грубостью; со своими родителями, которые, как могли, старались его любить; с Христиной, его единственной женой, которой судьба благоволила наградить его; с Мауве, который был его учителем в течение немногих незабываемых недель; с Вейсенбрухом и Де Боком, своими первыми друзьями—художниками; с дядей Винсентом, Яном, Корнелисом Маринюсом и Стриккером, которые называли его паршивой овцой в семействе Ван Гогов; с Марго, единственной женщиной, которая любила его и которая хотела убить себя из—за этой любви; со своими друзьями—художниками в Париже; с Лотреком, который вновь был заперт в лечебнице, теперь уже до конца своих дней; с Жоржем Съра, умершим в возрасте тридцати одного года от переутомления; с Полем Гогеном, нищенствовавшим в Бретани; с Руссо, который заживо гнил в своей грязной конуре близ площади Бастилии; с Сезанном, ожесточенным отшельником, уединившимся на холмах Экса; с папашей Танги и Руленом, раскрывшими ему красоту простых душ; с Рашелью и доктором Реем, согревшими его своей добротой, в которой он так нуждался; с Орье и доктором Гаше, этими единственными людьми, которые считали его великим живописцем; и, наконец, с дорогим братом Тео, так много страдавшим, так много любившим, самым лучшим, самым нежным из всех братьев на свете. Но Винсент никогда не умел выражать свои чувства словами. Ему пришлось бы сказать свое «прости» красками. Но сделать это не дано никому. Он поднял голову и посмотрел на солнце. Он прижал револьвер к боку. Он спустил курок. Он упал, зарываясь лицом в жирную, пряно пахнувшую землю, которая мягко и упруго подалась под ним, словно он снова возвращался в материнское чрево.4
Через четыре часа он, шатаясь, прошел по темному залу кафе. Мадам Раву кралась вслед за ним до самой двери и увидела кровь на куртке. Она тут же кинулась к доктору Гаше. – Ох, Винсент, Винсент, что вы наделали! – простонал Гаше, вбегая в комнату. – Мне кажется, я плохо сделал свое дело. Как по—вашему? Гаше осмотрел рану. – Ох, Винсент, бедный мой друг, как вам было тяжело, если вы решились на это! Почему вы ничего не сказали мне? Почему вы хотите оставить нас, когда мы все вас так любим? Подумайте о чудесных картинах, которые вы еще напишете и подарите миру! – Не будете ли вы любезны дать мне трубку – она в кармане куртки. – Ну, конечно же, мой друг. Он набил табаком трубку и вставил ее Винсенту в зубы. – Огня, пожалуйста, огня. – Ну, конечно, мой друг. Винсент спокойно раскурил трубку. – Винсент, сегодня воскресенье, и ваш брат не на службе. Дайте мне его адрес. – Его—то я как раз и не дам. – Нет, вы должны его дать, Винсент! Нам надо снестись с ним как можно скорее! – Нельзя беспокоить Тео в воскресенье. Он устал, у него столько огорчений. Ему необходимо отдохнуть. Винсент остался глух ко всем уговорам и адреса дома в Ситэ Пигаль так и не сказал. Доктор Гаше сидел у него до поздней ночи, следя за состоянием раны. Потом он ушел домой отдохнуть и оставил Винсента на попечении своего сына. Винсент всю ночь лежал с открытыми глазами и не сказал Полю ни слова. Он то и дело набивал трубку и курил не переставая. Когда Тео пришел в понедельник на службу, его ждала там телеграмма от Гаше. Он сел на первый же поезд, шедший в Понтуаз, а затем в пролетке примчался в Овер. – Ну вот, Тео... – только и сказал Винсент. Тео опустился на колени и взял Винсента на руки, словно малого ребенка. Он не мог вымолвить ни слова. Когда пришел доктор, Тео тронул его за локоть и вывел за дверь. Гаше печально покачал головой. – Друг мой, надежды нет. Делать операцию, чтобы извлечь пулю, я не могу – он слишком слаб. Если бы не железный организм, он умер бы там же, в поле. Весь долгий день Тео сидел у кровати Винсента, держа его за руку. Когда наступила ночь и братья остались одни, они начали тихо говорить о своем детстве в Брабанте. – Ты помнишь мельницу в Рэйсвейке, Винсент? – Такая чудесная старая мельница, правда, Тео? – Мы все бродили там по тропинке около запруды и мечтали, как будем жить. – А когда мы играли летом во ржи – рожь была высокая—высокая – ты всегда держал меня за руку, вот так, как сейчас держишь. Помнишь, Тео? – Помню, Винсент. – Когда я жил в больнице в Арле, я часто вспоминал Зюндерт. Хорошее у нас с тобой было детство, Тео. Бывало, мы играем в саду за кухней, под акациями, а мама готовит нам на завтрак пудинг. – Как давно это было, Винсент. – Давно... ну, что ж... жизнь велика. Тео, послушай, береги себя, ради бога. Следи за своим здоровьем. Ты должен думать об Ио и о малыше. Отправь их куда—нибудь в деревню, чтобы они поправились и окрепли. И уходи от Гупиля, Тео. Твои хозяева отняли у тебя всю жизнь... и не дали взамен ничего. – Я собираюсь открыть небольшую собственную галерею, Винсент. И прежде всего я устрою там одну персональную выставку. Полное собрание работ Винсента Ван Гога... в точности так, как ты сделал это в нашей квартире... своими руками. – Ах да, моя работа... Я пожертвовал ради нее жизнью... и почти лишился рассудка. Комнату наполнила глубокая тишина оверской ночи. В начале второго Винсент слегка повернул голову и прошептал: – Мне хотелось бы теперь умереть, Тео. Через несколько минут он закрыл глаза. Тео чувствовал, что брат покидает его, покидает навеки.5
На похороны приехали из Парижа Руссо, папаша Танги, Орье и Эмиль Бернар. Двери кафе Раву были закрыты, на окнах опущены жалюзи. У подъезда ждали черные похоронные дроги, запряженные вороными лошадьми. Гроб Винсента был поставлен на бильярдный стол. Тео, доктор Гаше, Руссо, папаша Танги, Орье, Бернар и Раву молча стояли вокруг гроба. Они не могли взглянуть друг другу в глаза. Никто и не подумал позвать священника. Кучер слез с дрог и постучался в дверь. – Уже пора, господа, – сказал он. – Господи боже, да разве так его надо бы провожать! – воскликнул Гаше. Он бросился наверх, в комнату Винсента, и вынес оттуда все его полотна, потом послал сына Поля домой за остальными картинами. Шесть человек стали развешивать картины по стенам кафе. Тео один стоял у гроба. Солнечные полотна Винсента словно превратили тускло—коричневое, унылое кафе в сверкающий кафедральный собор. Теперь снова все они стояли вокруг бильярдного стола. Один только Гаше нашел в себе силы сказать прощальное слово. – Мы, друзья Винсента, не должны предаваться отчаянию. Винсент не умер. Он не умрет никогда. Его любовь, его гений, та великая красота, которую он создал, будут жить вечно, обогащая мир. Не проходит часа, чтобы я не посмотрел на его полотна и не обрел в них новой веры, нового смысла жизни. Это был титан... великий художник... великий философ. Он пал жертвой своей любви к искусству. Тео пытался поблагодарить его. – Я... я... Слезы душили его. Он не мог говорить. Гроб Винсента накрыли крышкой... Шестеро друзей подняли гроб с бильярдного стола. Они вынесли его из маленького кафе. Они осторожно поставили его на черный катафалк. Они медленно шли за катафалком по залитой солнцем дороге. Они миновали крытые тростником домики и маленькие редкие виллы. У станции дроги свернули налево и стали подниматься по склону холма. Вот уже осталась позади католическая церковь, дорога вилась по желтому полю пшеницы. Черные дроги остановились у ворот кладбища. Шесть человек на руках понесли гроб к могиле. Тео один шел сзади. Доктор Гаше выбрал для Винсента место упокоения там, где они стояли в первый день, оглядывая зеленую долину Уазы. Тео еще раз попытался что—то сказать. Но он не мог вымолвить ни слова. Они опустили гроб в могилу, забросали ее и прибили землю лопатами. Потом все семеро повернулись, вышли за кладбищенскую ограду и стали спускаться с холма. Через несколько дней доктор Гаше вновь пришел на кладбище и посадил вокруг могилы подсолнухи. Тео уехал в Париж. Горе терзало его непрестанно, каждую минуту, днем и ночью. Его рассудок не выдержал напряжения. Иоганна отвезла его в дом для умалишенных в Утрехт, тот самый, куда когда—то поместили Марго. Полгода спустя после того, как умер Винсент, почти день в день, Тео скончался. Его похоронили в Утрехте. А вскоре Иоганна, читая для утешения Библию, обратила внимание на слова во «Второй Книге Царств»: «Не разлучились они и в смерти своей». Она перевезла тело мужа в Овер и похоронила его рядом с Винсентом. Когда горячее солнце Овера палит своими лучами еле приметное среди полей пшеницы кладбище, Тео спокойно спит в прохладной тени буйных Винсентовых подсолнухов.И.Стоун. Моряк в седле
Джек Лондон глазами Ирвинга Стоуна
В библиотеке Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе хранятся рабочие записи Ирвинга Стоуна: записи бесед с Чармиан, копии писем Джека Лондона с пометками Стоуна, выписки из всевозможных источников, фотографии. Эти материалы свидетельствуют о большой работе биографа. Стоун использовал в книге переписку Лондона, мемуары друзей и близких. Он листал газеты того времени, беседовал с современниками писателя, еще жившими в конце тридцатых годов, когда создавалась книга. Автор стремился сделать свою работу о Лондоне убедительной и увлекательной – и это ему удалось. Разумеется, нужно иметь в виду, что при всей документальной оснащенности книга «Моряк в седле» является художественной биографией и, следовательно, содержит элементы художественного переосмысления. И дело не только в том, что автору пришлось силой своего воображения восполнять недостающие подробности, рисовать картины тех или иных событий, но и в том, что Стоун широко использовал некоторые произведения Джека Лондона. Не случайно во вступлении к книге он предупреждает, что «это история о Джеке Лондоне, рассказанная его собственными словами…» Многие повести, романы, рассказы и очерки Лондона воспроизводят эпизоды его биографии, однако неверно было бы отождествлять того или иного героя с автором, а изображенные события считать копией действительно случившегося. Лондон не раз предостерегал наивных читателей от подобных заключений. В его жизни было гораздо больше прозы, и не была она столь ярка, как предстает в художественном переосмыслении Стоуна. Но мы охотно прощаем автору этот «недостаток». И прощаем не только за увлеченность и яркость, с которой книга написана, но и за умение раскрыть основные качества замечательного американского писателя и человека. В художественном жизнеописании нам кажутся важными не те или иные подробности, а общий тон книги, общая оценка автора, верность понимания им своего героя. А в этом Ирвинг Стоун добился правды. Он сумел верно понять цели, успехи и неудачи в жизни Джека Лондона. Его аргументация сильна. Гораздо слабее оказался Ирвинг Стоун в объяснении причин жизненной трагедии писателя. Он рассказывает нам о неумении Лондона распоряжаться деньгами, показывает, как долги толкали его к сочинительству малохудожественных произведений, как творческое перенапряжение породило у него усталость, а затем и разочарование в писательском труде. Но Стоун не показывает влияния на Лондона американских традиций, окружающей среды, которые в действительности определили и содержание творчества писателя и его судьбу. А они-то в конечном счете и привели Джека Лондона к духовному и творческому кризису. Ни в одной стране мира культ денег не существует в столь наглообнаженной форме, как в США. Доллару поклоняются и чтят его не ниже самого всевышнего. Дух наживы пронизывает все сферы американской жизни, заражает все возрасты и все классы, определяет мораль и вкусы, взгляды и цели. Культ доллара и всепроникающий дух наживы клеймили великие американцы Уолт Уитмен, Марк Твен, Теодор Драйзер, против него боролись тысячи простых людей США, но и по сей день он с утроенной силой лихорадит американское общество. Это первое, что необходимо учитывать, пытаясь понять причины личной трагедии Джека Лондона. Далее, нельзя забывать, что Лондон вступил в литературу, когда в ней сильны были традиции так называемых «нежных реалистов» – авторов сладеньких романов и рассказов, обходящих жестокую правду американской действительности, ее социальные конфликты, ее противоречия и пороки. «Нежные реалисты» выступали против обсуждения проблем, «нарушающих общественное равновесие», против изображения «грубого», «вульгарного» в жизни. Они шли в русле традиций буржуазной морали и церкви. Утверждая в своих произведениях все американское, они пытались утверждать и капиталистический строй, замалчивая его все более обнажающиеся пороки. Стремление некоторых писателей изобразить жизнь такою, как она есть, обратиться к темам, волнующим простого человека, использовать литературу в борьбе против социальной несправедливости подавлялось и издателями и критикой. Судьбу многих писателей-реалистов, современников Лондона, исковеркала капиталистическая Америка. Она подкупила талантливого Хэмлина Гарленда, начавшего свой творческий путь откровенными рассказами о разоряющемся американском фермерстве. Она третировала и объявила «безнравственным» самобытного художника Стивена Крейна, рисовавшего жизнь низов американского города. Она затравила Генри Фуллера, пытавшегося выступить с разоблачениями бизнесмена. Она на десятилетие принудила умолкнуть Теодора Драйзера, объявив аморальным его первый роман – «Сестра Керри», Мрак Твен, великий сатирик и отважный человек, вынужден был, по его собственному признанию, всю жизнь писать полуправду из опасения потерять кусок хлеба для семьи. Есть и еще один момент, мимо которого нельзя пройти, стараясь уяснить причины перелома в творческом развитии Джека Лондона после 1910 года. На рубеже веков Соединенные Штаты превратились в агрессивную империалистическую державу. Широкое распространение получают здесь теории расового превосходства англосаксов, книги, воспевающие колонизаторов. С подобными произведениями выступают социологи Джошуа Стронг, Джон Фиск, будущий президент Теодор Рузвельт. Шовинистическая и расистская пропаганда заметно влияла на сознание американца. Сказывалась она и на рабочем движении. Это выражалось в дискриминации рабочих иностранного происхождения, в отказе принимать в профсоюз негров и т. д. Отразилась она и на мировоззрении даже прогрессивно мыслящих людей того времени. Эти социальные факторы: господствующий дух наживы, реакционные литературные традиции и расистская идеология – по-разному в разное время и в различной степени оказали влияние на Джека Лондона и сыграли негативную роль в его судьбе. На поверхности было глубокое отвращение Лондона к писательскому труду, а подоплекой был гнет издателей, прессы, так называемого «общественного мнения». На поверхности оказались такие низкопробные недостойные пера Лондона романы, как «Приключение» и проникнутый расовыми предрассудками «Мятеж на «Эльсиноре», а причиной их появления – соблазнительная возможность заработать, подобно десяткам предприимчивых литераторов, на вкусах невзыскательного читателя. На поверхности было появившееся к концу жизни желание расширить свое ранчо, построить роскошный Дом Волка, а основой – развращающее влияние торгашеской Америки. Творчество Лондона, отразившее противоречия действительности и общественных движений, тяжелую борьбу в душе самого художника, неравноценно по своему художественному и идейному уровню. Н. К. Крупская рассказывала, как читала Владимиру Ильичу за два дня до смерти рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни», который, по ее словам, Ленину чрезвычайно нравился. Прочла Надежда Константиновна Ильичу и другой рассказ Лондона – о капитане, обещавшем владельцу корабля выгодно сбыть груз пшеницы: капитан, чтобы только сдержать слово, готов пожертвовать жизнью. Рассказ был пропитан буржуазной моралью. «Засмеялся Ильич и махнул рукой», – вспоминала Надежда Константиновна. Советский читатель любит в творчестве Лондона все сильное, свежее, проникнутое подлинной верой в человека. Его романы «Мартин Идеи», «Морской волк», «Белый клык», «Железная пята», повесть «Зов предков», рассказы северного цикла (такие, как «Любовь к жизни»), новеллы из сборника «Дорога» и сборников, посвященных южным морям, «Отступник», «Сила сильных», «Мексиканец», статьи и очерки Лондона – шедевры американской и мировой литературы. Главным образом это произведения, написанные до 1910 года. Именно благодаря им писатель жив в сердцах миллионов. И Лондон написал бы немало еще великолепных вещей, не изуродуй, не исковеркай его душу капиталистическая Америка. Но есть у писателя вещи, художественно слабые, отражающие его буржуазные предрассудки. С первых же шагов ощутил он на себе сокрушающее воздействие буржуазных литературных традиций, издателей, прессы, формирующей общественное мнение, церкви. Стоун не сообщает, что написанная Лондоном в 1898 году, на заре творческой деятельности, статья «Вопрос о максимуме», которая доказывала неизбежность превращения капиталистического строя в олигархию и его гибель, была куплена издателями и в течение семи лет не печаталась. Что пламенная его статья «Революция», которая подводила итоги социалистического движения и смело заявляла о неумолимом приближении социалистической революции, была приобретена издателем «Кольерса» и не публиковалась до 1908 года. Два с половиной критических года мировой истории! Стоун пишет об издателе Мак-Клюре как о благодетеле молодого Лондона. Но вот как сам автор «Мартина Идена» охарактеризовал Мак-Клюра: «Он хотел сделать из меня евнуха, хотел, чтобы я писал мелочные, ограниченные, беззлобные буржуазные рассказы, он хотел, чтобы я встал в ряды умных посредственностей и тем потворствовал бесхарактерным, ожиревшим, трусливым буржуазным инстинктам». Лондон почувствовал, как Мак-Клюр, ссужая щедрые авансы, все крепче забирает его в руки и решительно порвал с ним. В своих статьях Лондон гневно протестовал против реакционных традиций и политики издательств, вынуждающих писателя создавать произведения малохудожественные, фальшивые; именно такие книги обеспечивают высокие гонорары, а правдивые произведения издатели отвергают. Вырвавшись из-под опеки Мак-Клюра, Лондон почувствовал себя увереннее. На предложения издателей опустить наиболее «опасные» места в сочинениях он отвечает отказом. Так было с очерками «Люди бездны», с романом «Железная пята». Он пишет в эти годы (1902-1909) на темы, к которым влекут его талант и гражданская совесть. Именно в эти годы созданы его наиболее зрелые рассказы, романы, статьи и очерки. Именно в эти годы Максим Горький писал: «Джек Лондон пробил огромную брешь в литературной плотине, которая окружала Америку с тех пор, как средний класс, состоящий из промышленников и лавочников, пришел к власти… Идет великая пролетарская литература, и Джек Лондон будет чествоваться, потому что он прокладывал путь». Однако давление буржуазной прессы и критики не прекращалось ни на минуту; и чем откровеннее выступал писатель против общественной системы США, тем яростнее становились атаки. На Лондона сыпались обвинения в социализме, безнравственности, в плагиате, его книги запрещались, газеты с радостью подхватывали лживые сплетни о жизни писателя. Следствием злобной травли явилось охлаждение читателя к произведениям Джека Лондона. А главное – горький осадок оставался в душе писателя. Ко всему присовокуплялось влияние реакционной идеологии, духа наживы, господствовавшего в Америке. И писатель, согласившийся вначале на незначительные уступки (как было с идиллическим финалом «Морского волка»), пошел на более серьезные. Джек Лондон, искренне преданный идеям революции, одна из виднейших фигур американского социалистического движения начала XX века, в десятых годах начинает отходить от активной общественной деятельности. Этому содействовали раскол, переживаемый Социалистической партией, и принятое в 1912 году партийной конференцией добавление к уставу, означавшее, что партия отказывается от революционных методов борьбы и даже изгоняет из своих рядов тех, кто их защищает. Так исключен был выдающийся руководитель пролетариата Билл Хейвуд. Джек Лондон не мог не переживать разочарования от победы курса на реформистские методы, и это, конечно, усиливало индивидуалистические тенденции в его мировоззрении. Постепенно он почти утрачивает связь с социалистическим и рабочим движением США, хотя свои революционные идеалы он сохранил до конца. В последние годы жизни Лондон тяжело болел, им овладело отвращение к писательской деятельности. В порыве откровенности он заявляет, что, будь его воля, он никогда бы не прикоснулся пером к бумаге – разве лишь, чтобы написать социалистическую статью и выразить буржуазному миру, как глубоко он его презирает. Лондон был способен жить, только что-то открывая, занимаясь чем-то значительным – и в своих глазах и в глазах окружающих; он мог жить только среди друзей, представителей честной Америки, ежечасно ощущая их моральную поддержку. Переживая неудачи, Лондон искал отдохновения в творчестве, но и процесс творчества становился ненавистен ему. Он мог бы обратиться к общественной деятельности, которая однажды уже вывела его из мучительного кризиса, но порвались его связи с соратниками по борьбе. Однако до последних своих дней Джек Лондон был человеком, преданным идее освобождения трудящихся. Об этом свидетельствует написанное им за год до смерти предисловие к антологии «Зов к справедливости» – здесь он говорил о необходимости строить новую культуру, которая раскрывалась бы в любви к человеку. «Мы уже знаем, – писал Лондон, – как создаются боги. Пришло время создавать мир». О том же говорит и отношение писателя к простым труженикам (это хорошо показано в книге Стоуна), и мотив, которым он объяснил свой уход из зараженной оппортунизмом Социалистической партии. Получи рабочее движение Америки новый толчок к развитию, писатель примкнул бы к наиболее революционному его крылу, и, несомненно, доживи до Великого Октября, Лондон приветствовал бы его торжество так же, как приветствовал русскую революцию 1905 года. Отметим, что выдвигаемая Ирвингом Стоуном версия о самоубийстве Джека Лондона в последние годы подверглась основательной критике и была литературоведами отвергнута. Подробнее об этом – в послесловии. Остановимся еще на одном положении, которое, возможно, и не заслужило бы специального разъяснения, не стань оно общим местом в статьях зарубежных литературоведов. Речь идет о «ницшеанстве» Лондона. Вслед за буржуазными литературоведами, которые упорно зачисляют прогрессивного писателя в разряд «ницшеанцев», И. Стоун называет реакционного немецкого философа Фридриха Ницше одним из духовных отцов Джека Лондона – наряду с Карлом Марксом и Гербертом Спенсером. Кстати сказать, автор романа «Как закалялась сталь», замечательный советский писатель Николай Островский тоже причисляется некоторыми буржуазными критиками к «ницшеанцам». Факты, однако, показывают, что, называя Маркса и Спенсера своими учителями, Лондон никогда не считал своим учителем Ницше. Ницшеанские идеи сказались главным образом на некоторых поздних произведениях писателя. Нет оснований утверждать, что до 1903 года – года творческой зрелости – Лондон вообще был знаком с работами немецкого философа, малоизвестного в то время в США. И первый же свой роман, где упоминалось имя Ницше, «Морской волк» (1904) Лондон посвятил разоблачению ницшеанского «сверхчеловека». Той же задаче должен был, по замыслу, служить и «Мартин Идеи» (1909). Критиков, видимо, сбило с толку то, что некоторые герои Лондона (например, Вульф Ларсен из «Морского волка») – ницшеанцы. Но Лондон развенчал Ларсена, показал, что он обречен на гибель. Основой философии Ницше являлась идея подчинения массы господину. Лондон же, как известно, был сторонником революционной борьбы против господ и победы массы над кучкой власть имущих. Он не питал, подобно Ницше, ненависти к социализму – напротив, был его убежденным сторонником и за него боролся. У реакционного философа человек аморален. Ницше проповедовал: «падающего подтолкни». У Лондона основное качество положительных персонажей – душевное благородство, товарищеская взаимопомощь. В романе «Железная пята» (1908) он показал, что выдающаяся личность должна действовать во имя счастья массы, трудящихся, и в том увидел ее величие. Выразитель идей Лондона в этом романе Энтони Мередит презрительно именует Ницше «бесноватым философом». Весь гуманистический пафос творчества Джека Лондона в корне противоречит человеконенавистнической философии ницшеанства. Да и облик самого Лондона, человека великодушного, щедрого, готового последним поделиться с товарищем, – таким он правильно рисуется в книге И. Стоуна – никак не вяжется с представлениями о лишенном моральных устоев, исповедующем культ силы ницшеанском герое-одиночке. А вот что сам Джек Лондон написал о ницшеанстве всего за месяц до смерти: «Мартин Иден» и «Морской волк» – задолго до «Мартина Идена» – были протестом против философии Ницше постольку, поскольку ницшеанская философия доводит силу и индивидуализм вплоть до войны и уничтожения, выступает против сотрудничества, демократии и социализма. Мировая война – вот вам логический результат ницшеанской философии». Книга Ирвинга Стоуна, разумеется, не исчерпывает всего богатства документов и фактов, связанных с биографией большого и интересного писателя. Особенно досадно, что автор почти ничего не говорит о взаимоотношениях Джека Лондона с наиболее – передовыми его современниками, недооценивает его роль как одного из первых популяризаторов социализма на страницах ведущих американских журналов (на эти недостатки в свое время указывала газета «Дейли уоркер»). Почти ничего не узнает читатель из книги Стоуна о внимании Лондона к русской культуре и русскому революционному движению. Возможно, автору было неизвестно, что в 1905 году Лондон подписал воззвание американского Общества друзей русской свободы, энергично поддержавшего русских революционеров и собиравшего для них деньги. Весной 1906 года, когда по заданию партии в Америку приехал Горький, Лондон был в числе тех, кто материально и морально пришел на помощь революционной России. «Моряк в седле» – не монография, а жизнеописание, и писатель не ставит своей целью анализировать творчество Джека Лондона. Но нужно иметь в виду, что и некоторые краткие оценки Стоуна подчас крайне субъективны (в важнейших случаях это отмечено нами в сносках). Иногда автор говорит о малозначительных произведениях Лондона и не замечает существенно важных. Статью Лондона о романе М. Горького «Фома Гордеев», сыгравшую принципиальную роль в развитии взглядов писателя на литературу, и ряд других его статей Стоун даже не упоминает. Однако, несмотря на отмеченные недостатки, книга Ирвинга Стоуна представляет немалый интерес. Тем более что от первой и до последней страницы она проникнута искренней любовью к выдающемуся сыну американского народа. Джек Лондон, по словам Стоуна, был с детства для него великим примером. Шести лет познакомился он с рассказами выдающегося писателя, и книги его сыграли решающую роль в формировании образа мыслей Стоуна. «Мартин Идеи» вдохновил Стоуна на писательскую деятельность. И не его одного: «Почти во всех странах мира, – признается Стоун, – я встречал авторов, которые уверяли, что своим побудительным импульсом и твердой решимостью стать писателями они обязаны чтению «Мартина Идена» и других захватывающих романов Джека Лондона». С пятнадцатилетнего возраста лелеял Ирвинг мечту создать биографию писателя. Она была написана в 1938 году, с тех пор неоднократно переиздавалась и остается одной из лучших книг о жизни Джека Лондона… Виль БыковМоряк в седле Художественная биография Джека Лондона
Если ты утаил правду, скрыл ее, если ты не поднялся с места и не выступил на собрании, если выступил, не сказав всей правды, – ты изменил правде. Дайте мне взглянуть правде в лицо. Расскажите мне, какое лицо у правдыДжек Лондон
I
Это история о Джеке Лондоне, рассказанная его собственными словами с присущими только ему неподражаемым колоритом, характером и драматизмом. Там, где Джек говорит о себе, ни один биограф не смог бы сказать лучше. «Моряк в седле» основан наматериале пятидесяти опубликованных книг Лондона и двухсот тысяч писем, черновых рукописей, документов, дневников. Все это – сам Джек Лондон; это – рассказ о том, как он работал, любил и боролся.Ранним июньским утром 1875 года жители Сан-Франциско, проснувшись, прочли в газете «Кроникл» ужасающую историю: женщина выстрелила себе в висок. Дело было в том, что муж «выгнал ее из дому, так как она отказалась умертвить своего еще не родившегося младенца, – пример бессердечия и мучений семейной жизни». Женщиной была Флора Уэллман, заблудшая овца из семьи Уэллманов, старожилов города Мэслон, штат Огайо. Мужчиной – странствующий астролог-ирландец профессор Чани. Что касается младенца, то ему было суждено стать известным миллионам людей всего мира под именем Джека Лондона. Статья в «Кроникл» – это поток брани по адресу профессора. Правда, в заключение автор признается, что эта история рассказана друзьями Флоры с ее же слов. Газета обвиняет профессора в том, что он отбывал в свое время срок заключения в тюрьме Тумс, что своих бывших жен – нескольких – похоронил: «растет зеленая трава у их изголовья, и хладный камень лег в ногах». Флору он заставлял гнуть спину у корыта, наниматься в няньки к чужим людям. Он продавал мебель, купленную на деньги жены, выгонял Флору из дому, а когда она отказалась уйти, сам бросил ее. Правды в этих обвинениях так же мало, как и в заголовке статьи – «Покинутая жена». Флора никогда не была замужем за профессором Чани. Ни малейшего желания кончать жизнь самоубийством у Флоры не было. Рана ее оказалась царапиной и принесла куда больше вреда профессору Чани – ведь газеты разнесли эту историю по всей стране. Чани был оскорблен и опозорен на всю жизнь. Вскоре после этого происшествия он исчез из Сан-Франциско. Джек Лондон никогда не видел своего отца. В то время, когда появилась статья в «Кроникл», Флоре Уэллман было лет тридцать. Низенькая, невзрачная, безвкусно одетая, она ходила в очках и черном кудрявом парике: глаза и волосы ей испортил тиф. Изжелта-бледное лицо с крупным носом, большие уши. Родом Флора была из хорошей уэльской семьи. В 1800 году ее бабушка, миссис Джоэль Уэллман, глубокой зимой с четырьмя детьми перешла через Аллеганские горы от озера Канандейгуа в штате Нью-Йорк до Вэйн Каунти, Огайо. Чтоб совершить подобное путешествие, требовались энергия, мужество и уверенность в себе. Оба сына миссис Джоэль Уэллман – Хайрам и Маршалл (дедушка Джека Лондона) унаследовали эти качества. Как-то поздней осенью, когда братья гостили в Кливленде, они отправились пароходом на остров в бухте Пут-ин-Бей. На обратном пути – а это был последний рейс в том году – пароход почему-то там не остановился, и мальчики остались на безлюдном ocтpoвe без пищи и крова. Наступала зима. Орудуя камнями вместо топора, они ухитрились соорудить из прибитых к берегу бревен такой прочный плот, что смогли на нем добраться не только до материка, но и до самого Кливленда. Маршалл Уэллман поселился в Огайо в городе Мэслон. Здесь он строил каналы и брал патенты на свои изобретения, главное из которых – угольная топка Уэллмана. Сколотив солидный капитал, он построил себе дом, один из самых красивых в Мэслоне. Там и родилась его дочь Флора. Флоре Уэллман была предоставлена возможность получить самое разностороннее по тем временам образование. Она училась музыке, окончила колледж, много читала, хорошо говорила, обладала изящным слогом и превосходно держалась в обществе. Девушке из богатой семьи Уэллманов было бы не трудно выбрать себе мужа по душе и зажить, как ее братья и сестры, степенно и благополучно. Но тут в налаженной машине что-то застопорилось; Маршалл Уэллман был искусный изобретатель, однако справиться с непокорной дочкой оказалось ему не под силу. По отзывам друзей, это была девица с легко меняющимися настроениями, умная, одаренная, но нервная. Сколько-нибудь строгому порядку, твердым указаниям она поддавалась с трудом. Двадцати лет она перенесла тиф, и после болезни, как говорят, у нее осталась некоторая сумятица в голове. Когда Флоре исполнилось двадцать пять лет, она собрала пожитки в чемодан и уехала из Мэслона. Для молодой девушки это было неслыханно. Отношения с родителями были порваны на всю жизнь. Несомненно, произошел скандал, но об истинной причине этих неприятностей можно только догадываться. Изобретательный репортер «Кроникл» предполагает, что «Флора приехала к нам на побережье приблизительно в то же время, когда через заросшие шалфеем романтические дали Невады сюда предпринял путешествие профессор». На самом деле Флора встретилась с Чани лишь три года спустя, в Сиэтле. Биограф Джека Лондона был бы готов пожертвовать многим, чтобы проследить скрытые от нас три года жизни Флоры Уэллман, когда она скиталась из города в город, зарабатывая на хлеб уроками музыки. Оставшиеся сведения наводят на мысль, что это была бы неприглядная история. Профессор Чани пишет; «…в тех же меблированных комнатах, где Флору считали моей женой, она прежде выдавала себя за жену Ли Смита. Заведение, где мы жили, было весьма солидным, и вот однажды, вернувшись домой, я увидел, что жильцы собрались выезжать и весь дом охвачен ужасным волнением. Не успел я войти в комнату, как Флора закрыла дверь на ключ, упала передо мной на колени и, рыдая, стала молить о прощении. Я сказал, что мне нечего ей прощать. После долгих жалоб и разговоров вокруг да около она, наконец, рассказала мне правду о Ли Смите. Жильцы, сказала она, уезжают из-за того, что знали ее, Флору, почти в одно и то же время под именем мисс Уэллман, миссис Смит и миссис Чани. Стоило мне тогда уступить первому побуждению, и я ушел бы от нее, избавив себя от многих лет страданий. Но у меня самого за плечами была исковерканная жизнь, и, поразмыслив, я простил Флору». В первый раз Чани встретился с Флорой Уэллман у Йеслера, мэра города Сиэтла Мэр был родом из Огайо и хорошо знал Уэллманов. Флора в то время гостила у мэра и его жены Мистер и миссис Йеслер по секрету рассказали Чани, что их гостья – дочь очень почтенных родителей, но в чем-то провинилась. Это неведомое «что-то», очевидно, и заставило Флору уйти из дому Чани был на короткой ноге с Йеслерами, часто к ним заходил, и когда позже, в Сан-Франциско, увиделся с Флорой, они встретились как старые друзья. Что за человек был отец Джека Лондона? Немногое известно о его прошлом, кроме того, что он был чистокровным ирландцем и родился в бревенчатой хижине в штате Мэн. В молодости он много лет провел на море. Невысокий ростом, профессор был такого могучего телосложения, что в шестьдесят лет ухитрился спустить с лестницы хулигана, которого подослали избить его. Чем он занимался? Писал, издавал журналы, читал лекции, преподавал и составлял гороскопы. Им была собрана обширная библиотека, куда входили книги по философии, математике, астрономии и оккультным наукам. Он был языковедом, способным историком, знатоком библии. Среди близких учеников и последователей он слыл человеком замечательным; среди астрологов был признан одним из лучших. Говорят, что на склоне лет, живя в Чикаго, он посвятил свои недюжинные творческие способности астрологии, занимаясь ею по шестнадцать часов в день. Он страстно и искренне верил в астрологию и считал ее такой же точной наукой, как химия и математика; наукой, способной вытащить человечество из затянувшей его трясины. Самой большой слабостью Чани были женщины Когда друзьям случалось упрекнуть профессора в прегрешениях против морали, он, указывая на свой гороскоп, восклицал: «Увы! Так уж мне на роду написано». Его ничего не стоило рассердить, и нелегко было иметь с ним дело: ему непременно хотелось быть вождем, наставником, рукдводителем решительно во всем. Большую часть жизни он был беден, деньгами не дорожия Если ученикам было нечем платить, он давал уроки бесплатно и постоянно раздавал то немногое, что имел По свидетельству студентов, его лекции всегда слушались с неослабевающим вниманием: ему было о чем сказать, и он знал, как это сказать. Иронизировать он умел как никто. Его друзьям над многим стоило подумать, если они умели думать. А если не умели, они недолго оставались его друзьями. В городе Портленде, штат Орегон, его еженедельные лекции пользовались известностью. На доске перед слушателями был изображен гороскоп в метр величиной Перед ним с указкой в руке стоял Чани, предлагая аудитории объяснить значение различных сочетаний звезд После полуторачасовой лекции он с присущим ему сочным ирландским юмором развлекал учеников забавными историями. В 1909 году один из его последователей, Джо Траунсон из Гельдзбурга, позднее собрат Джека Лондона по социалистической партии, писал. «Мне особенно нравилось, когда в ходе беседы он, бывало, восклицал: «А-а! Это наводит меня на мысль…» И принимался развивать эту мысль, с блеском формулируя ту или иную научную истину, описывая явления природы, еще никем не подмеченные. В математике и астрологии он был изумителен, он обучил меня методу расшифровки древних надписей. Он прекрасно разбирался в грамматике. Познания его отличались глубиной, у него была голова настоящего ученого, поразительная память. Писать он мог без устали по шестнадцать часов в сутки; часто читал лекции, в которых говорил о причинах бедности и средствах борьбы с нею, о том, что богатые становятся все богаче, а бедные – беднее. Человек чрезвычайно многосторонний, он научил меня большему, чем все другие мои наставники, вместе взятые. Как-то раз он сказал мне: «Я вас научу, как вычислить время затмения; какой бы наукой вы ни вздумали заняться, я обучу вас». Одним словом, когда мне нужно было что-нибудь узнать, я шел к профессору Чани». Траунсон не забывает упомянуть и о недостатках Чани. Профессор ничего не смыслил в музыке, ненавидел поборников женского равноправия; он был верным другом и беспощадным врагом, а после ссоры лишь скрепя сердце признавал достоинства противника. Он брал деньги у атеистов за то, чтоб прочесть лекцию против церкви., и был не в силах держаться вдали от молоденьких вдовушек. Зажив одной семьей с Флорой Уэллман, Чани обосновался в доме на Первой авеню, как в то время называлась улица между Мишен и Валенсией Он начал сотрудничать в журнале «Здравый смысл», объявившем себя единственным атеистическим журналом к западу от Скалистых гор. Чани писал статьи, прочел цикл лекций по социологии для Общества филоматов, а на дому занимался толкованием гороскопов. «Профессор поселился в Сан-Франциско с тем, чтобы заниматься астрологией. Он намерен также преподавать астрологию тем, кто захочет получить сведения об этом небесном искусстве. Знатоками и горячими сторонниками астрологии были такие умы, как Галилей и Исаак Ньютон. В длинном перечне лиц, выдающих себя в этом городе за астрологов, ни один не имеет представления об этой науке. Астрологами именуют себя обыкновенные шарлатаны, гадающие на картах и на кофейной гуще. Их ворожба и навлекла дурную славу на истинную астрологию. Рабочие часы с 10 до 12 утра и с 2 до 4 дня Вечерние консультации по особой договоренности». Чани не был шарлатаном Большую часть жизни он учил, писал и читал лекции по астрологии бесплатно. Из этого ясно, что он не занимался сознательным жульничеством за счет легковерных. Вот анекдот, по которому можно судить, какое место он занимал в своей области. Однажды в городе случился пожар. Сгорел дом Подозревали поджог. Хозяин дома обратился к профессору Чани Профессор сказал, что в поджоге участвовали трое, и описал их с такой точностью, что хозяин отправился к преступникам и объявил, что Чани уличил их. Те тут же сознались. Если сказал Чани, отпираться бессмысленно. Воскресными вечерами Чани читал лекции по астрологии в Чартер Оук Холле. Билеты у входа продавала Флора – по десять центов каждый Некоторое время лекции давали хорошие сборы, хотя кое-кто приходил, чтоб поиздеваться над лектором. Лучшим свидетельством ума и взглядов Чани можно считать его стать и, напечатанные журналом «Здравый смысл»: «Бедность; ее причины и средства борьбы с нею», «Как поступать с преступниками?» В статье «Человек должен уметь предсказывать будущее» он пишет: «Неправильная система обучения внушила нам, что будущее принадлежит богу и самая попытка человека заглянуть в будущее – богохульство. Вера в это прививается с раннего детства, и, вероятно, девять десятых жителей Соединенных Штатов склонны недоверчиво относиться к утверждению, что можно предсказать будущее. Их позиция подобна той, которую занимали люди до Галилея. Воспитанные на догме, что земля плоская, они с отвращением взирали на всякого, кто утверждал, что она кругла Когда папа с кардиналами заточили Галилея в темницу за утверждение, что земля движется по орбите, простым людям казалось, что этот человек, один из первых мучеников во имя науки, наказан по заслугам». Статьи Чани написаны хорошим языком, аргументация – убедительна, манера изложения – четкая, ясная Видишь, что автор – человек всесторонне образованный, достаточно смелый, чтобы говорить откровенно. Он любит людей и хочет научить их стремлению к совершенству. У него современные, передовые взгляды В статье о криминологии он пишет, что преступника удерживает не столько суровость, сколько неизбежность наказания. В другой статье он предлагает филоматам организовать братскую общину. Мужчины, женщины и дети будут собираться раз в неделю. Взрослые станут писать и обсуждать сочинения на различные темы, дети – заниматься музыкой, обучаться искусству композиции и критики Род человеческий будет совершенствоваться, и спустя несколько поколений порок и преступление исчезнут. Флора же была не только астрологом, но и страстной спириткой Она проводила спиритические сеансы, на которых публике предлагалось общаться с духами близких, посылать им вести о себе. Можно было получить от них совет, как повести дела – торговые или сердечные, как уследить за легкомысленным супругом, уладить ссору: ведь незримым духам куда удобнее наблюдать земные дела В 70-х годах прошлого века спиритизм стал очень моден; по всему Сан-Франциско устраивались десятки сеансов, и приверженцы спиритизма доходили до того, что испрашивали одобрение духов, даже когда собирались нанять экономку. Несколько месяцев, прожитых в Сан-Франциско, Флора и Чани были счастливы Флора вела хозяйство, давала уроки музыки, устраивала спиритические сеансы, читала лекции о спиритизме. В палатке с земляным, посыпанным опилками полом Чани читал лекции по химии, астрономии и оккультным наукам, а Флора, стоя в дверях, отбирала у посетителей билеты У них были друзья среди астрологов, они пользовались доброй славой и в своей области были первыми Флора, по-видимому, любила профессора и очень хотела, чтоб он на ней женился. Но Чани был слишком занят лекциями в Обществе филоматов о «Явлениях физической, умственной, моральной и духовной жизни». Профессору было не до суетных дел вроде женитьбы Когда Джеку Лондону исполнилось двадцать три года, он написал Чани, спрашивая, отец ли он ему 4 июня 1899 года, через двадцать четыре года со дня появления статьи в «Кроникл», Чани ответия Называя Лондона «дорогой сэр», он соглашается «исполнить его желание сохранить все в молчании и тайне» и дает свое толкование событий. «Я никогда не был женат на Флоре Уэллман, – пишет Чани, – но с 11 июня 1874 года по 3 июня 1875 года мы жили вместе. Я в то время не мог быть ей мужем: сказались лишения, нужда, чрезмерная умственная работа Отцом вашим, следовательно, я быть не мог и, кто ваш отец, не знаю». Уступая просьбе Джека Лондона помочь установить истину, Чани повторяет молву, которая весной 1875 года связывала имя Флоры с двумя другими мужчинами В то же время он с готовностью признается, что «из первых рук ничего не знает». Затем следует одна из самых горестных страниц, какие когда-либо были написаны человеком «В свое время я был весьма нежно привязан к Флоре, но наступили дни, когда я возненавидел ее со всей силой, на какую способен страстный человек. Как многие, кто побывал в подобных обстоятельствах, я даже собирался убить ее и себя самого. Впрочем, время исцелило мои раны У меня не осталось к ней дурного чувства Что касается вас, я вам горячо сочувствую: могу вообразить, ,каково было бы мне на вашем месте. . В газетах писали, будто я выгнал ее из дому за то, что она не соглашалась сделать аборт. Статья была перепечатана и разослана по стране. В Мэне ее прочли мои сестры, и две из них стали мне врагами Одна умерла, убежденная, что я виноват. Вся родня, за исключением одной сестры в Портленде, в штате Орегон, – мои враги, которые по сей день клянут меня за то, что я их опозорил В то время я напечатал брошюру, где приводилось полученное от начальника полиции донесение сыщика Из него было ясно, что меня оклеветали. Тем не менее «Кроникл» и другие газеты не пожелали опровергнуть свои лживые утверждения Тогда я перестал защищаться Многие годы жизнь была мне тяжким бременем Но отношение ко мне в конце концов все-таки изменилось. Теперь у меня есть друзья, и они считают Чани человеком порядочным Мне идет семьдесят седьмой год, и я абсолютно беден». Неудовлетворенный этим ответом, Джек Лондон, настойчиво требуя информации, снова написал Чани и получил от него последнее письмо, в котором профессор продолжает отрицать свое отцовство. «Расстались мы вот почему: в один прекрасный день Флора сказала: «Ты знаешь, чего мне хочется больше всего? Стать матерью Ты слишком стар. Предположим, я найду мужчину, хорошего, милого человека, – неужели ты не согласишься, чтобы у меня был от него ребенок?» Я ответил, что да, соглашусь. Только этому человеку придется содержать ее. Нет, ей нужно всегда жить со мной и считаться супругой профессора Чани. Приблизительно через месяц она сообщила, что беременна от меня Я подумал, что она просто решила испытать меня, не поверил и поднял страшный шум в надежде отговорить Флору от ее затеи. Споры шли весь день и всю ночь. Когда рассвело, я встал и сказал ей, что она никогда больше не будет мне женой. Увидев, что я говорю серьезно, она мгновенно притихла, на коленях подползла ко мне и, рыдая, стала вымаливать прощение, Я не хотел ее простить. Правда, я все еще считал, что она только делает вид, будто ждет ребенка Но характер у нее был несносный, и я уже давным-давно подумывал, что придется с ней расстаться. Уйдя от меня, Флора отправилась к доктору Раттли. Там она прошла на задний дворик и быстро вернулась с револьвером в одной руке и коробкой патронов в другой. На лбу с левой стороны виднелась рана, по лицу текла кровь. На вопрос миссис Раттли, что случилось, Флора сказала: «Маленькая женщина попробовала застрелиться, но не сумела сделать это как надо». Поднялась ужасная суматоха Собралась толпа, человек полтораста, грозя повесить меня на первом фонаре». Все экземпляры изданной профессором брошюры исчезли, но есть свидетели, читавшие ее в свое время В докладе сыщика утверждалось, что револьвер был старый и с тех пор, как его в последний раз смазали, не стрелял Пахло от револьвера не порохом, а ружейным маслом. Метрах в десяти от Флоры на заднем дворике работал плотник, но выстрела не слышал Если бы Флора, как утверждает, действительно стреляла в себя, у нее на лице остались бы следы пороха, а их не было. Интересно, что Чани, стремясь доказать, что попытка застрелиться была инсценировкой, и не подумал сам взглянуть на рану Флоры, чтобы убедиться, настоящая она или мнимая. Не говорит он об этом и в своей брошюре. Основания у него были веские: что у Флоры был шрам на виске, подтвердили ее падчерица Элиза Лондон-Шепард и внук Джон Миллер. Чани, очевидно, был намерен установить, что если Флора и нанесла себе рану, то отнюдь не при помощи такого смертоносного оружия, как револьвер. Это мог быть, скажем, кусок металла с рваными краями Но даже если бы Чани и доказал свою правоту, это ему не помогло бы. Почему Чани не хотел признать себя отцом Джека Лондона? Нелегко вступать в права отцовства под самый конец жизни. Связь с Флорой Уэллман стоила ему тяжелых страданий, и он не испытывал ни малейшего желания снова с головой окунуться в эту историю, в течение стольких лет отравлявшую ему жизнь. Джек Лондон был ему чужим; незнакомое имя, пустой звук – не более. От Флоры и Джека Лондона Чани нужно было лишь одно: чтоб его оставили в покое. После неудачной попытки покончить с собой Флора нашла приют в доме сотрудника «Ивнинг пост» и владельца журнала «Здравый смысл» Уильяма Г. Слокама. Там она жила, пока не появился на свет Джек. Что касается Чани, он поехал в Портленд к сестре – единственному человеку, который еще верил ему после неудачной попытки оправдаться Здесь он прожил много лет, собрал превосходную библиотеку, печатал памфлеты, издавал астрологический альманах. У него появились ученики и последователи. Позже он переехал в Новый Орлеан, где выпускал журнал, посвященный оккультным наукам, и в уплату за пансион обучал на дому двух мальчуганов. Последним городом, где он жил, был Чикаго. Там под конец жизни он женился, объявил себя директором астрономического колледжа и кое-как перебивался, толкуя гороскопы – по доллару за каждый. По словам одного из учеников, профессору было предсказано, что он умрет раньше, чем кончится XIX столетие, и будет похоронен во время снежного бурана Так и случилось. Совпал даже день. Вплоть до того самого дня, когда родился ее сын, Флора Уэллман читала публичные лекции о спиритизме и участвовала в спиритических сеансах. Жители Сан-Франциско запомнили, как с торчащим огромным животом, причудливо одетая, распустив по плечам накладные черные локоны, она стоит на помосте, сгорбившись в три погибели. Им было жаль эту хрупкую женщину – одинокую, покинутую. Несколько раз сердобольные собирали деньги ей в помощь. 14 января 1876 года «Кроникл» снова упоминает – правда, на этот раз несколько мягче – имя Чани: «Сан-Франциско, 12 января, у супруги У. Г. Чани родился сын». Под именем Джона Чани мальчик прожил лишь восемь месяцев, пока Флора не вышла замуж за Джона Лондона. Джон Лондон, американец английского происхождения, родился в Пенсильвании, учился в сельской школе. В девятнадцать лет, старшим обходчиком участка железной дороги Пенсильвания – Эри, он женился на Энн Джен Кэвит, был с нею очень счастлив и нажил десятерых детей. Лондон ушел с железной дороги, стал фермером. Когда начались гражданская война, он сражался на стороне северян, пока не потерял после тифа одно легкое. После войны он получил около Москвы (штат Айова) участок государственной земли и занялся сельским хозяйством. Он работал плотником и каменщиком, был шерифом и старостой в методистской церкви. По воскресеньям после проповеди он приводил к себе обедать священника. Вскоре после смерти Энн Джен Кэвит один из сыновей Лондона, играя в бейсбол, получил сильный удар мячом в грудь. Посоветовав отправить мальчика в Калифорнию, климат которой поможет ему поправиться, врач забыл сказать, что на протяжении двух тысяч километров в штате насчитывается несколько климатических районов. Единственным известным Лондону в Калифорнии городом был СанФранциско. Он погрузил больного сына и двух младших дочерей в поезд и отправился на запад. После десяти дней, прожитых в туманах Сан-Франциско, мальчик умер. Тогда Лондон выписал из Айовы в Калифорнию супружескую чету – вести его хозяйство и присматривать за девочками. Несколько месяцев муж с женой смотрели за детьми, а потом мужу предложили работу вдали от Сан-Франциско. Супруги уехали, и Лондон снова остался один вместе с дочерьми. Девочек пришлось поместить в Протестантский приют для сирот – платное заведение на Хейт-стрит. Джону Лондону в те дни было лет за сорок. Все, кто помнит его, говорят, что это был симпатичнейший человек – мягкий, добрый, с привлекательной внешностью. Он еще оплакивал жену и сына, когда один приятель по работе уговорил его пойти на спиритический сеанс. «Пойди, Джон. Может быть, они дадут о себе знать». Но вместо вестей от старой жены Лондон получил новую. Нельзя сказать достоверно, |согда встретился Лондон с Флорой – до или после появления на свет ее сына, но о том, что Флора не была замужем за Чани, он, несомненно, знал. Сама Флора, выступая в Чартер Оук Холле с суровыми нападками на профессора – он в то время уже уехал из города, – заявила об этом публично. В то время многие не могли понять, зачем Лондон женился на Флоре. Особенно крепким здоровьем он, правда, похвастаться не мог, зато был обеспечен прекрасно и человек был приятный. Знакомым женщинам он нравился, в особенности хорошенькой актрисе, с которой он по субботам ходил навещать своих девочек в сиротский приют. Джону Лондону в Сан-Франциско жилось одиноко. По характеру он был семьянин, тосковал о жене и домашнем уюте, хотел, чтоб у девочек была семья, мать. У Флоры был общительный характер, с ней было интересно поговорить, она играла ему на рояле, заполняя тоскливые часы одиночества, ухаживала за ним, когда ему случилось заболеть гриппом. Через две недели после того, как Джон слег в постель, Флора в субботу – день свиданий с родными – появилась в сиротском приюте и сказала девочкам, что отец заболел и что отныне она будет их новой мамой. Девочки не поверили. 7 сентября 1876 года Флора Уэллман поставила подпись «Флора Чани» на брачном свидетельстве и, забрав восьмимесячного сына, переехала в квартиру Джона Лондона в рабочем районе к югу от Маркет-стрит. Когда семейство устроилось, Джон отправился в приют и привел домой дочерей. Старшая, Элиза, была некрасивой восьмилетней девочкой, бесхитростной, очень взрослой и самостоятельной для своих лет. Отец повел Элизу показать комнаты и сказал, что ребенок – ее брат. Впервые в жизни взглянув на Джека, Элиза увидела, что его лицо облепили мухи: Флоре не пришло в голову купить кусок москитной сетки, чтобы завесить младенца Не говоря ни слова, Элиза сделала бумажный веер и села у кроватки отгонять мух В это мгновенье не по годам серьезная восьмилетняя девочка взяла Джека под свою опеку, которую свято соблюдала до того самого дня, когда похоронила прах Джека Лондона на холме, возвышающемся над Лунной Долиной. Флоре материнские обязанности пришлись не по душе. Беспокойная, темпераментная, легко поддающаяся настроениям, она была слишком занята музыкой, лекциями, спиритизмом. Ей было некогда следить за мальчиком, который в то время начал прихварывать. По совету врача семья переехала из города в сельский район Бернал Хайте. Флора занялась поисками кормилицы. В доме напротив жила негритянка миссис Дженни Прентис, только что потерявшая ребенка. Она и стала Джеку кормилицей, приемной матерью и другом на всю жизнь. Высокого роста, большегрудая и ширококостая, няня Дженни была черна как уголь. Женщина она была работящая, верила в бога и гордилась своим домом, семьей и положением в обществе. Она брала Джека на колени, пела ему негритянские колыбельные песни, щедро дарила ему всю бурную любовь, какая досталась бы ее собственному ребенку, если бы он был жив. С Элизой и няней Дженни маленький Джек не нуждался в лучшем уходе. Через год семья опять вернулась в людный рабочий район Натомастрит, 920. К этому времени Джек уже учился ходить, катая за собой игрушечную красную колясочку. Элиза сажала в коляску свою куклу, и Джек катал ее туда и сюда по тротуару. Однажды, придя из школы, Элиза увидела, что кукла разбилась на мелкие кусочки – Флора дала игрушку сыну, но не позаботилась привязать ее к коляске. Два года Лондоны жили в длинной узкой квартире трехэтажного деревянного дома Флора пустила жильца, его денег за пансион хватило, чтоб нанять слугу-китайца Джон Лондон работал плотником и каменщиком, но работы не хватало: Запад все еще находился в лапах кризиса 1876 года Джон вскрывал упаковочные ящики для большого магазина, позже служил агентом зингеровской компании швейных машин – скромный, но все-таки заработок. Когда Сан-Франциско охватила эпидемия, Джек и Элиза заболели дифтеритом. Лежа в карантине в одной кровати, дети были при смерти. Как-то Элиза ненадолго пришла в сознание и успела услышать, как Флора спрашивает у врача: «Скажите, можно их будет похоронить в одном гробу, подешевле?» Пока мать Джека беспокоилась о похоронах, отчим метался по городу в поисках опытной сиделки и врача, чтобы спасти детям жизнь. Услышав, что в Окленде, на той стороне залива, есть врач, который успешно лечит дифтерит, Джон с первым паромом отправился к нему и уговорил приехать в Сан-Франциско. Доктор прижег белесые дифтерийные язвы, обработал их серой и… двойные похороны не состоялись. Когда Джек и Элиза выздоровели, семья переехала в Окленд – залитый солнцем сонный пригород Сан-Франциско, который начинал в то время разрастаться Они сняли удобный домик из пяти комнат на Третьей улице. Не довольствуясь случайными заработками Джона, Флора целыми днями пропадала из дому, поглощенная планами быстрого обогащения. Самые большие надежды она возлагала на план, который заключался в том, чтобы продавать владельцам пивных заведений сусальное золото – золотить рамы картин, висящих над стойкой. Если хозяина не удавалось убедить, что позолоченные рамы выглядят несравненно лучше, Флора взбиралась на стойку и золотила их сама. Несколько позже в Окленд должна была приехать няня Дженни, чтобы быть поближе к своему «белому дитятке». А пока заботы о ребенке целиком свалились на плечи Элизы, которая стала ходить в школу с ним вместе, иначе ей пришлось бы сидеть дома. Она объяснила учительнице, почему ей приходится приводить братишку с собой Та поставила для него около кафедры деревянный ящик и давала малышу книжки с картинками, которые он сосредоточенно рассматривал, сидя за ящиком, как за партой На школьном дворе четырехлетний мальчуган наслаждался, играя с детьми; Элизе часто перепадало от девочек то яблоко, то какое-нибудь украшение, только бы она разрешила Джеку посидеть с ними. Вскоре Джон Лондон решился на новое предприятие и открыл в рабочем квартале Окленда на углу Седьмой и Перальта-стрит лавочку продовольственных товаров. Семейство разместилось в четырех комнатах за магазином. Именно здесь Джек в первый раз почувствовал, что отношения в семье не ладятся В черновых заметках автобиографии, задуманной под названием «Моряк в седле», Джек Лондон рассказывает: однажды шестилетним ребенком он случайно услышал, как в комнате за лавкой ссорятся отец с матерью. Отец корил ее внебрачным ребенком. «Я была так молода», – защищалась Флора. Дела в магазине шли удачно. Джон Лондон отлично разбирался в продуктах. Объезжая дальние фермы, он скупал лучшие фрукты и овощи. Флора и Элиза вели торговлю за прилавком, а Джек совершал экскурсии по магазину, не забывая всякий раз лакомиться сластями и орехамк Няня Дженни подыскала себе домик в Аламеде, недалеко от Окленда, и Джек проводил там целые дни, играл с ее детьми, ел за ее столом – добрая женщина смотрела и ухаживала за ним, заботилась, как о родном сыне. К ней Джек шел за утешением и за советом. Наигравшись до устали с другими детьми во дворе, он забирался к няне на колени и слушал с детства знакомые колыбельные песни и сказки, доставшиеся Дженни Прентис в наследство от ее народа. По-видимому, это было счастливое для семьи время Одна Флора оставалась недовольной: с ее точки зрения дела подвигались недостаточно быстро. Она познакомила Джона с человеком по имени Стоуэлл и уговорила мужа взять его в компаньоны, чтобы расширить дело и скорее разбогатеть. Вместе с семьей Стоуэлла Лондоны сняли на углу Шестнадцатой и Вудс-стрит большой дом в современном стиле. Район был солидный, респектабельный Магазин стал больше, дело так разрослось, что Джону Лондону нужно было все время проводить на фермах, закупая товар. Стоуэлл распоряжался магазином и доходами. Лондон уже больше не знал, что делается в магазине. Однажды магазин встретил Джона зияющей пустотой: Стоуэлл продал все запасы продуктов, все торговое оборудование и, прихватив выручку, скрылся Оставшись снова без гроша, Джон Лондон вернулся к единственному по-настоящему любимому делу: к ферме. Он арендовад в Аламеде участок земли в двадцать акров под названием Девенпорт и стал разводить для рынка кукурузу и овощи. Для Джека это был грустный период. Детей вокруг не было, играть было не с кем, и, предоставленный самому себе, он невольно сделался молчаливым и замкнутым. Лондон понимал толк в хозяйстве. В его руках дело пошло бы на лад, если бы Флора примирилась с принципом «от добра добра не ищут». Но не тут-то было. В семье Флора слыла женщиной умной и оборотистой, и Джон доверил ей дела Он никогда не имел представления, на что у нее идут деньги: по счетам она, судя по всему, не платила Сама Флора свято верила, что обладает недюжинными умственными способностями, и в надежде разбогатеть вечно затевала все новые авантюры – то накупала лотерейных билетов, то биржевых акций Намерения при этом у нее были самые лучшие, но она была абсолютно безответственным в деловом отношении человеком. К тому же даже в самых мелких делах по хозяйству она настойчиво обращалась за руководством к духам усопших. Женившись, Лондон больше не ходил на спиритические сеансы, но Флора тем не менее то и дело собирала у себя спиритов. Среди комнаты во время сеанса ставили стол, клали на него шестилетнего Джека, восемь пар рук тянулись к нему, и стол вместе с мальчиком начинал двигаться, кружиться по комнате. Жуткие сборища, тревожный разговор, подслушанный в Окленде, в комнате позади магазина, унаследованная от родителей душевная неуравновешенность, неумение сдерживаться, расшатанная нервная система, доставшаяся ему от Флоры, – все привело к тому, что мальчик стал беспокойным. Порой ему угрожало серьезное нервное расстройство. Флора была женщина маленькая – мужу не доставала до плеча, – но сцены она закатывала грандиозные, не по росту. Кроме того, у нее было еще и «сердце». За столом с ней то и дело случались сердечные припадки, и тут дети – все трое – должны были укладывать ее в постель и всячески хлопотать вокруг нее. Заботы по дому соответственно доставались Элизе, и тринадцатилетняя девочка стряпала, убирала и стирала на всю семью. О детстве Джека Лондона ходит множество рассказов, в известной части, впрочем, малодостоверных Относиться к ним следует весьма осторожно. Если не считать периодических приступов неврастении, Джек был нормальным, здоровым ребенком, незлобивым, с золотым характером. У него были волнистые светлые волосы, синие глаза, гладкая чистая кожа и чуткий рот, вздрагивавший от малейшего волнения Здесь, в Аламеде, он пошел в школу, но самыми счастливыми были для него часы, когда он бродил по полям с Джоном Лондоном: отчим был его кумиром. По субботам семья отправлялась в оклендский театр Тиволи, где во время действия публика угощалась сандвичами с пивом Джон сажал Джека на стол, чтоб тот видел, что происходит на сцене, и мальчик смеялся и хлопал в ладоши. Как-то раз, играя на кухне под присмотром Элизы – она мыла пол, – он ударился об острый край раковины Рана шла через лоб к носу. Вспомнив, как отец залечивал у лошади порез на ноге, Элиза наложила на рану паутины и замазала сверху дегтем В субботу Джон забинтовал мальчику голову и, как всегда, повел в театр. Но в следующую субботу Флора отказалась взять его в театр с забинтованной головой Она велела Элизе либо сцарапать у Джека деготь со лба, либо сидеть с ним дома Обоим детям хотелось увидеть представление. Поставив Джека посреди кухни, Элиза отодрала со лба мальчика деготь вместе со струпом, и Джек всю жизнь ходил со шрамом на лбу. Лондоны к этому времени обзавелись хорошим домом, купили корову. Овощей было сколько угодно. Свой урожай Джон сортировал, сбывая на рынке только все самое лучшее. Овощи похуже он отдавал тем из соседей, кто жил в нужде. Продавая товар только высшего сорта, он завоевал среди заготовителей репутацию отличного поставщика. Он мог бы и дальше получать изрядные доходы с Девенпорта, но проходит совсем немного времени, и он оставляет усадьбу и перебирается в Сан-Матео, городок на берегу залива, несколько миль южнее Сан-Франциско. Судя по рассказам членов семьи, Лондоны переехали потому, что на старой ферме им не хватало места, чтобы разводить лошадей. Вряд ли Джон сам решил бросить Девенпорт. Возможно, его склонила к этому Флора своими соблазнительными рассказами о том, как быстро можно разбогатеть, устроив конный завод, А быть может, она просто забыла уплатить по счетам, и семья была вынуждена уйти с насиженного места. На растянувшемся вдоль одетого туманом берега участке в семьдесят пять акров Джон Лондон сажал картофель, пае лошадей и сдавал в аренду пастбища. Джек ходил в школу на горе, где один и тот же учитель одновременно вел занятия с четырьмя-пятью классами разных возрастов. В свободные часы они с Элизой шли к берегу и шлепали по воде, собирая съедобных моллюскоа Местность вокруг была пустынная, невзрачная, берег суровый, изрезанный Джек провел здесь самый мрачный год своего детства. Друзей у него не было: от фермы до фермы было далеко, да и соседи были либо итальянцы, либо выходцы из Ирландии. Флора их не любила Светлые минуты наступали в те дни, когда они с Элизой брели далеко на соседнюю ферму посмотреть итальянскую свадьбу или танцы Да еще когда они с Джоном садились в высокую повозку и ехали с картошкой на базар в Сан-Франциско. Джеку это время запомнилось как самое голодное в его жизни. Он вспоминал, как однажды до того изголодался, что вытащил у одной девочки из корзины с завтраком тоненький ломтик мяса А когда другие школьники, насытившись, бросали объедки, только гордость мешала ему поднять их с грязной земли. Джеку исполнилось восемь лет, когда Джон Лондон купил в рассрочку ранчо в Ливерморе – восемьдесят семь лкров земли в теплой долине за Оклендом. Семейство поселилось в старом фермерском доме. Джон посадил ряд олив вокруг ранчо, разбивал виноградники, фруктовые сады, возделывал поля Впервые после приезда в Калифорнию он купил собственный участок земли и здесь был намерен обосноваться прочно. У Джека тоже появились несложные обязанности по хозяйству: он отыскивал яйца, собирал дрова, таскал воду из колодца Частенько он забирался на козлы рядом с отцом, когда тот ехал с товаром на оклендский рынок. Джек не перестал любить отчима и называть отцом даже после того, как узнал, что между ними нет кровного родства От Лондона Джек перенял страсть к сельскому хозяйству – такому, которое ведется по всем правилам науки. Пока Джек не знал, кто его настоящий отец, ему казалось, что эта склонность у него в крови. Здесь же, на ранчо, мальчику открылась истинная страсть всей его жизни – ее он действительно унаследовал от отца, профессора Чани. Этим заветным талисманом, верным советчиком, неиссякаемым источником знаний была любовь к книгам Учитель дал ему почитать «Альгамбру» Ирвинга; у соседей среди случайно собранных книг ему попались «Африканские путешествия» Поля дю Шейю, жизнеописание Гарфилда, а главное – «С инья» У иды, лирично написанная история жизни внебрачного сына итальянской девушки-крестьянки и странствующего художника – история, которую Джеку в основных чертах суждено было повторить. Пройдя сквозь нужду и лишения, герой книги становится одним из крупнейших итальянских композиторов. Джек пишет, что Синья раздвинул горы, заслонявшие ему горизонт, все на свете становилось возможным – нужно было только решиться Элиза вспоминает, как в то время он однажды сказал ей: «Знаешь, Лиза, я до сорока лет не женюсь. Заведу себе большой дом, а одну комнату наполню только книгами». К сорока годам у него был большой дом и несколько комнат, полных книг. Любил Джек уходить с Джоном в поля, любил читать вместе с Элизой, а все-таки невеселыми были два года в Ливерморе. Джек был не так уж мал, чтобы не чувствовать, как неладно в семье. В доме было неуютно – всех угнетала Флора с ее вечной сумятицей, с ее сценами, сердечными припадками и причудами. Нельзя сказать, что она плохо обращалась с сыном, и он любил мать, как всякий нормальный ребенок. У нее просто не хватало на Джека нежности За добрым словом и лаской он шел к Элизе. А тут еще Флора взяла жильца с пансионом, ветерана гражданской войны по имени Шепард – средних лет вдовца с тремя детьми Шестнадцатилетняя Элиза и без того должна была готовить, вести хозяйство и смотреть за Джеком. Теперь ей прибавилась еще одна забота: опекать детей Шепарда, старшему из которых было тринадцать лет. Всего год прожив на ранчо, Джон Лондон снова завоевал себе в Окленде репутацию поставщика лучших овощей, и на его товар всегда находился спрос. Виды на будущее стали так радужны, что впервые в жизни Джеку купили в магазине нижнюю рубашку. Мальчик был в восторге: до сих пор он носил только грубое, сшитое дома белье. И тогда Флора, снова недовольная тем, что дела подвигаются чересчур медленно, задумала деловую комбинацию. Она принялась то и дело возить Джона через залив в Сан-Франциско, свела его с хозяином большого отеля и добилась контракта, по которому Джон начинал разводить кур, а хозяин отеля скупал у него весь товар – яйца и птицу. В птицеводстве Джон Лондон не понимал ровным счетом ничего. Он взял деньги под залог дохода с ранчо, построил огромные курятники, брудеры с паровым отоплением, и какое-то время – недолго – хозяин отеля в Сан-Франциско действительно покупал у него весь товар. Потом на Джона обрушились сразу три несчастья: Элиза, ухаживавшая за птицей, вышла замуж за Шепарда и уехала с ранчо. Часть кур унесла эпидемия. Остальные перестали нестись. Лондон вложил деньги в оливы, сады и курятники. Когда истек срок закладной, платить было нечем, банк отказал Лондону в праве выкупа Снова очутившись без крова, Лондоны погрузили пожитки в фургон для картофеля и отправились в путь. Мозг Джека Лондона был похож на чуткий сейсмограф, улавливающий малейшее колебание. А в «колебаниях» недостатка не было: в течение ближайших тринадцати лет на долю семьи доставались лишь бедность да неизменные неудачи. Лондон часто говорил, что не знал детства Бедность шла по пятам, самые ранние воспоминания были отравлены ею. Джон Лондон навсегда отказался от столь милой его сердцу жизни фермера и вернулся в Окленд Оставшись без Элизы, десятилетний Джек горевал о ней, не переставая. Крепкий, с темно-голубыми глазами, он стал красивым мальчиком. Драться он не любил, но в Гарфилдской школе царил раз и навсегда установленный калифорнийский обычай:все мальчишки должны драться между собой, на то они и мальчишки. Скоро и Джек научился пускать в ход кулаки. Больше всего ему нравилось охотиться на уток или удить с отцом рыбу на аламедской набережной Джон Лондон подарил мальчику маленькое ружье и удочку. Вечные несчастья, поспешные переезды семьи, чувство ужаса и отвращения к спиритическим сеансам, подозрение, что у него не такой отец, как у других, – все это сделало Джека застенчивым, скромным, несмелым. Не в силах что-либо изменить, оба – взрослый мужчина и мальчик – в равной степени страдали от Флоры и все сильнее привязывались друг к другу. Улучив свободную минутку, они вдвоем удирали из дому и целыми днями пропадали у моря Любовь и доверие отчима и пасынка друг к другу были безграничны, хотя любовь эта носила оттенок грусти. В Окленде на Семнадцатой улице Восточной стороны Лондоны сняли домик с эркером. Рядом находилась текстильная фабрика «Калифорния Коттон Миллз», куда были выписаны девушки-работницы из Шотландии. Управляющий фабрикой предложил Лондону сдавать им комнаты с пансионом Убитый, подавленный, зная, что ему никогда уже не вернуться к земле, Джон согласился Да и немного оставалось работы, за которую он мог взяться в свои пятьдесят пять лет. У Флоры была неплохая голова, и всякий раз, когда предпринималось что-то новое, она, по крайней мере сначала, умела извлечь из этого пользу. Мужа, сведущего в хороших продуктах и знавшего им цену, она посылала за покупками, а сама ведала кухней Двадцать девушек-шотландок были довольны, управляющий – тоже, а Лондоны выручили такой солидный доход, что прошел месяц-другой, и они оказались в состоянии сделать первый взнос, чтобы купить свой домик в рассрочку. Когда фабрика выписала новую партию работниц, Джон по настоянию Флоры купил участок земли по соседству и выстроил на нем еще один коттедж, где и разместились девушки. Некоторое время все шло хорошо. Второй дом принес еще больший доход: на этот раз Флора вела дело осторожнее, чем когда-либо. Но вскоре присущая ей неуравновешенность взяла верх Флора охладела к своим обязанностям. Дела поправлялись, но недостаточно быстро, а кроме того, что тут интересного – содержать пансион? Разве не найдется сколько угодно дел, с помощью которых она, с ее умом и энергией, может заработать состояние? Она начала транжирить деньги, на что – никто не знал И когда подошел срок платить по двум закладным, денег не оказалось. Банк забрал оба дома и вместе с ними последний постоянный заработок Джона Лондона. Пока предприятие родителей процветало, маленький Джек сделал великое открытие: на свете есть Оклендская публичная библиотека Вот уже пять лет как он умел читать, а попалось ему за это время всего пять настоящих книг. Все прочее составляли зачитанные грошовые бульварные романы и газеты – на фермах ничего лучшего не было. Мальчик смутно чувствовал, что есть другие, еще более прекрасные книги, но как их получить? Ему и не снилось, что на белом свете существует публичная библиотека – дом, где хранятся тысячи книг, и любую можно прочесть бесплатно, только спроси Джек считал, что его духовное рождение произошло в ту минуту, когда с шапкой в руках он, не веря своим глазам, остановился в дверях деревянного здания библиотеки. Неужели на земле может быть столько книжек? На долю будущего писателя выпали тяжкие испытания, когда он мучался, не находя себе места; его ждали поражения, его презирали, от него шарахались, как от зачумленного, но никогда уж больше с того дня он не был одинок. В публичной библиотеке он впервые встретил образованного человека – женщину, которая среди книг чувствовала себя как дома Мисс Айна Кулбрит, поэт-лауреат штата Калифорния, видела, как загораются у мальчика глаза, когда, любовно поглаживая корешки книг, он бродит вдоль полок. Раньше чем она успела прийти к нему на помощь, он уж натолкнулся на такие «взрослые» книги, как «Приключения Перигрина Пикля» Смоллетта и «Новая Магдалина» Уилки Коллинза. Вскоре, узнав, что больше всего ему хочется читать о приключениях, открытиях, путешествиях по суше и по морю, мисс Кулбрит стала откладывать специально для него множество таких книг. Джек полюбил ее всей душой. Все, что он ему давала, он старался прочесть в один день, чтобы назавтра, возвращая книги, снова увидеться с нею. Изголодавшийся по чтению мальчуган пожирал одну книгу за другой. Он читал в постели, за столом, по дороге в школу и домой, на переменах, когда другие школьники играли. Нервный, впечатлительный, обладающий богатым воображением, он радовался, что вместе с героями книг может взлетать на вершины счастья и погружаться в бездну отчаяния, когда их настигают беды и пораженья За короткое время он проглотил столько книг, что совершенно издергался, и всем твердил одно и то же: «Уходи, не раздражай меня». Начитавшись рассказов о путешествиях былых времен, о романтических похождениях мореплавателей, он пришел к опрометчивому выводу, что Окленд – самое подходящее место: отсюда он и отправится бродить по белу свету; нужно лишь ухитриться сбежать, и его ждут увлекательные приключения. Джон Лондон теперь стал безработным Пришлось искать жилье поскромнее, и семья переехала на улицу Сан-Пабло, рядом с Двадцать второй, Недалеко жила няня Дженни, и Джек часто забегал к ней. Он знал, что там можно рассказать о своих горестях и радостях, там накормят за няниным столом, причешут, хорошенько вымоют шею у раковины и отпустят, ободряюще потрепав по плечу. Отчим, как ни старался, не мог найти постоянную работу, и кормить семью стало обязанностью одиннадцатилетнего Джека Он вставал затемно, заходил за своей пачкой газет и шел разносить по адресам. После школы он совершал еще один рейс. Двенадцать долларов – плату за работу – он каждый месяц целиком отдавал Флоре. Кроме того, по субботам он работал у торговца льдом, развозившего свой товар на фургоне, а по воскресным вечерам устанавливал кегли в кегельбане. Теперь, сражаясь с другими газетчиками, наблюдая скандалы в барах, глядя на колоритные сцены оклендского порта, всегда полного судов, он знакомился с подлинной жизнью, без прикрас. В порту были китобои с Ледовитого океана, охотники за диковинками, вернувшиеся с Южных морей; контрабандисты с грузом опиума, китайские джонки, парусники из северных штатов, устричные пираты, греческие рыболовецкие фелюги, почерневшие от копоти грузовые суда, плавучие дома, шаланды, шлюпы, рыбачьи патрули, От тяжелой домашней обстановки десятилетний мальчик искал спасения в книгах о приключениях. Теперь, в тринадцать лет, он бежал из дому к морю. Джон Лондон, наконец, отыскал себе место ночного сторожа на складе Дэвис Уорф. Это не означало, впрочем, что Джек сможет тратить заработанные деньги как ему вздумается Ему никогда не разрешалось покупать игрушки, будь то волчок, шарики или перочинный нож. Поэтому лишние газеты он выменивал на вложенные в пачки сигарет серии картинок с изображениями знаменитых скаковых лошадей, парижских красоток, чемпионов бокса. Собрав полный комплект, Джек мог получить взамен вожделенные сокровища, на покупку которых его сверстникам родители давали деньги. Он стал заправским торгашом, что весьма пригодилось ему впоследствии, когда нужно было вытягивать из издателей деньги за рассказы. Он научился распознавать стоимость вещи чутьем, таким острым, что приятели-мальчишки, сбывая старьевщику собранные лоскуты, бутылки, мешки и жестянки, призывали его на помощь и платили комиссионные. Айна Кулбрит рассказывает, как в те времена он являлся в библиотеку, неся под мышкой пачку газет, – плохо одетый, неловкий беспризорник – и просил «почитать что-нибудь интересное». Он был готов наброситься на каждую книгу с заманчивым названием. Если верить мисс Кулбрит, он был самонадеян и не сомневался, что добьется успеха. Так появляется первое основное противоречие в натуре Джека: хаос, царивший дома, сознание, что он – незаконнорожденный, сделали его робким и застенчивым. Но могучий ум вселял твердость и уверенность в себе. Из того, что известно о его школьных годах, лишь немногое заслуживает внимания Его одноклассник Фрэнк Эзертон рассказывает, как однажды Джек услышал, что китайцы, члены тайного общества, набираясь сил для решительных схваток, едят мясо диких кошек и платят за него большие деньги. Друзья смастерили рогатки и стали ловить диких кошек на Пьедмонтских холмах; заработав деньги, Джек хотел бросить школу и сделаться писателем. Этот рассказ Эзертона – характерный пример воспоминаний под влиянием последующих событий, В большей степени соответствует характеру Джека Лондона другой эпизод Приятели наняли в порту лодку, отправились охотиться на коростелей и случайно уронили в воду 22-калибровый револьвер Джека. Фрэнк умел плавать, и Джек потребовал, чтоб друг нырнул за револьвером на глубину тридцать футов. Когда Фрэнк отказался, Джек в припадке ярости швырнул весла за борт, и друзьям пришлось несколько часов беспомощно болтаться на воде. В школе, каждое утро ученики пели хором. Заметив, что Джек молчит, учительница потребовала объяснений. Он ответил, что она сама не умеет петь, детонирует и только испортит ему голос. Учительница отправила его к директору, но тот отослал Джека с запиской, в которой говорилось, что можно освободить ученика Лондона от пения, но что взамен Джек должен писать сочинения каждое утро в течение той четверти часа, когда другие поют. Впоследствии Джек приписывал этому наказанию свою способность писать каждое утро тысячу слов. Наряду с книгами самой большой страстью в его жизни было море. Каждую свободную минуту он проводил в яхт-клубе, надеясь, что выпадет случай помочь любителям парусного спорта, а кстати и подработать немного для дома Владельцы яхт полюбили его за смелость: он был способен залезть на утлегарь в самую бурную погоду, нисколько не боясь вымокнуть до нитки. За небольшую плату его нанимали мыть палубу и как могли учили водить небольшие суда Вскоре он один мог взять риф во время сильного ветра. К тому времени, как ему исполнилось тринадцать лет, он ухитрился скопить два доллара – подчас он считал себя вправе не отдавать Флоре пять-десять центов. На эти деньги он купил старую лодку и стал ходить на ней по всем извилинам дельты, а иногда решался ненадолго выйти в залив. Ненадолго – поневоле: старая калоша протекала, на ней не было выдвижного киля Ее то и дело заливало водой, она врезалась в другие лодки, опрокидывалась, но испытания и ошибки стали для Джека хорошей школой Он был на верху блаженства, чувствуя, как ходят под лодкой волны, ощущая на губах соленый привкус океана Один-одинешенек на своей лодчонке, он командовал, поворачивая ее: «Круче к ветру!» Тринадцати лет он кончил начальную школу. В классе он считался знатоком истории. Произносить речь на выпускной церемонии предложили ему – без сомнений, по этой причине. Но показаться было не в чем – не нашлось приличного костюма, он не мог даже явиться на торжество. О том, чтоб поступить в среднюю школу, нечего было и думать – заработки отчима становились все более случайными. Джек продолжал разносить газеты, по вечерам продавал их на оклендских улицах, подметал в Визель-парке бары после воскресных пикников. Этот бедно одетый паренек с открытой белозубой улыбкой, стойкий, вспыльчивый, впечатлительный, брался за любую работу. Целый год, ничего не говоря Флоре, мальчик работал сверхурочно и мало-помалу скопил шесть долларов, чтоб купить подержанный ялик и таким образом обрести свободу. Еще доллар семьдесят пять центов – и он покрасил свою посудину в яркий, веселый цвет. Еще два доллара за месяц сверхурочной работы – и есть парус. Наконец удалось наскрести доллар сорок центов на пару весел – и перед ним широко распахнулся огромный заманчивый мир. Джек уходил все дальше по заливу Сан-Франциско, рыбачил во время отлива на острове Гоут Айленд и возвращался вечером, вместе с приливом, вслед за последним паромом. Ветер венчал могучие волны белыми шапками, обдавал Джека брызгами, лодку заливало водой, а он распевал морские песни вроде «Снесло его ветром» или «Виски, Джонни, виски». В открытом ялике он пересекал залив при сильном юго-западном ветре, и матросы с рыбацких шхун говорили, что он плетет небылицы, потому что проделать такое невозможно. Он был не просто храбр – он был безрассуден. Чем сильнее была непогода, тем отчаяннее он рисковал. Вечно размышляя о том, кто же он такой в самом деле, он мысленно называл себя викингом, потомком могучих мореплавателей, в открытой лодке пересекавших Атлантический океан. «Я сын воинственного народа, – говорил он себе, – я англосакс и ничего не боюсь». Так как он действительно ничего не боялся и будто сроднился с морем, он сделался одним из самых искусных лодочников на коварных водах залива. В том году ему каждый день удавалось урвать для своей любимой лодки час или два – от продажи газет, от случайной работы Но вскоре – Джеку не было еще пятнадцати лет – отчим попал под поезд и получил тяжелые увечья Теперь Лондоны жили в старом домишке на берегу и терпели самую беспросветную нищету и лишения Поблизости было много лачуг, построенных из обломков потерпевших крушение или отслуживших свое судов. В доме было запущено, грязно; Джек ходил в лохмотьях, непрестанно терзаясь голодом – духовным и физическим. Он нашел постоянную работу на консервной фабрике, ютившейся в заброшенной конюшне у полотна железной дороги. Платили ему там десять центов в час, а его рабочий день – самый короткий – продолжался десять часов, случалось работать и двадцать. Порой несколько недель подряд не удавалось кончить работу раньше одиннадцати часов ночи и предстояло еще проделать длинный путь пешком домой: на трамвай денег не хватало. В половине первого он добирался до постели, а в половине шестого Флора уж трясла его за плечо, стараясь сорвать со спящего мальчика одеяло, за которое он отчаянно цеплялся. Свернувшись калачиком в постели, Джек все-таки залезал под одеяло. Тогда собравшись с духом, Флора стягивала одеяло на пол. Спасаясь от холода, мальчик тянулся вслед, казалось, он вот-вот упадет. Но вспыхивало сознание, он успевал вовремя встать на ноги и просыпался. Одевшись в темноте, он ощупью шел на кухню к осклизлой раковине. Обмылок, зловеще-серый от мытья посуды, не пенился, несмотря на все усилия От сырого полотенца, грязного и рваного, на лице оставались волокна Он садился за стол и получал кусок хлеба и чашку горячей бурды, ничем не напоминавшей кофе. На улице было ясно, холодно; он зябко ежился Звезды еще не побледнели, город лежал, погрузившись во тьму. В фабричных воротах Джек всегда оглядывался на восток: между крышами на горизонте тускло брезжил рассвет. 1 января 1891 года он завел у себя в записной книжке раздел под названием «Приход и расход». Под рубрикой «Приход» значигся сумма в пятнадцать центов. С 1 по 6 января он истратил пять центов на лимоны, десять – на молоко и хлеб. Это было все, что он мог купить до новой получки. Десять с половиной долларов из этой получки были отданы за квартиру, потом он купил масла, керосину, устриц, орехов, пончиков и другой снеди. Двадцать пять центов стоили пилюли для Флоры. Среди других расходов записаны пятьдесят центов за стирку; по-видимому, Флора не особенно утруждала себя, чтобы свести концы с концами. Неделя за неделей, месяц за месяцем – время шло утомительно долго. Джек тянул свою лямку. Он больше не мог бывать в библиотеке, читал по ночам, засыпал над книгой Измученный, он спрашивал себя: в том ли заключается смысл жизни, чтоб стать рабочей скотиной? Сильный, коренастый, он мог трудиться как чернорабочий, но интеллект, темперамент, воображение – все восставало в нем против механического труда. Ему вспоминался ялик, бесцельно стоящий у лодочной пристани и обрастающий ракушками, вспоминался ветер на заливе, восходы и закаты, которых он никогда теперь не видит; острое, Как ожог, прикосновение соленой воды к телу, когда ныряешь за борт. Уйти в море – это значило уйти от тупой, однообразной работы и все-таки поддерживать семью. По его собственным словам, то была пора расцвета его юности, когда им владела жажда приключений, мечта о вольной, полной опасностей жизни. По воскресеньям, когда он выходил прогуляться на ялике и околачивался невдалеке от берега, ему случалось сталкиваться с пиратамиустричниками Это была компания любителей выпивки, авантюристов, искавших легкой наживы Они устраивали набеги на чужие устричные садки в устье залива и по хорошей цене сбывали добычу на оклендской пристани. Джек знал, что они редко добывают меньше двадцати пяти долларов за ночь «работы». А со своей лодкой можно выручить и двести долларов с одного «улова». Услышав, что один из бывалых пиратов по прозванию Френч Фрэнк («Француз») хочет продать свой шлюп «Рэззл-Дэззл» («Пирушка»), Джек мгновенно решился: «Куплю!» Он не умел прислушиваться к строгому голосу дисциплины, заставлявшей его товарищей крепко держаться за свою изнурительную, зато честную работу. Но где мальчишке, считающему каждый грош, добыть триста долларов? И он прямым сообщением отправился к няне Дженни. Она работала медицинской сестрой. Может ли она одолжить деньги своему белому сыну? Что за вопрос! Все, что есть у няни, принадлежит ему. В ближайшее воскресенье Джек сел за весла и в самый разгар веселой попойки явился на «Рэззл-Дэззл» со своим предложением. Наутро он встретился с Френч Фрэнком в пивной «Ласт Чане», чтоб уплатить за покупку блестящими двадцатидолларовыми золотыми няни Дженни. Едва спрыснув сделку – это был первый в его жизни глоток виски, – Джек со всех ног помчался к пристани, в одно мгновение поднял якорь и, повернув реи так, чтоб паруса взяли крутой бейдевинд, трехмильными галсами вышел на ветер, в залив. Острый бриз рябил фарватер, врывался в легкие, гнал рыбацкие шхуны, гудевшие, чтобы развели мосты. Стремительно шли мимо краснотрубые буксиры, покачивая «Рэззл-Дэззл» в кильватере. От склада тянули барку с грузом сахара. На воде сверкало солнце, вокруг пенилась, бурлила, кипела жизнь. Вот он, весомый, осязаемый, мятежный дух романтики и приключений! Завтра он станет устричным пиратом, морским разбойником, вольным как ветер, если это возможно в его время и на этих предательских водах. Поутру он запасется водой и провиантом, поднимет большой гротпарус и, захватив конец отлива, выйдет навстречу ветру. А после, едва начнется прилив, он сбавит паруса, спустится вниз по заливу к острову Аспарагус Айленд и встанет на якорь в открытом море Наконец-то сбудется его мечта: он проведет ночь на воде.Ирвинг Стоун
II
К своему изумлению, Джек обнаружил, что, купив у Френч Фрэнка за триста долларов «Рэззл-Дэззл», он получил в придачу и «королеву» устричных пиратов. Мэми была подружкой Френч Фрэнка, но вот Джек явился на «Рэззл-Дэззл» договориться о покупке, и, взглянув в открытое лицо красивого парня, Мэми влюбилась. Ей было шестнадцать лет, этой хорошенькой, своенравной девчонке без роду, без племени. Джек рассказывал, что она была добра и сердечна В маленькой каютке на «Рэззл-Дэззл» она устроила ему настоящий дом – первый в жизни теплый домашний очаг. Джек был самым молодым из пиратов, на других судах женщин не было, и он был вынужден не только кулаками защищать свое право оставить подружку на шлюпе, но даже чуть не погиб от руки ревнивого Френч Фрэнка. В ту ночь Джек впервые вышел на «промысел», имея на борту и качестве команды черноусую портовую крысу по кличке «Спайдер» («Паук»). Спайдер и раньше служил на «Рэззл-Дэззл» и согласился остаться при новом хозяине. Собрались пираты: Большой Джордж, Сатана Нельсон-младший, Устрица, Виски Боб, Ники Грек и еще человек двенадцать; кое-кто из бывших заключенных – все ребята не робкого десятка, рослые, в морских сапогах, в рыбацкой одежде, с пистолетами за поясом. Наметили план действий, и под прикрытием темноты флотилия тронулась Шел большой отлив июньского полнолуния; в Ловер Бей – низовье залива – на воду спустили лодки и гребли, пока днища не уткнулись в мягкий ид Джек втащил свой ялик на большую отмель, поближе к берегу, и начал собирать устриц Мешок мигом наполнился; пришлось вернуться на судно за новым. На заре он поспешил назад в Окленд к раннему базару, где хозяева пивных и гостиниц покупали устриц. Продав свой улов, он обнаружил, что за одну ночь получил столько же, сколько на консервной фабрике за три месяца работы – разве не удачное приключение, да еще в пятнадцать лет! Он возвратил няне Дженни часть долга, а остальные отдал на хозяйство Флоре. За несколько недель Джек прочно утвердился среди самых отчаянных пиратов. Френч Фрэнк попробовал было налететь на «Рэззл-Дэззл» со своей шхуной, потопить ее и забрать Мэми Но на палубе «РэззлДэззл» стоял Джек с наведенным на Френч Фрэнка дробовиком в руках, придерживая ногой румпель, чтоб судно держалось по курсу. Пятидесятилетнему сопернику волей-неволей пришлось повернуть штурвал и впредь держаться подальше. Как забыть то утро, когда гордый Джек привел «Рэззл-Дэззл» к берегу с таким большим грузом, на который почти невозможно рассчитывать, когда твоя команда состоит из одного человека! А ночь, когда пираты ходили в Ловер Бей и только судно Джека успело к рассвету на якорную стоянку у Аспарагус Айленд! А памятный четверг, когда флотилия полным ходом неслась к началу базара! На «Рэззл-Дэззл» не было руля, но первым пришел Джек и «снял сливки», продав свой товар без конкурентов ранним утром в пятницу. Когда на палубу являлись полисмены, он вскрывал отборных устриц, обильно сдабривал их перцем, ставил на стол и, не давая гостям опомниться, все подливал им в кружки пива из большого кувшина Он был общительным пареньком, любил своих друзей пиратов и хотел, чтобы они любили его. Когда они пили, пил и он, они напивались, и пятнадцатилетний Джек, стараясь доказать, что он мужчина, пил наравне с завзятыми пьяницами. За ним укрепилась слава одного из искуснейших моряков, беспощадного в драке и в то же время любителя посмеяться вовсю. Теперь его считали своим, относились как к равному. В промежутках между набегами, когда флотилия стояла у причала, он шел в Оклендскую библиотеку, подолгу разговаривал с мисс Кулбрит и отбирал пачку книг домой, на «Рэззл-Дэззл» У себя в каютке он запирался, чтоб приятели не застали его врасплох, ложился на койку и принимался глотать книгу за книгой, заедая их леденцами и тянучками. В пиратской флотилии то и дело случались попойки, вспыхивали драки с поножовщиной и стрельбой: то уведут чужое судно, то подожгут парусник, а то, глядишь, повздорили компаньоны, среди команды завязалась ссора – и готово удар ножа, убийство. Для Джека это и была настоящая жизнь, без прикрас, вольная и дикая, недаром он зачитывался рассказами о морских скитальцах и разбойниках, о городах, отданных победителю на грабеж и разрушение, о кровопролитных схватках. От песчаных карьеров на отмелях оклендской дельты, где пираты-устричники сводили счеты, где сверкали ножи и противнику швыряли в глаза песок, шел прямой путь к подвигам, необъятным, как сам мир, где сражаются во имя любви, ради высоких, благородных целей. Долгие месяцы ходил Джек на своей «Рэззл-Дэззл», выплачивал долги няне Дженни, кормил семью, сотни раз пускался в опасные авантюры и душа в душу жил с Мэми в каютке своего шлюпа Спустя некоторое время он подружился с двадцатилетним головорезом, носившим имя Сатана Нельсон-младший Джек с восхищением смотрел на старшего товарища, синеглазого и светловолосого, поджарого, могучего, как Геркулес Настоящий викинг! Во время пьяной потасовки, в которой принимала участие вся пиратская флотилия, Сатане Нельсону прострелили руку, а его судно «Реиндир» («Северный олень») село на мель и дало пробоину Джек подрался со своей «командой», то есть со Слайдером, и Слайдер поджег большой грот-парус «Рэззл-Дэззл», а потом удрая Тотчас же на палубу хлынула ватага пиратов из другой враждующей команды, пробила у «Рэззл-Дэззл» борт, подожгла и затопила судно Тогда Джек с Сатаной Нельсоном сообща отремонтировали «Реиндир», заняли у Джонни Хейноулда, хозяина кабачка «Ласт Чане», денег, чтобы купить провиант, набрали в бочонки свежей воды, и, подняв паруса, «Реиндир» отправился к устричным садкам. Ничто на свете не доставляло Сатане Нельсону такой радости, как водить свое судно на волосок от гибели! Были у него и другие странности например, каким бы бурным ни было море, он никогда не брал риф Сколько раз они просто чудом спасались от верной смерти! Никому и в голову не пришли бы затеи, на которые отваживался Сатана Нельсон. Джек ни на шаг не отставал от него, мало того, он стремился превзойти своего капитана Разве он, подобно Нельсону, не был бесстрашным викингом? Они совершали свои пиратские набеги, рыская вверх и вниз по судоходным бухточкам и проливам. На сотни миль уходили они вдоль речек, впадающих в залив, и в одну ночь набирали добычи не меньше чем на сто восемьдесят долларов Тем не менее они вечно сидели без денег стоило сойти на берег, как этот бешеный Нельсон пускался в отчаянный разгул, ища тех же острых ощущении, которыми наслаждался, играя на море в прятки со смертью и каторжной тюрьмой. Джек считал, что и на суше не годится отставать от приятеля тот – стакан виски, он – два, хотя, по правде говоря, у него никогда не было особого желания напиваться. Вскоре он уже без труда глотал противное, неразбавленное виски. Он полюбил чувство опьянения, дикий смех и песни, буйные драки, случайных друзей. Причудливые фантазии, возникавшие в его мозгу, заставляли его, как ему казалось, говорить с особым блеском. Как только они исчезали, он вновь напивался Он всегда был человеком крайностей, и неуверенность в себе принуждала его доказывать себе самому и другим, что он не хуже, а лучше остальных, что для него нет ничего невозможного Король пиратов должен был стать королем пьяниц. Семья бедствовала, но Джек не заботился о ней, спуская в барах деньги, необходимые на еду и квартиру Видавшие виды «старики» с набережной, сами люди пьющие, негодовали, глядя, с какой неслыханной быстротой спивается пятнадцатилетний морячок – их недавний подсобный рабочий Ему сулили год жизни, не больше Как-то ночью, промотав все деньги, мучаясь жаждой, но, как все пьяницы, надеясь, что стаканчик все-таки случайно перепадет, они с Сатаной Нельсоном сидели в пивной Оверленд Хаус Неожиданно ворвался Джо Гусь с новостью есть случай выпить бесплатно и сколько душе угодно – на политическом митинге в Хеиварде Нужно лишь надеть красную рубашку, пожарную каску на голову и нести на параде факея Только и всего! После парада открылись ресторанчики, и компания с оклендской набережной переходила из одного в другой, плотным кольцом окружая стоики, залитые виски. Но Джеку с приятелями такой способ показался недостаточно быстрым, и, оттеснив буфетчика, они стали сами брать с полок бутылки. Потом всей ватагой шли на улицу, отбивали у бутылок горлышки о цементную обочину тротуара и пили. Джо Гуся и Сатану Нельсона жизнь научила осторожно обращаться с неразбавленным виски. Джека – нет Раз виски ничего не стоит, значит, нужно пить сколько влезет За эту ночь он влил себе в глотку больше двух кварт Когда пришло время возвращаться в Окленд, он почувствовал мучительное удушье, все нутро его горело В поезде он разбил факелом окно, чтобы глотнуть воздуха; это послужило началом пьяной потасовки, в которой его так двинули, что он потерял сознание. Семнадцать часов спустя он очнулся в приморской ночлежке, куда его приволок Сатана Нельсон. Он был так близок к смерти, что еще шаг – и исполнилось бы предсказание старожилов с набережной: этот не протянет и года. Будь Джек таким же, как и другие пираты, он продолжал бы ходить на «промысел» и пить, пока пуля в голову не уложила бы его, как Сатану Нельсона, на скамью в морге беницийского судебного участка Он мог утонуть или погибнуть от ножа в спину, как его друзья Устрица и Виски Боб; мог, как Слайдер и Ники Грек, кончить тюрьмой Сан-Квентин, куда попадали за дела посерьезнее, чем устричный «промысел». Но что-то в нем восставало против бессмысленного прожигания жизни, влекло к неизведанным землям, к жизни более достойной. После каждой попойки с Сатаной Нельсоном он забивался в каюту «Рейндира», запирал дверь и раскрывал свои любимые книги. Мутило от виски, но книги, новые томики исцеляли его: «Свет погас» Киплинга, «Тайпи» Мелвилла, «Жерминаль» Золя, «Социалист-любитель» Шоу. Айна Кулбрит отложила их для него, когда, свеженькие, еще сохранившие запах влажной типографской краски, они прибыли из Нью-Йорка. Медленно, ощупью старался Джек выкарабкаться на другую дорогу, когда с ним случилось одно происшествие. Выдался богатый улов, и они с Сатаной Нельсоном на три недели погрузились в беспробудное пьянство, перемежавшееся, как выразился сам Джек, редкими моментами частичного отрезвления Как-то в час ночи, мертвецки пьяный, он, спотыкаясь на каждом шагу, тщетно пытался взобраться на палубу своего шлюпа у пристани в Бениции и сорвался в воду. Его захватило кипящим водоворотом Каркинесского пролива и понесло по течению. Потом он вспоминал, как в припадке отчаяния решил, что утонуть – это было бы самым блестящим завершением его короткой, но бурной карьеры. Находиться в воде – блаженство само по себе, а, кроме того, ведь именно так и умирают герои! Когда его проносило мимо людной, ярко освещенной набережной Салано, он ухитрился двигаться бесшумно. Его не обнаружили, опасность миновала, и он обратился к далеким звездам с панихидой по самому себе, радуясь превосходной идее распрощаться со всем и вся Освещенный сиянием звезд, он лежал на спине, глядел, как проплывают мимо знакомые огни набережной, красные, зеленые, желтые и меланхолично посылал каждому огоньку сентиментальное «прости». Однако холодная вода отрезвила его, и он пришел к выводу, что умирать все-таки не стоит. Сняв с себя одежду, он рывком повернул к берегу поперек течения На заре он оказался в бурных водах у острова Мэр Айленд, где сталкивались в яростной схватке стремительные потоки из Каркинесского пролива и пролива Вальехо. Он выбился из сил, окоченел от холода. Ветер с суши гнал рябь, вода попадала в рот. Еще несколько мгновений – и замечательные романы «Зов предков», «Морской волк», «Железная пятя», «Мартин Идеи», «Лунная Долина», «Время-не-ждет», «Межзвездный скиталец» и сто великолепных рассказов в придачу скрылись бы в волнах залива Сан-Пабло. К счас!ью, его заметили с греческой рыбачьей лодки, возвращавшейся с уловом в Вальехо, и втянули его, бесчувственного, через борт. Безудержному пьянству был положен конец на много лет. Несколько дней спустя, когда с грузом устриц Джек и Сатана Нельсон шли к Беницийской пристани, их окликнул таможенный чиновник и предложил оставить сомнительное ремесло устричных пиратов и стать агентами службы рыбачьего патруля Залив Сан-Франциско был битком набит греческими браконьерами – ловцами семги, китайцами – охотниками за креветками, нарушавшими государственные законы рыбной ловли. Поймав с поличным, их не сажали в тюрьму, а штрафовали Условия работы были таковы: Джек получает половину суммы, изъятой у пойманных нарушителей. Одна сторона игры в «полицейские и воры» была Джеку основательно знакома, он с радостью согласился и был назначен агентом патрульной службы. Его,первым заданием была облава на китайских креветчиков, расставлявших сети с такими мелкими ячейками, что сквозь них не проходили даже мальки. Джек, Сатана Нельсон и еще четыре агента на «Рейндире» и на рыбачьей шаланде вышли с наступлением темноты, встали на якорь под отвесным утесом мыса Пиноль и на рассвете с береговым бризом наискось пересекли залив. Впереди, растянувшись полумесяцем мили на три, лежала флотилия креветчиков. Каждая джонка крепко держалась на поплавках сети, расставленной для ловли креветок. Китайцы спали в трюмах. Джеку было велено сбросить на одну джонку Сатану Нельсона, на другую – патрулыцика Джорджа, а самому водвориться на третьей. Подойдя к первой джонке с подветренной стороны, он развернул гротпарус по ветру и стал скользить вдоль кормы таким тихим ходом, что Сатана Нельсон легко ступил на палубу джонки. Но тут в морскую раковину затрубили тревогу; на палубы высыпали полуодетые китайцы. Джек подвел «Рейндир» к другой джонке, чтоб дать Джорджу прыгнуть на палубу. Потом, выбрав грота-шкот, он полным ходом понесся против ветра прямо на джонку, стоявшую с подветренной стороны. Суда с треском столкнулись, смяв оба трала по правому борту джонки. Зловещего вида рябой китаец, повязанный шелковым желтым платком, испустив леденящий душу вопль ярости, уперся в нос «Рейндира» остроконечным шестом и принялся расталкивать сцепившиеся лодки. Джек на несколько мгновений замешкался, чтобы опустить кливерфал, и в тот самый миг, когда «Рейндир» стал отходить от джонки, перемахнул на нее с линем в руках и закрепил линь. Безоружный, стоял он один лицом к лицу с пятеркой угрожающе надвинувшихся на него китайцев. За поясом у каждого был заткнут длинный нож. Не двинувшись с места, Джек выразительно опустил руку в карман. Китайцы отступили. Он потребовал, чтобы с носа джонки был спущен якорь. Они отказались. Тогда Джек прошел вперед, бросил якорь и, не вынимая руки из пустого кармана, заставил китайцев погрузиться на «Рейндир». Затем он подошел к другой джонке, где под дулом пистолета, наведенного Джорджем, сбились в кучку китайцы. Креветчик в желтой повязке как бы невзначай задел Джека и, убедившись в том, что он безоружен, тут же стал подговаривать своих скрутить и сбросить за борт обоих патрулыциков. Джордж – у него-то как раз был револьвер – струсил и потребовал, чтобы Джек высадил китайцев на отлогий берег у мыса Педро. Джек отказался, и тогда Джордж направил револьвер на товарища. – Ну как, и теперь не повернешь к берегу? Револьвер и шестнадцать вооруженных ножами китайцев… Упустить пойманных с поличным? Позор! Джек внезапно выбросил руку вверх и низко опустил голову. Пуля не задела его, пройдя слишком высоко. Он схватил Джорджа за запястье, и тут на него бросились китайцы Джек круто повернул Джорджа, чтоб удар пришелся на него,и, выхватив оружие, толкнул недавнего товарища на Желтую Повязку. Китаец споткнулся и вслед за Джоржем рухнул на палубу. Воспользовавшись моментом, Джек навел на своих пленников револьвер. На его долю из штрафа досталось почти сто доллароа Приключениями подобного рода изобиловали и последующие месяцы. Был случай, когда ему пришлось, спасая жизнь, мчаться вдоль набережной Мартинис. По пятам с ревом неслась орава рыбаков: он только что поймал двоих на месте преступления и арестовал их. В другой раз он застиг двух браконьеров за незаконной ловлей осетра и в погоне за ними долго кружил вокруг судна, груженного пшеницей. Однажды он так и не смог угнаться за двумя рыболовами, вооруженными запрещенной снастью. Они брали осетра, как полагалось, на удилище, но зато поднимали на крючках больше тысячи фунтов рыбы. Несколько месяцев работал Джек в патрульной службе, сталкиваясь в повседневной жизни на море и на суше с честными, бесстрашными патрулыциками, с игроками, матросами, содержателями баров, рыбаками, портовыми грузчиками, штурманами океанских судов. Эти люди видывали виды. Не было в мире порта, куда бы они не заходили, и в каждом были новые женщины, новые, необыкновенные приключения Кровавая драка, тайное убийство – им было знакомо и это. Всякий раз, выходя на «Рейндире» в залив или возвращаясь на берег, Джек проходил мимо Золотых Ворот, пролива, ведущего в Тихий океан За этими Воротами – Восток с его тайнами и опасностями. Это о них так красочно рассказывали бывалые люди, это они вставали перед ним со страниц библиотечных книг. Джеку было семнадцать лет Рослый, сильный, отважный, он выглядел и чувствовал себя мужчиной. Он хотел увидеть мир, и лишь один путь вел к этой заманчивой цели. С той самой минуты, когда, купив за два доллара дырявый ялик, он четыре года тому назад вышел в залив, судьба Джека была решена: ему на роду было написано ходить по морям. На доках Сан-Франциско швартовались шхуны, грузовые суда, пассажирские пароходы: было из чего выбирать. И Джек выбрал самый романтический корабль из всех, один из последних парусников, державший курс на Корею, Японию, Сибирь бить котикоа Он не зря без конца перечитывал «Моби Дик» – роман Мелвилла «Софи Сазерленд» была быстроходной шхуной водоизмещением в восемьдесят тонн. Необъятные полотнища парусины тянулись на сотню футов от палубы до клотика главной стеньги. В каюте на баке, где Джек оставил рундук с пожитками, с обеих сторон до самого носа стояли койки; штормовки, морские сапоги, фонари висели по стенам. Джек, никогда не выходивший из Золотых Ворот, записался все-таки матросом первого класса, чтоб получать по более высокой ставке. Другие члены команды провели на море не один год; корабельная сноровка досталась им ценой долгих и тяжелых испытаний. По большей части это были сухие, костлявые ребята, выходцы из Скандинавских стран В море они ушли подростками; став моряками, они считали, что подростки должны им прислуживать. Они были возмущены, что этот молокосос считает себя настоящим матросом. Плохо пришлось бы Джеку, если бы он не сумел доказать, что знает свое дело! На шхуне в открытом море, где некуда бежать, его за семь месяцев замучили бы до полусмерти! Но Джек долго терся среди моряков и хорошо изучил их несложную психологию. Он твердо решил работать так, чтобы переделывать ничего не приходилось. Когда тянули швартовы, он не просто делал вид, что тянет, а действительно трудился вовсю. Он знал, что глаза товарищей украдкой, но придирчиво следят за ним, и поставил себе за правило, когда наступала его вахта, выходить на палубу с первыми вахтенными, а в кубрик спускаться с последними, никогда не оставляя за собой незакрепленные шкоты или другой такелаж Он был всегда готов взобраться по вантам, чтоб выбрать или потравить марселя; очень скоро понял назначение нескольких новых для него снастей и мог назвать все румбы компаса. На третий день пути, когда у руля была его смена, «Софи Сазерленд» попала в шторм. Капитан сомневался, сможет ли семнадцатилетний матрос держать корабль по курсу при яростном ветре и большой волне, но, последив за рулевым минут пять, одобрительно кивнул головой и пошел вниз ужинать. Джек сражался со штормом. На палубе не осталось ни души. Ветер хлестал в лицо, растрепавшиеся волосы лезли в глаза, а Джек ликовал: ему доверили судьбу всей команды. Целый час он вел судно по курсу. Ни одной победой в жизни не был он так горд и доволен! Но вот улеглась буря, «Софи Сазерленд» бойко шла вперед, и Джек по лицам товарищей заметил, что прежней неприязни как не бывало. Иной раз, правда, не обходилось без потасовок: в узком кубрике было тесно, недолго и ногу отдавить, а этого норовистый матрос первого класса спустить не мог. Но, вообще говбря, путешествие оказалось очень удачным. После шторма выдались погожие деньки – пятьдесят один день безоблачного пути По ночам Джек лежал у себя на баке, заложив руки за голову и глядя в небо. Звезды светили ярко, близко, как будто кто-то нашил их на парусину, растянув ее, как тент над кораблем. В теплые дни матросы раздевались догола на палубе и окатывали друг друга из ведра соленой водой. Джек подружился с Большим Виктором и Акселем; в тот рейс их звали не иначе, как Неразлучная Тройка. Приятно проводить часы на баке, слушая, как товарищи плетут морские небылицы о страшных бурях и неслыханных уловах. Когда станет скучно, можно пройти на корму, где, развесив ружья по стенам кубрика, улеглись на свои койки охотники У них всегда в запасе уйма необыкновенных историй, а кулаки хранят следы тысячи потасовок. Поздно ночью, сменившись с вахты, когда по всему баку раздавался богатырский храп, Джек уходил в другую жизнь – легко и незаметно, так же как в то время, когда был устричным пиратом. Пристроившись с книгой на носу, у фальшборта, держа в одной руке блюдечко с горящим фитилем, а другой переворачивая страницы, он ночи напролет читал рассказы Мелвилла и Джекобса, купленные на аванс, читал «Мадам Бовдри» Флобера и «Анну Каренину» Толстого, взятые из личной библиотеки мисс Кулбрит. Наконец «Софи Сазерленд» миновала вулканические рифы архипелага Бонин и, пройдя между рифами в закрытую гавань, где стояли десятка два таких же морских бродяг, бросила якорь. По заливу на остроносых каноэ сновали туземцы, крутились японцы в сампанах. Семилетним мальчиком, прочитав «Африканские путешествия», Джек начал мечтать. Прошло десять лет, и он пробил себе дорогу на край земли и теперь своими глазами увидит все, о чем раньше читал в книгах. Он дрожал от нетерпенья – так хотелось сойти на берег и подняться по дороге, терявшейся в зеленом ущелье, возникавшей снова на каменистом склоне, бежавшей наверх среди пальм и цветов, мимо незнакомых туземных деревень. Наконец-то он выйдет удить рыбу на сампане! Неразлучная Тройка сошла на берег. Джек был приятелем, значит, оба – Большой Виктор и Аксель – должны пригласить его выпить. Они тоже были .его друзьями, значит, и ему следовало поставить бутылочку. У стойки им встретились знакомые с набережной Сан-Франциско, попутчики по другим рейсам, друзья по устричному промыслу. После каждой встречи полагалось снова выпить – что еще может быть лучше на свете, чем добрые товарищи? «Софи Сазерленд» простояла в заливе архипелага Бонин десять дней, но Джек так и не поднялся по дорожке, вьющейся среди цветов вдоль деревушек. Зато он завел сотни друзей среди китобоев, надлушался бесчисленных историй, вволю покутил с приятелями, участвовал в опустошительном набеге на туземное селение, распевал под звездами разухабистые хоровые матросские песни, был ограблен мальчишками – беглыми юнгами, – короче говоря, вел себя, как старый морской волк. Набрав в бочонки воды, «Софи Сазерленд» полным ходом пошла на север. Джек, которому предстояло работать на веслах, много дней трудился, обтягивая весла кожей и оплетая уключины, чтобы бесшумно подкрадываться к котикам. Настал день, когда впередсмотрящий разглядел вдали японские берега, и тут они наткнулись на огромное стадо котиков. Вместе со стадом они шли на север, преследуя котиков до самых берегов Сибири, безудержно опустошая стадо, убивая и снова убивая, выбрасывая освежеванные туши акулам, засаливая и складывая шкурки. Доставив охотника обратно на шхуну, Джек принимался орудоватьдлинным, как у мясника, ножом, освежевывая котиков. Каждый день приходилось работать на скользкой от жира и крови палубе, заваленной шкурками и тушами. Из шпигатов алыми потоками хлестала кровь. Это была жестокая, грубая работа, но в глазах Джека она превращалась в славное приключение. Он наслаждался каждой минутой. Прошло три месяца, и котики отправились в лучший мир, а «Софи Сазерленд» – на юг, держа курс на Иокогаму, с горой шкур на борту и солидной выручкой в перспективе. В Иокогаме бок о бок с теми, кто вместе с ним смотрел в лицо смерти, Джек пил и усмехался украдкой, вспоминая, как всего пять месяцев назад его считали мальчишкой, не имеющим права называться моряком. Вернувшись в Сан-Франциско, он поставил приятелям по бутылке виски, распрощался, сел на паром и отправился домой, в Окленд Семья была по горло в долгах, кое-как перебиваясь на несколько долларов – жалованье Джона Лондона, служившего констеблем Бруклинского района. Из денег, заработанных на «Софи Сазерленд», Джек заплатил по счетам, купил себе подержанную шляпу, пальто, фуфайку, две рубашки по сорок центов, две смены белья по пятьдесят. Оставшиеся деньги он отдал Флоре. Пылкое увлеченье миром оклендской набережной остыло; кончилась тяга к бродячей жизни. Несколько дней он блаженствовал среди книг. Потом взялся за дело. Время было тяжелое: финансовая паника 1893 года повергла страну в жестокую депрессию; восемь тысяч предприятий потерпели крах, в том числе много банков. Предприятия, кроме самых необходимых, закрылись: возросло число безработных. Тех, у кого была хоть какая-то работа, считали счастливчиками. Десять центов в час – вот самое большее, на что мог рассчитывать в Окленде здоровый мужчина Рабочие бастовали, капиталисты отвечали локаутами, и возможность получить работу с каждым днем отдалялась. Единственное, что удалось найти Джеку, было место на джутовой фабрике: десять центов в час, один доллар за десять часов работы Станки на фабрике стояли бесконечно длинными рядами Торопливо вращались веретена; в теплом, влажном воздухе летали густые хлопья корпии. В непрерывном шуме приходилось кричать во все горло, чтобы тебя услышал сосед У станков стояли дети всех возрастов, начиная с восьмилетних. Изнуренные постоянным недоеданием, искалеченные машинами, страдающие рахитом и чахоткой, они работали шестьдесят часов в неделю, чтобы получить два доллара Примерно в этот период Джека стали, как он любил говорить, «волновать неведомые склонности и молодые силы» – эту довольнотаки вычурную фразу следовало понимать так: он стал интересоваться девушками. На «Рэззл-Дэззл» матросом была Мэми. Знал он и других видавших виды женщин с залива Сан-Франциско. Теперь семнадцатилетний парень вдруг стал стыдиться грубых привычек, которые перенял у своих неотесанных дружков, и в обществе самой обыкновенной вежливой девушки умирал от смущения. Прежде он так старался поскорее стать мужчиной и так был занят этим, что решительно ничего не знал о девушках. Он был «с той стороны» и поэтому имел мало шансов познакомиться с хорошенькими, милыми и чистенькими девушками, которые ему теперь нравились. У него появился новый приятель, кузнец-подмастерье Льюис Шатток. По словам Джека, этот малый был непревзойденным мастером всяких безобидных затей и считал себя умудренным опытом, бывалым горожанином Льюис сделался наставником Джека После работы молодые люди шли домой ужинать. Потом, умытые, в свежих рубашках, они покупали в кондитерской сигареты и сладости Пойти к какой-нибудь девушке домой, в гости? Не пустят. На танцы? Но обоим приходилось дома платить за еду и квартиру, так что карманных денег оставалось всего центов семьдесят пять. Вечерами обивалось только прохаживаться по улицам. Льюис все старался показать приятелю, как бросить красноречивый взгляд, как улыбнуться, приподнять шляпу. Смотришь, тебя и заметят: вот послышался нерешительный смешок – тут-то и надо заговорить. Но Джек был скромен и застенчив. Девушки оставались для него чем-то удивительным и недоступным; в решающий момент присутствие духа изменяло ему, самоуверенный вид сменялся робким, а развязность, совершенно необходимая в подобных случаях, исчезала бесследно. Кое с кем он все же познакомился. Изредка он приглашал какуюнибудь девушку в Блер-парк. Трамвай – двадцати центов как не бывало! Мороженое – две порции – тридцать центов… и потом всю неделю сиди без гроша. Его слабостью были ирландки; в записной книжке появились адреса: Нелли, Долли, Кэти – фабричные девчонки, которым нравилось, что он без устали танцует, нравились его шутки и заразительный смех. А ему больше всех нравилась Лиззи Коннеллон, гладильщица из одной оклендской прачечной. У Лиззи было славное личико и острый язык: за словом она в карман не лезла Она подарила Джеку свое золотое кольцо с камеей, чтобы все видели, кто ее дружок. Наконец пришла любовь. Ее звали Хейди. На собрании Армии Спасения они случайно оказались рядом, Джек и эта шестнадцатилетняя девушка в шотландском беретике и юбке, доходящей до края высоких шнурованных ботинок. У нее было тонкое овальное лицо, красивые карие глаза, каштановые волосы и нежный рот. Джек влюбился с первого взгляда. Они встречались украдкой, на полчаса, и он до конца изведал все сумасшествие юношеской любви. Он не был уверен, что это самая глубокая любовь, но что эта была любовь сладостная – он ни минуты не сомневался. Его называли Королем устричных пиратоа Он мог наравне с настоящими мужчинами идти куда угодно, хоть на край света, умел водить корабли, оставаться на палубе в шторм и непогоду. Он бывал в самых темных портовых притонах, мог постоять за себя в любой перепалке с отпетыми головорезами, «свистать» всю команду к стойке. Но как себя вести с этой тоненькой девочкой, безгранично несведущей в житейских делах – в такой же мере, в какой, как ему казалось он был искушен и опытен, – этого он не ведал Им и встретиться-то удалось всего раз десять и столько же раз обменяться поцелуями – короткими, невинными и необыкновенными. Они нигде не бывали, даже на дневных представлениях. Он тешил себя уверенностью, что она, конечно, любит его. Сам-то он ее любил, в этом не было никаких сомнений. Больше года он мечтал о Хейди во сне и наяву. Она навсегда осталась для него дорогим воспоминанием. Как-то вечером Флора, прекрасно помнившая, что отец Джека писал книги, вошла к сыну с номером газеты «Сан-Франциско Колл» и принялась уговаривать его написать чю-нибудь и послать на конкурс, объявленный газетой. Несколько мгновений Джек колебался. Но тут в его памяти всплыл тайфун, с которым «Софи Сазерленд» пришлось сразиться у берегов Японии. Присев у кухонного стола, он стал сочинять рассказ, Он писал быстро, гладко, почти без усилий. На другой день рассказ был закончен, отделан, насколько хватило умения, и отослан в редакцию «Колл». Он был удостоен первой премии – двадцать пять долларов. Вторую и третью получили студенты Калифорнийского и Станфордского университетов. Прошло сорок пять лег, но, читая «Тайфун у японских берегов», находишь рассказ все таким же свежим и сильным. В ритме повествования слышатся мерные вздохи моря, напряженное внимание не ослабевает ни на секунду; образы встают как живые. Музыка звучит во фразах, написанных семнадцатилетним подростком, не закончившим среднюю школу. «Колл» писала: «Самое поразительное – это размах, глубокое понимание, выразительность и сила Все выдает молодого мастера». Пророческие слова! День, когда вышла эта статья, был самым счастливым в жизни Джона Лондона с гех пор, как он покинул Айову. Флора только посмеивалась втихомолку, радуясь своей выдумке, а Джек тут же засел за кухонный стол писать новую морскую быль. Однако газета «Колл» не была литературным журналом – рукопись прислали назад. В записной книжке этого периода Джек внес в графу расходов тридцать центов на почтовые марки и бумагу: следовательно, он продолжал писать и отсылать рукописи в журналы. Если бы Джек сам взялся регулировать «Финансовый приход и расход», как раньше, когда работал на консервной фабрике, семья, пожалуй, могла бы жить сносно. Увы, он отдавал заработок Флоре. Оклендский житель Томас Э Хилл вспоминает, как его сестра, у которой Лондоны снимали квартиру, попросила жильцов съехать, потому что Флора задолжала за два месяца. На джутовой фабрике Джеку обещали прибавку – четверть доллара в день. Но, проработав там несколько месяцев, он увидел, что хозяева не намерены сдержать слово. Джек ушел с работы. Десять центов в час – больше не получишь, занимаясь черной рабоюй. Всегда останешься на самом дне кормушки. Убедившись в этом, он решил приобрести специальность. Новому открытию под названием «электричество», казалось, принадлежит будущее, и Джек решил стать электромонтером Явившись на электрическую станцию Оклендского трамвайного парка, он сказал директору, что не боится любой работы и готов начать с самых азов. Тот поставил его в подвал на переброску угля: тридцать долларов в месяц и один выходной. Подавать yголь кочегарам, поддерживавшим oгонь в топках, приходилось и в дневную и в ночную смену. Работая даже во время обеденного перерыва, Джек редко кончал раньше девяти вечера – на круг выходило тринадцать часов в день. Заработок, таким образом, снижался до восьми центов в час – меньше, чем он получал в четырнадцать лег на консервной фабрике. От топок несло нестерпимым жаром Обливаясь потом, Джек насыпал уголь в чугунную тачку, взвешивал, вез в кочегарку и сбрасывал на железные листы перед топками Когда кочегары не поспевали за ним, Джек нагромождал целую гору угля, подпирая ее. чтобы не осыпалась, крепкими досками. Ему вновь пришлось стать рабочей скотиной. Возвращаясь домой затемно, он был так измучен, чго не мог есть. Умыться и свалиться в постель – единственное, на что он оставался способен. Для книг, для хороших девушек, для того, чтобы ощущать самый вкус и цвет жизни, не хватало ни времени, ни сил. Ведь и по воскресеньям он был занят на работе. Он стал худеть. Целые дни напролет он, как в кошмаре, двигался в удушливо-жарком мареве угольной пыли – и снова не мог понять, почему эта работа так мучительна для него; ведь он справлялся с делами и потруднее, работал вровень с людьми старше и сильнее его. Наконец один кочегар из жалости рассказал ему, что у них всегда было по два подручных: один работал с дневной сменой, другой – с вечерней. Оба получали по сорок долларов в месяц. Подвернулся Джек, молодой, горящий желанием учиться, и директор уволил подручных, а Джека заставил управляться за двоих Джек спросил: «Почему же ты раньше не сказал?» – «Потому что директор пригрозил выгнать меня в шею», – отвечал кочегар. Несколько дней спустя этот же кочегар показал Джеку заметку в оклендской газете: один из бывших подносчиков угля – Джек, сам того не зная, работал на его месте – кончил жизнь самоубийством: он не мог найти работу, чтобы прокормить жену и троих детей Джек отшвырнул лопату. Дни бешеной работы кончились тем, что он проникся отвращением к физическому труду. Раб или бродяга – золотой середины не найдешь! Он был молод и силен, он любил жизнь. Его безудержно влекло к опасностям и приключениям Не лучше ли потешить себя вдоволь, побуянить, шатаясь по белу свету, чем сгубить свою молодость и здоровье в угоду людской алчности? Джек пришел к такому заключению в апреле 1894 года В то время безработица в Соединенных Штатах возросла до умопомрачительных масштабоа На родине Флоры, в городе Мэслон, штат Огайо, человек по имени Кокси собирал армию безработных, готовясь повести ее на Вашингтон и потребовать у конгресса пять миллионов долларов, чтобы дать людям работу на постройке новых больших дорог. Газеты уделяли самозваной армии Кокси столько внимания, что в ряде американских городов стихийно возникали отряды В Окленде некто Келли сформировал из безработных военные роты и договорился с железнодорожниками, что людям будет обеспечен бесплатный проезд в товарных вагонах. Услышав об армии Келли, Джек живо ухватился за эту возможность. Он поступит в армию и вместе с ней отправится в Вашингтон. Трудно было устоять против столь заманчивого приключения. Он подводил этим Флору и Джона Лондона, но это удерживало его не больше, чем в те дни, когда он сменил консервную фабрику на сомнительные доходы устричного пирата. В этом не было ничего удивительного: нельзя сказать, чтоб его родители сами были ярыми приверженцами строгой дисциплины и самопожертвования или неукоснительно выполняли свои моральные обязательства. Армия генерала Келли должна была двинуться из Окленда в пятницу, 6 апреля. Когда во второй половине дня Джек и его приятель Фрэнк Дэвис добрались до сортировочной, где формировались товарные составы, выяснилось, что рано утром армия уже уехала. Тогда Джек воскликнул: – Давай, Фрэнк, едем! Бродяжить – это по моей части; будем зайцами пробираться к востоку на товарных, пока не догоним армию Келли. Не прошло и часа, как он разыскал готовый к отправлению состав. Незаметно приоткрыв раздвижную дверь товарного вагона, он забрался туда вслед за Фрэнком и закрыл за собой дверь. Раздался свисток паровоза. Джек лежал в темноте и улыбался. Джек сказал Фрэнку Дэвису, что он не новичок в бродяжничестве, и это была правда. Не первый раз он шел на Дорогу. Три года тому назад, когда ему было пятнадцать лет, в устричном промысле наступило временное затишье. Шлюп Джека стоял в конце пароходной пристани в Бениции, а сам он цидел на палубе и грелся на теплом солнышке. Свежий ветер обдувал его щеки; мимо, увлекаемые приливом, бурно проносились волны. Джек сплюнул за борт, чтобы измерить скорость течения, и, увидев, что с приливом можно дойти почти до Сакраменто, поднял парус и отдал швартовы. В Сакраменто он пошел на речку купаться и встретился с компанией подростков, загоравших на песчаной отмели. Они говорили на особом языке, срвсем не так, как те, с кем водился Джек. Это были «дорожные ребята». По сравнению с их похождениями устричный промысел казался детской забавой. Каждое слово манило Джека в новый мир, мир вагонных осей и планширов, «слепых» багажных вагонов и «товарных пульманов», «быков» или «фараонов», «отбросов» или «падали», «легавых», «беглых», «табачников», «загребал», «котов», «стариков», «зеленых пижонов». С каждым словом его все сильнее притягивала Дорога. Он стал членом «толкучки», то есть шайки. У него появилась кличка «Сейдор Кид» – «Морячок». Главарь шайки Боб прибрад его к рукам и из «кутенка», или «неженки», вышколил бывалого «пижона», или «дорожного парня». Его успешно научили «зашибать по малому на главном ходу», то есть клянчить на центральной улице; показали, как «прокатить» пьянчужку, «почистить» «тугой узелок», «стибрить» пятидолларовую стетсоновскую твердополую шляпу с головы богатого китайца из долины Сакраменто. Один раз его как участника уличной драки забрали в полицию, и он три дня отсидел в тюрьме. Вскоре ему объяснили, что по закону Дороги настоящим «дорожным парнем» становишься не раньше, чем пересечешь Сьерру-Неваду на площадке «слепого» вагона с дверью посредине. Вот почему однажды ночью Джек и недавно приставший jc шайке Френч Кид стояли в темноте у полотна Центральной Тихоокеанской, дожидаясь экспресса. Когда поезд поравнялся с ними, приятели на ходу уцепились за край площадки «слепого» вагона. Френч Кид сорвался и попал под колеса. Ему отрезало обе ноги. Боб заранее предупредил Джека: пока не проедешь Роузвилл с его констеблем, злым как собака, сиди на «палубе», то есть на крыше вагона. Потом спускайся на заднюю «слепую» площадку почтового. Но… экспресс мчался через Сьерру-Неваду, минуя щиты от снежных заносов, пролетая тоннели, а Джек так и не отважился слезть вниз на полном ходу. Всю ночь он трясся на «палубе», пока, перевалив хребет, поезд не остановился у станции Тракки. «Сдрейфил!» От ребят из «толкучки» он скрыл свой позор, и по возвращении в Сакраменто его встретили с распростертыми объятиями, дали новую кличку «Фриско Кид» и провозгласили стопроцентным бродягой. Через неделю-другую Сакраменто ему надоел, и, забравшись в товарный поезд, он вернулся в Окленд. Прошло три года, и во г он снова стал «товарищем ветра, который бродит по свету». Джек с Фрэнком Дэвисом сошли с «товарного пульмана» в Сакраменто – и напрасно. В четыре часа дня армия Келли двинулась в Огден На трансконтинентальном экспрессе им посчастливилось продержаться до Тракки, а там их «спустили в канаву» – иными словами, вышвырнули из поезда. В ту же ночь они еще раз попробовали вскочить на восточный экспресс. Фрэнку это удалось, Джек отстал. Зато с товарным ему повезло. В вагоне было холодно, но все-таки он умудрился так крепко заснуть, что не проснулся, даже когда состав перевели на запасной путь в Рено. Этот день Джек провел в Рено, наблюдая, как на всех углах и перекрестках безработные собираются в отряды, готовясь выступить на восток. Сотни безработных по всей линии шли вслед за головным отрядом Рабочей армии Келли. Джеку во что бы то ни стало надо было догнать Фрэнка. Не дожидаясь, пока сформируется рота безработных, он пустился в путь и целые сутки ехал в товарном вагоне, а потом до четырех утра проспал в паровозной будке в Водсвордском депо, пока не пришлось уносить ноги от мойщиков. Дальше он отправился с первым товарным, забившись в тендер – «слепняк». В карман его пальто залетела искорка от паровоза. Вспыхнуло пламя, и затушить его, когда поезд движется со скоростью сорок миль в час, оказалось нелегкой задачей. Пальто и пиджак пришлось выкинуть, они были испорчены безнадежно. Ночью в Виннемуке он догнал Фрэнка. Было решено дождаться отряда из Рено и дальше двинуться вместе. Но подвернулся товарный поезд, и соблазн оказался слишком велик: друзья забрались в вагон и поехали дальше на восток. Через два дня они снова расстались, и в записной книжке Джека появились юропливые, написанные детским почерком строчки: «Дорога потеряла для Фрэнка всю прелесть. Исчезла романтика приключений, осталась лишь суровая действительность, гласящая: «Трудно – терпи!» Итак, Фрэнк решил вернуться на запад. Ну что ж! Он немало повидал, это пойдет ему на пользу. Кругозор его расширился, теперь он лучше понимает, что представляют собою «низы» нашего общества. И в будущем, выбравшись из нужды, он, конечно, мягче, добрее посмотрит на встречного бродягу. Сегодня вечером он тронется на запад, я – на восток. Мне предстоит колоть уголь на паровозе до самого Карлина». Для Джека прелесть бродячей жизни заключалась главным образом в отсутствии однообразия. В «Стране Хобо», этом бродяжьем царстве, – причудливая, вечно меняющаяся жизнь; невозможное случается на каждом шагу, за каждым поворотом притаилась в кустах новая неожиданность. Один день не похож на другой, врезается в память быстрой сменой неповторимых картин. По ночам Джек путешествовал в товарных и пассажирских составах, а когда наступало обеденное время, «закидывал ноги» – иными словами, выпрашивал подаяние с черного хода или попрошайничал на главной улице. Он встречался с сотнями таких же «хобо», вместе с ними странствовал зайцем по железным дорогам, отдавал в общий ко гол курево и деньги, «кипел» – ссорился, готовил в «джунглях» – притонах – традиционное блюдо бродяг «маллиган», «зашибал по малому на главном ходу», резался в карты, слушал и плел сам немыслимые истории и, покупая право путешествовать на самых скорых, выполнял приказания «профессионалов». Однажды его «сбросили в канаву» – спустили с поезда – в пустыне Невада, и целую ночь пришлось пешком добираться до ближайшей узловой станции. Дело было глубокой зимой. В нагорных пастбищах стояли холода, снег лежал на вершинах, печально завывал ветер, а Джек, как прожженный бродяга, из щегольства не запасся одеялом. Нередко случалось ему часами «закидывать ноги» у кухонных дверей и уходить несолоно хлебавши. Или, приехав в незнакомый город за полночь без гроша в кармане, ночь напролет трястись от холода в «джунглях» у железной дороги. Случалось, что он ночевал, примостившись на паровозной раме, «скотосбрасывателе», осыпаемый дождем горячей золы, мечтая хоть ненадолго вздремнуть под пыхтенье паровоза и пронзительный скрип колес. Как-то раз, голодный как волк, он получил подаяние – огромный сверток в газетной бумаге – и со всех ног помчался в укромное местечко поблизости насладиться пиршеством. В свертке влажным комом лежал сладкий домашний пирог, оставшийся от гостей. Джек сел на землю и заплакал. Именно «забрасывая ноги», он достиг совершенства в искусстве вдохновенно сочинить гут же, на месте, подходящую к случаю историю. Ведь успех дела зависел от того, хорошо ли подвешен язык! Едва открывалась дверь на черном ходу, как он должен тут же раскусить свою жертву и придумать рассказ, соответствующий ее характеру и наклонностям. В Рено черную дверь открыла пожилая добродушная мамаша, и Джек в мгновение ока превратился в чистого как слеза, невинного юношу. Ему трудно говорить… Ни разу в жизни не протягивал он руки за куском хлеба… Лишь муки свирепого голода склонили его на поступок столь низменный и недостойный. Он просит милостыню – он! И добродушной хозяйке, чтобы как-то рассеять это отчаянное смущение, осталось юлько уговорить его зайти в кухню посидеть – сущее наслаждение для бродяги. Несколько позже в Гаррисбурге (штаг Пенсильвания) он постучался с черною хода как раз в то время, когда хозяйки – две старые девы – садились завтракать. Ею пригласили зайти в столовую и разделить с дамами трапезу: гренки с маслом и яйца в рюмках. Пожилым девицам был совершенно незнаком веселый лик Приключения. Говоря языком Благородных Бродяг, они всю жизнь работали в одной смене. Джек был голоден: он всю ночь путешествовал на тендере. Служанка не успевала подавать на стол яйца, гренки и кофе, снова яйца, гренки и кофе, а дамы затаив дыхание слушали повесть Джека о дикой и вольной жизни. В размеренный, стиснутый узкими рамками, сладко надушенный мирок ворвался могучий ветер настоящей жизни, насыщенный крепкими ипахами пота, борьбы и опасности. Этот завтрак остался в памяти Джека на всю жизнь. Можно смело предположить, что и старые девы навсегда запомнили сногсшибательные истории – плод богатой фантазии гостя. Когда странствовать было невмоготу, когда двери зажиточных хозяев упорно не открывались, когда в богатом доме его отказывались покормить, а голод становился невыносимым, Джек шел к беднякам. В лачуге с выбитым окном, заткнутым тряпками, усталая, надорванная работой хозяйка всегда найдет что-нибудь съестное. Бедняки никогда не отказывали в том, чего им самим не хватало. Убедившись в этом, Джек потом говорил, что милосердие – не кость, брошенная собаке. Милосердие – кость, которую ты разделил с ней, потому что сам голоден не меньше собаки. Больше всего Джек любил увлекательные и опасные состязания с поездной бригадой: он ведь задался целью доказать, что он – величайший из благородных рыцарей Дороги, Король Хобо. Прежде чем роскошный трансконтинентальный экспресс «Оверленд» ночью выходил из депо, Джек обычно забегал вперед и, когда поезд проходил мимо, вскакивал в первый «слепой» вагон. Но вот его заметила бригада. Поезд остановился. Джек соскакивает с площадки и мчится вперед, в темноту. На сей раз на площадке «слепого» сидит тормозной кондуктор. Однако со «слепой» площадки в поезд войти нельзя, значит, пока состав не набрал скорость, кондуктор должен спрыгнуть и вскочить в задний вагон. Джек стоит так далеко впереди, что, когда поезд проходит мимо, кондуктора на «слегюм» уже нет и можно спокойно прыгать. Спокойно, но с той оговоркой, конечно, что можно сорваться и погибнуть. Ему кажется, что угроза миновала, но в следующее мгновение поезд останавливается и за Джеком приходит кондуктор, ехавший на паровозе. Джек спрыгивает с площадки, несется вперед. Теперь, когда поезд поравнялся с Джеком, кондуктор сидит в первом «слепом». Джек вскакивает во второй. Кондуктор покидает первый и тоже появляется во втором. Джек прыгает вниз с другой стороны и что есть силы, перегоняя поезд, бежит обратно к первому… Кондуктор пускается вдогонку, но поезд набирает скорость, кондуктор отстает. Джеку снова кажется, что он в безопасности… Внезапно кочегар обдает его струей из насоса… Поезд замедляет ход… Джек несется вперед, в темноту… Он чертовски горд. Еще бы! Кто он? Жалкий бродяга! А из-за него четыре раза останавливался «Оверленд» – уйма пассажиров, великолепные вагоны, государственная почта и две тысячи лошадиных сил, нетерпеливо бьющих копытом в паровозной топке. Так идет игра, не переставая, всю нрчь напролет. Чтоб улизнуть от вездесущего кондуктора, Джек взбирается на «палубу», рпускается и, широко раставив ноги, едет на буферных брусьях смежных вагонов, ныряет под состав и «скачет верхом на палочке», то есть путешествует на оси под вагоном. Сейчас в погоне участвуют оба кондуктора, кочегар, проводник и машинист. Восемнадцатилетнего юнца так и распирает от гордости: он берет труднейшие вершины «профессии» – и как! Что за беда, если, проиграв, он заплатит за эту забаву страшной ценой! В том-то и состоит ее прелесть! Он шел на невероятный риск. Он прыгал с поездов на полном ходу, и однажды летел по воздуху с такой скоростью, что сбил с ног и оглушил полицейского, стоявшего на перекрестке и наблюдавшего за проходящим поездом. Он «скакал на палочке» по скверным дорогам – дорогам, где кондуктора ведут игру по-иному: они берут толстый сцепной шкворень и кусок каната, идут на переднюю площадку вагона, под которым едет бродяга, и швыряют шкворень туда, под вагон. Прут ударяется о рельсы, отскакивает, и бродяга убит или смертельно ранен. Но Джек не боялся. Чем рискованнее, тем интересней. Викинг он или нет? И не он ли переплывал залив Сан-Франциско при свирепом югозападном ветре? А колечко Лиззи Коннеллон у него выудил корыстолюбивый кондуктор, обнаруживший Джека в товарном вагоне. Дело было в горах, и вокруг свистела снежная буря. Если ночь, была очень холодной, Джек пробирался в депо и спал в паровозной будке. Приходилось ночевать и на котлах электростанции, задыхаясь от неимоверной жары. Днем он ходил в библиотеку читать, а по ночам всегда старался попасть на курьерский поезд в «слепой» багажный. Вот что он пишет об этом – с восторгом: «Я был полон решимости продержаться в поезде всю ночь. Спасаясь от преследований цоездной бригады, я глубокой ночью ездил в «слепых», в паровозном тендере, на скотосбрасывателе, на рамах «двуглавых» – составах с двумя паровозами, на «палубе» и на площадках в центре состава». Ночью было так холодно, а днем так жарко, что у него на лице начала лупиться кожа; по собственному описанию, он был похож на человека,обгоревшего на пржаре. Все эти подробности и тысячи им подобных он педантично заносит в свою записную книжку. С семидесяти трех страниц дневника времен Дороги встает юноша, мягкий, тонкий, добрый, несмотря на окружавшую его грубость приятелей-головорезов и собственные поступки довольно низменного порядка. Дневник заполняют характерные зарисовки – портреты случайных встречных, отрывки подслушанных разговоров, замечаний о том, что привело самых разных людей на Дорогу, словечки из жаргона бродяг и железнодорожных зайцев, описания городов, происшествий и похождений. Эти карандашные записи были сделаны в товарных вагонах, в депо, в притонах и кабачках, и, несмотря на это, они поражают безыскусственной прелестью поэтичной речи. Прирожденный писатель виден в каждой строке. Каждая страница дышит здоровой радостью крепкого парня, влюбленного в головокружительную, вечно новую и захватывающе интересную жизнь. Впрочем, этот повышенно-радостный тон изредка меняется; не всюду звучит неизменное «я – за!». Душевное равновесие внезапно сменяется подавленностью, и в дневнике появляется запись, посвященная праву на самоубийство. Читая ее, невольно возвращаешься к той ночи, когда Джек сорвался в воду с пристани в Бениции и решил, что пойти ко дну – конец, достойный героя. Всю жизнь он ясно слышал этот зов смерти Захваченный снежным бураном на, вершине Скалистых гор, он совсем было замерз на открытой площадке «слепого», но тут мягкосердечный кондуктор сообщил ему, что на другом пути стоит товарный, а в нем отряд безработных из Рено – это была часть армии Келли. Забравшись в вагон, Джек увидел, что внутри, вплотную друг к другу, чтоб согреться, растянулись восемьдесят четыре человека. Поставить ногу было некуда; он сразу наступил кому-то на руку и попал в «молотилку». Его швыряли из конца в конец вагона, пока он, наконец, не угодил на незанятый краешек соломенной подстилки. Этим своеобразным обрядом было отмечено его вступление в ряды Рабочей армии. Народ в армии был славный: одни – безработные, действительно надеявшиеся, что конгресс даст им работу; другие – бродяги, приставшие к ним просто так, чтоб вместе проехаться. Попадались и юнцы вроде Джека, жадные искатели приключений. Поезд мчался сквозь снежную вьюгу, а в вагоне началось нечто похожее на «Тысячу и одну ночь»: было постановлено, что каждый из восьмидесяти пяти пассажиров теплушки обязан выступить с первоклассной историей. В случае неудачи очередную Шехерезаду ждала «молотилка». Джек пишет, что это была оргия превосходных рассказов, ничего равного ей он уже больше не встречал. Двадцать четыре часа отряд из Рено, замурованный в тесном вагоне, пережидал буран. Никто не проглотил и маковой росинки. За стенкой вагона потянулись равнины Небраски, и тогда, сложившись, члены отряда послали местным властям городишки Гранд Айленд телеграмму приблизительно такого содержания: «Восемьдесят пять голодных мужчин прибывают обеденное время. Накормите». Ровно в полдень поезд остановился в Гранд Айленд. Городская полиция и члены специальных комитетов по приему «гостей» отконвоировали прибывших в гостиницы и рестораны, накормили и препроводили обратно к поезду, задержанному на станции до погрузки. В час ночи прибыли в Омаху, где их вышел встречать особый полицейский взвод, и они сидели под охраной полисменов, пока не переправились через Миссури в Каунсил Блаффс. Генерал Келли, стоявший лагерем в парке Шатоква, приказал присоединиться к нему. Пять миль под проливным дождем! Джек со своим новым приятелем, светловолосым двухметровым верзилой, по кличке «Швед», проскочили сквозь цепочку полицейских и отправились на поиски убежища. Вскоре они нашли пустой передвижной бар на огромных бревнах-опорах. Здесь Джек провел самую скверную ночь в своей жизни. Сооружение стояло на высоких подпорках, внутри завывал ветер, врывающийся сквозь зияющие щели. Промокший до костей Джек забился под стойку и там, дрожа, молил всех святых, чтобы поскорей рассвело. В пять утра, посиневший от холода, едва живой, он на товарном поезде вернулся в Омаху и потащился выпрашивать на завтрак у кухонных дверей. Потом поглазел по сторонам и пошел в лагерь Келли. На мосту его задержал сборщик пошлины. Ктото из сострадания дал парнишке двадцать пять центов – «четвертак» на поезд до парка Шатоква. Добравшись до лагеря, он доложил о прибытии генералу Келли и был назначен в последнюю шеренгу арьергарда. Владельцы железных дорог между Омахой и Чикаго были настроены недружелюбно и не решались предоставить армии товарные составы для бесплатной переброски людей на восток: боялись, как бы другим не стало повадно. Их составы сопровождали вооруженные пинкертоновские сыщики, нанятые для охраны от Келли и его ребят. Армия залегла вдоль полотна. Два дня и две ночи людей, а вместе с ними и Джека, заливало дождем, било градом, засыпало мокрым снегом. Тогда две молодые женщины из Каунсил Блаффс подговорили одного паренька увести паровоз, на котором работал машинистом его отец, а комитет сочувствующих из Омахи кое-как сколотил товарный составчик. Поезд был подан к расположению армии, но выяснилось, что места для всех не хватает. К общему сожалению, состав вернулся в город. Ряд неудачных стычек с властями закончился тем, что генерал Келли решил вести армию походным порядком в Вашингтон на соединение с генералом Кокси. Прихватив двенадцать фургонов с провиантом и лагерным инвентарем – дар жителей Омахи и Каунсил Блаффс, – армия выступила в поход. Келли выступал в голове колонны на вороном коне, преподнесенном восторженным жителем Каунсил Блаффс. Со знаменем и флагами армия имела весьма внушительный вид. Через два дня у Джека прохудились башмаки. Он было сунулся к интендантам, но те заявили, что сапог – для него во всяком сдучае – нет. Пришлось идти в носках. На другой день он так стер себе ноги, – что мог с трудом передвигаться, и в виде протеста пошел босиком. Только тогда интенданты быстренько выдали ему какую-то обувь. Жители штата Айова встретили их по-дружески, радушно. В какой бы город ни вошла армия, все население с флагами высыпало навстречу. Как только солдаты Келли разбивали лагерь, к их бивакам тянулись толпы горожан – спеть хором песню, послушать политические речи, посмотреть, как местная девятка сражается в бейсбол с командой армейцев. «Чистые женские голоса, – пишет Джек в дневнике, – сливались с охрипшими от непогоды голосами солдат Рабочей армии». Джек с гордостью отмечает, что армия производила на всех превосходное впечатление. Многие удивлялись, что солдаты умеют прекрасно держать себя, что у них честные, открытые лица. Но Джек и здесь был верен себе – терпеть не мог строгой дисциплины, любил делать все сам по себе и горел желанием узнать решительно все о стране, по которой путешествовал. Как наступала ночь, он незаметно пробирался мимо часовых и бежал осматривать город. Он снова натер волдыри и твердо решил, что дальше поедет товарным, но местные шерифы снабдили армию фургонами для тех, кто не мог идти пешком. Впрочем, не успели еще дойти до города Де Мойн, как это удовольствие кончилось… Джек поклялся, что скорей сядет в тюрьму, чем пройдет хоть два шага на своих распухших ногах. Он добрался до станции и, «сыграв на сочувствии публики, собрал на билет». Когда пришли в Де Мойн, солдаты Келли заявили, что все стерли ноги. Хватит, черт побери! Дальше они не пойдут. Две тысячи паломников забили город до отказа. Задыхающийся город разместил солдат на заброшенном печном заводе и скармливал им шесть тысяч порций в день, а в это время местные власти лезли из кожи вон, чтоб уговорить железнодорожную администрацию перевезти армию до следующей станции. Железнодорожники были неумолимы. Джек отдыхал, играл в бейсбол, поправился, отоспался… Тогда в городе провели сбор денег, армия выстроила себе плоты и поплыла вниз по течению реки Де Мойн. Сейлор-Джек – Морячок и еще девять человек из его роты – все, по его словам, энергичные ребята, делят и – выбрали славную посудину и отправились вниз по реке, регулярно опережая армию на день, а то и на сутки. Завидев впереди городок, они поднимали американский флаг и, назвавшись головным судном, авангардом, требовали отчета, какие меры приняты по снабжению армии. Фермеры тащили продукты, и Сейлор-Джек с приятелями снимали сливки: брали себе табак, молоко, масло, сахар и консервы. Нельзя было назвать их совсем бессовестными, ничуть! Они оставляли для армии мешки с мукой и бобами, говяжьи туши. Но жили они, нужно прямо сказать, припеваючи. Посудите сами; они не варили кофе на воде. Зачем? Ведь молока сколько угодно! Джек допускал, что армии приходилось несладко, но что поделаешь? В их десятке были парни лихие и предприимчивые – само собой разумеется, они абсолютно не сомневались, что «кто смел, тот и два съел». Возмущенный генерал Келли послал легкий ялик, чтоб преградить путь «авангарду». Ничего не вышло. Тогда он отправил двух верховых предупредить окрестное население. После этого Джека и его компанию принимали, мягко говоря, с холодком. Волей-неволей пришлось двигаться дальше вместе с армией. Прибыли в штат Иллинойс. В Куинси, по слухам, самом богатом из небольших городов Соединенных Штатов, Джек весь день «закидывал ноги» и возвратился с таким количеством белья, носков, рубашек, обуви, шляп и костюмов, что хватило бы на прлроты. Жители Куинси услышали от него тысячу историй, одна лучше другой. Позже, начав писать, он сокрушался, что так расточительно обходился в былое время с обильными плодами своего вдохновения. Но увы, дни довольства и сытости миновали! В течение тридцати шести часов фермеры не дали армии бесплатно ни глотка. Солнышко стало припекать все сильнее, весна была не за горами, воздух наполнился пьянящими запахами..Г и Рабочая армия целыми отделениями и взводами начала разбредаться. Джек наспех нацарапал в своем дневнике: «Завтра утром сматываю удочки. Голод невыносимый». Все девять речных удальцов дезертировали вместе с ним. Генерал Келли с горсточкой людей упрямо продвигался вперед. В конце концов, дойдя до Вашингтона, он нашел генерала Кокси в тюрьме. Опередив свою эпоху, Кокси требовал от федерального правительства обеспечения безработных. Сменилось немало правительств, прежде чем в стране пришли к тому же выводу и другие. И этого человека полицейская охрана Капитолия арестовала за хождение по газонам! На экспрессе «Каннонболл» («Пушечное ядро») Джек доехал до Джексонвилля, на пассажирском линии Канзас Сити – до Мэсон Сити, а там забрался в состав для перевозки скота и всю ночь мчался в Чикаго. На почте его ждали письма из дому и четыре «зелененькие», по доллару каждая – от Элизы. В магазине подержанного платья Джек купил себе ботинки, шляпу, пару брюк, пиджак и рубашку. Вечером сходил в театр, поглядел на город и за пятнадцать центов переночевал на кровати – впервые с тех пор, как уехал из Окленда. На другой день он сел на паром и переправился на ту сторону озера в штат Мичиган, в город Сан-Джозеф, где жила с семьей Мэри Эвергард, сестра Флоры. Джек пробыл в удобном домике Эвергардов несколько недель, страницу за страницей писал свои заметки, нагуливал жирок, растаявший в голодные дни, понемножку копался в земле и с удовольствием разрешал тете Мэри баловать и пичкать себя, а сам занимал свою родню необычайными рассказами о Дороге. К середине лета он добрался «зайцем» до Нью-Йорка Он завел себе привычку «закидывать ноги» по утрам, а днем спасаться от палящего зноя в парке у Сити Холл – городского управления. Он по дешевке покупал книжные новинки в бракованных переплетах и прохлаждался, полеживая на травке и запивая чтение ледяным молоком по центу стакан. В один прекрасный день он подошел к толпе зевак, обступивших мальчишек, которые азартно резались в «камешки», как вдруг раздался отчаянный вопль: «Быки! Спасайся, кто может!» Толпа рассеялась. Джек с книгой под мышкой не спеша направился в свой парк, как вдруг заметил, что к нему идет полисмен. Не обращая внимания, Джек шел своей дорогой, но тут полицейский с размаху стукнул его по голове дубинкой и сбил с ног. Оглушенный, ослепший от боли, Джек с грехом пополам поднялся на ноги и пустился наутек. Если бы он остался на месте – ему не миновать бы месяца тюрьмы на Блэкуелс Айленд за сопротивление полиции. Через пару дней Джек в товарном вагоне приехал в город Ниагара Фоллс и прямым путем отправился к водопаду. Не в силах оторваться от необычайного зрелища, он как зачарованный просидел там весь день, забью о еде. В одиннадцать часов ночи он все еще сидел у водопада, глядя, как на темной воде играет лунный свет. Потом он направился за город, перелез через забор и засунул на чьем-то поле. Проснувшись в пять утра, он возвратился к водопаду. Город еще спал. Вдруг он заметил, что навстречу идут трое; два хобо, а между ними легавый – полицейский агент. «В какой гостинице вы остановились?» Тут бы придумать название отеля, но Джек не наделся. Его задержали как бродягу и отправили в городскую тюрьму. Наутро шестнадцать арестованных сели на скамью подсудимых. Судья – он же по совместительству и секретарь – вызывал одного бродягу за другим и, йе мешкая ни минуты, осудил всех подряд на тридцать суток исправительных работ. Джеку надели наручники – он оказался в паре с долговязым негром, – сквозь наручники пропустили стальную цепь, так что восемь пар арестантов оказались скованными вместе. Их повели по улицам Ниагара Фоллс на вокзал. В поезде Джек поделился табачком с арестантом, сидевшим позади. Слово за слово, а там выяснилось, что новый знакомый повидал уже не одну тюрьму, так что ему хорошо известны все обычаи и повадки тюремной жизни. Они подружились. Заключенных доставили в исправительную тюрьму округа Эри. Джека обрили наголо и честь честью обрядили в полосатый арестантский костюм. Рано утром заключенных выстроили вплотную, в затылок друг другу и вывели через тюремный двор – разгружать суда на канале. Труд был тяжелый, а держали заключенных на хлебе и воде. Раз в неделю, правда, было мясо, но есть его было почти невозможно. Прошло два дня, и арестант, с которым Джек познакомился в поезде, явился к нему на помощь. Среди расконвоированных нашлись приятели, старые тюремные крысы. Он был немедленно назначен коридорным старостой и, в свою очередь, выхлопотал такую же должность для Джека. Обязанность коридорного состояла в том, чтоб раздавать заключенным хлеб и воду и вообще присматривать за порядком. На лишние ломти хлеба Джек выменивал книги, табак, подтяжки или английские булавки, чтобы потом обменяться с долгосрочниками на мясо. Глазам «старшего» было открыто все, что творилось в камерах коридора. Джек видел, как бьются в припадке эпилептики, как узники сходят с ума. На его глазах людей били до полусмерти, а одного спустили с восьми пролетов каменной лестницы и на каждой ступени осыпали градом ударов; тюрьма была истинной камерой пыток, где беззащитных арестантов ждали неописуемые ужасы. Джек близко сошелся с другими расконвоированными, охраной, краткосрочниками, долгосрочниками. Он узнавал сотни людей, слушал их истории, запоминал их особые словечки, научился видеть мир их глазами, слился с ними воедино. И все это время не терял расположения своего приятеля. Много часов провели они за теплой дружеской беседой, намечая, какие дела по воровской части обстряпать на воле. Наконец кончился срок. Друзья вышли на свободу, «зашибли по мелочи» на главной улице Буффало и зашли в пивную пропустить по кружечке «особого». Перед ними уже пенилось пиво, когда Джек под каким-то предлогом оставил приятеля наедине с кружками, вышел из пивной через заднюю дверь, перемахнул через забор и пустился вовсю, не останавливаясь, пока не добрался до станции. Вскоре товарный состав уже уносил егона запад. Несколько месяцев понадобилось ему, чтоб проделать три тысячи миль по железным дорогам Канады. Лишь талант не раз спасал его от тюрьмы; он умел выдумать историю, способную убедить любого полисмена, что перед ним кто угодно, только не бродяга. Приходилось и голодать – он не говорил по-французски, а фермеры в Канаде боятся бродяг. Случалось, что, проехав целую ночь в вагоне-рефрижераторе, он едва мог поутру выбраться наружу, чтоб раздобыть еды. И все-таки приключения пришлись ему по вкусу. Особенно хорошо было целую тысячу миль катить в груженном углем товарном вагоне. На каждой остановке Джек выбирался в город «стрельнуть» еды, возвращался с добычей на свое угольное ложе и пировал, наблюдая, как мимо пробегают канадские леса и равнины. Наконец он приехал в Ванкувер, поступил матросом на «Уматиллу» и вернулся в Сан-Франциско.III
Сколько ни ройся в документах и записях о Джеке Лондоне, поиски ни к чему не приведут: ранее года, проведенного им на дне, среди беднейших из бедных, именуемых на языке социологов «попранная десятая», он и не помышлял о социализме. Он был, как он сам называл себя позже, ярым индивидуалистом. Этот индивидуалист заодно с компанией дружков, не задумываясь, обманом оставил без пищи своих товарищей – армию Келли, потому что «инициатива была в наших руках и мы горячо верили, что «провиант» существует для того, кто пришел за ним первым». Когда этот же индивидуалист был коридорным в «исправилке», он и не думал раздавать излишки хлеба несчастным арестантам – нет; он вынуждал их платить натурой – скудными запасами табака, пива и мяса. Он обладал завидным здоровьем, крепкими мускулами и желудком, способным переварить гвозди. Он буйно радовался своей молодости и никому не уступал ни в работе, ни в драке. Ему казалось, что он будет вечно, как бушующий ураган, нестись по земле, побеждая все и вся своей силой и превосходством. Он гордился долей могучего избранника природы. Потом он узнал, как пополняются ряды «попранной десятой». Это было поразительно. Это открыло ему глаза. Он воображал, что на Дорогу идут по доброй воле, повинуясь лишь тяге к скитаниям, стремлению сбросить с себя бремя ответственности, в поисках приключений. Другие бродяги – бездельники, тупицы, лентяи или пьянчуги. Известная часть этих людей действительно представляла собой отбросы, и тут любая социальная система оказалась бы бессильна. Джек это понимал. Но в большинстве – в этом он убедился очень скоро – это были те же «белокурые бестии», такой же превосходный человеческий материал, как и он сам, рабочие и матросы. Их исковеркала нужда, тяжкий труд и несчастья, а потом их вышвырнули на Дорогу, как старых, отработавших кляч. И вот они бродяги: нечего есть, нечего надеть, нечем укрыться в непогоду. Вместе с ними Джек месил грязь, шагая по дорогам; вместе просил милостыню с черного хода, ляскал зубами от холода в товарных вагонах и на бульварных скамьях – и слушал их рассказы. Они начинали так же, как он, а кончили этой помойной ямой на дне социальной бездны. Тут были люди, которых выбросил с работы хозяин, потому что их изувечил ничем не защищенный станок; люди, потерявшие здоровье на фабриках, работавших по четырнадцать часов без воздуха и уволенные за ненадобностью; люди, состарившиеся в своей лямке и вытесненные другими, молодыми и сильными. Тут были кустари, не сумевшие найти себе применения, когда настали новые времена, и люди, труд которых аменили машины; взрослые мужчины, чье место заняли женщины и дети, получавшие меньше; другие лишились работы из-за кризиса и уж больше никуда не устроились. Тут были рабочие, у которых не хватало квалификации, чтоб управляться с новым техническим оборудованием; бродячие сезонники, которых сама профессия заставляла четыре-шесть месяцев в году болтаться без дела; были неспособные, посредственные, затравленные рабочие, жертвы конкуренции, шлаки хаотического производства. Они предпочли бродяжничество трущобам. Тут были участники забастовок против непомерно долгого рабочего дня и низких заработков; предприниматели занесли их в черные списки, а их место получили штрейкбрехеры. Джек увидел, что через пять, десять, двадцать лет и его место займет кто-нибудь сильнее и моложе, а он поневоле станет бродячим или оседлым обитателем трущоб. Он усвоил две вещи; во-первых, нужно получить образование, чтоб работал мозг, а не мускулы – орудие скоропортящееся и легко заменимое. Во-вторых, если экономическая система забирает у человека лучшие годы жизни, а потом выбрасывает на свалку разлагаться заживо и подыхать с голоду, значит, в такой системе кроется порок. Ибо она создает трагическую ситуацию для человека, для семьи, принуждает общество к жестокости и расточительности. Ко времени возвращения в Окленд он убедился, что его образ мыслей и отношение к жизни изменились; он поверил в нечто новое, впрочем, во что именно, он и сам как следует не понимал. Где найти ответ? Он снова взялся за книги. От рабочих и других попутчиков с Дороги, среди которых попадались люди образованные и начитанные, он немало слышал о профессиональных союзах, о социализме и рабочей солидарности и, таким образом, получил ориентир, указывающий ему, как взяться за поиски. Прежде всего он узнал, что современный социализм насчитывает всего около семи десятков лет. Значит, это совсем молодое учение, оно появилось на свет на несколько лет раньше его матери. И Джек почувствовал, что ему необычайно повезло, он современник Зтого учения, он застал его в самом зародыше, можно сказать, совсем немного опоздав, чтобы сделаться одним из его зачинателей. И этого было уже достаточно, чтобы воодушевиться. Он пошел дальше. Стоп! Оказывается, революция порождается не людьми, а экономическими условиями. Колыбель довременного социализма, Франция, восстала, чтоб сбросить непосильное ярмо – прогнившую монархию, и не успела оглянуться, как ей навьючили на спину не менее тяжкое бремя – буржуазию. Машинное производство пришло рука об руку с увеличением рабочего дня, снижением заработной платы и циклической безработицей; трудящиеся очутились в худших условиях, чем при беспутных и расточительных королях. Возникла необходимость новой революции, на этот раз экономической, а не политической. Необходимость породила социалистов-утопистов, подметивших, что лишь немногие утопают в богатстве, в то врем:я как большинство, неустанно трудясь, живет в бедности. Это наблюдение привело к социализму. Джек обратился к трудам Бабефа, Сен-Симона, Фурье и Прудона. к первым выступлениям в печати против частной собственности. Социалисты-утописты впервые разграничили экономические классы; выдвинули утверждение, что частная собственность покоится на человеческом труде. Они потребовали отмены нетрудовых доходов и наследования богатств, выдвинули революционную концепцию, что социальная реформа должна быть функцией правительства. За пять центов Джек купил в писчебумажном магазине блокнот с коричневой бумагой и своим небрежным, размашистым почерком стал записывать, какие цели ставили перед собой эти пионеры социализма, попытавшиеся представить себе систему производства, при которой каждый обязан трудиться и все обеспечены работой Он отметил, что, подготовив почву для революции, эти люди не указали средства построения социалистического государства, надеясь, что капиталисты из христианских побуждений сами устроят для рабочих социализм. Как-то на Дороге он услыхал от одного странствующего философа о «Коммунистическом Манифесте». Джек раздобыл «Коммунистический Манифест» и жадно впился в строки с таким ощущением, как будто бы на этих страницах внезапно и чудом заговорили его собственные мозг и сердце Он безоговорочно сдался перед доводами Карла Маркса, ибо нашел у него метод, который не только дает человеку возможность построить социалистическое государство, но в силу исторической и экономической необходимости заставляет его принять социализм Джек торопливо записал в своем блокноте. «Вся история человечества – это история борьбы эксплуататоров и эксплуатируемых, история этих классовых схваток демонстрирует развитие экономической цивилизации, подобно тому как учение Дарвина показывает эволюцию человека С приходом крупной промышленности и концентрированного капитала достигнута ступень, на которой эксплуатируемые классы могут получить свободу от классов правящих, лишь раз и навсегда освободив общество в целом от всякой эксплуатации, угнетения, классового неравенства и классовой борьбы.» Далее Джек узнал из «Коммунистического Манифеста», что научный социализм требует отмены частной собственности на землю и полной отмены наследственных прав Заводы, средства производства, средства связи и транспорт являются собственностью государства, и все богатства, за исключением средств потребления, являются общим достоянием коллектива Жирной чертой он подчеркивает в «Манифесте» призыв социалистов, обращенный к рабочим всего мира. «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Так Джек пришел к заключению, что на свете нет ничего более великого, чем социализм. Решив жить не мускулами, а головой, Джек взялся за дело Весь год, проведенный на Дороге, он вел дневник и теперь знал наверняка, что жизнь приобретет смысл и даст ему счастье, только если он напишет свои рассказы, от которых у него раскалывалась голова Наметил он себе и учебное заведение, где завершится его образование, – Калифорнийский университет в Беркли, совсем близко от его дома, если добираться трамваем. Да, но ведь он так и не учился в средней школе! По заведенному порядку ему до университетской скамьи предстоит еще просидеть три года за школьной нартой. Новенькому Оклендской средней школы девятнадцать лет. На нем плохо отглаженный темно-синий костюм явно не по фигуре, шерстяная рубашка с отложным воротником. Крепко сбитый и, очевидно, не из слабеньких, загорелый и вечно растрепанный – to и дело ерошит свою рыжевато-каштановую шевелюру. Жует табак: вернувшись в Окленд, он еще не успел расстаться с привычкой, заведенной «а Дороге. Табак заглушал зубную боль, а у Джека все зубы были испорчены. Элиза предложила брату сделку: она платит дантисту, Джеку запломбируют зубы, выдернут гнилые и вставят новые, но он должен бросить жвачку. Джек с готовностью согласился. Довольный блестящими новыми зубами, он приобрел зубную щетку – первую в жизни. Ходил он сутулясь – еще одна привычка тех времен, когда он обивал чужие пороги. В классе сидел с отсутствующим видом, откинувшись на спинку парты, вытянув ноги во всю длину, заложив руки в карманы. Повернет голову туда-сюда, а по лицу то и дело пробегают тени. Потом спохватится, встряхнется и снова сидит улыбаясь. Когда его вызывали, он приподнимался с явным трудом и отвечал полусидя, опираясь руками о парту, тихо, почти неслышно и как можно короче. Кончив, он сейчас же шлепался обратно на скамейку, как будто окончательно обессилев. Его окружали четырнадцати-пятнадцатилетние мальчики и девочки, по большей части дети состоятельных родителей, не успевшие еще побывать нигде, кроме Сан-Франциско. Джеку они казались сущими младенцами. И вообще образование, конечно, открывает путь к лучшей жизни, это верно, но уроки, которые он должен отсиживать – французский, история Рима, алгебра, – это для него игрушки. Он И не пытался скрыть от одноклассников, что скучает за этим пустяковым занятием, что его интересуют дела, достойные людей зрелых, – впрочем, они еще в этом не разбираются. Ему хотелось стать вровень с товарищами, но это как раз и не получалось. Он мог с интересом прислушиваться к общему разговору, но едва кто-нибудь из одноклассников заговаривал с ним, он раздражался и тут же уходил. Здесь снова проявилось основное противоречие его натуры, впервые подмеченное Айной Кулбрит – крайняя самоуверенность, уживавшаяся бок о бок с застенчивостью, скованностью и ощущением своей неполноценности. Школьники считали, что он чем-то обижен, поэтому и сердится, когда они хотят втянуть его в свои дела. Им было просто не под силу его раскусить. Его одноклассница, Джорджия Лоринг Бэмфорд, говорит, что иногда по сияющему улыбкой лицу было видно, что у него нрав милого ребенка. А бывали моменты, когда он выглядел бродягой и, казалось, гордился этим. Шапку он засовывал в карман, а после уроков вытаскивал и, нахлобучив на голову, мчался на улицу, по-матросски размахивай руками. Но даже если бы школьники Оклендской средней и приняли его в свою среду, он не смог бы уделить им ни минуты. Во время забастовки железнодорожников Джон Лондон устроился в специальную охрану Депо, но Джека он содержать не мог. По субботним и воскресным дням Джек старался подрядиться на какую-нибудь случайную работу: стричь газоны, выбивать ковры, бегать по поручениям. Выкраивая ему на еду и на книги, Элиза из своих скромных средств купила велосипед, чтоб он мог ездить в школу. С деньгами у него всегда было туго. Когда привратнику Оклендской средней понадобился помощник, Элиза устроила на это место Джека. После занятий Джек оставался в школе подметать помещение и мыть полы в уборных. Много лет спустя он с гордостью писал своей дочери, что каждое окно в ее школе вымыто его руками. Как-то раз компания школьниц видела, как он с парой бродяг – приятелей с Дороги – входил в пивную. Начались разговоры: он-де водится с дурной компанией, он привык пускать в ход кулаки… А тут еще Джек взялся убирать в школе, и стена, отделявшая его от других учащихся, стала совсем неприступной. Впрочем, в школе обнаружилось нечто стоящее – литературный журнал «Эгида». Когда туда взяли его очерк «Острова Бонин», Джек пришел к заключению, что школа в конце концов неплохая штука. Очерк, вышедший в январском и февральском номерах 1895 года, написан талантливо, свежо и живо – вот почему его и теперь еще приятно читать. Яркими штрихами автор рисует картину жизни промысловой флотилии, острова, по-человечески тепло и любовно написаны люди, а лучше всего – язык, в котором каждое слово звучит как музыка. Вид собственного произведения в печати гораздо лучше заставил Джека понять писательское ремесло, чем все критические замечания, которыми так щедро снабжал его преподаватель английского языка, с отвращением отвергавший его свободную, непринужденную манеру, его бурные порывы, его восхищение природой. В марте «Эгида» поместила рассказ «Сакечо Хона Ази и Хакадаки», потом два рассказа, посвященные приключениям на Дороге, поражающие богатством специфического языка и глубоким проникновением в психологию обитателей Страны Хобо. Один был назван «Фриско Кид», другой – «И Фриско Кид вернулся назад». Забастовка на железной дороге кончилась, а с нею и работа Джона Лондона. Теперь вся семья надеялась только на Джека. Он был вынужден искать побочные заработки, работать еще напряженнее. На себя денег не оставалось совершенно. Товарищи заметили, что он одевается все хуже и хуже. От вечного переутомления, от нехватки еды и сна он стал нервным и раздражительным. Он писал о себе честно, и школьники узнали, что в прошлом он матрос и бродяга. Девушки не желали иметь с ним ничего общего. Тот факт, что он пишет, не только не примирил всех с тем, что казалось в нем странным, но еще сильнее заставлял сторониться его. Он любил писать в свободные от работы ночные часы, наслаждался книгами, которые получал из библиотеки на все шесть абонементов семьи Лондонов. Но в те дни ему не хватало того, что составляет человеческое счастье: дружбы, любви, места под солнцем… Их не было. Но вот он вступил в дискуссионный клуб имени Генри Клея. Клуб Генри Клея был единственным местом, где собиралась оклендская интеллигенция. Членами его были молодые учителя, врачи, юристы, музыканты, студенты, социалисты – этих людей связывал интерес к окружающему миру. Они, как никто другой в Окленде, судили о человеке по уму, а не по платью. Джек посидел молча на одном-двух собраниях, а потом включился в дискуссию. Члены клуба оценили четкий и логичный ход его мыслей, им нравился сочный ирландский юмор Джека, его яркие морские и путевые рассказы, его нашли веселым и интересным собеседником. На них произвела впечатление не только его страстная вера в социализм, но и солидный запас знаний, уже приобретенных им в этой области. А для Джека в этот период важнее всего было то, что он им понравился, что его приняли дружески, как равного. Это теплое отношение помогло Джеку сбросить с себя неловкость и скованность, угрюмое выражение как ветром сдуло с лица. Он высоко поднял голову, он говорил теперь свободно и с исчерпывающей полнотой. Он нашел свое место. Из членов клуба Джеку больше всего понравился тонкий кареглазый молодой человек по имени Эдвард Эпплгарт, юноша из интеллигентной английской семьи, обосновавшейся в Окленде. Эпплгарт был умен, остер и проницателен. Они с Джеком были ровесники и подолгу гуляли вместе, проводя свободные часы в дружеских беседах, помогая друг другу ясно, логично мыслить. Для Эпплгарта Джек был не бедно одетым, плохо воспитанным юнцом с сомнительной репутацией, а умным, насмешливым, много повидавшим человеком, нищим в настоящий момент, но находящимся на пути к успеху. Эпплгарт привел Джека к себе и познакомил со своей сестрой Мэйбл[1]. Едва перешагнув через порог, Джек влюбился мгновенно, безудержно и без оглядки. Мэйбл Эпплгарт была существом эфирным, с одухотворенным выражением широко открытых голубых глаз и пышными золотистыми волосами. Джек сравнивал ее с бледно-золотым цветком на стройном стебельке. Она говорила красивым голосом, а ее звонкий смех казался Джеку музыкой. Мэйбл была на три года старше его. В ней не было и тени притворства. Она училась в Калифорнийском университете, специализируясь в области английского языка и литературы. Джек диву давался, какая уйма аккуратно уложенных знаний хранится в этой хорошенькой головке. Ее манеры были безупречны; выросшая в сфере искусства и культуры, она обладала тонким чувством такта и уменьем держаться. Джек любил ее, как богиню, которой можно лишь поклоняться. Прикоснуться к ней – святотатство. С каким восторгом увидел он, что Мэйбл относится к нему по-дружески, как к равному. Если бы он знал! Грубая мужская сила, теплой волной струившаяся от него, так же влекла ее, как Джека – ее хрупкость. Джек стал частым гостем в уютном, наполненном книгами и картинами доме Эпплгартов. Они делились с ним книгами, познаниями, опытом – в тех областях, куда его нога еще не ступала. Он внимательно следил за жестами Эпплгартов, их речью. В скором времени соленые словечки стали мало-помалу уходить из его лексикона, остались в прошлом матросская походка вразвалочку и грубоватые манеры. Его стали приглашать к себе другие члены клуба. В их домах он тоже познакомился с интеллигентными девушками, одетыми в длинные, до самого пола, платья, и за чашкой чая беседовал с ними о поэзии, искусстве и тонкостях грамматики. Он стал мягче, и улыбка все чаще скрашивала резкие, четкие линии его лица. Он целиком, с глубокой любовью посвятил себя новым друзьям. До учащихся Оклендской средней школы дошли восторженные отзывы о Джеке Лондоне, обаятельном и исключительно одаренном юноше, которого, несомненно, ждет блестящее будущее, и, поглядывая на своего скучающего, плохо одетого одноклассника, они ломали головы; куда девался у старших здравый рассудок? Члены недавно сформированной Оклендской социалистической партии[2] – одной из первых на тихоокеанском побережье – предложили Джеку вступить в их организацию. Здесь он встретил таких людей, как представитель Британской социалистической рабочей партии Остин Льюис, встретил немецких социалистов, изгнанных из радной страны, – социалистические партии были запрещены в Германии, – людей опытных и зрелых. Для Джека их общество сыграло роль точильного камня, до блеска отточившего его орудие – ум. Социалистическая организация в Окленде представляла собой группу людей, объединенных скорей духовными, чем экономическими интересами. Они собирались вечерами – помузицировать, выпить кружку пива, поразглагольствовать, разбирая тот или иной политический вопрос. Это были интеллигенты, теоретики, не принимавшие непосредственного участия в классовой борьбе: партия пока что не имела в своих рядах ни одного рабочего. Как ни благодарен был им Джек за науку и приятную компанию, он не верил, что социализм – достояние интеллигенции. Социализм принадлежит рабочим и их союзам – тем, кому ходом истории предначертано вести классовую войну, участвовать в боях революции и основать всемирное социалистическое государство, которое, как учил Карл Маркс, явится следующей ступенью развития цивилизации. Он начал ходить на рабочие митинги, рассказывал о социализме в профессиональных союзах, слушал речи в Сити Холл Парке. Однажды, вскочив на скамейку, Джек обратился с речью к большой толпе. Он взволнованно говорил, что капитализм – это система организованного грабежа. Взяв рабочего за горло, капиталист выжимает из него все, что тот создает своим трудом, все до последнего доллара, а потом отбрасывает, как ненужный хлам… Не проговорил он и десяти минут, как послышалось цоканье копыт по мостовой Бродвея, у ограды парка остановилась черная тюремная карета и к Джеку подошли два полисмена. Его провели сквозь толпу к карете, заперли стальную дверцу, провезли по улицам Окленда и швырнули в тюрьму. Джек было запротестовал: он находится в Америке, где людям предоставлена свобода слова, а социализм не преступление. Дежурный в полицейском участке возразил: – Социализм, может быть, и нет, но публичная речь без разрешения карается законом. Оклендские газеты поместили эту историю под огромными заголовками, где Джека называли «мальчик-социалист». Это прозвище осталось за ним на долгие годы. Как Джек Лондон стал социалистом? Он рос в бедности, был знаком с голодом и лишениями, узнал горькую правду о судьбе рабочего человека. Но ведь сотни тысяч его современников-американцев, выросших в голоде и холоде, верили в капиталистическую систему, их цель состояла в том, чтобы захватить свою долю богатства. У Джека в свое время хватило ума понять, что при любой цивилизации определенная часть людей останется на Дороге, вне работы и жизни. Точно так же он отдавал себе отчет в том, что трудности, доставшиеся ему на долю в юности, лишь в какой-то степени были результатом антисоциальной сущности американского капитализма, что голодал он главным образом из-за необдуманных затей своей матушки, лишавших Джона Лондона заработка. Стал бы Джек Лондон социалистом, если бы Флора не вмешивалась в дела Джона Лондона и семья жила безбедно? Пожалуй, да. Следует оговориться, что в этом случае из него скорее всего вышел бы социалист-теоретик или утопист, а не социалист-пролетарий, человек дела. Его удовлетворило бы постепенное – из столетия в столетие – внедрение социализма путем парламентских реформ. Он не поднялся бы с воинственным призывом – «Пролетарии, соединяйтесь! Сбросьте оковы! Силой сотрем с лица земли правящий класс грабителей и хищников!» Джек видел в социализме систему, продиктованную логикой исторического развития производственных и социальных отношений, систему столь же неопровержимую, как таблица умножения. Объем усвоенных им мыслей был пока еще ограничен, но он держал в руках средство, снабдившее его научным методом мышления. Он обладал способностью упрямо, не сбиваясь с пути, следовать за ходом определенной системы взглядов и мужественно принять ее выводы, в какой бы мере они ни противоречили его первоначальным убеждениям. Кроме того, у него был неисчерпаемый источник раздора со всем светом – его внебрачное происхождение. Он не мог враждовать по этому поводу с матерью, этим зла не поправишь. Не мог он и вынести на свет свою обиду; затаившись в темной глубине, она созревала помимо его сознания. В окружающем мире он видел лишь один конфликт, равный по масштабам его внутреннему разладу: а именно – свержение господствующего класса классом угнетенных, представителем которого был он сам. Члены Торговой палаты и представители влиятельных кругов оклендского общества пришли в негодование. Кто-то осмелился проповедовать уничтожение существующего строя, да еще в парке городского управления! В тюрьму его! Однако когда дело разбиралось в суде, судья принял во внимание возраст подсудимого. Джека выпустили с предупреждением, что если нечто подобное повторится, его упрячут в тюрьму. Стоит отметить, что после смерти Джека Лондона мэр Окленда Дэвис посадил в его честь дуб в Сити Холл Парке, недалеко от того места, где Джек был арестован за свою первую пылкую речь. Арест и поднятая вокруг него шумиха сильно подорвали положение Джека. Ему остались верны только оклендские социалисты, Эдвард и Мэйбл Эпштгарты и кое-кто из других членов клуба Генри Клея. Джек жаловался в те дни, что даже настоящие люди, которые относятся к нему прекрасно, считают недопустимым, чтобы их сестры в его обществе появлялись на людях. Перед ним закрылись двери многих домов, куда его ввели члены клуба. Что касается прочих обитателей Окленда, те лишь укрепились в своем впечатлении, что он весьма неприятная личность. Ведь хорошо известно, что он был бродягой, человеком вне закона; в дни, когда он был устричным пиратом, его тысячу раз видели на набережной пьяным и в дурной компании. И родом он был из бедной семьи, докатившейся до самых низов и живущей в худшей части города. Оклендские обыватели были уверены, что если ты социалист, то, вопервых, ты человек безнравственный, а во-вторых, с твоей головой не совсем ладно. Социалист был явлением столь необычным, что к Джеку послали газетных корреспондентов. Когда он смело заявил, что коммунальные сооружения должны перейти в собственность городского самоуправления, он был заклеймен как анархист, смутьян и краснорубашбчник. Интервью появились в печати в виде исследований по патологии, посвященных чудачествам ненормального субъекта. Джек содрогнулся, представив себе, что написали бы о нем газеты, если бы он признался, что верит в обобществление всех средств производства. Мэйбл Эпплгарт была шокирована арестом Джека и недовольна оскорбительным интервью, появившимся в газетах. Тем не менее этот эпизод ничего не изменил в их отношениях. Они как нельзя лучше дополняли друг друга: здоровый, жизнерадостный, грубоватый Джек и хрупкая, утонченная, интеллектуальная Мэйбл. Они то ездили кататься на велосипедах, то устраивали пикники в заросших золотистыми высокими маками полях на Берклийских холмах, откуда был виден весь залив, то отправлялись на долгую прогулку в его ялике. Однажды ранним летом в воскресный день они тихонько плыли вниз по устью залива. Мэйбл чинно сидела на носу в пышном белом платье и шляпе с полями и читала ему печальные стихи Суинберна таким покойным и ровным голосом, что Джек заснул. Начался отлив, и лодка села на мель. Мэйбл не трогала Джека; она знала, как мало ему приходится отдыхать. Проснувшись, он должен был закатать свои единственные парадные брюки выше колен и перенести спутницу по вязкому илу на берег: первый случай, когда дама его сердца находилась так близко от него. Первый семестр в школе Джек в среднем кончил хорошо – с оценкой «Б»[3]. Проработав все лето, чтоб помочь семьсГи скопить несколько долларов вперед, на школьные нужды, он возвратился в Оклендскую среднюю школу. В «Эгиде» по-прежнему появлялись его статьи и рассказы. Уже целых десять! – ни больше, ни меньше. В коротких рассказах, таких как «Еще один несчастный» и «Кто верит в привидения?» заметно верное природное чувство композиции. «Еще один несчастный» – история многообещающего молодого музыканта. Подобно герою Уйды, Синье, юноша хочет покорить своей музыкой весь мир. Пройдя сквозь годы испытаний и убедившись в том, что талант у него самый скромный, он рад был пиликать на скрипке хоть в дешевой пивной, своем последнем пристанище. Как-то ночью он убивает себя, поняв, как недоступно далека мечта его детства. В рассказе «Сквозь шторм», созданном на основе морских похождений на «Софи Сазерленд», автор радуется красотам, ежеминутно сменяющим друг друга. Он следит за полетом строгих, полных грации чаек, любуется великолепными морскими закатами, наблюдает за стаями дельфинов, за китом, выпускающим свой фонтан с наветренной стороны корабля; он видит, как по ночам смутно маячит впереди рулевой, а паруса теряются под темным сводом небес. В каждом звуке гармония. Музыкой кажется скрип блоков, стон уходящей ввысь тугой парусины, плеск воды, захлестнувшей танцующий в волнах нос корабля, удар летучей рыбы, наткнувшейся на парус. Он ликует, когда природа хмурится, когда черные штормовые тучи затягивают небо, а воздух ревет вокруг, как невидимый злой дух, и вместо палубы под ногами кипящие пенные потоки. Радость борьбы горячит кровь, когда побеждены надутые паруса, когда справляешься с непослушной снастью; и прекрасной симфонией звучат для него матросские песни – песни человека, в яростной борьбе за жизнь побеждающего природу. Он нежно любил природу за ее красоту, но прежде всего он любил ее силу, ее несокрушимую мощь, в сравнении с которой люди казались ему пигмеями. Редакция литературного журнала Оклендской средней придерживалась либерального направления. Об этом свидетельствует тот факт, что в «Эгиде» появилась политическая статья Джека «Оптимизм, пессимизм и патриотизм», в которой он обличал власть имущих в том, что они преграждают народным массам путь к образованию. Почему? Да потому, что образование заставит их восстать против своего рабского положения. Он предъявлял капитализму тяжкие обвинения: слишком долгий рабочий день, потогонная система, неуклонное снижение заработной платы, следствием чего может явиться лишь социальный и нравственный упадок общества. «Американцы, патриоты и оптимисты, пробудитесь! – восклицает он. – Вырвите бразды правления у продажных властителей и несите образование массам». В школе знали, что Джек умеет говорить красноречиво и убедительно, вот почему ему предложили выступить на торжественном диспуте в честь начала рождественских каникул. Можно с полной уверенностью сказать, что тема диспута была весьма далека от социализма. Но вот слово взял Джек. Не прошло и пяти минут, как, переступив с ноги на ногу, оратор обрушил на разодетую публику – на школьников, их родителей и друзей – свирепую обличительную критику с позиций социализма. Одна из присутствовавших вспоминает, что никогда не слыхала ничего подобного. Джек говорил, что настало время разрушить существующее общество и что он сам готов бороться с ним любыми средствами и силами. Он говорил с необычайным жаром. Казалось, он забыл, где находится, и его руки уже тянутся к горлу классового врага. Кое-кто испугался, другие решили, что это шутка; некоторым зрелище показалось достойным жалости; они утверждали, что юнец не отвечает за свои поступки, что он просто-напросто страдает манией величия в скрытой форме Представители комитета просвещения требовали крутых мер. Вполне вероятно, что Джек ухватился за единственную возможность: после этого последнего выпада он больше не вернулся в Оклендскую среднюю школу. Чтоб кончить ее, понадобилось бы еще два года, а ему как раз исполнилось двадцать лет и терять время было некогда. Бросив Оклендскую среднюю, он поступил на подготовительные курсы в Аламеде, чтобы подготовиться в университет к осенним вступительным испытаниям. Деньги дала Элиза, На курсах Джек проучился всего пять недель. Он делал такие быстрые успехи, что владелец учебного заведения вернул ему деньги и предложил оставить курсы. Как он сможет поддержать свою хорошую репутацию, если в университете узнают, что двухгодичный курс подготовки можно пройти за четыре месяца? Пять недель, проведенные на курсах, не прошли бесследно. Помимо фактического материала, он познакомился с методом работы. Три следующих месяца он просидел взаперти у себя в комнате и «долбил» книгу за книгой по девятнадцать часов в сутки, не вставая из-за стола, зубрил математику, химию, историю и английский. Он отказался от клуба Генри Клея, от собраний социалистов, пожертвовал даже драгоценными часами в доме Эдварда и Мэйбл Эпплгарт. Утомление давало себя знать: плохо работала голова, ныло тело, подергивались от усталости веки, но воля не дрогнула ни на секунду. Так прошли двенадцать недель, а потом Джек поехал на трамвае в Беркли и провел там несколько дней, сдавая экзамены. Затем, ничуть не сомневаясь, что будет принят, он одолжил чью-то лодку, принес в каюту одеяла, пакеты и банки с едой и рано утром успел вместе с отливом выйти из бухты. С первыми волнами прибоя он направился вверх по заливу и помчался вперед, подгоняемый попутным ветром. Над Каркинесским проливом вставал туман, когда за кормой остались старые береговые знаки – он познакомился с ними впервые, когда носился с Сатаной Нельсоном на «Рейндире», который никогда не убирал паруса. В Бениции он привязал лодку к причалу и поспешил на баржи. Здесь он застал старых приятелей из рыбачьего патруля. Когда по пристани пронесся слух, что вернулся Джек Лондон, сюда начали заглядывать рыбаки – тряхнуть стариной и выпить за здоровье приятеля. Джек полтора года не брал в рот спиртного и тут напился до зеленых чертей. Поздним вечером его бывший начальник по патрульной службе дал ему лодку – на таких лодках промышляют лосося. Джек пополнил свое снаряжение рыбацкой жаровней, кофейником, сковородкой, купил кофе, мяса, свежей рыбы и снялся с причала. Прилив кончился, и могучий отлив, борясь с яростным ветром, вздыбил крутые волны. В Сасунский залив, побелевший от злобно бурлящих потоков, Джек повел свою шаланду. Вздымающиеся волны наполнили ее водой чуть ли не по колено, лодку захлестывало, болтало во все стороны, а Джек хохотал и распевал во все горло «Не обижай мою до-очку!» и «Сюда, бродяги-игроки!», празднуя вступление в мир, где работает и побеждает человеческий мозг. Посвежевший после семидневного плавания, он вернулся, чтоб приступить к занятиям в университете. Рассказывая, как выглядел в то время Джек, Джемс Хоппер говорит, что он представлял собою необычайное сочетание скандинавского матроса и языческого бога древней Греции. Два недостающих передних зуба, беззаботно оставленных где-то в драке, придавали ему совершенно мальчишеский вид. Хоппер говорит, что едва впервые увидел Джека на университетском дворе, как в глаза ему будто брызнул солнечный свет. Волнистая копна его волос казалась «сотканной из золотых лучей солнца», бронзовой от солнца была сильная шея в вырезе мягкой, открытой у ворота рубашки; глаза сверкали, как море под солнцем. Одет он был небрежно, свободно; широкие плечи чуть раскачивались на ходу – память о днях, проведенных на палубе. Он был полон безудержного энтузиазма и гигантских замыслов и собирался ни больше, ни меньше как пройти все курсы по английскому языку и литературе и большую часть курсов естественных наук, истории и философии. В заключение Хоппер говорит, что Джек «излучал щедрое солнечное тепло», был бесстрашен, молод, трогательно чист и кипел бурной энергией. Здесь он встретил одну бывшую ученицу Оклендской средней, на которую год тому назад его поведение и внешность произвели отталкивающее впечатление. Каково было ее изумление, когда она увидела, как он чист, опрятен, счастлив, как свободно чувствует себя в новом окружении. Куда девались неловкость и мрачный вид? Застенчивости, душившей его в обществе школьной мелюзги, как не бывало! Много часов проводил он в университете вместе с Мэйбл Эпплгарт. Здесь же были и его товарищи из клуба Генри Клея. Среди студентов за Джеком уже установилась репутация человека, совершившего отчаянные, романтические поступки. У него появилось много друзей. Он пользовался уважением и любовью. В Калифорнийском университете был сильный состав преподавателей и хорошая библиотека. Джек от души наслаждался работой. Его заметки, посвященные экономическим и политическим вопросам, появлялись в оклендской газете «Тайме», а рассказы – в таких местных журналах, как «Вечера у домашнего очага» и «Любитель богемы», но в университетский литературный журнал «Запад» он, по-видимому, ничего не давал. Он по-старому то здесь, то там брался за случайную работу, а оставшись без гроша, шел занять сорок долларов у Джонни Хейноулда, владельца пивной «Ласт Чане» – той самой, где он спрыснул покупку «Рэззл-Дэззл» первой в жизни рюмкой виски. С шести лет зная, что Джон Лондон – отчим, Джек никогда не слышал и намека, который подсказал бы ему, кто его настоящий отец. Теперь до него каким-то образом дошло, что это Чани. Откуда он узнал об этом? Возможно, сам Джон Лондон, чувствуя, что близится его конец, рассказал Джеку правду – ведь это могло помочь ему разобраться в себе самом. Возможно, Джек слышал пересуды оклендских или санфранцисских старожилов: многим из них было известно его происхождение. Его матери и профессору Чани была посвящена статья – кто знает, может быть, он случайно наткнулся на нее в «Кроникл». Может быть, ему подсказали, чтоб он заглянул в номер этой газеты, где было напечатано известие о его рождении, и Джек обнаружил, что он появился на свет под именем Чани. Наконец брачное свидетельство с подписью «Флора Чани», выданное через восемь месяцев после сообщения в «Кроникл», Флора всегда держала в шкатулке со сломанным замком! Джек поделился своим открытием с Эдвардом Эпплгартом. День был теплый, солнечный; друзья как раз проходили по Бродвею мимо старого колледжа святой Марии. Эдвард рассказывает, что Джек был в страшном замешательстве и попросил у него разрешения дать Чани адрес Эпплгартов. Он решил ничем не выдавать матери, что знает о ее бурном прошлом. Во-первых, он боялся причинить ей боль, а во-вторых, совсем не хотел, чтоб она перехватила ответное письмо Чани. Он просил Чани разрешить сомнения, которыми ему было суждено терзаться до конца своих дней: «Кто мой отец? Правда ли, что о моей матери шла дурная молва, как о женщине безнравственной? Была ли она душевнобольной?» За первый семестр он получил оценки по разряду «А» и «Б» и, проработав рождественские каникулы, вернулся в университет. Через несколько недель, однако, он увидел, что все его попытки получить образование обречены на провал. Долгое время ходили слухи, будто он оставил университет по вине одного профессора английского языка, написавшего на полях поданной Джеком рукописи – это был рассказ – греческий синоним слова «дрянь». Истинная причина куда более прозаична. Джон Лондон ходил по Аламеде от двери к двери, торгуя всякой мелочью, – как ветеран гражданской войны, он получил на это разрешение. Но он был так слаб, что не мог прокормить себя и Флору. Эта обязанность легла на Джека. Если бы не бедность, есть основание полагать, что он продолжал бы учиться в университете, печатая в «Западе» очерки и рассказы. Кто знает, быть может, набравшись терпенья, он выполнил бы все требования учебной программы и закончил университет. Несмотря на то, что семья отчаянно нуждалась, он решил в последний раз испытать судьбу, прежде чем отправиться на поиски новой работы. Он рассудил так: все равно рано или поздно он станет писателем. Так не лучше ли сесть за стол и писать? А вдруг что-нибудь удастся устроить? Вдруг он сможет содержать семью? Зарабатывать не доллар в день – ходячую ставку на трудовом рынке, – а больше? Пять лет он читал, рассуждал и спорил на самые разнообразные темы, обогащал свой мозг, воспламенял воображение. Он видел природу во всей ее красоте, во время шторма и в непогоду – незабываемые картины! Он смотрел в лицо опасности, работал плечом к плечу с людьми самых разных национальностей. Пришло время поделиться своими сокровищами. И Джек снова заперся в комнате. Он писал упорно, день за днем, по пятнадцати часов в сутки. Из-под пера так и лились, сменяя друг друга, солидные очерки, научные и социалистические трактаты, короткие рассказы, юмористические стихи, трагические ямбы и тяжеловатые спенсеровы строфы эпических поэм. Охваченный первым приступом творческой лихорадки, он забывал о еде; он говорил, что из всех, кто был когда-либо так сильно одержим болезнью творчества, он один сумел избежать рокового конца. Едва отпечатав рукописи, он отсылал их на восток, тратя последние гроши на почтовые марки. Когда они возвращались обратно, он по дешевке продавал свои книги и вещи и, занимая, где мог, продолжал писать. Однако когда в доме не осталось ни цента, Джек отложил карандаш и пошел наниматься в прачечную Бельмонтской академии, где учился в свое время Фрэнк Норрис. За еду и квартиру платить не приходилось, так что заработок – тридцать долларов в месяц – он мог отдавать Флоре, оставив себе только на табак. Его работа заключалась в том, чтобы сортировать, стирать, крахмалить и гладить белые рубашки, воротнички, манжеты и белые брюки студентов, преподавателей и их жен. Долгие недели он гнул спину над нескончаемыми грудами белья, работая ночами при электрическом свете, чтобы не залеживалось грязное белье. Набитый книгами сундучок, с такой надеждой привезенный им из дому, так и остался нераскрытым: когда рабочий день был окончен, он ужинал на академической кухне и валился в кровать. По воскресеньям он был способен только лежать в холодке читать комиксы и отсыпаться за всю неделю – восемьдесят рабочих часов. Изредка, если был не слишком измучен, он садился в воскресенье на велосипед и катил в Окленд, чтоб несколько часов побыть вместе с Мэйбл Эпплгарт. Он знал, что загнан в тупик, но куда ему было деваться? Уйти на другое место? Не все ли равно? Если работаешь ради хлеба насущного, некогда отдыхать, некогда читать и думать, некогда жить. Он просто стандартная машина, которой отводится ровно столько пищи и сна, чтоб она не отказала на другой день. Долго ли ему еще надрываться на бессмысленной работе? Как найти путь к жизни, которая ему по душе? Ответ дала судьба. В Клондайке обнаружили золото, и когда весной 1896 года туда хлынула первая гигантская волна золотоискателей, Джек был в числе первых. Флора и Джон Лондоны жили на его тридцатьдолларов. Чтоб заработать для них эти тридцать долларов, он бросил университет, бросил писать. Что ж! Это его не остановило. Он шел на зов Приключения. На выручку снова пришла верная Элиза. Клондайкская лихорадка не миновала и ее мужа, хотя ему было уже за шестьдесят. Элиза заложила дом за тысячу долларов, пятьсот взяла из сбережений и снарядила своих мужчин в дорогу. Джек и Шепард отправились в Сан-Франциско, где вовсю развернулась выгодная торговля снаряжением, необходимым для путешествия на Аляску. Джек с Шепардом купили куртки на меху, меховые шапки, красные фланелевые нательные рубашки, одеяла, палатку, печурку, полозья, ремни и инструменты для постройки нарт и лодок, а кроме того, по тысяче фунтов провианта на каждого. 25 июля 1897 года они отплыли на «Уматилле» – том же самом корабле, на котором Джек приплыл в Сан-Франциско после скитаний по Дороге. Опять он был самым молодым в разношерстном сборище людей, этот крепкий парень, не уступавший лучшим из них в споре, в драке, в работе. В нем не было и тени хитрости или злобы. Все ему нравились, и все платили ему приязнью. На «Уматилле» Джек подружился с Фредом Томпсоном, с шахтером Джимом Гудманом и плотником Слоупером. В трудные дни, ждавшие их впереди, эти четверо оставались неразлучными друзьями. «Уматилла», до отказа набитая отважными золотоискателями, вошла в канал и встала на якорь у города Джуно, где они присоединились к другим одержимым нетерпением путешественникам, ожидающим среди многопудовых мешков с припасами, которые предназначены были защитить их от полярной зимы, и бешено торгующимся с индейцами-носильщиками, чтобы добраться до берега Даии и города Скэгуэй. Джуно они покинули 5 августа. Возбужденных, одержимых нетерпением путешественников переправляли на шлюпках и высаживали на берегу Дайи. Когда Джек Лондон с Шепардом отплывали из Сан-Франциско, им сказали, что за переноску багажа через Чилкутский перевал индейцы берут шесть центов с фунта поклажи. К тому времени, как они добрались до дайского берега, носильщики взвинтили цену до тридцати и сорока центов. Стоило ошеломленному золотоискателю на мгновение замешкаться, как цена подскакивала до пятидесяти. Если бы Джек и Шепард дали эту цену, они остались бы без единого доллара, и от Юкона их вернули бы назад «желтоногие» – северо-западная конная полиция, требовавшая, чтобы, кроме тысячи фунтов провизии, каждый старатель имел при себе пятьсот долларов наличными. У многих не было ни средств, чтобы платить по такой цене, ни сил, чтоб с тюками на спине проделать убийственно-тяжелый путь через Чилкутский перевал. Эти, признав себя побежденными, с обратным рейсом отплыли на «Уматилле» в Сан-Франциско, и с ними – Шепард. Джек остался, остались Томпсон, Гудман и Слоупер. Было 7 августа, и впереди их ждали два месяца тяжелой работы: предстояло перевалить через Чилкут, протащить весь груз за двадцать пять миль к озеру Линдерман, переправиться через озеро, миновать пороги, подняться на сотни миль вверх по Юкону и добраться до Доусона, к золотоносной реке Клондайк. И все это раньше, чем грянут морозы и преградит путь зима. Джек, как специалист по морскому делу, купил челнок. Тщательно погрузив в него провизию, друзья потянули лодку бечевой навстречу течению по реке Дайе, иначе говоря, Линнскому каналу. Достигнув через семь миль подножья Чилкутского перевала, они сгрузили поклажу с лодки, сложили в укромном месте и, пользуясь бурным течением реки, возвратились за новой порцией груза. Много недель пришлось им трудиться, налегая на бечеву, пока все три тысячи фунтов груза были доставлены к подножью перевала. Как известно, Чилкутский перевал – один из самых трудных для переноски клади: каменистый склон поднимается почти вертикально. Джек взвалил на плечи сто фунтов груза и начал брать подъем. С подножья до вершины на километр растянулся сплошной поток людей. Те, кто был постарше и послабее, кто оказался недостаточно смелым, кто всю жизнь просидел в своей конторе, не брал в руки груза тяжелее карандаша, теперь, не выдержав, свалились без сил по сторонам дороги. С первым пароходом эти люди возвращались в Штаты. От работы становилось все жарче. На полпути Джек сбросил с себя пальто и куртку и двинулся вперед с удвоенной энергией, поражая воображение . индейцев своей пламенной фланелевой рубашкой. Немало дней понадобилось Джеку, Гудману, Томпсону и Слоуперу, чтоб переправить через вершину всю свою поклажу. Ни одна написанная им книга не доставила Джеку большего удовлетворения, чем тот факт, что он, выйдя вместе с индейцами-носильщиками, многих оставил позади, хотя его груз был так же тяжел, как у любого из них. Новая партия золотоискателей откололась и повернула назад у берегов озера Линдерман: негде было достать лодок. Джек с друзьями опять укрыли свои припасы в надежном месте и каждое утро шагали по восемь миль вверх вдоль берега к лесопилке, на скорую руку сооруженной Слоупером. Срубив несколько деревьев, они укрепили их и вручную распилили на доски. Теперь Джек Морячок должен был руководить постройкой двух плоскодонных лодок. Он назвал их «Юконская красавица» и «Красавица Юкона» и в день спуска на воду посвятил каждой из них стихотворение. Он выкроил из брезента и сшил паруса, в рекордный срок переправил лодку на ту сторону озера; шансы попасть в Доусон до наступления морозов, таким образом, увеличились. Оставив позади Линдерман, друзья достигли верховья Юкона и приготовились к решающему броску. У порогов под названием «Белая Лошадь» путники увидели, что берег облепили тысячи лодок, а у лодок толпятся тысячи людей. Планы их были сорваны: все лодки, попытавшиеся проскочить через пороги, шли ко дну вместе с командой. Томпсон сказал: – Иди, Джек, посмотри, что это за пороги. Если слишком опасно… Джек привязал обе лодки к берегу. Его обступили со всех сторон. Многие никогда в жизни не садились в лодку, но все в один голос убеждали его, что пороги – верная смерть. Джек поглядел на Белую Лошадь и, вернувшись к товарищам, заявил: – Пустяки! Все другие старались бороться с течением, чтоб не налететь на каменную гряду. Мы пойдем по течению, и нас пронесет мимо. Закрыв груз брезентовым парусом и закрепив его по краям, он поставил Слоупера с веслом на колени в носовой части, Томпсона и Гудмана поместил в центре, а сам уселся за руль на корму. Под ободряющие крики с берега лодка устремилась вслед за основной массой воды, невредимо промчалась через пороги и, достигнув спокойного места, причалила к берегу. Друзья пошли за второй. Джека тотчас же засыпали предложениями перевезти через пороги, другие лодки. Но он взялся провести только лодку супружеской пары, с которой подружился, – отказавшись от всякого вознаграждения. В устье речки Стюарт, в семидесяти двух милях от Доусона, нагрянула зима – действительно как снег на голову. Двигаться дальше стало невозможно. Четыре товарища завладели пустой хижиной на берегу Юкона, нарубили дров и окопались, готовясь выдержать долгую осаду. Зима застигла в устье Стюарта человек пятьдесят-семьдесят, среди которых были врач, судья, профессор и инженер. К берегу реки отлого спускались высокие холмы, местами прорезанные руслами ручьев. Вокруг простирались еловые леса; землю укутал снежный покров более метра толщиною. Долгий путь к Доусону неизбежно приводил к хижине Джека. Из трубы лениво поднимался соблазнительный белый дымок, предвещавший тепло, покой и уют. На этот дымок и пришли в хижину Время-не-ждет, Луи Савой, Пикок, Прютт, Стивене, Мейлмут Кид, Дэл Бишоп, охотники, индейцы, «желтоногие», чечако, закаленные старожилы, люди со всего света, которые обрели бессмертие в увлекательных рассказах об Аляске, написанных Джеком Лондоном. Здесь Джек провел чудесную зиму: общество разнообразное, но всегда приятное, в лагере сколько угодно книг. Джек сам пронес через Чилкутский перевал «Происхождение видов» Дарвина, «Философию стиля» Спенсера, «Капитал» Маркса и «Потерянный рай» Мильтона. Однажды старатель, местный старожил, попав в страшный буран, полуживой еле добрел до хижины. Комната была битком набита народом. В густом табачном дыму все кричали разом, размахивали руками. Услышав, о чем это сборище спорит с таким ожесточением, старатель решил, что в схватке со снежной бурей лишился рассудка. О чем же шел спор? О социализме. Однажды вечером В. Б. Харгрейв, хозяин смежной хижины, случайно подслушал горячий спор о теории Дарвина. Спорили судья Салливан, доктор Б. Ф. Харви и Джон Диллон. Джек лежал на койке, тоже прислушивался к разговору и что-то записывал. Когда друзья запутались в каком-то вопросе, он подал голос: – То место, ребята, которое вы тут никак не можете процитировать, звучит примерно так… И он процитировал отрывок. Тогда Харгрейв сходил в домик по соседству, куда взяли «Происхождение видов», и, вернувшись с книгой, сказал: – Ну-ка, Джек, выдай нам этот кусочек сначала. Проверим по оригиналу. По свидетельству Харгрейва, Джек повторил выдержку слово в слово. Харгрейв вспоминает, что, когда он впервые пришел к Джеку, тот сидел на краю койки, скручивая папироску, Гудман стряпал, Слоупер мастерил по плотничьей части. Джек, оказывается, начал оспаривать ортодоксальные взгляды Гудмана, и теперь Гудман упорно парировал выпады друга. Прервав разговор, Джек поднялся навстречу новому человеку с такой ясной улыбкой, таким радушием и гостеприимством, что всякая сдержанность немедленно растаяла. Гостя тут же втянули в спор. Харгрейв утверждает, что Джек был от природы добр, безрассудно щедр – воистину друг из друзей, король славных малых. Ему была свойственна внутренняя деликатность, которая и в самом грубом окружении оставалась нетронутой. А если в споре противник не мог выкарабкаться из сетей собственных путаных рассуждений, Джек, закинув голову назад, разражался заразительным хохотом. Оценка, которую на прощанье Харгрейв дает Джеку, так искренна, что в ней не хочется менять ни слова: «Не одну долгую ночь, когда всех других уже одолевал сон, просиживали мы с Джеком перед пылающими еловыми поленьями и говорили, говорили часами. Лениво развалясь, он сидел у грубо сложенной печки, отсветы огня играли на его лице, освещая мужественные, красивые черты. Что это был за превосходный образец человеческой породы! У него было чистое, полное радости, нежное, незлобивое сердце – сердце юноши, но без тени свойственного юности эгоизма. Он выглядел старше своих двадцати лет: тело гибкое и сильное, открытая у ворота шея, копна спутанных волос – они падали ему на лоб, и он, занятый оживленной беседой, нетерпеливо отбрасывал их назад. Чуткий рот – впрочем, он был способен принять и суровые, властные очертания; лучезарная улыбка; взгляд, нередко устремленный куда-то в глубь себя. Лицо художника и мечтателя, но очерченное сильными штрихами, выдающими силу воли и безграничную энергию. Не комнатный житель, а человек вольных просторов – словом, настоящий человек, мужчина. Он был одержим жаждой правды. К религии, к экономике, ко всему на свете он подходил с одной меркой: «Что такое правда?» В голове его рождались великие идеи. Встретившись с ним, нельзя было не ощутить всей силы воздействия незаурядного интеллекта. Он смотрел на жизнь с непоколебимой уверенностью, оставаясь спокойным и невозмутимым перед лицом смерти.» Фред Гомпсон купил сани и собачью упряжку и вместе с Джеком отправился разведывать месторождения золота вверх по многочисленным ручьям, питающим воды Юкона. По свидетельству Томпсона, Джек был специалистом по час ги путевой жизни. Он умел разжечь костер во время метели, состряпать чудные лепешки, вкусно поджарить бекон, так натянуть палатку, что в ней тепло было спать и при тридцатиградусном морозе. А Джек, вероятно, сказал бы, что все это – пара пустяков для бродяги из бродяг, который весь год спал под открытым небом без всяких одеял и варил еду в консервных банках, сидя у костра в бродяжьих «джунглях» где-нибудь у железной дороги. Джек с Томпсоном начали свои розыски на Гендерсоне, впадающем в Юкон милей ниже Стюартского лагеря. Там, где быстрое течение помешало льду, они всадили в дно совки и, вынув их, увидели, что в прилипшем песке поблескивают крупинки. Задыхаясь от волнения, они застолбили участок и, погоняя собак, пустились обратно в Стюарт, поделиться доброй вестью. Обитатели лагеря, все до единого, пешком или на собаках двинулись занимать участки.. «Можешь считать, что золото у нас в кармане, – заявил Джеку Томпсон. – Четверть миллиона как пить дать». Как тут было не размечтаться, он вернется в Окленд с мешками, набитыми золотом; широко и безбедно заживут Флора и Джон; он отплатит Элизе за все ее добрые дела и возьмет в жены Мэйбл Эпплгарт; теперь у него будет достаточно времени, чтоб писать и писать. Мечтать пришлось недолго. Старожилы, тоже бросившиеся к Гендерсонову ручью, вернулись с громким смехом. То, что Джек принял за крупинки чистого золога, оказалось просто слюдой. Томпсон говорит, что, насколько можно было судить, Джек не испытал слишком сильного разочарования; еще на «Уматилле» он говорил Томпсону, что едет на Аляску не рыться в песке, а собирать материал для книг. И все-таки вряд ли он мог остаться совершенно безучастным к потере этой «как пить дать» четверти миллиона. Из rex, кто знал Джека на Аляске, лучше всех пишет о нем Эмиль Дженсен, послуживший Джеку прообразом Мейлмута Кида. «Благородный человек», – так вспоминал о нем позже писатель. Дженсен пишет, что первое слово привета на холодном угрюмом речном берегу он услышал от Джека. – Сразу можно сказать, что вы моряк и к тому же с бухты Сан-Франциско, – сказал Джек. – Видно хотя бы по тому, как вы пристали к берегу – гладко, без единого толчка, несмотря на сильное течение и плавучий лед. Дженсен добавляет, что эти слова сопровождались мальчишеской дружеской улыбкой и прямым искрящимся взглядом. Неизменно приветливый, Джек никогда не падал духом, всегда был надежным товарищем. Когда кто-нибудь не соглашался с его социалистическими убеждениями, Дкек говорил: – Подождите, вы еще не созрели, все придет в свое время. По словам Д женсена, домик Джека всегда был средоточием всеобщего интереса: по ширине и многогранности натуры, по уменью приковать к себе внимание слушателей Джек не знал себе равных. Случалось, чья-то история звучала не слишком правдоподобно, и беседующие, недоверчиво пожав плечами, расходились. Джек не уходил. Все упорнее расспрашивал он рассказчика, выпытывал каждую мелочь. В повседневной жизни лагеря решительно все таило для него глубокий смысл, оправдывало каждый час его существования. Он всюду находил нечто новое, ценное – будь то партия в вист, спор или лучи холодного полуденного солнца, сверкающие на южных склонах холмов. Хранил ли он благоговейное молчание, дивясь тому, как загораются ночью снега под таинственными небесами, или, не помня себя от волнения, наблюдал, как вздувается в половодье могучая река, он постоянно трепетал от предвкушения – что впереди? Дженсен рассказывает забавную историю о том, как Джек дал ему «Происхождение видов». Когда Дженсен пожаловался, что книга написана слишком трудно для него, Джек предложил ему в качестве более легкого чтения книгу Геккеля «Загадка вселенной». Но и эта оказалась не по зубам. Тогда Джек выудил из-под груды одеял свое заветное сокровище – «Потерянный рай» Мильтона. Дженсен признался, что не любит стихов. Добравшись вниз по Юкону до хижины, где, по слухам, была книга Киплинга «Семь морей», Джек вернулся к Дженсену и умолил друга прочесть хоть несколько страниц, чтоб почувствовать красоту поэзии. Когда Дженсен, не отрываясь, прочел все до последней строчки, Джек воспринял это как огромную победу. Строчки, в которых Дженсен воздает должное Джеку, заслуживают того, чтобы привести их полностью: «Общение с Джеком было освежающим, полезным и плодотворным. Он никогда не прикидывал: стоит ли еще рисковать, будет ли от этого польза? Он просто был всегда тут как тут, готовый обойти весь лагерь, если нечего читать; подсобить везти сани с дровами; на два дня исчезнуть в поисках пачки табаку, если видел, что мы раздражаемся по пустякам от нехватки курева. Будь то крупная услуга или пустяковая, прошеная или непрошеная, он предоставлял в твое распоряжение не только себя, но и все свое имущество. Лицо его освещалось никогда не меркнущей улыбкой». Много часов провел Джек на койке, читая, занося на бумагу впечатления об Аляске. Он записывал все: услышанные истории, споры, в которых принимал участие, словечки, взгляды, портреты и характеристики людей, побывавших в его доме. Томпсон даже в 1937 г оду ворчливо вспоминал, что иногда не мог упросить Джека наколоть дров: парень, видите ли, был слишком занят проповедью социализма! Многие старожилы Аляски подтверждают, что зимой 1897 года в Стюартском лагере социализм был излюбленной темой. Джек был отнюдь не одинок в своих убеждениях: многие верили в экономические положения социализма Старателям не бросался в глаза комизм ситуации: они, воинствующие индивидуалисты, устремившиеся в погоню за золотом с целью личного обогащения, проводят свободные часы, восхваляя социализм – философию коллективизма. Джек возразил бы, что тут нет ничего странного: пионеры, смелые люди, так же не боятся исследовать незнакомые, полные опасностей далекие страны, как и незнакомые, полные опасностей теории. Когда, наконец, пришла весна, Джек затеял дерзкое предприятие – пошел по стопам своего деда: Маршалл Уэллман в свое время соорудил плот и на нем проплыл от залива Пут-ин-Бей до Кливленда – от границы до границы. Джек с доктором Харви разобрали хижину доктора, связали бревна в виде плота и спустились по реке к Доусону, где и продали бревна за шестьсот долларов. Доусон оказался развеселым палаточным городком с пятитысячным населением и непролазной грязью на главной улице, по обеим сторонам которой выстроились салуны. В них не только пили. В них спали, покупали продукты, совершали сделки, плясали с танцовщицами из дансингов и проигрывали золотой песок игрокам-профессионалам. Продовольствия не хватало, порция яичницы с ветчиной стоила три с половиной доллара, рабочим платили в день унцию золота – примерно семнадцать с половиной долларов. Со всех концов света в город съехались крупные авантюристы. Великое множество проституток под присмотром конной полиции было переправлено за реку, в так называемый Лаус Таун. Подвесной мост на веревках длиною в квартал соединял берега реки. Джек отметил, что тех, кто опасался переходить через мост, среди старателей насчитывалось немного. Томпсон рассказывает, что в Доусоне Джек палец о палец не ударил. Говоря по правде, он все-таки несколько дней поработал, вылавливая из реки бревна и буксируя их лодкой на лесопилку. Но, с другой стороны, зачем работать, если можешь появляться где угодно без денег? Он был желанным гостем у стойки; золотоискатели считали за честь угощать его, лишь бы он слушал их бесконечные рассказы. Он знал, как вызвать человека на разговор, вытянуть из него историю, которая была нужна ему куда больше, чем дрянное виски. Женщинам он нравился, потому что был хорош собой и умел поговорить. У него нет денег? Ну и что же? Зато с ним не соскучишься! Когда слушать было некого, он устраивался где-нибудь на улице и занимал собравшихся собственными рассказами. Вечера он проводил в игорных домах, наблюдая и записывая. Слушал он именно тех, кого нужно, – охотников и старожилов, живших на Аляске до открытия клондайкского золота. Джек по кусочкам впервые восстановил достоверную историю этих мест. Он знал, какой материал ему требуется, знал, как его добыть: собирая ценные сведения для своей будущей работы, он вел расспросы по особому, им самим разработанному методу. На Аляске не было свежей зелени, и Джек заболел цингой. Лицо его покрылось сыпью, а немногие сохранившиеся зубы расшатались. Его положили в Католический госпиталь, куда Томпсон, по собственным словам, внес небольшую плату за его содержание. Здесь его лечили, пока он не окреп для дороги. В июне уроженец Кентукки Джон Торнсон, Чарли Тейлор и Джек в утлой открытой лодчонке отплыли из Доусона и проделали тысячу девятьсот миль вниз по Юкону и вдоль Берингова моря. Джек вел лодку. Они двигались под палящим полуденным зноем, а по ночам причаливали к берегу и располагались на ночлег. Плыли через юконские равнины, звеневшие мириадами комаров; миновали пороги; смотрели, как англосаксы пляшут в местных деревнях с девушками-индианками. По ночам, когда товарищи спали, Джек охотился на дикую птицу, хотя цинга покрыла сплошными кровоподтеками нижнюю половину его тела, а левую ногу так стянула, что он не мог ее разогнуть. Каждый день он делал новые записи в блокноте – о том, как заливаются на заросших островах малиновки, трещат перепелки, нестройно кричат чайки и гагары, как летят дикие гуси, как вспархивают кулики, как красива ночь, когда тихо плывешь вниз по реке. А потом он отмечал на полях; такой-то материал хорошо пойдет в журнале «На свежем воздухе», а такой-то – в «Спутнике юношества». Чтоб покрыть расстояние в тысячу девятьсот миль, Джеку и его друзьям понадобилось девятнадцать дней. Они благополучно проплыли вдоль побережья Берингова моря и причалили у Форта святого Михаила. На корабле, идущем от Святого Михаила в Британскую Колумбию, Джек устроился шуровать уголь, а оттуда четвертым классом путешествовал до Сиэтла. Пробраться от Сиэтла до Окленда товарными поездами для прожженного бродяги не составляло труда. Он приехал домой без гроша в кармане. И все-таки именно он, не добыв на Аляске и унции золота, заработал на золотой лихорадке больше, чем любой старожил, застолбивший участок на золотоносном ручье Бонанза.IV
Дома, на Шестнадцатой улице Восточной стороны, 962, Джек узнал, что умер Джон Лондон. Это было большое горе. Ничего, кроме доброты и дружеского участия, от отчима он никогда не видел. До сих пор само собой подразумевалось, что глава семьи – Джон Лондон. На хлеб насущный зарабатывал именно он, насколько позволяли преклонные годы и слабое здоровье. Теперь главой дома стал Джек. У него прибавилась еще одна забота: Флора усыновила малыша Джонни Миллера, внука Джона Лондона от младшей из дочерей, привезенных им в Калифорнию. Пятилетний мальчик обрел в лице Флоры преданную мать, щедро расточавшую ему всю нежность, которой так недоставало Джеку в печальные годы детства. Джек стремился лишь к одному: стать писателем. Это решение было продиктовано не прихотью, не жаждой славы и богатства, не желанием видеть свое имя в печати. Оно пришло изнутри, было продиктовано властным требованием всей его натуры, его таланта. Его записная книжка была заполнена характерными зарисовками времен Дороги, сценами из быта Аляски, отрывками диалогов, сюжетными композициями – непрошеные, они сами ложились на бумагу, потому что Джек от рождения был наделен способностью остро воспринимать, глубоко чувствовать и свободно владеть словом для передачи своих впечатлений. На протяжении почти двух тысяч миль пути вниз по Юкону на корабле, уносившем его от Форта святого Михаила в Сиэтл, он набрасывал планы и отбирал материал для рассказов, которые собирался написать, вернувшись домой. В Клондайке он был свидетелем таких схваток и столкновений, которые не желали оставаться в его голове и сами просились на бумагу. Чувство долга находило на Джека приливами. Продавая газеты и работая на консервной фабрике, он до последнего цента отдавал свой заработок на еду, квартиру и лекарства для Флоры, а потом отказался от постоянного заработка и стал устричным пиратом. Деньги, добытые пиратским промыслом, шли на нужды семьи, пока он не начал транжирить их в диких попойках. Возвратившись из плавания на «Софи Сазерленд», он купил себе лишь кое-что из одежды, к тому же подержанной, и тут же отдал матери все, что получил на корабле. Когда он работал на джутовом заводе, на электростанции, в прачечной, он брал себе семьдесят пять центов в неделю – и только. Шли томительно-однообразные месяцы примерного поведения, потом пружина останавливалась, чувство долга улетучивалось, и Джек удирал на Дорогу или в Клондайк на поиски приключений. Теперь, в двадцать два года, весь охваченный настоятельной потребностью создавать, отдать жизнь творчеству, он снова мог бы остаться глухим к зову долга и впервые имел бы для этого серьезную причину. Вместо этого он твердо решил на время отказаться от своих замыслов Рассказы подождут. После шестнадцати месяцев вольной жизни чувство долга вновь овладело им с удвоенной силой; «пружина» снова заработала. Он не согласится обречь мать и ее приемыша на лишения. Ведь рассказы нужно еще написать, а потом продать! На это уйдут месяцы. Нет. Близкие нуждаются в самом необходимом; он должен немедленно найти работу. Стояли трудные времена. Дальний Запад все еще переживал последствия кризиса 1893 года, пять лет тому назад загнавшего Джека на джутовую фабрику, где платили пять центов в час. Проворчав сквозь зубы, что в капиталистическом обществе – обществе стяжателей – вечно тяжелые времена, Джек пустился на поиски. Много дней проходил он по улицам и портовым набережным – теперь нельзя было достать и самой грязной, самой черной работы. Он попытал счастья в каждой оклендской прачечной – у него ведь был опыт по этой части. Безуспешно. Из последних денег он истратил два доллара на объявления в газеты. Он сам ходил по объявлениям престарелых инвалидов, искавших компаньона; ходил из дома в дом, продавая швейные машинки, как Джон Лондон в Сан-Франциско двадцать лет тому назад. Он чувствовал, что на рынке рабочей силы он – выгодный товар: крепок, здоров, сто шестьдесят пять фунтов чистого веса. И при всем этом он не мог найти ничего, кроме случайной работы, такой же самой, какой занимался учеником Оклендской средней; тут скосить газон, там подстричь живую изгородь, помыть окно, выбить ковры на заднем дворе. Даже доллар в день заработать удавалось редко. Мэйбл и Эдвард Эпплгарты устроили в честь его приезда обед. Среди приглашенных были старые друзья Джека из дискуссионного клуба Генри Клея. Джека трясли за руки, хлопали по плечу – они так рады, что он вернулся к ним в Окленд. Тронутый теплым приемом, Джек на славу угостил их рассказами о Клондайке и… каждого зазывал в уголок; «Не знаете ли, ч где найти работу?» Никто не знал. После шестнадцати месяцев разлуки, после суровой жизни среди старателей Стюартского лагеря и Д оусона Мэйбл показалась Джеку еще нежней – и прекрасней. Когда последний из членов клуба, наконец, распрощался и ушел, а Эдвард тактично удалился к себе, Мэйбл потушила верхний свет, тихо взяла Джека за руку, подвела к роялю и, аккомпанируя себе, стала петь. Это были песни, которые он слушал в тот день, когда впервые пришел в этот дом, и она почувствовала, как ее и тянет и отталкивает его грубая мужественность и сила. Джек стоял прямо перед ней, опершись на рояль, опьяненный музыкой, тонким запахом духов. Мйэбл видела, как светятся его глаза. И она – она его любит! Разве не поэтому с такой полнотой звучит ее мелодичный, негромкий голос? Словами сентиментальной баллады она признается ему в любви. Да, но еще не время открыться, он не имеет права увести ее из этого изысканного дома, лишить ее книг, картин, музыки. Что может он предложить ей? Тряпье да полуголодную жизнь? Наутро ему попалось на глаза объявление в оклендской газете: проводились отборочные экзамены для работы на почте. Джек стрелой полетел на главный почтамт, прошел испытания и выдержал, набрав 85,38 очка. Если бы для него сразу же нашлась свободная вакансия, он бы в скором времени уже бегал вдоль оклендских улиц с почтовой сумкой. Случайно подвернувшаяся работа не заполняла его день целиком, да и денег на семью не хватало. В воскресном приложении к выходящей в Сан-Франциско газете «Экзаминер» Джек прочитал, что минимальная ставка в журналах – десять долларов за тысячу слов. У него готов интересный материал – он чувствовал, как рассказы просятся на бумагу. Усевшись за грубый деревянный стол, поставленный Флорой в его крохотную – два с половиной на три метра – комнатку, он написал повесть – тысячу слов – о путешествии в открытой лодке вниз по Юкону и вечером отослал ее в Сан-Франциско редактору «Экзаминера». Ему и в голову не приходило, что так начинается его литературная карьера, – он просто старался заработать десять долларов, чтобы задобрить квартирного хозяина и продержаться, пока не освободится место почтальона. Он ведь уже решил отложить штурм литературных высот до тех времен, когда умудрится сколотить сотню-другую долларов или по крайней мере не будет единственным кормильцем в семье. Но, вкусив радость творчества, он уже не мог оторваться – и немедленно ушел с головой в повесть для «Спутника юношества» – тысяч эдак на двадцать слов. У него уже был наметан глаз на подобные произведения – он читал этот журнал в библиотеке; длину главы он рассчитывал, исходя из стандарта. Не успел он отдать себе отчет в том, что происходит, как готовы были семь из серии рассказов об Аляске, давным-давно сложившиеся у него в голове. Стоило чуть-чуть приоткрыть шлюзы, как обильный поток хлынул в едва заметную щелочку и с ним нельзя было совладать. О почтовой вакансии что-то не было слышно. «Экзаминер» не прислал десяти долларов; мало того, даже не подтвердил, что рукопись получена. Оставшись без гроша, без куска хлеба, Джек заложил велосипед, подаренный ему Элизой, чтобы ездить в Оклендскую среднюю. Последовало категорическое требование домохозяина: «Платите или убирайтесь», – и Джек заложил часы – подарок Шепарда, мужа Элизы. Заложил макинтош – единственное, что осталось ему в наследство от Джона Лондона. Подвернулся старый портовый приятель с завернутой в газету фрачной парой. Стащил? Объяснение звучало не слишком убедительно. Джек отобрал у него сверток, вручил взамен сувениры, привезенные с Аляски, а фрачную пару заложил за пять долларов. Большая часть этих денег пошла на марки и конверты: рукописи росли горой, нужно было рассылать их в журналы. Он по-прежнему не отдавал себе отчета в том, что становится профессиональным писателем. Просто человек попал в крайне стесненные обстоятельства, не может найти работу, помощи ждать неоткуда – вот он и старается очертя голову извлечь пользу из своего непризнанного таланта: ему во что бы то ни стало нужно достать денег – денег на хлеб. А там освободится место, и он поступит на работу. Наступила зима, а он все еще ходил в легком летнем костюме. Бакалейщик на углу отпускал ему в долг, пока товару не набралось на четыре доллара, а потом отказал и был тверд как скала. Мясник из лавки напротив оказался добрее, но и тот дальше пяти долларов не пошел. Элиза, верный друг, тащила Лондонам все, что могла урвать со своего стола, подсовывала Джеку мелочь на бумагу и табак – без них он не мог существовать. Джек похудел, щеки ввалились, пошаливали нервы. На рынке рабочей силы он бы уж больше не выглядел товаром высшего сорта. Раз в неделю была возможность поесть мяса – и досыта: у Мэйбл. Он с трудом сдерживал аппетит за столом – любимая девушка не догадается, что он голодает! Надежды его оставались радужными. Журналы платят десять долларов за тысячу слов – это он помнил твердо. В каждой отосланной рукописи – от четырех до двадцати тысяч слов. Если возьмут хоть одну – семья спасена. А в глубине души, поддерживая его дух, не гасла надежда: а может быть, – чего не случается! – возьмут два или даже три рассказа? Тогда-то уж он сумеет зарабатывать литературой, тогда не придется по воле безысходной нужды становиться почтальоном. Он не рассчитывал на золотые горы; десять долларов за тысячу слов – на большее он не надеялся. Таким образом, даже если бы каждая строчка пошла в печать, он получил бы не более трехсот долларов в месяц. А вернее всего, сто пятьдесят или даже меньше! Хватаясь за соломинку, – а вдруг напечатают? – он так глубоко погрузился в свои рассказы, что с трудом отрывался от стола, чтобы скосить газон или выбить ковры. Семья докатилась до точки. Флора не зря вытерпела двадцать лет почти непрерывного голода. Она была закалена, и только это ее выручало. От недоедания Джек ослаб, потом и вовсе свалился. Просто собраться с мыслями – и это было теперь для него почти невозможно. Он таскал на себе такое тряпье, что пришлось отказаться от единственного вечера в неделю у Мэйбл. В конце концов он дошел до того, что рад был бы опять взяться за угольную тачку на электростанции и получать тридцать долларов в месяц. С каждым днем ему становилось все хуже. Тело терзал голод, душу – неуверенность в будущем. Снова мысли его обратились к самоубийству, как в ту памятную ночь на Беницийской пристани, как в тоскливые дни на Дороге. Если бы Джек не боялся бросить на произвол судьбы Флору и малыша Джонни, он покончил бы с собой. Друг его детства, Фрэнк Эзертон, пишет; «Джек составлял прощальные письма, как вдруг к нему пришел проститься один приятель – тот тоже решил, что хватит тянуть канитель». По-видимому, стараясь отговорить друга, Джек отыскал такие красноречивые доводы, что заодно разубедил и себя. И тогда-то, в одно безрадостное утро в конце ноября, на имя Джека пришел тонкий продолговатый конверт из литературного журнала «Трансконтинентальный ежемесячник». Журнал, известный по всей стране, основанный Брет Гартом в Сан-Франциско в 1868 году. Один из рассказов об Аляске принят! Он послал туда «За тех, кто в пути». Рассказ напечатают! С быстротою молнии он стал подсчитывать в уме: рукопись в пять тысяч слов, десять долларов за тысячу, значит, здесь чек на пятьдесят долларов. Спасен! Можно продолжать писать! Воображение с трепетом срывало пелену, за которой скрывались светлые перспективы будущего. Он опустился на край кровати и дрожащими пальцами надорвал конверт. Чека не было. В конверте лежало только официальное уведомление редактора, что рассказ «признан годным». По выходе его в свет автор получит пять долларов. Пять долларов! Он просидел над рукописью пять дней! Тот же доллар в день, что и на консервной фабрике, на джутовом заводе, на электростанции, в прачечной! Потрясенный, не в силах шевельнуться, дрожа как от озноба, он сидел, уставившись застывшим взглядом в одну точку. Его одурачили. Легковерный болван! Поверил воскресному приложению! Оказывается, журналы передергивают в игре – платят цент не за слово, а за десять! Да, на такие деньги не проживешь. Содержать семью? Об этом нечего и думать. Пусть он создаст хоть шедевр, пусть пойдет в ход все, что выводит на бумаге его жирный карандаш. Надежды нет! Богатые – только они могут позволить себе роскошь писать. Он потащится стричь газоны. Он будет выбивать ковры. Надо как-то продержаться, пока освободится место на почте. В тот же день на имя Джека пришел еще один тонкий продолговатый конверт. Если бы не это совпадение, сам Джек пережил бы этот день, но его творчество – никогда. На этот раз – из журнала «Черная кошка», выходившего на востоке. «Черная кошка» получила рассказ, написанный в короткий период лихорадочной работы между Калифорнийским университетом и паровой прачечной Бельмонтской академии. Владельцем и издателем «Черной кошки» был некто Умстеттер, немало сделавший для поощрения молодых американских писателей. Умстеттер писал Джеку, что рассказ его «скорее длинноват, чем сильноват», но если Джек выразит согласие, чтобы рукопись из четырех тысяч слов была сокращена вдвое, то он, Умстеттер, немедленно вышлет ему чек на сорок долларов. Согласие? Да ведь это согласие означает двадцать долларов за тысячу слов, то есть вдвое больше, чем он думал. Его все-таки не одурачили. Он совсем не болван. Он действительно сможет прокормить семью, занимаясь любимым делом. Он написал Умстеттеру – пусть сокращает рассказ вдвое, лишь бы выслал деньги. Обратной почтой Умстеттер выслал сорок долларов. Вот как и почему, говорит Джек, он все-таки не выбыл из игры. Первым делом он направился в ломбард и выкупил велосипед, макинтош и часы. Потом уплатил долги, четыре доллара бакалейщику, пять – мяснику. Он натащил в дом гору снеди, купил подержанный зимний костюм, бумаги, пачку карандашей. Взял напрокат пишущую машинку. Вечером на кухне он устроил пирушку, а наутро заехал за Мэйбл Эпплгарт. Сев на велосипеды, они проехали рядом через город и взобрались на свой излюбленный холм. Стоял прелестный ясный день. Солнце подернулось дымкой; то тут, то там пробегал ветерок. В ложбинах между холмами, похожие на легкую т.кань, сплетенную из чистого цвета, прятались лиловые облачка тумана. Тусклым блеском расплавленного металла отливал залив; парусники покачивались на месте или медленно плыли, отдаваясь ленивому течению. На другой стороне смутными очертаниями парил СанФранциско. Едва угадывалась вдали окутанная серебристым маревом глыба горы Тамальпайс, а дальше, на горизонте, поднимались от Тихого океана и тянулись к берегу крутые глыбы облаков. Здесь, лежа в высокой траве рядом с первой женщиной, которую он полюбил, Джек рассказал о том, что «Трансконтинентальный ежемесячник» и «Черная кошка» приняли его рассказы. Мэйбл вскрикнула от радости. Большой путь проделал Джек за каких-то три года! Она счастлива за него. Рука Джека тихонько потянулась к ней, обняла ее и медленно, ласково притянула поближе. Руки девушки легли на его теплую загорелую шею; Мэйбл показалось, будто она чувствует, как в ее слабое тело переливается его сила. Мэйбл Эпплгарт была полной противоположностью Джеку. Он был крепким, сильным; она – тоненькой, хрупкой. Он пренебрегал условностями; она только ими и жила. Он шел трудной мужской дорогой, ничем не защищенный от жестокого мира; она жила под надежной защитой, окруженная заботой и вниманием. Он ломал традиции; она им подчинялась. В нем бурлила кипучая жизненная сила; ее влекло к тишине и уединению. Он был никому не подвластен; она целиком подчинялась матери – эгоистичной, властной женщине, зорко следившей за каждым ее шагом. Джек знал, что миссис Эпплгарт возлагает на будущее Мэйбл большие надежды, собираясь выдать ее замуж за человека состоятельного, чтоб поправить дела семьи, – капитал, привезенный мистером Эпплгартом из Англии, был вложен неудачно: предприятие лопнуло. Джек не боялся миссис Эпплгарт. Даже в самом худшем случае справиться с ней будет не труднее, чем с незарифленным «Рейндиром», штурвалом «Софи Сазерленд» во время шторма, «слепыми» вагонами трансконтинентального экспресса или порогами Белой Лошади. Уплетая толстые бутерброды, упакованные Джеком еще с вечера, влюбленные решили, что в течение года будут помолвлены, а к тому времени Джек так прочно встанет на ноги, что они смогут пожениться. Маленький домик, полки с книгами, по стенам – картины, рояль, чтоб Мэйбл могла играть и петь для Джека. Рабочая комната, где он будет писать первоклассные рассказы и романы. Жене придется просматривать рукописи – не закрались ли в них случайно грамматические ошибки. У них будет достаточно денег и множество интересных, умных друзей. Они будут вместе воспитывать детей, путешествовать и будут очень счастливы, очень! Догорал сверкающий день, а они все сидели, поражаясь великому чуду любви и странной прихоти судьбы, столкнувшей их друг с другом. Заходящее солнце окунулось в облака, клубившиеся на горизонте, небесный купол порозовел. Мэйбл в объятиях Джека негромко запела: «Чудесный день, прощай». Когда она допела до конца, он еще раз поцеловал ее, и, доверив свои судьбы друг другу, они рука в руке спустились с холма и на велосипедах вернулись в Окленд. Из сорока долларов, присланных «Черной кошкой», у Джека осталось ровно два. Он накупил марок, чтобы разослать рукописи, возвращенные журналами Востока. Прежде он забросил их под стол – не было денег, чтобы купить марки. И вот он опять окунулся в работу, отсылая рукописи, как только они выходили из-под машинки. Но одна ласточка не сделала весны: другие его рукописи возвращались с обычной формулой отказа. Продукты постепенно таяли на полках кухни. Часы, велосипед; макинтош и, наконец, теплый зимний костюм отправились обратно в ломбард. Пусть журналы платят по центу за слово, пусть хоть по доллару, ему-то что? Он не может продать ни строчки. 16 января 1899 года ему прислали письмо из почтового ведомства: вызов на работу. Постоянное место. Работа на всю жизнь. Шестьдесят пять долларов в месяц. Можно обедать ежедневно, завести приличный костюм – новый, не подержанный: такую роскошь он не мог позволить себе в двадцать три года. Можно накупить книг и журналов – как он изголодался по ним! Можно на славу обеспечить Флору и Джонни. А если Мэйбл согласиться на время пожить в его семье, можно сразу пожениться. Джек и Флора трезво, взвесив все «за» и «против», обсудили положение вещей. Если он будет и дальше писать, им предстоит вынести годы лишений. Но, допустим, он станет почтальоном. К чему тогда обильный стол, новое платье, книги и журналы? Разве он затем живет на земле, чтобы наряжаться, ублажать себя вкусной пищей и развлекаться чтением? Нет. Он живет, чтобы творить. Он способен вынести все лишения, на которые обрекает себя художник. Яства? Материальные блага? Каким серым и мелким кажется все это человеку, обладающему сокровенным источником высокой радости – талантом! Но вот Флора – что поддержит ее в трудную минуту? Если бы она закатила сцену, изобразила сердечный припадок, стала бы слезно молить его, Джек, может статься, поступил бы на почту. Но эта мать, родившая сына на свет вне брака, лишившая его любви и нежности, отравившая его юность нуждой, сумятицей, горькими обидами, теперь твердо объявила ему, что нужно писать, нужно работать над рассказами, что у него есть талант – стало быть, он добьется успеха. Неважно, если это случится не скоро. Он может твердо рассчитывать на ее поддержку. Ибо успех Джека на поприще писателя явился бы торжеством Флоры Уэллман, заблудшей овцы семейства Уэллманов из Мэслона. Теперь, когда решение было принято раз и навсегда, Джек с присущей ему твердостью горячо и страстно взялся за дело. Чтобы стать писателем, нужны были две вещи: знания и уменье писать. Он понимал, что ясно пишет тот, кто ясно мыслит. Если он мало образован, если в мыслях путаница и неразбериха, откуда ждать точного стиля? Лишь достойные мысли находят достойное выражение. Он знал ему предстоит нащупать внутренний пульс жизни; сумма его активных знаний должна стать для него рабочей философией,сквозь призму которой он будет рассматривать мир, чтоб все измерить, взвесить, подытожить и объяснить. Нужно получше узнать историю, познакомиться с биологией, с теориями происхождения и развития жизни на земле, с экономикой и сотней других важных отраслей знания. Они увеличат его кругозор, дадут перспективу, раздвинут границы области, в которой он собирается работать. Они снабдят егофабочей философией, и подобной не будет ни у кого другого. Они научат его мыслить самобытно, помогут найти новое, существенное, к чему прислушается пресыщенное ухо мира. Он не намерен писать банальные пустячки, поставлять сладенькие пилюли для мозгов, страдающих несварением. Итак, он взялся за книги и повел осаду на заключенную в них мудрость. Он был не школьником, который перед экзаменом зубрит от сих и до сих, не случайным прохожим, остановившимся на дороге, чтобы согреть руки у великих огней знания. Он добивался знаний со страстью влюбленного; торжествовал, узнав новый факт, усвоив новую теорию, опрокинув старую точку зрения, чтобы утвердиться в новой; одержана еще одна победа! Он исследовал, выбирал, отбрасывал, пытливо анализировал прочитанное. Блеск имен не ослеплял его, не внушал благоговения. Великие умы оставляли его равнодушным, если не дарили ему великих идей. Традиционные рассуждения весьма мало значили для этого человека, который попирал все традиции на своем пути. Он сам повергал в прах идолов, его не пугали и не отталкивали чужие мысли, идущие наперекор общепринятым устоям. Он был честен и смел, он шел к истине прямой дорогой и превыше всего любил правду – это и были четыре обязательных условия для познания мира. Несмотря на пробелы в образовании, он ощущал в себе природные задатки ученого. В мире знаний он ориентировался не хуже, чем в штурманской рубке, не пугался неизвестных книг: он знал, что его трудно сбить с дороги, на которой он провел достаточно времени, чтоб знать, какие земли надо разведать. Он был не из тех, кто подходит к книге с отмычкой, чтобы осторожненько взломать замок и украдкой стащить содержимое. Когда Джек Лондон, прокладывая тропу сквозь дебри, натыкался на новую книгу, он набрасывался на нее, как голодный волк, припавший к земле для прыжка. Он вонзался зубами в глотку; он яростно боролся с книгой, пока она не сдавалась, и тогда жадно высасывал из нее кровь, пожирал ее плоть, разгрызал кости так, что каждая клеточка становилась частью его существа, передав ему свою силу. Он пошел назад, начав с отца экономической науки Адама Смита и его «Богатства народов», и двинулся дальше; проштудировал Мальтусов «Опыт о законе народонаселения», «Теорию распределения» Рикардо, «Экономические гармонии» Бастиа, ранние немецкие теории стоимости и прибыли, «Участие в распределении доходов» Джона Стюарта Милля – и еще дальше, в исторической последовательности, пока не дошел до основоположников научного социализма – здесь он почувствовал под ногами знакомую почву. Знакомясь с политическими учениями, он начал с Аристотеля, вместе с Гиббоном прошел сквозь расцвет и падение Римской империи; проследил, как возник и развивался конфликт между церковью и государством в средние века, как повлияли на политическую структуру реформации Лютер и Кальвин; в книгах английских мыслителей Гоббса, Локка, Юма и Милля познакомился с началами современных политических концепций; узнал, как, вызванная к жизни экономической революцией, возникла республиканская форма правления. Изучал труды философов: Гегеля, Канта, Беркли, Лейбница; антропологов; Боаса, Фрейзера. Он и прежде читал Дарвина, Гексли и Уоллеса. Теперь он вернулся к ним с гораздо более глубоким пониманием. По социологии он глотал все, что мог найти: труды, посвященные безработице, цикличности производства и кризисам, причинам и способам ликвидации бедности, условиям жизни в трущобах, криминологии, благотворительности; с головой зарылся в теории тредюнионизма. Все прочитанное он тщательно конспектировал, завел карточный каталог, чтобы иметь под руками нужный материал. Но метод установления связи между различными направлениями человеческой мысли, усвоенными Джеком для его рабочей философии, – этот долгожданный метод он нашел только после того, как открыл «Основные начала» Герберта Спенсера. Эта встреча явилась, пожалуй, самым замечательным приключением в его насыщенной приключениями жизни. Как-то раз, просидев долгие часы над Уильямом Джеймсом и Френсисом Бэконом, он написал еще сонет в виде закуски и забрался в постель с книгой под названием «Основные начала». Наступило утро, а он все читал. Продолжал он читать и весь день, сползая время от времени на пол, когда уставал лежать в кровати. Он понял, что до сих пор лишь скользил по поверхности, замечая отдельные явления, накапливая отрывочные сведения, прибегая к неглубоким обобщениям. Все в мире представлялось ему беспорядочным и переменчивым, все совершалось по прихоти случая, все явления казались ничем не связанными друг с другом. И вот пришел Спенсер. Этот человек привел все его знания в систему, свел их воедино, показав его изумленному взору вселенную, в которой все так уяснимо, так конкретно, что она похожа на модель корабля в стеклянной банке – такие любят мастерить матросы. Никаких случайностей; все подчинено непреложному закону. На Джека это открытие подействовало гораздо больше, чем открытие золота на Гендерсоновом ручье: можно было не сомневаться, что монизм Спенсера не обманет, не окажется слюдой. Герберт Спенсер сорвал с его глаз пелену, опьянив Джека, открыв ему сокровенные тайны. В куске мяса, лежавшем у него на тарелке, Джек видел теперь сверкающий сгусток солнечной энергии. Продумывая в обратном порядке все ступени превращения этой энергии в мясо, он проходил миллионы миль, добираясь до ее источника. Потом он представлял себе дальнейший ход превращений: вот она становится мускульной энергией его руки, когда рука режет мясо. Но мускулы повинуются приказаниям мозга, и Джек мысленно видит сверкающий сгусток энергии в своем мозгу. Его мозг и солнце состоят из одной и той же материи, взаимно проникают друг в друга. Герберт Спенсер показал ему, что все вещи в мире связаны – от самых далеких звезд в просторах вселенной до последнего атома в песчинке под ногою. Человечество, человек, личность – все это лишь одна из причудливо меняющихся форм существования протоплазмы. Дарвин, Спенсер, Маркс и Ницше – вот духовные отцы Джека Лондона. К этим четырем великим умам Англии и Германии девятнадцатого столетия непосредственно восходит его рабочая философия. Требовалась немалая твердость духа, чтоб в 1899 году изучать труды этих революционеров[4], служивших мишенью для злословия и яростных нападок. Нужно было обладать ясным и проницательным умом, чтобы их понять. У Джека было то, что требовалось: и смелость и разум; четыре учителя сделали его жизнь богаче, философию – полнее, углубили его здоровый скептицизм и любовь к истине ради истины. Одним ударом смели они мусор средневековой схоластики и снабдили Джека неумолимо логичным научным методом познания. Джек не остался в долгу: в форме художественных произведений он передал их теорию людям. Но, вероятно, самое большое впечатление произвел на Джека все-таки Фридрих Ницше, судьба которого была сродни его собственной. Ницше, сын пастора, пострадал от необузданного рвения святош не меньше, чем Джек от безудержного увлечения матери зловещим ритуалом спиритических сеансов. Вот почему Джек восставал против всяческих проявлений религиозного чувства, против веры в сверхъестественные силы, в потустороннюю жизнь, в бога, правящего вселенной: «Я верю, что после смерти от меня останется не больше, чем от самой ничтожной мошки, раздавленной рукою человека». Христианскую религию он считал чистым вымыслом, скрытым под нагромождением пустых обрядов. Он был убежден, что религия – всякая и всяческая – злейший враг человека, ибо она притупляет мозг, одурманивает его догмами, вынуждает слепо принимать все на веру, парализует самостоятельную мысль. Религия не дает человеку чувствовать себя хозяином на своей планете – следовательно, мешает ему улучшить жизнь. У Ницше Джек нашел подтверждение всем своим мыслям о мишуре, лицемерии и фальши религии. Больше не оставалось сомнений, что Ницше вырыл могилу для христианства, – так блистательно все это было изложено. Там же, у Ницше, он обнаружил теорию сверхчеловека – существа, превосходящего своих собратьев умом, ростом, силой, способного преодолеть все преграды и повелевать толпой. Философия сверхчеловека пришлась Джеку по вкусу, потому что самого себя он считал сверхчеловеком, гигантом, который опрокинет все преграды, чтобы в конце концов повести за собой толпу. Его, очевидно, не смущал тот факт, что философия, провозглашающая господство сверхчеловека, внушила его создателю отвращение к социализму как власти слабых и бездарных и привела Ницше к осуждению тред-юнионов, так как они внушают рабочим недовольство своей судьбой. Джек будет исповедовать социализм и ницшеанство одновременно, если даже они взаимно исключают друг друга. Всю жизнь он оставался индивидуалистом и социалистом; индивидуализм был нужен ему для себя – он ведь сверхчеловек, белокурая бестия, победитель, а социализм – для тех, кто слаб и нуждается в защите, для масс. Не один год ухитрился Джек проскакать на этих двух философских рысаках, хотя они тянули в разные стороны. Образование – это была одна задача. Но Джеку не давала покоя и другая, куда более безотлагательная: как заработать на жизнь. Долгими часами просиживал он в бесплатной читальне при библиотеке, придирчиво разбирая по косточкам журналы, сравнивая чужие рассказы с собственными и ломая себе голову – в чем секрет? Каким образом удалось авторам напечатать эту беспросветную, безжизненную, серую мертвечину? Что за бесчисленное множество коротких рассказов! Они написаны легко и, видимо, умелой рукой, но – удивительное дело! Ни проблеска жизни, ни проблеска правды. В жизни столько странного и чудесного, жизнь полна грандиозных задач, замыслов, свершений! А эта журнальная стряпня сплошь посвящена слезливой банальщине. Ну, нет! Это не в его вкусе! Он ощущает неудержимый темп жизни, ее лихорадочный пульс, ее напряжение, ее мятежный дух – вот о чем нужно писать! Ему хотелось воспеть вождей смертельно опасных походов; влюбленных, готовых на любое безумство во имя любви; людей-исполинов, неустрашимо прокладывающих себе путь наперекор стихиям, среди несчастий и ужасов, так что мир содрогается под их могучей поступью. А журнальные писаки? Ричард Хардинг Дэвис («Солдаты судьбы», «Княжна Алин»), Джордж Барр Маккачин («Граустарк»), Стенли Вейман («Кавалер Франции», «Под красной мантией»), Маргарет Деланд («Джон Уорд, проповедник»), Клара Луиза Бернхэм («Доктор Латимер», «Мудрая женщина») – похоже, что все они и иже с ними боятся взять поглубже, добраться до истинной жизни без прикрас. Они наскоро малюют розовой краской, уклоняются от правды, набрасывают на своих героев покрывало ложной романтики, избегают всего, что может по-настоящему задеть за живое. Разобравшись, Джек решил, что в основе этой позиции кроется страх. Да, это было страшно – не угодить, не понравиться издателям, оттолкнуть читателя, настроить против себя печать, держателей акций, утратить благосклонность подчиненной капиталу церкви и школы. Они пресны и слабосильны, эти бумагомаратели, эти бесхребетные слюнтяи, эти евнухи от литературы: боятся свежего воздуха, боятся грубой правды, а пуще всего боятся коснуться неприятного. Оригинальность, рабочая философия, знание жизни? Куда там! Все, что у них за душой, – рецепт, как состряпать романчик на сахарине. Скудный ум, убогая литература. Пигмеи! Лишь титаны дерзают скрестить мечи с подлинной литературой. Нет уж, его читатели и редакции пусть примут на его собственных условиях. Он обратился к тем писателям, которые, как он полагал, шли в литературе своими, неповторимыми путями; Скотту, Диккенсу, По, Киплингу, Джордж Элиот, Уитмену, Стивенсону, Стивену Крейну. Он захлебывался творениями Шекспира, Гёте, Бальзака – триумвирата гениев, как он их называл. Спенсер, Дарвин, Маркс и Ницше научили его думать; духовные отцы по литературе – Киплинг и Стивенсон – научили писать. Теперь, когда он овладел рабочей философией научного детерминизма, чтобы рисовать цельные, органические образы, когда он добился ясности стиля, он создаст здоровые, свежие, правдивые книги. Одним из величайших чудес на земле были для Джека слова – прекрасные, звучные, острые, колючие, хватающие за душу. Тяжелые ученые фолианты он всегда читал со словарем под рукою, выписывал все непонятное на листочки бумаги и засовывал эти бумажки за зеркало шифоньерки, чтобы заучивать наизусть во время бритья или утреннего туалета. Он развешивал списки слов на бельевой веревке, закрепив их бельевыми зажимами, чтобы всякий раз, поднимая голову или проходя по комнате, видеть новые слова с объяснением их смысла. Он рассовывал списки по карманам, зубрил по дороге в библиотеку или к Мэйбл, бубнил за обеденным столом и укладываясь спать. Зато, когда во время работы над рассказом требовалось найти меткое слово и из сотен листочков возникало то самое, единственно верное, он радовался до глубины души. Но как прорваться сквозь каменную баррикаду, воздвигнутую редакторами, чтобы защитить «чистую» публику от натиска дикарей с Запада? Помочь, посоветовать было некому. Он вел борьбу в одиночку, вслепую. Надеяться приходилось только на себя – на собственные силы, решимость, литературный вкус. Другой поддержки не было. Джек изливал всю свою душу в очерках и рассказах; когда вещь была готова, он складывал ее как полагается, не забывал вложить в продолговатый конверт нужное количество марок для ответа, еще несколько наклеивал снаружи и опускал в почтовый ящик. Конверт совершал путешествие по стране, и через определенное время почтальон приносил его обратно. Может быть, на том конце пути вообще нет никакого редактора, а есть просто хитроумное приспособление из зубчатых шестеренок, перекладывающее рукопись из одного конверта в другой и наклеивающее марки? Время! Время! Вот чего ему постоянно не хватало – времени, чтоб научиться, чтоб овладеть ремеслом, пока безденежье еще не выбило из его рук перо. В сутках слишком мало времени для того, что ему нужно сделать. Нехотя отрывался он от работы над рассказом, чтоб засесть за научный труд. С усилием отрывался от серьезных занятий, чтоб сходить в библиотеку почитать журналы С сожалением уходил из читального зала к Мэйбл, хотя не позволял себе ни секунды отдыха, кроме часа, проведенного с нею. Обиднее всего, что приходилось все-таки отводить воспаленные глаза от книги, бросать карандаш и идти спать. Охваченный страстью к творчеству, он сократил часы сна до пяти, но страшно не хотелось выключаться из жизни и на такое короткое время. Одно утешение, что через пять часов резкий звон будильника выхватит его из небытия и впереди снова девятнадцать часов, когда можно наработаться всласть. Он упивался работой, этот одержимый, эта очарованная душа! И вот, наконец, наступил долгожданный день: рассказ «За тех, кто в пути» появился в «Трансконтинентальном ежемесячнике». Это было первое выступление Джека в качестве профессионального писателя. Редактор, кстати сказать, не выслал ему пяти долларов, мало того – не подумал даже прислать хотя бы экземпляр журнала. У газетного киоска на оклендском Бродвее Джек с тоской воззрился на витрину – откуда взять десять центов, чтобы хоть взглянуть, как выглядит рассказ в журнале? Разве что сходить к Эпплгартам? Взяв у Эдварда взаймы десять центов, Джек вернулся к киоску и все-таки купил журнал. У оклендских газетчиков этот номер не залежался; друзья Джека из клуба Генри Клея заранее позаботились пустить о рассказе добрую молву. Та самая оклендская газета, которая в свое время не скупилась на издевательства и насмешки по адресу «мальчика-социалиста», теперь поместила статейку о мистере Джеке Лондоне, где уважительно и даже с гордостью сообщалось, что «мальчик-писатель» напечатал рассказ в таком rtoчтением журнале, как «Трансконтинентальный ежемесячник». Нужда по-прежнему крепко сжимала Джека в цепких лапах, одевался он все так же, в подобранное где придется старье, жить приходилось на скудном рационе, но в отношении к нему наметился явный перелом. Если, судя по всему, он и вправду становится настоящим писателем, стало быть, придется простить ему странности во взглядах, поведении и манере одеваться. «За тех, кто в пути» нельзя отнести к числу лучших рассказов Джека об Аляске – в ущерб характерам героев и картинам природы в нем слишком большое внимание уделено сюжету. И все же с того самого момента, как Мейлмут Кид с кружкой в руке поднимается с места и, взглянув на затянутое промасленной бумагой, покрытое толстым слоем намерзшего льда окошко, произносит: «За тех, кто сегодня ночью в пути! Чтобы им хватило еды, чтобы вывезли собаки, чтобы спички остались сухими!» – с этого момента и до конца рассказ целиком овладевает вниманием, и, читая его, понимаешь, что в американской литературе зазвучал новый, молодой и властный голос. «Трансконтинентальный ежемесячник» обещал платить воистину поцарски: семь с половиной долларов за каждую вещь, и Джек, не дожидаясь, пока пришлют пять долларов за первый рассказ, отослал журналу «Белое безмолвие». Рассказ был поспешно принят и вышел в феврале. Джеку было ясно, что это одна из лучших его вещей и получить за нее полагалось бы по крайней мере пятьдесят долларов, но многие соображения заставили его отдать рассказ за призрачные семь с половиной. Во-первых, он надеялся, что рассказ попадется на глаза и понравится восточным критикам и редакторам журналов. Во-вторых, он все время стремился доказать Мэйбл, что трудится не зря. А в-третьих, если удастся вырвать у журнала и семь с половиной долларов, значит, примерно в течение месяца семья будет сыта. Если рассказ «За тех, кто в пути» только навел оклендскую публику на мысль, что Джек Лондон, может быть, и станет писателем, то «Белое безмолвие», бессмертное классическое произведение о стране холода, открыло Окленду глаза. Да, этот человек умеет писать. История, написанная изумительно рельефно, с нежностью, с глубоким чувством, вызывает в душе и жалость, и ужас, и восторг – все, что испытываешь при встрече с совершенным произведением искусства. Джек ежедневно читал и переписывал сотни стихотворений – и чтобы выработать певучий плавный слог, и потому, что слова звенели в его мозгу, как звенят мелодии в мозгу композитора. Меньше всего можно было предположить, что молодой человек, выросший в его условиях, станет настоящим поэтом, но случилось именно так: «Белое безмолвие» – произведение поэта. «У природы в запасе немало уловок, чтобы доказать человеку его ничтожество – приливы и отливы, без устали сменяющие друг друга, свирепые бури, могучие землетрясения. Но нет ничего страшнее Белого безмолвия с его леденящим оцепенением. Всякое движение замирает; над головой – ни облака; медным блеском отливают небеса. Чуть слышный шепот, звук собственного голоса пугает, оскорбляет слух. В призрачных просторах мертвого мира движется одинокая песчинка. Это человек. Ему жутко от собственной дерзости. Разве не ясно, что его жизнь ничтожнее, чем жизнь червя? Странные, непрошеные мысли приходят в голову: вот-вот ему откроется тайна бытия». Говорят, что вера сдвигает горы, но Джек куда больше полагался на усердие. Он назначил себе порцию – полторы тысячи слов в день – и прекращал работу лишь после того, как своим размашистым почерком наносил их на бумагу, а потом перепечатывал на машинке. Прежде чем доверить мысль бумаге, он вынашивал ее в голове, и уж потом никакие силы не могли заставить его что-нибудь переделать – разве что заменить одно слово другим. Велосипед, часы, макинтош и зимний костюм давнехонько вернулись в ссудную лавку, семья по целым неделям не видела ничего, кроме бобов и картошки. Разнообразие в меню вносила только Элиза, когда ей удавалось принести им что-нибудь со своего стола. Отчаявшись, Джек взялся писать юмористические стихи-триолеты и шуточные рассказы, которые надеялся хоть по доллару сбыть юмористическим журналам. Этой весной его еще два раза вызывали на почту с предложением работы; в доме было пусто, хоть шаром покати – ни гроша, ни корки хлеба. «Трансконтинентальный ежемесячник» не отзывался на умоляющие письма и упорно отказывался выслать пять долларов за рассказ «За тех, кто в пути» и семь с половиной за «Белое безмолвие». Джек занял у Элизы денег на паром и, мысленно облачившись во все свои «рыцарские доспехи», переправился через залив и пошел в редакцию. Еще на пороге он догадался, что это вовсе не процветающий журнал общегосударственного значения, как ему представлялось. Финансовые дела журнала шли из рук вон плохо. Правда, он еще дышал – на ладан, но только потому, что иначе умерли бьют голода редактор Роско Эймс и издатель Эдвард Пэйн, – оба после этой случайной встречи вошли в жизнь Джека Лондона, чтобы остаться в ней навсегда. Эймс и Пэйн были страшно рады встретиться с Джеком Лондоном, в цветистых фразах они превозносили его талант… и пообещали назавтра поутру первой почтой выслать пять долларов. Впрочем, внушительные кулаки изголодавшегося автора произвели эффект – пять долларов мелочью были извлечены на свет божий из карманов двух литературных джентльменов. Задавленная долгами семья Джека на эти пять долларов прожила март. «Трансконтинентальный ежемесячник» попросил прислать еще чтонибудь для апрельского номера. Джек ответил, что пока редакция не уплатит за «Белое безмолвие», о новой вещи и речи быть не может. После неоднократных настойчивых требований «Ежемесячник» все-таки заплатил, и Джек послал в редакцию рассказ «Сын волка». Тогда же, в апреле, сан-францисский журнал «На городские темы» напечатал один из его юмористических стишков-триолетов – «Он покатился со смеху». Флору с сыном до того извели кредиторы и домохозяин, что Джек предлагал рассказы в пять тысяч слов за доллар – он был готов на что угодно, лишь бы в кармане завелась хоть пара центов. Работа рождала у него веру в свои силы, но по временам нервы сдавали; затаенная неуверенность поднималась из глубины души, нашептывая, что шансы на успех слишком ничтожны, что он никогда не добьется удачи. Первые настоящие удачи принес май. Журнал «На городские темы» поместил поэму «Будь я всевышним хоть на час», «Трансконтинентальный ежемесячник» – четвертый рассказ об Аляске – «На Сороковой миле», сочно написанный, пронизанный грубоватым юмором и воинственным ирландским духом. Мистер Умстеттер в своей «Черной кошке», наконец, напечатал «Тысячу дюжин», а «Ориндж Джодд Фармер» – рассказ «На побывку». Раскрыв все четыре журнала, Джек с сияющими от счастья глазами сидел над своими первенцами в тесной, скудно освещенной спаленке, запустив пальцы во взъерошенную копну волос. В доме холодно, не хватает дров, кладовая пуста, но что за важность! Щеки у него ввалились, костюм пришел в такой вид, что в нем уже не осмелишься показаться у Эпплгартов – чего доброго, заметит мамаша. Не беда! Им с Флорой не привыкать, они люди жилистые и вынесут такое, что сломило бы иную мягкотелую семейку. Да, жизнь не гладит его по головке – не с пеленок же у него железный характер. С ранних лет он приучал себя смеяться в лицо опасности, не вешать носа в невообразимых переделках. Что ж, разве взрослый он уже не викинг? Он поставил перед собой задачу – труднее не придумаешь. Стало быть, тем больше причин одолеть ее: лишь самые неприступные вершины достойны доблестного штурма. Подростком он нарочно заставлял себя искать опасности и находить в ней удовольствие, но ломать себя для этого ему не приходилось. Он был смелым человеком в настоящем смысле слова, хотя порой и приходилось облачать эту смелость в романтические покровы. Так, во всяком случае, говорил он себе, сидя над своими литературными трофеями в гулкой тишине каморки. В июне его вещь появилась уже в восточной прессе: буффальская газета «Экспресс» поместила «От Доусона до моря» – быль о почти двухтысячемильном путешествии по Юкону в открытой лодке. Журнал «У домашнего очага» опубликовал очерк «Через стремнины на пути в Клондайк», а «Трансконтинентальный ежемесячник» пополнил северную серию рассказом «В далекой стране». Когда пришел июль, Джек прочно занял место среди профессиональных писателей, за один месяц его очерки и рассказы вышли в пяти периодических изданиях – просто чудо для двадцатитрехлетнего юноши, который всего девять месяцев как начал писать. Как много он успел в самообразовании, видно из двух статей в журнале «Образование» ; одна посвящалась вопросам языка, другая – употреблению глаголов. «Сова», «Трансконтинентальный ежемесячник» и «Тиллотсонский синдикат» выпустили его короткие рассказы. Радостные события этого месяца стоило отпраздновать. Взяв из ломбарда велосипед, Джек заехал за Мэйбл и отправился с нею на холмы. Как прежде, он сложил к ее ногам свои лавры, но заметил, что на сей раз нареченная смотрит невесело. В ответ на ее прямой вопрос, сколько же он получил за пять напечатанных вещей, Джек признался, что всего пять долларов наличными да еще надежду на семь с половиной от «Трансконтинентального ежемесячника», задолжавшего ему за два рассказа. И Мэйбл не выдержала. Уронив голову ему на колени, она горько заплакала. После их помолвки прошло уже полгода, и с точки зрения Мэйбл тощие доходы жениха от удачно пристроенных рассказов доказывали только одно; они никогда не смогут жить на литературный заработок. Она-то сама рада делить с ним нужду, но вот мама, миссис Эпплгарт, категорически и недвусмысленно заявила, что до тех пор, пока Джек не станет солидно зарабатывать, Мэйбл не будет его женой. Джек стал читать ей новые рукописи – надо же было как-то доказать, что его будут печатать и богатые издательства востока, это лишь вопрос времени. Он все сильнее убеждается, что создает сильные, настоящие вещи, не похожие на все, что пишут в Америке. И перед лицом этой великолепной уверенности Мэйбл набралась храбрости и заговорила. Его рассказы ей не нравятся. Они плохо отделаны, неизящны, низменны: все эти описания примитивной, грубой жизни, эти страдания, смерть… Читатель их не примет. Она любит его, любит, как никогда… В подтверждение Мэйбл обняла и горячо поцеловала его. Она всегда будет его любить. Она и замуж за него пойдет – сейчас же… Только пусть он будет благоразумен и согласится пойти работать на почту. И разве нельзя устроиться на постоянное место в газете? Ну, например, корреспондентом? Джека огорчило неверие Мэйбл, но любить ее меньше он не стал. Подобно рафинированным господам из восточных журналов, Мэйбл воспитывалась в утонченной атмосфере. Ну ладно же, он им покажет! Он вытряхнет из них это тупое самодовольство! Они узнают, что такое настоящий рассказ! И вот он снова за плохо сколоченным деревянным столом. Накрутил себе бесконечное множество пухлых самокруток и еще яростнее набросился на работу. Едва сходило с машинки последнее слово едкой статьи о классовой борьбе, как клавиши уже отстукивали приключенческий рассказ для детей. Захватывающие истории о том, как сражаются с судьбой и встречают смерть люди Севера, сменялись юморесками для журнала «На городские темы». С удвоенной энергией он вгрызался в книги, выписывал целые страницы – о войне, мировой торговле, системе подкупов в правительстве и судопроизводстве, о потерях раздираемого конкуренцией производства, о забастовках, бойкотах, движении за женское равноправие, писал заметки по криминологии, современной медицине, о достижениях современной науки и техники, собирая карточку за карточкой свою безукоризненно аккуратную справочную картотеку. Не было дня, чтобы он не просиживал за машинкой и книгами шестнадцати часов., а если чувствовал, что выдержит, заставлял себя работать по девятнадцать часов в сутки – и так семь дней в неделю. Усердие своротит такие горы, которые вере и не снились! Напряженная работа оставляла Джеку мало времени для друзей, для общественной деятельности. Мэйбл с матерью уехали в Сан-Хосе, небольшой городок в долине Санта-Клара. Начинало сказываться одиночество: он слишком отгородился от людей, а ведь быть с друзьями, встречаться с интересными собеседниками было для него насущной потребностью. Поэтому он с радостью согласился вступить в недавно открывшийся клуб Рёскина, где собирался цвет местной либеральной интеллигенции. Несколько дней спустя он без предупреждения появился на митинге оклендских социалистов, где его встретили сердечными, шумными приветствиями и настойчивыми просьбами выступить. Джек поднялся на трибуну и заговорил по «Вопросу о максимуме». Сущность речи сводилась к тому, что, достигнув максимального уровня развития, капитализм неизбежно перерастет в социализм. Всего неделей раньше он посвятил этой теме статью, которую приобрел, но так и не напечатал один восточный журнал. В статье «К вопросу о максимуме»[5] Джек выступает как экономист, достигший высокого уменья объяснять исторические факты языком экономики. Больше того: из статьи видно, какой размах приняли исследования автора в области политической экономии. Довольный тем, как приняли его выступление, Джек согласился принять участие в цикле общеобразовательных воскресных лекций, устроенных по инициативе социалистической партии. Каково же было его изумление, когда после первой лекции в оклендской печати появились отзывы, написанные в серьезном и дружелюбном тоне! Вот тебе и на, оказывается, и социализм заодно с Джеком Лондоном принят в обществе! В сентябре, октябре и ноябре пали еще три твердыни: журналы «Конкиз», «Издатель» и «Спутник юношества». Друзья по клубу Рёскина и собратья социалисты считали, что как писатель Джек добился успеха. По воскресеньям, свободным от лекций, он кагил на велосипеде в СанХосе, за сорок миль от Окленда, чтобы увидеться с Мэйбл. Несколько вечеров в неделю проводил на митингах, лекциях и дискуссиях. В один из таких вечеров Джек вместе с канадским пионером-первопроходцем, ныне писателем Джимом Уаитекером и фитоеофом Строн-Гамильтоном переправился через залив, чтобы послушать в Терк Стриг Темпл лекцию Остина Льюиса о социализме. Здесь он встретился с пламенной социалисткой Анной Струнской, которую Джек называл «гением чувства». Это была, несомненно, самая блестящая женщина, какую ему довелось встретить в жизни. Анна Струнская, впечатли тельная, застенчивая девушка с темно-карими глазами, кудрявая, черноволосая и стройная, была студенткой Станфордского университета. Родом она была из семьи первых поселенцев Сан-Франциско[6], дом ее родителей славился как один из крупнейших культурных центров города. Кто-то указал ей на Джека, сказав, что этот социалист из Окленда, профессиональный писатель, выступает на уличных митингах. После лекции их познакомили Ей показалось, будто она встретила молодого Лассаля, молодого Маркса или Байрона Перед ней была личность историческая, это, пишет мисс С грунская, она почувствовала мгновенно Что же касается реальности, то она предстала перед Анной Струнской в образе молодого человека с большими синими глазами в рамке темных ресниц, красивым ртом, всегда готовым открыть в улыбке два недостающих передних зуба. Лоб, нос, контур щек, массивная шея напоминали античную статую. За свободной грацией осанки угадывалась атлетическая сила. На нем был серый костюм, белая мягкая рубашка с пристежным воротничком и черный галстук. Между Джеком Лондоном и Анной Струнской завязались дружеские, но бурные отношения; о чем только они не спорили, да еще с каким ожесточением! И о делах общественных, и об экономике, и о женском вопросе! Мисс Струнскую возмутило заявление Джека, что хотя он и социалист, но собирается обставить капиталистов в их же игре. Социалистов считают неудачниками, людьми слабосильными и бесталанными, так вот он докажет, что социалист ни в чем не уступит отборнейшим из капиталистов; и это будет лучшей пропагандой социализма. Анна Струнская с негодованием заявила, что для настоящего социалиста подобные замыслы абсолютно неприемлемы. Как! Добиваться славы и богатства? Да ведь тот, кто вкушает от щедрот Старого Порядка, в какойто мере сам частица этого порядка и сродни ему по духу! Джек добродушно рассмеялся Ничего! Правда, издатели восточных журналов сейчас морят его голодом, но придет время, и они охотно раскошелятся, добиваясь его рассказов. Можете быть уверены, он извлечет из капитализма все, что сможет, до последнего доллара. Если не считать долгов и материальных забот, Джеку теперь жилось недурно Зарабатывал он десять-пятнадцать долларов в месяц; круг журналов, где его печатали, постепенно расширялся. Он любил писать, ему нравилось вдумываться, исследовать, сопоставлять, постигать. По воскресным вечерам он читал в местной организации социалистов лекции на такие темы, как «Экспансионистская политика», бывал на обедах в клубе Рёскина, где у него уже завелось немало друзей: молодые преподаватели из Калифорнийского университета, профессиональные литераторы, новый оклендский библиотекарь. По субботам он гостил в СанХосе у Эпплгартов; читал новые рукописи, прислушивался к тому, что на этот счет говорила Мэйбл; изредка, гуляя в лесу или сидя на диване в пустой гостиной, украдкой обменивался с ней поцелуем. Как сильно ни любил он Мэйбл, никогда, даже в мыслях, он не находил для нее места в кипучей, шумной жизни, которую вел в Окленде. В гаме и табачном дыму социалистического митинга и думать-то о ней было кощунством. Нет, она по-прежнему оставалась безмятежно-спокойной богиней, парившей над клокочущим миром, далекой от его суеты. Когда они поженятся, она будет милостиво и любезно принимать его друзей, его противников по словесным дуэлям – не самых отпетых спорщиков, а тех, кто потише. А когда, взбудораженный и разгоряченный, он возвратится домой с бурного собрания, в ее объятиях найдет он тихую пристань, где, умиротворенный, сможет отдохнуть и успокоиться. У нее есть все данные, чтобы стать женой сверхчеловека. И вот, незадолго до конца столетия, к Джеку Лондону пришла настоящая большая удача. Он был в ней заранее уверен. Он всегда знал, что успех неизбежно приходит к тем, у кого есть «вера, усердие и талант». За последние недели он написал большую повесть под названием «Северная Одиссея» и послал ее ни более и ни менее как в бостонский журнал «Атлантический ежемесячник» – чистейшая самонадеянность с его стороны. «Атлантический ежемесячник» – это белая кость, самый чопорный, неприступно-аристократический литературный журнал в Соединенных Штатах. По логике вещей «Атлантическому ежемесячнику» следовало бы возвратить рукопись автору с кратким, преисполненным оскорбленного достоинства отказом. Вместо этого Джек получил тот самый длинный плоский конверт, от одного вида которого у него всегда перехватывало дыхание. Редактор отзывался о повести с похвалой, просил сократить первый кусок на три тысячи слов и предлагал за право издания сто двадцать долларов. И снова, как в то утро, когда принесли тонкий конверт из «Трансконтинентального ежемесячника», Джек, охваченный дрожью, с застывшим взглядом опустился на край кровати. Сто двадцать! С лихвой хватит, чтоб разделаться с долгами, выкупить вещи из ломбарда, битком набить кладовую, уплатить хозяину за шесть месяцев вперед! Джека вихрем сорвало с кровати. Ударом ноги распахнув дверь, он кинулся на кухню, подхватил Флору на руки и закружился как сумасшедший: – Мать! Взгляни! Взгляни только! Дело сделано! «Атлантический ежемесячник» печатает повесть. Все восточные издатели прочтут ее, всем захочется получить рассказы. Ну, теперь мы пошли в гору! И Флора Уэллман закивала головой и, пряча за узкими стеклами стальных очков суровую усмешку, поцеловала своего единственного сына. Действительность превзошла самые смелые ожидания. После появления в «Трансконтинентальном ежемесячнике» рассказов об Аляске издательская фирма Хафтона Миффлина, связанная с бостонским «Атлантическим ежемесячником», ознакомилась с рукописью «Северной Одиссеи» и дала согласие издать к весне сборник коротких рассказов. Отзыв фирмы, составленный в то время, когда решался вопрос об издании сборника, был, вероятно, первым профессиональным критическим обозрением серии работ Джека Лондона. «Автор, пожалуй, чересчур свободно использует ходовой приисковый жаргон, да и, вообще говоря, далеко не отличается изысканностью выражений, но стилю его присущи свежесть и кипучая сила. Яркими мазками рисует он муки голода, холода и тьмы; отраду, которую среди враждебных стихий находят люди в товариществе, и истинные человеческие достоинства, проявляющиеся в суровой борьбе с природой. Рассказ убеждает читателя, что автор сам испытал эту жизнь». Не нужно больше продавать свои рассказы по семи с половиной долларов, которые так трудно вытребовать у «Трансконтинентального ежемесячника». 21 декабря 1899 года был подписан договор, обязывавший Бостон, этот оплот проанглийских душителей американской культуры, стать крестным отцом революции в американской литературе – революции, зародившейся на здешней почве, на земле Калифорнии и Аляски. Теперь, когда смелые литературные нововведения Джека Лондона поддерживало консервативное бостонское издательство, писатель мог рассчитывать на то, что к его произведениям прислушаются и большее внимание обратят на их достоинства, а не на отклонения от общепринятой нормы. Прошло несколько дней. Вечером под Новый год Джек сидел в своей комнатке, заваленной рукописями, карточками, книгами и набросками к десяткам будущих рассказов. Через несколько часов родится новый век – двадцатое столетие. У Джека было такое чувство, что эта полночь будет и его рождением. Он выйдет на дорогу рука об руду с новым столетием. В такую же ночь сто лет назад человек с помутившимся рассудком блуждал в ядовитых туманах средневековья. Все в мире представлялось ему неизменным, предопределенным свыше; он доверчиво полагал, что формы правления, экономическая структура, мораль, религия и все прочие общественные явления раз и навсегда установлены господом богом по неизменному образцу, в котором каждая мелочь – нерушимая, неприкосновенная догма. Мятежный немецкий философ Гегель взорвал это незыблемое представление, навязанное королями и духовенством. Из той же тьмы невежества, страха, лицемерия и фальши поднялись Дарвин и Спенсер, снявшие с рук человека кандалы религии; и Карл Маркс, вложивший в эти руки орудие, которым человек мог стереть в порошок свои оковы и построить общество, удовлетворяющее его запросам. Этой ночью сто лет тому назад человек был рабом; будет ли он господином в новогоднюю ночь столетие спустя? Он владеет ныне средством и оружием освобождения; от него самого зависит созидание того мира, который ему нужен. Воля – вот единственное, чего недостает. Он, Джек Лондон, обязан принять участие в создании этой коллективной воли. Вдумчиво, не спеша взвешивал он свои силы, оценивал себя самого, свою работу и эпоху, свое будущее. В нем сильно развито стадное чувство; ему хорошо среди ему подобных; однако в так называемом «обществе» он чувствует себя как рыба на песке. Родная среда научила его недоверчиво, враждебно относиться к условностям. Он привык говорить то, что думает – ни больше, ни меньше. Десятилетним мальчиком почувствовал он на плече тяжкую лапу нужды, она уничтожила в нем чувствительность, оставив нетронутым чувство. Нужда сделала его практичным и трезвым, так что порой он казался несгибаемо жестким, бесчувственным, резким. Нужда вселила в него веру, что разум более могуч, чем воображение, что знание выше чувства. «Случайный гость, перелетная птица с крыльями, забрызганными соленой морской водой, на короткий миг с шумом залетела в вашу жизнь, – писал он Анне Струнской в первые дни знакомства. – Дикая, неловкая птица, привыкшая к вольным высотам, к широким просторам, не приученная к мягкому обхождению в тесной неволе. Таков я, таким меня и примите». Показного, деланного он терпеть не мог. Пусть его либо берут таким, каков он есть, либо вообще оставят в покое. Носил он по большей части свитер; в гости надевал велосипедный костюм. Друзья, узнав его поближе, уже ничему не удивлялись и, что бы он ни сделал, только говорили: «Что вы хотите, это ведь Джек». Он ни перед кем не заискивал, ни к кому не подлаживался, никому не старался угодить и, несмотря на это, пользовался любовью и популярностью, ибо, говоря словами Анны Струнской, «познакомиться с ним значило немедленно заразиться страстным интересом к людям». Его смех, его разговоры и взгляды действовали на окружающих живительно; стоило ему появиться где-нибудь, как все оживало. От него словно шел электрический ток; он входил в комнату – и люди встряхивались, прогоняя сонную лень. Самой горячей страстью в его жизни была, пожалуй, страсть к точным знаниям. «Факты мне подайте, неопровержимые факты!» – гаков был лейтмотив всей его жизни, всей работы. Он верил, что жизнь должна строиться на материальной основе, потому что имел во шожнос гь воочию убедиться, какое безумие и лицемерие, какая нечестность скрыты под видом основы духовной. На место безрассудной веры он жаждал возвести научные знания; лишь разум, точный и проницательный, способен изгнать притаившегося в головах людей бога мрачного средневековья, свергнуть его и утвердить человечество на его престоле. Как агностик, он не поклонялся иному богу, кроме души человеческой. Он изведал, как низко может пасть человек, но увидел и на какие могучие высоты может он подняться. «Как мал человек и как он велик!» – говорил он. Мужество – вот что прежде всего требовал Джек Лондон от человека. «Человек, способный, глазом не моргнув, принять удар или оскорбление и не дать сдачи, – бр-р-р! Да пусть он хоть во весь голос твердит о возвышеннейших чувствах – мне нет дела; от такого меня тошнит». Отсутствие смелости было в его глазах достойно презрения. «Враги? С какой стати! Дай ему как полагается, уж если на то пошло, или он тебя отделает, но злобы не таи. Уладил – и дело с концом, забудь и прости». Он был великодушен и щедр с друзьями; тем, кого любил, отдавал себя без остатка; не бросал их, когда им случалось обидеть его или сделать ошибку. «Я осуждаю недостатки друзей, но разве это означает, что я не должен любить их?» Основой его жизни был социализм. Он верил, чтогосударство должно стать социалистическим, и в этой вере черпал силу, уверенность и мужество. Он не ждал, что человечество возродится в течение суток, не думал, что человек должен заново родиться, чтоб построить социализм. Он предпочел бы обойтись без революции, без кровопролития – пусть социализм входит в жизнь мало-помалу. По мере сил он стремился научить народ, как взять в свои руки промышленность, естественные ресурсы и правительственный аппарат. По если по вине капиталистов эволюционный путь станет невозможен, Джек Лондон был готов сражаться за правое дело на баррикадах. Какая новая цивилизация не была крещена в кровавой купели? Органически связанными с социалистическими убеждениями были и его философские взгляды – сочетание геккелевского монизма, спенсеровского материалистического детерминизма и эволюционной теории Дарвина. «Чувствительность, сострадание, милосердие неведомы природе. Мы лишь марионетки в игре могучих стихийных сил, это верно; но мы можем постигнуть законы этих сил и в соответствии с ними уяснить себе наш путь. Человек – слепое орудие естественного отбора между расами… Вслед за Бэконом я утверждаю, что все человеческое познание исходит из мира чувственных восприятий Вслед за Локком я признаю, что идеи человека возникают благодаря функциям органов чувств. Как и Лаплас, я считаю, что в гипотезе о создателе нет надобности. Вместе с Кантом я убежден в механическом происхождении вселенной, в том, что сотворение мира – естественный исторический процесс». Что касается работы, тут он старался идти по стопам своего учителя Киплинга [Джек Лондон учился у Киплинга главным образом писательскому мастерству. Реакционные идеи этого барда английского империализма были чужды Лондону, непримиримому врагу капиталистического строя]. «Киплинг затрагивает самую душу явлений. Он неисчерпаем, ему просто нет предела. Он открыл новые горизонты умственного и литературного развития». Джек не скрывал, как ему противна «молодая американская девица – как бы ее, бедняжку, не покоробило, не задело. И кормить-то ее надо преснятиной вроде кобыльего молочка, а поострее – упаси боже». Это десятилетие – время его созревания, последнее десятилетие века, было периодом упадка, годами пустоты и бесплодия, когда окрепли и все подчинили своей власти когорты викторианства. Вокруг литературы плотным кольцом сомкнулись тесные рамки среднезападной морали; книги и журналы издавались, чтоб угодить публике, считавшей Луизу Олкотт и Марию Корелли крупными писателями. Трудно было создать нечно самобытное, писать дозволялось лишь о добропорядочных буржуа и миллионерах; добродетели непременно полагалось торжествовать, пороку – терпеть поругание. Американским авторам приказывали писать в духе Эмерсона, замечать только приятные стороны жизни, сторониться всего шероховатого, мрачного, грязного, неподдельного. Среди тех, кто возглавлял американскую литературу, продолжали звучать мелодично-поэтические голоса Холмса, Уитьера, Хиггинсона, У. Д. Хоуэллса, Ф. Мариона Кроуфорда, Джона Мура, Джоэля Чандлера Харриса, Джоакина Миллера. Обитатели недосягаемых высот, разреженной, леденящей атмосферы – американские издатели платили бешеные деньги за книги Барри, Стивенсона, Харди, заходили так далеко, что решались даже печатать (предварительно выхолостив, разумеется) нескромные откровения французов и русских [Роман Л.Н.Толстого «Воскресенье», например, издавался в США с изъятием некоторых, по мнению издателей, «нескромных» мест Роман Теодора Драйзера «Сестра Керри» был запрещен за «безнравственность»], но от своих, американцев, требовали стряпни все по тому же мнимо-романтическому рецепту. Впрочем, дозволялось несколько варьировать декорацию. В России революционный переворот в литературе совершали Толстой и реалисты; во Франции – Мопассан, Флобер и Золя; в Норвегии – Ибсен; в Германии – Зудерман и Гауптман. Читая американцев, сравнивая их с Харди, Золя, Тургеневым, Джек больше не удивлялся, почему на континенте Америку считают нацией дикарей и младенцев. Великий жрец американской литературы – «Атлантический ежемесячник» печатал сочинения Кэт Дуглас Виггин и Ф. Гопкинсона Смита. «Вещицы тихие и вполне безобидные, ведь они мертвы – и эдак прочно, надежно». Ну, ладно, через пару дней выйдет «Северная Одиссея», и тогда уж и «Атлантическому ежемесячнику» и американской литературе недолго оставаться уютной беззубой мертвятиной. Он решился: он сделает для своей литературы то же, что сделали для художественной прозы Горький в России, Мопассан во Франции, Киплинг в Англии. Он уведет литературу из великосветского салона Генри Джеймса на кухню – там она, быть может, и будет иной раз попахивать, зато по крайней мере жизнью. В его дни для американской литературы есть три «табу», три запрещенные темы – атеизм, социализм и дамские ножки. Он сыграет свою роль в разрушении организованной церкви и организованного капитализма; и если отношения мужчины и женщины из чего-то низменного, постыдно-уродливого превратятся в научно обоснованное проявление движущих сил естественного отбора, направленных на продолжение человеческого рода, в этом превращении будет и его доля. Только он не собирается писать просто политические статьи; нет, он прежде всего писатель, творец литературы. Он приучит себя так ловко вести рассказ, что пропаганда будет неразрывно сплетена с искусством в самой ткани произведения. Чтобы осуществить этот четырехгранный замысел, нужно сделаться одним из наиболее образованных людей зарождающегося века. Много ли он успел в этой титанической задаче? Оценивающим взглядом Джек окинул книги, разложенные по столу и по кровати, – все это он сейчас штудирует, – конспектирует, делает пометки. Да, он на верном пути: «Революция 1848 года» Сент-Амана, «Очерки по структуре и стилю» Брюстера, «Заметки об эволюции» Жордана, «Предполярье» Тирелла, «Капитал и прибыль» Бём-Баверка, «Душа человека при социализме» Оскара Уайльда, «Социалистический идеал – искусство» Уильяма Морриса, «Грядущее единство» Уильяма Оуэна. Часы в комнате матери пробили одиннадцать. Еще один час, и уходит столетие. Чем было оно для Америки – страны, которая в 1800 году была горсточкой мало связанных друг с другом сельскохозяйственных штатов? Первые десятилетия ушли на разведку и освоение необитаемой глуши; следующие – на создание машин, фабрик, на захват континента, и заключительные десятилетия – на накопление огромнейших богатств, какие когда-либо знал мир, а заодно с богатством и техническим прогрессом – и на то,чтобы приковать народ к станкам и нищете. Зато новый век – ах, что это будет за время! Вот когда стоит пожить! Машины, научные достижения, природные богатства – их заставят служить человечеству, а не порабощать его. Человек научится постигать законы природы, смотреть в лицо непреложным фактам, вместо того чтобы одурманивать себя религией, созданной для слабых, и моралью, поработившей дураков. Литература и жизнь станут равнозначны. Истинная духовная сущность человека воплотится в искусстве, литературе и музыке, задушенных в колыбели трехглавым чудовищем – религией, капитализмом и тесными рамками убогой морали. В каком великолепии предстанет Америка перед глазами его внуков, когда сто лет спустя они в эту ночь окинут взглядом уходящий век! Помочь построению этой новой Америки – вот его судьба! Он сбросит ярмо отжившего темного века; никто не заставит его напялить негнущиеся, безобразные высокие воротнички, врезающиеся в тело; точно так же он отшвырнет жесткие, уродливые, высокопарные идеи, врезающиеся в человеческий мозг и коверкающие его. Оставив за спиной устаревшую идеологию девятнадцатого века, он бесстрашно и твердо двинется навстречу веку двадцатому, что бы тот с собой ни принес. Он будет современным человеком, современным американцем. Сто лет спустя его сыновья и внуки с гордостью вспомнят о нем в новогоднюю ночь. Часы у Флоры пробили полночь. Старый век отошел, начинался новый. Джек вскочил из-за стола, натянул через голову свитер, заколол брюки, вывел велосипед, нажал на педали и покатил по темной ночной дороге за сорок миль – в Сан-Хосе Жениться на любимой девушке в первый день нового века – лучшего начала не придумаешь! Если он хочет, чтобы сыновья его сыновей и их сыновья с гордостью вспоминали о нем через сто лет в новогоднюю ночь, нельзя терять ни секунды.V
Миссис Эпплгарт отнюдь не жаждала заполучить Джека в зятья. Помолвке она не особенно противилась, зная, что свадьбы не будет, пока Джек не сумеет содержать жену на литературные гонорары, а эта опасность, по ее мнению, им не грозила. Но когда он явился в их коттедж на углу улиц Элм и Эсбери, показал ей и Мэйбл сигнальный экземпляр «Северной Одиссеи» – счастливое предзнаменование счастливого Нового года, – миссис Эпплгарт сразу же изменила тактику. Да, она согласна, пусть женятся. Сегодня же? Пожалуйста… С одним условием. Мистер Эпплгарт ведь умер, а Эдвард дома не живет. Так вот: или Джек будет хозяином дома, или пусть забирает тещу в Окленд вместе с женой и дает обещание никогда не разлучать ее с дочерью. Всего несколько дней назад Джек писал одному приятелю: «Приходится уже содержать семью; а когда ты молод, это дьявольски тяжело». И все же его смутила не столько перспектива взвалить на себя еще целую семью, сколько недвусмысленная манера, с которой миссис Эпплгарт запустила в это дело свои железные когти. Последовала сцена. Миссис Эпплгарт сообщила Джеку, что Мэйбл – послушная дочь; она благодарна за все, что для нее сделала мать; она не бросит ее в старости. И все это вопреки тому, что миссис Эпплгарт была гораздо крепче дочери, которую она тиранила, заставляя нянчиться с собою, требуя, чтобы Мэйбл подавала ей завтрак в постель. Бледная, потерянная, оглушенная разгоравшейся ссорой, сидела меж ними Мэйбл. Любя обоих, она не могла, не смела сделать выбор. Эта хрупкая особа была так слаба, что не смела и пикнуть в присутствии матери. Поразительно: силы нашлись у нее лишь для того, чтобы молча сидеть и смотреть, как ломают ее жизнь, хоронят ее мечты о любви, о семье, о детях. Вечером расстроенный, печальный Джек добрался до Окленда, а там на него свалились новые неприятности. Флора заявила, что деньги, полученные от «Атлантического ежемесячника», истрачены до гроша. Утром, привязав к велосипеду макинтош, Джек направился в ломбард знакомой дорожкой. Вернулся он с несколькими долларами в кармане, но домой пришлось идти пешком. Мало было ультиматума миссис Эпплгарт, а тут еще проклятое безденежье. Положение было безнадежным. Если Мэйбл будет жить с ним, расходов почти не прибавится. Любовь поможет им не замечать лишений. Но сколько лет пройдет, прежде чем его заработка хватит на тещу? О том, чтобы поселить ее с Флорой, не могло быть и речи – дня не пройдет, как дамы перегрызутся! Даже когда он сможет зарабатывать на два дома – будет ли он у себя хозяином? Разве миссис Эпплгарт не станет распоряжаться его домом и его женой? Мэйбл придется в первую очередь быть дочерью и только во вторую – женой. Невыносимо! Джек весь кипел от гнева. Рушатся надежды – их разбила эта женщина. Он вдруг представил себе, как беспомощна была Мэйбл меж двух огней, они, сильные люди, убивали ее, разрывали ее душу надвое. Бешенство сразу улеглось, в душе поднялись нежность, заботливое участие. Нет, как бы ему ни мешали, он не оставит ее на милость матери. Они поженятся, а с тещей, если будет нужно, он справится как-нибудь. Джек успокоился: все непременно уладится. К нему вернулась способность здраво рассуждать. Чтобы создать нормальную семью, он будет вынужден воевать с миссис Эпплгарт, но каждую победу Мэйбл сторицей оплатит ценою своего хрупкого здоровья. Это ясно. Джек опять убеждал себя, что не позволит Мэйбл пожертвовать собой, что заживет отдельным домом, как только станет прилично зарабатывать. Пусть миссис Эпплгарт возьмет бразды правления в свои руки. Лучше выносить ее деспотизм, чем мучиться, как они с Мэйбл. И опять все началось сначала, и снова мысли шли тем же томительным кругом: ведь стоит ему поддаться матери Мейбл – и они погибли. Разве может быть счастливым брак, когда жена душой и телом в рабском подчинении у матери? Он был глубоко разочарован. Его любовь к Мэйбл стала спокойной, сформировалась и созрела; они были бы счастливы. Мэйбл была знакома со всеми тонкостями хорошего тона – как раз тем, чего не хватало Джеку. Он восхищался ею, уважал ее за это. Она была существом воздушным, нежным, хрупким – он заботливо щадил и охранял бы ее, старался бы не задеть, не обидеть. Мэйбл никогда не любила до Джека, и больше никого ей не суждено было любить. Из нее вышла бы преданная жена, она создала бы именно такой дом, о каком Джек мечтал все молодые годы. Он чувствовал себя предельно несчастным – и не только оттого, что рушились мечты о жене, доме и детях. Девушка которую он любил, попала в бессмысленно-трагическое положение, и он оказался не в силах найти выход. Эта трагедия погубит не только их отношения, но и Мэйбл. Январь был месяцем удач, хотя восходящее солнце славы пока что несло с собой маловато финансового тепла. «Атлантический ежемесячник» напечатал «Северную Одиссею» – а ведь журнал помещал не более одного-двух коротких рассказов в месяц. «Обозрение обозрений» напечатало «Экономику в Клондайке», а рассказ «Отвага и упрямство» вышел в «Спутнике юношества», «Северная Одиссея» – это повесть о Наассе, вожде Акатана, Улиссе наших дней, который по всему свету ищет Унгу, жену, похищенную у него в ночь свадьбы желтоволосым викингом. Подобно «Белому безмолвию» этот рассказ наполняет читателя трагическим восторгом. На востоке его встретили громким хвалебным хором – смелость одного вселяет отвагу и в других. В одной оклендской газете появилась статья о том, что Окленд занимает все более важное место в отечественной литературе, причем выдающаяся заслуга в этом принадлежит мистеру Джеку Лондону. Друзья, помня, какие мытарства он перенес, не стали жертвами зависти, как иногда случается с друзьями, если тебе слишком везет. Друзья устроили в его честь вечеринку и от души радовались за него. Под конец месяца, заняв у приятеля пять долларов, чтобы выкупить велосипед, Джек поехал в Сан-Хосе. Все эти дни он думал, как ишожить свои доводы ясно и четко, чтобы Мэйбл не могла им противиться и добилась независимости. Но его слова вообще едва ли дошли до сознания Мэйбл. Оцепеневшая, словно в каком-то трансе, она твердила одно и то же: – Я нужна маме. Мама без меня не может жить. Я не могу бросшь маму. Значительно позже, уже в 1937 году, Эдвард Эпплгарт с грустью говорил: – Мать всегда была эгоисткой. Вся жизнь Мэйбл ушла на то, чтоб ухаживать за нею. Все-таки Джек окончательно не терял надежды: он любил Мэйбл, как и раньше. Но теперь он стал встречаться с другими женщинами, например с Анной Струнской, у которой всегда ставили на обеденный стол пару лишних приборов – на случай, если кто-нибудь зайдет. А Джек заходил то и дело. Анна тоже писала рассказы и социологические очерки. Они с Джеком обсуждали свои вещи, находя друг у друга множество недостатков; до хрипоты спорили обо всем на свете и восхищались друг другом от всего сердца. «Не отнимайте себя у мира, Анна. Ибо в какой мере мир потеряет вас, в такой мере вы перед ним виноваты». Кроме того, была еще и некая Эрнестина, сотрудница сан-францисской газеты, у которой, судя по фотографиям, был прелестный профиль и чертенята в глазах. С нею Джек совершал далекие – от условностей – прогулки. Что же дела в январе шли на славу. А вот в феврале он не смог пристроить ни строки. Новый гонорар от «Атлантического ежемесячника» ушел на долги, на приличное платье для Флоры, костюм для себя, кое-какие вещички для Джонни, на книги, на необходимые журналы. В доме снова не было ни гроша. Джеку все это донельзя опротивело. Унизительные денежные затруднения привели его к убеждению, что нищета так же недопустима, как и колоссальное богатство. Никуда не годится, чтобы человек был вынужден терпеть то, с чем Джек Лондон познакомился еще в детстве. Он пришел к заключению, ч го там, где дело идет о деньгах, он будет последовательно и откровенно циничен. Деньгами брезгуют только дураки. «Деньги – вот что мне надо, вернее – то, что на них можно купить. Сколько бы денег, у меня ни было, мне всегда будет мало. Перебиваться на гроши? Я намерен заниматься этим милым делом как можно реже. Человек жив все-таки хлебом. Чем больше денег, тем полнее жизнь. Добывать деньги – э го не моя страсть. Но тратить – о господи, сдаюсь! Тут я вечно буду жертвой. Если деньги приходят со славой, давай сюда славу. Если без славы – гони деньгу». И с этими словами он побрел закладывать книги, журналы и новый костюм, которым так гордился. Первой остановкой на обратном пути, как всегда, была почта: нужны были марки, чтобы снова благословить рукописи в путь-дорогу. Когда журнал «Издатель» предложил ему пять долларов за очерк на тысячу семьсот слов, Джек обиделся, но деньги все же взял. С удвоенным рвением он вернулся к работе. Раньше он писал по тысяче слов в день, шесть дней в неделю, взяв себе за правило наверстывать сегодня то, что вчера не было доведено до конца. Теперь он увеличил ежедневное задание до полугора тысяч слов, потом до двух, но на этом он поставил точку. «Я настаиваю: нельзя работать доброкачественно при норме в тричетыре тысячи слов в день. Хорошую вещь не вытянешь из чернильницы; ее складывают осторожно, придирчиво, по кирпичику – как хороший дом». Ему требовалось много денег, и поскорей – верно; но из-за этого он не стал работать менее аккуратно, методично, вдумчиво или менять что-либо в задуманной схеме рассказа. Он заявил, что, если угодно, журналы могут купить его душу и тело – ради бога, пусть только дадут хорошую цену. Однако все свободное от работы время он штудировал труды Драммонда по эволюции, Гудзона по психологии и все, что мог достать по антропологии, – ничуть не считаясь с тем неоспоримым фактом, что за тонну эволюции и антропологии журналы не дадут и ломаного гроша. Он жаждал денег как избавленья от беспросветного рабства – и писал страстные статьи о социализме, заранее зная, что их никуда не сбыть, и бесплатно читал для социалистов лекции в Аламеде, Сан-Хосе и других городах. Он задыхался от безденежья, но друзья говорят, что он был готов идти хоть на край света, лишь бы попасть в компанию, где можно вдоволь поспорить об антропологии. Познакомившись с радикальной теорией Вейсмана о том, что приобретенные признаки не передаются по наследству, Джек пришел в такое волнение, что бросил все дела и с открытой книгой в руках обошел друзей, чтобы поделиться с ними замечательным открытием. Он, утверждавший, что будет писать любую чушь, лишь бы хорошо заплатили, проявил чудовищную непоследовательность : продолжал писать только то, во что верил, – революционные статьи и рассказы, хотя их собратья по духу и по сей день покоились на полу под столом. Деньги ему были нужны, но только плата за них по расценке, угодной издателям журналов, была для него непомерно высокой! «Я – человек твердый. Те, кто имел возможность познакомиться со мной как следует, заметили, что все получается по-моему, даже если на это уходят годы. Меня не собьешь с пути – разве что в повседневных мелочах. Я не то что бессмысленно упрям – я просто клоню к цели, как стрелка компаса к полюсу. Хватай меня, сбивай с пути, ставь палки в колеса – хоть тайно, хоть явно – наплевать. Я поставлю на своем. Жизнь – борьба, а я к ней подготовлен. Не будь я существом, наделенным логикой, я давно бы сидел в придорожном болоте или свернул себе шею где-нибудь на обочине». В феврале одно за другим, в течение каких-нибудь нескольких дней произошли два незначительных на первый взгляд события, которым было суждено определить весь ход его жизни. Первое: его пригласила на завтрак в Сан-Франциско миссис Нинетта Эймс, жена управляющего делами «Трансконтинентального ежемесячника». И второе: университетский товарищ Фред Джекобе, отправившись на военном транспорте на фронт испано-американской войны, отведал мясных консервов – из тех, что поставляют вездесущие спекулянты, наживающиеся на войне, – а, отведав, умер и был доставлен назад в Окленд для похорон. Итак, во-первых, завтрак у миссис Эймс; его влияние сказалось несколько позднее, но зато было более длительным. Миссис Нинетта Эймс была приторно-жеманной бездетной дамой лет сорока семи: «Бедняжка Нетта», как ее всегда называли, была хитра, смекалиста и себе на уме, эдакая цепкая лоза со стальной мертвой хваткой под флером мягкости и сентиментальности. Муж ее был слабовольный фанфарон, так что делами семьи вершила миссис Эймс. Как и многим женщинам 80-90-х годов прошлого века, ей приходилось добиваться своего исподволь, тайком, направлять и подталкивать мужа так, чтобы со стороны никто этого не заметил. Целью встречи было интервью, которое миссис Эймс хотела взять у Джека; она собиралась написать о нем статью для «Ежемесячника». На завтрак она пригласила также свою племянницу и воспитанницу Клару Чармиан Киттредж – довольно точную копию тетки. Клара Чармиан Киттредж оказалась находчивой собеседницей, с тонкой, но соблазнительной фигурой, незамужней, несмотря на свои двадцать девять лет. Не лишено вероятности, что миссис Эймс надеялась заинтересовать молодых людей друг другом. Как бы то ни было, мисс Киттредж пренебрежительно фыркнула при виде потрепанного костюма Джека и возмутилась, что по счету платит тетка. Правда, она слегка спустилась со своих высот, когда миссис Эймс сообщила Джеку, что племянница работает машинисткой в конторе по соседству, – тут она, быстренько толкнула тетку ногой под столом: зачем этому парню знать, что ей приходится самой зарабатывать на жизнь? 20 февраля Джек дочитал корректуру «Сына волка» и, волнуясь, отослал редактору. Первый сборник рассказов! На другой день он пошел на похороны Фреда Джекобса и там познакомился с невестой покойного, Бэсси Маддерн, красивой, статной как Юнона, девушкой-ирландкой, немного знакомой ему по Окленду. Друзья любили и высоко ценили ее и теперь сочувствовали ее утрате. Наутро Джек получил письмо, в котором Мэйбл Эпплгарт просила его навестить Бэсси, ее старую подругу, и облегчить чем только сможет ее горе. Вечером Джек пошел к Маддернам. Бэсси Маддерн, двоюродная сестра известной актрисы Минни Маддерн Фиск, окончила среднюю школу для девочек в Сан-Франциско. Теперь она частным образом занималась математикой с отстающими детьми из начальной школы и готовила к поступлению в университет учащихся средней. Сильная, уравновешенная и флегматичная, она разъезжала от дома к дому в Аламеде и Окленде по своим многочисленным урокам. Она была немного старше Джека. Глаза у нее были лучистые, грустные; нос – орлиный; большой, хорошей формы рот; волевой подбородок и черные волосы с зачесанной назад тонкой седой прядью – памятью о несчастном случае, который произошел, когда ей было восемнадцать лет. Она держалась со спокойным достоинством и по натуре была человеком необычайно прямым. Мисс Маддерн оплакивала потерю Фреда Джекобса. Джек – свою безнадежную помолвку с Мэйбл Эпплгарт. Общество друг друга они нашли приятным, целительным; им было спокойно вместе. Вскоре Джек обнаружил, что проводит у мисс Маддерн один вечер за другим. Она помогала ему по математике и физике, в которых он был малосведущ; а он вернулся к произведениям первых английских писателей, чтобы заняться с Бэсси историей литературы. По воскресеньям, захватив велосипеды, они переправлялись через залив в округ Марин Каунти, бродили по Мюрским лесам, готовили на горячих угольях обед – жареное мясо, печеные бататы, крабы и кофе. Если у Джека случалось немного денег, вечерами они обедали в итальянском ресторанчике на Северном пляже, а потом шли в оперу. Каждую неделю он по-прежнему ездил в Сан-Хосе, но свидания с Мэйбл оставляли в душе только осадок горечи и разочарования. С чувством облегчения возвращался он к ровной, непритязательной Бэсси. Отныне она корректировала все его рукописи, сглаживая шероховатые фразы; ей нравились его вещи, она свято верила, что он станет одним из крупнейших писателей в мире; зга вера осталась непоколебимой на всю жизнь. Квартира Лондонов на Шестнадцатой улице превратилась в место постоянных сборищ; знакомые настойчиво стремились бывать с Джеком. «Я обладаю роковой способностью заводить друзей; но не могу похвастаться драгоценным уменьем от них избавляться». Ничто на свете ему так не нравилось, как принимать у себя людей, но велосипедные звонки слышались у дверей очень уж часто. То и дело приходилось писать в то время, как человека три-четыре, усевшись на кровати, курили, толковали о былом и спорили, скажем, действительно ли материалистические убеждения неизбежно приводят к пессимизму. Джек не мог отпустить гостей без угощенья; и, получив жалкие крохи за «Почему невозможна война» от «Трансконтинентального ежемесячника» или за «Урок геральдики» от журнала «Нэшнл мэгэзин», он на всякий случай запасал в леднике бифштексы и отбивные. Заходили поболтать и выкурить сигарету друзья из клуба Рёскина, навещали товарищи по социалистической партии с просьбой выступить на собрании, не забывали старые приятели с Юкона, из рыбачьего патруля, устричные пираты, братья-бродяги с Большой Дороги. «Беда мне на нынешней квартире, заходит кто попало, а у меня не хватает духа выставить их за дверь». Дом явно становился слишком тесен для всех книг, друзей, работы – и Джек в расчете на авторский гонорар от продажи «Сына волка» решил перебраться в более просторную квартиру. Неподалеку, всего за несколько кварталов, на Пятнадцатой улице Восточной стороны, ИЗО, они с Флорой подыскали двухэтажный домик. Там была большая гостиная с застекленным фонарем и порядочная спальня, которую можно было приспособить под кабинет. Обставлены все семь комнат были главным образом стараниями Элизы, но уют и красоту в комнате Джека наводила Бэсси Маддерн. Вечером накануне новоселья Элиза вместе с мисс Маддерн развешивала в кабинете занавески, а Джек растянулся на ковре, закинув руки назад и положив голову на сплетенные пальцы – точьв-точь как лежал ночами на носу «Софи Сатерленд». Обернувшись, чтобы взять карниз для занавески, Элиза заметила, что Джек с какимто странным выражением пристально глядит на Бэсси. Это был взгляд, по которому она мгновенно поняла, что решение принято. Сестра Джека Лондона – куда больше мать, чем сестра, – разгадала это решение без труда и не удивилась, когда наутро Джек объявил, что женится на Бэсси Маддерн. Джек так упорно добивался Мэибл Эпплгарт не только потому, что любил ее: он вообще давно задумал жениться. За свои двадцать три года он пережил гораздо больше, чем попашпось по возрасту. В нем быт сильно развит инстинкт отцовства, даже странствуя по Дороге, он писал в записной книжке о желании иметь детей. «На этот шаг я решился из самых различных и глубоких побуждений. Как бы то ни было, одно соображение против женитьбы в моем случае безусловно неприменимо, а именно – что я буду связан. Я и так связан. Мне и холостому приходилось содержать семью. Вздумай я отправиться в Китай – женат ли я, нет ли – все равно нужно было бы сначала обеспечить семью. А так я остепенюсь и смогу больше времени уделять работе. В конце концов человеку дана всего одна жизнь – отчего же не прожить ее как следует? Сердце у меня большое, буду держать себя в узде, вместо того чтобы болтаться без руля и ветрил, и стану только более чистым и цельным человеком». Джек и Бэсси не лукавили друг с другом, не разыгрывали безумцев, пылающих страстью в духе лучших романтических традиций. Для них не было секретом, что Бэсси по-прежнему любит Фреда Джекобса, а Джек – Мэйбл Эпплгарт. Но оба стремились к браку. Им было хорошо вместе, они нравились друг другу, относились друг к другу с уважением, чувствовали, что могут создать хорошую, прочную семью и вырастить славных ребят. Оба считали, что слово «любовь», хоть и не самое длинное в словаре, достаточно растяжимо и допускает много различных толкований. Итак, мисс Маддерн, подумав над предложением денекдругой, согласилась. Джека смущало, что он носит фамилию, на которую формально не имеет права. Женившись, он, чего доброго, поставит в ложное положение своих будущих детей? Он рассказал Маддернам, при каких обстоятельствах родился на свет. Вместе с Бэсси они отправились к одному оклендскому судье, приятелю Маддернов, и тот уверил молодых людей, что фамилия Лондон на законном основании утвердилась за Джеком: он ведь прожил под нею всю жизнь, ею были подписаны и его произведения. В воскресенье, как раз через неделю после того, как Джек сделал предложение, они с Бэсси тихо обвенчались. Флора была так возмущена, что отказалась почтить церемонию своим присутствием. На три дня новобрачные укатили на велосипедах в свадебное путешествие за город, а потом вернулись в Окленд – налаживать жизнь и браться за дела. В клубе Рёскина в их честь был устроен банкет. Оклендская газета «Вестник» в заметке, посвященной бракосочетанию, назвала невесту «красивой и достойной девушкой», и весь Окленд согласился, что это вполне заслуженный комплимент. Днем Бэсси все так же натаскивала отстающих школяров; ее заработка хватало на жизнь, когда доходы Джека иссякали. Вечерами она правила и перепечатывала рукописи мужа; читала интересующие его книги, чтобы потом вместе их обсуждать; переписывала сотни стихов, которые ему нравились, переплетала их в красные картонные переплеты; собирала журнальные статьи по политическим и экономическим вопросам, устроила в темной комнате фотолабораторию и научила Джека, как проявлять и печатать. По воскресеньям они надолго уезжали на велосипедах вдоль плодородной долины Сан-Леандро. Там Джек рассказывал Бэсси о детских годах, проведенных на ранчо Джона Лондона. Однажды они провели «уик-энд» в Санта-Крус, заплывали далеко в море, дурачились на пляже… Они не достигли вершин блаженства – пусть так, зато они не скучали друг с другом и были честными, надежными товарищами. Джек, по всем признакам, был доволен и своим выбором и семейной жизнью. А Бэсси в 1937 году сказала: – Я не любила Джека, когда выходила замуж, но очень скоро полюбила. Женитьба, казалось, принесла Джеку удачу. В мае он наконец-то пробился в предназначенный для мужчин восточный журнал коротких рассказов Мак-Клюра, где печатались рассказы о трудах и подвигах. В отношениях Джека Лондона и издателя журнала наступил, если можно так выразиться, медовый месяц. Издатель Мак-Клюр обессмертил себя тем, что платил высокие гонорары неизвестным авторам: «надо же мальчикам кушать». У Джека он взял «Мужество женщины» и «Закон жизни», добавив в письме: «Мы очень заинтересованы в Ваших вещах и хотим дать Вам почувствовать, что здесь, в Нью-Йорке, у Вас самые горячие друзья. Нам бы хотелось, чтобы в вопросах литературы Вы отныне считали нас Вашими покровителями. Если бы Вы могли присылать нам все, что пишете, мы отбирали бы для себя, что можем выпустить, а остальным постарались бы распорядиться самым наивыгодным для Вас образом». Более обнадеживающее письмо трудно себе представить, особенно начинающему писателю. Ухватившись за предложение, Джек набрал целый ящик рукописей, отослал их и тут же засел писать свеженькие, выношенные в голове. Мак-Клюр взял себе «Вопрос о максимуме» и заплатил за три вещи триста долларов – у Джека в жизни не было столько денег. Материал, который ему не подходил, Мак-Клюр рекомендовал другим журналистам, а когда рукописей набралось так много, что сам он уже не справлялся, издатель передал их в руки солидного литературного агента. Благодаря работам, приобретенным Мак-Клюром[7], и его покровительству среди издателей нью-йоркского литературного мира имя Джека Лондона приобрело известность. «Сын волка», появившийся весною 1900 года, встретил единодушное одобрение критики. Книга была подобна бомбе замедленного действия, причем взрыв ознаменовал приход нового века: если не считать двухтрех старомодных фраз, ее ничто не роднило с отжившим девятнадцатым столетием. В коротких рассказах явственно слышался голос нового. Научная трактовка эволюции и межвидовой борьбы, не признанные традиционной моралью достоинства тех, кого не страшит и отлучение от церкви; наравне с изображением прекрасного и доброго в жизни смелый подход к жестокому, безобразному, зловещему; появление в литературе целой категории героев, для которых раньше был закрыт доступ в чинное общество Короткого Рассказа; безудержный разгул, столкновения не на живот, а на смерть; насильственная гибель – все области, запретные для литературы XIX века, погребальными колоколами возвещали о кончине всего безжизненного, сентиментального, уклончивого и лицемерного. Многие критики того времени подхватили брошенный Джеком вызов. Вот что писали журналы. «Бостонский литературный мир»: «Автор вскрывает самую суть явлений»; «Атлантический ежемесячник»: «Книга внушает читателю глубокую веру в человеческое мужество»; другие: «полон чувства и огня», «…прирожденный рассказчик», «…все пронизано мужеством и силой», «…налицо все признаки большого таланта», «крупный, могучий художник…» Один критик заметил: «Его рассказы пропитаны поэзией, тайной великого Севера. В противоположность стандартно-счастливым концовкам у него преобладают трагические интонации, которые всегда слышатся там, где человек сражается со стихийными силами природы. В комедиях и трагедиях о клондайкской жизни во многом чувствуется сила воображения и драматическая мощь Киплинга Но у автора нежная душа, в ней находят живой отклик тончайшие нюансы героизма, а у Киплинга это редко встретишь». Первая книга, а его уж равняют с любимым учителем! Окрыленный отзывами, он все-таки не преминул разразиться колючей статьей в адрес критиков. Не оценить истинного величия Киплинга – безобразие! Появление «Сына волка» ознаменовало начало современного американского рассказа. Правда, у него были предшественники; Эдгар Аллан По, Брет Гарт, Стивен Крейн и Амброз Бирс – все они порвали с установившимися традициями, чтобы заняться настоящей литературой. Но Джек Лондон первым донес рассказ до простых людей, сделал его предельно доступным для понимания, источником радости. До сих пор рассказы в основном рассчитывались на интеллигентных старых дев; рассказы Джека предназначались для всех слоев американского общества, кроме интеллигентных старых дев, а последние зачитывались ими за спущенными шторами и запертыми дверьми. Кроме всего прочего, в произведениях Лондона художественная форма впервые соединялась с научными взглядами двадцатого века – вот откуда появилась в ней жизненная сила и энергия, сродни той, с которой американцы покоряли континент и возводили гигантское здание своей индустрии. Он уже давно задумал роман. На роман потребуется полгода, а то и год; причем доходов за этот срок – никаких. Так что возможность преуспеть настолько, чтобы заняться длительной работой над крупным произведением, представлялась весьма отдаленной. Теперь он обрисовал свое положение в письме к Мак-Клюру. Ответ прибыл незамедлительно: «Мы готовы субсидировать Ваш роман на Ваших собственных условиях. В течение пяти месяцев мы будем ежемесячно высылать Вам чек на 100 долларов, а если Вы сочтете, что нужно 125, мы согласны и на это. Я убежден, что Вы можете написать сильный роман. Когда бы Вам ни понадобилась помощь, пожалуйста, дайте нам знать». И тут, когда он, как «Рэззл-Дэззл», понесся вперед к своей цели на всех парусах, Бэсси преподнесла ему новость: она ждет ребенка. Джек пришел в неописуемый восторг: это будет, конечно, мальчик! Уж он-то знает. Он и раньше был добр с женой, а теперь и подавно. Он ухаживал за ней как за младенцем, нежно заботился о ее здоровье и благополучии. От сознания, что скоро он будет отцом, творческий огонь вспыхнул в нем с новой силой; не прошло и двух часов, как Бэсси сообщила ему свою тайну, а он уже принялся за свой первый роман «Дочь снегов». В свое время Джек со знанием дела до самых ничтожных деталей обдумал и то, что он уже связан и что все равно приходится содержать семью, но при этом сделал одно чисто мужское упущение: не учел, что на земле нет еще кухни, в которой хватило бы места двум женщинам. Флора отчаянно скандалила с его женой. Ее до глубины души обидело, что сын «изменил» ей в тот самый момент, когда начал прилично зарабатывать. Не она ли без единой жалобы месяцами терпела нужду? Она имеет право на то, чтобы ей воздали по заслугам, а вместо этого Джек приводит в дом чужую женщину. Она, его мать, пеклась о нем, кормила его, а теперь, вот тебе и раз, готовить желает Бэсси! Раньше она принимала его друзей, теперь хозяйка – Бэсси! Уступить чужой женщине сердце сына? Нет, это Флоре пришлось не по вкусу. Она решила, что ее вздумали оттеснить на задний план. Расстроенная, нервная, полубольная, она ссорилась с Бэсси по всякому поводу и без пбвода. Двадцать лет спустя после смерти Джека Бэсси говорила: – Мне бы угождать Флоре, подластиться к ней, во всем ублажать – и мы зажили бы душа в душу. Но я была молода и хотела все делать для мужа сама. Вот и нашла коса на камень! Сколько раз, бывало, когда Джек сидел, стараясь сосредоточиться на композиционных трудностях первого романа, в рабочий кабинет врывались раздраженные женские голоса, и «Дочь снегов» вылетала у него из головы. Он терпел, терпел, а когда становилось невмоготу, выскакивал из дому, мчался к Элизе и упрашивал ее ради всех святых пойти утихомирить его семейство. Через два-три часа он шел домой. К этому времени стараньями Элизы инцидент был улажен, и Джек вновь садился за работу. Теперь, когда появилось больше возможностей принимать у себя друзей, вокруг него постепенно образовался кружок интересных людей, которых он приглашал к себе в среду вечером. Среди них выделялся высокий, атлетически сложенный Джордж Стерлинг, человек чрезвычайно тонкой духовной организации, о котором Джек писал: «У меня есть друг, милейший человек на свете». Стерлинг сменил судьбу католического священника на долю поэта – одного из тех редких поэтов, чьи творения исполнены красоты, нежности и страстной любви к правде. Эстет, воспитанный на классиках, Стерлинг был личностью двойственной, раздираемой любовью к социализму, с одной стороны, а с другой – верностью принципу «искусство для искусства», внушенному ему Амброзом Бирсом. Джек был страстным противником пораженческой философии Бирса. Стерлинг обладал богатым воображением, глубоким пониманием гармонии слога. Его преданная дружба, пылкий темперамент и придирчивый, зоркий глаз критика во многом помогли Джеку. Близко сошелся Джек и с Джемсом Хупером, рослым силачом-футболистом, знакомым ему еще по университету. Джемс тоже пробовал свои силы на поприще короткого рассказа; среди новых друзей были Джим Уаитекер, отец семерых детей, оставивший хорошую работу, чтобы писать романы; Ксавиар Мартинес, художник, полуиспанец-полуиндеец. Неся с собою отточенную эспаньолку и отточенную церковную ученость, приходил младший библиотекарь Оклендской библиотеки, основатель клуба Рёскина, Фредерик Бэмфорд. Из Сан-Франциско приезжали Анна Струнская, философ-анархист Строн-Гамильтон, социал-демократ Остин Льюис и другие радикалы с берегов бухты Сан-Франциско. Не забывала навещать и миссис Нинетта Эймс, привозившая друзей-литераторов вместе с рассказами о том, как проходит путешествие ее племянницы по Европе. Все сходились к ужину, потом читали свои вещи, спорили о новых книгах и пьесах. Затем мужчины садились за покер или «красную собаку». Играли увлеченно, азартно, то и дело разражаясь неудержимым хохотом. Вскоре эти вечера по средам стали известны под именем «среды открытых дверей» у Джека. Клаудсли Джонс, милый красивый юноша, приехал погостить на неделю из Южной Калифорнии, оставив свой родной городишко и почтовое отделение, где он служил. Джонс первым написал Джеку восторженное письмо по выходе в «Трансконтинентальном ежемесячнике» рассказа «За тех, кто в пути». С тех пор они переписывались. Бродяги с Дороги, матросы, «корешки» с набережной – все были рады забежать к Джеку, пропустить стаканчик кислого итальянского вина, поговорить по душам. «То и дело заявляется какой-нибудь старый приятель-матрос; слово за слово – только что вернулся из дальнего плавания… Вот-вот должен получить кучу денег… – Слушай, Джек, старина, не одолжишь ли пару долларов до завтра? – Половина устроит? – Сойдет и половина». Хозяин лез в карман, и гость долго не засиживался. Джек был до глубины души счастлив, что может оказать людям гостеприимство; он всегда радовался, если после дня работы у него собирались друзья. Сто двадцать пять долларов от Мак-Клюра прибывали точнехонько каждый месяц. Увы, теперь их уже не хватало! Семейные нужды, более широкий образ жизни, новые друзья… Джек удвоил рабочее время, посвящая утренние часы серьезной работе, а послеполуденные – халтуре. Таким образом он поместил в бостонский журнал «Копия» очерк о том, как однажды ночевал на пустыре и, чтобы не попасть в тюрьму, плел что-то насчет Японии полисмену, который явился, чтобы его арестовать. В «Харперовский еженедельник» он пристроил очерк о «Крепыше» – упряжной собаке с Аляски; в сан-францисскую «Волну» – статью «Экспансия», которая сошла за передовую; два рассказа из семейной жизни под заголовком «Их альков» взял «Домашний спутник женщины», а «Домоводство в Клондайке» проложило ему путь в «Харперовский базар». В журнал «На городские темы» он послал триолет:VI
«Для меня новый год начался в тревогах, заботах и разочарованиях». Долги составляли три тысячи долларов. Вот беда: он внушал людям симпатию и доверие, поэтому ему слишком щедро давали в кредит. Он не мог заработать столько, чтоб хватило на всех, кого нужно было содержать, а их ведь становилось все больше. Работа, растущая известность не вызывали в нем удовлетворения; и то и другое, по его мнению, продвигалось слишком туго. Однако горести усугублялись главным образом из-за постоянных припадков уныния, периодически мучавших его еще с ранней юности. «Вчера к обеду подавали черепаховый суп и дичь, шампанское и массу других чудесных вин, каких я еще и не пробовал; они согревают сердце и горячат мысль. И тут мне припомнились убогие кутежи моей юности. (В менее подавленном настроении эти кутежи рисовались ему в романтическом свете.) Плохо одетые, плохо воспитанные, грубые, мы глотали дрянную дешевую тошнотворную жидкость. Я будто видел сны наяву и, выкарабкавшись из липкой грязи к черепаховому супу, дичи и шампанскому, прозрел: единственная разница между тем и этим – степень воздействия искусства на процессы брожения». Горькие слова, нездоровые, но сказанные лишь под влиянием момента, – не что иное, как рецидив тоски, напавшей на неукротимого индивидуалиста, больше всего занятого тем, как бы покорить мир. Вот что пишет он, поддавшись гнетущей тоске: «В чем же смысл этого химического фермента, именуемого жизнью? Неудивительно, что из века в век маленькие, беспомощные люди в поисках ответа сотворяли себе богов. Небольшой божок – симпатичное приобретеньице! Все объясняет! А как насчет нас с тобою? Как быть с теми, у кого нет бога? Материалистический монизм? Чертовски неутешительная штука!» С деловой точки зрения у Джека не было особых причин падать духом. 27 декабря он получил письмо от Джорджа П. Бретта, президента одного из самых активных издательств Америки, компании Макмиллана. Бретт писал, что вещи Джека – неоспоримо лучшее из всего, что создано в этом жанре американскими писателями, что компания изъявляет горячее желание печатать произведения Джека Лондона как в Америке, так и в Европе. В ответ Джек послал Бретту ряд рассказов об Аляске и индейцах под общим заглавием «Дети Мороза». Всего через пять дней после появления на свет меланхолических сентенций относительно «химического фермента, именуемого жизнью», Макмиллан принял «Детей Мороза» и согласился выплатить аванс в двести долларов. Апатии как не бывало! «Не знаю, – пишет он Бретту, – являются ли «Дети Мороза» шагом вперед по сравнению с прежними вещами; знаю только, что во мне спрятаны книги – большие книги. Когда я по-настоящему найду себя, они появятся на свет». В феврале началось «великое переселение народов в горы». Джек подыскал в Пьедмонте дом с участком в пять акров; половина – плодоносящий фруктовый сад, другая покрыта золотистыми маками, вокруг – великолепные сосны. Большая гостиная, столовая, отделанная красноватым деревом секвойи, а в гуще сосен – маленький коттедж для Флоры с Джонни Миллером. «У нас тут замечательная веранда – просторная, прохладная, а вид! За тридцать-сорок миль все как на ладони: весь залив Сан-Франциско, весь берег напротив – и Марин Каунти, и гора Тамальпайс, не говоря уж о Золотых Воротах и Тихом океане. И все за 35 долларов в месяц!» В доме было вечно полно народу; редко случалось, чтоб лишние кровати пустовали. Приедет с востока писатель – его тут же тащат к Джеку; заезжий лектор-социалист, актеры, музыканты, интересные друзья и знакомые друзей – всем был готов теплый прием; каждый чувствовал, что ему рады. Круг ширился, росли и расходы… «Экзаминер» все так же поручал Джеку специальные задания: взять, например, интервью у губернатора Тафта, вернувшегося с Филиппин. «Боже, что за груды подневольной стряпни, – ворчливо жалуется Джек Клаудсли Джонсу. – Когда же я вылезу из долгов?» Один оклендский бакалейщик обратился к нему с просьбой уплатить долг в сто тридцать пять долларов. Джек вскипел и ответил гневным письмом, требуя, чтобы ему не докучали оскорбительными напоминаниями. Торговцу следует соблюдать учтивость и ждать; когда очередь дойдет до него, ему заплатят. И пусть не вздумает объявлять его несостоятельным должником или чинить неприятности, если не хочет потерять свое место в хвосте кредиторов. Решив, что письмо послужит ему неплохой рекламой, бакалейщик передал его газетам, и те с превеликим удовольствием растрезвонили о случившемся по всей стране. Должник, который ставит на место кредитора! Нет, перед столь восхитительной картиной устоять невозможно! Джеку стоило бы извлечь из этой истории хороший урок и впредь составлять письма в более сдержанном тоне, но этому он так и не научился. Однажды ему предложили выступить в Ассоциации женской прессы города Сан-Франциско. Он согласился прочесть лекцию о Киплинге, которого значительная часть американских читателей продолжала считать вульгарным и неотесанным – варваром, да и только. Лекцию широко разрекламировали; собралась большая аудитория, и не кто-нибудь, а всё люди значительные: уж очень заманчиво выглядело сочетание Джека Лондона с Редиардом Киплингом. На сцену вышел Джек и объявил, что, к несчастью, статья о Киплинге отправлена в редакцию одного английского журнала, который, быть может, ее напечатает. Поскольку выступать, не имея под рукой материалов, нельзя, он взамен прочтет лекцию на тему «Бродяга». Окажись на месте Джека кто-нибудь чуть более податливый – его бы заморозили волны холода, которыми повеяло от насторожившихся, застывших в неподвижности сан-францисских дам. Однако к концу лекции сдержанности у них поубавилось: услышав, что Джек оправдывает Бродягу, а вину за его положение возлагает на общество, дамы так неистово набросились на лектора, что председательнице пришлось, постучав по стоггу молоточком, прервать собрание, иначе не обошлось бы без рукопашной. Газеты, разумеется, поместили полный отчет о случившемся. На заливе и в его окрестностях Джек уже давно считался примечательной, колоритной фигурой. Теперь репутация человека необычайного закрепилась за ним в общеамериканском масштабе. Вот что пишет репортер, присланный журналом «Читатель» взять у Джека интервью: «Редко с кем сходишься так легко, как с Джеком Лондоном. Он отзывчив и искренен, чужд каких бы то ни было условностей, излучает гостеприимство. Держится он свободно, в нем много мальчишеского; он благороден, предельно прост, оригинален и удивительно располагает к себе. Гость сразу же чувствует, что его принимают на правах друга». Сам Джек, по слухам, говорил: «Если у меня и есть какой-то собственный стиль, он добыт в поте лица. Хватай дубинку и мчись вдогонку за своим стилем: наверняка получишь если не стиль, так уж что-нибудь очень вроде». Сан-францисский «Кроникл», который, как известно, стал впервые рекламировать его еще во чреве матери, поместил его фотографии и отвел целый разворот – две страницы описанию Литературной колонии в Пьедмонте, причем центром ее был назван окруженный соснами дом Джека. Помимо литературной поденщины, Джек был занят повестью для юношества «Путешествие на «Ослепительном», серией приключенческих рассказов для «Спутника юношества» под общим названием «Рассказы рыбачьего патруля», серьезными рассказами об Аляске и вместе с Анной Струнской – «Перепиской Кемптона и Уэйса». Последняя представляет собой сравнительный философский анализ реалистических и романтических взглядов. Авторы по-прежнему прибегали к переписке, как к своеобразному средству отстоять свою позицию в любви друг к другу. Джек, женившийся на Бэсси, как он любил выражаться, «на разумной основе», писал: «Рассматриваемый биологически, брак есть учреждение, необходимое для сохранения рода. Романтическая любовь – выдумка, внесенная человеком по недомыслию в естественный порядок вещей. Эротическая литература, предания о великой любви и великих любовниках, гирлянды любовных песен и баллад, вороха устных любовных историй и приключений – без всего этого человек, безусловно, не мог бы любить в присущей ему манере». Анна Струнская, поэт по натуре, настаивает: «Розовый свет зари на небесах, прикосновение руки, цвет и форма плодов, слезы неведомой печали более значительны, чем все, что построено и изобретено со времени первого социального договора. Разве можно объяснить цветение жизни, ее прелесть и улыбку, все, что наполняет душу солнечным светом, все, что говорит нам: надеяться – мудро?» К марту у них уже было написано пятьдесят тысяч слов, и Джек был уверен, что книга пойдет. Чтобы скорей завершить работу, Джек на время пригласил Анну к себе. Через два года она рассказала об этом эпизоде настойчивым газетным репортерам: «Я получила от мистера Лондона письмо с приглашением приехать в Пьедмонт для отделки рукописи. К приглашению присоединились его жена и мать. В первые дни визита миссис Лондон выказывала мне радушие и проявляла большой интерес к нашей работе. Но прошло пять дней, и я убедилась, что она стала относиться ко мне неприязненно. Она не сделала ничего особенного, чтобы заставить меня почувствовать себя лишней; но по некоторым едва заметным признакам я заключила, что мне лучше уехать. Так я и поступила вопреки уговорам мистера и миссис Лондон. С миссис Лондон мы распрощались как хорошие, сердечные знакомые. Отношения между мною и мистером Лондоном были дружескими, не более. Кроме всего прочего, мистер Лондон едва ли принадлежит к числу людей, способных в собственном доме ухаживать за другой женщиной. Со мною он неизменно вел себя в высшей степени осмотрительно. Судя по всему, что я видела, можно было заключить, что он в то время был без ума от жены». Мисс Струнская, женщина непогрешимо честная, говорит истинную правду, – это подтверждает и Джек: «Не женские, а интеллектуальные достоинства пленили меня в ней. Интеллект и одаренность – это в ней чувствовалось прежде всего. Рыться в человеческой душе для меня наслаждение, и тут Анна была неисчерпаемым источником. «Многоликая», прозвал я ее. Что же я выбрал как ласкательное словечко, свидетельство близости? Чисто интеллектуальный термин, раскрывающий свойства ее ума». Права на издание «Дочери снегов» оставались в руках Мак-Клюра. Самому Мак-Клюру книга нравилась не настолько, чтобы ее печатать, однако он приложил все усилия, чтобы сбыть рукопись в другое издательство, где бы ее выпустили отдельной книжкой. Наконец ему удалось пристроить «Дочь снегов» в издательство Липпинкотта. Издательство заплатило за нее авансом семьсот пятьдесят долларов в счет авторских отчислений; из этой суммы Мак-Клюр удержал все, что ему еще причиталось от Джека. Осталось сто шестьдесят пять долларов. Джеку хотелось взять рукопись назад, но он был бессилен. А потом аванс, хоть и маленький, – это возможность заплатить самым назойливым кредиторам. Когда стали приходить гранки для корректуры, он был просто убит: казалось, что хуже быть не может. А там приходила следующая порция. В конце концов он решил, что попытки исправить безнадежно загубленную вещь ни к чему не приведут. 21 июля он получил телеграмму от ассоциации «Американская пресса» с предложением отправиться в Южную Африку и писать корреспонденции об англо-бурской войне. У него оставалось три тысячи долга. Бэсси была опять в положении, а это означало, что прибавятся новые расходы. А главное – его зовет Приключение! Не прошло и часа, как он послал ответную телеграмму, что согласен. В тот же вечер он собрался, а наутро у Оклендского мола, где восемь лет тому назад, догоняя Рабочую армию Келли, забрался в пустой товарный вагон, поцеловал на прощанье жену и дочь и поехал в Чикаго. В поезде у него произошла случайная встреча, ускорившая развитие событий в повести его жизни. «Позвольте рассказать Вам маленький эпизод, из которого Вам станет ясно, с какой легкостью я даю волю чувственному началу. Помните, я уезжал в Южную Африку. В одном вагоне со мной ехала женщина с ребенком и няней. Мы сблизились во мгновение ока, в самом начале пути, и уж до Чикаго не расставались. Это была чисто физическая страсть – и только. Помимо того, что это была просто милая женщина, в ней не было для меня никакого очарования. Страсть не коснулась ума, нельзя даже сказать, что она так уж безраздельно завладела чувством. Прошли три дня и три ночи, и ничего не осталось». Ничего, кроме воспоминаний о чем-то приятном. Он всегда ценил в женщинах их способность доставлять радость. «В моей вселенной плоть – вещь незначительная. Главное – душа. Плоть я люблю, как любили греки. И все же эта форма любви по сути своей сродни художественному творчеству – если не совсем, то отчасти». Он пишет; «В те дни я легко преступал границы дозволенного». Но за два года брака это был, по-видимому, первый случай, когда он дал себе волю. Что касается психологических последствий этого «маленького эпизода, из которого Вам станет ясно, с какой легкостью я даю волю чувственному началу», – они в полной мере проявились только по возвращении Джека из Англии. И вот опять в самый разгар летней жары он в Нью-Йорке. На сей раз он уже не «зашибал по мелочи на главном ходу» на холодное молоко и бракованные книжные новинки; не валялся на травке в Сити Холл парке, а отправился прямо в издательство Макмиллана, где впервые пожал руку крупномуиздателю. Джордж П. Бретт – либерал и честный человек, дока в редакторском деле, глубоко любил литературу и был к тому же верным другом. В годы бурь и тревог ему выпала на долю роль ангела-хранителя Джека Лондона, чьим восторженным почитателем он остался на всю жизнь. Сейчас Джек торопился на пароход, судить да рядить было некогда; договорились только, что по приезде из Южной Африки Джек наладит с издательством постоянные отношения и все его книги будут издаваться компанией Макмиллана. Услышав от Джека о «Переписке Кемптона и Уэйса», Бретт тут же принял книгу. Предполагалось, что до отъезда в Южную Африку Джек возьмет несколько интервью у английских генералов с целью выяснить их взгляды на будущее Трансвааля. Но в Англии Джека ждала телеграмма, отменившая всю затею с поездкой. Дорога туда и обратно была оплачена. Небольшой аванс он успел истратить. Вот положение! Он – в Лондоне, за семь тысяч миль от дома, без средств, без работы! Ему ли не уметь быстро приспособиться к обстоятельствам! Из многочисленных трудов по социологии он знал, что, пожалуй, самая жуткая дыра, какую сыщешь на Западе, – это лондонский Ист-Энд, Восточная сторона, сущий ад на земле. Решение принято – он проникнет в глубь Ист-Энда и исследует условия жизни его обитателей. Он недолго думал о том, что это, в сущности, очень дерзкое и трудное предприятие – осмыслить, проанализировать одну из сложнейших экономических проблем государства, с тем чтобы потом пристыдить, повергнуть в замешательство это государство. Чужаку, побывшему на английской земле какие-нибудь сутки-другие, для такого дела требовалась смелость, если не безрассудство. К тому же в Англии уже вышел первый сборник его коротких рассказов. Пресса, обычно настроенная консервативно, о нем, как ни странно, отозвалась хорошо; издатели были к нему расположены. Отчего бы, казалось, не устроить себе каникулы, проведя две-три недели в занимательном обществе английских литераторов? Вместо этого он отыскал на Петтикоут Лейн лавочку подержанного платья, приобрел изрядно поношенные брюки, плохонький пиджачок с единственной пуговицей; грубые башмаки, послужившие верой и правдой кому-то близко знакомому с погрузкой угля; узкий ремешок, донельзя засаленную кепочку – и окунулся в гущу Ист-Энда. В одном из самых густонаселенных кварталов трущобы он снял комнату и стал исподволь знакомиться с обстановкой. Издатели пришли в ужас. Это немыслимо! Его прикончат в собственной постели! У Джека, сына народа, эти страхи вызывали только смех. Его сочли за американского матроса, списанного в порту с корабля. Джек Морячок опять с легкостью вошел в свою роль, будто и не расставался с нею. Не посторонний, не исследователь, взирающий вниз с академических высот; он был одним из жителей Ист-Энда. Ходил человек в море, не повезло, попал в беду… Они приняли его в свою среду, доверяли ему, говорили с ним. Все, что Джек узнал об этом гиблом месте, он вложил в книгу, озаглавленную «Люди бездны», – свежую, правдивую, живую и по сегодня, одно из классических произведений мировой литературы, посвященных униженным и оскорбленным. «У меня был подход простой: что удлиняет жизнь, приносит здоровье – душевное и физическое, – хорошо. Все, что укорачивает, уродует жизнь, что калечит, причиняет страдания, – плохо». Подходя с этим «простым мерилом», он установил, что жить в Бездне – а ведь на дне ее находится одна десятая лондонского населения – значит медленно и непрерывно умирать от голода. Целые семьи, отец, мать, дети изо дня в день проводят долгие часы за работой. Жалованья едва хватает, чтобы заплатить за комнату, где вся семья готовит пищу, ест, спит и совершает все отправления интимной жизни. Болезни, отчаяние, смерть – неразлучные спутники обитателей Бездны. Джек видел бездомных мужчин и женщин, чьим единственным преступлением была нищета и плохое здоровье. Ими швырялись, помыкали, обращались не лучше, чем с какой-нибудь мерзкой тварью. Что среди них были прирожденные бездельники и никчемные забулдыги – это он обнаружил очень скоро; но, как и на американской Дороге, видел, что девяносто процентов истэндцев добросовестно трудились, пока старость, болезнь или застой в производстве не лишили их работы. Сейчас безработные или в лучшем случае надомники, работающие по потогонной системе в своих каморках, они вместе с семьями были брошены городом на произвол судьбы: догнивайте себе потихоньку, пока смерть – спасибо ей – не сметет вас с панели. «Лондонская Бездна – это огромная бойня. Более тоскливого зрелища не сыскать. Жизнь окрашена в однообразный серый цвет, повсюду грязь, ни просвета, ни проблеска надежды. Ванна – вещь абсолютно незнакомая; всякая попытка соблюдать чистоту выглядит жалкой насмешкой. В смрадном воздухе бродят странные запахи; от Бездны исходит притупляющая атмосфера оцепенения, она плотно окутывает человека, умерщвляет его. Год за годом из сельских районов Англии сюда вливается поток молодой, сильной жизни; к третьему поколению она гибнет. На дне волчьей ямы, именуемой «Лондон», пропадают ни за грош человеческие существа – четыреста пятьдесят тысяч – сию секунду – и во все времена». В день коронации Эдуарда VII Джек пошел на Трафальгарскую площадь поглядеть на великолепное, пышное и пустое средневековое шествие. За компанию с ним отправились возчик, плотник и потерявший работу старый моряк. Джек видел, как эти люди подбирали с осклизлого тротуара и ели апельсинные корки, яблочную кожуру, дочиста ощипанные виноградные кисти. Кусочки хлебного мякиша с горошину величиною, яблочные огрызки – почерневшие, грязные – они клали в рот, жевали, глотали. «Настойчиво твердят, что моя критика положения вещей в Англии чересчур пессимистична. В оправдание должен сказать – если и есть на свете оптимист, так это я. О человечестве я сужу не столько по политическим объединениям, сколько по отдельно взятым людям. Я предвижу, что людей Англии ждет радостное, широкое будущее. А вот для политической машины, не справляющейся сегодня со своими функциями, – для нее в основном мне не видится иного будущего, кроме мусорной ямы». У одного лондонского сыщика Джек снял комнату – убежище, где можно принять ванну, переодеться, почитать и, не вызывая подозрений, работать над книгой. За три месяца он изучил сотни брошюр, книг и правительственных отчетов, посвященных лондонской бедноте; беседовал с бесчисленным множеством женщин и мужчин; фотографировал, исходил многие мили по улицам. Он жил в работных домах и приютах для бедных, выстаивал очереди за бесплатной едой, спал вместе с новыми друзьями на улицах и в парках и как итог всего написал целую книгу – воистину торжество энергии, организованности и страстной увлеченности темой. В ноябре с рукописью в чемодане он прибыл в Нью-Йорк. Надеясь, что Макмиллан напечатает «Людей бездны», он в то же время прекрасно сознавал, что на социологии не заработаешь. Не он ли заявил Анне Струнской, что намерен извлечь из написанного все до последнего доллара? Не он ли писал Клаудсли Джонсу, что за хорошую цену готов продать журналам душу и тело? На деле этот человек опровергал то, что сам же проповедовал на словах. Он был прежде всего писателем, затем – социалистом, а уж где-то далеко в хвосте за ними тащился деловой парень с желанием заработать хорошие деньги. Друг, встречавший его на пристани, пишет: «На нем была свободная мятая куртка с оттопыренными карманами, откуда выглядывали письма и бумаги. Брюки пузырились на коленях, рубашка – далеко не первой свежести, а жилета вообще не было. Вокруг пояса – кожаный ремень, заменяющий подтяжки; на голову нахлобучена крохотная кепчонка». Что касается Джорджа П. Бретта, тот ничего этого не заметил – для него существовала только рукопись. Он увидел в «Людях бездны» глубокое, верное произведение и, отпустив несколько колких критических замечаний социологического характера, тотчас же принял рукопись для издания. «Я хочу отойти от Клондайка, – говорил ему Джек. – Тут я уже отслужил в подмастерьях. Пора попытать силы в области более значительной и широкой – теперь, я чувствую, мне это больше по плечу. У меня намечено книг шесть – все романы. За два года, с тех пор как был написан мои первый роман, я немало поработал, передумал и уверен, что сейчас могу написать нечто стоящее». Не сомневался в этом и Бретт. На просьбу Джека о том, чтобы в течение двух лет Макмиллан выплачивал ему ежемесячно сто пятьдесят долларов, издатель ответил согласием. Компания, в свою очередь, получала право печатать все, что будет написано за этот период. На прощанье Бретт дал единственный совет – пожалуй, лучший из всех, какие Джеку когда-либо довелось получить: «Отныне, надеюсь, Вы сможете совершенствоваться, и нынешние работы будут свидетельствовать о Ваших успехах так же неоспоримо, как когда-то Ваши ранние вещи. В последних книгах эти сдвиги не так заметны, здесь видны следы спешки. В мире литературы по-настоящему нет места ничему, кроме самого лучшего, на что человек способен». «Я вовсе не стремлюсь писать как можно больше, – ответил Джек. – Мне бы только встать на ноги, а там – одна книга в год, зато уж хорошая. Да меня и теперь нельзя назвать плодовитым писателем. Я пишу очень медленно, а успел так много потому, что работаю постоянно, изо дня в день, без отдыха. От сегодняшней работы зависит, будем ли мы сыты завтра; приходится тратить энергию на всякого рода поденщину. Когда положение вещей изменится и я смогу, не торопясь, тщательно отделывать и отбирать лучшее, тогда – я уверен – я буду писать понастоящему хорошо». В пульмановском вагоне поезда, уносившего его на запад, Джек разложил на диванчике три книги, изданные в октябре всего за неделюдругую до его возвращения в Нью-Йорк: «Дочь снегов», «Путешествие на «Ослепительном», «Дети Мороза». Ясно; если за какой-то месяц появляются три книги одного и того же автора, это не столько рекорд, сколько, с деловой точки зрения, как раз та необдуманная поспешность, за которую корил его Бретт. Теперь, решил он, когда «налажена связь с каким-то одним издательством», он поведет свои дела удачнее. Рядом с книгами легли газетные вырезки. Нужно посмотреть, как откликнулась на его вещи печать. Много резких критических замечаний по адресу «Дочери снегов», выпущенной издательством Липпинкотта. Автора обвиняют в том, что он не справился с построением романа, что Фрона Уэлс получилась неправдоподобной. Но в остальном критики отнеслись к книге вполне терпимо с воодушевлением отмечают действенный, наглядный стиль произведения и предсказывают, что со вторым романом дело пойдет более успешно. Джек облегченно вздохнул – а он-то ждал, что его сотрут в порошок! О «Путешествии на «Ослепительном», изданном «Сенчури Компани», отзывались в умеренных тонах. Что ж, роман для юношества; на большее он и не рассчитывал. Наиболее значительная из трех, книга об индейцах с Аляски под названием «Дети Мороза» (первое, что Джек напечатал у Макмиллана) закрепила за ним место центральной фигуры в Америке в области короткого рассказа. Откинувшись назад, невидящим взглядом провожая мелькающие за окном места, Джек с удовлетворением перебирал в памяти эти богатые событиями годы, когда он задался целью возродить жанр рассказа в американской литературе. Воспоминания невольно переплетались с хвалебными строчками, на которые не поскупились критики в оценке «Детей Мороза»: «Рассказчик, каких немного . область, доставшаяся ему по праву победителя… изумительное литературное достижение; он останется незыблемым… завоюет широкую известность на долгие времена». Джек был счастлив и горд и очень ясно представлял себе, что это вдего лишь первая ступенька, что борьба только началась. Он размышлял и строил планы. То, что уже сделано им для рассказа, он сделает и для романа Это обет. Со времен Мелвилла в американской литературе нет серьезных романов о море. Он их напишет. Американская литература еще не знает большого пролетарского романа Он создаст такие романы. Они понравятся критике и читателю – уж об этом-то он позаботится! Больше того, он ускорит наступление социалистической революции. Работы по горло; на осуществление всех этих замыслов уйдет лет двадцать, а то и больше. Прежде чем будет подведен итог его земного существования, он во что бы то ни стало выполнит задуманную программу. Приехав в Пьедмонт, Джек застал там Элизу; вот уж шесть недель как она жила у них в доме, поддерживая мир и покой между Бэсси и Флорой. Возвращение в лоно семьи было радостным; в письме Бретту от 21 ноября 1902 года Джек вкратце рассказал, как ему живется. «Поскольку я и так волей обстоятельств обременен семейством, – писал он, – я решил, что надо вкусить и семейных радостей, и женился. Семейное бремя увеличилось, но мне ни разу не пришлось раскаяться. Я вознагражден с лихвой». Занят он был больше, чем когда-либо: помимо новых вещей, его ждали гранки «Переписки Кемптона и Уэйса»; нужно исправить и дополнить последнюю рукопись – «Людей бездны». Его захлестнуло с головой: книги, рассказы, подготовка изданий… Он так блаженствовал среди этого сумбура, что вернулся к прежнему расписанию: девятнадцать часов – на работу, пять – на сон. Единственной передышкой были вечера «открытых дверей» по средам, когда собирались старые друзья (а с ними и новые), когда он играл в покер и посвящал приятелей в тайны хитроумных английских головоломок, которые он перед отъездом наскоро сунул в свой единственный чемоданчик. Бэсси разрешилась от бремени, подарив супругу еще одну дочь. Руку Джек себе на этот раз не порезал; отрезанной оказалась нить надежды на то, что у него будет сын, которому можно передать не только имя, но и литературные традиции. Он так сокрушался и горевал, что довел себя до болезни; Бэсси тоже слегла, видя, как он разочарован. Проходил день за днем, а Джек все не мог утешиться, пока новая идея не вывела его из оцепенения. Он задумал рассказ о собаке на три-четыре тысячи слов, сродни первой истории на ту же тему, написанной год назад. Через четыре дня намеченные четыре тысячи были написаны, и Джек с изумлением обнаружил, что это только начало; рассказ разрастался, в нем зазвучали такие ноты, о которых он и не помышлял. Он решил назвать его «Зов предков»; пусть себе растет, куда вздумается: сейчас его вещь – госпожа, а он – слуга, остается лишь писать и писать. Ни одна из прежних книг не захватывала его с такой силой. Славное это было время, эти тридцать дней, до отказа заполненные работой! Толстым карандашом писал он на грубой черновой бумаге; скупо правил, меняя два-три слова, и перепечатывал лист за листом на машинке. Он забросил друзей, семью, долги, новорожденную, гранки, ежедневно пачечками приходившие от Макмиллана. Для него существовал только его Бак, помесь сенбернара с шотландской овчаркой; пес, который жил себе да жил на ранчо в долине Санта-Клара, как дворянин в своем поместье, пока его не сцапали и не отправили пароходом в первобытные снеговые пустыни Клондайка. Но наступила «среда открытых дверей», когда друзья с лихвой наверстали упущенное. В тот вечер было не до карт, не до буйного веселья и шуток. Гости разместились на диванчиках у окна, на разбросанных на полу подушках, хозяин устроился в удобном кресле у камина и стал читать. В серовато-синих глазах появилось строгое выражение, руки излюбленным жестом ерошили волосы. Он читал историю Бака, благородной собаки, остававшейся верной любви к человеку, пока зов леса и смутные воспоминания о предках – диких волках – не вернули ее к первобытной жизни. Джек читал, и все глубже становилась тишина. В час ночи он кончил. У гостей, этих любителей поговорить, сейчас нашлось немного слов, но по сияющим глазам Джек без труда прочел их мысли. Наконец-то! Значит, не напрасно он три года пишет об Аляске; настал момент, когда он сумел воплотить свой замысел в художественной форме, столь безупречной и совершенной, что слушатели в эти краткие часы разделили с автором его вдохновение. Поутру он запечатал рукопись в конверт, вложив второй, пустой, на случай, если пришлют обратно, наклеил марку и отправил повесть в редакцию самого популярного журнала в мире – «Сатердей ивнинг пост», где и платили больше, чем в любом другом журнале. В редакции Джек никого не знал; вещи его там никогда не встречали теплого приема, так что особых надежд устроить роман в этот журнал у него не было. Однако «хитроумный механизм для перекладывания рукописей из одного конверта в другой», на который он нападал с такой яростью четыре года назад, когда был новичком, на сей раз не сработал. «Сатердей ивнинг пост» не воспользовался чистым конвертом, которым его снабдил отправитель. Вместо этого журнал прислал ему другой конверт, плоский и продолговатый, а в нем – чек на 750 долларов и письмо, где выражалось горячее согласие принять вещь. 750 за месяц работы! Он всегда говорил, что серьезная литература окупается. Он всегда говорил, что будет писать по-своему и заставит издателей признать его дарование. 750 долларов… На все хватит: на врача для младшей дочки, для Бэсси и для матери Джонни Миллера и на врачей Флоры; ведь уже накопились счета; надо платить страховым компаниям, универсальным магазинам, бакалейщикам, мясникам, аптекарям, портному, машинистке, писчебумажным магазинам. Надо помочь нуждающимся друзьям! Да еще ему нужны новые застекленные книжные шкафы! Еще нужно выписать с востока сорок книг по списку. Хватит и на это! Такого торжества он не испытывал с тех самых пор. как приняли к печати «Северную Одиссею». Это ли не победа? Каких-то шестьдесят дней прошло с тех пор, как в поезде на пути из Нью-Йорка он принял свое героическое решение, и вот началось возрождение американского романа. Нахлынули друзья, из тех, кто присутствовал при чтении «Зова предков»: каждому хотелось поздравить его, пожать руку, хлопнуть по плечу… Ну, как тут не послать еще за одним галлоном кислого итальянского вина, как вновь не отдаться навеселе розовым мечтам о будущем! Дела стали поправляться; теперь он принимал друзей на более широкую ногу; нанял вторую служанку в помощь Бэсси: она еще не окрепла, и ей приходилось нелегко. В доме бывали теперь хорошенькие женщины; после успешного штурма творческих высот Джек больше не отказывал себе в удовольствиях этого рода. Его женитьбе, пожалуй, недоставало страсти. Будь это не так, все равно из тридцати шести месяцев совместной жизни восемнадцать Бэсси ждала ребенка и по крайней мере шесть поправлялась после родов. Это было трудновато для человека кипучего темперамента, привыкшего к женской близости еще с тех памятных дней, которые он провел с Мэми на палубе «Рэззл-Дэззл». Не изгладились из памяти и трое суток, посвященных спутнице с чикагского поезда. Для него больше не существовало обязательств, призывающих к воздержанию, хотя и трех лет не прошло с тех пор, как он писал: «Сердце у меня большое; буду держать себя в узде, вместо того чтобы болтаться без руля и ветрил, и стану только более чистым и цельным человеком». «Мои моральные правила Вам известны, – писал он позже. – Известны и обстоятельства того периода. Вы знаете, я не испытывал угрызений совести от того, что вступал на путь наслаждений». Он редко упускал возможность вступить на этот путь – это не подлежит сомнению. Но физическая близость вне брака не была для него связана с любовью. Это был чувственный акт, доставляющий удовольствие обеим сторонам, и, следовательно, – Джек ведь был гедонистом – поступок тем более добродетельный, чем больше безобидного удовольствия он способен принести. «Да, я разбойничал, я рыскал, выслеживая добычу, но добыча никогда не доставалась мне ценой обмана. Ни разу в жизни я не сказал «люблю» ради успеха, хотя часто этого было бы вполне достаточно. В отношениях с женщинами я был безукоризненно честен, никогда не требовал больше, чем был готов дать сам. Я либо покупал, либо брал то, что мне отдавали по доброй воле, и взамен по совести платил тем же; я никогда не лгал, чтоб оказаться в выигрыше или получить то, чего не смог бы добиться иначе». Он пытается найти себе оправдание: «Мужчина может следовать своим вожделениям не любя, он просто так уж создан. Мать-природа с непреодолимой силой взывает к нему о потомстве, и мужчина повинуется ее настояниям не потому, что он грешник по собственной прихоти, а потому, что над ним властвует ее закон». В примерный список книг для Макмиллана Джек не внес «Зов предков», так как и думать не думал, что ему суждено написать эту вещь. Теперь он отослал рукопись Бретту. 5 марта пришел ответ. Бретту не понравился заголовок. «Что касается самого произведения, оно мне нравится – и очень. Правда, я побаиваюсь, что эта вещь слишком хороша и правдива, чтоб по-настоящему завоевать любовь сентиментальной публики, с восторгом глотающей Сетона-Томпсона». Далее Бретт предлагает не заключать договора, предусматривающего авторские отчисления – это задержало бы публикацию, – а купить книгу, с тем чтобы немедленно ее напечатать. «Мне бы хотелось попробовать провести с этой книжкой один эксперимент: выпустить ее в заманчивом оформлении и потратить большую сумму денег на то, чтоб дать книге ход. Это способствовало бы распродаже Ваших книг, не только уже изданных, но и тех, которые появятся в будущем. Я, однако, вовсе не хочу Вас переубеждать. Окончательное решение целиком зависит от Вас, и если Вы не склонны принять предложение о выплате Вам денег сейчас же, мы издадим книгу в срок, предусмотренный условиями нашего договора». 750 долларов, полученные от «Сатердей ивнинг пост», были уже истрачены. Ста пятидесяти, ежемесячно присылаемых компанией Макмиллана, на семью из шести человек, не считая няни Дженни и двух служанок, не хватало. Ни одна книга не принесла ему и тысячи долларов авторских отчислений с продажи, а уж о двух не приходилось и говорить. Составит ли эта книга исключение? Едва ли. Если и так, денег придется ждать по крайней мере два года, а к тому времени их поглотит ежемесячный аванс. Предложение Бретта означает две тысячи чистыми, прямо тут же, а ведь что у тебя в руках, то и тратишь… в особенности если есть на примете посудинка под названием «Спрей» («Mорская пена») – любо-дорого посмотреть! Джек принял предложение Бретта и продал ему все права на «Зов предков». «Спрей» представлял собою парусный шлюп с просторной каютой на две персоны, где можно было и готовить. Джек купил его потому, что стосковался по морской жизни, но не только поэтому. Он подумывал о морском романе и, прежде чем приня гься за него, хотел снова ощутить под ногами корабельную палубу. Вот уже девять лет, как он сошел с «Софи Сазерленд» – вся оснастка успела покрыться ржавчиной. «Это будет почти буквальный рассказ о событиях семимесячного плавания, которое я как-то проделал матросом. Чем чаще я думаю о том, что произошло во время этого рейса, тем удивительнее мне все это кажется». «На вашу морскую повесть, – отвечал Бретт, – я возлагаю очень большие надежды. Морских рассказов выходит мало, да и те никуда не годятся, так что хорошую повесть о море, безусловно, ждет сейчас необычайный успех». Окрыленный напутствием Бретта, Джек запасся провиантом и одеялами, вывел «Спрей» в залив и провел неделю на воде, поднимаясь по проливам и болотистым рукавам, как в те дни, когда был отчаянным пиратомустричником, а потом патрулыциком рыбачьей инспекции. Прошла неделя, и, еще чувствуя в ноздрях соленый морской ветер, а в мозолистых руках – шкот, он вернулся домой, за письменный стол, и взялся за первую главу «Морского волка» Когда его слишком часто отрывали от работы или вокруг собиралось слишком много друзей, он брал с собой еду и один отчаливал от берега на «Спрее». Сидя на крышке люка, он каждое утро писал свои полторы тысячи слов. Стояла ранняя весна, солнышко согревало тело, а мысли о «Морском волке» – душу. Потом он совершал парусные прогулки, стрелял на реке Сакраменто уток или удил на ужин рыбу. По субботам и воскресеньям он иногда брал с собой Бэсси с девочками, Элизу с сыном и целую ораву друзей. Это было время, насыщенное весельем и работой. Социалистический журнал Вильшира из номера в номер печатал «Людей бездны», выдвинувших его в передовую шеренгу американских социалистов Для журнала «Товарищ» он написал статью «Как я стал социалистом», для «Международного социалистического обозрения» – серию критических статей. За «Людей бездны» Вилынир ему заплатил, правда, очень скромно, но для социалистических газет он всегда писал бесплатно! Для местных социалистов он подготовил также два новых доклада – «Борьба классов» и «Штрейкбрехер». Оба появились в социалистической печати. Со всех концов страны ему стали писать собратья по партии; письма неизменно начинались словами «Дорогой товарищ», а кончались: «Ваш, во имя Революции». На каждое письмо Джек отвечал сам, начиная словами «Дорогой товарищ» и кончая – «Ваш, во имя Революции». По мере того как его имя приобретало все более широкую известность, дом Джека в Пьедмонте все больше становился для обитателей района бухты Сан-Франциско средоточием духовной жизни. Не меньше ста человек в неделю входили в парадную дверь, чтобы воспользоваться гостеприимством хозяина. В доме были две служанки, а при детях – няня Дженни, но работы все равно было много – хоть отбавляй! Работа и снова работа, гости и снова гости – это не всегда приходилось по нраву Бэсси. Однажды в «среду открытых дверей» она нарочно приготовила меньше угощения, чем требовалось, чтоб накормить эту кучу народа. Не слишком много радости доставляли ей и женщины, окружавшие.Джека – ее Джека, с его милой, теплой улыбкой и раскатистым смехом; они так и вешались ему на шею. Она стала ревновать. Джека теперь нарасхват приглашали на всевозможные официальные церемонии; ему хотелось, чтоб жена для подобных случаев покупала себе красивые платья; Бэсси отказывалась. Элиза заманивала Бэсси в магазины, чтобы показать ей, как она хороша в длинном бархатном платье, в бархатной шляпке с пером. Напрасно: Бэсси упорно ходила в блузе, матросской юбке и матросской шляпе и в этом скромном виде явилась даже на званый обед в фешенебельном клубе богемы в Сан-Франциско, устроенный в честь Джека. Джек это остро переживал; он восхищался фигурой жены и хотел, чтоб ее видели в самом выигрышном оформлении. Нежелание Бэсси одеваться модно, с одной стороны, объяснялось тем, что она чувствовала себя далеко не блестяще, а с другой – еще и тем, что Фреду Джекобсу, ее погибшему жениху, повидимому, нравились на ней именно блузы и матросские юбки. Джек и Бэсси ладили, несмотря на эти незначительные трения. Его огорчало лишь то, что она мало читает и не может вместе с ним обсуждать новые книги. Когда он заговорил на эту тему, Бэсси возразила, что рада бы всей душой, но в шесть утра ее будит ребенок, и с этой минуты до десяти вечера одно за другим идут нескончаемые дела. Джек сочувственно потрепал жену по руке. Да, он знает. Вот когда детишки подрастут, у нее будет больше времени на книги. Тридцать пять лет спустя люди вспоминали, что на вид Бэсси была ему не пара: Джек выглядел озорным мальчишкой, а она – степенной матроной. Тем не менее все сходились на том, что супруги жили в мире и согласии. Это весьма решительно подтверждает и Элиза Лондон-Шепард, которая в тот период часто у них гостила. Судя по его собственным записям, Джек признавал за женой лишь один недостаток – ограниченность фантазии, воображения. «Кругозор ее был ограничен узкими рамками». Вместе с тем, вполне отдавая жене должное, он признавался, что всегда знал об этом и что эмоциональная уравновешенность, прозаичность Бэсси были необходимы ему до крайности и прежде всего привлекали его к ней. Клаудсли Джонсу, заявившему, когда Джек женился: «Я приберегу свои поздравления к десятой годовщине вашей свадьбы», – он писал в марте 1903 года: «Кстати, по-моему, Вам уж пора принести нам Ваши давным-давно просроченные поздравления. Вот уже скоро три года как я женат, обзавелся парой ребятишек и считаю, что семейная жизнь – великолепная штука. Так что не мешкайте! Или приезжайте, взгляните на нас и на ребят и поздравляйте потом». «Морской волк» двигался вперед полным ходом, принося автору гораздо больше радости, чем даже «Зов предков». В .свободные часы Джек писал отличные рассказы об Аляске, такие, как «Тысяча дюжин», «Золотоискатели Севера» и десяток других. Кроме «Спрея», он приобрел еще лошадь с коляской, чтобы катать по окрестностям свое семейство и приятелей. Становилось тепло, и ему доставляло удовольствие устроить пикник гденибудь на холмах, затеять игры, поплавать в озере, поджарить мясо на костре… В конце апреля он упал с коляски, и ему срезало кусок большого пальца на руке. «У меня такое ощущение, будто на кончике пальца бьется сердце», – жаловался он; однако несчастный случай не оторвал его от «Морского волка» – он по-прежнему успевал писать тысячу слов в день. Прообразом главного героя послужил капитан Алекс Макклин, о необычайных подвигах которого он наслышался, когда служил на «Софи Сазерленд». Уединение и покой Джек продолжал находить на «Спрее»; однажды внезапный шторм в клочья изорвал паруса; пришлось порядком потрудиться, чтобы вернуться в устье. В июне была анонимно опубликована «Переписка Кемптона и Уэйса». Печать встретила ее доброжелательно. «Необычно… вдумчиво… откровенно… широкая аудитория обеспечена… проникнуто пытливым духом современности… служит хорошей пищей для ума… новое направление в жанре романа… умно, остро, философия оригинальна». Путем «последовательных умозаключений» одного из авторов отгадал сан-францисский журнал «Аргонавт». Новость распространилась с такой быстротой, что, выпуская второе издание, Макмиллан запросил у Джека разрешения огласить имена авторов. Раскупали «Переписку» не особенно бойко: для среднего читателя в ней не хватало фабульности, действия, быстрого темпа; однако Джек и Анна (она теперь жила в Нью-Йорке) обменялись письмами, в которых поздравляли друг друга с удачным завершением важной работы. К концу июня, решив вывезти детей на лето за город, Бэсси сняла домик в Лунной Долине округа Сонома, где у местечка Глен-Эллен разместилась стайка летних дач, построенных миссис Нинеттой Эймс. Джек остался в Пьедмонте – он серьезно работал над «Морским волком», не хотелось бросать и прогулки на «Спрее». Однажды вечером, под самый конец месяца, Джек проезжал через холмы в своей коляске с Джорджем Стерлингом и другими друзьями. По пути коляска свернула с дороги и угодила в овраг, Джеку при этом сильно повредило ногу Ухаживать за ним частенько приходила Чармиан Киттредж. В начале июля, едва встав на ноги, Джек уехал к своим в Глен-Эллен. Туда же к тете приехала и мисс Киттредж. У «Трансконтинентального ежемесячника» были трудности: Роско Эймс с Эдвардом Пэ-йном остались без работы. На берегу речушки миссис Эймс с Эдвардом Пэйном построили большой, довольно беспорядочный дом. Назвали его «Уэйк Робин». Напротив Пэйн, проповедник, поставил бревенчатые столы и скамейки, чтобы проводить философские дискуссии, посвященные возрождению истинной веры. Чтобы заработать на этом предприятии, миссис Эймс настроила дачки, поставила палатки и стала сдавать их семейным людям. Приехав в Глен-Эллен, Джек увидел, что его семейство удобно устроилось в домике с парусиновой крышей, расположенном в рощице виннокрасной мансаниты и земляничных деревьев. Дачники жили коммуной, готовили в общей кухне на берегу, ели за длинными столами. Джек ассигновал несколько долларов, чтобы устроить запруду там, где чистый прохладный ручей протекал мимо песчаного пляжа, и все общество сходилось сюда загорать и купаться. Проводил здесь послеобеденные часы и Джек; играл с мелюзгой, учил ее плавать. По утрам он уединялся где-нибудь в холодке на берегу и, сидя на стволе спиленного дуба, ежедневно строчил свою тысячу слов. А однажды июльским вечером все обитатели ГленЭллена, даже малые дети, уютно закутанные в одеяла, собрались послушать первую половину «Морского волка». Рукопись Джек положил на тот самый ствол, на котором обычно писал, с обеих сторон поставил по свечке и начал читать. На земле у его ног расселись соседи. Заря уже принялась расцвечивать небо над горою Сонома, когда он перевернул последнюю страницу. Очевидцы, которым в конце июля 1903 года довелось слышать, как Джек Лондон читает «Морского волка» на берегу ручья в Глен-Эллен, вспоминают этот вечер и поныне как одно из самых значительных и прекрасных событий в своей жизни. И вот тогда, в какие-то немногие часы, произошел взрыв, положивший конец существованию семьи Лондонов. Лучше всего, пожалуй, рассказать об этом словами самой Бэсси. «Как-то в конце июля мы с Джеком после завтрака остались поговорить у ручья. Ему хотелось на время уехать из Окленда; уж слишком часто его отрывали от работы Он сказал, что подумывает о покупке ранчо в южнокалифорнийской пустыне, и спросил, не буду ли я про гив того, чтобы там поселиться. Я ответила, что вовсе нет, только нужно позаботиться об удобствах, необходимых для детей. (Бэсси была в первую очередь матерью, а уж потом женой.) Джек обещал, что это будет сделано, и мы наметили переезд на осень. Часа в два я отвела детей домой спать. Мисс Киттредж давно уже поджидала поблизости; они с Джеком пошли на большой гамак у дома миссис Эймс и стали разговаривать. Я не придала этому никакого значения, уложила детей и взялась за уборку. Четыре часа подряд мисс Киттредж с Джеком сидели в гамаке и говорили. В шесть Джек вошел к нам в домик и сказал: – Бэсси, я тебя оставляю. Не понимая, о чем он говорит, я спросила: – Ты что, возвращаешься в Пьедмонт? – Нет, – ответил Джек. – Я ухожу от тебя… развожусь. Оглушенная, я опустилась на край кровати и долго смотрела на него, пока, наконец, еле смогла выговорить: – Господи, папочка, да что ты?.. Ты же только что говорил насчет Южной Калифорнии… Джек упрямо твердил, что бросает меня, а я все восклицала: – Но я ничего не понимаю… Что с тобой случилось? Однако больше от него нельзя было добиться ни слова». Никто, и уж тем более Бэсси, не догадывался, что в жизни Джека «случилось» не что иное, как Чармиан Киттредж. Ко многим женщинам могла Бэсси ревновать мужа, но к этой ей и в голову не приходило. Мисс Киттредж была лет на пять, а то и на шесть старше Джека, не блистала красотой и в Пьедмонте, где ее хорошо знали, служила объектом язвительных суждений и толков. Зачастую там, где бывал Джек, была и она, но к этому Бэсси привыкла еще у себя в Пьедмонте. На первый взгляд Джек в Глен-Эллене виделся с нею не чаще, чем с другими. Больше того, не раз в присутствии жены он отзывался о ней очень нелестно. Бэсси знала, что мисс Киттредж ему не особенно нравится. Вот что писала мисс Киттредж Джеку в июне, за месяц до разрыва: «Ах, ты чудный – чудеснее всех! Я видела, как от моего прикосновения у тебя молодеет лицо. Что стряслось с этим миром? Где мое место? Наверное, нигде, если нигде – это сердце мужчины». И тогда же пишет ей Джек: «Вокруг тебя сомкнулись мои руки. Целую тебя в губы, открытые, честные губы, которые знаю и люблю. Вздумай ты вести себя застенчиво, робко, попробуй вопреки самой себе изобразить жеманную недотрогу, разыграть хоть на мгновение притворную стыдливость, ей-богу, я бы, кажется, проникся к тебе отвращением. «Дорогой мой, дорогая любовь моя! Я лежу без сна и все снова и снова повторяю эти слова». 7 июля Чармиан Киттредж пишет Джеку: «Меня начинает пугать одно: боюсь, что мы с тобой никогда не сможем выразить, что мы друг для друга. Все это так огромно; а способов выражения у человека так несоизмеримо мало». Спустя несколько дней она посылает ему из Сан-Франциско письмо, которое отпечатала на машинке в своей конторе: «Ты поэт, и ты так красив. Поверь, милый, милый мой, что еще никогда в жизни я ничему не была так рада, так глубоко, по-настоящему рада. Подумать только: тот, кто для меня величайший из людей, не обманулся во мне!» Мирно спали дети в дачке с парусиновой крышей в Глен-Эллене, а их отец, обуреваемый противоречивыми чувствами, переживал сейчас, пожалуй, самую – мучительную ночь в жизни. Джек был прежде всего человеком мягким, добрым. Сам легко ранимый, прекрасно зная, что такое обида, он всегда боялся причинить боль другим. Для него было первым удовольствием помочь человеку, разделить с ним все, чем он сам богат. Неужели это он захвачен таким бурным, таким стремительным чувством, что, подчиняясь ему, бросает жену и дочерей, как в молодости уходил от Джона Лондона и Флоры? Человек нежной души, социалист, убежденный, что надо отдавать людям лучшее, не думая о награде, стремящийся из сострадания к человечеству добиться для людей лучшей доли! Гак это его совесть, его социальные и моральные взгляды сметены прочь, уступили место ницшеанскому идеалу – странному, но неразлучному спутнику его социалистических взглядов. Не он ли, этот ницшеанский сверхчеловек, твердит Джеку: «Ты можешь вырвать у жизни все, что пожелаешь; не стоит беспокоить себя чувствами безликой толпы, моралью рабов – ведь Бэсси, увы, из их числа!» Утром Джек возвратился в Пьедмонт, забрал свои пожитки из дома, о котором с такой гордостью писал друзьям, и снял комнату у Фрэнка Эзертона. Прошло несколько дней, и первые страницы газет запестрели сообщениями о разрыве. Говорить с репортерами Джек отказывался, и те за неимением лучшего всю вину взвалили на «Переписку Кемптона иУэйса». Джек-де написал там, что «чувство любви основывается не на разуме», а Бэсси была так поражена подобным утверждением, что это послужило достаточным поводом для разрыва.VII
С самого начала отношения Джека и Чармиан Киттредж отличаются высоким стилем; с течением времени выспренность взаимных признаний все возрастала. 1 сентября Чармиан пишет ему: «Ты мой, мой собственный, я обожаю тебя слепо, безумно, безрассудно, страстно; ни одна женщина не была еще способна на такую любовь». И на другой день продолжает: «Ах, любимый мой, ты такой мужчина. Я люблю тебя, каждую твою клеточку, как не любила еще никогда и никого уже больше не буду любить». Через два дня: «О, дорогая Любовь моя, ты мой Мужчина; истинный, тот самый настрящий Супруг моего сердца, и я так люблю тебя!» Следующее письмо: «Думай обо мне нежно, и любовно, и безумно; думай, как об очень дорогом друге, своей невесте, Жене. Твое лицо, голос, рот, твои нежные и властные руки – весь ты, целиком, мой Сладостный – я буду жить мыслями о тебе, пока мы не встретимся опять. О Джек, Джек, ты такой душка!» Не желая уступить ни в торжественности изъявлений чувств, ни в выборе стиля, Джек отвечает: «Ты не можешь представить себе, как много ты для меня значишь. Высказать это, как ты сама говоришь, невозможно. Непередаваемо волнуют первые мгновения, когда я встречаю, вижу, касаюсь тебя. Ко мне приходят твои письма, и ты со мною, со мною во плоти, и я гляжу в твои золотистые глаза. Да, душа моя, любовь к женщине для меня началась тобою и кончится тобой». Боясь скандала, который неизбежно вспыхнул бы, если бы стала известна причина разрыва, влюбленные встречались тайно, раз или два в неделю. В те дни, когда бывать вместе было нельзя, посылали друг другу бесконечные письма. В тех, которые мисс Киттредж ежедневно писала в своей сан-францисской конторе, – от одной до пяти тысяч слов; многих сотен страниц, отправленных Джеку за два ближайших го да, хватило бы на полдюжины средних по величине романов. Написаны они затейливо и кокетливо, чувствительно и цветисто; но под многословием угадывается рука женщины хитрой и умной. Их любовь изображается в этих письмах величайшей любовью всех времен. Она всегда знала, говорит Джеку мисс Киттредж, что ей уготовано судьбой нечто необычайное. «О Джек, дорогой, дорогой мой, Любовь моя, ты мой кумир, ты не знаешь, как я тебя люблю». И так до тех пор, пока он не начинает верить, что его любят, как не любили никого с сотворения мира. Убежденный, он отвечает: «Твоя любовь ко мне так огромна, что меня охватывает сомнение – смогу ли и я когда-нибудь полюбить тебя с такой же силой?» Письмо за письмом – она задает тон, он подхватывает почти машинально. Ведь из них двоих он литератор, как же он может писать менее пышно, страстно, откровенно, чем она? «Нет, нет, Возлюбленная, – пишет он, – моим глазам любовь наша не представляется чем-то немощным и незначительным. Я готов жить или умереть ради тебя – это само по себе доказывает, что наша любовь для меня важнее жизни и смерти. Ты знаешь, что из всех женщин ты для меня единственная; что ненасытная тоска по тебе страшнее самого лютого голода; что желание грызет меня свирепо, как никогда не терзала жажда славы или богатства. Все, все доказывает – и доказывает неопровержимо, как велика она, наша любовь». Ежедневно слова мисс Киттредж тысячами проходят перед его глазами, и загипнотизированный Джек начинает писать в тоне какой-нибудь третьесортной Марии Корелли. Под влиянием литературной манеры Чармиан отвечает теми же вычурно-нарядными излияниями в духе девятнадцатого века – в том самом стиле, которому еще в раннюю пору своего творчества объявил войну; в том трескучем любовном стиле, от которого ему так и не суждено было избавиться, который испортил столько его книг. Джек, выступивший в «Переписке Кемптона и У эйса» противником любви сентиментальной, поэтической; защитником теории, утверждавшей, что любовь – биологическая потребность, и только, внезапно превращается во «влюбленного безумца, готового умереть в поцелуе». Что сказала бы Анна Струнская, заглянув ему через плечо и увидев, как круто изменил он свои позиции! Едва ли она отказала бы себе в удовольствии с ироническим смешком показать Джеку сравнения ради его собственные строчки: «Если бы не было эротической литературы, человек, безусловно, не мог бы любить в присущей ему манере». В письме, написанном из Стоктона 10 ноября 1903 года, обилие излияний достигает апогея; «Знай же, сладостная любовь моя, что я и не представлял себе, как огромна твоя любовь, пока ты не предалась мне по доброй воле и до конца; пока ты, твоя любовь, все твое существо не вымолвили «да». Своим милым телом ты как печатью скрепила все, в чем призналась мне душой, и вот тогда я понял все, до конца. Я познал – я знаю, что ты до конца и целиком моя. Если при всей своей любви ты все-таки не уступила бы мне, передо мной не открылось бы с такой полнотой твое женское величие; не были бы так беспредельны моя любовь, мое преклонение пред тобою. Просмотри мои письма, и, я уверен, ты убедишься, в том, что истинное безумие овладело мною не ранее, чем ты сцарственной щедростью одарила меня. Именно после того, как ты отдала мне самое главное, появились в моих письмах слова, что я твой «раб», что я готов умереть за тебя, и весь прочий восхитительный набор любовных преувеличений. Но это не преувеличение, дорогая, не напыщенный вздор сентиментального тупицы. Когда я говорю, что я твой раб, я утверждаю это как человек здравомыслящий, и это лишний раз подтверждает, что я воистину и до конца сошел с ума». В 1890 году, девятнадцати лет от роду, Чармиан Киттредж, по собственным словам, была «розовощекой девочкой, по мнению многих, хорошенькой и – за исключением тех случаев, когда ее одолевает ревность, – в превосходном расположении духа». В 1903 году, в возрасте тридцати двух лет, ее уже хорошенькой не считали; тонкие губы, узкие глаза, поникшие веки; но держалась она вызывающе смело. Во многом она походила на Фрону Уэлс, созданную Джеком как образец женщины двадцатого века. Вынужденная после смерти родителей зарабатывать себе на жизнь – а в те дни считалось, что благовоспитанной девушке работать не совсем прилично, – она добилась того, что стала первоклассным секретарем, получая «мизерное жалованье, тридцать долларов в месяц». Она много читала, взгляды ее были чужды шаблона; когда в 1900 году Джек встретился с нею в первый раз, она уже начала собирать библиотеку, состоявшую из запретных для Оклендской публичной читальни романов – самых смелых и самых современных. Она по-настоящему любила музыку, мило пела; у нее нашлось достаточно дисциплины и силы воли, чтобы, работая шесть дней в неделю, упражняться еще и в игре на рояле и стать великолепной пианисткой. У нее был обольстительный голос, звучный, богатый оттенками, ласкающий слух; она любила посмеяться – даже если ее собеседники не находили повода для смеха – и могла проговорить от четырех до семи часов кряду, Располагая неистощимым запасом слов и выражений на каждый случай жизни, она умела поддержать умную беседу, своевременно вставить замечание. На редкость отважная, она скакала верхом по холмам – и это в ту пору, когда вообще-то немногие женщины решались садиться на лошадь, а уж если решались, так лишь для того, чтобы покататься в английском дамском седле по специальным дорожкам, где-нибудь в Парке Золотых Ворот. Честолюбивая, стремясь выдвинуться в сфере интеллектуальной, добиться успехав обществе, онанеустанно совершенствовалась: скопила денег на поездку по Европе, недурно расписывала фарфоровые блюда – словом, работала не покладая рук и с каждым годом в той или иной области преуспевала. Однако во всем, что касается любви, она была законченным продуктом девятнадцатого века. И трескучие фразы, и витиеватое, игривое кокетство, и прихотливые, затейливые чепчики – все выдает в ней полную противоположность Фроны Уэлс. В дневнике мисс Китгредж отражены многие стороны ее сложной натуры, в том числе и приторно-сентиментальное отношение к любви. Каждый мужчина, будь это даже случайный знакомый, в ее воображении немедленно превращается в потенциального влюбленного. Каждый взирает на нее либо восхищенно, либо страстно, каждый не в силах оторвать глаз. Что касается лиц ее собственного пола, она их выносит с трудом; каждая женщина при виде ее непременно загорается ревностью; каждая, в свою очередь, внушает ревность и ей. В кругу мужчин она настойчиво, сознательно ставила себя в центр внимания, вдохновенно и со знанием дела изображая женщину, в которой есть нечто роковое. Отзывы знакомых и друзей показывают, что там, где речь шла о мужчинах, правил частной собственности для нее не существовало. Зная, насколько она поглощена мыслью о том, как бы заполучить себе мужа, молодые жены и невесты относились к ней с опаской и недоверием. Непрерывной вереницей появляются в ее жизни мужчины – и вскоре исчезают. Трудно понять, каким образом такой привлекательной молодой женщине никак не удается выйти замуж. Недоумевает и сама мисс Киттредж. Нервничает тетушка и с появлением каждого нового мужчины немедленно осведомляется, входит ли в его намерение брак: годы-то идут, другие девушки выходят замуж, а вот у племянницы все промах за промахом. В чем же дело? По возвращении из Европы мисс Киттредж стала частой гостьей м пьедмонтском домике Лондонов, и Джек, охваченный одним из своих мятежных настроений, начал новую страницу. «Признаюсь тебе в том, что ты уже и так знаешь с первого дня нашего знакомства. Когда я впервые заговорил с тобой, я хотел сделать тебя своей любовницей. Ты была так откровенна, так честна и, главное, так бесстрашна! гудь ты иной – хотя бы в одном движении, поступке, фразе, я, наверное, постарался бы подчинить тебя своей воле… Помню, мы ехали рядом на заднем сиденье, и я предложил: «Может быть, свернем к сеновалу?», а ты посмотрела мне в глаза, с улыбкой, но без насмешки, без тени жеманства. Ни возмущения, ни страха, ни удивления! Добродушное, милое, открытое лицо. Ты взглянула мне в глаза и сказала просто: «Не сегодня». Через два месяца после ухода от Бэсси Джек пишет: «Я раздумываю порой: отчего я люблю тебя? За красоту твоего тела, ума? Сознаюсь, не за нее я тебя люблю, но за внутренний огонь, который пронизывает тебя насквозь, украшает все, что бы ты ни надела, который делает тебя задорной, легкой на подъем, чуткой и гордой, гордой собой, своим телом; заставляет и тело твое – само по себе, независимо от тебя – тоже гордиться собой». Не приходится сомневаться в том, что близкие отношения с мисс Киттредж завязались у него в июне, когда он остался в Пьедмонте, одинодинешенек во всем доме. А идея переехать вместе с Бэсси в Южную Калифорнию, бросить горячо любимый залив Сан-Франциско была попыткой найти выход из положения, в котором он оказался. Очевидно, мисс Киттредж пришлось потратить четыре часа подряд на уговоры, прежде чем он, наконец, сдался. «Окажись Джоан или Бэсси мальчиком, – заметил один из самых близких друзей Джека, – его бы никакими силами не удалось оторвать от семьи». Чармиан Киттредж искренне считала, что Бэсси не пара Джеку: женой, какая ему нужна, может стать лишь она. Женой, которая не свяжет себя домом, будничными заботами, а будет вместе с ним странствовать, рисковать, дерзать. Она-то (при поддержке тетиНетты, с самого начала укрывавшей влюбленных), по-видимому, и оказалась скрытой силой, разбившей семью Лондонов. Впрочем, Джек и вообще был легко уязвим. Вспомним, с каким самозабвением отдавал он свою любовь: духовную – Анне Струнской, физическую – незнакомке с чикагского поезда. Не исключена возможность, что если бы такая своеобразная особа, как мисс Киттредж, не нагрянула в его жизнь, он бы остался с Бэсси. Дом служил бы ему штабквартирой, а разъезжать и искать приключений он стал бы один. Но вполне вероятно, что если бы им не сумела завладеть мисс Киттредж, он достался бы другой, пятой, десятой… Да, он сам часто повторял в своих рассказах: в этом мире одна собака грызет другую, а тех, кто отстал, пожирают волки. Бэсси не в силах удержать мужа? Ну что же! Мисс Киттредж это не касается, она вправе драться за свое счастье в жизни, вправе захватить себе все, что ей надо. Да, Джек причинит страдание троим самым любимым людям; причем двое из них благодаря ему появились на свет. Зато те, кого любит она, из-за нее не пострадают. Чтобы усыпить подозрения, мисс Киттредж часто навещала Бэсси, которая по секрету делилась с нею семейными горестями. 12 сентября 1903 года она пишет Джеку: «Вчера вечером была у Бэсси. Она приняла меня чудесно – так чудесно, что мне стало не по себе. Приглашала приехать погостить, когда только мне вздумается, была до того любезна и радушна, что мне почудилось, будто весь этот разрыв, все невзгоды – только сон. Случается, что при мысли о происходящем мне приходится бороться с чувством, что я просто гадкая; правда, тут мне на выручку является рассудок, но все же – ах!!!» И пять дней спустя продолжает: «Я почти отказалась от мысли, что Бэсси всерьез подозревает меня, хотя с ее стороны меня бы ничто не удивило! Она себе на уме, а я людей лживых не понимаю». Так ловко играла она свою роль, что 2 октября Джек смог сообщить ей, что «поскольку дело идет о нас с тобой, все обстоит благополучно. Вчера вечером Бэсси мне говорила, что без тебя не знала бы, как и быть. Одним словом, тебя превозносили до небес». Бэсси была потрясена до глубины души, но слишком горда, чтобы бороться, устраивать сцены. В полнейшем неведении относительно побуждений, которыми руководствовался ее муж, она вела себя безропотно и только дивилась, отчего человек, который упорно добивался ее руки, настоял, чтобы она родила ему детей, не только пользовался ее помощью в своей работе, но в первые годы совместной жизни и ее деньгами, три года прожил с нею в мире и согласии, – почему он вдруг без всякого предупреждения ушел от нее? В беде она обрела друга: Флору Лондон. Три года Флора и Бэсси изводили Джека ссорами, но любовь к Джонни Миллеру открыла Флоре значение материнства. Теперь она восстала против сына за то, что он бросил семью. Уязвленный предательством, как он называл поведение матери, Джек совершенно потерял голову. У него появилась мания преследования; он сетовал, что все против него, что весь мир сговорился оторвать его от «женщины его любви». 22 сентября с борта «Спрея» он пишет мисс Киттредж: «По всем законам человеческим мне нельзя было пройти мимо тебя во мрак и тьму. Ты была моя, моя, никто на свете не имел права разлучить нас. И все-таки меня разлучили, гнусно разлучили с женщиной, которую я люблю больше жизни». Он настолько утратил ясность мыслей, что не мог заставить себя взяться за работу, несмотря на великолепные отзывы критики о «Зове предков», единодушно названном «классическим вкладом в американскую литературу». Единственный способ уйти от мути, поднявшейся вокруг него, – это удрать куда глаза глядят. Иначе, решил он, ему вообще не закончить «Морского волка». Когда «Спрей» вернулся после капитального ремонта, он выслал деньги на проезд Клаудсли Джонсу – тот жил в Южной Калифорнии, почти ничего не зная о неприятностях друга. Вдвоем они взяли курс на устье реки Сакраменто; по утрам работали над книгами, после обеда плавали, охотились на уток, удили рыбу. После жизни среди женщин, со всеми их сложностями (возникшими, впрочем, по его же вине), он нашел мужское общество целительным. «Чем больше я бываю с Клаудсли, тем он мне приятнее. Он честен и предан, молод и свеж, понимает дисциплину на борту, хорошо готовит, не говоря уж о том, что он славный, добрый товарищ». Чисто по-мужски он выбросил из головы все тревоги и каждое утро писал «Морского волка» по тысяче слов в день. Единственной заботой, которая, несмотря ни на что, давала о себе знать, были финансовые затруднения: к 14 сентября он снова остался без средств. «Бэсси твердит тебе, что я остался чуть ли не без гроша, – пишет он мисс Киттредж. – Я и сам чувствую, что недалек от этого. Меня отделяют от нищеты какие-то сто долларов, а тут нежданно-негаданно приходит счет от врача на сто пятнадцать». «Морской волк» отложен в сторону: автор берется за рассказ для «Спутника юношества», решив заниматься поденщиной целый месяц, чтобы немного поправить дела. Раз в несколько дней он заходил за почтой в какой-нибудь маленький городишко – Стоктон, Антиок, Вальехо. Однажды пришло письмо от Бэсси: Джоан заболела тифом. Джек примчался к дочери. В ужасе, что ребенок может умереть, он почти не отходил от постели. Когда врач сообщил, что девочка тает как свеча, Джек принял эту весть как возмездие за грехи и поклялся, что если только его дитя выживет, он откажется от своей великой любви и возвратится к семье. В газетах появились сообщения о том, что у постели больной девочки супруги помирились. Но вот Джоан стала поправляться, и Джек повел себя, как моряк с затонувшего корабля, который бросается на колени и молится на своем утлом плоту: «Господи милостивый, спаси меня, и я стану праведником по гроб жизни… Ладно уж, не беспокойся напрасно, кажется, я вижу парус». Когда Джоан снова поднялась на ноги, он вернулся на «Спрей». В настоящем царила неразбериха, зато он славно поработал в прошлом, и труды не пропали даром. «Зов предков» завоевал популярность; доступный каждому, он раскупался читателями всех классов и возрастов. К ноябрю он числился третьим в списке «бестселлеров», уступая лишь «Зловещей заставе» и «Пастушку грядущего царства», оставив позади таких любимцев публики, как «Миссис Виггс с капустного поля», «Ребекка с фермы Саннибрук» и «Как сыр в масле». В ноябре вышли «Люди бездны», получившие почти единогласное одобрение. Критики утверждали, что как социологический документ книга не знает себе равных; если бы Джек Лондон не создал ничего, кроме «Людей бездны», он заслужил бы признание как автор этой книги. Он заставит чванное, самодовольное общество призадуматься – действительно ли оно до сих пор наилучшим образом использовало свои возможности? Естественно было предположить, что в Англии Лондона сочтут самозванцем, вторгшимся в чужую область. Английская печать действительно обвинила его в том, что он, не задумываясь, рубит сплеча; но в то же время признала, что, кроме него, никому еще не удавалось добраться до самого сердца лондонских трущоб. Первую половину «Морского волка» Джек отослал Бретту, на которого эта вещь произвела такое сильное впечатление, что, приложив к рукописи восторженную рекомендацию, он отослал ее редактору журнала «Век». Услышав об этом, Джек в недоумении покачал головой; «Век» был известен как журнал степенный, консервативный, рассчитанный на солидного, семейного читателя. Нечего было и думать, что он возьмется печатать такую острую, обнаженно-реалистическую вещь, как «Морской волк». Он ошибся. Редактор предложил Джеку четыре тысячи долларов за право печатать роман по частям. Правда, при условии, что вторая половина – она была еще в работе – будет сокращена и что герой и героиня, оставшись вдвоем на пустынном острове, не поведут себя предосудительно – с точки зрения подписчиков почтенного журнала. Четыре тысячи! Только за журнал! Да ведь четыре тысячи он получил за полные права на издание «Зова предков». На всех парусах Джек спустился к устью залива, пришвартовался к пристани и немедленно телеграфировал редактору «Века» – пусть сокращает сколько душе угодно, а что до остального, он «абсолютно уверен, что вторая половина книги не будет шокировать американских скромниц». Договор был заключен. Джек с новым жаром принялся за дело, и за тридцать дней лихорадочной работы книга была завершена. Журнал, не жалея бумаги и красноречия, уже разгласил на весь свет в невиданно пространных рекламах, что мистер Джек Лондон, автор популярной повести «Зов предков», собирается поместить на страницах журнала «Век» свою новую книгу «Морской волк». Через несколько месяцев он станет обладателем четырех тысяч наличными. А пока – ни гроша, и, как на грех, за неделю до рождества. В банке – ровно двадцать долларов и два цента; а еще не куплены рождественские подарки. «Учитывая, как расходится «Зов предков», не собирается ли Бретт преподнести мне вознаграждение в виде рождественского подарка? Было бы очень кстати». «Зов предков» рвали из рук, но денег Бретт не прислал. Нельзя сказать, что это было проявлением скупости. На протяжении ряда лет он был неизменно щедр по отношению к своей подчас очень требовательной литературной «звезде». Но в данном случае все было условлено заранее и согласовано с Джеком. Бретт понимал, что выплатить вознаграждение – значит нарушить условия договора и сделать возможным повторение подобных случаев в будущем. Если бы Джек оставил за собой права на издание «Зова предков», его гонорар составил бы за несколько лет около ста тысяч долларов – при условии, что Бретт ассигнует такую же сумму, как сейчас, чтобы расчистить книге путь. Нет, Джеку не пришлось раскаиваться в передаче всех прав Бретту. Тот истратил целое состояние, создавая автору известность, а Джек отдавал себе отчет в том, что значит для него реклама. В канун нового, 1904 года стало ясно, что неизбежна война России с Японией. Как-социалист, Джек был противником всякой войны. Трудовые люди разных стран гибнут на войне, защищая интересы капиталистов. Но раз уж война все-таки началась, он хочет побывать на поле боя и увидеть все собственными глазами. В свое время он познакомился с тактикой, с военной техникой; его интересовало, насколько угрожают цивилизации современные методы ведения войны. Кроме того, нужно было разобраться во множестве теорий относительно Желтой Опасности. Наконец, он чувствовал, что, завоевав репутацию военного корреспондента, сможет заработать деньги в любое время. Снова перед ним была Тропа Приключения – тропа, по которой он мог уйти от брачных и любовных осложнений. Журналы и газеты начали посылать в Японию корреспондентов. К Джеку обратились пять синдикатов; он дал согласие тому, который сулил больше денег, – концерну Херста. В первых числах января он явился в редакцию «Экзаминера» и сфотографировался на крыше здания. В темном рабочем костюме, в башмаках, давно не стриженный, он выглядел так, будто только что сменился с работы в бельмонтской паровой прачечной. По снимкам видно, что волнения и неприятности, пережитые за шесть месяцев со дня разлуки с Бэсси, не прошли бесследно. Мальчишеское выражение сменилось озабоченным, тревожным. Распорядившись, чтобы ежемесячный чек от Макмиллана присылали Бэсси, Джек попросил Элизу помочь мисс Киттредж, если у нее в чемнибудь возникнет нужда. Это был первый сигнал, по которому Элиза стала догадываться, что произошло Джона Стерлинга Джек уполномочил отредактировать «Морского волка», прежде чем Макмиллан отправит книгу в типографию. 7 января 1904 года, за пять дней до того, как ему исполнилось двадцать восемь лет, Джек Лондон переправился на пароме к Эмбаркадеро и на пароходе «Сибирь» отплыл в Иокогаму. На «Сибири» собралась веселая компания газетчиков, тут же присвоившая себе кличку «стервятников». В первый день пути из Гонолулу на палубе затеяли спортивную игру. Джек прыгнул на круглую палку, упал и растянул себе связки левой ноги. Правую он повредил, еще когда был Благородным Бродягой, упав со скорого поезда, поэтому сейчас несчастный случаи совсем вывел его из строя. «Шестьдесят пять часов обливался потом, лежа на спине. Вчера один корреспондент-англичанин вытащил меня на палубу на своем горбу». Сокрушаться над своим невезением было некогда; в кабину набились «стервятники», потчуя Джека былями и небылицами о других воинах, других заданиях. Когда пришли в Иокогаму, он пропустил по стаканчику у каждой стойки, где семнадцатилетним пареньком пил бок о бок с Большим Виктором и Акселем – Неразлучной Тройкой с «Софи Сазерленд». Потом сел на поезд и отправился в Токио, где, поджидая, пока японское правительство разрешит побывать в действующей армии, уже собрались корреспонденты со всех концов земли. Официально война не была объявлена, поэтому японские чиновники отвечали на запросы уклончиво, а взамен занимали корреспондентов экскурсиями по достопримечательным местам, пышными банкетами и прочими отвлекающими внимание развлечениями. Джек приехал в Японию не затем, чтобы сидеть на банкетах. Два дня он терпел, выслушивая изысканно-вежливые увертки, а затем, поговорив кое с кем, выяснил то, чего и не подозревали другие корреспонденты, а именно, что правительство Японии не намерено подпускать корреспондентов к линии фронта. Стало ясно, что, если хочешь дать газете материалы о войне, надо просто самому найти дорогу на фронт. Не сказав ни слова «стервятникам», Джек улизнул из Токио поездом на Кобе и Нагасаки; там он надеялся сесть на корабль и попасть в корейский город Чемульпо, откуда японские части перебрасывались на фронт. Несколько дней он провел на побережье в бесплодных поисках, пока не разведал, что 1 февраля в Чемульпо уходит пароход. Купив билет, Джек уже тешил себя мыслями о том, что пройдет по Корее с действующей армией, в то время как других корреспондентов будут по-прежнему потчевать роскошными обедами в Токио. Чтобы скоротать свободные часы, он пошел по улицам, собираясь сфотографировать кули, занятых погрузкой угля и тюков с хлопком. Не прошло и десяти минут, как он уже оглядывал камеру «каталажки», заставившей его пожалеть о сравнительно тихом местечке коридорного исправительной тюрьмы в округе Эри. Он был арестован японскими властями как русский шпион! Восемь часов допроса «с пристрастием», на другой день – новая тюрьма, побольше, и снова допрос. Наконец его выпустили, но… пароход уже ушел. Узнав, что солдат вызывают с квартир даже глубокой ночью, Джек лихорадочно рыскал по побережью, отыскивая еще какой-нибуль корабль на Чемульпо. В конце концов 8 февраля нашлось место на «Кього Мару», но перед самым отходом судно было конфисковано правительством. Вне себя от мысли, что он не успеет на фронт, чтобы подготовить корреспонденцию о первом сражении, Джек очертя голову ринулся на катере к пароходику, направляющемуся в Пусан, порт на пути в Чемульпо; он погрузился на него среди такой суматохи, что один из его чемоданов уронили за борт – и прощай! Пароходик был местный, ни крошки европейской пищи на борту и ночлег на открытой палубе, под мокрым снегом вперемежку с дождем. Точь-в-точь бродяжьи «джунгли» у железной дороги, где, бывало, приходилось дрожать без одеяла всю ночь напролет. В Пусане Джек пересел на другой корабль, но едва пришли в Мокпхо, как судно было занято властями, а пассажиры с багажом бесцеремонно высажены на берег. Поспешность, с которой японцы переправляли солдат в Корею, красноречиво свидетельствовала о том, что вот-вот будет объявлена война. А тут нужно сидеть за сотни миль от Чемульпо, зная, что парохода не будет. Ему платят за то, чтобы он присылал корреспонденции о войне, стало быть, он пришлет их, черт побери! Но как добраться до фронта? Как? И тут в нем заговорил внук Маршалла Уэллмана, мальчиком приплывшего на самодельном плоту с острова на заливе Пут-ин-Бей домой, в Кливленд. Совершенно ясно. Зафрахтовать открытую туземную джонку, переплыть Желтое море, а потом вдоль корейского побережья добраться до Чемульпо! Термометр показывал четырнадцать градусов ниже нуля. Ничего, в Клондайке случалось выносить и шестьдесят. Ветер, завывавший над Желтым морем, был ничуть не страшнее того, что выл над озером Линдерман. Поступок потрясающе смелый, отчаянный, а впрочем, не более отчаянный и смелый, чем в двенадцать лет от роду разгуливать в дырявой посудинке по коварному заливу Сан-Франциско под злым юго-западным ветром. Путь трудный, опасный не менее, чем тот, который проделывали викинги, в открытой лодке пересекавшие Атлантический океан. Тем лучше! Джек купил ходкую джонку, набрал себе на подмогу команду из трех смельчаков корейцев и отплыл в Чемульпо. «Затея сумасшедшая донельзя, но до чего здорово! Эх, посмотреть бы на меня сейчас! Я капитан, каманда – три корейца, по-английски – ни слова. К ночи пришли в Кунсан без мачты, рулевое управление вышло из строя. Хлещет дождь, ветер пронизывает до костей. Нужно было видеть, как меня ублажали, – пять японских дев помогли раздеться, отвели в ванную и уложили спать, обмениваясь замечаниями по поводу моей красивой белой кожи». Снова в море! Шесть дней и ночей в леденящей стуже; шторм яростно швыряет крохотное суденышко, гибель грозит ежеминутно. Погреться можно только около угольной жаровни, но жаровня чадит – отрава пострашнее холодных национальных блюд, которыми волей-неволей приходится питаться. Обе лодыжки у Джека еще не окрепли, так что джонку он вел полукалекой. В каком состоянии он прибыл в Чемульпо, становится ясно из слов одного английского фотографа, которому удалось проскочить туда последним пароходом: «Когда Лондон появился в Чемульцо, я его не узнал. Отморожены уши, пальцы, ноги. Развалина, да и только. Ему это, оказывается, было неважно: зато он добрался до фронта. Хочется сказать, что среди всех храбрецов, каких мне посчастливилось встретить в жизни, Джек Лондон – один из самых отчаянных. В мужестве он не уступит ни одному герою своих романов». Джек завел лошадей, научился верховой езде, нанял слуг, «мапу» (конюха) и двинулся по Корее на север, к расположению русских войск. Дороги были покрыты грязью и льдом. Каждый день к вечеру нужно было обогнать японских солдат и первыми войти в ближайшую деревню, иначе не найдешь ночлега. Несколько недель форсированного марша, во время которого он терпел неимоверные лишения, и, наконец, Пхеньян. Так далеко на север еще не забирался ни один военный корреспондент. Здесь его неделю продержали в тюрьме. Корреспонденты, все еще весело проводившие время в Токио, пожаловались японскому правительству. Газеты, шипя от злости, забрасывали их телеграммами, требуя объяснить, почему это Джек Лондон достает материал о Корее, а они – нет. Джека отослали назад в Сеул, миль за двести от фронта, и по приказу из Токио бросили в военную тюрьму за то, что он без разрешения следовал за армией. Затем в доказательство своего дружеского расположения к другим государствам японское правительство решило сделать широкий жест. «Нам, то есть четырнадцати корреспондентам, воспротивившимся тому, что их без конца маринуют в Токио, разрешили передвигаться с армией. Выглядит это как экскурсия, организованная для туристов компанией Кука. В роли гидов – офицеры по надзору. Видим только то, что нам разрешают видеть, то есть почти ничего. В этом и заключается обязанность сопровождающих нас офицеров. Скажем, наблюдали со стен Вийу бой на реке Ялу, но вот уничтожена одна японская рота – и приказ: нам – назад, в лагерь». С наступлением весны корреспондентам разрешили переправиться через Ялу. В рощице у храма солдаты построили для каждого восхитительный домик. Джек плавал, играл в бридж и мог уходить от лагеря мили на полторы… а японцы тем временем бомбардировали русские траншеи. Тяжело работать, когда сидишь в неволе за сорок миль от передовой, но Джек делал все, что было в его силах. Он дает обоснованную оценку японской армии: «Людской состав и оснащение японской армии вызывают всеобщее восхищение»; анализирует тактику маневрирования и ведения боя той и другой стороны. Пригодились и уроки фотографии, которые давала ему Бэсси. Его снимки – армия на марше, рытье окопов, армия на биваке, уход за ранеными – первыми пришли в Америку. Послав девятнадцать корреспонденции и сотни фотографий, он был вынужден дожидаться возвращения в Сан-Франциско, чтобы узнать, получил ли их «Экзаминер». «Возмутительно! Никогда больше не поеду на войну, которую ведут азиаты. Слишком много канители и неприятностей. Так с корреспондентами не обращались ни на одной войне». В июне он был готов ехать домой: не стоило зря тратить времени. «Крайне раздражает беспомощное положение, в котором я здесь нахожусь. Ни малейшей возможности работать как хочется. Единственное утешение – поближе познакомиться с географией Азии и особенностями местных жителей». Желание уехать превратилось в необходимость, когда он чуть не предстал перед военным судом. Однажды его «мапу» явился в армейский штаб за кормом для лошадей, но по вине одного корейца не смог получить сполна все, что причиталось. Джек обвинил корейца в воровстве – тот уже давно был у него на подозрении. В ответ кореец замахнулся на него ножом, но ударом кулака был сбит с ног. Джек получил срочный приказ явиться к генералу Фуджи, который пригрозил ему суровым наказанием. Весть о том, что Джека Лондона ожидает расправа, дошла до Токио, где в роскошном ничегонеделании влачил свои дни Ричард Хардинг Дэвис. Дэвис молниеносно телеграфировал президенту Рузвельту, а тот, в свою очередь, заявил Японии резкий протест. Генерал Фуджи получил распоряжение освободить арестованного. Джек возвратился в Токио, где вот уже четыре месяца сидели корреспонденты, дожидаясь официального разрешения примкнуть к армии. Дэвис, поехавший в Иокогаму проводить его, побожился, что, услышав хотя бы один выстрел, вернется на родину. Проторчать здесь столько месяцев и не дождаться ни единого выстрела – это уж слишком! «Одна надежда – восстановить свою репутацию на другой войне, в армии белокожих», – сетовал Джек. По правде говоря, он сокрушался напрасно: он выжал из своей поездки больше корреспонденции, чем любой другой; достал сенсационный материал, в особенности фотографический. В газете его работой были вполне довольны. Немалое значение «увеселительная прогулка» на Восток имела еще и потому, что газетный концерн снабжал его статьи броскими заголовками. А тут еще успех «Зова предков», эффектные рекламы в журнале «Век», посвященные «Морскому волку»… Одним словом, ко времени возвращения в Сан-Франциско Джек Лондон становится самым известным американским писателем. Он доверчиво полагал, что, когда сойдет с корабля у Эмбаркадеро, его с распростертыми объятиями встретит мисс Киттредж. Вместо этого его встретил с простертой рукой судебный чиновник: в руке была копия заявления Бэсси, возбудившей дело о разводе. На гонорар, причитавшийся ему от «Экзаминера» как военному корреспонденту, по ее требованию был наложен арест. Джек дрогнул: это был тяжелый удар. Стал читать дальше – и не поверил своим глазам. У него перевернулось сердце: причиной семейного разлада Бэсси называла Анну Струнскую! Бэсси подала на развод – к этому Джек давно стремился, но вовлечь в скандал Анну – Анну, с которой он не видится вот уже два года!.. Придя в себя, он вздохнул с облегчением: оказывается, Бэсси не винит Анну в серьезных прегрешениях, а лишь утверждает, что их совместная работа над «Перепиской Кемптона и Уэйса» явилась причиной того, что муж стал к ней равнодушен. Мисс Киттредж не встретила его. Подошла Элиза с пачкой писем. Одно было из города Ньютон, штат Айова; мисс Киттредж жила там у родственников. «Боюсь, ты будешь разочарован, что меня нет в Калифорнии, – прочел он. – Всякий раз, как я подумаю о том, что может произойти в эти месяцы, становится все более и более жутко. Позорная огласка, ужас, смятение дорогих мне людей! Я пишу так не потому, что охладела, мой милый. Наоборот, с тех пор как мы полюбили друг друга, я еще так не сходила с ума по тебе, как в эту минуту. Однако ради других и себя самой я вынуждена сохранять благоразумие». Джек был зол, возмущен, обижен. Приехав в Пьедмонт к Бэсси, обнимая девочек, он думал: «Хватило мужества в шторм и стужу пуститься по Желтому морю в открытой джонке, так отчего же не хватает духу сохранить верность жене, долгу, даже если и полюбил другую?» На другое утро Америку облетела весть, что Бэсси Лондон разводится с мужем, изменившим ей с Анной Струнской. Так кричали и громкие «шапки» сан-францисских газет. Отныне вся его жизнь с мельчайшими, самыми сокровенными подробностями стала добычей газет. Прижатый к стене репортерами, он воскликнул; «Меня волнует лишь одна подробность этого дела: в нем фигурирует имя Анны Струнской, а она человек, который может принять это слишком близко к сердцу». «Я поражена, – заявила репортерам мисс Струнская. – За последние два года я виделась с мистером Лондоном всего два раза, так как жила то в Европе, то в Нью-Йорке. Гостила я у Лондонов два года тому назад, и тогда никто не обмолвился даже словом о том, что их семейная жизнь не ладится». В 1937 году на вопрос о том, почему же она назвала на суде имя Анны Струнской, Бэсси ответила, что раскаивается в своей ошибке. «Я знала, что Джек не оставил бы меня, если бы не увлекся другой, и не представляла себе, кто это может быть, кроме Анны Струнской». Джеку не пришлось долго доказывать жене, что Анна не имеет никакого отношения к их разрыву. Убедившись, что это правда, Бэсси потребовала, чтобы имя Струнской не фигурировало на процессе. Джек объяснил ей, что если по совету своего адвоката она будет настаивать, чтобы на все заработки мужа был наложен арест, то львиную долю денег получат юристы и почти ничего не достанется детям. Совершенно седая, грустная, смертельно оскорбленная, Бэсси спросила, может ли он построить для нее дом в Пьедмонте. Так она была бы спокойна – у детей был бы надежный кров. Джек обещал. Тогда, сняв арест с платежей, Бэсси изменила формулировку, мотивируя иск о разводе просто тем, что муж ее бросил. «Мне пришлось призвать на помощь всю решимость, чтобы не вернуться ради детей. Последние двое суток были для меня настолько мучительны, что я, кажется, был почти готов пожертвовать собой ради малышей». Вместо этого он сообщил Бэсси, что имя «другой» – Чармиан Киттредж. Бэсси встретила новость тяжелым молчанием, заметив лишь, что никогда больше не желает видеть мисс Киттредж. В июле Джек уехал в Глен-Эллен, снял домик у Нинетты Эймс и стал дожидаться возвращения мисс Киттредж. Получив письмо с просьбой прислать денег на проезд, он выслал ей чек на восемьдесят долларов, но она все писала, что боится скандала. Наконец Джек вспылил: «Это отвратительно. Кто-то ведет нечестную игру. Говорил с Эдвардом и Неттой; оба уверены, что со стороны Бэсси бояться нечего. Я выписал чек, Эдвард получил деньги и перевел тебе…» Затем следуют десять бурных страниц, посвященных «глубокому отвращению», которое внушают ему Нинетта Эймс и Эдвард Пэйк. Этот взрыв отвращения был первым; за ним длинной вереницей последовали другие, и каждый оставлял тяжелый след в его душе. Единственным, что радовало его в эти жаркие летние дни, были далекие прогулки на «Спрее»: «Эй, Джек, как там делишки в Корее?» – кричали, завидев его, ребята. Джек выписал к себе верного Маньюнги, преданно служившего ему в Корее. Когда мальчик приехал, Джек нашел на углу Шестнадцатой улицы и Бродвея просторную квартиру, водворил туда приличия ради Флору и переехал сам. Счастливая, что сын снова безраздельно принадлежит ей, Флора забыла, как ссорилась с ним, когда он ушел от Бэсси, и обосновалась на новом месте в роли очаровательной хозяйки дома, а Маньюнги наводил чистоту и готовил для «хозяина». Для Джека наступил один из самых безрадостных и бесплодных периодов его жизни. Он был несчастлив, лишившись детей и причинив зло Бэсси и Анне; в трудную минуту Чармиан не поддержала его. Из работы в Корее не получилось ничего хорошего, он только зря тратил там здоровье и время. Мозг стал бесплодным, иссякло воображение. Ни больших идей, ни внутренней силы, необходимой, чтобы задумать и осуществить нечто значительное. «Я бреду по жизни, причиняя боль всем, кто меня знает, – в полном отчаянии пишет он Анне Струнской. – И я уже не тот, что прежде. Материалистом я был и тогда, когда мы с Вами только встретились, но оптимизм украшал мою жизнь. Его-то сейчас и не хватает». Четвертый сборник коротких рассказов под названием «Вера в человека», выпущенный в апреле 1904 года Макмилланом, так бойко раскупали, что его пришлось переиздать в июне, а теперь, в августе – снова; но даже это не приободрило автора. Он был согласен с критиком из журнала «Нация», выразившим сожаление, что человек с такими возможностями все свое время проводит на студеном Севере. Он выдохся умственно и физически, мозг и тело отказывались ему повиноваться. А тут еще грипп… Прошел грипп, начался нервный зуд кожи, сущая пытка. Он похудел, обмяк, издергался, стал жить затворником – и из-за недомогания и потому, что был в подавленном настроении. В августе Джек заплатил тысячу шестьсот долларов за участок в Пьедмонте, пригласил архитектора, узнал у Бэсси, какой ей нужен дом, и стал следить за работой. По возвращении из Кореи у него в банке лежали четыре тысячи долларов от «Века» и «Экзаминера». Все до последнего доллара, да еще порядочная сумма, взятая под заклад участка, ушло на постройку дома; Джек опять остался на мели. Нельзя было допустить, чтобы его железную дисциплину подорвал приступ уныния. Он накинулся на работу. Пока он был в Корее, вышли десятки книг – прочесть их! Статьи для газет и журналов, доклады для всех социалистических организаций, какие только есть поблизости; речи в клубах и церквах (бесплатно!) с целью приобщить людей к социализму, ускорить революцию. Он начал повесть из жизни боксеров («Игра»), начал свою первую пьесу («Презрение женщины»), положив в ее основу один из своих рассказов об Аляске; выступал с чтением отрывков из «Людей бездны» и «Борьбы классов». Нервный зуд утих, и Джек стал по-прежнему принимать у себя друзей по средам, ходил с ними плавать в пьедмонтский бассейн, участвовал в пикниках. Он работал и развлекался с ожесточением, не давая себе времени задуматься, почувствовать, как скверно на душе. Но хорошо ли он работал? На этот счет он не строил иллюзий; «По-прежнему корплю над «Игрой». Думаю, что ничего хорошего не выйдет, но работа идет мне на пользу. «Презрение женщины» не бог весть что, впрочем, на большее я бы сейчас не отважился». Единственной опорой был Бретт. В ходе предварительной продажи к началу октября было куплено уже двадцать тысяч экземпляров «Морского волка», и на этом основании Бретт повысил сумму, ежемесячно выплачиваемую Джеку, до двухсот пятидесяти долларов. Он не переставал уверять Джека, что это действительно выдающееся произведение, а в начале ноября сообщил блестящую новость: еще до выхода в свет книжным магазинам продано сорок тысяч экземпляров «Морского волка», десятой из книг Лондона, опубликованных за каких-нибудь четыре года. В декабре Бретт выслал чек на три тысячи долларов, необходимых, по подсчетам Джека, чтобы вытащить его из-под кучи долгов, уплатить страховой компании, кредиторам по закладной и просто знакомым, которым он задолжал. Точно гром грянул среди ясного неба, когда в продаже появился «Морской волк». В мгновение ока он сделался самой модной из книжных новинок; повсюду только и говорили о нем: одни хвалили, другие ругали. Многие читатели были задеты, более того, оскорблены позицией автора. Другие отважно выступили в его защиту. Что до критиков, то часть из них называла роман жестоким, грубым – словом, отвратительным. Но другая – большая – в один голос утверждала, что эта вещь – проявление «редкого и самобытного таланта… и поднимает на более высокую ступень качество современной художественной литературы». «Морской волк» ознаменовал собой новую веху в американской литературе – и не только благодаря мощному реалистическому звучанию, обилию фигур и ситуаций, доселе ей незнакомых. Он задает новый тон современному роману, делает его более тонким, сложным, серьезным. Что еще заставило американцев испытать это тревожное ожидание, где еще смертельная опасность выглядела так жутко и вместе привлекательно, как в поединке между Волком Ларсеном и Хэмфри Ван Вейденом, происшедшем на борту «Призрака», – поединке между духовным и материальным началом? Где еще сталкивались читатели с такой зрелой философией, открывавшей перед ними нечто увлекательное, нечто такое, за что стоит драться? Революцию, которую совершили ученые – классики девятнадцатого столетия, Джек вложил в основу драматически развертывающихся событий, популярно и – интересно изложил ее идеи, сделав их доступными огромному множеству людей, никогда и не слыхавших о том, что такое эволюция, биология или научный материализм. Незримо шествуют по страницам романа его главные герои – Дарвин, Спенсер, Ницше. Излагая в форме художественного произведения взгляды своих любимых учителей, писатель рисует кипучую битву двух умов, азартно, совсем как потасовку ирландцев-каменщиков в Визель-парке, изображенную в более позднем, весьма незаурядном романе Лондона – «Лунная Долина». Под конец Джек вводит в роман новый персонаж – женщину и этим портит вещь, которая тем не менее остается почти безупречным образцом мастерства писателя-романиста. Когда литературные критики объявили героиню нежизненной, Джек возмутился; «Я полюбил женщину и написал ее портрет в книге, а критики заявляют мне, будто в жизни таких не бывает». Он внес в книгу не только образ мисс Киттредж, но также там, где пишет о ней, – истерически-приподнятый стиль, который перенял, отвечая на ее письма. Там, где речь идет о Мод Брустер и ее любви к Хэмфри Ван Вейдену, «Морской волк» неизменно представляет собой отъявленнейший образчик вычурно-жеманного стиля, типичного для литературы девятнадцатого века; в остальном это предвестник лучшего, что свойственно литературе двадцатого. Через несколько недель после выхода в свет «Морской волк» числился в списке «бестселлеров» пятым после такой требухи в малиновом сиропе, как «Ряженые» К. С. Терстон, «Блудный сын» Холла Кейна, «Кто осмелится нарушить закон» Ф. Мариона Кроуфорда и «Беверли из Граустарка» Джорджа Барра Маккачина. Спустя еще три недели он стоял уже первым, оставив других далеко позади. Двадцатый век наконец-то стряхнул с себя путы своего предшественника. Сегодня «Морской волк» – такое же волнующее и глубокое событие в жизни читателя, как в ноябре 1904 года. Он почти не стареет со временем. Многие критики считают его самой сильной вещью Лондона. Читатель, взявшийся его перечитывать, пленяется им снова и снова. Возвратилась из Айовы мисс Киттредж и после немногих упоительных, хотя и тайных, свиданий в Окленде уехала в Глен-Эллен к Нинетте Эймс. А затем пылкие встречи… изредка; несколько восторженных посланий от Джека, но по большей части письма его становятся небрежными: перечень новостей, и только. Он уже больше не влюбленный безумец, готовый умереть в поцелуе. Воображение его опять устремилось в иные пределы. О том, что собьпия приняли новый оборот, сообщает мисс Киттредж: «Я знаю, что за эти несколько недель твоими помыслами и интересами завладела другая. Ведь, по сути дела, ты, милый мой мужчина, всего-навсего мальчуган, и разглядеть тебя насквозь достаточно просто. Но потрясение, которое ты заставил меня испытать в тог вечер, когда делал в юроде доклад о штрейкбрехерах, заставило меня очень и очень призадуматься. Я видена, как после окончания доклада ты отыскивал ее взглядом среди присутствующих; видела, как ты помахал ей; как она со свойственной ей манерой засуешлаеь. отступила в нерешительности. При огоньке твоей сигары я увидела, как вы подошли друг к другу. Мне стало ясно, что вы и в прошлый вечер были вместе. Тут дело не только в том, что ты не верен мне, – безраздельная верность тебе несвойственна, да и вообще ею обладает редкий мужчина. Я давно предвидела возможность твоей измены и в известной степени примирилась с нею. С недавних пор ты очень счастлив, а я шала, что твое радостное настроение не моя заслуга. Значит, безусловно, чья-то еще; а раз так…» …1905 год. Именем Джека Лондона запестрели газетные заголовки: что бы он нисделал, все волновало прессу. Начал он год тихо и мирно – поехал в Лос-Анджелес, кула его пригласили выступить перед местными социалистами «На мистера Лондона приятно посмотреть, – писал в лосанджелесском «Экзаминере» Юлиан Хогорн. – Он прост и бесхитростен, как косматый медведь гризли. Недюжинная натура, здоровая и жизнерадостная, служит основой ума, необычайно ясного и проницательного. Сердце у него горячее, отзывчивое; мнения – свои собственные, смело излагаемые, независимые». Не успел он вернуться в Окленд, как либерально настроенный ректор Калифорнийскою университета предложил ему выступить перед студентами – немалая честь для человека, вынужденного всего семь лет назад бросить университет и пойти работать в паровую прачечную. Джек обратился к юным слушателям с одной из самых огненных своих речей. Величайшая революция, какую когда-либо знал мир, говорил он, совершается перед их глазами. Если они не проснутся, она застанет их врасплох. После лекции он пожаловался профессору английского языка и литературы, что студентов кормят манной кашей. «Не сказал бы, мистер Лондон, – возразил тот. – В наш новый список рекомендованной литературы включена глава из «Зова предков». Профессора и преподаватели вокруг рассмеялись, а Джек покраснел и, что-то проворчав насчет того, что его, мол, начали канонизировать, замолк. На другой день на ректора посыпались упреки: зачем он разрешил Джеку Лондону проповедовать революцию? «Мы пригласили сюда человека, а не предмет его речи, – невозмутимо отвечал ректор. – Лондон заслужил право выступить перед нами». Затем Джек принял предложение выступить в деловом клубе города Стоктона – там-то он и заварил кутерьму на весь год, совершив поступок, по смелости и опрометчивости не уступающий путешествию по Желтому морю во время сильнейшего шторма или походу в лондонские трущобы, затеянному ради «Людей бездны». Отчет стоктонской газеты, несколько, правда, пристрастный, дает очень живое представление о случившемся: «Он поучал бизнесменов, как провинившихся школьников. Он желает знать, заявил он, много ли известно каждому из них о том, что именно является предметом социализма. Он довел до их сведения, что они мало читали и еще меньше видели. Он колотил кулаком по столу и пускал клубы табачного дыма, и все это до такой степени встревожило и обескуражило его слушателей, что они застыли в растерянном молчании». Молчали они недолго. В заключение речи Джек привел в ужас стоктонских дельцов, сообщив им, что русские социалисты, принимавшие участие в революции 1905 года, покончившие с некоторыми из царских чиновников, – его братья. Публика с криками ярости вскочила с мест. На другое утро по всей стране завизжали газетные заголовки: «Джек Лондон называет убийц из России своими братьями!» Что поднялось! Посыпались требования, чтобы он отказался от своих слов. Бушевали газетные передовицы. «Он анархист! – вопила одна. – Отъявленный смутьян! Он красный! Его следует арестовать и судить как государственного изменника!» Джек был непоколебим. Русские революционеры – его братья, и никто не в силах заставить его отречься от них. Общество долго и настойчиво пыталось сделать из него своего рода литературную диковину: гений из Калифорнии, единственный в своем роде. «А социализм, – говорили столпы общества, – это так, увлечение. Немного горяч, несдержан? Чего же вы хотите – он так оригинален. Социалистические теории – причуда, это у него пройдет». Отныне все двери были для него заперты наглухо, как если бы он все еще оставался бродягой с Большой Дороги. Его уж больше не звали на «розовые чаи», как он выражался; на званые обеды, где среди моря чопорных, накрахмаленных сорочек он появлялся в мягкой белой рубашке с развевающимся галстуком. Видимо, заключило наконец-то общество, он не шутил, когда так мило говорил за обеденным столом, что как класс они представляют собой плесень, паразитический нарост. Еще не улегся скандал, как Джек выступил с новой речью, в которой упомянул, что, осуждая в 1856 году рабство, Уильям Ллойд Гаррисон произнес «К чертям конституцию!».То же самое ближе к нынешним дням сказал, расправляясь с забастовщиками, и генерал Шерман Белл. На следующее утро он снова стал героем дня. «Джек Лондон говорит; «К чертям конституцию!» – кричали сотни газет от Калифорнии до Нью-Йорка. Джек делал все возможное, пытаясь объяснить, что не он автор этой фразы, но какое дело газетам до того, что кому-то повредила нашумевшая статья! Разрешая слепым фанатикам разнести человека в клочья, свобода печати все же давала возможность высказаться и людям поумнее. В санфранцисском «Бюллетене», далеко не радикальном, Джек прочел: «Пылкая искренность и ненависть к злу, горящая в революционном сердце молодого Джека Лондона, – это все тот же дух «Бостонского чаепития»[8]. Это дух, который в конечном счете сбережет для республики все, что есть лучшего, ибо он противостоит тупому духу рабского почитания Раз и Навсегда Установленного; умственное убожество и эгоизм – вот из чего состоит это раболепие». Несколько дней спустя к нему обратился с просьбой выступить дискуссионный клуб его собственной Оклендской средней школы. Узнав об этом, директор школы отказался предоставить клубу школьное помещение. И снова за этот эпизод ухватились газеты, и снова Калифорния принялась судить да рядить, кто прав, кто виноват. «Может быть, социализм и грешит всеми пороками, в которых его обвиняют, – язвительно заметила сан-францисская газета «Пост». – Но лучший способ пропагандировать его – это запретить его пропаганду». Широкая гласность, которую благодаря ему получил в Америке социализм, приводила Джека в восторг. Кроме того, даровая реклама, которая стоила бы тысячи и тысячи, если бы пришлось заказывать ее самому. Подскочил спрос на его книги. «Морской волк», «Зов предков» и «Люди бездны» раскупались повсюду – повсюду читались и обсуждались. Можно было не соглашаться с его идеями об установлении демократии на экономической основе, оспаривать методы, при помощи которых он революционизировал американскую литературу, но нельзя было больше отрицать, что он ведущий молодой писатель Америки. А враги лишь помогли ему достигнуть этого! В разгар шумихи, поднявшейся вокруг социалистических убеждений Джека Лондона, Макмиллан выпустил его «Классовую войну». Книга вызвала такой интерес, что в июне, октябре и ноябре того же года ее пришлось переиздать. Поразительное достижение, если учесть, что этот сборник революционных очерков вышел в стране, где непримиримо от рицается само существование такого явления, как война между классами; где социализм высмеивали и презирали, изображали многоголовой гидрой, чудовищем, пожирающим собственных детенышей. Голос писателя был гласом вопиющего в пустыне, но все больше людей понемногу прислушивались к звукам этого голоса, особенно подрастающее поколение, только что шагнувшее за узкие рамки ограниченного кругозора первых американских поселенцев и начинавшее подсчитывать, во что обходятся людям достижения крупной промышленности. Для этого поколения Джек Лондон был великим человеком, эти люди обращались к его книгам с пламенной верой. В Америке до сих пор повсюду встречаешь людей, с гордостью рассказывающих о том, что их сделал социалистами Джек Лондон. Не его вина, пожалуй, что не всегда их социалистические убеждения оказывались долговечными! В марте он опять дал согласие на выдвижение своей кандидатуры на пост мэра Окленда от социалистической партии и получил 981 голос, то есть ровно в четыре раза больше, чем в 1901 году. В апреле он вместе с Маньюнги уехал в Глен-Эллен, где за шесть долларов в неделю снял у Нинетты Эймс домик около Уэйк Робина. Миссис Эймс пустила слух: Джек приехал домой к маме «из-за неприятностей в Окленде». Доверчивые соседи-фермеры ни о чем не догадывались. Весна в округе Сонома была прекрасна. К Джеку вновь вернулось хорошее настроение и бодрость духа; зимняя хандра была забыта. «Черная кошка» купила у него один рассказ, и из полученных трехсот долларов он двести пятьдесят отдал за верховую лошадь, на которой неутомимая мисс Киттредж проскакала двадцать две мили, весь путь от Петалумы в Глен-Эллен. По лесистым склонам, поросшим секвойями и соснами, они верхом поднимались на гору Сонома и катались вдоль тропинок среди винно-красных мансанит и земляничных деревьев. Чистый воздух благоухал пьянящими ароматами, а когда всходила полная луна, долина наполнялась белесой светящейся дымкой. «Теперь я знаю, отчего индейцы назвали это место Лунной Долиной», – заметил Джек. Снова в полном расцвете творческих сил он написал повесть под названием «Белый клык» – продолжение темы, начатой в «Зове предков». Вместо того чтобы, повинуясь голосу первобытных инстинктов, уйти от мира цивилизации, Белый клык покидает дикую глушь, чтобы жить с человеком. Эта книга, пусть она и не поднимается до уровня «Зова предков», – трогательный и красивый рассказ, внушающий то радостное волнение, которое испытываешь, столкнувшись с первоклассным произведением. Еженедельно Джек готовил для херстовского концерна критический обзор литературы на целую страницу. Разбирая книгу «Профсоюзный делегат», он в общих чертах рисует современную борьбу профессиональных союзов с хозяевами; оценивая достоинства другой книги, предает анафеме потогонную систему труда – книга называется «Долгий день» и повествует о том, какие лишения терпит фабричная работница в Нью-Йорке. Элтон Синклер и Дж. Дж. Фелпс-Стокс организовали на востоке Студенческое социалистическое общество, и на первом заседании исполнительного комитета президентом был избран Джек Лондон. Издательство Макмиллана выпустило в свет повесть о боксерах «Игра»; критики осудили ее как вещь незначительную и неправдоподобную. Пришлось послать им газетные вырезки в доказательство того, что, получив сильный удар, боксер при падении на ковер действительно может размозжить себе затылок. Надвигалась летняя жара, и опять за несколько долларов Джеку запрудили речушку. Стали приходить купаться соседи. Джек работал по утрам, плавал после обеда и наслаждался жизнью… если не считать того, что скучал по своим дочерям. И вот однажды в послеполуденный зной, катаясь верхом среди холмов и вдыхая струившиеся вверх со склона запахи шалфея, он случайно наткнулся на ранчо Хилла – участок в сто тридцать акров, величественно поднимающийся со дна долины к горе Сонома. «Здесь есть огромные секвойи, и некотоым из которых по десять тысяч лет. Сотни елей, дубов, летних и вечнозеленых, в изобилии растут мансаниты и земляничные деревья. Есть глубокие каньоны, ручьи, родники. Сто тридцать акров самых красивых и нетронутых, какие только сыщешь в Америке». Ранчо полюбилось ему до безумия, и он тут же решил, что оно должно принадлежать ему. Укрепиться в этом решении ему усердно помогала мисс Киттредж; только удалив его от города, устранив возможность общения с другими женщинами, могла она избежать опасности его потерять, как это едва не случилось несколько месяцев назад. Верхом Джек отправился в деревушку Глен-Эллен, где узнал, что участок продается и цена ему назначена семь тысяч долларов. К пяти часам вечера, взбудораженный как мальчишка, он уже был у Хиллов, готовый совершить покупку. – Я слышал, вы назначили Човету семь тысяч, – осведомился он у мистера Хилла. – Да, – отозвался тот. – Десять лет назад я запросил у него именно столько. – Покупаю! – вскричал Джек. – Зачем торопиться? Идиге-ка лучше домой и поразмыслите денекдругой. После его ухода мистер Хилл поделился своими соображениями с женой. У Човета он просил семь тысяч, так как тот хотел эксплуатировать имеющиеся на ранчо одоемы, а поскольку Джек собирается обрабатывать землю, с него нельзя брать больше пяти. Назавтра Джек примчался уже в совершеннейшем волнении; ночью он глаз не сомкнул, обдумывая, как все устроить на своем чудном ранчо. – Теперь хотелось бы поговорить относительно цены… – начал было Хилл. Джек взвился со стула, побагровел от гнева и разразился; – Со мной не пройдет! Я этих штучек не потерплю! Не имеете права взвинчивать цену! Здесь каждый только и думает, как бы меня провести. Назначили семь тысяч – и кончено, я покупаю! Не в состоянии вставить хоть слово в этот бурный поток, Хилл подождал, пока покупатель утих, и потом спокойно произнес: – Ну ладно, мистер Лондон, берите за вашу цену. Прошли годы, Джек близко сдружился с семьей Хиллов, и тогда мистер Хилл рассказал, как Джек надул самого себя на две тысячи долларов. Джек от души посмеялся; так, мол, и надо, учись обуздывать свой нрав. В тот вечер они с мисс Киттредж строили планы. На ранчо стоит ветхий сарайчик, его можно приспособить под конюшню и помещение для работника. Осенью, пока Джек будет совершать лекционное турне по стране, работник займется расчисткой территории, засеет ее кормовыми травами, засадит кукурузой, соорудит свинарники и курятники – короче говоря, наведет порядок и все наладит к тому дню, когда Бэсси получит развод и можно будет пожениться. За семью тысячами на покупку ранчо Джек обратился к Бретту. «Сомневаюсь, – отозвался тот, – имеет ли смысл человеку, которому приходится играть определенную роль в свете, связывать себя приобретением недвижимой собственности в одной какой-то части страны, каким бы красивым и продуктивным ни было это имение». Джек написал еще раз: «Я сознательно купил землю, из которой не извлечешь дохода. Никогда никаких забот насчет барышей и убытков, а через двадцать лет участок будет стоить сто двадцать тысяч долларов. Я становлюсь на якорь прочно, основательно; оседаю раз и навсегда». Смирившись, Бретт выслал ему семь тысяч в счет авторских отчислений от продажи «Морского волка», и ранчо Хилла перешло в собственность торжествующего Джека. Тут же был нанят работник, куплены лошади, жеребенок, корова с теленком, плуг, тачка, фургон, коляска, сбруя, куры, индейки, поросята… И когда, наконец, вакханалия безудержных трат кончилась, оказалось, что у Джека нет ни доллара и что никаких поступлений от Макмиллана в ближайшее время не предстоит. «Все эти покупки явились непредвиденными и разорили меня дотла. А тут еще вот-вот жду с содроганием извещения от Бэсси, что ей нужны сто долларов на покупку лошади и коляски. Все деньги, какие удалось получить у Макмиллана, я забрал, чтобы уплатить за землю. Оставшегося не хватит на постройку сарая, а уж дома – и подавно. Пишу рассказы, чтобы срочно раздобыть деньжат». К 4 октября он настолько превысил кредит у Макмиллана, что за дальнейшие авансы ему уже предложили платить определенный процент. На счету в банке значилось 207 долларов 83 цента, а между тем предстояли неотложные издержки: 75 долларов Бэсси, 55 – матери, 57.60 – за сельскохозяйственный инвентарь, 24 – за дачу в Глен-Эллене, 50 – на оплату магазинных счетов. «Нужны деньги на дорогу в Чикаго – мне и Маньюнги; через сутки за нами едет Чармиан, следовательно, и у нее будут расходы. Мать хочет, чтобы я увеличил сумму, которую я даю ей каждый месяц. Бэсси – тоже. Только что уплатил больше 100 долларов по больничным счетам матери Джонни Миллера. Тридцать обещал заплатить за то, чтобы опубликовали апелляцию Джо Кинга: бедняге угрожают пятьюдесятью годами тюремного заключения по ложному обвинению. Есть еще счет долларов на 45, если не больше, за машину для прессовки сена; и в ноябре срок платежа не то 700, не то 800 долларов страховой компании. Так что, как видите, л не просто сел на мель, но увяз намертво, и паруса мои уныло повисли». Всю свою жизнь, в течение которой он заработал писательским трудом куда больше миллиона, он почти никогда не был хозяином собственных денег – по крайней мере к тому моменту, когда они попадали к нему в руки. Он сначала тратил их, а после ломал голову, где бы раздобыть необходимую сумму. Как в свое время выразился в Клондайке Эмиль Дженсен, он никогда не прикидывал, стоит ли рисковать. Казалось бы, не трать денег, пока не заработал, и не знай ни долгов, ни забот. Ему это, как видно, и в голову не приходило. «Привычка тратить деньги – о господи, сдаюсь! Я вечно буду ее жертвой!» Наступил октябрь, и в сопровождении Маньюнги Джек отправился в лекционное турне. Чтобы находиться к нему поближе, мисс Киттредж возвратилась в Ньютон к тетке. Турне, в ходе которого лектору предстояло посетить большинство крупных среднезападных и восточных городов, широко рекламировалось в печати. Джек быстро становился одной из самых романтических фигур своего времени. Глашатай социализма и научной эволюции, глашатай нового и здорового реализма в американской литературе, он был олицетворением молодости и отваги. Членам женских клубов нравился его мужественный вид, манера дымить сигаретой, страстная искренность, с которой он говорил о социальной реформе, прелестная улыбка и заразительный смех. Он зарабатывал несколько сот долларов в день, в каждом городе находил занятных и умных людей, пользовался дружеским расположением прессы. «Джек Лондон – личность редкостной притягательной силы. Если бы его можно было испортить, это бы непременно сделали поклонницы и поклонники, массами осаждающие его. Его постигла участь модного театрального кумира. Однако тщеславие, к счастью, несвойственно ему». И вот 18 ноября, в субботу, Джек получил сообщение, что по окончательному решению суда Бэсси получила развод. Он срочно вызвал мисс Киттредж телеграммой из Ньютона в Чикаго, где они поженятся. Она прибыла на другой же день в пять часов вечера, но у Джека не было брачной лицензии. Учреждение, где можно было ее получить, естественно, было закрыто. Тогда он нанял экипаж и во весь опор полетел по чикагским улицам, чтобы заручиться поддержкой влиятельных друзей. Первый визит оказался безрезультатным, второй – тоже; третьего приятеля Джек вытащил из-за обеденного стола; тот был знаком с одним должностным лицом в городе. Опять долгое путешествие в экипаже, и они, наконец, в квартире чиновника. Да, чтобы помочь Джеку Лондону, чиновник готов сделать что угодно, только, позвольте, к чему спешить как на пожар? Отчего не подождать до утра, когда откроется бюро лицензий и всю процедуру можно будет проделать легко и просто? Ждать Джек отказался. Призвав на помощь всю мощь своей аргументации, он в конце, концов убедил чиновника сесть в экипаж и поехать вместе с ним в южную часть города, где был поднят с постели сонный клерк, ведающий брачными лицензиями. Уступая твердой решимости позднего гостя, ошарашенный клерк оделся, в сопровождении всей компании отправился в городское управление, открыл дверь своего отдела и заполнил брачную лицензию. После нескольких тщетных попыток отыскали мирового судью по имени Грант, тот в своей домашней библиотеке совершил обряд бракосочетания Джека Лондона и Чармиан. На другое утро, 20 ноября 1905 года, американская пресса была шокирована «неприличной поспешностью» его женитьбы. До сих пор считали, что причиной развода с Бэсси послужили внутренние разногласия, из-за которых разлука представлялась желательной для обеих сторон. Лихорадочное нетерпение, которое проявил Джек, женившись вторично, явилось признаком того, что он разбил семью из-за другой женщины; таким образом, вся история приобретала неприятный оттенок. Как ни дружелюбно была настроена пресса до прошлой субботы, в понедельник она обратила против него не только злобу и возмущение, но и насмешки. Во вторник утром газеты сообщили американцам: «брак Джека Лондона недействителен», ибо в штате Иллинойс согласно новым законам о разводе, в которых пока что царила неразбериха, действителен лишь тот брак, который заключен по истечении года после окончательного решения суда о разводе. Одолеваемый репортерами, чувствуя, что его опять начинают травить, Джек вспылил. «Если нужно – с жаром восклицает он, – я немедленно повторю брачную церемонию в каждом штате Америки!» Сколько остряков съязвили в своих статейках по поводу того, какой он любитель жениться, этот мистер Лондон! Стоило ему отложит ь женитьбу до возвращения в Калифорнию, осмотрительно переждать месяц-другой, и можно было избежать всей этой скандальной шумихи. Дело ограничилось бы кратким извещением о браке. Так нет же, он подставил себя под обстрел со всех сторон! С кафедр произносили проповеди, направленные против него. Города Питсбург и Дерби изъяли его книги из публичных библиотек, призвав другие города последовать их примеру. Женские клубы получили предписание отменить его лекции. Странно, отмечали многие газеты, что люди, неспособные наладить как следует дела у себя дома, претендуют на то, чтобы поучать все человечество. Отчего, вопрошали авторы статей, вторичный брак мистера Лондона был окружен тайной и совершен с такой поспешностью? Набросились и на мисс Кипредж за то, что она разбила его семейную жизнь. За поступки своего лидера тяжело поплатились американские социалисты. Капиталистическая печать не преминула пустить в ход оружие, оказавшееся у нее в руках. «Вот вам социалист! Бросает на произвол судьбы жену и детей… санкционирует безнравственность… социализм – это анархизм, он разрушит нашу цивилизацию, повлечет за собою хаос…» Товарищи-социалисты пытались протестовать: «Нельзя из-за неправильного поведения Лондона чернить социализм! Социализм осуждает подобные поступки и не менее решительно, чем капитализм!» Тщетно! Лидер нарушил нормы морали, следовательно, дело социализма пострадает. Когда товарищи стали обвинять Джека в том, что из-за него наступление социалистической революции в Америке задержится по крайней мере лет на пять, он с улыбкой возразил: «Как раз наоборот. Я полагаю, что мне удалось по меньшей мере на пять минут ускорить приход революции». Что же побудило его с такой поспешностью разыграть у всех на глазах эту запоздалую церемонию, театрально выставив напоказ свой новый брак? Отчасти это был романтический жест, предпринятый ради мисс Киттредж. Отчасти – опрометчивый, необдуманный поступок; порыв человека, который не дает себе груда остановиться и поразмыслить: а как к этому отнесутся? В известной мере это было чистейшей бравадой, выходкой толстокожего ирландца, которому нет дела до того, что кому-то это не понравится. И, наконец, он тотчас же взял себе другую жену для успокоения собственной совести, мучившей его за зло, причиненное Бэсси и в ее лице всем женам вообще. Несколько недель продолжались нападки со страниц печати, с церковных кафедр. Многие стали воспринимать его произведения менее серьезно – в этом смысле громкая гласность принесла ему вред; зато возросло количество читателей. Оставалось нанести последний, решающий удар и положить конец дебатам, что и совершил модный женский клуб Эверилла. На открытом заседании дамы приняли две резолюции: одобрить бесплатное пользование учебниками в государственных школах; осудить. а) практику создания футбольных команд в университетах и б) Джека Лондона.VIII
В январе 1906 года маршрут лекционного турне, наконец, привел Джека в Нью-Йорк, где его встретил ирландец по происхождению и идеалист по убеждениям доктор Александр Ирвин, красивый мужчина, священник церкви пилигримов и глава нью-хейвенских социалистов. В Нью-Йорк доктор Ирвин приехал для того, чтобы убедить Джека выступить с лекцией в Йелском университете. Джек согласился, что такой случай пропустить нельзя: уж очень заманчива возможность угостить йелских студентов – а их три тысячи – доброй порцией социализма. Ближайшим поездом доктор Ирвин вернулся в Нью-Хейвен и предложил Йелскому дискуссионному клубу взять на себя организацию лекции. Члены клуба с опаской согласились представить Джека Лондона аудитории на другой день – при условии, что его выступление будет умеренным с начала до конца. Окрыленный доктор Ирвин в тот же вечер побывал у художникасоциалиста Дельфанта, и тот приготовил десять афиш, на которых был изображен красавец Джек в своем закрытом свитере, под ним – громада красного пламени и по ней – тема лекции: «Революция». Перед самым рассветом Дельфант с доктором Ирвином обошли университетскую территорию, наклеивая афиши на стволы деревьев. Проснувшись и увидев броские объявления, Йелский университет был поражен ужасом. Один из членов ученого совета немедленно вызвал председателя дискуссионного клуба и заявил, что лекция должна быть отменена, в противном случае он добьется запрещения использовать для лекции зал Вулси Холл. В Йелском университете никто не будет проповедовать революцию! Члены клуба совсем уж было подчинились, но доктор Ирвин настоял, чтобы они переговорили с преподавателями помоложе – быть может, удастся заручиться их поддержкой и одолеть реакционеров. Первым оказался Уильям Лион Фелпс. Когда председатель клуба изложил ему суть дела, профессор спросил: «А разве Йелский университет – монастырь?» Упрек был высказан так метко и вместе с тем так мягко, что заставил оппозицию умолкнуть. В восемь часов вечера три тысячи студентов и триста преподавателей – почти весь университет в полном составе – заполнили Вулси Холл до отказа. Джек вышел на сцену. Его тепло приняли и стали внимательно слушать. Он говорил, что семь миллионов людей со всех стран земного шара «до конца отдают свои силы борьбе за победоносное наступление изобилия в мире, за полное низвержение существующего строя. Они называют себя товарищами, эти люди, плечом к плечу стоящие под знаменем революции. Вот она, необъятная мощь человечества; вот она, власть и сила. Великая страсть движет революционерами, они свято чтят интересы человечества, но не питают особого почтения к господству мертвечины». Целый час вскрывал он экономическим скальпелем язвы капиталистической системы и закончил вызовом: «Власть класса капиталистов потерпела крах, следовательно, надлежит вырвать из его рук бразды правления. Семь миллионов представителей рабочего класса заявляют, что приложат все силы к тому, чтобы привлечь к себе остальную массу рабочих и забрать власть в свои руки. Революция происходит здесь, сейчас. Попробуйте остановите ее!» У слушателей, как выразился доктор Ирвин, «от его слов глаза на лоб полезли». Среди студентов не нашлось и двух десятков таких, которые бы согласились хоть с одним его словом, и все-таки, когда он кончил, разразилась овация. Йелский университет благородно отказался принять деньги за пользование Холлом, и весь сбор – по двадцать пять центов с души – нежданно-негаданно хлынул в кассу местной нью-хейвенской социалистической организации. После лекции Джек и доктор Ирвин с дедятком отборнейших университетских ораторов направились в ресторанчик Оулд Мори посидеть за кружкой пива и основательно потолковать. Здесь Джек сражался один против всех; во время ожесточенного и сумбурного спора он пытался доказать, что в основе частной собственности либо кража, либо насилие; и свидетели в один голос утверждают, что он не сдал своих позиций, хотя ему и не удалось снискать себе единомышленников. В четыре часа утра, когда доктор Ирвин подводил его к своему дому, они увидели, что Джека дожидается группа рабочих – поблагодарить за лекцию. А в восемь в дверь позвонил рыжий и нескладный репортер йелских «Новостей», жаждущий лично взять интервью у Джека Лондона: оно помогло бы ему улучшить свое положение в газете. Звали репортера Синклер Льюис. После двухнедельной поездки с лекциями Джек к 19 января поспешил обратно в Нью-Йорк, чтобы выступить с докладом «О надвигающемся кризисе» на первом открытом заседании Студенческого социалистического общества, избравшего его своим президентом. Одни говорят, что количество людей, набившихся в Гранд Сентрал Палас, составило четыре тысячи; другие – десять, но одно несомненно: здесь присутствовал каждый социалист с атлантического побережья, которому посчастливилось наскрести денег на билет до Нью-Йорка. Несмотря на название организации, устроившей доклад, среди тысяч рабочих в зале не набралось бы, вероятно, и сотни университетских студентов. Поезд, которым Джек возвращался на север после прочитанной во Флориде лекции, запаздывал. Но публика не скучала: перед нею выступил Эптон Синклер – организующая сила и мозг Студенческого социалистического общества; У него вот-вот должна была выйти книга о чикагских бойнях под заглавием «Джунгли». Он говорил рабочим, что в их силах помочь установлению экономической демократии в Америке. В десять часов появился Джек с развевающимися волосами, в черном шевиотовом костюме, белой фланелевой рубашке с белым галстуком, в стоптанных лакированных ботинках – и вся эта масса людей, вскочив с мест, устроила ему самый восторженный прием, какой только запомнил он в жизни. Колоссом для них был Юджин В. Дебс, но их боевым вождем, их молодым пророком был Джек Лондон. Эптон Синклер рассказывает, что Джеку никак не удавалось выбрать секунду затишья, чтобы его услышали; размахивая красными флажками, собравшиеся бурно приветствовали его добрых пять минут. Когда оратор предсказал, что к 2000 году капиталистическое общество будет низвержено, аудиторию охватил исступленный восторг – неважно, что ни один из них не увидит воочию сей День Страшного Суда! Джек пробыл в Нью-Йорке неделю. Этот город всегда действовал на него странным образом: физически возбуждал, а психически угнетал. Он говорил доктору Ирвину, что всякий раз, попадая в Нью-Йорк, испытывает желание перерезать себе глотку. На другой день после лекции, устроенной Студенческим социалистическим обществом, он встретился за завтраком с Элтоном Синклером, чтобы вместе обсудить план работы общества. Синклер, горячий сторонник запрещения спиртных напитков, вспоминает, что Джек успел выпить еще до их встречи; воспаленные глаза его беспокойно блестели; он и за завтраком пил не переставая. Еще до приезда в Нью-Йорк Джек написал о «Джунглях» хвалебную рецензию, которая и открыла этому «разгребателю грязи»[9] и его классическому произведению путь к славе. 3 февраля, на лекции в городе Сен-Пол, Джек заболел. От простуды вокруг рта у него высыпала лихорадка; отменив оставшиеся лекции, он вернулся в Глен-Эллен и снял у компаньонов – Нинетты Эймс и Эдварда Пэйна – часть Уэйк Робина; там-то и зародился у него план такого приключения, перед которым меркнут все другие похождения его бурной жизни. Еще прошлым летом, загорая на бережку в Глен-Эллене, он, бывало, читал отдыхающим отрывки из книги капитана Джошуа Слокама «Один под парусами вокруг света». Судно капитана Слокама было длиною тридцать семь футов; Джек шутя заметил, что не побоится поплыть вокруг света на посудинке футов, скажем, сорок в длину. Теперь он опять в Уэйк Робине. Города, толпы людей, низкая лесть – всем этим он сыт по горло. Он отдавал себе ясный отчет в том, что служит мишенью для нападок с многих сторон и по многим причинам, что из-за поспешности и прочих обстоятельств вторичной женитьбы к нему относятся враждебно. И вот он опять начал поговаривать о кругосветном плавании. Он уже давно задумал именно такую экспедицию на Южные моря, это было одно из самых заветных его желаний, навеянное романтическими повестями Стивенсона и Мелвилла. Его поддержала Чармиан – приключения были ее стихией, – поддержали Нинетта Эймс и Эдвард Пэйн в надежде, что капитаном будет Роско Эймс. «Нужно было выстроить дом на ранчо, насадить фруктовый сад и виноградник, устроить кое-где живую изгородь, был и еще целый ряд дел. Думали отправиться лет эдак через пять. Но потом все сильнее стал разбирать соблазн. Отчего бы не поехать сразу? Пусть сад, виноградник и изгороди подрастают, пока нас нет. В конце концов моложе я уже не стану». Как всегда легко уступающий порыву, быстрый на решения, не рассчитывающий, во что это обойдется, он твердо задумал, подобно Слокаму, проплыть вокруг Земли на маленьком суденышке. Десять дней спустя после возвращения в Уэйк Робин он направил письмо редакторам шести ведущих восточных журналов, уговаривая их стать пайщиками и субсидировать его затею. «Судно будет иметь сорок пять футов в длину. Можно бы и покороче, но тогда в него не втиснешь ванны. Отплытие в октябре. Первый порт назначения – Гавайи, оттуда по южным водам Тихого океана двинемся к Самоа, побываем у берегов Новой Зеландии, Австралии и Новой Гвинеи, затем, минуя Филиппины, направимся к Японии. А там Корея и Китай, потом – Индия, Красное море, Средиземное, Черное; потом через Атлантический океан к НьюЙорку, затем вокруг мыса Горн в Сан-Франциско. Я зайду на зиму в Санкт-Петербург, и не исключена возможность, что поднимусь от Черного моря вверх по Дунаю до Вены. Побываю в верховьях Нила и Сены. Отчего бы мне не подойти к Парижу, став на якорь вблизи Латинского квартала, носом к Собору Парижской богоматери, а кормой – к «Моргу»? Спешить я не собираюсь; путешествие, по моим подсчетам, займет не менее семи лет». На заливе Сан-Франциско за сходную цену можно бы выбрать надежное мореходное судно, но Джек отверг эту мысль: он не пойдет в плаванье ни на чьем корабле, кроме своего собственного. В Сан-Франциско не было недостатка в корабельных архитекторах, и это были знатоки своего дела; но для Джека годился лишь такой корабль, чей облик возник бы в его собственной голове. Имелись на заливе и искусные кораблестроители и верфи, но он будет хозяином только на том судне, которое построит сам. Он решил спроектировать корабль, который явится отклонением от традиций кораблестроения – разве весь рисунок его жизненного пути не был неизменным отклонением от нормы? Ему запала в голову идея построить «кеч», нечто среднее между яликом и шхуной, но сохраняющий достоинства обоих. В то же время он откровенно признавался, что не только не ходил на кече, но и в глаза его не видел, так что все это пока еще теория, не больше. Он погрузился в тонкости кораблестроения, размышляя над такими проблемами, как, скажем, что будет лучше: двух-, трех- или четырехтактный двигатель, каким зажиганием воспользоваться – искрой или разрывом; каков брашпиль самой совершенной конструкции и чем натягивать такелаж – талрепами или натяжными замками. Новое он схватывал быстро, и всегда – самую суть; так и сейчас: за несколько недель он многому научился в области современного кораблестроения. В былые и лучшие свои дни Роско Эймс хаживал по бухте СанФранциско на небольших судах. Сей опыт послужил основанием для того, чтобы Джек за шестьдесят долларов в месяц взял его на работу, поручив отвезти проекты в Сан-Франциско и взять на себя руководство сооружением «Снарка». («Снарком» Джек решил назвать яхту по имени фантастического животного из «Охоты на снарка».) Такая постановка дела устраивала всех заинтересованных лиц как нельзя лучше, а сварливому стареющему Роско в первый раз за долгие годы предоставляла заработок. Журнал «Космополит» предложил присвоить судну свое название. Пусть журнал возьмет на себя расходы по сооружению корабля, ответил Джек, и тогда он согласен не только назвать яхту «Космополитен мэгэзин», но и собирать по дороге подписку. Он подсчитал, что постройка «Снарка» обойдется в семь тысяч долларов, и, исходя из этого, дал указание Роско: «Не жалейте денег. Пусть все на «Снарке» будет самым лучшим. О внешней отделке заботиться не нужно – сойдет и сосна. Деньги вложите в конструкцию. Смотрите, чтоб «Снарк» был выносливым и прочным, как ни одно судно. На это денег не жалейте. Я буду писать и заработаю сколько надо». Отослав Роско с чертежами и открытой чековой книжкой, Джек обратился к следующему серьезному замыслу. Вот уже четыре месяца, как он не занимался творческой работой. Среди множества книг, выписанных по каталогу из Англии, была «История Эба» Стенли Ватерлоо, одна из первых попыток воссоздать в литературе жизнь тех времен, когда человек был скорее животным, чем человеком. Книга стоила Ватерлоо десяти лет труда – научного и литературного, в результате она получилась ученой, но скучноватой. Джек увидел в ней механизм, при помощи которого можно вдохнуть жизнь в дарвиновскую теорию эволюции. Он использует эту возможность. В тот же день он набросал общий план, во многом опираясь на книгу Ватерлоо, а наутро сел писать. Вещь была названа «До Адама» – пример того, с каким талантом он подбирал названия для своих произведений. Прибегнув к простому приему – современному мальчику ночью снится, что он живет в доисторические времена, – автор очень выразительно сопоставляет оба периода. Написано это так тепло и безыскусно, что читатель верит – да, именно так и жил человек после того, как был сделан исторический шаг вперед, от обезьяны. «Повесть будет самая что ни на есть первобытная!» – радовался Джек. Задуманная в черные дни, когда организованные силы религии боролись с теорией эволюции, объявив ее враньем, состряпанным святотатцами по наущению дьявола, до того, как успехи подлинно научного исследования пробили основательную брешь в каменной стене догматики, повесть «До Адама» явилась смелой попыткой популяризовать Дарвина и Уоллеса, сделать их труд доступным для широких масс, чтобы люди могли лучше понять свое прошлое. Рассказчиком Джек был непревзойденным, и эта книга о первобытных людях не уступает по увлекательности любому его рассказу об Аляске. «До Адама» нельзя отнести к разряду литературных произведений высшего класса: сказалась безудержная поспешность, с которой она вылилась на бумагу; но читать ее – истинное наслаждение и немалая польза, особенно для молодежи, едва начинающей оперяться. Роско закупил материалы, набрал рабочих, снял помещение в кораблестроительном доке и сообщил Джеку, что закладка киля произойдет утром 18 апреля 1906 года. Накануне Джек, не умолкая, говорил о предстоящем плавании, вспоминая, что «мальчиком читал книгу Мелвилла «Тайпи» и часами мечтал над ее страницами. В эти-то часы я и решил, что непременно, во что бы то ни стало тоже поплыву на Тайпи, как только подрасту и наберусь сил». Задолго до рассвета Джек проснулся оттого, что пол под кроватью ходил ходуном. Не иначе, это он сам заворочался от волнения, увидев во сне долину Тайпи. Дождавшись зари, он оседлал своего Уошо Бана, подъехал к вершине горы Сонома и увидел, что Сан-Франциско объят пламенем. Во весь опор он прискакал назад в Уэйк Робин, помчался на поезде в Окленд, оттуда на пароме – в Сан-Франциско, где пустил в ход фотоаппарат и мгновенно передал по телеграфу корреспонденцию для «Кольерса». Среди многочисленных больших трагедий, вызванных землетрясением и пожаром в Сан-Франциско, была и одна маленькая: закладка яхты «Снарк» не состоялась. Сгорели материалы, за которые было уже уплачено; негде было взять рабочих; железоделательный завод был разрушен, выписанное из Нью-Йорка оснащение нельзя было доставить в город. О том, чтобы приступить к работам в ближайшие недели, нечего было и думать. Оставив Роско на месте, с тем чтобы как можно скорее снова наладить постройку «Снарка», Джек вернулся в Глен-Эллен и принялся за рассказы Он написал лучшие свои рассказы: «Любовь к жизни»[10], «Путь белого человека», «Сказание о Кише», «Неожиданное», «Трус Негор»; у него появилось подозрение, что сооружение «Снарка» обойдется дороже, чем он рассчитывал вначале. В июне закладка, наконец, состоялась, а Джек, наконец, нащупал основную идею романа, давно уже занимавшего его мысли, – романа, посвященного экономической жизни человеческого общества «Лачал социалистический роман и ушел в него с головой! Назвать его собираюсь «Железная пята». Ничего себе заголовочек? Куда тебе, бедняга капиталист, жалкий, маленький! Эх, и наведет же когда-нибудь класс пролетариев порядок в доме!» Могучее воображение, всего два месяца назад отыскавшее способ отбросить повествование на десятки тысяч лет в прошлое, ныне создает новый прием – как перенести «Железную пяту» на семьсот лет в будущее: найден манускрипт Эрнеста Эвергарда, спрятанный после того, как Олигархия потопила в крови Второе Восстание народа Вот что писал в предисловии к «Железной пяте» Анатоль Франс, назвавший. Джека американским Карлом Марксом – «Джеку Лондону свойствен именно тот талант, которому доступны явления, скрытые от взоров простых смертных, талант, наделенный особым даром предвидеть будущее». «Железной пятой» Джек еще раз доказал, что идеи могут волновать сильнее, чем фабула, что они-то и движут миром. Он был в долгу у своих учителей и теперь возвращал им то, чем был обязан: в «Морском волке» и «До Адама» – Спенсеру, Дарвину, Гексли; в «Железной пяте» – Карлу Марксу, популяризуя его учение в форме драматического произведения, делая социалистические и революционные идеи понятными широким массам. Карл Маркс остался бы доволен «Железной пятой». Работая над этой книгой, Джек обратился к тем обширным каталогам и картотекам, которые усердно составлял в продолжение нескольких лет. Оттуда он извлек достаточно фактического материала, чтобы роман прозвучал как один из жесточайших обвинительных актов, когда-либо предъявленных капитализму Американцы считали экономику предметом сухим, скучным и нудным, более того – любое обсуждение принципов, лежащих в основе частной собственности и системы распределения благ, находилось под таким же строгим запретом, как и дискуссии, посвященные эволюции. Промышленники и банкиры вершили дела по праву, которое до республиканской революции было известно под названием Священного права королей. «Будьте благодарны, – говорили они рабочим, – за го, что по мудрости и добросердечию нашему вы обеспечены работой и хлебом». Церковь была лишь прислужницей предпринимателей, раздобревшей на хозяйских харчах. Примером мог служить хотя бы тот случай в Чикаго, когда Джек сам столкнулся с церковью во время лекционного турне. В городе нашлись лишь два священника, именующих себя либералами, и те отказались отслужить панихиду на похоронах бывшего губернатора Джона П. Альтгельда из-за того, что тот в свое время помиловал людей, несправедливо осужденных за участие в Хеймаркетском восстании[11]. Не отставало от церкви и так называемое висшее образование: в университетах учили лишь тому, что позволяет Туго Набитый Карман. Все это Джек подтвердил документами и внес в свою книгу – одно из самых страшных и прекрасных произведений, написанных человеком. Если в область литературы «Железная пята» и не самый большой его вклад, то в дело экономической революции – огромный. В ней он не только предсказал приход нынешнего фашизма, но подробно описал методы, к которым прибегнетон, чтобы задушить всякое сопротивление и стереть с лица земли существующую культуру. «Железную пяту» читаешь так, будто она написана вчера; с равным успехом она могла бы появиться и через десять лет. В современной литературе не сыщешь главы более захватывающей, чем та, в которой Эрнест Эвергард вступает в единоборство с членами Клуба Филоматов – могущественнейшими олигархами тихоокеанского побережья В своем выступлении Эвергард обнажает бесплодное и хищническое нутро системы наживы и предрекает переход промышленности в руки трудящихся. Трудно найти отрывок более пророческий, чем тот, в котором лидер олигархов отвечает Эвергарду: «Попробуйте протяните ваши хваленые сильные руки к нашим дворцам, к нашей пышной роскоши – мы вам покажем, что такое сила. В громе снарядов и картечи, в треске пулеметов прозвучит наш ответ. Ваших бунтарей мы сотрем в порошок под своею пятой; мы пройдемся по вашим телам. Здесь господа – мы: мир – наш, нашим и останется. Что же до тех, кто трудится, – их место в грязи; так было от века, так тому и быть. Пока власть у меня и мне подобных – вы будете сидеть в грязи». Семилетнее плавание вокруг света на кече в сорок пять футов длиной? «Железная пята» – событие такого размаха, по сравнению с которым задуманное путешествие на «Снарке» – нечто вроде переправы на пароме через бухту Сан-Франциско. Джек писал книгу, ясно сознавая, что навлечет на себя лютую злобу власть имущих; писал, прекрасно зная, что из-за нее пострадает его карьера, что «Железная пята» может повредить успеху прежних произведений и погубить те, которые он еще не написал. Он работал, отдавая себе полный отчет в том, что Макмиллан, возможно, будет вынужден отказаться от ее публикации, что ни один журнал не осмелится печатать ее выпусками и что из нее не выжать даже того, что было истрачено на еду, пока он ее писая Это был отважный поступок, особенно учитывая состояние его финансовых дел в связи с постройкой «Снарка». Следуя собственной команде: «Не жалеть средств, чтобы яхта была выносливой и прочной», – он заказал самые дорогие пюджетсаундовские доски для палубы, чтобы не протекали стыки обшивки; разбил лодку на четыре герметических отсека: где бы ни протекло судно, вода затопит всего один отсек. Он послал человека в Нью-Йорк за дорогим мотором мощностью в семьдесят лошадиных сил; приобрел великолепный брашпиль и заказал специальную передачу для подъема якоря Он оборудовал сказочную ванную комнату – со специальными, хитро задуманными приспособлениями, с насосами, рычагами и клапанами для морской воды; купил гребную шлюпку, а потом небольшую моторку. Он так сконструировал нос «Снарка», что его не могла захлестнуть никакая волна Правда, это стоило ему целого состояния, зато такого красивого носа он не видывал ни на одном корабле. Репортеры, присланные, чтобы взять у него интервью, писали, что стоит заговорить о плавании, как он тут же становится мальчишкой, да и только; что он нашел себе новую игрушку и хочет всласть наиграться ею. К середине лета он обнаружил, что ухлопал на «Снарк» уже десять тысяч долларов, а судно не готово и наполовину. Эти десять тысяч поглотили все, чем он располагал, до последнего доллара: авторские отчисления и авансы от Макмиллана и английских издательств; четыреста долларов, полученных от Мак-Клюра за «Любовь к жизни»; гонорары за другие рассказы, написанные после завершения «До Адама». Мало того: он содержал Флору, Джонни Миллера и няню Дженни, живущих в доме, построенном им для Флоры; Бэсси и дочерей – в доме, выстроенном для Бэсси; Чармиан, Роско Эймса и отчасти Нинетту Эймс и Эдварда Пэйна в Уэйк Робин, а на ранчо у него орудовал десятник с рабочими: сажали, расчищали, закупали инвентарь и материалы. Издатели, которым он в феврале разослал взволнованные письма, холодно отнеслись к его просьбе выдать ему авансы в счет корреспонденции о плавании «Снарка». Раздобыть денег, обеспечить всех по списку – четырнадцать родственников, иждивенцев, работников – и к тому же выплачивать жалованье рабочим, занятым на «Снарке»! Этот процесс добычи денег стал известен как «лондоновское ежемесячное чудо». Здравый смысл подсказывал: откажись от «Снарка», по крайней мере на время, ты ведь не в состоянии платить по счетам. Или если уж непременно хочешь и дальше вколачивать деньги в «Снарк», брось «Железную пяту». Компромисс? Нет, это не в его духе. По утрам с его пера лились на бумагу полные страсти строки «Железной пяты» – тысяча слов каждое утро. А во второй половине дня, по воскресеньям, по праздникам он готовил рассказы, статьи, очерки – что угодно, лишь бы зарабатывать сотни и сотни, пожираемые «Снарком». Серию статей о тех днях, когда он бродягой скитался по Дороге, приобрел журнал «Космополит». Он же вдобавок прислал тысячу долларов в счет статьи, которую Джек был обязан написать до того, как уйдет «Снарк»: видимо, «Космополит» питал сильные сомнения относительно того, доберется ли когда-нибудь сорокапятифутовая яхта хотя бы до ближайшего порта. К 1 октября – это была предполагаемая дата отплытия – «Снарк» поглотил пятнадцать тысяч долларов и был закончен лишь наполовину. Джек всадил в него две тысячи, полученные от журнала «Для всех» за издание выпусками повести «До Адама»; тысячу, присланную «Космополитом»; две – выданные журналом «Домашний спутник женщины» – аванс за статьи о домашнем быте туземцев и еще две – за ряд рассказов об Аляске. Тем не менее стало ясно, что, если он намерен продолжать работы на кече, нужно будет взять денег под заклад дома, купленного для Флоры Тогда же до него, наконец, дошло, что, наняв Роско Эймса, он совершил трагическую ошибку. Эймс был сварлив, не умел добиться от подчиненных настоящей работы; был бездарным организатором, его рабочие дублировали друг друга; он был болтлив и сумасброден; втридорога платил за оснастку, накупал ненужные материалы, раздавал чеки на оснащение, которое никто и не собирался доставлять ему. Неутомимо требовательный к себе, досконально изучающий каждую область знания, каждую сферу исследования, прежде чем писать о ней, Джек не подумал, что нужно предъявлять те же требования к работающим у него людям, и принимал желаемое за действительное. Дела осложнились еще и тем, что «Космополит», из которого чуть ли не палкой пришлось выбивать тысячу долларов аванса, теперь закатил объявления на всю страницу, что это, мол, он посылает Джека Лондона в кругосветное плавание на «Снарке» с единственной целью – писать для журнала рассказы. «Запрашивают повсюду втридорога, навязывают мне все по высоким ценам, отказываются от прежних – и все на том основании, что я тратил не свое кровное, а денежки богатого журнала». Лживые заявления журнала причинили Джеку двойной ущерб: они в ином свете представили путешествие, так что он выглядел теперь просто платным сотрудником журнала, а не искателем приключений. Не ограничившись этим, «Космополит» изуродовал первую статью о «Снарке». Чувствуя, что с ним ведут нечестную игру, Джек – в этих случаях он всегда был в отличной форме – написал редакции «Космополита» гневное письмо: «Вы поступаете со мною подло. В моей практике это первый конфликт с журналом и, надеюсь, последний; но, поскольку он возник, я ничего спускать не намерен. Либо мы работаем вместе, либо нет. Говоря по совести, я предпочел бы расторгнуть дело. Раз вы не можете поступать со мной честно и справедливо, пеняйте на себя. Я не запрошу о милости, но и сам не дам пощады. Вы хотите знать, когда я пришлю следующую статью? Сперва мне надо кое-что выяснить, иначе вам не узнать, когда будет вторая статья. Скорей придет День Страшного Суда, чем вторая статья. Ткань рассказа сплетаю я; вы не имеете права ее кромсать. И вообще, кто вы такие, черт бы вас побрал? С какой стати вы возомнили, будто можете править мою работу? Вы, очевидно, решили, что я вкладываю в свои вещи свое сердце, тренированное сердце писателя-профессионала, чтобы отдать его на растерзание, в угоду вкусам газетчиков? Я категорически и наотрез отказываюсь сотрудничать с кем бы то ни было в вашем заведении!» Еще досаднее, чем непомерные расходы, были затянувшиеся проволочки. «Снарк» было обещано сдать к 1 ноября, потом – к 15-му, затем – к 1 декабря. Доведенный до крайности, Джек переехал в Окленд, отослал Роско домой изучать навигацию и взял руководство работой по завершению судна на себя. Он пригласил четырнадцать рабочих, назначил головокружительное жалованье плюс доллар в день премиальных – за скорость. Чтобы это осуществить, понадобилось заложить ранчо Хилла. 15 декабря, несмотря на колоссальные издержки, он понял, что «Снарку» до конца еще все так же далеко. Опять пришлось отсрочить дату отплытия. Газеты в сатирических стишках начали прохаживаться по адресу медлительного мистера Лондона. В полном расстройстве, что «Космополит» перехитрил его, первым напечатав статью о «Снарке», «Домашний спутник женщины» потребовал, чтобы статья о быте туземцев была представлена, пока Джек еще здесь, в Сан-Франциско. Друзья заключали с ним пари относительно даты отплытия. Первым выиграл пари десятник с ранчо Хилла – пришлось и эту сумму добавить к двадцати тысячам долларов, вложенных в «Снарк». Дело было 1 января 1907 года. «После этого пари налетели ураганным огнем. Друзья обступили меня со всех сторон, как шайка грабителей. Стоило мне назвать дату, как они тут же предлагали пари против. Я принимал, я спорил и спорил, и всем им платил». Газеты и журналы подняли вокруг плавания на «Снарке» такой шум, что Джек стал тысячами получать со всех концов страны письма с просьбой взять отправителя с собой. Девяносто процентов из них были готовы работать кем угодно; девяносто девять соглашались работать даром. «Несметное множество врачей – сухопутных и морских – предлагали свои услуги бесплатно. Кого здесь только не было! Репортеры, дантисты, камердинеры, повара, художники-иллюстраторы, секретари, инженеры-строители, механики, электрики, отставные морские капитаны, школьные учительницы, студенты, фермеры, домашние хозяйки, матросы и такелажники». Но лишь перед одним из них Джек не смог устоять. Это было письмо на семи страницах от зеленого юнца по имени Мартин Джонсон из городка Индепенденс штата Канзас. «Готовить умеете?» – протелеграфировал ему Джек. «Испробуйте только!» – ответил Мартин Джонсон и кинулся наниматься на кухню греческого ресторана в Индепенденс. В январе будущий исследователь Африки был уже в Окленде, готовый к отплытию на «Снарке». Вот только «Снарк» был еще не готов. Так как Джек всегда считал, что его работники обязательно должны получать хорошее вознаграждение, то к списку прибавилось еще и жалованье Мартина Джонсона. Убедившись, что Роско ни на что не годен, Джек все же не рассчитал его, не воспользовался ни одной из многочисленных возможностей взять капитаном на яхту признанного мастера своего дела, а ведь с любым из них он бы мог договориться за те же сто долларов в месяц, которые собирался выплачивать Роско Эймсу. Не принял он и ни одного из первоклассных моряков, просившихся работать на «Снарке» – пусть даже бесплатно! Вместо этого в качестве единственного машиниста и матроса он пригласил студента Станфордского университета Герберта Стольца, юношу рослого и покладистого. Вот и получилась команда: Джек, Чармиан, Роско Эймс, Мартин Джонсон, Герберт Стольц и юнга японец Точиги; ни один из них, не считая Джека, не знал, как зарифить парус или выбрать якорь. Закончив «Железную пяту», Джек прочел первые две главы в клубе Рёскина. Одна оклендская газета заметила по этому поводу, что он вечно делает Окленд пробным камнем для своих социалистических идей, зная, что, если пройдет здесь, пройдет где угодно. Потом он отослал рукопись Бретту. Тот предсказал, что газеты либо обойдут ее молчанием, либо обрушатся на автора и издателя. В то же время он признает, что вещь хороша, и соглашается печатать ее, не считаясь с последствиями. Это было смелое решение. Единственной его просьбой было, чтобы Джек убрал из книги одну сноску, из-за которой, как считал Бретт, они оба угодили бы в тюрьму за оскорбление суда. На это Джек отозвался: «Если меня признают виновным в неуважении к суду, буду от души рад отсидеть шесть месяцев в тюрьме. За это время можно написать парочку книг и начитаться вволю». Да, у него были веские основания тосковать по миру и покою тюремной жизни: «Снарк» завлек его в совершеннейший бедлам. В феврале, год спустя после того, как он разослал редакторам издательств полные энтузиазма письма, «Снарк» уже столько времени находился в работе, что разрушался быстрее, чем его успевали чинить. Яхта превратилась в фарс, в лондоновскую блажь. Газеты открыто смеялись. Никто не принимал судно всерьез, менее всего те, кто на нем работал. «На «Снарк» десятками совершали паломничество старые морские волки, морских дел мастера и уходили, качая головами и предрекая всевозможные беды». Моряки говорили, что «Снарк» спланирован плохо, оснащен и того хуже и в открытом море пойдет ко дну. Заключались пари, что он никогда не достигнет Гавайи. Корейский юнец Маньюнги, верой и правдой прослуживший «хозяину» три года, вынудил Джека рассчитать его, нарочно обратившись к нему с дурацким вопросом: «Подать богу кофе?» – он был уверен, что все равно никогда не попадет на Гавайи. И днем и ночью вокруг яхты толпились любопытные, скалили зубы зеваки… Убедившись, что «обстановка ему не благоприятствует», что в СанФранциско яхты никогда не достроить, Джек решил повести ее в Гонолулу в нынешнем виде, а уж там закончить. Не успел он принять это решение, как «Снарк» дал течь, на ликвидацию которой ушел не один день. Когда же, наконец, можно было ставить его на полозья для спуска, он по пути застрял между двумя баржами и был жестоко помят. Рабочие подвели его к полозьям и стали спускать на воду, но полозья разошлись, «Снарк» завалился на корму и бухнулся в илистую грязь. Два паровых буксира ежедневно в течение недели, пользуясь утренним и вечерним приливом, тянули и тащили «Снарк», пытаясь извлечь его из ила. Когда Джек, чтобы подсобить, пустил в ход брашпиль, специально изготовленные передачи разнесло вдребезги, барабаны стерло в порошок, и брашпиль был навсегда выведен из строя. В отчаянии Джек включил пресловутый мотор мощностью в семьдесят лошадиных сил, и мотор расколол доставленную из самого Нью-Йорка чугунную раму, взвился на дыбы, размозжил все болты и крепления и, ни на что уже больше не пригодный, рухнул набок. К этому времени на судно утекли уже двадцать пять тысяч долларов. Самые близкие друзья внушали Джеку, что он побит, что лучше оставить «Снарк», где он есть, и отказаться от плавания. Его убеждали, что выйти в море на подобном судне – при условии, конечно, что Джеку вообще удастся на нем отплыть, – равносильно самоубийству. Ответом был возглас: «Мне нельзя отступиться!» День за днем Джек бушевал из-за нерадивых рабочих, бракованных материалов, из-за поставщиков, назойливо лезущих к нему со счетами, газет, беззастенчиво глумящихся над ним. Признав сейчас свое поражение, он бы сделался посмешищем в глазах всей страны; такого стыда и позора ему не пережить никогда! Он человек слова. Пусть это последнее, что ему суждено совершить, но он поведет судно на Гавайские острова. Лучше погибнуть смертью героя в глубоких водах Тихого океана, чем выносить издевки купцов и рабочих, обобравших его; газет, превративших его в мишень для насмешек; толпы дружков-ротозеев, которые усмехались, называя его сумасшедшим, по милости которых люди начали ставить двадцать против одного, что ему не бывать в Гонолулу, и желающих спорить не находилось! «Выбиваясь из сил, обливаясь потом, мы сволокли «Снарк» с искалеченных полозьев и поставили у Оклендской городской пристани. На подводах подвезли из дому снаряжение: книги, одеяла, личный багаж. Вместе с ними на палубу беспорядочным потоком хлынуло все прочее: дрова и уголь, пресная вода и баки, овощи, продовольствие, смазочное масло, спасательная шлюпка и моторная лодка, все наши друзья, не считая друзей нашей команды да кое-кого из их друзей. А еще были репортеры, и фотографы, и незнакомые, и болельщики, и, наконец, над всем этим – тучи угольной пыли». Но в конце концов долгий, тяжкий и мучительный труд был окончен, и отплытие назначено на субботу 2 апреля 1907 года. В субботу утром Джек взошел на палубу с чековой книжкой, вечным пером и промокашкой, имея при себе почти две тысячи долларов наличными – все, что удалось забрать авансом у Макмиллана и журналов, – и стал дожидаться окончательного расчета с представителями ста пятнадцати фирм, которые – это было ясно – задержали его так надолго. Но вместо поставщиков, которые должны были явиться за деньгами, на «Снарк» пожаловал судебный исполнитель и прибил к мачте уведомление, что яхта подлежит конфискации в случае неуплаты долга некоему Селдерсу, которому Джек задолжал двести тридцать два доллара. «Снарк» был арестован и не имел права тронуться с места. Джек как безумный носился по городу, пытаясь найти своих кредиторов, шерифа, мэра, готовый на что угодно, только бы вырваться. Никого: все уехали из города на воскресенье. В понедельник утром он снова сидел на борту «Снарка», раздавая кредиторам направо и налево банкноты, золото, чеки, слепой от ярости, в бешенстве, что рушатся все его планы. Он был даже не в состоянии проверить, правильно ли составлены счета; удостовериться, должен ли он еще, не уплатил ли уже по тому или иному счету. Сложив все вместе, он подсчитал, что «Снарк», чей мощный мотор был привязан к борту в виде балласта, чья силовая передача была выведена из строя, спасательная шлюпка дала течь, а моторная лодка отказалась двигаться, – этот «Снарк», на котором уже облупилась краска, обошелся ему в тридцать тысяч долларов. Обворованный, высмеянный, оплаканный, оставленный друзьями на произвол судьбы как безнадежный идиот-романтик, он поднял на мачту футбольную майку Калифорнийской команды, собственность Джимми Хоппера, и вручную поднял якорь. А затем вместе со штурманом, не способным управлять судном, машинистом, ничего не смыслящим в машинах, поваром, не умеющим готовить, «Снарк» проковылял вниз по устью залива, пересек бухту и вышел в Тихий океан через пролив Золотые Ворота. Джек был непрактичен – вот источник его неудач. Но они не обошлись бы ему так дорого, если бы не мошенничество и жадность окружающих. Передние бимсы, стоившие ему по семи с половиной долларов каждый, – предполагалось, что они сделаны из дуба, – при ближайшем рассмотрении оказались сосновыми, а таким красная цена два пятьдесят. Особые доски, доставленные из Пюджет-Саунда, разошлись, и палуба так сильно протекала, что были залиты бункера, приведен в негодность инструмент в машинном отделении, загублены запасы продовольствия в камбузе. Борта «Снарка» протекали, днище протекало, а там стало течь и из одного дорогостоящего герметического отсека в другой, в том числе и в тот, где хранилось горючее. Металлические части рассыпались под рукой, особенно те, что пошли на такелаж и рангоут. Все хитроумные краны, кнопки и рычажки в волшебной ванной в первые же сутки вышли из строя. Обследуя провиант, Джек убедился, что апельсины подморожены, яблоки и капуста, доставленные на борт к одному из более ранних сроков отплытия, уже гниют, и их остается только выбросить. На морковь кто-то пролил керосин, свекла оказалась твердой как дерево, горючий материал для растопки не горел, а уголь высыпался из гнилых мешков для картошки, и его смывало в море через шпигаты. Прошло несколько дней плавания, прежде чем Джек обнаружил, что за все эти месяцы Роско Эймс так и не научился ничему, имеющему отношение к навигации, хотя деньги получал исправно; что он не умеет определить положение корабля; что «Снарк», дырявый как решето, попросту потерялся где-то в Тихом океане. Джек вытащил навигационные книги, проштудировал их, потом вычертил прокладки и измерил высоту солнца секстантом. «Благодаря астрономам и математикам вести корабль, ориентируясь по солнцу, луне и звездам, детская забава. Однажды я целый день просидел в кубрике, одним глазом держал корабль по курсу, другим разбирался в логарифмах. Два дня подряд по два часа изучал общую теорию кораблевождения и в особенности процесс измерения высоты солнца в зените. Потом взял секстант, вычислил поправку и измерил высоту солнца. Горжусь ли? Еще бы! Я творил чудеса. Я внимал голосам звезд, и они помогали мне определить мое место на проезжей дороге моря». Вошли в бурные воды. Острый приступ морской болезни приковал к койкам Мартина Джонсона и юнгу Точиги, и Джек в довершение прочих обязанностей должен был мокнуть в камбузе по колено в воде, безуспешно пытаясь состряпать что-нибудь горяченькое. Чармиан же не только аккуратно несла свою смену у руля, но и выстаивала подряд две четырехчасовые смены, держа судно по курсу среди черных бушующих волн, в то время как пятеро мужчин безмятежно спали. Роско, погрузивший на судно особо калорийные консервы, стоившие сотни долларов – не его, конечно, – сидел в своей каюте, поглощая эти калории. На вопрос Джека, почему бы ему не вымыть палубу и вообще постараться поддержать чистоту, Роско заявил, что работать не может, оттого что страдает… запором. Здесь-то, в грязи, в опасности, в неразберихе, когда весь мир почти в буквальном смысле слова рушился у него под ногами, Джек, усевшись на крышке переднего люка, принялся писать, пожалуй, лучший свой-роман, одно из величайших произведений американской литературы – «Мартина Идена». В первоначальном рукописном варианте совсем немного поправок, что свидетельствует о том, какой железной дисциплине он умел себя подчинить, с какой сосредоточенностью отдавался работе. Через неделю показалось солнышко, изможденные Мартин Джонсон и Точиги слезли с коек, Герберт Столыд, лишившись капитана и его приказов, сам делал все возможное, чтобы судно двигалось по ветру. А Джек каждое утро писал тысячу слов, упрямо двигая вперед автобиографическую повесть о том, как он бился, чтобы, восполнив пробелы образования, за три коротких года превратить себя из неотесанного матроса в культурного человека и известного писателя. Главные герои – он сам, Мэйбл Эпплгарт со своим семейством и Джордж Стерлинг, выведенный в образе поэта Бриссендена. Руфь Морзе – так назвал Джек героиню – написана убедительно, так как прообраз ее был реальным, живым человеком. Это единственная женщина, не принадлежащая к рабочему сословию, которую Джек Лондон изобразил естественно и правдиво. Горячий, суровый, жизненный, «Мартин Идеи» – роман, поражающий своей пророческой силой. Поэг Бриссенден доказывает Мартину Идену, что необходимо связать свою судьбу с социализмом, потому что иначе, добившись успеха, он утратит все, что привязывает человека к жизни. Мартин отрекается от социалистических убеждений и вслед за этим, пресытившись славой, решает покончить с собой и бросается в море. Два года спустя, по выходе книги в свет, женский клуб в Сан-Хосе пригласил литературного обозревателя Майру Макклей выступить у них с разбором «Мартина Идена» Выступая, миссис Макклей с уничтожающей критикой обрушилась на героиню за ее трусость и слабость; за то, что она разбила жизнь и Мартину Идену и себе самой. Откуда ей было знать, что тонкая, поблекшая старая дева в первом ряду, глядящая на нее со смертельной тоской, – Мэйбл Эпплгарт? После двадцатисемидневного плавания показалась земля. За это время, кстати сказать, выяснилось, что великолепный нос «Снарка», в который Джек вложил столько любви и денег, не просто бесполезен, но и опасен: он мешал судну ложиться в дрейф в штормовую погоду. Джек был расстроен, что сплоховал в штурманском деле: по его прокладкам до ближайшей суши было еще сто миль. Вскоре оказалось, что это вершина Халеакала, возвышающаяся на десять тысяч футов над уровнем моря – действительно за добрую сотню миль. Джек, всегда в большей мере гордившийся своими физическими, чем духовными достижениями, был на седьмом небе – такого подъема он не испытывал с той поры, как в разгар тайфуна у берегов Японии сжимал в руках штурвал «Софи Сазерленд». На другой день спозаранку, дрейфуя, они обогнули мыс Алмазная Голова, и впереди как на ладони открылся остров Гонолулу. Навстречу «Снарку» вышел катер гавайского яхт-клуба, доставивший газеты с телеграфными сообщениями из Штатов, где утверждалось, что «Снарк» пошел ко дну. Командир яхт-клуба сердечно поздравил их с прибытием на Гавайские острова, повел в Пирл-Харбор и пригласил к себе принять горячую ванну и отведать местный «коктейль» из корней таро, именуемый «пой». Друг Джека Том Хоброн предоставил в их распоряжение коттедж на острове Хило. Каждое утро Джек просыпался от птичьих голосов. Два шага – и он уже плавал в изумрудной лагуне. Потом шел завтракать к столу, накрытому под деревьями и засыпанному алыми мальвами и глянцевитыми коралловыми перцами, – об этом заботился Точиги. После завтрака, облачившись в синее кимоно, он устраивался работать на лужайке за импровизированным письменным столом. В очерке «Непостижимое и чудовищное» он подробно рассказывает о том, с каким трудом удалось построить и спустить на воду «Снарк». В очерке «Жажда приключений» – о тысячах писем, полученных им от людей, желавших участвовать в смелой затее. В очерке «Ощупью в океане» – о том, как из-за неуменья Роско вести корабль «Снарк» потерялся и как сам Джек научился штурманскому делу. Он испытывал крайнюю нужду в средствах. Очерки вышли занимательными, и журналы брали их охотно. Написал он еще и «Костер» – трагический рассказ из серии, посвященной Аляске. Первые двенадцать дней пребывания «Снарка» в Пирл-Харбор Джек не бывал на яхте. На тринадцатый, подойдя к «Снарку» на лодке, он убедился, что палубы ни единого раза не поливались из шланга и вместе с оснасткой, ничем не прикрытой, они сохнут и рассыпаются под тропическим солнцем. Он спешно рассчитал Роско Эймса и Герберта Стольца и отправил их назад в Калифорнию. Тогда американские газеты сообщили читателям, что на «Снарке» царят Ссоры и разлад. Не желая огорчать Нинетту Эймс, разоблачая Роско, Джек ничего не предпринял в свою защиту и перевел деньги на проезд Юджину Фенелону, другу Джорджа Стерлинга, с тем чтобы тот поступил на «Снарк» машинистом. Фенелон, как отметили газеты, «все свои сведения о море почерпнул, путешествуя с цирком, где выступал силачом, а также готовясь к тому, чтобы принять сан священника». По прибытии на Гавайские острова Фенелон несколько месяцев провел в попытках привести «Снарк» в хорошее состояние, а затем вернулся в Кармел, оставив оснащение яхты в худшем виде, чем когдалибо прежде. Не только сами Гавайи были «чудесным, ласковым краем, но и люди оказались чудесными». Редакторы журналов «Звезда» и «Тихоокеанский коммивояжер» дали званый обед в честь вновь прибывших. Их пригласили на прием, устроенный принцем Каламанаоле и ее величеством королевой Лилиукалани, наперебой развлекали, знакомили с величавой красотой островов. Каждый день приносил новое приключение, одно красочней другого: вместе с принцем Каламанаоле Джек ловил рыбу при свете факелов, посещал местные «луау» – празднества стонов, купался при луне, яркой и теплой, и жил на ранчо Халеакала на острове Мауи. Управляющий ранчо Льюис фон Темпский водил его смотреть, как гоняют табуны, как объезжают и клеймят молодняк, ездил с ним верхуш по неслыханно красивым и столь же опасным тропам, на восемь тысяч футов ввысь по горным склонам, через шаткие пеньковые мостики, перекинутые через бездонные ущелья, к кратеру Халеакала, с вершины которого видны все острова и море. Эта прогулка вылилась в очерк «Обитель солнца». Неделю он провел на Молокаи, острове прокаженных, где они с Чармиан жили среди прокаженных, как равные сидели бок о бок с ними в охотничьем клубе, плечом к плечу с ними стояли в тире, стреляли из ружей, еще сохранявших тепло их рук, ходили на устроенные ими скачки. Остров пользовался зловещей славой, и прокаженные умоляли Джека написать правду, поведав миру, что они живут хорошей, счастливой жизнью. Вернувшись к себе на Хило, Джек тотчас же исполнил обещание, с нежностью рассказав о пребывании на этом трагическом и прекрасном острове в очерке «Колония прокаженных». Александр Хьюм Форд, специалист по части серфинга, научил его носиться по волнам во время прибоя, стоя на доске. Джек с его нежной кожей так обгорел под солнцем, что добрых две недели не мог избавиться от волдырей, но тем не менее написал статью «Спорт богов и героев», которая значительно способствовала тому, что этот вид спорта завоевал популярность в Америке. Он полюбил неторопливую, напоенную красотой жизнь островов; работа здесь ладилась: хорошо шел «Мартин Идеи», не говоря уже о прочем. Когда серия рассказов «Дорога», напечатанных в «Космополите», была готова для издания отдельной книжкой, Джеку написал Бретт. Не откажется ли Джек от этой книги, если Бретт сумеет доказать, что, выпустив ее, автор проиграет в глазах публики? «В «Дороге», как и во всех своих работах, – отвечал Джек, – я был верен правде. По мере того как из моих произведений все яснее вставал мой характер, случались всяческие громы и молнии – неприязнь, враждебные выпады, всеобщее осуждение; все это я вынес. Я всегда настаивал на том, что основное достоинство литератора – искренность. Если я не прав и мир убедит меня в этом, я скажу «Прощай, гордый мир», удалюсь на ранчо и стану сажать картофель и разводить кур, чтобы не было пусто в желудке. Я никогда не следовал совету действовать осмотрительно – в этом-то и секрет моего успеха». Впрочем, одному благоразумному совету он все-таки последовал – совету, который, по всей вероятности, спас ему жизнь, а именно: в середине октября, отправившись с острова Хило на Маркизские острова, он имел на борту настоящего морского капитана с бумагами, выправленными по всей форме, и матроса-голландца. Капитана Уоррена освободили досрочно из Орегонской каторжной тюрьмы, куда он был заключен по обвинению в убийстве; матрос Херманн в свое время водил отцовский кеч у берегов Голландии. Если бы Джек проявил осмотрительность, наняв опытных моряков еще при постройке «Снарка» или перед отплытием на Гавайи, он мог бы сохранить двадцать тысяч долларов и здоровые нервы. Единственным из первоначального состава команды, кто на самом деле оказался достойным искателем приключений, был Мартин Джонсон, красавец двухметрового роста, произведенный из кока в механики и ставший с той поры ценным приобретением для «Снарка». За два года странствий доказала Джеку свои достоинства и Чармиан. Она была готова решительно на все; смелость ее была неистощима; когда встречались трудности, она оставалась бодрой, стойко держалась перед лицом опасности – как надежный спутник-мужчина. Что бы ни задумал Джек – провести неделю среди прокаженных Молокаи, пополнить собою ряды охотников за головами на Соломоновых островах, верхом перебраться по пеньковым мостикам, спуститься в глубокое тропическое ущелье, пересечь Тихий океан в таком месте, куда еще не отважилось показать нос ни одно парусное судно, – она везде сохраняла мужество и находчивость, не теряла присутствия духа в смутные времена, была веселым товарищем в хорошие дни. Если Джек искал себе спутницу, способную шагать с ним плечом к плечу в скитаниях, он нашел ее в Чармиан. Через несколько дней после отплытия из Хило Джек раскрыл инструкцию вождения парусных судов в южных водах Тихого океана и прочел, что в истории не зарегистрировано ни одного случая, чтобы парусник прошел от Гавайских до Маркизских островов. Мало того, из-за экваториальных течений и расположения юго-восточных пассатов считается, что достигнуть Маркизских островов невозможно. «Невозможное не отпугнуло «Снарк», – вспоминает Джек. Ничуть не смутившись, он поплыл дальше и добрался все-таки до Маркизских островов, совершив поистине чудеса кораблевождения и парусного искусства. Избежал смерти он, по-видимому, лишь потому, что судьба решила: человек по имени Джек Лондон таит в себе книги, которые должны быть написаны, прежде чем можно будет его прикончить. Их угораздило вклиниться между пассатами и экваториальными штилевыми водами, и сутки за сутками «Снарк» стоял без движения. Их стегало ветрами, било дождем, заливало волной, не раз налетал такой шквал, что казалось, дырявый крохотный «Снарк» вот-вот сломается как спичка. За шестьдесят дней ни паруса, ни пароходного дымка. Они потеряли за бортом половину запаса пресной воды и погибли бы от жажды, если бы не счастливый случай, пославший им дождь. Для Джека не было большего удовольствия, чем играть в прятки со смертью, он наслаждался, как мальчишка. Он вел «Снарк» по не занесенным на карту водам, охотился на дельфинов, акул, морских черепах; валялся на крыше люка, вдыхая соленый воздух, чувствуя, как ласково покачивает его океан; работал над «Мартином Иденом» – тысяча слов ежедневно, писал увлекательные очерки «Через Тихий океан». Теплыми деньками он сидел на палубе, читая Чармиан, капитану Уоррену, Мартину Джонсону, Херманну, Накате – веселому юнге японцу, сменившему Точиги, и коку Уоде отрывки из книг Стивенсона о Маркизских островах и Таити, из «Тайфуна» и «Юности» Конрада, из «Белой куртки», «Тайпи» и «Моби Дика» Мелвилла. Былые неприятности, связанные со «Снарком»,были забыты – парусник воплотил в жизнь надежды тринадцатилетнего романтика, глотавшего все приключенческие повести, какие сумела найти для него мисс Кулбрит в Оклендской публичной библиотеке. Двухмесячное плавание привело «Снарк» к одному из Маркизских островов – Нука-хива. «С северо-запада дул пассат, а мы настойчиво шли своим путем на юго-запад. И так десять дней. 6 декабря в пять часов утра показалась земля – именно там, где ей и полагалось находиться, то есть прямо по носу. Мы прошли с подветренной стороны мимо Уа-хука, вдоль южного края Нука-хивы и ночью, в беспросветной мгле, под порывами шквального ветра, пробились к якорной стоянке в узкой бухте Тайогаэ. Грохоту якорной цепи вторило со скал блеянье диких коз, и воздух, который мы вдохнули, был напоен ароматом цветов». В Нука-хиве им посчастливилось снять комнаты в том самом клубе, где во время своего пребывания на Маркизах часто проводил вечераРоберт Льюис Стивенсон, – новый источник радости и удовлетворения для Джека. На второй же день, как только они были в состоянии сесть на лошадей, весь экипаж «Снарка» поехал верхом в восхитительную долину Хапаа, описанную в «Тайпи». Судя по словам Мелвилла, Хапаа населяло воинственное и сильное племя, жившее среди плодородных тропических садов. Увы! Полное разочарование: к тому времени, когда Джек смог сам проехать на коне по долине Хапаа, она превратилась в необитаемую унылую тропическую глушь. Немногие маркизцы, уцелевшие после опустошительных эпидемий, занесенных на острова «неотвратимым белым человеком», умирали в своих жалких хижинах от скоротечной чахотки. Джек посвятил вымиранию этой великолепной расы печальный очерк, названный из почтения к Мелвиллу «Тайпи». «Безвозвратно ушли красота и сила, и долина Тайпи стала прибежищем горсточки несчастных, страдающих проказой, слоновой болезнью и туберкулезом. Жизнь в этом чудном саду погибла». Двенадцать красочных дней провел Джек на Маркизах – охотился на диких коз, участвовал в туземных празднествах, танцах и пирах. На тринадцатый день он поднял якорь и мимо островов Туамоту пошел на Таити, где его ждала почта. Здесь он узнал, что на «Снарк» опять махнули рукой, считая его погибшим; что сан-францисские моряки вспоминают свои пророческие слова: «Корабль плохо спланирован, а оснащен и того хуже». Многие газеты выражали искреннее сожаление по поводу утраты талантливого молодого писателя. Другие обвиняли Джека в том, что он не дает о себе знать намеренно, желая вызвать шумиху вокруг своей персоны. В одной передовой статье его даже уличили в том, что он раздобыл себе ловкача-агента и тот придумал для него даровую рекламу, которая с лихвой возмещает стоимость яхты. Пробыв в отсутствии всего восемь месяцев, он убедился сейчас, обследовав содержимое многочисленных ящиков с накопившейся почтой, что, когда нет хозяина, в делах очень быстро наступает беспорядок. Оклендский банк, в полной уверенности, что Джек покоится на дне Тихого океана, лишил Флору права выкупа дома по закладной. Ряд чеков, выданных им еще на Хило – в общей сложности на восемьсот долларов, вернулись обратно, помеченные другим оклендским банком: «Текущий счет иссяк», что вызвало страшный шум в печати. Оставляя Глен-Эллен, Джек передал свои полномочия Нинетте Эймс, поручив ей вести его дела в качестве доверенного лица. Жалованье она себе назначила сама – десять долларов в месяц. Теперь она повысила его до двадцати и при этом брала с него сорок долларов в месяц за пустующие комнаты в Уэйк Робине. Знакомясь со счетами, Джек узнал, что она истратила тысячу долларов на пристройку к амбару, чтобы поселить на ранчо десятника с женой; тысяча четыреста долларов ушли в декабре на содержание Флоры, Джонни Миллера, няни Дженни, Бэсси с дочерьми; на оплату рабочих, на инвентарь и различные поставки для ранчо Хилла, на уплату страховым компаниям и содержание Уэйк Робина. Другой счет, общей суммой на тысячу долларов, представлял собой список снаряжения «Снарка» на трех страницах – начиная от тысячи галлонов бензина и кончая сотней пачек специальных египетских сигарет для Джека и дюжиной коробок конфет. Несметные расходы! Не говоря уже о том, что тысяча долларов ежемесячно уходит на экипаж и обслуживание «Снарка»! В декабре Макмиллан заплатил ему пять тысяч пятьсот долларов авторских отчислений от продажи книг; Рейнольде, нью-йоркский агент, изредка оказывающий ему услуги, сбыл рассказ «Костер» журналу «Век» за триста пятьдесят долларов; Нинетта Эймс устроила очерк «Колония прокаженных» в «Домашний спутник женщины», а «Как мы нащупали путь» и «Непостижимое и чудовищное» – в «Харперовский еженедельник»; пришли деньги от английских журналов и издательств, от скандинавских, немецких, французских и итальянских издателей. И, несмотря на все это, он узнает, что теперь, на первой неделе 1908 года, у него за душой всего-навсего шестьдесят шесть долларов и в ближайшем будущем – никаких надежд. Еще 28 мая 1907 года, по прибытии в Гонолулу, чуть ли не первое, что он сказал, было: «Я обанкротился и, очевидно, буду вынужден задержаться здесь, пока не раздобуду денег». После этого он написал ряд путевых очерков и рассказов о Гавайях, стоивших журналам от трехсот до пятисот долларов каждый. Каких-нибудь четыре с половиной го да прошло со времени выхода в свет нашумевшего «Зова предков», а он заработал за это время столько, что смог истратить сорок тысяч на «Снарк», одиннадцать – на ранчо, десять – на дом Бэсси, восемь – на дом Флоры и еще около тридцати пяти тысяч на всяческих прихлебателей и приживалок, число которых неизменно росло. Сейчас плавание обходится ему в тысячу долларов ежемесячно, и вот полюбуйтесь – он сидит в Таити, имея на все про все шестьдесят шесть долларов! Из Таити в Сан-Франциско уходил пароход «Марипоза», и Джек решил отправиться на нем домой и попытаться привести в порядок дела. Откуда он взял денег на два билета – себе и Чармиан – остается загадкой. Оставив «Снарк» на попечение капитана Уоррена и команды, он возвратился в Калифорнию. Многочисленные родичи Джека, с тревогой дожидавшиеся «Марипозы» в надежде получить почту и убедиться, что он цел и невредим, остолбенели от удивления, узнав, что он в Сан-Франциско. Небывало крикливые заголовки газет затрубили о его прибытии. Один репортер писал; «Словами «улыбка, не сходящая с лица» и наполовину не выразишь, какая у Лондона улыбка. Это что-то щедрое, душевное, широкое, как морские просторы, – посмотришь, и сердце радуется». Многие корили Джека за то, что он не довел путешествие до конца. Когда же он сообщил, что на той неделе обратным рейсом «Марипозы» возвращается на «Снарк», некоторые его знакомые рассмеялись, приняв это за шутку, а другие принялись отговаривать. Он ведь и так уже продемонстрировал, на что способен, – и баста! Зачем искушать судьбу? Не разумнее ли остаться дома? Видно, они не поверили, когда он заявил репортерам, что дни, проведенные на борту «Снарка», – одни из самых счастливых в его жизни. Он немедленно телеграфировал Макмиллану с просьбой выслать аванс за почти завершенного «Мартина Идена». На эти деньги он выкупил из заклада Флорин дом и уплатил банку все возрастающие проценты за ранчо Хилла. С «Харперовским еженедельником» он договорился о выпуске серии очерков о «Снарке», что дало возможность заплатить самые срочные долги и выдать Флоре февральский чек на пятьдесят два доллара, Бэсси – на семьдесят пять, няне Дженни – на пятнадцать. Просмотрев подшивку «Домашнего спутника женщины», он понял, почему на Гавайях и в Таити с него за все драли втридорога: после того как «Космополит» распространил басню, что это он посылает Джека Лондона вокруг света, Джек расторгнул с ним договор и договорился со «Спутником женщины». Увы! Соблазн был слишком велик, и «Спутник», не в силах отказаться от лакомого кусочка, последовал примеру «Космополита» – состряпал аналогичную фальшивку. 1907 год ознаменовался выходом в свет четырех его книг, то есть на одну больше рекордного числа 1902 года. Ему было всего тридцать один год, а он уже успел выпустить девятнадцать книг, ибо расточал сокровища своего ума так же щедро, как принесенные ими богатства. «До Адама», художественное воплощение теории эволюции, рассказ о жизни первобытного человека, в Америке по-прежнему читают с упоением. «Дорога», на которую по выходе в свет почти не обратили внимания, ныне признана одним из немногих правдивых литературных источников о жизни американского бродяги. В книгу «Любовь к жизни» входит несколько наиболее мастерски отделанных рассказов Лондона об Аляске. Все это было написано ради денег, которые требовалось вложить в «Снарк». Высокое совершенство этих произведений свидетельствует о том, что иные люди пишут лишь во имя литературы, ни сном ни духом не помышляя о такой скверне, как деньги, и получается чепуха, в то время как другие пишут ради денег и творят подлинную литературу. Определяющим фактором здесь служит талант, а не то, как человек намерен распорядиться вознаграждением за этот талант. Джеку Лондону были свойственны любовь к правде, смелость говорить то, что он чувствовал и думал; он был разносторонне образованным человеком. Эти духовные богатства, эта цельность сочетались с даром прирожденного рассказчика, созревшимв результате умной и неустанной работы. То обстоятельство, что он нуждался в деньгах, не заставило его ни снизить требовательность к себе, ни идти на компромисс там, где дело касалось его искусства; он всегда был уверен в том, что хорошая работа стоит хороших денег. Предсказание Бретта относительно участи «Железной пяты» оказалось верным, большинство газет и не заикнулось о выходе книги в свет. Другие – впрочем, немногие – заявили, что автора должна сурово покарать десница закона. Едва замеченная, получившая неблагоприятные отзывы, книга осталась непризнанной. Ее почти никто не покупал – разве что горсточка американских марксистов. Десять лет спустя ей было суждено завоевать известность как одному из величайших в мире классических произведений о революции. Что касается русских, то с тех пор Джек Лондон стал для них просто богом. Как ни зло нападала на «Железную пяту» капиталистическая печать, еще злее была печать социалистическая, год тому назад бранившая его за то, что, не считаясь с уймой дел на родине, он уплывает на своей роскошной яхте. Сейчас его обвиняли в том, что он предает свое дело, вызывает в народе враждебное отношение к социализму, проповедуя кровопролитие; восстанавливает против себя даже членов партии, настроенных мирно и желающих, чтобы социализм внедрялся в жизнь постепенно, через органы образования и законодательства, путем голосования, а не ценою смерти на баррикадах. Да, в апреле капиталистическая и социалистическая печать единодушно называла его угрозой для общества[12], однако три месяца спустя социалисты не только простили его, но даже предложили выставить свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов от социалистической партии. Верный своему слову, Джек вернулся вместе с Чармиан на «Марипозе», чтобы продолжать семилетнее путешествие вокруг земного шара. 9 апреля он ушел на «Снарке» с Таити и взял курс на Бора-Бора, эту жемчужину Полинезии. На Бора-Бора он бил рыбу камнем вместе с местными рыбаками; на Райатеа жил среди коренных полинезийцев, осыпавших его обильным дождем подарков и угощений со щедростью, неведомой в цивилизованных странах. В Паго-Паго его принимал у себя туземный король. Направляясь далее, в Суву, к островам Фиджи, «Снарк» попал в штормовую полосу и на несколько дней сбился с курса, так как хронометр вышел из строя. До Сувы, столицы островов Фиджи, добрались в июне, здесь капитан Уоррен, покинув «Снарк», крайне нуждавшийся в ремонте, сошел на берег и не вернулся. Еще в мае капитан впал в грусть, дважды прерывавшуюся приступами буйства. Что ж, Джек отослал ему вслед пожитки, и с той поры сам вполне благополучно справлялся с обязанностями капитана. Он путешествовал по Соломоновым островам, жил на копровых плантациях, в самой чащобе, «на грани неприкрытой вопиющей дикости – другого такого местечка не сыщещь на всей земле». На Малаите, где от руки дикаря не у одного белого слетела с плеч голова, Джек вместе с друзьями отправился на корабле «Минота» вербовать бушменов для каторжной работы на плантациях. Однажды на него напали из засады людоеды, собиравшиеся разграбить и потопить судно, а белокожим членам экипажа устроить «каи-каи», то есть снять головы, а с телами расправиться по своему вкусу. Судно едва не наскочило на риф, и тут его с воплями атаковали полчища чернокожих, стрелявших отравленными стрелами. Когда «Минота» первый раз наскочила на подводную скалу, вокруг не было видно ни одного каноэ, но внезапь о, подобно стервятникам, кругами слетающимся к добыче, каноэ стали появляться невесть откуда, со всех сторон. Команда с ружьями наготове задержала туземцев на расстоянии ста футов, угрожая смертью, в случае если они рискнут приблизиться. Плотным строем, черные и зловещие, удерживая свои каноэ веслами, они не отступали с опасной линии, где разбивались волны прибоя. Это действительно было приключение, достойное того, кто в юности на «Рэззл-Дэззл» никогда не брал рифы, кто четыре раза останавливал на ходу трансконтинентальный экспресс, переправлялся на лодке через пороги Белой Лошади и в туземной джонке пересек Желтое море! «Вот жизнь так жизнь!» – восклицал он. Джек вел подробные записи, фотографировал, на каждом острове искал для своей коллекции туземные каноэ, весла, раковины, резные деревянные вещицы, копья, трубки, чаши, циновки, драгоценности, ткани из тапы, кораллы и туземные украшения, которые по возвращении в Глен-Эллен составили целый музей. И где бы он ни был – на Фиджи, Маркизах, Самоа, – если можно было собрать хоть десяток белых, он выступал перед ними со своим докладом о революции. Вокруг свирепствовали проказа, слоновая болезнь, малярия, стригущий лишай, гари-гари (кожная болезнь, вызывающая страшнейший зуд), Соломонова болезнь, или фрамбезия, накожные язвы и сотни других тропических заболеваний. «Снарк» превратился в плавучий лазарет. Стоило комунибудь из команды невзначай споткнуться на палубе и заработать синяк, стоило поцарапать себе ногу, втаскивая на берег лодку или пробираясь сквозь джунгли, как по всему телу расползалась кожная болезнь, причем отдельные язвы были величиной с серебряный доллар. На Соломоновых островах весь экипаж заболел малярией. Иной раз лежали с приступов пятеро, и шестому ничего больше не оставалось, как самому вести «Снарк» в любую погоду. У Джека приступы случались так часто, что он столько же времени проводил в постели, глотая хинин,сколько был на ногах. По путр на Фиджи он раза два поскреб места, искусанные москитами, и тело его покрылось язвами и сыпью. Но даже эти неприятности его только радовали, представляясь в романтическом свете – трудностями, достойными исследователя дальних стран, неустрашимого и неотвратимого белого человека, завоевавшего весь мир. Ему нравилось называть себя врачомсамоучкой. Он рвал зубы, лечил открытые язвы Чармиан и Мартина Джонсона сулемой, насильно заставлял кока Уоду глотать хинин – кок заболел тропической лихорадкой и с восточным фатализмом готовился умереть. За исключением тех дней, когда Джека валила с ног малярия, он строго держался раз и навсегда установленного порядка: каждое утро – тысяча слов. Чармиан, так же ревностно, как и он, выполнявшая свои обязанности, печатала на машинке его рукописи и составляла под диктовку ответы на многочисленные письма. Действие «Приключения» – единственного романа, вывезенного Джеком с Южных морей и стоившего ему многих месяцев кропотливого труда, – протекает на одной из копровых плантаций, где он жил во время пребывания на Соломоновых островах. Защищаясь от критиков, выразивших недовольство по поводу этого «вопиющего, неприкрытого дикарства» , Джек заявил, что изображает лишь то, что видел собственными глазами. К сожалению, достоверность – не все, что требуется для жизненного, убедительного литературного произведения. «Приключение» – занимательная вещица для читателя, стремящегося уйти от действительности, но такую с равным успехом мог бы написать добрый десяток его современников. Роман вышел сериями в журнале «Популярный» – подписчики этого издания не могли, увы, похвастаться тонким литературным вкусом, затем появился отдельной книгой и скоропостижно скончался. Очерки, собранные позднее в «Путешествии на «Снарке», – это красочно и смело написанные путевые заметки, они составлены в теплой, подкупающе дружеской манере, так безошибочно отражающей натуру Джека Лондона, но никому – и в первую очередь самому Джеку – не пришло бы в голову приписывать им подлинные литературные достоинства. Сейчас, на борту «Снарка», а также и в последующие годы Джек создал тридцать рассказов, посвященных жизни на Южных морях. И хотя некоторые из них действительно хороши (такие, как «Дом Мапуи», «Язычник», «Кулаупрокаженный», «Чун-а-чун» и «Ату их, ату!»), читатель как бы сидит где-то в стороне и дивится, наблюдая редкое зрелище, похожее на туземное интермеццо. Рассказы о «неотвратимом белом человеке», приручающем черных дикарей и берущем на откуп весь мир, увлекательны и пропитаны экзотикой, но в них нет почти ничего, что могло бы вызвать всеобщий интерес. Трудно сливаться воедино с героем, жить, сражаться и умирать вместе с ним, как это бывает, когда читаешь о героях Аляски, соотечественниках Лондона – американцах. Что касается похождений на Южных морях, кому они важны, если не считать его самого? Социалисты критиковали Джека Лондона за то, что он уезжает, когда на родине так много работы. Они были правы в более глубоком смысле: самые немудреные вещи Лондона, посвященные своему народу, его обычаям, его судьбам, создают нашу литературу, остаются с нами не только для того, чтобы оживить воспоминания, но чтобы, расширяя кругозор, углубить любовь к печатному слову. Путешествие на «Снарке» многократно окупилось, если речь идет о Приключении. Было ли оно вкладом в сокровищницу литературы? Едва ли. Впрочем, это не слишком беспокоило Джека. «Я всегда за то, чтобы частицу жизни, заключенную во мне, ставить выше искусства или любого другого явления, находящегося вне моего существа», – любил говорить он. Соблюдая строгую дисциплину в работе, он прилагал героические усилия к тому, чтобы содержать в порядке и свои дела. Он задумал построить около Уэйк Робина домики, чтобы по возвращении принимать в них друзей, и написал миссис Эймс письмо на девяти страницах, содержащее инструкции и множество технических сведений по строительной части. Где-то там, за тысячу миль, на Соломоновых островах, он обдумывал такие детали, как, скажем, в какую сторону должна открываться каждая дверь, где будет туалет, а где умывальник. Он отправлял помощникам ясные, логичные, исчерпывающие письма, но чем больше указаний он давал, тем в больший беспорядок приходили дела. Он еще не уяснил себе, что всякий, кто зарабатывает от двадцати до тридцати тысяч долларов в год, ведет большое дело и, стало быть, должен держаться поближе к «фабрике». Случалось, что его нью-йоркский доверенный отдавал рассказ какомунибудь английскому журналу, а в это время Нинетта Эймс устраивала его в американский журнал. Джек уже истратил гонорар, полученный от американского журнала, а тот гневно требует возврата денег: его обманули, лишив прав на издание этой вещи в Англии. Американские и английские издатели грызлись друг с другом, оспаривая права на распространение его книг в колониях, – это в результате тормозило дело. Издатели, которые не отказались бы приобрести его рассказы и очерки, если бы можно было тут же уладить кое-какие детали, теперь отсылали его рукописи обратно, потому что на переговоры с автором, который находится на Соломоновых островах, уходит слишком много времени. Его цена на книжном рынке поднялась; такие журналы, как «Космополит» или «Кольерс», платили ему за рукопись от пятисот до шестисот долларов. Но теперь, когда издатели перестали покупать его вещи, Нинетта Эймс начала распродавать его рассказы и статьи «вразнос», как уличная торговка рыбой: «А ну, кому Джека Лондона? Сколько за рассказ?» – и сколько ни предложат, отдавала. Издатели быстро почуяли, что рукописи Джека Лондона выбрасывают на на рынок в панике, и стали вообще воздерживаться от их приобретения. Книжный рынок оказался забитым его произведениями, все источники заработка мгновенно иссякли. Неистовые письма Нинетты Эймс, посланные Джеку в этот период, – сотни и сотни напечатанных на машинке страниц – представляют собой поразительный документ. Семейное сходство с теми сотнями напечатанных страниц, которые пять лет назад посылала Джеку ее племянница, заметно с первого взгляда. Витиеватые, цветистые, обильно сдобренные сахариновыми заверениями в вечной любви, преданности и готовности на любые жертвы, – и в каждой строчке чувствуешь мертвую хватку стальных пальцев. К своему Уэйк Робину Нинетта Эймс пристроила еще одно крыло, а когда Джек снова поселился в Глен-Эллене, она брала с него деньги за комнаты, построенные на его же средства. Она вторично набавила себе жалованье – на этот раз до тридцати долларов в месяц, причем Джека поставила об этом в известность задним числом, осведомившись, намерен ли он вообще платить ей хотя бы прожиточный минимум? Измученный этими выпадами, Джек запротестовал; «Я всегда гордился тем, что как только у меня появился первый доллар, я платил по совести каждому, кто оказал мне хотя бы небольшую услугу». Из месяца в месяц Нинетта Эймс плакалась, что бедствует, терпит лишения, что не в состоянии вернуть сумму, одолженную у Джека перед отходом «Снарка». В конце концов Джек написал: «Мой вклад в Оклендском банке не приносит процентов. Пожалуйста, располагайте им в случае необходимости». Чековые книжки ясно показывают, что миссис Эймс поймала его на слове: здесь сотни чеков – санаториям, врачам и аптекам; чеки за наряды, мебель и ремонты Уэйк Робина; счета от бакалейщиков и гастрономов на такое количество продуктов, что ими можно было бы прокормить обитателей солидного отеля. Все это происходило если и не с его ведома, то по крайней мере с его недвусмысленного разрешения. А вот о чем он не знач, так это о том, что из каждого доллара, истраченного на ранчо Хилла, три четверти уходят впустую. Он заплатил за постройку массивного каменного корпуса для нового амбара, а пять лет спустя, когда в Глен-Эллене случилось землетрясение, стены треснули, и он убедился, что их нельзя назвать полыми только потому, что рабочие после еды кидали в простенок консервные банки и прочие отбросы. Потом всплыла история с оборудованием для ванной комнаты в доме десятника: Джек заплатил сполна за новое, а когда оборудование сгрузили у Глен-Элленской станции, оказалось, что это какое-то никому не нужное старье. Но самым тяжелым ударом было то, что миссис Эймс перестала посылать ежемесячные отчеты. В мучительной тревоге он пишет ей с Пенрина, наставляя, как справиться с десятками деловых осложнений, и жалуясь, что она выслала отчеты только за февраль и май, хотя в 1908 году не было месяца, когда бы она ему не писала. Но тут среди всей этой неразберихи Нинетта Эймс провела удачную деловую операцию, и Джек все ей простил. Она передала «Тихоокеанскому ежемесячнику» право на издание выпусками романа «Мартин Идеи» за княжескую сумму – семь тысяч долларов. Это не только покрыло все долги, но и оставило Джеку несколько тысяч. К ранчо Хилла в долине Сонома примыкали виноградник Колера в восемьсот акров и ранчо Ламотт в сто десять. В течение многих месяцев Нинетта Эймс упорно напоминала Джеку, что виноградник продается за тридцать тысяч долларов – почти даром, и не менее упорно повторяла, что за десять тысяч можно купить ранчо Ламотт. Джеку не было ни малейшего смысла покупать это ранчо – у него уже было сто тридцать акров великолепной земли, на которой он пока что не провел ни одной ночи. Еще пять лет он собирался плавать вокруг света. Семь тысяч, только что полученные за «Мартина Идена», спасли от грозившего разорения. Но вспомнилось холмистое, поросшее секвойей ранчо Ламотт, вспомнились счастливые часы, когда он верхом спускался в эти ущелья, поднимался по тропинкам, бегущим сквозь виноградники, среди земляничных деревьев… С обратной почтой Нинетта Эймс получила распоряжение приобрести для него ранчо Ламотт. Около трех тысяч она внесла сразу, а под остаток заложила землю. Плавая на своем кече среди Соломоновых островов, собираясь в ближайшее время посетить Японию, Индию, Суэцкий канал, не зная, удастся ли поместить куда-нибудь только что законченный рассказ, оплатить завтрашние счета, Джек стал теперь обладателем двухсот сорока акров красивейшей земли в предгорьях Калифорнии. В сентябре 1908 года разыгрывать из себя врача-самоучку уже не доставляло никакого удовольствия: у него начали отекать руки; лишь мучительными усилиями удавалось сжать пальцы. Потом с них стала сходить кожа – сначала один слой, затем второй, четвертый, шестой… Страдания не прекращались ни на секунду. Врачи не могли понять, что это за странное заболевание. Началось общее нервное расстройство; он то и дело впадал в полную беспомощность, не мог даже передвигаться по палубе от страха, как бы не пришлость схватиться за что-нибудь больными руками. Нервное расстройство отразилось и на душевном состоянии: вернулась мания преследования – против него что-то замышляют, все сговорились помешать ему завершить кругосветное путешествие. Джека не испугали лишения и опасности; расходы и насмешки только укрепили решимость. Но болезнь в конце концов сломила его. Обессилев, он сговорился с одним отставным капитаном, что тот будет присматривать за «Снарком» и заказал для себя, Чармиан, Мартина Джонсона и Накаты места на пароходе «Накомба», уходящем в Сидней. В ночь перед отплытием он поднялся один на «Снарк». Полная луна освещала палубу судна, идея которого зародилась в его мозгу, которое выросло под его руками. Ему была дорога здесь каждая мелочь, он любил в «Снарке» даже его слабости и недостатки. Ведь и они – дело его рук. Кеч оправдал каждый вложенный в него доллар, каждую каплю энергии, растраченной из-за него, все оскорбления и издевательства, которые вытерпел Джек. Временами «Снарк» своевольничал, блуждал где вздумается; порой не справлялся со своими обязанностями. И все-таки он славно послужил хозяину, послушно пронес его целым и невредимым сквозь тысячи миль океанских просторов, подарил ему богатые экзотические впечатления, которые он будет вспоминать в пасмурные, скучные дни. Вместе, не дрогнув, смотрели они смерти в лицо, вместе сражались со штормами, держались, когда их хлестало дождем и ветром; лежали недвижимо в экваториальной штилевой полосе; грелись под ярким, чистым солнцем, радуясь соленому воздуху моря. «Снарк» был добрым товарищем, и Джек больной рукой любовно погладил на прощанье его перила, снасти, мачты и смахнул искреннюю, сентиментальную слезу, чувствуя, что так и следует расставаться друзьям. Двадцать мучительных дней в море – и он ложится в сиднейскую больницу. Пять недель на белой больничной койке. Австралийские специалисты поставлены в тупик: такого заболевания, оказывается, еще не знала история медицины. «Я беспомощен, как ребенок. Руки то и дело распухают и становятся вдвое толще обычного; при этом с них одновременно сходит семь слоев отмирающей кожи. Ногти на ногах за сутки становятся такими же в толщину, как в длину». Убедившись, что в больнице ему не помогут, Джек следующие пять месяцев прожил в Сиднее – сначала в гостиницах, потом снимал квартиру – в надежде, что какое-нибудь лечебное средство даст ему возможность вернуться на «Снарк». Писать он не мог – куда там! Он испытывал такую боль, что и читал-то с трудом. Репортаж о спортивной борьбе Бернса с Джонсоном – вот единственное, что ему все-таки удалось сделать в Австралии. Улыбка, о которой всего год назад писали, что она «не сходит с егс лица», исчезла бесследно: теперь это был просто молодой человек, удрученный и обескураженный необъяснимой болезнью. В начале мая 1909 года стало очевидно, чю, если Джек Лондон не поедет домой, кости его неминуемо останутся в тропиках – так же неминуемо, как если бы новогебридские бушмены отрезали ему голову и устроили «каи-каи». Он послал Мартина Джонсона вместе со штурманом на Соломоновы острова, с тем чтобы они привели «Снарк» в Сидней. «Я оставил «Снарк» на попечение пьянчуги – капитана торгового судна, и к тому времени, как кеч привели в Сидней, на нем чертовски мало осталось. Я до сих пор гадаю, что случилось с моими автоматическими винтовками, с корабельным имуществом, охотничьими дробовиками, двумя фотоаппаратами и тремя тысячами французских франков». Джек забрал со «Снарка» свои личные вещи, и судно было продано с аукциона за три тысячи долларов. По иронии судьбы оно досталось вербовщикам, набиравшим среди жителей Соломоновых островов работников для каторжного труда на плантациях – такой конец постиг судно, построенное одним из ведущих социалистов мира. 23 июля 1909 года, возвратившись в Сан-Франциско после двух с лишним лет странствий, он заявил корреспондентам на пристани: «Я невыразимо устал и приехал домой хорошенько отдохнуть». Он был задавлен чудовищным бременем долгов, здоровье было сильно подорвано, американские газеты были настроены либо враждебно, либо безразлично; редакторы журналов получили от Лондона за последний год слишком мало настоящих вещей и подозревали, что он окончательно выдохся. Даже читателям наскучили его последние вещи, его вполне основательно обвиняли в том, что из трех героев Джек Лондон к концу рассказа убивает четырех. Это было так, как если бы, неудачно управляя судном, Джек посадил его на тропический коралловый риф, где его медленно разбивала на части тяжелая волна.IX
По пути из Сиднея Джеку стало лучше. Плыли не спеша, через Южную Америку, через Панаму. Дома умеренный калифорнийский климат быстро вернул его к нормальному состоянию. Случайно наткнувшись на книжку под названием «Влияние тропического освещения на белых» и узнав, что в его загадочном заболевании нет ничего зловещего – кожа его, оказывается, разрушалась под воздействием ультрафиолетовых лучей тропического солнца, – Джек успокоился, и этот психологический перелом ознаменовал его полное выздоровление. В августе он уже плавал в рунье, на котором он снова устроил запруду, и объезжал верхом на Уошо Бане ранчо Хилла и Ламотт, вдыхая горячие целебные запахи шалфея, и сосны, и родной, опаленной солнцем земли. Строить домики для гостей – те самые, о которых он писал миссис Эймс с Соломоновых островов, – никто и не думал; поэтому Джек опять поселился в Уэйк Робине, в крыле, построенном за его отсутствие. Не такой он был человек, чтобы таить обиду за старое зло: он отпустил Нинетту Эймс с почетом, купил ей Рыбье ранчо в семнадцать акров величиной, чтобы у нее был выгон для коровы, а когда она развелась с Роско Эймсом и вышла замуж за Эдварда Пэйна, подарил ей свадебный туалет и пятьсот долларов в придачу. Ухаживал за ним и готовил смышленый Наката, Чармиан охраняла его уединение, а Джек всерьез засел за работу. Прежде всего нужно было во что бы то ни стало привести в порядок дела: он забрал с книжного рынка все свои рукописи и сообщил издателям, что приехал домой надолго, привез великолепный материал и что отныне всякие недоразумения кончились. В течение трех месяцев в журналах не появилось ни строчки за его подписью – впервые со времени появления «Северной Одиссеи» на заре столетия американские читатели остались без Джека Лондона. Эти месяцы он посвятил героическому труду: ежедневно двенадцать часов напряженной работы, семь рабочих дней в неделю – расписание, которому он подчинил себя еще в ученические дни. Он знал, что вернуть расположение читателя труднее, чем завоевать. Издатели и критики говорят, что он выдохся, что он расстрелял все свои патроны, что он надоел публике. Прекрасно! Он знал, что едва притронулся к запасу прекрасных, волнующих историй, которые ему суждено поведать. Вышел в свет «Мартин Идеи», и, хотя это произведение заслуживало лучшего приема, чем все остальные книги Лондона, недружелюбно настроенные критики либо ругали его, либо высказывались пренебрежительно. Бретт не нашел в отзывах печати ни одной хвалебной строки для рекламы. Джек жаловался, что критики не поняли его, что рецензенты обвиняют его в том, что он отошел от социализма и выставляет в соблазнительном свете индивидуализм, в то время как на самом деле его книга разоблачает ницшеанскую философию сверхчеловека. На экземпляре «Мартина Идена», посланном в подарок Элтону Синклеру, он написал: «Одной из основных идей при создании «Мартина Идена» было осуждение индивидуализма. Должно быть, я плохо справился с работой, потому что именно этой идеи не заметил ни один рецензент». Нет, он справился с работой. Просто-напросто он написал такую захватывающую историю человеческой жизни, что растерял где-то по пути свои противоречивые философские взгляды. Если бы он знал, что «Мартину Идену» суждено вдохновить целое поколение американских писателей, что через тридцать лет эта книга будет признана величайшим американским романом, – он не был бы так огорчен этой более чем холодной встречей. Чем глубже он залезал в долги, тем лучше работал; чем больший перевес был на стороне неприятеля, тем с большим пылом он бросался в бой. Приступил к смело задуманному роману «Время-не-ждет», посвященному Клондайку и Сан-Франциско; написал четыре рассказа о Южных морях – из числа лучших; написал «Самуэля» и «Морского фермера» – две волнующие истории, написанные на народном диалекте: действие их происходит на ирландском побережье. Гнев всегда был одной из самых могучих его движущих сил. Он был в бешенстве: чуть не довел себя до гибели, а тут еще критики объявили, что он выжатый лимон, – было от чего прийти в ярость! После издания двадцати томов всепоглощающий восторг творчества несколько притупился, теперь он выполнял ежедневную норму под давлением обстоятельств. В последующие семь лет этот гнет неизменно оставался таким тяжелым, что невольно начинаешь подозревать: быть может, Джек нарочно не вылезал из долгов, потому что это шло на пользу работе. «Я мерно двигаю свой роман по тысяче слов в день, и нарушить мой график может разве что трубный глас, зовущий на Страшный суд». Он работал так добросовестно и плодотворно, что к ноябрю завершил лучший свой рассказ о боксерах – «Кусок мяса», и, отдав его за семьсот пятьдесят долларов журналу «Сатердей ивнинг пост», заключил договор, что в будущем году представит еще двенадцать рассказов. Закончив «Время-не-ждет», он за семь тысяч продал права на серийное издание нью-йоркской «Геральд». Заручившись исключительным правом на переиздание романа, продавая его столько раз, сколько газет выразили желание его приобрести, «Геральд» стала печатать горячие поощрительные статьи, посвященные Джеку Лондону и его роману, а сотни газет, покупающие серийные права, перепечатывали эти статьи. Эта доброжелательная кампания в печати нейтрализовала насмешки и оскорбления, которые он терпел в последнее время. «Время-не-ждет» стоит в одном ряду с такими значительными представителями американского романа, как «Зов предков», «Морской волк», «Железная пята», «Мартин Идеи», «Джон Ячменное зерно», «Лунная Долина» и «Межзвездный скиталец». Первая треть романа, рассказывающая об истории Аляски до того, как в Клондайке открыли золото, о том, как Время-не-ждет мчался за почтой из Серкл Сити в Дайю, – самые пленительные страницы, написанные о морозном Севере. Описание красот ГленЭллена – последняя треть романа – открывает нам, как преданно автор любит природу и как она, в свою очередь, открывает ему свою прелесть, свое тонкое очарование. Но подлинное достижение Лондона СОСТОИТЕ том, с каким искусством он вплетает свои социалистические воззрения в среднюю часть романа «Время-не-ждет», написанного якобы как вещь фабульная, приключенческая. Философия становится неотъемлемой частью действия, захватывает читателя; сам того не подозревая, он впитывает ее в себя как нечто естественное и необходимое по ходу повествования. Жестоко расправляясь с разбойниками – бизнесменами города Сан-Франциско, Время-не-ждет – пират, белокурая бестия в духе Ницше – размышляет: «Из поколения в поколение источником всех богатств остается труд. Будь то мешок картошки, рояль или семиместный автомобиль – все это породил труд, и ничто другое. Мошенничество начинается потом, когда доходит до дележки. Сотни тысяч людей ломали головы, замышляя, в какую лазейку пролезть, чтобы оказаться между рабочими и созданным ими богатством. Этих ловкачей называют бизнесменами. Размер куска, который себе отхватит такой ловкач, определяется не законами справедливости, а величиной кулака и степенью свинства. Тут всегда действуют по принципу: «Хапай больше». Отъявленное кощунство – вот чем были эти слова для еще не пробудившейся Америки 1910 года – слова истинно пролетарского писателя. И так как мнения писателя не навязаны извне, а как бы органически вливаются в наблюдения и выводы героя, эта вещь, не теряя своей политической направленности, является одновременно и произведением искусства. Когда вышла «Железная пята», Джека корили за то, что ради пропагандиста средней руки он загубил первоклассного романиста. Джек тогда возражал: он может слить пропаганду и искусство так тесно, что читатель и не догадается, где проходит граница. В романе «Время-не-ждет» он успешно справился с этой труднейшей задачей. Миллионы читателей с увлечением следили за подвигами героя «Время-не-ждет», и Джек Лондон вновь завоевал расположение читателя – как социалистического, так и буржуазного. Подтвердилось его твердое убеждение, что он не утратил и капли творческих сил! А тут Чармиан объявила, что ждет ребенка, – событие, которое хочется отметить пушечным салютом! И Джек взялся за осуществление еще одной величайшей мечты своей жизни. Он начал строить дом, где рассчитывал прожить до конца своих дней. Для постройки он выбрал изумительный участок в одном из каньонов ранчо Хилла, окруженный секвойями, виноградниками, черносливовыми садами, мансанитовыми лесами. Здесь хватит места для четырех тысяч томов, собранных в его библиотеке, для несметного множества белых картонных коробок, по которым он раскладывал официальные бумаги, социалистические брошюры, вырезки из газет, заметки о национальных диалектах, именах и обычаях; стихотворения, которые по-прежнему подшивал в папки с красным переплетом. Здесь поместятся набитые до отказа стальные архивные корзинки для деловой и личной корреспонденции и ряды черных узких ящиков, – по тридцать в высоту, – в которых он хранил свои сокровища – сувениры времен Дороги и Аляски, сувениры, привезенные из Кореи и с Южных морей; сотни шуточных игр, головоломок, водяных пистолетов, монет с орлом или решкой на обеих сторонах, колоды каких-то особенных карт. Здесь можно будет с комфортом разместить гостей, создав для них такие современные удобства, как электрическое освещение и водопровод в каждой комнате, и устроив в прохладном полуподвале огромную комнату отдыха исключительно для мужчин, в которой можно было бы и всерьез потолковать о политике и рассказать анекдот, сыграть в шары, в покер, сразиться на бильярде, шуметь и дурачиться сколько душе угодно. Здесь будет прелестная музыкальная комната, где смогут музицировать Чармиан и многочисленные друзья-музыканты; громадная столовая, куда будут сходиться пятьдесят человек, чтобы насладиться отлично приготовленными кушаньями и приятной беседой; отделанная секвойей спальня самого хозяина, где будет достаточно места для хитроумно задуманного ночного столика, на котором разместятся все атрибуты, приготовленные Накатой на ночь, – а то сейчас на нем так тесно, что ледяное питье вечно проливается на книги. Здесь у него наконец-то будет удобная рабочая комната, с диктофоном и со специально отведенным местом для опытного секретаря. Он утверждал, что строит себе «родовой замок». Индейцы с Аляски называли белокожего завоевателя «Волком», и это слово овладело воображением Джека – он всегда представлялся самому себе победителем – Волком. Он пользовался этим словом в названиях «Сын волка» и «Морской волк», подписывался «Волком» в письмах к Джорджу Стерлингу, а теперь он строил Дом Волка – дом великого вождя белокожих. Он страстно, всей душой надеялся, что Чармиан подарит ему сына, что он станет основателем династии Лондонов, которая навечно водворится в Доме Волка. Он твердо решил, что его дом непременно будет самым красивым и оригинальным сооружением в Америке, и, чтобы добиться этого, был готов на любые расходы. Дом должен быть построен из массивного красного камня, которым Лунная Долина была на редкость богата; на деревянные конструкции пойдут секвойи, насчитывающие по десяти тысяч лет. Он призвал к себе архитекторов из Сан-Франциско и провел много счастливых часов в размышлениях над синьками, уточняя расположение комнат, проектируя экстерьер так, чтобы здание органически сочеталось с холмами. В Санта-Розе он отыскал искусного каменщика – итальянца Форни и велел ему построить дом, который простоит века: каждый дюйм камня следует промыть водой и отскоблить стальной щеткой; стены должны стоять намертво – стало быть, нужно класть больше цемента и поменьше извести. Нужно, чтобы один из рабочих постоянно смачивал стены, тогда цемент не затвердеет слишком быстро и не рассыплется в порошок. Перекрытия между этажами должны быть двойные, а кое-где тройные; внутренние перегородки будут из цельных бревен, причем для большей прочности наружные бревна прикрепляются к стойкам болтами; желоба на крыше нужно сделать медными, все водопроводные трубы – тоже. Как ярый индивидуалист, он собирался выстроить для себя грандиознейший замок в Соединенных Штатах. Как социалист, он был намерен обеспечить строителей хорошей работой и отвести большую половину двадцати трех комнат для гостей. Чтобы ускорить дело, Форни было дано распоряжение поставить на постройку тридцать рабочих. Весной 1910 года Джек предпринял на редкость мудрый шаг: пригласил к себе на постоянное жительство Элизу Лондон-Шепард и передал в ее ведение свои ранчо. Миссис Шепард было уже сорок три года. Немало горя и душевных невзгод пришлось ей хлебнуть с той поры, как она оставила отцовское ранчо в Ливерморе. Это была милая женщина, по-прежнему невзрачная и непритязательная, честная, умелая и практичная. Чтобы помогать мужу вести бюро патентов, она по собственному почину стала юристом. Простая, без вздора, без ужимок и претензий, она пользовалась всеобщей симпатией и год за годом оставалась верным другом Джеку, любя его такой же нежной любовью, как родного сына Ирвинга. Стоило Элизе взять в руки бразды правления, как ее обязанности сразу же усложнились: Джек купил те самые Колеровские виноградники, о которых так часто слышал от Нинетты Эймс, плавая на «Снарке», – участок в восемьсот акров, соединяющий ранчо Хилла, Ламотт и Рыбье. Виноградники обошлись ему в тридцать тысяч долларов, а в его распоряжении находилась самая незначительная часть этих денег – ведь уже началось строительство Дома Волка, и оно по смете тоже должно было обойтись в тридцать тысяч. Что побудило его прикупить эти восемьсот акров, когда платить было нечем, когда у него и так было сколько угодно замечательной земли: живи, возделывай, наслаждайся? Да просто так, может быть, показалось дешево: каких-то там тридцать тысяч – и столько чудной земли. Его два ранчо сольются воедино, куда ни кинешь взор, всюду он полновластный хозяин… Впрочем, Джек всегда настаивал, что трудно объяснить такие поступки. «Нравится» – и конец. «Философия целый месяц веско и нудно скрипит индивидууму, что ему надлежит делать, а индивидуум-то, не успеешь глазом моргнуть, возьмет и скажет; «А мне так нравится», – философии и след простыл. «Мне нравится» – вот что заставляет пьяницу пить, а великомученика таскать на себе власяницу; вот что одного заставляет искать славы, другого – золота, третьего – любви, а четвертого – бога». Виноградники ему понравились, вот он и купил их. В июне 1910 года снова полетели на восток неистовые письма с просьбой прислать денег. «Испытываю настоятельную нужду в деньгах ввиду того, что предстоит внести десять тысяч долларов за приобретенный мною участок. Взмолился о пощаде, и срок платежа отложили До 26 июня; но если не удастся внести деньги и к этому времени – потеряна не только земля, но и задаток». Готовясь к появлению ребенка, Чармиан уехала в Окленд. Джек поставил целое войско рабочих расчищать новую верховую тропу, которая соединяла его владения, огибая участок, где строился Дом Волка: он решил подготовить для жены сюрприз к тому дню, когда они вернутся на ранчо с сыном, – в том, что на этот раз будет сын, он не сомневался. Как приятно было часами напролет мечтать о торжественной минуте, когда, посадив мальчика на пони, он сможет бок о бок с наследником объехать одиннадцать сотен акров – будущие владения сына. 19 июня у Чармиан родилась дочь. Ребенок прожил всего тридцать восемь часов. Похоронила девочку Элиза. В неутешном горе Джек с пачкой газет под мышкой забрел в пивную на углу Седьмой улицы и Вебстерстрит, недалеко от приморских кабачков, куда он любил захаживать в старину. Малдони, хозяин, заподозрил, что он явился расклеивать рекламы в его заведении, и полез в драку; ввязались и четверо его приспешников. Когда Джек наконец сумел вырваться, он был жестоко избит. Он настоял на том, чтобы Малдони арестовали, но судья отказался разбирать дело под тем предлогом, что пьяная потасовка не имеет никакого отношения к суду. Из полицейского суда репортеры растащили историйку о «пьяной потасовке» по своим газетам, с удвоенным жаром обливая Джека потоками брани – напился, видите ли, когда жена в больнице и только что умер ребенок. Какие-то доброжелатели объяснили Джеку, почему судья не взял его под защиту; этот самый судья – владелец участка, на котором помещается пивная. Джек написал ему гневное письмо, копии которого были разосланы газетным синдикатам. В письме излагались обстоятельства дела, а в конце говорилось: «Когда-нибудь, где-нибудь, как-нибудь, но уж я до Вас доберусь – да так, что Вы до конца изведаете тяжелую кару закона». Потом он поместил объявление во все местные газеты с просьбой сообщить все, что может пролить свет на незаконную деятельность судьи – владельца участка, на котором процветает недоброй репутации заведение Малдони. Его интересовали все области, где судья мог себя скомпрометировать: политическая, юридическая, общественная. Ложное обвинение в том, что он участник пьяного скандала, было отъявленной подлостью, но, читая письмо к судье, напечатанное во всех американских газетах, люди в комическом отчаянии качали головами. Оставался лишь один-единственный способ отомстить за себя – способ старый как мир: он написал рассказ об этой истории, назвав его «Польза сомнения», и в нем отделал судью под орех. А потом продал рассказ газете «Пост» за семьсот пятьдесят долларов. Несколько дней спустя с распухшим багровым глазом он уехал в Рено, где провел десять дней: писал для нью-йоркской «Геральд» корреспонденции о тренировках в спортивных лагерях, о матче между Джонсоном и Джеффрисом. Он любил наблюдать за состязаниями боксеров; десять дней, прожитые в лагерях с другими корреспондентами, среди которых были друзья по прежней работе, смягчили горькое чувство утраты ребенка. У него возникло предчувствие, что он умрет, так и не дав жизни сыну, и эта уверенность будила сознание пустоты, бесплодности – в нем, породившем на свет двадцать четыре книги. Вернувшись в Окленд, он истратил только что заработанные деньги на покупку маленького парусного судна – четвертого в своей жизни.Судно называлось «Ромер», что значит «Скиталец»; на нем Джек собирался совершать плавания по заливу Сан-Франциско. Едва Чармиан поправилась, как они устроили каникулы на воде: работали, совершали прогулки, удили на ужин рыбу. Когда он вернулся в Глен-Эллен, соседи, надеясь услышать романтические были о Южных морях, пригласили его выступить в местном клубе Човит Холл. Со сцены он говорить отказался; тогда председатель сходил в бакалейную лавочку по соседству и принес ящик из-под мыла, оратор влез на него и стал виден аудитории. Ни словечка не услышали фермеры Глен-Эллена о похождениях на Таити, Фиджи, Самоа… Нет! Джек Лондон использовал свое время на то, чтобы постараться доказать теорию Юджина В. Дебса: «Там, где речь идет о классовой борьбе, нет и быть не может хороших капиталистов или дурных рабочих – каждый капиталист – твой враг; каждый рабочий – товарищ». Шли летние месяцы; душевные раны, нанесенные потерей маленькой дочки, заживали. Сглаживались и неприятности, связанные с оклендской историей. Самым большим удовольствием для Джека было, свистнув своему любимцу, Бурому Волку – сесть на Уошо Бана и махнуть через поля к Дому Волка – посмотреть, много ли сделано за день, потолковать с Форни, с рабочими. Разве не приятно подметить, что и рабочие, чувствуя, что помогают создавать большое произведение искусства, проникаются к дому такой же любовью, как он! Рабочие жили на ранчо в палатках. После работы они иногда поднимались на холм повыше, не забыв прихватить с собою кувшин вина и аккордеон, и под теплыми, близкими звездами пели сентиментальные итальянские песни. Ясными вечерами частенько приходил к ним и Джек – спеть вместе песню, выпить стаканчик кислого красного вина, обсудить вопросы, возникшие за день на постройке. «Джек был лучшим из людей, – рассказывает Форни. – Я не встречал никого человечнее. Со всеми добр, никогда не увидишь его без улыбки. Настоящий демократ, благородный человек, джентльмен; любил семью, любил рабочего человека. За четыре года службы я не слышал от него плохого слова – никогда!» Когда рабочие собирались ложиться спать, Джек с каждым прощался за руку, желал спокойной ночи и шел к себе через сливовый сад, вдыхая аромат плодов и листвы. Пряные запахи струились сквозь раскрытые поры жирной земли, а рядом с ним бежал Бурый Волк. Джек был беззаветно предан Чармиан. В фургоне, запряженном четверкой норовистых лошадей, он с нею и Накатой совершил поездку по самым глухим местечкам Северной Калифорнии, Орегона и Вашингтона. Чармиан по-прежнему была готова к любым приключениям, вместе с ним скакала верхом, ныряла, плавала под парусами; пела и играла для него на рояле, печатала на машинке его рукописи, писала письма под диктовку. В то же время Д жек поддерживал дружеские отношения с Бэсси: несколько раз в месяц ездил в Пьедмонт, чтобы повидаться с детьми, играл с ними, водил в цирк и в театр. «Мистер Лондон, – заявила Бэсси репортерам, – делает для дочерей все, что только возможно, и питает к ним искреннюю любовь. Находясь в Окленде, он их часто навещает; целыми часами они болтают и играют. Дети любят отца. Почему бы и нет? Что касается меня, в моем сердце нет ни горечи, ни обиды. Он и не представляет себе, как много значит для меня, что он так относится к детям». Трагическое благородство – эта черточка была всегда свойственна характеру Бэсси Маддерн. А как же Флора? По мере того как подкрадывалась старость, странности Флоры Лондон все возрастали, становясь сильнее, чем в те далекие дни, когда она вмешивалась в дела мужа. Джек купил ей дом, поселил с нею няню Дженни, чтобы та ухаживала за матерью, аккуратно высылал чек на пятьдесят пять долларов в месяц. Но, несмотря на это, она ходила в Окленде по соседям, жалуясь, что ДжекЛондон не помогает и что ей не хватает на жизнь. Ничего не поделаешь, придется что-то придумать. Она откроет пекарню – ведь соседи не откажутся покупать у нее домашний хлеб. Соседи сокрушались от всего сердца. Господи, как можно так бессердечно обращаться со старушкой матерью! Ничего себе сынок, да еще богатый и знаменитый! Конечно, они с радостью будут брать ее домашний хлеб – по буханке в день. Прекрасно! Флора покупает печь и берется за дело. Из уст в уста новость быстро облетела весь Окленд, и городок пришел в ужас. Ломая голову, как бы умерить деятельность своей матушки, Джек написал ей самое терпеливое и нежное письмо, читая которое нельзя не пожалеть автора: «Дорогая мама! Мне только хочется привести тебе несколько цифр и соображений относительно твоей пекарни. В самый удачный месяц ты выручила семь долларов пятьдесят центов чистой прибыли. Двадцать шесть долларов стоила печь. Если в течение трех месяцев весь твой доход – семь с половиной долларов в месяц – пойдет в уплату за печь, ты, стало быть, три месяца будешь трудиться напрасно. В то же время, поскольку ты уже ничего не сможешь делать по дому, тебе нужно будет кого-то пригласить, а это обойдется не меньше тех семи с половиной долларов, которые приносит выпе чка хлеба…» Он слишком хорошо знал мать, чтобы взывать к ее чувствам, объяснять, что она порочит его имя. Отговорить ее можно было, только апеллируя к ее, как она любила выражаться, «деловому чутью». Письмо подействовало: Флора отказалась от затеи с хлебом. Но где же найти приложение своей неиссякаемой энергии? Идея! Она откроет газетный киоск на Бродвее. Джек едва успел вмешаться и пресечь деятельность в новом направлении. Вскоре на ранчо зачастили кредиторы со счетами за Флорины покупки – и зачем только они ей понадобились? Почетное место среди них занимали…бриллианты стоимостью в шестьсот долларов. Джек был неизменно ласков с матерью, посылал ей с трогательной надписью каждую новую книгу, ни разу не заикнулся о том. какой вред наносит она ему своими эксцентричными выходками. Но его не покидал страх: а какие еще новые «прожекты» зародятся в ее голове, что таит этот непроницаемый цепкий взгляд за узкими стеклами стальных очков? Со временем его стало мучать страшное подозрение, что мать всегда была не совсем нормальной. И в то же время – так странно сочетаются воедино человеческие черты – в памяти Джонни Миллера Флора осталась лучшей из женщин, нежной, любящей, абсолютно здравомыслящей, его матерью и другом; те, кто брал у нее в этот период уроки музыки, вспоминают, что это была приятная, милая старая дама. За любой рассказ газета «Пост» теперь платила ему семьсот пятьдесят долларов, «Кольерс» предлагал тысячу, «Геральд» – семьсот пятьдесят за маленький рождественский рассказ; с журналом «Космополит» он подписал договор на серию рассказов о Смоке Беллью, так он назвал героя; каждый рассказ – семьсот пятьдесят долларов. Макмиллан выпустил «Потерянный лик», сборник коротких рассказов, «Революцию», сборник очерков и «Время-не-ждет». «Потерянный лик» вызвал заслуженно теплые отзывы; это был удачный юмористический рассказ об Аляске, а наряду с ним – и «Поручение», «Меченый», «Исчезновение Маркуса О'Брайена» и такие страстно-драматические вещи, как «Блеск золота» и «Костер». Таких вершин мастерства он не достигал со времени «Сына волка» и «Бога его отцов», первых своих сборников коротких рассказов. К «Революции», сборнику разнородных и неровных по качеству очерков, отнеслись равнодушно, зато отрадно было видеть, какприняли «Время-не-ждет» – впрочем этого можно было ожидать. Сочетая в себе силу, энергию, сосредоточенность и, наконец, талант, он совершил то, что по плечу лишь титану: из глубин пропасти, где на дне ждет смерть и разрушение, поднялся на такие высоты, каких не достигал ни один писатель Америки, и ушло на это меньше года. Жить кое-как в Уэйк Робине, на правах временных постояльцев становилось невмоготу. Пока достроится Дом Волка, пройдет не меньше двух лет, это было очевидно. И вот в июне 1911 года Джек решился на поступок, с которым оказались связанными самые счастливые и плодотворные годы его жизни, – купил расположенный в центре Колеровских виноградников участок земли, на котором с гояла пустующая винодельня, запущенный дом и несколько подсобных строений. Джек распорядился, чтобы каменщики пристроили к дому поместительную столовую с огромным камином и широкую веранду для отдыха, затем расширил кухню и отремонтировал спальни и веранды, тоже служившие спальнями. Одну из комнат он приспособил под кабинет: уставил стены полками для книг, бумаг и картонных коробок с картотекой. Закрытая маленькая терраса, где он спал, выходила в уединенный тропический садик, разбитый перед домом; задняя веранда – на просторный двор, за которым стоял громадный амбар, частично переделанный под помещение для гостей, – девять уютных комнаток. Наката стал главным управляющим и нанял еще двух работниковяпонцев; одного – готовить другого – убирать. Дом на ранчо с самого начала оказался счастливой находкой: здесь каждый чувствовал себя просто, свободно и мог веселиться как вздумается. Еще в Уэйк Робине все дачи и палатки были заполнены друзьями и близкими Джека – ни одна койка не пустовала. Тут были Джордж Стерлинг, и Клаудсли Джонс, и Джемс Хоппер, товарищи-социалисты, анархисты, корреспонденты, матросы, бродяги и еще какие-то приятели, не подходившие ни к одной категории. Теперь, когда создались подходящие условия, Джек стал созывать в гости весь белый свет. Каждый день сделался «средой открытых дверей». Кто бы ни приехал на Запад – артист, литератор или философ, он обязательно хоть на пару дней заезжал на Бьюти Ранч – Ранчо Красоты – так Джек назвал свою усадьбу. В каждом из десятков тысяч писем, которые он отправил с ранчо, – а значительная доля была адресована тем, кто ссорился и враждовал с ним, кто оскорблял его, – он никогда не забывал сделать приписку: «Щеколды на воротах легко открыть снаружи, а одеяла и еда на Ранчо Красоты для друзей всегда найдутся. Приезжайте погостить и живите сколько захочется». Желающих принять приглашение было так много, что Джек был вынужден напечатать специальный проспект с указанием, как добраться в Глен-Эллен из СанФранциско и Окленда. Редко случалось, чтобы за поместительным – «резиновым» – обеденным столом собиралось меньше десяти гостей, а частенько бывало и двадцать, если не больше. Как-то раз, например, за обедом встретились Хайар Дайалл, основатель диалистского движения индийцев против англичан, один американский писатель-романист, профессор математики Станфордского университета, сосед-фермер, инженер Лютер Бербанк, матрос, только что возвратившийся с острова Пенанг, принцесса Ула Хамфри, актриса, побывавшая в султанском гареме, трое бродяг и какой-то сумасшедший, который собирался строить дом от СанФранциско до Нью-Йорка! Каково бы ни было общественное положение гостей, всех в равной степени поражало собиравшееся здесь общество. Иные из друзей хозяина – люди блистательные, но праздные, месяцами торчавшие на ранчо, ванну считали излишней роскошью и издавали такой «аромат», что для них был специально построен дом в лесу. Впрочем, ели все вместе, все за тем же большим столом в каменной столовой. Тысячи людей побывали у Джека в гостях за эти пять лет: европейские политические деятели и философы, священники, каторжники, магнаты Большого Бизнеса, инженеры и домашние хозяйки. Ему наскучило путешествовать по свету – пусть теперь свет сам является к нему. Когда к станции ГленЭллен подходил поезд, не было случая, чтобы его не встретил фургон, отвозивший гостей на Ранчо Красоты по извилистой грунтовой дороге, которая прежде служила для перевозки бесконечных тонн винограда. Джек сиял от радости: быть хозяином, благосклонным главой этого поместья, этой общины, видеть, что друзьям и знакомым нравится есть за его столом, ездить на его лошадях по его холмам, спать на его кроватях, – все это было для него высшим блаженством. Но больше всего любил он допытываться, что представляют собой гости, нащупывать, «что там в этих часиках тикает». Склад характера, мысли и суждения, слабые струнки натуры, колорит речи, повесть чьей-то жизни – вот он, пробный камень для проверки его догадок, предположений. Гостей же – о чем свидетельствуют сотни отзывов, – изумляли и восхищали ясность его ума, четкая, быстрая мысль, глубина и разносторонность знаний, а главное – стремительность, с которой он извлекал и усваивал мудрость своих посетителей – всемирно известных специалистов различных областей науки, техники, искусства, собиравшихся к его столу. Пусть сведения, принесенные гостем с собою, были ничтожны – все равно к тому моменту, когда приезжий готовился покинуть ранчо, и они были достоянием хозяина. Говорил Джек всегда на темы, занимавшие-не его, а собеседника, искусно задавал вопросы, горячо спорил, ставил под сомнение самые коренные понятия – и при этом корректировал, уточнял собственные впечатления, сведения, представления, методы рассуждений. Не раз в научном диспуте он клал противника на обе лопатки в его же специальной области. Он упивался подобным состязанием умов. «Я готов принять любую точку зрения» – был его излюбленный девиз. Он обладал пытливым умом, любознательностью истинного ученого; собрал у себя одну из лучших в Америке коллекций книг, брошюр, докладов, газетных и журнальных статей по социализму; стены его рабочей комнаты были до потолка уставлены книгами, которые он постоянно выписывал из Нью-Йорка, из Англии. «Что до меня, книг у меня никогда не будет вдоволь, никогда не покажется, что они охватывают слишком многое. Я, быть может, их все и не прочту, но они всегда при мне, а кто знает, какой еще незнакомый берег увидит меня, совершающего плавание по морю знаний». Светила разных областей горячо подтверждают, что такого богатого интеллекта, как у Джека Лондона, они не встречали; их единодушие в этом пункте – дань высокого уважения человеку, которому в тринадцать лет пришлось наняться рабочим на консервную фабрику, потому что он был слишком беден, чтобы учиться в школе. Александр Ирвин рассказывает, что Джек говорил мягким, тихим голосом, ласкающим слух, нежным, как у женщины. Он оставался неизменно учтив и любезен, даже столкнувшись с ханжеством, глупостью, – встречалось и такое. Иначе и быть не могло – ведь на ранчо приглашалось множество совершенно незнакомых людей. Приезжали мужчины и женщины, убеждения которых он презирал, которых считал врагами цивилизации. Эти люди спали, ели и пили в его доме, садились на его лошадей и, как бы долго ни гостили у него, никогда не догадывались, какие чувства он питает к ним. В его доме перебывали человеческие особи всевозможных школ и направлений, различные по духовному и материальному уровню, по происхождению… и все для того, чтобы Джек Лондон мог влить все их духовное богатство и многообразие в свои произведения. Он брал у гостей все, что они могли предложить ему: ученость и невежество, мужество и слабость, низость, веселый задор. Стараться перекричать противника, подчинить его себе силой? Никогда! Он интересовался существом спора, а не его исходом. Все в один голос говорят о неотразимом обаянии его могучей натуры. Жительница города Нейпа Джанет Уиншип, родители которой были дружны с Лондоном, вспоминает, как иная компания, собравшаяся гденибудь в комнате, скучала, развалившись в креслах. Молчали – разговор не клеился. Вдруг входил Джек – и точно заряд электричества врывался в комнату. Все мгновенно оживали телом и душой. Он обладал огромным запасом энергии, но это было еще не все. Он был так насыщен жизнью – горячей, трепетной, сияющей, что вселял в каждого встречного счастливое ощущение радости, довольства. Всему, что говорят об этом многочисленные друзья Джека, Ирвин подвел итог краткой фразой; «Джек Лондон – это колосс на равнине жизни». Перед тем как Джек ложился спать, обычно часов в одиннадцать, Наката раскладывал на ночном столике бумагу, карандаш, гранки для правки, книги и брошюры, которые он читал в данный момент; рукописи начинающих писателей – для редакции и на отзыв, легкую закуску – погрызешь что-нибудь, и сна как не бывало, коробку сигарет и кувшин с какимнибудь напитком на льду: Джек то и дело прихлебывал, чтобы не пересыхало во рту от непрерывного курения. И долго в гулкой тишине горела лампа, и один у себя на террасе работал человек – читал, делал заметки, курил, потягивал ледяное питье, размышляя над печатным словом, словом правды и лжи, справедливости и жестокости человека к человеку… И так, пока не подкрадывалась усталость, не забивалась, подобно крохотным песчинкам, под воспаленные веки. Побуждаемый не только любовью к знаниям, но и страхом как бы не пропустить что-то новое, важное, что зародилось в мире, он непрестанно подстегивал себя; «Познавай!» На его ночном столике постоянно лежал неприкосновенный двухтомник Поля де Шейю, чьи «Африканские путешествия» были первой книжкой приключений, попавшей в руки восьмилетнему мальчику на ранчо в Ливерморе. Двухтомник Поля де Шейю назывался «Век викингов» и исчез с ночного столика только после смерти Джека. Около часа ночи, заложив спичкой то место в книге, на котором он остановился, Джек переводил стрелки на картонном циферблате, висевшем на дверях кабинета, чтобы Наката знал, в котором часу разбудить хозяина. Редко он позволял себе больше пяти часов сна; самое позднее время, указанное на циферблате, было шесть часов утра. Как правило, ровно в пять Наката приносил утренний кофе. Не вставая с постели, Джек правил вчерашнюю рукопись, отпечатанную Чармиан, читал доставленные по его заказу официальные сообщения, технические статьи, корректировал стопку свежих оттисков, присланных издательствами, составлял план текущей работы, наброски будущих рассказов. В восемь он уже сидел за письменным столом и писал тысячу слов – первоначальный вариант очередной вещи, изредка поглядывая на четверостишие, прикрепленное кнопками с стенке:Перевод В Станевич и Л Бродской
X
Четыре дня Джек пролежал в постели на закрытой веранде, выходящей в тропический сад. Его разом одолели все болезни, какие он только испытал, начиная с дней Дороги и Клондайка и кончая Кореей и Соломоновыми островами. Уверенный, что поджог совершил кто-то из тех, кого он приютил и пригрел, Джек боролся с чувством жгучего отвращения. Не только опустошительное разорение Дома Волка сокрушило его; он был подавлен тем, что теряет любовь и доверие к людям, и это угнетало его ежечасно. У него внезапно открылись глаза на многое, чего он прежде не замечал или, заметив, не удостаивал вниманием. Пожар Дома Волка представлялся ему символическим: точно так же погибнет все, что он пытался сделать для социализма и литературы. Он заметно постарел за эти дни. Едва поднявшись с постели, он первым делом поехал на Уошо Бане полевой тропой к Дому Волка и долго, пристально, тоскливо глядел на величественный остов из красного камня, простирающий свои обнаженные башни к синему небу Сономы. Отныне остатки пожарища стали называться «Руины». Джек мог бы объявить себя банкротом, но вместо этого заплатил подрядчикам сполна. Семьдесят тысяч чистого убытка; время и силы, отданные рассказам о Смоке Беллью, тоже потрачены даром. Все это снова наводило его на мысль о том, не кроется ли где-то там, под пеплом, мораль, которую ему надлежит усвоить? Из писем известно, что его долг в то время составлял сто тысяч долларов, но не эта непомерная сумма удручала его – нет, тяжелым камнем давила мысль о том, сколько тысяч слов предстоит ему написать, пока он выручит эти деньги. Он опять сказал Форни и Элизе, что отстроит Дом Волка заново; велел Форни убрать мусор с развалин, а Элизе – распорядиться, чтобы срубили для просушки новую партию секвой. Но в глубине души он знал, что все напрасно… дом снова подожгут, только и всего. Когда «Космополит» из сочувствия к его потере раньше времени выслал ежемесячный чек на две тысячи долларов, Джек сделал в тени ветвистого дуба пристройку к загроможденному вещами кабинету и перенес сюда письменные принадлежности, стол-бюро с крышкой на роликах, проволочные корзинки, набитые бумагами и письмами, стальные регистраторы с собранными им материалами, картонные коробки-картотеки с заметками для сотен рассказов. Он вошел в обычную колею; все было, как прежде, и все казалось совсем другим. Объезжая ранчо, он замечал теперь, что рабочие увиливают от дела, стараются содрать с него побольше, а сделать поменьше. Исподволь порасспросив тут и там, он понял, что они считают ранчо прихотью богача и не принимают его всерьез, как в свое время портовые рабочие не принимали всерьез «Снарка». Это относилось не только к рабочим. Соскочив однажды с Уошо Бана около кузницы, Джек оглядел только что подкованную лошадь и увидел, что кузнец спилил копыто сантиметра на полтора, чтобы подкова пришлась впору. Просмотрев счета и заподозрив, что они чересчур велики, он поехал в город, чтобы справиться у лавочников, в чем дело. Ему сказали, что десятник требовал взятку в двадцать процентов с каждого доллара, и им оставалось только прибавлять эту сумму к каждому счету. В 1900 году он писал Анне Струнской: «Я осуждаю недостатки друзей, но разве это означает, что я не должен любить их?» Любовь, терпимость и великодушие – вот три источника, питавшие его натуру. Увы! Теперь они все чаще грозили иссякнуть. Как-то раз он попросил своего приятеля Эрнста, жившего в Окленде, купить для него несколько тяжеловозов. За услугу Эрнст взял комиссионные,включил в счет еще и свои расходы, а потом отправил на ранчо двух лошадей ниже установленного веса и пару хворых кляч в придачу. Когда Джек написал, что такие лошади его не устраивают, Эрнст ответил сердитым, обиженным письмом. «Ты ходишь и скулишь, что тебя оскорбили, а каково мне? – писал ему Джек. – Я, видите ли, совсем обнаглел: осмелился сказать, что пара рабочих лошадей весит не тысячу пятьсот фунтов, как ты говорил, а тысячу триста пятьдесят и что вторая пара – старая дохлятина, пригодная разве что на корм цыплятам. Готово! Ты взорвался, ты кричишь во все горло, что тебя назвали жуликом. Ты вколотил мои деньги неизвестно во что и говоришь мне: «Пойди достань!» Тебя обидели – скажите, пожалуйста! А ты подумал, на сколько сот долларов обидели меня? Я-то с чем остался? Все, что я смог ассигновать на покупку лошадей, мне уже не принадлежит, а, чтобы обрабатывать ранчо, лошадей не хватает». Еще в 1904 году, узнав, что его приятель, газетный работник Ноул сидит без работы, Джек предоставил ему право переделать «Морского волка» для сцены или – экрана. За инсценировку Ноул получал две трети авторских отчислений. Вместо этого он перепродал права на драматизацию кому-то другому, а себе оставил вырученную сумму – три с половиной тысячи долларов. Теперь, заключая с Гобартом Босуортом контракт на экранизацию «Морского волка», Джек, чтобы выкупить права, должен был выпрапивать у издателей эти деньги. Между тем Ноул явился снова, уговаривая его вложить деньги в «Миллерграф Компани» – деле, которое он собирался основать, с тем чтобы создать рынок сбыта литографическим изделиям, изготовляемым усовершенствованным способом. Твердо решив не ожесточаться, не становиться циником, Джек распорядился, чтобы Бретт уплатил Ноулу тысячу долларов. Компании потребовались новые средства, и он опять за четыре тысячи заложил дом Флоры. «Я играю в открытую, я целиком полагаюсь на друзей», – писал он Ноулу. Принадлежавшие Джеку акции оказались дутыми; компания обанкротилась. Однажды Чармиан сказала, что ей срочно нужно триста долларов Джек с просьбой вернуть долг написал сотням мужчин и женщин, которые заняли у него в совокупности более пятидесяти тысяч долларов и божились, что вернут все до последнего цента. Он собрал всего пятьдесят долларов. Впервые закралась мысль; уж не смеются ли над ним друзья? А что, если его давным-давно записали в простофили, считая повесой-ирландцем, который швыряется деньгами, как пьяный матрос? История повторялась без конца: он все давал и давал, другие – брали и брали. Прежние приступы уныния возникали у него сами собой и быстро проходили. Теперь, как перестоявшийся чай, думы его становились все чернее и горше. Вот уже несколько лет он убеждал Бэсси привезти обеих девочек в Глен-Эллен на летние каникулы, чтобы и они полюбили Ранчо Красоты. Лишь один раз приняла Бэсси приглашение, приехав к нему на пикник с Джоан, Бэсс и компанией знакомых. Не успели разложить на траве все для завтрака, как мимо верхом в красной жокейской кепке, в красной мужской рубашке галопом пронеслась Чармиан – тонкий слой пыли покрыл еду. Джек клялся всеми святыми, что если Бэсси разрешит построить для нее коттедж на ранчо, он и близко не подпустит к ней Чармиан. Бэсси отказалась. Лишившись по вине Чармиан мужа, она боялась лишиться и дочерей. Она сказала, что, по ее мнению, вторая миссис Лондон с точки зрения нравственности неподходящий пример для девочек-подростков. Потерпели неудачу и попытки Джека добиться хоть одного доброго слова или жеста участия от Джоан, которой исполнилось уже тринадцать лет. А он-то надеялся, что она уже достаточно выросла, чтобы стать ему соратницей и другом. 24 августа, через четыре дня после того, как сгорел Дом Волка, он пишет дочери, заклиная ее вспомнить, что он ее отец, что он кормил и одевал ее, дал ей кров и приют, любил с первого ее вздоха. «Как ты ко мне относишься? – спрашивает он. – Неужели я просто глупец, который много дает и ничего не получает взамен? Я шлю тебе письма, телеграммы, а от тебя – ни слова. Значит, ты не желаешь снизойти до меня? Я лишь талон на бесплатный обед, не более? Да любишь ли ты меня вообще? Значу ли я для тебя хоть чтонибудь? Я болен – ты молчишь. Погиб мой дом – у тебя и тогда не нашлось ни слова. Нет, мир принадлежит не тем, кто молчит. Самое молчание – ложь, если с его помощью делают из любви посмешище, а из отца – талон на бесплатный обед. Не кажется ли тебе, что мне уже пора услышать что-нибудь от тебя? Или ты ждешь, чтобы мне навсегда расхотелось слышать от тебя хоть слово?» Но было еще одно открытие, которое он сделал во время своего пробуждения, – самое жестокое. Он с беспощадной ясностью увидел, что Чармиан в возрасте сорока трех лет – все еще ребенок, целиком поглощенный ничтожными ребяческими забавами. Соседи вспоминают, как она «рассказывала нескончаемые истории, по-детски болтала вздор о своих драгоценностях, старинных нарядах, шапочках, других мелочах. Ей хотелось быть вечно женственной, вечно очаровывать и покорять». Он страдал, замечая, что гости пытаются скрыть замешательство, что они смущены ее деланными манерами, кокетством, стараниями изобразить юную, прелестную девушку, которой она постоянно мнила себя; что они озадачены ее причудливыми, украшенными драгоценностями, ярко-красными, точно маскарадными, костюмами, чепчиками в кружевных оборках, которые носили еще в девятнадцатом веке. Ее сводная сестра вспоминает, что в детстве у Чармиан была привычка выглянуть из-за угла, скорчить рожу или сострить и пуститься бежать, чтобы ее догоняли. Она и сейчас выглядывала из-за угла, острила, ждала, что будут догонять. Однажды вечером Джек и Элиза сидели за конторкой в столовой, ломая голову, как справиться с уплатой долгов. В этот момент в комнату влетела Чармиан, прихотливо задрапированная куском бархатной ткани, и манерно прошлась по комнате: «Посмотри-ка, Друг, ну не дивная ли получится вещичка? Я только что купила два отреза». Она ушла, и наступило долгое грустное молчание. Потом Джек повернулся к Элизе и сказал: – Это наше дитя. Мы всегда должны заботиться о ней. Если бы он мог снова отправиться в плавание по Южным морям, затеять поездку на четверке лошадей, пуститься на поиски приключений, Чармиан по-прежнему была бы идеальным товарищем. Но теперь Джек жил дома, он устал, он был разочарован. Ему была нужна зрелая женщина, которая «обеими ногами твердо стояла бы подле него» в мире зрелых людей; жена, которая разделила бы с ним широкое ложе, которой он, проснувшись в тревоге ночью, мог бы коснуться рукой. Окруженный друзьями и родственниками, имея сотни тысяч поклонников, рассыпанных по всему западному миру, он чувствовал себя невыразима одиноким. Со всей силой, на какую способен тот, чьи дни уже клонятся к закату, томился он по родной плоти и крови, томился желанием иметь сына, которому можно довериться, чье сильное плечо будет ему опорой в годы старости, сына, которому он передаст свое имя, который станет продолжателем его дел. И все же 1913 год оказался для него самым плодотворным; в этом году его творчество достигло зенита [Оценки, даваемые И Стоуном отдельным произведениям Д. Лондона, зачастую крайне субъективны В данном случае он ошибается, называя 1913 год годом высшего развития творческого дарования Лондона Некоторые перечисляемые Стоуном произведения Лондона написаны ранее в частности, рассказы «Мексиканец» и «Рожденная в ночи» впервые опубликованы в 1911 году, «Убить человека» – в 1910 году, повесть «Лютый зверь» – в 1911 году и т д.]. В журналах вышли четыре его романа, среди них – «Алая чума», повествующая о том, как человечество возвратилось к первобытной жизни, когда чума стерла с лица земли современную цивилизацию. Отдельными изданиями вышли: во-первых, сборник «Рожденная в ночи», с такими сильными рассказами, как «Мексиканец», «Убить человека» и «Когда мир был молод»; во-вторых, повесть о боксерах – «Лютый зверь», построенная на основе одного из сюжетов Синклера Льюиса; и, в-третьих, один за другим в течение каких-нибудь шестидесяти дней появились два выдающихся романа: «Джон Ячменное зерно» и «Лунная Долина». Этот рекордный перечень объясняет, почему в издательском мире Джека Лондона стали рассматривать не как человека, а уж скорее как стихийное явление природы. Судьба, которая подвергла его столь сокрушительным ударам, была еще, оказывается, способна и баловать его и обращаться с ним, как со своим любимцем. В конце года, когда, завершив утомительный «Мятеж на «Эльсиноре», Джек почувствовал, что ему нужна большая, свежая идея, из Сан-Квентинской тюрьмы был освобожден его друг Эд Моррелл. После пяти лет одиночного заключения с Моррелла сняли смирительную тюремную куртку, выпустили из карцера и назначили главным тюремным старостой. Джек много лет прилагал усилия к тому, чтобы Моррелла помиловали, и, в конце концов добившись своего, телеграфировал ему: «Поздравляю; милости просим домой». Впервые он встретился с Морреллом в оклендском ресторане Сэддл Рок, и это знакомство, завязавшееся, как и многие другие, во время переписки, быстро превратилось в прочную дружбу. Моррелл стал подолгу бывать на Ранчо Красоты, где Джек с глубоким интересом слушал его рассказы: недаром он всю жизнь интересовался криминологией и пенологией, преступлением и системой наказаний. Вскоре он окунулся в работу по созданию своего восьмого и последнего крупного романа – «Межзвездный скиталец». Нельзя без содрогания читать строки, посвященные мукам заключенных, томящихся в тесном плену холщовых смирительных курток; с нежностью говорит автор о том, как в душных тюремных камерах рождается дружба; его смелая фантазия летит вслед за узниками назад по просторам времени. Читая эту книгу, чувствуешь, что вот-вот случится нечто ужасное, и замираешь в тревожном ожидании; «Межзвездный скиталец» проникнут глубоким состраданием к человеку, написан лирически-тонко, музыкально. Это поистине замечательное литературное произведение. Работа принесла Джеку облегчение, явилась для него источником такой радости, что душевные и физические недуги отступили на задний план. Как некогда в Пьедмонте, ему доставляло удовольствие, окончив главу, прочесть ее гостям. Одному юноше, обратившемуся к нему за поддержкой, он ответил: «В шестнадцать лет, а потом – в двадцать и я пережил период разочарований; в двадцать пять и тридцать и я, как водится, был пресыщен, равнодушен ко всему, изнемогал, не зная, куда деться от скуки. И вот пожалуйста! Живу себе, толстею и, когда не сплю, только и делаю, что смеюсь». А вот что рассказывает об этом периоде Моррелл: «Что бы он ни сказал, что бы ни сделал, вас неизменно покоряла его доброта. Он мог сказать что-нибудь обидное, выпалить сгоряча любую дерзость, но это никого не задевало, потому что говорилось беззлобно. Да, это была личность редкостного обаяния, таких немного». Человек, который давно печатается, у которого за плечами удачная карьера, поневоле вынужден все больше времени посвящать устройству дел, защите своих интересов. Джек предоставил актеру Гобарту Босуорту право на экранизацию всех своих произведений, получая взамен определенную долю дохода. Не успел Босуорт приступить к работе, как другие кинокомпании самовольно распорядились книгами Лондона: начали их экранизировать, да так рьяно, что на этой стороне улицы, допустим, демонстрировался один вариант «Морского волка», а в кинотеатре напротив – другой. В авторских правах царила полная неразбериха; более того – суд выносил решения не в пользу автора: оказывается, когда писатель передает материал журналу для серийного издания, последний автоматически получает все права на этот материал. Джек узнал, что любая его вещь, которая впервые вышла в свет на страницах журнала, принадлежит в большей степени журналу, чем ему, автору. Что касается кинопиратов, они по дешевке скупали авторские права у журналов. Совместно с Артуром Трейном и только что организованной Лигой писателей Джек повел борьбу за пересмотр закона об авторском праве, с тем чтобы, продавая вещь журналу, автор сохранял на нее права.-В этот «юридический бой», затянувшийся на несколько лет, он ввел все свои резервы: силу, энергию, денежные средства; ездил в Нью-Йорк и Голливуд, нанимал адвокатов, выступал на суде, составлял сотни горячих писем, телеграмм. Время, которое он мог бы посвятить новым произведениям, было отдано этим долгим и трудным боям. Ну что ж! Он помогал будущим поколениям американских писателей, с тем чтобы плоды их работы доставались им и никому другому. В Мексике шла революция под руководством Вильи и Каррансы. В мае 1914 года (вскоре после того, как был закончен «Межзвездный скиталец») правительство Соединенных Штатов решило выслать линейные корабли с солдатами и занять порт Вера-Крус. С тех самых пор, как Джеку помешали работать военным корреспондентом на фронтах русско-японской войны, он не мог дождаться того дня, когда сможет показать себя в этом деле. Получив предложение отправиться в Мексику корреспондентом «Кольерса» (тысяча сто долларов в неделю плюс расходы), он через двадцать четыре часа выехал в Гальвестон, а оттуда на корабле отплыл в Вера-Крус. Но ему опять не удалось стать военным корреспондентом – на сей раз по той причине, что не состоялась война. Завоевание Мексики и превращение ее в протекторат не входило в планы Соединенных Штатов; показали силу своего оружия в Вера-Крус – и ограничились этим. Джек опять составлял мужественные статьи; «Кровавое дело войны» и «Мексиканская армия»; писал о том, как армия Соединенных Штатов наводила чистоту и порядок в клоаке Вера-Крус, о том, как в Темпико революционеры напали на иностранных нефтепромышленников. Почти два месяца он провел в погоне за военными новостями, но достались ему только жестокая дизентерия да воспоминания о том, как однажды, играя в кости, он дочиста выпотрошил карманы корреспондентов и дипломатических представителей Франции и Испании. Вот и все, что он вывез из Мексики, если не считать материала для серии коротких рассказов об этой стране. Джек загорелся этой мыслью и, когда редактор «Космополита» проявил к ней интерес, взялся за составление планов и заметок. Истерзанный дизентерией, бледный и ослабевший, вернулся он в ГленЭллен. Стремясь как можно скорее поправиться, он на несколько недель ушел в плавание по заливу Сан-Франциско на «Ромере». Выздоровление было болезненным и затянулось надолго. Редактор «Космополита», решив, что американский читатель по горло сыт Мексикой, раздумал печатать серию рассказов. В былые дни, когда в нем горел боевой дух, Джек все равно написал бы мексиканские рассказы и еще заставил бы журналы поблагодарить его за это. Теперь же он сразу забросил материал, не прибавив к рукописи ни слова. Быть может, он лишил весь мир и самого себя прекрасной книги, особенно если намеченные рассказы получились бы такими же, как «Мексиканец»[13] – единственный, который он все-таки написал. Здоровье его расшатывалось все сильнее; участились, как говорит Клаудсли Джонс, «периоды душевной депрессии, когда великолепная воля к жизни почти совершенно покидала его»; цикл настроений начал проходить ускоренным темпом. Становилось все труднее выжимать из себя ежедневно тысячу слов… Тем не менее осенью 1914 года он сообщил своему издателю, что втянулся в работу над новым романом и что это будет нечто грандиозное, самое замечательное из всего, что им написано. Обстоятельства, при которых разворачивается действие, так необычайны, что «…история мировой литературы еще не знает ничего подобного. Три сильные фигуры в необычайной ситуации. Просматривая план романа, я готов поверить, что это и есть то самое, к чему я стремился с тех пор, как начал писать. Это будет вещь совершенно свежая, нимало не похожая на все, что я делал до сих пор». Было ли это убеждение искренним? Не старался ли он, подстегивая себя, преодолевая усталость и отчаянье, заинтересовать работой не столько редактора, сколько самого себя? Как бы то ни было, он приступил к роману «Маленькая хозяйка большого дома», в основе которого заложена мысль о возвращении к земле. Задуманный, как книга о сельском хозяйстве, в основу которой положены идеи создания образцовой фермы и возрождения фермерства Калифорнии, роман мало-помалу сходит в разряд литературы о «любовном треугольнике», с полным набором цветистых, сентиментальных преувеличений, столь милых сердцу писателей девятнадцатого века. Это фальшивая, надуманная, напыщенная книга; читатель поражен, не понимая, как эти натянутые мыслишки могут исходить от Джека Лондона. А ведь за каких-то несколько месяцев до этого он закончил «Межзвездного скитальца», создал такие первоклассные рассказы, как «Записано в приюте для слабоумных», действие которого происходит в психиатрической больнице, примыкавшей к ранчо Хилла, и «По ту сторону черты», сильный и убедительный рассказ о пролетариате. Уверенность в себе, дисциплина, сосредоточенность, творческий пыл – все служило ему по-прежнему; но мозг Джека Лондона, этот мощный механизм, создавший сорок одну книгу за четырнадцать лет, начинал, наконец, уставать, терять свою хватку. Как ни глубока была обида, нанесенная ему Джоан в прошлом году, Джек все же предпринял еще одну решительную попытку привлечь к себе дочерей. Когда Джоан, только что перешедшая во вторую ступень средней школы, прислала ему пьесу своего сочинения, он так радовался, как будто сам написал что-то необыкновенное. «Ужасно понравилось! Просто не верится: неужели у меня уже такая взрослая дочь? Неужели она может написать этакую пьесу!» И долго еще сообщал всем как в деловых, так и в личных письмах, что его дочь уже ученица второй ступени. Хорошенько обдумав план действия, он смиренно явился в Пьедмонт и выложил Бэсси свои предложения. Если бы только она разрешила детям бывать у него на ранчо, дала им возможность заново познакомиться с отцом, полюбить ранчо, вместе объезжая все его тропинки, тогда он меняет завещание, по которому после его смерти все переходит к Чармиан, и оставляет имущество девочкам. Он построит для Бэсси дом на уединенном участке ранчо, чтобы она могла находиться при детях. У нее всегда будет возможность приезжать с ними и убеждаться, что Чармиан находится на почтительном расстоянии. Он сделает все, о чем бы Бэсси ни попросила, решительно все – только бы она согласилась вернуть ему детей. Бэсси не уступила. Тогда несколько дней спустя он обратился непосредственно к Джоан. «Подумай, Джоан. В твоем возрасте нелегко ответить на подобное предложение; не исключена возможность, что, обдумывая то, что я сказал тебе в воскресенье вечером, ты примешь неверное решение – остаться маленькой обитательницей маленького мира. Ты сделаешь эту ошибку, послушавшись матери – маленького существа из маленького городишки на ничтожном кусочке земли. Из ревности к другой женщине она поступилась твоим будущим. Я открываю перед тобой большой мир, то настоящее, ради чего живут, познают, думают и вершат дела большие люди». Последовала вереница тревожных, умоляющих писем. Джоан долго молчала. Наконец, уступая его настояниям, она прислала письмо на одной страничке. Она вполне довольна своей жизнью и не имеет никакого желания ее менять. Она всегда будет с матерью. Ее возмущают его высказывания о Бэсси; у нее хорошая мать, и она, Джоан, любит ее. В заключение она убедительно просит не вынуждать ее писать ему такие ужасные письма; пусть это будет последним. Прощальное письмо; конец. Чармиан попыталась лишить его общества «бродячих философов», которых он постоянно содержал на ранчо. Его ответ – это вопль, – исторгнутый из глубины души. «Час беседы со Строн-Гамильтоном – несравненно большее удовольствие, чем то, что мне дали все мои горерабочие. Господи, да ведь он же возвращает все, что я на него трачу. А рабочие? Никогда! Запомни, пожалуйста, что ранчо – моя забота. Из-за разного сброда, работавшего у меня, я потерял в тысячу раз больше того, что стоят постель и крохи еды, которые я даю моим бродягам. Это жалкие гроши, но они идут от чистого сердца, а у меня в сердце осталось не так уж много нежных чувств к ближним. Прикажешь покончить и с этим?» Чармиан ходила мрачная, надутая, во все вмешивалась, всем распоряжалась, указывала, какое дерево нужно срубить, а какое – нет, мешала работать, заявляя, что страдает бессонницей, все ночи не спит, и требовала, чтобы рабочие, которые являются на ранчо в семь утра, не смели подходить к дому раньше девяти, иначе они ее разбудят. Когда Джек попытался внушить ей, что она задерживает работу, она взяла свои постельные принадлежности и удалилась в амбар. Делать нечего, Джек велел рабочим держаться подальше от дома, даже если из-за этого придется сидеть без работы. Так продолжалось до тех пор, пока, объезжая поля в пять часов утра, он не застал ее на копне сена с одним из молодых гостей. Они любовались восходом солнца. Когда-то он осуждал Бэсси за то, что она нелюбезная хозяйка, не одевается как следует и слишком ревнива. По прихоти судьбы те же самые свойства он обнаружил и в Чармиан. Она и не пыталась нести обязанности хозяйки, следить за порядком в доме. Со всем управлялись слуги японцы, а она – она была гостьей в доме. Когда приезжали друзья, их провожали в отведенную для них комнату либо Джек, либо Наката. Одна гостья вспоминает, в каком неловком положении оказывался Джек из-за того, что Чармиан никогда не утруждала себя заботами о вновь прибывших: показывать дамам, где находится туалет, – это тоже входило в обязанности Джека. В то время как Бэсси не обращала особенного внимания на женщин, – не считая тех, которые просто вешались ему на шею, – Чармиан бурно ревновала его ко всем без исключения. Ему редко разрешалось появляться где бы то ни было без нее, а когда они ходили куда-нибудь вместе, она заводила игру, которую свидетельницы прозвали «разбивалочка». Джек имел право говорить с другой женщиной минуты две, не более, пусть даже разговор шел о предстоящих выборах. По истечении этого срока Чармиан прерывала беседу пространным монологом. Однажды, составляя Джеку телеграмму в Лос-Анджелес, Джек Бирнс, его секретарь, в заключение сделал приписку, что одна давнишняя приятельница Джека (все ее семейство он знал и любил долгие годы) хотела бы с ним повидаться. Чармиан велела Бирнсу вычеркнуть это, сказав, что сама вскоре пошлет Джеку телеграмму и все ему сообщит. Никакой телеграммы она не послала. Она была готова уморить себя работой, лишь бы Джек не взял женщину-секретаря. «Я никого сюда не пущу, – говорила она. – Нельзя выпускать это дело из рук». И только когда умерла мать Джонни Миллера, а ее второй муж – Джек Бирнс – остался без работы, Джек получил разрешение пригласить к себе постоянного секретаря, который был ему крайне необходим. Из Нью-Йорка Чармиан прислали телеграмму, где говорилось: «Джек проводит все свое время с женщиной, которая живет на Сорок восьмой улице в отеле Ван Кортлендт. Эми». Чувствуя себя удрученным, несчастным, Джек метался, ища связей с женщинами. Много лет тому назад он писал Чармиан: «Позвольте рассказать Вам маленький эпизод, из которого Вам станет ясно, с какой легкостью я даю волю чувственному началу». Однако подобная неразборчивость была, по-видимому, скорее результатом семейного разлада, а не врожденной распущенности. Он ведь был верен Бэсси, пока что-то помешавшее их физической близости не нарушило их семейную жизнь. Он девять лет хранил верность Чармиан, пока не порвалась их духовная связь. Тогда снова произошло то же самое. Пил он и раньше: иногда – пытаясь побороть очередной приступ меланхолии, чаще – ради компании, в виде развлечения, разрядки. Теперь он начал пить помногу – не для того, чтобы вызвать приятное ощущение, но чтобы заглушить боль. Прежде он редко пил на ранчо, теперь то и дело! Уже не один раз в неделю, а три или четыре запрягал он лошадей и отправлялся после обеда в Санта-Розу. Аира Пайл вспоминает, что теперь он уже спорил не просто так. шутки ради, – он сердился, стучал кулаком по стоике, не скрывал, как ему противны люди, которые руководствуются в рассуждениях скорей своекорыстием, чем логикой. Если не считать тех буйных попоек, которым он предавался в юности, когда был устричным пиратом, он умел пить, но умел и не дотронуться до спиртного. Всего год назад, возвращаясь на пароходе «Дириго» через мыс Горн с востока, куда он ездил по делу, Джек захватил с собой из Балтимора, кроме тысячи книг и брошюр, которые он собирался проштудировать, сорок галлонов виски. «Когда мы пристанем в Сиэтле, либо будет прочитана тысяча книг, либо исчезнут эти сорок галлонов». Он сошел с корабля, проглотив тысячу томов и оставив нетронутым виски. Все переменилось: теперь виски ему было необходимо, чтобы убить-время. Болезнь заставляла его пить, пьянство усугубляло болезнь. Его толкали к виски утомление и упадок духа, но виски утомляло, и, напившись, он еще больше падал духом. Молодость ушла, ушло здоровье, ушли ясность мысли, свежесть, счастье, а работал он по-прежнему изо всех сил – и кварта шотландского виски (ежедневная порция) валила его с ног. Людям и раньше случалось видеть, как он пьет; теперь они видели его пьяным. Все горше разочаровывался он в друзьях, в тех, с кем приходилось вести дела. Два приятеля, отведав виноградного сока, приготовленного на ранчо, предложили организовать компанию по сбыту. Они дают капитал, он – свое имя и виноград. Не успел он оглянуться, как его уже потянули в суд: преданные друзья возбудили дело, задумав выжать из него тридцать одну тысячу долларов. После того как Джек истратил три с половиной тысячи, чтобы выкупить права на драматизацию «Морского волка», и передал лучшие свои вещи кинокомпаниям, он получил уведомление от продюсеров, что доходов нет и ему ничего не причитается. Кто-то сбыл ему половинную долю участия в Аризонском золотом прииске – Джек так и не доискался, где находится этот прииск. Купив пачку акций недавно созданной оклендской ссудной и закладной компании «Фиделити», он два года не вылезал из судов. «Биржевая авантюра, белая игральная фишка на столе, лотерейный билет» – они всегда приносили ему несчастье. Но самый жестокий удар нанесли ему Нинетта и Эдвард Пэйны, которым он и по сей день оказывал материальную поддержку. Эта парочка стала мутить воду, подговаривая соседей подписать прошение о том, чтобы лишить Джека права пользоваться вторым водоемом на одном из его холмов, там, где он построил плотину, чтобы задержать влагу зимних дождей. Они выдвигали тот довод, что якобы от этого обмелеет речка, протекающая у них под боком. Другие соседи не выразили особого опасения, что могут лишиться воды. Другое дело – Нинетта и Эдвард; эти довели дело до конца и добились постановления суда в свою пользу. До него дошло, что некоторые приятели, систематически выпрашивая у него деньги, за спиной говорят; «Денежки достаются Джеку так легко, что только дурак не поможет ему их истратить». Даже Джордж Стерлинг, которому он только что выслал сто долларов за ненужный сюжет, зная, что друг промотался, и тот осуждал его за то, что он пишет «ради херстовского золота». В прежние годы зарабатывать деньги было легче, веселей. Алчность, леность, лицемерие – в былые дни он шутя мирился с ними, как человек, который узнал о людях самое плохое и ничему не удивляется. Но сейчас, когда его все сильнее одолевали тоска и болезнь, он не мог без горечи видеть, каким злом платят за доброту и щедрость. Наступили пасмурные, холодные зимние месяцы 1915 года, и в феврале Джек вместе с Чармиан отправился на Гавайи, чтобы скоротать там остаток зимы. Здесь, под теплыми лучами солнца, ежедневно плавая и катаясь верхом, он настолько поправился, что мог взяться за новый роман – «Джерри-островитянин». Это была последняя вспышка – все, что осталось от пламенного лондоновского духа. «Хочу уверить Вас заранее, что Джерри – нечто единственное в своем роде, нечто новое, не похожее на все, что пока существует в беллетристике – и не только под рубрикой «литературы о собаках», но в художественной литературе вообще. Я напишу свежую, живую, яркую вещь, портрет собачьей души, который придется по вкусу психологам и по сердцу тем, кто любит собак». «Джерри-островитянин» и в самом деле восхитительная история о приключениях пса на Новогебридских островах. Сидя в свободном кимоно у стола на открытой веранде, выходящей на окаймленную пальмами лагуну, он мысленно переносился к снежным равнинам Аляски, к герою «Зова предков» Баку, который прямым путем вывел его на дорогу славы. Приятно думать и писать о собаках; эти умеют хранить верность! К лету он закончил «Джерри-островитянина» и вернулся в Глен-Эллен. В Богемной роще на берегу речки Рашн Ривер был устроен веселый праздник клуба богемы; там Джек встретил много знакомых художников; отстаивая социалистические принципы, спорил со сторонниками непротивления злу, купался в реке и много пил. После праздника он привез с собой на ранчо Стерлинга, Мартинеса и еще нескольких друзей; попойка продолжалась. Его болезнь стала принимать острую форму, но он не желал бросить виски хотя бы на время, пока не вылечится. Работал он в это время только над кинороманом «Сердца трех» – за эту забавную чепуху «Космополит» предложил двадцать пять тысяч. Радуясь возможности уйти от серьезной, вдумчивой работы, Джек каждый день «проворачивал» свою тысячу слов в полтора часа. Он и сейчас еще изредка был не прочь посмеяться, но это было принужденное веселье. «Он уж не затевал, как бывало, веселые игры и забавы, – вспоминает Финн Фролих, – не боролся, не хотел ездить верхом по холмам. Глаза его потухли, прежний блеск исчез». Теперь он вступал в беседу не для того, чтобы узнать что-то новое, насладиться умственной дуэлью. Он хотел переспорить, раздражался, ссорился. Когда на ранчо собрался погостить Элтон Синклер, Джордж Стерлинг отсоветовал ему: Джек стал другим. Ранчо – это было единственное, что еще приносило ему покой и радость. К тем, кто у него работал, он в основном проникся отвращением, но земля – в нее он никогда не переставал верито. «Я отношусь к той категории фермеров, которые, перерыв все книги на свете в поисках экономических ценностей, возвращаются к земле – источнику и основе всякой экономики». Он продолжал расчищать новые поля, выводить новые культуры, расширять и удлинять оросительную систему, возводить каменные помещения для животных. В письме в Сан-Квентинскую тюрьму к Джо Кингу, которому он шесть лет назад дал денег, чтобы опубликовать апелляцию, и для которого все еще пытался добиться помилования, он писал: «Я только что достроил свинарник, да такой, что в него влюбится каждый, кто у нас в Штатах интересуется производством свинины. Такого свинарника не было и нет. Постройка его обошлась в три тысячи долларов, зато он сэкономит мне процентов двенадцать на одном только уходе. У меня на ранчо все свиньи с паспортами – других не держу. В ближайшем будущем рассчитываю построить бойню и рефрижератор». Он ничего не преувеличивал, рассказывая о Поросячьем дворце, как вскоре прозвали свинарник. Для каждого свиного семейства имелись отдельные «покои» внутри и снаружи, а в каждом из них – два водопроводных крана. Форни построил здание в виде правильного круга, в центре которого находилась каменная башня; в ней хранился корм. Это был не свинарник, а произведение искусства, безупречное архитектурное сооружение. Джек планировал с Форни и постройку круглого каменного коровника, такого же основательного и экономичного, как Поросячий дворец. «Запомните, прошу Вас, – пишет он редактору «Космополита», – что ранчо – это свет моих очей. Я добиваюсь результатов, и я их добьюсь, а они когда-нибудь займут свое место в книгах». Медленно, но все отчетливее он обдумывал новую идею, возникшую как следующий этап его плана создания образцовой фермы. Он задумал основать сельскую общину для избранных. Удалив с ранчо плохих рабочих, он оставит у себя лишь людей честных, цельных и любящих землю. Для каждого он построит отдельный коттедж; откроет универсальную лавочку, где товары будут продаваться по себестоимости, и маленькую школу для детей рабочих. Число семей, включенных в эту образцовую общину, будет зависеть только от того, скольких прокормит земля. «Самая заветная моя надежда, что лет эдак через шесть-семь я смогу «остаться при своих» на ранчо». Он и не помышлял о доходах, о том, чтобы вернуть вложенную в ранчо добрую четверть миллиона; он только хотел «остаться при своих», быть в состоянии оказать поддержку настоящей общине рабочих, объединенных любовью к земле. Эти планы стали рушиться немедленно, один за другим. Несмотря на то, что он ездил советоваться насчет свинарника на сельскохозяйственное отделение Калифорнийского университета, в Поросячьем дворце были каменные полы; все его отборные чистокровные обитатели схватили воспаление легких и околели. Премированный короткорогий бык, надежда Джека, родоначальник будущей высокой породы, оступился в стойле и сломал себе шею. Стадо ангорских овец унесла эпидемия. Многократно удостоенный высшей награды на выставках ширский жеребец, которого Джек любил, как человека, был найден мертвым где-то в поле. Да и вся затея с покупкой ширских лошадей оказалась ошибкой; на ногах у этих лошадей растет густой волос, и поэтому оказалось невозможным зимой содержать их в чистоте, в рабочей форме. Это были пропащие деньги. Еще одним промахом оказались тяжеловозы; их отовсюду вытесняли: появились более легкие сельскохозяйственные орудия, с которыми соответственно могли справиться лошади более легкого веса; а кроме того, появились и тракторы. Внезапно оказалось, что никому не нужны и сто сорок тысяч эвкалиптовых деревьев, которым полагалось бы расти да расти, чтобы через двадцать лет принести хозяину состояние: интерес к черкесскому ореху исчез. Впрочем, они еще могли пригодиться – на дрова. Он проиграл. Он знал, что дело проиграно, но не хотел признаться в этом. Если бы кто-нибудь решился подойти и сказать: «Слушай, Джек. Ранчо – ошибка, и дорогая ошибка. Откажись от него ради самого себя», – и в этом случае он крикнул бы: «Не могу отступиться!» – как и раньше, когда его убеждали бросить «Снарк». Нужно было гнать деньги, содержать ранчо, и он с грехом пополам ежедневно выжимал из себя тысячу слов. Писать! Этот процесс, который раньше был ему нужен, как кровь, как воздух, теперь отравлял его. «Необходимость – вот что еще заставляет меня писать. Необходимость. Иначе я никогда больше не написал бы ни строчки. Так-то вот». Не он один охладел к этой работе. Задыхаясь от изобилия его вещей, начинали остывать критики, читатели. Завершив «Сердца трех», он писал: «Это юбилейная вещь. Закончив ее, я отмечаю мое сорокалетие, появление моей пятидесятой книги и шестнадцатый год как я начал эту игру». Прошло несколько дней, и он ворчливо заметил: «Давненько что-то не видно ни одного бестселлера под моим именем. Разве другие пишут лучше? Может быть, я наскучил читателям?» Последней книгой, которую приняли благожелательно, была «Лунная Долина». «Силу сильных» встретили как нечто заурядное, еще один сборник Джека Лондона – и только. А ведь здесь были собраны его лучшие пролетарские рассказы, его пророческие произведения – великолепные образцы того, каким кратчайшим путем уносил его в будущее смелый и своеобразный талант. Какой-то одинокий обозреватель высказался дружески, и, обращаясь к нему, Джек пишет: «Вы единственный человек в Соединенных Штатах, которому все-таки не совсем наплевать на «Межзвездного скитальца». Остальные критики заявили, что это очередная и обычная для меня книга. Смелость и отвага, знаете ли, крови – по горло, первобытной к тому же – словом, женщинам читать вредно, слишком много ужасов, да и мужчинам не стоит, разве что каким-нибудь выродкам. Какова жизнь со всей ее беспощадной злобой – таковы и мои книги. Но жизнь, помоему, полна не злобы, а силы, и той же силой я стараюсь наполнить мои рассказы». У него был подписан контракт с «Космополитом», обязывающий его в течение пяти лет готовить для журнала два романа ежегодно. Слабеющий титан был так надежно закован в цепи, что его секретарь Бирнс, отвечая одному литератору, предложившему Джеку совместно работать над новой идеей, пишет; «Достоинства его произведений целиком зависят от издателей, с которыми он еще на несколько лет связан контрактом». В двадцать четыре года, руководствуясь собственными воззрениями, он внес живительную струю в журнальный мир. А сейчас? Вот что он советует начинающему писателю: «Если Вы хотите работать для журналов, пишите то, что им нужно. Журналы ведут собственную игру. Хотите участвовать в ней – подчиняйтесь!» Он был уже больше не в силах выпрямиться во весь рост и принять бой. Одна школьная учительница из маленького калифорнийского городка обратилась к нему с просьбой выступить в ее поддержку против продажной политической машины; вот что он ответил: «Немало лет прошло с тех пор, как я ринулся в битву за то, чтобы политические дела велись честно, чтобы с каждым мужчиной и каждой женщиной поступали по справедливости. Перебирая в памяти долгие годы сражений, действительно начинаешь чувствовать себя чем-то вроде ветерана. Нельзя сказать, что я ветеран, потерпевший поражение. Нет! Но в отличие от зеленых новобранцев я не жду, что стоит мне сегодня начать штурм, как завтра же к рассвету вражеский рубеж будет взят. Я из тех ветеранов, которые не рассчитывают увидеть, чем кончится кампания, и уже не берутся предсказывать, когда она кончится». Другому знакомому, который надеялся, что Джек примкнет к совместному наступлению на религию, он написал. «Воевать из-за религии? Это кажется мне чем-то далеким, маленьким, туманным. Сражение еще идет, но где-то в глухом, неведомом углу земли. По-моему, Вы ведете борьбу с противником, и без того уже потерпевшим моральное поражение». На жалобу Мэри Остин о том, что самые удачные ее вещи остаются непонятыми, он устало отвечает: «Лучшее, что было создано моим умом и сердцем, фактически прошло незамеченным для мирового читателя, и это меня не тревожит. Я иду дальше, я доволен и тем, что читатель восторгается в моих произведениях грубой, полнокровной силой и тому подобной ерундой, совершенно не характерной для моей работы. Ты обречен на одиночество – значит, стой один! Насколько помнится, во все времена уделом пророков и ясновидцев было одиночество – не считая, правда, тех случаев, когда их сжигали на кострах или забрасывали камнями». Он скрылся в стенах кабинета, подобно тому как медведь уползает в берлогу зализывать раны. Он получал сердитые, огорченные, разочарованные письма от почитателей и последователей; люди бросали в огонь номера журнала, в которых появилась «Маленькая хозяйка большого дома». «Вернитесь на землю», – взывали они. Болезненно задетый, он в бешенстве отбивался: «Позвольте мне Вам заявить раз и навсегда, что я чертовски горжусь «Маленькой хозяйкой». Но было еще кое-что, о чем не ведала ни одна живая душа, кроме Элизы; его мучил страх, что он сойдет с ума. Мозг его был слишком истощен, чтобы работать; а между тем Джек был вынужден писать каждый день. Когда-нибудь, под тяжким и неустранимым гнетом мозг не выдержит – вот чего он боялся. И потом мать – он был убежден, что она не совсем нормальна. Это еще больше пугало его. Он снова и снова молил Элизу: «Если я потеряю рассудок, обещай, что ты не отправишь меня в больницу. Обещай!» Элизе ничем не удавалось унять его страх. Каждый раз она заверяла его торжественной клятвой, что никогда не расстанется с ним, не отправит в больницу, будет сама заботиться о нем. Джек еще цеплялся за последнюю надежду: найти и полюбить настоящую, зрелую женщину, которая тоже полюбит его. И не только полюбит, но подарит сына. Зная, что Чармиан никогда не даст ему этого сына, которого он всю жизнь так страстно желал, он горевал, что умрет, не дождавшись ребенка, – он, создавший десятки людей на страницах своих многочисленных книг. Он поклялся, что «у него все равно будет сын, так или иначе. Он найдет женщину, которая даст ему сына, и привезет ее с собой на ранчо». Он нашел ее, эту женщину, горячо полюбил ее, и она отплатила ему такой же любовью – доказательств сколько угодно. Но Джек остался с Чармиан – не смог заставить себя причинить ей горе: по-прежнему был с ней ласков, как с ребенком, по-прежнему дарил ей свои книги с пылкими посвящениями. Не один год оставалась она его верным товарищем, и он был благодарен ей за это. Чармиан нервничала, томилась беспокойством, непрерывно страдала бессонницей; она знала, что Джек ей не верен, что на этот раз она рискует его потерять. По Окленду поползли слухи о разводе. На другой день после смерти Джека Чармиан объявила всем на ранчо, что впервые за много месяцев ей удалось уснуть. Джек знал, что он в тупике. Спасаясь от горестей и невзгод – сколько у него их было! – он пил не переставая. Работа… Теперь это стало чем-то вроде рефлекса: механическим актом когда-то могучего организма. В 1915 году, кроме «Маленькой хозяйки большого дома», вышел его рассказ «Гиперборейский напиток»; но написаны обе эти вещи были еще год назад. 1 декабря 1914 года он писал: «Вчера закончил свой последний роман: «Маленькую хозяйку большого дома»; завтра берусь за план следующего, который думаю назвать «Ларец без крышки». Книга эта осталась ненаписанной. «Бюро убийств» он бросил на середине: безнадежно! В июле 1916 года, надеясь, что солнце снова исцелит его недуги, он отплыл вместе с Чармиан на Гавайи. Когда-то, в самом начале своего пути, он бросил ликующий клич; «Социализм – величайшее, что есть на земле!» Еще месяц назад он начинал свои письма обращением «Дорогой товарищ» и подписывался «Ваш, во имя Революции». Только недавно он написал пламенное предисловие к антологии Элтона Синклера – «Зов к справедливости» – суровый приговор произволу, жестокости, страданиям, господствующим на земле. Вероломство друзей и недобросовестность работников не коснулись его веры в социалистическое государство; тверже, чем когда-либо, верил он в экономическую философию и общечеловеческую логику социализма. Но он ожесточился против человечества, которое, вместо того чтобы сорвать свои оковы, с сонной апатией таскает их на себе. Сидя в своей каюте на пароходе, он писал; «Я выхожу из Социалистической партии, потому что она утратила свой огненный, воинственный дух и отвлеклась от классовой борьбы. Я вступал в ряды старой, революционной, неукротимой, боевой Социалистической рабочей партии. Воспитанный в духе классовой борьбы, я верю: сражаясь, не теряясплоченности, никогда не вступая в соглашения с врагом, рабочий класс мог бы добиться освобождения. Поскольку за последние годы социалистическое движение в Соединенных Штатах целиком прониклось духом умиротворенности и соглашательства, мой разум восстает против дальнейшего пребывания в рядах лартии. Вот почему я заявляю, что выхожу из нее». Он отдал социализму немало и очень многое от него получил. Он думал, что оставляет партию, чтобы взять курс левее, но это ничего не изменило: прослужив партии верой и правдой пятнадцать лет, он своим уходом нанес ей тяжелый удар, а себе самому – смертельный. Не он ли в «Мартине Идене» устами Бриссендена предостерегал героя: «Свяжи себя покрепче с социализмом, иначе, когда придет успех, тебе незачем будет жить». Не он ли в ответе к почитателю таланта писал в декабре 1912 года: «Как уже сказано в «Джоне Ячменное зерно», Мартин Идеи – это я. Мартин Идеи умер, так как был индивидуалистом; я жив, так как я социалист и мне, стало быть, присуще общественное самосознание». На этот раз Гавайские острова утратили свою целебную силу: ему не стало лучше ни физически, ни душевно. Он что-то писал: появился «Майкл, брат Джерри», появились какие-то слабенькие гавайские рассказы, был начат роман о Черри, девушке-евразийке, начат, но не кончен. Пытаясь залить вином горе, неуверенность в себе, он пил без конца. Ничто не помогало. Когда он возвратился в Глен-Эллен, друзья едва узнали его. По словам Элизы, это был совершенно другой человек. Он разжирел, у него отекли и распухли лодыжки, лицо обрюзгло, потухли глаза. Он, всегда имевший такой мальчишеский вид, теперь выглядел много старше своих лет – угрюмый, больной, подавленный. Редко звал он теперь приятелей на ранчо, чтобы угостить уткой за обедом. Утратив остатки душевного равновесия, он безвольно плыл по течению. Его встречали пьяным в Окленде. Вскоре по приезде он побывал в Пьедмонте, у Бэсси. Бывшие супруги встретились нежно. Наконец-то он понял, что был жесток с ней, что потерял детей по собственной вине. Он предложил Бэсси удвоить ее ежемесячное содержание. Бэсси согласилась. – Если я тебе когда-нибудь буду нужен, – сказал Джек бывшей жене, – я приду, как бы ни был далеко. – Ты едва ли будешь нужен мне, Джек, но если это случится, я тебя позову, – ответила Бэсси. Был на свете всего один человек, кроме Элизы, которого Джек любил, которому верил до конца – Наката. «Шесть или семь лет ты был со мной и днем и ночью. Куда бы меня ни носило по свету, ты прошел со мной через все опасности. Мы часто встречали бурю и смерть; они стали для нас обоих чем-то обычным. Я вспоминаю, с каким благородством держался ты рядом со мною в бурные дни. Я вспоминаю, как ты ухаживал за мной во время болезни, вспоминаю часы веселья, когда ты смеялся со мною, а я – с гобой». Наката, уехавший от «хозяина» в Гонолулу учиться на зубного врача, отвечает: «Вы дали мне кров и хлеб; Вы всю ночь провели на ногах, чтобы спасти меня, когда я отравился. Вы тратили драгоценное время, чтоб научить меня читать и писать. Вы представляли меня гостям и знакомым как Вашего друга, как сына. И Вы были для меня отцом Ваше большое сердце – вот что создало эти бесконечно дорогие для меня отношения». Так, в Накате, своем слуге японце, обрел Джек единственного сына, единственную сыновнюю любовь, которую ему суждено было изведать. – Джек, ты самый одинокий человек на земле. Того, о чем ты мечтал в глубине души, у тебя ведь никогда не было, – сказала ему однажды Элиза. – Господи, да как ты узнала? Он всегда говорил – «Хочу пожить недолго, но весело». Сверкнуть по небесному своду двадцатого века слепящей кометой так, чтобы отблеск его идей сохранился в каждой человеческой душе. Гореть ярким, высоким пламенем, сгореть дотла, чтобы смерть не застала его врасплох, пока не истрачен хотя бы медный грош, не доведена до конца последняя мысль. Он всегда был согласен с Джорджем Стерлингом: не засиживайся в обществе собственного трупа; дело сделано, жизнь кончилась – раскланивайся и уходи. Оставались книги, которые все еще хотелось написать: роман «Христос», автобиография под названием «Моряк в седле», «Дальние дали» – повесть о тех днях, когда начнет остывать наша планета. Когда были силы, ни одна книга, казалось, не может выразить все, что ему хотелось сказать. Он написал пятьдесят книг – разве вложена в них до конца вся его сила? Но он устал. Проходя мимо белых картонных коробок, рядами выстроившихся у него в кабинете, он снова и снова твердил себе, что он уже не новобранец, а ветеран. Он знает, что вражеский рубеж не будет взят к рассвету – ни сегодня, ни через сотню лет. Он отвоевал свое, сделал дело, сказал свое слово – и заслужил покой. Он сделал много ошибок, совершил несчетное множество глупостей, зато по крайней мере вел крупную игру и никогда в жизни не занимался мелочами. Пора отойти в сторону, уступить место молодым, кто прокладывает свой путь наверх. Подобно боксерам, о которых он писал, ему нужно дать дорогу «молодости – неугасимой и неодолимой, которая всего добьется и никогда не умрет», как он частенько говорил. Удивительно, размышлял он, как человек, сам того не желая, может заслужить известность тем, что ему совершенно чуждо. Критики, например, осуждают его за то, что ему не хватает одухотворенности – ему, работы которого насквозь пропитаны философией и любовью к человечеству. Разве не звучали в его книгах два мотива: один – внешний, поверхностный, другой – глубокий, скрытый, который могли понять лишь немногие? Еще в то время, когда он был корреспондентом на русско-японской войне, к нему в гостиницу как-то явился представитель местной власти и сообщил, что все население собралось внизу на площади посмотреть на него. Джек был страшно польщен: подумать только – даже до далекой корейской глуши дошла слава о нем! Но когда он взошел на трибуну, воздвигнутую специально для него, чиновник осведомился, не согласится ли он сделать им любезность и… вынуть изо рта вставные зубы? И целых полчаса стоял Джек на трибуне, вынимая и вставляя обратно искусственную челюсть под аплодисменты толпы. Тогда-то у него впервые и блеснула мысль, что человек редко бывает знаменит тем, ради чего он борется и умирает. В письме к одной девушке, обратившейся к нему за поддержкой, он пишет: «Теперь, в зрелом возрасте, я убежден, что игра стоит свеч. Я прожил очень счастливую жизнь. Мне повезло больше, чем миллионам людей моего поколения. Пусть я много страдал, зато я пережил, повидал и чувствовал многое, что не дано обычному человеку. Да, игра, несомненно, стоит свеч. А вот и подтверждение этому: все друзья твердят в один голос, что я толстею. Разве это само по себе не служит наглядным свидетельством моей духовной победы?» Но оказалось, что долгое сражение гораздо приятнее самой победы: в детстве ввергнутый по милости матери в самую бездну нищеты, он сам, без чьей-либо помощи, пробирался наверх. Джеку казалось, что вместе с ним стареет весь свет. «С миром приключений, можно сказать, покончено. Поблекли и стали прозаическими даже причудливо-красочные портовые города семи морей». Он еще давным-давно говорил: «Я – идеалист, который верит в реальную действительность. Вот почему во всех моих книгах я стремлюсь остаться ей верен, то есть обеими ногами вместе с моим читателем стоять на земле; как бы высоко ни залетели наши мечты, основанием для них должна служить реальность». Да, он мечтал, и это были высокие мечты, а теперь он вернется к действительности – и не дрогнет, увидев, что и мечтам и жизни пришел конец. Но прежде чем этот конец наступил, угасающий дух Джека Лондона в последний раз вспыхнул с прежней силой. Он написал два прекрасных рассказа – один об Аляске: «Как аргонавты в старину», а другой – о Дороге: «Принцесса», снова перенесший его к буйным и романтическим дням юности, к первым успехам. Он велел Форни приступить к постройке круглого каменного здания молочной фермы; по длинной дороге вверх, на ранчо потянулись подводы с мешками цемента. Он еще будет посылать в Сан-Франциско молоко, масло, сыр – самый высокосортный товар марки «Дж. Л» – Джек Лондон, и старый Джон Лондон, будь он в живых, тоже гордился бы сыном. Вместе с Элизой Джек съездил в Сакраменто на калифорнийскую ярмарку. Все, что намечено, будет создано на ранчо, говорил он Элизе. Три четверти дела сделано, и скоро они ни от кого не будут зависеть. Он выписал из Нью-Йорка и Англии книги; «Осада порта Ла-Рошель», «Расовый распад», «Счастье в браке», драйзеровского «Гения», «Конго» Стэнли и с полдюжины других – о ботанике и эволюции, обезьянах и калифорнийской флоре, о голландцах – основателях Нью-Йорка. Он задумал путешествие по странам Востока, заказал билеты на пароход, потом вернул их обратно. Задумал поехать в Нью-Йорк, один, но Нинетта Пэйн как раз в это время затеяла против него судебное дело о водоемах, и пришлось остаться в Глен-Эллене. Почти все соглашались с тем, что он имеет право пользоваться водой. В последний день судебного разбирательства он давал показания четыре часа подряд и покинул зал суда вместе с Форни, который говорит, что у Джека в этот день были сильные боли: начиналась уремия. Несколько дней спустя он пригласил к себе на завтрак всех соседей, от имени которых было подано прошение в суд. Вот тогда-то за дружеской беседой они и стали уверять его, что никогда не хотели, чтобы суд запретил ему пользоваться водоемом. Во вторник, 21 ноября 1916 года, он закончил все сборы, чтобы на другой день уехать в Нью-Йорк, и до девяти часов вечера мирно беседовал с глазу на глаз с Элизой. Он сказал ей, что заедет на скотный базар в Чикаго, отберет подходящих животных и отправит на ранчо, а Элиза согласилась съездить на ярмарку в орегонский город Пендлтон и посмотреть, нельзя ли там подыскать коротконогих телок и бычков. Джек велел ей, во-первых, выделить в распоряжение каждой рабочей семьи участок земли в один акр и на каждом участке построить дом; во-вторых, подобрать площадку для общинной школы и, в-третьих, обратиться в специальные агентства, чтобы нашли хорошую учительницу. Кроме того, нужно было также выбрать участок для постройки магазина. Он стремился поставить дело так, чтобы все необходимое производить здесь же, на ранчо, создать натуральное хозяйство – кроме муки и сахара, ничего не привозить. Пора было ложиться спать. По длинному коридору Элиза проводила его до дверей кабинета. . – Вот ты вернешься, – сказала она ему, – а я уж и магазин построю, и товаров туда навезу, и школу отделаю. Выпишу учительницу – ну и что там еще? Да, потом мы с тобой обратимся к правительству – пускай уж у нас откроют и почтовое отделение; поднимем флаг, и будет у нас здесь свой собственный городок, и назовем мы его «Независимость», верно? Джек положил ей руку на плечи, грубовато стиснул и совершенно серьезно ответил: – Идет, старушка, – и прошел сквозь кабинет на террасу в свою спальню. Элиза отправилась спать. В семь часов утра к ней в комнату с перекошенным лицом влетел Секинэ, слуга японец, сменивший Накату: – Мисси, скорей! Хозяин не в себе, вроде пьяный! Элиза побежала на веранду. Одного взгляда было довольно; Джек – без сознания. Она бросилась к телефону: Сонома, доктор Аллен Томпсон. Врач обнаружил, что Джек уже давно находится в глубоком обмороке. На полу он нашел два пустых флакона с этикетками; морфий и атропин, а на ночном столике – блокнот, исписанный цифрами – вычислениями смертельной дозы яда. Томпсон распорядился по телефону, чтобы сономский аптекарь приготовил противоядие от отравления морфием, и попросил своего ассистента, доктора Хейса, привезти препарат на ранчо. Врачи промыли Джеку желудок, ввели возбуждающие вещества, растерли конечности. Лишь однажды во время всех этих процедур им показалось, что он приходит в себя. Глаза Джека медленно приоткрылись, губы задвигались, он пробормотал что-то похожее на «Хелло» и снова потерял сознание. Обязанности сестры, вспоминает доктор Томпсон, исполняла убитая горем Элиза. Что касается миссис Чармиан Лондон (которой Джек в 1911 году завещал все свое состояние), «она в тот же день упомянула в разговоре со мной, что если Джек Лондон умрет, – а сейчас это представляется весьма вероятным, – его смерть не должна быть приписана ничему, кроме уремического отравления. Я возразил. Приписать кончину ее мужа только этому будет трудно: любой утренний разговор по телефону могли нечаянно услышать. Да и аптекарь мог рассказать кому-нибудь о том, что приготовил противоядие; таким образом, причину смерти все равно будут искать в отравлении морфием». Около семи часов вечера Джек умер. На другой день его тело перевезли в Окленд, где Флора, Бэсси и обе дочери устроили ему панихиду. Весь мир оплакивал его смерть. В европейской прессе этому событию уделялось больше внимания, чем смерти австрийского императора Франца Иосифа, скончавшегося накануне. Поступок жены Лютера Бербанка лучше всего рисует скорбь американцев: в ее доме веселилась компания молодежи, собравшейся в университетский городок. Развернув газету, миссис Бербанк крикнула им; «Перестаньте смеяться! Джек Лондон умер!» Эдвин Маркгэм назвал его когда-то частицей юности, отваги и героизма на земле. С его уходом еще один светоч мира погас. Ночью его кремировали, а прах привезли обратно на Ранчо Красоты. Всего две недели назад, проезжая с Элизой по величественному холму, Джек остановил своего коня; – Элиза, когда я умру, зарой мой пепел на этом холме. Элиза вырыла яму на самой вершине холма, защищенной от жаркого солнца земляничными и мансанитовыми деревьями, опустила туда урну с прахом Джека и залила могилу цементом. Сверху она поместила громадный красный камень. Джек называл его: «Камень, который отвергли строители».Несколько штрихов к портрету
Версия Ирвинга Стоуна о самоубийстве Джека Лондона в последние годы подверглась обоснованной критике и была литературоведами опровергнута. Наиболее серьезные доводы высказал американский профессор Альфред Шивере[14]. Перескажем их в кратце.Сообщая о клочке бумаги, на котором якобы был рукою Лондона сделан подсчет смертельной дозы лекарств. Стоун ссылался на Томпсона, одного из трех врачей, вызванных к постели умирающего. Шиверсу кажется странным, что врач 21 год хранил эту тайну и что никто другой зтой бумажки не видел. Но все же Шивере, сам в прошлом фармацевт, решил найти ту книгу, которая могла помочь подсчитать смертельную дозу морфина. Он обследовал все медицинские книги в библиотеке Лондона. Их оказалось 3d В четырех из них есть разделы о морфине, однако нигде не указывается смертельная доза, и нет ни малейшего намека, как ее подсчитать. Шивере обратился к терапевту и к двум фармацевтам. Никто из них не знал смертельной дозы и не мог ее определить с помощью справочной литературы. Если современные врачи не в силах определить смертельную дозу морфина, заключает Шивере, го как же мог ее подсчитать полвека назад не имеющий медицинского образования Джек Лондон? Пустые ампулы из-под прописанного врачом морфина сульфата с атропином сульфатом, найденные на полу спальни, тоньше и более чем вдвое короче обыкновенного карандаша. Если не обе, го одна из них вполне могла быть опустошена ранее и пролежать на полу незамеченной несколько дней. Это сокращает порцию лекарства, принятого Лондоном единовременно той трагической ночью. Кроме того, выясняется, что Лондон принимал это наркотическое средство почти год, и привычка значительно увеличила действенную дозу. С другой стороны, известна способность морфина накапливаться в организме до опасных пределов. «Вычисления» Лондона, вероятнее всего, – запись доз, принятых в течение длительного времени. Предупрежденный об аккумулирующем свойстве организма, он делал их, чтобы избежать опасности отравления или запомнить предыдущие дозы, приносящие необходимое облегчение. Одним из аргументов в защиту самоубийства в книге другого американского биографа, Р. О'Коннора[15], было то, что заключение о смерти Лондона подписано только одним врачом, хотя у постели находились три врача. ОТСоннор из этого делал вывод, что остальные не были согласны с диагнозом. Однако ознакомление с фотокопией заключения, пишет Шивере, показывает, что на бланке предусмотрено место только для одной подписи, такие свидетельства требуют лишь одной подписи. Подписал заключение, естественно, Портер, лечащий врач Лондона. Своего мнения о причинах кончины Джека Лондона Портер не изменил и после выхода книги Стоуна. В беседе с дочерью писателя Джоан Портер подтвердил, что в последние месяцы жизни состояние здоровья Лондона было таким тревожным (а он не следовал предупреждениям и не выдерживал режима), что трагической развязки можно было ожидать в любое время. Если бы Джек Лондон действительно хотел покончить с собой, подчеркивает Шивере, и с ним нельзя не согласиться – он не выбрал бы такой мучительный (10-12 часов агонии) и неверный способ. Этот человек, воплощение достоинства и мужества, не избрал бы такой «женский» путь ухода из жизни: у него всегда был под рукой кольт сорок пятого калибра. О непредумышленности смерти говорят и письма, отправленные Джеком Лондоном накануне, и его приготовления к отъезду в Нью-Йорк, и другие факты. Шивере приходит к выводу, что смерть Лондона была следствием острого уремического отравления, как и сообщалось во врачебном заключении, а сильная доза морфина, судя по всему, ускорила гибель. Вместе с тем нельзя полностью исключить и вероятность нечаянного отравления слишком большой дозой лекарства, аккумулированного в организме, или просчета больного человека, принимавшего во время острого ночного приступа новые и новые порции лекарства, чтобы избавиться от боли. Но нет никаких оснований – это совершенно отвергает Шивере – для версии о сознательном самоубийстве. Две пустые ампулы как раз свидетельствуют против этого, ибо они, как и листок с подсчетами, явно срывали маскировку, если бы таковая была нужна Джеку Лондону. В любом случае, было ли то уремическое отравление или отравление морфином, или и то и другое вместе, смерть Лондона не была предумышленной. Таким выводом заканчивает А. Шивере свою хорошо аргументированную работу. Виль Быков
Джек Лондон и Россия
В книге Стоуна почти не отражена тема России в жизни и творчестве Джека Лондона. Между тем интерес к русской истории, литературе и революционному движению Лондон проявил задолго до того, как стал писателем. Литературоведы неизменно говорили, в частности, о влиянии на писателя русской революции 1905-1907 гг. Это влияние прослеживалось по статьям, выступлениям и роману «Железная пята». Кто же поддерживал интерес Лондона к России? Обычно ссылались на Анну Струнскую – соавтора Лондона ро роману «Письма Кемптона и Уэйса», родившуюся в России. Но этот роман был закончен Лондоном и Струнской в 1902 г., а каковы были отношения этих двух людей в дальнейшем, что, собственно, могла сообщить Джеку Лондону Анна Струнская, ребенком привезенная в США и там воспитанная, оставалось неясным. Мне удалось встретиться с Анной Струнской в США в 1959 г., а впоследствии мы переписывались. Выяснилось, что в 1905-1907 гг. Струнская совершила поездку в Россию. Она была там вместе с сестрой и мужем – известным американским публицистом Уильямом Инглишем Уоллингом – почти два года. Цель поездки – выяснить правду о русской революции, помочь разоблачению самодержавия в международном масштабе, морально и материально поддержать революционное движение. Уоллинги посетили многие города и деревни, были на Украине, в Поволжье, в Крыму, а также л Польше и Финляндии Уоллинш были социалистами. Это открыло им доступ к революционным кругам, в том числе к революционерам, находящимся в подполье. У Инглиша было рекомендательное письмо к В И Ленину, и он с ним встретился, о чем упоминается в книге Уоллинга «Послание России». Американский публицист и его жена имели беседы с Львом Толстым, Горьким, Короленко, с десятками видных людей России. Были арестованы царской охранкой. Отвечая на мой вопрос, Струнская сообщила, что обсуждала с Лондоном идеи и цели русской революции, рассказывала ему о героях русского революционного движения, о том, чему посвящена была ее неопубликованная книга: о жизни и подвигах Софьи Перовской, Веры Фигнер, Веры Засулич и других народовольцев. Она пересказывала Джеку книгу С М СтепнякаКравчинского «Подпольная Россия», давала ему читать «Овод» Э Л Войнич. По словам Струнской, Лондон понимал Россию инстинктивно. Среди документов, присланных мне Анной Струнской, имеется вырезка из какой-то американской газеты. Привожу ее почти полностью. «Мисс Анна Струнская и мисс Роза Струнская завтра утром уезжают из Сан-Франциско в Женеву (Швейцария), в штаб русских революционеров, где они присоединятся к революционерам, борющимся против царя. Юные леди присутствовали в субботу вечером на банкете, устроенном несколькими лицами, среди которых был и знаменитый Джек Лондон… Молодые леди получат в Женеве инструкции и видимо проследуют в Россию…» Конец заметки написан в духе детектива. И либо прибавлен для сенсационности, либо по злому умыслу. Вряд ли, если бы у Струнских была цель заехать за инструкциями в некий «штаб», они сообщили бы об этом ретивому репортеру. Однако тому, что были проводы и что на них присутствовал Джек Лондон, – этому можно верить. До октября 1905 г. Лондон находился в Глен-Эллене, неподалеку от Сан-Франциско. В конце октября он отправился в поездку по Соединенным Штатам с лекциями о революции и роциализме. Анна уехала незадолго перед тем, ее путь был далек и опасен. Джек знал это и переживал за друга. Его отношения с Анной Струнской были сложными и запутанными. Их связывала общность целей, совместная работа. Лондона покорила душевная чистота и искренность девушки. Он был близок к женитьбе на ней в 1900 г.: это видно по их переписке. Анна писала мне, что любила Джека, но не была уверена во взаимности. Неожиданно он женился на Бэсси Маддерн, невесте погибшего друга. Позже, в мае 1902 г., Джек предложил Анне выйти за него замуж, но теперь она ему отказывает. У него не получалась семейная жизнь Через год он ушел от Бэсси, и пресса немедленно связала этот уход с Анной Струнской. Их отношения к осени 1905 г. отравлены газетной шумихой и поэтому первое письмо Струнской из-за границы адресовано оклендскому социалисту Бэмфорду, не преминувшему, конечно, его показать Лондону. Но вскоре и Джек получил письмо от Анны. В ноябре 1905 г., добившись развода от Бэсси, он женится на Чармиан. Струнская была уже на пути в Россию, она ехала к Уоллингу, который станет ее мужем. Первые недели в стране, где родилась, захлестнули Анну новизной и заботами, она жадно впитывала все увиденное. Ее первая весть Джеку была краткой. Вот второе ее письмо:Санкт-Петербург, 24 марта 1906.
Дорогой Джек,
Роза только что ворвалась в комнату. «На субботу объявлена забастовка железнодорожников… нам лучше уехать в Москву в четверг». Представь себе нашу радость! Давно настало время для забастовки и для Всего Дела[16]. Правительство совершенно сошло с ума – реакция свирепствует. Тех, кого боги хотят уничтожить, они вначале лишают рассудка. Дурново и Витте вот-вот подадут в отставку. Джек, я слышу твой хохот по поводу этого хаоса. Я еще не опомнилась от удивления, что я – в России. В сбывшейся мечте есть что-то пугающее. Всю свою жизнь я обращала взоры к этой стране, но она казалась недосягаемой. Были времена, когда я даже сомневалась, имею ли я право на столь страстный интерес к этой стране. Я ругала себя за надежды и планы, и все же я надеялась и строила планы. А теперь я здесь, и время, о котором мы мечтали, настало. Все идет так, как мы хотели… и это слишком хорошо, просто не верится! Я просто не знаю, что делать с переполняющим меня счастьем и восторгом… Мы с Инглишем возвратимся в Америку, как только революция нам позволит, вероятно в сентябре. Я не сказала Вам, когда писала, что тот, кого я люблю и кто люби г меня, – это Инглиш Уоллинг. Мы пробудем в Америке около двух месяцев, а потом вернемся сюда еще на год для изучения международных потрясений. Конечно, если забастовка шахтеров выльется в нечто более мощное, мы должны будем раньше уехать, а по возвращении пробыть здесь дольше! Я могу прислать Вам прекрасный материал: прокламации, рассказы, слухи, – пожалуй, не менее первозданный, чем Клондайк, но в то же время, конечно, острый и содержательный. Инглиш и я придерживаемся одного мнения, что Вам нужна Россия, так же как Международному Делу нужны Вы. Почему, Джек? Потому что это единственное живое место в мире! Здесь все: мелодрама, фарс и трагедия, небеса и ад, отчаяние и вера. Это революция из революций, истинное начало удивительного конца. Разве вы найдете такое в другом месте? Инглишу понравилась наша книга. Мы купили много экземпляров английского издания и несколько уже раздали. (Через два месяца она вручит эту книгу великому Толстому. – В. Б.) Мне становится стыдно подумать, что книгу, которую мы вместе написали, пропустила русская цензура! Вы должны встретиться с Горьким. Он едет с лекциями в Америку. Я обещала ему Вашу рецензию на «Фому Гордеева», опубликованную в «Импрэшнс». Он хочет с Вами познакомиться. Он – великая личность. В его лице и голосе горе. Целую неделю мы ходили под впечатлением двухчасовой встречи с ним. Это Инглиш уговорил его написать послание к рабочим мира. Примерно через полтора месяца мы ожидаем приезд отца и матери Инглиша. Потом в конце лета мы возвратимся домой месяца на два (Роза, возможно, будет ожидать нас в Париже), затем поедем опять в Россию, Францию и Германию еще на год. В Нью-Йорке мы будем жить в доме № 3 по Пятой авеню, кооперативном доме, снятом восемью социалистами. (В этом самом доме в апреле будет принят Горький. – В. Б.) Видите, как моя любовь еще глубже ввергает меня в мир. Мы решили никогда не иметь дома, никогда не привязывать себя ни к какой секте, никогда не мешать жизни играть с нами, никогда не мешать друг другу. Это не теория, а реальная действительность – такова натура человека, который меня любит. Он еще меньше буржуа, чем я, а я совсем не буржуазна. Он мой старший товарищ, сердце моего сердца. Наши жизни, любимый мой друг, покажут Вам, как хороша эта любовь!
С дружеским приветом, Анна.
Это письмо Джек Лондон получил в апреле. Неизвестно, дошли ли до него материалы о русской революции, но точно известно, что в августе он начал лихорадочно работать над «Железной пятой» и к концу года она была закончена. Первая в Америке книга о пролетарской революции. Книга американская, и действие ее развивается в Америке. Но вся она пронизана тем живым кипением, которое увидела Анна в далекой, никогда не виденной Джеком России. Только в трех-четырех случаях Лондон прямо ссылается в романе на русский опыт. Однако они существенны. Он говорит, что при организации боевых групп революционеры воспользовались опытом русской революции, а реакция создала нечто вроде «черных сотен», использованных в свое время самодержавием. Далее, рассказывая о переходе сына олигарха на сторону революции, писатель в подтверждение приводит пример сыновей русских дворян. Опыт русской революции оказал влияние на концепцию романа. Кровавая расправа царского правительства с восставшим народом убедила Лондона в шаткости надежды на мирную передачу власти трудящимся, он пришел к выводу о неизбежности вооруженного восстания. Но речь здесь идет не о «Железной пяте», а об одном из путей, каким тема России врывалась в творчество американского писателя. Об этой стране и героизме революционеров говорил он в лекциях и статьях, презрением ответив на вой буржуазной прессы, когда он назвал русских революционеров своими братьями. Он читал Толстого, Достоевского, Тургенева, Горького. Лондон собирал материал для рассказа из эпохи русской революции, может быть, по совету Анны. В его бумагах, которые хранятся в библиотеке Генри Хантингтона, есть обложка с надписью: Russian Revolution Short Story[17]. В ней находятся две вырезки. Одна на трех страницах из «Индепендента» – описание всеобщей стачки в Петербурге, другая из какойто социалистической газеты за 1906 г., озаглавленная «Максим Горький отвечает некоторым буржуазным корреспондентам». Это, конечно, не те материалы, что обещала Анна: они извлечены из американских газет самим Джеком Лондоном. Этих документов, даже если добавить присланное Анной, писателю недостаточно для художественного произведения. Он должен был сам, хотя бы краем глаза, увидеть то, о чем думал писать. Так он привык Его сердце ответило на призыв Анны Он подписал воззвание с предложением оказать помощь русскому народу в его борьбе против самодержавия и торопливо строил яхту «Снарк». Разрабатывая летом 1906 г маршрут своего кругосветного путешествия, он включил Россию. Он хотел пробыть гам зиму. Но Лондону не повезло: разрушительное землетрясение в Сан-Франциско задержало постройку яхты более чем на полгода, а потом в южных морях его свалила неведомая тропическая болезнь и он вынужден был прервагь путешествие, едва добравшись до Австралии. На исходе был 1908 г. Уоллинги уже возвратились в Нью-Йорк. К лету следующего года в Сан-Франциско из Австралии вернулся Лондон. Связь между Анной и Джеком почти прервалась: только Уоллинг пишет Лондону и Горькому по партийным делам. Россия перестала быть центральной темой прессы. Царскому правительству удалось расправиться с революционным движением Русские тела отходили на задний план, однако американский писатель не забыл о русской революции и преподанных ею уроках. Ему не довелось побывать в России, поэтому он не рискну:! избрать местом действия эту страну, но он все же выводит русских героев в новом своем романе, действие которого развертывается в Америке. Драгомилов и его дочь Груня – главные герои его неоконченного романа «Бюро убийств». Прототипом для третьего героя, возлюбленного Груни, Холла, взят Инглиш Уоллинг. Лондон прямо говорит о длительной поездке Холла в годы революции в Россию, о его статьях, появившихся в американских журналах, его книгах. В романе Лондон рассказывает о компании, занимающейся исполнением заказов на убийство любого лица – вплоть до короля и президента. Однако в отличие от заурядных гангстерских шаек Бюро требует от заказчика исчерпывающего обоснования смертного приговора. Должно быть доказано, что осуждаемое на смерть лицо заслуживает сурового приговора, он «социально оправдан». Бюро принимает заказ на уничтожение шефа полиции, признав несправедливость его методов расправы над анархистами, на убийство железнодорожного магната Бургесса, уничтожает продавшихся предпринимателям руководителей горняков. Члены этой конспиративной организации неукоснительно следуют принципам, положенным в ее основу, они действуют по убеждению. Драгомилов, глава и создатель Бюро, настолько предан этим принципам, что, будучи переубежден Холлом и поняв бесперспективность методов индивидуального террора и вредность своей деятельности, принимает заказ на уничтожение собственной персоны, поскольку считает, что заслуживает смерти. Нацелив на себя всю машину Бюро убийств, он намерен одержать победу и таким путем привести к краху террористическую организацию. Пытаясь привести в исполнение приговор, один за другим погибают члены Бюро, и оно прекращает свое существование. Деятельность Бюро отдаленно напоминала деятельность перенесенных на американскую почву боевых групп народовольцев. Имелись сторонники тактики индивидуального террора и в США Их называли анархистами. Лондон вспомнил о делах русских революционеров, про которых рассказывала Анна. Они героически шли на смерть, уничтожая видных царских чиновников, совершая покушения на самого царя. Подвиги русских народовольцев были красивы, ярки, они требовали безграничного мужества, готовности к самопожертвованию, но они не приносили облегчения народу и не могли изменить существующего социального строя. Индивидуальный террор отвлекал от задач народной революции. Это понял. Джек Лондон. И в своем последнем романе он осудил методы анархистов, что говорило о политической зрелости писателя. Он верил в революцию масс.
* * *
Известность Джека Лондона быстро дошла до России, вскоре после того, как он завоевал популярность на родине. В этой далекой стране его ожидала не меньшая, и уж во всяком случае более устойчивая популярность, чем в США. На русский язык переводить произведения Джека Лондона начали в середине первого десягилетия нашего века. Еще при его жизни в России было предпринято два издания многотомных собраний его сочинений. «По общему колориту творчества и выбору сюжетов, – писали в 1911 г. «Русские ведомости», – это, быть может, самый оригинальный беллетрист наших дней. Автор никому не подражает, страшится всего шаблонного и избитого, создает нечто, во всяком Случае, совершенно своеобразное» Рецензенты почти единодушно подчеркивали свежесть и оптимизм творчества Лондона, видели в нем певца отваги и мужества. Некоторые авторы противопоставляли жизнеутверждающий пафос его книг декадентским сочинениям, получившим сильное распространение в России после поражения революции 1905 года. Русские писатели – современники Лондона – также восхищенно отзывались о даровании своего американского собрата по перу. «В Джеке Лондоне я люблю его спокойную силу, – писал Леонид Андреев, – твердый и ясный ум, гордую мужественность. Джек Лондон – удивительный писатель, прекрасный образец таланта и воли, направленных к утверждению жизни… Талант его органичен, как хорошая кровь, евеж и прочен, выдумка богата, опыт огромен». А Куприн главное достоинство прозы Лондона увидел в «ясности, дикой своеобразной поэзии, мужественной красоте изложения и какой-то его особенной, собственной увлекательности сюжета». «Этот американец, – писал Куприн, – гораздо выше Брет Гарта, он стоит на одном уровне с Киплингом, этим удивительным бытописателем знойной Индии. Есть между ними, не касаясь тона, стиля и манеры изложения, и еще одна разница: Джек Лондон гораздо – проще, и эта разница в его пользу». Интересна оценка творчества Лондона А. В. Луначарским в его книге по истории зарубежных литератур. Она перекликается с мнением Горького, которое мы цитировали в предисловии, и углубляет его: «Некоторые его повести и особенно большой роман «Железная пята» должны быть отнесены к первым произведениям подлинной социалистической литературы». После Октябрьской революции известность Джека Лондона в нашей стране стремительно возросла. В советское время издано более 48 млн. экземпляров его книг. Многотомные собрания его сочинений выходили в РСФСР, на Украине, в Белоруссии, Армении, Грузии. Сборники его произведений опубликованы на 33 языках народов СССР. Книги Лондона – образец литературного мастерства и источник вдохновения. В. Маяковский обратился к роману «Мартин Идеи» как мотиву для сценария фильма «Не для денег родившийся» и играл в этой картине главную роль. Любили произведения Лондона Сергей Есенин, Александр Грин и писатель, в творчестве которого тема мужества нашла своего выдающегося певца, – Николай Островский. Александр Фадеев прямо назвал Лондона своим литературным учителем. «Напрасно Вы категорически вымели Джека Лондона из числа моих литературных учителей, – писал он. – Вспомните только, в каком диком краю я вырос. Майн Рид, Фенимор Купер и – в этом ряду – прежде всего Джек Лондон, разумеется, были в числе моих литературных учителей». Раз уж мы заговорили о влиянии произведений Лондона, процитирую еще одно высказывание Горького: «Джек Лондон. Его волюнтаризм. Рыцари. Воспитал ли он рыцарей в России? Я думаю – да. Это те, которые шли вперед и погибли на фронтах гражданской войны». Обратившиеся к сочинениям Джека Лондона советские литературоведы выявляют идейно-эстетические и нравственно-этические корни его творчества. Не закрывая глаза на его слабости и противоречия, они подчеркивают свежесть и своеобразие его поэтики, особенности языка. Обаяние лондоновского таланта – в органическом слиянии реализма и романтики, прославлении героического начала в человеке. А необычная, полная смелых решений жизнь Джека Лондона сама по себе не могла не вызывать особого уважения читателей и историков литературы, она неизменно усиливала всеобщий интерес к его творчеству. Первый космонавт Юрий Гагарин назвал Лондона среди своих любимых писателей. Космонавт Павел Попович признался, что первой книгой, которую он взял бы в дальний космический полет, был бы томик Джека Лондона. Че Гевара в критические минуты жизни вспоминал о стойких персонажах американского писателя. К свидетельству героев нашего времени, естественно, нельзя не прислушиваться. О воздействии Джека Лондона на современную молодежь говорят отклики школьников, приведенные в интервью учителя журналу «Смена»: Лондон оставляет после прочтения ощущение мужественного рукопожатия. Это такой писатель, который становится другом на всю жизнь. Учеников подкупает благородная, чистая мужская прямота его стиля, какой-то милый здоровый юмор, целомудрие, вера в дружбу, в бескомпромиссную любовь – все это как дыхание сосен и тихоокеанского ветра. Зная о России лишь по книгам и рассказам, Лондон угадал душу ее народа, угадал его талантливость. В 1916 г., накануне Октября, он сказал пророческие слова: «Славяне – самая юная нация среди дряхлеющих народов, им принадлежит будущее». С Джеком Лондоном, отдыхавшим на Гавайских островах всего за несколько месяцев до смерти, встречался один русский журналист. Писатель радушно принял гостя. Они подолгу беседовали. Был опубликован очерк об этих встречах, живо воссоздающий облик Лондона. В конце жизни Джек Лондон часто вспоминал о далекой России. По словам Чармиан, он рвался в Россию и хотел написать о ней книгу. Виль БыковИменной комментарий
Аристотель (384-322 до н. э.) – древнегреческий философ и ученый, сторонник умеренной демократии и полисного устройства государства. Его политические взгляды изложены в сочинениях «Политика» и «Афинская политая». Бабеф Гракх (наст, имя – Франсуа Ноэль) (1760-1797) – французский революционер, один из идеологов уравнительного утопического социализма. Барри Джеймс (1860-1937) – шотландский писатель, автор психологических романов и повестей из деревенской жизни. Джек Лондон высоко ценил его творчество. «Барри – настоящий мастер. А его причудливая обрисовка характеров персонажей напоминает лучшие строки Диккенса» (письмо к А. Струнской от 20 февраля 1900 г.). Бастиа Фредерик (1801-1850) – французский буржуазный экономист, адепт свободного предпринимательства и свободы торговли. Упомянутое произведение – «Экономические гармонии» (1850) – выдвигает теорию единства интересов труда и капитала, скрывающую эксплуатацию. Бём-Баверк Эйген (1851-1914) – австрийский экономист и государственный деятель (министр финансов, с 1911 г. – президент австрийской Академии наук). В своем основном сочинении «Капитал и прибыль» стремился опровергнуть марксистскую теорию стоимости и прибавочной стоимости. Беркли Джордж (1685-1753) – английский философ, представитель субъективного идеализма. Его учение стало источником некоторых идеалистических концепций буржуазной философии конца XIX – начала XX в. Бернхэм Клара Луиза (1854-1927) – американская писательница, автор романов, рассказов, стихотворений. Ее сочинения неглубоки по содержанию. Бирс Амброз (1842-1914) – американский писатель. Писал в традиции Э. По, Брет Гарта. Для его рассказов характерен цинизм, злая ирония, интерес к состоянию страха, отчаяния. Джек Лондон им восхищался, но оговаривался, что Бирс «взывает к разуму, но не к сердцу» (письмо к К. Джонсу от 30 марта 1899 г.). Боас Франц (1858-1942) – американский антрополог, этнограф, лингвист. Изучал обычаи и языки индейцев Северной Америки. Стихийный материалист, критик расизма. Брюстер Уильям Тенни (1869-1961) – американский писатель, критик, педагог и редактор, автор многих литературоведческих произведений, в том числе «Очерков по структуре и стилю» (1896). Бэкон Фрэнсис (1561-1626) – английский философ, критик средневековой схоластики, основоположник материализма нового времени (его учение способствовало формированию материализма Т. Гоббса, сенсуализма Дж. Локка, логики Дж. С. Милля). Основное сочинение – «Новый органон» (1620). Ватерлоо Стенли (1846-1913) – малоизвестный английский писатель, автор ряда книг, в том числе – «Истории Эба» (1897) Вейман Стенли (1855-1928) – английский романист, автор развлекательных исторических романов. Упомянутые книги – «Кавалер Франции» и «Под красной мантией» – вышли соответственно в 1893 и в 1894 гг. Вейсман Август (1834-1914) – немецкий зоолог, теоретик эволюционного учения. В своих работах развивал дарвинизм; ему, в частности, принадлежит теория наследственности, неверная в деталях, но в целом соответствующая современному представлению об этой проблеме. Виггин Кэт Дуглас (1856-1923) – американская романистка, популярная на рубеже XIX – XX вв. Автор книг для детей и юношества,ряда бестселлеров, в том числе «Ребекки с фермы Саннибрук» (1903). Гаррисон Уильям Ллойд (1805-1879) – американский общественный деятель, публицист, поэт. Активный участник аболиционистского движения. Возможно, Джек Лондон имеет в виду известный эпизод, происшедший в 1854 г., когда Гаррисон публично сжег Конституцию США, воскликнув: «И так сгинут все компррмиссы с тиранией!» Гарт Фрэнсис Брет (1836-1902) – американский писатель, автор знаменитых «Калифорнийских рассказов». Один из первых реалистов демократического направления Изображал быт и нравы людей, отверженных буржуазным обществом. Гарфилд Джеймс Авраам (1831-1881) – популярный американский государственный деятель, участник Гражданской войны на стороне «северян». Убит политическим противником через несколько месяцев после избрания на пост президента США. Гауптман Герхарт (1862-1946) – немецкий писатель, драматург, основоположник немецкого натурализма. Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) – представитель классической немецкой философии. Геккель Эрнст Генрих (1834-1919) – немецкий биолог, развивал и популяризировал эволюционное учение, естественнонаучный материализм. В тексте имеется в виду его сочинение «Мировые загадки» (1899), в которомГеккель утверждает материалистическое мировоззрение в противовес идеализму и агностицизму. Гексли Томас Генри (1825-1895) – английский естествоиспытатель, ближайший соратник Ч. Дарвина, популяризатор эволюционного учения. Занимался исследованиями в области зоологии, сравнительной анатомии, палеонтологии. Гиббон Эдуард (1737-1794) – английский историк-просветитель. В его основном сочинении «История упадка и разрушения Римской империи» (1776-1788) подробно изложена политическая история Рима, Византийской империи, некоторые проблемы западноевропейского средневековья. Гоббс Томас (1588-1679) – английский философ-материалист, развивал теорию о договорном происхождении государственной власти (теория «общественного договора», поднятая на щит мыслителями европейского Просвещения). Гудзон ТомсонДжей (1834-1903) – американский врач, интересовался психологией, спиритизмом. Среди его сочинений особой известностью пользовался «Закон феноменов физической жизни» (1894). Дебс Юджин Виктор (1855-1926) – видный деятель рабочего движения США. Участвовал в создании Социал-демократической партии (1897-1898), Социалистической партии (1900), возглавлял ее левое крыло, выступал против политики классового сотрудничества, неоднократно баллотировался на пост президента США (от Социалистической партии). В. И. Ленин высоко ценил Дебса как вождя американского пролетариата. Деланд Маргарет (1857-1945) – популярная в свое время американская писательница, автор десятков романов и рассказов. Роман «Джон Уорд, проповедник» (1888), рисующий философию дельца, – одно из наиболее известных ее произведений. Джеймс Генри (1843-1916) – американский писатель, автор психологических романов из жизни высших кругов общества. Тонкий стилист, по эстетическим принципам был близок к модернизму. Джеймс Уильям (1842-1910) – американский философ-идеалист, психолог, один из основателей прагматизма. Его учение сочетает биологизм с крайним индивидуализмом. Брат Генри Джеймса. Джекобе Уильям Уаймарк (1863-1943) – английский писатель, автор развлекательных рассказов на морские темы. Драммонд Генри (1851-1897) – один из популяризаторов эволюционного учения в Англии. Пытался совместить теорию естественного отбора с идеей божественного промысла. Дэеис Ричард Хардинг (1864-1916) – известный в свое время журналист и писатель. Писал интересно и живо. Его рассказ «Зловещая застава» – бестселлер 1903 г. Жордан Дэвид Старр (1851-1931) – американский натуралист, преподаватель, автор многочисленных статей, популяризирующих эволюционное учение, в том числе статьи «Заметки об эволюции» (1898). Зудерман Герман (1857-1928) – немецкий писатель, драматург, представитель немецкого натурализма. Ибсен Генрик (1828-1906) – норвежский драматург, оказавший существенное .влияние на развитие западноевропейской драматургии второй половины XIX в. Ирвинг Вашингтон (1783-1859) – американский писатель-романтик, предвестник критико-реалистической традиции в американской литературе. Сборник «Альгамбра» (1832) – одно из известнейших его произведений. Кальвин Жан (1509-1564) – один из лидеров Реформации, основатель кальвинизма Как религиозная идеология нарождающейся буржуазии, кальвинизм сыграл организующую роль в ранних буржуазных революциях, в борьбе с абсолютизмом. Политический идеал Кальвина – республика, где правит выборная аристократия и где власть рассредоточена между магистратами. Кант Иммануил (1724-1804) – один из основоположников немецкой классической философии. В частности, разрабатывал вопросы естествознания. Большое научное значение имеет его теория происхождения Солнечной системы. Кейн сэр Холл (1853-1931) – английский писатель и драматург, автор множества популярных, но вскоре забытых книг и киносценариев. Для них характерна идеология социального реформизма, сентиментальность, морализаторство. Клей Генри (1774-1852) – американский политический деятель, выразитель интересов торговых, финансовых и промышленных кругов; федералист, противник рабства, сторонник экспансионистской политики. Один из основателей и глава партии вигов. Киплинг Джозеф Редьярд (1865-1936) – английский писатель, автор стихотворений, романов, рассказов (сборники «Песни казарм», «Семь морей», «Пять наций»). Дж. Лондон очень ценил Киплинга как беллетриста, некоторое время находился под его сильным влиянием. Вместе с тем он видел и его слабые стороны. Коллинз Уильям Уилки (1824-1889) – английский писатель, автор романов развлекательного жанра, хотя и не чуждых порой некоторого критицизма. Роман «Новая Магдалина» (1873) о раскаянии «падшей» женщины относится к числу его известнейших произведений. Конрад Джозеф (наст, имя – Юзеф Теодор Конрад Коженёвский) (1857-1924) – английский писатель-неоромантик, автор мастерски написанных романов, новелл, повестей приключенческого жанра. Корелли Мария (наст, имя Маккей Мария Минни) (1855-1924) – английская писательница, в свое время чрезвычайно популярная, автор около тридцати романов в викторианском стиле. Крейн Стивен (1871-1900) – американский писатель; автор повестей, новелл, репортер, очеркист. Писал о жизни трущоб обездоленных детях, обличал ужасы войны. Предвосхитил многие мотивы творчества американских реалистов. Стиль Крейна лаконичен, исполнен драматизма; широко используется внутренний монолог. Кроуфорд Фрэнсис Марион (1854-1909) – американский писатель и историк. Автор многочисленных романов на исторические темы, изображал жизнь высшего общества. Кулбрит Айна Донна (1842-1928) – известная в свое время американская поэтесса, поэт-лауреат штата Калифорния (1915), автор поэтических сборников. Вместе с Брет Гартом участвовала в основании калифорнийского журнала «Трансконтинентальный ежемесячник». Лаплас Пьер Симон (1749-1827) – французский астроном, математик и физик, атеист по убеждению, Лаплас объяснил движение тел Солнечной системы на основании закона всемирного тяготения Ньютона. Лассаль Фердинанд (1825-1864) – деятель немецкого рабочего движения, мелкобуржуазный социалист, основатель одной из разновидностей оппортунизма в рабочем движении (лассальянства), лублицист. Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646-1716) – немецкий философ-идеалист, математик, физик, юрист, историк, лингвист. Учение Лейбница – высшее достижение философии XVII в., непосредственно предшествующее немецкой классической философии. Липпинкот – семья книгоиздателей в США. Фирма основана Джошуа Бэллиндером Липпинкотом (1816-1886). Во времена Джека Лондона ею руководил сын основателя Грейг Липпинкот (1846-1911). Локк Джон (1632-1704) – английский философ-просветитель и политический мыслитель. В своих политических трактатах Дж. Локк опровергал теорию о божественном праве абсолютной королевской власти. Его идеал – конституционная парламентская монархия по типу установившейся в Англии после 1688-1689 гг. Льюис Синклер (1885-1951) – американский прозаик, писал в традиции критического реализма, автор многих романов, рассказов на социальные темы. Лютер Мартин (1483-1546) – глава Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма. Несмотря на большую, по сравнению с кальвинизмом, умеренность, лютеранство, отвергая традиционную католическую церковную организацию, порывало с традициями феодального средневековья и способствовало утверждению буржуазного мировоззрения. Маддерн Фиск Минни (1865-1932) – американская актриса и режиссер, руководила (1901-1932) организованным ею театром «Манхаттан» в Нью-Йорке. В актерской игре и режиссерской деятельности развивала традиции реализма. Маккачин Джордж Барр (1866-1928) – американский журналист и писатель, автор популярных, но вскоре забытых романов («Беверли из Граустарка» – бестселлер в 1904 и 1905 гг.). Мак-Клюр Сэмюэл Сидней (1857-1949) – американский издатель, основатель издательской фирмы (1899), печатавшей большими тиражами дешевые издания новинок литературы, рассчитанные на массовую аудиторию. Макмиллан – семья книгоиздателей, владельцы одного из крупнейших книжных издательств США. Фирма основана Даниэлем Макмилланом (1813-1857). Мальтус Томас Роберт (1766-1834) – английский экономист, один из основоположников вульгарной политэкономии. Упомянутая работа «Опыт о законе народонаселения» (1798) пытается объяснить тяжелое положение трудящихся демографическими причинами. Мелвилл Герман (1819-1891) – моряк, путешественник, ставший известным американским писателем. Полуавтобиографические повести «Тайпи» (1846) и «Белый бушлат» (1850) посвящены его плаванию в Тихом океане, пребыванию на островах. В его самом значительном сочинении «Моби Дик, или Белый кит» (1851) авантюрно-морская тема сочетается с мотивами морального и социального протеста. Миллер Джоакин (наст, имя – Цинциннатус Хайнер) (1837-1913) – американский писатель, романист и поэт-романтик. Бывший золотоискатель, Киллер в своих произведениях прославлял пионеров Запада. Милль Джеймс (1773-1836) – английский философ, историк, экономист, придерживавшийся либерально-буржуазных политических взглядов. Выступал за некоторую реформу британской конституционной системы. Отец Джона Стюарта Милля. Милль Джон Стюарт (1806-1873) – английский философ-позитивист, экономист и общественный деятель, стоял на позициях буржуазного реформизма; в политэкономии – ученик и продолжатель Д. Рикардо и Т. Р. Мальтуса Имеется в виду, очевидно, часть его сочинения «Основы политической экономии» (1848). Мильтон Джон (1608-1674) – английский поэт и публицист эпохи английской революции, гуманист, близкий к идеям просветительства. Поэма «Потерянный рай» (1667) принадлежит к числу наиболее выдающихся произведений английской литературы Моррис Уильям (1834-1896) – английский писатель, художник, общественный деятель. Социалист-утопист. Критиковал капиталистическое общество за враждебность искусству и красоте. Мур Джон Герберт Смит (1838-1914) – американский писатель, натуралист, исследователь, писал о природе и животных. Ницше Фридрих (1844-1900) – немецкий философ, популярный в конце XIX – начале XX в. Проповедовал иррационализм, аморализм и культ сильной личности. Норрис Фрэнк (1870-1902) – американский писатель-реалист, один из основоположников критико-реалистической тенденции в американской литературе, развитой впоследствии Т. Драйзером, Э. Синклером, С. Льюисом. В романах «Спрут» (1901) и «Омут» (1903) (части задуманной трилогии «Эпос пшеницы») обличает хищничество монополий, описывает разорение фермеров. Художественные принципы Ф. Норриса были близки Дж. Лондону. Олкотт Луиза Мей (1832-1888) – весьма популярная в конце XIX в. американская писательница. Ее книги, адресованные в основном юношеству, подчас занимательны, но излишне сентиментальны и дидактичны. Наиболее известен автобиографический роман «Маленькие женщины» (1868). Остин Мэри (1868-1934) – американская писательница, публицист и драматург; феминистка, интересовалась фольклором индейцев. Ее произведения не выдержали проверки временем. По Эдгар Аллан (1809-1849) – американский писатель. Прудон Пьер Жозеф (1809-1865) – представитель французского мелкобуржуазного социализма, теоретик анархизма. В своем самом известном сочинении «Что такое собственность?» (1840) осуждал крупную капиталистическую собственность, но отстаивал мелкую собственность, не связанную с эксплуатацией чужого труда. Рескин Джон (1819-1900) – английский теоретик искусства, художественный критик, публицист, историк. Был популярен в среде либеральной интеллигенции конца XIX в. за романтическую критику капиталистического общества, враждебного искусству. Рикардо Дэвид (1772-1823) – английский экономист, идеолог промышленной буржуазии в борьбе с земледельческой аристократией. Автор трудовой теории стоимости, которая стала одним из источников марксистской политической экономии. Имеется в виду, очевидно, часть его основного труда «Начала политической экономии и налогового обложения» (1817). Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760-1825) – французский мыслитель, социолог, представитель утопического социализма. Сент-Аман (наст, имя – Имбер де Сент Аман Артур Леон, барон) (1834-1900) – французский литератор и политический деятель, автор многих популярных исторических сочинений, в основном по истории XVIII – XIX вв. Сетон-Томпсон Эрнест (1860-1946) – канадский писатель, естествоиспытатель, известен как автор книг о животных. Синклер Эптон Билл (1878-1968) – американский писатель-реалист, участник социалистического движения. Автор большого числа романов, обличающих большой бизнес. Наиболее известен роман «Джунгли», 1906. Художественный метод сближал Э. Синклера с группой «разгребателей грязи», литераторами – разоблачителями язв капиталистической Америки. Слокам Джошуа (1844-1909?) – американский путешественник, описывавший в художественных произведениях свои плавания. («Один под парусами вокруг света», 1900.) В ноябре 1909 г. вышел в очередное дальнее плавание и не вернулся. Смит Адам (1723-1790) – шотландский экономист и философ, основоположник классической английской политэкономии. А. Смит – идеолог промышленной буржуазии, критик феодальных институтов и пережитков. Основное сочинение – «Исследование о природе л причинах богатства народов» (1776). Смоллетт Тобайас Джордж (1721-1771) – английский романист, реалис г и сатирик, наряду с Г. Филдингом один из кпупнейших писателей английского Просвещения. «Приключения Перигрина Пикля» (1751) – его самый известный роман. Спенсер Герберт (1820-1903) – английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма. Основал органическую школу в социологии; основным законом социального развития считал закон выживания наиболее приспособленных обществ, В этике проповедовал утилитаризм и гедонизм. «Основные начала» – часть его сочинения «Система синтетической философии» (1862-1896). «Философия стиля» – эссе, вышедшее отдельным изданием (1873). Стерлинг Джордж (1869-1926) – известный в свое время калифорнийский поэт, автор ряда поэтических сборников. Стивенсон Роберт Льюис (1850-1894) – английский писатель, критик, публицист, автор занимательных приключенческих и исторических романов. Дж. Лондон высоко ценил мастерство Стивенсона, который сыграл немалую роль в формировании его художественного вкуса. Стэнли Генри Мортон (1841-1904) – американский журналист английского происхождения; исследователь Африки. Несколько раз пересекал Африканский континент, сделал ряд географических открытий. Суинберн Алджернон Чарлз (1837-1909) – английский поэт, продолжатель традиции романтиков, автор драматической трилогии в стихах о Марии Стюарт, поэм, баллад и т. д. По своим эстетическим принципам был близок к прерафаэлитам., Терстон Катрин Сесил (1875-1911) – английская писательница, автор быстро забытых бестселлеров. «Ряженые» – американское название ее самого известного романа «Джон Чилкоут, член парламента». Тирелл Джеймс Уильяме (1863-1945) – американский путешественник, описавший свой путь в книге «Через субарктическую зону Канады на каноэ и снегоступах…» (1897). Трейн Артур (1875-1945) – американский писатель, юрист, президент Национального института искусств и литературы. Уайльд Оскар Фингал О'Флаэрти Уилс (1854-1900) – английский писатель и критик. Эстетические воззрения О. Уайльда, нашедшие выражение в памфлете «Душа человека при социализме» (1891), сформировались под влиянием Дж. Рескина. Он представлял социализм как общественный строй, создающий наилучшие условия для развития индивидуализма и как следствие этого – развития искусств. Уйда (наст, имя – Луиза Де ла Раме) (1839-1908) – чрезвычайно модная в свое время английская писательница, автор романов, рассказов. Описывала в пессимистических тонах высшее общество, с симпатией и состраданием много писала о животных. Ее произведения неоднократно переиздавались, переводились, выпускались дешевыми изданиями. Уитмен Уолт (1819-1892) – американский поэт-новатор демократического направления. Автор сборника «Листья травы» (1855). Уитьер Джон Гринлиф (1807-1892) – американский поэт, участник аболиционистского движения. Лучшие его произведения – заметное явление демократической поэзии. Уоллес Алфред Рассел (1823-1913) – английский натуралист, одновременно с Дарвином разрабатывал теорию естественного отбора. Придерживался идеалистических взглядов на происхождение психических способностей человека и разделял веру в спиритизм. Фрейд Зигмунд (1856-1939) – австрийский врач и психолог, создатель психоанализа. Предложенный Фрейдом психоаналитический метод был развит последующими поколениями психологов и философов и оказал значительное влияние на развитие западной философии и социологии XX в. Фрейзер сэр Джеймс Джордж (1854-1914) – английский антрополог, этнолог, представитель классической школы английской антропологии. Внес большой вклад в изучение фольклора, религии, истории культуры. Фурье Франсуа Мари Шарль (1772-1837) – представитель французского утопического социализма. Харди Томас (1840-1928) – английский писатель, один из зачинателей критического реализма в английской литературе. Роман «Джуд Незаметный» (1896) – одно из самых значительных его произведений. Харрис Джоэль Чандлер (1848-1908) – американский писатель, знаток фольклора негров американского Юга, автор «Сказок дядюшки Римуса», рассказов и нескольких романов. Харрис Фрэнк (1856-1931) – английский и американский романист, критик, редактор газет и журналов («Ивнинг Ньюс», «Фортнайтли», «Вэнити Фэйр» и др.). По воспоминаниям современников, обладал высоким профессионализмом, литературным чутьем, но был мелочен и завистлив. Хиггинсон Томас Уэнтворт (1823-1911) – американский писатель и общественный деятель; участник аболиционистского движения. Автор эссе, романов, стихотворений. Холмс Оливер Уэнделл (1809-1894) – американский поэт, романист, эссеист. Ярый противник ханжества, религиозной нетерпимости. Особенно известны его сатирические стихи и пародии. Хоторн Юлиан (1846-1934) – американский романист, критик, очеркист. Сын писателя Натаниэля Хоторна, написавший широко известную биографию отца. Хоуэллс Уильям Дин (1837-1920) – американский писатель и критик В 90-е гг. обратился к христианскому социализму; писал критикующие буржуазное общество социально-утопические романы. Шейю Поль де (1835-1903) – французский и американский исследователь экваториальной Африки, автор книг о путешествиях и приключениях, в том числе «Африканских путешествий» (1861) и «Века викингов» (1889). Шоу Джордж Бернард (1856-1950) – английский писатель, драматург. Активно участвовал в социалистическом движении, был одним из учредителей и лидеров социал-реформистского Фабианского общества (1884), издавал брошюры и книги, пропагандирующие социализм. «Социалист-любитель» (1883) – самый острый по социальной тематике роман Б. Шоу. Элиот Джордж (наст, имя – Мэри Энн Эванс) (1819-1880) – английская писательница, автор романов на социальные и нравственные темы. Эмерсон Ралф Уолдо (1803-1882) – американский писатель и философ-идеалист, автор поэм и очерков на социально-этические темы, в которых морализаторство и проповедь самоусовершенствования он сочетает с апологией буржуазной цивилизации. Юм Дэвид (1711-1776) – английский философ, историк, экономист, публицист, предшественник позитивизма. Сформулировал основные принципы агностицизма. Политическое учение Юма критикует как феодально-аристократические, так и буржуазно-договорные концепции происхождения государственной власти. По мнению Юма, общество возникло вследствие разрастания семей, а государственная власть – из института военных вождей. Е. М. ЛазареваОсновные сочинения Джека Лондона и литература о нем
Лондон Джек. Собр. соч. В 14-ти т. Под общей редакцией Р. М. Самарина. – М.: Правда, 1961. – (Б-ка «Огонек»). Включает некоторые не публиковавшиеся ранее на русском языке статьи Лондона. Т, 1. Сын волка. Бог его отцов. Дети Мороза. Т. 2. Путешествие на «Ослепительном». Дочь снегов. Зов предков. Т. 3. Люди бездны. Мужская верность. Рассказы рыбачьего патруля. Т. 4. Морской волк. Белый клык. Т. 5. Луннолицый. Любовь к жизни. Дорога. Т. 6. Статьи. Железная пята. Путешествие на«Снарке». Кража Т 7. Мартин Идеи. Потерявший лица Т 8 Время-не-ждет. Когда боги смеются. Т. 9. Рассказы Южного моря. Сын Солнца Храм гордыни. Лютый зверь. Т. 10. СмокБеллью. Рожденная в ночи. Сила сильных. Т. 11. Джон Ячменное зерна Смирительная рубашка Алая чума Т. 12. Маленькая хозяйка большого дома Черепахи Тэсмана Голландская доблесть. Т. 13. Джерри-островитянин. Майкл, брат Джерри. Красное божество. Т. 14. На циновке Макалоа. Сердца трех Крупская Н. К. Что нравилось Ильичу из художественной литературы. – В кн.: Ленин о культуре и искусстве. М.: Искусство, 1956, с. 627-630. Андреев Леонид. О Джеке Лондоне. – В кн.. Лондон Дж. Собр. соч. Т. 1. Спб., 1911 Батурин С. Ваш во имя революции. М.: Детгиз, 1983. 160 с. Богословский В. Н. Джек Лондон. М.: Просвещение, 1964. 240 с. Быков Виль. Джек Лондон. Саратов: Изд-во гос. ун-та, 1968. 284 с Его же. На родине Джека Лондона М.: Детгиз, 1962 88 с. Его же. По следам Джека Лондона М.: Детгиз, 1983. 200 с. Джек Лондон: Биобиблиографический указатель. М.: Книга, 1969. 150 с. Зверев А Джек Лондоа М.: Знание, 1975. 64 с. Куприн А Заметка о Джеке Лондоне. – В кн.: Куприн А И Собр. соч Т. 3. М: Гослитиздат, 1953, с. 556-558. Полевой Борис. Несколько слов о Джеке Лондоне. – В кн.. Лондон Дж. Любовь к жизни. М.: Детгиз, 1976, с. 3-8. Садагурский А. Джек Лондон: Время, идеи, творчество. Кишинев, 1978. 200 с. Самарин Р. Джек Лондоа – В кн: Лондон Дж Собр соч В 14-ти т. Т. 1 М: Правда, 1961, с. 3-36. Стоун Ирвинг. Моряк в седле. Биография Джека Лондона М: Мол гвардия, 1962. 400 с. Фонер Ф. Джек Лондон – американский бунтарь. М : Прогресс, 1966. 240 с. Франс Анатоль. Предисловие к первому изданию «Железной пяты» во французском переводе. – В кн.: Франс А Собр. соч Т. 8 М. Худож. лит , 1960, с 756-759 Юнг Франц. Джек Лондон как поэт рабочего класса М; Л. Книга, 1925. 125 с. В. БыковИ.Стоун Греческое сокровище
Джин Стоун, моему собственному «греческому сокровищу», посвящаю
ИРВИНГ СТОУН

ГРЕЧЕСКОЕ СОКРОВИЩЕ
Биографический роман о Генри и Софье Шлиманах

От автора
Я хочу выразить глубочайшую признательность д-ру Фрэнсису Р. Уолтону, директору Геннадиевой библиотеки при Американской школе классических знаний в Афинах, а также его сотрудникам за их неизменную доброту и помощь в моей работе с архивами Генри Шлимана и за разрешение цитировать документы, в отношении которых они располагали авторским правом. Мне посчастливилось быть в Афинах в то время, когда последние внуки Шлимана передали в библиотеку большой портфель с личной перепиской Софьи и Генри Шлиманов и других членов семейства Энгастроменос: все эти письма наконец воссоединились с литературным наследием, уже хранившимся в библиотеке. Письма дают полную и истинную картину отношений между Софьей и Генри со дня их первой встречи до смерти Шлимана двадцать один год спустя. Кроме членов семьи, эти письма никто не видел, даже Эрнст Майер, с помощью потомков Шлимана выпустивший в 1953 и 1958 годах двухтомник его писем.
Книга первая. «Ты должен верить!»
1
Она помогала подругам убирать цветами икону св. Мелетия, раскладывая вокруг раки в центре маленькой церквушки маргаритки, поздние августовские хризантемы. Вбежала запыхавшаяся Мариго, младшая сестра: — Софья! Американец приехал! Твой поклонник, доктор Шлиман. Софья замерла с воздетыми руками, потянувшимися к гирлянде на стенке гробницы. — Уже? Мы ждали его не раньше субботы. — Не знаю, только он сидит в саду собственной персоной и пьет лимонад. Его привел дядя Вимпос. Мама говорит, чтобы ты поторопилась. — Сейчас приду. Скажи маме, что я сначала вымоюсь и переоденусь. Мариго выбежала в двойные деревянные двери, уже украшенные ветками мирта и аира. Софья опустила цветы на пол и немного постояла на домотканом коврике, новеньком, с пестрым геометрическим орнаментом: на праздник девушки заменили такими ковриками истершиеся церковные половички. Подруги тоже оставили работу и глазели на нее с нескрываемым интересом. До прошлого года они сопутствовали ей во всех летних развлечениях, когда семья Энгастроменос выезжала в Колон, прохладный, укрытый в тени деревьев пригород Афин, где у них был летний дом. А после банкротства отца он стал с нынешнего лета их постоянным домом. И только отказывая себе во всем да благодаря помощи и без того обремененного долгами дяди Вимпоса семья дала Софье возможность доучиться последний год в женской гимназии Арсакейон, дорогом, но зато лучшем учебном заведении в Греции. — Херете [2],— вполголоса сказала она подругам и направилась к выходу. На площади Св. Мелетия стоял густой благостный зной, мужчины сидели в кафе под пальмами и акациями за чашечкой крепкого турецкого кофе. На солнце посверкивали обязательные стаканы с водой, сверху перечеркнутые ложечкой. Дом Софьи был наискосок от церкви, но, изменив обычаю, она не пошла прямо через нагретую площадь, а обогнула ее тротуарами, где было прохладнее. Она не торопила судьбоносную встречу, ей хотелось спокойно вспомнить все, что произошло с того мартовского дня почти полугодовой давности, когда ее дядюшка затеял дело, сначала показавшееся семнадцатилетней Софье Энгастроменос едва ли не романтической причудой; а теперь оно с каждой минутой близилось к развязке. Тринадцать лет назад, в 1856 году, Теоклетос Вимпос, в ту пору семинарист в Петербурге, давал уроки древнегреческого языка некоему обрусевшему немцу, наделенному не только неутолимой жаждой к языкам, но и способностью выучивать каждый новый язык в течение нескольких недель. Этот человек не имел сколько-нибудь упорядоченного образования и вообще чуть не всю свою жизнь—а ему было тридцать четыре года — занимался оптовой торговлей индиго, оливкового масла и чая, сколотив состояние благодаря исключительно добросовестному отношению к качеству товаров и запросам покупателей. Двадцатичетырехлетний семинарист и Генрих Шлиман подружились. Генрих Шлиман родился 6 января 1822 года в Мекленбурге, Германия, в семье пастора. Изучив самостоятельно русский язык, он стал представителем амстердамского торгового дома «Шредер и К0» в Петербурге. Он на совесть служил здесь своим принципалам, получил разрешение открыть собственное дело, принял российское подданство. В самый разгар золотой лихорадки, в 1850 году, он едет в Калифорнию, где удваивает свой капитал. Вернувшись через два года в Петербург, Шлиман женился, обзавелся тремя детьми и в Крымскую войну разбогател в третий раз. Но в браке он был несчастлив. Весной 1869 года он уехал в Нью-Йорк, выправил документ о натурализации на имя Генри Шлимана и сразу отправился в Индианаполис оформить развод. Отсюда он написал несколько писем своему старому другу, теперь уже афинскому священнику, Теоклетосу Вимпосу с настоятельной просьбой подыскать ему молодую жену-гречанку. Отец Вимпос тотчас отправился к своим кузенам с сообщением, что намерен рекомендовать их юную дочь Софью. Характеризуя своего приятеля, который отныне именовал себя по-американски — Генри, он рассказал родителям Софьи, какое впечатление он вынес от посещений невских складов Шлимана. — В делах его называли фанатиком, своим служащим он доверял лишь простейшие обязанности. Сам принимал купцов, вникал в их пожелания, сам проверял товар, уходивший с его складов. Во время Крымской войны он получил монополию на поставки индиго, в котором русская армия испытывала острую нужду. К концу 1863 года, когда ему был всего сорок один год, он уже смог уйти от дел. Он признавался мне, что, хотя и любит деньги, они для него только средство осуществить заветную мечту: истратить их на поиски гомеровской Трои. И вот этот человек приехал в Колон два месяца спустя после окончания Софьей гимназии. Привстав на цыпочки, Софья легко, как в танце, повернулась на углу площади и пошла к дому. С коротким смешком она вспомнила письмо, которое Шлиман написал ее дяде из Парижа. Вимпос отдал ей его на память. Софья столько раз его перечитывала, что выучила наизусть. «Дорогой друг, не могу выразить, как нежно я люблю Ваш город и его граждан… Прахом моей матери клянусь Вам, что все свои побуждения и силы направлю к тому, чтобы сделать свою будущую жену счастливой. Клянусь, у нее не будет оснований жаловаться, я буду души не чаять в ней, лишь бы она была отзывчивой и доброй… Поэтому я прошу Вас прислать мне вместе с ответом фотографии нескольких красивых гречанок. Если же вы сами сделаете за меня выбор, то тем лучше. Умоляю Вас, выберите мне жену с таким же ангельским характером, как у вашей замужней сестры. Она должна быть бедной, но образованной девушкой, должна любить Гомера и желать возрождения моей любимой Греции. Неважно, знает она иностранные языки или нет. Зато обязательно, чтобы она была греческого типа, брюнетка и по возможности красивая. Но главное мое требование к ней — это доброе и любящее сердце. Может, у Вас есть на примете сирота, например дочь учителя, вынужденная пойти в гувернантки, и при этом обладательница нужных мне добродетелей?» В дом Софья решила войти через парадную дверь, которой вообще пользовались редко, но так ее не увидят из сада, где семья принимала именитого гостя. Уже взявшись за ручку, она на минуту замерла в нерешительности—входить ли? Иначе говоря, начинать ли знакомство с человеком, которого родные прочат ей в мужья? Как трудно решиться! «В конце концов, — подумала она, — Генри Шлиман ведь тоже еще ничего не решил». Ибо его второе письмо к дяде Вимпосу повергло в уныние ее мать, которую все в Колоне называли «мадам Виктория» за ее прилежное копирование облика британской королевы. Опровергая возможные подозрения в семейственных пристрастиях, Теоклетос Вимпос вместе с фотографией Софьи отослал Шлиману карточки еще двух красавиц. И в начале мая от Шлимана пришло письмо, написанное на новогреческом языке. «Я старый путешественник и хорошо разбираюсь в лицах, поэтому относительно двух девушек, судя по их фотографиям, скажу Вам сразу. Предки Поликсены Густи были итальянцы, это ясно по фамилии. По возрасту она вполне подходит мне в жены, но она девушка властная, нетерпимая, раздражительная и обидчивая. Может быть, я ошибаюсь, может, при личной встрече я обнаружил бы в ней сокровищницу всех мыслимых достоинств. Софья Энгастроменос прелестна, она приветлива, отзывчива, великодушна, хорошая хозяйка, живая и воспитанная девушка. Но увы, она слишком молода для сорокасемилетнего мужа». Софья повернула ручку, вошла в скромный, но приятный загородный дом Энгастроменосов и мимо гостиной и столовой прошла прямо на кухню. Там она взяла круглый таз и из огромного бака на плите плеснула в него кипятку. Осторожно, чтобы не расплескать воду, поднималась она по узкой лестнице к себе в спальню. Ее комната была угловая, она выходила окнами на площадь. Софья поставила таз на умывальник, постелила под ноги полотенце, из комода достала мягкую мочалку, кусок греческого мыла, бросила его в воду, чтобы немного обмылить острые края. Расстегнув спускавшийся от горла до талии ряд тесно посаженных пуговиц, она выскользнула из широкого длинного платья и повесила его за занавеской в углу комнаты; платье было простенькое, в цветочек, из недорогого материала, нечто среднее между органди и миткалем, отец торговал им в своей лавке на площади Ромвис. Нижнее белье она покидала на узкую кровать с бронзовыми спинками, а на венчающие их шишки повесила чулки. Намылила мочалку и стала растираться. Выпрямившись потом с полотенцем, она отразилась в зеркале над умывальником. У нее было гибкое, сильное тело с красивым покатом плеч, крепкая, хорошо развитая грудь и тонкая талия. Для гречанки у нее были удивительно длинные ноги, и в свои семнадцать лет она была выше многих своих ровесниц в Арсакейоне. Фигурой и характером она пошла в отцовскую родню. Ее поразила мысль, что она впервые смотрит на себя другими глазами, чем прежде. «Неужели потому, — думала она, — что у меня есть поклонник, что он сейчас сидит в нашем саду и, может быть, как раз обсуждает с родителями наш брак? И мое тело будет уже… не только мое? Его будут делить со мной муж и будущие дети? Как все это будет? И буду ли я так же счастлива в браке, как была счастлива девушкой?» Сидя на высоком постельном валике, она надела свежее белье, пахнувшее фиалками (мать клала в ее комод пучки сухих цветов), натянула на стройные ноги чулки. Потом опять бросила взгляд в зеркало, но теперь увидела только свое лицо. «Черты у меня, — она поискала нужное слово, — слишком правильные». Впрочем, в Арсакейоне внушали, что истинное украшение женщины — ее характер. Она состроила себе насмешливую гримасу и отвернулась от зеркала. Еще никто ни разу не назвал ее хорошенькой: это слово к ней не подходило. Зато некоторые разглядели-таки в ее чертах первый очерк благородной красоты: высокая и ладная посадка аристократической головы, обжигающие приметы душевного огня, ибо душа ее вмещала и силу и мягкость. Теплой волной прихлынуло воспоминание о том, что говорил ей на выпускном акте, в июне, дядя Вимпос. — Софья, дорогая моя девочка, ты сияешь счастьем сегодня, и в твоем лице выражается вся ясность и красота женщины классической Греции: эти черные как вороново крыло волосы, зачесанные за розовые раковины ушей, строгая чернота бровей, которые мы с тобой унаследовали от родственников твоей матери, большие темные глаза, прямой нос, светлый лик, красиво очерченный рот с чуть припухшей нижней губой, наконец, подбородок, словно выточенный в мастерской Фидия в Олимпии. И хотя у тебя легкий и добрый характер, что-то суровое проглядывает в выражении твоего лица и величественное— в манере держать голову. Это тоже в духе классической Греции. — Дядя Теоклетос, — воскликнула Софья, изумленная этой тирадой, ибо ее родственники в выражении чувств были весьма сдержанны, — ты сочинил романтическое стихотворение! — К сожалению, первое и последнее. Я как раз сегодня хотел тебе сказать, Софья. Я оставляю место профессора в университете, я буду епископом. — Епископом! Значит, ты никогда не сможешь жениться… — Или полюбить. Я не знал любви к женщине, Софья. Я любил только нашего господа и церковь. Моя инвеститура в ноябре, я буду епископом Мантинеи и Кинурии. Софье вдруг захотелось посмотреть на гостя, и она подошла к окну в коридоре. Выглянув в сад, она увидела мать с отцом. Они сидели к ней спиной, между ними сидел незнакомец. Это, конечно, Генри Шлиман, но она видела только его спину. В центре же группы, лицом к дому, восседал отец Вимпос, высокий, в черной священнической сутане до пят. Его худощавое тело венчала крупная голова. — Она и должна быть такой, — при случае объяснял отец, — иначе где бы поместилось столько ума? Я только удивляюсь, как у него не болит шея. Софья с нежным чувством слушала его звучный голос, который, восходя из глубины груди, набирал рокочущую силу. Теоклетос Вимпос был на двадцать лет старше Софьи, ему было сейчас тридцать семь, но выглядел он молодо. Коренной афинянин, он окончил факультет богословия в Афинском университете, потом продолжил образование в Москве и Петербурге, где, кстати, давал уроки Генри Шлиману, потом четыре года был стипендиатом Лейпцигского университета, под руководством двух европейских светил изучал древнееврейский язык, получил степень доктора философии. Двадцати восьми лет вернувшись в Афинский университет, он был назначен профессором теологии; он первым в Греции начал преподавать древнееврейский язык, издал первый учебник — «Начала древнееврейской грамматики». Шесть лет спустя, оставаясь профессором университета, он принял сан священника, правда без прихода. Зимой он приезжал в Колон советоваться с родителями Софьи. Жить ему придется в Триполисе, там была резиденция епископа, — это в центре Пелопоннеса, скудный и бедный горный район. При этом он кругом в долгах—много путешествовал, долго учился, и от суммы в две тысячи долларов он ежемесячно выплачивал ростовщикам два процента. Но он был завидный жених, и лучшие афинские семьи не остановились бы перед расходами на него. Как решиться на епископство, если жалованья за это не полагается? Как вообще разделаться с долгами, не вовлекая в брак несчастную, которую не любишь? И Генри Шлиман, настоящий друг, разом решил проблему, приказав парижскому банку выслать на имя Вимпоса чек, который освободил его от самых неотложных долгов. Генри Шлиман! Когда Теоклетос Вимпос получил от него первое письмо с просьбой подыскать жену, он прежде всего подумал о Софье. К Софье он привязался, еще когда она была девочкой, но особенно они подружились в годы ее учебы в Арсакейоне: без его помощи она бы не одолела Эвклидовой геометрии, физики и премудрого языка Гомера и Фукидида. Софья была живым ребенком, любила посмеяться, поиграть. Но к наукам она относилась серьезно и в семнадцать лет казалась вполне взрослой. «Да только ли это кажется? — улыбался про себя отец Вимпос. — Что знает мужчина о девушке?» То, что он озаботился замужеством Софьи, было совершенно в порядке вещей. В Греции все родители по достижении дочерью семнадцати лет начинали осматриваться и прикидывать, сколько запросят приданого. С самих девушек спрос был маленький, и против этого обычая они не протестовали. Но его нарушил Теоклетос Вимпос, настояв, чтобы Софья присутствовала при его разговоре с родителями о Генри Шлимане. И с общего согласия кандидатура Софьи была утверждена. Софья смотрела на своего друга и родственника и думала о том, что для этого аскета с впалыми щеками праздничным бывал стол с книгами, а не яствами. Длинную бороду он носил уже профессором, но тогда еще коротко стриг волосы. Три года назад, став священником, он вынужден был отпустить их, и теперь, схваченные узлом, они свисали из-под клобука. Ни в чем не была Софья так уверена, как в том, что он желает ей только счастья в жизни. Она еще раз мельком взглянула на спину Шлимана, но думать о нем не стала. Опустившись перед исполненной строгой красоты иконой Девы Марии в пурпуровой накидке с капюшоном, она принялась молиться о святом благословении.2
Белому батистовому платью ее старшая сестра Катинго дала отставку несколько лет назад, после замужества: уже тогда она еле влезала в него, поскольку тяжелым складом фигуры пошла в мать. А Софье оно было велико, и, застегивая кружевной воротничок, она чувствовала, как он свободен; но лучшего платья у нее просто не было. Для семьи Энгастроменос обновки кончились в тот самый день, когда отец оказался втянутым в финансовые передряги и они потеряли прибыльную мануфактурную лавку и дом на площади Ромвис, царственно взиравший сверху на величавую византийскую церковь Богородицы, где крестили Софью и ее пятерых братьев и сестер, и на бурлящую жизнью улицу Эвангелистрии, в дальнем конце которой возносился Акрополь. За Катинго родители давали хорошее приданое, и ее мужем стал часовщик Иоаннис Синессиос; но едва успели отгулять свадьбу, как была объявлена к оплате огромная ссуда, взятая Георгиосом Энтастроменосом. Его компаньон не замедлил бежать из страны, и вся ответственность легла на Георгиоса. Выполняя свои обязательства, Георгиос был вынужден расстаться с купленным на приданое жены роскошным особняком: в него попадали с тихой боковой улочки, там было много спален, сад на крыше, пристройка, где спали мальчики, красивые двойные двери вели на балкон, окруженный кованой балюстрадой, — так хорошо было собраться на нем после ужина, подышать вечерней прохладой. И вот дом на площади Ромвис — в двух шагах от фешенебельной улицы Гермеса — канул в прошлое вместе с памятью о приданом Виктории Геладаки. Георгиос теперь уже арендовал свою бывшую лавку, но плата была так высока, что трое мужчин—с ним работали старшие сыновья, Александрос и Спирос, — зарабатывали только-только на пропитание. Их общественному положению тоже не приходилось завидовать. Софья и Мариго остались без приданого, чем практически снимался вопрос об их замужестве; Панайотису, самому младшему, не придется переступить порог университета, хотя он уже в десять лет выказывает поразительную тягу к книге. Мадам Виктория, невысокая дородная дама, была женщиной гордой и уравновешенной. Она на прямой пробор причесывала свои иссиня-черные волосы и не допускала вольности в одежде, даже хлопоча на кухне. Мать Софьи происходила из знатной критской семьи, принявшей участие в одном из первых восстаний против турок и вынужденной бежать в Афины, в ту пору утопавшие в грязи и лишь недавно, в 1834 году, ставшие столицей Греции/ И хотя потеря дома и семейной репутации были для мадам Виктории жестоким ударом, Софья ни разу не слышала, чтобы мать упрекнула в неудачах своего беспечного супруга или пожаловалась на стесненные обстоятельства. Правда, с Софьей она была откровенна и, когда они оставались одни в доме — это уже после переезда в Колон, — вела с ней доверительные беседы. — Софья, дорогая моя, тебя все это тоже коснулось. Скоро тебе семнадцать, ты кончаешь Арсакейон. Мы с отцом и не думали тебя торопить — упаси бог, но мы уже начали приглядывать для тебя хорошую партию. А теперь об этом надо забыть. Приданого нет, а без приданого ты не найдешь себе человека по сердцу, который обеспечил бы тебе хорошее место в обществе. Софья соскочила со стула и поцеловала мать в упругую щеку. _ Мамочка, у меня еще семь лет до двадцати четырех, а раньше никто не смеет назвать меня старой девой! Мадам Виктория даже передернулась от этих слов. Ах, Софья, нам не из чего выбирать, разве что бедный деревенский священник или офицер из провинции… Если бы подвернулся грек-эмигрант! Они наживают состояние в Египте, Малой Азии, в Америке, а жениться возвращаются на родину. Эти люди не интересуются приданым, они ищут воспитанную девушку, которая станет хорошей хозяйкой… Разговор обретал серьезный оборот, и Софья оборвала его: — Я уже хлопотала о месте учительницы. Как выпускнице Арсакейона мне даже не придется сдавать экзамены. Она была одета, густые черные волосы до блеска расчесаны щеткой,жемчужные сережки продеты в уши, одежда убрана, кровать заправлена. Дольше тянуть нельзя. Софья вышла в коридор, окна здесь смотрели в сад. Собралась вся родня, в открытые окна доносился гомон без малого тридцати родственников, слетевшихся со всего Колона увидеть таинственного, сказочного миллионера, который приехал добиваться руки их Софьи. «Как бы не так, — усмехнулась она своим мыслям. — Последние дни он добивался руки у всей Греции». Письмо, которое дядя Вимпос получил в конце апреля, по существу, было предложением руки и сердца. «Мой друг, я совершенно влюбился в Софью Энгастроменос, и, клянусь, только эта женщина будет моей женой. Но два обстоятельства мешают мне чувствовать себя женихом: во-первых, я не уверен, что получу развод; во-вторых, из-за моих семейных неурядиц я шесть лет не знал ни одной женщины. Если меня уверят, что я здоров, я не откладывая приеду в Афины и переговорю с Софьей и, если она согласна, женюсь на ней… Сколько лет Софье? Какого цвета ее волосы? Она играет на пианино? Говорит на иностранных языках? Хорошая ли хозяйка? Понимает ли Гомера и других наших древних авторов? Согласится ли она переехать в Париж, сопутствовать своему мужу в поездках в Италию, в Египет — всюду?..» И при всем этом Софья знала, что оба дня, которые он уже провел в Афинах, Генри Шлиман рассматривал другие «варианты», проявив, по словам отца Вимпоса, свойственные ему «немецкую основательность и американскую расторопность». Он и не подумал скрыть свои встречи от Вимпоса — напротив, представил ему полный отчет. Он навестил некую мисс Харик-лею, «которая не произвела на меня хорошего впечатления — слишком высокая, грустная, вялая». От нее он отправился к госпоже Клеопатре Лемони, вдове. «Я ожидал увидеть старуху, сгорбленную от горя, жалкую. А это молодая, веселая женщина, на вид не старше тридцати лет. Она мне чрезвычайно понравилась. Я склоняюсь к мысли, что для меня лучше жениться на молодой вдове примерного поведения, ибо она уже знает, что такое брак. Она и сдержаннее, и целомудреннее, а девицы все бредят плотскими утехами». Свой номер в «Англетере» на площади Конституции, выходивший окнами прямо на королевский дворец, он превратил в брачное бюро, открытое для всех желающих: едва стало известно, что в Афины он приехал за женой, как его буквально затопил поток предложений от лучших афинских семей, где росли идеальные, но—увы! — еще незамужние дочери. — Если за этим ураганом можно уследить, — объяснял Софье дядя Вимпос, — то за эти два дня он, сдается мне, должен был рассмотреть не меньше пятнадцати «вариантов». Софья рассмеялась мелодичным смехом. — Ваш мистер Шлиман действительно необыкновенная личность! — И с посерьезневшими глазами добавила — Только как же я справлюсь с ураганом? Кроме своих, хорошо если я десяток минут проговорила с мужчинами за всю жизнь. Если Софью только развлекло намерение мистера Шлимана побеседовать с каждой подходящей молодой кандидаткой, то ее родители почувствовали себя уязвленными и встревожились: для них этот брак был спасением, нежданно-негаданно подоспевшим в роковую минуту. — Разве не унижает нас, не бросает тень на нашу семью, что мистер Шлиман бегает по всему городу?.. — упрекала мадам Виктория Теоклетоса Вимпоса. — Это его стиль, сестра. Я видел, как он вел дела в Петербурге: точно такими методами он заработал состояние. А вам больше чести в том, что мистер Шлиман женится не на фотографии, что он сделает свой выбор. Энгастроменосы успокоились, хотя смутная тревога затаилась у мадам Виктории в углах рта. Все-таки иметь Шлимана в семье значило обеспечить Мариго хорошее приданое, а младшему сыну — университетское образование. Это значило также обеспечить лавку товарами, поскольку с продажей дома Энгастроменосы потеряли кредит. Софья все это прекрасно понимала и поэтому безропотно согласилась на этот брак. «Иди замуж за кого велят»—так издавна повелось в Греции. Она вышла в сад, на первую встречу с Генри Шлиманом. Зной спал, в саду было прохладно. Кое-где на лозах еще висели грозди винограда. Сад много лет назад насадил сам Георгиос Энгастроменос: гранаты, миндаль, абрикосы, малина, мускусная дыня-канталупка с губчатыми желтыми цветками и тонким запахом. Деревянные стол и стулья были самые простые, на своем веку они многим послужили—тетушкам, дядюшкам и прочим родственникам Энгастроменосов, как и семейству мадам Виктории, Геладакисам: у тех тоже были в Колоне летние дома. Завидев Софью, все как один встали. Это было что-то новое. «Я уже принцесса на троне», — подумала она. Сердце предательски заколотилось, нарушив ее уговор с ним: не волноваться при первой встрече, хотя она заранее знала, что мистер Шлиман будет испытывать ее так же пристрастно, как он выбирал партию индиго на амстердамском аукционе. «Какие быстрые ноги у новостей!» — поражалась она. Она перешла площадь, вымылась, оделась—всего ничего прошло времени, а родственники уже успели облачиться в лучшие воскресные костюмы и, предводительствуемые детьми, нагрянули, чтобы увидеть чудо: вот сидит миллионер, он в сорок четыре года ликвидировал дела, стал ездить по свету, написал две книги; по рождению он немец, но подданство у него сначала русское, потом американское, а теперь он надумал жениться на гречанке—и сам стать греком! Ничего более удивительного не случалось в Колоне со времен здешнего уроженца Софокла, обессмертившего это место в стихах:а то и со времен Эдипа, умершего где-то в этих краях. Когда Антигона ведет слепого Эдипа в Афины, он, утомясь долгим переходом, спрашивает ее: «В какой край пришли мы ныне, в град каких людей?» И Антигона отвечает:
Во главе обширного стола по праву главы клана восседала ее мать. Мадам Виктория чрезвычайно гордилась своим критским происхождением. Критяне были вольнолюбивый народ, бесстрашные и выносливые воины; они с яростным ропотом несли турецкое ярмо, и после того, как ведомая духовенством материковая Греция добилась независимости, не проходило и десятка лет, чтобы на Крите не вспыхнули волнения. Критяне вообще держались друг друга, а первым условием была семейная преданность. Потом шла верность всему роду, в который, помимо семьи и близких, входили «кровные братья», на крови поклявшиеся в вечной верности. Поразительной особенностью критян были щедрость и жадность одновременно, то есть они ради того и скряжничали, чтобы вдруг позволить себе быть щедрыми, сделать широкий жест. Это был высокомерный народ («они имеют на это право», — внушала Софье мадам Виктория). Еще в 1600 году до рождества Христова Крит был культурным центром западного мира, здесь высились дворцы, шумели богатые города, здесь жили талантливые архитекторы, художники, скульпторы, атлеты. Крит был и торговым центром Эгейского моря, его купеческие корабли плавали во все средиземноморские страны, а военный флот удерживал господство на море, и критяне могли привести к покорности любую часть материковой Греции. Софья с детства впитала народную мудрость островитян: «Надеясь на бога, не ляжешь голодный, а если и ляжешь, поешь во сне», «У хорошей хозяйки и ложка прядет», «Поживешь да хлеба-соли пожуешь—молодым советов добрых наживешь». Рядом с матерью сидела Софьина тетка, госпожа Ламбриду, после мадам Виктории второй человек в родне; вероятно, положением на вторых ролях и объяснялась ее страсть лезть в чужие дела со своим раздорным участием. По другую руку от гостя Софья увидела отца, и если мадам Виктория сидела напряженно-величественно, то его поза была сама безмятежность. Среди немногих ценностей, спасенных из городской квартиры, был портрет маслом, который два года назад написал с отца известный греческий художник Кастриотис. В их нынешнем доме портрет висел в гостиной. Когда Софья мысленно представляла себе отца, она не могла с уверенностью сказать, какой образ возникал перед нею — портрет или сам человек. У отца было приятное лицо и плешь во всю голову, только над ушами еще кустилась седина. Ему было под шестьдесят. Он носил длинные висячие усы. Широко поставленные глаза смотрели на мир вдумчиво, но без осуждения. В молодости он вместе с собратьями-афинянами боролся за освобождение от турок, отличился, был награжден, но кончилась война — и навсегда угас его воинственный пыл. Теперь это был человек спокойный, мирный, любитель хорошо поесть и попить. Гостеприимный хозяин и душа всякой компании, он легко завоевывал расположение своих покупателей. Он и с детьми держался дружески. Софья его обожала. Она не помнила случая, когда он поднял бы на нее голос, хотя на мальчиков порою приходилось покрикивать. Белый отложной воротник стягивал бант, на крупном, статном теле ладно сидел костюм из превосходной английской— гордость импорта—твидовой шерсти. Над правой бровью выделялась памятная зарубка: в детстве покусала собака. Весь характер его был как на ладони. Человек скорее практического, нежели умозрительного склада, он принимал жизнь, как она есть, не ропща и не жалуясь. Завоевав однажды независимость для себя и для Греции, он бы почел теперь безумцем всякого, кто пожелает что-либо менять в мире. Подрастающим поколением в количестве шестерых детей всецело распоряжалась мадам Виктория. В этом не было ничего необычного — так в Греции повелось испокон веку. Отец был глава дома, мать—только исполнительница его пожеланий и распоряжений. Никто и подумать не смел оспорить отчий авторитет. Но растила детей мать, и она привязывала их к себе узлом, который первым завязал фригийский царь Гордий (троянцы хранили память о том, как Гордий завоевал Малую Азию). Александр Великий разрубил Гордиев узел и, исполняя предсказания оракула, отвоевал Азию. У греческих же детей не было ни силы Александра, ни его славного меча, чтобы перерубить связывающие их по рукам и ногам материнские путы. Софье повезло больше других детей. Все годы ее учения в Арсакейоне, и особенно в последний год, над нею была простерта не властная, но в безмолвном обожании трепетавшая материнская длань — мадам Виктория до умопомрачения любила свою красавицу и умницу дочь, — и Софье были даны свободы, которых не видели ее братья и сестры. Пользуясь своим преимуществом, Софья расцветала, и она только больше полюбила мать, освободившись от ее опеки. Она клялась, что никто и никогда не встанет между ними, даже любимый супруг. Она до сих пор избегала прямо взглянуть на человека, который ради нее проделал немалый путь — почти семь тысяч миль. Только теперь в обступившей ее тишине Софья поняла, как она волнуется. Когда отец протянул к ней руку, она едва смогла унять дрожь. И напрасно все эти недели она запрещала себе ожидать высокого, красивого, романтического пришельца: помимо ее воли воображение исподволь занималось этим кладезем премудрости и мировой знаменитостью с тем, чтобы сейчас твердо обещать ей нечто невиданно прекрасное. — Софья, это мистер Шлиман, он оказал нам честь посетить нас. Мистер Шлиман, разрешите представить вам мою дочь Софью. — Мадемуазель, — пробормотал Шлиман, потом взял со стола книгу и, слегка путаясь в ударениях, обратился к ней по-гречески. — Я только что издал эту маленькую книжечку о своих прошлогодних путешествиях — «Итака, Пелопоннес и Троя». Могу я позволить себе удовольствие подарить ее вам? Я купил французский перевод, полагая, что так вам будет легче читать. Софья поклонилась и приняла подарок обеими руками; и хотя книжка действительно была тоненькая, она оттягивала руки, словно кусок свинца, и все тело ее налилось свинцовой тяжестью. Потому что стоявший перед нею незнакомец был невысокого роста, может, на дюйм повыше ее, и выглядел скучно, невыразительно. У него уже была порядочная лысина, жиденькие усы, впалые, бледные щеки, глаза устало щурились, волосы растрепались. Галстук-бабочка не шел к воротничку, темный костюм с тяжелой золотой цепью на жилетке делал его похожим на банковского служащего или школьного учителя. В ее неискушенных глазах этот сорокасемилетний человек был глубоким стариком, которому больше пристало радоваться скорой разлуке с житейской маетой, а не начинать молодую, увлекательную жизнь. У Софьи сжалось сердце—так велико было разочарование! Заморгав, чтобы не расплакаться, она почувствовала, как в ней поднимается неведомое, незнакомое чувство: протест. Конечно, она знала, что замуж нужно идти, доверившись мудрости старших. Конечно, она понимала, что без приданого ей не приходится особенно рассчитывать на брак — ни через два года, ни через четыре, ни даже через шесть. Проглотить слезы не трудно, но как прогнать мысль, что при всем желании любить этого человека будет трудно? Она чувствовала, как из ее горла готово вырваться — «Нет!» «Но как же я скажу «нет», — спохватилась она, — если от моего замужества зависит будущее всей семьи? Тогда и братья смогут жениться, и у Мариго будет приданое, и папе откроют кредит. И Панайотиса мы подготовим в университет…» Да не только свои — весь Колон смотрел на нее с надеждой. Она расправила плечи, вскинула голову и обычным сильным голосом ответила: — Благодарю вас за книгу, мистер Шлиман. Вступление к ней я уже читала по-гречески. Дядя Теоклетос давал мне майский выпуск «Мирна Оса» [5] с вашим отрывком. Генри Шлиман впервые улыбнулся. Улыбка у него была приятная. — Замечательно! Журнал печатается в Париже, но я надеялся, что он доходит до Греции, и оказался прав. Она вежливо склонила голову и направилась к свободному стулу, который сберег для нее отец Вимпос. Из дома вышла Мариго с большим серебряным подносом, по числу гостей уставленным стаканами с водой. В центре подноса стояла ваза с вишнями в густом сахарном сиропе; сбоку примостилась серебряная чашка с ложечками. Свой обход Мариго начала с почетного гостя, а уж потом обнесла все семейство. Каждый зачерпывал ложкой из вазы, страхуя снизу стаканом, отправлял сладкие ягоды в рот и запивал водой. Мариго собрала на поднос пустые стаканы с ложками и вернулась в дом.
3
После ритуала «сладкой ложки» лед был сломан. Все разом заговорили, молчали только Софья и Генри Шлиман. Вызывая ее на разговор, отец Вимпос сказал: — Скоро мы будем называть нашего друга доктор Шлиман. Ростокский университет — это недалеко от его родного города — готовится присвоить ему степень доктора философии за эту самую книгу, которую ты держишь. Этим будет подтверждено, что все сказанное в ней — правда. Не зная, что ответить, Софья молчала. Шлиман поспешил ей на выручку. — Не подтверждено, мой дорогой архиепископ, — воскликнул он, подняв пока еще даже не епископа на высшую ступень в церковной иерархии, — не подтверждено, а только предположено. Правильность своих заключений мне предстоит подтвердить делом, а не на словах. — А в чем это будет заключаться? — вежливо поинтересовался кто-то из родных. — Найти Трою! Я разрою Гиссарлык, это напротив устья Геллеспонта, и выведу на свет божий град Приама, который Гомер называл «священной Троей». Прежде всего я буду искать стену. В «Илиаде» Посейдон говорит о ней:И эти стены пали только на десятый год войны, когда ахейцы обманом заставили троян ввести в свой город деревянного коня. Ночью прятавшиеся в коне ахейские воины вышли и открыли ворота города. Только благодаря этой хитрости ахейцы смогли взять Трою и сожгли ее. Они и не думали плыть домой, а укрылись со всем флотом в песчаных бухточках Тенедоса. Генри Шлиман пришел в возбуждение: он раскачивался на стуле, глаза его блестели. Софья только поражалась, как на глазах меняется человек. Но еще поразительнее была убежденность, звучавшая в его голосе. Отношение Софьи к «Илиаде» и соответственно к Трое подготовили пять лет занятий языком Гомера. Мнения же ее наставников в Арсакейоне были в свою очередь восприняты ими от профессоров Афинского университета — благо, это рядом. Когда Софья второй год училась в Арсакейоне, университетские стены услышали такие речи профессора Вернардакиса, непререкаемого авторитета в древнегреческой истории: — Сбросив турецкое иго, греческий народ получил возможность вкушать нектар поэзии Гомера. Гомер создает архитектурное целое. Все на местах, все правильно. Но все это — выдумка Гомера, ничего похожего не было. Obiter dicta [7]профессора моментально стали известны в Арсакейоне, где учителя с похвальным благоразумием верили университету на слово. И Софья была приведена к убеждению, что Фридрих Вольф в своей толстенной книге «Введение к Гомеру», опубликованной в 1795 году, раз и навсегда доказал: никогда не было ни Гомера, ни Троянской войны, ни даже самой Трои. Ни один уважаемый ученый-классик не изъявил желания оспорить, доводы Вольфа. Софья была потрясена: самоучка, в четырнадцать лет вынужденный оставить школу и потом пять лет по восемнадцати часов не разгибавший спину в бакалейной лавке, где уж, конечно, было не до книг, — и пожалуйста: он выражает несогласие с ее учителями и городит чушь, в которую верят лишь дилетанты да введенные в заблуждение безумцы! Мельком окинув взглядом собрание, Софья уловила сквознячок скептицизма и поняла, что не одинока в своем отношении. Она поняла, что и Генри Шлиман это почувствовал и что его не обескуражило старательно скрываемое недоверие слушателей. — Простите мне самонадеянность, с какой я рассказываю грекам их собственную историю, — с любезной улыбкой сказал он. — Но так всегда ведут себя новообращенные: они гораздо строже блюдут обеты, нежели рожденные в вере. Чужие сомнения меня не сбивают. Пусть сомневаются. Было время, когда люди сомневались в том, что земля вертится вокруг солнца. Энгастроменосы подписывались на популярный журнал «Пандора», а в нем как раз сейчас вдруг вновь разгорелись страсти вокруг «гомеровского вопроса», причем решающее мнение сводилось к тому, что гомеровские поэмы — это «мир поэтических чувств». Георгиос Энгастроменос почел себя обязанным немного ободрить гостя: — Мистер Шлиман, не будете ли вы столь добры объяснить нам, как вы собираетесь обнаружить город, который был уничтожен что-то около… — Три тысячи лет назад, — быстро подсказал Шлиман, — между тысяча двести сороковым и тысяча сто девяностым годом. — Да… — задумчиво протянул собеседник. — А не может случиться, что все эти обгоревшие руины давно истерлись в прах? Генри Шлиман понимающе кивнул. Софья отметила, что у него розовеют щеки. — Величайший троянский герой и признанный наследник царя Приама так говорит о городе:
Должно это остаться в земле! Из «Илиады» мы знаем, что во дворце Приама было пятьдесят почивален для сыновей с их супругами, а на дворе—двенадцать почивален для его замужних дочерей. Мы знаем о «благозданном доме» Гектора, где «лилейнораменная Андромаха» занималась с женами-прислужницами тканьем, прядением. Вот Гектор идет возбудить на битву своего ненавистного брата Париса, входит в его дом:
Все это были каменные здания, а камень не горит. Потом, мы знаем, что у города было двое ворот — Скейские и Дарданские. Они-то куда могут деться?! Еще там были «красиво устроенные стогна», по которым разъезжали колесницы, и «Скейская возвышенная башня», с которой Елена указала Приаму ахейских вождей Аякса и Агамемнона. Все это и еще многое стоит, как встарь, укрытое позднейшими Троями, может, тремя, а может, четырьмя, и плотно слежавшаяся земля служит им защитой от времени. Софья сидела, смущенно опустив, глаза, и, когда она заговорила, он уловил в ее голосе восхищение. — Мистер Шлиман, вы так свободно цитируете «Илиаду»… Можно подумать, что вы знаете ее наизусть. Неужели это мыслимо? — Не только мыслимо, мисс Софья, но и возможно. И на древнегреческом, и на новогреческом я читал эти строки столько раз, что они огненными буквами горят в моей памяти. Да и почему бы мне не запомнить поэму, если потомки и ученики Гомера передавали ее из поколения в поколение целиком, выучивая на слух — слушая рапсодов? В его тоне не было и тени хвастовства, словно он говорил о самых заурядных вещах. Софья бросила на него испытующий взгляд и поразилась перемене. Уже не скажешь, что он выглядит невыразительно, да и пожилым не назовешь. В него словно вселился бес, гладко выбритое его лицо пылало; он расправил плечи, и костюм приобрел тот вид, в каком вышел из рук портного. В нем бурлили молодая сила и задор. Он привычно щеголеватым жестом разгладил усы, отвел волосы за уши. Но главное — глаза: они были ясные, умные и ненасытно-вопрошающие. Ее разочарование в нем сменилось неподдельной заинтересованностью. Пользуясь правами старой дружбы, Теоклетос Вимпос не боялся возражать Шлиману. — Вы все время говорите — Троя, Троя… А ведь ее никогда не было! Это плод поэтического измышления. И Троянской войны не было, как не было деревянного коня и ссоры Ахилла с Агамемноном из-за красивой пленницы. Все это — мифология. Шлиман добродушно рассмеялся: к язвительным шпилькам Вимпоса он уже привык. — Знаю. Гомера тоже не было. Просто в течение многих веков бесчисленные аэды сочинили по два-три стиха каждый, а в шестом веке до рождества Христова афинский тиран Писистрат собрал всех живущих рапсодов, те надиктовали комиссии певцов все, что помнили, и певцы сшили песни в одну поэму… Даже Грот в своей «Истории Греции» говорит, что нет никакой возможности доказать существование Трои, как и то, что Гомер действительно написал «Илиаду» и «Одиссею». Э!.. Великие поэты думали иначе: Гёте, Шиллер, Шелли, Пиндар и Гораций верили в историческую личность Гомера, потому что видели в обеих поэмах органическое целое, создание единого гения. Его звонкий голос, разносивший по саду эту страстную защитительную речь, производил на Софью какое-то будоражащее действие. Не поднимая головы, она тихо спросила: — Мистер Шлиман, вы позволите мне спросить вас? — С превеликой охотой, моя юная леди. — Нас учили в школе, что поскольку древние боги играют решающую роль в обеих поэмах, а с Олимпа и Иды эти боги куда-то исчезли, то, значит, «Илиада» и «Одиссея»—только мифы. Блеснув голубым огнем глаз, Генри Шлиман улыбнулся: он обожал спорить. — Когда боги исчезли, ушли в мифологию, в обеих поэмах остался человек, и все человеческое в них верно до последней мелочи. Но я не согласен, что нужно отмахнуться от этих богов. Их создали древние люди, четыре тысячи лет назад до рождества Христова, и они не так уж сильно отличаются от богов в других древних религиях. Вдруг подала голос мадам Виктория: — Для нас, христиан, языческая религия древней Греции — детские бредни! Софья испугалась, что Генри Шлиман оскорбится, но он, оживившись, попросил мадам Викторию развить эту точку зрения. Мать объяснила, что этих богов люди создали по собственному подобию и в соответствии со своей природой, а потом наделили их сверхчеловеческой силой, дабы боги могли защитить смертного, покарать его врагов. — Мы никогда не искали смысла в древнегреческой религии, воспринимали ее как интересную, иногда забавную сказку. Шлиман одернул жилет, поправил свой черный галстук, закинул ногу на ногу и задумался, подыскивая ответ. — Я, разумеется, христианин, я даже сын пастора. Но верования древних народов сейчас составляют достояние скорее истории, а не мифа. Если бы, к примеру, сейчас в этот сад заявились троянцы или ахейцы и послушали, как мы рассуждаем о нашей религии, они бы тоже объявили ее мифологией и немало позабавились бы над ней. Я глубоко восхищаюсь пантеизмом, и мне понятно, почему люди возносили молитвы богу солнца, полей, рек. Природа заключает в себе что-то божественное… Надеюсь, я ничьих чувств не оскорбил? Может, и оскорбил, но Энгастроменосы были люди воспитанные. Софья вполголоса, но вполне слышно сказала: — Мистер Шлиман, я не могу судить, насколько вы правы, но меня восхищает ваша убежденность. Шлиман уже не сводил с нее глаз. В саду стемнело, кто-то под шумок ушел с малышами. Мужчины придвинулись ближе. — Вы, стало быть, верите, что Гомер такая же историческая личность, как Данте или Шекспир? — спросил, судя по голосу, дядя Ламбридис. — Вне всякого сомнения! — закусил удила Генри Шлиман.— Он родился в Смирне, недалеко от Трои, между тысячным и девятисотым годом до рождества Христова. Его сыновья, а может, родственники или ученики основали на ближайшем к Смирне острове Хиос своего рода поэтический цех. Аккомпанируя себе на лире, они исполняли гомеровские строки при дворах царей и вождей на островах и побережье Эгейского моря. — Когда вы говорите: Гомер написал «Илиаду», вы, очевидно, имеете в виду, что он создал великую поэму, используя отрывки, сохранившиеся со времени Троянской войны? Это спросил Спирос, старший брат и ближайший друг Софьи. Он очень волновался за нее в этот вечер. — Да, — с терпеливой улыбкой согласился Шлиман. — У нас нет рукописей Гомера и нет свидетельств, что они вообще существовали. Но ему ничто не мешало записать свои поэмы — примерно в это время была написана «Песнь Соломона», которая вошла в Ветхий завет под названием «Песнь песней». При отсутствии письменного литературного языка действует другая могучая сила: народная память. Рассказы о Троянской войне и странствованиях Одиссея передавались от отца к сыну. Люди наследовали не только клочок земли, овец и коз, но и самую ценную часть своего достояния—историю народа, которая принадлежала каждому следующему поколению по неотъемлемому праву. Были поэты и до Гомера, они слышали предания об Ахилле, Гекторе, Елене и слагали о них песни, а Гомер сам отправился в Трою. Он создал литературный язык с единственной целью: собрав уже имеющиеся песни и предания, рассказать все по порядку, чтобы и «Илиада» и «Одиссея» вышли из одних рук. Гомер изучал, впитывал в себя Троаду: вот холм, на нем стоял дворец, по-турецки — Гиссарлык, вот две реки — с горы Иды на юге течет Скамандр, с севера — Симоис, образующие таким образом треугольник между стенами Трои и морем, здесь-то и разыгрывались битвы. На берег Геллеспонта ахейцы вытащили все свои тысячу сто сорок кораблей, разбили лагерь на сто двадцать тысяч человек, и Троя должна быть неподалеку от Геллеспонта: Гомер рассказывает, что иногда пешие греческие воины дважды в день проделывали путь из лагеря под стены Трои. Георгиоса Энгастроменоса раздирали сомнения. С таким выражением лица отец всегда смотрел на собеседника, о котором никак не мог решить: гений он или дурак? Вслух, впрочем, он сказал совсем другое: — Сотни людей изучали «Илиаду», не ведая, где погребена Троя… — Я за них не отвечаю, господин Энгастроменос, я отвечаю только за себя. — Он поднялся со стула и стал расхаживать перед оцеплением родственников. — Может, по этой же причине сотни ученых читали «Описание Эллады» Павсания, а царские погребения и сокровищницы по-прежнему ищут вне микенских циклопических стен. Настало время удивиться Софье. — Вы знаете, где находятся в Микенах царские погребения?! — Мисс Софья, вы позволите мне в следующий приезд в Колон прихватить с собою Павсания? Хотя он посетил Микены во втором веке после рождества Христова, он еще видел источник Персея и сокровищницы Атрея и его сыновей, это во внутреннем дворе. Возможно, он посетил и гробницы поменьше за городской стеной. «Клитемнестра и Эгист, — пишет Павсаний, — похоронены поодаль от стены, ибо были сочтены недостойными покоиться внутри города, где были преданы земле Агамемнон и убитые вместе с ним». Кажется, ясно сказано, что имеются в виду мощные циклопические стены крепости. Я знаю наверняка, где должны быть погребения. Установилась неловкая тишина. Осведомленность мистера Шлимана относительно местоположения Трои и его готовность начать ее раскопки с грехом пополам умещались в сознании. Но Микены, царские погребения… Последнее доверие к таинственному миллионеру отлетало с вечерним ветерком, родственники вооружались непроницаемым скептицизмом. «Не может он быть сумасшедшим, — размышляла Софья. — Он столько путешествовал, написал две книги, своим трудом нажил состояние. Эгоцентричный—да, но вряд ли он будет выставлять себя на посмешище». — Мистер Шлиман, — сказала она вслух, — нам одно непонятно: если вы убеждены в своей правоте, то почему вы не принимаетесь за раскопки Трои сейчас же? Шлиман вернулся к своему месту и тяжело опустился на стул, словно уже отмахал лопатой целый день. — Я примусь за них, мисс Софья. Для того чтобы вести раскопки в Турции, нужен фирман из Константинополя, письменное разрешение от великого визиря. Его не просто получить. Я уже обратился с ходатайством. Когда я получу официальный документ, я быстро обменяю его на кирку, лопату и тачку. Археология до тех пор будет ходить в детских штанишках, пока не перестанет быть филологической наукой, пока люди не выйдут из библиотек и не станут копаться в земле. Именно это я намерен сделать. Поэтому я и решил найти себе жену-гречанку. Она будет божьей рукой на моем плече. Моим греческим сокровищем. Голос его дрогнул, и тонким батистовым платком он промокнул выступившую на лбу испарину. «Ой-ой, — подумала Софья, — нелегко же придется его жене-гречанке. Если он не найдет Трою или царские гробницы в Микенах, не окажется ли жена во всем виновата?»
4
Приглашение мадам Виктории на воскресный обед Шлиман принял с удовольствием; вообще ему дали понять, что он желанный гость в любое время. Он зашел в пятницу, потом в субботу—и почти отчаялся: сад Энгастроменосов стал буквально проходным двором. Колон ждал от него все новых рассказов о путешествиях и приключениях, и не было никакой возможности поговорить с Софьей наедине. Улучив минуту, Софья, сдерживая улыбку, объяснила ему: — В Греции молодой девушке непросто остаться одной. Это даже невозможно. Наши священники говорят: «До двенадцати лет не спускайте с ребенка глаз!» Меня, например, одну не выпускали даже на площадь Ромвис, перед самым домом, — обязательно кто-нибудь из братьев смотрел, как я прыгаю через веревочку, играю в «классы» или вожу с девочками хоровод: «Уложи нас месяц спать, чтобы рано в школу встать». Меня и в Арсакейон одну не пускали, пока я не сдала последние экзамены: всегда провожали и забирали из школы братья или прислуга. Еще несколько месяцев назад я была поднадзорным ребенком в белой кофточке и синей юбочке. В Греции девушка несвободна до самого замужества. Объяснение успокоило Шлимана, и он снова принялся потчевать мужскую половину семейства рассказами о Востоке и Египте. — Господин Шлиман, — спросил юный Панайотис, — когда вы путешествуете по всем этим странам, как вы узнаете, какие в них деньги? Шлиман улыбнулся мальчугану и достал из внутреннего кармана толстый черный бумажник. — Такие бумажники у официантов в Европе, с ними удобно рассчитываться. Видишь, здесь пять карманчиков. В первом у меня американские деньги, во втором французские, в третьем немецкие, в четвертом русские, а в пятом аккредитивы из Египта, Индии, Турции, Японии. В наружном же отделении я держу греческие деньги, чтобы далеко не лазить. При виде денег у всех братьев загорелись глаза, и гость дал мальчикам подержать и получше разглядеть монеты. Большой любитель денег Александрос спросил: — Господин Шлиман, а как вы догадываетесь, что чему равняется в другой стране? — Видишь эту белую карточку на отвороте бумажника? Там записаны валютные курсы всех стран, где я веду свои дела. Это моя личная биржа, каждый месяц я меняю карточку. Сегодня, например, пять драхм равны одному американскому доллару. Одна драхма стоит один французский франк. Четыре рейхсмарки обмениваются на один доллар, британский фунт — на двадцать пять французских франков, а один русский рубль стоит три франка… Он хитровато сощурился на Панайотиса и прибавил: — Ночью я держу бумажник под подушкой, потому что сплю долго и бог весть, в какие края занесут меня мои сны. Панайотис отозвался на шутку восторженным воплем: — И утром оказывается, что вы проспали свои денежки! — Увы, да, Панайотис. Я сплю примерно на шести языках, поэтому за ночь я успеваю обогнуть земной шар и к утру истратить все свои деньги. Софья тоже подержала в руках монеты. «Его хватает на то, чтобы пошутить с Панайотисом. Он добрый и с чувством юмора». В воскресенье утром, сразу после кофе, Энгастроменосы всей семьей направились через площадь в церковь св. Мелетия. Внутрь не стали заходить—в церквушке едва было места для священников, отправлявших службу, и стариков. Прихожане сгрудились у дверей, переговаривались, сплетничали, успевая подхватывать молитвы и пение. Время от времени в дверях возникал священник и благословлял паству, и тогда каждый трижды крестился. Сразу после церкви начали стряпать обед. Софья вспомнила, как в Афинах так же с утра с матерью и кухаркой они по часу обсуждали рецепт какого-нибудь особенного блюда—например, барашек, тушенный в белом вине со свежими помидорами, белой фасолью или рубленой петрушкой. Софью воспитали уважительно относиться к еде—и, понятно, к стряпне тоже. В Греции это национальная черта. Девочек приучают к кухне с трех лет, причем это не игра и не попытка чем-то занять ребенка: это своего рода приобщение к таинствам, ибо в гористой Греции пища скудна и трудно достается, если не считать щедрых даров моря. Греки знали, что такое жить впроголодь и даже голодать: в жизни почти каждого поколения случались отчаянные времена, когда и те немногие, у кого были деньги, мало что могли на них купить. Из коренных греков любой подписался бы под словами Еврипида:Обед и ужин, за которым доедался обед, предваряли молитвой. В церковные праздники Георгиос Энгастроменос осенял хлеб крестным знамением, ибо хлеб был символом Христа. Оставшийся кусок мадам Виктория целовала: это был святой хлеб, как в причастии. Обеденный стол был отрадой греческого дома. Греки любили поесть, сев за что-нибудь основательное либо просто не выпуская целый день кусок изо рта. Женщины расплачивались за это тучными бедрами, мужчины же, как ни странно, оставались поджарыми. Георгиос Энгастроменос составлял исключение, но, видимо, было только справедливо, чтобы такому хорошему человеку было отпущено всего побольше. Мадам Виктория, Софья, Мариго и взятая на день кухарка, скребущая в углу кастрюли, потратили немало часов, готовя ароматную, аппетитную снедь, которую осталось только отнести в пекарню. Если в доме не было подходящей плиты или не хотелось топить летом, хозяйки несли кастрюли в пекарню, и пекарь, лопатой на длинной ручке выбрав из печи дневную выпечку хлеба и бисквитов, за несколько центов предлагал свои услуги. Он точно знал, сколько времени нужно на каждое блюдо. В то утро мадам Виктория сказала дочери: — Порадуйся напоследок, Софья: скоро ты лишишься этого удовольствия. — Почему? — Потому что богатые господа не пускают своих жен на кухню. Они нанимают поваров. — У нас богатые женщины сами готовят. И я буду сама готовить. Греки обожают стряпню своих жен. — Конечно. Какая без этого жизнь? Но твой будущий муж не грек, сколько бы он ни старался. Хозяева и гость сидели в саду, в тени вьющегося виноградника. Мужчины потягивали узо — крепкое виноградное сусло, сдобренное анисом и разбавленное холодной водой до молочного цвета. К узо Софья и Мариго подали закуски: блюда тиропитас — шершавых горячих кулечков из шпината с сырной начинкой; мясистые соленые маслины; помидоры, фаршированные рисом и пряностями; долмадакья — крохотные голубцы в виноградных листьях; каламарья—соленую каракатицу; золотистого жареного осьминога; мидии, начиненные рисом, коринкой, пряностями, петрушкой; тарамосалата — салат из красной икры и чеснока; имам байлди меце — тонкие ломтики баклажан, слегка обжаренные в оливковом масле с помидорами и луком, и, наконец, луканика—острую греческую колбасу, порезанную кусочками. Генри Шлиман сделал мадам Виктории комплимент: какое разнообразие великолепных мецетакья — закусок. — Мои дочери тоже заслуживают вашей похвалы, — ответила мадам Виктория. — Пока я занималась обедом, Софья приготовила шпинаты, мидии и долмадакья. Шлиман взял с тарелки шпинатный комочек и взглянул через стол на Софью. Она была особенно хороша в этот теплый воскресный день. Раскрасневшись на кухне, она нашла минутку сполоснуть лицо ароматной водой, гладко расчесанные волосы струились темным блеском. Большие карие глаза глядели с живым интересом. На ней было прелестное голубое шелковое платье, схваченное на боках сборками; сборка из того же материала спускалась с плеч и завязывалась бантом на груди, которая нынче была открыта чуть больше, чем в будничных платьях. Славное платьице, только Софья явно выросла из него. Мадам Виктория ужасно огорчалась, что не было денег прилично одеть Софью. — Чтобы полюбоваться на туалеты, господину Шлиману не стоило забираться в такую даль, — возражала Софья. — Одеваться нужно как можно лучше, — настаивала мадам Виктория. Ну как было не поддеть такую чопорную викторианскую матушку! — А чем я плоха в этом платье, мама? Я расту и развиваюсь—вся в тебя, и платье это подчеркивает. — Ну, вот! — бранчливо отозвалась мадам Виктория. — Вот оно, легкомыслие! Это отцова родня в тебе говорит. Господин Шлиман заехал на край света, чтобы заглянуть в твое сердце. Софья весело рассмеялась. — То-то он не сводит глаз с моего лица и фигуры! Чтобы доставить матери удовольствие, она надела фамильную драгоценность — золотую брошь. Пора было идти в столовую, в прохладу, сбереженную закрытыми ставнями. Софья помогала накрывать на стол, менять блюда. За это пришлось побороться: мать хотела, чтобы она «была за столом хозяйкой». — Мама, не надо вводить господина Шлимана в заблуждение. Ему приятнее видеть, что я все делаю наравне со всеми, а не сижу сложа руки, как королева. Ведь ему будет нужна помощница в раскопках. — Он не работницу приехал нанимать! — взорвалась родительница. Сначала Софья и Мариго подали куриный суп с яично-лимонной заправкой. Потом на столе появились восторженно встреченные барбуни—похрустывающие на зубах жареные красногрудки. После рыбного Софья внесла жареных цыплят, а следом баранью ногу с рисовым пловом, фасоль с помидорами в масле и лимонном соке. Салат из стеблей одуванчика был заправлен укропом, оливками и дольками фета—изумительного белого сыра из козьего молока. На десерт подали грецкие орехи в разогретом гиметском меду, рахат-лукум, пончики с вареньем из розовых лепестков, апельсины, крошечное миндальное пирожное и уже под конец—кофе по-турецки или по-гречески, как с чувством заслуженной гордости стали его называть после войны за независимость. Выйдя после обеда в сад, Шлиман похлопал себя по золотой цепочке, свисавшей из жилетного кармашка, и промолвил: — Царский обед. В Европе еще не знают, какие великие кулинары греки. Он поднялся с места, направился в сторону Софьи—и разочарованно застыл: в калитку входили родственники и друзья, тоже покончившие с воскресным обедом, и скоро сад опять был полон гостей. Поразительно, как переменилось к ней отношение в Колоне! Кто она была прежде? Способная девочка, получила прекрасное образование, недавно с отличием закончила привилегированный Арсакейон. И конечно, все знали, что семья еле-еле наскребла денег, чтобы расплатиться за последний семестр. А теперь?! Когда она утром шла с матерью на рынок купить еще теплый деревенский хлеб, мужчины, сняв шляпы, раскланивались с ней, юноши, не скрывая восхищения, пялили на нее глаза, старухи с преувеличенной сердечностью поздравляли ее, а подруги натянуто улыбались, стараясь не выдать своей зависти. — Можно подумать, — шептала она матери, — что я стала самой важной персоной в Колоне. Богатый иностранец зашел к нам в гости—только и всего! Он еще не сделал предложения, а они меня уже выдали замуж. — Он сделает предложение, — заверила мадам Виктория. — Он с этим приехал. Он от тебя без ума, детка, это все видят. — Зато я вижу и слышу, что он без ума от Гомера, — рассмеялась Софья. — Тебе бы только шутить. — А без шутки невкусно. На следующее утро Шлиман прислал ей подарок и письмо:
«Афины, 6 сентября 1869. Дорогая мисс Софья, окажите любезность принять эти кораллы. Будьте осторожны — нитка непрочная, ее надо заменить шелковой, чтобы не растерять бусины. Спросите, пожалуйста, Ваших высокочтимых родителей и напишите мне, когда я смогу видеть Вас не на людях, а наедине, и не раз, а чаще, поскольку, я полагаю, мы видимся, чтобы узнать друг друга и решить, сможем ли мы сойтись характерами. Мы ни до чего не договоримся, когда вокруг столько людей. Брак — прекраснейшее здание, если он утверждается на уважении, любви и добродетели. И он тягчайшая кабала, когда в основе его корысть или плотское влечение. Благодарение богу, я не так безумен, чтобы с закрытыми глазами ринуться во второй брак. Если афинские обычаи не позволят мне чаще видеть Вас одну с родителями и лучше узнать Вас, то я прошу Вас не думать больше обо мне. Соблаговолите принять уверения в моем самом искреннем почтении. Генри Шлиман».
Она едва успела оправиться от изумления, прочитав это письмо, как явился второй посыльный:
«Дорогая мисс Софья,не могли бы Вы с вашей почтенной матушкой быть сегодня без четверти два на станции? Там Вы встретите господина Ламбридиса и его высокочтимую супругу, и мы вместе поедем в Пирей. В Пирее мы возьмем лодку и немного поплаваем. Надеюсь, Вы не лишите нас удовольствия видеть Вас, и заверяю в своем уважении. Пожалуйста, напишите мне в ответ два-три слова. Г. Ш.»
Софья никогда не плавала на лодке; не в пример соотечественникам, она вообще боялась воды. За все семнадцать лет не было случая, чтобы она не страдала морской болезнью, даже когда летом семья «выбиралась на природу» на вполне надежном пароходе и недалеко—на острова Эгину или Андрос. — Что же делать? — встревожилась она. — Эгей меня видит насквозь, он обязательно разбушуется. И отказывать господину Шлиману не хочется: еще обидится и тоже поднимет бурю. — Отправь записку господину Шлиману, объясни, что ты в восторге от его приглашения, но без согласия отца не можешь его принять, а отец запаздывает, и пусть господин Шлиман сам приходит к ужину, мы позаботимся, чтобы у вас была возможность поговорить спокойно и наедине. Только она отослала ответ, как вернулся проголодавшийся Георгиос Энгастроменос. Он прочитал оба письма Шлимана и поднял глаза на жену и дочь. — Ясно, надо ехать. Сейчас же пошли господину Шлиману свое согласие. А ты, Виктория, — продолжал он строго, — проследи, чтобы Софья и господин Шлиман могли немного поговорить о своих делах, займи тем временем Ламбридисов. Если не можешь закрыть глаза, то по крайней мере гляди сквозь пальцы. — Только ради господина Шлимана, — обещала Виктория. — Одинокий человек сам себе враг. Шлиман выбрал самую большую лодку, хотя Софье она показалась до ужаса маленькой и утлой. Из гавани вышли спокойно, и Софья уже надеялась, что, может, на этот раз пронесет. Но в открытом море солнце ушло за тучи, подул сильный ветер и лодку стало швырять, как щепку. Софья почувствовала приступ тошноты. А Шлиман словно не замечал ни поднявшегося ветра, ни бледности, согнавшей с ее лица румянец: их спутники сидели к ним спиной, и сейчас это было главное. — Мисс Софья, — решился он, — почему вы хотите выйти за меня замуж? «Ой, только не сейчас! — подумала она. — Я же еле живая». Не сводя с нее глаз и напряженно вытянув шею, он ждал ответа, как откровения. Она с усилием сглотнула, утихомиривая бунтующий желудок, крепко скрестила руки на животе и с обезоруживающей откровенностью выпалила: — Потому что мне велят родители. Шлиман побледнел. Ей подумалось, что качка проняла и его, но уже в следующую минуту его глаза зажглись гневом, краска залила впалые щеки. — Мне больно слышать от вас, мисс Софья, — сказал он хриплым голосом, — такой рабский ответ, тем более что вы женщина молодая и образованная. Я простой, порядочный человек, хороший семьянин. Если бы мы поженились, то главным образом для того, чтобы вместе вести раскопки и вместе любить Гомера. Море делалось все неспокойнее, вскипало барашками. «Господи, — молила Софья, — дай только выбраться отсюда, и больше я по воде не ходок!» Она облизнула пересохшие губы и усмехнулась самонадеянности своего зарока: ведь если кто и ходил по воде, как по суху, так только сын божий. Чувствовала она себя отвратительно, но решила, что с этим странным, ни на кого не похожим человеком нужно быть до конца откровенной. — Мистер Генри, вы не должны так ужасаться моему ответу. В Греции все родители устраивают брак своим дочерям— сами подыскивают им лучшую партию. Мои родители так и поступили, и я их слушаюсь. Ведь это хорошо: если я хорошая дочь, значит, и женой буду хорошей. Это разъяснение только отчасти успокоило его. — И нет никакой другой причины, почему вы хотите выйти за меня замуж? Неужели только из слепого послушания? — продолжал он выспрашивать ее. Тошнота подступала к самому горлу, и Софья совершенно не представляла, сколько она сможет это выдерживать. Путаясь в мыслях, она твердила себе: «Какого ответа он ждет? Что я восхищаюсь им, уважаю смелость, с какой он отстаивает свои взгляды, — это я говорила. Даже дала понять, что разделяю его убеждения. За что еще я должна восхищаться им? Ведь он сам говорит, что в этих изысканиях смысл всей его жизни. И что жена-гречанка ему нужна для того, чтобы осуществить его мечты. Что же я упустила сказать? И что я сейчас придумаю, если мне хочется одного—умереть?» Из-за облаков проглянуло солнце, и в голове тоже прояснилось. «Ну конечно же! За что его почитают во всем мире и почему за ним охотится всякая греческая семья с дочерью на выданье? Потому что он миллионер! О таких богачах мы даже не слышали. И всего этого он добился своими силами, без систематического образования, без помощи родных, вообще без всякой поддержки. Он имеет право гордиться собой». И, подняв на него глаза, она сколько могла восхищенно объявила: — Потому что вы богач. Лицо Генри окаменело. — Вы хотите выйти за меня замуж не потому, что я значу что-то как человек, а потому, что я богат! Нам не о чем больше говорить. Я постараюсь забыть о вас. Он повернулся к гребцам и коротко бросил: — Возвращайтесь в порт!
5
Мадам Виктория укрылась в глубине дома. Гордая женщина с поистине королевской осанкой и самообладанием, она едва сдерживала слезы. Софья еще ни разу не видела мать плачущей, даже когда нагрянула беда и семья потеряла дом. Но теперь — какое унижение: Энгастроменосов сочли недостойными! Мистер Шлиман будет искать другую невесту. Софья заперлась у себя, мучаясь, что ее отвергли. Когда же она осознала, сколько неприятностей доставила домашним, то разлилась в три ручья. Лежа ночью без сна, она поняла, что ее прямые и честные ответы все-таки не годились для такого гордого и ранимого человека, как Генри Шлиман. Он одарен редкими достоинствами, и как смело он решается перекроить иначе вторую половину жизни, какой у него положительный и прямой характер — конечно, корила она себя, он достоин того, чтобы будущая жена именно этим восхищалась в нем. Ей вспомнилось, как в поезде, везшем их в Пирей, господин Ламбридис рассказывал о единственном в своем роде способе изучения языков, которым пользовался мистер Шлиман: он читал вслух одну и ту же книгу на двух языках—один он уже знал, другой только собирался выучить. — Но вообще, — заметил Шлиман, — мы думаем и действуем различно—в зависимости от языка. По-немецки я пишу и говорю резкости, по-английски—вежлив и даже любезен, французский язык настраивает меня на иронический лад. А как у меня с греческим, мисс Софья? — В разговоре вы настоящий грек, великодушный в большом и привередливый в малом. Но пишите вы, — она помедлила, подыскивая слова, — словно на всех языках сразу. Он воспринял это как комплимент и, порывшись во внутреннем кармане, достал пачку отпечатанных листков. — Я только что получил эту брошюру из Нью-Йорка. Я написал ее для съезда американских филологов в мае. Испросив разрешение, он прочел начало статьи, и снова Софья стала свидетельницей чудесной метаморфозы: не средних лет и заурядной наружности господин сидел перед ней, а привлекательный молодой человек с горящим взором и гордой осанкой, жесты отмечены благородством и энергией, столь свойственными его духовным порывам. «Сколько времени в университетском курсе следует уделить изучению языков?» Отвечая на этот вопрос, я повторю справедливые слова, сказанные Карлом V Франциску I: «С каждым новым языком вы обретаете новую жизнь». Ибо знание языка чужой страны делает для нас возможным знакомство с ее литературой, нравами и обычаями…» Пепельно-серый рассвет перебирался с площади в ее спальню, и она чувствовала, как бессонница и растревоженная совесть делают ее старше. Вот что нужно было ответить мистеру Шлиману: «Я хочу выйти за вас замуж, потому что уважаю вас и восхищаюсь вами. Не имея такого подспорья, как систематическое образование, вы сумели сделаться замечательным ученым и лингвистом. У меня дух захватывает, когда я думаю о возможности быть с вами рядом женой, помощницей и верным другом, вместе с вами заниматься раскопками в Трое и Микенах и вернуть миру утраченные сокровища. О такой чести может только радостно мечтать любая молодая, с живыми интересами женщина. Вот почему я хочу быть вашей женой». — Да, — вздохнула она, — вчера бы мне быть такой умной. Но что поделать, если вчера она умирала от морской болезни. Мучительно сознавать, что она так сглупила, и уж совсем плохо, что родные теперь не поправят свои дела. С первыми лучами солнца она оделась и спустилась выпить кофе и заодно рассказать отцу и братьям, вернувшимся из лавки, о последствиях ее первого «разговора наедине» с Генри Шлиманом. Их удивлению не было границ: чем неуместны были ее ответы? — Мистер Шлиман много поездил по свету, — недоумевал отец. — Он должен был знать, что в нашей стране в порядочных семьях браки устраивают родители. Ты сказала ему чистую правду—на что же тут сердиться? — Он хотел, чтобы она призналась ему в любви! — подала голос четырнадцатилетняя Мариго. — Как же можно быть таким наивным! — воскликнула мадам Виктория, начавшая примиряться с потерей и по-матерински жалевшая дочь. — Софья видела его так мало и всегда на людях… В конце концов, девочке всего семнадцать лет. А он не мальчик и должен знать, что любовь приходит после свадьбы. — Не думаю, чтобы он ждал признания в любви, — пробормотала Софья, — да и не могла я. Он по голосу догадался бы, что это неправда. Обескураженный таким поворотом дела, отец все же попытался разрядить обстановку: — Софья, девочка, это все было не по-настоящему. Помнишь, я брал тебя в театр теней? Вот и здесь то же самое. Маленький спектакль, всего на несколько часов, и теперь занавес опустился. Миражи развеиваются, как утренний туман. Но не на шутку разошелся Александрос: — На Крите говорят: «Господь птичку накормит, если она сама поклюет». Подвернулся случай поправить дела. Что тут страшного, если бы она сказала, что выходит за него по любви? Что мешало драгоценной сестрице сказать то, что будет правдой завтра, а не сегодня? Правда! — от нее только суп прокисает. Так нет, наша капризуля не снизойдет до того, чтобы сказать приятное одинокому человеку, который ищет себе подругу жизни. — Он повернулся в ее сторону. — Ты сделала несчастными и всех нас, и мистера Шлимана. Вчера в море ты отправила за борт всю семью Энгастроменос. Несколько дней Генри Шлиман не давал о себе знать, и это было мучительное испытание. До этого времени Софья по-настоящему и не знала, что значит страдать. Когда для всех них настали трудные времена, общее уныние лишь краем задело ее. Другое дело теперь: теперь она сама кругом виновата. Ее глаза загорались гневом, когда она в одиночестве вела с собою безмолвные диалоги. «Зачем он завел этот разговор в море? Если бы он не думал только о себе, он бы понял, что я сижу еле живая… Где же его чуткость? Но ведь у него не было другой возможности, — одергивала она себя. — Вокруг всегда толклись люди и глядели ему в рот. И правильно, что он наконец спросил меня… Как это говорят на Крите? «Я потеряла серьги, но дырки в ушах остались при мне». Ее уже не баловали вниманием. Все в ней разочаровались. Родственники вдруг стали домоседами, соседки насмешливо фыркали, юноши отводили глаза, мужчины выдерживали холодно-вежливый вид. Колон опять начинал походить на себя прежний: малолюдный сонный пригород Афин, показывавший признаки жизни лишь в летний сезон. Дядя Вимпос принес ей слабое, но все же утешение. Он получил письмо от Шлимана: тот собирается отплыть в Неаполь и в скором будущем не рассчитывает увидеть Софью, но если когда-нибудь ей понадобится помощь преданного друга, то, надеется Шлиман, она о нем вспомнит. — Не обижайся и не растравляй себя, — увещевал ее отец Вимпос. — Мистер Генри сидит одинешенек в отеле «Англетер», и ему больнее и хуже, чем всем вам. Он только и думает, как снова наладить ваши отношения. Пойми, детка, мистеру Шлиману перепадали не только лавры, но и горчайшие неудачи, обиды и лишения. Хотя бы те пять лет в бакалейной лавке, где он работал как каторжный спал под прилавком, без дома, без друзей… В Амстердаме он ютился на чердаках—там зимой зуб на зуб не попадает, а летом адская духота, и на обед только корка хлеба и кусок высохшего сыра, потому что жалованье маленькое и надо еще выкраивать на книги… Да и нажив состояние в России — в ту пору мы и познакомились, — он не поднялся выше «купца первой гильдии»: в избранный круг его не допускали даже после его брака, а семейная жизнь у него и вовсе не сложилась. Когда человек столько страдал в жизни, его нужно понять и простить. Софья задумчиво разглядывала худое лицо своего родственника под черным клобуком. Она понимала, что он подводит к решению первой сделать шаг. — Ты думаешь, я должна написать ему и извиниться? — Тебе лучше знать. — А что мне сказать, чтобы он не сердился? — Тут я тебе не советчик. — Хорошо. Ошибки надо исправлять. Спирос принес лист бумаги. Она поднялась к себе в комнату и четким почерком, в котором учителя ни за что не узнали бы руку своей недавней ученицы, написала:«Дорогой мистер Генри! Мне очень жаль, что Вы уезжаете. Не сердитесь на меня за сказанные слова. Я думала, что молодая девушка только так и должна отвечать. Мои родители и я будем очень рады, если Вы навестите нас завтра».
Она запечатала конверт, спустилась в гостиную и отдала письмо отцу, который вызвался сам отнести его в отель. На следующий день пришел ответ:
«Богатство — приятное дополнение к браку, но не от него зависит супружеское счастье. Если женщина выйдет за меня ради денег или желая блистать в Париже, то ей придется пожалеть, что она оставила Афины, потому что она сделает несчастными и себя и меня. Моя будущая жена должна ценить во мне человека…»
Он явно настроился уезжать. Мадам Виктория оказала Софье редкое доверие, не распечатав доставленное письмо и не попросив потом взглянуть на ее ответ. Софья была благодарна ей за это, хотя и подумала: «Ее предупредили, что только я и мистер Генри можем разобраться в своих отношениях. Да иначе и быть не может. Только что же мне написать? Такой мудрый человек—и не понимает, что если бы он был бедняком, то не поехал бы за невестой в Грецию. Как убедить этого щепетильного богача-бедняка, что мне и задаром не нужен Париж?!»
«Дорогой мистер Генри! Я с глубоким волнением ожидала Вашего ответа, надеясь, что Вы вернете доброе расположение, которым Вы меня одарили в наши первые встречи и которого лишили за мой ответ во время поездки в Пирей. Но Ваше письмо повергло меня в глубокую печаль. Узнав Ваши теперешние чувства, я молила бога, чтобы он вернул мне Ваше прежнее отношение ко мне. Вы пишете, что по-прежнему намерены уехать из Афин в субботу, и лишаете меня последней надежды. Это бесконечно опечалило меня. Не осмеливаясь просить Вас о большем, я бы очень просила Вас навестить меня перед отъездом. В надежде, что Ваше доброе сердце не отклонит моей просьбы, остаюсь с глубочайшим уважением к Вам, Софья Г. Энгастроменос».
Ни в этот, ни на следующий день ответа не было, и это никак не вязалось с человеком, который сам признавался ей, что с радостью пишет по дюжине писем в день. Теперь Софья совсем пала духом: похоже, он и в самом деле уезжает, не дав им возможности хоть как-то спасти семейную репутацию. Такой поворот событий поверг ее в полное уныние, потому что обстановка в доме была невыносимо тяжелой. Никто не упоминал имени Шлимана, и вообще говорили мало и словно через силу. Все были угнетены, раздосадованы, озадачены. Перед ужином, сославшись на отсутствие аппетита, она поднялась к себе и бросилась на постель, зарыв лицо в подушку. Кого она оплакивала? Родителей, лишившихся надежды вернуться к прежней жизни в столице? Братьев и сестер, которым тоже что-то могло перепасть от ее замужества? Или самое себя, такую нескладную, что не справилась с простым делом? А может, все вместе, в том числе и крушение головокружительного и неисповедимого будущего. — Мне очень нравится Генри Шлиман, — шептала она, — я восхищаюсь им. Я знаю, что после замужества полюблю его по-настоящему, ведь и мама не сразу полюбила папу, а сестрица Катинго—своего мужа. Я хочу быть его женой. У меня есть глаза — я вижу, он меня любит. Что же мне делать? Она проплакала всю ночь и утром, когда мать позвала ее снизу, вышла с опухшими и красными глазами. Оказывается, принесли письмо от Генри Шлимана. Софья ушла в сад, села в кресло спиной к дому и дрожащими пальцами распечатала конверт. Резкие, словно рывками выписанные буквы расплывались перед ее глазами.
«…Я не тешу себя иллюзиями. Я очень хорошо понимаю, что молодая красивая девушка не может влюбиться в мужчину сорока семи лет, к тому же далеко не красавца. Но я полагал, что могу рассчитывать на уважение женщины, чей характер настолько совпадает с моим и которая так же благоговеет перед науками. И коль скоро эта ученица поступает ко мне в учение на всю свою жизнь, я смел надеяться, что она полюбит меня, ибо уважение рождает любовь, а я со своей стороны постарался бы быть хорошим учителем и каждую свободную минуту наставлял бы свою прозелитку в филологии и археологии».
Откинув голову, Софья от всей души расхохоталась. — Теперь понятно, чего он хочет: чтобы я сама сделала ему предложение! Это сразу придаст ему уверенности: он будет знать, что я не только принимаю все его условия, но с радостью готова стать его женой, ученицей и помощницей в раскопках Трои. Предложение так предложение—я сейчас же попрошу его руки. Я уже не та наивная девочка, что сидела в лодке напротив Генри Шлимана. На следующий день пришел отец Вимпос с известием, что все в порядке, но что сам он, к величайшему сожалению, не сможет венчать их, поскольку уже сегодня уезжает в Триполис готовить церковь и паству к своему рукоположению в епископы. — Но я еще не получила ответа на свое последнее письмо. Откуда ты знаешь, что… — Он сам мне сказал. Сегодня утром. Он в тебя безумно влюблен. В последние дни он перевидал много молодых афинянок, и он мне сказал: «Я не нашел другой Софьи, — и добавил — Поистине, вы избрали мне в жены редкое греческое сокровище, поэтому позвольте принести вам сердечную благодарность за столь приязненный выбор». Выражается он немного книжно, и на будущее, Софидион, тебе нужно усвоить, что твой супруг наполовину деловой человек, а наполовину— litterateur. [9] — Надо маме сказать. Она совсем извелась. Когда мистер Генри будет у нас? — Завтра. Сейчас он ищет тебе кольцо. — А когда свадьба, он не сказал? — В будущий четверг, пятницу или субботу—это зависит от тебя и от парохода: медовый месяц вы проведете в Италии. Я побуду некоторое время в св. Мелетии, распоряжусь насчет венчания. — Ах, дядя! Такой праздник—и без тебя! Ты не увидишь меня невестой, а я не увижу, как ты станешь епископом. — Ничего, детка. Мы всегда будем рядом, особенно в трудные минуты. Через несколько месяцев вы вернетесь: мистер Генри уверен, что турецкое правительство уже недолго будет тянуть с разрешением. Обороняя ее от всяческих бед и напастей, отец Вимпос трижды перекрестил Софью и тремя перстами левой руки легко коснулся ее лба—да охранит ее его любовь… Если Софья наконец обрела душевный покой, то родители все еще ходили как в воду опущенные. Она мягко, но решительно пресекала все расспросы о мистере Шлимане. — Подождем до завтра. Завтра все выяснится. Генри Шлиман приехал в полдень. Он легко соскочил с подножки экипажа, светясь счастьем, свежевыбритый, с безупречно ровной полоской усов, распространяя запах лосьона, которым умастил его парикмахер в «Англетере». Никто словом не обмолвился о том, что почти неделю мистер Шлиман весьма ощутимо отсутствовал, если не считать, что все это время он допекал их письмами. Софья надела белое платье Катинго, в котором Шлиман впервые увидел ее. В этом немного свободном на ней платье она казалась даже моложе своих семнадцати лет, зато глаза, в которых светилось радостное сознание выполненного долга, — то были глаза взрослой женщины. В саду Генри Шлиман занимал ее родителей рассказами о пожаре в Сан-Франциско в 1851 году, когда город сгорел дотла. Он только что получил из Ростока докторский диплом и принес его показать. — Высокая честь, доктор Шлиман, — с похвалой отозвался Георгиос. Лицо Шлимана осветилось радостной улыбкой. — Я впервые слышу свою фамилию с этим титулом! Признаюсь, это приятно. Но для меня важнее не честь, а другое, — продолжал он серьезным тоном. — Ученое звание нужно мне для того, чтобы к моей работе относились серьезно. Университеты не уважают самоучек. — Но разве ваши раскопки не скажут за себя сами? — Софья озадаченно свела брови. — Если вы откроете Трою, никто не будет спорить против очевидного. — Будут, мисс Софья, еще как будут! Сами увидите. Но докторское звание укрепит меня в общественном мнении. Он попросил у Софьи разрешения переговорить с родителями. Извинившись, Софья ушла приготовить кофе. В открытое кухонное окно из сада доносились напряженные от волнения голоса. — Господин и госпожа Энгастроменос, я хочу просить вашего родительского благословения на мой брак с Софьей. Софья боялась, что сейчас отец не выдержит и расхохочется, потому что смешно спрашивать, когда все давным-давным решено. Но отец остался на высоте. — Ваше предложение, дорогой доктор Шлиман, делает мне честь, я счастлив и горжусь тем, что такой незаурядный человек пожелал назвать своей женой мою крошку Софью. Уверен, что с вами она будет счастлива. Отдаю вам ее от всего сердца. — Вас не останавливает мой недавний развод? — Нет. Кузен Вимпос рассказал нам, что ходил с вами к архиепископу и тот признал законную силу вашего разводного свидетельства. Православная церковь разрешает три развода. Шлиман повернулся к мадам Виктории. — Я бы хотел получить также благословение почтенной родительницы. — Слава богу, мы не враги своей дочери. Было бы злодейством отказаться от такого счастья — нам завидует вся Греция! В кои-то веки дождались такого случая, что сам Шлиман оказал нам честь, взяв в жены нашу дочь! Эринии и фурии замучают нас, если мы согрешим против судьбы. Пока разливали кофе, Софья сидела, опустив на колени руки, и внимательно смотрела на человека, который станет ее мужем… «Он чуткий и добрый, но с ужасным характером. Хорошо, что он умеет держать себя в руках…» Почувствовав на себе изучающий взгляд, Генри Шлиман повернулся к Софье, достал из кармана черную бархатную коробочку, раскрыл ее. — Мисс Софья, в присутствии ваших почтенных родителей соблаговолите принять этот перстень. Я постарался, чтобы жемчужина подходила к вашим серьгам. Она надела перстенек на палец. Жемчужина была прелесть—кремово-белая с розоватым отливом. Ясно, он обегал все ювелирные лавки в столице. Она поблагодарила его признательной улыбкой, и, как всегда в минуты волнения, кровь залила его щеки. — Вместе с этим кольцом, мисс Софья, примите и мое предложение руки и сердца. Согласие ваших родителей я уже получил. «А ведь наша ссора и несколько дней разлуки только пошли нам на пользу, — думала Софья. — Я даже рада этому. С нашей первой встречи прошло всего шестнадцать дней, а я чувствую себя на много лет старше. Что и говорить, это будет нелегкий брак. Трудностей будет достаточно. Но сама я ничего не буду усложнять, потому что знаю теперь, как легко сделать ему больно». — Благодарю вас, мистер Генри, — сказала она. — И за кольцо, и за ваше предложение. Я принимаю их с радостью. Вскоре мистер Генри распрощался с ними. Он галантно, на французский манер поцеловал ей руку, а матери, она видела, сунул конверт. Родители открыли ей свои объятья, они расцеловались. Уже в доме Софья спросила мать: — Что за конверт передал тебе мистер Шлиман? — Не знаю, детка. Пойдем к столу, посмотрим. Солнце затопляло комнату, высвечивая живой барельеф из трех лиц схожей лепки. Мадам Виктория надорвала конверт и вынула пригоршню золотых монет, завернутых в гостиничный бланк. Выложив деньги на стол, она расправила бумагу и прочла: «Дорогая мадам Виктория, не откажите в любезности использовать этот маленький подарок на белье и чулки для мисс Софьи». — Очень щедрый и очень странный господин! — воскликнула мадам Виктория. — Почему именно белье и чулки? Уж если ему пришла такая фантазия, то отчего не дать денег на все приданое? Софья звонко расхохоталась. — Неужели ты не понимаешь, мама, что он именно это и сделал? Здесь хватит денег на несколько приданых… Мадам Виктория сокрушалась больше всех: — Неслыханно! Как он может лишать наследства женщину, на которой собирается жениться? — Но он вовсе не лишает меня наследства, мама, — попыталась внести успокоительную ноту Софья. — Богатство досталось ему очень нелегко, и ему спокойнее, когда он удерживает его в своих руках. — Он знает, в каком мы положении! — взорвался уязвленный Александрос. — Почему бы не помочь своей новой семье? — Он еще поможет, Александрос, дай срок. Дядя Вимпос говорит, он щедрый человек, но не терпит подсказки. Когда мы станем счастливыми молодоженами, он сам, без напоминаний поможет вам с магазином. Я в этом уверена. Жена миллионера—как я могу быть спокойна, какая я буду ему помощница и товарищ, если мои дорогие родители нуждаются и он это терпит! Он все сам поймет. — Надеюсь! — в один голос воскликнули мадам Виктория и Александрос, а последний добавил — Не очень-то хорошее начало. За день до свадьбы Георгиос Энгастроменос подошел к дочери с сообщением, что нечем расплатиться за церковь и венчание. — Совсем нечем, папа? Ничего-ничего не осталось? Георгиос виновато пожал левым плечом. — Ничего… Последние деньги ушли на свадебные приготовления… Софья молчала. Нетрудно догадаться, чего от нее ждут. Если бы отец решился занять денег у родственников или друзей, он бы, конечно, скрыл от дочери плачевное состояние своих дел. — А сколько нужно? — Триста драхм. Она сделала перерасчет в уме—получалось около шестидесяти долларов. — За все про все да еще всякие мелочи—это даже не очень дорого, — слабо улыбнулся отец. — Иногда женихи сами берут на себя эти расходы… — Хорошо, папа, я достану деньги. Внутренне собравшись и стараясь не выдать волнения, она повела разговор о деньгах как о чем-то само собой разумеющемся, и, верно, поэтому Генри не удивился и не встревожился. Он вынул бумажник и из внешнего отделения извлек греческие деньги. — Видимо, Софья, я должен был сразу оговорить, что церковные расходы беру на себя. За все, что сейчас делается в вашей церкви, можно было бы заплатить и больше.
6
До венчания оставалось всего шесть дней, но, поскольку душевные тревоги отпали, времени должно было хватить. За исключением королевского двора и очень богатых семей, греческие девушки подвенечных платьев не шили—их брали напрокат. Мануфактурная лавка отца была недалеко от улицы Гермеса, и с некоторыми владельцами богатых «свадебных магазинов» Георгиос Энгастроменос водил дружбу. Софья без труда подобрала себе только что сшитое белое атласное платье с кружевной фатой, длинное, до полу, с широким шлейфом. И раз оно было совсем неношенное, его легко пригнали по фигуре: в груди Софья была немного полнее своих афинских сверстниц, да и ноги у нее подлиннее. Генри предложил купить из приданого только самое необходимое: они проведут всего по нескольку дней в Сицилии, Неаполе, Риме, Флоренции и Венеции, а потом сразу отправятся в Париж, где будут жить в его роскошных апартаментах на площади Сен-Мишель, 6, занимая целый этаж. Всего в Париже ему принадлежало четыре дома. А уж в Париже ее гардеробом и вечерними туалетами займутся лучшие портные. Дни летели быстро, семейство прибирало и украшало дом, в саду развешивались гирлянды. Каждый день Софья с матерью часами ходили по афинским магазинам. Для итальянских мостовых, музеев и храмов Генри велел обзавестись несколькими парами подходящей обуви. Они виделись ежедневно, и всякий раз казалось, что он молодеет с каждым часом. Он заказал каюту на пароходе «Афродита», который отплывал из Пирея в день их свадьбы. Потом случилось нечто неожиданное. Генри Шлиман назначил Георгиосу Энгастроменосу свидание в нотариальной конторе: нужно подписать важный документ. Вечером, когда отец вернулся домой, Софья спросила: — Что это было, папа? Брачный контракт? — Скорее, акт о лишении всех прав и состояния. Мадам Виктория бросила на мужа озадаченный взгляд. — Что ты имеешь в виду? — Я прекрасно знаю, что имею в виду, хотя не вижу, зачем все это. Меня просили официально согласиться с тем, что Софья не может никаким образом претендовать на его состояние—ни при жизни, ни после смерти Шлимана—и что только в случае доброго отношения к нему что-то останется ей по завещанию. Семья переваривала новость в молчании: для размышлений им дали пищу столь же тяжелую, как сухожилие горного козла. Не доверяя голосу, Софья улыбкой поблагодарила его. После постановки в 406 году до и. э. трагедии Софокла «Эдип в Колоне» другим величайшим событием в жизни этого афинского предместья стала свадьба Софьи Энгастроменос и Генри Шлимана. На церемонию стекался весь городок и даже из соседних деревень шли люди. Церковь смогла вместить лишь родню и близких друзей, но это не смущало пестро разодетую толпу, собравшуюся на площади: все наперед знали, когда молиться, когда креститься и когда подпевать хору. Надо думать, яркая это была картина! Мужчины в красных фесках с голубыми кисточками, в расшитых куртках с длинными рукавами и в юбочках до колен, на ногах такие же расшитые чулки, ткани все алого или зеленого цвета, с плеч на спину спадают широкие пелеринки; у стариков на боку сабли. Женщины в длинных, вышитых золотом платьях с пышными воланами на груди, голова и плечи покрыты белым газовым платком, иные в длинных пышных юбках, расчерченных белой вышивкой, кружевные воротники, голубые корсажи, туго стянутые в талии, на голове кожаные шапочки набекрень, увешанные кисточками, нитки крупных бус на шее. В день ее свадьбы с утра ликовало солнце, но в воздухе уже пахло осенью, лето кончалось. Добрую половину дня Софья занималась туалетом и выслушивала советы и пожелания сновавших по дому родственниц—сестер Катинго и Мариго, тетушек Гелми и Ламбриду и кузин Евгении, Елены, и Мариго. Только матери не было видно: она всю ночь готовила угощение и ранним утром все отправила в пекарню. Площадь Св. Мелетия была украшена, как накануне большого праздника: меж деревьев натянуты транспаранты, с домов свешиваются флаги, витрины магазинов богато убраны, на столиках перед кафе стоят цветы в вазах. К вечеру свадебная процессия тронулась из дома. Младший брат нес за Софьей ее шлейф. В руках она держала букет роз, и целая гирлянда из розовых бутонов, почти касаясь земли, спускалась сбоку ее платья. Зная, что Генри будет приятно видеть на ней свой подарок, она надела коралловое ожерелье. Скрытый платьем, на шее висел серебряный крестик, с которым она не расставалась со дня своего крещения. Друзья и родственники, образовав на площади живой коридор, встретили ее легким похлопыванием в ладоши. Софья шла с застывшей улыбкой, глядя прямо перед собой — нервы у нее были напряжены до предела. Генри ждал ее у церковных дверей, украшенных ветками лавра и мирта. Он был в строгой сюртучной паре, в накрахмаленной белой сорочке с белым галстуком и манишкой, в белых перчатках, в руках высокая шелковая шляпа. Софье бросилась в глаза его бледность. Она ступила внутрь прелестной церквушки, шедевра византийской архитектуры, и трепетно вдохнула слабый запах ладана, с благоговением взирая на епископское место, черный мрамор стен, занавес, скрывавший алтарь, на панно в левом и правом приделах, почти в натуральную величину изображавших Марию и Иисуса, святых заступников Мелетия и Иоанна, у которых тяжелые, серебряные оклады оставляли открытыми только лицо и руки, написанные теплыми, живыми красками. Глубоко и кротко религиозная, Софья сразу успокоилась в храме, и страхи отпустили ее. В самом центре утопали в цветах рака и огромная икона святого Мелетия. Гирляндами из георгинов, желтых хризантем, маргариток, зеленолистых веток был убран весь иконостас, на ступеньках к царским вратам стояли вазы с гладиолусами… Родственники принесли яркие домотканые коврики, чтобы заменить старые, истершиеся. Перед алтарем протянулся длинный стол, накрытый белым полотном, на столе Библия, кубок с вином и два обручальных кольца, принесенные женихом: на мужском кольце внутри выгравировано «Софья», на невестином — «Генри». Белый венчик красиво смотрелся на ее темноволосой голове. По одну сторону от нее, весь в белом, с высокой толстой свечой в руке, стоял ее младший племянник Костаки; по другую — младшая кузина Евгения, тоже в белом и тоже со свечой в руке. Церковь была полна. Все стояли, стульев не было. Софье и Генри возложили на головы венцы с флердоранжем; когда с возгласиями регента и пением хора священник трижды обведет новобрачных вокруг аналоя, Спирос, сегодняшний шафер, поменяет венцы местами. Священник читал из Посланий святого Павла и из Евангелия от святого Иоанна о браке в Кане Галилейской. Но не все слова слышала Софья: так сильно стучало сердце. «Господи святый, вседержитель, сотворивший жену из ребра Адамова и благословивший: «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею»… и давший в браке соединиться в одно… Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть… И кого связал Господь, никто да не может тех разлучить…» Софья приготовилась безропотно вытерпеть все два часа пения, молитв и чтения Священного писания, ибо с детства Усвоила, что крестины и свадьбу церковь считает важнейшими событиями в частной жизни человека. Вовсе не желая богохульствовать в эту святую минуту, она невольно вспомнила присказку афинских холостяков: «Обряд венчания тянется так долго, что всей совместной жизни едва хватает оправиться от него». Священник благословил и обменил кольца. Софья и Генри пригубили вина из кубка: радость и горе они будут отныне делить вместе. Трижды над их головами священник сотворил венцами крест, именем пресвятой троицы благословив жизнь новобрачных. Паства молилась. Священник перелистал Евангелие. «Господи всемогущий и благий, яви свою небесную милость рабам твоим Генри Шлиману и Софье Энгастроменос. Сделай эту девицу повинующейся мужу своему, твоему рабу, который есть глава жены, дабы прожили они жизнь по твоей заповеди. Благослови их, Господи, как благословил ты Авраама и Сару. Благослови их, как благословил ты Иакова и Асенефу. Благослови их, как благословил ты Моисея и Сепфору. Благослови их, как благословил ты Захарию и Елисавету. Защити их, как защитил ты Ноя в ковчеге его. Защити, как защитил ты Иону в чреве кита…» — Держись прямоты, как Рахиль, — наставлял священник Софью, — люби своего мужа и исполняй закон, ибо такова воля божья… Их огласили мужем и женой. Ее обнимали заплаканные женщины, мужчины прикладывались к щеке, и каждого подходившего сестренка Мариго оделяла искрящимся засахаренным миндалем в тюлевом пакетике, перевязанном лентой. И в ответ каждый шептал Мариго: — Теперь твой черед. Греческая свадьба—праздник открытый, радостный. Отец раздобыл большие металлические бидоны, наполнил их узо; местные виноторговцы прислали несколько бочонков ренины. Мадам Виктория пользовалась славой отменного кондитера, но одна она бы никак не справилась, помогли родственники— каждый пришел с большим подносом: абрикосовый пирог с шоколадным кремом, торт с кремом, золотистый меренговый пирог, медовое печенье, пирог на кислом молоке, ореховые плитки, засахаренный миндаль, миндальное пирожное, слоеные пирожки… На длинном деревянном столе к вину и узо выставили дразнящую закуску: соленая корюшка, лепешки из икры, соленые бараньи мозги, фасоль, свежие мидии. В центре стола стояли глубокие салатницы; листья латука и эскариоля были для. запаха пересыпаны цикорием, укропом, мятой. Из пекарни принесли цыплят, кроликов, креветок, рыбные котлеты, тушеные баклажаны, окру, нут, салат из листьев цикория, заправленный яично-лимонньгм соусом, артишоки в масле, тыквенные оладушки, тушеную фасоль, жаркое. Но даже все мобилизованные сковороды не могли вместить угощение на такую ораву гостей, тем более что мужчины подогревали аппетит частыми походами к бидонам с узо и бочонкам вина. На заднем дворе жарили цыплят на рашпере, насаживали на вертела барашков и ярдовой длины бараньи потроха, и дурманящие запахи наполняли не только сад, но и всю площадь перед домом. Поднявшись наверх переодеться в дорогу, Софья выглянула в окно и обмерла: гостей собралось не меньше двухсот. Пришли не только родственники и близкие друзья, но и просто знакомые, городские и дачные соседи. Продукты сейчас дороги, и шестьдесят долларов, которые дал Генри, не покроют и малой части расходов. Тут нужны все двести шестьдесят! От тревожных мыслей ей сделалось не по себе. «Где же отец возьмет денег расплатиться? Если он не нашел шестидесяти долларов на венчание, то где он теперь умудрится достать еще двести? Ростовщик даст только под два процента в месяц, а это значит, что он никогда не расплатится. Родители пошли на все это ради меня, они гордые люди и никому не захотели отказать. Теперь я замужняя женщина, свободная от всех забот, я буду радоваться утреннему солнцу в Мессине, а для них каждое утро будет омрачено неоплатными долгами. Я не должна этого допустить». Она отозвала отца в сторону и вытянула из него правду. На самом деле он уже задолжал тысячу шестьсот драхм—иными словами, триста двадцать долларов. — Но, папа, ведь придется платить! — Это завтра. А сегодня есть сегодня. Сегодня твоя свадьба. Я не мог допустить, чтобы люди сочли нас бедняками—пусть все приходят и выпьют за твое счастье. Она отыскала мужа и объяснила ему, что происходит. Честь семьи ронять не следует. — Генри, дорогой, мне очень тяжело, что первая же моя просьба касается денег. Но у меня нет выбора. Я не могу просто уехать, оставив их в нужде. Пожалуйста, выручи меня сейчас. Я тебе обещаю, что впредь ничего у тебя просить не буду. — А что сделал отец с теми шестьюдесятью долларами, что я дал? — Заплатил священникам, торговцам, чтобы не потерять кредит. Его рот принял жесткое выражение. — Ты моя жена, милая Софья, и можешь просить у меня что угодно… Но только для себя. Мне крайне неприятно Думать, что твоя семья намерена эксплуатировать меня за моей спиной и без моего согласия. А твой отец потому так и размахнулся, что знал: в день нашей свадьбы я тебе ни в чем не откажу. Она вскинула голову и прямо взглянула ему в лицо. — Нет, я этого не думаю. Они не такие. Гордые—да. Любят сделать широкий жест. Но они порядочные люди. Просто завтрашние неприятности они отложили на завтра. Генри скривил рот, достал бумажник, отсчитал тысячу шестьсот драхм и передал Софье. Она потянулась к нему и поцеловала в щеку. — Спасибо. Ты очень добрый. Генри слабо улыбнулся. — Через день. — Тебе не придется об этом пожалеть. Он зажег в глазах озорной огонек, впервые за все время. — Пожалеть мне придется в одном случае: если Эгей опять разбушуется. Зная, какой из тебя моряк, Софидион, придется отложить наш медовый месяц до Сицилии, когда мы опять ступим на земную твердь.
Книга вторая. «Греция — это возлюбленное чадо бога и земли»
1
Она бесшумно одевалась перед расшторенным окном в их номере на верхнем этаже «Англетера». Темно-зеленым ковром лежавшая внизу площадь Конституции легко взбиралась на холм впереди, к самому сердцу Афин, откуда грек мерит все другие места на свете. На восточной окраине площади, освещенный журавлями газовых фонарей, стоял дворец: греки выстроили его для короля Отгона, приглашенного из Баварии возглавить новое, медленно складывающееся государство. Вестибюль был пуст—четыре часа утра. На улице ее прохватила ночная свежесть. Слава богу, кончалась зима, и погода устанавливалась теплая. Низкое темно-фиолетовое небо дышало в самое темя, а звезды горели так ярко, что, казалось, они вот-вот брызнут искрами. Ею овладели покой и чувство сопричастности всему на свете. «Жить в Афинах, — думала она, — значит жить в самом сердце мироздания. Одного глотка этого душистого ночного воздуха, одного взгляда на это самое синее утреннее небо достаточно, чтобы понять, как прекрасен мир и ради чего он был сотворен». Кривой ятаган луны напоминал о печально памятной турецкой оккупации. Высокие железные фонари, выкрашенные зеленой краской и увенчанные головой Афины, выхватывали из темноты пальмы, цветущие акации с гроздьями белых и желтых лепестков, перечные деревья и горькие апельсины, подрумянившисся после недавних обильных дождей. В кофейнях усыпляюще громоздились составленные на ночь стулья, метельщики мыли тротуары, плеща водой из ведра и сорговым веником сметая грязь в сточную канаву. Направившись в сторону дворца, она встретила торговца, катившего по темным улицам тележку с высоким медным самоваром, в котором булькал горячий травяной чай. Софья достала монетку, торговец снял чашку с крючка (самоварная грудь была утыкана десятком таких крючков) и наполнил ее до краев. Она вдохнула аромат полевых трав и порадовала горло глотком крепкого настоя. На Панепистиму она не задерживаясь миновала мраморные колонны и крытую аркаду Арсакейона — признательного дара разбогатевшего на чужбине грека. Перешла широкую улицу и вблизи полюбовалась на Афинский университет и Национальную библиотеку, выстроенные в древнегреческом стиле из пентелийского мрамора, с огромными колоннами перед фасадом. Выступили утренние звезды, и она рискнула свернуть в боковую улочку, в жилой квартал. Здесь улицы освещались масляными лампами, свисавшими с консоли угловых домов, и фонарщики уже прикручивали фитили. Она не прошла и двух кварталов, когда услышала голоса разносчиков. «Эти и мертвого разбудят», — подумала она, усмехнувшись. Но то была некакофония звуков: каждый разносчик вылудил себе горло, непохожее на другое, у каждого был свой крик, по которому его узнавали и гречанки, и турчанки, и итальянки. С первыми лучами солнца шли козопасы, выкрикивая: «Молоко! Молоко!» Хозяйки выходили к ним с кринками, придирчиво выбирали козу. В большой жестянке пастух держал кислое козье молоко. Софья взяла немного на пробу; пастух бросил сверху щепотку сахарной пудры. Вкус был такой острый, что у нее свело скулы. «Какое кусачее», — пробормотала она. На востоке солнце начало свое восхождение. Розовеющее небо наполняло душу восторгом. По склону с редко торчащими деревьями она выбралась на вершину холма. Внизу лежали Афины, сверху был один Акрополь. Словно мельчайшая белая пудра, с небес сеялся таинственный свет: казалось, это Зевс окропляет небесный свод божественным эликсиром, благословляя город. И как откровение явилась мысль: «Греция — это возлюбленное чадо Бога и Земли». В Греции свет не внешняя сила, действие которой можно наблюдать. Свет входит в поры тела, в мозг и становится горячей, живой силой телесной цитадели; это внутренний свет, в каждом он разный, и он-то делает жизнь доброй и осмысленной. Греческое солнце не обливает человека теплом: оно пронизывает его, где только может, горит в груди, словно второе сердце, и гонит по венам сильный животворный ток. На островах, в материковой Греции, в Эгейском море — везде они, греческий свет и греческое солнце, и это такое же достояние, как Парфенон, ничего подобного нет нигде на земле. Египтяне поклонялись Солнцу, греки же носили его в себе. С корзиной на голове вышагивал пекарь, нес горячие булочки, за ним спешил пастух с кувшином: и не хочешь, а возьмешь к булочке свежего масла! Проголодавшаяся Софья проглотила ее одним духом. «Разве в Париже, — думала она, — мыслимо встретить такого вот пастуха—в тесных гетрах, пестрой рубахе почти до колен и яркой косынке вокруг головы, завязанной на затылке узлом?» Но долго поражаться не было времени: навстречу тянулась вереница согнувшихся под тяжестью, охрипших от крика зеленщиц. С длинными связками через плечо шли продавцы чеснока. Софья с детства верила в то, что «чеснок уберегает от сглазу». Улицы уже завели типичную афинскую песнь: скрип огромных вьючных корзин, водруженных на хрупких осликов; сами ослики ничего вокруг не видели, но что они везли, было видно всем: груды овощей и фруктов, свежих, только что с грядки, — помидоры, огурцы, картофель. Хозяйки с порога отбирали что получше к обеду. Ответственные минуты. Но еще интереснее было смотреть на продавца индеек. Он медленно поднимался по склону — видимо, из деревни вышел еще в полночь, — длинным посохом торопя стаю голов в двести и усмиряя ссоры и склоки. Сам торг протекал долго и трудно: всякая хозяйка хотела за гроши получить непременно лучшего индюка. Совершив сделку, пастух трогался дальше, пронзительно поп я: — Индюки, индейки, индюшата! Улица уже бурлила народом, и радостно было высмотреть в толпе продавца медом. Эту сладостную дань пчелы брали с горы Гимет, поросшей диким тимьяном. Купив маленький кусок, Софья жевала соты, выжимая сладчайший в мире нектар. Пасечник вышел поздно, а товар у него уже кончался. За торговцами снедью потянулись мастеровые, гнусаво предлагая метлы, нитки, катушки, мышеловки — что только не производится в сарайчике на заднем дворе! Ремесленники навязывались починить деревянную или плетеную мебель, поточить ножи, поставить новые подметки. А в завершение процессии два маленьких пони протащили мусорную повозку с четырьмя высокими жердями по углам, чтобы класть дополнительные доски; за повозкой шли два мусорщика с лопатами, и хозяйки, заслышав знакомое тарахтение, вытаскивали на улицу вчерашний мусор и отбросы и сливали в канаву помои. Возвращаясь в центр. Софья услышала звонкий голос глашатая, оповещавшего, какие распоряжения и постановления вынесли накануне полицейское управление и муниципалитет. Газеты ничего этого не печатали, потому что выходили нерегулярно, да и грамотных было мало. «В городе надо жить жизнью улицы, — думала Софья, сворачивая к отелю. — Всегда есть, на что посмотреть, что услышать, что понюхать. Вот Италия такая же… Сицилия, Неаполь, Рим… В Италии хорошо. А может, все потому, что у меня был такой замечательный медовый месяц? Хотя Генри чуть не до смерти затаскал меня по музеям». Серебристо-зеленые оливковые рощи, синее небо—такой встретила ее Италия, и ей там было по-домашнему хорошо. В конце концов, Италию первыми обжили троянец Эней и его сын Асканий! В музеях между Мессиной и Венецией [10] хранились несметные сокровища: живопись, мозаика, керамика, плиты с надписями, древняя скульптура, оружие, рабочие инструменты, монеты, и Генри требовал, чтобы она начитывала литературу, глубже усваивала увиденное. Чудо, как она еще выкраивала время ежедневно писать домой. «Я просто диву даюсь, за что Господь даровал мне такую судьбу. Не громкое имя, богатство и внимание окружающих делают меня счастливой, а доброе отношение ко мне Генри. Я очень довольна своим замужеством и всегда буду довольна. Пусть моя почтенная матушка не беспокоится обо мне» (из Мессины). «Благодаря Господу мы здоровы. Целый день мы ездили в экипаже по улицам города. Мне нравятся здешний климат и прославленные памятники старины. Мы были в Помпеях и Геркулануме… Сегодня мы едем в Сорренто, там останемся ночевать» (из Неаполя). «Что до моего здоровья, то мы здоровы оба и ни в чем себе не отказываем. Мы видели самый большой и самый прекрасный храм на земле — собор св. Петра. В нем так красиво! Мы ходили в Ватиканский музей, видели Сикстинскую капеллу, комнату Рафаэля, греческие и египетские скульптуры» (из Рима). Свои письма к ее родителям Генри подписывал: «Счастливый муж Софьи». Иногда ей хотелось немного развлечь своих: «В Венеции меня поразило, что в самом городе все вокруг— море, кроме нескольких улочек. Вместо экипажей здесь передвигаются на лодках, которые похожи на гробы, такие же черные и закрыты наполовину. В Падуе мы были в университете, где нам показали машину, которая работает уже тридцать лет. Они называют ее вечным двигателем. А я такой двигатель вижу каждый день рядом: Генри не посещает музей, как все люди, а берет его приступом и водружает свой флаг». Генри учил ее разбираться в клеймении и украшениях на гончарных изделиях, учил видеть, как менялись форма изделия, качество лака, форма ручек, днища, горловины. «Гончарные изделия. — говорил он. — это энциклопедия доисторического времени. Мы можем читать ее так же хорошо, как читаем манускрипты на древнем папирусе. Кто-то сказал, что человек сделался человеком, когда изготовил первый горшок. Научившись читать керамику, ты сможешь совершенно точно определять возраст найденною предмета, какой культуре он принадлежит и из каких мест явился». Он оказался пылким мужем, но был нежен и внимателен, чтобы она не торопясь до всего дошла сама. Когда самое трудное было позади, он признался ей. что шесть лет выдерживал «пост», с тех пор как его супруга прекратила близкие отношения. Софья рассмеялась: — Зато теперь ты наверстываешь эти шесть лет! Поначалу и Париж ей понравился: улица Риволи с шикарными магазинами, широкие Елисейские поля, разлинованные рядами деревьев, цветущие сады в Тюильри. широкие, украшенные скульптурами мосты через Сену, остров Сите с грандиозным собором и, конечно, Лувр, по которому Генри таскал ее целый день. Ей особенно понравилась Венера Милосская. Она писала родителям:«Что сказать о Париже? Конечно, это рай земной. Мне здесь все нравится, но больше всего — как мы любим друг друга, я и Генри. Мы заботимся друг о друге, и от этого каждый вдвое счастливее. Единственное, что меня немного волнует, это язык. Сейчас я занимаюсь четыре раза в день по часу. Я занимаюсь с преподавательницей, но Генри тоже меня учит».
Она не стала писать, что Генри нанял еще преподавателя немецкого и сам занимался с ней по книгам Гёте и Шиллера из своей библиотеки. Он отыскал профессора из Сорбонны, который учил французскому и греческому по параллельной системе, и приставил его к ее сочинениям. По настоянию Генри она писала их каждый день. Не удовлетворившись ее десятичасовой ежедневной нагрузкой, он записал ее студенткой Парижского университета. Но ей нравилась эта каторга, особенно хорошо бывало по вечерам, когда Генри читал вслух в их заставленной книгами библиотеке. Он хотел, чтобы до раскопок в Гиссарлыке она познакомилась с началами археологии: с «Историей древнего искусства» Винкельмана и открытием Бельцони египетских гробниц, с находками мраморных и бронзовых скульптур в Геркулануме и настенной живописи в Помпеях, семнадцать столетий скрытых под слоем вулканической пемзы. В рвении, с которым он взялся за ее образование, Генри сам стоил университета. У нее не было никаких обязанностей по дому — мадам Виктория как в воду глядела: француженка-кухарка не позволяла ей даже показываться на кухне. Она видела, что горничные и прачка воруют, но не представляла, как этому положить конец. Генри даже взял для нее особую горничную следить за туалетами. Генри сам распоряжался насчет обедов, составлял списки приглашенных, принимал у себя Эрнеста Ренана и других возмутителей духовного покоя. И по молодости, и по незнанию языка она, естественно, не участвовала в общем разговоре, но по-настоящему ее мучило одно: она тосковала по дому. Родные, Афины, Греция—без этого она задыхалась. А Генри не мог этого понять! — Как это возможно, чтобы не влюбиться без памяти в Париж?! — Генри, наверное, европейцу не понять, как крепко держатся греческие семьи. Мы сходим с ума, если не видимся несколько часов. Привязанность к семье имеет в нашей жизни огромное значение. Мне легче было бы сидеть со сломанной ногой, чем так мучиться. Она писала брату Спиросу: «Как мне живется? Здесь хорошо. Целый день я сижу со словарем на коленях, стала брать уроки гимнастики. Иногда я очень скучаю по дому. Правда, мой муж не дает мне особенно скучать, он сразу берет меня на прогулку, в театр или в цирк, который я обожаю». «Единственное, от чего на душе у меня неспокойно, — признавалась она сестре Мариго, — это наша разлука. Господь не поскупился сделать меня счастливой, но я разлучена с родными». В письме к отцу: «Мой обожаемый папа, получила твое бесценное письмо. Я перечитывала его тысячу раз, плача от радости, что вы меня не забыли». Вместе с тем ее постоянно точила мысль, что она живет в роскоши, а домашние едва сводят концы с концами. Когда они сажали ее на пароход в Пи рее, у них уже не было ни гроша в кармане. Матери придется кормить семью на выручку от торговли, а это в общем означало сидеть на хлебе и воде. Когда из дома долго не было писем, Софья понимала, что им просто тяжело браться за перо. Главное, она не видела средства помочь им, а помочь ох как надо было! Попросив у Генри тысячу шестьсот драхм на свадебные расходы, она обещала впредь ни о чем его не просить, и ей хотелось сдержать свое слово. Своих денег у нее не было, потому что Генри и в голову не приходило давать ей на карманные расходы. На что они, собственно, ей нужны? С прислугой, торговцами и портными он расплачивался сам, аккуратно занося расчеты и выплаты в гроссбух. Он ни в чем не ограничивал ее, но раз она и прежде не держала денег в руках, то к чему они ей сейчас? И сколько она ни крутила рулетку своих мыслей, шарик всегда останавливался на «зеро». Ведь язык не повернется спросить карманных денег или чек, если у тебя решительно все есть. И это было тем более горько, что она уже примерно представляла, каким состоянием обладал Генри Шлиман. Его четыре парижских дома оценивались в триста шестьдесят тысяч долларов. Это была его недвижимость, за которую он расплатился частью своих русских облигаций. Арендная плата приносила ему солидный доход. На одной только Крымской войне он заработал два миллиона рублей, то есть приблизительно четыреста тысяч долларов. У него были банкиры и агенты в Санкт-Петербурге, Лондоне, Гамбурге, Нью-Йорке, Париже, он был акционером железнодорожных компаний в Нью-Йорке и на Кубе, заводов и фабрик в Англии… Его годовой доход должен был составлять внушительную цифру. Она не сомневалась, что рано или поздно Генри каким-то образом поможет ее родным. Но сейчас он с головой ушел в парижскую жизнь и ни о чем другом не думал. Как они перебьются, пока он о них вспомнит?.. Тревога за родных отравляла ей все удовольствие от их дома, набитого прислугой, ее не радовали ни обитая бархатом золоченая мебель, ни ложа в опере, ни ее шелковые и атласные платья. Когда на душе становилось особенно скверно, она отчаянно хотела домой, в Грецию: работала бы себе учительницей и в меру сил помогала родным. К рождеству Генри подарил ей прелестные часики, специально выписанные из Англии, а Георгиосу Энгастроменосу перевел тысячу франков — «отметить праздник», как написал он в приложенной к чеку записке. Откуда ему было знать, что на эти двести долларов они хотя бы по-человечески проживут эти праздники! Она порадовалась за своих—и за Генри, потому что он сам это надумал. На время вспоминать о Греции и доме стало легче, но тут грянула беда, причем оттуда, куда она не позволяла себе заглядывать. Как-то в середине декабря, когда они читали в библиотеке письмо от его сестры из Германии, вдруг подали телеграмму. Она была отправлена из Петербурга и подписана сыном Генри, четырнадцатилетним Сергеем: умерла от заражения крови старшая дочь Генри, двенадцатилетняя Наталья. Три дня Генри не выходил ВЭ своей спальни, отказывался есть. Он не переставая казнил себя мыслью, что был плохим отцом. Если бы он был в Петербурге, он бы позвал лучших врачей и Наталья была бы жива… Чувства осиротевшего родителя Софье, естественно, были неведомы, и утешать мужа она могла, только взывая к рассудку. — Твой петербургский агент господин Гюнцберг пишет, что они приглашали доктора Кауцлера и доктора Экка. Они хорошие врачи? — Прекрасные. — Ты бы их тоже позвал, если бы был в Петербурге? — Разумеется. — А мать, она заботилась о Наталье, любила ее? — Да. — Тогда от тебя уже ничто не зависело. — При мне она просто не заболела бы. Софья вызвала Эрнеста Ренана и еще нескольких приятелей Генри, но их участие и сочувствие не помогли. Тогда она метнулась в другую сторону, и этот шаг было плохо рассчитан: она разослала записки старинным приятельницам Генри. И те учинили ей отповедь, только что не называя прямой виновницей: не разбей она первый брак Генри, Наталья бы не погибла. «Не стану же я им напоминать, — беспомощно рассуждала она с собою, — что Генри уже шесть лет не жил с Екатериной, когда приехал в Колон. А они ведут себя так, словно я его любовница». Время притупило его боль. Но для нее Париж навсегда потерял свою прелесть. Пришла зима: дождь, холод, мокрый снег, грязное унылое небо. О прогулках пришлось забыть. Она схватила простуду, он слег с гриппом. На рождество мать прислала ей коробочку печенья. Она ела по одному в день, после завтрака, чтобы подольше протянуть дорогие воспоминания. Новый год, он же день ее рождения, прошел скучно, а спустя пять дней окончательно захандрил и Генри. С каждым днем нового, 1870 года он приходил во все большее раздражение, поскольку турецкое правительство не спешило с разрешением на раскопки. Лишенная родных корней, восемнадцатилетняя девочка с трудом приживалась на новой почве, а сорокавосьмилетний мужчина мог примириться с мыслью, что нет решительно никаких возможностей поторопить турок. Быстрота, натиск, расчет — вот что сделало ему имя (и добавим — состояние). — Это превосходит человеческое разумение, — брюзжал он. — Почему правительство или первый министр не могут написать такую простую бумагу? Они ничего не теряют, только выигрывают. Зачем эти задержки, проволочки? Зачем откладывать такое простое дело? Она понимала, что все это вопросы риторические и призывом к терпению — он ненавидел эту добродетель—она его не успокоит. «Я-то молода и еще успею начать все, а у него нет времени ждать». Поскольку великий визирь был далеко, он срывал досаду на Софье. — Ты живешь—и не живешь в Париже! Ты день и ночь мыслями в Греции. Ты не чаешь увидеть и обнять родных и только и бредишь своим голубым греческим небом! Когда ты наконец станешь взрослой и будешь жить здесь, как положено? Рядом с мужем, который тебя обожает? Твоя тоска по дому отравляет наш брак. От учения у нее теперь болела голова. У нее совсем пропал аппетит. Генри пригласил француза-врача, тот диагностировал желудочные спазмы. Практиковавший в Париже врач-грек установил кишечное расстройство. — Может быть, — спросил его Генри, — свозить ее в Германию на воды? — А почему не отвезти ее домой? Пусть купается в Пирее. Вы поразитесь, как быстро тамошняя вода поставит ее на ноги. Как ни больно было убедиться, что причиной всему ее отчаянное одиночество, любовь к жене победила. Он решил отвезти ее в Афины и там ждать фирмана из Константинополя. Софья понимала, как многим он жертвует ради нее: меняет роскошный обжитой дом на номер в отеле, лишается своей библиотеки и знаменитых друзей. Но ей было так плохо сейчас, что она приняла эту жертву.
2
При встрече в Пирсйском порту Энгастроменосы буквально затопили Софью слезами. На минуту ей показалось, что мужа они встретили прохладно, но это облачко развеяли радость видеть родителей, братьев и сестер и праздничный вид Пирея и Афин: была последняя суббота перед сорока восьмью днями великого поста. Пирей и столица были украшены, на улицах и площадях народ пел и плясал под шарманку. Выпачкав сажей лица, одевшись в женские костюмы, ряженые плясали вокруг майского дерева или, вырядившись в традиционную белую юбочку в складках, гарцевали на игрушечных лошадках и верблюдах. Беззаботная ребятня гурьбой бегала за артистами, которые, кончив представление, с бубном обходили зрителей, собирая лепту. На следующее утро, в воскресенье, Софья и Генри на весь день уехали к родным. Площадь Св. Мелетия была украшена праздничными гирляндами, по городу, словно проказник-ветер, носились дети в маскарадных костюмах. Софья и родственники не закрывали рта много часов подряд, начав беседу в саду и продолжив ее за праздничным столом. Софья рассказывала о путешествии, о Париже, домашние сплетничали о родственниках и друзьях. Порою сразу говорило несколько человек: так гомонят ранние птахи за окном спальни. И снова ей показалось, что на Генри они обращают мало внимания. Она взглянула в его сторону и не обнаружила признаков раздражения или подавленности на его лице—только озадаченность их нескончаемой говорильней. Когда поздно вечером, удобно откинувшись на подушки экипажа, они возвращались в отель, Генри обнял ее и властно прижал к себе, словно желая сказать: «В конечном счете ты моя, а не их». А вслух не без язвительности добавил: — Слушай, малышка, можно ли столько говорить—и так мало сказать? Она изумленно взглянула на него. — Говорить так же важно, как дышать, Генри! Совсем не важно, что мы говорим друг другу: важно слышать сами голоса. Генри с минуту подумал, поцеловал ее и заключил: — Ты права. Софидион. Любящим не надо ни до чего договариваться. Им просто нужно быть вместе. В понедельник, на третий день их жизни в «Англетере», она чуть свет отправилась походить по афинским улицам, а вернувшись, застала Генри уже в халате, с чашкой кофе, за письменным столом. У него был неровный, но четкий почерк. Он поднял на нее глаза, сказал, что ждет ее с шести часов, и внимательно выслушал рассказ о пробуждении Афин. Потеснившись в кресле, он усадил ее рядом и налил чашку горячего сладкого кофе. — Я пишу Фрэнку Калверту в Чанаккале. Это англичанин, во время Крымской войны он нажил миллионы на поставках британскому флоту. Среди земельных участков, которыми он владеет, половина холма Гиссарлык. Он разрешил мне производить раскопки и вообще делает все, чтобы добиться для меня разрешения копать весь холм. Между прочим, он сам немного ученый, любитель: несколько его статей о древней топографии Троады опубликованы в британском «Археологическом журнале». Она подняла на него счастливые после прогулки глаза. — Можно прочесть? Взяв письмо, она читала вполголоса: «Мне не терпится начать раскопки на Гиссарлыке. Если у вас есть фирман, то не сочтите за труд еще раз дать мне список необходимых приспособлений и инструментов, потому что мы уезжали из Парижа в спешке и я забыл переписать все это из вашего зимнего письма. Когда вы уведомите меня, что у вас есть фирман, я немедля поеду в Смирну или в Константинополь (куда, вы думаете, лучше?) и достану все необходимое». Она повернулась к нему, нетерпеливо облизнув губы. — Генри, ты думаешь, мы сможем начать уже весной? — Я рассчитываю, что да. Его глаза горели, порозовели щеки и даже лысина. — Нам нужно не откладывая ехать в Авлиду. Там ахейцы собирали флот перед отплытием в Трою. Я там еще не был. Нужно пройтись по ахейским лагерям здесь, в Греции, а уж потом восстанавливать их лагерь у Дарданелл, под Троей. При мысли о новой разлуке со своими у нее перехватило горло. — А нельзя взять с собой Спироса и Мариго? Все будут так рады. Они ведь никуда не выезжали после папиных неприятностей. Она напряженно вслушивалась в его мысли, перебиравшие все плюсы и минусы ее предложения, но вот он принял решение, с улыбкой кивнул в знак согласия и расправил халат на плечах. — Я узнаю, когда идет пароход в Халкиду. Потом ты съездишь в Колон и пригласишь их. Как раз в тот вечер из Пирея в Халкиду шел пароход, пятнадцать часов пути. Генри заказал три каюты. Сииросу шел двадцать первый год; это был флегматичный молодой человек, невысокий, коренастый. Вряд ли он был способен на сильные чувства, если не считать его привязанности к Софье, которой он был верным защитником в их детские годы. В глазах Генри он был загадкой: парень ничего не хочет добиваться, у него нет цели в жизни. На вопрос, кем он собирается стать, Спирос смущаясь ответил: — Да я уже стал… Буду работать в лавке у отца, пока она есть. Потом буду помогать Александросу. Ему тяжело одному. Самому мне ничего не надо. Генри недоверчиво покачал головой, а Софья улыбнулась про себя: «Генри думает, что богатство или власть единственная цель в жизни и что родиться без честолюбия все равно что родиться безруким или безногим калекой». Четырнадцатилетняя Мариго была даже не болтунья, а щебетунья, и похожа она была на птицу своим остреньким профилем, хотя в остальном черты ее лица были не лишены привлекательности. Вот уж кто точно не закрывал рта ни на минуту, и только благоговение перед Генри порою накладывало на ее уста печать, что было воистину чудом. До Пирея добрались поездом. В четверть восьмого пароход отчалил. Путешественники приятно поужинали в маленьком салоне, потом перешли на палубу и смотрели, как в рассеянном лунном свете мимо проплывают островки, очертаниями похожие на морских зверей: кит, дельфин, акула, тюлень: а вот пошли звери лесные — жираф, высоко вознесший каменную главу, медведь, антилопа. В эти картинки Софья и Спирос играли детьми, когда летом семья совершала плавание на Крит, Миконос и ближние острова. Море было спокойно, ночной воздух недвижен. Они оставались на палубе до полуночи. Пароход широкой дугой огибал мыс Сунион с великолепным храмом Посейдона на вершине утеса, и им казалось, что они могут сосчитать все его пятнадцать мраморных колонн. Утром встали в семь часов и сразу поднялись на палубу. Софья отметила, что они уже миновали Марафон и скоро должны войти в проливчик шириной в 70 ярдов, ведущий прямиком к Халкиде. Генри взял Софью под руку и подвел к борту показать обширный, простертый в глубину берег, где на суше, вокруг некрополя Авлиды, лежали корабли ахейцев. Его била мелкая дрожь, и Софья крепко сжала его руку. — Какой же я был дурак! — воскликнул он. — Я третий раз в Греции и только сейчас стою у начала начал. — Тебя не пустили бы в Авлиду, — заметила она, — без гречанки-жены, которая поможет тебе найти Трою. Он горячо поцеловал ее в губы, чем немало ее озадачил. «Надо следить за словами, — подумала она. — Он совсем не понимает шуток». Генри нанял рыбацкий каик, чтобы переправиться на противоположный берег пролива, в Авлиду, и попросил рыбака править с таким расчетом, чтобы высадиться напротив крохотной гостиницы. Два мальчугана подбежали взять их багаж. Генри достал из портфеля свою карту Греции, где разными цветами было показано местоположение всех царств и племен, упомянутых Гомером в «Перечне кораблей», за исключением тех. понятно, что исчезли не только с лица земли, но и из памяти народной. На отдельном листке был набросан план ахейского лагеря на побережье Авлиды. Софья подозвала Спироса и Мариго, и все четверо направились вдоль берега к северу, пока вдали не открылся порт Халкида. Узкую гавань подковой охватывали холмы с голыми макушками: деревья извели на мачтовый лес еще римляне. Все это совпадало с гомеровским описанием: «камнистая Авлида». Далеко на севере видна была горловина, через которую, вытянувшись цепочкой, корабли могли выйти в открытое море. Этим-то путем и вышли из пролива 1140 ахейских кораблей, миновали Спорады и вошли в Эгейское море, через Лемнос держа курс на Дарданеллы. Генри поднял выброшенную морем палочку, достал карманный нож и остро заточил ее. Затем, поминутно заглядывая в карту, стал чертить на песке разметку лагеря. Он был весь охвачен возбуждением, и она в который раз подумала: когда он дорывается до любимого дела, возраста для него не существует. Словно и не было тридцати лет разницы между ними. Он прыгал по берегу, как газель, строя на песке просторный лагерь Агамемнона. — Здесь, в центре войска, стоял Агамемнон, царь Микен и всего Микенского царства, простиравшегося на большую часть Греции [11]. Он обращался к Софье, своей помощнице и напарнице, а Спирос и Мариго стояли в сторонке, дивясь небывалому зрелищу. — Его палатка стояла в окружении сотни черносмоленных барок и медноносых кораблей. По обе стороны от него—я брошу камни, чтобы ты видела где, — расположились два могущественных вождя: на севере, с сорока кораблями, Аякс, на юге Ахилл, с ним пятьдесят судов и почти тысяча воинов. Справа от Агамемнона расположился мудрый старец Нестор, «песчаного Пилоса царь седовласый», с ним девяносто кораблей: против него Менелай, брат Агамемнона, спартанский царь, он поведет шестьдесят кораблей. Рядом с ним, близ лагерного алтаря, хитроумный Одиссей с дюжиной красноносых судов. Здесь стояли критяне, могучая рать—восемьдесят быстрых кораблей и восемьсот шестьдесят человек дружины; и строго напротив них — аргивяне, тоже с восьмьюдесятью кораблями. К югу, ряд за рядом, располагались беотийцы. пятьдесят кораблей, фокеяне и магнеты — по сорок. На севере, в том же порядке. — эвбейская рать, пятьдесят судов, мужи аркадские — шестьдесят и эпеяне с сорока кораблями. Это был очень большой лагерь, в нем разместилось сто двадцать тысяч воинов с сорока вождями. Каждая дружина стояла отдельно, сама обеспечивала себя провиантом. Но отплытие в Трою задерживалось — не было попутного ветра, и целые месяцы проходили в праздном бездействии, воины стали пьянствовать, устраивать игры и состязания… Даже могущественный Ахилл не мог удерживать своих людей в повиновении. Помнишь, что он говорит у Еврипида. в — Ифигении в Авлиде»?Крепко ухватив Софью за руку. Генри водил ее от одной стоянки к другой. — Во время ристалищ, включавших кулачный бой, борьбу, бег и состязания на колесницах, метание диска, между представителями разных племен вспыхивали ссоры, и, наверное, многие оставались лежать с проломленной головой. Добавились и другие неприятности: паруса ветшали, мачты гнили, кончалось продовольствие. Поднялся ропот, и Агамемнон был принужден принести в жертву Артемиде свою дочь-девственницу Ифигению. дабы богиня послала благоприятный ветер и можно было немедля отплыть. Агамемнон спас поход от развала. Генри широко раскинул руки. — Ты представляешь, какое огромное поселение должно было здесь образоваться? Здесь, по существу, был город, равного которому ахейцы не знали, с улицами и переулками, с кварталами ремесленников, купцов и торговок. Прибавь к тем сорока шатрам тысячи парусиновых палаток, деревянных хижин, построек, загонов для зверей, площадок для объездки мулов… — Генри, — задумчиво проговорила Софья, — ведь каждый корабль вмещал только пятьдесят человек. Я могу себе представить, как они разбирали колесницы и пристраивали их на свободном месте. Но куда они ставили лошадей? Ведь даже на десятом году осады Трои — а этим начинается «Илиада» — они не испытывают недостатка в лошадях. Они их тоже разбирали, что ли, и рассовывали по углам? Генри развеселился и порывисто обнял ее за плечи, защищая от холодного ветра. — Разобрать можно только деревянного коня, милая насмешница! Разве не могли они набрать лошадей, сколько им нужно, под стенами Трои? У троянцев и их многочисленных союзников были замечательные лошади, хотя бы у фракийцев, чьих коней похитили Одиссей и Диомед, выведав их убежище от схваченного троянского лазутчика Долона, который и поплатился смертью за попытку увести фессалийских коней Ахилла. — Ты играешь мне на руку, Генри! Если Ахилл сумел привезти коней из родной Фессалии, то почему, собственно, другие не могли? Может, у них были специальные плавучие конюшни? — Предание молчит об этом, малышка. Я отступаю, сама ломай голову, каким образом ахейцы доставили отсюда лошадей в Трою. Она победно зацокала языком и бросила на него подстрекательский взгляд. — Кроме лошадей, меня беспокоят годы. Не ошибался ли Гомер, начав «Илиаду» десятым годом осады Трои? Если за несколько месяцев здесь, в Авлиде, сгнили паруса и мачты, то во что они превратятся за десять лет в Геллеспонте?! — В горах было сколько угодно леса, — спокойно парировал Генри, — и парусину они умели ткать. — Генри, ты как-то говорил, что число девять было священным у греков. В акрополе девять входов. Девятка без конца повторяется в «Илиаде». Я даже стала составлять список в Париже, когда болела. Когда Агамемнон отказался вернуть взятую в битве дочь Хриса, жрец взмолился Аполлону покарать ахейцев, и «девять дней на воинство божие стрелы летали». Когда товарищи Патрокла омывали его мертвое тело, они «язвы наполнили мастью драгой, девятигодовою». Когда Гефест готовил доспехи Ахиллу, он выковал на щите «девять псов быстроногих». Когда Приам просит Ахилла вернуть ему тело Гектора, он говорит: «девять бы дней мне желалось оплакивать Гектора в доме». — Достаточно! — сухо оборвал ее Генри. — Поздравляю с хорошей памятью. Но она была слишком увлечена, чтобы услышать в его словах предостережение. — И разве не странно, что после девяти лет брани под стенами города Елена впервые называет Приаму по именам всех героев — ахеян? Ты помнишь, она указывает ему со Скейской башни и своего первого мужа Менелая, и Аякса? — Что-то такое припоминаю, — саркастически отозвался Генри. — Так, может быть, все это дает нам право считать, что Гомер говорил о «девяти годах» в символическом смысле? — Нет, — сказал он твердо. — Мы должны верить! — Девять лет… Чем они питались все это время? — У них были продовольственные отряды… — Ну, пусть, — настаивала она, — но как могли цари, вожди, воины на столь долгий срок оставить свои царства и обязанности? Ведь дома могли случиться и перевороты, и вторжение грабителей-соседей или варваров. Я убеждена, что «девять лет» означает девять месяцев осады, причем в тот самый год, о котором рассказывает Гомер. Попросту говоря, это значит: «долгая, изнурительная осада…». — Яйца учат курицу, — скривился Генри. Она строптиво вскинула голову. — Тебе должно льстить, что ты оказался таким хорошим учителем. Он повернулся к ней спиной и направился в сторону гостиницы. «Критяне опять правы, — думала она, идя следом. — «Говори, что хочешь, только не спорь со мной». Ничего, начнем раскопки, и на академические споры уже не останется сил. Господи, смягчи сердце великого визиря, пусть он поскорее пришлет Генри разрешение!» Недолгий сон и предстоящий ужин вернули Генри доброе расположение духа. Он попросил Софью простить его за невыдержанное поведение, подхватил под руки Спироса и Мариго, и все отправились в симпатичную харчевню при гостинице. Они были единственные гости. Софья выбрала стол перед высокой деревянной стойкой, выложенной изразцами. Стойка скрывала от глаз разделочный стол и раковину, но очаг в углу комнаты был доступен обзору, около него хозяйка занималась барашком. Генри и Спирос прихлебывали охлажденную рецину. Софья попросила Генри почитать вслух «Ифигению в Авлиде», благо, книга была с ним. После ужина они перешли ближе ко очагу. Генри положил книгу на колени. Радуясь случаю, хозяин отправил старшего сына оповестить соседей. Пошелестев страницами, Генри заговорил с середины фразы, словно вслух продолжив свои мысли. За его спиной тихо устроились хозяева и двое их сыновей. — …никакая история человеческая не существует только в своем времени. Она берет истоки в предыдущих поколениях—и устремляется в будущее. Эту истину в первую очередь подтверждает история Трои. Потрескивание поленьев, баюкая Софью, как бы вторило низкому, мягкому голосу Генри. Но лицо его пылало внутренним огнем, горело радостью отдаться двум любимейшим занятиям— учить и рассказывать истории. В медовый месяц, а потом в Париже Софья разгадала, отчего он такой превосходный рассказчик: он искренне верил в эти истории, они были для него и доподлинной историей, и литературой. И поэтому он умел совершить чудо: перенести слушателей в глубокую старину, сделать их участниками драмы, разыгравшейся тысячи лет назад. — Мы начнем с того, с чего началась наша история, — продолжал Генри, — хотя, я знаю, кое-что из этого вы проходили в школе. Чтобы понять историю Греции, Трои и падения Микен, нам нужно заглянуть еще дальше в прошлое. Среди самых древних царей на юге Греции был Пелопс, его именем зовется Пелопоннес. У Пелопса было два сына, Атрей и Фиест. Первенец Атрей наследовал отчий престол. Но младший его брат Фиест был завистлив и коварен. Сначала он соблазнил жену старшего брата, потом взбаламутил дворцовую охрану. Атрей подавил заговор и изгнал брата вместе с его сыновьями. В конце года Фиест явился ко двору испросить прощения. Атрей притворился, что прощает брата, и пригласил его на примирительное пиршество. А сам тем временем убил старших сыновей Фиеста, изрубил их в куски, изжарил и подал это аппетитное блюдо Фиесту. Когда он рассказал брату, чего тот только что отведал, Фиест умолил богов наложить проклятие на род Атреев и бежал с единственным оставшимся сыном, Эгисфом… — …который стал любовником Клитемнестры, — вставила Софья, — пока Агамемнон стоял под Троей. В ночь возвращения Агамемнона он помог Клитемнестре убить его. Генри ответил ей поощрительной улыбкой. — Совершенно точно. Только ты забежала вперед. Атрей умер. Сыновья поделили царство: Агамемнон стал царствовать в столице, Микенах, а младший брат, Менелай, — в Спарте. В одном из походов Агамемнон добыл себе жену и царицу. Вот что говорит об этом сама Клитемнестра. Я прочту отрывок.
Когда он кончил. Софья шепнула ему: — Посмотри, сколько у тебя слушателей. Генри обернулся и обмер: в комнату один за другим входили авлидские бедняки и тихо рассаживались позади их маленького семейного круга. Они даже не успели переменить рабочей одежды, но на их чисто отмытых лицах светло отражался огонь очага, когда, подавшись вперед, они напряженно ловили каждое его слово. Они не умели ни читать, ни писать и, уж конечно, в жизни своей не видели ни одной пьесы, но они сердцем чувствовали, что Генри Шлиман возвращает им часть их вечного достояния. Софья видела его волнение: лучшей награды Авлида не могла ему предложить. Она взяла его за руку и тихо сказала: — Продолжай, Генри. Пожалуйста. — Хорошо… Менелай нашел себе невесту мирно, но это из-за нее потом здесь, в Авлиде, собралось тысяча сто сорок кораблей и сто двадцать тысяч войска, чтобы, дождавшись попутного ветра, отправиться в Трою. У царя Лакедемона Тиндара, мужа Леды, была дочь невообразимой красоты по имени Елена. Она была сестрой Клитемнестры. Их родным отцом был Зевс, могущественнейший из богов. Приняв облик лебеда, он соблазнил Леду. Выбирая для дочери мужа, Тиндар никак не мог решить, какому царю или вождю отдать предпочтение, и тогда он созвал их всех к себе во дворец — на состязание. Молодые знатные отпрыски были так очарованы красотой Елены, что прямо здесь, при дворе, едва не разгорелась братоубийственная война. Тиндар заставил просителей поклясться честью, что они подчинятся выбору самой Елены, и если кто-нибудь нанесет обиду ее избраннику, то остальные должны все объединиться и уничтожить обидчика. И она выбрала Менелая. Генри перевел дыхание и продолжал. — И вот в Спарту приезжает с богатыми подарками сын Троянского царя Приама Парис, воплощение мужской красоты. Гостеприимно встретив его, Менелай ненадолго уезжает на Крит, а тем временем Парис похищает Елену. Позже Елена будет оправдываться, что уехала не по своей воле, что ее околдовала богиня Афродита. В три дня Елена и Парис пересекли Эгейское море и прибыли в Геллеспонт. Менелай призвал прежних женихов выполнить свое обещание, и в Авлиду съехались цари, вожди и воины, чтобы идти на Трою, вернуть Елену, перебить мужчин, спалить город и взять в рабство женщин и детей. Но здесь, в этой укромной гавани, огромный флот застрял. Сначала была непогода, штормы, потом долгие месяцы на море не было ни ветерка. В войсках начались беспорядки, ратники требовали немедленно плыть в Трою и разграбить город, в противном случае угрожая разойтись по домам, вернуться к своим стадам и нивам. И тогда прорицатель Калхас, участник Троянского похода, объявил, что богиня охоты Артемида—она ветрами распоряжалась тоже — разгневалась на Агамемнона, застрелившего ее священную лань, и требует жертвенной смерти его дочери Ифигении. Агамемнон послал за дочерью в Микены под предлогом обручения ее с Ахиллом из Фессалии. Он собственной рукой перерезал нежное горло своей дочери, и кровь хлынула в миску с «очистными водами». Так совершилась искупительная жертва Артемиде. Я прочту мольбу Ифигении к Агамемнону.
Потом Ифигения обращает пронзительные слова прощания к матери, Клитемнестре.
Генри вернулся к началу книги и мягким, мелодичным голосом прочел всю пьесу целиком. А Софья смотрела на лица слушателей—жителей Авлиды. Женщины утирали слезы, мужчины ушли в рассказ самозабвенно, унесенные в далекие и так мало переменившиеся времена вот этой самой деревни, где их предки в трудах жили веками. «Все они добрые христиане, — размышляла она, переводя взгляд с одного лица на другое, — но им и в голову не придет, что не было у богини Артемиды такой власти — удержать ветер. И что Ифигению принесли в жертву не когда-то в допотопные времена, а приносят и сейчас, на этом песчаном берегу, по которому они каждый день ходят, и ее кровь льется и льется в миску с очистными водами…» От волнения с трудом подбирая слова, хозяева и соседи благодарили доктора Шлимана. Заплаканная Мариго поцеловала его в щеку, преображенный флегматик Спирос положил ему руку на плечо и сильно сжал его. Софья и Генри ушли в свою комнату. Обняв за шею, она горячо расцеловала его. — Ты нас всех заворожил. Ты словно сам был участником этой трагической истории и заставил нас поверить в нее. Генри иронически склонил голову на плечо. — Нет, я серьезно говорю. Я всегда уважала твою убежденность, но все же не могла до конца разделить ее. А теперь я верю: Троя была, война была, и сожженный ахейцами город ждет, когда мы его освободим.
3
В «Англетере» ее ждала записка от матери: «Дорогая Софья, когдавернетесь, приезжай в Колон. Надеюсь, занятия Генри оставляют тебе немного свободного времени». Софья достаточно хорошо знала мать, чтобы прочесть между строк: приезжай одна. Судя но всему, дело было важное. В Пирей их корабль пришел в девять утра, сейчас было одиннадцать. Перед Генри лежала куча неотложной корреспонденции. — От Фрэнка Калверта ничего нет, — проворчал он. — Сегодня же напишу британскому и американскому послам в Константинополь. Они пользуются большим влиянием на султана. — Раз ты будешь занят письмами, ты не возражаешь, если я съезжу в Колон? Мама просит встретиться. — Тогда я попрошу принести мне обед сюда, чтобы не отвлекаться. Пришли записку, нужно ли мне приехать к окину и забрать тебя. А вообще возвращайся до темноты. Мадам Виктория обняла дочь невнимательно и даже прохладно. — Что-нибудь плохо, мама? — Все плохо. — Давай пройдем на кухню и выпьем чашку кофе. Они сели друг против друга за простой стол, на котором обычно разделывали овощи и держали кастрюли, снятые с горячей плиты. Был тот редкий день, когда в доме царила полнейшая тишина: все разошлись. Словно из протекающего крана, в окна сочился желтенький свет. На плите кипела луковица, в другом горшке варилась окра. Широкое строгое лицо мадам Виктории не улыбалось, неприступно сомкнулись полные губы, гладко расчесанные на прямой пробор иссиня-черные волосы облегали голову, как тесная ермолка. «У мамы сильный характер, — думала Софья. — Некоторые называют ее властной. Она не может свыкнуться с мыслью, что я уже замужняя женщина. Как ни было мне одиноко в Париже, ей, конечно, было больнее отпускать меня от себя, оставить без помощи и совета». — Мама, ты что-то скрываешь. Я это заметила после Парижа. — Ты не ошиблась, — хмуро ответила мадам Виктория. — Мне показалось, вы неприветливо встретили Генри. — Боюсь, с твоим мужем мы ошиблись. Мы позволили тебе выйти замуж за скрягу. — Генри скряга?! Это неправда. Он не дает мне свободных денег, но я и не нуждаюсь в них. Зато он возит меня всюду, куда мне хочется, и покупает мне все, что нужно и не нужно. — Родные говорят, что ты скомпрометировала всю семью. Это было до такой степени дико, что Софья отказывалась верить собственным ушам. — Раз ты вышла замуж за миллионера и месяцами живешь в Париже, мы ожидали увидеть тебя в бриллиантах и мехах, в дорогих туалетах. Софья бросила взгляд на свое коричневое шерстяное платье, затканное пестрыми цветочками. Конечно, скромное платье, но никак не бедное. Материал она выбирала сама, и портной постарался на совесть: высокий воротник, облегавший точеную шею, длинные рукава, узкий в талии лиф и широкая юбка. Софья разгладила платье на коленях и тихо спросила: — Чем плохо это платье? Мне нравится. — Не знаю… В твоем положении… И почему на тебе всегда это коралловое ожерелье? — Потому что это первый подарок Генри. У меня к нему нежное чувство. — Иметь только нежные чувства — роскошь для бедняков вроде нас. Для жены богатого человека это платье чересчур просто. Его могут спасти только хорошие драгоценности. Тетя Ламбриду говорит, что по приезде ты выглядела бедной родственницей. Софья нервно расхаживала по кухне. — Мама, ты неверно судишь о Генри. Он возил меня к лучшим парижским портным. У меня столько платьев, что мне их всех не переносить. Для бриллиантов я слишком молода, а меха—зачем они в нашем климате? — И все равно их надо иметь. Ты в особом положении. Генри просто обязан был все это купить. — Генри делает мне прелестные подарки. Он даже посылал человека в Англию за часами, которые мне приглянулись. — Нужно быть требовательнее. — Мадам Виктория неодобрительно помотала головой. — Ты всегда меня слушалась. Почему ты сейчас упираешься? — Мама, я всегда тебя слушалась, но теперь я замужняя женщина… — Тебе еще только восемнадцать лег. Ты должна прислушиваться к людям, которые старше тебя и опытнее. Ты еще совсем девочка. — Мама, — глубоко вздохнула Софья, — что конкретно ты хотела мне сказать? — Твой господин Шлиман не выполнил ни одного своего обещания. Мы приняли его с открытой душой, а он плюнул в нее. — Господи, — побледнела Софья, — кажется, у меня в животе опять все сжимается, как в Париже. — У одних болит живот, у других — сердце. У меня, например, сердце. К обеду Георгиос, Спирос и Александрос пришли вместе. Обед в этот день был скромный и быстрый, от обычного послеобеденного сна все уклонились и приступили к Софье с претензиями, которые она уже не имела сил отражать: утренняя сцена с матерью совершенно подкосила ее. Самое серьезное обвинение было то, что накануне венчания Шлиман обещал семье бриллиантовое ожерелье стоимостью 150 ООО французских франков в качестве свадебного подарка. За точность этого договорного пункта мадам Виктория ручалась головой. Не так решительно, но с той же уверенностью отец объявил, что Генри обещал ему сорок тысяч франков на переоборудование лавки и закупки импортных товаров. Мариго призналась, что ей были обещаны двадцать тысяч франков в приданое. — Впервые слышу об этом! — простонала Софья. — Почему вы мне раньше не сказали? — Берегли твои чувства, — ответил отец. — Завтрашнюю невесту грех обижать денежными разговорами. Она надолго замолчала. Внутри нее все сжалось. Громко тикали часы. Когда она подняла на всех свои карие глаза, они пылали гневным огнем. — Мама, Генри сам обещал тебе это ожерелье? — Не мне. — Тогда кому же? — Дяде Вимпосу. Она зажмурилась, как от боли. — Папа, а эти деньги на лавку, кому он их обещал? — Тоже дяде Вимпосу. — Мариго, когда мы ездили в Авлиду, ты ни слова не сказала о приданом. Когда он тебе его обещал? — Он обещал это епископу Вимпосу. Софья повернулась к Сииросу. Тот поджал губы и отвернулся. — Дядя Вимпос не станет лгать. Он священник. Мама, мне сейчас так же плохо, как тебе. Мне много хуже, чем в самые плохие дни в Париже. — И, помолчав, добавила: — Остается одно: напомнить моему мужу его обещания и потребовать, чтобы он держал свое слово. Папа, я напишу, чтобы он зашел за тобой в лавку к вечеру и приехал сюда, что это очень важно. Генри выглядел встревоженным, когда вечером вошел в светлую гостиную. — У тебя все в порядке, дорогая? Какая-то очень страшная записка. Как ты себя чувствуешь? — Плохо, — ответила она, отстраняясь, — хуже некуда. — Да в чем дело? Утром у тебя все было прекрасно. — Родные рассказали, что перед свадьбой ты надавал кучу обещаний и даже не подумал их выполнить. Генри побледнел и как-то съежился, отчего показался ей точно таким, каким она увидела его впервые в саду, в канун дня святого Мелетия. — Какие обещания я не выполнил? Не помню никаких обещаний. — Наш кузен, епископ Вимпос, — подала голос мадам Виктория, — говорил, что вы подарите нам или вашей жене бриллиантовое колье. Софья видела, как он не может определить свое отношение к услышанному, и он выплеснул все чувства разом, когда резким, как удар хлыста, голосом вспорол тишину: — Глубокочтимая теща, епископ — человек замечательной души и честности. Я убежден, что вы его неверно поняли, тем более что я в каждом письме настоятельно просил его никому не говорить, что я богат. Мой глубокоуважаемый тесть, — повернулся он к Георгиосу Энгастроменосу, — если это правда, что епископ сделал вам от моего имени подобное обещание, и даже если это неправда, в любом случае вы совершили грех, продав вашу прекрасную дочь за бриллианты. Крушение ваших расчетов послужит вам справедливым наказанием. Мы христиане, нам негоже продавать своих дочерей. — Бриллианты — это ваше с Софьей дело, — нетерпеливо перебил его Александрос—А как быть с деньгами на мануфактуру? — Я ничего не обещал. — И приданое для Мариго не обещали? — взорвалась пунцовая от негодования мадам Виктория. — Я тебе это обещал? — спросил он девушку. — Дядя Вимпос сказал, что да. «Какой кошмар, — страдала Софья, — какая ужасная сцена». И тут появляется новое действующее лицо: тетушка Лам-бриду. У нее был своего рода нюх на скандалы: так комар издалека чует кровь. С ее приходом семейство получило свежую ударную силу. Оказывается, Генри Шлиман обманул всех кругом. Он скупой человек, тратится только на самое необходимое. Он отказал в содержании своей первой жене, не посчитался даже с нуждами детей. Он запретил Софье думать о родителях, выполнять свой дочерний долг… К этому времени у Софьи голова шла кругом, все это было так омерзительно. Невидящими глазами взглянув в сторону мужа, она хрипло проговорила: — Я не хочу оставаться с таким человеком. От ее слов Генри задохнулся, как в петле. — Тебя никто не будет заставлять. Я дам развод и хорошо обеспечу тебя, чтобы ты могла найти себе мужа-грека—такого же ребенка. Интересно, — процедил он в сторону тетушки Ламбриду, — где вы наслушались этих гадостей обо мне? Уж не от господина ли Вретоса, греческого консула в Ливорно? Он поверенный моей первой жены. Когда мы с Софьей в медовый месяц навестили его, он всячески выказывал нам свое расположение. Теперь, выходит, его отношение к нам переменилось? Он никогда не был в Петербурге, он в глаза не видал мою первую жену, а берется сплетничать, что всему бедой мой невозможный характер! Он повернулся к Софье. — Ты же знаешь, что это все клевета, — укоризненно бросил он. — Не знаю, кто еще так обожал свою жену, как я. Если ты не хочешь жить с «таким человеком», значит, виноват я сам, не надо было жениться на маленькой девочке. И все равно ты не должна была допускать, чтобы меня на людях смешивали с грязью. Софья молчала, с обеих сторон стиснутая участливой родней. В голове у нее все перемешалось. Генри направился к выходу, и, поняв, что дело зашло далеко, за ним устремилась мадам Виктория. — Генри, дорогой, не надо так уходить, мы сейчас во всем разберемся. Безоблачная натура Георгиоса Энгастроменоса восторжествовала, и он простер к Генри руку: — Доктор Генри! Даже лютый мой враг не дал бы мне испить такого яду, каким вы меня угостили! Я продал свою Софью, как какую-то куклу! Чтобы грек, в минуту народного возрождения заклавпгий себя на алтарь свободы и равенства, мог хотя бы помыслить о столь чудовищном преступлении! Как вы могли подумать, что родители и родственники вашей жены станут омрачать ваше семейное счастье? Мы не чинили ни малейших препятствий вашему счастью с Софьей. Я никогда не хотел этих бриллиантов, мне и мысль такая не приходила. Я велел Софье выбросить из головы наши неприятности и думать только о собственном доме, о его благоденствии и процветании. Я говорил, что ее счастье—в любви и преданности вам… Генри распахнул дверь и вышел. Он вернулся в «Англетер», на следующий день собрал чемодан и уехал на острова, объяснив свое одинокое путешествие вынужденным: море в марте коварно, а Софья не переносит качки. Семья еще уточнила версию: Генри-де уехал посмотреть раскопки. Но в таком городишке, как Колон, долго секрета не утаишь. Соседи украдкой бросали на Софью сожалеющие взгляды. Всю ночь она проворочалась в своей девичьей постели. Ее то заливал жгучий стыд за Генри, что он так скверно обошелся с ее родными, то ей делалось стыдно, почему она не оборвала вздорного злопыхательства, не впервые досаждавшего Генри. Ведь не секрет, что слухи о нервом его браке распространял адвокат Вретос. И хотя Генри оставил семье роскошный дом в Петербурге, Вретос уверял, что материально он их не поддерживает, что в России он прослыл скупцом. А Генри недоуменно жаловался ей: — Какой же я скупец? Я двадцать лет помогал родителям, поддерживал сестер, пока они не повыходили замуж, безвозмездно субсидировал брата-винодела… Когда в Париже, измучившись тоской по дому, она упрекнула его тем, что он запрещает ей думать о родителях и братьях, он ответил: — Что ты! Я и минуты не любил бы тебя, если бы ты забыла о них. С каждым днем на душе было тяжелее и тяжелее. И Генри было нелегко. Никуда он не уехал — ни на Сирое, ни на Делос, ни на Санторини, а отсиживался в номере и писал письма: ей—укоряющие, родителям—обвиняющие. Софье: «Мне в страшном сне не снилось, что я могу жениться на ребенке, годящемся мне во внучки. Твоя исступленная тяга домой из Парижа служит достаточным доказательством того, что ты меня не любила и вышла за меня не по своей воле». Ей же: «В медовый месяц и в Париже мы питали друг к другу только уважение и любовь. Я боготворю тебя, но, когда ты бросаешь мне такие обвинения, на мое сердце ложится холод…» «Вы говорите, — писал он ее отцу, — что в своем письме в Париж пытались убедить Софью не тревожиться о положении вашей семьи, а беспокоиться о своей собственной. Однако в ответ на рождественский перевод вы побуждали Софью добиваться от меня дальнейшей помощи…» Софья совсем извелась, от нее осталась одна тень. Прожить день было мукой, а ночью она торопила утро. Кое-как отмучившись первую неделю, на второй она откровенно затосковала по мужу. Но как помириться с человеком, разочаровавшим обожаемую родню, — этого она решительно не знала. Семейство тоже было в недоумении: взрослый человек — и всерьез принимает домашнее недоразумение! Это, разумеется, потому, что Генри не грек. Поговорили — и забыли. Виктория и Георгиос Энгастроменос уже не обижались. И конечно, не чувствовали себя виноватыми. Софья не знала, что сразу после сцены в гостиной Генри Шлиман, во всем любивший определенность, написал епископу Вимпосу письмо, в котором перечислил все посулы, якобы сделанные им в чаянии руки Софьи. На исходе второй недели добровольная узница увидела из окна своей комнаты, как на площадь Св. Мелетия вкатил экипаж и остановился перед их порогом. Из экипажа вышел Генри, чисто выбритый, подтянутый и до невозможности несчастный. Софья сбежала вниз и вместе со звонком открыла дверь. Они сдержанно поздоровались. — В Колоне дядя Вимпос, — сказала она. — Он написал нам, что приехал в ответ на твое письмо и что встретится с нами только в твоем присутствии. Я сейчас пошлю за ним Панайоти-са. Семья вышла в сад и тесно, заговорщицки уселась вокруг стола. Подсела к ним и Софья. Поодаль мерил шагами сад Генри. Вскоре в черном священническом облачении в калитку вошел Теоклетос Вимпос, и чернее черного были его глаза разгневанного ветхозаветного Иеремии. Неприветливо поздоровавшись с семейством, он прямо направился к Генри. — Мой дорогой ученый друг, приветствую вас от всего сердца и благословляю. — Досточтимый архиепископ, вы настоящий друг — выбрались в такую даль по первому зову. — Я получил ваше письмо из Сироса и прочел его, сокрушаясь… — Нам всем плохо, дядя Вимпос. — тихо обронила Софья. — Во имя господа нашего Иисуса Христа, — продолжал епископ, по-прежнему обращаясь к одному Генри, — заверяю вас, что я никогда от вашего имени не обещал госпоже Энгастроменос эти бриллианты. Госпожа Энгастроменос на коленях просила меня познакомить с вами ее дочь. О вас я сказал только, что вы честный, порядочный человек. — Только это? — Только это. Остальное—домыслы, ложь! Ни о каких подарках, ни о какой денежной помощи или приданом вы не обмолвились ни словом. Уповайте на бога, и ваша невинность воссияет ярче солнца. В саду воцарилась мертвая тишина. Софья глядела во все глаза на мужа, потом поднялась и перевела взгляд на родителей. — Мама, — гневно возвысив голос, обратилась она к мадам Виктории. — Кто же сказал тебе, что мой муж обещал ожерелье? Теперь ясно, что не дядя Вимпос! — Мм… А я и не говорила, что он. Мне сказала тетя Ламбриду. Она божилась, что ей сказал кузен Вимпос. — А тебе, пала, кто сказал, что мой муж поможет тебе деньгами? — Да тоже тетя Ламбриду. Не дожидаясь вопроса, Мариго расплакалась и сказала сама: — Прости, Софья, я никого не хотела огорчить. Тетя Ламбриду сказала мне, что ей сказал дядя Вимпос, что мистер Генри хочет позаботиться о моем приданом. Епископ Вимпос подозвал Панайотиса. — Сбегай за госпожой Ламбриду. Приведи ее сейчас же. Скажи, что я велел. Вид у госпожи Ламбриду был довольно несчастный. Похоже, ее старания не увенчаются успехом, а это значило, что пропасть времени и сил пошли прахом. Епископ не допустил ее к руке. — Вот что, уважаемая, настало время признать, что к этой семье вы более не имеете отношения. Ваши родители долгое время были им друзьями, а вы показали себя недругом. Впредь никто не назовет вас «тетей». Итак, вы говорили им, что мой друг Шлиман обещал сделать всем дорогие подарки? — Да, епископ. — Откуда у вас эти сведения? — По-моему, с ваших слов, епископ. — Но я-то этих слов не говорил. — Значит, я по бестолковости не так поняла, епископ, — слукавила госпожа Ламбриду, — я хотела как лучше, хотела порадовать их. — И сделали все наоборот. Вы посеяли семена раздора, вы знали, какие горькие плоды они принесут. Извольте извиниться перед мистером Шлиманом за причиненные страдания и перед Софьей. Затем удалитесь из этого сада и впредь никогда не показывайтесь здесь. Отравителю источника нет прощения. Отпустив ее, он повернулся к Софье. — Детка, тебя я не осуждаю, ты молода и еще не научилась видеть разницу между своим долгом перед родными и перед мужем. Пунцовая от стыда, Софья неприязненным взглядом окинула сидевших за столом. — В какую позорную историю мы попали по собственной милости! Я вела себя безобразнее всех. Почему никто с самого начала не переговорил с дядей Вимпосом? Почему я этого не сделала, зачем играла с огнем? Какая дура! И хуже всего, мы оскорбили человека, от которого видели только хорошее. Генри, — шагнула она к мужу, — прости нас — что я могу еще сказать? Конечно, я младенец, если думала, что даже замужняя женщина должна держаться заодно со своими. Я больше никогда не пойду против тебя и никогда не усомнюсь в твоей искренности. Я тебя люблю и хочу быть с тобой до конца своих дней. Дальше говорить она не могла. Генри обнял ее и привлек к себе. — В будущем, Софидион, мы будем вместе защищать себя от всех напастей.4
Они заслужили себе второй медовый месяц. Генри надумал показать Софье ее собственную страну. Он нанял вместительный двуконный экипаж и телохранителей, вооруженных армейскими винтовками и пистолетами в серебряной оправе: в горах пошаливали разбойники. Их первый маршрут лежал в крепость Филе, построенную в V веке до н. э. Оставив экипаж внизу у акведука, они стали взбираться на двухтысячефутовую гору, часто останавливаясь, чтобы, переведя дух, задохнуться от великолепия расступающейся панорамы гор, ущелий и долин. У древних крепостных камней они перекусили. Генри читал, как Фрасибул, набрав в Фивах сотню единомышленников, с этого самого места двинулся в поход на Афины, лишенные возможности обороняться, свергнул тиранию тридцати и дал городу свободу. Но какая-то мысль мешала Генри. Он закрыл книгу, сунул ее в карман и взял Софью за руку. — Софидион, я понимаю: ты переживаешь за домашних. Я не хотел ни своей победы, ни их поражения. У меня есть план. Она слушала его, не проронив ни слова. — Я хочу сделать твоего отца своим коммерческим представителем в Афинах, с твердым жалованьем. Кроме того, на некоторое время я открываю ему кредит, чтобы он закупил импортные товары. Это оживит его дела. — Еще как! — Крошку Мариго я тоже не забыл. Я положу на ее имя четыре тысячи долларов в Национальный греческий банк. Когда она выйдет замуж, ты передашь их молодым. Залившись слезами, она упала в его объятия. «Если к нему подступают требовательно, вымогательски, он наглухо закрывает свой бумажник. Но он озолотит всякого, когда сам найдет это нужным». Через несколько дней, также в сопровождении телохранителей, они посетили Марафон. К полю битвы они ехали той же дорогой, по которой в 490 году до нашей эры шли на встречу с персами афинские гоплиты [12]. Они вдыхали свежий, ароматный воздух: конец марта, вовсю цвели вишневые и грушевые сады. Когда они проезжали очаровательную деревушку Кифисью, Софья сказала: — Смотри: каждый дом окружают тополя и сосны. Здесь выше над уровнем моря, чем в Афинах, и поэтому летом здесь прохладнее. Папа возил нас сюда на пикники. В Марафоне они поднялись на могильный холм, где были кремированы и погребены 192 павших в. битве афинянина. Генри прочел страничку из Геродота — первое историческое свидетельство об этой освободительной битве. Третья поездка была на юг, в Коринф. В этом месте перешеек был всего четыре мили шириной. В I веке новой эры Нерон вознамерился отсечь полуостров каналом, дабы сократить морской путь в Италию. Работы вскоре были брошены, и котлован лежал невостребованным уже свыше семнадцати столетий. Отсюда путешественники отправились в древний Коринф, осмотрели агору и храм Аполлона, который все так же караулили восемь монолитных дорических колонн. Генри оценивающим взглядом окинул холм с крепостью-акрополем, близкое море. — Для охотника здесь есть что покопать. Под нашими ногами лежат, может быть, самые богатые археологические слои. Однажды, проснувшись, она увидела, что Генри лихорадочно пишет что-то в дневнике. Услышав шорох, он подошел к ней, широко улыбаясь, просветленный. — Доброе утро, моя прелесть. Сегодня великий день. Я уже записал: «Сегодня, 5-го апреля 1870 года, мы едем в Гиссарлык и начинаем первый пробный раскоп». Она никак не могла приноровиться к его способности принимать внезапные решения. — Не понимаю… Ты что. получил фирман? Улыбка медленно сползла с его лица. — Нет, разрешение еще не пришло… Может, получу его в Константинополе. В полдень из Пирея уходит пароход «Менцахех», и ночью я понял, что надо ехать. Торопя пробуждение, она поплескала в лицо холодной водой, выпила кофе. — Генри, нельзя уезжать в такой спешке. Мы совершенно не готовы ехать в Гиссарлык. От турков разрешения нет, инструментов тоже никаких нет. Фрэнк Калверт прислал тебе целый список вещей, необходимых в Троаде, — тачки, кирки, лопаты… Если в Афинах они плохие, то почему в Константинополе лучше? И потом, ты еще не получил от Калверта официального согласия вести раскопки на его половине холма. Нет, мне трудно… — Трудно меня понять или трудно со мной ехать? — оборвал он ее. — Ты тысячу раз клялась ни в чем мне не перечить и видеть свой долг в том. чтобы слушаться меня. Поверив твоим клятвам, я искренне возомнил, что ты ангел, посланный мне небесами в награду за все перенесенные муки. Но Софья не дала себя запугать. — Я люблю тебя слушаться, Генри. Но ведь ты обещал, что в Трое мы будем копать бок о бок, как равные. Если ты видишь во мне «милость господню», то нам нужно принимать решения вместе. Тебя там никто не ждет. Ты знаешь дюжину языков, если не больше, но турецкого ты не знаешь. — Я выучу его за три недели. — Генри, это минутный порыв. Тебя взбудоражили нетронутые руины в Коринфе. Если ты начнешь раскопки без фирмана, у тебя сразу начнутся неприятности с турецкими властями. А зачем с ними ссориться, если ты от них целиком зависишь? Я понимаю, тебе не терпится. Мне тоже не терпится. Но я не хочу, чтобы мы нажили неприятности. Лучше давай начнем по-настоящему собираться. — То есть ты считаешь, что мне просто неймется? — неприязненно спросил он. — Пожалуйста, взвесь все еще раз. Генри молча собрал чемодан, затолкал в него какие-то бумаги и вышел из номера. Подавленная, она долго не могла подняться со стула. Два дня она не выходила из номера, два дня никого не видела. На третий день явился управляющий и предъявил счет. От гнева Генри совершенно потерял голову: он не оставил ей денег расплатиться, даже не сказал, оставаться ей здесь или съезжать. Непонятно, сколько времени он будет отсутствовать. Софья собрала вещи, положила иконку в футляр и наняла экипаж до Колона. «Господи, — думала она, ступая на родной порог, — неужели вся жизнь у меня будет такая? Неужели я так и буду каждую неделю сваливаться на головы родителей?» К счастью, на себя самое не оставалось ни времени, ни сил. Накануне, в «пальмовое воскресенье», она отстояла службу в их церкви Богоматери на площади Ромвис. Сегодня началась страстная неделя. Празднуя пасху, православный человек духовно возрождается. С каждым днем страстной недели Софья все глубже принимала в себя Христовы муки. Жертва Христова переполняла ее чувством вины перед спасителем, принявшим страдания и за нее. В Великий четверг она поднялась на рассвете. Спальня выходила на восток, из окна мать вывешивала красное полотно, карауля первые лучи солнца. Вдвоем с Мариго они сварили дюжину яиц, выкрасили их в красный цвет. Софья выпросила разрешение испечь пасхальные просфоры. Приятная суета у плиты лишь на время отвлекла ее от мысли, что Великий четверг—день священный и скорбный. С матерью и сестрой Софья была на заутрене, смотрела на причащение детей. После легкого обеда вся семья снова вернулась в церковь св. Мелетия слушать чтение двенадцати евангелий о страстях. В страстную пятницу постились. За весь день Софья не сделала и глотка воды. На кухне не разжигали огня. Мужчины не поехали в Афины. Почти весь день Софья провела у стен церкви в ожидании снятия с креста… Под заунывный перезвон колоколов шел крестный ход. Вместе со всеми Софья обошла плащаницу на специальном возвышении посреди храма. Святое место утопало в фиалках и цветах лимона. На заутрене Великой субботы сумрачное убранство церкви оживили ветки лавра. Отстояв службу, Софья поспешила домой печь кулич. Отец и Александрос уже занимались закланием тучного пасхального агнца. Все личное отступило от нее. Мирские тревоги утратили смысл. И не праздничные приготовления укрепляли дух, а окончание Христовых мук. упование на другую жизнь, поправшую смерть, на жизнь вечную и для нее самой. На полунощнице она стояла с белой свечой, возжженной от главной храмовой свечи. Празднуя воскрешение господне, ликующе звонили колокола, на улицах бухали пушки, в небе взрывались петарды. Священники и паства вышли на площадь христосоваться. Софья возвращалась просветленная, радостная, окрепшая духом. Генри вернулся через две недели. Вид у него был виноватый, но держался он бодро. — Ты оказалась во всем права, — признался он. — Первого класса на пароходе не было, а вторым я не решился тебя брать, там нет воздуха. Высшая турецкая администрация в Константинополе не допустила меня к себе, хороших тачек и кирок в лавках нет. Два турка из Кумкале, владельцы другой половины Гиссарлыка, несколько дней до хрипоты ругались со мной. Наверное, боялись, что их овцы свалятся в мои траншеи. Я нанял двух землекопов, и турки поначалу согласились взять вместо платы камни, которые мы выроем: они строят мост через Симоис. Потом вдруг являются, кричат и требуют невозможных денег. Я предложил им вдвое против того, что стоила вся их земля, но договориться с ними нельзя. В довершение всего из Дарданелл приехал правительственный чиновник и заявил, что паша крайне недоволен раскопками без разрешения и соответственно официальный фирман будет задержан. Тут я собрался и уехал. Но вот что важно: за какие-то несколько дней всего с двумя рабочими я раскопал большую каменную кладку—около сорока футов в ширину и шестьдесят в длину. Теперь можно быть совершенно уверенным в том, что в холме погребен город. На константинопольском базаре он купил для нее серебряный филигранный браслет: поверх пластины серебряные нити, не толще волоса, сплетались в цветочный орнамент: длинная изящная застежка была унизана камушками, утопленными в ярко-голубой эмали. Он, наверное, потратил немало времени, пока набрел на эту прелестную вещицу. А Софья радовалась уже одному тому, что он вернулся.5
Генри не забронировал по телеграфу номер в- «Англетере», полагая, что Софья дожидается его в гостинице, и сокрушенный управляющий смог предложить Шлиманам только мансарду. Генри поворчал, но выхода не было. Когда через три дня подали первый счет, он отказался верить своим глазам. — Сто семьдесят шесть франков за этот убогий мезонин?! У них еще хватило наглости поставить в счет полный стол, когда мы почти не пользуемся их кухней! Ноги моей больше не будет в этом auberge [13]! Трудно было лучше подгадать время, чтобы поделиться планами, которые исподволь вызрели в ее уже умудренной голове. — Генри, ты говорил, что раскопки в Гиссарлыке займут у нас не менее пяти сезонов. — Именно так, работы там—только-только управиться за это время. — Значит, зимовать мы будем в Афинах. Тогда есть смысл снять или даже купить здесь дом. У тебя будет свой кабинет, у меня — кухня… — И удобная спальня наконец! — Когда ты будешь уезжать по делам… и вообще… мне не надо будет бежать к маме. По-настоящему я не почувствую себя замужней женщиной, пока не стану хозяйкой в собственном доме. — И матерью пары ребятишек. — Он ласково притянул ее к себе. — Решительно все врачи говорили мне, что беременность навсегда избавит тебя от всяких спазм в животе. Я не хотел детей, пока ты частенько раздражала меня. Детям нужно передать любовь, а не досаду. Расцеловав ее в обе щеки, он заключил: — Ты права. Став счастливой хозяйкой в доме, ты и меня скорее сделаешь счастливым отцом. Какая часть города тебе больше нравится? — Кварталах в двух от Акрополя есть хорошее местечко, еще не застроенное. Там тихо, виден весь город, летом нет пыли. Мы будем жить в тени Парфенона. Скоро им приглянулся новенький дом на улице Муз: в неоклассическом стиле, двухэтажный, с полуподвалом для прислуги. Двустворчатая входная дверь была выкрашена коричневой краской, высокие квадраты окон в гостиной и столовой выходили на поросший лесом склон холма Муз. Наверху были три спальни и маленькая гостиная — все светлые, хорошо проветриваемые; из гостиной дверь вела на открытую веранду. Над парадным входом нависал балкончик с ажурной решеткой; карниз дома из простой обожженной глины венчали медальоны в форме раковин. Из сада за домом открывался вид в сторону Пирея и Старого Фалерона; внизу Кифис спешил выбраться из города к морю. Софье дом нравился. Комнаты большие, с высокими потолками, стены украшены гипсовой лепниной — цветы, розетки. В нижних комнатах стены были заштукатурены мраморной крошкой и отполированы до полного сходства с светло-серым мрамором. Полы в кухне, столовой и в коридорах выложены плиткой, в остальных комнатах — деревянные, из дощечек разной длины. Из прихожей наверх вела широкая деревянная лестница с резной балюстрадой. В укромном углу скрывался ватерклозет в турецком стиле: глиняный стульчак с подножиями по обеим сторонам. Вся улица Муз уложилась в четыре квартала, дома стояли только по одну ее сторону, а сразу напротив, через дорогу, поднимался каменистый, густо поросший деревьями холм Муз с гробницей Антиоха Филопаппа на самой его вершине. Город—а лес подступал почти к порогу дома. Всего в трех кварталах отсюда, если смотреть в сторону театра Диониса и Одеона Герода Аттика, из ступенчатого мраморного развала поднимался Парфенон. Кончалась улица Муз тупиком, редко кто здесь пройдет или проедет. Чтобы попасть в город на экипаже, надо было обогнуть Акрополь; к его портику Софья подходила за несколько минут. Акрополь станет их близким другом. Неподалеку высился холм Ареопага, где в классический период Совет старейшин разбирал государственные и юридические дела, вершил суд над обвиняемыми в убийстве. В «Эвменидах» Эсхила здесь судили Ореста, убившего свою мать Клитемнестру в возмездие за убийство Агамемнона. По каменным ступенькам, вырубленным в скале Ареопага, Софья всходила наверх и за холмом Агоры видела город внизу и дальше — серебристо-зеленые оливковые рощи, виноградники, гору Гимет, всю заросшую мятой, шалфеем, лавандой, тимьяном, терпентином, — обиталище пчел, приносящих самый ароматный в мире мед. Ближайший к дому участок тоже продавался. Генри его купил, и они решили завести прохладный огороженный сад: насадить пальмы, цветущий кустарник, вырыть прудики, дорожки посыпать гравием, поставить две высокие решетки для винограда и глициний. Генри нанял плотника выстроить восьмиугольный чайный домик вроде того, какой он недавно видел в роскошных садах Фрэнка Калверта в Чанаккале. Нарушая здешние неписаные законы, Генри держал с Софьей совет, и покупая дом, и обставляя его. — Я ничего не понимаю в обстановке, — призналась Софья. — Греческие дома обставляют скупо. У нас мало леса, и мы делаем мало мебели, а европейская нам не по карману. Почти все, что было у нас в доме на площади Ромвис, приобреталось по случаю или перешло от дедушки с бабушкой. — Ничего, справимся: у меня есть опыт. — Генри, твоя парижская квартира великолепна, но ведь В комнатах совершенно не пройти. У меня было такое чувство, словно я иду по узенькой тропке через лес. — Французы считают свободное место потерянным: его обязательно нужно занять пуфиком или резным столиком. Они обегали все Афины, пока подобрали необходимое. Для спальни нашли резную итальянскую матримониале, супружеское ложе, подобное тем гигантским сооружениям, на которых они спали в медовый месяц. Потом повезло достать ореховый комод, инкрустированный атласным деревом, — для белья. В одной антикварной лавке их ждал французский шкафчик деревенской работы, это для одежды. Приятной удачей стал умывальник: скрывавшая металлический тазик крышка изнутри была зеркалом, по обеим ее сторонам поднимались этажерочки для туалетных принадлежностей. В столовой добрым почином стало приобретение английского орехового стола—именно то, что им хотелось: круглый, раздвижной, на массивных резных ножках. В скором времени подвернулись и стулья, обтянутые тисненой кожей; их спинки и ножки украшала ручная резьба. У одной стены поставили полукруглый буфет со стеклянными дверцами, разместив в нем яркие керамические супницы и дрезденский фарфор; у стены напротив—горку резного красного дерева для хрусталя и серебра. С потолка на бронзовых цепях свисала тяжелая, в форме колокола, фарфоровая лампа. — Здесь уже повернуться негде! — вскричала Софья, когда на место водворился последний, десятый стул. — Только подать на стол да убрать со стола. Генри усмехнулся. — Может, хоть в гостиной оставим побольше места? — с надеждой спросила Софья. В своем кабинете Генри водрузил высокий темного дерева секретер: в верхней его части за стеклом он держал книги, нижняя закрывалась наглухо и служила ему бюро для личных бумаг, деловой переписки, банковских счетов, дневников. Еще Генри приобрел подковообразный, красного дерева столик в стиле эпохи Регентства, который так приятно захламить рукописями, письменными принадлежностями, раскрытыми на нужной странице книгами. Софья между тем с одушевлением занялась кухней. Это была просторная комната в задней части дома, выходившая во внутренний двор. Софья купила плиту с пятью конфорками, высоко вознесенным медным козырьком вытяжного шкафа и дымоходной трубой сзади. Столяр приладил к стене две полочки для ламп. В углу — каменная воронка водослива, над нею бак для воды. Над очагом, на широкой доске Софья расставила глиняную посуду. На задней стене набила доску с крючками для мешалок, лопаточек, черпаков, мерных чашек; на левой стене отвели место для навешивания кувшинов. Софья купила маленький круглый стол и два стула с плетеными спинками. Дверь между очагом и плитой вела в задний двор; в жаркую погоду ее держали открытой. «Генри считает, что самое важное место в доме—спальня, — думала она, любуясь трудами своих рук, — а по-моему, кухня. От нее пользы больше». — Действительно, будет тесновато, когда мы станем приносить в дом наши находки, — заметил Генри. Лето на улице Муз они перенесли легко. Дом стоял высоко над городом, постоянно дул бодрящий ветерок, роща на холме Муз укрощала послеполуденное пекло. Утром Софья подолгу пропадала в их новом саду, где у Генри хорошо принялись кустарник и деревья. Она возобновила свои часовые уроки французского и немецкого, но теперь Генри прибавил еще английский, поскольку зимой, во время вынужденного простоя в Гиссарлыке, думал съездить в Лондон. Учительница ее была чопорного вида гречанка, которую многолетняя жизнь в Англии отблагодарила хорошим произношением. Генри поднимался с рассветом и, засев в парящем над городом кабинете, писал письма, пытаясь сломить упрямство— если не безразличие—турецкого правительства. В девять часов он убегал в сугубо мужское кафе «Прекрасная Греция»: здесь были свежие газеты, здесь он окунался в гущу мировых событий. Софья готовила обед ровно к половине второго: муж был точный человек. Немного соснув после обеда, они ехали на новый пляж в Фалерон, купались в прохладной воде. К восьми возвращались на площадь Конституции, шли в кофейню Янна-киса или Дора, поделившие между собой пальму первенства, и Софья брала мороженое. На площадь вливалась центральная улица, и по обе стороны ее устья стояли эти два кафе, за что их прозвали «Дарданеллы»: в долгий летний день каждый афинянин непременно проходил мимо них. Тротуары были широкие, на них свободно устанавливались три столика в глубину. Основное занятие сидевших за ними были сплетни: перемывали кости всякому, кто проходил мимо. Избежать это испытание было так же невозможно, как остаться незамеченным, появившись на площади. Завсегдатаи кафе были своего рода устной городской газетой. Обаятельной особенностью афинских сплетников был расчет на то, что их пересуды достигнут слуха самой жертвы. В делах Генри Шлиман гений, толковали они, а со своими планами раскопать Трою—дурак. И профессора так думают. Люди знающие и ученые убеждены, что, копай он вместо пяти хоть двадцать пять лет, все равно останется с пустыми руками. Конечно, богатому человеку положено чудить. Но другим не пристало принимать его всерьез и вместе с ним валять дурака. В августе у нее была задержка, и Софья подумала: «Генри прав: от любви, а не со зла рождаются дети». Генри мечтал о сыне. Чтобы не обнадежить его напрасно, она подождала говорить до октября. И однажды, когда они мирно попивали кофе в своей чайной беседке, Софья как бы между прочим сказала: — Генри, мне кажется… то есть я уверена… тебе надо показать меня врачу, какого ты считаешь здесь лучшим. Генри, побледнев, воззрился на нее и сдержанно ответил: — Это, разумеется, доктор Веницелос. В афинском обществе он пользуется заслуженной известностью. Я пошлю мальчика пригласить его на завтрашнее утро. Нижнюю часть лица доктора Мильтиада Веницелоса скрывала роскошная борода, опознавательный знак его профессии, верхнюю—тяжелые очки, буквально приплюснувшие его рачьи внимательные глаза. Получив общее медицинское образование в Афинах, он специализировался по акушерству в Берлине и уже много лет был профессором Афинского университета по кафедре акушерства. Он основал в Афинах акушерскую клинику. «Устаете? — спрашивал он Софью. — Чувствуете вялость? По утрам тошнит?» Удовлетворенный ответами, он обошелся без осмотра. — Примите мои поздравления, миссис Шлиман. Вы в прекрасном состоянии. Есть все основания думать, что вы родите здорового ребенка. Боясь ошибки. Генри долго крепился, но сейчас он порывисто обнял Софью и воскликнул: — Это будет сын! Мы назовем его Одиссеем. Помнишь, что говорила Фетида, мать Ахиллеса? «Зевс даровал мне родить и взлелеять единого сына… Возрос он как пышная отрасль; Я воспитала его, как прекраснейший цвет в вертограде». — А если будет девочка, как ты ее назовешь? — несмело улыбнулась Софья. — Нет, Софья, имя Шлимана должен наследовать мужчина, это совершенно ясно! Доктор Веницелос заговорщицки подмигнул Софье: — Госпожа Шлиман, напомните вашему супругу: добрая лоза приносит богатый урожай.6
Только их семейная жизнь стала входить в спокойное русло, как грянули новые потрясения. Генри скрыл от нее, что еще в январе 1870 года, когда они были женаты чуть больше трех месяцев, Екатерина отправила в Париж своего адвоката возбудить против него судебное преследование на основании недействительности его второго брака, ибо развод-де был незаконным. Парижский суд не принял дела: Генри Шлиман — американский подданный. Екатерина довела до его сведения, что через международное юридическое бюро в Нью-Йорке или Российское посольство в Вашингтоне затребует копии бракоразводных документов и настоит на судебном аннулировании развода. Генри писал м-ру Налтнеру, своему адвокату в Индианополисе, чтобы тот проследил за пунктуальнейшим соблюдением буквы закона. И надо же было тому случиться, чтобы именно сейчас, в октябре, все вдруг вышло наружу: Екатерина объявила, что нанимает адвоката и возбуждает против него дело здесь, в Афинах. С быстротою лесного пожара слухи донеслись до «Дарданелл» и запылали в обеих кофейнях. Софья сохраняла спокойствие: разводные документы Генри видел архиепископ, он признал их законность и разрешил ей вступить в брак. И хотя сейчас речь шла о гражданском суде, епископам тоже разрешалось выступать на них в качестве свидетелей. Конечно, епископ Вимпос подтвердит, что он водил Генри Шлимана к архиепископу, показывал тому бумаги; архиепископ же удостоверит, что дал согласие на их брак. А свидетельство архиепископа в суде вещь нешуточная. — Что же ты мне не сказал еще в январе? — упрекнула Софья. — Теперь ясно, почему твои старинные приятельницы обращались со мной как с твоей любовницей. Генри негромко чертыхнулся. — А зачем ей это нужно? Отомстить тебе? — Она не мстительна. — Может, она еще любит тебя? Он изумленно вскинул брови. — Никогда она меня не любила. — Зачем же тогда вышла за тебя? — Я почти вынудил ее к этому. Мы были знакомы несколько лет, она дважды отказывала мне, а когда я вторично разбогател в Калифорнии и вернулся в Петербург, то устоять перед моими деньгами было невозможно. — Она родила тебе троих детей. — Да, — горько выдохнул он. — Первый еще был желанный, зато двух других я выманил у нее хитростью. Насколько я понимаю, она любила только одного человека—мадам Роллер. Они были неразлучны. Снедаемая беспокойством, она написала епископу Вимпосу. Тот ответил, что у него накопилась масса дел в столице, а вырваться все не удается, но через несколько дней он приедет. Войдя в прихожую их нового дома, он воздел руку и сделал крестное знамение. — Благослови, Господи, вошедший под кровлю Захариеву испасший его с домочадцы, благослови и помилуй живущих в сем доме. Он протянул Софье руку, она поцеловала ее. Потом передала ему угрозу Екатерины добиться от греческого суда признания незаконности ее замужества. — Наша церковь и русская православная церковь во многом схожи. Если первая жена Генри добьется того, что русский суд признает их брак нерасторженным, то способно это как-нибудь повлиять на отношение нашей церкви? Епископ Вимпос задумался. — Не знаю, сталкивались ли мы с подобным случаем когда-нибудь прежде. Посоветуюсь с архиепископом. Софья не знала куда себя деть, пока он отсутствовал. — Дорогая, вот что говорит архиепископ: поскольку с июня 1869 года Генри законный гражданин Соединенных Штатов и таким образом уже не подданный российского императора, ни российский, ни какой другой суд не вправе опротестовать его развод. Если не ошибаюсь, он получил гражданство в Калифорнии, когда штат был присоединен к остальным? Софья нахмурилась. — Да, он говорил, что автоматически гражданами стали все мужчины, находившиеся в Калифорнии в 1850 году, когда штат включили в союз штатов, но по его дневнику получается, что он был там не раньше 1851 года. Потом он вернулся в Россию, почти пятнадцать лет у него там были и семья, и дела, и, насколько мне известно, он не вспомнил, что он американец, пока не понадобился развод. — Где его документы о натурализации? В столе? — Да. Пойдем в кабинет. Софья извлекла из бюро четыре пространных юридических документа. Кончив чтение, Вимпос поднял на нее встревоженные глаза. — Что он давний гражданин Соединенных Штатов — это почти., правда… Почти… Первые бумаги он выправил еще в Нью-Йорке, вот они. Он объявляет здесь о своем желании стать гражданином Соединенных Штатов и расторгает свои обязанности в отношении любой другой страны. Здесь есть дата: 17 февраля 1851 года, его подпись и печать суда. Следующую бумагу он подписывает также в Нью-Йорке 29 марта 1869 года — восемнадцать лет спустя. Текст присяги тот же. В этот день некто Джон Болан присягает, что «он хорошо знает вышеупомянутого просителя, Генри Шлимана, и что указанный проситель проживал на территории Соединенных Штатов не менее пяти лет до настоящего момента и не менее года в штате Нью-Йорк к моменту подачи настоящего заявления». На основании свидетельства Джона Болана Генри и был признан законным гражданином Соединенных Штатов. — _Но это неправда! Он пишет в дневнике, что приехал в Нью-Йорк 27 марта 1869 года, всего за два дня до появления в суде. Он один раз останавливался в Сакраменто в 1851 году, потом в том же году несколько дней пробыл в Сан-Франциско, а в следующий раз был в Сан-Франциско проездом в 1865 году, возвращаясь из путешествия по Востоку. Софья сидела бледная. Епископ рассеянно гладил бороду. — Если он получил гражданство на основании лжесвидетельства… — То его развод тоже незаконный, — сказала Софья сквозь слезы. — Адвокат быстро разберется с этими датами. Ах, дядя, что же делать? — Генри должен добиться, чтобы его первая жена сама подала на развод, причем в России. Это можно сделать? — Да. — Каким образом? — Деньги. Генри посылал им вполне приличное содержание, но теперь ему придется предложить ей часть своего состояния. — А он пойдет на это? — Когда у него что-нибудь не ладится, для него истинная мука расстаться даже с драхмой. Но сейчас ему придется пересилить себя. Я должна защитить права своего будущего ребенка. — Господь на твоей стороне, — улыбнулся епископ. На ее стороне был и Генри. Он пришел к полюбовному соглашению с Екатериной, и та добилась развода с ним в русском суде. Так что эти неприятности благополучно кончились. И сразу начались новые: разразилась франко-прусская война. Генри питал привязанность к земле предков, но он оставил родину в девятнадцать лет, почти два десятилетия был русским подданным, а потом привязался к Парижу в не меньшей степени, чем Софья к Афинам. Сердцем он был на стороне французов. Эти чувства окончательно взяли верх, когда он получил известия, что германский снаряд снес до основания дом на площади Сен-Мишель, стоявший впритык к его собственному. 19 сентября 1870 года немцы взяли Париж в кольцо. Каждый день приносил все более страшные подробности: Булонский лес вырублен, погибли деревья на Елисейских полях и в Тюильри. В столице голод, парижане съели всех лошадей. И вот пришла печальная весть: все четыре дома, составлявшие значительную часть его состояния, погибли при обстреле. Было множество человеческих жертв—квартал был населенный. Генри был в отчаянии. Он неделями безуспешно добивался из Парижа достоверных сведений. Наконец, чтобы немного развеяться, он надумал ехать в Константинополь. — Софья, я хочу сесть перед дверьми Сафвет-паши и не сходить с места. Мне очень неприятно бросать тебя в твоем положении, но я уверен, что привезу тебе фирман в качестве подарка на крещение. У меня есть почти два месяца. Он выглядел таким угнетенным, что у нее не хватило сердца задержать его. Едва он вышел за порог, как дом на улице Муз, соскучившись по Софье и городской жизни, заполонило семейство Энгастроменосов, и грустить в одиночестве ей не пришлось. Мать часами блаженствовала на кухне, готовя любимые семейные блюда. Софья спозаранку бежала на улицу, покупала у разносчиков козье молоко, свежие булочки и вкусное масло, зелень, свежую, ночного улова рыбу, которую в круглых корзинах несли на голове и время от времени увлажняли водой из ведерка. В воскресенье она выбирала к обеду индюка. — Все как прежде! — воскликнула однажды в воскресенье мадам Виктория, окинув взглядом обеденный стол, вокруг которого заняли стулья свои, родные зады. От Генри письма приходили нечасто, но их тон обнадеживал. Министр народного просвещения любезно предложил Генри купить интересующий его участок земли за те же двести долларов, что он сулил туркам из Кумкале. За него ходатайствуют американский и английский посланники. Он изучает турецкий язык и уже знает три тысячи слов. К рождеству он не вернулся. «Не хочет приезжать с пустыми руками, — успокаивала себя Софья. — Помимо всего, это вопрос самолюбия. Он вернется к крещению и привезет фирман». Мадам Виктория решила, что рождество надо праздновать в родительском доме. Софья была уже на пятом месяце, у нее заметно округлился живот. Удивительное это чувство, когда в тебе подает признаки новая жизнь. В витринах магазинов на улице Гермеса появились муляжные ясли, окруженные воздушными шариками, фонариками, картонными колокольчиками и ангелами. На центральных улицах толкались продавцы дешевых игрушек. Софья помогла матери испечь сладкий рождественский хлеб. Георгиос перекрестил хлеб ножом и нарезал его. Первый кусок предназначался Деве Марии, второй—бедным, остальные раздали всем домочадцам. На Новый год отпраздновали день святого Василия Великого, слушали на площади пение гимнов, сами пели. К ее рождению Генри не вернулся и, скорее всего, не будет дома и 6 января, на крещенье. Она чувствовала себя очень одинокой. Он вернулся только 24 января — без фирмана, вконец расстроенный. Он даже не привез подарка Софье. Хрустя пальцами, он признался ей, что вконец отчаялся. Он собрался и выехал за час, как только узнал, что есть место на грузовом судне, отправлявшемся в Пирей. — Я бы скупил для тебя весь базар, дорогая, но у меня было такое угнетенное состояние… Я двух мыслей не мог связать… Софья как могла успокоила его. — Турки считают меня авантюристом, ищущим золото и серебро, вроде расхитителей египетских могил. И я не в силах убедить их, что ищу погибший город, а не золото для приумножения своего богатства. Мне доверяют партнеры и заказчики во всем мире — и только турецкое правительство не верит мне! — Генри, помнишь, ты говорил, что каждый иностранец, получивший разрешение вести раскопки с обязательством передать половину найденного, всегда нарушал этот уговор и вывозил из страны все, что ему удалось найти? — Да, все так поступали. — В таком случае турки никому не поверят. Может, поискать средство развеять их страхи? — Интересно, какое? — Например, в знак честности намерений оставить визирю внушительный залог. Он опустил голову и взглянул на нее как бы поверх очков. — Не надо увлекаться, — сказал он предостерегающе. Он разулся, снял пиджак и жилет и рухнул поперек кровати. — Наконец-то я лежу на своей постели! И вижу мою толстушку жену. Иди, я обниму тебя. Как себя ведет Одиссей? — С овечьей кротостью. В Константинополе все сорвалось в последнюю неделю. Визирь, мерным министр султана, принял его 1 января, держался радушно, пригласил зайти на следующий день. На следующий день он предложил Генри представить директору нового Оттоманского музея полную программу своих археологических исследований. Исписав несколько страниц, Генри вручил их директору в руки. Затем его уведомили, что на, 8 января назначена его встреча с министром народного просвещения Сафвет-пашой. Министр со всей ясностью дал понять, что оба турка из Кумкале, владельцы второй половины Гиссарлыка, по распоряжению турецкого правительства продадут Генри свою землю за пять тысяч пиастров, то есть за двести долларов. После этого Генри может начинать раскопки, памятуя, что половина найденного отходит в пользу Оттоманской империи. Он согласился. Лишь через десять дней Сафвет-паша вновь вызвал его. Он тепло принял Генри, велел принести кофе, дружески поболтал с ним по-турецки, а затем объявил: — После нашего разговора 8 января я телеграфировал губернатору провинции Дарданеллы, чтобы он за мой счет купил в казну вторую половину Гиссарлыка. Мы заплатили столько, сколько эта земля стоит, — три тысячи пиастров. С сегодняшнего дня вы располагаете разрешением нашего министерства начать раскопки. Генри буквально ослеп от гнева. Он кричал Сафвет-паше, что тот обманул его, прибрав к рукам землю, которую сам же ему обещал. — Среди шести тысяч турецких слов, которые я знаю, нашлось и несколько неприличных. Я настолько забылся, что чуть не — поколотил пашу. — Боже мой! — ужаснулась Софья. — Как же теперь с разрешением? — Его аннулировали. Мы опять у самого входа в подземный лабиринт Кносского дворца, где Минотавр пожирает всякого, кто явился убить его. — А этот американский посол, Уэйн Маквей, не перестанет он теперь хлопотать за тебя перед визирем? — Нет, не перестанет. Честно говоря, он считает, что я допустил ошибку, и не только своим срывом: выходит, я еще не очень силен в турецком и неверно понял, что именно обещал Сафвет-паша. Сафвет-паша, думает Маквей, вероятнее всего, сказал: «Мы выкупим землю — можете начинать раскопки», а я это перевел: «Мы выкупим землю для вас—пожалуйста, начинайте». Разница невелика, но ее было достаточно, чтобы я полез на стену. Она поцеловала его в разгоряченный лоб. — Ничего, дорогой, малыш принесет нам удачу. Тебе недолго осталось ждать: доктор Веницелос говорит—в апреле. И все встанет на свои места. Как только между Францией и Германией было подписано перемирие, Генри уехал в Париж посмотреть, что еще можно спасти. Оказалось, что слухи о повергнутом в руины Париже абсолютно ни на чем не основаны, как и все, что фантазировалось в «Дарданеллах». Все его четыре дома стояли целехонькие. Булонский лес был нетронут, на Елисейских полях и в Тюильри также сохранились все деревья. Париж был прекрасен, как всегда! Единственная неприятность была та, что ему, как, впрочем, всем домовладельцам, запретили до конца 1871 года взимать квартирную плату с жильцов—это десять убыточных месяцев. В марте и апреле ей уже стало тяжело ходить. То, что беременность проходила у нее спокойно, вселяло уверенность, что и ребенок родится здоровый. Старшая сестра Катинго, уже мать двоих детей, принесла на улицу Муз целый рулон тонкого белого полотна, кружева и ленты: пора готовить малышке приданое. По нескольку раз на неделе заглядывала портниха, кроила и шила детские распашонки. Мадам Виктория отделывала их мережкой. Вместе с Катинго Софья кушала плетеную колыбель, обтянула ее всю белым шелком, соорудила тюлевый полог от комаров. Генри охватывал восторг при мысли о греческом ребенке: это каким-то образом согласовывалось с провидением, поставившим его найти греческое сокровище. Но когда Софье случалось застигнуть его врасплох, лицо его казалось осунувшимся, брови хмурились. В прекрасный апрельский день, выгнавший на лазурное небо стада барашков, они гуляли под руку по гравиевым дорожкам своего сада, и встревоженная Софья спросила его напрямик: — Генри, что-нибудь случилось? — Да… Деньги. За последние два года я потерял тысячу долларов на квартирной плате. Дома запущены, не ремонтировались—не было ни материалов, ни рабочих. Управляющий пишет из Парижа, что восстановить их в прежнем виде потребует немалых средств. — Извини, Генри, что я спросила. — Она опустилась на ближайшую скамейку. — Садись. Погреемся на солнышке. Гордясь ею, он легко похлопал ее по животу, обнял за плечи. — По правде говоря, Софидион, это еще не все. Я вдруг обнаружил, что меня разоряет земля. — Какая земля? Не понимаю. — Видишь ли, дорогая, как все новообращенные я больше фанатик, чем верующие с рождения. Ты обожаешь Афины, потому что родилась в тени Акрополя. А в глазах большинства людей это жаркий, пыльный провинциальный город без воды с населением около шестидесяти тысяч жителей, с несколькими вымощенными улицами и нищей администрацией—словом, город без будущего. На прошлых выборах в муниципалитет голосовало неполных шесть тысяч человек! Но мне он видится в одном ряду с крупнейшими мировыми столицами. Когда я измученный и злой вернулся из Константинополя, то оказалось, что общее безденежье и неудачи с Лаврийскими серебряными рудниками сделали сговорчивее владельцев того замечательного участка на Панепистиму, который я давно облюбовал: когда-нибудь мы там выстроим себе дом. Они уже охотно принимали мою старую цену—шестьдесят восемь тысяч драхм. — Ты платил наличными? — Пришлось. Но я на этом не остановился. Подожди, я принесу карту из кабинета. Он вернулся с картой Афин, усеянной красными квадратиками. — Это все участки, которые я купил. Я рассудил, что цены на землю спустились до самой низкой черты и скоро начнут возрастать, как всегда в столицах. Наличных денег сейчас мало в обращении, кредиты закрываются, и землевладельцы спешат продавать, продавать… Я уже походил по городу, пригляделся и наметил, какие еще участки купить, когда приспеет время. Софья была поражена размахом его приобретений. Он любил покупать угловые участки, и одним из них был участок земли площадью в 54 000 квадратных фута в самом центре города, через один квартал от Национальной библиотеки. Напротив него, по другую сторону улицы, он откупил еще два больших участка. Потом одним махом скупил полдюжины участков на холме, под боком у строящегося Французского археологического института. Еще дальше, в районе Политехнической школы и Национального музея, он за бесценок купил целые кварталы незастроенной земли. — В один прекрасный день наши дети унаследуют половину Афин. А сейчас надо оправдать упреки Екатерины и стать скупым.7
Ребенок родился относительно спокойно и безболезненно. Доктор Веницелос принял его в матримониале, звонко похлопал по попке. Дитя заорало голосом своего отца, когда тот бывал в гневе. Карауливший за дверью, он тотчас ворвался в комнату. — Что, доктор, мальчик? В его голосе было скорее утверждение, чем вопрос. — Еще не знаю. Не посмотрел. — Так посмотрите, ради бога! Доктор повертел в руках пухлый розовый комочек. — Девочка. Прелесть. Примите поздравления. Генри подавил разочарование и повернулся к жене: — Как ты себя чувствуешь, Софидион? — Прекрасно. Ты очень огорчен, Генри? Он наклонился и поцеловал ее в лоб: — Добрая лоза приносит хороший урожай. Через несколько дней она уже была на ногах и охотно, почти с чувственным удовольствием давала ребенку грудь. Теперь, когда Генри стал отцом, ее отношение к нему чуть переменилось: он стал рода ее, они вместе произвели новую жизнь. Генри полюбил девочку и проводил с ней много времени, от первоначального огорчения не осталось и следа. Он настаивал, чтобы дочь назвали Андромахой. — Почему Андромахой? — недоумевала Софья. — Лучше что-нибудь простое: Мария, Лукия, Навсикая… — Потому что Андромаха—одно из благороднейших имен в греческой древней истории. Труднее было уладить другие проблемы. Семейство Энгастроменосов с таким подъемом встретило появление внучки и племянницы, что и родители, и братья, и сестры торчали в доме на улице Муз круглосуточно, пичкая мать и ребенка своей восторженной любовью. Энтастроменосы в таком количестве были уже не под силу Генри. — Я еще не настоящий грек, я не могу ходить на голове двадцать четыре часа подряд. Пожалуйста, упорядочь как-нибудь этот поток, дай мне немного покоя. Софья была крестной матерью первого ребенка своей сестры Катинго. Теперь крестным отцом их девочки вызвался быть Спирос. Софья созвала помощниц и стала готовить крестинный обед. В саду расставили длинные деревянные столы в расчете на сотню гостей. Генри купил несколько ящиков шампанского. Спирос пакетами приносил засахаренный миндаль, Софья заворачивала его в розовый тюль. В воскресенье утром взяли экипаж и отправились в церковь Богоматери. Только что кончилась служба. Маленькая, уютной византийской архитектуры церковь внутри покоряла благородной простотой, скромностью интерьера, закопченного из века в век кадящим ладаном. Столбы и полукруглые перекрытия делили церковь на четыре части, из которых центральная была самой большой и уходила под купол. Над одиннадцатифутовыми колоннами неотделанного мрамора стены и потолки были расписаны фресками. В центре, над головами, парил Христос в золотом венце. Все сгрудились около высокой иконы «Успение богородицы». Вырезанная на деревянной плите, она была сплошь усеяна золотыми кольцами, браслетами и распятиями. Спирос всем зажег свечи, и каждый поставил свою свечу на подсвечник Приснодевы. По правую руку Христа со стен и потолка смотрели святой Иоанн, святой Харлампий и два архангела, по левую руку — Мария с младенцем Иисусом, «Успение богоматери», двенадцать апостолов и еще два архангела. Внизу справа было место епископа. Беломраморную кафедру украшала кружевная резьба. Церковь быстро наполнялась, у всех, включая детей, в руках были свечи. Перед самым началом обряда Софью попросили выйти и ждать на паперти у вторых дверей. Из алтаря вышел священник, скрипя шелком длинного белого фелоня, окаймленного нежно-голубой лентой. Спирос извлек бутылку оливкового масла, кусок мыла, благовония. Взяв в руки высокую свечу, обернутую в шелковую ткань, он подступил к алтарю. — Каким именем нарекаете дитя? — Андромаха. Ребятишки стрельнули из церкви, спеша сказать Софье имя ее дочери. Самому проворному она дала припасенную монетку. Теперь ей можно было вернуться в церковь. На алтарных ступенях уже стояла купель—большая бронзовая лохань с ручками по обе стороны. Дьячок наполнил ее сначала горячей, потом холодной водой. Андромаху раздели, священник снял фелонь, засучил рукава рясы и взял ребенка. Дьячок открыл бутылку и плеснул масло Спиросу в руки, сложенные ковшиком. Спирос умастил маслом тельце девочки, после чего священник трижды окунул ребенка с головой, восклицая: — Крещается раба божия Андромаха. Перепуганная Андромаха вопила так, что, казалось, от ее крика содрогнутся лампады, на трех цепях свисавшие с потолка. Ее быстро отнесли в дальний угол и запеленали. На шейку повесили золотой крестик на тонкой золотой цепочке. Родители принимали поздравления, целовались с гостями. Катинго оделяла всех пакетиками конфет. Самый большой предназначался Спиросу, изнемогшему от поздравлений. Когда они стали показываться в обществе, Софья убедилась, что в груди и бедрах она немного раздалась. Платья стали тесны. Она попросила Генри сходить с ней в лавку отца и подобрать ткани для новых туалетов. — Разве нельзя выпустить старые? — спросил он. — Зачем? Будет уже не тот вид. Ты всегда очень щепетильно относился к тому, как я выгляжу на людях. — Я хочу, чтобы сейчас мы ни на что не тратились. — Но, Генри, это же сущие пустяки… Он только холодно взглянул на нее. Она надеялась, что рождение ребенка ознаменует благоприятную перемену в их делах: они получат фирман и станут деятельно готовиться к поездке в Гиссарлык. Но проходили дни, а новостей все не было, и Генри не находил себе места. Именно в это время отцу и брату Александросу приспичило просить у него очередное вспомоществование. Они заманили Генри в лавку, продемонстрировали расширившийся — благодаря его кредитам—ассортимент товаров и попросили новых дотаций, чтобы окончательно встать на ноги. Генри отказал: они хорошо распорядились его помощью и теперь могут покупать товары за свой счет. Мадам Виктория хотела вернуться в Афины, быть поближе к Софье и внучке. Может, Генри купит им дом? Они будут платить, как всякий другой жилец. Генри отказал и в этом. Софья с обеих сторон выслушивала сетования и снова оказалась меж двух огней. И опять в доме стало неспокойно. У нее возобновились желудочные спазмы. Генри растравлял себя мыслью, что смертельно обидел министра, который, разумеется, не преминул рассказать о дикой сцене великому визирю. Возможность раскопок была окончательно потеряна. А с этим и ему конец. Опозорен! Чего теперь стоят его разглагольствования о том, как он раскопает Трою? Он выставил себя круглым дураком. Люди будут смеяться над ним, отвернутся от него. Как жить дальше? Бежать? Бежать из Греции? От Софьи? Спрятать стыд где-нибудь в богом забытом уголке, где никто не прослышит о его позорной неудаче? В июне ему так и так надо было ехать в Константинополь, и они решили, что это даже лучше — чтобы не томиться напрасно. В ночь перед его отъездом Софья долго молилась перед иконой. — Сладостная божья матерь, услышь меня, недостойную, и помоги, потому что сама себе — какая я помощница? В своей бесконечной мудрости и милосердии помоги своему любящему чаду. Смягчи сердца турецких начальников, пусть они разрешат Генри начать раскопки. Тогда мы вдвоем поедем в Трою. Я ничего не прошу больше—только работать бок о бок с мужем и найти бессмертный город Гомера. Для этого мы поженились, этим дышит наша любовь, и без этого мы просто не выживем, я и Андромаха. Я оставлю дочку в Колоне, ей будет хорошо, а сама уеду с Генри в Троаду, в истинный дом нашего брака. Именем Христа прошу тебя. Аминь. Утром Генри уехал в Пирей. Для Софьи и Андромахи потекли неспешные недели. Софья возобновила занятия английским языком—дважды в день. В начале августа из Лондона пришла телеграмма: «Поздравляю мою драгоценную Софью. У меня в руках официальное разрешение турков начинать раскопки. Прими мои благодарность и любовь за долгое терпение и помощь. Работая вместе, мы внесем свой вклад в мировую культуру. Твой горячо любящий муж Генри». Слезы струились у нее из глаз. Она взяла на руки девочку и осыпала ее поцелуями. — Теперь все будет хорошо, Андромаха! В полдень пришла мать. — Генри возвращается через несколько дней, — сообщила Софья. — Мы быстро купим все необходимое и уедем в Дарданеллы. Андромаху я оставлю на тебя. Все наши ее любят. Ей будет хорошо. Мы кончим, когда начнутся зимние дожди…
Книга третья. Не скоро дело делается
1
Софья была очарована Константинополем. Порт кишел судами и суденышками, по узким улочкам растекалась пестрая разноплеменная толпа: турки, арабы, татары, монголы, египтяне— все в национальных костюмах. С балкона их номера открывался вид на Босфор, до Малой Азии рукой подать, с минаретов, подпиравших небо, муэдзины сзывали правоверных к намазу. Генри водил ее по городу—сверкающие куполами минареты, мощенные булыжником, перекрытые каменными галереями улочки старого города, садики за высокими заборами, тесно прильнувшие друг к другу луковицы царьградских церквей. На огромном крытом базаре сотни ремесленников сидели, скрестив ноги, в темных, как ночь, нишах, и по обе стороны длинных и узких проходов теплились огоньки, отражаясь в медных и серебряных поделках. Однажды в полдень, возвращаясь в свой отель, они проходили мимо турецкой бани, и Генри спросил, не хочет ли она испробовать это удовольствие. — Если ты пойдешь со мной, — озадаченно ответила она. — Я проведу тебя и заплачу двадцать два пиастра, но оставаться на женской половине мне нельзя, как женщине нельзя быть в мечети на вечернем намазе. Чувство растерянности, в котором ее оставил Генри, скоро сменилось самым настоящим потрясением. Она только начала раздеваться, как подоспели две совершенно голые мегеры и в миг содрали с нее всю одежду. Ей вручили льняную простыню, пару деревянных сандалий и провели в сверкающий чистотой беломраморный зал. Через пазы в стенах, полу и потолке поступал жар. Она сразу покрылась обильным потом. В десяток ванн непрерывно изливалась горячая и холодная вода, стояли деревянные скамьи. Страховидные амазонки покрыли скамью простыней, уложили хватавшую ртом горячий воздух Софью животом вниз и принялись скрести махровой тряпкой, потом перевернули на спину и, вымыв голову, прошлись до пальцев ног. Она чувствовала себя беспомощной, как ребенок, и с трепетом ожидала, что будет дальше. Ее ополоснули горячей, потом холодной водой, поставили на хлюпающий пол, обернули в две простыни и отвели в соседнее помещение, на удобный диван. Она ничего не чувствовала, кроме слабого покалывания в онемевшем теле, и через минуту-другую уже спала крепким сном. Когда она проснулась, на спинке стула висела ее одежда. Она оделась и вышла, и еще долго у нее в ушах звучали слова содержателя бани: — С такой красотой и здоровьем мадам Шлиман мало одной жизни. Генри ждал ее в номере. Он тоже не удержался от комплимента и прибавил: — Теперь целые два месяца вместо бани у нас будет только море. Она неуверенно рассмеялась в ответ. Фирман был на руках, великий визирь и Сафвет-иаша им благоволили, и можно было наконец позвать на «праздничный обед» друзей из американской и британской миссий — Уэйна Маквея и Джона Портера Брауна. Генри столько о них рассказывал, а она только теперь впервые увидела его друзей. За лето она хорошо продвинулась в английском, и время за обильным пловом протекало весело. Генри заказал каюту на пароходе «Шибин»: он на собственном опыте убедился, что у капитана этой посудины лучшее во всем флоте вино. Мраморное море проходили ночью. Они пораньше отправились спать, чтобы быть на ногах, когда пароход войдет в Дарданеллы, отделявшие Европу с Галлипольским полуостровом от Малой Азии. Утро было холодное. Капитан пригласил их на мостик, и они долго любовались зелеными гористыми пейзажами по обе стороны пролива—они наплывали издали, и вот они уже рядом с бортом. Навстречу, из Греции и Италии, поднимались в Мраморное море побитые штормами грузовые судна. Примерно в трети пути до Эгейского моря, в самой узкой части пролива, «Шибин» вошел в красиво расположенный порт Чанаккале, столицу северной турецкой провинции в Малой Азии. Капитан обещал проследить, чтобы при разгрузке с их багажом обращались осторожно. Мальчишки подхватили ручную кладь, и все отправились в маленькую портовую гостиницу Николаидиса. — Надо немедля пойти к губернатору, — рассуждал на ходу Генри. — Он тоже должен подписать фирман. Министр предупреждал, что это непременно нужно сделать: тогда наши раскопки будут узаконены и местными властями. А потом наймем повозки и лошадей, погрузимся—и в Гиссарлык. Они не прошли по городу и нескольких минут, а Софья уже была переполнена впечатлениями. Оживленный портовый город, Чанаккале при ближайшем знакомстве оказался грязной деревней: на изрытых колеями улицах с трудом разминались караваны верблюдов, вереницы тяжело нагруженных осликов, повозки с лесом на вывоз в Европу, стаями ходили бездомные собаки. Лавки размещались в каких-то тесных клетушках, внутри была кромешная темнота, да и смотреть там было не на что. Были здесь и греческие кофейни и рестораны с написанными от руки греческими вывесками. — А мне-то казалось, что мы в Турции, — сказала Софья. — Греки открыли это место раньше нас с тобой. Климат и вообще местность здесь так похожи на Грецию, что они эмигрировали сюда на протяжении столетий. Здесь всегда было много хорошей земли. Губернаторский дом стоял на главной улице, неподалеку от пристани. Бросив взгляд в глубину узкой улицы, Софья поразилась тому, что фасады многих домов были не более двенадцати футов в ширину. — Генри, почему они такие узкие? Земля дорогая? — Нет, я думаю, что из-за холодных ветров, которые дуют зимой с Эгейского моря. Они вытягивают свои дома, чтобы меньшей площадью встречать ураганы. Губернатор Ахмед-паша, статный смуглый господин с неулыбчивым лицом, встретил их по-турецки гостеприимно, велел подать кофе. Он обстоятельно изучил фирман и вполне доброжелательным голосом объявил: — Министр общественного просвещения уже известил меня, что вы приедете в Чанаккале и с какой целью. Однако на основании этого фирмана я не могу дать вам разрешение на раскопки в Гиссарлыке. Софья от изумления замигала, а Генри открыл рот. — Но… почему?! У меня официальное разрешение, вы держите его в руках! — В документе недостаточно определенно обозначены границы местности, на которой вы намерены производить раскопки. Я должен получить от великого визиря более точные указания. Софья сделала Генри предостерегающий знак, но тот еще вполне владел собой. — Ваше превосходительство, мы с женой намерены проработать здесь несколько лет. Мы рассчитываем на ваше дружеское участие и поддержку. Если вам нужны более ясные инструкции из Константинополя, то окажите мне любезность сделать телеграфный запрос. И чтобы вам ответили тоже телеграфом. Само собой разумеется, я возмещу все расходы. — Я бы охотно это сделал, доктор Шлиман, но это не поможет. — Почему же? — Мне нужна более подробная карта, а этого телеграф не передаст. Наберитесь немного терпения, сэр: через несколько дней все образуется. Генри послал Софье молящий взгляд, и, хотя женщине не полагалось вступать в деловой разговор, она все же рискнула. — Ваше превосходительство, в любое время эти несколько дней отсрочки не имели бы особого значения, но ведь сегодня двадцать седьмое сентября. Если я не ошибаюсь, сезон дождей начинается у вас в ноябре? — Совершенно верно, миссис Шлиман. Начнутся проливные дожди. — В таком случае вы понимаете, как дорог нам каждый час. Может быть, вы разрешите нам начать раскопки, а фирман подпишите, когда прибудет новая карта? — А если вы будете копать в неположенном месте? У меня будут неприятности. «Боже мой, — думала Софья, оглядывая просторный, хорошо обставленный кабинет, высокими окнами глядевший на пролив, — он боится за свое место». — Губернатора тоже можно понять, — сказала она Генри, — я уверена, он уже сегодня отправит запрос в Константинополь. Генри что-то проворчал, и она решила, что при его вспыльчивости он вел себя достаточно благоразумно. — Давай зайдем к Калвертам, — предложил он. — Это близко. С главной улицы, тянувшейся вдоль берега, они свернули в высоченные железные ворота. Вверх взбегала каменная лестница, упираясь в полукруглые резные двери, перед которыми они помедлили, чтобы оглядеться. На пяти десятинах раскинулся сад, с трех сторон окруженный высоким кустарником и деревьями. Они увидели прудик в форме контурной карты Англии, розарий, фонтаны, цветники, маленький театрик, тропинки, обсаженные цветущими кустами, детский домик с открытыми верандами — у них уже глаза разбежались, а еще были беседки, псарня, конюшня… И куда ни глянешь, всюду буйствует зелень. — В жизни не видела ничего красивее этого парка. — Здесь раньше была болотистая низина, — усмехнулся Генри. — После дождей по полгода стояла вода. Фрэнк Калверт за бесценок купил эту грязь и вбухал в нее тысячи повозок земли с ближайших холмов. Этот парк он разбил для своей семьи. Огромный, в двадцать комнат особняк был выстроен в стиле итальянского Ренессанса, с роскошными окнами, увенчанными резными каменными карнизами и сводами. На втором этаже, в самом центре, повис балкон, на него выходили три застекленные створчатые двери. Лакей впустил их в дом. В окна столовой и библиотеки был виден парк, из гостиной же и спален верхнего этажа взгляд убегал через Дарданеллы к зеленым холмам Галлипольского полуострова. — Примерно такой дом я хочу построить для нас на Панепистиму. Вид у нас будет немного другой — на Старый Фалерон и Пирей. У балконных дверей музыкальной комнаты их и застал Фрэнк Калверт. Поднимался ветер, вода была неспокойной, на вымощенную камнем прогулочную дорожку выбрасывало охапками зеленые водоросли. Калверт оказался высоким худощавым блондином с агатовыми глазами и редкой полоской усов. Он был в костюме, при галстуке, в начищенных ботинках — хоть сейчас в палату лордов. Моложавый—ему не дать его сорока трех лет, но за внешней выдержанностью Софья почувствовала в нем какую-то гложущую тоску. — Наконец-то! Мы с миссис Калверт заждались вас. Фрэнк, как и оба его старших брата, родился на Мальте в семье английского консула. Консулом стал и сын-первенец Фредерик, проторивший братьям дорогу в Троаду: следом за ним сюда явился первый консульский агент Соединенных Штатов Джеймс Калверт, средний брат. Втроем братья владели значительной частью троадской земли. — Сколько времени вы предполагаете пробыть здесь до отъезда в Гиссарлык? — Несколько дней, пока губернатор не получит новую карту из Константинополя. — В таком случае вы должны остановиться у нас. Здесь нет приличной гостиницы. Я отправлю экипаж за вашими вещами. После неторопливого обеда мадам Калверт сразу ушла к своим четверым заждавшимся чадам. Калверт провел гостей в библиотеку, словно целиком перенесенную из Англии, из какого-нибудь загородного дворца: все стены сплошь уставлены книгами сэра Вальтера Скотта, Вордсворта, Теннисона, Диккенса, Теккерея, на кожаных корешках горят золотые, серебряные, красные буквы. Фрэнк затопил камин и глубоко уселся в красное кожаное кресло. — В каком положении ваше ходатайство правительству Ее величества? — заботливо осведомился Генри. Помолчав, Калверт поднял на него потухшие глаза. — В неподвижном положении… Сколько я ни стараюсь подтолкнуть. Ваша жена знает о моем деле? — Я ей не говорил. — Тогда я лучше скажу, пока меня не оболгали другие. Он развернул тяжелое кресло и сел напротив нее. — Я составил состояние лет пятнадцать назад, во время Крымской войны. Я был здесь единственным англичанином, который знал турецкий и греческий языки, мои братья не в счет—они занимали официальные должности, им нельзя было ни во что вмешиваться, — и получилось, что я один только и мог снабжать провиантом британский флот. Я старался не за страх, а за совесть—не проворонил ни одной овцы, ни единого мешка зерна в этой части Малой Азии. Если бы не я, наш флот в Дарданеллах голодал бы и русские могли выиграть войну. Я щедро расплачивался с крестьянами, они забыли думать про свои рынки. Естественно, что и с правительства я запрашивал более высокие цены. После войны они прислали сюда специальную комиссию. Комиссия собрала сведения, по каким ценам я закупал продовольствие, и потом заявила, что я оставлял себе четыреста процентов дохода. Назвали это спекуляцией, заочно осудили меня в Лондоне, объявили предателем и приговорили к смертной казни. А в войну, — помолчав, добавил он, — эти цены их устраивали, потому что деваться им было некуда… Софья понимала теперь, какая тоска туманила его глаза. Совсем молодым, двадцати шести лет, он напал на случай разбогатеть, не растерялся и стал миллионером. В сущности, он стал владетельным Троадским князем, поскольку необходимость работать отпала навсегда: деньги он держал в швейцарских банках и британское правительство было бессильно добраться до них. Когда они остались вдвоем в отведенной им спальне, Софья сказала: — Как все странно! Мистера Калверта англичане приговорили к смерти, а тебя за такие же поставки русские осыпали почестями. — Мы довольствовались разными процентами, Софья. С каждой своей поставки британскому флоту Фрэнк имел четыреста процентов прибыли. Положим, он платил за отару овец сотню долларов, а продавал он ее англичанам за пятьсот. Четыреста долларов клал в карман. — А ты какую прибыль имел? — Весьма достаточную, но приходилось считаться с войной. Если груз обходился мне в сотню долларов, я запрашивал за него с русских примерно двести пятьдесят и, стало быть, оставался с прибылью в сто пятьдесят долларов или около того. К концу войны я выручил четыреста тысяч долларов. Если бы я продавал по ценам Фрэнка, то подобрался бы к миллиону. Но не спеши поздравлять меня с благоразумной сдержанностью, тут есть одно немаловажное обстоятельство: Фрэнк был вне конкуренции—никакой правительственный снабженец не купит отару овец за сотню долларов. А в Петербурге многие купцы могли поставлять царю индиго, и, назначая свою цену, я считался с конкуренцией: стоило мне зарваться, и я бы сразу потерял все свои контракты. Вот поэтому я в России герой, а Фрэнк в своей Англии—предатель. — Генри, ты скромничаешь. Тебя не узнать. — Пожалуйста, не заблуждайся на мой счет. Я никогда не упускал свою выгоду. Начало своему состоянию я положил торговыми делами задолго до Крымской войны. Потом я удвоил капитал в Сакраменто, это в Калифорнии, я ездил туда поставить памятник на могиле брата. Он умер от лихорадки, был очень удачливым старателем. Я хотел распорядиться его имуществом, но его компаньон скрылся со всеми деньгами. — Ты никогда не рассказывал мне о золотых приисках, хотя я знаю, что тебе там очень везло. — Везло, только я не был золотоискателем. Когда в 1851 году я через Панамский перешеек добрался до Сан-Франциско, на приисках негде было яблоку упасть. Я видел, что большинство золотоискателей являлись в Сакраменто уже без гроша в кармане. Им нужны продукты, инструменты, а в кредит им никто не верил—слишком мала вероятность, что они вернут аванс. Двенадцать процентов в месяц была обычная ставка. Я связался с лондонским банком Ротшильда и открыл собственный банк. Мои дела сразу пошли в гору. К началу Крымской войны у меня был большой оборотный капитал. Деньги к деньгам — это верно сказано, крошка. Но уже можно было остановиться: трех состояний должно хватить на то, чтобы разрыть Трою. И вот мы здесь, смотрим на Дарданеллы, и впереди нас ждут великие дела. Укутываясь теплее мягким шерстяным одеялом, Софья уже сквозь сон пробормотала: — Неисповедимы пути, которыми Господь творит свои чудеса. Прошло одиннадцать мучительных дней, прежде чем Константинополь дослал карту. Пожалуй, больше всех ей радовался губернатор, замученный преследованиями Генри Шлимана. Софья проводила дни с миссис Калверт: женщины читали, гуляли в парке, куда им подавали ленч и вечерний чай «по-английски»: сандвичи с помидором или огурцом, лепешки с маслом и джемом, бодрящий темный чай. Калверты жили по-королевски, в окружении слуг, сторожей и садовников. Генри пропадал в городе, оправдываясь важными делами, и Софья только радовалась его способности с головой уходить даже в малое дело, потому что сейчас как никогда ему надо было чем-то себя занять. И он не без толку бегал: нанял крепкую арбу для инструментов, удобный дорожный экипаж и смотрителя, обязанностью которого было присутствовать при раскопках и обеспечивать Оттоманскому музею оговоренную половину находок. Этого надзирателя звали Георгий Саркис, он был армянин, второй секретарь судебной канцелярии. Генри согласился выплачивать ему жалованье—двадцать три пиастра в день (это девяносто два цента). Церемония подписания губернатором фирмана совершилась в полдень. Софья и Генри рано пообедали, обняли на прощание Калвертов и в начале второго тронулись, рассчитывая попасть в Хыблак до темноты. Еще раньше ушла их арба с тачками, лопатами, постельным бельем и прочим снаряжением. Сначала дорога шла равниной, вдоль Дарданелл, припекало солнце, лазурное небо сливалось с лазурным морем. Но вот начались горы, лошади с трудом одолевали перевалы. Генри сошел с экипажа, пошел рядом. Их обступал изумрудно-зеленый лес, деревья клонили друг к другу вершины, заботливо принимая их под свою сень. Они сделали только одну остановку — выпили кофе в деревушке Ренкёй, а поужинали уже в сумерках, не выходя из экипажа и добрым словом поминая повара Калвертов. Было совсем темно, когда они свернули с главной дороги на проселки, изрытые колеями. К счастью, местность была ровная, а возница знал дорогу. Около девяти часов вечера они въехали в Хыблак, объятый глубоким сном. Деревушка состояла из ветхих саклей и была вдоль и поперек изрезана вязкими от грязи улочками, едва пропускавшими в одну сторону крестьянскую арбу. — Как ты найдешь в такой темноте наш дом? — беспокоилась Софья. — Это единственный во всей деревне двухэтажный дом. Смотри, мы еще не разбудили ни одной собаки, а то проснулась бы вся деревня. На дальнем краю деревни забрехала собака. — Мучается бессонницей, — пробормотал Генри. И сразу со всех сторон накатил разноголосый лай и повозку облепила дюжина худых, как тени, дворняг. Генри тронул возницу за плечо, и повозка свернула в загаженный дворик, обнесенный каменной стеной. В одном углу Софья разглядела хлебную печь, в другом амбар, а между ними длинный крытый хлев, с крышей, словно сошками прижатой развилистыми сучьями. Отворилась боковая дверь, и с масляной лампой в руке вышел хозяин. Драмали, в полосатой шерстяной рубахе ниже колен и ночном колпаке. — Ни днем ни ночью покоя, — ворчал он. — Подождали бы. когда рассветет. — Где прикажете ждать? — поинтересовался Генри. — С овцами? Посветите, мы поднимемся в свои комнаты. Ворча под нос, хозяин провел их по деревянной лестнице в комнаты, заказанные Генри через агента в Чанаккале. Софья из Афин взяла превосходные лампы и масло, носейчас они ночевали в арбе вместе с простынями, одеялами, подушками и средствами от насекомых. Она придирчиво осмотрела слежавшийся матрац. — Оставь, Софья: они все равно наползут. — Значит, надо было брать и матрац. — Ах, какой же я дурак! Конечно, надо было взять! Постой, кажется, пришла наша арба. Пойду принесу лампы и простыни. Они залили лампы маслом и при свете осмотрели матрац. Он кишел клопами. Софья взяла непочатую бутыль янтарного масла, разыскала среди вещей щетку и методически смазала матрац сверху и по бокам, после чего Генри перевернул его и все повторилось в том же порядке. Сам Генри протирал зеленым медицинским спиртом металлическую раму кровати и опаливал ее огнем, сняв с лампы стеклянный абажур и прибавив фитиль. Софья протерла весь матрац еще и спиртом и открыла окно проветрить комнату, напустив лишь запахи скотного двора. На столик в изголовье постели она поставила свою икону богоматери, достала из чемодана ночное белье, туго заправила под матрац свои, домашние простыни, расстелила два одеяла, бросила пару своих подушек в мягких льняных наволочках, наладила вешалки для одежды, погасила свет и, не чуя под собой ног, забралась в постель. — Хоть бы эти клопы угомонились, — взмолилась она. — Я чувствую себя совершенно разбитой. — К утру пройдет, — утешил ее Генри. Небо на востоке только заалело, когда он разбудил ее. — Быстренько одевайся, мой ангел, я хочу, чтобы первый восход солнца здесь ты увидела с Гиссарлыка. Она плеснула в лицо холодной водой, почистила зубы, надела коричневое ситцевое платье, которое родные находили чересчур простеньким, а для работы оно как раз. потом обула башмаки на толстой подошве, знакомые с мостовыми Палермо, Неаполя и Рима. И как ни поторапливал ее Генри, она еще собрала постель, снесла вниз простыни и одеяла и знаками объяснила хозяйке, чтобы та потом разложила их на солнце. В теплой хозяйской кухне они выпили кофе, но не смогли заставить себя что-нибудь съесть. — У нас в Турции говорят, — заметил Драмали, — что утром мы еще сыты сном, а уж днем придется поесть. Генри отмерил две порции хинина по четыре грана: они будут принимать его каждое утро, потому что летом и осенью в Троаде непременно свирепствует малярия. Пройдя через дворик, служивший одновременно загоном для скотины, они вышли в поле и, не разбирая дороги, направились прямо к Гиссарлыку. Поле было запущенное, на нем распоряжались одни овцы. В сером предрассветном воздухе оно казалось покрытым грязноватым снегом. Софья наклонилась и не поверила своим глазам: вся земля устлана битыми глиняными черепками, на некоторых еще различались следы раскраски. Она подняла ручку от вазы, потом горлышко, опознала днище, осколки круто выгнутых стенок. — Генри, — возбужденно воскликнула она, — я ничего не понимаю! Здесь миллионы черепков! Но ведь это не мусорная свалка? — Нет, конечно, — улыбнулся ее простодушию генри. — Это и не манна небесная — значит, на поверхность все это вымыли дожди? — Ты попираешь останки давно умершего города. В ее больших темных глазах зажглось изумление, щеки раскраснелись. — Ты что же, знаешь, что лежит под нашими ногами? — Там большой римский город второго или третьего века новой эры. Археолог нашел бы здесь улицы, протянувшиеся на целые мили, дома, лавки, храмы. Только никто не станет здесь копать: работа гигантская, а город слишком молод, чтобы представлять интерес. С трудом поспевая за его размашистым шагом, Софья польстила ему: — Это то, что ты называешь nouveau arnvee [14] на сцене истории? — Совершенно верно. Нам же предстоит заниматься цивилизацией, которую еще никто не нашел и не исследовал. Первое троянское поселение возникло в двухтысячном году до новой эры, хотя своего расцвета Троя достигла лишь во времена Приама, в тысяча двухсотом году. Когда мы с лопатой пробьемся в эту глубину веков, храмы расскажут нам об их религии, таблицы научат языку, поведают судьбу царских династий; взяв в руки их оружие, мы узнаем, как они убивали своих врагов, монеты расскажут, как торговали, в погребальных урнах дойдет до нас прах их предков. Мы всмотримся в фундаменты их домов и поймем, хорошо они жили или бедно, как готовили пищу, что ели. Золотая, серебряная и бронзовая утварь покажут, на каком уровне были у них художественные ремесла… Мы найдем их сокровищницу… В продолжение этой речи Софья понимающе кивала головой, а когда он кончил, воодушевленно подхватила: — Самые лучшие исторические книги еще лежат под спудом—ты это хочешь сказать? Что самые живые свидетельства скрыты вот здесь и от нас зависит, чтобы они заговорили? — И день за днем во всем отчитались. Ты способная ученица, Софидион. Я поделю на двоих свою докторскую степень, и в Германии тебя будут звать «фрау доктор Шлиман». — Слишком много чести, — усмехнулась она.2
С виду это был обыкновенный холм, только повыше и покрупнее многих. Овцы с неутолимым прожорством общипывали на нем траву. Отлогий юго-восточный склон холма был почти лыс. Они взошли на холм, он возвышался над равниной на восемьдесят футов; в северо-западной части холм взмывал еще на двадцать шесть футов, там была его плоская вершина. Справившись по записной книжке, Генри объявил Софье результаты своих прежних обмеров холма: примерно тысяча футов в длину и чуть более семисот в ширину. Но даже здесь, на месте, эти цифры мало о чем ей говорили: нужно было эти размеры соотнести с чем-то, что она хорошо знала. — Это больше площади Конституции, да, Генри? В длину это будет примерно расстояние от королевского дворца до Арсакейона, а в ширину — как Акрополь, да? Генри посмеялся над ее «школьной географией», но в целом признал ее верной. За их спиной неспешно, словно неуверенное в своей своевременности, всходило солнце, желтой дымкой окуривая Троянскую долину — некогда поливаемый кровью треугольник земли, лежавший прямо перед ними; засеребрилось широкое лоно Скамандра, притекшего с юга, отливал серебром и худенький северный пришелец—Симоис. Солнце высветило горизонт, и Софья разглядела, где обе реки вливались в Дарданеллы и—еще дальше—где воды пролива сливались с Эгейскими водами. Обмирая от волнения, она смотрела, смотрела… Всего в трех милях к западу начиналось Эгейское море, а на том же расстоянии к северу, в Кумкале, была последняя перед морем защищенная бухта в Дарданеллах, здесь на берегу десять лет ждал на суше своих героев ахейский флот. Неподалеку высилось несколько курганов, в которых, как разъяснил Генри, согласно народному преданию, могилы Ахилла, Патрокла, Аякса и Приама. Фрэнк Калверт раскопал могилу Приама, но ничего не нашел. По высокому берегу Скамандра цепочкой тянулся караван из семи верблюдов, связанных веревкой, а впереди на лошади ехал человек. Генри показал рукой налево: там на гребне холма ютилась деревушка Енишехир, под ней лежал древний Сигей. Дальше, в море, видны острова Имброс, Самофракия. Оставляя в пронзительно голубом небе темный дымный шлейф, из Геллеспонта в Эгейское море вползал черный пароходик. В двух милях от берега, еще левее, к югу, лежал остров Тенедос (по-турецки — Бозджаада). За этим островом, вспомнила Софья, за его широко раскинувшимися берегами спрятался весь ахейский флот, когда греки сделали вид, что снимают осаду Трои и отправляются домой, принеся в дар Афине-Палладе деревянного коня. В коне спрятались Менелай, Одиссей, сын Ахилла Неоптолем и другие ахейские герои. Троянцы втащили тяжелого коня через Скейские ворота и доставили на Акрополь, где более дальновидные из них требовали сбросить его с отвесных северных укреплений. Однако победили несогласные. Троя заснула. Ахейский флот ночью вернулся в бухту, и ахейцы, выйдя из деревянного коня, открыли ворота. Воины ворвались в Трою и сожгли «бессмертный город». Они перебили почти всех мужчин, увели в рабство женщин и детей, разграбили город, оставив после себя голые камни и пепел. — А греки еще гордятся, что победили Трою! Чем тут гордиться, если мы победили обманом? Если десять лет осады ни к чему не привели? Если в честном бою мы не одолели троянцев? Генри привлек ее к себе, оберегая от холодного утреннего ветра. — Трою нельзя было победить: она была под покровительством отца богов Зевса. — И как же повел себя отец богов, когда греки так остроумно и не совсем порядочно обошлись с троянцами? — А наверное, так же, как в том случае, когда его обвела вокруг пальца сестра-супруга Гера, — подумав, ответил Генри. — Вот что рассказывает Гомер:И когда Зевс увидел Геру, он ей быстро ответствовал:
Взглянув на его разгоревшееся лицо, Софья подумала: «Во что он верит—то для него только и существует, а все остальное — ненастоящее». А Генри продолжал: — Оставив Зевса спящим в объятиях Геры, Сон-усладитель отлетел к лагерю осаждаемых ахейцев и возбудил бога морей Посейдона. Тот принял человеческий облик и встал впереди ахейцев, которые отогнали троянскую рать обратно к городским стенам, перебив множество славных мужей. Таковы плоды вмешательства богов в людские дела. И в случае с троянским конем коварная Гера, может статься, опять одурачила Зевса… — И повергла его в такой глубокий сон, — увлеченно подхватила Софья, — что когда он проснулся, то Троя была уже разрушена и ахейцы отправились по домам. — А добрались домой немногие. Агамемнон вернулся в Микены, но в первый же день был убит в собственном доме. Благополучно вернулся в Спарту Менелай с Еленой, зато Одиссей десять трудных лет добирался в свою Итаку и едва спас Пенелопу от буйных женихов. Великое же множество греков погибло в море на обратном пути, и вместе с ними кануло в вечность могущество доисторической Греции. Вскоре с севера вторглись дорийцы, потом пришли ионийцы. Микенская цивилизация пала, уступив место новой культуре. — А начиналось все здесь? — Да, малышка, здесь истоки всего, и завтра мы начнем их искать. Перед холмом появился старший хозяйский сын с двумя лошадьми в поводу. Они спустились, и Генри подсадил Софью в седло. — Вот когда пригодятся твои парижские уроки в манеже, — заметил он. — По-моему, я научилась только падать. — Это спокойная лошадь. Мы поедем тихо. В первую очередь он показал ей источники у подножия круто вздымающегося холма — холодный и горячий, около них троянки стирали «одежды блестящие». Потом указал место, где около Скейских ворот рос дуб: здесь Гектор решился на поединок с Ахиллом, торопя исход войны. — Сейчас нам нужно трижды объехать вокруг холма. Когда Гектор вышел на поединок с Ахиллом, его обуял страх, и он три раза обежал вокруг Трои, пока богиня Афина не остановила его и не побудила сразиться с Ахиллом. Есть ученые, которые верят в существование Трои, однако местонахождением ее называют деревушку Бунарбаши. Так вот, Бунарбаши Гектор ни за что не обежал бы три раза. А кроме того, она в восьми с лишним милях от Геллеспонта. Я там копал и ничего не нашел. Покачиваясь в дамском седле, Софья спросила: — Может быть, мы съездим как-нибудь в Бунарбаши? Я тоже хочу убедиться, что там не могло быть Трои. Они удалялись от холма. Примерно милю тянулась низина, потом они поднялись на возвышенность, покато убегавшую к морю. Вскоре они подъехали к величественному Скамандру, несшему свои воды с горы Иды, летнего обиталища богов. Генри привязал лошадей к дереву. Берега густо поросли вязом, ивой, тамариском, камышами. Словно припоминая знакомое место, Софья огляделась вокруг. — Так вот где в отместку за гибель своего друга Патрокла Ахилл перебил столько троянских юношей, что их трупы забили русло и преградили реке путь к морю! И тогда бог реки разгневался и погнал за Ахиллом могучий речной вал, едва не погубивший героя. Генри, — оборвав вдохновение, спросила она прозаическим тоном, — а вообще они существуют — речные боги? Мог он, например, залить водой эту долину, преследуя Ахилла? — Он это делает каждую зиму. Сама увидишь в ноябре. Они снова сели на лошадей. Местность пошла заболоченная, уже пахло морем. Лошади грудью раздвигали высокую траву с багровыми метелками цветов. Софья подобрала ноги, подтянула платье, чтобы не замочить. Они выбрались на место повыше и увиделч перед собой песчаную косу в форме полумесяца — последнюю бухту перед слиянием Дарданелл с Эгейским морем. Здесь же вливался в море Скамандр, уже принявший в себя воды Симоиса. Неподалеку раскинулась деревушка Кумка-ле, напротив нее, на Галлиполийском полуострове, стоял маяк. Генри спутал лошадей и воскликнул: — Вот мы и добрались до лагеря, где десять лет стояли греки! Когда троянцы стали теснить ахейцев к кораблям, те возвели здесь оборонительную стену, вырыли широкий ров, укрепленный острым частоколом, чтобы не могли пройти троянские колесницы. И все же некоторые троянские воины прорвались через стену и крепостной ров и подожгли ахейские корабли. Все это Софья знала и сама, но ей не хотелось портить Генри удовольствие. — Еще до сооружения стены и рва троянцы, упорно сражаясь, добились превосходства. С наступлением сумерек они расположились станом в поле, намереваясь утром сокрушить вражеские заслоны и сбросить греков в море. Агамемнон публично повинился в ссоре с Ахиллом, расколовшей единство греческих сил. Когда Агамемнон покорил Хрису, он захватил в плен прекрасную дочь жреца Хрисеиду. Отец предложил за дочь выкуп, но царь обошелся с жрецом грубо, и тот умолил Аполлона наслать мор на ахейское воинство. Мор свирепствовал девять дней. На десятый Агамемнон был вынужден вернуть Хрисеиду отцу, но за это отнял у Ахилла Брисеиду, прелестную деву, которую Ахилл добыл в сражении под Фивами, недалеко от Трои, и к которой по-настоящему привязался. Тогда Ахилл поклялся, что не станет больше сражаться с троянцами. И вот на переговоры с Ахиллом отправились Одиссей и Аякс, чтобы предложить ему от имени Агамемнона
— «Илиаду» иногда называют «Гнев Ахиллеса» [15].— Софья вытянулась на песке рядом с мужем. — Наверное, я безнадежный романтик: мне нравится, что самый первый и самый лучший роман рассказывает о любви мужчины к женщине. — Мы оба романтики, — обнадежил ее Генри. — Романтики перекраивают мир, а реалисты думают только о своей утробе. Они проехали через рыбацкий поселок Кумкале, выехали на проселочную дорогу, добрались до главного тракта и скоро были в Ренкёе, где накануне останавливались выпить кофе. Этому городку три с половиной тысячи его жителей-греков сообщили настолько же греческий колорит, насколько Хыблак был типично турецкой деревней. Генри решил предпочесть Ренкёй и здесь нанять землекопов: здесь и народу больше, есть из кого выбирать, и греческий он знал лучше, чем турецкий. — А как мы будем их нанимать? — спросила Софья. — В каждой деревне есть старейшина. Обычно это человек в летах, крепкий потомственный хозяин. Найти его нетрудно: надо только с кем-нибудь завести деловой разговор—он тут же объявится. После походов Александра Великого, начавшихся в 334 году до новой эры, на западном побережье Малой Азии навсегда утвердился греческий дух. Здесь бок о бок жили обе культуры, смешанные браки были редки, уровень жизни примерно одинаков в обеих общинах. Значительной была иммиграция с материка и греческих островов в девятнадцатом веке: крестьян манило обилие свободной земли. Например, в Смирне, большом и процветающем портовом городе в двухстах милях к югу, на девять тысяч греков приходилось лишь две тысячи турок. Греческая община в Ренкёе вела обособленную жизнь: не было школы с преподаванием турецкого языка греческим детям, не было больницы, даже местной власти не было. Жили простой жизнью, как в библейские времена. В холодную погоду впускали скотину в дом. Мужчины работали ровно столько, чтобы семье хватило на пропитание, уделяя особое внимание делянке с табаком. В одежде соблюдали крайнюю умеренность: женщина обычно всю жизнь донашивала платье, в котором ходила к венцу. Мужчины годами не меняли брюки и куртку, сами латали прохудившуюся обувь. О деньгах здесь не имели понятия. Если в чем-либо назревала необходимость, то хозяин (а чаще — хозяйка) брал соху, запрягал вола и вспахивал лишний клочок земли, и в какое-нибудь воскресенье, навьючив мула, семейство отправлялось в Чанаккале на ярмарку, где излишек продукции выменивался на одежду либо посуду. И действительно, едва Генри разговорился с первым встречным, как старейшина уже прознал: в деревне чужие — и явился, как на пожар. Это был человек не старый, хотя уже и не молодой. Его худое лицо заросло седой щетиной, забравшейся даже на самое темя. Одеяние выглядело таким же бессменным, как кожа. Немногие оставшиеся зубы пожелтели от трубки. Но Софья не преминула отметить, что поклон он отвесил самый церемонный. Они сошли с лошадей. — Господин что-нибудь ищет? — спросил он высоким гортанным голосом. — Мне нужны землекопы. — Почтенный сэр, время упущено — земля осталась под паром. Теперь только весной можно будет копать. В нескольких шагах была маленькая кофейня. Отодвинув давно выпитые чашки и мусоля потрепанные карты, завсегдатаи прислушивались к их разговору. — Я не собираюсь ничего сажать. Я хочу раскопать. — А что хочет раскопать господин? — Холм. Гиссарлык. — Ага, крепость. Только там нет никакой крепости. Там одни овцы и козы. Игроки бросили карты и откровенно слушали. — Они здесь такие же греки, как во всей Аттике, — сказала Софья вполголоса. — Ты им ничего не говори, они не поймут или, чего доброго, испугаются. Просто скажи им свои условия. Генри кивнул. Приглашающе помахав насторожившейся публике, он объявил: — Каждый рабочий будет получать девять пиастров в день. Работаем с половины шестого утра до половины шестого вечера. В девять получасовой перерыв на завтрак и полтора часа в полдень—обед и курение. Инструментов не нужно, у меня все есть. Сколько человек может прийти? Старейшина снял видавшую виды шляпу и черными обломанными ногтями поскреб редкую растительность на голове. Остальные молча переглядывались. — Почему они молчат? — спросил Генри. — Они же никогда не зарабатывали девять пиастров в день. — Поэтому они и молчат. Греки-крестьяне вообще недоверчивы к чужим людям, а мы в нашей одежде и вовсе кажемся им иностранцами, особенно ты в этом сюртуке и галстуке. Позволь мне: с ними нужно говорить на просторечии. Напряжение сразу прошло, как только Софья заговорила на обиходном языке. Восемь человек вызвались с рассветом прийти на Гиссарлык. — Мне нужно больше, — настаивал Генри. — Сколько? — спросил старейшина. — Ну, пятьдесят, семьдесят пять… как пойдет работа. — Пусть начнут эти восемь, — решил старейшина. — Половину жалованья за первый день отдайте мне сейчас. Потом будете рассчитываться после работы. Генри вынул бумажник, отсчитал пиастры и вручил их распорядителю. — Если они вернутся завтра довольные, то в среду у вас будет больше рабочих. Софья поблагодарила его критским жестом, и вокруг расцвели улыбки, им пожимали руки… Только какой-то великан держался в сторонке. У него были густые свисающие усы и устрашающе свирепое выражение лица. «Даст бог, он не входит в число тех восьмерых», — содрогнувшись, подумала Софья. На обратном пути Генри перегнулся в седле и взял ее за руку: — Спасибо за помощь, малышка. Может, ты научишь меня просторечию? Похоже, без него не обойтись. А я за это выучу тебя турецкому языку.
3
Она проснулась в кромешной темноте: Генри тряс ее за плечо. — Что такое? Что случилось? — Ничего. Я оседлал лошадей. Едем купаться. — Среди ночи?! — Уже четыре часа утра. Как раз в воде нас застанет солнце. Тебе полезно купаться. — Спать полезнее. — Ты, видимо, забыла, моя юная подруга, что говорят твои соотечественники: в море купаться—здоровья набраться. — Спасибо, я и так от тебя многого набралась. Иди купайся и оставь меня в покое. — Ну, попробуй хотя бы один раз. Раскачиваясь в седле, как маятник, она клевала носом всю дорогу до устья Скамандра. Генри разделся, шумно забежал в воду и вскоре растворился в занимавшемся рассвете. Оставшись в состряпанном наспех купальном костюме, Софья дрожащей ногой попробовала воду. Отступать было поздно, надо хоть окунуться. Она по колено зашла в воду, присела и обмыла грудь и плечи. Исполнив эту малоприятную обязанность, она стремительно выскочила на берег, закуталась в большое, как одеяло, полотенце, потом переоделась в теплую одежду и накрылась шалью. Генри пробыл в море полчаса. Рассекая воду сильными толчками, он заплывал так далеко, что Софья не различала его головы за рябью. Вот он вышел на берег, крепко растерся грубым полотенцем, и Софья воочию увидела, что такое пышущее здоровьем тело. — Понятно, почему ты такой закаленный, — сказала она, — у тебя сейчас кровь, наверное, холоднее самого холода. Труся на своих осликах, все восьмеро рабочих явились в половине шестого. Они добирались два часа. Поскольку предки их были выходцами с близких отсюда Самофракии, Лемноса и Лесбоса, то и одевались они, как прирожденные островные греки: широкие, мешковатые шаровары, сужающиеся книзу и плотно облегающие икры, белые носки, белая рубаха, короткая свободная куртка, широкий кушак, на голове ермолка. Только обувь с загнутыми кверху носками они позаимствовали у Турции. К великому огорчению Софьи, среди них был и тот великан со свирепыми усами. Она решила держаться от него как можно дальше. Когда в прошлом году Генри несколько дней копал в северо-восточном углу плато, он обнаружил шестифутовой толщины каменную стену. Объезжая холм вчера утром, он признался Софье, что место было выбрано неверно. Теперь он собирался копать ближе к северо-западному краю, на крутизне, где за тысячелетие образовался самый толстый наносный слой. — Генри, здесь сколько угодно легких склонов! — Зато на этой стороне вершина холма. Эффектное местоположение и труднодоступность словно специально предназначили ее для акрополя, царского дворца, высокой сторожевой башни и могучих стен цитадели. Софья внимательно разглядывала начерченную рукой Генри карту Гиссарлыка. — Объясни мне, пожалуйста, такую вещь. Я знаю, что сражения и поединки разыгрывались вот на этом треугольнике между основанием холма—ты отметил здесь двадцать четыре фута над уровнем моря — и местом слияния Скамандра и Симоиса. Но зачем было сражаться на северных склонах? Ведь они поднимаются здесь, — она заглянула в карту, — под углом 45 градусов, и к тому же наверху высились могучие стены. Подступы с востока и юга легче, там пологие склоны. Почему ахейцы нападали непременно с северной стороны, имея очень мало шансов взобраться на стены? Генри ненадолго задумался. — За время своего существования Троя обзавелась множеством союзников и друзей. Гомер приводит целый список этих племен: мизийцы. фракийцы, фригияне, амазонки — между прочим, неустрашимые воительницы. Некоторые герои и вожди этих племен сражались против ахейцев на поле боя в колесницах или врукопашную. Но главная их задача была защищать от греков эти вот легкие подступы: Скейские и другие ворота и всю площадь у южного склона. А кроме того, ахейцы не хотели терять из виду свои корабли и лагерь и им было удобно близкой дорогой восполнять потери в оружии, колесницах, лошадях, подвозить продовольствие. Пора было начинать. Из инструментов у них было восемь французских тачек, пять кирок, полдюжины деревянных лопат и пятьдесят две плетеные корзины. Гомеровская Троя была крепостью, расположенной на вершине естественного холма, и поэтому, заключил Генри, бессмысленно копать на материковом уровне. Надо подняться футов на сорок по склону. Этот северный склон был весь покрыт колючим кустарником, забит сухостоем, и приходилось резаками прорубать проход. Отдирая колючки и кляня свое длинное шерстяное платье, Софья замыкала процессию. Когда ДО вершины оставалось шестьдесят футов, Генри остановился и, отобрав четырех самых сильных на вид рабочих (в том числе страшилу великана), велел вырыть неглубокую траншею шириной в четырнадцать футов. Двое с лопатами наполняли корзины землей, двое других уносили их вниз. По ширине траншеи Генри вбил два колышка, привязал к ним бечевки, послал рабочих продолжить тропу вверх, очистив ее от подлеска, и строго в ряд набить колышки. Потом сам натянул между ними бечевку, обозначив площадь раскопа. Софья отметила в дневнике, сколько времени занял каждый этап работы, набросала карту северного склона холма, точно обозначила место и высоту первого шурфа. Генри велел ей также фиксировать характер извлекаемой почвы. — Чтобы разобраться, когда кончатся наслоения и откроется материк? — Именно. Нам предстоит прорыть насквозь много культурных слоев. — На какой же глубине, ты думаешь, материк? — Это зависит от толщины наслоений. Наш шурф мы закладываем на высоте сорока футов. Траншею поведем к вершине. Поднимаясь, мы углубим ее на десять-пятнадцать футов. Мне кажется, что, зарывшись футов на тридцать в глубину, мы достигнем материка. — Знаешь, это просто не укладывается в голове! — А там нечему еще укладываться, — буркнул Генри. Великан в красной турецкой феске с черной кисточкой все время держался на почтительном расстоянии. С киркой, надо сказать, он управлялся мастерски, играючи. Когда ему случалось проходить вблизи Софьи, он не только опускал голову, но даже зажмуривал глаза. В перерыв рабочие из Ренкёя сели на солнышке, что-то пожевали, покурили и улеглись соснуть. Генри и Софья выбрали ровное местечко поодаль, расстелили брезент, запасливо купленный в Константинополе, и выложили стряпню госпожи Драмали. Козлятину—если это была козлятина — было страшно брать в рот. Софья сочла за благо воздержаться от критики, но Генри уже отложил кусок. — В Китае, Японии. Египте, Месопотамии, в Индии и на Яве чего я только не ел! Печеных муравьев, рыбьи глаза… Но такого я еще не пробовал. Что это может быть? — Лучше не будем гадать. Выбрось. Я кое-что захватила из Чанаккале. Тут тебе только-только заморить червячка, но хоть желудок не расстроишь. Она достала сверток с маслинами, сыром, солеными сардинами и сушеным инжиром. Накануне она купила в Ренкёе помидоры, и еще оставалось немного домашнего печенья. — Пир горой! — ликовал Генри. — Придется назначить тебя волшебницей. В эту минуту над ними навис великан. Он снял феску, низко склонил голову и смущенно заговорил: — Хозяин, меня зовут Яннакис. Завтра придет 35 рабочих. Кто будет рассчитываться с ними? Вы сказали, что будете платить поденно. Я умею читать и писать по-турецки и по-гречески. Умею считать. Не хотите назначить меня подрядчиком и казначеем? Поражаясь, как сама кротость умудрилась заполучить столь свирепое обличье. Генри спросил: — А в чем, собственно говоря, вы видите свои обязанности? — Вы дадите мне тетрадку. Я запишу все имена, поставлю число. Человек приходит—я ставлю галочку. Докладываю вам, сколько рабочих вышло. Вечером вы даете мне столько же раз по девять пиастров. Я рассчитываюсь с каждым и ставлю вторую галочку. Так мы делали в Константинополе, на верфи. — Подрядчик и казначей в одном лице, — прикинула Софья. — Генри, мы сбережем массу времени и сил. Но Яннакис припас еще одну штуку. Он выпрямился во весь свой великолепный рост, расправил могучие плечи, вспушил монгольские усы и объявил: — Я еще умею готовить! Яннакис решительно не представлял, чего ради Шлиманы привязались к этому холму, но в отличие от своих земляков не считал их «палавос». помешанными. На следующее утро к половине шестого Яннакис привел из Ренкёя 35 рабочих, не устоявших перед соблазном уже вечером получить наличными. Софья захватила из дому разлинованную тетрадь, перо и чернила. Сдернув с головы феску и низко склонившись. Яннакис принял атрибуты своего нового достоинства, выдавил слова благодарности и быстро переписал в тетрадь всех пришедших с ним. Через минуту, размахивая киркой, он с проворством горного козла уже лез вверх по склону. Впереди него рабочие прорубали кусты, валили деревья. Генри решил вывести к плато холма — это значило пройти шестьдесят ярдов — неглубокую, в один-два фута, траншею. Когда, по его расчетам, они встали над троянскими бастионами, он сказал: — Вот здесь пойдем вглубь. Худо было то, что на тридцать пять рабочих, муравьями усеявших склон, было совершенно недостаточно восьми тачек и полдюжины кирок и лопат. Генри определил пятнадцать рабочих относить землю в корзинах, но спуск занимал много времени: по обе стороны траншеи тянулись густые заросли кустарника, колючей ежевики, люди спотыкались об огромные камни, путались ногами в низких ветвях. — Может, сразу вырубить всю эту чащу по сторонам траншеи? — Не стоит: когда мы углубимся ниже шести футов, будет слишком хлопотно поднимать корзины на веревках. Лучше катить тачки по траншее под уклон и в конце раскопа сбрасывать землю вниз. В девять часов, когда объявили перерыв на завтрак, явился Георгий Саркис. Ночевал он в Хыблаке и, понятное дело, вид имел невыспавшийся. Это был мелкорослый человек с болезненного цвета кожей и темными глазищами в пол-лица. В руках он держал тетрадь—такую же, как у Яннакиса: здесь ежедневно будут записываться находки Шлиманов, дабы Оттоманский музей сполна получил свою половину. — Не повезло человеку, — посочувствовал Генри. — Сняли с теплого, обжитого места в Чанаккале и сослали в богом забытую дыру. — Да, вид у него скверный. Он словно не может разделаться с одной-единственной мыслью: «Я армянин, а называюсь турецким чиновником, я наблюдаю за немецко-русско-американским господином и какой-то греческой девицей, а они занимаются совершенной ерундой. Какой во всем этом смысл?!» Поскольку находок пока не было, Саркис не стал стоять над душой и отправился побродить вокруг. Хождение было бесцельное, но не без смысла: когда человек движется, а не стоит истуканом, вроде и время идет быстрее. Справившись раз-другой по массивным золотым часам Генри, Софья установила, что к траншее их страж возвращается примерно каждые полчаса. — Мне кажется, он не будет нам особенно докучать, — успокоила она Генри. — У него одна забота на уме: скорее бы дожди выгнали нас отсюда. — Зачем вообще нужен этот опекун? Что я здесь найду? — каменные дворцы, храм, башни, ну, крепостные стены… Не собирается же в самом деле великий визирь волочить отсюда в Константинополь эти каменные глыбы! — Не дай бог! — невесело усмехнулась Софья. — Согласно фирману, ты обязан возместить все дорожные расходы. Генри даже крякнул с досады. — Ну, не дурак ли я? Ведь сам же перевел тебе эту фразу — что бы вдуматься?! — Успокойся: ты объяснил мне, что каменные стены остаются in situ [16]. К концу дня они были вознаграждены первой находкой. Софья стояла у верхнего края раскопа. Рабочий бросил в наполнившуюся корзину последнюю лопату, и Софья увидела, как что-то блеснуло в комьях грунта. Землекоп подал корзину наверх, носильщики подхватили ее и засеменили вниз. Софья на ходу поворошила землю сверху и выхватила пяток монет. Поковыряв многовековую грязь, она увидела, что они медные или бронзовые. — Наш первый клад! — вскричала она, счастливая и гордая собою. Генри стоял неподалеку, отдавая землекопам распоряжение рыть глубже—до шести футов — и выдерживать эту глубину, продвигаясь к вершине холма. Услышав, что его зовут, он поспешил к пьяной от волнения Софье. — Что с тобой, Софидион? У тебя такой вид, словно ты нашла Трою. — С этой минуты я археолог! После вручения диплома в Арсакейоне не переживала ничего подобного. И она высыпала ему на ладонь монеты. Генри ногтем поколупал одну-другую, потом протер все монеты мокрой тряпочкой. На первой была изображена Афина в шлеме с тройным гребнем; на другом бронзовом кругляше была волчица, кормящая Ромула и Рема; была монета с Аполлоном в длинном хитоне, в руке бог держал лиру; еще на одной изображался, похоже, Гектор в полном боевом снаряжении. Такие монеты Софья видела в музеях Неаполя и Рима, в Афинской библиотеке. Генри часами держал ее перед нумизматическими стендами, учил определять возраст и ареал распространения монеты, отлита она в форме или отчеканена вручную. И хотя ее ногам сильно досталось в ту пору, сейчас она была благодарна ему за науку. — Генри, эти две я узнала. Этот Аполлон, он из Нового Илиона? Из греческого города, что стоял на этом месте уже в христианскую эпоху? — Верно. Эта, с Афиной, тоже греческая монета, видимо, из Александрии Троадской. Город стоял милях в пятидесяти отсюда, на юге, его построил полководец Александра Антигон. — А Рем и Ромул как забрели сюда? — Очень просто. Римляне основали город Сигей, я показывал тебе место, когда мы объезжали Троянскую равнину. Завоевав очередную провинцию, римляне привозили и свои монеты или. во всяком случае, штемпеля для их чеканки. — А когда мы найдем троянские монеты, мы сумеем определить их денежную стоимость? — Относительно. У Гомера и троянцы, и ахеяне знают только меновую торговлю. Пленную деву, например, оценивали в четыре вола. Софья в раздумье наморщила лоб. — У ахейцев были золотые таланты… — И не только! Когда на поминках но своему другу Патроклу Ахилл устроил игры, он выдал победителю в состязании колесниц золотой треножник, самому быстрому бегуну — «сребряный пышный сосуд», «кубок двоедонный»— побежденному в кулачном бою, а лучникам вынес «темное железо: десять секир двуострых и десять простых». О богатстве же троянцев доподлинно известно. Обнимая колени Менелая, побежденный Адраст молит его:В песне «Выкуп Гектора» Приам идет
— Генри, можно я оставлю себе эти монеты на память? А Саркису отдадим такие же, когда еще найдем. — Разумеется. Только не забудь записать точное место и глубину, где они лежали, потом запечатай в конверт и надпиши число и месяц. Генри подарил Яннакису пояс с кармашками для денег, купленный еще в Константинополе. К концу рабочего дня он выдавал ему необходимую кассу. По прошествии нескольких дней Яннакис сказал: — Хозяин, завтра может прийти больше народу. Сколько мне взять? — Если стоящих, то сколько угодно. Яннакис, хоть восемь-десять человек. Наша главная задача — расчистить весь этот мусор. — Я несколько раз проверяла выплаты но книге, — сказала Софья за ужином. — Все сходится до единого пиастра. А вчера, ты знаешь, он собрал все наше белье, получилась огромная корзина, и унес домой стирать. — Не человек, а находка, — согласился Генри. — С завтрашнего дня я буду платить ему тридцать пиастров. Здесь это сказочные деньги. И назначу его десятником. Но от этой чести Яннакис наотрез отказался: — Хозяин, я сроду никому не приказывал. Это же все мои братья. сестры и друзья. Мы работаем вместе. Нет, я не могу Жены у меня нет, детей тоже — не умею я заставить других слушаться. Генри по-прежнему вставал в четыре и ехал к морю купаться. Софья упросила не поднимать ее с постели в такую рань. Но уже в пять его ждал кофе, были отмерены четыре грана хинина и готов сверток с их обедом. После работы она брала большой таз, вставала в него и мылась в их второй комнате наверху. Здесь они устроили что-то вроде рабочей комнаты: поставили грубый стол, Генри навесил полки, растащив по дощечке навес над необожженным кирпичом в Хыблаке. Засиживаясь допоздна, они писали письма, отчеты за день: насколько продвинулись, сколько народу работало, сколько пиастров выплачено. Чтобы перебить миазматический аромат птичьего двора под их окнами, Софья каждый вечер опрыскивала одеколоном подушки. Но прежде совершался обязательный ритуал уничтожения наползших за день клопов: с обеих сторон умащивался маслом матрац, пропитывался медицинским спиртом. И еще долго после этого она не решалась постелить чистые простыни и одеяла. Стряпня госпожи Драма in их не соблазняла. Кухня с земляным полом и открытым очагом была, пожалуй, даже чистой, но в нос шибал такой пронзительный запах скотного двора, что кусок не шел в горло. Ужинали они в своей рабочей комнате. В деревне была жалкая лавчонка, брать там было решительно нечего. Софья держалась только на свежих фруктах и помидорах, на хлебе и сыре, которые каждое утро Яннакис приносил из дому. Иногда удавалось раздобыть цыпленка или барашка. Он изжаривал их на вертеле во дворе у Драмали и еще горячими приносил на место работы. В такие дни они гурманствовали. Софья худела, возвращалась к девичьей форме. А Генри сохранял обычную поджарость. «Не от еды он крутится по восемнадцати часов подряд, — рассуждала она. — В нем, как в часах, вставлена пружина». Когда глубина траншеи перевалила за шесть футов. Генри натолкнулся на римскую стену, перекрытую огромным валуном. — Почему ты так уверенно датируешь эту стену? — спросила Софья. — Потому что камни скреплены цементным раствором. Мы не будем здесь задерживаться. Вгрызаясь в склон холма, траншея неуклонно ползла вперед, к вершине. Каждый день Яннакис приводил новых людей, и скоро Гиссарлык стал похож на муравейник: восемьдесят человек сновали по его северному склону. Инструментов не хватало. Кончилась первая неделя, когда однажды Генри взволнованно подозвал Софью к себе. Он наткнулся на развалины строений, сложенных из отесанных камней, причем кое-где без скрепляющего раствора. Его радости не было границ. Эго могли быть развалины храма Афины! А если так. то под ним может скрываться уже троянский храм. Но как нодстутлъся к этим колоссальным глыбам? — Видно, придется их отрыть и куда-то деть, — вздохнул Генри. — Они нам мешают. — Сами по себе они ничем не интересны? — Сравнительно молодая кладка… Какая глупость, что я не взял железных ваг! Придется вытаскивать их вручную. Землекопы обнажили основание каменной кладки. Яннакис пригнал из Хыблака волов. Камень опутывали веревками, и понукаемые волы, потоптавшись, вырывали его из земли. Затем веревки снимали и громада застывала перед низвержением в долину. Вот она качнулась, и все восемьдесят человек, побросав лопаты и кирки, с визгом устремились к обрыву, покрывая восторженными восклицаниями и смехом громоподобный гул камня, прыгающего по склону, как мячик, сминая кусты и деревья. Непредусмотренные перерывы в работе всегда огорчали Генри. — Добро бы это был поединок Менелая с Парисом! — хмуро бросил он Софье. Но союзницы в ней не нашел. — Им все едино. Мы, к примеру, тоже не прочь поглазеть на смену караула перед афинским дворцом. Та же история повторилась со вторым камнем, и к третьему взрыву ликования Генри уже подготовился: он вынул часы. Выяснилось, что двенадцать минут работа стояла на месте. — Теперь помножь двенадцать на восемьдесят—это почти тысяча минут простоя. На каждом камне мы теряем 16 рабочих часов. Мне не денег жалко, а времени. Я намерен прекратить это веселье, иначе мы не доберемся до материка — нас захватят дожди. Софья промолчала. Генри отдал строгое распоряжение: рабочее место оставлять только в положенное время — на отдых и обед. Рабочие согласно кивали головами, но каждый раз срывались с места, когда сбрасывался очередной валун, и сломить их глухую солидарность было невозможно.
4
На заболоченном пространстве между морем и Гиссарлыком и Хыблаком миллионами водились лягушки. Жаркое лето высушило болота, и к концу сентября трупы лягушек разложились под солнцем. В Троаде считали, что это и есть причина обычной здесь малярии. Генри знал о малярии по прежним наездам и потому запасся в Константинополе хинином. В конце первой недели их пребывания свалилась в приступе малярии семнадцатилетняя хозяйская дочь. Генри и Софья в сумерках возвращались после работы. У порога их караулила госпожа Драмали. — Дочка захворала, — кинулась она к Генри. — Отравилась болотным ядом. Помогите, если можете. — Попробую. Принеси, — повернулся он к Софье, — наш термометр и медицинскую сумку. Девушка лежала в единственной хозяйской спальне под грудой одеял и теплой одежды. Софья померила температуру: 102 градуса [17]. — Дадим ей шестнадцать гран хинина, — заключил Генри. — В Никарагуа меня трепала болотная лихорадка. Я уже был одной ногой в могиле, но поблизости оказался немец-врач и в один прием скормил мне шестьдесят четыре грана. Выкарабкался! Но для девушки такая доза может быть опасной. Он попросил принести стакан воды, и девушка запила целительную горечь. — Столько же дадим завтра утром и вечером и послезавтра с утра. Как выяснилось, хинин — чудодейственное средство при малярии. Через несколько дней девица уже носилась по всему дому. Так началась медицинская карьера доктора Шлимана. Каждое утро его пробуждения ожидало несколько страждущих из Хыблака, Кумкале или Енишахира. В Троаде днем с огнем не сыскать врача или фельдшера, и Генри с Софьей поневоле стали чем-то вроде неотложной помощи. Они приезжают на Гиссарлык —их тотчас обступают болящие, среди них женщины и дети. Генри каждому назначал четырехразовое лечение хинином, а Софья следила за аккуратным исполнением его предписаний. После четвертого приема пациенты поправлялись. — Доктор Шлиман, поздравляю: вы не потеряли ни одного больного! — Спасибо, сестра, но у меня кончается хинин. Напиши-ка в Константинополь, в английскую аптеку. Со всей округи потянулись люди с нарывами, ранами и ушибами. Вечером двор перед домом Драмали превращался в полевой лазарет: Софья кипятила воду в большом чане, промывала раны, Генри смазывал мазью, Софья накладывала повязку. И никто из пользуемых не приходил вторично. — Все-таки интересно знать, — задумывался Генри, — спасли мы их или угробили? Прошло время, и крестьяне повели к нему больной скот— верблюдов, лошадей, ослов, овец. — Теперь я еще и ветеринар, — брюзжал Генри. — Что я в этом понимаю?! — У нас есть настойка арники. — Это наружное средство. — Ты и лечи наружные болезни, а господь позаботится о внутренних. — А вот для арабов даже такое разделение обязанностей немыслимо. Я как-то на базаре видел верблюда, у него рекою хлестала из носу кровь. Сделал выговор хозяину, а тот смиренно улыбнулся и говорит: «На то воля аллаха!» Если верить Яннакису. многие животные благополучно поправлялись. — Заметь, Софидион: никто не пришел нас поблагодарить — ни за себя, ни за свою скотину! Я прихожу к мысли, что благодарность не в характере современных троянцев. — Будь доволен хотя бы тем, что в Троаде тебя считают волшебником. В будущем году нам будет легче работать. Время от времени они находили монеты, похожие на памятные медали в честь занявших престол царей и императоров. Вечером Софья забирала их домой, очищала от грязи, раскладывала в конверты с проставленной датой. Каждый день приносил новые находки. Траншея была уже больше шести футов в глубину и на шестьдесят футов протянулась вперед, к вершине холма. Вдруг в невероятном количестве объявились керамические кругляши — красные, желтые, серые, черные, каждый с парой «глаз», и каждый целехонький. На многих различалось что-то вроде клейма гончара. За мелкие находки отвечала Софья. Выждав, пока Генри запишет глубину и место находки, она несла кругляши на сборный брезент. Там их невнимательно осматривал Георгий Саркис, охотно позволявший Софье забрать их домой для обработки. В их рабочей комнате Генри соорудил для нее специальный верстак, положив доски прямо на стопки хыблакского кирпича. Софья осторожно брала в руки трех-четырехдюймовые терракотовые предметы, отмывала их в холодной воде. Проступало изображение. — Смотри, дорогой, — теребила она Генри, уткнувшегося в дневник, — наши первые произведения искусства! Какая прекрасная птица! Лошадь гарцует. А это лани? Посмотри на эту девочку, как она ручки послушно сложила! Для чего предназначались эти вещи? Каким временем они датируются? Вооружившись лупой, Генри задумался: алтарь, над ним пчела растопырила крылышки; бык, лебедь, ребенок… — Просто не представляю, какой цели они служили. Эти две дырки в верхней части что-то должны означать… — Может, в них продевали кожаные шнурки? Чтобы носить на шее или повесить в храме, как мы вешаем в доме иконы? — То есть посвятительные приношения? Может быть… А возраст… очень они грубы, сделаны вручную, это не римские вещи. В конце концов, Египет знал гончарный круг уже за четыре тысячи лет до рождества Христова, а римляне научились у египтян всему, чему можно. — Кроме искусства возводить пирамиды! Генри одобрительно хмыкнул. — Привяжи к каждой бляхе бирку с датой. Не забудь переписать у меня место находки. Они углубились уже на тринадцать футов, когда однажды утром зарядил проливной дождь. Ясно, в такую погоду рабочие из Ренкёя не придут, и Шлиманы устроили себе домашний день. Генри составлял подробнейший отчет о находках для Греческого филологического общества в Константинополе, которое согласилось печатать в своем журнале любые его материалы; Софья сделала в дневнике записи о последних находках и села за письма домой. Греки не работали также по воскресеньям и в церковные праздники, а их было множество. «Предложи я им даже триста франков за один час работы, — записывал Генри, — как они ни бедны и как ни трудно здесь с работой, в праздники они не ударят палец о палец, при том что это может быть самый захудалый святой. У них один ответ: «Святой нас покарает!» Яннакис обрыскал всю округу и доставил двадцать пять рабочих-турков. Понаблюдав за ними день-другой, Генри сказал: — Ты знаешь, я бы с радостью предпочел их азиатским грекам: они добросовестные, а главное, работают и в воскресенье, и в эти бессчетные церковные дни. И как работают! Конечно, я буду плать им больше, чем грекам. Отныне по воскресеньям и в праздники на холме копошилось до восьмидесяти турок. И снова Яннакис обшарил всю округу — на этот раз в поисках инструментов: не хватало лопат, кирок, топоров, скребков, ломов. Генри нанял четыре арбы и восемь волов—с вынутым грунтом было уже не справиться вручную: траншея достигала в глубину двадцати футов и подтянулась вплотную к вершине холма. Рабочие были давно разбиты на группы, копали на разных участках, и Генри просто не мог всюду поспеть. Однажды, легко поужинав и уже переодевшись в ночную рубашку, он вдруг заметался по их рабочей комнате. — Что случилось, Генри? — Больше нельзя ждать! Нужно отвести от основной траншеи боковые и через них выносить грунт. Мне нужен помощник, а где его взять?! В Чанаккале?.. — Ты потратишь несколько дней на одни разъезды, а времени в обрез, скоро начнутся дожди. Может, как-нибудь пока обойдемся? А в будущем году привезем из Афин десятников… — Да… ничего не попишешь. — Он искоса взглянул на нее и тихо рассмеялся. — Есть тут у меня на примете… — Не я ли? — встревожилась Софья. — Именно ты! — Генри, ты сам знаешь, что в этих краях женщину ни во что не ставят. И потом, кто меня станет слушать, я же им в дочери гожусь!.. — Ну, что-нибудь придумаешь. Она с сомнением покачала головой. Генри решил повести боковые траншеи под прямым углом в обе стороны от основной. Наутро он сделал необходимую разметку, отобрал по десять землекопов на каждую траншею и объявил: — Распоряжаться вами будет госпожа Шлиман. Она женщина образованная, посвящена во все мои планы. Всем ее распоряжениям оказывайте такое же уважение, как моим собственным. Нарушителей я немедля уволю. Ответом было угрюмое молчание. Какое унижение! Как они посмотрят в глаза другим рабочим и просто соседям в деревне, когда станет известно, что ими помыкает баба?! Их засмеют, им в собственном доме не будет жизни. Софья сочувствовала им от всей души: ей ли не знать, как щепетильно самолюбивы ее соплеменники! А потерять их никак нельзя: они позарез нужны Генри. И самое лучшее, решила она, не мозолить им глаза, а что-то делать самой, что угодно, но не стоять без дела. Она взяла лопату, с силой уперлась в нее ногой и стала снимать пласт вдоль отметки. Она ни слова не сказала своим рабочим, даже не глядела в их сторону. А те разбились на кучки, достали самосад и задымили. Софья копала, лопату за лопатой выбрасывая землю вниз по склону. Постепенно напряженная атмосфера разрядилась. Один за другим рабочие разобрали лопаты и подстроились к ней, но копали вяло и неохотно. «Ладно, — думала она. — Пусть подуются. Сегодня я им ничего не скажу. Обойдется». Возвращаясь вечером в Хыблак, Генри буквально рвал и метал: работали спустя рукава! — Завтра я С ними потолкую! — Ни в коем случае, Генри! Я сама должна перебороть их, причем так, чтобы они слушались меня в охотку. Дай мне самой справиться. На следующее утро уже то было хорошо, что все явились. Она приветливо и одновременно сдержанно поздоровалась с ними. Они все так же с прохладцей помахивали кирками, не спеша относили наполненные корзины. Софья словно ничего не замечала. После часа такой работы странно было увидеть красное, мокрое от пота лицо. Софья потрогала у рабочего лоб: жар. Посоветовавшись с Генри, она сказала Яннакису: — Посади его на мула. Отвезем его в Хыблак. Драмали без особой радости следили за тем, как Яннакис волочил на второй этаж больного человека, но отказать доктору Шлиману. передавал потом Яннакис их слова, «не посмели, потому что он выходил нашу дочь». На полу рабочей комнаты Яннакис соорудил постель. Софья отмерила шестнадцать гран хинина и поднесла к пересохшим губам чашку с водой. Ночью она дала рабочему вторую дозу, на рассвете еще одну. Днем выздоравливающий сам прибрел к ним, а вечером вместе с товарищами отправился домой. Утром следующего дня обе бригады быстро разобрали кирки и лопаты — и закипела работа. К концу октября жить в Хыблаке стало непереносимо трудно. Зарядили дожди. Дороги раскисли, превратились в непроходимую грязь. Во дворе перед домом жалась скотина. Возвращаясь в сумерках с работы, они непременно попадали ногой в какой-нибудь гостинец, в спальне было не продохнуть от запахов из окна. Кирпичные стены не защищали от холода, изнутри отсырели, по ним бежали струйки воды, на разбухшем деревянном полу стояли лужи. Их верхняя одежда истрепалась и по-настоящему никогда не просыхала. Не чувствуя под собой ног, они ложились в постель и на четыре-пять часов проваливались в сон. Как они вынесли такой быт вместе с изматывающей работой днем?.. А работа с каждым днем набирала теми. Редкий день на холме работало менее восьмидесяти рабочих. У Генри определенно была инженерная жилка, но успех перехватили рабочие Софьи: вблизи главной траншеи они отрыли горшки, ради которых только и стоило огород городить, небольшие глиняные сосуды грубой работы — и битые, и совсем целые. Несомненно, это была кухонная посуда. Целые горшки Софья сразу от греха обернула мешковиной, пронумеровала и зафиксировала место находки. Непонятно, что делать с черепками: они лежали грудой и явно принадлежали одному хозяйству, но собрать их в целое, казалось, было невозможно. — Собери их все до единого, — велел Генри, — отмой и выложи на верстак, а потом будем не спеша подгонять куски и склеим те, которые подойдут. Они засиделись до глубокой ночи, отмывая горшки и составляя их опись; потом осторожно отмыли черепки и разложили их на верстаке. — Соберем, когда дожди запрут нас дома, — предложил Генри, — а может, уже в Афинах: там будет гипс под рукой, чтобы восстановить недостающие куски. Еще надо будет сварить мездровый или рыбий клей. Софья расстраивалась, что на керамике нет орнамента. — Простая утварь, никакой заботы о красоте, — вздохнула она. — Как же мы определим возраст этой безликой глины? — Ясно, очень древний возраст. Обидно другое: я еще ни разу не нашел на дне окаменевших остатков пищи. Все пожрало время. — Неужели возможно, чтобы продукты сохранились? — Посмотрим… Следующие находки озадачивали даже больше, чем «приношения»— глиняные «волчки»! Они имели форму конуса, вулкана, полусферы примерно дюймовой толщины, и у всех посередине была дырка, вокруг которой симметрично располагался линейный орнамент. Выставив их в ряд, Софья подозвала Генри: — Смотри: ни птиц, ни зверей, ничего—только линии и штрихи, а ведь те бляшки лежали немногим выше! Как ты думаешь, эти «волчки» — они принадлежат уже другой культуре? Генри повертел вещицу, вгляделся в рисунок. — Эта «свастика» встречается и в индийском искусстве, и в китайском. Да, «волчки» и бляшки принадлежат разным эпохам. Вопрос — какая из них более ранняя? Какое искусство старше: линейный орнамент или воспроизведение реальных образов? Посоветуемся с университетскими профессорами в Афинах. Они разберутся. На глубине ниже двадцати футов открылись обгоревшие руины домов, стоявших как бы на голове друг у друга. Софья и представить себе не могла ничего подобного: она была в городе, а вернее, сразу в нескольких городах, располагавшихся слоями: люди рождались здесь, росли, обзаводились семьями и хозяйством— век за веком. Ей попалось несколько круглых позвонков из спинного хребта какого-то огромного зверя, а может быть. рыбы. — Акульи позвонки, — определил Генри. — Из них делают мужские трости. Похоже, что в стародавние времена в Эгейском море водились акулы. — А ты еще так неосторожно купаешься! — Да там давным-давно нет никаких акул! — развеселился Генри. — Уже в гомеровское время их не было. — Каким же образом акулы поднялись на добрую сотню футов выше уровня моря?! Может, они сохранились от тех времен, когда на всей земле не было ни клочка суши?! — Может быть… Она стояла в траншее, по колени уменьшившись в росте; волосы собраны в высокий пучок и от пыли покрыты турецким платком. Он ласково улыбнулся ей сверху. — А может быть, другое: туши акул разделывали на берегу и зажаривази на огне. Обычно акулье мясо не употребляют в пищу, но с голоду чего не съешь… А сюда приносили их кости, делали из них всякие инструменты, оружие. Они выстояли в огне. Посмотри на эти обгоревшие остатки домов, на стене траншеи хорошо видны несколько слоев. Такое впечатление, что на этой глубине все постройки были уничтожены огнем. Мне кажется, каменных городов мы найдем три-четыре, не больше. Все прочие были деревянные, с камышовыми и соломенными крышами. Одной искры было достаточно, чтобы город сгорел дотла, чтобы все обратилось в прах, в пепел. Вот эти пласты золы, — он показал рукой, — позволяют представить такую картину: дождавшись, когда остынут уголья, люди возвращались на пожарище, разравнивали его, насыпали слой свежей земли и отстраивали город заново. Обычно они успевали запастись пищей, захватить инструменты и ритуальные предметы и переждать пожар у Скамандра. Конечно, это была беда, но беда поправимая: леса кругом сколько угодно — хоть стройся, хоть топи очаг. И за несколько дней они вполне отстраивали себе новый кров. На следующий день они отрыли россыпи раковин мидий и устриц. — Сразу видно—сородичи, — лукаво блеснула она глазами, — тоже любили дары моря! Согласно Гомеру, они тоже пекли пшеничный хлеб, сажали ячмень. Остается лишь найти кости животных, и мы узнаем, какое мясо они ели. — Мы знаем это из «Илиады»: они жарили на вертеле баранов, быков, гусей, телят, охотники добывали кабанов, ланей, зайцев… В общем, стол у наших предков был разнообразный. Каждый день приносил ошеломляющие открытия. В развалинах большого строения, отрытого ближе к вершине холма на глубине всего пяти футов, они обнаружили три мраморные плиты от пятнадцати до двадцати пяти дюймов в длину с довольно пространными надписями, выбитыми резцом. Плеснув водой, они внимательно вгляделись в буквы. Генри заметно побледнел. — Софья, как я надеялся найти следы письменности! Ведь такому открытию цены нет! Особенно если это храмовая надпись. Разобрав некоторые слова, Софья участливо погладила его по руке. — Нет, милый, это древнегреческий язык, и вряд ли плита из храма. Видишь, какие здесь слова? Совет, гражданин, налоги, право на владение землей… — Да, вижу. — Он взглянул на нее потухшими глазами. — Значит, она из какого-нибудь здания заседаний совета. — Саркис идет. Он видел, как мы отрыли плиты. Скажи, что мы их отмоем и вечером попробуем перевести текст. Саркис разрешил забрать плиты домой: он придет взглянуть на них утром. Софья и Генри были слишком возбуждены, чтобы возиться с ужином, и наскоро закусили фруктами и медом. Яннакис на арбе привез плиты и внес к ним наверх. Чтобы расчистить все надписи, пришлось немало потрудиться жесткой щеткой. — Займись этой большой — раз ты уже разобрала некоторые слова, — предложил Генри, — а я вспомню уроки Вимпоса и поломаю голову над двумя другими. К часу ночи, не ручаясь за абсолютную точность перевода, она положила перед Генри такой текст: «Поскольку Диафен Поллеос Тимнит в присутствии царя убедительно выказывает благородную чистоту помыслов и готовность всякому оказать необходимые услуги, царь определяет Совету и народу вынести вечную благодарность сборщику податей Тимниту и считать его в числе своих граждан. Его права пусть будут записаны на этой плите и выставлены…» С грехом пополам разобрался со своими плитами и Генри, там речь шла примерно о том же: определялись гражданские и имущественные права поименованных лиц. Когда утром Генри вернулся с купания, Саркис уже ждал его во дворе. Генри провел наверх их молчаливого надзирателя, даже не пытавшегося скрыть свое безразличие к находке. Софья подала кофе. Генри по-турецки разъяснил Саркису содержание всех трех надписей, причем Софья отметила, что ни одной он не выказал предпочтение. Естественно, Саркис отобрал две плиты поменьше, оставив Шлиманам ту, на которой текст был полнее и в лучшей сохранности. Проводив Саркиса, она лукаво заметила мужу: — Мне кажется, ты обвел нашего господина Саркиса вокруг пальца — или я ошибаюсь? — Немножко сплутовал, — озорно улыбнулся он в ответ. — Американцу редко удается обмануть армянина. Грех упустить такой случай. Свою первую статью Генри напечатал в константинопольском «Журнале греческого филологического общества», это было почти дословное воспроизведение его ежедневных записей в дневнике. Статью хорошо приняли. Второй отчет он послал в Афины, в редакцию «Полемических листов», также надеясь на хороший прием. — А я в нем не сомневаюсь, — объявила Софья, завершая угренний туалет. — Ведь ты рассказываешь о наших находках, даешь их научное описание, анализируешь место находки. Ты не ввязываешься в споры о местонахождении Трои… — Потому что я совершенно определенно заявил: Троя — здесь. Открыли римский колодец, и Генри решил немного покопаться в нем. Выбрали рабочего полегче, обвязали его веревкой и спустили в колодец. Ничего интересного в поднятом материале не оказалось. Генри свесился над краем колодца. — На какую глубину, ты думаешь, он уходит? — К черту в ад, — пришел глухой ответ. — Тогда обвязывайся и выбирайся. В преисподней нам еще нечего делать. Назавтра было воскресенье — греки, понятно, на работу не выйдут. Турки тоже подвели: начался озимый сев. — Софья, мы здесь уже больше месяца. Давай приведем в порядок наши записи и навестим Фредерика Калверта, это около Бунарбаши. Он приглашал в любое воскресенье. Ему доставит удовольствие доказать тебе, что именно его дом стоит на руинах Трои. Софья радостно захлопала в ладоши. — Хоть день поживем, как нормальные люди! Приму ванну, надену хорошее платье. Только, знаешь, сначала я перечту письма из дома. Когда я читаю про Андромаху, я словно вижу ее, и мне спокойнее. Ее полные губы дрожали от радостного нетерпения; на твердый подбородок опирался хрупкий и стройный овал ее лица, деленный прямым, орлиным носом; расчесанные на прямой пробор мягкие темные волосы были уложены за уши. Генри поглядел на жену и, по обыкновению, остался доволен. После ванны она надела малиновую блузку и зеленый шерстяной костюм; золотые пуговицы ручейком сбегали по жакету. — Загадочный ты человек, Софидион! В Париже тебя окружали роскошь и самое изысканное общество, а ты хандрила и то и дело прихварывала. Здесь же, в немыслимых условиях, работая весь день не разгибая спины, ты как огурчик! Она широко улыбнулась ему в ответ. — Нет, вы посмотрите на нее! — ликовал Генри. — И ест на ходу, и недосыпает, а прекрасна, как Афродита Праксителя! Плиний считал ее лучшим творением скульптора и вообще чудом света. Воздвигнутая под открытым небом, она была видна со всех сторон и отовсюду была прекрасна. Лукиан вспоминал мягкую улыбку, игравшую на ее полураскрытых губах, и влажный, блестящий взгляд радостных глаз [18]. — Потому что я счастлива, Эррикаки. Это было тайное, сокровенное имя, и он залился счастливым румянцем.5
Был свежий осенний день. В прозрачном воздухе было видно на многие мили в обе стороны—до самых гор и далеко в море. Снежные гряды облаков, облепив Иду, сползали к северу. Но наезженному арбами проселку Софья и Генри выбрались на главную дорогу и свернули на юг. Через пять миль будет Фимбра [19], где в начале 60-х годов Фредерик Калверт и его состоятельная супруга выстроили себе двухэтажный особняк. Уже шестнадцатый год Фредерик Калверт был британским генеральным консулом в Дарданеллах. Похоже, суровый приговор, вынесенный на родине его брату Фрэнку, на карьере Фредерика Калверта никак не отразился. К дому вела длинная аллея, обсаженная соснами и живой изгородью из желтых цветов. Конюх принял их лошадей, и дворецкий провел гостей в двойные золоченые двери. Одетые к воскресному обеду. Калверты выглядели так, словно только что вернулись со службы в Кентерберийском соборе. Фредерик был старше Фрэнка, полнее, с красным отечным лицом в обрамлении длинных бакенбард, с водянисто-голубыми глазами. Весьма почтенного возраста была и его среброголовая супруга в платье из набивного английского шелка. Хозяева встретили Шлиманов сердечно, провели на балкон с ажурной оградой. Потягивая аперитив, они любовались масличными рощицами, собственноручно насаженными миссис Калверт, соорудившей даже римский акведук для сбора горной воды. В обшитой деревянными панелями столовой их попотчевали типично английским обедом: перловый суп, ростбиф с кровью, йоркширский пудинг, зеленый горошек, бисквиты, белое и красное вино. Софья порадовалась про себя, что брала английские уроки, поскольку Калверты других языков не знали. Разговор за столом был самый непринужденный: вспоминали Лондон, Париж, говорили об Афинах — Калверты обожали Афины. Было выражено и лестное изумление тем, как стойко переносят Шлиманы адскую жизнь в Хыблаке у Драмали и как их еще хватает на каторжную работу на Гиссарлыке. Миссис Калверт поинтересовалась, как они устраиваются с питанием. — Неважно устраиваемся, — призналась Софья. — В будущем году вы собираетесь вести раскопки шесть-восемь месяцев? — Муж полагает, что никак не меньше. — На такой срок вы, конечно, возьмете с собой повара? — Мистер Шлиман хочет весной построить домик вблизи нашего раскопа и кухню с кладовой в пристройке. Мы. наверное, привезем повара из Афин, а может, приспособим нашего казначея Яннакиса. — Он англичанин? — Нет, турецкий грек. С виду разбойник, а не обидит и мухи. Он наш кормилец, из-под земли достанет и фрукты, и зайца, и барашка. Какими обедами он угощает нас по воскресеньям! Когда он затевает стряпню греческих блюд, он буквально выкуривает Драмали из их собственного дома. В гостиной за ликером Фредерик Калверт поинтересовался их находками. Генри рассказал о колоссальных камнях в обнаруженном фундаменте, о монетах, медалях и терракотовых предметах культа, подробно описал орнаменты и изображения на горшках, упомянул об акульих позвонках. Калверт выслушал его с добродушной терпеливостью. — Ну. пока ничего особенного. — И. повернувшись к Софье, с улыбкой добавил: — Я восхищаюсь вашим мужем, миссис Шлиман, но вы-то, надеюсь, понимаете, что он абсолютно заблуждается относительно Трои? — В каком смысле заблуждается, мистер Калверт? — Да в том, что Троя здесь, на этом самом месте! Идемте, я подберу вам прогулочную обувь и представлю все доказательства из «Илиады». Генри подмигнул ей и поднялся с кресла. — Отлично. Ты же хотела увидеть Вунарбаши, а лучшего экскурсовода, чем Фредерик Калверт, трудно пожелать. Конюх подкатил к дому семейный экипаж. Миновав болото, образовавшееся на месте засорившихся источников, они въехали в древнее поселение Фимбру. Несколько лет назад Фрэнк Калверт обнаружил здесь остатки храма Аполлона и несколько ценных надписей. Обогнув Троаду с юга, конюх взял вправо, и вскоре следы крепостного вала возвестили им еще об одном древнем городе. По склону холма были разбросаны глиняные черепки. Сойдя с экипажа, Калверт с низким поклоном объявил: — Мадам Шлиман. разрешите приветствовать вас в древней Трое! — Я в восторге, мистер Калверт, но в это трудно поверить. — А я представлю вам доказательства. Соблаговолите немного пройти со мной. Вот! Вот два источника, в которых троянские жены стирали свои «блестящие одежды», — этот холодный, а тот горячий. Можете убедиться. Она попробовала рукой воду в обоих источниках и особой разницы не обнаружила. Калверт пошел дальше, а Генри шепнул ей. — Вообще-то здесь еще сорок два источника — что. интересно, он думает о них? Калверт обратил к ней победно одушевленное лицо. — Вы, разумеется, знаете, что мою позицию разделяют два крупнейших в мире авторитета? Во-первых, Деметрий из Скепсиса, он прямо утверждал, что Троя была на месте Бунарбаши. Во-вторых, Страбон, назвавший Бунарбаши «градом троянцев». — Страбон никогда не был здесь, — бубнил ей в ухо Генри. — зато Александр Великий посвятил Афине Троянской свое оружие, а это было здесь, на нашем Гиссарлыке. И там же Ксеркс в четыреста восьмидесятом году до рождества Христова принес в жертву Афине тысячу быков. Так говорит Геродот. В конце концов самоуверенность Калверта, видевшего в каждой местной достопримечательности неопровержимое доказательство в пользу Трои, вывела Генри из себя. — А что вы скажете о расстоянии до ахейского стана на Сигейском мысу? — взорвался он. — Ведь отсюда до Дарданелл добрых восемь миль! Чтобы только прошагать отсюда до Геллеспонта и вернуться — и то ахейским дружинам потребуется целый день, а ведь они еще сражались! Гомер же специально оговаривает, что ахейцы дважды в течение дня приходили от кораблей под стены Трои и, приняв бой, опять возвращались. Извольте объяснить. — Извольте! — безмятежно отозвался тот. — Отсюда до Геллеспонта—наносная земля. Вся эта равнина возникла благодаря разливам старика Скамандра. Во времена Трои Геллеспонт и соответственно ахейский стан были отсюда в трех милях. Генри промолчал. Он не раз и не два толковал об этом со специалистами-географами: никакой намывной земли между Бунарбаши (или калвертовской «Троей») и Геллеспонтом не было и нет. — Это все та же равнина, что и во времена Троянской войны, — объяснял он ей на обратном пути, — воды Геллеспонта никогда ее не заливали. Иначе почему в Троаде такие глубокие водоемы? Этого не бывает на аллювиальных образованиях. Но кого-то теории Фредерика Калверта еще убеждают. Их и вообще по пальцам можно пересчитать, сторонников существования Трои, и почти каждый верит Деметрию и Страбону и держится за Бунарбаши. Только нас господь уберег от ошибок и заблуждений, которыми буквально кишат исторические источники. Они возвращались к себе уже в сумерках: отпуская их на муки в Хыблак, Калверты настояли, чтобы они выпили на дорогу «настоящего английского чая с гренками и вареньем». Взяв поводья в правую руку, Софья левой дотянулась до его локтя и пожала его. — Генри, меня не нужно переубеждать. Хорошо, что ты взял меня в Бунарбаши, хотя выслушивать рассуждения Фредерика Калверта тебе было и не очень приятно. — Еще бы! Но сейчас я вспоминаю тот ростбиф и йоркширский пудинг. Ради них стоило съездить, правда? В понедельник 30 октября рабочие подвели траншею к вершине холма, поднявшись от основания на сотню с небольшим футов. Глубина траншеи на всем протяжении была пятнадцать футов. Здесь, на самом гребне, Генри ожидал открыть благородные руины Трои. К великому его изумлению, рабочие во множестве извлекали каменные наконечники копий, каменные молотки и топоры, гранитные грузила, зернотерки из скальной породы, кремневые ножи и скребки, костяные иголки и шилья: примитивные терракотовые ладьи, похожие на соусницы, точильные камни из зеленого и черного сланца. Попадались грубые горшки. У верхнего края траншеи Софья расстелила брезент и складывала на него находки: рабочие подносили их сотнями. При виде растущей груды каменных предметов Генри оцепенел и нервно задергал левой щекой. — Ничего не понимаю! — вскричал он. — Почему в этом слое каменные орудия?! И наряду с этим — предметы, которыми, казалось бы, пользовались люди каменного века, неспособные их изготовить? Почему мы находим кабаньи клыки, когда ясно, что в каменном веке не было острого оружия, могущего убить кабана? Столь же беспомощная перед этими вопросами, Софья попыталась как могла успокоить его: — Давай заберем все это вечером с собой. Яннакис довезет на муле. Все отмоем, рассортируем, подробно опишем… — Да уж это как водится! — бушевал Генри. — А еще я честно распишусь в собственном невежестве: что ничего не понимаю, что моя теория подвела меня. Башня, крепостная стена, дворец Приама, дом Гектора — ничего этого здесь нет! — Теория — это рабочий инструмент, не больше. Если инструмент плохо помогает тебе, смени его. — Это, надо думать, греческая пословица? — осклабился он. Глубокой ночью он мерил шагами комнату, без конца брал в руки отмытые ножи, топоры, скребки, наконечники копий, зернотерку, внимательно разглядывал их. чуть не разговаривал с ними. — Золотая Троя лежит ниже каменного века? Невозможно… Пожаловавшись на усталость, она наконец уговорила и его лечь, положила себе на плечо его разгоряченную голову и убаюкала, как Андромаху. Сама она всю ночь пролежала без сна, мучительно страдая за мужа. «Господи, неужели Генри не нашел гомеровскую Трою потому, что ее просто нет? Во всяком случае, здесь, в Гиссарлыке?» И, помотав головой, отогнала слабость: «Нет! Я должна верить!» Следующие дни не внесли никакой ясности. Зарядили дожди, кругом развезло, и Генри окончательно приуныл. Они уже углубили раскоп до двадцати футов, потом до двадцати пяти. Каменные орудия неожиданно пропали. Они нашли кусок серебряной нити, несколько ваз с изящным орнаментом, свинцовую пластину с выпуклой буквой «J». — Каменный век на плечах высокоразвитой цивилизации? — разводил руками Генри. — История все же идет вперед, а не вспять! — Бывает, что и вспять, Генри. Войны, нашествия могут приостановить развитие. — Верно! — блеснул он глазами. — Развитую цивилизацию могли завоевать и сокрушить варвары. Сколько раз это случалось! Он сидит перед дневником. Ночь, в комнате холодно и сыро. Кутаясь в одеяло, Шлиман пишет: «Мои ожидания чрезвычайно скромны. С самого начала моей единственной целью было найти Трою, относительно местоположения которой сотни ученых мужей исписали тысячи страниц, но ни один не удосужился раскопать ее. Если это не удастся и мне, я все же буду сполна удовлетворен тем, что заглянул в глубочайшую темь доисторических времен и открыл для археологии небезынтересные следы древней истории великих эллинов. Открытие каменной эры не обескуражило меня, напротив, я как никогда стремлюсь открыть землю, на которую ступила нога мерных пришельцев, и я не остановлюсь, даже если мне придется рыть еще на пятьдесят футов в глубину». — Вот это в твоем духе, Генри! А то я уже испугалась за тебя. — Сердце Трои должно быть здесь. Но здесь его нет. Где же тогда? Цитадель должна господствовать над треугольником равнины. В следующем году мы придем на этот же северный склон, но копать станем футов на пятьдесят ниже и поведем траншею к западу, где холм вздымается над равниной. Возьмем нужную глубину и со временем вскроем весь северо-западный край холма. Там должны быть дворцы и башни, Скейские ворота. На его осунувшемся лице разочарование сменилось решимостью. — Мы хорошо начали и многому научились. В конце концов, учебников у нас нет. Взяв со стола его дневник, она похлопала по нему ладонью. — Ты пишешь этот учебник, Генри.
Книга четвертая. Священное место
1
Как ни тянуло их к себе на улицу Муз, они прежде заехали в Колон за Андромахой. Девочке было семь месяцев: крупный круглолицый ребенок, спокойный и покладистый, она уже тянулась встать, держась за ножки стула, и часами бормотала детскую нескладицу. Она поразительно походила на Софью: те же темные волосы и глаза, та же прямая линия носа и решительный подбородок, который, впрочем, был несколько тяжеловат: мадам Виктория истово верила в то, что перекормить ребенка не грех, а только во здравие. Забрав толстушку, отощавшие Шлиманы благополучно вернулись к своим пенатам. После скудного пристанища у Драмали вид обставленных комнат исторгнул у них восторженные вопли. «Какое облегчение, — воскликнул Генри, остановившись перед их матримони-але, — что не нужно каждый вечер мазать ее маслом и спиртом!» И у Софьи гора свалилась с плеч, когда она переступила порог кухни, убедилась, что все на месте, все под рукой, и вдохнула дразнящие, приторные запахи кореньев, специй и приправ. Они внесли ящики, распаковали находки, навесили новые полки, и спустя неделю казалось, что никуда они отсюда не выезжали. В австрийском посольстве Шлиманы купили роскошную люстру для гостиной, хрусталь. Столовая стала теперь их рабочей комнатой. Греки не любят принимать у себя дома посторонних, предпочитая деловые встречи в кафе. Генри, как истый европеец, звал к обеду всех, кто мог ему быть полезен: инженеров-строителей, ученых, музейных архивариусов. Софья с радостью ушла в новые заботы. Она обзавелась юной помощницей, взяв девушку из семьи, которую Энгастро-мсносы знали еще по прежней жизни на площади Ромвис. Чуть свет отправившись на Центральный базар, та возвращалась в сопровождении парнишки с полной корзиной на голове, и уже до самого обеда Софья не присаживалась ни на минуту. Ей нравилось стряпать, нравилось своими руками начинить поросенка сыром и петрушкой, запечь его, а постаравшись—успеть приготовить и яблочный пирог. Удовольствие было тем полнее, что она еще не забыла, как они питались на Гиссарлыке. На высоком стульчике сидела Андромаха, колотила по доске метальной ложкой, потом, разморенная запахами пряностей и жареных орешков, она здесь же засыпала, раскрасневшись в тепле. Прихватив пачку писчей бумаги, Генри с раннего утра обосновывался в «Прекрасной Греции», крутя на палке толстые подшивки газет со всего света. За чтением он пил немыслимо много кофе, вел свою многоязычную корреспонденцию. Вернувшись к обеду, он успевал сунуть дочке перед сном новую игрушку. Когда Софья и Генри уехали в Троаду, пало правительство премьер-министра Кумундуроса. Их возвращение ознаменовалось падением нового кабинета во главе с Заимисом. Парламент был распущен, новые выборы назначены на февраль 1872 года. Эти политические пертурбации не помешали, однако, мэру Афин Панаису Кириакосу озаботиться приданием городу столичного облика — Генри и тут как в воду глядел. Кириакос выстроил красивую ратушу, заменил старые полуслепые фонари, замостил улицы в центре города, развернул строительство городского театра на площади против Национального банка. Город ожил и зашевелился, цены на землю подскочили. Генри получил два весьма выгодных предложения — и оба отверг. — Хорошую землю покупают, — объяснил он Софье, — а не продают. Раньше мы едва не разорились, покупая землю, зато теперь в ней наше богатство. Какие он вынашивал планы, ей было невдомек, но этот всплеск делового энтузиазма она расценила по-своему: значит, можно оборудовать детскую! Она купила кроватку, ковер, бюро, занавески и обивку, купила кровать для няни, перебравшейся за ними из Колона. Генри смотрел на ее расточительство благосклонно, словно не он несколько месяцев назад запрещал ей делать покупки, брать няньку. С родными отношения тоже наладились. На ребенка Генри оставил мадам Виктории порядочную сумму, продолжал платить жалованье Георгиосу, обеспечил им дальнейший кредит, и Александрос брал столько импортных товаров, сколько хотел. Впервые за последние два года у Энгастроменосов появились свободные деньги — обновить гардероб, приобрести кое-что. Мадам Виктория снова завела речь об их водворении в столицу. Это было счастливое время для Софьи: все были довольны. Под Новый, 1872 год, в день св. Василия, Софья и Генри отправились на праздничный ужин в Колон. В полночь Георгиос разрезал на двенадцать кусков традиционный пирог с запеченной монеткой: нашедшему наступающий год сулил удачу. Пирог испекла мадам Виктория, но и она бы не угадала, в какой кусок попала монетка. Монета досталась Панайотису, и это было приятно, потому что осенью ему идти в гимназию. Потом Шлиманы извлекли подарки. Сестрам Софья купила перчатки, Генри привез Спиросу и Иоаннису, мужу Катинго, галстуки, Панайотису подарил книги, Алсксандросу — кожаный бумажник. Родителей, решил Генри, за их заботу об Андромахе надо порадовать чем-нибудь особенным, и для мадам Виктории они подобрали в ювелирном магазине Стефану золотые часики, а Георгиосу купили трость с золотым набалдашником: было отмечено, что он давно засматривался на нее в витрине Кацимбалиса. Уже но пути в Колон Генри вышел из экипажа на площади Конституции и купил большую коробку шоколадных конфет. Когда он вернулся и сел с нею рядом, Софья спросила: — Ты замечал, что семья — это как человек? Если с ней обходишься плохо, то и самому плохо, а если с ней по-хорошему… — То и тебе хорошо! — рассмеялся Генри. Она обняла его за шею и поцеловала. — Милый Эррикаки, под Новый год так приятно признаться, что я тебя люблю! Родители сделали за меня хороший выбор. — А за себя я бесконечно благодарен епископу Вимпосу. Он вконец расчувствовался. В Париже Софья только называлась хозяйкой дома: по существу она была молчаливой гостьей за общим столом. На улице Муз все пошло иначе. В первое же воскресенье они заполучили к обеду профессора романской филологии, греческого языка и литературы Афинского университета Стефаноса Куманудиса. Он был известен неутомимыми хлопотами по сохранению греческой старины, с одинаковой ревностью тревожась о вазах, надписях и Театре Диониса на той стороне Акрополя. Вдобавок он был секретарем Археологического общества и возродил к новой жизни его бюллетень. Он прочел три отчета Генри с Гиссарлыка. Куманудис был старше его всего на четыре года, но имя его было весьма громким в ученом мире. После обеда все трое направились в кабинет Генри. Мужчины удовлетворенно попыхивали сигарами. Стараниями Софьи вазы, горшки и каменные орудия разместились на новых полках, и каждая вещь была снабжена ярлыком с указанием глубины и места находки. — Хорошее начало, — мурлыкал профессор Куманудис. — Сейчас мы все вместе попробуем определить возраст каждой находки и какой культуре она принадлежит. — Видите ли, профессор, — тушуясь в присутствии знаменитости, поспешил сказать Генри, — мы вовсе не настаиваем, чтобы какой-нибудь из этих предметов датировать доисторической эпохой. Мы возлагаем большие надежды на будущий сезон, когда зароемся глубже и подойдем ближе к материку. В следующее воскресенье у них обедал доктор Эмиль Бюрнуф. Окончив университет в Париже, он в 1846 году приехал в Афины простым сотрудником Французского археологического института на площади Конституции. В сорок шесть лет стал его директором, проектировал строительство нового института на горе Ликабет, готовился к раскопкам в Дельфах, на Пелопоннесе. Бюрнуф был невысокого роста, носил длинные волосы, усы и бородку клинышком. Это был энергичный господин, как все низкорослые люди, привередливый в одежде: просторные в плечах сюртуки шил в Париже, носил шелковые рубашки с гофрированными манжетами и красивые галстуки. Он привел с собой свою девятнадцатилетнюю дочь Луизу, выросшую в Афинах. Это была красотка во французском стиле, прямая противоположность типу греческой красоты: пряди шелковистых светлых волос, васильковые глаза, продолговатый овал лица, улыбчивые губы и точеный подбородок. Генри пришел от нее в восторг и весь обед болтал с ней по-французски. Софья беседовала с мосье Бюрнуфом по-гречески, но так и не выведала, где же, собственно, мадам Бюрнуф и почему ее место занято дочерью. Два горшка с Гиссарлыка Бюрнуф почти уверенно признал троянскими, особенно один, с крутыми боками и ручками, похожими на заломленные руки. Груда битых черепков привела его в экстаз. — Милейший доктор! Тут целый клад троянской посуды! Терракотовая энциклопедия! Вы должны собрать черепки в целое. — Мы с женой мечтаем это сделать. — У меня есть два студента, они это делают мастерски. Может быть, заглянете с госпожой Шлиман к нам в институт ВО вторник утречком? Захватите две-три корзины ваших черепков. И мы с Луизой поможем. Это удивительно увлекательное занятие — собрать из дюжины обломков целую вазу. Надеюсь, тут есть погребальные урны. Кухонная и хозяйственная посуда вообще-то менее ценна. Когда во вторник утром они приехали на площадь Конституции, к их экипажу вышли два стройных молодых француза со светлыми бородками и приняли от них корзины с черепками. В лаборатории они расчистили длинный стол и выставили на него несколько резиновых тазов, наполовину наполненных холодной водой. В комнату, приветствуя гостей, вошли Бюрнуф и Луиза. — Процесс до чрезвычайности прост, но эффективен. Сначала аккуратно опустим черепки в воду. Студенты с величайшей осторожностью погрузили черепки в резиновые тазы. Замутившуюся воду сливали, заменяли свежей. Когда последняя вода осталась прозрачной, черепки вынули и окончательно отчистили тряпочкой, щеткой, а то и просто ногтем. И рядами выложили сушиться. Потом черепки разобрали: грубые отделили от хрупких, тонкостенных, гладкие—от кусков с орнаментом, отложили вместе схожие но цвету. — Теперь начнется самое интересное! — воскликнула Луиза. Не желая пасовать перед неугомонной красоткой, Софья сказала: — На Гиссарлыке мы выработали такую систему: сначала подбирать друг к другу донышки и горловины. Это проще. — Совершенно правильно, — поддержал Бюрнуф. — Стенки уже потом. Все с воодушевлением трудились два часа кряду, разражаясь восторженными восклицаниями, когда куски совпадали. — Когда вы наберетесь достаточно опыта, — объяснял Бюрнуф, — вы сможете с первого взгляда на груду черепков определять форму цельного предмета. Ну, для начала хватит. Теперь, молодые люди, приготовьте, пожалуйста, рыбий клей. Студенты побросали в котелок плоские желтые плитки и разожгли жаровню. Вода закипела, клей разошелся, и комната наполнилась смрадным запахом гниющей рыбы. «Ну, нет, у себя на кухне я этого не потерплю, — зажав нос, решила Софья. — Пусть Генри строит сарайчик на заднем дворе». Загустевший клейсняли с огня и поставили на стол. Студенты маленькой кисточкой обмазывали кромки черепков, ждали, когда клей впитается в глину и чуть подсохнет, потом соединяли куски и держали над огнем. Начав с донышка, они кусок за куском строили вазу или горшок, как строят дом из кирпичей. Два горшка они восстановили целиком, и еще была ваза с изъянами. Бюрнуф велел Софье занести в их дневник возрожденные горшки, а также пронумеровать по порядку воссоединившиеся черепки, подытожив, таким образом, биографию каждой находки. — Заключительный этап, — объявил Бюрнуф. — Берем алебастр, размешиваем в воде, добавляем рыбьего клея и латаем пустые места. Луиза училась этому искусству, так что доверим это ей. Когда беловатая масса загустела, Луиза раскатала ее валиком и ловко выкроила подходящие заплатки. Студенты брали подсохшие куски, так же обмазывали клеем их края, ставили на место и прокаливали на огне. — Voila [20],—торжествовал Бюрнуф. — Вот мы и восстановили вашу первую увечную вазу. Если, вернувшись в Гиссарлык, вы найдете недостающие здесь черепки, мы удалим алебастровые заплаты и вернем беглецов на их законное место. Потом Генри повел всех в «Эптанесос» — ресторан на улице Гермеса, неподалеку от «Прекрасной Греции». Он сел рядом с очаровательной Луизой и завел на французском какую-то бесконечную историю, чем отчасти удивил и озадачил Софью. «Может, я этому специально и не училась, — думала она, — но велика хитрость—ставить гипсовые заплатки!» До рождения Андромахи Генри оставался чужим человеком в семье: что могло быть у них общего с этим эксцентричным господином, которого носило по свету, словно перекати-поле?! За тысячу лет до рождества Христова греки звали «варварами» всех иноземцев. Правда, Генри знал греческий язык, но он был ему не родной, и оттенок недоверия в отношениях оставался. Семья, почитаемая у греков превыше всех союзов, вообще институт мистический: Генри-таки породнился с ними через Андромаху. А сейчас, в январе, Софья объявила ему, что у них будет еще один ребенок. Расцеловав ее, он воскликнул: — По справедливости это должен быть сын! На время работ в Гиссарлыке Генри совершенно отключился от дел, поручив тестю депонировать чеки, оплачивать счета и откладывать до его приезда деловую корреспонденцию. Во время раскопок он не говорил и даже не задумывался об этих вещах. Теперь же он буквально набросился на письма и телеграммы, наводнившие его стол: раскладывал, откладывал, перекладывал, готовя распоряжения, подводя баланс, покупая и продавая железнодорожные акции, оформляя денежные переводы сестрам и братьям и своим русским детям. Дела захватили его целиком. И досуги его были деятельны: предстояло тщательно подготовить новую, полугодовую кампанию на Гиссарлыке, а выезжать им в апреле, и уже нужно рассчитать максимальное число требуемых рабочих, обеспечить толковый надзор за ними, в достаточном количестве достать инструменты и снаряжение. В последний месяц у них работало в среднем восемьдесят человек ежедневно, наблюдали же за всеми только он и Софья. Генри решил взять с собой из Афин двух опытных десятников. Софья озадаченно свела брови. — У кого же может быть опыт в нашем деле? — Не в нашем, а, скажем, в горном. Только вряд ли мы найдем таких специалистов в Греции. Могут подойти дорожники. — Верно! Ведь они пробивают туннели в горах. А как ты их найдешь? — На их рабочем месте, — усмехнулся Генри, — на железной дороге. Твой завтрашний гость за столом — англичанин из Фолкстона, мистер Джон Лэтам. Он руководил строительством юго-восточной линии Лондон—Дувр—Фолкстон, а здесь ведет дорогу из Афин в Пирей. Вид у него нелюдимый, но человек он добрый и с чувством юмора. Лэтам пришел с букетом цветов—гладковыбритый, средних лет и прямой, как сложенный зонт. За обедом он, впрочем, оттаял: не напрасно Софья выспросила в английском посольстве, чем пронять англичанина на чужбине. В жизни не делая ростбифа, она твердо запомнила, что он должен быть непрожарен; она расхрабрилась настолько, что приготовила даже йоркширский пудинг, и не важно, что он не удался: Джон Лэтам оценил старание и с доверительной грустью вспомнил домашнюю стряпню. — Куда бы я ни приезжал, — пожаловался он, — везде бранят английскую кухню. А я привык считать, что моя матушка готовит восхитительно. О деле договорились быстро: Лэтам согласился уступить им двух лучших рабочих. Генри оплачивал их дорогу, обеспечивал жильем и обещал денежную компенсацию за полгода бессемейной жизни. — В этом случае мы сможем взять уже сто тридцать рабочих—будет кому присмотреть за ними, — горячо рассуждал он, расхаживая по кабинету. — И еще. — Он взглянул на жену. — Чтобы нивелировать рабочую площадку по всей ширине Гис-сарлыка, нам нужен инженер. Он сделает обмеры холма, даст нам точные цифры, и мы будем знать, сколько кубических ярдов земли предстоит выбрать, куда девать отвал. Я не покушаюсь на ваш штат, мистер Лэтам, — отнесся он к новоиспеченному другу, — но, может быть, на месяц вы дадите мне взаймы кого-нибудь? Я заплачу ему по высшей ставке. Лэтам между тем страдал в своем высоком крахмальном воротнике, и страдал, по его признанию, уже не один десяток лет. — Казалось бы, все может человеческий гений, — брюзжал он. — Может построить пирамиды и акрополь, пароходы, а додуматься сшить воротник вместо удавки не может… Нет у меня свободного инженера, но вам наверняка поможет Эжен Пиа, он строит дорогу из Афин в Ламию. Мосье Пиа получил образование на родине и соединял в себе качества администратора, инженера, архитектора и ученого; вместе с восьмерыми помощниками-французами он отработал все расчеты и чертежи 120-мильной Ламийской дороги и приступил к ее строительству. Он умело управлялся с множеством рабочих, и полотно дороги продвигалось на север точно по графику. Его хватало еще на то, чтобы готовить проект Французского археологического института. Образованный человек, Пиа свободно говорил по-гречески. И поскольку голова его была постоянно занята сугубо инженерными проблемами, он мало заботился о внешнем виде, щеголяя в рабочем комбинезоне и высоких сапогах. Копна его пепельно-серых волос не знала оскорбления расческой или щеткой. — Главное, чтобы в голове был порядок, — заметил Генри. Он вкратце познакомил Пиа с ходом раскопок в прошедшем сезоне. — Я вынужден отказаться от мысли продолжать раскопки четырнадцатифутовой траншеей: обзор невелик, находок мало. У меня другая мысль: широко вскрыть холм в сорока шести футах ниже его плато. Думается, там уже должен быть материк. Площадка будет более двухсот футов в длину и около пятидесяти в ширину. С этой площадки и плато мы поведем раскоп к северо-западному краю, он возвышается примерно на двадцать пять футов, и вот там-то, я убежден, мы откроем акрополь. Мы ничего не будем сносить, все оставим на своих местах—дома, храмы, дворцы, башни, ворота. С нашей рабочей площадки мы будем подгрызать холм с боков. Натолкнувшись на стену, вскроем ее донизу, оброем со всех сторон, освободим ее полностью. Пиа понимающе кивнул кудлатой головой: — Иными словами, обнаружив строение, вы отправитесь вниз искать его фундамент и одновременно будете забираться вверх, пока не откроете его макушку? — Совершенно верно! Я рассчитал таким образом, чтобы моя площадка была посередине между вершиной холма и нижней равниной, на которой стоял город Троя. Я раскопаю город и холм с акрополем, где и должны быть крепость и башня, и тогда можно будет сказать, что перед нами гомеровская Троя. — Мосье Пиа, — вступила Софья, — вы можете дать нам ненадолго такого инженера, который сделает подробнейший чертеж нашего холма? А холм порядочный. — Конечно, мадам Шлиман. Адольф Лоран — он прекрасный специалист, и притом человек молодой, ему это будет только интересно. Через несколько дней Лоран пожаловал к обеду. Он был коротко острижен, с колючим газончиком на голове, кривой на один глаз. Черты его лица вообще несли печать случайного набора и так же непродуманно были свалены в одну кучу. Он совершат регулярные налеты на буфет, где стояла бутыль с узо, и в продолжение обеда его стакан не пустовал ни минуты. Но видимо, даже изрядная доза алкоголя была ему нипочем, и, набив рот едой, он молол занятную чепуху о странах, где ему довелось работать. Однажды вечером заглянули и оба десятника от Джона Лэтама. Теодорос Макрис был уроженцем Митилини, главного города гористого Лесбоса, знаменитого своими двумя заливами. Макрис работал сызмала: из глубины острова прорубал дороги к морю, на море строил пристани. В речи его была сотня-другая слов, зато с лопатой, заверил их Джон Лэтам, он находил общий язык лучше многих. Спиридон Деметриу был сыном афинского чернорабочего. Он тоже начал работать мальчиком, едва научившись удерживать в равновесии нагруженную тачку. Тяжелый физический труд, аттестовал его Лэтам, был для Спиридона прямо-таки духовной потребностью. Генри выплатил им задаток и велел отправляться в Константинополь уже в конце марта. За их столом вкушал и такой именитый гость, как профессор Ксавье-Джон Ландерер, уже разменявший седьмой десяток лет. Он был родом из Мюнхена, где изучал медицину и естественные науки, двадцатитрехлетним юнцом по приглашению короля Отгона приехал в Афины и стал придворным аптекарем. Афинский университет избрал его своим первым профессором химии и фармацевтики. Профессор- Ландерер, надеялся Генри, мог объяснить следы окисления на терракоте и какие химические компоненты определяют разную окраску глины: черную, темно-коричневую, красную, желтую, пепельно-серую. Среди университетских профессоров они завели немало друзей; их работа обретала научную, академическую основу. Это были ученые разных специальностей, и. надо сказать, они не разделяли теорий Шлимана относительно гомеровской Трои, но они и не поднимали их на смех. Они уважали его убежденность и решимость остаток жизни и большую часть состояния отдать достижению своей цели. Свидетельница его трудов, Софья видела, что счастливейшим человеком Генри чувствовал себя только на раскопках и среди профессоров: Гомер был его богом. Академия — кумиром. Уже мальчиком с одобрения домашних он считал решенным вопрос об университетском образовании: скорее всего, поедет в Росток, это близко, но, может, подастся в Мюнхен или Берлин. Ему было всего девять лет. когда умерла мать. Отец наградил ребенком свою молодую экономку и был отрешен от пасторства. И жизнь повернулась к Генри суровой стороной. По восемнадцать часов надрываться в лавке само по себе кошмар, а его еще допекала горечь, что он растет невеждой. Штат подобрался: у них есть десятники и свой инженер — пора всерьез заняться подготовкой к новому сезону. Генри решил прибегнуть к помощи своих старинных друзей и компаньонов в лондонской фирме «Шредер и компания». В двадцать два года он был их представителем в Амстердаме; когда он самоучкой овладел русским языком, фирма послала его в Россию. «Шредер и компания» были самого высокого мнения о способностях и порядочности Шлимана. Генри предполагал выписать из Лондона шестьдесят крепких тачек. — Лучше попроси прислать пароходом образец, — предостерегла Софья. — Ведь если они тебе не подойдут, как ты сможешь забраковать здесь весь груз? — Верно. И еще затребуем образцы лопат, кирок и ломов. Я дам телеграмму в Лондон, растолкую, что нам нужно. Но он переменил и это решение: захотелось быстро проехаться по Германии, посмотреть в музеях терракоту и другие доисторические экспонаты, а уж потом в Лондоне своими глазами увидеть инструменты и закупить их оптом. В тот же день он уехал.2
Софья тяжело переносила беременность: кровотечения, боли в пояснице, тяжесть внизу живота. Ноги разламывались при ходьбе. После двух недель отсутствия вернулся Генри и сразу забил тревогу. — Когда ты носила Андромаху, у тебя ничего такого не было? — Нет. — Значит, нужен полный покой. Отправляйся в постель и не смей вставать. Спине и ногам нужно дать отдых. — Да ведь столько дел! Я не могу месяцами лежать в постели. Но он был неумолим. — Тогда пойдем к доктору Веницелосу, — сдалась Софья. — Он даст нам хороший совет. Внимательно выслушав ее рассказ, Веницелос счел страхи преувеличенными и велел не придавать значения слабым болям. — Но я как раз хочу, чтобы она придавала им значение, доктор! — вскричал Генри. — Чтобы она внимательно относилась к себе! Веницелос снял очки и не спеша протер стекла платком. — Мой дорогой Шлиман, ваша жена должна вести обычную жизнь. Она молода, здорова. Много двигаться, разминаться — это только укрепит ее. — Право, так мне будет лучше, Генри, — поддержала его Софья. — Ты сам говорил, что заплатить за совет и не следовать ему — значит быть круглым дураком. Несколько недель уверенность доктора Веницелоса служила ей поддержкой, она опять стала поговаривать о том, чтобы в начале апреля ехать с Генри в Троаду. — Я хочу быть с тобой рядом. Мне хорошо в Троаде, я там счастлива. Кстати, ты же обещал построить для нас домик вблизи раскопок. — Я уже послал Яннакису деньги и велел купить лес. Наступил март, и ей стало худо. Она чувствовала: что-то происходит нехорошее. Она не могла разогнуться от тяжести в пояснице. Опять открылось кровотечение. Пришлось улечься в постель. Доктор Веницелос заходил каждый день. Облегчение не наступало. В середине марта у нее случился выкидыш. Сразу послали за Веницелосом. — Почему это случилось, доктор? — Капризы природы, мадам Шлиман. — Может, я в чем-нибудь виновата? — Ни в коем случае! Даже предупредить это невозможно. Плод плохо прикрепился к стенкам матки. Эта беда может случиться уже в минуту зачатия. И природа разумно исторгну-ла его, поскольку ребенок не получил бы нормального развития. Вы поправитесь, наберетесь сил и еще родите здорового, полноценного ребенка. — Значит, у меня еще будут дети? — Безусловно. — Но это в том случае, если сейчас я не виновата? Доктор Веницелос осторожно заправил ее волосы с висков за уши. — Тут нет ничьей вины. Уж так случилось. Из практики я знаю, что подобное редко повторяется. А сейчас успокойтесь. Вам нужно как следует выспаться. Проснувшись, вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Вокруг нее хлопотала мадам Виктория, смачивая лицо и руки холодной водой. Тревога и страх не оставляли Софью. Как ни успокаивал ее врач, она не могла освободиться от чувства вины перед мужем, которого она так подвела. Она только надеялась, что Генри не станет ее укорять. Она проспала пятнадцать часов и, проснувшись, увидела его сидящим у постели. Его глаза распухли от слез. Она взяла его за руку. Ведь его несчастье было даже больше ее беды. Он так хотел сына! Это чудо — как он обрел жену-гречанку, а сын должен был стать продолжением чуда. Виноватым в случившемся он решительно объявил доктора Веницелоса: — Это злой дух нашего дома. Ни при мне. ни после моей смерти не смей обращаться к нему. Я бы отдал все на свете, если бы можно было вернуться назад и не слушать советов негодяя, отнявшего у нас наши лучшие надежды. — Любимый мой, не растравляй себя, — молила она его. — Мне тоже хочется найти виноватого. А это случайность! Как ее предусмотреть? Бог дал — бог взял. А доктор Веницелос — он же только советовал мне вести обычный образ жизни, ничего другого. Он говорит, что в другой раз это не повторяется. Я еще рожу тебе сына, и ты все забудешь. Генри был неутешен, но тревога за жену пересилила. — Я отложу свой отъезд в Троаду. — Что ты, Генри! Ты обязан быть там в начале апреля, без тебя вся работа застопорится. И Лоран и десятники без тебя не поедут. А я поправлюсь и сразу приеду. Калверты встретят меня в Чанаккале, помогут найти хороший экипаж и возницу. Только бы ты успел подготовить наш домик… В его глазах зажглась надежда. — Об этом не беспокойся. По приезде я сразу определю к делу Яннакиса и обоих десятников. Но предупреждаю: красоты не будет, лишь бы не дуло и не текло… Из Лондона прибыли инструменты: шестьдесят тачек, двадцать четыре больших железных лома, сто восемь лопат, сто три кирки, домкраты, цепи, лебедки. — Вместо того чтобы все это везти пароходом в Константинополь, потом грузить на другой пароход и идти в Чанаккале, а там опять разгружаться в арбы и тащиться в Гиссарлык — может, вместо этого зафрахтовать суденышко от Пирея до бухты Бесика, она в нескольких милях по берегу от Гиссарлыка? Мы там за пару часов и разгрузимся, и доберемся до места. — Но ведь это выйдет дорого, — наморщила Софья лоб, — зафрахтовать пароход со всем экипажем. — Не на все же время! Нам и нужен-то один рейс в месяц. В хорошую погоду они доберутся за три дня. Сумел же Парис, убегая из Спарты с Еленой и сокровищами Менелая. управиться за трое суток, а у него не было паровых машин, только гребцы да паруса. С продуктами наконец наладимся. Будем отправлять домой список необходимого, Спирос все закупит и погрузит на пароход. — Действительно удобно. А на обратном пути пароход возьмет нашу долю находок. — Если смотрители согласятся на раздел в процессе работы, не дожидаясь окончания сезона. — Смотрители? Сколько же их будет? — Я получил письмо от министра народного просвещения. Узнав, что в этом году я могу нанять более ста пятидесяти рабочих, он заявляет, что один смотритель не управится. — А где наш Георгий Саркис? — Наверное, опять сидит в своей судебной канцелярии. Так вот, мне нужно, чтобы посудина не протекала, а капитан умел молчать. Я никого не желаю посвящать в нашу кухню. Вот когда найду что-нибудь стоящее, тогда и объявлю во всеуслышание. За несколько дней он обшарил весь порт, и удача улыбнулась ему: это был пароходик «Таксиархис» капитана Андреаса Папалиолоса, чья загорелая команда состояла исключительно из членов его семьи: младший брат, двое взрослых сыновей и племянник. Генри очень приглянулся кряжистый, крепкий старик, настоящий грек, с детства сроднившийся с морем. Он двадцать пять лет отказывал себе во всем, зато теперь имел свой пароходик и был независим. В тот день Генри явился к обеду, не успев согнать с лица весело-озадаченное выражение. — Похоже, ты нашел непотопляемое судно с молчуном капитаном? — Более того, я еще раз убедился в том, что мир тесен. Когда я спросил у капитана Папалиолоса его рекомендации, знаешь, что он ответил? «Доктор Шлиман. лучше всех вам рекомендует меня ваша почтенная теща, госпожа Виктория Энгастроменос». — Мама?.. Каким образом? — Откуда мне знать! Давай-ка съездим в Колон к вечеру. И Андромаха любит покататься. — Капитан Папалиолос! — вскричала мадам Виктория. — Так он же с Крита! Мы сто лет знаем друг друга. Если он не в море, то всегда приходит ко мне на именины. А что вы хотите о нем узнать? — Можно на него положиться? — Как на самого себя. Вы же теперь наш, а Папалиолосы еще ни разу не подвели Энгастроменосов. — Спасибо, драгоценная теща. Я беру его. Расставание вышло грустным. — Всего несколько недель, — утешала его Софья. — Солнце уже греет тепло, я смогу работать в саду. Так я скорее окрепну. Зная ее любовь к голубям, Генри тайком соорудил в дальнем углу сада голубятню и пустил в нее несколько пар птиц. Выйдя на следующее утро в сад, она набрела на домик с воркующим населением и расплакалась. Приехал епископ Вимпос. Он уже знал о несчастье и специально проделал долгий путь в Афины, чтобы посочувствовать и подать пастырское утешение. Два года в Триполисе не прошли для него бесследно: он осунулся, поистрепалась его сутана. «Как глупо, что он прозябает в захолустье, — возмущалась про себя Софья. — С его-то светлой головой! Могли бы найти для него что-нибудь творческое: заниматься наукой, писать, с пользой применять знания». В сущности говоря, это была ссылка. На вопрос, чем он занимается, он так и ответил: — Служу, а больше, пожалуй, ничем не занимаюсь. Наезжаю в сельские приходы, слежу за казной епархии… — Никого не учишь? — Нет, учу детей. Школ ведь мало. Без меня они вырастут неграмотными. — Церковь обязана вернуть тебя в Афины! Он только слабо улыбнулся в ответ. — Я понимаю: ты убеждена, что я должен преподавать теологию в университете, древнееврейский. Я сам порою очень скучаю но университету, мне не хватает его библиотеки, коллег, подающих надежды студентов. Иногда не с кем словом перемолвиться, и так одиноко… — А твоя библиотека? Он грустно помотал головой. — Увы, Софья, библиотеку я продал, когда уезжал в Триполис, — надо было расплатиться с последними долгами. Ей стало жаль его до слез. — Но не навечно же это?! — Милое мое дитя, я наставлял тебя слушаться божьей воли — и сам же ослушаюсь! Ведь если я возлюбил Господа и нашу Церковь, я должен с кротостью принимать все посланные мне испытания. И тогда впервые после отъезда Генри она отправилась без него в город. Она ехала в любимый с детства книжный магазин Коромеласа. Это была зала с полками в три стены, пестрящая надписями: Поэзия, История, Литература, Наука… Отдельно стояли книги на французском, немецком и английском языках. Дважды в год, в день святого Василия и на свои именины, она приходила сюда с кем-нибудь из взрослых, вдыхала запах краски и переплетов. Ей разрешали выбрать любую книгу. Сейчас Генри оставил ей на неотложные расходы сто долларов, и большую их часть она решила потратить на книги для дяди Вимпоса. Она ни секунды не сомневалась в том, что и муж счел бы это неотложным делом. Они были обязаны Теоклетосу Вимпосу своей встречей, сохранностью их брака, и нельзя, чтобы он был одинок, чтобы он не мог побеседовать хотя бы с книгой. В Париже она сказала Генри: «Мне легче сломать ногу, чем мучиться от одиночества». Или она сказала: «чем скучать по дому»? Впрочем, это одно и то же. Духовная и научная атмосфера столицы — их лишился Теоклетос Вимпос, и от этого он страдал. По-своему это сродни ее недавней беде. Апрель стоял теплый. На рассвете небо подергивалось белесоватой дымкой, потом ярко голубело. Она хлопотала у клумб и кустов, выпустивших почки, кормила голубей, но странно! — ее томило чувство опустошенности, потери. Ее все сильнее тянуло в Гиссарлык, к раскопкам, к людям, к радости находок. Письма от Генри также приносили мало утешения. «Живем тяжело, — писал он. — Виды прекрасные, остальное все плохо». Домик на краю раскопа еще не был готов. Он ночевал в какой-то будке для инструментов. Три ночи не переставая лил дождь, крыша потекла. Яннакис набирал рабочих и со стряпней не успевал, к тому же не было ни плиты, ни подходящей посуды. Пришлось брать еду из Хыблака. Кругом была такая грязь, темень и холод, что он забросил писать свои отчеты по вечерам. «Если можешь, то. ради Христа, задержись в Афинах и немного укрепи ручки и ножки…» Но если она все же собирается ехать, то пусть обязательно прихватит плиту, десять тарелок, ножи, вилки и ложки, пару матрацов (большой и маленький), одеяла, полотенца, одежду попроще, крепкие кожаные башмаки, а также несколько дюжин плетеных корзин разной вместимости—для перевозки горшков, ваз, черепков. И она отправилась делать покупки. Спирос проследил, чтобы все упаковали в те самые корзины, которые на обратном пути доставят в Пирей их археологический материал. После очередного письма оставаться в Афинах было уже невозможно. В нем каждое слово исходило любовью и одиночеством. «Моя самая прекрасная женушка! Как ты себя чувствуешь, мой маленький ангел, жизнь моя? Что ты там поделываешь? Как твой аппетит, как ты спишь? Поправляешься ли? Как поживает наша дочурка? Ей нужно каждый день быть на воздухе три часа—как минимум. Что делается в твоем саду? Надеюсь, что заключенным в тебе божественным духом ты вернула к жизни нашу бедную пальму. Живы ли голуби? Уверен, что от твоего сада нельзя отвести глаз. Любовь моя, каждый день езди купаться в Пирей, а когда откроют железную дорогу—то в Фалерон. Я хочу, чтобы ты совсем поправилась. Напиши мне что-нибудь хорошее—тогда мне и солнце здесь посветит ярче». Она в тот же день заказала каюту на пароходе, отплывавшем в начале мая в Константинополь. За день до отъезда от Генри пришла рукопись статьи на пятнадцати страницах с просьбой показать ее грамотному родственнику, дабы тот поправил, где надо, а затем переслать в афинские «Полемические листы». Нужно было еще успеть отнести фотографу зарисовки их находок — креста и «свастики»: к статье нужны иллюстрации. Перепоручив все эти заботы отцу, она перевезла родителей на улицу Муз, чтобы не отрывать Андромаху от дома, расцеловала всех на прощание, и Спирос отвез ее вместе с кофрами в Пирей. Генри встречал ее на пристани в Чанаккале. У нес заныло сердце, когда она увидела его на самом краю сходней. Он так исхудал — костюм висел на нем, как на вешалке. Лицо желтое, в углах рта пролегли глубокие морщины — нет, даже в их худшие дни в Хыблаке он так не выглядел. И спал он, конечно, плохо все эти недели. Еще эти отчеты для газет и ученых обществ: без ее помощи он писал по-гречески в три раза медленнее. «Бедный мой, бедный, — с любовью подумала она, — как ему было тяжело. Ну, уж теперь я не спущу с него глаз». — Как ты красива, — прошептал он, обнимая ее. Для дороги она, понятно, пренебрегла его советом относительно «одежды попроще», надев сшитые в последнюю неделю в Афинах шелковую блузку с кружевным воротником, широкую нежно-голубую юбку и синий саржевый жакет, который очень ей шел. В общем, она кое-что сделала для того, чтобы быть красивой в глазах мужа. Слегка отстранившись, он взглянул ей в лицо. — За всю свою разнесчастную жизнь я никого не встречал с такой радостью. Дай посмотреть на тебя. Я же тут ничего не видел, кроме мотыг, лопат и турецких греков. Ты стала полненькая. Это хорошо. Глазки сияют… — Это потому, что я тебя вижу, Эррикаки. Еще бы не потолстеть: мама готовила мне три раза в день—слыханное ли дело? Зато теперь я позабочусь о тебе. Вот поцелуй от Андромахи. — Какой сладкий поцелуй и какой чистый. Надеюсь, ее мама припасла парочку от себя? — Не сомневайся. Готов наш дом? — Да, и еще кухонька с пристройкой. Яннакис горит нетерпением получить наконец плиту. Стой! А ты не забыла плиту? — Конечно, привезла, и столько продуктов, что полгода буду кормить тебя по-царски. Они пошли посмотреть за погрузкой корзин в большую арбу. — Вон Деметриу, — показал Генри. — Десятник, тот. что помоложе, ты помнишь. Отдай ему погрузочную опись, он сам проследит за всем. Взявшись за руки, они стояли у кромки голубых Дарданелл и смотрели вдаль, на зеленые Галлиполийские холмы. День был теплый и ясный. — Софидион, ты привезла нам хорошую погоду. В эти три недели мы потеряли семь дней: дожди, праздники. И все же в первой половине апреля мы выбрали одиннадцать тысяч кубических ярдов земли, а были страшные холода. — Мне хочется скорее все это увидеть. Как идет работа у Лорана? — Он уехал. Отработал свой месяц и уехал. Пьет! К нам на холм он выбирался только на час-другой. — А как же его расчетные чертежи, рельефные карты? — С этим все прекрасно. Я захватил их показать Фрэнку Калверту. Когда наша площадка прорежет холм, от его половины, боюсь, немного останется. — Ему все же будет приятнее владеть частью Трои, чем лысым холмом, на котором пасутся чьи-то овцы. У Калвертов им предстояло переночевать. — Я подумал: поездка не из легких и лучше тебе отдохнуть перед дорогой в Гиссарлык. Взявшись под руку, они пошли по узенькому тротуару главной улицы. Словно вернувшись домой, она умиротворенно взирала на караваны верблюдов, вереницы черных пони, нагруженных корзинами, на женщин в яшмаке — вуальках, прикрывавших лицо. В угоду традициям в общественных местах турчанки являли собой ходячий склад мануфактуры: шальвары, тесно схваченные в лодыжках, длинная юбка, яркой расцветки елек — халат, тесный сверху, с рядом пуговиц от пояса донизу, а поверх всего какой-то балахон с широкими рукавами. С головы до талии их покрывала паранджа. — Только аллах да собственный муж знают, как вьпглядит турчанка под всеми этими одежками, — богохульствуя, заметила Софья. Он улыбнулся, чувствуя, как весь теплеет, согревается любовью, ее присутствием. Он даже порозовел. Казалось, не мешай жилет и золотая цепочка, он бы дышал еще вольнее, и как тогда, в их первую встречу в Колоне, он словно сбросил с плеч лишние двадцать лет и опять был молодым. Воровато оглянувшись, он порывисто обнял ее и поцеловал. — Я задолжал тебе сына, — шепнул он. И она поняла, что прошлое отпустило их. Калверты встретили их как старых друзей. Миссис Калверт по-матерински расцеловала Софью в обе щеки. Все четверо детей были в сборе: Эдит, Алиса, Лаура и младшенький. Девочек отец время от времени брал на раскопки могильных курганов, которых в Троаде великое множество. После обеда взрослые перешли в библиотеку и устроились в покойных кожаных креслах. На круглом столике Генри расстелил чертежи и планы Лорана. — Сначала я покажу, где мы готовим нашу рабочую площадку. Вот здесь, от буквы «А», в прошлом году мы вели нашу четырнадцатифутовую траншею. Когда мы достигли вершины, она была длиной в шестьдесят футов. По пути я надеялся открыть величественные сооружения, а удовольствоваться пришлось залом для собраний, относящимся примерно к Ш веку до рождества Христова. В этом году мы будем копать ближе к северо-западному мысу — вот, где буква «В». Здесь я рассчитываю найти и крепостные стены, и дворец Приама. На чертежах была ясно видна вся стратегия Генри: с пологого северного склона идти к югу, перерезая холм пополам, и уже с этой площадки копать во всех направлениях, реагируя на каждый сюрприз в рельефе холма. Вглядевшись в линии и цифры, Фрэнк Калверт присвистнул и растерянно потеребил усы. — Дело грандиозное, Генри. И какая дерзкая мысль! Сколько же земли вы предполагаете выбрать? — По расчетам Лорана, сто тысяч кубических ярдов. На глубине сорока шести футов я встану на материк. Сердцевина холма будет вскрыта полностью, и мы сможем освободить великие сооружения из трехтысячелетнего плена. Взглянув на Калверта, Софья вспомнила, какое потрясение испытала она сама, когда Генри впервые открыл ей свой радикальный план раскопок. — Я бы так не смог… Мне бы и мысль такая не пришла… Я люблю небольшие раскопки: холм Аякса или храмик в Фимбре, в поместье моего брата Фредерика. Чтобы управиться самому и за несколько дней… ну, от силы с двумя помощниками. Генри не нашелся что ответить, и Софья поспешила на выручку: — Я вас понимаю, мистер Калверт. Будь вы писателем, вы бы охотнее писали рассказы, а не романы. А Генри—он как Достоевский… — И еще напишет свое «Преступление и наказание», — сощурился ее собеседник. — Рекомендую себя в герои романа… Повисло неловкое молчание. — Фрэнк, — нарушил тишину Генри, — может так получиться, что я залезу на вашу половину холма. Вы не возражаете? — Да сделайте милость! — мгновенно откликнулся тот. — Зачем же тогда я торопил вас несколько лет назад, в нашу первую встречу, зачем хлопотал о фирмане?! Я бы только попросил поровну разделить находки на моей половине. — Это справедливо, Фрэнк. Как мы скрепим наш договор — рукопожатием или составим бумагу? — Вашего слова достаточно. После крепкого рукопожатия Фрэнк достал из скрытого в стене бара бутылку бренди. — За гомеровскую Трою! Как только отроете что-нибудь великое — напишите, я сразу приеду. В честь Трои даже Софья осушила бокал.3
Перемены на Гиссарлыке поразили ее: расползшийся лабиринт траншей, новые террасы, обнажившиеся каменные кладки, а главное — маленький поселок из трех домиков на северозападном краю холма, у самого начала раскопок, и еще несколько строений теснилось на равнине, под восточным склоном. Генри с гордостью писал ей, что их три дома обошлись ему в двести долларов, и она ожидала увидеть более или менее приличные бараки, а это оказались крепкие постройки, с надежными крышами, с хорошими окнами и дверьми. В их доме было три комнаты: спальня, просторная столовая и рабочий кабинет с полками на две стены. Новые находки Генри все пронумеровал, но еще не очистил. Здесь же стоял видавший виды письменный стол, по случаю купленный им в Чанаккале. Этот изрытый оспинами ветеран пришелся Софье по душе: такой большой — можно работать вдвоем. В окна на левой стене было видно Эгейское море, острова Имброс и Самофракию. Она поставила любимую икону в киот, кое-как сбитый Яннакисом, платья повесила в угол, отгороженный занавеской— как в ее девичьей спальне в Колоне. Гардероб она подобрала соответствующий: три давно отставленных платья с широкой юбкой—удобно будет лазить по насыпям, платье с короткими рукавами и узкой талией, для этих мест, может, чересчур элегантное, но оно никогда ей не нравилось, удобная юбка, блуза. Забраковав шарф, не спасавший от палящего летнего солнца, она привезла пару шляп — широкополую соломенную и фетровую. Само собой, не были забыты и две пары кожаных ботинок. Генри показал ей и два других домика: в одном жили десятники Макрис и Деметриу, в другом была кухня. Яннакис уже поставил плиту (ночью пришла арба) и прорубал в потолке дыру для трубы. Увидев Софью, великан осторожно спустился по лестнице, пал ниц и поцеловал ей руку. — Здравствуйте в Шлиманвилле, моя госпожа. То-то хозяину приятно! — Яннакис, ты нашел девушку для госпожи Шлиман? — спросил Генри. — Какую девушку? — удивилась Софья. — Зачем? — Тебе нужна подружка и горничная. Сейчас не то, что в прошлом году. Рабочие из Ренкёя отправляются домой только в субботу вечером или накануне церковного праздника. Здесь они разбили лагерь, спят, обернувшись в несколько одеял. Я поставил для них бочки с водой, нужники. Есть продуктовая лавочка, хотя они все приносят с собой в понедельник. Мы, как видишь, закладываем ни много ни мало деревню под названием «Гиссарлык». И слишком здесь много мужчин, чтобы оставлять тебя одну дома. Распустив рот до ушей, Яннакис пожирал их глазами. — Хозяин, я нашел девушку. — Отлично. Сколько времени она здесь будет? — Столько же, сколько и вы. Я на ней женился. Чтобы не сбежала. Тут было чему удивиться. Всего год назад едва переступивший сорокалетний рубеж Яннакис зарекался жениться: распоряжаться другими не в его характере, а с женой особенно надо уметь себя поставить. Иначе нельзя — Азия… И вот он жертвует собою ради них—так, что ли, получается? — Где же она, Яннакис? — Сейчас приведу. Он нырнул в клетушку при кухне и через минуту вывел упиравшуюся супругу. — Вот Поликсена, хозяин. Мы родственники. Она из Ренкёя. Потупив глаза. Поликсена поклонилась Генри, потом Софье и чуть слышно промолвила: — Ваша слуга. Это была миленькая и какая-то очень чистенькая девушка лет шестнадцати, росточком аккурат под мышку Яннакису. Поскольку она была какой-никакой гречанкой, лица она не закрывала. На ней была белая рубашка с длинными рукавами, длинная юбка, голова покрыта шалью. Застенчивая, но видно, что девушка она самостоятельная и что с нею будет легко. Вдоль двух свободных стен кухни Яннакис тесно составил стофунтовые мешки, и чего там только не было: кофе, сахар, бобы, фасоль, сушеный и зеленый горох, чечевица, рис, сушеные фиги, изюм, орехи, мука… А Яннакис вносил новые тюки и пакеты: макароны, корица, мускатный орех, ваниль, фисташки, томатная паста, тертый сыр, патока. На улице дожидались своей очереди бочонки с пикулями и селедкой, маслины, сардины… Развязывали крепкий узел, заглядывали в мешок. — Вот это запах, — радовалась Софья. — Как в торговых рядах. Генри даже не пытался скрыть счастливой улыбки. — За эти шесть недель я изголодался. Теперь наверстаем. — Так вот зачем ты меня ждал: тебе нужен повар. — Я повар! — заревновал Яннакис. — Лучший в Троаде! Вдруг голос взяла Поликсена: — Это не мужское дело. Я буду готовить. — Нет! — отрезал Яннакис. — На кухне я хозяин. И побледнел, обессилев от смелости. — Мы все будем готовить, — рассмеялась Софья. — Наперегонки. Генри повел ее на раскопки. По холму взад-вперед сновали рабочие в синих штанах и красных фесках. — Настоящий муравейник! — воскликнула Софья. — Правильно: здесь сто тридцать человек. Нам очень повезло с инструментом, особенно с тачками и совковыми лопатами. Они направились к южному краю холма, где в четвертом веке новой эры процветал Новый Илион. — С тех пор здесь уже никто не жил. Бригада из сорока пяти человек пробивала раскоп с равнины вверх по некрутому склону. Руководил работой незнакомый ей человек в шахтерском шлеме, обутый в высокие английские ботинки. — Помнишь, я говорил в Афинах, что хорошо бы найти в десятники шахтера? А шахтер сам нашел нас. Это Георгиос Фотидис, здешний грек. Он семь лет проработал в Австралии на рудниках. Затосковал по дому, вернулся, женился на молоденькой девушке из соседней деревни. Взял без приданого, сидел без работы. Я тут же нанял его, узнав, что он имеет опыт в сооружении тоннелей. Он отлично знает свое дело. Ночует в нашем втором домике. Взяв ее за руку, он спустился к широкой траншее и представил ей Фотидиса. Тот снял свой шлем, приложил руку к сердцу и склонился в низком поклоне. — Фотидис, — обратился к нему Генри, — объясните миссис Шлиман, что вы делаете. — С радостью, доктор Шлиман. Его греческий был безупречен, причем это был почти язык образованного человека. — Мы поднимаемся с равнины, миссис Шлиман, до отметки сорок шесть футов, где, по мысли доктора Шлимана, станем на материк. После этого мы пойдем поперек холма, на соединение с бригадами Макриса и Деметриу, они идут с северной стороны. Когда мы встретимся, наша траншея опояшет по ширине весь холм на уровне материка. На уровне гомеровской Трои. Таково намерение доктора. — И доктор уже не передумает, — мрачновато протянул Генри. — Пойдем, Софья, на северный склон, посмотрим, как там. Переваливая через холм, они подошли к месту, где еще одна бригада крошила земной покров с двадцатишестифутового утеса: тут, полагал Шлиман, таится троянский акрополь. Холм, словно скорлупой, был покрыт наносной почвой в возрасте от трех до четырех тысяч лет. Внутри же было ядро, скальная гора, на которой стояла первая Троя. Этот орешек и хотел попробовать на зуб Генри Шлиман. А скорлупу выплюнуть. Не сделав и двух шагов по плато, Софья подняла глаза и увидела такое, от чего у нее подкосились ноги. — Матерь божья! Это явь или сон? — Красивые, правда? — ликовал Генри. — Я попросил пока не выбирать их из земли, чтобы ты увидела их in situ. Зрелище и впрямь ошеломляло: наполовину отрытые, в траншее стояли в ряд десять оранжевых пифосов [21]. В высоту они, видимо, достигали семи футов и имели пять футов в тулове. — Генри, что это? Для чего они использовались? И почему стоят рядком, да еще так высоко? Генри удовлетворенно хмыкнул. — Глядя на эту земляную стену, трудно поверить, что перед тобою улица, даже несколько улиц с остатками домов на них. А в этих великолепных пифосах хранили масло, воду, пшеницу, ячмень… — Но как же добирались до этих запасов? По лестнице, что ли? — Совсем наоборот, любовь моя: опускались на колени. Она оторопело взглянула на него. И тут сверкнула догадка. — Ты хочешь сказать, что они были зарыты в землю? — Непременно. Обычно дом состоял всего из одной комнаты. Внеси в нее эти пифосы—и семье придется спать на дворе. Поэтому они зарывали их в один ряд по самое горлышко перед очагом. Новое потрясение ожидало ее, когда они спустились на сорок шесть футов ниже плато: она увидела первые штрихи великого замысла Генри, первые контуры рабочей площадки. Землекопы Деметриу спустили траншею сверху, с плато; по крутому северному склону наперерез ей подвели свою траншею рабочие Макриса. Вместе они выбрали уже свыше пятнадцати тысяч кубических ярдов земли. Площадка подрезала холм уже на сто пятьдесят футов; с этого плацдарма люди Шлимана будут сокрушать земляную преграду, укрывающую — Генри в это свято верил — цитадель, некогда защищенную могучими каменными стенами, которых не одолела даже десятилетняя осада ахейцев. Здесь должна быть и дорога на равнину. — Генри, неужто я стою на земле гомеровского Илиона? — Я, во всяком случае, в этом убежден. Понимаешь, — воодушевился он, — в первую очередь нам нужно найти стены. Сядем на этот уступчик. Он достал из кармана сюртука «Илиаду» и зачитал место из разговора Посейдона с Аполлоном:О них сказано чуть дальше. Вот:
Они вернулись в дом. Усердием Яннакиса их ждал горячий обед. — Плита. — гордясь собою, объявил он, — она работает. Сделал муссаку, рисовый плов, отбивные в вине. Печь работает, испек буханку греческого хлеба. Генри распечатал бутылку своего любимого турецкого вина. — Выпьем за находки великие и удивительные! — За это стоит. За этим мы и приехали сюда. Но сначала я хочу выпить за счастье в этом доме, что ты выстроил для нас. — А счастливы, — он твердо посмотрел ей в глаза, — мы будем тогда, когда предъявим всем троянский акрополь. Это образумит маловеров. «Что ж. верно, — подумала она, — счастье нашего брака зависит от того, найдем мы Трою или нет. Только обижаться не на что: я знала, на что иду». После обеда он увел ее в рабочую комнату показать, что онинакопали, пока она оставалась в Афинах. Он не разобрал находки по материалу, сложил кучками по общему месту залегания, керамику, камень, кость. — Мы открыли подпору из известняка с галькой, она явно предназначалась для того, чтобы придать устойчивость зданиям на холме. Земля за подпорой стала твердой, как камень. Там же мы нашли остатки домов и вот эту кучу вещей: диоритовые топоры, пращевые ядра, кремневые ножи, ступы из лавы, этих прелестных мраморных идолов с головой совы и без оной, глиняные грузила-пирамидки, терракотовые ракушки… — Утром я возьмусь за их расчистку. Сделаю обмеры, составлю описание. Я привезла порядочно рыбьего клея и алебастра. — Очень хорошо. Работы тебе здесь хватит. — Но я хочу и копать! — Пойдем на компромисс. С утра работай со мной на площадке, а после обеда оставайся дома — веди записи, приводи в порядок мои статьи для лондонской «Тайме» и «Аугсбургер альгемайне». На полках она обнаружила серебряную брошку, формочку для отливки украшений, поврежденный сосуд с прелестной росписью, почерневшие бронзовые иглы, копье из меди. Легкими пальцами она трогала диоритовые молотки, керамику — иссиня-черную, коричневую, желтую; аккуратными стопками грудились блюда, рожденные на гончарном круге, вазы с мужскими лицами и вазы неведомых им дотоле форм, двудонные кубки, похожие на бокалы для шампанского, черный кувшин, высоко задравший свой птичий носик, пустые погребальные урны, полные корзины черепков, расписанных удивительно живыми красками, глиняные печати с какими-то надписями, треногий кувшин, по-видимому изображавший собою женщину, поскольку в положенном месте были груди. — Такую массу вещей скоро не обработаешь. Ах, как жаль, что меня не было здесь все это время! Я бы их еще в земле перетрогала, привыкла бы к ним. — Привыкнешь, когда подержишь их в руках. — Ты примерно представляешь их возраст? — Они все перемешались, вроде наших городов на холме. Многое прояснится в работе, а афинские друзья из университета помогут уточнить окончательно. Теперь, я думаю, пора спать. У тебя был трудный день. Яннакис распаковал ящики с одеялами. Поликсена приготовила им постель. Безмятежно рассмеявшись. Софья обвила руками шею мужа. — Милый мой Эррикаки! Сейчас ты укроешься настоящим шерстяным одеялом, заправленным в настоящий атласный пододеяльник, и почувствуешь себя в раю. — А я там всегда, когда я с тобой. Она проснулась и рывком села на постели: что-то ползло по щеке! Завизжав, она смахнула тварь и спрыгнула на пол. — Генри! Многоножка! — Всего-навсего сороконожка, — сонным голосом ответил он. — Разве ее укус не страшен? — Не страшнее смерти. — Нет, теперь я буду спать, укрывшись с головой. Она привычно тронула шейный крестик. — Святые заступники, обороните нас! — Они тяжелы на подъем. Проще попросить Яннакиса обметать потолок днем, пока светло. Генри проснулся в четыре, было еще темно. Резвые лошадки быстро добежали до Симоиса. Софья не стала купаться. Когда они возвращались, солнце выкатилось из-за зубцов Иды, и небо заалело нежным румянцем. Софья сделала маленький крюк, чтобы увидеть светлое пробуждение Дарданелл. Через минуту-другую зажегся и высокий гребень Самофракии. В прошлом голу, впервые наблюдая с Гиссарлыка здешний восход солнца, она едва не задохнулась от счастья. А сейчас ее радость была легка: она у себя дома. Вместе с кофе Яннакис поставил перед ними какую-то отраву. — Что это? — спросила Софья. — Новый вид хинина? — Хинин мы будем пить летом, когда пересохнут болота, — ответил Генри. — Это отвар из «змеиной травы». В числе твоих находок будут змеи — коричневые гадючки не толще дождевого червя, ядовитые. Рабочие пьют это варево каждое утро, и тогда укус змеи неопасен. В половине шестого, оставив Поликсену убираться в доме, они спустились к восточному подножию, где у плетня с воротцами уже стоял Яннакис. Он отмечал в книге каждого проходившего в ворота. Расплачивались теперь не вечером, а в конце недели. Бакалейщик открыл рабочим кредит; в субботу вечером и накануне церковных праздников производился окончательный расчет. Необходимые деньги были теперь у Генри только в день получки: накануне их привозил его агент из Чанаккале, некий господин Докос. Генри издали показал ей новых смотрителей — двух турецких солдат. Знакомить их он не счел нужным. — Вот когда мы пожалеем о нашем приятеле Георгии Саркисе! Эти не спускают с нас глаз. Я держу их на почтительном расстоянии от себя. Разметочные колышки отделяют турецкую часть холма от собственности Фрэнка Калверта. Надзирателям разрешается забирать половину находок с государственного участка, но я придумал умную штуку: не позволяю им переступать порог нашего дома. Пусть комплектуют коллекцию своего музея прямо здесь, на месте, в обеденный перерыв или вечером, с окончанием работы. Нельзя допустить, чтобы они видели вещи после расчистки. — Но они хоть с толком отбирают свою половину? — Откуда им взять этот толк? Простые солдаты. Что отмытые вещи, что нсотмытые — им надо взять половину. В ее бригаду он смог выделить только десять человек. С некоторыми она работала в прошлый сезон, да и новички встретили ее вполне дружелюбно. Генри дал чертежик: по обе стороны от главной площадки нужны две тридцатифутовые террасы (у вершины они поднимутся еще на шестнадцать-девятнадцать футов); они должны иметь двадцать футов в ширину и сто в длину. На чертеже с обеих террас во все стороны разбегались предполагаемые траншейки. — С таким же успехом можно было начать с вершины, — заметила Софья, — и в тачках перевезти весь холм куда-нибудь на другое место. — Нет, Софья, наша цель не в том, чтобы срыть холм. Наносную землю прежде надо просеять — вдруг что найдем? — и только потом можно везти ее на свалку. А стены, укрепления, храмы, дворцы, улицы и ворота, которые мы отроем, — их все мы должны оставить на месте, нетронутыми. Пришел Фотидис, помог сделать разметку второй террасы. Софья не могла нарадоваться, насколько убыстрили работу металлические совковые лопаты, отличные кирки и на совесть сделанные английские тачки. Когда отвальную породу ссыпали в корзины или тачки, она была начеку. Найденные предметы, не расчищая даже из любопытства, она сносила в одно место. В одиннадцать часов дали отбой на обед. Под инквизиторским взглядом Генри надзиратели отобрали свою половину у Фотидиса, Макриса и Деметриу и подошли к Софьиной террасе. На черепки, лежавшие отдельно, они даже не взглянули. Софья обменялась с Генри понимающим взглядом. Эти осколки они соберут в Афинах и станут обладателями прекраснейших ваз с дивной росписью и орнаментом. С обедом Генри распорядился так: Яннакис готовит на всех. Шлиманам накрывают в столовой, остальные—трое десятников, Яннакис и Поликсена—обедают за грубым деревенским столом в кухне. Яннакис явил чудеса расторопности. Отметив утром всех вышедших на работу, он наведался в несколько ближайших деревень и вернулся с живой добычей — четыре курицы!
4
В конце мая Генри распорядился возвести несколько каменных стен для сброса — земли, каменных глыб, — непрерывным потоком поступавшего сверху. Первая кладка его не удовлетворила, и он запретил рабочим близко подходить к ней. Фотидис у было велено поставить другую стену, повыше, из крупных камней — их во множестве отрывали каждый день. Выполнив наказ, Фотидис самоуверенно объявил: — Эта стена простоит века. — Может быть, — согласился Генри. — Но лучше ее сразу укрепить. Шестерых рабочих отрядили сделать подпору. И гут стена с треском рухнула. Услышав леденящий душу вопль Генри, Софья одним духом примчалась к нему. Он рвал на себе волосы: те шестеро работали под самой стеной! Все, кто был рядом, и даже подоспевшие издалека рабочие Фотидиса лихорадочно растаскивали валуны. С одержимостью помешанного им помогал Генри. — Фотидис, — спросила Софья, — вы уверены, что рабочих засыпало? Мучаясь сознанием собственной вины, тот взглянул на нее белыми от ужаса глазами. — Когда я в последний раз видел их, мадам Шлиман… Глядите! — судорожно оборвал он себя. — Вот они! Сами выбираются, черти! И, словно отмахиваясь от пыли, трижды мелко перекрестился. Софья окликнула Генри, суетившегося с другой стороны каменного развала. — Все в порядке. Генри! Люди целы. Он подошел к ним, нервно дергая левой щекой. Крепко пожал руки всем благополучно выбравшимся. — Это чудо, — сказал он Софье. — Не иначе. Они ведь работали под самой стеной. Господь печется о дураках и детях, и сейчас мне все равно, кто я в его глазах. Малышка, у меня ни на что нет сил. Пойдем домой. Поликсена сделает нам кофе. Отхлебнув густого черного напитка, он отставил чашку, потянулся через стол и крепко взял ее за руки. — Софидион. сегодняшний день мог стать последним в нашей одиссее. Если бы те шестеро погибли, то уже никакие деньги и никакие посулы не спасли бы нас. В одном троадские женщины безусловно похожи на гречанок: хоть старый, хоть бедный, но муж — это сокровище превыше земных и небесных радостей. — А так и должно быть. Она опустилась перед иконой богоматери и возблагодарила за спасение людей. — Я не буду заново ставить эту стену, — решил Генри. — Сбрасывать камни и землю, конечно, опасно—для рук, ног. Но не для жизни. А мы еще и перестрахуемся: я найму в Хыблаке пару мальчишек, пусть глядят в оба. Когда с горы покатится камень, они будут кричать: «Поглядывай!» — и рабочие успеют отойти в сторону. Потянулись недели, месяцы, пришли новые трудности и огорчения, пришли и радости. Сто пятьдесят человек потрошили холм, выбивая ступени и террасы, прорубая рвы, вырубая пещеры, прокладывая целые тракты, — и Софья видела, как с каждым днем изменяются очертания холма. Прежде она не задумывалась над тем, что горы могут расти, а могут и уменьшаться в росте, что они не существуют неизменными от века: на них действуют природные силы, из которых самая могущественная — человек. Глядя с вершины на искромсанное тело холма, она всякий раз воображала разные картины. То ей представилось, что это обширный лабиринт, вроде того, что на Крите, под Кносским дворцом: там Тезей убил Минотавра и с помощью Ариадны, давшей ему путеводную нить, выбрался на свет. А в другое время, особенно утром или ближе к вечеру, изрытый холм казался ей гигантским ульем, второй горой Гимет. Или являлось видение кратера потухшего вулкана, на дне которого растет одно-единственное деревце, живой укор сковавшим его земле и лаве. Июнь принес нестерпимую жару. Беспокоясь за рабочих, Генри подрядил старшего сына Драмали возить в поселок воду из ближнего холодного ключа. Еще один представитель этого семейства грузил бочонки на ослика и развозил воду но траншеям. В разгар июня, в самое пекло, на холм привозилось до десяти бочонков, а воды все не хватало. С севера задули ветры ураганной силы. Поликсена обматывала Софье всю голову вместе со шляпой прозрачным шелком, чтобы уберечь глаза, нос и рот от беснующейся пыли. Зато пропали змеи, и не надо было по утрам глотать противоядие. В теплые вечера они обедали на воздухе, смотрели, как солнце опускается в Эгейское море. Чудно менялись краски! Сначала море переливалось нежно-розовым перламутром, потом загоралось рдяным пламенем и перегорало в пурпурные угольки: высыпали звезды, свет ушел. Стоял теплый вечер, ветерок доносил из рощицы запах апельсинов. — Я видела море разным, — задумчиво сказала Софья, — черным, пепельным, бирюзовым, по-утреннему голубым и, как сегодня, багровым. Но я не припомню его таким, какое оно у Гомера: «виноцветное море». Генри достал из нагрудного кармашка сигару, надрезал золотым ножичком, болтавшимся на часовой цепочке, раскурил и удовлетворенно выпустил струю дыма. — Это то же самое, что «золотое яблоко раздора», которое Эрида подбросила богам и богиням, пировавшим на свадьбе родителей Ахилла. Или, к примеру, те три золотых яблока, что Меланион бросил во время состязания под ноги Аталанте, желая ее отвлечь и задержать. Иначе вместо Аталанты он обручился бы со смертью, как все прежние претенденты… — По-моему, ты отвлекся, милый. Что там было с золотыми яблоками? — А не было никаких золотых яблок. Не было их никогда в Греции, а были золотые апельсины. Разве не смешно, что сказочные золотые яблоки могут оказаться обычными апельсинами?! Ладно, шутки в сторону: относительно «виноцветного моря» у меня есть одна еретическая идея. Я полагаю, что Гомер имел в виду вовсе не цвет, а вязкую густоту моря. Только не выдавай меня нашим друзьям из университета. Они выльют на меня ушаты воды. Если угодно, «виноцветной». Каждый день радовал новостью. На южном склоне, где в трехстах ярдах от обнаруженной в прошлом году каменной стены копал Фотидис, открыли древнюю каменоломню, давшую строительный материал всем каменным Троям на холме, вплоть до христианских поселений. Широкий зев штольни был скрыт густо разросшимся кустарником. Генри и Софья спустились в пустой карьер. — Вот и еще одно доказательство в пользу того, что троянцы строились именно здесь, а не где-то еще в Троаде. В Бунарбаши хотя бы, — заключил Генри. — Великолепный строительный материал, и главное — под рукой. На следующий день обнаружили стены дома, сложенные из отесанных известняковых глыб на глиняном растворе. Все камни были одинаковой величины и обработаны чрезвычайно искусно: поверхность стены, которую Генри датировал десятым веком до нашей эры, была изумительно ровной. Под стенами лежал слой желтого и коричневого пепла — все, что осталось от деревянных построек, крытых тростником. Прошло два дня. Они зарылись ниже фундамента дома на тринадцать футов. Стена! Шестифутовой толщины. Генри обессиленно опустился на землю. — Наконец-то! Она должна стоять на материке. Естественно, Софья разделяла его уверенность. — Сейчас прикинем. — Его буквально лихорадило. — Это на тридцать три фута ниже плато. Большая площадка—на сорок шесть. Может, несколько футов придется еще пройти. Из сорока шести вычтем тридцать три—тринадцать. Стало быть, эта стена должна уходить вниз по меньшей мере на тринадцать футов. — А вдруг нет? — Надо проверить, а для этого я разберу наш замечательный дом. — Не надо! Неужели нет другой возможности? — Никакой. Но если стена стоит на материковой скале, то уж ее-то я пощажу. Но стена подвела: она оказалась фундаментом еще одного дома, много старше первого, от которого теперь не осталось камня на камне. — По-прежнему никаких доказательств, что мы достигли уровня Трои, — бранчливо жаловался он вечером, каталогизируя дневной улов. — А ведь копаем уже больше двух месяцев. Он встал и принялся расхаживать по комнате. Все считано-пересчитано, читано-перечитано—тысячи раз! — Этот последний фундамент, каким временем ты его можешь датировать? — Ближайшие преемники древних троянцев. — Так что же расстраиваться, если мы подошли так близко? Он передал ей почти неповрежденную вазу с изображением совиной головы—очистить, внести в опись. — Ты права. Не будем падать духом. От Фрэнка Калверта пришла весточка, что он с женой едет в Фимбру навестить брата и в воскресенье после обеда приедет в Гиссарлык посмотреть их достижения. Призвав на помощь Яннакиса и Поликсену, Софья до мелочей продумала воскресный обед: стол должен быть греческим — это, она надеялась, придется гостям по вкусу. В субботу, во второй половине дня, Генри с семьюдесятью рабочими закладывал новую, третью по счету, стофутовую террасу. С этого места начиналась половина Фрэнка Калверта. У самой кромки отвесного северного утеса он различил углубление в земле. Обмерил: сто футов в длину и семьдесят шесть в ширину. Яннакис побежал домой за Софьей. Когда она явилась, Генри объяснил: это варварская каменоломня—так же римляне использовали Колизей как склад строительного материала. — Ты помнишь, мы проезжали турецкие кладбища, где вместо надгробий стояли куски мрамора? — Конечно. Ты говорил, что они остались от Древней Греции. — Вот-вот. Турки побывали здесь много сотен лет назад, добывая мраморные плиты и колонны. Если собрать, что они растащили, то получится город с храмом, залом для собраний и дворцами. Это еще одно доказательство тому, что в этом холме погребено несколько городов из камня и мрамора. Когда спустились сумерки и рабочие стали потихоньку сворачивать работу, Генри заметил выступающий из отвесного склона край мраморной плиты с признаками художественной работы: прежде он близоруко решил, что это руины храма, построенного в 310 году до новой эры полководцем Александра Великого Лисимахом. Это был турецкий участок, совсем недалеко от разделительной линии. Он предупреждающе тронул Софью за локоть и быстрым шагом направился к рабочим. — Уже темно. Как бы не покалечить друг друга. Несите инструменты на склад и получите деньги у Яннакиса. Повинуясь молчаливому приказу, Софья не трогалась с места. Она раскланивалась с проходившими мимо, желала им хорошего отдыха в домашнем кругу. И только последний рабочий растаял в темноте, она подошла к Генри. — Софья, нужна твоя помощь. Нужно побольше отрыть эту плиту, чтобы увидеть, что это такое. Я совком разрыхлю землю вокруг, а ты относи ее руками. Не бойся, она не вывалится, она крепко замурована. Они работали, не разгибая спины, пока не освободили от земли порядочный кусок плиты. Это был паросский мрамор: триглифы окружали высеченную метопу. В ней было более шести футов в длину, три — в высоту, и толщиной плита была в шесть дюймов. Они отступили назад и непроизвольно взялись за руки. Генри до боли сжал ее пальцы. На метопе было горельефное изображение бога солнца Аполлона, правившего четверкой коней. Над головой Аполлона венцом расходились солнечные лучи. — Великолепная работа! — задохнулся Генри. — Раздувшийся хитон Аполлона, его энергичное лицо выдерживают сравнение с лучшими горельефами Акрополя. А кони! Они же фыркают, несясь по поднебесью! Здесь все анатомически верно. Нет, я впервые вижу столь мастерскую работу! Вот он, наш первый шедевр. Он осторожно, словно оглаживая, провел рукой по метопе. — Она в прекрасном состоянии. Обрати внимание на эти дорические колонны, оцени, какие разные все четыре коня, у каждого особая стать, и как дружно они вскинули передние ноги перед могучим прыжком. Софья огляделась в сгущавшихся сумерках. — Мы на земле Фрэнка Калверта или на государственной? — Здесь все близко. Мы в нескольких ярдах от каменоломни на участке Фрэнка. А здесь-то, увы, турки хозяева. — Как же, прости господи, можно поделить пополам творение скульптора? Аполлон без коней, кони без Аполлона — это же бессмыслица! — Да и ценность плиты как произведения древнего искусства будет утрачена. Это такая же дикость, как распилить вдоль Венеру Милосскую или Давида Микеланджело и каждому компаньону отдать его половину. Софья озорно блеснула глазами. — Я придумала: давай расщепим плиту, она ведь толстая. Верхнюю часть возьмем себе, а заднюю стенку отдадим туркам. Оба рассмеялись. Генри положил руку ей на плечо. — Тотчас видна хитроумная гречанка! Она уже серьезно спросила: — Ты не думаешь, что ее надо бы чем-нибудь прикрыть? Для безопасности? — Не надо. Наша стража уже ушла и раньше понедельника не объявится. До понедельника здесь вообще никого не будет. Завтра я хочу показать ее Фрэнку Калверту. Калверты приехали около одиннадцати. Софья первым делом потащила их воочию убеждаться, чего достиг Генри с начала апреля. Фрэнк ахал, слушая, сколько земли выбрали все бригады, у него разбегались глаза от множества рабочих площадок, террас и обводных галерей на государственной территории холма. — Но собственно троянских сооружений вы не нашли? — спросил он. — Так, остатки строений… Акрополь, храм, дворец — их мы не нашли… пока. — Вы поставили перед собой грандиозную задачу. — Мы не очень преуспели на вашей половине, Фрэнк, только начинаем. Я хочу показать вам мраморный карьер на вашей земле, где много сотен лет назад мародерствовали турки. И еще у меня есть про запас нечто поразительное. Фрэнк внимательно вгляделся в четырехугольный провал. — Я часто задумывался над тем, как появилась здесь эта дыра. Безусловно, вы правы. Теперь я вспоминаю, что встречал мраморные колонны и плиты на всем пути до троянской Александрии, а это сорок миль вдоль побережья. Взяв миссис Калверт под руку, Софья подвела ее к метопе. По пятам за ними шли Генри и Фрэнк. Генри мягкой тряпкой обмахнул плиту. Первой пришла в себя миссис Калверт. — Боже, какая красота! Ничего подобного не видела в своей жизни, даже в музеях. Каков может быть ее возраст? Посоветовавшись. Генри и Фрэнк решили, что это поздне-греческая эпоха, между 300 и 200 годами до рождества Христова. — Мы в затруднении, — выдавила смешок Софья. — мы не знаем, что с ней делать. Генри пересказал Калвертам их вчерашний разговор. — Сделайте умнее, — загорелся Фрэнк. — Что вам мешает тайком вывезти ее из страны? Это ваш первенец — при чем здесь турки? — Но каким образом? Не везти же ее в Чанаккале… — Не вы ли мне говорили, что какой-то пароходик доставляет вам сюда провизию? — Действительно, — ответил Генри, — как раз через пару дней капитан Папалиолос приведет «Таксиархис» в заливчик Бесика. — Чудесно! — Фрэнк обнаруживал азарт спортсмена. — Сколько у вас людей, на которых можно положиться? — Трое. Мои десятники. — И Яннакис. — подсказала Софья, — он самый верный. — Отлично, — заключил Фрэнк. — Сегодня же оберните мрамор брезентом, свяжите веревками, возьмите в Хыблаке хорошую арбу и отвезите ваше чудо на берег залива. И оставьте лежать на берегу, никто не тронет. На судне есть лебедка? — Простой ворот, старенький… — Подойдет, — успокоил Фрэнк. — Грузите плиту на пароход, отправляйте в Пирей, и комар носа не подточит. Все четверо долго стояли молча. Первой опомнилась Софья. — Пойдемте в дом! Мы приготовили для вас настоящий треческий обед… поджаренные хлебцы с икрой, салат из рыбной икры, маринованные бараньи мозги… Проводив Калвертов, Генри послал Яннакиса в Хыблак договориться с Драмали относительно арбы и пары лошадей. Сомнения одолевали Софью. — Мой милый, я не хочу морализировать, но правильно ли мы делаем? — В этом испорченном мире нет ничего безусловно правильного. Коль скоро мы с тобой решили, что нельзя пилить Аполлона пополам, у нас одна задача: передать его в музей неповрежденным. С этим ты согласна? — Да… Видишь ли, мне еще оттого не по себе, что я боюсь: вдруг мы потеряем разрешение на раскопки, если попадемся? — Не попадемся. Я все беру на себя. И всю ответственность тоже. Она нервно рассмеялась. — Я имею в виду моральную ответственность. Захватив десятников и нагрузившись рулонами брезента и связками крепких веревок, Генри и Софья направились к Аполлону. Они надежно спеленали плиту, а здесь подоспел и Яннакис с арбой, подогнал ее ближе к двухтонной махине. Пока он сдерживал лошадей, десятники подняли плиту лебедкой, аккуратно уложили на дно арбы и надежно привязали. Яннакис и Поликсена сели на высокие козлы спереди, Макрис и Деметриу устроились на плите и задымили самокрутками. Генри отдал последнее напутствие: — Оставьте ее точно против того места, где в прошлый раз пристал вельбот. Вы его и разгружали. В четверг Шлиманы получили известие, что «Таксиархис» бросил якорь в заливе Бесика. Капитан Папалиолос доставил долгожданные десятифутовые рычаги. Генри немедля ускакал на побережье. Яннакис снова позаимствовал у Драмали арбу и взял с раскопок одну лебедку. Их груз лежал на берегу нетронутый. Яннакис встал к лебедке, семейный экипаж погрузил плиту в бот и отчалил. Капитан Папалиолос взялся за ручку своего допотопного ворота и поднял Аполлона на борт «Таксиархиса». Тем временем на берегу Яннакис грузил на арбу корзины с припасами и железные ломы. Берег и пароход обменялись прощальными криками. Капитан вез письмо для Георгиоса Энгастроменоса: в Пирее принять плиту и поставить в саду у Шлиманов, около бассейна. Капитан дал задний ход, медленно развернул судно и взял курс в Эгейское море. В это самое время, нещадно нахлестывая ослика и колотя пятками по его бокам, притрусил их турок-опекун. Соскочив на землю, он устремил на Генри испытующий взгляд. — Что вы здесь делаете? — Принимаем груз, — ответил Генри. — Не сбивайте меня. Что вы погрузили на пароход? В Хыблаке говорят, что в воскресенье вы вывезли что-то большое. Не это ли вы сейчас отправили? Скажите, что это было. Я требую. — Да что вы так беспокоитесь? Просто это была большая тара. Там наша половина находок. — Немедленно верните пароход. Я хочу сам увидеть, что вы погрузили. — Он уже далеко, — огорчился Генри, — докричитесь сами, если можете. И надзиратель послушно поднял руки ко рту, только на «Таксиархисе» все уже давно оглохли. Генри как мог успокоил стража. Скоро тот и впрямь перестал дуться. А пароход все полз к горизонту, оставляя за собой черный дымный хвост. Вечером Генри решил отметить событие и извлек бутылку лучшего французского вина. — Нам надо как-то выручить этого парня, — озабоченно сказала Софья, — чтобы у него потом не было неприятностей. — Прекрасная мысль, — согласился Генри, с наслаждением нюхая вино. — Что ты предлагаешь? — Как ты думаешь, в их музее есть такие пифосы, как наши? — Думаю, что нет. — Ты, кажется, собирался извлечь их? — Да. — Сделай это завтра и отдай надзирателю половину. — Я пойду дальше: отдам им семь, а нам оставлю три. Покажем, какая у нас широкая натура. Он поднял в ее сторону бокал и отпил глоток. — Их будет очень хлопотно транспортировать. Сначала на арбе до Чанаккале, потом пароходом до Константинополя, потом из порта до музея опять на телегах. Нужно найти плотную ткань, хорошенько обернуть их и как следует закрепить в ящиках, чтобы не бились о стенки. Им цены не будет, если довезти их в целости и сохранности. На следующий день рабочие осторожно разрыхлили и убрали землю за задними стенками гигантских пифосов. Яннакис наладил рядом с кухней верстак и ушел покупать деревянные планки: ящики требовались большие — восемь футов в высоту и шесть в ширину. Наконец нашли применение своим талантам и Фотидис с десятниками: они готовили горизонтальные опоры, которые обожмут пифосы в горловине, тулове и у днища. Пока их извлекали, пока сколачивали ящики и обкладывали кувшины соломой, пока их ставили на место и закрепляли, а потом наглухо заколачивали, — пока все это делалось, улетело в трубу несколько рабочих дней. Туда же отправились несколько сот долларов. — Мы оплачиваем не только пароход, но еще транспорт до самого порога музея, — скрипел Генри. — Пусть, — отмахнулась Софья, — зато эти чудесные вазы приобретут тебе друзей в Константинополе.5
Поликсена оказалась на редкость приятной помощницей. Лучшей экономки нельзя было и желать: вечером она обезвреживала от клопов их постель, утром сушила белье на солнце, днем гоняла скорпионов и сороконожек, наползавших через щели под дверью и в оконных рамах. Она еще всех обстирывала. Софья научила ее гладить рубашки Генри, крахмалить воротнички и каждый день по часу занималась с девушкой — учила чтению и письму. Оставаясь дома одни, они часами не закрывали рта. Поликсена рассказывала, как живется грекам в Турции, Софья расписывала афинскую жизнь, читала письма из дома, вспоминала Андромаху. Дочь уже знала новые слова, начала ходить. Софья не волновалась за нее, пока не пришло письмо от Катинго: у Андромахи простуда. — Генри, надо бы мне вернуться в Афины, как ты думаешь? — Пустое. Детская простуда — это на два-три дня. Ты не доползешь и до Спорад, а дочка уже поправится. Поликсена тоже просилась на раскопки. Софья взяла из кладовой кое-какой инструмент, и вблизи от дома подружки отрыли собственную траншейку. Копнули—и сразу нашли несколько терракотовых круглых предметов, некоторые с интересным орнаментом. Поликсена ликовала. Немного углубились, чуть расширили раскоп — и были вознаграждены сполна: нож, двухсторонний топор, резная слоновая кость. Софья при ней собрала из черепков горшок. Переимчивая ученица, помучившись, сложила вазу и от счастья захлопала в ладоши. — Она твоя, Поли, — сказала Софья. — Возьми ее домой на память. Благодарная мастерица поцеловала ей руку. Неудобства чинили не одни скорпионы и сороконожки: в раскопках полюбили устраиваться на ночь совы. Они заводили свое уханье с наступлением темноты и уже на всю ночь. Буквально под окном у них высиживала птенцов сова с каким-то особенно жутким голосом. — Сова—любимая птица Афины. Я не суеверен, но мне почему-то не хочется убивать эту тварь, которая не дает нам жизни. Может, отнесем ее гнездо на равнину, подыщем ей дерево? Поликсена, убирая со стола после ужина, прислушалась. — Унести гнездо—мама-сова оставит яйца, птенчики умрут. Но сов так много! Зачем их беречь! И Генри с легким сердцем распорядился пугнуть сову и унести гнездо. В ту ночь все спали как убитые. Неистребима в человеке алчность! Генри платил премию — четверть пиастра (один цент) — всякому, кто отдавал ему свою находку. Случались дни, когда сброс был пустым, и вот тогда начинались махинации: брали простой черепок и выцарапывали на нем орнамент. И номер удавался. У Шлиманов было слишком много работы, чтобы возиться с каждым черепком. Но однажды, разбирая и отмывая керамику, Софья удивилась: свежие порезы! Она показала черепок Генри. — Я знаю, что они считают нас ненормальными. Но почему они думают, что мы еще и дураки? — Это алчность, моя дорогая, самый страшный из смертных грехов. Ничего, я положу этому конец. Я буду штрафовать на два пиастра каждого, кого поймаю на обмане. Даже в самую жаркую погоду Генри не мог сманить Софью искупаться с ним в Дарданеллах. Так возникла идея душа. В углу их спальни Макрис пробил в потолке дыру, поставил бак с опускным донцем, а угол отгородил от комнаты дощатой перегородкой. Софья ступала в это подобие узкого шкафа, закрывалась и дергала за веревочку. Яннакис с утра заливал бак водой, и к возвращению Софьи с холма она успевала согреться. Как год назад, их дом скоро превратился в лазарет. Со всей округи везли больных, причем были серьезные случаи, когда они опускали руки. С упорством маньяка Генри рекомендовал женщинам ежедневное морское купание. Поначалу все отказывались: у турков и турецких греков не заведено, чтобы женщина купалась в море. Но с болезнью шутки плохи, а Шлиманы уже достаточно прославились своими чудесами — и они все полезли в море. После купаний общее самочувствие у многих улучшилось. Как-то из Неохори привезли девушку с язвами по всему телу и даже на левом глазу. Бедняжка так ослабла, что уже не держалась на ногах. Ее на ослике привез отец. Она и кашляла нехорошо. — Что же мы можем для нее сделать? — расплакалась Софья. За последний месяц ей семь раз пускали кровь. Софья смазала ее всю касторкой. Генри, как водится, предписал каждый день купаться в море. Через месяц девушка сама прошла три километра от Неохори, чтобы поблагодарить их. Подняв ее с колен, Софья внимательно рассмотрела ее левый глаз. — Генри, теперь окулист легко приведет его в порядок. Нужно послать ее… — Только в Константинополь. Причем вся семья потянется ее сопровождать. Такие здесь порядки. Здесь знают о медицине столько же, сколько знали о ней ахейцы в двенадцатом столетии до рождества Христова. Или сколько о ней знает, — добавил он вдруг с горечью, — твой афинский приятель Веницелос. А может, и столько не знают. Агамемнон говорит брату Менелаю:Раненый Эврипид просит Патрокла:
И Патрокл:
Софья предпочла пропустить мимо ушей упоминание о докторе Веницелосе. Подумать, как долго не забываются горечь и обида… — Но крестьянки же должны знать свои травы, корни, листья, ягоды… Как ты думаешь? — Все крестьяне их знают. Эти знания передаются из поколения в поколение. Да беда в том, что отвары из этих трав и корней лечат далеко не все болезни. В начале июля температура поднялась до 88 градусов [22]. Работали вяло. Семь дней вылетели начисто из-за дождей и праздников, и хотя все-таки сделали немало, но вожделенная Троя не спешила показываться. Генри стал раздражаться. — Рабочие из Ренкёя и вообще все здешние греки отрабатывают день не полностью. Я все подсчитал. Трижды за один час рабочий откладывает лопату, достает из кармана табак, лениво сворачивает самокрутку, долго слюнявит конец, потом ищет спички или идет прикурить у соседа, степенно закуривает, затягивается: десять минут—это самое меньшее! — пускаются на воздух. Ежечасно! У них есть полчаса на отдых в девять утра и полтора часа в полдень — пусть в это время и курят. Надо покончить с этим безобразием. — Ты не боишься, что они взбунтуются? — Ради бога. Я достаточно намучился с этими нахалами. Они всю жизнь работали только на себя, они просто не знают, что такое полный рабочий день. В обеденный перерыв он объявил, что отныне запрещает курить в рабочее время. Семьдесят рабочих из Ренкёя ответствовали оглушительным улюлюканьем. К счастью, их комментарии были внятны только загоревшимся ушам Софьи. — Они отказываются принять твои условия, — сказала она. — Если они не будут курить, сколько им хочется, они вообще перестанут работать. Но в Генри вселился бес. — Они думают, что из-за хорошей погоды я пожалею время и уступлю. Как бы не так. Яннакис, выплати за полдня каждому, кто хочет уйти. Получив расчет, рабочие из Ренкёя выстроились вдоль траншей, осыпая бранью более покладистых крестьян из других деревень. Поскольку слова не оказали нужного действия, в ход пошли камни. Генри подозвал Яннакиса. — Возьми лошадь и поезжай в турецкие деревни. Найди замену этим рабочим. Яннакис кивнул и поехал. В тот вечер бунтовщики из Ренкёя не пошли домой. Они улеглись спать в своем палаточном стане, чтобы с началом рабочего дня к ним было недалеко идти с поклоном. Софья провела тревожную ночь, опасаясь физической расправы. Утром, как обычно, Генри уехал купаться, а когда он вернулся—Яннакис записывал в книгу новобранцев. Пришло сто двадцать турков. Сломленные организаторским гением Шлима-на, рабочие из Ренкёя унылой цепочкой потянулись домой. Хоть он и был не очень лестного мнения о турецком правительстве и его чиновниках, тут он признался Софье: — Какие честные и славные люди. Я начинаю любить этот народ. — А мне жаль тех, из Ренкёя, — вздохнула Софья. — Хотели махом, а вышло прахом. Макрис и Деметриу жаловались: земляные стены пошли такие плотные, что их ничем не возьмешь. — А почему их не окопать? — подсказал Фотидис. — Сделайте подкопы, и они поддадутся. Идея понравилась Генри, и сообща они разработали такой план: земляные стены разбить на шестнадцатифутовые куски толщиной в десять футов и валить каждый отдельно. Фотидис сложил укрытие из толстых бревен под дощатым навесом: когда сверху полетят камни и мальчишки прокричат тревогу, рабочие успеют добежать и спрятаться. Прошло несколько дней. Генри и Софья были на своих участках, когда с пушечным грохотом рухнула источенная подкопами вся земляная стена разом. Фотидис с кем-то из рабочих точил лопаты в укрытии. И гора накрыла их. Софья была недалеко и прибежала быстро. На ровном месте вырос курган. Через секунду примчался Генри. — Я слышу стон! — схватила она его за руку. Со всех сторон сбегались рабочие. Они уже расхватали лопаты и кирки, когда Генри крикнул: — Стойте! Вы можете их поранить. Работайте руками. Вместе с рабочими Генри и Софья лихорадочно разгребали землю. Слава богу, крепкие стены и крыша выдержали, а в просторном помещении хватило воздуха. Людей откопали живыми и невредимыми. Даже закоренелый пантеист Генри по такому случаю трижды осенил себя православным крестом. — Благодаря господу и его неизреченной милости мы все живы и целы, — просто сказала Софья. Генри прижался щекой к ее щеке. — Спасибо твоей руке на моем плече. Она мой талисман. Пережитые волнения не дали ему спать всю ночь. — Мы потерпели серьезное поражение, Софья, — раскаивался он, слоняясь по комнате в рубахе и шлепанцах. — Придется отказаться от идеи гигантской площадки — мы не вскроем весь холм. Будем по-прежнему копать к югу, чтобы соединиться с Фотидисом, но будем копать траншеями, как в прошлом году. — Почему ты считаешь площадку неудачей, Генри? С нее ты вскрыл очень большой участок холма. — Да. но материка мы коснулись только пальцем. А что особенного нашли? Несколько урн, кости каких-то зверей, битую посуду да россыпи терракотовых бляшек. Путь был выбран неверно. Куда идти дальше? — Софья, я в полной растерянности. — Он яростно скреб макушку тупыми ногтями, словно втирал в голову новые идеи. — Здесь, здесь все, что мне нужно, но как до этого добраться?! — Таков удел исследователя, — мягко сказала она. — Сегодня он дрожит на холодном ветру, как остриженный ягненок, а завтра он уже в райском саду. И точно, из Афин дунул пронзительно холодный ветер. Генри не однажды доводилось слышать в свой адрес скептические замечания и насмешки, когда речь заходила о местоположении Трои, высказывалось и сожаление, как неразумно он распоряжается своим временем и деньгами. Но еще никто не задел его в печати. Пришли афинские «Полемические листы», где Генри публиковал свой рабочий дневник. В полученном же номере была напечатана разносная статья Георгиоса Николаидиса против публикаций Шлимана, его теорий и самих раскопок. Николандис был членом Археологического общества, к нему прислушивались. Родом он был с Крита; в Пизанском университете изучал юриспруденцию, во Флоренции переключился на археологию. Известность в гомеровском вопросе ему принесла книга «Илиада и ее топография», впервые опубликованная во Франции и дополненным изданием вышедшая в Греции. Главная мысль Николаидиса была та, что доктор Шлиман «тревожится понапрасну», что он швыряет деньги на ветер, что он делает ненаучные и непрофессиональные заявления, обнаруживающие в нем энтузиаста-любителя, невинного в отношении академической науки, и потому его выступление в печати сплошное недоразумение. Он соблазняет читателей игрой своей фантазии, и научный мир глубоко сожалеет об этом, ибо ни одно печатное слово доктора Шлимана не подтверждается сколько-нибудь реальным фактом. Честные и разумные люди знали и знают, что Трою невозможно найти под слоем земли и наносной породы, ибо Троя есть создание поэтического воображения. Посему доктору Шлиману следует прекратить копать и устраниться. Пусть он найдет себе более безобидное занятие, пусть увлечется им, а серьезное дело, каковым является археология, предоставит настоящим специалистам. Мусоля страницу, Генри скрежетал зубами от ярости. Отдельные предметы, которые он объявил троянскими. — вот все его аргументы. Да. он уязвим. — Я не верю, что Николаидис хоть раз был в Троаде! — бушевал он. — Он витает в облаках, а я копаю! Софья молчала. Он вконец истрепал себе нервы. Стал резок с рабочими, ходил с понурым видом, отмалчивался. Доставалось и Софье. Она не принимала это на свой счет, понимая его положение: абсолютно убежденный в том, что именно здесь стояла гомеровская Троя, он никак не мог найти бесспорное доказательство ее существования. И тогда она напомнила ему, что он говорил в самом начале: работа потребует не менее пяти лет. — Прошлый год не в счет, — хитрила она. — Мы поздно начали и до сезона дождей копали всего шесть недель. Нынешний год, по существу, первый, и мы всего три месяца копаем. Не спеши! — Пожизненное заключение, — мрачно бросил он в ее сторону. — Иногда я не уверен, кто из нас узник: я или Троя. Она всегда была хорошим пророком. На третий день массированной работы в новой траншее, которую они вели с площадки на юг, был обнаружен целый клад вещей: серебряная заколка для волос, медные гвозди, иголки из слоновой кости, блюда, ножи, кинжалы, медные и костяные перстни. На глубине от тридцати трех до пятидесяти двух футов ниже плато нашли медные браслеты. Корзины наполнялись черными кубками, молотками, топорами, гранитными грузилами, призмами из прозрачного зеленого камня, изящными мраморными идолами, метательными кольцами—все предметы были древними, сделаны умело и красиво, и все в прекрасной сохранности, за исключением, конечно, терракоты. — Надо расширить траншею в обе стороны, — загорелся Генри. — Может, наткнемся на дом или дворец. С загоревшимися глазами он выбрасывал из траншеи землю, просеивал ее между пальцами, одушевленный мыслью, что работает на материке. Софья впервые за все время здесь увидела его без сюртука, с приспущенным галстуком, с закатанными по локоть рукавами. Следующей находкой был небольшой могильник. Они отрыли три треногих сосуда на материковой скале. Прежде чем их поднять, Генри осмотрел сосуды изнутри, пытаясь определить их возраст, и, к изумлению своему, обнаружил в одном скелет зародыша. Он окликнул Софью. — Смотри: скелет зародыша. Семимесячный, если я что-нибудь понимаю.. — Но как он сохранился? Прежде мы не находили даже пепла в погребальных урнах. — Сегодня я напишу доктору Аретайосу, профессору хирургии в Афинском университете, и спрошу его ученое мнение. Я представляю себе это так: мать умерла до родов и была кремирована, а кости зародыша сохранились благодаря защитной плеве. Я попрошу какого-нибудь опытного хирурга восстановить скелет. Софья стояла молча.Генри до того издергался, что даже не понял, как ей больно. Эти косточки напоминали ей о ее собственном неродившемся ребенке—ему было примерно столько же времени. С неостывшей горечью она вновь пережила потерю. У нее закружилась голова, подогнулись колени, и она свалилась к ногам мужа в обмороке. Очнулась она уже дома, в постели. — Яннакис и Фотидис сделали носилки и принесли тебя сюда, — объяснил Генри. — Отчего это произошло? — Когда я это увидела, я вспомнила о своем выкидыше. На его побледневшем лице изобразилась мука. — Тупой, бесчувственный болван! Как же я мог не подумать? Надо было спрятать от тебя эти кости. Она смочила пересохшие губы водой из стакана. — Не кори себя, Генри. Это случилось помимо моей воли. Просто оборвалось что-то внутри. От доктора Аретайоса пришел ответ. Мнение доктора расходилось с предположением Генри: «Сохранность костей эмбриона стала возможной при единственном допущении: мать умерла родами, ее кремировали, а мертвое дитя опустили в урну с ее прахом». В расширившейся траншее Генри удвоил число рабочих. Вскоре они наткнулись на дом, а в конце того же дня, похоже, и на дворец. Генри радовался, как ребенок. Он внимательно осмотрел глыбы отесанного камня, ножичком поскреб швы и ссыпал оранжевую пыль в конверт. Потом подозвал Софью. — Теперь понятно, почему дома и дворцы было легко разрушить: камни скреплены глиной, ничем больше. Толкни стену—и повалится весь дом. Когда мы разберем эту кладку, мы найдем под ней интересные вещи. Далеко за полночь кончили они расчистку серебра, меди, гвоздей, кинжалов, колец, составили их описание. Ей казалось, от возбуждения она не уснет, но она едва успела донести голову до подушки и проснулась только в начале шестого: Генри принес ей чашку кофе. Сам-то он уже искупался в море. С утра стали разбирать каменную кладку. К полудню рабочие выбрали пустую породу из большого дома и дворца, обнаружив очаги, открытые дворики, внутренние стены, дверные пороги, кости животных, кабаньи клыки, мелкие раковины, воловьи и бараньи рога. Добрую добычу взяли и после обеда: жизнь, некогда протекавшая в этих стенах, обретала голос. После ужина они подобрали для реконструкции несколько кучек крупных терракотовых черепков. Яннакис их перемывал, Поликсена варила рыбий клей, а Шлиманы собирали горшки за кухонным столом. И хотя некоторых деталей недоставало, из рук выходили невиданные, поразительные кувшины и вазы: большая желтоватая чаша с ручкой, украшенная тремя изогнутыми бараньими рогами; черная ваза с широким днищем и колечками по бокам—очевидно, ее подвешивали; очень занятный красный сосуд в форме двух сросшихся кувшинов с вытянутыми клювообразными носиками. Выяснились некоторые подробности домашней жизни далеких предков. Жившие в этом, например, культурном слое бросали мусор под ноги, на земляной пол. Когда грязи разводилось слишком много, они приносили землю и насыпали новый пол, соответственно надстраивая стены и на фут-другой поднимая крышу. Софья решительно отказывалась их понять. — Почему не выбрасывать мусор в канаву, откуда ее вымоет дождь?.. — Милая моя, в Троаде по полугоду не бывает дождей. — А если сжигать в очаге? — Кости? Раковины? Попробуй. — Ну ладно, я им не судья.
6
Когда, вгрызаясь в гору, они расширили траншею, на срезе проступили еще три города: стены, улицы, чересполосица наносной породы—три отчетливо разные эпохи, с другой архитектурой, с разной системой канализации. Второй снизу слой залегал на глубине (считая от плато холма) в тридцать три фута и был толщиной в десять футов; третий слой лежал между двадцатью тремя и тринадцатью футами; четвертый, верхний, кончался в шести футах от плато. Было совершенно ясно, что все четыре города строились в неведении о том, что лежит у них под ногами: стены налезали на стены, уровни не выдерживались. Дома то были развернуты под прямым углом к канувшей планировке, то смотрели в прямо противоположную сторону. Здесь спрессовалась вся жизнь человеческая за две тысячи лет. Сейчас холм казался гигантским зданием, с которого взрывом сорвало крышу, и стали доступны взору комнаты, стены, коридоры, двери, полы, внутренние дворики. — Поразительно! — восклицала Софья. — Придется раскапывать все четыре слоя, — озадачился Генри. — Только как же мне взяться за второй, если два других могут в любую минуту свалиться мне на голову? Первой важной находкой во втором городе были дома на каменном фундаменте, но с бревенчатыми стенами. Огонь, спаливший этот город, славно обжег кирпичи: они выдержали и землетрясение, и нашествие завоевателей. За этим надежным укрытием почти неповрежденными сохранились и керамика с арийскими религиозными символами, и превосходные красные кубки—«огромные бокалы для шампанского, — выписывал Генри на ярлыке, — с двумя крепкими ручками». Софья не помнила себя от радости. — Генри, наконец мы отдохнем от рыбьего клея! Полюбуйся, какая ваза: это свинья, спереди смешная морда с пятачком, а сзади носик и ручка. Прелесть! Хоть сейчас в музей. — Забудь это слово, — наказал Генри. — Не то она и впрямь отправится в музей. Константинопольский… Эту вещицу мы припрячем. И будем правы… или не правы — велика беда! Земля щедро отдавала хозяйственные и погребальные урны пятифутовой высоты и порою до трех футов в боках. На брезент ложились вазы с изображением священной птицы богини Афины—совы, с женскими грудями и воздетыми руками; шаровидные сосуды с высокой, как труба, шейкой, терракотовые бляшки — посвятительные жертвоприношения, искусно украшенные символами священного древа жизни, солнечного божества; черепки со «свастикой», которую Генри и прежде встречал на ритуальных предметах в Индии, Персии, у кельтов. Из кухонной утвари попадались блюда, пифосы для хранения масла и вина. Не обманули ожиданий и орудия брани: медные боевые топорики, копья, стрелы, ножи. Едва увидев знакомые вещи, солдаты-надзиратели пришли в возбуждение, спрыгнули в траншею и вмиг отделили свою половину, лишив Генри возможности немного сжульничать в свою пользу. Начищая вечером ратные трофеи, он бубнил под нос. — Что ж, они люди военные, как троянцы. А может, просто обрадовались случаю постоять за себя… Неловко повернувшись, он смахнул со стола комок сплавившегося металла и проволоки, найденный в желтом пепле сгоревшего дома. Тогда они не придали ему значения, бросили в корзину и забыли. Проволока лопнула, и из металлического короба ручейком заструились драгоценности. Они опустились на колени и зашарили руками по полу. Генри поднял три браслета. — Посмотри, как интересно, — показал он. — Огонь припаял к браслету серьгу. В неярком свете лампы что-то — тускло мигнуло. Софья поворошила комок и извлекла золотую серьгу, с обеих сторон испещренную звездочками. — Дай руку, — попросила она. — Получай первую ласточку сокровищницы Приама. Помнишь, в преддверии смерти Гектор молит Ахилла:Интересно: Гомер ни разу не оговорился о золотых приисках в Троаде. — Убежден, что здесь никогда и не было золота. Из Греции приходили караваны, и троянцы скупали у торговцев таланты золота, а златокузнецы были свои, местные. Послушай, если мы нашли одну серьгу, то можем найти и все сто! И золотые браслеты, кубки, диадемы… Софья, я чувствую, это здесь… Во второй половине июля установилась нещадная жара. Рубахи на рабочих были мокрыми от пота, хоть выжимай, на незащищенных участках кожи проступала воспаленная краснота. Усугубляя муки, с севера, с Черного и Мраморного морей, в Дарданеллы пришел ветер, который здесь поднимал тучи пыли и слепил глаза. Софья сама сшила яшмак из белой ткани, сделав из своей головы некое подобие кокона с узенькой щелкой для глаз. В августе у крестьян началась жатва. Рабочих заметно поубавилось. Генри написал германскому консулу на Галлиполийском полуострове (в прошлом году он послал ему несколько своих статей): не подсобит ли тот с рабочими? Та же просьба адресовалась в Константинополь, английскому консулу, причем Генри брался оплатить дорогу до Чанаккале. Оба дипломата дали благоприятный ответ. И снова сто пятьдесят рабочих копали сразу все четыре города. Проблема эвакуации отвальной породы с каждым днем становилась все острее, приходилось отвозить ее дальше и дальше, чтобы не мешала работе. Английский консул в Константинополе раздобыл еще десять тележек и двадцать тачек. «Таксиархис» доставил их в Бесику. Подвезли еще десять тележек и сорок тачек и от германского консула. Он прислал сорок рабочих: им Генри не только возместил дорожные расходы, но дополнительно оплачивал стол и ночлег. Высчитав расходы только за один этот день, Софья почувствовала холодок в спине. — Ты не считал, во сколько тебе уже обошелся нынешний сезон? — спросила она мужа. Оторвавшись от дневника, где он составлял опись рассыпанных по столу фигурок из слоновой кости, он вскинул на нее удивленные глаза. — Гроссбуха я здесь не держу. Но общую сумму, конечно, представлю. — И сколько, ты полагаешь, мы истратим за весь раскопочный сезон? — Мне это безразлично. Сколько истратим—столько истратим. Она быстро прикинула в уме: при нынешнем размахе работ выходило, что сезон раскопок стоит пятьдесят тысяч долларов. У нее даже захватило дух: целое состояние! Был богач, который просто так подарил Афинам Арсакейон; еще одному денежному тузу Эжен Пиа возводил особняк на площади Конституции, и, кроме этих двух, вряд ли отыщутся в Греции состоятельные люди, готовые выложить пятьдесят тысяч долларов на дело, которое не сулит выгоды. Она глядела на его низко склоненную голову: мелким решительным почерком он исписывал страницу за страницей, сравнивая найденные фетиши с фигурками божков, которые он видел на Востоке. «Ради Трои, — подумала она, — ему не страшно даже банкротство». Обходя с «Илиадой» площадку и траншеи, вдумчиво разглядывая находки, Генри пришел к выводу, что построенный Лисимахом храм должен стоять на развалинах древнего троянского храма, который посетил сам Александр. И Шлиман решает вернуться к руинам храма, где был найден Аполлон, и копать вниз, под фундамент. На рассвете он сделал разметку, и бригады Макриса и Деметриу повели траншею в двадцать футов шириной. Перед обедом Софья подошла к мужу взглянуть, как идут дела, Генри шумно хватал ртом воздух. — Ты здоров? — встревожилась она. Вместо ответа он выкинул вперед руку: рабочие отрывали стену. Глубоко вниз шла она от фундамента храма Лисимаха. — Она шести футов толщиной, — прохрипел Генри, — и вниз уходит по меньшей мере на десять футов. Рабочие копали как одержимые, спеша открыть основание стены. — Видишь, какие камни лежат в основании? — схватил он ее за руку. — Огромные! — Это значит, что стена была много выше, и, может быть, Гомер не преувеличивал ее высоту. А главное, циклопическая кладка. Софья почувствовала, как ее начинает бить дрожь. — Генри, неужели?.. Неужели ты нашел стену, поставленную Посейдоном и Аполлоном? — Ни секунды не сомневаюсь в этом. Это первая стена. Ее основание покоится на глубине сорока четырех футов от поверхности. Все, что ты видишь поверх стены, включая храм Лисимаха, — все держит на своих плечах эта самая ранняя стена. Они словно приросли к месту, и только мягкий стук лопат да шорох сбрасываемой в тачки земли нарушали тишину. Она завороженно прошептала: — Я тебя поздравляю. Ты был прав, а все другие ошибались. Он поднял руку к груди, унимая сердце. — Раз уж мы нашли Приамову стену, то найдем и все остальное И однажды в середине августа Яннакис влетел в дом и потащил ее к Генри. Тот нетерпеливо расхаживал по террасе, поднявшейся над глубокой траншеей. — Я наткнулся на удивительное сооружение. Мы в него уперлись и не можем сделать ни шагу вперед. При этом я работаю точно на одной линии с Фотидисом, который идет сюда с юга. Его траншея не так уж далеко. Но я не могу к нему пробиться! Вот, смотри. Мы заходили с северной стороны. Софья вглядывалась в каменную громаду, перерезавшую траншею поперек. — А это не продолжение стены? — И да и нет! По виду это крепостная стена, но почему она вдруг порядочно отступила назад? И не выступает ли она вперед—там, на южной стороне?.. Подбежал запыхавшийся от подъема в гору Фотидис, ладонью смазывая бусинки пота со лба на лысеющее темя. Он озадаченно крутил головой. — Доктор, мы зашли в тупик. У нас на пути мощная кладка камней. Мы прошли двести футов, а такую встречаем впервые. Я ничего не понимаю. Может, взглянете? — Она выходит за крепостную стену к югу? — Да, выступает на пятнадцать-двадцать футов. Шлиманы воззрились друг на друга широко раскрытыми глазами. — Бог мой! — воскликнул Генри. — Софья, ведь это Большая башня! Слезы заструились по его щекам. — Троянская башня? — с трудом выталкивая слова, спросила Софья. — На которой Приам выспрашивал Елену о вождях ахеян, подступавших к стенам? Генри скорее явился бы на раскопки без брюк и часов, нежели без «Илиады». Он извлек книжку из кармана сюртука, надел очки, полистал страницы и в третьей песне нашел нужное место.
Генри и Фотидис бросили свои бригады на обе стороны башни—северную и южную. Генри сделал выкладки в записной книжке и поделился с Софьей соображениями. — По моим расчетам, мы на средней линии башни. Нужно будет расчистить двадцать футов вниз и, может быть, еще футов двадцать вверх. — Вопрос, куда девать всю эту землю. — Ее придется отвозить как можно дальше. — Он повернулся к Яннакису. — Скоренько найми повозки с лошадьми. А мы пока, — бросил он Софье, — побегаем с тачками. Окапывая верхнюю часть башни, он обнаружил запад около тридцати футов длиной. Здесь он нашел медные копья, несколько наконечников стрел, обоюдоострую пилу, медные и серебряные гвозди, большое скопление костей. Похоже, это было укрытие для лучников. После многих дней лихорадочной работы под палящим августовским солнцем пашня, полностью обнаженная с севера и с юга, перерезала главную траншею Генри на всем ее протяжении. Яннакис смог раздобыть только семь повозок с лошадьми, но даже этот транспорт ускорил вывоз плотной, как камень, земли. Это была меловая порода, известняк. С северной стороны башни поднимался целый известковый курган в шестьдесят пять футов в ширину и высотой пятнадцать футов—:видимо, его насыпали еще троянцы, выбирая землю под фундамент башни. Когда рабочие прорезали курган насквозь, Генри увидел, что северная сторона башни представляет собой нагромождение каменных глыб— лишь верхняя ее часть имела характер регулярной кладки. И наоборот, южная сторона, повернутая к Троадской равнине, от основания до вершины была ровненько выложена обтесанным известняком на глиняном растворе. В толщину она была сорок футов. Вечером Генри выложил Софье свои недоумения: — Меня больше всего озадачивает то, что наша башня имеет в высоту всего двадцать футов. Не могли же в самом деле свалиться с неба эти громадные валуны, что мы нашли у основания башни?! — Вполне могли, Генри! Не забывай, что между нынешней вершиной башни и вершиной холма выстроилось несколько городов. Обмакнув перо, Генри записывал в дневнике: «Сохранением всего, что еще осталось, мы обязаны руинам, совершенно скрывшим под собою башню. Весьма возможно, что после разрушения Трои еще многое оставалось на месте и что поднимавшиеся из руин сооружения были разобраны наследниками троянцев, лишившимися стен и оборонительных укреплений. Судя по объему наносной породы, башня должна была стоять в западном углу акрополя, это самое выигрышное место: с ее площадки открывается вся Троадская равнина и дальше — море с островами Тенедос, Имброс и Самофракия. Здесь самая высокая точка Трои, и посему я осмеливаюсь утверждать, что это «великая илионская башня», к которой спешила Андромаха, встревоженная вестью о «могучей силе ахеян», теснящей троян. Тридцать одно столетие замурованная в земле, тысячелетиями терпевшая на себе хлопотливую жизнь сменявшихся народов, эта башня вновь воспряла к жизни и господствует если не над всей равниной, то, во всяком случае, над северной ее частью и Геллеспонтом. Пусть этот священный и величественный памятник героической Греции всегда стоит перед глазами идущих через Геллеспонт. Пусть он станет местом, куда пытливая молодость будет совершать паломничество, дабы окрылить себя жаждой знаний и возлюбить благородный язык и литературу Греции». Следующий день ознаменовался новой находкой: на глубине сорока двух футов обнаружили остатки дома и женский скелет. Особенно хорошо сохранился череп, скалившийся крепкими, но до странного мелкими зубами. Первый взрослый скелет! — Наконец мы нашли троянку! — потирал руки Генри. — Если бы эти кости могли заговорить—какие истории мы бы услышали! — А почему кости такие желтые? — спросила Софья. — Она погибла в пожаре. Мы возьмем скелет в Афины и восстановим его. — Какую же половину ты отдашь в Оттоманский музей? — Надзиратели суеверны. Они ни косточки не тронут. Она наша с головы до пят. Кончиками пальцев легко поворошив пепел около черепа, Софья нашла кольцо, три серьги и золотую брошку. Две серьги были совсем простые—скрученная золотая проволока, зато третья, выполненная с покушениями на красоту, заканчивалась листиком с пятью золотыми прожилками. Из трех золотых жгутиков сплетено кольцо. Генри подержал украшения на ладони, внимательно рассмотрел их. По его лицу блуждала довольная улыбка. — Почему только троянцы не строили пирамид, как в Египте, и не погребали царей со всеми пожитками! Какие сокровища мы явили бы миру! — Ты неблагодарен, Генри: Большая башня и крепостная стена стоят любых сокровищ. В середине августа вовсю разбушевалась болотная лихорадка. Она валила рабочих косяками: десять, двадцать, тридцать больных. Хинина не хватало на всех. Генри увеличил дозы себе и Софье и по четыре грана давал Яннакису, Поликсене и незаменимым десятникам. Первой заболела Поликсена, за ней Яннакис и десятники. К концу третьей недели на раскопках остались считанные единицы. Тут и Шлиманов стали потрепы-вать озноб и лихорадка. Поликсену совершенно истощили приступы, десятники, встав через силу, дрожали как осиновый лист. Генри скармливал им хинин в невероятных дозах, и вот он весь вышел. — Дорогая, как ни жаль, но придется закрыть лавочку. Я надеялся, что мы протянем еще месяц, ведь каждый день приносит столько интересного, но разумнее, я думаю, уехать сейчас из Троады. Не похоже, чтобы малярия пошла на убыль. Но сначала мне нужно съездить в Чанаккале. Я привезу фотографа, в Афинах нам понадобится полная картина наших раскопок. В Чанаккале меня ждет еще топограф из Константинополя, я с ним списался. Он составит подробные планы местности. Через два дня он вернулся с фотографом-немцем Зибрехтом и греком-топографом Сисиласом. — Ну, вроде бы сфотографировали все, что мне нужно, — докладывал он Софье. — Только бы негативы не подвели! Бедняга Зибрехт! Целый день жариться на солнце под черной тряпкой! Она почти кончила сборы. — Когда мы уезжаем? Исхудавшие и изможденные, словно и не впрок им пошли крепкий дом и нормальное питание, они заглянули друг другу в глаза. — Пароход уходит из Константинополя в Пирей через пять дней. Я заказал нам каюту и места для Макриса и Деметриу. Фрэнк Калверт был в восторге от своей половины находок, хотя всего брать не хочет. Он с женой и дети отобрали только то, что им особенно приглянулось. Остальное мы увезем в Афины. Генри нанял сторожа. Стоившие огромных денег лопаты, ломы, лебедки, тачки, кирки Яннакис сложил и составил на кухне и в помещении, где ночевали десятники. Генри положил сторожу месячное жалованье, с тем чтобы тот регулярно заглядывал на раскопки, раз в неделю проверял целость инвентаря, устранял повреждения. Ему также предстояло подготовить лагерь и дома к началу года, когда Шлиманы предполагали вернуться, и подобрать к этому времени сто пятьдесят рабочих. Четыре дня спустя они стояли у ворот перед раскопом, и Генри рассчитывался с рабочими, благодарил их и приглашал приходить в январе. И только-только они подошли к порогу своего дома, как четыре месяца крепившийся дождь разразился потопом. Да, свернулись они в самое время: теперь на много недель здесь будет непролазная грязь. На следующее утро Генри разбудил ее с первыми лучами солнца и повел к башне. В руках она несла дневник, перо, чернила и бутылку французского вина. Когда они подошли к оборонительной стене, солнце уже запалило огнем вершины Иды и посеребрило быстрые воды Дарданелл. Он взял ее за руку, потянул на земляную насыпь рядом с башней, чтобы встать вровень с ее былой вершиной. Выпрямившись и диктуя себе, Софье, человечеству, он записал: «Я льщу себя надеждой, что в награду за понесенные затраты, за все лишения, неудобства и муки в этой глуши, а прежде всего во внимание к сделанным мною важным открытиям цивилизованный мир признает за мной право переименовать это священное место. Во имя божественного Гомера я возвращаю ему его бессмертное и славное прозвание и нарекаю «Троей» и называю акрополь, где пишутся эти строки, «Пергамосом Трои». Софья с улыбкой взяла его за руку и взглянула на него победно и с любовью. — Аминь, — шепнула она.

Книга пятая. Троя?
1
Сентябрь в Афинах райская пора. С севера, с Эгейского моря, дует легкий бриз, как свежее напоминание об осени с ее прохладой, с милосердным солнцем, подобно Аполлону на колеснице, бороздящем безукоризненно голубое небо. На пороге дома Шлиманов встретили горничная, девочка-нянька и Андромаха. К их приезду все блистало чистотой. Через несколько дней от малярии не осталось и следа—дома стены помогают. Косолапенькой Андромахе был уже год и пять месяцев, родителей она приветствовала восторженным курлыканьем. Большую часть дня они проводили в саду. Деревья подросли, пальмы, слава богу, не погибли, глициния покрыла шпалеры на задней стене зеленым прохладным ковром. Наполненный чистой водой, фонтан разносил по саду свежесть. В птичьем домике нежно ворковали голуби. Разросшийся с трех сторон восьмиугольной беседки виноград укрывал от солнца, когда Софья подавала обед на воздухе. Рядом с фонтаном Генри соорудил пьедестал для похищенного красавца Аполлона, и Софья хорошо видела метопу, играя с Андромахой в чайной беседке. Рабочего пространства в доме оставалось мало, и Генри построил в дальнем углу сада крытый павильончик, поставил длинные верстаки для расчистки и реставрации найденных горшков, ваз, ритуальных фигурок, чаш, молотков, топоров, блюд. Утром, по холодку, они шли в эту мастерскую готовить для афинских друзей выставку своих находок. В десять Генри спускался в город и в «Прекрасной Греции» читал иностранную прессу, выпивая, по своему обыкновению, несколько чашек кофе. Софья отправлялась на кухню готовить обед: продукты она покупала ранним утром у разносчиков, что-то приносила горничная с базара. Хорошо вернуться к привычному распорядку жизни и в очередной раз уверовать в народную мудрость: кулинарное искусство—такое же искусство, как все другие, а уж плоды его вкушаешь каждый день. Сегодня, например, она готовила осьминога в винном соусе: удалила чернильный мешок, поджарила на оливковом масле лук, добавила лаврового листа. Ей нравилось тушить мясо в томатном соке с чесноком, винным уксусом и орехами. Щеки раскраснелись от жара, кухня наполнилась чудными запахами. Ровно в половине второго Генри возвращался к обеду. Энгастроменосы пока не докучали им своим присутствием. Устроив в первое же воскресенье праздничный семейный обед, Софья мягко намекнула им, что Генри нужно отдохнуть и привести в порядок запущенные дела. Вздремнув после обеда — в этот час внизу похрапывали все Афины, — Шлиманы ехали через город в Фалерон купаться. Генри взял в постоянное пользование двойной экипаж с полюбившимся возницей Иоан-нисом Мальтезосом. Он настоял, чтоб и Андромаху брали на море. — Я хочу научить ее плавать. Ей уже пора. Софья только поражалась: девочка полюбила воду и в отцовских руках восторженно колотила по ней руками и ногами. К восьми вечера они сидели за своим столиком в «Дарданеллах» у Яннакиса или Дора. Здесь в основном они и общались с друзьями и родственниками. Усадив дочь к себе на колени, Софья кормила ее мороженым. Домой возвращались в девять и после легкого ужина еще часок отдыхали в саду. Золотистый диск луны катился по темному небу Афин. Ложились Шлиманы рано: вставать чуть свет. Генри рассылал свои отчеты о Трое (иначе он не называл теперь Гиссарлык) в греческие, немецкие, французские и английские газеты и журналы. Греческие ученые были сдержанно вежливы, французские академики циничны, немецкие филологи пренебрежительно-высокомерны, англичане восторгались, американцы, прознавшие о Шлиманах из лондонского «Таймса», читали отчеты, как захватывающую «восточную» повесть. Накануне своего отъезда в мае Софья получила от Генри статью для афинских «Полемических листов»: Генри просил показать ее одному их родственнику—выправить грамматику и еще просил сделать фотографические снимки креста и «свастики». Георгиос Энгастроменос обещал сам проследить за всем этим. Когда Генри увидел статью в печати, он пришел в бешенство: мало того, что ее никто не выправил, — в типографии добавили еще своих опечаток. И ладно бы это были погрешности в грамматике: были перевраны слова, а это меняло смысл! Софье достаточно было пробежать глазами абзац-другой, чтобы убедиться: текст искажен до неузнаваемости, репродукции воспроизводят что угодно, только не крест и не «свастику». Генри абсолютно прав, что возмущается. — Их столько, этих ошибок, и таких глупых, что люди поднимут меня на смех, — негодовал он. — Я скорее отрублю себе правую руку, чем признаю свою подпись под этим идиотизмом. Злосчастная статья и отповедь Георгиоса Николаидиса в этом же журнале сильно испортили его отношения с учеными специалистами из Афинского университета. Но друзья не покинули их. Эмиль Бюрнуф приставил к ним двух лаборантов—тех молодых людей, что помогли Шлиманам собрать из черепков целые вазы. Им обоим Генри определил щедрое вознаграждение. Он подрядил даже Луизу Бюрнуф, и та каждое утро приходила в их садовую мастерскую зарисовывать находки, уже отмытые, систематизированные, пронумерованные и выставленные на верстаках. Рассыпав по спине белокудрые пряди волос, голубоглазая красотка вспархивала на высокий табурет, окрыленная подстрекательским напутствием Генри: — Рисуйте все точно: я хочу использовать ваши рисунки в своей книге о Трое. Софья ничего не имела против их дружеского общения за работой, хотя, по совести, особой нужды в услугах Луизы не видела: чуть не каждый день находки снимал фотограф. Иначе отнеслась к этому творческому союзу мадам Виктория. — Кто это? — спросила она Софью. — Луиза Бюрнуф, дочь директора Французского археологического института. Она как бы штатный художник у Генри. — Не дело, что Генри каждый день общается с такой красивой девицей. Это просто опасно. — Почему опасно? — Мужчины такие влюбчивые… А Генри бог здоровьем не обидел, да и человек он с положением. Таких только и ловят… — Рыбаки ловят? — попыталась свести на шутку Софья. — Не рыбаки, а девицы с умом и без совести. В конце концов, в Афинах полно молодых людей, которые тоже умеют рисовать. Софья сжала губы, решительно вздернула подбородок. — Мама, я раз и навсегда запрещаю тебе поднимать эту тему. За полгода без чтения (время от времени доходившие «Полемические листы» не в счет) Генри изголодался по новостям. Ежедневного паломничества в «Прекрасную Грецию» было недостаточно, и он выписал на дом всю афинскую прессу. Он и Софью приохотил следить за событиями в мире, хотя ей вполне хватало своих забот: в школе Варвакейон она брала уроки немецкого языка и продолжала занятия французским и английским с госпожой Н. Контопулос, прекрасным педагогом. Генри и себе не давал спуску: по нескольку часов в день штудировал взятые из Национальной библиотеки книги по древнему искусству, мифологии и религиозной символике, читал словарь. Афины сами напоминали раскопки: улицы перерыты, всюду свалены свинцовые и железные трубы. Только что кончили строить городской водопровод и отводили воду в частные дома. Генри, разумеется, не упустил случай—и поспел в самое время: в середине сентября в город пришла невыносимая жара. Ночью они распахивали все окна и все равно задыхались. Перешли на открытую террасу, затянутую сетками от москитов, — стало легче. А уж когда в доме появилась вода и в саду забил фонтан—стало совсем хорошо. Город переживал деловую лихорадку, наметилось оживление и в духовной области. Сразу народилось несколько журналов и альманахов, Генри на все подписался: научный «Атеней», политический «Истерн гардиан», литературный «Парфенон», женский «Пенелопа». Национальный музей выпустил первый том каталога хранившихся в нем древних монет. Генри приобрел его и подарил Софье. — Семье нужен нумизмат. В эту осень Генри решил не устраняться от общественной жизни столицы, из чего Софья заключила, что Греция стала для него родным домом. Вместе с профессором Куманудисом и Ксавье-Джоном Ландерером они присутствовали на открытии городского фонтана на площади Конституции; это чудо надолго запомнят измученные вечной засухой афиняне. Были они и на открытии осеннего семестра в Афинском университете, прослушали вступительную лекцию ректора в актовом зале. Бюрнуф пригласил их на закладку Французского археологического института; греческое правительство отвело ему землю у самого подножия горы Ликабет. Французский посол Ферри давал по этому случаю торжественный обед, и в числе немногих на нем были Шлиманы. Генри настоял, чтобы Софья вступила в Женскую ассоциацию, занятую устройством работного дома для обездоленных. В нем будут учить шитью, прядению, вышиванию. Попечительницей была сама королева Ольга. Готовую продукцию предполагалось продавать на базарах, а вырученные средства распределять между мастерицами. — Тебе пора наконец занять подобающее место в обществе, — решил Генри. Софья покорилась и дважды в неделю, вспоминая материнские уроки, ходила учить вышиванию. Матроны из ассоциации приняли ее под свое крыло и с восторгом слушали рассказы о жизни в Хыблаке, о раскопках на Гиссарлыке. Американская колония в Афинах была невелика, и, естественно, бракосочетание дочери американского посла и сына нью-йоркского мэра и последовавший свадебный обед не обошлись без Шлиманов. На обеде они познакомились с Джорджем Бокером, который уже два года был постоянным представителем Соединенных Штатов в Турции. Оказалось, он страстно увлекается археологией, читал многие публикации Шлимана Он напросился посмотреть их находки, остался ужинать, восторгался керамикой, заверял, что не видел ни единой вещи из половины, которую отторгал в свою пользу Оттоманский музей, и потрясенно затих перед мраморным Аполлоном на колеснице. Генри по-прежнему писал отчеты и из своего кармана оплачивал их публикацию в «Полемических листах». Жизнь выкинула веселую шутку: владелец газеты купил дом неподалеку от них — улица Муз, 8; там же разместилась и редакция. — Близко будет относить статьи и забирать гранки, — хмыкнул Генри. Генри подписал договоры с Ф. А. Брокгаузом из Лейпцига и «Мэзонёв и K°» в Париже на публикацию троянских дневников. Издатели обязались каждый выпустить по двести комплектов: небольшой текст книжкой и солиднейшее приложение рисунков и фотографий, сброшюрованных либо свободными листами в папке. Генри перетряс все Афины в поисках плотной белой бумаги, пока не нашел сущий пергамент. — Я хочу выпустить книгу к концу 1873 года, — признался он Софье. — Тогда с нами будут считаться в академических кругах. Продолжая светскую жизнь, они слушали в театре «Саула», смотрели трагедию «Тимолеон»; в отеле для иностранцев слушали лейпцигскую пианистку Ольгу Дюбуа. Неподалеку от «Прекрасной Греции» построили новый отель и ресторан, их пригласили на открытие. Здесь Софью поразила новая форма услуг: ресторан предоставлял целый штат поваров и официантов для проведения торжественных домашних обедов. — Никогда не настанет такой день, — торжественно заявила Софья, — чтобы я собственными руками не приготовила обед для своих гостей. — Не зарекайся. Вдруг я соберу сотни полторы гостей. Разве ты справишься одна? — А ты не зови помногу. Небольшое застолье веселее. Город развивался еще стремительнее, чем предсказывал Генри. Улицы одевались камнем, по вечерам ярко освещались фонарями, велось большое строительство, решили пустить конку. Для туристов из континентальной Европы, из Англии и даже далекой Америки выстроили новый отель — «Нью-Йорк». Земельные участки Генри подскочили в цене вчетверо. В городе росла преступность. Редкий день газеты не сообщали об очередной краже. Некто Николаос Каритаракис, служащий аптекаря Г. Церахиса, взломал ночью хозяйский сейф и выкрал триста драхм. Из магазина на улице Каламиоту похитили две с половиной тысячи драхм. Этих грабителей полиция не нашла, зато в галантерейном магазине Колокуриса накрыла целую шайку. Вообще год выдался беспокойный. Афины оказались втянутыми в международные скандалы, из которых самый громкий получил название «Лаврийского вопроса». Речь шла о расчистке и эксплуатации древних серебряных рудников. Греция объявила их своей собственностью, и тогда Франция и Италия пригрозили военными действиями, поскольку их граждане являлись основными держателями акций компании Серниери, ведущей разработку рудников. Добиваясь религиозной независимости от константинопольских фанариотов [23], а в конечном счете — политической независимости от Турции, Болгария отложилась от матери-церкви, и отношения между двумя странами также испортились. В кафедральном соборе Шлиманы слушали проповедь архимандрита Аверкия, первого секретаря священного Синода, о болгарском расколе. Обращение к верующим архимандрит кончил словами: — Это идет с севера. — Что он имел в виду? — спросила Софья уже в экипаже. — Россию. Повинными в расколе он считает русских. На следующий день русский посол потребовал смещения архимандрита Аверкия. И архимандрита удалили из Афин. — Атмосфера разряжается, — комментировал Генри. — Да и смешно думать, чтобы Греция могла ссориться сразу с Францией, Италией и Россией. Обострилось и внутриполитическое положение. Министры, принадлежавшие к ведущей партии, подали в отставку, и король Георг I распустил парламент. Новые выборы были назначены на конец января 1873 года. — Увы, — сетовал Генри, — мы не имеем права голоса: я американец, ты—женщина. — Со мной, конечно, безнадежно, но ты можешь принять гражданство. Ты обожаешь Грецию — почему тебе не стать ее полноправным гражданином? — Нет, лучше я останусь американцем. В этом есть свои преимущества, как ты могла убедиться в Константинополе. И потом, в четвертый раз менять национальность! — меня перестанут принимать всерьез. Кстати, я читал сегодня в газете, что задержавшие книги из Национальной библиотеки лишаются абонемента. А я держу их уже несколько месяцев! Сегодня же верну, не то и в самом деле исключат навечно. Обработка привезенных древностей шла полным ходом. Доктор Аретайос с помощником восстановили и женский скелет, и скелет зародыша. Аретайос посоветовал хранить их в стеклянных ящиках, и Генри немедленно заказал их в мастерской в Плаке. Закончив расчистку, каталогизирование и зарисовки, Генри надумал соорудить над задней стеной козырек, на восемь футов выдававшийся в сад, и выставить на верстаках некоторые особенно примечательные находки: семи футовой высоты пифосы, глиняный сосуд с ручкой, исполнявший назначение колокола, двухсторонние боевые топорики. Освободив от громоздкой мебели гостиную, они поставили длинные столы, разместив на них кувшины с клювообразными носиками, черные вазы в форме песочных часов, красные кубки, похожие на бокалы для шампанского. Радостно-озабоченный сновал он по саду, забегал в преобразившийся дом. — Маленький музей Шлимана! — сказала Софья. — А я такой и хотел, мой ангел. Большой я построю позже. Выберу участок получше. А когда мы кончим раскопки, мы все подарим нашему любимому городу. В конце октября «маленький музей» был готов к приему посетителей. Первым Генри пригласил отобедать и взглянуть на их археологический улов профессора Стефаноса Кумануди-са. Увиденное произвело впечатление на секретаря Греческого археологического общества. Многолетний опыт собирателя и антиквара позволил ему датировать многие находки из поздних греческих поселений. — Не могу не признать, что многие расцветки и орнаменты существенно дополняют наши представления, основанные на изучении древней керамики. Многое здесь я вообще вижу впервые! И разумеется, я поздравляю вас с тем, что вы исполнили свое обещание и достигли материка. Эта фоторафия Большой башни и оборонительной стены — вы убеждены, что это гомеровская Троя? — Убежден, хотя доказать не могу. — А вы попытайтесь. Следующим гостем был профессор Ксавье-Джон Ландерер. И его находки не оставили равнодушным. — Если я не ошибаюсь, это лишь половина того, что вы нашли? — Да, — подтвердил Генри, заливаясь предательским румянцем. — И боюсь, лучшая половина. Ландерер попросил уступить для его лаборатории несколько черепков из разных слоев Гиссарлыка. — Не обижайтесь, что я говорю — Гиссарлык, а не Троя. Я не циник, я скептик. А ваши образцы я хочу сравнить с известными, выясню химический состав глины разного цвета. Тогда можно будет более или менее научно обосновывать возраст вашей керамики. В очередное воскресенье они пригласили Джона Лэтама, Эжена Пиа и инженера Лорана, который в редкие трезвые минуты сделал-таки превосходные съемки холма, легшие в основу проекта гигантской площадки. Эти трое больше интересовались фотографиями раскопок и чертежами топографа, нежели археологическими объектами. Разговор носил сугубо технический, инженерный характер. Приглашения были отправлены также профессорам Афинского университета и Политехнического института, дабы те самолично освидетельствовали находки и составили мнение об их художественной и научной ценности. — Разреши мне пригласить учителей из Арсакейона, — попросила Софья. — Я хочу, чтобы они мною погордились. — У них будут для этого все основания, Софидион. И ученые мужи пожаловали, сначала поодиночке, потом группами. Генри был сама предупредительность: каждым занимался отдельно, показывал все без утайки, объяснял, на каком уровне и в каком слое найден тот или иной предмет. И далеко не в каждом он встречал сочувствующего: кто-то сомневался, кто-то упирался, а кто-то с порога отвергал даже очевидное. Софья восхищалась его выдержкой. Он запретил себе срываться, он только отвечал на вопросы, даже если это были недобросовестные вопросы, — он ссылался на книги, благо они под рукой. Сказать, что муж переубедил скептиков, Софья не могла, но она хорошо видела, что люди уходят от них немного другими, чем пришли. Если раньше они знали только, что Генри Шлиман миллионер и сумасброд, просаживающий деньги на бессмысленный каприз, то теперь эти вещи, фотографии и технически безупречные чертежи и планы убедили их в том, что доктор Шлиман и впрямь открыл древнее и неоднослойное поселение. Ясно, это не Троя, поскольку Трою выдумали гомериды [24], но это, безусловно, ценный археологический объект, оправдывающий затраченные на него средства, время и силы. Когда она поделилась этими мыслями с Генри, он усмехнулся: — Что ж, похлопали по плечу — и на том спасибо. Через год они будут говорить примерно так: «Да. если угодно, это Троя, но это не гомеровская Троя». А через два-три года, когда мы давно Кончим наши раскопки, они заведут старую песню.2
Когда море похолодало, Софья собирала завтрак и они отправлялись с Андромахой в монастырь Кесариани, в миле-другой от Афин, на склонах Гимета. Монастырь возник в X веке вокруг византийской базилики V века. Вековые деревья окружали их мирный бивак. Ездили они и в монастырь Дафни с церквью XI века, бродили по его лавровым рощам. В архитектуре монастыря сохранились готические сводчатые переходы, красивые зубчатые стены. Для Генри излюбленным местом их загородных прогулок стал Элевсин, место знаменитых в древности мистерий, покрытых глубочайшей тайной. В награду за представленное убежище богиня Деметра подарила Элевсину колос пшеницы и научила возделывать землю. В поездки Генри неизменно брал с собой хрестоматию; перекусив, он читал Софье, баюкавшей Андромаху, исторические тексты и народные предания об этих древних священных местах. — Жаль, Андромаха еще мала и твои уроки ей не на пользу. — Я буду заниматься с ней так же, как с тобой. Вот будет ей года четыре или пять, тогда и начну. С началом ноябрьских дождей он решил съездить в Германию: уладить некоторые дела, присмотреть усовершенствованное оборудование для следующего раскопочного сезона. И надо же так случиться: сразу после его отъезда у Андромахи открылся сильный жар. Софья вызвала доктора Веницелоса, но и тот встал в тупик. Мадам Виктория прибегла к домашним средствам, как могла успокоила Софью: у всех детей случается жар, это быстро проходит. — И с вами совсеми это было. Девочка болела десять дней, а чем болела — непонятно. Без Генри вся ответственность за дочь легла на Софью. Не приведи бог что случится: Генри никогда не простит ей этого. Она еще не забыла, как в Париже он оплакивал смерть своей дочери Натальи, как искал виноватых и винил во всем себя одного. И целых десять дней она не спускала Андромаху с рук, каждый час вскакивала к ней ночью, молилась, меняла холодные компрессы. С ними неотлучно был Спирос. 21 ноября был праздник введения во храм пресвятой богородицы Девы Марии. Оставив Андромаху на мать, Софья села в коляску и отправилась в церковь Богоматери на площади Ромвис. Заполненная непорочными девицами, соименными матери Христа, церковь курилась ладаном. Софья зажгла свечу и подошла к аналою, накрытому красным атласным покрывалом с вышитым золотым крестом и образом Приснодевы в центре. Склонившись над образом, она молилась о выздоровлении дочери. Когда она вернулась домой, счастливая мадам Виктория объявила ей в дверях: — Это чудо! Пока ты была в церкви, в болезни наступил кризис. У нее падает температура! Боль, сжимавшая все эти дни ее сердце, отпустила, и она благодарно упала на колени перед иконой. Через два дня вернулся Генри. Узнав, что дочь проболела все его отсутствие, он долго не мог оправиться от потрясения. Расцеловав Андромаху, он встревоженно взглянул на жену. — Мне безумно жаль Андромаху, но ты меня просто поразила: десять дней не спускать больную девочку с рук! А если болезнь заразна?! Неужели ты думаешь, что она поправилась только благодаря твоему самопожертвованию? Я счастлив, что она поправилась, но нельзя так изводить себя, милая. Пресекая дальнейшие упреки, она закрыла ему рот поцелуем. — А вдобавок ты еще и похудела, — огорчался он. — Если хочешь, чтобы я взял тебя с собой на Олимп, как договаривались, изволь несколько дней отдыхать. В ответ она взглянула на него счастливыми глазами. В следующий четверг они отплыли на австрийском пароходе из Пирея в Фессалоники. Полуторадневное путешествие Софья перенесла благополучно: вышивала, читала новый греческий перевод Мольера. В Салониках наняли маленький каик и добрались до портового местечка Литохорон. Вокруг стремительно проносились стайки рыб, но море, к счастью, было спокойно. От Литохорона было три часа пути верхом до деревушки, примостившейся у самого подножья Олимпа. Там была простая сельская гостиница. Генри заказал на втором этаже две комнаты с видом на гору. Он откинул тяжелые занавеси, открыл жалюзи. Перед ними во всем своем великолепии высился Олимп, гора богов. Уже по пути сюда Олимп возникал в разрывах тумана и облаков. А теперь он был весь на виду. — Матерь божия! — вскричала Софья. — Ты перепутала всех богов на свете! — рассмеялся Генри. Но и он был потрясен величественным зрелищем. Гора, проткнув небо, парила в необозримой высоте. Это был каменный исполин, умалявший все, что ни встало бы рядом с ним. Это было больше, чем гора или даже гряда гор; это была неприступная твердыня, воздвигшаяся на самом краю земли. — Ты знаешь, у меня голова идет кругом, — призналась она. — А у меня, по-моему, сейчас сердце выскочит из груди, — отозвался он. — Неудивительно, что Зевс и Гера, Аполлон, Гермес, Гефест, Афина, Афродита, Арес, Гестия и Артемида — все строили свои дворцы на его вершине. Оттуда-то от них ничто не могло укрыться. Их гостиная была над кухней, в комнате был свой очаг. Генри вызвал хозяина, тот разжег его, прислал бутылку рецины, острые закуски. Перед очагом поставили стол, застелили свежей скатертью, расставили цветастую деревенскую посуду, явился пышный омлет с запеченными ломтиками хлеба, залитый растопленным маслом, посыпанный чесноком. Поужинав, они из теплой постели смотрели, как клубящаяся масса Олимпа затопляет небесную темень, и Генри вспоминал его царственных обитателей: — Самый великолепный дворец был даже не у Зевса, а у хромоногого кузнеца и художника Гефеста, сына Зевса и Геры. Его описание мы найдем в том месте «Илиады», где Фетида является на Олимп просить Гефеста изготовить для Ахилла новые доспехи — прежние доспехи пропали со смертью Патрок-ла:— Как красиво, — пробормотала Софья. — Я словно вижу эти сверкающие во тьме чертоги на том снежном гребне. — У Зевса был медностенный дворец, — продолжал Генри, — а для Геры ее сын Гефест создал опочивальню, где
Когда Генри читал классические греческие тексты, он преисполнялся торжественного чувства, его голос звучал взволнованно, наливался металлом, делался глубоким и певучим, как у актеров, игравших перед тысячами собравшихся в Одеоне Герода Аттика драмы Еврипида и Софокла. А в обычном разговоре он мог и дать петуха. — Мне так хорошо, словно я тоже засыпаю в опочивальне на самом Олимпе, — потянулась к нему Софья. Когда она проснулась, солнце заливало слепящим светом изборожденный глубокими морщинами непроницаемый лик Олимпа. Генри встал, как обычно, в четыре и уже уехал с проводником к подошве горы. Вверх, петляя по кручам, уходила тропа. Генри решил совершить многочасовое восхождение. Вершины он, конечно, не достигнет: для этого надо заночевать высоко в горах, в лесной избушке, и лишь поздно вечером следующего дня вернуться в деревушку. А он не хотел надолго оставлять Софью одну. — Полно глубокого значения, — говорил он ей накануне, — что вершины, как таковой, у Олимпа нет. Зубцы громоздятся один на другой, порываясь в вечность. Человек может карабкаться хоть всю жизнь, но не дано ему видеть божественные чертоги. Они, разумеется, все на своих местах, и все так же в них пируют боги, перебирают струны лиры, поют, ревнуют, строят козни друг другу, интригуют. Их высокое обиталище недосягаемо. Сами боги прилетают на Олимп с Иды. А человек не может летать. Однажды Леонардо да Винчи попробовал слететь с холма неподалеку от Сеттиньяно—там, между прочим, жил Микеланджело—и ничего у него не вышло, только ногу сломал. Мораль: не равняй себя с богами. Хозяйка принесла кофе. Софья прилегла с томиком Мольера на диван и задумалась. «Вот мы копаем в Трое, ищем бессмертный град Приама, хотим узнать, какую жизнь вели троянцы. А что можно узнать о жизни древних богов?» Она открыла «Илиаду» и, 'замирая от восторга, прочла из первой песни:
В конце книга Генри на нескольких страницах расписал все гомеровские реалии, указав соответствующие места в тексте: одежда и наряды, погребение и погребальные обряды, ратное оружие… Ее привлекла рубрика «Вмешательство богов в троянскую войну», и, следуя за постраничными указаниями Генри, она заново перечла историю смертельной обиды Ахиллеса на Агамемнона, отнявшего у него Брисеиду, и как Ахиллес просит Фетиду искать заступничества у Зевса: пусть тот пошлет поражение ахейцам. Но сторону ахейцев держит Гера, и между супругами разгорается страшная ссора. Гефесту удалось примирить родителей, и Гера послала Афину к Одиссею сказать, что Трою ахейцы разрушат только через год… А вот Афродита скрывает в густом облаке Париса, спасая его от Менелая… «Какую странную жизнь мы ведем с Генри, — думала она. — Казалось бы, вполне современные люди: спорим о лаврийском вопросе, молимся, чтоб не было войны. Генри дает средства на школу для детей бедняков. Когда мы видим на улицах Афин королевскую чету без охраны, Генри не упускает случая сказать: «Такого не может быть в Европе. Греция страна демократическая». На открытии очередной сессии Священного Синода духовный владыка призывал распространять просвещение среди пастырей. А я не стерпела и выкрикнула: «Тогда почему вы не отзываете из Триполиса епископа Вимпоса?» И при этом мы живем в гомеровское время, где-то между 1000 и 900 годами до рождества Христова. Генри следит за всеми книгами и монографиями о доисторических временах, которые выходят в Германии, Франции, Скандинавии, Англии. Его занимает вопрос: откуда поэт черпал материал — из своей современности либо, спустя, может быть, двести лет после троянской войны, полагался на собственную догадливость и народную память? Работать нужно с непосредственными свидетелями минувших времен, допытываясь, каким богам и как поклонялись люди, какое оружие брали в руки, в какие облачались доспехи. Тут все важно, мелочей нет: какой властью обладали вожди, чем люди питались, какие строили дома, какую носили одежду, украшения. А иконография, значки и символы на терракоте? Не зря Генри называет их «лучшей энциклопедией дописьменного времени». И конечно, Гомер — он редко подводил Генри». Настоящей жизнью они с Генри жили в гомеровской эпохе. Гомеровской Трое, некогда процветавшей, а потом на три тысячи лет канувшей в забытье, они отдавали месяцы раскопок и месяцы томительного ожидания нового сезона, скрашивая вынужденный досуг восстановлением удивительных сокровищ, извлеченных из земли. Для них обоих это было волшебное время, полностью занявшее их силы, воображение, талант и умение радоваться… Она вышла на балкон, смотревший в сторону Олимпа. Можно было разглядеть трону. Где-то там Генри покоряет сказку. В Афинах на Генри свалились неотвеченная почта, ненаписанные статьи, нетронутые дела — а в январе уезжать! Была у него еще забота: найти хорошего художника, который согласился бы жить в Троаде. Софья усадила в экипаж Андромаху и уехала в Колон. С каждым днем отец таял как свеча. — Папа, что с тобой? — спросила она. — Ты ничего не ешь. Ты не смеешься, тебя совсем не слышно стало в доме. Но Георгиос Энгастроменос отказался продолжать серьезный разговор. — Ничего страшного, Софидион. Немного расстроил желудок. Пройдет! А вообще—смех: худеть в мои годы! Ведь я столько лет опровергал напраслину, чтс-де толстых греков не бывает! Если и было меня за что ценить, так это за корпуленцию. Со мной раскланивалась вся улица Гермеса, и на Монастираки меня знали, а теперь, наверное, я и сам-то себя не узнйю. Право, это хуже, чем разориться. — Все поправимо, папа, — отозвалась Софья. — Завтра пойдешь к доктору Скиадарессису. Может, он назначит тебе специальную диету. — Слышать не хочу этого слова! — закричал Георгиос. — Мало i-реки голодали за свою историю?! Страшнее слова «диета» в нашем языке нет. Еще ее тревожил Александрос. Он все больше забирал в свои руки семейную лавку. Дело процветало. Александрос оказался толковым коммерсантом, он отлично чувствовал греческий и европейский рынок. Когда Георгиос стал недомогать и появлялся в лавке от силы на час-другой, Александрос не однажды намекнул отцу, что лучше бы тот вообще оставался дома. Было видно, что он и Спироса намерен отлучить от дела. — Наверное, я скоро уйду, — признавался тот Софье. — Александрос обращается со мной, как с мальчиком на побегушках. Придется искать другую работу. А что я умею? Торговец я никакой, да и душа у меня к этому не лежит. От жалости к брату у нее заныло сердце: он и телом хрупкий, и душою вялый. Иногда он подолгу молчал, и она спрашивала: «О чем ты думаешь?» — «Ни о чем, — отвечал он. — Просто смотрю…» — Когда Спиросу станет невмоготу в магазине, — успокоил ее вечером Генри, — я что-нибудь ему подыщу. Накануне Нового года афинские улицы заполнили толпы людей: все спешили купить близким подарки. В ювелирных лавках уже все было распродано, в магазинах игрушек не протолкнуться. Софья отправила Генри одного на площадь Монастираки, а сама вернулась в книжный магазин Коромела-са. Здесь она купила новую книжку сказок Майкла Деффнера — читать Андромахе — и для Генри только что вышедшую «Историю Греции от завоевания Константинополя». На следующее утро их разбудила праздничная канонада. В десять они были в кафедральном соборе на рождественской заутрене. Тут же присутствовали король Георг и королева Ольга. В одиннадцать король принял в своем дворце на площади Конституции министров и долгую череду достойных мужей. В числе приглашенных был и польщенный Генри, впервые переступивший порог королевского дворца. Королева в свою очередь приняла в полдень Женскую ассоциацию. Вечером Шлиманы вновь поехали во дворец. Генри повязал белый галстук, надел черный фрак, Софья была в роскошном муслиновом платье (материал подбирал сам Александрос), воротник и шлейф отделаны французским кружевом, заколоты букетиками шелковых роз. У входа всем дамам вручили изящно выполненные бальные карточки, и к десяти часам Софьин билет был весь расписан. Бал открылся двумя кадрилями по получасу каждая, потом по четверть часа танцевали польку, мазурку, вальс и шесть туров лансье. В полночь пригласили к праздничному столу. Возобновившись, танцы продолжались до четырех утра и завершились котильоном. — На раскопках мне вытанцовывается лучше, — признался Генри, — хотя я еще могу тряхнуть стариной и оставить позади вон тех, к примеру, симпатичных английских офицеров. — Ты хотел, чтобы мы заняли подобающее место в обществе, — усмехнулась Софья. — После сегодняшнего вечера выше подниматься некуда. — Не обижай меня, золотая моя, — нахмурился Генри, — я не карьерист. Положение в обществе нам нужно для того, чтобы облегчить себе работу. На праздник богоявления Шлиманы ранним утром поехали в Колон, чтобы поспеть в церковь св. Мелетия на службу крещения Христа в реке Иордан. Сотворив молитвы, священник опустил крест в купель с водой, потом благословил паству и каждому прихожанину отлил в бутылочку святой воды. Дома Георгиос Энгастроменос опрыскал ею все комнаты. Софье для згой цели требовалось три бутылочки, которые она и уложила в углу сиденья в экипаже. На Гиссарлыке она перенимала у Генри умеренный пантеизм, что было естественно для их жизни в Троаде среди ахейцев и троянцев, у которых были и сонм верховных, олимпийских богов, и многочисленные божества природы—боги огня, ветра, солнца, моря, лесов, рек. Вернувшись же в Афины, в современную жизнь, она возвращалась в лоно матери-церкви: выстаивала все воскресные службы, чтила всех святых, каждому в день его памяти ставила свечку, молилась о благополучии дома. Раз в год ходила исповедоваться. Когда в начале супружества у них случались размолвки с Генри, она признавалась в них на духу, зато теперь при всем желании ей не в чем было особенно покаяться. В полдень сели за традиционное крещенское блюдо мадам Виктории — жареную индейку, фаршированную каштанами. Похоже, от диеты доктора Скиадарессиса Георгиос немного воспрял. После обеда многочисленное семейство отправилось в Пирей «на Иордан». Там уже собралась толпа народа. Освящая воду, священник бросил в море крест. Афины жаждали видеть победителя, который его найдет и вынесет на берег. Четверо молодых людей во всей одежде прыгнули в море. И первым вынырнул, торжествующе воздев руку с крестом, Александрос. — Он мечтал об этой минуте всю жизнь, — шепнула Софья мужу. Несколько дней спустя в Афины по церковным делам приехал епископ Теоклетос Вимпос. Его буквально нельзя было оттащить от фотографий и планов раскопок, от богатого собрания спасенных древностей. — Вера лежит в основании моего характера, — заявил он. — Я верю, что вы нашли Большую башню и мощную крепостную стену. Я верю, что вот этими копьями, топориками и стрелами троянцы оборонялись от ахеян. Генри, в университете говорят, что увлеченность вас погубит. Что не умеете вы работать не спеша, без восторгов, как то пристало ученым людям. Что делаете поспешные заключения. Что даже весьма спорное свидетельство срывает с места и уносит ваше воображение и из скудной пряжи вы умудряетесь соткать рулоны полотна. Это говорят ваши критики. — Я слышал от них и слова покрепче, — невесело усмехнулся Генри. — Но вера завоевывает людей, — продолжал Теоклетос Вимпос, — если в их сердце есть место для увлеченности. Когда вы однажды признались мне, что хотите стать археологом, я вам поверил. И когда сказали, что вам нужна жена-гречанка, я опять поверил. Поверил и тому, что вы влюбились в карточку Софьи. Спрашивается, почему мне сомневаться сейчас? Узкое, эль-грековское лицо Вимпоса тепло осветилось улыбкой, когда он взглянул в сторону Софьи. — Ты только похорошела, выкапывая из земли всю эту красоту. Иначе относилась к делу мадам Виктория. Она отвела дочь в сторону: — Дорогая, Генри говорит, что в конце месяца вы опять уезжаете. — Да. — Пойми меня правильно, но сколько же можно оставлять дочь и дом? — Пока мы не найдем Трою. Однажды принесли обычную утреннюю почту. Быстро перебрав конверты, Генри отложил письмо из Чанаккале. Писал Фрэнк Калверт, и писал странные вещи. Прошел-де слух, что Генри продал в Европу за большие деньги Аполлона. Далее Калверт утверждал, что метопа была обнаружена не на государственной земле, а несколькими футами дальше, на его собственном участке холма. Он не собирался обвинять Генри в мошенничестве: ясно, тот просто ошибся. За вычетом транспортных расходов половина вырученных за Аполлона денег полагается Калверту, и он просит переслать их в Чанаккале. Они сидели в саду. Солнце светило как-то неуверенно. На фоне голубого неба куском белоснежного сахара сверкал мраморный Аполлон. — Кто мог наплести Фрэнку такую чушь? — Не знаю. Слухи—те же летучие мыши: они слепые и любят темноту. — Вообще-то понятно, что его обидело. Конечно, он знает, что метопу мы нашли не на его земле, но ему обидно, чего ради он научил тебя, как вывезти ее из Троады. — Я сейчас же напишу ему ответ, объясню, что никуда не вывозил мрамор — ни в Лондон, ни в Париж, что никогда не продам его. Он здесь, он украшает наш сад. Однако Фрэнк Калверт не унялся. И скоро они поняли истинную причину раздражения, водившего его рукой. Конечно, его взбесили не слухи о продаже Аполлона, причина лежала глубже. Им в руки попали гранки его статьи для «Левантийского вестника», в которой Фрэнк поносил и Генри, и его работу на Гиссарлыке. Обвинения были настолько чудовищны, что Софья и Генри только развели руками. А все было очень просто. Оказывается. Фрэнк Калверт никогда не верил, что Шлиман найдет Трою на холме Гиссарлык. Вон оно что! Своими отчетами, посылаемыми в европейские газеты, и прежде всего статьями в лондонском «Таймсе», Генри приобрел имя—тот же «Тайме» поздравил его с успехами в археологии. В Великобритании Генри Шлиман был героем дня, а кто знал Фрэнка Калверта? Да и знавшие знали его как изменника родине. Понятно, это не могло не взбесить его. И он написал статью, в которой доказывал, что если кто открыл Трою, то скорее он, а не Генри Шлиман. — Если говорить правду, — уступчиво объявил Генри, — Фрэнк действительно вырыл на своей стороне холма три мелкие траншейки, но, по своему обыкновению, покопал несколько дней и бросил. Калверт пытался пошатнуть доверие к Генри. Если каменные орудия существовали в Трое, вопрошал он, то отчего Гомер не упоминает их? Следовательно, ни один культурный слой, вскрытый Генри и содержащий каменные орудия, не может быть гомеровской Троей. Гомер, например, нигде не говорит ни о кремневых пилах, ни о каменных ножах. Калверт обвинял Генри и в том, что тот напутал в описании стен дома, отрытого в холме, дал неверные размеры, не разобрался, из какого материала он сооружен. Он объявлял ошибочными описание и назначение терракоты, отвергал аргументы, позволявшие Генри проводить рубеж между доисторическими временами и поздними греческими поселениями. — Я потрясен! — выдохнул Генри. — Я любил этого человека, и мне казалось, что он нас тоже любит. — Он нас любит, — задумалась Софья, — но ему горько. У зависти горький вкус. Его ход мыслей — вот что мне непонятно. Сначала он заявляет, что не ты, а он открыл Трою, и дальше пишет только о том, что это совсем не гомеровская Троя. Его статья нам повредит? Он грустно покачал головой. — За эту кляузу ухватятся только те, кому хочется, чтобы мы ошибались. — Ты думаешь, он уже не разрешит нам копать на его половине? — Совсем не думаю. Он не мстительный человек. И конечно, ему мало радости доставит эта выходка. К середине января приготовления к раскопочному сезону 1873 года были в целом завершены. Генри нашел молодого и симпатичного художника, Полихрониоса Лемпессиса, заинтригованного новизной работы. Он не был женат, в Афинах его ничто не держало. Яннакис, Поликсена и Фотидис обещали приехать в Трою сразу по прибытии туда Шлиманов. К сожалению, ломашние дела не отпускали в этот год Деметриу, молодого, но очень хорошего десятника. Второй их десятник, Теодорос Макрис, устроился где-то в провинции, и разыскать его не удалось. И Генри нанял капитана Георгиоса Цирогианниса. — Умение руководить людьми — редкость, — объяснил он Софье. — Только моряки обладают им. Кстати, о моряках: мы потеряли нашего капитана Папалиолоса и его «Таксиархис». Он до конца года подписал контракт на рейсы между Критом и Александрией. Зато он рекомендовал нам своего старого приятеля капитана Теодору. Я уже видел его пароходик «Омониа». Он будет приходить в залив Бесика раз в месяц.
3
«Омониа» покачивалась у пристани в Чанаккале. Тут же их ждал Яннакис с арбой — увезти их кладь. Грузиться помогали оба десятника, приехавшие с Генри из Афин, — капитан Цироги-аннис и некий албанец из Саламина. Потом вся компания отправилась в Гиссарлык. Генри остановился в портовой гостинице Николаидиса: они бы остановились здесь и два года назад, не смани их тогда Фрэнк Калверт. — Это на всякий случай, — сказал он Софье. — Вряд ли Фрэнк предложит нам остановиться у него. Но я хочу по пунктам пройти с ним его статью, прежде чем отвечать в печати. Было холодно, ветрено. Кончался январь. Они прошли губернаторский дом, впереди был особняк Калверта. Всю дорогу Генри озадаченно мотал головой. — Нет, с друзьями так не поступают. Никто не обязывает его разделять мои взгляды, но зачем пригвождать меня к позорному столбу, выставлять на смех? Когда дворецкий провел их в библиотеку, Фрэнк Калверт не высказал ни удивления, ни досады. Он велел придвинуть кресла к жарко пылавшему камину, предложил коньяку. Генри ровным голосом осведомился, отчего Фрэнк решил высказать свои критические соображения сразу в печати. Фрэнк перевел разговор на другую тему, но Генри не дал себя сбить. — Фрэнк, вы пишите в статье, что найденные мною кремневые пилочки и каменные ножи делают невозможным считать Гиссарлык местоположением Трои, поскольку Гомер ни разу не упоминает их… Фрэнк поднялся с кресла и в раздумье налил себе еще коньяку. Отворилась дверь, и вошла миссис Калверт. Она тепло поздоровалась с Генри, обняла Софью: мужчины вольны делать глупости, но ее это ни с какой стороны не касается. — Дорогая, может, пойдем в гостиную, выпьем по чашке чаю? Поговорим о своем. Софья с радостью улизнула из библиотеки, где назревал весьма недружественный спор. В гостиной они поговорили о детях и летних планах. Примерно через час зашел Генри. Он был один, и было заметно, как он старается не выдать своих чувств. Поблагодарив миссис Калверт за внимание к Софье, он вежливо отказался от чая. Фрэнк не выи км попрощаться. Пробежав оцепеневшую от холода улицу, они вернулись к себе в номер, и здесь наконец Генри заговорил: — Фрэнк невменяем. Его не убеждают ни доводы рассудка, ни факты. Он твердит, что его возражения в печати сделаны по существу и в интересах дела. И хотя, он говорит, не я, а он прежде меня открыл Трою, это не гомеровская Троя, поскольку мы не обнаружили византийских предметов, а на Гиссарлыке цивилизация будто бы держалась вплоть до четырнадцатого столетия. Он путает Гиссарлык с Александрией Троянской. — Ив итоге этого спора, — неловко усмехнулась Софья, — тебе, надо думать, вежливо указали на дверь? Он не запретил нам вести раскопки на его половине холма? — Нет. Пока не запретил. Но чем успешнее мы будем работать, тем скорее он созреет для этого решения. Видишь, я был прав, оставив за нами эту комнату. Пойду попрошу что-нибудь на ужин. — Мы пропадем, если Фрэнк закроет для нас свою половину. — Поэтому-то я и хочу взять больше рабочих и копать быстрее. От башни мы поведем траншеи во все стороны… На следующее утро отправились к губернатору. — Выказать уважение, — сказал Генри, — всегда полезно. Какой он ни был твердолобый чиновник, Ахмед-паша, но тоже мог щегольнуть воспитанием: приветствовал их возвращение в Троаду, велел лакею принести кофе и как бы невзначай сказал: — Вы, разумеется, уже знаете, что в Константинополе вот-вот будет принят новый закон? — Новый закон? — озадаченно переспросил Генри. — Нет, я ничего не слышал. А какой области он касается? — Он касается археологических памятников, составляющих национальное достояние Турции. Софья бросила взгляд на пепельно-серое лицо Генри. — Можно ознакомиться с этим документом? — Нет, закон еще в стадии прохождения. — Но вы знаете его основные положения? — Да, и они прямо касаются вас. Первое: надлежащим образом составляется полная опись всех находок и направляется в министерство просвещения. Второе: ничто не может быть вывезено за пределы страны Его величества без особого на то разрешения. Третье: если вышеупомянутые находки будут сочтены необходимыми для коллекции музея и их приобретение будет желательно, то музей приобретает их за цену, которую положит разумной. Четвертое: разрешение на вывоз из страны распространяется только на те находки, которые музей не удерживает при себе. Но и в этом случае вывоз за пределы страны Его величества разрешен лишь в том случае, если, по получении особого разрешения, уплачивается таможенная пошлина. И последнее: уличенный в попытке тайно вывезти из страны археологические находки лишается их всех безвозмездно. — Но чего же тогда стоит наш фирман?! — вскричала Софья. — Сначала официально разрешают, потом берут свои слова обратно — как это можно? Лично к ним у гебернатора не было неприязненных чувств, и он ответил вежливо и выдержанно: — Правительство имеет право менять свои законы. Принятый закон, естественно, лишает силы предыдущие установления, противоречащие нынешним. — Но я вложил в эти раскопки десятки тысяч долларов! — не выдержал Генри. — И намерен вложить еще столько же! Мне с таким законом не по пути. По лицу губернатора редким гостем скользнула улыбка. — А его пути неисповедимы, доктор Шлиман. Обсуждение может затянуться на месяцы. Когда-то еще закон оформят, потом двадцать раз пересмотрят, потом только обнародуют. Пока он не ляжет на мой стол, вам решительно не о чем беспокоиться. Они вышли на улицу, и холод прохватил их до костей. Генри тусклыми глазами смотрел под ноги, вздрагивал, у Софьи, как всегда после нервного напряжения, больно тянуло в животе. — Этот новый закон, — сказал он, — размахнулся отобрать все. Все ценное музей заберет себе, а нам швырнет несколько пиастров. Мы останемся ни с чем. С битыми черепками… В Гиссарлыке Яннакис с двумя дельными каменщиками из Ренкёя кончал каменный дом, заказанный Софьей перед их отъездом в прошлом году. Камень брали из раскопочного выброса, каменщики хорошо обтесали брусья, положили ровненькую кладку. Спальню и столовую Софья задумала такими же, как в их деревянном домике, зато рабочую комнату просила сделать побольше, чтобы поставить несколько столов. В окно открывался вид на Дарданеллы, Эгейское море. На пороге, зажав в руке шляпу, переминался с ноги на ногу Яннакис, выжидающе глядя ей в спину. — Ты замечательно все сделал, Яннакис. Здесь нам будет хорошо. Яннакис внес в комнаты их пожитки. Поликсена приготовила постель. В очаге потрескивали поленья, на плите разогревался ужин. Поздравить с возвращением в Трою пришел Фотидис. Ему, капитану Цирогианнису и албанцу отвели под жилье деревянный дом, где в прошлом году жили Шлиманы. Софья выставила на тумбочку икону. Генри одобрительно улыбнулся. — Поразительно, как ты умеешь превратить случайное убежище в родной дом, всего-навсего выставив эту икону. — Так в этом же и отличие от твоих древних |реков: они боялись своих богов, а христиане своих любят. И греки, и ахейцы умиротворяли богов, проливая на землю вино или сжигая тучные бедра быков, баранов, козлов и окуривая благовонием Иду и Олимп. А мы не поклоняемся кумирам… — Это новость! Как тогда прикажешь называть золотые и серебряные браслеты, ожерелья, кольца, кресты?.. И Софья благоразумно прикусила язык. Обойдя раскопки, они вернулись в свою новую столовую, где Поликсена уже накрыла к ужину. Легли рано. В пять Генри разбудил ее. — Скоро придут рабочие. Яннакис отчистил инструменты, смазал тачки, наточил лопаты и кирки — словом, подготовился. К шести часам из окружающих деревень стали стекаться люди. Всего пришло сто пятьдесят греков и турок. Генри разбил их на пять рабочих бригад, закрепив за каждой определенный участок и характер работы: копать рвы, траншеи, террасы, расчищать крепостную стену, углубляться до основания смотровой башни, до самой скальной породы, раскапывать храм, ибо под ним должен быть храм поменьше, первоначальный, троянский — в это Генри свято верил. Всем троим десятникам дали по бригаде, себе Генри взял самую многочисленную — им предстояло освобождать юго-западную сторону башни. Были свои подопечные и у Софьи. На сей раз гурки поставили над ними только одного смотрителя — Амина-эфенди. Задача его была не из легких: уследить за пятью бригадами, разбросанными чуть не по всему холму. А они, между прочим, извлекали любопытнейшие вещи: покрытый красноватым лаком терракотовый бегемот, вазы и кубки, большие плоские блюда, мраморные фигурки богини Афины с совиной головой. Ниже, на глубине десяти футов, нашли двухтонные мраморные глыбы, обработанные в дорическом стиле: Генри посчитал их деталями храма Лисимаха. Надписей на них никаких не было, и Генри с легкой душой распорядился сбросить их вниз, на равнину. Амин-эфенди был способный юноша с привлекательной внешностью, хорошо образованный. Он изнемогал от желания поработать на совесть. Характер у него был не склочный, но от Шлиманов он с самого начала ожидал подвохов. Когда были сделаны самые первые находки, он заявил: — Мне нужна исчерпывающая опись находок к концу каждого дня, чтобы иметь их наготове, когда вступит в действие новый закон. — В моем фирмане такого требования не содержится. Абсурдно подчиняться закону, которого еще нет. — Губернатор заверил меня, что скоро он будет принят. Разве для вас не легче составлять списки ежедневно? Во избежание ошибок мы можем делать это вместе, а потом я отошлю свой экземпляр в Константинопольский музей. Софья обычно старалась держаться в стороне от таких перепалок, но иногда и у нее лопалось терпение. — Да не нужны еще музею ваши списки, Амин-эфенди! Вы, конечно, можете их составлять, если вам хочется, но мы так не умеем работать. Мы сначала очищаем предметы, описываем их в дневнике, каталогизируем, чтобы потом не было путаницы. Если когда-нибудь этот закон пройдет, я по записям в журнале составлю для вас полный и точный список находок. Казалось, молодой человек внял. — Каждый работает как умеет, госпожа Шлиман. Мне, например, будет спокойнее составлять списки ежедневно. — Если вы так настаиваете на этом, мы можем вам помочь, — мирно отозвался Генри. — Все находки вечером будут сноситься к порогу нашего дома. Можете там работать. — Благодарю, доктор Шлиман, но я бы хотел записывать предметы сразу по извлечении их из земли. «Ну, милый, — подумала Софья, — тогда тебе нужна хорошая лошадь, чтобы всюду поспевать». С капитаном Цирогианнисом им определенно повезло. Его рабочие поворачивались проворнее других, даже Генри со своими отставал. У албанца же дело никак не налаживалось, и люди у него подобрались какие-то мрачные. Генри попросил Софью походить рядом, послушать, что они говорят. — Они на дух не переносят этого албанца, — сообщила она вскоре. — Видимо, они считают ниже своего достоинства слушаться его приказаний. — Ну, я не могу мановением руки превратить его из албанца в грека. Значит, надо с ним расстаться. Дам телеграмму Деметриу, предложу хорошие деньги, чтобы он наконец разделался со своими проблемами. Для меня хороший десятник стоит десятка рабочих. Уже на следующей неделе Деметриу работал с ними. С появлением Полихрониоса Лемпессиса их вечера оживились, повеселели. Яннакис разобрал кладовку, и художник с удовольствием вселился в нее. Подвижный как ртуть, он был веселым и добрым товарищем. И дело свое он знал хорошо, рука у него была точная. Первые дни он рисовал раскопки и рабочих, потом переключился на троаде кие пейзажи, стараясь передать особое очарование этих мест. Он напросился расчищать терракоту, каменные орудия, металлическое оружие, выкладывал их потом на верстак, брал тушь и срисовывал. Своей мастерской работой он и покорил Шлиманов. Капитан Георгиос Цирогианнис, накрутившись за день с сорока рабочими, особой потребности в обществе уже не испытывал. Он ужинал и сразу отправлялся спать. Напротив, Фотидис жаловался Софье на бессонницу, особенно тягостную, когда нечем заняться и не с кем перемолвиться словом. Узнав, что Полихрониос Лемпессис с вечера до полуночи работает со Шлиманами, он попросил и его взять в компанию. Генри недовольно скривился, и Софья заступилась за Фотидиса: — Он одинок, ему скучно. Ты говорил, он прекрасно вычерчивает профили и делает нивелировку. Наверное, им нужно дорожить. — Еще как! Худо-бедно почти инженер. Фотидис был счастлив. Вскоре он уже стал чем-то вроде секретаря при Генри, старательно переписывая его отчеты для греческих газет. Однако самым большим удовольствием для него было помогать Софье отмывать терракоту и из черепков собирать горшки. Ради этого он собственноручно варил рыбий клей в кухне. — Одной рукой ты собираешь горшки. — заметил ей Генри. — а другой разбиваешь сердца. Он уже с тебя глаз не сводит. Пошла их третья неделя в Трое, когда ударили холода: ночью градусник показывал 23° по Фаренгейту [25]. В каменном доме да под шерстяными одеялами еще можно было спать, а вот десятники всю ночь простучали зубами от холода и встали с простудой. Леденящий северный ветер, жаловался утром Фотидис, лез во все щели. Лампы гасли, вода замерзла. Выглядели они все кошмарно. — Пожалуй, нам надо поменяться с ними домами, пока не спадет этот холод, — предложила Софья. — У нас им будет гораздо теплее. — Да, надо это сделать. Не то они все разболеются. Я велю Яннакису поменять постели. Под одеялами не замерзнем. И потом, вдвоем теплее. Обмен состоялся, и десятники отлично выспались в каменном доме. Шлиманы спали плохо. На раскопках в траншеях было теплее, и то мужчины работали в шапках, пальто и шарфах. На пятый день с утра проглянуло солнце. Ветер стих. В Троаде снова было тепло. Яннакис и Фотидис водворили кровать Шлиманов в каменный дом. Фотидис рассыпался перед Софьей в благодарностях за заботу. Яннакис днями пропадал в деревнях, вербуя новых рабочих, и Генри поручил Софье кричать «пайдос» [26] утром и в обед. Она ходила от одной группы к другой и, сложив руки трубочкой, объявляла перерыв. Пришли новые неприятности. Какой-то купец из Смирны соблазнил рабочих сдельщиной — собирать лакричный корень. За день можно было заработать пятьдесят центов, а Генри платил только тридцать пять: дни еще были короткие, темнело рано. И половина рабочих сразу подалась собирать коренья и давить сок. Раньше, чем через две недели, на них нечего было рассчитывать. Янникис в который раз проехал по деревням, но наскреб сущую малость. Генри не находил места: уходили дни! Погода установилась, было тепло и ясно. Кризис с рабочими также миновал. Дни стали длиннее. Генри увеличил жалованье. Его бригада расчистила подходы к храму, убрав одиннадцать тысяч кубических ярдов грунта и пустой породы, и это радовало. Другие бригады тоже хорошо работали на своих участках. Буквально каждый час на свет являлось что-нибудь замечательное: медный сери — их первая земледельческая находка, медное оружие, копья и наконечники стрел, длинные тонкие медные гвозди с круглыми шляпками. Обводя траншеей северо-западную сторону Большой башни, бригада Генри натолкнулась на две стены толщиной в десять футов, стоявшие одна на другой крест-накрест. Когда достаточно отрыли верхнюю стену, Генри подозвал Софью и показал: в качестве строительного материала здесь использовали коринфские колонны. Замечательна была нижняя стена: многие ее массивные глыбы имели метку не то каменотеса, не то строителя—сигма, дельта, ипсилон. Работа наладилась, и Софьина жизнь пошла ровной колеей. Генри возвращался с утреннего купания, она пила с ним кофе, шла к своим рабочим и оставалась на раскопках до обеда. К этому времени все утренние находки уже были в их рабочей комнате. Она видела, что Амин-эфенди ни на минуту не закрывает записную книжку, и улыбалась про себя: всего он не углядит—нельзя же быть в пяти местах сразу. Он не затруднял себя отбором половины находок, уверенный, что принятие нового закона—дело нескольких недель, и тогда Шлиманы сами все отправят в Константинополь, а директор музея сам решит, что ему угодно оставить. Чувствовала она себя превосходно, работа на солнце подрумянила ей щеки, но Генри настоял, чтобы после обеда она ложилась вздремнуть и возвращалась, когда спадет жара. На это время он сам приглядывал за ее рабочими. В каменном доме было прохладно и хорошо. Проснувшись, она шла к Поликсене, договаривалась о завтрашнем обеде. Обе беззлобно вышучивали кулинарную страсть Яннакиса К концу февраля у Генри каждый день в среднем работало сто шестьдесят человек. Работы по освобождению от грунта башни, крепостных стен и храма подвигались быстрым ходом. Генри был доволен. Сначала он собирался убыстрить темп раскопок на половине Фрэнка Калверта, а теперь его еще торопила угроза нового закона. Он во все стороны пустил траншеи, рвы, террасы. Бригада Генри всех опережала: они копали с восточной стороны башни, а это близко к южному склону холма — недалеко отвозить мусор. Это обстоятельство заставило его несколько изменить технику работы: прежде специально назначенный рабочий только нагружал тачку, а теперь ее нагружал и отвозил один человек. На одну операцию стало меньше. Скрывая истинную причину своей нервозности, он жаловался на подорожание турецкого вина: — В прошлом году две бутылки стоили мне пять центов, а теперь запрашивают восемь! — Но ведь это замечательное вино, Генри, ты его предпочитаешь французским. — Я на вино не жалуюсь. Я жалуюсь на цены. Портило настроение и то, что у найденных терракотовых змеек рабочие аккуратно отламывали рожки: в Троаде было распространено суеверие, что эти рожки вылечивают от падучей и еще многих болезней. В прошлом году, к примеру, один умник насобирал целый кувшин рожек. Сколько Генри ни бился, убеждая, что все это чушь, сломить их предрассудок было невозможно. К холму повадились ездить крестьяне за камнем для строительства церквей и мостов. Большие, хорошо обтесанные глыбы было тяжело и долго скатывать по склону, и пришлось заняться «каторжной», как ее называл Генри, работой: дробить монолиты на куски, с которыми легче управиться. Приезжие терпеливо ожидали, пока рабочие расколют камень и по частям спустят его на равнину. Здесь они спокойно грузили его в свои доморощенные двуколки. Генри особенно возмущало, что они не желали хоть чем-нибудь помочь им. Уж как он их уламывал! — Тем, кто поможет разбить камни и убрать их с холма, я передам законное право на них. Вожак этой банды помусолил самокрутку и, пожав плечами, буркнул: — Они и так наши. — Это мои камни! — взвился Генри. — Мне стоило больших денег откопать их. Только троньте: я упеку вас куда следует. — Вам разрешено откопать их, — ответствовал бандит. — А наверху они общие. Попробовала увещевать их и Софья. К грекам-христианам из Енишехира она обратилась на местном наречии: — Стало быть, строите колокольню? — Да. — Чтобы быть ближе к Господу? — Ну, на это никаких камней не хватит. — А разве не учит вас церковь помогать ближнему? — Мы неученые, мы только строить умеем. И они по-прежнему каждый день приезжали к холму, и по-прежнему рабочие дробили камни, освобождая от них траншеи. Большой храм притягивал Генри как магнит. Здесь он сделал несколько замечательных открытий. Нашел четыре глиняных трубы I т. una п. два дюйма в длину и двенадцать дюймов в поперечнике), снабжавших храм водой, нашел три мраморных плиты, испещренных древнегреческим текстом, из коего явствовало, что эти плиты надлежит поместить в храме. Генри ошалел от счастья. Раз «храм», значит, непременно «храм Афины». Никакое другое святилище не заслуживает названия «храма»! К тому же здание было повернуто на восток и во всех деталях совпадало с афинским Парфеноном. Он доставил все три плиты в рабочую комнату, отмыл теплой водой, иСофья села за перевод. Уже можно было более или менее уверенно датировать плиты третьим веком до новой эры. Кончив перевод, она растерянно взглянула на него. — Милый, мне так не хочется портить тебе радость, но все это не имеет никакого отношения к культу. Кому-то царь жалует землю… Помнишь, мы уже находили такие. Но воспарившего Генри было очень непросто вернуть на землю. — Это неважно. На тех плитах даже не упоминалось о храме, а здесь специально оговаривается, что их следует поместить в храме. Ведь так? — Так, конечно… Беда, что он никак не мог найти в храме целых скульптур. Когда они наконец докопались до пола, то ткнулись в плиты песчаника — и больше там ничего не было. Генри считал, что статуи уничтожили религиозные фанатики и невежественная чернь. Если бы у храма был земляной пол, то за много веков статуи ушли бы в землю и сохранились. А песчаник удерживал их на себе до тех пор, пока не явились вандалы. Сразу под основанием храма он нашел до блеска отполированные боевые топорики и еще раз поразился умению, с которым древние мастера, располагая скудным инструментом, делали такие прекрасные вещи. Их было много, этих вещей, они до отказа заполнили их рабочую комнату: терракотовые вазы без совиной головы, зато С женскими грудями, большим пупком и маленькими закрученными ручками — вроде заломленных рук. Каждый день рабочие подносили в корзинах метательные кольца из гранита, диоритовые пилки, молотки, ножи. В одной из траншей они обнаружили огромное количество сосудов для вина, они были высотой в шесть футов. Был уже март, дни становились все длиннее. Полихрониос Лемпессис и Фотидис засиживались далеко за полночь, отчищая, восстанавливая, сортируя находки. Иногда к ним присоединялись Яннакис и Поликсена. Софья больше не ходила на раскопки: чтобы только расписать вечером все дневные находки, ей приходилось сидеть за столом по шесть часов. Генри отвоевал для себя уголок стола и каждый вечер составлял подробнейший отчет о дневной работе. Иногда он писал по-гречески, чаще — по-немецки или по-французски. Он не расставался с карманным компасом, и все вновь открытые стены были у него точно ориентированы относительно друг друга. — Пора вывозить отсюда нашу половину, — сказал он ей однажды. Первое золото в этом сезоне нашли рабочие Софьи: два медных гвоздя с золотыми шляпками. Когда, зажав их в кулаке, она прибежала к Генри, его лицо осветилось торжеством. — Молодец! Но особенно он гордился Большой башней. Он писал в дневнике: «Стоит проехать всю землю, чтобы увидеть башню, которая господствовала не только над равниной у подножия холма, но и над всем плоскогорьем к югу». С западной стороны башни рабочие нашли остатки очень большого дома, владелец которого, решил Генри, был богатым человеком: полы в нескольких комнатах были выложены отлично обработанными плитами красного камня. Взглянув на небо и ни к кому не обращаясь, Генри сказал: — Так. Это пока самый большой дом. Когда же дворец Приама?4
Весна была ранняя. К середине марта Троада покрылась цветущим ковром—шафран, багровые соцветья чеснока. На деревьях лопались почки, но теплело так быстро, что болота после зимы без дождей стали пересыхать и пошел мор на лягушек. Малярия десятками косила рабочих. Наученный опытом, Генри основательно запасся хинином. Он увеличил дозы себе, Софье, десятникам и художнику Лемпессису. Рабочий день еще удлинился, и он снова поднял жалованье—до десяти пиастров (сорок центов). В эти дни ровной, размеренной работы Генри сделал удивительную находку: навершие скипетра в форме львиной головы из прозрачного горного хрусталя. Дождавшись утреннего перерыва, он, не скрывая торжества, показал вещь Софье. — Раньше мы здесь не находили хрусталь, — заметил он. — В древности ближайшие горы кишели львами. Гомер много говорит о них. Только имея возможность часто наблюдать их, он смог так живо передать особенности этих зверей. Каждый час приносил поразительные находки. Неподалеку от львиной головы нашли граненый шестиугольник из горного хрусталя, пирамидку из мрамора с черными, белыми и голубыми прожилками. Какой-то медный инструмент, похожий на удила, медные ножи, каменные наконечники копий. На верхней площадке башни впервые нашли части музыкальных инструментов: украшенная орнаментом трубочка слоновой кости и пустотелая плоская кость с тремя дырочками сверху. — Если так будет продолжаться дальше, — радовался Генри, — то мы и впрямь составим картину троянского быта. Изменив немного направление раскопа, Генри открыл большую выемку перед входом в их каменный дом. На глубине десяти футов рабочие отрыли несколько больших, красиво сделанных сосудов. Софье приглянулась изящная черная ваза в форме супницы, которую она сразу забрала себе. — В первый же вечер дома, — пообещала она Генри, — я приготовлю тебе баранью похлебку с овощами. Чуть ниже в траншее нашли лохани, одна была с ручками и имела два фута в высоту. — Ты орудуешь в чьей-то кухне, — заметила Софья. — Остается только найти барашка на вертеле. На глубине между тринадцатью и двадцать шестью футами, пройдя стены прямоугольного в плане дома, рабочие наткнулись на целый склад утвари. Все вазы были оригинальной формы. Софья особенно выделила блестящую черную вазу с женскими грудями и двумя ручками. Она попросила Генри соорудить на крышах их каменного и деревянного домов аистовы гнезда. В турецких деревнях водилась пропасть аистов, иногда они гнездились по нескольку на одной крыше. — В Германии считается, — сказал Генри, — что аисты приносят счастье дому. — Вдобавок они поедают насекомых и лягушек. Я рассчитываю с их помощью извести сороконожек. Генри подрядил хорошего плотника, турка Мастроянниса, и тот на совесть сделал гнезда, но аисты их почему-то забраковали. — Выходит, в наши дома не придет удача, — сумрачно заключил Генри. — Чепуха, — возразила Софья, — На холме бывают сильные ветры, и аисты боятся, что их гнезда снесет. В конце марта рабочие разошлись по домам: пришла пора подрезать виноградные лозы. Работы на холме, по существу, прекратились, и нашли совсем мало: золотое блюдо, формой напоминавшее наконечник стрелы, хорошо сохранившийся женский череп в цельной терракотовой урне. На дне вазы сохранились пепел и кости, бронзовая шпилька для волос. Опять задул пронизывающий северный ветер. Даже в доме не удавалось согреться. Долгими вечерами Шлиманы вели записи, Генри писал и переписывал статьи, а руки коченели от холода. Они снова уступили каменный дом десятникам и перед сном жарко топили очаг в их прошлогоднем пристанище. Это едва не стоило им жизни, поскольку очаг был выложен прямо на деревянном полу. Однажды Генри проснулся среди ночи от запаха гари. С ужасом увидел он, что уже горят несколько ярдов пола и занимается стена. Он закутал Софью в одеяла, схватил на руки и выбежал из дома. Тут она проснулась. — Что случилось?.. — Пожар!.. Вся комната горит. Оставайся здесь. Я побегу за людьми. Прибежали десятники. Генри плескал водой на дымящуюся стену. Фотидис хлестал по полу мешком, сбивая пламя. Капитан Цирогианнис и Деметриу разобрали пол и влажной землей засыпали тлеющие головешки. Кутаясь в одеяла, Софья смотрела с порога на учиненное разорение. Стена осталась, хотя вся почернела. Пол чуть не наполовину выгорел, только кусок под их постелью не был тронут огнем. Поликсена приготовила чай. — Яннакис, — распорядился Генри, — отнеси мою постель в каменный дом. Мы уложим там госпожу Шлиман. А сами давайте одеваться и, как рассветет, настелим здесь новый пол. Холода держались шесть дней. В начале апреля установилась чудная погода. У Генри снова работало сто пятьдесят человек. Над башней обнаружили дом, в нем было больше восьми комнат; среди находок были тигель для плавки меди с остатком металла на дне, формы для отливки медных брусков, множество черных, красных и бурых черепков. В одной из комнат был гладкий известняковый пол. В других комнатах стены были все в черных пятнах. — А здесь полы были деревянные, — заметил Генри. — Когда они выгорели, то стены снизу почернели. Наступила пасха, греки разошлись по деревням праздновать. В великий четверг Софья встала затемно и вывесила в окна, смотревшие на восток, красные полотнища. Поликсена сварила яйца и выкрасила их в красный цвет. Софья испекла просвиры. Вечером она открыла Библию, опустилась на колени перед иконой и читала из Евангелий о страстях. В страстную пятницу постились. Утром в субботу она собирала на равнине цветы для божницы. К вечеру испекла кулич. Яннакис зарезал барашка, специально выхоженного в загончике рядом с кухней. В воскресенье она зажгла свечу перед иконой и упросила Яннакиса уступить ей и Поликсене готовку праздничного обеда. После праздников бригада Софьи сделала важную находку: пятифутовой высоты жертвенник из серого гранита; верхняя его часть, предназначенная для заклания, была в форме полумесяца, внизу был зеленый сланцевый желоб для стока крови. Жертвенник превосходно сохранился. — Оставим его in situ, — решил Генри, — пусть его видят приезжие. Софьин участок казался перспективным, и Генри подбросил ей десяток рабочих и сам работал с нею бок о бок. Их старания были вознаграждены: они обнаружили два цельных скелета— видимо, это были воины, поскольку рядом лежали шлемы с гребнями из конского волоса, медное копье. Генри открыл «Илиаду».Пришел смотритель, разрешил оставить жертвенник на месте. — А один скелет вы возьмете? — спросила Софья, заранее уверенная в ответе. — Нет, не надо. — Очень хорошо. Тогда мы заберем их оба в Афины. Генри вызвал столяра, тот сделал большой ящик. Днем скелеты осторожно поместили в него и отнесли в рабочую комнату. Вечером, срисовывая скелеты воинов, Лемпессис обратил внимание Генри на одну особенность: — Какие крупные и в то же время удивительно узкие головы. Впервые вижу такие головы. Доктор, может, их деформировали эти тяжелые медные шлемы? — Не думаю. Они ведь носили их только в сражениях. Видимо, еще одна отличительная черта троянцев, так же как мелкие зубы в женском черепе. Отпустив Лемпессиса и Фотидиса, Генри выложил Софье свои догадки и предположения: — Воинов мы нашли на самом верху башни. Известно, что дворец Приама был неподалеку от башни и что от него вела мощеная дорога, спускавшаяся к двойным Скейским воротам и дальше на равнину и к месту сражений. Жертвенник и скелеты находились с восточной стороны башни. Дорога и Скейские ворота должны быть с западной ее стороны, со стороны Троады… Завтра же поставим туда рабочих. Через четыре дня, 9 апреля, на глубине тридцати футов они наткнулись на дорогу. Раскопав в обе стороны, они установили, что мощенная булыжником дорога была семнадцати футов в ширину. Генри от радости потерял голову. Его возбуждение передалось рабочим, тем более что за хорошую работу и интересные находки он частенько приплачивал им. Зачарованная его поразительной интуицией, Софья опустилась на край стены и смотрела, как стремительно нагружаются и снуют во все стороны тачки с грунтом и мусором. — В какую сторону ты будешь расчищать дорогу, — спросила она, — вниз до равнины или кверху, к дворцу Приама? — В обе стороны. Дадим Фотидису шестьдесят человек, пусть копают вниз, к основанию холма: там должны быть Скейские ворота. А я с сотней людей пойду вверх. Столь красиво вымощенная дорога безусловно должна вести к большому зданию на вершине холма. Фотидису потребовалась чуть не неделя, чтобы расчистить тридцать три фута мостовой и выйти на равнину. Никаких ворот не было и в помине! Положим, они сгорели, но скобы или болты должны были сохраниться! Вечером Шлиманы пришли на кухню, где ужинал их штат, и сели за общий стол. — Итак, никаких ворот нет, — сказал он. — Почему?! Если бы я командовал армией, которую прижимают к самым стенам крепости, я бы поставил двойные ворота у подножия холма, чтобы прежде врага в них проскользнули мои солдаты и колесницы. Утром Генри прикинул, сколько ему предстоит подниматься вверх по холму до места предполагаемого начала дороги; там же будет и местонахождение «большого здания», в котором он видел ни больше ни меньше как дворец Приама. Выходило, что раскопать ему предстоит семьдесят восемь квадратных футов — все еще на турецкой стороне. Попутно он вскрыл три ряда городских стен, беспорядочно громоздившихся одна на другую: ясно, что позднейшие строители и не подозревали, что у них были предшественники. Копаясь в руинах позднего греческого города, Генри нашел вазу с египетскими иероглифами, чем подтверждались торговые связи между Троей и Египтом. Потом на свет явилось блюдо с барельефным изображением целующихся влюбленных; над скульптурой трудилась точная рука. На глубине двадцати футов Генри нашел глиняную ручку от большой чаши, ручку украшала искусно выполненная голова быка. Софья захлопала в ладоши. — Вспоминаю «волоокую Геру богиню»! Он уже выбрал около семи тысяч кубических ярдов земли, когда обнажились остатки двух больших домов: сверху помоложе, нижний постарше. Оба сгорели в пожаре и лежали среди пепла и перегоревшего мусора. Стены нижнего дома были толще, массивнее, и дом стоял на самой дороге. — Значит, дорогой пользовались, когда этот древний дом был еще обитаем. — Раз дорога отходит от дворца Приама, — рассуждала Софья, — то не кажется ли тебе… — Нет, еще не кажется. Где двойные Скейские ворота?! Они должны быть у подножия холма. — Да почему же обязательно там? — попыталась она успокоить его. — Мы еще вверх не всю дорогу открыли. Он взглянул на нее затравленными глазами. — Все равно она приведет не туда, куда нужно. — Да, если доверять Гомеру, а он писал спустя двести лет после войны. За двести лет здесь все перестроили. Сам Гомер уже не мог видеть ворота. Не нарушая исторической правды, народная память могла переместить ворота на сорок-пятьдесят футов в сторону. — Справедливо. Ведь и название их удержалось через предание… Несколько дней провозились, разбирая верхний, более поздний дом. Выяснилось, что нижний дом стоял на возвышении, что свидетельствовало о его важности. Вдруг стены его разошлись в стороны, и в проеме лежали огромные медные засовы… Генри тотчас послал за Софьей. Ее рабочим приходилось нелегко: то и дело на пути вставала какая-нибудь стена, и расчистка дороги подвигалась медленно. Когда она подбежала к нему, он сжимал в руках засовы и молча указал ей на углубления в каменной стене, где некогда были петли, державшие створы ворот. — Боже мой! — воскликнула она сквозь слезы. — Ты нашел Скейские ворота! — Пока одни. Нужно найти вторые. Он вряд ли даже видел ее — в такое он пришел возбуждение. Пройдя вдоль стен семнадцать футов вверх, Шлиманы нашли и место, где крепились вторые ворота, — в пяти футах от древнего здания. Рабочие столпились вокруг Генри, внимательно осматривая место. — Почему они пробиты в стене, ведущей прямо в древний дом? — спросила Софья. — Не могли же воины и колесницы с лошадьми проходить сквозь дом. Генри и минуты не раздумывал над ответом. — Вторые ворота вели в большой внутренний двор. Отсюда улицы разбегались по всему городу. Помнишь, у Гомера:
Ночью смертельно усталый Генри не мог заснуть. — То, что здание стоит выше ворот и что это капитальное сооружение, не оставляет, думается, никаких сомнений: оно — самая значительная постройка в Трое. Черт возьми, это должен быть дворец Приама! — Если это дворец Приама, то под ним должен быть клад, сокровищница. — Мне нужно съездить в Чанаккале за Зибрехтом — сфотографировать дорогу и все признаки ворот. Я дам телеграмму мосье Пиа, чтобы он прислал Лорана снять планы наших раскопок и подготовить следующий этап — расчистку всего акрополя. — Сейчас мы на турецкой половине, а если акрополь захватит участок Фрэнка Калверта? — забеспокоилась Софья. Он быстро взглянул на нее и нахмурился. — Я буду искать примирения с ним. Ты обойдешься без меня день-другой? — Попрошу Яннакиса дать мне для компании Поликсену. Генри выехал затемно: дорога неблизкая. Софья поднялась рано и целый день следила за раскопками внутри дворцовых стен. Обедала она в одиночестве, развлекаясь болтовней Поликсены, а ужинать села со всеми на кухне. Подождав, когда Поликсена уберет со стола, она вернулась с ней в каменный дом и села за письма домой, записала в журнал новые находки. Пришел Яннакис и около одиннадцати принялся безудержно зевать. — Вам пора спать, — распорядилась Софья. — Хотите, я останусь с вами? — предложила Поликсена. — Спасибо, не нужно. Веди Яннакиса спать. В полночь она легла, и сон сразу сморил ее. Она не могла понять, сколько времени проспала, когда проснулась внезапно, как от толчка. Кто-то был рядом с нею в постели, а кто — в темноте не поймешь. И тут она почувствовала резкий запах: Фотидис был у них известный грязнуля. На минуту она оцепенела от ужаса, Фотидис потянул ее к себе, и тогда она стала яростно отбиваться. Он лез к ней слюнявым ртом, она хлестала его по щекам, рука была липкой и теплой от крови. Крутя головой, он несколько раз выругался. — Яннакис! — крикнула Софья. — Сюда! Помоги! Фотидис корявой лапой закрыл ей рот. Она пальцами попала ему в глаза, и он завыл от боли. — Яннакис! — кричала она. — Проснись! На помощь! Выругавшись, Фотидис стал выламывать ей руки. Она сопротивлялась отчаянно, из последних сил. «Господи боже, — обмирая, подумала она, — этот ненормальный еще изнасилует меня». Распахнулась дверь. Вбежал полуодетый Яннакис, за ним Поликсена. Увидев Фотидиса, он рванул его из постели, словно куль муки, поднял над головой и с силой швырнул на пол. — Оставайся с госпожой Шлиман, — приказал он Поликсене, — присмотри за ней. — Потом поднял потерявшего сознание Фотидиса. — Эту скотину, — обратился он к Софье, — я возьму к себе. И не отпущу, пока не вернется хозяин. Если хозяин прикажет, я из него дух вышину. Забрав Фотидиса, он ушел. Поликсена придвинула к постели стул и, шепча утешения, взяла Софьины руки в свои. Софья дала волю слезам и проплакала всю ночь. Сначала ее бил озноб, потом поднялся жар. Поликсена дала ей умыться, легкими движениями щетки расчесала волосы. Но голова пылала, как в огне, ее тошнило. К утру началась рвота. — Поспите, — умоляла ее Поликсена. — Я никуда не уйду. Она впала в оцепенение, заменившее ей сон, но и тогда ночной кошмар обжигал ее сознание и она с воплем срывалась с постели. Генри выехал из Чанаккале до рассвета и ни на минуту не остановился передохнуть. В полдень он был дома. Увидев Софью, он с болью в голосе вскричал: — Что здесь произошло?! Поликсена выскользнула за дверь. Софья бросилась к мужу на шею и в голос разрыдалась. Прошло немало времени, прежде чем он уяснил, что случилось без него. Когда, запинаясь, она кончила свой рассказ, он был вне себя. — Где этот негодяй? Я убью его. — Не надо, — слабо шепнула она. — Ему уже досталось от Яннакиса. Он в его комнате. Вскоре он вернулся, дрожа от гнева. — Яннакис сидит на этой скотине. Он сказал: «Когда он поднимает голову, я даю ему хорошую затрещину». Я послал к Драмали за арбой. Яннакис его сейчас связывает. Мы отправим его в Чанаккале, в тюрьму. Пусть погниет лет десять в какой-нибудь яме. Там ему самое место. Сделав над собой усилие, она попыталась собраться с мыслями. — Нет, Генри. Я не хочу, чтобы об этом знали. Я и так не знаю, куда деваться от стыда. — От какого стыда? Чего ради? — Не хочу, чтобы обо мне говорили… О том, что случилось. Я этого не переживу. — Никто ничего не будет говорить! Я тебе обещаю. Прижавшись к его лицу щекой, она умоляюще шепнула: — Ну, пожалуйста, Эррикаки. Просто отошли его. С минуту помолчав, он с видимой неохотой уступил: — Ладно. Раз ты просишь. Но веревка по нему плачет. Генри был неистощим в заботах о ней. Он почти не оставлял ее одну, а уходя на раскопки, прислал посидеть Поликсену. Снаружи с каменным лицом ходил Яннакис. Вечером Генри буквально не спускал ее с рук и благополучно убаюкал. Она уже не плакала, но временами по ее телу еще пробегала дрожь. — Время все стирает, милая, оно впитывает неприятные воспоминания, как губка морскую воду. И потом ты берешь и выбрасываешь эту губку—вместе с неприятными воспоминаниями. — Это скоро пройдет. Мне хочется на раскопки. Я уже соскучилась. А днем от Докоса, агента Генри в Чанаккале, прибыл посыльный. Мадам Виктория дала на имя Софьи телеграмму: «Отец безнадежен. Приезжай немедленно». И все ее неприятности сразу отступили. Она упала перед иконой и исступленно молилась, чтобы бог дал здоровья отцу. Яннакис разыскал Генри в глубоком раскопе, протянувшемся к акрополю. Софья быстро собрала нети. Через несколько минут явился Генри. Прочитав телеграмму, он взял в руки ее лицо и осторожно поцеловал ее, потом дал посыльному денег и отправил нанять экипаж. С ним же он передал телеграмму для Джорджа Бокера из американского консульства с просьбой забронировать каюту на первом же пароходе из Константинополя в Пирей. — Мы доберемся за пять дней, — успокоил он ее, — а то и за четыре, если повезет. Отец—сильный человек. Мы скоро поможем ему. — Нет, милый, проводи меня до Чанаккале и посади на константинопольский пароход. Тебе нельзя прекращать здесь работы, нам и без того в любую минуту могут помешать турки либо Фрэнк Калверт. — Ты для меня важнее. — Мне будет спокойнее, что у тебя все в порядке. Если ты не хочешь отпускать меня одну, может, я возьму с собой Поликсену? Генри вопросительно взглянул на Яннакиса. Гордясь доверием, тот напыжился, словно получил медаль. — Поли приглядит за госпожой Шлиман. И Афины увидит. Спускаясь по сходням в Пирее, она увидела в толпе встречавших Спироса, тревожно искавшего ее глазами. И сразу поняла, что произошло худшее: обычно такой флегматичный, Спирос осунулся, побледнел, внутренне подобрался. Она до боли сжала руки в кулаки. Спирос обнял ее за плечи. — Что поделать, дорогая… — Папа умер? — Да, прошлой ночью. — Так и не успела я попрощаться. — Он знал, что ты едешь, и так хотел тебя дождаться. «Поцелуйте за меня Софью, — сказал он под конец, — скажите, что я ее любил». Положив голову ему на плечо, она заплакала. — Как же мы будем без папы? — шептала она. — Вся наша жизнь прошла с ним. А теперь не слышать его смеха и шуток, и кто нас успокоит, как он? — Я тебя понимаю. Для нас это такое же потрясение, как если бы однажды утром Акрополь ушел под землю. — Как мама? — Плоха. С тобой ей будет полегче. Кажется, это твои вещи. — А что это было, Спирос? — Он угасал с каждым днем. Доктор говорит, рак желудка. В Афинах Софья отправила Поликсену на улицу Муз, а сама со Спиросом взяла экипаж до Колона. Прежде чем она успела позвонить, Мариго открыла дверь. Она сразу прошла к матери. Обнявшись, женщины долго и неутешно плакали. Андромахи в доме не было, после смерти Георгиоса ее к себе забрала Катинго. Мадам Виктория отвела Софью в гостиную, где лежал Георгиос. Он был в своем лучшем костюме. Приподнятая на подушке голова смотрела закрытыми глазницами на восток. В изголовье и ногах горели свечи. Зажженная лампа светила душе, если та вернется домой. Вся семья собралась в комнате. Софья с каждым поцеловалась. Все были в черном. Входили друзья, родственники. Пришел священник, надел епитрахиль, разжег ладан, сказал краткую проповедь. Сев в кружок около покойного, женщины плакали. Мужчины оставались в соседней комнате. Время от времени кто-нибудь из женщин начинал причитать, оплакивая добродетели Георгиоса Энгастроменоса. Крепко сжав материну руку, Софья подавленно молчала. В комнату внесли гроб, положили в него Георгиоса, укрыли цветами. Погасили свечи, стало темно, потом зажгли «бессонный свет», он будет светить сорок дней. Родные оставались в комнате, тихо переговаривались, вспоминали доброту и кротость Георгиоса. Наутро к выносу пришли два священника и дьякон. Четверо мужчин подняли гроб на плечи. Держа в руках свечи, впереди пошли священники, за ними, размахивая кадилом, шел дьякон. За гробом шли мадам Виктория и дети. Петляя по лабиринту улиц, процессия направилась к церкви. На всем их пути хозяйки затворяли окна, торговцы закрывали лавки. В церкви гроб поставили головой к востоку, по обе стороны от него сели близкие. Служба продолжалась около часу, потом священник попросил отдать «последнее целование». Софья приложилась к иконе на груди отца. Стулья отнесли к двери. Друзья и родственники подходили сказать слова утешения. Гроб перенесли на похоронные дроги. Провожавшие пешком прошли весь скорбный путь до главного афинского кладбища. Для Софьи это было почти прощание с жизнью, поскольку со смертью отца что-то умерло в ней самой, ушла ее юность, невинность. Гроб опустили в могилу, священник крест-накрест кинул вниз первую землю, плеснул маслом из лампады, бросил щепотку угля и ладана. Софья и близкие бросили по пригоршне мокрой земли. Могилу засыпали, над землей вырос холмик. Над свежей могилой вкусили сладкого хлеба, стараясь не обронить ни единой крошки, выпили вина. Родственники принесли на кладбище много всякой снеди: Георгиос останется на земле еще сорок дней, и получившая благословение еда поможет ему в ожидании небесных радостей. С кладбища уходили с тяжелой душой. Софья поехала с Катинго за Андромахой. — У меня на сердце словно свинец лежит. Но Андромаха не должна ничего почувствовать. Она все равно не поймет, только расстроится. С утра Софья и Поликсена занимались Андромахой. Девочка была бедовая, забавная. Днем Софья уезжала к матери. Генри она писала каждый день, делясь грустными новостями: сама она не находит себе места, мать целыми днями плачет. Мадам Виктория не могла привыкнуть к мысли о вечной разлуке с мужем. На третий и девятый день были поминки, ели кутью, как бы участвуя в трапезе покойного. Софья знала, что все это языческие обряды: они пришли из древней Греции и христианство приспособило их к себе. И как в тот раз вблизи Олимпа, холодком обожгла мысль, что она живет двумя жизнями, между которыми пролегли тысячелетия. Ночью никак не наступало утро, днем был бесконечно далек вечер. Опять ее сердце разрывалось надвое: и своих жалко, и Генри одному трудно. А ей так хотелось к нему, так тянуло в Троаду, к их хлопотливому, словно улей, холму! Сколько им придется быть в разлуке? От Генри пришло письмо, разом решившее ее проблемы.
«Троя, 14 мая 1873 года. Моя горячо любимая жена, да утешит тебя мысль, что все мы рано или поздно уходим той дорогой, которой отправился твой достойный родитель. Утешься ради нашей дочурки, которой ты так нужна. Утешься, ибо никакие слезы уже не вернут твоего отца. И еще тем утешься, что он отошел с миром, как достойный христианин, отрешившийся от здешней суеты, от огорчений и забот ради другой жизни, где он вкусит истинною счастья. Но если твое горе неизбывно, то садись на пароход и приезжай ко мне, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы облегчить твое сердце и вернуть свет твоим прекрасным глазам».
Она отвезла Андромаху к Катинго, с Поликсеной собрала вещи, и Спирос проводил их в Пирей.
5
Генри встречал ее в Чанаккале. К Калвертам не пошли. Вообще в этот приезд у Генри были одни неприятности. Фрэнк прослышал, что они нашли Скейские ворота и дворец Приама, и категорически запретил копать на его земле. Малоутешительным был и визит к новому губернатору Ибрагиму-паше: закон, контролирующий все археологические находки на территории Турции, был наконец оформлен и ждал только подписи султана или министра народного просвещения. Когда она вошла в их каменный дом, на минуту ее охватил страх, что воспоминание о Фотидисе может вернуться И мучить ее. Но смерть отца отбила память на такие вещи- Да и времени не было на переживания: Генри сразу потащил ее в рабочую комнату показывать находки из дворца Приама—ритуальные фигурки из слоновой кости, оружие. Здесь же были поразительной красоты вазы, ничего подобного они еще не находили за все три года раскопок. Софье особенно понравилась посвященная Афине коричневая ваза с совиной головой и ожерельем на горловине. Одну вазу Генри окрестил «вазой в очках». Был еще сосудик в форме кариатиды с тяжелой косой, спадавшей до лодыжек. Последней он показал ей вазу с длинной надписью под горлышком. — Наконец-то, Генри! Здесь есть что расшифровывать. Вдруг это троянская надпись? Вдруг ты открыл троянский язык? Он бережно взял вазу в руки. — Видимо, так. Мы нашли ее под дворцом Приама, она была обложена камнями для безопасности. Заберем с собой в Афины. Не исключено, впрочем, — в голосе его зазвучало сожаление, — что ее завезли со стороны. Купцы, например… Одним десятником у них стало меньше, и Софья работала на раскопках полный день. На северо-западной стороне холма Генри заложил новую глубокую траншею, пробиваясь к акрополю. Скоро путь ему преградила колоссальная стена, на ее разборку ушло несколько дней. Последний день мая пришел без предупреждающего рассвета: солнце выкатилось так стремительно, словно им выпалили из пушки. Надев легкую голубую блузку и льняную юбку, она кончала причесываться, когда снаружи послышался знакомый стук копыт: Генри ехал с купания. Она заколола на голове шляпу и вышла к нему на кухню выпить кофе. Румяный после прогулки Генри весело пожелал ей доброго утра. Было четверть пятого. Разобрав лопаты, кирки и ломы, рабочие расходились по местам. Бригаду Софьи Генри решил поставить на новый участок—вблизи дворца Приама, где они наткнулись на крепостную стену. Копать будут к югу. — На этой глубине очень трудно работать, Генри. Горелый слой там пять футов в толщину и твердый, как камень. — Сколько успеете… В понедельник я подброшу тебе еще кирок. К семи часам утра ее рабочие дорылись до мягкой породы и раскопки вдоль десятифутовой в высоту стены пошли проворнее. То и дело подбегал снедаемый нетерпением Генри. — Пока ничего. Порода была очень трудная. Зато этот слой пепла обнадеживает. Я хочу поработать скребком. Но Генри сам взял скребок. Он научился орудовать им так осторожно, что ни разу не повредил горшок или вазу, укрытые в земле. Софья стояла рядом, возбужденная своим ясновидением. Покопав совсем немного, Генри отрыл большой медный щит, похожий на овальный поднос. Присев на корточки, он смахнул с него пыль, приподнял за один край и тут же опустил. Поднявшись на ноги, он взглянул на Софью ошалелыми глазами. — Софья, там золото. Груда золота. Софья оглянулась: рабочие были далеко, они ничего не видели и не слышали. — Что будем делать? — тихо спросила она. — Объяви «пайдос». — В семь часов утра?! — Скажи, что у меня день рождения. Я только что о нем вспомнил. Пусть Яннакис оплатит всем полный рабочий день и до понедельника они свободны. Убедись, что надзиратель тебя услышал и ушел со всеми. Первым Софья объявила об окончании работы своей бригаде. Рабочие разразились таким ликованием, что, не дослушав ее басню о дне рождения, быстренько собрали инструменты и были таковы. Софья пошла на участок капитана Цирогианниса, потом к Спиридону Деметриу. — Пайдос! Всем желаем хорошо повеселиться и отдохнуть. Получите расчет за полный рабочий день. Увидимся в понедельник утром. Яннакис надел пояс с деньгами. Расплачиваясь, он аккуратно ставил галочки в своей книжице. Софья стояла рядом. Когда он отпустил последнего человека и, включая надзирателя, все ушли с холма, она сказала: — Яннакис, доктор Шлиман дает тебе и Поликсене дополнительный выходной. Можете навестить своих в Ренкёе. От радостной улыбки веером распушилась его борода. — Благодарствуем, хозяйка. Поли скучает по матери. Можно сейчас идти? — Да, и возьмите с собой капитана Цирогианниса, Лемпес-сиса и Деметриу. Выплати каждому на расходы по пятьдесят пиастров и себя не забудь. Благодарный великан бросился на колени. Через пару минут весело гомонящие отпускники тряслись на осликах в Ренкёй. Все стихло на холме. Они были одни. Генри ни на шаг не отходил от клада. Когда она сказала, что на Гиссарлыке не осталось ни души, он порывисто обнял ее. — Ты гений! — Давай посмотрим, что ты нашел. Генри снял пальто и жилет, ослабил воротник и сдвинул щит в сторону. Сверху лежали медный котел и медное блюдо. Нетленной красотой сверкал круглый золотой флакон. У Софьи перехватило дыхание. Генри поднял флакон из тайника и положил ей в руки. — Он из чистого золота, — дрогнувшим голосом сказал Генри. Потом извлек золотую чашу и золотой кубок в форме ладьи, снабженный двумя прекрасно сделанными ручками. Софья села на камень и стала протирать вещи краем нижней юбки. — Эти тоже из чистого золота. — Несомненно, — отозвался он. — А вот серебро: три вазы, кубок, блюдо. Какая мастерская работа! — Что же мы нашли, Генри? — шепотом спросила она. — Ясно, это клад, но почему он весь уместился на таком маленьком пространстве? — Видишь эту длинную медную полоску? У нее на конце две шляпки от гвоздей. Я полагаю, это засов, которым запирался ларец. Осторожно орудуя скребком, он доставал медные кинжалы, ножи… Вдруг он издал торжествующий вопль и вскочил на ноги. В руке он держал четырехдюймовый медный ключ. — Ключ! — крикнул он. — Ключ от ларца. Сам ларец сгорел, а металл сохранился. — Дай мне покопать, — попросила она. Он немного подвинулся. Софья склонилась над тайником и вынула большую серебряную вазу. Столкнувшись лбами, они заглянули внутрь и ахнули: ваза была вся заполнена драгоценностями. — Матерь божья! — тихо протянула Софья. Она долго не могла стряхнуть оцепенение. Потом извлекла еще два золотых кубка, обнаружив под ними целую золотую россыпь серег, колец, пуговиц, браслетов… Первым пришел в чувство Генри. — Беги домой и принеси свою красную шаль. Хоть здесь никого нет, но меры предосторожности принять нужно. Дом был в двухстах футах, она обернулась быстро. Генри завернул в шаль золотой флакон и кубки, Софья отнесла их домой и спрятала под кроватью. Когда она вернулась, он уже закутал в пальто серебряные вазы и кубки, пригоршни золотых украшений и ушел, оставив ее сторожить клад. В третий поход он вручил Софье серебряную вазу с драгоценностями, наказав спрятать ее под подушкой. Медные топоры, ножи и щит Генри завернул в пальто, Софья забрала оставшиеся украшения, медный засов и ключ. Войдя в дом, Генри первым делом приставил к двери тяжелое кресло, занавесил окна и велел Софье снять одеяла с постели и постелить чистую простыню. Взяв в руки серебряную вазу, он высыпал содержимое на кровать. Там было от чего потерять дар речи… Золотая пластина, поддерживавшая прическу. Две больших золотых диадемы. Одна представляла собой золотую ленту длиной в двадцать два дюйма с височными подвесками—по семь с каждой стороны. Каждая подвеска состояла из одиннадцати золотых листиков, соединенных золотыми звеньями, и внизу кончалась медальончиком с изображением Афины. С налобной полосы свисало сорок семь коротких подвесок, украшенных золотыми листочками. Вторая диадема имела двадцать дюймов в длину и вся состояла из золотой бахромы, на висках свисало по восемь подвесок, сплошь унизанных золотыми листиками, внизу раскачивались фигурки с совиной головой Афины. Золотыми фигурками божества и золотыми листьями была украшена и налобная часть диадемы. Генри поднял первую диадему и благоговейно возложил ее Софье на голову. Диадема пришлась ей как раз. — Царица Шлиман! Царица Софья! — в восторге восклицал он. — Елена Троянская! Подойдя к зеркалу над умывальником, она немигающими глазами вглядывалась в струящийся золотой дождь. Тихо подрагивали листья, тяжелыми каплями повисли фигурки божества. — Ничего подобного я не видела ни в одном музее! — тихо вскрикнула она. — Во всем мире не отыщется ничего подобного. Это — настоящее. Троянское! Генри выплеснул на постель целый ручей золотых серег, браслетов, перстней, сотни пуговиц и бляшек, шедших на украшение кожаных поясов, щитов, рукояток ножей, россыпь бус в форме звезд, листьев, зубчиков, цилиндриков. Усадив жену на край постели, он надел браслеты на ее запястья, вдел в уши серьги, унизал пальцы перстнями. Она видела его точно сквозь сон и не имела сил пошевелить даже пальцем. Он опустился перед ней на колени и поцеловал ее в губы. Не понять, искры или слезы сверкнули в его глазах. Наверное, так переживает высокую минуту смертный, лице (реющий бога. — Ты сознаешь, милая, что все это значит? Это решающее подтверждение тому, что мы открыли Трою Приама. Вот сокровища Приама! Кому под силу опровергнуть это свидетельство? Мы победили. В наших руках сокровищница Приама. Эта золотая пластина и есть тот блистательный покров, что спал с головы Андромахи, когда она узнала об умерщвлении Гектора. Тихо позванивали золотые нити, когда она поводила головой. — Генри, а как мог ларец с драгоценностями оказаться снаружи стены? Ему полагается быть в руинах дворца… — Там бы он и был, — хмыкнул Генри, — если бы кто-то не попытался его перепрятать. Видимо, это случилось в ту минуту, когда в троянские ворота хлынула ахейская рать. Женщине ларец не поднять: значит, это был мужчина. Когда он увидел, что за ним по пятам гонятся ахейцы, он бросил мешавший ему ларец. Ларец упал на мягкую землю, его засыпало, и он сгинул… и мы ведь наткнулись на щит случайно… Она согласно кивала головой. Время не тронуло золота, зато медный щит и серебряные и медные вещи потускнели от многовековой пыли. Софья мягкой салфеткой протерла круглый флакон и ладьеобразный кубок, отнесла их в рабочую комнату и выставила на верстак. Генри ходил за ней как привязанный. — Они—само совершенство. Каких замечательных мастеров имели троянцы! А ты знаешь, что каменщики и златокузнецы — древнейшие мужские профессии? — В Трое они славно поработали. Генри, как мы со всем этим справимся? Здесь тысячи золотых вещей, тысячи пуговиц и бусин. Мы что, рассортируем их и попробуем составить опись в дневнике?.. Она резко оборвала себя и заглянула ему в глаза: только сейчас случившееся дошло до их сознания. — Нет! — решительно объявил Генри. — Ничего не говорим, ничего не пишем. Будем думать, как ныне ни отсюда этот бесценный клад. — Неужели мы не обнародуем хоть какую-нибудь одну находку? — Нельзя. Новый закон уже могли утвердить, и тогда правительство конфискует весь клад. Его лихорадило, глаза потемнели от тревоги. В такие минуты лучше было не возражать ему, но ей хотелось ясности. — А если бы действовал еще старый закон, ты отдал бы музею половину? Он протестующе задвигал желваками. — Себе, — продолжала она, — мы можем отобрать что получше: флакон, диадемы… — И нарушим цельность клада?! Сами лишим себя доказательства, что нашли гомеровскую Трою и сокровищницу Приама? Мы должны увезти клад целиком. Мы покажем его во всех столицах мира: в Афинах, Берлине, Риме, Лондоне, Нью-Йорке. Он не только вознаграждение нам за труды и верность мечте: это живое, красноречивое доказательство тому, что мы отрыли царский дворец. С кладом Генри связывал свое будущее, новые раскопки. — Как ты предполагаешь вывезти его? — Да так же, как метопу с Аполлоном. — А когда капитан Теодору придет в залив Бесика? — Недели через полторы. — Надо как-то спрятать сокровища… — Мы их протрем, рассортируем кое-как, завернем в твои старые платья и уложим в дорожный сундук. Потом я объявлю десятникам дату окончания сезона — скажем, 14 июня, через две недели. У нас появится оправдание для сборов. Раскопки прерывать не будем, но с каждым днем станем изымать часть инструментов и готовить их в дорогу. Я хочу все забрать отсюда. Конец раскопкам, мой ангел. Мы своего добились. Этот клад. Большая башня, Скейские ворота, мощеная дорога, дворец Приама — как после этого не поверить в Трою?! Софья сняла диадему, стала раскладывать в кучки груду золота, сваленного на простыню. — Когда приедет Адольф Лоран, я попрошу его подготовить как бы отчет в чертежах о нашей работе, чтобы заткнуть рот маловерам в Европе. Мы вместе сделаем проектные планы раскопок оставшейся части холма—это на будущее, — включая половину Фрэнка Калверта. Я совершенно убежден в том, что с Калнертами мы еще помиримся. Всю ночь они расчищали вещи, сортировали, заворачивали в старые костюмы и платья Софьи, осторожно укладывали в сундук. Кончили на рассвете. Генри принес дневник и исписал страниц двадцать, не сделав, впрочем, ни одной зарисовки. Заглядывая через его плечо, она едва могла уследить за стремительно бежавшим пером. Он вычеркивал написанное, писал заново: никогда прежде он не разводил такую грязь в дневнике! Он нервничал, ему было не по себе. Его подмывало проговориться, что найден богатейший клад, намекнуть, где найден, а содержимое клада не объявлять. Трудная задача! Софья положила ему руку на плечо. — Когда в будущем кто-нибудь заглянет в этот дневник, он сразу сообразит, где и когда ты нашел сокровища царя Приама. А теперь пора спать. Мы очень устали. Сундук я заперла и задвинула в угол, а сверху прикрыла юбками. Генри закрыл дневник и отнес его в рабочую комнату. — Воскресенье, — сонным голосом оповестила Софья. — Нас никто не придет будить.6
У крестьян началась жатва. Генри остался с шестьюдесятью рабочими. — Меня это вполне устраивает, — уверил он Софью. — У меня сейчас одна цель: расчистить до конца оборонительную стену к югу от Скейских ворот. А поскольку после моих статей и книг в Трою хлынут паломники, я хочу еще покопать во дворце, особенно в той двадцатифутовой комнате, над которой нет позднейших построек. Чтобы удалить огромную глыбу земли, мешавшую соединить траншеи с запада и северо-запада от Большой башни, пришлось снести деревянный домик, где они жили прошлым летом. — Как жалко, — огорчилась Софья, — мы столько в нем пережили, столько было счастливых минут. — Их еще много набежит, счастливых минут, пока мы будем археологами, — ответил Генри, — а археологами мы останемся уже на всю жизнь. Невероятно, чтобы кто-нибудь прознал о кладе! Сначала они думали, что им передается тревога самих рабочих: ведь те уже поняли, что после жатвы они сюда не вернутся, что им недолго осталось тянуть эту занятную волынку—срывать подчистую холм. Генри откровенно сворачивал работы: Яннакис чистил и смазывал тачки, готовил их к отправке. И атмосфера на раскопках чуть заметно переменилась, что-то изменилось в поведении людей. Наведываясь взглянуть на расчистку стены, Генри и Софья ловили косые взгляды рабочих-греков. Турки вдруг начинали перешептываться и сразу смолкали при их приближении. Генри учуял зреющий заговор. Их надзиратель Амин-эфенди отмалчивался в их присутствии, даже когда без зазрения совести отбирал для музея лучшие находки. Но открыто никто ничего не высказал, к дому и близко не подходили чужие, и вообще никаких происшествий не было. Но почему-то всех обуяла глухая беспричинная недоверчивость. — Как они могли бы узнать о сокровищах? — глубокой ночью тревожилась Софья, спокойная хотя бы за то, что их не слышат. — Ведь, кроме нас, на холме ни души не было. — Я убежден, что они ничего не знают, — ответил Генри, — но они подозревают, что мы нашли что-то важное и скрываем от них. А что именно и насколько это ценно, они, разумеется, не знают. Понимаешь, люди чувствуют, когда их обманывают. — А может, они задумались, чего ради их отпустили в прошлую субботу? Может, как-нибудь узнали, что никакого дня рождения у тебя не было? Или мы себя держим как-нибудь не так и это заметно со стороны? Может, им грустно, что здесь все кончается?.. — Все может быть, — согласился он, — но одно ясно: надо уезжать по возможности скорее. — Когда придет «Омониа»? — По моим подсчетам, через пять-шесть дней. Завтра же поставлю Яннакиса и Мастроянниса сбивать ящики и упаковочные клети для нашей доли находок. Утром закипела плотницкая работа. Со своими штативами и ящиками приехали Адольф Лоран и фотограф Зибрехт и сразу отправились на раскопки. Софья занималась в рабочей комнате, готовя к упаковке терракоту, поделки из слоновой кости и камня. Они раздобыли несколько дюжин плетеных корзин: за три года Софья научилась мастерски паковать в них вещи. За их сборами с неусыпным вниманием следил Амин-эфенди. Он осматривал каждый предмет, отправляемый в корзину или ящик, записывал его, проверял по собственной описи. Он таки посылал каждую неделю в Константинополь списки находок. Он не скандалил и не мешал им работать, хотя чувствовал: его провели. Позже он узнает, что он ничего и не мог сделать. «Омониа» пришла тринадцатого июня. Яннакис взял у Драмали арбу и подогнал ее к каменному дому. Десятники ставили на арбу ящики, клети и корзины, надзиратель проверял погрузку. Всю кладь он осмотрел еще прежде, в открытом виде, покопался в корзинах, а уж потом Софья и Поликсена обшили их мешковиной и туго перевязали веревками. В последнюю очередь Яннакис вынес два чемодана Генри, Софьин баул и дорожный сундук. Багаж надзиратель не стал смотреть: там личные вещи Шлиманов, прибывшие с ними из Афин пять месяцев назад. Генри уехал с Яннакисом к заливу, проследил за погрузкой на пароход. Накануне вечером Софья написала матери письмо, сейчас Генри передал его капитану Теодору с наказом сразу по прибытии доставить его Энгастроменосам. «Мы нашли интересные материалы, они прибывают на пароходе капитана Теодору. Получив это письмо, вели, пожалуйста, Спиросу и Александросу найти две кладовые в Афинах, где можно разместить багаж до нашего приезда. Кладовые должны быть в разных местах и иметь хорошие запоры. Ключи возьмите с собой. Проследите, чтобы в кладовые не было отдельного входа от хозяев…» — Напиши братьям, — наставлял Генри, — чтобы они ничего из груза не предъявляли в Пирее для таможенного досмотра. Если чиновники заупрямятся, то пусть опечатывают весь багаж и держат на складе до моего возвращения. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы таможенники сунули нос в наши вещи. Еще раз напомнив, что письмо следует передать только в руки мадам Виктории, Генри пожелал капитану счастливого плавания. «До встречи в Афинах», — кивнул тот, и вскоре пароходик, старательно дымя, уже держал курс на Спорады. В тот же день Генри нанял в Кумкале два рыбацких каика и Яннакис до вечера перевез на них все инструменты и оборудование. Им предстояла дорога в Пирей. Там они поскучают на складах, пока Генри не найдет им достойного применения. За два часа до наступления сумерек Яннакис произвел последний расчет с рабочими. Всех попросили собраться у каменного дома. С подсказки Софьи Генри послал в Енишехир за священником — освятить раскопки. Смущенный видом траншей, террас, стен и руин языческого града, тот справил службу кое-как, потом находчиво повернулся спиной к раскопкам и уже с легким сердцем благословил земляков. — Радостно чувствовать, — обратился к ним Генри, — что мы свернули горы—и остались живы. Сколько опасностей подстерегало нас, а мы в добром здравии. За это тоже надо благодарить Господа. Я и госпожа Шлиман прощаемся с вами и желаем вам хорошего урожая. Служба и дружеское напутствие Генри окончательно развеяли их подозрительность, отравлявшую последние дни работы на холме. Все вразнобой забормотали слова благодарности и на осликах потрусили в свои деревни. Лоран и Зибрехт с десятниками и художником уехали в Чанаккале. Остались только Яннакис и Поликсена. Генри объявил, что будет по-прежнему платить им жалованье. Собирались в спешке, здесь оставалось еще много терракоты и черепков, которые надо будет дослать в Афины. Обнимая Поликсену, Софья попросила Яннакиса: — Если можно, поймай тех трех кошек, которые спасали нас от мышей, и еще я хочу двух аистов. Ты сможешь их поймать и отправить к нам в Пирей? Яннакис озадаченно поскреб голову. — Я никогда не ловил аистов, госпожа Шлиман. Вроде бы их и не ловят. Но я постараюсь. В доме, караулившем Скейские ворота, дворец Приама, оборонительную стену и мощеную дорогу, они спали последнюю ночь. На рассвете из Хыблака приехал ждавший их с вечера экипаж и возница погрузил вещи. Их путь лежал к почтовому тракту между Смирной и Чанаккале. Софья обернулась в последний раз окинуть взглядом Троянскую крепость, Троаду, Дарданеллы, Эгейское море, серебристые ленты Скамандра и Симоиса. В это июньское утро воздух был так чист, что, кажется, потянувшись, можно было тронуть рукой острова Имброс и Самофракию. С болью в сердце она чувствовала, что покидает родные стены, в которых возмужали и она сама, и ее брак с Генри. Почти четыре года прошло с того дня, когда она впервые встретила в их саду в Колоне незнакомца, назначенного ей в мужья. Каким он тогда показался маленьким, непримечательным, почти стариком, и достоинство у него, казалось, было только одно: что он нажил тройное состояние в России и Калифорнии. И как он переменился, заговорив о Гомере и Трое! Он точно знал, где находится «бессмертный град» Приама, — здесь, в Гиссарлыке, и он все знал наперед: как раскопает цитадель и доберется до крепостных стен и царского дворца, как найдет Большую башню, мощеную дорогу от дворца к двойным С к ейским воротам и дальше на равнину, где кипели боевые схватки. «Он гений, — думала она, следя за ним краем глаза. — Гениальный самородок. И герой, каких мало на свете. Он ополчился против ученых, историков, филологов, из которых никто не верил в существование Трои, и он их всех посрамил». Теперь, когда у него на руках такие бесспорные доказательства, — теперь им придется признать, какого глубокого и яркого ученого они проглядели в нем. А как нелегко это досталось! В Париже она болела, умирала от тоски по дому и невозможности помочь близким, то и дело ссорилась из-за этого с Генри. А характер у него трудный, то гроша не допросишься, а то вдруг осыплет золотом. Ради достижения своих целей он не остановится ни перед чем. Она же была еще совсем ребенок. Порою ей казалось, что она так и не сможет полюбить его, что их брак развалится. Но все пошло на лад, едва они вынули первую лопату земли и покатили первую тачку с Гиссарлыка. Они работали бок о бок и в стужу, и под палящим солнцем, задыхаясь от пыли, едва передвигая ноги от приступов малярии. Лишения закалили их любовь, накрепко привязали друг к другу. Она повернулась к мужу, уверенная, что и ему грустно покидать эти места, и сразу поняла, что мыслями он уже далеко впереди. Мысленно он уже ехал другими дорогами. Его манили Олимпия, Тиринф, Микены. Откинувшись на кожаном сиденье, он немигающими глазами смотрел прямо перед собой, и на его лице она прочла: «Это только начало».
Книга шестая. Мост времени
1
В Пирее на пристани их встречал Спирос. — На таможне не было никаких осложнений. Не открыли ни одной корзины. Сундук Софьи я отвез на Ликабет, на самую верхнюю улицу. Там его заперли в сарай. Вот ключи и расписка от хозяина дома Папандопулоса в получении ста семидесяти драхм за хранение. Я заплатил только за месяц вперед, потому что не знал ваших планов. Остальные находки Александрос отвез совсем в другую сторону, в Монастираки, где снял сарай во дворе старого турецкого дома, огороженного, словно крепость. Генри с довольной улыбкой взглянул на Софью. — Ты была права, царица Софья: критяне народ хитрый. Все сделано наилучшим образом, — продолжал он, обращаясь к Спиросу. — А вон и Иоаннис Малтезос машет нам из экипажа. Завезем Софью на улицу Муз—и на Ликабет, к Папандопулосу. Чтобы не привлекать внимания, оставим экипаж в нескольких кварталах от дома. — Иначе и не получится: подъем очень крутой, лошади не осилят. Там, наверху, всего два-три дома. Когда Софья переступила порог дома, время уже шло к полудню. Встретили ее мать, Мариго и Катинго. С радостным криком Андромаха бросилась ей на руки. — Мамочка приехала! Девочка была крепенькая, круглощекая. — С тобой за Андромаху можно не беспокоиться, — поцеловала Софья мать. Обойдя дом, она нашла все в образцовом порядке. — Мне никогда не стать такой хозяйкой, как ты. Мадам Виктория расцвела от слов дочери. Вернулся Генри. Его узкое, сухое лицо озаряла улыбка. — Все в полной сохранности. Замок на твоем сундуке не тронут. Золото, по-моему, стало еще красивее, чем было в Трое, когда мы перекладывали его твоими платьями. Поздороваться с хозяевами вышла прислуга, помогавшая мадам Виктории приготовить обед. Тут же стояла молоденькая девушка: Андромахе нужна няня, и мадам Виктория, кажется, нашла подходящую. Звали ее Калипсо. Не красавица, лет восемнадцати и тоже из Колона. Она ласково обращалась с Андромахой, и Софья тут же наняла ее. Их слуга работал пока у других, но на днях возвращался в свою комнатушку в цокольном этаже. Перед обедом Софья увела мужа в сад. — Мне не хотелось выходить без тебя. Я только полюбовалась нашим садом из окна. Был роскошный июньский день. Жимолость, жасмин, плющ разрослись так буйно, что почти заглушили тропинку. Лимонные деревья, высаженные вдоль стены, отцвели, и сейчас в кронах уже круглились тугие зеленые плоды. Шелковица мягко шелестела густой зеленой листвой. — Какая красота! — воскликнула Софья. — Пусть так не говорят, но я не только вижу наш сад и вдыхаю его запахи—я чувствую его на вкус. Вечером, уложив Андромаху и переодевшись ко сну, Софья и Генри отдыхали на веранде, выходящей на Акрополь. Как хорошо снова видеть Парфенон в лунном свете. Генри планировал жизнь на ближайшие месяцы. — Самое главное—сохранить в тайне местонахождение сокровища. О нашей находке не знает никто, кроме американского посла в Константинополе Бокера. Он столько для нас сделал, что имеет на это право. — А ты не хочешь перевезти клад домой? — Хочу, но по частям. Чтобы сфотографировать для нашей книги. И Спирос с небольшим чемоданчиком отправлялся на Ликабет: отвозил сфотографированные золотые вещи, возвращался с новой россыпью колец и запястий. А то Иоаннис Малтезос отвозил его в Монастираки, откуда он возвращался с корзиной терракоты и прочих древностей. Дома их отмывали, реставрировали и фотографировали. Фотограф был тот же, что много месяцев подряд снимал находки Шлимана 1871 и 1872 годов; он приходил на улицу Муз по первому зову и сразу тащил свой аппарат в кабинет Шлимана: когда фотографировали золото, туда не допускались ни родные, ни тем паче прислуга. Спирос умел держать язык за зубами, фотограф был тоже человек надежный. — Подкуплен, — признался Генри. — Я обещал ему кругленькую сумму, если будет молчать про золото. Работа шла лихорадочными темпами. Софья должна была нанизать восемь тысяч золотых бусин и сделать два равных по числу бусин ожерелья—одно из одиннадцати снизок, другое из тринадцати: Генри хотел поместить на одну страницу самые красивые диадемы из сотен золотых листьев, скрепленных изящными цепочками, и снизанные Софьей ожерелья. Для другого снимка Софья на большом стенде укрепила длинные золотые серьги с подвесками, серьги поменьше, перстни, украшения, которые носили на кожаном поясе, рукоятки ножей, ножны; выше подвесили широкую налобную пластину из золота. А Генри над всем приделал еще большой медный ключ от ларца. Софья расставила на полке четырнадцать красивых золотых и серебряных чаш, флаконов, ваз. Генри отчистил медные кинжалы и ножи, большие сосуды, мечи и, разумеется, медный котел и щит, оберегавшие драгоценности не одно тысячелетие. Когда все золотые предметы были каждый сфотографированы, Генри захотел сделать общий снимок клада Приама, включая не только золотые, но и серебряные находки, медный щит и котел. Пусть читатель одним взглядом охватит всю коллекцию, говорил он. Хоть на несколько часов, но коллекция должна быть вся на улице Муз. — В какой день всего безопаснее ее собрать? — спросил он у Софьи. — Лучше всего в праздник — церковный или государственный. В эти дни все лавки и конторы закрыты, люди отдыхают. Никто и не заметит сундука в экипаже. В воскресенье 29 июня праздновали день св. Петра и Павла. Открыты были только церкви и кофейни. Улица Муз как вымерла. Фотограф явился чуть свет, запасшись большим количеством пластинок. Снимать решили под навесом в саду, где было много света. Генри и Софья разложили все восемь тысяч золотых предметов вплотную на четырех длинных помостах. Медный щит и котел поставили на пол. Фотограф провозился несколько часов, прежде чем успокоился на мысли, что из многих снимков хоть несколько выйдут хорошо. Когда всю коллекцию наконец сфотографировали, Генри сказал: — А теперь очередь госпожи Шлиман. На Софье в тот день было закрытое черное платье со стоячим воротником, блестящие черные волосы высоко подняты, на левой щеке мушка. Генри взял диадему и осторожно возложил ее на голову жены, длинные подвески упали ей на плечи. В мочки ушей Софья вдела золотые серьги—подвески с шестью золотыми фигурками на золотых цепочках; две длинные золотые серьги Генри приколол к высокому воротнику. Он попросил фотографа снять Софью крупным планом, чтобы троянское золото было видно во всей его красоте. Фотограф нырнул под черную ткань, сжал правой рукой резиновую грушу. Он все снимал и снимал, пока Софья не стала пунцовой от напряжения и усталости. — Тебе сегодня позавидовала бы сама Елена Троянская! — воскликнул Шлиман, также зардевшись от гордости. — Сегодня вряд ли. Может, хватит меня мучить? — Ладно, давай все осторожно снимем. Уложим обратно в сундук, и Спирос отвезет все в ликабетский тайник. Теперь сокровище спасено для будущих поколений. Никогда, ни прежде, ни потом, Шлиман так сильно не ошибался. Одна за другой прибывали из тайника в Монастираки корзины с терракотой и другими находками. Молодые коллеги Эмиля Бюрнуфа помогали их реставрировать. Генри с Софьей занимались изделиями из меди, слоновой кости, камня и мрамора. Ловкие пальцы Софьи умело обращались с древними поделками. Генри нанял переписчика сделать две копии троянского дневника на немецком языке: одна будет отправлена в Лейпциг, другая — в Берлин, греческому посланнику Александру Р. Рангабе, который согласился перевести дневник на французский язык. Но еще важнее было отпечатать для каждой книжки свыше двухсот фотографий наиболее интересных находок—разумеется, за его счет. — Фантастическое предприятие! — воскликнула Софья, восхищенно глядя на мужа огромными темными глазами: похоже, он никогда не перестанет удивлять ее. — Ты хочешь издать двести книг на немецком языке и столько же на французском. Значит, нужно сделать восемьдесят тысяч фотографий?! — Ну, может, немного меньше, — рассмеялся Шлиман. — Как же с этим справиться? — Я нанял фотографу помощника, некоего господина Кри-сикопулоса. Они будут печатать фотографии, а я просмотрю и выброшу негодные, а вклеивать в книги будут уже у Брокгауза в Лейпциге. Раздумывая над чем-то, беседуя. Генри не мог усидеть на месте. Он вскочил из-за стола и зашагал перед окнами, смотрящими на Афины. Он едва сдерживал волнение, заражая им и Софью. Нагнувшись к ней, он сжал ее руки в своих. — Софидион, знаешь, что занимает мои мысли все эти дни? Я разговаривал с некоторыми членами парламента. Предложил Греции в дар один из наших земельных участков в Афинах и двести тысяч франков на постройку красивого музея для нашей троянской коллекции. Софья обняла мужа. — Генри, любимый, я так горжусь тобой! — Но я поставил условие: музей будет принадлежать Греции, однако владельцем собрания до конца дней моих буду я. — Зачем? — удивилась Софья. — Ты намерен вывезти клад в другие музеи? — Нет. Я даже права такого не оставлю за собой. Но тут вопрос принципа. Музей будет называться «Музей Шлимана», и весь мир должен знать, что, пока я жив, коллекция принадлежит мне. Шлимана обуяла гордыня, и он был бессилен справиться с ней: ведь сбылось то, к чему он шел всю жизнь. Он вовсе не был скупым—напротив, он был щедр к людям, окружавшим его. Обеспечил свою собственную семью, взял на себя заботу о родных Софьи. Он совсем недавно заверил Спироса, что тому всегда найдется у него работа. Он вел честную игру со своими работниками, оказывал им уважение и платил не скупясь. Случалось и ему покривить душой: уговорил же он одного своего приятеля в Нью-Йорке ложно присягнуть, что он, Генри Шлиман, имеет право на документ о натурализации. Или покупка дома и небольшого предприятия в Индианаполисе: нужно было доказать, что он намерен там осесть—без этого невозможен развод. Его сила, а порой и предосудительная слабость заключались в том, что он не знал удержу в достижении своих желаний, цель оправдывала средства… Свои не очень похвальные поступки он оправдывал тем, что ему-де суждено сделать великий вклад в мировую культуру, ради этого можно чем-то и пожертвовать. О бешеных приступах ярости он предпочитал не помнить, он не мог бы даже объяснить их, а тем более контролировать. Генри повернулся к жене: — Взамен музея и нашей коллекции я прошу у греческого правительства разрешение начать раскопки Олимпии и Микен. Газета «Полемические листы» начала печатать последние главы троянского дневника. Другие афинские газеты публиковали на видном месте статьи о раскопках и пространно комментировали обещание Шлимана передать греческому правительству троянские и последующие находки, еще скрытые в земле Эллады, а также его щедрое предложение—двести тысяч франков на постройку в Афинах музея для этих находок. Стояли жаркие летние дни. Шлиманы слушали «Севильского цирюльника» в Фалероне. Дома не обедали, ездили в гостиницу «Афины», ресторан которой славился своей кухней. Атмосфера в городе была напряженной, недовольство последними парламентскими выборами было так велико, что в город стягивались войска; редактор афинской «Тайме» угодил в тюрьму за публикацию статьи, критиковавшей короля. Жара не спадала, и все, кто мог, уезжали в деревню или на побережье. — Генри, мы могли бы купить дом в Кифисьи? — Пока нет, Софидион. Однажды ранним утром, еще по холодку, они поднялись по широкой мраморной лестнице главного входа на Акрополь. Немного постояли в тени Венецианской башни, называемой также Франкской, которая была построена в XIV веке венецианцами, завоевавшими тогда Афины. Башня возвышалась на месте южного крыла Пропилеи, величественных ворот в западной части Акрополя, и была видна отовсюду в Афинах. Ее основание равнялось ста шестидесяти квадратным футам, высота— восьмидесяти футам, толщина стен—пяти. Башня была сложена из огромных мраморных плит, выломанных из античных сооружений и из Одеона Герода Аттика. Чтобы ее построить, снесли классические античные здания, но самая башня никакой архитектурной ценности не представляла. Кроме того, она постоянно напоминала о том, что до известного времени на Акрополе сидели турки. Греческое археологическое общество давно подумывало о том, чтобы снести эту башню и восстановить Пропилеи. Генри с новым интересом пригляделся к башне. — Пожалуй, им можно будет помочь, — задумчиво проговорил он. Как-то в начале июля их разбудил утром колокольный звон, плывущий над Афинами: умер архиепископ Теофилос. — Предстоят выборы нового архиепископа, — сказала Софья. — А епископ Вимпос может быть избран? — спросил Генри. Они пили кофе на воздухе, под окнами кухни. На Софье был свободный розовый пеньюар, привезенный из Парижа. — Да, наверное. Вот было бы чудесно! На другой день в пять часов пополудни они присутствовали на похоронах архиепископа. Усопший старец, облаченный в роскошные ризы, восседал на троне с воздетой для благословения рукой. 11 июля в Афины приехал для участия в выборах Теоклетос Вимпос. Его возможное избрание живо обсуждалось в афинском обществе. Успехи Вимпоса на ученом поприще делали его достойным преемником. Когда он заехал к Шлиманам, Софье бросилась в глаза происшедшая в нем перемена. В прошлый раз он казался подавленным и вид у него был понурый; одежда, борода и даже глаза казались потертыми, выцветшими. Теперь платье было на нем новое, голос звучал бодро. — От души поздравляю вас обоих с открытием Трои Приама, — приветствовал он их. — Генри сдержал свое обещание. В темных глазах Софьи мелькнуло беспокойство. — Ты хочешь в чем-то покаяться, дитя мое? — Да. Мы с Генри совершили поступок, не вполне приличный с точки зрения морали. И она рассказала епископу, как они нашли клад, как тайно вывезли его из Турции, нарушив фирман, по которому половину всего найденного должны были отдать Константинопольскому музею. В свое оправдание она сослалась на законопроект о раскопках, подготавливаемый турецким правительством. — Ты просишь духовного пастыря отпустить тебе грех? Или ищешь у близкого родственника одобрения? — И то, и другое, — опустив голову, ответила Софья. — Как священнослужитель, я говорю: Бог простит. Но не спрашивай меня, как я лично отношусь к этой истории. Одобрить ваши действия—значит взять грех на душу. Осудить— значит обидеть любимую племянницу. Одно я тебе посоветую: слушайся мужа, он в семье за все отвечает. Софья взглянула на епископа — глаза его лукаво поблескивали. — Ты говоришь, точно дельфийский оракул, — усмехнувшись, сказала Софья и, помолчав, добавила: — Мы слышали, что Афинский университет поддерживает твою кандидатуру. Темные глаза Вимпоса, так похожие на ее собственные, засветились удовольствием. — Я еще молод, мне пока рано об этом думать. В православной церкви вес человеку придают годы. Белую бороду предпочитают черной. А я, как видите, на полдороге, борода моя лишь подернута сединой. — Он тихонько рассмеялся. — Тщеславие в священнике — большой грех. Но признаться, я уже подумывал об этом сане. Избрали, однако, Антония Кариатиса, архиепископа Корфу-ского. Епископ Вимпос пришел на улицу Муз прощаться и между прочим заметил: — Выборы, по-моему, были незаконными. Во-первых, синод не собрал кворума. Во-вторых, не известили министерство по делам церкви. Если я прав, то я еще приеду на новые выборы. А к тому времени и борода моя совсем побелеет. Епископ Вимпос был знатоком не только богословия, но и греческого церковного права. Его слова оправдались. Министерство по делам церкви объявило избрание архиепископа Корфуского недействительным. Первым грозовым облачком было письмо от Яннакиса: глухая враждебность, окружавшая их в Троаде последние две недели, вышла наружу. Яннакис писал:«Многоуважаемый господин Шлиман, мне необходимо на несколько дней приехать в Афины, чтобы спастись от преследований правительства. Меня уже два раза возили под стражей в Дарданеллы. Люди думают, что я кого-то убил. Матушка с Поликсеной плачут, сестры тоже. Там меня допрашивали. Я отвечал, что ничего не знаю. Я все же просил Вашего друга мистера Докоса: если что, пусть мне поможет. Ваш слуга Яннакис»
— Бедный Яннакис! — воскликнула Софья. — Они хотят запугать его, — сказал Генри. — Думают что-нибудь у него выведать. Видишь, как мы разумно поступили, отправив его тогда на субботу и воскресенье домой. Софью очень расстроило письмо Яннакиса, но в совершенное отчаяние ее повергло поведение мужа. Шлиман послал в немецкую газету «Аугсбургер альгемайне» большую статью о последних троянских находках, подробно и ярко расписав сокровища царя Приама. — Зачем ты это сделал, Генри? Ведь никто, кроме Бокера в Константинополе, не знает о троянском золоте. Как только статью опубликуют, турки будут точно знать, что мы вывезли контрабандой. Генри спокойно выслушал бурную тираду жены и легонько похлопал ее по умоляюще простертой руке. — Тайное рано или поздно становится явным. В предисловии к своей книге я подробно изложил, как было найдено сокровище. В ней будут фотографии самых важных золотых находок. — Книга — это одно, а газета—другое. Брокгауз в Лейпциге и Мезоонёв в Париже — почтенные издатели… — «Аугсбургер альгемайне» тоже весьма почтенная газета, — прервал ее Генри. — Она публикует научные статьи. — А вдруг эта статья поможет туркам отнять у нас клад? И бросит тень на твою репутацию? Ведь ты нарушил фирман. Зачем ты спешишь? Ко времени выхода книги греческое правительство примет твое предложение о музее и тебе будет у кого искать защиту. — Софидион, дорогая, мне не терпится поскорее познакомить публику с нашими находками, чтобы ни у кого не повернулся язык оспаривать подлинность нашей Трои. А турецкое правительство вовсе не из статьи узнает, где золото. Я напишу доктору Филипу Детье, директору Константинопольского музея, и честно признаюсь, что мы действительно увезли золото, и увезли потому, что турецкое правительство намеревалось само нарушить фирман, приняв закон, по которому конфискуются все наши находки. Я предложу совместные трехмесячные раскопки Трои, чтобы довести начатое до конца. Обязуюсь оплатить все расходы, причем все найденное в этот раз пойдет в Константинопольский музей. Все знают, что музеем он только называется: там нечего смотреть. Я предложу им сорок тысяч франков — пусть отремонтируют его и выставят все, что мы им передали и что еще найдем. Уверен, это смягчит их гнев. И Софья поняла, что Генри сейчас лучше не прекословить. Он уже продумал весь план действий и убежден, что все пойдет как по-писаному. «Кончились раскопки, — с горечью думала Софья, — и я уже ему не помощница, а просто жена. А жене не положено вмешиваться в мужские дела, да еще с критикой. Ладно, буду хорошей женой, как все гречанки — кроткой и послушной». Статья вышла в «Аугсбургер альгемайне» 26 июля, и сразу же разразился скандал. Турецкий посол в Берлине передал по телеграфу содержание статьи министру просвещения в Константинополь, тот немедленно снесся по телеграфу с Эссадом-беем, турецким послом в Афинах. Эссад-бей заявил протест греческому министру просвещения Каллифронасу. Греческое правительство вовсе не хотело осложнений с турками; совсем недавно турецкий султан был награжден греческим орденом Большого креста. Дружеские отношения между двумя странами только-только налаживались, а теперь им явно грозила опасность. Не обошлось без курьеза: местная газетенка ничтоже сумняшеся обвинила Шлимана в том, что его золотые находки сфабрикованы в Афинах. Каллифронас не мешкая начал действовать. Он первым делом отклонил предложение Шлимана о постройке музея для хранения троянских древностей. Мало этого, Шлиману не разрешили раскапывать Олимпию, передав это право Прусскому археологическому обществу, которое также ходатайствовало перед греческим правительством о раскопках. Афинское общество отвернулось от Шлиманов. Но только, разумеется, не родные: первая заповедь у греков — кровная верность. Знакомые их сторонились, словно заразных. Университетские знакомые совсем отношений не рвали, заняв выжидательную позицию, но посещать дом на улице Муз не спешили. Словно позабыв о том, как Софья отговаривала его от публикации статьи, Генри ходил за женой из комнаты в комнату, изливая праведный гнев: — Они не имеют права так со мной поступать! Открытием Трои я заслужил благодарность всего цивилизованного мира. В первую очередь Греции! Чтобы хоть немного успокоиться, Генри написал письмо американскому послу Бокеру в Константинополь, приложив к нему примирительное послание Сафвет-паше, турецкому министру народного просвещения. В нем он предлагал то, что уже предложил Детье: оплатить все расходы совместных трехмесячных раскопок в Трое, передать турецкому правительству все, что будет найдено, и отремонтировать за свой счет здание Константинопольского музея. Сафвет-паша не ответил. От Бокера пришел короткий сухой ответ:
«Оттоманские власти рассержены не столько тем, что Вы преступили закон, сколько тем, что нарушили письменное соглашение, собственноручно Вами подписанное: делить пополам с Константинопольским музеем все Ваши находки. Возможно, для науки это и хорошо, что Вы сумели благополучно вывезти, как Вы называете, «сокровища Приама», но для будущих раскопок в Турции, боюсь. Ваши действия будут иметь самые печальные последствия; раздражение турецкого правительства так велико, что оно готово запретить производить раскопки всем иностранцам».
2
Полуденный августовский зной был нестерпим. Каждый день часа на три-четыре Шлиманы ездили в Фалерон купаться. Вода в их дом, как во многие другие дома в Афинах, поступала с перебоями—без конца поливались пыльные горячие улицы. По утрам Генри запирался у себя в кабинете и, чтобы отвлечься от свалившихся на него неприятностей, писал деловые письма. И действительно, он так увлекся делами, что даже забыл поздравить жену с четвертой годовщиной их свадьбы и ничего ей не подарил. Они почти не появлялись в городе. — Самое лучшее — укрыться в пещере, пока не стихнет ураган, — говорил Шлиман. Да и ходить по городу было трудно: все улицы разворочены— прокладывали газ. Генри одним из первых купил у газовой компании оборудование для освещения нижних и верхних комнат. Рабочие целую неделю вскрывали полы и долбили стены, зато какой был восторг, когда Генри в первый раз повернул выключатели и поднес к горелкам спичку, залив комнаты ровным ярким светом. Генри ушел в дела и выкинул из головы неприятности, а для Софьи настало мучительное время. Вдали от Трои, от ежедневных волнующих находок она дни напролет терзалась угрызениями совести. Она же не меньше Генри отвечала за содеянное! Помогла тайно перенести золото в дом, спрятала его в своем сундуке и не спускала с него глаз, пока его везли к заливу Бесика и грузили на пароход «Омониа». Генри не всегда внимал ее советам, зато в полной мере воздал ей должное как своей помощнице: в статье для «Аугсбургер альгемайне» он подробно описал ее участие в операции. Теперь эту статью читают во всей Европе. Распространился слух, что Оттоманская империя предъявит им иск через греческий суд. В середине октября ей наконец хватило мужества попросить мужа вернуть Турции половину найденного золота. — Зачем? — Чтобы кончились наши мучения. — А я и не мучаюсь. — Зато я мучаюсь. Я готова отдать половину сокровищ, только бы успокоить совесть. — Детье в своем письме просит вернуть в Константинополь все золото. Обещает навести в музее Чистоту и порядок и выставить весь клад. — Ты предложил им половину? — Нет. — Почему же? — Потому что они все-таки приняли новый закон. Если я покажу им сокровища Приама, они заберут все. На рождественские праздники в Афины по приглашению Шлимана приехала знаменитость — хранитель античных древностей Британского музея Чарльз Т. Ньютон. Они уже давно переписывались, и приехал Ньютон, собственно, для того, чтобы своими глазами увидеть троянские находки. Научная и художественная ценность доисторических терракотовых статуэток, изделий из слоновой кости, каменных идолов, оружия восхитили его. Он определенно высказался, что они принадлежат гомеровскому времени. На третий день англичанин вежливо спросил: — Нельзя ли взглянуть на золотые находки? Можете положиться на мою скромность. Шлиман задумался. Очень хотелось показать гостю сокровища Приама, но—опасно! Он не мог повезти Ньютона на Ликабет: появление двух иностранцев в этом районе могло показаться подозрительным. В конце концов он решился: в день рождества, когда все Афины были в церкви, он послал на Ликабет Спироса, наказав привезти две диадемы, два ожерелья по четыре тысячи бус в каждом, несколько браслетов и серег. Когда Шлиман, заперев в гостиной все окна и двери, открыл чемодан, у англичанина буквально полезли глаза на лоб. — Боже мой! — воскликнул он. — Какая красота! И чистейшее золото! Можно взять в руки? Внимательно рассмотрев каждую вещицу, он сказал: — Это одна из величайших находок во все времена. Но, друзья мои, разве пристало ей воровски таиться в запертом чемодане? Не лучше ли стать украшением крупнейшего в мире музея, чтобы тысячи людей могли ею любоваться? Шлиман улыбнулся. — Вы имеете в виду Британский музей? — Мы отдали бы ей одно из самых почетных мест. — Все это так, мистер Ньютон, — мягко возразила Софья, — но троянские древности обещаны Афинам. — Я не прошу вас подарить их Британскому музею. Ваша коллекция представляет слишком большую ценность. — Вы хотели бы купить ее для своего музея? — спросил Генри. — Да, и за ту цену, которую вы сами по справедливости назначите. Конечно, такую большую сумму сразу не соберешь… — Дорогой мистер Ньютон, — сухо сказала Софья, — мы не собираемся продавать нашу коллекцию. Как только наладятся наши отношения с Турцией, мы передадим ее Греции. Ньютон вопросительно взглянул на Шлимана. Тот секунду колебался, потом сказал: — Это и мое мнение. Мы не будем продавать коллекцию. Но мы признательны вам за ваше предложение. Вскоре после отъезда Чарльза Ньютона в Лондон в газете «Левантийский вестник» появилось примечательное сообщение. Нассиф-паша произвел обыск в домах рабочих Шлимана из селений Калифатли и Енишехир. Было найдено «много золотых ожерелий, браслетов, серег и несколько золотых брусков». Утаенное золото конфисковали, виновных отправили в тюрьму. Причитав статью, Софья и Генри изумленно уставились друг на друга. Генри и негодовал — как могли рабочие обмануть его? — и радовался — ведь это лишний раз доказывало, как много золота погребено в Трое. Теперь никто не скажет, что его древности изготовлены в Афинах. — Генри! — воскликнула Софья, — это означает, что Константинопольский музей получил-таки свою долю! Четыре ока золота приблизительно равны одиннадцати фунтам. Это очень много. Турки должны быть довольны. — Не надейся, моя радость. Это только подогреет их аппетит! Софья пригладила волосы от пробора и аккуратно заложила их за уши. — Тогда почему бы нам не потребовать половину этого конфискованного золота? Согласно фирману, мы имеем на это право. Генри резко поднял голову, оторвавшись от статьи, которую перечитывал. Софья хитровато улыбалась. — Это может уравнять чаши весов. 21 января 1874 года синод собрался вторично для избрания архиепископа Афинского. Из Триполиса приехал епископ Вимпос. В день его приезда возле городского зала заседаний собралось человек пятьдесят, преимущественно студентов. Толпа кричала: «Тео Вимпос—архиепископ! Тео Вимпос — архиепископ!» Отряд из восьми полицейских разогнал толпу. Слух о происшедшем распространился по всему городу. Никто в Афинах не помнил ничего подобного. Мнения в синоде разделились, дебаты были бурные. Никого не избрали и на этот раз. На другой день возобновил работу парламент, в королевском дворце по этому случаю давали бал. Шлиманов не пригласили. «Троянские древности» вышли в свет в конце января 1874 года. Это был большой красивый фолиант. Торопя события, Шлиман позаботился заблаговременно обеспечить своей книге друзей. Он послал гранки с полным комплектом фотографий профессору археологического факультета Афинского университета Ефтимиосу Касторкису. Профессор стоял на пороге своего шестидесятилетия; историю и археологию он изучал в Германии. Университетскую кафедру получил в 1858 году; в 1850 году Касторкису удалось убедить министра народного просвещения возобновить деятельность Археологического общества, членом которого он состоял по сей день. «Троянские древности» произвели на Касторкиса такое впечатление, что он попросил позволения посмотреть коллекцию. Шлиман пригласил профессора отобедать у них в воскресенье. Касторкис несколько часом изучал находки, стараясь определить их возраст. — Надо полагать, золото я смогу увидеть только после того, как уляжется шум? — спросил он у Шлимана. — Вы увидите его одним из первых, — обещал Шлиман. Английский премьер-министр Гладстон полтора десятилетия назад издал обширный труд под названием «Гомер и гомеровская эпоха», упрочив за собой репутацию знатока античности Шлиман послал ему свою книгу «Итака, Пелопоннес и Троя», а также статью из «Аугсбургер альгемайне». Гладстон был убежден, что троянцы говорили по-гречески, и Шлиман разделял его мнение. Он получил от английского премьер-министра дружеское, окрыляющее письмо. «Открытые Вами факты имеют огромнейшее значение для понимания древней истории. Но лично меня они радуют еще и потому, что подтверждают мое прочтение гомеровского текста», — писал Шлиману английский премьер-министр. Гладстону тут же возразил солидный английский еженедельник «Академия», поместивший статью оксфордского историка Макса Мюллера с критическим разбором отчета Шлимана в «Аугсбургер альгемайне». Смысл его выдержанной по тону статьи сводился к тому, что тысячи найденных Шлиманом фигурок с совиными головами вовсе не изображают греческую богиню Афину: для такого утверждения мало оснований. И не мог Шлиман найти в Трое сокровища Приама: ахейцы не упустили бы завладеть ими и увезти в качестве трофея. «Троянские древности», как вскоре убедились Софья и Генри, встретили столь же противоречивый прием. Эмиль Бюрнуф написал прекрасную рецензию для журнала «Ревю де дё монд», что означало признание открытий Шлимана Французской академией. Зато немецкие археологи, по словам Шлимана, «жаждали крови». Его обвиняли в самых страшных грехах, непростительных с точки зрения археологии: в поисках своей Трои он разрушал древние стены, дома, храмы… Строил дикие догадки и выдвигал нелепые теории, которые сам же в последующих главах опровергал. Словом, он великий путаник, невежда и просто мошенник: все золотые вещи, фотографии которых помещены в книге, он купил на базарах в Константинополе и других городах Ближнего Востока. Не избежала нападок и Софья. Особенно отличились в Риме два молодых немца. Прочитав в книге Шлимана слова: «Я возблагодарил провидение за то, что вера моя награждена, а также собственную жену, которая спасла сокровища, спрятав их в свою шаль», эти великовозрастные недоросли «покатились со смеху». На другой день один из них явился в гости одетый в женское платье, с красным свертком в руках. «Госпожа Шлиман», — представил его приятель. Юнец встряхнул шалью и вывалил на пол старые горшки и дырявые кастрюли. Эта выходка имела бурный успех. — От зависти их бьет лихорадка, — утешал жену Генри. Но не такой он был человек, чтобы безропотно сносить брань в свой адрес. Он часами просиживал за письменным столом, составляя возражения в газеты и научные журналы, поносившие его за «фантастические догадки» и «витание в облаках». Из каждого крупного города на континенте и в Англии специально нанятые люди посылали ему все выходящие о нем статьи — ругательные и хвалебные, и на каждую он отвечал сам, излагая доподлинную правду о себе и Трое, какой он ее знал и любил. «Неуемный, — думала Софья, — он и здесь, как в Трое, работает не покладая рук по двадцать часов в сутки». Но разве и она не сражается бок о бок с ним с учеными буквоедами? Это нешуточная война. Здесь трещат свои холода, налетает пронзительный северный ветер, сваливается палящий зной, и здесь жалят скорпионы… И они будут бороться, пока весь мир не поймет величия открытий Шлимана и не перестанет считать его обманщиком, пытающимся любой ценой доказать, что жалкая деревушка каменного века в устье Дарданелл и есть легендарная Троя Гомера, пока весь мир не признает его выдающимся ученым и археологом и не отдаст ему справедливость, назвав отцом современной археологии. Турецкий посол Эссад-бей нанял трех греческих адвокатов подготовить судебный иск от имени Константинопольского музея. Адвокаты просили суд наложить арест на дом Шлимана и всю обстановку на случай, если решение будет вынесено в пользу музея. Генри поручил свою защиту видным афинским адвокатам Лукасу Халкокондилису и Леонидасу Делагеоргису. Вернувшись на сретенье из церкви, Генри и Софья увидели, что мебель сдвинута, ящики комодов открыты. — У нас был обыск! — возмущенно воскликнул Генри. Оказывается,кто-то специально выжидал, когда дома никого не будет. — Генри, а если у них есть право? — Какое право?! Это преступление. Я сообщу министру юстиции и в полицейское управление. Мы найдем виноватых. Но как незваные гости не нашли золота, так и Шлиману не удалось разыскать их. Начальник полиции заявил, что никто из его людей не посмеет вломиться в частный дом. Министр юстиции ответил, что суд не выносил постановления об обыске, поскольку правительство не дало бы на это согласия. Адвокаты Эссада-бея категорически утверждали, что турки не пойдут на столь вопиющее нарушение международных норм. — Я хочу просить таможню в Пирее выдать разрешение на вывоз из Греции всех моих древностей, — жестко проговорил Генри. Софья вздрогнула как от удара. — Но ты обещал мне, что наши находки останутся здесь и будут переданы Греции. — А я не собираюсь ничего вывозить. Просто хочу иметь официальное разрешение на вывоз, если суд вынесет решение о конфискации в пользу турок. Между тем турецкие власти снова арестовали Яннакиса и, обвинив в предательстве, бросили в тюрьму. Был оштрафован правительственный наблюдатель Амин-эфенди, ему тоже грозили большие неприятности. Шлиман направил турецкому министру просвещения решительный протест, заявив, что «более бдительного стража вряд ли можно желать». Службу Амин-эфенди, разумеется, потерял, зато ни арест, ни судебная расправа «за серьезное нарушение служебного долга» ему уже не грозили. Шлиманом овладевало беспокойство. Он и сам чувствовал себя узником. Софья уже знала: когда ход событий переставал ему подчиняться, он отправлялся путешествовать. Интересно, куда его потянет на этот раз: в Лондон, Париж, Берлин? К ее удивлению, он сказал: — Едем в Микены. Пароход отходит из Пирея в Нафплион в понедельник в шесть утра. Софья вглядывалась в лицо мужа. За последние месяцы он похудел и даже, пожалуй, выглядел изможденно: щеки ввалились, скулы обострились. Но энергии в нем не убавилось. — Хочу осмотреться, тебя поводить. Я решил просить разрешения на раскопки Микен. — Так нам уже отказали! — Не совсем. У нас отняли Олимпию, поручив Пруссии вести там раскопки. А Микены никого не волнуют. Два дня назад министр народного просвещения Каллифронас подал в отставку, ему ведь под семьдесят. С его уходом одним препятствием стало меньше. Я сегодня же подам прошение. Когда он вернулся, Софья поинтересовалась, как успехи. Пост министра просвещения занимал теперь Иоаннис Валас-сопулос. Шлиман с ним не был знаком. — Принял прошение, и пока все. Я спросил, можно ли съездить в Микены на несколько дней—оглядеться, прикинуть… Он ответил, что смотреть никому не возбраняется, но раскопки запретил. — Генри пожал плечами. — Берега Арголид-ского залива очень красивы, — прибавил он. — Тебе понравится. Утром в понедельник сели в Пирее на пароход. Ехали налегке, единственной тяжестью были книги: «Описание Эллады» Павсания и «Орестея» Эсхила. Софье их отъезд показался чуть ли не бегством. — А причина для такой спешки была? — спросила она мужа. — Уж не добились ли турки ордера на твой арест? — Пока нет, — невесело усмехнулся Генри. — Я поспешил уехать до того, как новый министр отклонит мое прошение. Чтобы с толком съездить. Была середина февраля. Софья не ожидала от моря ничего хорошего, и опасения ее оправдались. Потом, впрочем, волнение улеглось, она почувствовала себя лучше и смогла любоваться красотами Идры и Спеце: их маленькими защищенными бухтами, горами, словно неприступные стены, подступавшими к самой воде. Пароход вошел в Арголидский залив и взял курс на север, где жемчужиной поблескивал Нафплион, выставив в море дозорный островок с крошечной крепостью. Нафплион был любимым местом отдыха афинян. В удобной гостинице «Олимп» комнаты выходили на море, кухня славилась рыбными филе из палтуса, морского окуня и пикши утреннего улова. Ночь была холодная. Шлиманы попросили еще одеял и вторую лампу. Софья поставила на тумбочку возле кровати свою иконку, и чужая комната сразу стала по-домашнему уютной. Генри выложил книги о Микенах, купленные много лет назад в Лондоне. — Любопытная вещь, — сказал он Софье. — Павсаний был в Микенах во втором веке нашей эры и в своем «Описании Эллады» посвятил им порядочно места, и с тех пор почти ничего о Микенах не было написано. Лишь в 1810 году выходит первая книга о Микенах, затем на протяжении двадцати пяти лет—еще три. Их авторы — все англичане. Истые путешественники, они приехали в Арголиду, описали и зарисовали крепость в Микенах и ее двойник—в Тиринфе. Прошло сорок лет, и никто не удосужился написать хоть строчку о древней столице и могущественной микенской цивилизации. Наш рабочий дневник восполнит этот пробел, только бы получить разрешение на раскопки. Послушай, что пишет англичанин Додуэл в книге «Путешествие по Греции», опубликованной в 1819 году: «В Греции нет другого места, сулящего археологу больший успех, чем Микены. Систематические обширные раскопки откроют миру древности, превосходящие по возрасту и значению все найденное до сих пор». Эти слова предназначены мне. Я услышал их спустя пятьдесят пять лет. — Хорошо бы их услышал и новый министр, — сонным голосом отозвалась Софья.3
Экипаж, заказанный накануне, подкатил к гостинице ровно в шесть утра, только-только встало солнце. Генри уже успел выкупаться в заливе. Ехали не спеша, поначалу их путь лежал через зеленые луга, заболоченные после зимних дождей. Эта плодородная земля славилась в Греции самыми тучными травами, недаром Гомер в «Илиаде» называет Аргос «конеславным» и «конями обильным». В миле от Нафплиона миновали циклопические стены Тиринфской крепости. Расположенная на стратегически важном холме, она господствовала над Арголидским заливом, предупреждая нападение с моря. Царем Тиринфа был Диомед, славный герой, раненный под стенами Трои. Близкое соседство столь грозных крепостей-ровесниц приводило в недоумение и древних и новых историков, пока не установилось мнение, что Микены и Тиринф—союзные государства; причем меньший по размеру город-крепость Тиринф был вассалом Агамемнона. Мерно цокали по камню копыта, мимо тянулись стены, сложенные из гигантских глыб. Софья вслух удивлялась, как могли древние греки двигать и поднимать их без современных лебедок и кранов. — Хотя как-то строили и древние египтяне свои пирамиды. Но как они умудрялись, не могу понять. Обернувшись и еще раз взглянув на одетый тысячелетними наслоениями холм, поразительно похожий на их Гиссарлык, Софья спросила: — Кто-нибудь пробовал раскопать Тиринф? — Только наш переводчик на французский, греческий посланник в Берлине. Покопал один день и бросил. Я сам мечтаю о Тиринфе, но всему свое время. Въехали в богатый Аргос, административный и торговый центр провинции. Представились префекту, принявшему их с обычной официальной любезностью. — Мы хотели бы известить власти о нашем намерении провести неделю в Микенах. — Вы не будете производить там раскопки, господин Шлиман? — Нет. Я хочу только заложить несколько разведывательных шурфов, чтобы промерить в разных местах глубину наслоений. — Если вы ограничитесь только шурфами, никто вам препятствий чинить не станет. Тем более что о своих планах вы поставили меня в известность. Теперь их путь лежал к северной окраине Арголиды. Ландшафт разительно изменился — земля здесь была голая и сухая, дожди задерживал горный хребет, выше облаков взметнувший свои вершины. Экипаж свернул в сторону и покатился медленнее—дорога шла по каменистому склону вверх, и с высотой вид опять изменился: у подножия Микенской крепости приютилась небольшая деревушка Харвати, окруженная зелеными полями, садами, виноградниками—радующий глаз цветущий оазис. Восемь домиков стояли тесно сгрудившись, точно соседи сошлись посплетничать у забора. Возница остановился перед самым красивым двухэтажным домом с пологой черепичной крышей, двумя большими окнами на первом этаже, неизменными двустворчатыми дверями и зарешеченным балконом. По обе стороны дома росли высокие перечные деревья, мужское — справа, женское — слева. В пруду за домом плавали гуси, по двору бродили куры, индюки, торчала голубятня. Постучав в парадную дверь, Генри вошел в дом и буквально через несколько секунд вышел обратно. Лицо его сияло. — Наша слава обогнала нас. Хозяева знают о наших раскопках в Трое и очень радовались, узнав, что, возможно, мы будем раскапывать и Микены. Они уже освобождают наверху две комнаты. Мы там будем одни. Фамилия хозяев—Дасисы. Устроились они у Дасисов не хуже, чем в гостинице. Им отвели две солнечные с большими окнами комнаты, полные света и воздуха. Земля здесь щедро родила виноград, инжир, миндаль, апельсины, дыни, помидоры, лук, бобы, салат; тучные луга давали душистое сено; в просторном доме под одной крышей в мире и согласии жило четыре поколения. Домом и землей владели еще прадеды. Хозяйство большое: козы, овцы, ослы, лошади, собаки… Первым делом Софью и Генри представили старикам. Заправляло всем среднее поколение — сорокапятилетние Деметриос и Иоанна Дасисы. У них было трое сыновей с именами гомеровских героев: Аякс, Диомед, Агамемнон; две дочери уже сами были матерями. В Харвати взрослые сыновья редко покидают отчий дом: приводят в семью жену, растят детей; когда родители состарятся, берут бразды правления в свои руки. Наверх принес — и тазы с теплой водой, чтобы гости могли умыться с дороги. Софья оглядела комнаты: большая кровать кипарисового дерева, матрас набит овечьей и козьей шерстью; во второй комнате стояли две узкие кушетки, стулья, стол — есть где держать книги и писать дневник, отметил Генри. Кухня служила общей комнатой—единственное, не считая большой веранды, место в доме, где могло собраться все семейство. В приготовлении обеда участвовали все женщины, но было ясно, что главенствует Иоанна. Софья словно перенеслась в детство, в их квартиру над мануфактурной лавкой на площади Ромвис, вспомнила, как мадам Виктория вот так же учила своих троих дочерей кулинарной премудрости. Иоанна позвала Софью на кухню, одна из дочерей повязала ей поверх широкой шерстяной юбки фартук. И вот уже Софья смеется со всеми, помогает фаршировать помидоры и перец. На женщинах белые кофты и длинные по щиколотку домотканые сарафаны. Мужчины сели на плетеные стулья, расставленные вдоль стен, закурили и начали беседу. — Доктор Шлиман, — спросил Деметриос, — вы и у нас будете копать, как в Трое? — У меня пока нет разрешения правительства. Хозяин презрительно махнул рукой, как будто хотел сказать: «Правительство! Зачем обращать на него внимание?» — Я должен с ним ладить. Все, что я здесь найду, я обещал передать Греции. — А когда вы получите свою бумагу — что вы думаете здесь найти? — Дворец Агамемнона. — Правильно. Он здесь. Где-то наверху, на самой горе. — И царские гробницы. От неожиданности Деметриос чуть не свалился со стула. — Чьи гробницы? — Тех, кто вернулся из павшей Трои и был убит Клитемнестрой и Эгистом: Агамемнона, его возницы Эвримедона, Кассандры, ее близнецов… — Кто их только не искал! — воскликнул Деметриос. — Даже последний турецкий губернатор Пелопоннеса Вели-паша. Уже под конец турецкого владычества он вскрыл гробницу, что у Львиных ворот. Много веков люди искали их, даже мой прадед! Эти могилы Агамемнона и его спутников должны быть набиты золотом, только никто не верит, что они существуют. — И все-таки они существуют. О них упоминал Павсаний в «Описании Эллады». Дасис пожал плечами. — Доктор Шлиман, вы умеете искать. Одна газета писала, что вы, видно, владеете «волшебной палочкой», которая чует воду под слоем песка. Все, что можно найти в Микенах, вы найдете, но только не царские гробницы. Шлиман попросил оседлать коней для себя и Софьи. Они проехали через деревню по каменистой дороге и скоро выбрались на узкий проселок. Впереди смутно рисовались три горы, протянувшиеся с юга на север. Самая высокая, Эвбея, с острыми отрогами и скалами, являла собой горную гряду в миниатюре. На фоне загромождающей небо Эвбеи микенская цитадель казалась скромным холмом, не больше Гиссарлыка. Но если подъехать к самому подножию, Микены представали грозной крепостью. Дорога круто свернула влево и пошла в гору. — Что это? — воскликнула Софья. — Сокровищница, или, вернее сказать, гробница Атрея. Софья с изумлением рассматривала постройку. Дромос, открытый коридор, ведущий к двери, был завален когда-то землей, щебнем, обломками; но Вели-паша, соблазнившись древними сокровищами, расчистил проход, и Софья увидела красивые речные двери из камня с двойной притолокой четырнадцати футов в длину; над ней треугольное отверстие, некогда заполненное, по-видимому, скульптурой: эта ниша должна была облегчить неимоверную тяжесть циклопической кладки, давившей на балку. Стены коридора, сложенные из каменных глыб, и каменная кладка по бокам треугольника хорошо сохранились и поражали своими размерами. — Эта гробница уходит в глубину холма? — спросила Софья. — Точнее, выходит из глубины холма. В полости горы строители закладывали из тесаных каменных брусьев гробницу и выводили наверх ее коническую вершину, отчего такие гробницы называют «ульями». В сокровищнице Атрея видят достойную соперницу египетских пирамид. Ярдов через сто Генри остановил лошадей. И Софье первый раз открылась вся Микенская крепость. Они стояли над узким ущельем, в котором бесновался поток, напоенный зимними дождями и талым снегом. За ущельем уходил вниз скалистый склон. Над ним высилась западная циклопическая стена Микенского акрополя. — Матерь божья! — У Софьи перехватило дыхание. — Эти камни даже больше тех, что мы видели сегодня утром в Тиринфе. — Да, в этих краях это самые крупные обработанные камни. Их называют циклопическими в честь циклопов — одноглазых великанов, которые ковали Зевсу молнии в кузнице Гефеста. — На светлом Олимпе. Я очень хорошо представляю себе, как они помогают Гефесту раздувать мехи. — А попробуй представить себе еще кое-что—тогда ты поможешь мне найти царские гробницы. Во времена Агамемнона через это ущелье был мост. Сейчас же за ущельем начинался посад, поднимавшийся к самому основанию оборонительной стены. Не знаю, сколько здесь стояло домов, но, как видно, поселение было большое. Оно тянулось до того гребня, что позади нас, — поэтому тут и был мост. Застроена была и долина, по которой мы ехали, правда, не вся, потому что поселение окружалось обводной стеной. Не циклопической, конечно, в этом не было необходимости, а гораздо меньших размеров: в случае опасности жители устремлялись через ворота в крепость. За ее стенами им ничто не угрожало: питьевую воду брали из источника Персеи, за акрополем лежала недоступная для врагов плодородная долина, которая их кормила. — Как это похоже на Трою. Генри ласково похлопал ее по плечу. — Да, очень, но Микены более неприступны. Главный вход в крепость сразу за этим поворотом. Пока они поднимались, Софья внимательно разглядывала крепость. Тысячелетия почти всю ее погребли под землей, и все-таки за высокой внешней оборонительной стеной угадывались террасы, колеи, которые могли быть дорогами, ведущими на вершину, где, по словам Генри, находились когда-то храм и великолепный дворец Атрея и его сына Агамемнона. Когда сын Агамемнона Орест уже взрослым вернулся сюда, убил мать и ее любовника, отомстив за смерть отца, и стал царем Микен, он тоже поселился в этом дворце; в нем жил и его сын. Но могущественное царство ахейцев было истощено троянской войной, и в XII веке до нашей эры его завоевали дорийцы, пришедшие с севера из Эпира и Македонии; они покорили весь Пелопоннес и почти всю территорию Греции на Балканском полуострове. Династия Атрея, Агамемнона и Ореста правила Микенами несколько столетий. Фукидид сообщает, что Микены пали спустя восемьдесят лет после гибели Трои. Это был конец микенской цивилизации. Узкая колея повернула. Перед ними были Львиные ворота. Прекрасный, волнующий миг! Два исполинских каменных столба, отступив один от другого на десять футов, держали массивную перекладину с выступающими концами, также высеченную из одной глыбы камня; сверху ее прижимали колоссальные каменные блоки, вроде тех, из которых сложены циклопические стены. Над перекладиной, изваянные из цельного монолита, стояли два безглавых льва, опустив передние лапы на цоколь алтаря, на котором некогда был утвержден священный либо геральдический столп, символ царской власти Атридов. — Генри, львы как живые. А головы, надо думать, украли? — Только после того, как упали надвратные камни. Видимо, землетрясение постаралось. Падая, они увлекли за собой и головы. Дорога, ведущая к воротам, была скрыта под трехтысяче-летними наслоениями. Притолока ворот поднималась над поверхностью земли всего на три-четыре фута. — Интересно, какой была первоначальная высота ворот? — спросила Софья. — Можно прикинуть. Футов двенадцать, может больше. Они строились в расчете на царскую колесницу. Софья и Генри на четвереньках подлезли под ворота и оказались внутри крепости. На ее широком дворе теперь пасли скотину. Вперед и направо простиралась каменистая терраса, кончавшаяся у крепостной стены. Слева круто взметнулась гора, обращенная в неприступное укрепление. — Подниматься будем отсюда, — решил Генри. — Здесь кустарник и камни—как-нибудь доберемся. Подъем был долгий и трудный, но открывшийся с вершины вид вознаградил их с лихвой. День был ясный, аргосская долина была видна как на ладони, милях в девяти у Нафшшона поблескивало на горизонте бирюзовое море. Генри подвел Софью к краю утеса, нависшего над темным глубоким ущельем, отделявшим Микенский холм от соседней горы. На утесе сохранились остатки оборонительных стен. Прочертив рукой микенский посад и ущелье, Генри уткнул палец в дорогу, по которой они приехали. — Смотри точно, куда я показываю, — на тот гребень за дорогой. Видишь «сокровищницу Атрея»? Атрей построил ее так, чтобы видеть ее из внешнего дворика своего дворца. — Ты хочешь сказать, что мы сейчас стоим во внешнем дворике дворца Атрея? Генри усмехнулся. — Это было бы слишком! Но дворик где-то здесь, на этом утесе. И купальня, где, по словам одного древнего автора, Клитемнестра и Эгист убили Агамемнона, опутав его огромной рыболовной сетью, которую Клитемнестра десять лет вязала для этой цели. Правда, Павсаний пишет, что Агамемнон был убит на пиру. Петляя, стали спускаться вниз. Генри шел впереди, подстраховывая Софью. У Львиных ворот она спросила: — Где ты начнешь закладывать шурфы? — Ярдах в ста отсюда, строго к югу. Он вынул из бокового кармана потрепанный томик Павсания и прочел:До сих пор еще сохранились часть городской стены и ворота, на которых стоят львы. Говорят, их построили циклопы… В развалинах Микен есть водоем, называемый Персеей. Тут были и подземные сооружения Атрея и его сыновей, где хранились их сокровища и богатства… Тут могила Агамемнона и его возницы Эвримедона, а также Электры. Теледам и Пелопс похоронены в одной гробнице: по преданию, эти близнецы были детьми Кассандры, и Эгист убил младенцев вместе с родителями. Клитемнестра и Эгист были похоронены поодаль от стены, ибо были сочтены недостойными покоиться внутри города, где были преданы земле Агамемнон и убитые вместе с ним.
— По-моему, все понятно. Почему же до сих пор никто не нашел могилы? — Да потому, что читатели Павсания много веков думали, что он толкует о стене, опоясывающей нижний город. А она ко второму веку, когда здесь был Павсаний, давно разрушилась, от нее следа не осталось, и Павсаний, конечно, имел в виду не ее, а циклопическую стену, окружавшую крепость. Мы будем искать внутри крепостных стен, где до нас никто не копал. Напасти и огорчения, ждавшие их в Афинах, отступили, забылись; даже бесчестье перед всем светом более не страшило. Точно они начинали новую жизнь, воспрянув навстречу высокому призванию, которое привело их на вершину Гиссар-лыка в самом начале их семейной жизни. Их глаза горели, лица раскраснелись от быстрого спуска. «Люди единой страсти умеют остановить время, как остановил солнце Иисус Навин», — подумала Софья, а вслух сказала: — Ты верно понял Гомера. Должно быть, и Павсания ты толкуешь правильно. Домой вернулись засветло, прямо к ужину. Генри выпил с мужчинами узо. За круглым столом сидело человек пятнадцать—все семейство. Софью и Генри усадили на почетное место рядом со стариками. Завязалась живая, теплая беседа. — Можно здесь найти двух мужчин, которые помогут мне копать несколько дней? — спросил Генри Деметриоса. — Конечно. Я помогу, и кто-нибудь из сыновей. — Тогда завтра чуть свет и начнем. — Все-таки решили начать раскопки? — Нет, сделаю несколько пробных шурфов. Оказалось, что сотня жителей Харвати все сплошь родственники, и чуть не все явились поприветствовать доктора Шлимана и его жену, оставив дома малышей под надзором детей постарше. Порог переступали со словами: «Калос орисате! Приветствуем вас!» Как и в Авлиде, они пришли чисто вымытые, празднично одетые, оказывая уважение гостям. В восемь часов Генри подошел к хозяевам. — С вашего позволения, госпожа Шлиман и я поднимемся к себе. Мы намаялись за день, а я хочу почитать Софье «Агамемнона» Эсхила. — Доктор Шлиман, а вы не почитаете для всех? — попросила его Иоанна Даси. — Женщины у нас не умеют читать. Конечно, мы знаем эту историю, она передается от отца к сыну. Но как об этом написано в пьесе, никто из нас не слышал. Генри читал Эсхила, подсев к очагу. Слушатели уселись вдоль стен на скамейках, принесенных с веранды. Софья обвела взглядом внимательные лица, и на память ей пришел тот вечер в Авлиде, когда вот так же у очага Генри читал Еврипида. Генри, должно быть, тоже вспомнил тот вечер и, как тогда, разложил на коленях книгу обложкой вверх. — Сначала я напомню вам, что у Клитемнестры были причины желать смерти Агамемнона. В одном из походов Агамемнон убил мужа Клитемнестры и, оторвав от ее груди младенца, продал его как раба. Победитель женился на Клитемнестре. Под предлогом сватовства Ахилла Агамемнон призвал жену и свою любимую дочь Ифигению в Авлиду. На самом же деле он решил принести дочь в жертву богине Артемиде, чтобы та послала попутный ветер его огромному флоту, снаряженному от всех ахейских царств, который давно томился в гавани и не мог плыть в Трою. Несмотря на мольбы и слезы Клитемнестры и Ифигении, он перерезал своей дочери горло. В глазах слушательниц стояли слезы. — Тогда-то Клитемнестра и задумала отомстить мужу, — продолжал Генри. — Вскоре после отплытия Агамемнона она взяла в любовники Эгиста, двоюродного брата Агамемнона, и стала с ним править страной. У того был свой счет к Агамемнону: в прошлом отец Агамемнона убил старших братьев Эгиста. Чтобы знать заранее о возвращении мужа, Клитемнестра послала рабов зажечь на вершинах гор вестовые огни. И вот на горе Иде вспыхнул огонь, достиг Лемноса, загорелся на Афоне, пробежал над рекой Асоп и через Саронический залив пришел в Микены. Получив эту весть, Клитемнестра с Эгистом поняли, что Троя пала, и подготовились к приезду Агамемнона. Генри читал негромко. В переполненной кухне было слышно, как муха пролетит. Он возвысил голос только в самом драматическом месте:
Один за другим вставали со скамеек гости и хозяева, подходили к Генри, благодарили. Шлиманы поднялись к себе и закрыли дверь. Зимнее солнце, с трудом вскарабкавшись по восточному склону горы Эвбеи, видимо, обессилело, потому что было по-ночному холодно, когда фургон, круто свернув, подъехал к Львиным воротам. Их было четверо — Генри, Софья, Деметриос и его сын Аякс. Деметриос остановил лошадей у исполинской восточной стены, тянувшейся к Львиным воротам. Прежде чем выгрузить инструменты, Аякс сунул под колеса булыжники. Тачку они с собой не взяли, надобности в ней пока не было. — Я ведь не буду копать, — объяснил Генри. — Значит, и отвозить будет нечего. Заложим несколько пробных шурфов. Неглубоких и нешироких, только чтобы взять в разных местах образцы наносной почвы. Снова ползком проникли в легендарный акрополь, откуда Атриды управляли ахейским царством. Генри вынул компас. — Будем двигаться от Львиных ворот к югу. Выроем сначала пять-шесть шурфов на ближних — западной и юго-западной — террасах. Деметриос и Аякс начали копать на расстоянии двадцати футов друг от друга, памятуя о наставлении рыть неглубоко. Сам Шлиман ходил от одного к другому, просеивал землю, записывал ее структуру. Иногда ему было достаточно глубины в четыре-пять футов, в другой раз он просил рыть до десяти. За утро вырыли и засыпали несколько ям. Нашли всякую мелочь. В одиннадцать часов приехал на ослике младший сын Деметриоса, привез в корзине хлеб, сыр, маслины, сваренные вкрутую яйца и вино. Ближе к вечеру ярдах в ста от Львиных ворот наткнулись на стену циклопической кладки. Шлиман остался доволен. — Это вселяет надежду, — сказал он. — Ну, на сегодня хватит. Пожалуйста, засыпьте все шурфы. На обратном пути, когда фургон спускался с горы, Софья оглянулась на крепость, алеющую в косых закатных лучах, и воскликнула: — Какое величественное и прекрасное зрелище, должно быть, являли собой Микены во времена Атрея и Агамемнона! Серебряные колесницы, могучие кони, взращенные на арголидских лугах, воины в медных и бронзовых доспехах с развевающимися султанами на шлемах — за поясом мечи, в руках длинные пики, на запястьях золотые браслеты. — Все в прошлом, — тихо проговорил Деметриос, — ничего не осталось, только камни, голые террасы да овцы. На другой день вырыли еще с десяток шурфов дальше к юго-западу и опять ничего не нашли, кроме гладко обтесанной плиты, по мнению Шлимана бывшей могильным камнем. За третий и четвертый день вырыли тридцать четыре ямы; теперь Шлиман имел представление о структуре здешнего грунта. Это был в основном почвенный слой, в котором изредка попадались обломки ритуальных женских фигурок, керамические коровы и гладкие круглые камешки. Их петый день в Микенах начался с того, что в кромешной тьме их разбудили грохот экипажа, поднимавшегося в гору, сильный стук в дверь и громкие возбужденные голоса. — Давай одевайся, — сказал Генри. — Видимо, что-то случилось. И точно—случилось. Спустившись вниз, они увидели молодого человека с воспаленными глазами, что-то кричавшего обступившим его Дасисам. — В чем дело, Деметриос? — спросил Генри. — Это Иоаннис, мой племянник. Он живет в Аргосе, работает в префектуре. Вчера префект получил из Афин телеграмму от министра просвещения, где сказано, что доктор Шлиман начал в Микенах раскопки и что префект должен немедленно вмешаться. Иоаннис подумал, что лучше предупредить вас, пока никто не нагрянул… Генри крепко пожал юноше руку. — Вы очень хорошо сделали, что предупредили меня и приехали сюда в экипаже. Мы сейчас же вернемся в Нафплион. Шлиман щедро расплатился с хозяевами. Иоаннис отнес их чемоданы в экипаж. — Когда вернетесь с разрешением на более долгий срок, — сказал на прощание Деметриос, — мой дом в вашем распоряжении. — Спасибо. А вас приглашу к себе десятником. — Согласен. Счастливого пути. Если наведаются из префектуры, то мы ничего не знаем. Иоаннис довез их до самой гостиницы «Олимп», успокоил, что на обратном пути его никто не увидит. Пожали друг другу руки, Иоаннис ощутил в ладони монеты. Шлиманы вернулись к себе в номер, отдохнули с дороги. Потом прогулялись к морю, поужинали у себя. Они уже совсем собрались спать, когда в дверь постучали. Генри открыл. На пороге стоял полицейский, одетый по всей форме. — Доктор Шлиман? — Да. — Я полицмейстер Нафплиона Леонидас Леонардос. Но я пришел к вам как частное лицо. Я знаю, что вы американский гражданин, и не хотел бы международных осложнений. — Милости просим. В комнату вошла Софья. Взглянув на нее, полицмейстер воскликнул: — Софья Энгастроменос! Так это вы госпожа Шлиман? — Да, и я тоже вас помню. Вы бывали у нас на площади Ромвис. — И не один раз! Я знал вашего батюшку. — Присаживайтесь. Приятно снова встретиться. Выпейте с нами кофе, возьмите глико. Полицмейстер взял розетку с засахаренными вишнями. Вид у него был явно смущенный. — Вы хотели бы взглянуть на наши микенские находки? — Да, я получил телеграмму, предписывающую осмотреть ваш багаж. Софья принесла корзину, открыла ее и показала гостю черепки ритуальных фигурок, коров, круглые каменные бляшки. Полицмейстер не знал, куда деваться от смущения. — Эти черепки не стоят доброго слова. Я составлю протокол, и мы оба его подпишем. «Такие черепки, — писал он, — можно найти на месте любого древнего города. Поскольку это не мрамор, а простой камень, то они не имеют никакой ценности, и я все их вернул господину Шлиману, в чем он расписывается». Начальник полиции скрепил бумагу подписью и передал ее Шлиману, чтобы и тот расписался. На прощанье он сказал Софье, что был рад повидать ее.
4
Вернувшись в Афины, они сразу поехали к министру народного просвещения. Их не приняли, отослав к генеральному инспектору памятников старины Панайотису Эвстратиадису, частому гостю на страницах «Археологической газеты», члену Берлинской академии наук и Археологического института в Риме. Это его подпись стояла под соглашением с Пруссией о раскопках Олимпии. Он оказал Шлиманам ледяной прием. Вместо того чтобы сразу повиниться, Генри пустился в оправдания: — Инспектор Эвстратиадис, по пути в Микены я сообщил префекту Аргоса, что у меня пока нет разрешения на раскопки и я хочу только провести археологическую разведку… — По-видимому, — напустился на него инспектор, — вы считаете, что греки не уважают собственные законы и вы можете смеяться над ними. — Поверьте, ничего подобного у меня и в мыслях не было. Тот, кто сообщил вам, что я начал раскопки, ошибся. Я хотел только выяснить, какой в Микенах грунт, сделать несколько пробных шурфов в ожидании того дня, когда получу разрешение на раскопки. — Ну, этот день еще не скоро наступит. Генри побледнел и потерял дар речи перед таким накалом ярости. Софья поспешила на помощь: — С вашего позволения, господин инспектор, шурфы были действительно пробные. Мы не нанесли вреда памятнику, уверяю вас. — Вы пользовались лопатой? — Да. — Значит, вы нарушили закон. — Мы приехали к вам извиниться, — откашлявшись, заговорил Генри, — за то, что наши действия добавили вам хлопот. Я очень сожалею об этом. Впредь моя лопата не коснется греческой почвы, покуда вы не передадите мне официальное разрешение. Прошу вас, будьте великодушны и примите мои извинения. Я приношу их от чистого сердца. Эти слова несколько смягчили генерального инспектора. — Хорошо. Приятно уже то, что по крайней мере, вернувшись в Афины, вы тотчас засвидетельствовали уважение нашему департаменту. — У меня в экипаже корзина с микенскими черепками. Может, я скажу кучеру, чтобы он принес их сюда? — Ни в коем случае. Мы не можем законом прикрыть беззаконие. Делайте с ними что хотите. Софья и Генри поблагодарили инспектора за прием. От предложенного рукопожатия он не отказался, но выпростал свои холодные пальцы с быстротой вспугнутой птицы. Шлиманы зашли в соседнее кафе. Прихлебывая чай, Софья сказала: — Боюсь, этой поездкой мы себе навредили. — Да. — Генри был само раскаяние. — Сделали глупость. Раз нет разрешения, надо было держаться подальше от Микен. Но ты же знаешь, мне не сидится на месте, когда нечего раскапывать. — Ну, будет себя казнить. Сделанного не воротишь. Тягостный разговор с генеральным инспектором Эвстратиадисом показал, что о раскопках Микен лучше на время забыть. И Шлиман начал энергичные переговоры с турецким правительством о новом фирмане для завершения раскопок Трои. В письме от 21 марта 1874 года, сочиненном по-немецки с помощью жены, мекленбургской немки, доктор Филип Детье выдвинул встречное предложение: «Предлагаю забыть прошлое. Верните нам троянскую коллекцию, и мы поместим ее в «Музее Шлимана», который мы специально выстроим в Константинополе. Имена Фортуны и Ваше навсегда соединятся. Вас будут вечно вспоминать с благодарностью, а Ваш труд получит счастливое завершение». — Как мы стараемся перещеголять друг друга: каждый хочет сам оплатить строительство музея, — горько усмехнулся Генри. — Уже одно это показывает, сколь велика ценность нашего троянского клада. — Мне страшно, Генри. Вспомни, в чем тебя обвиняют, подумай о долгих месяцах судебной волокиты, о сплетнях и кривотолках, которые пойдут по Афинам. Не разумнее ли передать туркам половину сокровища через нашего посла в Турции? Генри подошел к Софье — она сидела в большом гостином кресле, — взял из ее рук подушку, которую она вышивала, и опустился на колени. — Дорогая, я знаю, так тебе было бы спокойнее. Но поверь мне, эту коллекцию нельзя разрознивать, она утратит всякую ценность. Греческий суд не отнимет у нас сокровище и не передаст его туркам, какое бы давление на него ни оказывали. В воскресенье повидаться и помочь склеить найденные в Микенах черепки пришли Эмиль Бюрнуф и Луиза. Когда работа была окончена, Софья распорядилась принести в садовую беседку горячий шоколад и миндальные пирожные. Бюрнуф спросил о тяжбе с турецким правительством. — Директор Константинопольского музея доктор Детье едет в Афины убедить меня отказаться от троянского сокровища. Если это ему не удастся, три греческих юриста, нанятые турецким послом в Афинах, будут добиваться от председателя суда первой инстанции признания меня виновным. — Хорошего мало. — Если я проиграю дело, можно будет перевезти коллекцию во Французский археологический институт? Институт находится в ведении французского посольства, а значит, пользуется правом экстерриториальности. Полиция не может туда войти, даже если суд вынесет решение не в мою пользу. — Институт охотно предоставит вашему кладу убежище. Можете держать его у нас сколько угодно. Луиза вздернула подбородок и с обворожительнейшей улыбкой заявила: — Доктор Шлиман, сделав первый шаг и, так сказать, символически опустив сокровище на французскую почву, может, вы пойдете дальше и вообще доверите его Франции? Шлиман молчал. — Мы с отцом уже все обсудили, — продолжала Луиза. — Где наша коллекция будет в большей безопасности, где будет выставлена с большим блеском, чем в Лувре? Дайте отцу свое согласие, он договорится с директором Лувра, и троянское сокровище будет выставлено в величайшем музее мира. Софья холодно взглянула на Луизу. — Это бессмысленный разговор, Луиза. Мой муж дал слово, что троянское сокровище останется в Афинах. И пока я имею право голоса, оно здесь останется. Филип Детье приехал в Афины в конце марта и прислал Генри записку, начинавшуюся словами «Мой дорогой друг», с просьбой принять его. На следующий день он явился в сопровождении господина Мисхаака, первого секретаря турецкого посольства в Афинах. Детье прихрамывал на больную ногу, но был в отличном настроении. Пригладив ладонями блестящие, напомаженные волосы, он подробно изложил позицию турецкого правительства. Мисхаак примостился на краешке стула в углу гостиной. Детье был человек начитанный, любил украсить речь сентенциями из Библии. Он привез соблазнительное предложение: турецкое правительство не только построит «Музей Шлимана» на свои средства, но возобновит фирман, по которому Шлиман сможет копать в любом месте Оттоманской империи. Генри спросил: — Вы уже приняли закон, согласно которому археолог обязан все найденное представлять в Константинопольский музей для экспертизы? — Да. Закон был подписан в начале года. — И он дает право правительству покупать по номинальной цене все. что ему понравится в половинной доле археолога? — Да. Но мы не собираемся злоупотреблять этим правом. — Ну что же, отныне турецкому правительству придется самому производить раскопки — ведь не много археологов ищут потерянные города, вроде Трои. Детье ничего не ответил, встал со стула и принялся рассматривать терракотовые статуэтки в гостиной: сосуды с клювообразными горлышками, черные вазы, похожие на песочные часы, блестящие красные кубки, напоминающие бокалы для шампанского. Кончив свой обход, он подошел к Генри. — Вы взяли себе самое лучшее. — Нет, только свою половину. Часто ваши надзиратели выбирали первыми. — Вы сумели перехитрить их. — Каждый из нас немного плут. Но если мои образцы показались вам лучше, то пеняйте на себя. Вы присылали надзирателей, ничего не смыслящих в археологии. Софье не хотелось ссоры. — Господа, — вмешалась она, — где будем пить кофе, в саду? Он зацвел в этом году очень рано. Есть на что посмотреть. Вышли в сад и не успели сделать несколько шагов по гравиевой дорожке, как Детье заметил мраморного Аполлона, правящего четверкой огненных коней. Он проковылял к метопе, окинул ее взглядом знатока. — Турецкая? — Греческая. — Разумеется. Но найдена на турецкой земле? — Да. — Где же наша половина, позвольте спросить? — У меня не было выхода. Поделить значило погубить скульптуру. — Так вот что был тот большой груз, который вы вывезли из Бесикского залива на греческом судне. Наш охранник опоздал буквально на несколько секунд и не смог задержать отправку. — Мы немедленно восполнили половину этой находки, отправив в Константинополь семь из десяти исполинских пифосов, — запротестовала Софья. — Согласен. Благодаря отличной таре они прибыли в целости. — Детье повернулся к Шлиману. — Мы отдаем должное вашему таланту и настойчивости в раскопках. В последнем номере «Куотерли ревью» я высказал твердое убеждение в том, что Гиссарлык есть местонахождение Трои. — Благодарю вас. — А об этом Аполлоне я знал из вашей книги. Но речь не о нем. Речь пойдет о золоте. Мы должны получить свою половину. После выхода вашей книги турецкое правительство чувствует себя опозоренным в глазах всего мира. Для него это вопрос чести. — Ради этого я готов пойти на многое. Я уже предложил вести летом безвозмездно трехмесячные раскопки. За эти три месяца, которые, кстати, обойдутся мне в пятьдесят тысяч долларов, мы найдем столько прекрасных древностей, что они до отказа заполнят ваш музей, который я между тем перестрою, как прикажете, и тоже, конечно, за свой счет. Слышали вы когда-нибудь о более щедром предложении? — Никогда. Если бы не клад, я бы ухватился за ваше предложение обеими руками. Но султан требует своей доли золота. И я ничего не могу поделать. — Золото царя Приама неделимо. К тому же вам досталось золото, украденное моими рабочими, а это немало. — Это ваше последнее слово? — Да, могу только прибавить, что мне не хотелось порывать с вами дружбу. — Это неизбежно. В следующий раз мы встретимся уже в суде. Всего наилучшего, доктор Шлиман. Всего наилучшего, госпожа Шлиман. И он прихрамывая вышел из сада, следом шел первый секретарь посольства. Генри держался невозмутимо, чего нельзя было сказать о Софье: от переживаний у нее сделались кишечные колики. «Я вышла замуж за человека, с которым спокойная жизнь невозможна. Либо он сам заварит кашу, либо расхлебывает чужую». Из книги Шлимана Филип Детье перевел на греческий язык описание находок, сделанных в Трое в 1873 году. Юристы, нанятые Оттоманским правительством, подали председателю греческого суда первой инстанции ходатайство о конфискации сокровища, приложив список золотых предметов. Один из адвокатов Генри, Халкокондилис, принес копию этого прошения на улицу Муз. Шлиман встревожился, услышав о конфискации. — Что это значит? — спросил он своего адвоката. Халкокондилис говорил неторопливо, вкрадчиво, глаза его сквозь толстые очки замечали мельчайшую зацепку. — Они требуют «наложить арест на оспариваемое имущество во избежание его продажи либо уничтожения», как это предусмотрено греко-турецким соглашением. Иск был подан третьего апреля. Шестого апреля суд первой инстанции в составе трех судей заслушал адвокатов обеих сторон. Генри в суд не пригласили. Одна афинская газета писала: «Председатель суда должен был пригласить господина Шлимана в суд, чтобы дать ему возможность защищать самого себя. С господином Шлиманом поступили несправедливо». Через два дня Шлиманов уведомили, что решение суда будет оглашено в пять часов пополудни. Генри и Софья по-праздничному оделись, сели в экипаж и поехали в суд, где заняли места в последнем ряду. Председатель резюмировал решение: «Суд первой инстанции отклонил иск адвокатов Оттоманского правительства как неточно сформулированный. Согласно гражданскому судопроизводству, истец, оспаривающий имущество, должен представить в суд полное и исчерпывающее его описание. В противном случае иск признается неточным и неприемлемым. В настоящем деле истцы основывают свои претензии на немецком издании книги, в которой господин Шлиман дает описание своих находок. Суд считает это описание неполным. Однако суд охотно ознакомится с более подробным описанием имущества, буде истец пожелает его представить». — Неточное и неприемлемое! — воскликнул Генри, откупоривая по радостному случаю бутылку коньяка. — Софидион, тебе доводилось слышать более прекрасные слова? — За последнее время — нет. Ты думаешь, на этом все кончится? — Вряд ли, еслия правильно сужу о Детье. Его адвокаты встретятся и постараются составить подробное описание золотых находок. Если в следующем слушании суд решит дело не в нашу пользу, нам будет плохо. Отстоять свои права мы не сможем. Наш тайник нетрудно обнаружить. Пожалуй, самое лучшее отвезти сундук во французское посольство. В Софье заговорил дух противоречия. — Я против, Генри. Золото спрятано вполне надежно. Если оно попадет в руки Бюрнуфа и его дочери, мы можем навсегда потерять его. — Не волнуйся: я запечатаю замок своей печатью, его никто не тронет. — Я не того боюсь, что его кто-нибудь тронет. Бюрнуф и его дочь не остановятся ни перед чем, чтобы троянское сокровище оказалось в Лувре. — А по-моему, разумная мысль—выставить весь клад целиком в великом музее матери городов. Сколько людей его увидят… Глаза Софьи вспыхнули. — Ты не имеешь права поддаваться ему! Ты дал мне слово, что троянское сокровище будет принадлежать греческому народу. Генри обнял ее за плечи, успокоил: — Ты напрасно нервничаешь. Я хочу одного: спрятать сокровище в абсолютно надежном месте. И я сегодня же перевезу его. В ближайшее воскресенье, 14 апреля 1874 года, Мариго выходила замуж за Деметриоса Георгиадиса, преподавателя математики в женской гимназии. Генри был шафером. Софья взяла из Греческого национального банка четыре тысячи долларов—свадебный подарок Генри — и передала их молодой чете. Веселое семейное торжество развлекло Софью, и она ненадолго забыла свои огорчения. Через три дня Генри объявил: — Бюрнуфы пригласили нас завтра на обед. — Я не расположена ехать. — Почему? Они наши добрые друзья. — У них есть определенный расчет. — Пожалуйста, не устраивай скандала. Она не могла отказаться. Утром она одевалась в самом мрачном настроении. Предчувствие говорило ей, что ссоры не избежать. И она не ошиблась. Сидя в гостиной за аперитивом, Эмиль Бюрнуф заговорщицким тоном сообщил: — Я написал директору Лувра, сообщил о наших переговорах. Вчера я получил от него телеграмму, в которой он приветствует мысль о возможной передаче Лувру сокровища Приама. Сегодня он встречается с нашим премьер-министром Форту, чтобы заручиться его одобрением. Софью бросило от гнева в дрожь. — Вы не имели права так поступать! — Имел, дорогая мадам Шлиман, — невозмутимо ответил Бюрнуф. — Кто его дал вам? — Ваш супруг. Кто же еще? Софья повернулась к мужу, глаза ее горели, как два раскаленных угля. — Ты все это проделал за моей спиной? — Не спеши с выводами, дорогая Софидион. Я еще не сделал Лувру никакого предложения. Мы только обсуждали с Эмилем, безопасно оставлять сокровище в Греции или лучше вывезти его за границу. — Тогда как вы смели написать директору Лувра, что он уже может считать сокровище Приама своим? — обрушилась Софья на Бюрнуфа. К ней подошла Луиза. — Отец ничего подобного не говорил, госпожа Шлиман. У нас такой порядок. Прежде чем принять ваше предложение, мы должны иметь официальное одобрение сверху. — Мы? Кто это мы? Франция? Директор Лувра? Премьер-министр? Голубые глаза Луизы смотрели по-прежнему невозмутимо. — Я считаю себя вашим добрым другом. Мы думаем о том, как лучше защитить ваши интересы. Софья больше не могла сдерживаться—такой в ней клокотал гнев. Ее не столько возмущала напористость Бюрнуфа. сколько терзала судьба сокровища. Вот уже почти год она живет под страхом, что их ликабетский тайник разграбят. Или что клад конфискует турецкое правительство, а теперь сам Генри признается, что сокровище может навсегда отправиться во Францию. — Я не нуждаюсь в вашей защите! — Мадам Шлиман, мне кажется, вы не должны в таком тоне разговаривать с моей дочерью, — вмешался Эмиль Бюрнуф, вставая между двумя женщинами. — Вся ответственность за переговоры лежит на мне. — Не сомневаюсь! — холодно бросила она. — Вы хотите любой ценой выманить у нас клад. Вам это выгодно. Вы не пользовались уважением как директор. Вы думаете, что если этот номер пройдет, то ваша репутация в Париже восстановится. Но он не пройдет. Генри, я хочу домой. Всю обратную дорогу ее била дрожь. Генри отчужденно молчал. Дома он поднялся за ней наверх, пригласил в малую гостиную и плотно затворил за собой дверь. — Софья, я еще никогда не видел тебя в таком состоянии. Возможно, Эмиль и впрямь заботится о своих интересах. Но ведь и мы выиграем. — Каким же образом? — Золото раз и навсегда будет в безопасности. Турки ведь не оставят попыток завладеть им. В один прекрасный день какой-нибудь суд возьмет их сторону. — Никогда этому не поверю, и твои адвокаты не поверят. — Софья, ты меня огорчаешь. Почему ты ведешь себя так, точно ты мой враг, а не друг? — Враг! Только потому, что я не даю отнять у Афин то, что им принадлежит по праву! — Нет, Софидион. Нет у Афин такого права. Сокровище Приама принадлежит нам и всему миру. Теперь уже поздно спорить. Я принял решение. Она посмотрела на него долгим взглядом. — Какое? — Отдать сокровище Приама Лувру. Сегодня же напишу премьер-министру Форту, что передаю мою троянскую коллекцию в их музей. Копию письма вручу французскому послу маркизу де Габриаку. Он заверил меня, что через неделю я получу ответную телеграмму из Парижа. Тогда посол сможет от имени Франции забрать наше сокровище. В ее глазах блеснули слезы. Она проиграла. Она встала и вышла из комнаты. Это была странная неделя. Софья больше не заговаривала ни о золоте, ни о Бюрнуфах, ни о Лувре. Генри тоже отмалчивался. Обращались друг к другу только по необходимости: безразличным тоном, как чужие. Когда к мужу приходили адвокаты, Софья в разговоре не участвовала. Генри один ездил купаться в Фалерон. Вся ее жизнь свелась к заботам о семье и доме. Она не переживала случившееся как размолвку с Генри: ее, попросту говоря, разжаловали из равноправного партнера в обыкновенную жену-гречанку, не имеющую голоса в решении дел, не касающихся дома. Впервые ей пришлось выбирать между верностью мужу и родительской семье в семнадцать лет; и вот теперь, в двадцать два года, она встала перед тем же выбором, потому что Афины это тоже ее семья, и Греция, и древние ахейцы. Для Генри эта неделя тоже была нелегкой, он вообще не умел ждать, а тут еще никак не прояснялась судьба клада. Какое-то умиротворенное чувство подсказало Софье, что Генри не получил в конце недели благоприятной телеграммы из Парижа. Не повеселел он и в три следующих дня. Наоборот, делался все замкнутее, помрачнел, забывал снять очки после работы. 29 апреля адвокаты Константинопольского музея подали еще один иск, составленный более подробно. Софья и Генри этот очередной ход противника не обсуждали. Генри сломился на двенадцатый день ожидания. Как обычно, в половине второго он вернулся к обеду, но выражение его лица было новым. Даже походка и осанка изменились. Он принес Софье букет роз, ирисов и гвоздик, наклонившись, чмокнул в щеку, на что не отваживался ни разу после обеда у Бюрнуфов. — Софидион, можно с тобой поговорить? — Ты муж, тебе и говорить. — Я не хочу никаких привилегий. Софья распорядилась накрыть обед не в семейной столовой, а в гостевой. Генри заговорил не сразу, уделив сугубое внимание супу с клецками. Сложив руки на коленях, Софья ждала над стынущей тарелкой. Расправившись с супом, Генри поднял голову и широко улыбнулся. — Вкусно! Очень наголодался. У меня сегодня аппетит впервые за двенадцать дней. — Когда забот полон рот, кусок в горло не пойдет. — Гласит мудрая критская пословица. Родная моя, прежде всего я должен рассказать тебе, что делал сегодня утром. Во-первых, я отправил премьер-министру Форту телеграмму, что беру свое предложение назад. Потом известил посла де Габриака, что, поскольку он своих обещаний не сдержал, Лувру троянской коллекции не видать. И последнее: сообщил Бюрнуфам, что забираю клад из Французского археологического института… Софья молчала. — Дорогая, я был к тебе несправедлив. И не то плохо, что я надумал: золото должно-таки храниться в безопасном месте, а плохо, что за твоей спиной вел переговоры с Бюрнуфами и де Габриаком, плохо, что без твоего согласия принял решение передать коллекцию Лувру. И ведь знал, как тебя это огорчит! Так не ведут себя с другом и напарником. Золото наполовину твое. Ты помогла найти его, привезти домой. — Облегчив этой исповедью совесть, он прямо перешел к делу: — Я должен был сообразить, что Франция откажется принять в дар коллекцию, которой домогается Оттоманская империя. Французы не захотят ссориться с Турцией. — Что же ты теперь будешь делать? — Заглаживать вину. Во-первых, перед моей обожаемой долготерпеливой женушкой… Во-вторых, ассигновал в условное дарение двести тысяч франков — на строительство музея, который мы обещали Афинам для наших находок. Один раз греки отклонили мое предложение, но времена меняются, министры и генеральные инспекторы тоже. Я заявлю публично, что считаю святым долгом передать Афинам навечно нашу коллекцию и для размещения ее строю в Афинах музей. Легкая улыбка тронула губы Софьи. Что ни греческое правительство, ни департамент по охране древних памятников к ним не благоволили — она давно поняла. Они бурно проговорили около часа. Вздремнув после обеда, одели Андромаху, поехали в Новый Фалерон купаться и были счастливы, как будто соединились после долгой разлуки.5
Первого мая в суде предстояло слушать разбирательство нового турецкого ходатайства. На этот раз пошли пешком, чтобы полюбоваться праздничным убранством балконов и парадных дверей. Обе стороны, как потом писали газеты, обменялись «долгими словопрениями», и Шлиманы терпеливо выслушали все от начала до конца. — Никак не пойму, — прошептала Софья, — откуда они взяли новое описание нашей коллекции. Ведь в их распоряжении только твоя книга, а из нее они все взяли уже в первый раз. Решение судей было единогласным. Иск Константинопольского музея был снова отклонен. Доктора Филипа Детье отозвали в Константинополь. Посол Эссад-бей направил греческому министру иностранных дел письмо, в котором, ссылаясь на статью 24 соглашения между Грецией и Турцией, интересовался, чем объясняет греческое правительство подобные решения греческого суда. 11 мая адвокаты Оттоманской империи подали в апелляционный суд жалобу на решение суда первой инстанции. Момент благоприятствовал туркам: в одной английской газете появилась статья, сыгравшая им на руку. В конце апреля Чарльз Ньютон выступил на заседании Королевского общества древностей в Лондоне с докладом о троянских находках. Он сдержал слово и рассказал о сокровище Приама лишь то, что содержалось в книге Шлимана. Однако его сообщение вызвало в английском парламенте дебаты, и лорд Стэнхоуп спросил, не намеревается ли правительство внести предложение о покупке части шлимановской коллекции. На что Бенджамин Дизраэли ответил, что он «не готов к такому шагу». Отчет о дебатах был помещен в лондонской «Тайме», и теперь в Афинах все только об этом и говорили. — Как это могло случиться? — сетовала Софья. — Я уверен, что наш друг Ньютон здесь ни при чем. — Он мог сказать, что заводил с нами разговор о покупке коллекции. — У слухов скорые ноги. Нужно купить место во всех крупных газетах и опубликовать категорическое заявление, что мы никогда никому не собирались продавать золото. 16 мая дело слушалось в апелляционном суде перед коллегией, состоящей из пяти судей: за столом в центре восседал председатель, по левую и правую руку члены коллегии. С самого начала Софья и Генри почувствовали, что атмосфера здесь совсем иная, чем в суде первой инстанции. Адвокат Оттоманской империи вынул из папки номер лондонской «Тайме» и прочитал для занесения в протокол выдержку из отчета о парламентских дебатах, где шла речь о покупке части троянского сокровища. Адвокаты также представили суду телеграммы и письма Шлимана премьер-министру Форту в Париж и французскому послу де Габриаку. Адвокаты настаивали на том, что греческий суд имеет право и обязан, согласно существующему договору с Турцией, «наложить арест на оспариваемое имущество во избежание его продажи или уничтожения». Это положение распространялось и на иностранных граждан. На дневном заседании адвокаты Генри выступили с горячей защитой его права на сокровище. В доказательство они привели из «Полемических листов» сообщение о том, что Константинопольский музей уже владеет значительной частью найденного в Трое золота и по закону половина его принадлежит Шлиманам, коль скоро золото похитили их рабочие. Они опровергали сообщение лондонской «Тайме», зачитав данное под присягой заявление Генри о том, что в разговоре с мистером Ньютоном, сотрудником Британского музея, посетившим Афины, последний действительно поднимал вопрос о покупке коллекции Британским музеем, но он, Шлиман, категорически отказался продавать сокровище кому бы то ни было. Отрицать, что Генри предлагал сокровище в дар Лувру, адвокаты, понятно, не могли, но заявили, что его действия нельзя квалифицировать как «продажу или уничтожение». В заключение они выдвинули встречный иск, обвиняя греческий суд в том, что он принял к рассмотрению тяжбу между американским гражданином и иностранным государством; а это, утверждали адвокаты, не только противозаконно, но и антиконституционно. В силу всего сказанного апелляционный суд не имеет права отменять два предыдущих решения суда первой инстанции. В конце дня председатель объявил, что судебная коллегия в составе пяти судей должна изучить позиции обеих сторон. Решение будет вынесено в течение недели. А на следующий день святейший синод забаллотировал Теоклетоса Вимпоса, избрав архиепископом Афинским Прокопиоса, архиепископа Мессены, ближайшего соседа Вимпоса. Епископ Вимпос в последний раз навестил дом на улице Муз. Свидание было грустным. За год после смерти архиепископа Афинского Вимпос привык к мысли, что может стать его преемником. Генри и Софье тоже было невесело: открытие Трои, удивительные находки—все это уже принадлежало прошлому, надежды на признание археологов и публики не оправдались. Тяжба из-за сокровища убила всю радость его находки. Чтобы отвлечься от тревожных дум и поторопить время, Шлиманы решили всю эту неделю развлекаться. Ездили днем на концерты, которые устраивались на площадях Конституции и Омониа, слушали новую афинскую знаменитость скрипача Роббио, смотрели в исполнении греческой труппы комедию «Лягушки». Спустя шесть дней они снова были со своими адвокатами в апелляционном суде. Председатель зачитал решение коллегии. В тишине тяжело падали слова. «Апелляционный суд постановил конфисковать у господина Шлимана всю его золотую коллекцию и передать ее Константинопольскому музею». Генри и Софья ошеломленно молчали. Отобрать всю золотую коллекцию… вернуть ее Турции! Они сидели в глубине кареты, не в силах вымолвить слово, глядя перед собой невидящими глазами. Сердце разрывалось от боли. Их разум не допускал, что возможно такое несчастье. Защитники интересов Константинопольского музея даже в самых смелых мечтах не рассчитывали на такую удачу. Конечно, они воспользуются правом апелляции. Их адвокаты хотя и были растерянны, но умело разыгрывали возмущение, доказывая, что решение апелляционного суда незаконно и Ареопаг — Верховный кассационный суд Греции — непременно отменит его, для этого есть решительно все основания. Генри мрачно взглянул на Софью. — Они так же ручались, что есть все основания выиграть и в этом суде. А что получилось? Во всем виновата эта проклятая статья в лондонской «Тайме». — Или твое предложение Лувру, — еле слышно добавила Софья. Дома она сказала мужу: — Снимай пальто и шляпу, идем подышать воздухом. Я скажу Калипсо принести в сад лимонаду. Чудесно, что в Афинах построили фабрику льда. Я купила немного у развозчика. Звякнув кубиком льда о стенки бокала, Софья задала мужу вопрос, который волновал в эту минуту обоих: — Что мы будем делать, если Ареопаг не вернет дело на пересмотр в низшие инстанции? — Я точно знаю, чего мы не будем делать: мы не отдадим сокровище никому. Как-нибудь переправим его в Англию или Америку. Посол Бокер давно предлагал это сделать. На ее глаза навернулись слезы. На следующее утро в дом на улице Муз пришли два судебных исполнителя с ордером «на обыск и изъятие», подписанным председателем апелляционного суда. Они сверху донизу обыскали весь дом, беседки и сараи. Генри ходил за ними по пятам. Он не проронил ни звука, но эта тишина кричала, изрыгала проклятия. Не найдя золота, судейские крючки молча удалились. Генри с треском захлопнул за ними дверь. На душе у них скребли кошки. Утешало только, что афинские газеты в один голос утверждали: апелляционный суд вынес скорее политическое, нежели юридическое решение. Погода установилась теплая, и Шлиманы ездили купаться, брали с собой еду. Через пять дней их адвокаты подали апелляцию в Ареопаг. Верховный суд ответил, что апелляция принята, но рассмотрена будет только осенью, так как весь следующий квартал уже расписан. — Я-то надеялась, что летом все неприятности будут уже позади, — огорчилась Софья. — Хорошо, что Ареопаг принял апелляцию: турки уже не могут требовать сокровище. Я думаю ненадолго съездить в северную Грецию и Пелопоннес. Если я уеду, снимешь тот дом в Кифисьи, мимо которого не можешь спокойно проехать. И пригласи к себе на лето семью. Они были в своем саду. На лимонных деревьях завязались плоды, кустарник наливался густыми весенними красками. По его оживленной походке и жестикуляции Софья уверенно заключила, что в его голове рождается новый замысел. — Софья, мне в эти дни пришла одна мысль. Я чувствую, что греческий народ, а то и правительство на нашей стороне в этой распре с турками. Я хочу их отблагодарить. — Каким образом? — Давай поднимемся на Акрополь. Подошли к главному входу, поднялись по широкой лестнице, Генри направился к Венецианской башне, построенной в XIV веке. — Я хочу обратиться к правительству за разрешением снести эту башню. Расходы возьму на себя. Софья бросилась к мужу на шею и расцеловала его. — Опять заработала твоя светлая голова! Такого подарка греческий народ никогда не забудет. Узнав, что за разрешением надо обращаться к министру народного просвещения Валассопулосу и генеральному инспектору памятников старины Эвстратиадису, Генри приуныл. Но те благосклонно приняли предложение Шлимана и дали письменное разрешение, оговорив одно условие: бережно сохранить камень и мраморные плиты, из которых сложена башня, дабы их можно было употребить для реставрации Пропилеи и Одеона Герода Аттика. Генри купил материал для лесов, нанял двух своих десятников— Деметриу и капитана Цирогианниса — и уже подбирал квалифицированных рабочих, как вдруг король Георг велел министрам отменить данное Шлиману разрешение. Генри удалился в кабинет и сел писать письмо королю.«Я испросил разрешение министров снести Венецианскую башню в Акрополе, потому что эта башня позорит его. Она занимает самую красивую часть Пропилеи, на ее камнях надписи, оставшиеся от времени расцвета эллинской культуры. Мое предложение очистить Пропилеи от безобразной пристройки было с радостью принято всей греческой публикой. Я уже купил лес, как вдруг, к своему ужасу, узнал от министра народного просвещения, что мне запрещено впредь трудиться на благо Греции. По-видимому, произошло какое-то недоразумение. Возможно, я чем-нибудь нечаянно огорчил Вас. Покорнейше прошу объяснить мне, чем я заслужил Ваше нерасположение. Я прошу одного — позволить мне убрать из Акрополя это венецианское чудовище».
Письмо возымело действие. Король не удостоил Генри ответом, но министр просвещения получил распоряжение позволить доктору Генри Шлиману финансировать снос Венецианской башни. Однако его непосредственное участие не рекомендовалось. Снести башню было поручено Археологическому обществу. Непросто было Софье утешить мужа. — Я знаю, тебя очень огорчает, что ты не можешь руководить этой работой, не можешь принимать в ней участие. Но ты же добился того, о чем мечтал. Эту гадкую башню скоро снесут, древние камни вернутся на свое место. Греция все равно будет тебе благодарна. Четвертого июля Археологическое общество направило Шлиману письмо с благодарностью за тринадцать тысяч драхм (2600 долларов), которые он перевел обществу для сноса башни. Лето было жаркое, ленивое, оно текло, не справляясь ни по календарю, ни по часам. Твердая поступь времени сменилась каким-то беззаботным скольжением. Шлиманы часто уезжали на весь день к морю, прихватив с собой большую корзину с едой. Новомодные купальные костюмы едва прикрывали колени, и некая газета с прискорбием отмечала этот факт: «Нельзя без отвращения смотреть на женщин из народа, купающихся полуголыми на глазах у мужчин». По молчаливому согласию, Софья и Генри не касались в разговорах ни предстоящего суда, ни вообще своей работы. Даже стиль их жизни изменился. После целого дня, проведенного на воздухе, они рано уходили к себе на веранду, под полог ночного неба, затканного тысячами алмазных блесток. Генри надевал ночную сорочку из сшитых еще в Париже и оставался с Софьей, пока ее не начинало клонить в сон. Они читали, разговаривали. Когда Софья засыпала, он вставал и уходил к себе в кабинет. Каждый день со всего света приходило множество писем, газет, научных журналов со статьями о Шлимане, и восторженными и ругательными. Он ничего не оставлял без ответа, его письма были столь же пространны, как иные из статей. Когда Софья просыпалась, разбуженная солнцем над Акрополем, огромным, как медный котел, Генри был уже на ногах. В конце июня Софья с Андромахой посадили его на пароход «Византия». Перед отъездом он снял для Софьи дом в Кифисьи, который ей так нравился. Дом осеняли высокие деревья, за садом текла неторопливая речушка. В одном крыле было две спальни, в другом—еще одна спальня, кухня и уборная; середину занимала большая гостиная, служившая также столовой. Перед гостиной была крытая веранда, а задняя стеклянная дверь вела в сад, где буйствовал виноградник, и уже дальше была речка. Софья перевезла в этот прелестный уголок всех домочадцев с улицы Муз, пригласила мать с братьями. Скоро дом наполнился вкусными запахами стряпни мадам Виктории. Это были ее счастливейшие минуты: Софья рядом, строгий доктор Шлиман за тридевять земель отсюда. Сестра Катинго частенько привозила детей поиграть с Андромахой. — Когда я слушаю, как шумит ветер в листьях, — признавалась ей Софья, — как журчит ручей, я чувствую себя отрешенной от всего. И при этом мне все интересно! Мне удалось выкинуть из головы всю чушь, связанную с тяжбой. Я живу настоящей минутой и не думаю о том, что будет. Хотя улица, ведущая на площадь, была вся перерыта, Софья брала с собой Андромаху показать, как под платанами гуляет королевская чета. Письма и открытки от Генри приходили почти каждый день. Он снова побывал в Авлиде, проехался до Ламии, конечного пункта новой железной дороги; пару дней провел в Фермопилах, перечитал там Геродота; затем отправился в Дельфы, послал оттуда Софье письмо, в котором подробно описывал внушающий благоговейный трепет холм, заключавший в себе тысячелетнюю историю поклонения богам. Он взбирался на гору Парнас, бродил по руинам Орхомена, где тоже собирался копать… Август пролетел быстро. 22 августа городок праздновал двадцатитрехлетие королевы. Софья была на год моложе. Генри вернулся в начале сентября. И Софья с Андромахой перебрались на улицу Муз. Еще стояла жара, но на площади Конституции было опять многолюдно: афиняне возвращались в город после летнего отдыха. Городские власти запретили грузовым фургонам пользоваться центральными улицами. Кучерам было запрещено стегать лошадей. Появилось много новых газет. Вышел новый французский еженедельник «Ле пти журналь д'Атен». Французский театр открыл сезон оперой «Миньон». Почти две недели их адвокаты просидели на сессиях, прежде чем Ареопаг назначил слушание дела на 15 сентября. Выслушав стороны, суд объявил, что принимает дело к обсуждению. — Сколько времени придется ждать? — спросил Генри. — Не много, — ответили ему. — Постарайтесь пока думать о чем-нибудь другом. Осень принесла новую волну злобных нападок. Детье посетил Троаду и объявил, что здание, отрытое Генри, не дворец Приама, а двор троянского крестьянина. Грубее и глупее всех выступил афинянин Комнос, бывший служащий Национальной библиотеки: он обвинил Шлимана в том, что тот подделал троянские древности, а коллекцию глиняных сосудов из разных мест выдал за найденную в Гиссарлыке. Его статья была напечатана в греческой газете «Атеней» в то самое время, когда Генри и Софья ждали, что решит Ареопаг: отдавать или не отдавать туркам троянское сокровище? Не остался в стороне и Французский институт в Париже, его официальный орган внес свою лепту в кампанию травли. Поместила на своих страницах оскорбительную статью кёльнская газета. С уничтожающей критикой шлимановских находок и теорий выступил «ветеран археологии» Вирле д'Ау — участник экспедиции 1830 года в Пелопоннесе. Фрэнк Калверт, сменивший брата на посту американского консула в Чанаккале, раскритиковал находки в английском «Атенеум». Шлиману досаждали не только вздорные обвинения, но и признания, что он действительно открыл Трою или по крайней мере неведомую дотоле доисторическую культуру, но открыл по чистой случайности. Ему просто повезло, как везет новичкам или дилетантам. Раз в тысячу лет такое случается. При словах «слепая удача» Генри приходил в ярость. — Удача!.. — отводил он с Софьей душу. — Любимое словцо завистников и недоброжелателей… и невежд. Оно объясняет, почему один добивается чего-то в жизни, а другой—нет. Всего одно слово—и собственная ничтожная жизнь оправдана. Все стрижены под одну гребенку. Удача! Да это… Софья ласково зажала ему рукой рот. Война была объявлена. Шлиман был начеку и отбивался денно и нощно. Софья не знала, когда он спит. На статью в кёльнской газете он ответил по-немецки. Парижскому «Журналь оффисьель»—по-французски, на обвинения турок—по-турецки и по-английски собирался ответить на вторую статью Калверта. Софья заметила, как ни был Генри в первые минуты распален очередным выпадом—он носился по дому, изрыгая проклятия и ломая руки с видом оскорбленной невинности, — в общем, приступ гнева скоро проходил. Он шел к письменному столу и садился писать ответы, опровержения, страницами приводя доводы, подтверждавшие его правоту: вот мнение Чарльза Ньютона, высказанное на заседании Королевского общества древностей; вот его статья, опубликованная в «Академии»; вот статья профессора античности из Вены, Гомперса, он расшифровывал найденные в Трое надписи—оказывается это древние кипрские письмена, а язык—самый настоящий греческий. А вот, пожалуйста, Макс Мюллер в журнале «Академия» воспроизводит троянские письменные знаки и приходит к заключению, что они родственны кипрскому письму. Только в Англии Шлиман был героем дня. Его «Троянские древности» переводились на английский язык и под названием «Троя и ее руины» скоро должны были увидеть свет. Издатель Джон Мэррей нашел толковую переводчицу Дору Шмитц, а редактором пригласил видного специалиста по античной истории профессора Филипа Смита. Филип Смит написал к книге доброжелательное предисловие, которое заканчивалось словами: «Имя «Троя» отныне навсегда связано с «великолепными руинами» великого города, стоявшего там, где ему положено стоять в соответствии с исторической традицией, — города, который был разграблен врагами и сожжен дотла». Но самым приятным было приглашение влиятельного Королевского общества древностей прочитать лекцию на его заседании 24 июня 1875 года; премьер-министр Уильям Гладстон великодушно предложил представить Шлимана членам общества—уже одно это обещало лектору благосклонный прием. К этому времени ожидался и выход книги «Троя и ее руины». Генри был наверху блаженства. — После Англии, Софья, проедемся по континенту, тем более что это каникулярное время: побываем в Голландии, Венгрии, Дании, Швеции, Австрии, Германии, проведаем мою родню. На этот раз ты не заскучаешь в музеях: ты увидишь экспонаты, родственные нашим находкам в Трое. У Софьи радостно заблестели глаза. — Хорошо бы взять с собой Андромаху! И Калипсо— присмотреть за ней, когда мы будем заняты. Генри был в ударе. — Решено. А в Париж на недельку пригласим к себе Спироса. В последних числах сентября семь судей Ареопага обнародовали свое решение. Не вникая в существо дела, они ограничились перечислением юридических ошибок и на этом основании отменили решение апелляционного суда. Адвокаты Константинопольского музея подали новый иск в суд первой инстанции. На этот раз суд постановил, что Генри Шлиман нарушил одно из условий договора, и распорядился произвести экспертную оценку троянского сокровища, дабы определить сумму, половину которой доктор Шлиман обязан выплатить Оттоманской империи. Турки с этим решением не согласились. Они снова обратились в апелляционный суд, требуя все золота. Десятого октября апелляционный суд отклонил этот иск Константинопольского музея, и 21 ноября три эксперта, назначенные судом первой инстанции, представили оценку золота, сделанную по описи в «Троянских древностях», — Генри близко не подпустил их к сокровищу. Включая мраморного Аполлона, сумма составила свыше четырех тысяч долларов. Шлиман не задумываясь согласился уплатить туркам половину. Это прекращало тяжбу. Кончились их муки.
6
Приближалась зима. При свете неярких уличных фонарей торговцы продавали жареные каштаны, зачастили проливные дожди. А у Шлиманов был праздник. Софья отправила с посыльным и кучером приглашения на обед всем, кто поддержал Генри в трудные минуты хотя бы издали. На радостях она пригласила даже Луизу Бюрнуф. Хотя турецкое правительство и не приняло в штыки судебное определение, оно увидело в нем лишь желание греческого суда не ссориться с султаном. Турки, без сомнения, не были расположены удовлетвориться двумя тысячами долларов компенсации. Первый секретарь турецкого посольства сообщил Шлиману, что в Афины едет новый посол, Фотиадис-бей, которому поручено выработать более справедливое и удовлетворительное соглашение. — Они знают, чего я хочу, — сказал Генри Софье, — Возобновления фирмана. Знают, что мне не терпится завершить раскопки Трои и что ради нового фирмана я готов пойти на многое. Я предложил им восемь тысяч долларов на реконструкцию музея. Думаю, они понимают, что это и есть справедливое решение. — Если они это понимают, то зачем тогда посылать Фотиадиса-бея? — возразила Софья. — Могли бы просто напомнить тебе о твоем обещании. — Я сделал свое предложение, когда шел суд и судьба сокровища висела на волоске. А теперь я могу уплатить им две тысячи долларов—и дело с концом. Софья положила ему руки на плечи и глубоко заглянула в глаза. — Давай примем Фотиадиса-бея с открытым сердцем. Помнишь, как говорят на Крите? Доброе имя дороже денег. Но только к апрелю 1875 года, вконец истрепав им нервы, все дела с Турцией уладились. В этих проволочках не были повинны ни Фотиадис-бей, ни министр просвещения Сафвет-паша, которого вполне удовлетворили восемь тысяч долларов Шлимана в придачу к двум тысячам долларов штрафа. Помехи чинил доктор Филип Детье, чье положение сильно пошатнулось после отозвания в Константинополь. Во время этих почти пятимесячных переговоров они находили душевный покой на Акрополе, часами наблюдая, как рабочие разбирают Венецианскую башню, обращаясь с древними плитами точно с хрупким стеклом. Генри заранее распорядился Насчет европейского путешествия. Их комнаты в отеле «Чарииг-Кросс» были удобные и уютные; друзья прислали майские цветы, горничная поставила их в гостиной в высокие вазы. Софье понравился Лондон. Погода была прохладная, но приятная. По-английски Софья говорила с легким акцентом. — Как, впрочем, все англичане, — сказал она себе в утешение. Генри и его давние знакомые из конторы Шредера показали Софье Лондон: Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец. Лондонский Тауэр, рынок на Петтикоут-Лейн, мосты через Темзу. Каким оборвышем были Афины по сравнению с Лондоном! Ее поразило множество прохожих на улицах, все одеты в темное, на всех дождевики, в руках неразлучный зонтик, ни одного кафе под открытым небом. Чарльз Ньютон в ответ на прошлогоднее гостеприимство показал Генри и Софье сокровища своего музея, устроил в их честь обед. Восхищаясь «мраморами лорда Эльджина», Софья негодовала: их место в Парфеноне, на родине! На другой день посетили палату общин—Гладстон распорядился провести их на галерею для публики. Бурные парламентские дебаты развеяли ее вчерашнюю досаду в музее. В перерыве между утренним и вечерним заседаниями Гладстон пригласил их на залитую солнцем веранду, выходящую на Темзу, где Софья познакомилась с несколькими министрами и заодно отведала чаю и клубники со взбитыми сливками. Еще в Афинах началась и потрепала ее на пароходе лихорадка, но в радостной суматохе первых дней было не до болезни. На пятый день уже с утра ее оросало то в жар, то в холод. За шторами по стеклам барабанил дождь. Голова раскалывалась, до кожи не дотронуться. Генри пригласил доктора Фарре, которого ему отрекомендовали как «лучшего медика в Англии». Он нашел у Софьи «febricula», а для Генри пояснил: «Перемежающаяся лихорадка, сама пройдет». — Но что-то делать надо? — настаивал Шлиман. — Я бы посоветовал отвезти миссис Шлиман в Брайтон. Тамошние теплые ванны творят чудеса. Море, солнце, покой. Природа умеет лечить собственные просчеты. С любезной помощью агентов из конторы Шредера Генри снял в Брайтоне на Кингз-Роуд хорошенький домик, который сдавался вместе с горничной, мисс Стили. Генри позаботился, чтобы Софья, Андромаха и Калипсо ни в чем не нуждались: им в изобилии поставляли фрукты, овощи и другую снедь. И еще Софья получала ежедневно шесть лондонских газет, чтобы вырезать из них все статьи и заметки о Шлимане. Когда он прощался с ней, торопясь на лондонский поезд, она ласково сказала: — Я знаю, что женщин не пускают на заседание Королевского общества, и, будь я даже в Лондоне, я все равно не смогла бы послушать тебя. Но в ту минуту, как ты поднимешься на кафедру, я совершу возлияние богам, как совершил его царь Приам, ехавший в лагерь ахейцев к Ахиллу с выкупом за тело своего сына Гектора. Паровые ванны оказали свое действие. Скоро Софья уже могла ходить на пляж с Андромахой и Калипсо купаться. Лекция Шлимана, прочитанная 24 июня в Королевском обществе древностей в Берлингтон-Хаус, имела большой успех. Присутствовало шесть репортеров. Их отчеты Софья вырезала для Генри. Ей очень понравился рисунок в «Иллюстрированных лондонских новостях»: доктор Шлиман был изображен во фраке с белым галстуком, отложной воротник удлинял его узкую шею; нацепив пенсне, он читал за столом с двумя высокими лампами, вокруг сидели знаменитости—ученые, писатели. Софья знала, что это была одна из самых светлых минут в его жизни. Пока Софья лечилась, Генри заводил друзей в Оксфорде и Кембридже. Он был без ума от Макса Мюллера, который уже имел случай поддержать Шлимана. Между ними завязалась дружба. На воскресные дни Генри приезжал в Брайтон, купался в море, отдыхал и вместе с Софьей перекраивал маршрут их путешествия: после восторженного приема в Берлингтон-Хаус он получил из нескольких мест приглашение прочитать лекции. В конце июня переехали в Париж и остановились в гостинице «Лувуа», где их уже ждал Спирос. В Париже Софью опять свалила лихорадка. Когда она перестала сходить с постели от слабости, Генри встревожился и послал Спироса за врачом-греком, который пять лет назад разгадал причину ее желудочных болей и посоветовал Шлиману отвезти жену домой, в Грецию. Осмотрев Софью, тот сказал: — У этой лихорадки неприятная особенность—она возвращается. Никто не знает почему. Это не опасно. Две недели покоя, и все пройдет. Возможно, насовсем. — Две недели! — Генри извлек их маршрут путешествия и ткнул пальцем в дату отъезда, которой открывался расписанный по часам график их поездки по шести странам. — В таком случае, — сухо заметил доктор, — вы должны либо отложить поездку, либо оставить мадам Шлиман в Париже. Она в таком состоянии, что ни о какой поездке не может быть и речи. На Генри было жалко смотреть. Софья была вконец расстроена. — Ты так мечтал об этой поездке, — убеждала она его, — и от лекций уже нельзя отказаться. Пожалуйста, поезжай один. Ничего со мной не случится. За мной присмотрят Спирос и Калипсо. — Ты правда не против, чтобы я ехал? — Конечно, я против. Но я не могу лишать тебя этой поездки. Только уложись в пять недель. Больше пяти недель я без тебя в Париже не выдержу. — Я вернусь ровно через пять недель, день в день. Вот тебе две тысячи пятьсот франков. Я уверен, вам хватит и половины, но мало ли что может случиться. Лихорадка прошла в неделю, и Софья встала на ноги. Спирос нанял экипаж и днем возил ее в Булонский лес. В тени останавливались, выпускали Андромаху на зеленую травку. Несколько раз Софья была в цирке, она полюбила его еще в прошлый приезд. Эжен Пиа был в Париже, он сводил Софью в комическую оперу. Другой приятель Генри пригласил ее на модную комедию. Удобно устроившись в шезлонге, она часами читала. В письмах к Генри она мешала английские фразы с французскими, и муж не преминул отметить: «По-английски ты пишешь гораздо лучше, чем по-французски». Генри писал часто. В Лейдене он «сразу побежал в музей, который осмотрел с величайшей дотошностью». Из Голландии похвастался, что был на обеде у голландской королевы Софьи. А следующая фраза так ее потрясла, что она, не веря своим глазам, перечитала ее несколько раз: Генри просил каждую неделю посылать ему гостиничный счет. Получив письмо с первым счетом, он ответил Софье по-древнегречески:«Моя дорогая, из приложенного счета видно, что за каждый завтрак с тебя берут семь франков, самое меньшее пять с половиной. Пожалуйста, положи этому конец, это неприлично, завтракай где-нибудь по соседству, можно прекрасно поесть за полтора-два франка. Пусть глупцы и сумасшедшие тратят на завтрак семь франков, а ты расходуй полтора-два. Утренний кофе пей в гостинице, это недорого, и обедай там же. Но ради бога, прекрати эти разорительные завтраки, ведь это форменный грабеж. Надеюсь получить от тебя добрые вести. Обнимаю мою дорогую женушку. Шлиман»
Софья не знала что и думать. Добрый час она мучительно постигала загадку этого невозможного человека. «Он дарит греческому правительству землю и музей, что обойдется по меньшей мере в 50 тысяч долларов. Предлагает Турции финансировать совместные раскопки в Троаде, что будет стоить еще 50 тысяч. Передает турецкому правительству восемь тысяч долларов на реконструкцию музея. И он же запрещает жене завтракать в ресторане гостиницы «Лувуа», потому что завтраки здесь обходятся в пять-семь франков, когда можно перекусить в соседнем кафе за тридцать-сорок центов». Странно устроен человек! «А может, это все потому, — думала Софья, — что рядом я ему друг и помощник, а на расстоянии — лишняя обуза? Или он привык все делить на важное и неважное? И ему неприятно транжириться на мелочи? Как бы то ни было, я все равно буду завтракать только в ресторане гостиницы. Здесь вкусно кормят, прекрасно обслуживают». В начале сентября они встретили Шлимана на Северном вокзале. Ни в тот день, ни позже Генри и словом не обмолвился о счетах, из коих явствовало, что мадам Шлиман все пять недель. завтракала в гостинице «Лувуа». Не упрекнул он ее и за то, что оставленных пятисот долларов ей не хватило и ему пришлось досылать ей деньги. «Одно из двух, — решила Софья. — Либо он решил благоразумно забыть о том письме, либо просто забыл о нем». Ничего более определенного она не могла придумать даже после шести лет их супружеской жизни. Но свою маленькую войну за независимость она выиграла. «Теперь я по праву могу носить медаль, которую отец заслужил в войне за независимость Греции», — рассмеялась она про себя. Шлиман не сомневался, что в Париже его ждет разрешение начать раскопки. Узнав, что ни из Турции, ни из Греции нет никаких вестей, он сразу загрустил. — Когда нечего раскапывать, смысл жизни для меня утрачен, — жаловался он за ужином. — Ты считаешь меня одержимым. Ты права. Я просто должен в ближайшее время где-то начать раскопки. — Но где, Генри? — Я получил письмо от синьора Фьорелли, генерального директора римского музея. Он соблазняет меня поехать в Альбано, южнее Рима. Любопытно выяснить, нет ли там под слоем вулканической породы каких-нибудь следов человеческой культуры, вроде керамики. Софья поняла, что он готов ухватиться за что угодно, только бы не сидеть без дела, и, когда его европейские впечатления стали тускнеть, решила, что настало время собираться домой. Упрашивать турецкого посла. Умолять министра просвещения Георгиоса Милессиса, с которым она была знакома домами. Отплывали из Марселя. Генри сошел в Неаполе. Уже в первом его письме звучало разочарование. Альбанский крестьянин, у которого он снял виноградник для раскопок, обманул его, показав римские и этрусские вазы, якобы найденные в саду под слоем лавы. Генри дорылся до материка, и никаких следов жизни не обнаружил. Его, попросту говоря, надули. В середине октября Шлиман перебрался в Сицилию, в Палермо. Какой-то чиновник посоветовал ему копать под Марсалой на маленьком островке Пантеллерия. Софья получила оттуда телеграмму: «Живу среди такой нищеты и грязи, что пригласить тебя не могу». На Пантеллерии культурный слой оказался совсем тонким, и под ним опять ничего. Шлиман поехал в Сегесту, оттуда в Таормину, Сиракузы — метался как безумный. Он должен копать—все равно где… хоть где-нибудь. Его полные сетований письма подвигли Софью на более решительные шаги. Она переговорила с их адвокатом Делагеоргисом, тот отсоветовал пока обращаться к туркам — у них были сейчас более серьезные внутренние заботы. И Софья бросилась к знакомым из министерства и университета, умоляла повлиять наГеоргиоса Милессиса. В конце ноября Генри жаловался в письме, что «в Италии невозможно найти древностей, которых не было бы уже в музеях. Видимо, мне суждено заниматься доисторическими временами». Теми же днями он получил переправленное из Афин письмо от турецкого министра иностранных дел Рашид-паши, где сообщалось, что к новому фирману в Константинополе относятся благосклонно. Генри сразу собрался и первым же пароходом отплыл в Пирей. За несколько дней до рождества от Рашид-паши пришло второе письмо: похоже, недоброжелатели сложили оружие и если Шлиман сам приедет в Константинополь, то фирман ему обеспечен. Софья не хотела отпускать мужа на Новый год и крещение, но Генри нельзя было остановить—так взбудоражило его письмо Рашид-паши. Да и, не дай бог, все сорвется из-за его отсутствия—она же будет виновата. Генри знал, что рождество и крещение самые дорогие праздники для Софьи, и не стал звать ее с собой, но велел потихоньку готовиться к трехмесячным раскопкам в Троаде, если ему удастся заполучить фирман. Софья согласилась. Генри накупил всем домашним подарков и отправился в Константинополь. Его письма оттуда были неутешительны. «Я по-прежнему сталкиваюсь с огромными трудностями, — писал он Софье. — Своими силами мне не справиться. Помогает всеобщий интерес к моим открытиям в Трое и горячее сочувствие иностранных послов, их интерес к Гомеру и его Илиону…» Через неделю Генри сообщил, что ожидает подписания фирмана, с минуты на минуту. Он жил в прекрасном номере гостиницы «Византия» и проводил свободное время в обществе «просвещенных и очень знатных иностранцев». За столом, к его полному удовольствию, говорили сразу на семи или восьми языках. Но одного друга он потерял: Джорджа Бокера направили послом в Россию. Но прошла не одна неделя, прежде чем он вызвал ее в Константинополь, велев захватить старые платья. Софья решила ехать в начале февраля и уже заказала билет на пароход. Генри был доволен. Он писал, что его друзья по столу с нетерпением ожидают ее приезда и что здесь она найдет «духовные радости, каких прежде не знала». Но тут министр народного просвещения дал Софье понять, что ее старания как будто увенчались успехом и что она вот-вот получит разрешение на раскопки в Греции. Софья отправила телеграмму, что ее отъезд, к сожалению, задерживается. Генри огорчился, но настаивать не стал — его фирман все еще не был подписан. Из Пирся Генри взял с собой только часть археологического снаряжения. Остальное по мере надобности должен был дослать Спирос. Генри и его друзья хлопотали в Константинополе неустанно, но только пятого мая долгожданный фирман был у него в руках. Читая его телеграмму, Софья не могла не улыбнуться словам, в которые Генри облек эту добрую весть: «Одиссей, возвращаясь из Трои, выстрадал за десять лет меньше, чем я в эти месяцы в Константинополе». Однако сниматься с места ей пока не следует. Яннакис писал, что их старый дом пришел в полную негодность. Крестьяне выломали двери и окна, сняли с крыши всю черепицу, дождь залил комнаты и все в них попортил. Надо еще привести в порядок и раскопки: стены обрушились, в траншеях жидкая грязь глубиной десять футов. Скамандр разливался трижды и затопил всю равнину от холма до моря. Даже если повезет найти хороших плотников, писал Генри, понадобятся недели, чтобы на месте старого возвести новый, пригодный для жилья каменный дом и сколотить подсобные помещения. Он обещал немедленно вызвать Софью, когда в Трое снова можно будет жить. Но Софья так и не дождалась его вызова. В Гиссарлыке Генри нашел только запустение и полный развал. Яннакису не разрешали работать в Трое, бедный великан одно время даже опасался за свою жизнь. В Чанаккале был прежний губернатор, но отношение его к Генри переменилось. Теперь Шлиману было позволено нанимать только чистокровных турок, а это означало постоянную нехватку рабочей силы. К нему приставили надзирателем некоего Иззета-эфенди, который ввел устрашающие порядки. Он ходил за Шлиманом но пятам день и ночь, ни на секунду не оставляя его одного. Когда наконец всю грязь вычерпали — а это была каторжная работа, — около дворца Приама стали попадаться первые интересные находки, но Иззет-эфенди запретил их фотографировать. Запрещено было зарисовывать стены и мощеные улицы. Последней каплей было посещение губернатора Ибрагим-паши, который приехал в Гиссарлык посмотреть, что делает Шлиман. Согласно фирману. Генри отводилось шестьсот акров земли, примыкавшей к раскопу: на этой земле он имел право строить жилые дома и служебные помещения. Губернатор Ибрагим-паша осмотрел легкие временные постройки, достал из кармана копию фирмана, нашел нужное место и резко выпалил: — Доктор Шлиман. вы нарушаете условия фирмана! — Нарушаю? Да я вообще ничего не делал, ничего не забирал с холма… — Согласно фирману, вы должны застроить эти шестьсот акров каменными и деревянными домами и складами. — Застроить шестьсот акров?! Зачем? Это целый юрод. Мне хватает этих построек. — Фирман не обсуждает, что вам нужно, а что нет. В нем четко и ясно сказано, что вы обязаны застроить все шестьсот акров. — Губернатор Ибрагим-паша, такое толкование фирмана смехотворно. Как в самом деле я могу застроить эти шестьсот акров? Неужели в правительстве султана найдутся чудаки, которые ухватятся за эту оговорку? — Ничего не знаю. Я обязан требовать буквального исполнения фирмана, иначе у меня будут неприятности с Константинополем. Никаких раскопок, пока не застроите шестьсот акров земли каменными и деревянными домами. Генри понял, что спорить бесполезно. Он, конечно, мог поехать в Константинополь и просить у министра просвещения письмо, уточняющее условия фирмана в том смысле, что можно не застраивать домами шестьсот или сколько там акров. Но он хорошо знал неповоротливость турецких властей. Дело осложнялось еще тем, что его единственный влиятельный друг министр иностранных дел Рашид-паша был убит. Министром иностранных дел стал Сафвет-паша; значит, в министерстве просвещения сидит новый человек. Может быть, совсем незнакомый и даже враждебно настроенный. Он был уверен, что сумеет выбросить из фирмана несуразное условие, но сколько еще недель, если не месяцев, это займет? И к чему он вернется? Ему все так же будут ставить палки в колеса, изводить придирками, оставят без рабочих, не дадут делать научное описание находок… Напрасно он надеялся, что вернется в Трою и доведет до конца раскопки. Два месяца сидения в Константинопольской гостинице вдали от жены и дочери, без привычных дел. Еще два месяца на раскопках, которые почти ничего не дали — удалось только очистить траншеи и террасы от грязи, которую намыло за три года. И все впустую. Он приказал уложить снаряжение и отправить в Пирей, телеграфировал Софье, что возвращается совсем. Обратный путь он проделал в самом угнетенном состоянии духа. Софья встречала его в Пирее. Она стояла на пристани и торжествующе размахивала белым листком бумаги; такой широкой улыбки он еще не видел на ее лице. — Наше разрешение на раскопки в Микенах! — крикнула она. — Можем начинать немедленно.

Книга седьмая. Микены
1
Долгий июльский закат золотил разноцветные медали на груди полицмейстера Леонидаса Леонардоса, встречавшего их на пристани Нафплиона. — Мы ждали этой минуты два года! — воскликнул Генри. — Позвольте представить вам моих ученых друзей: доктор Ефти-миос Касторкис родился здесь, в Пелопоннесе, сейчас он профессор греческой археологии в Афинском университете. Доктор Спиридон Финдиклис, вице-президент Археологического общества, читает филологию в университете. Доктор Иоаннис Пападакис — профессор математики и астрономии, бывший ректор университета. Они любезно согласились поехать со мной в Нафплион и готовы посвятить неделю осмотру Тиринфа и Микен. Леонидас Леонардос при каждом столь громком имени отвешивал глубокий поклон. — Сам лично выбрал вам комнаты в гостинице «Олимп». У вас будет тот же номер, где я имел честь навестить вас в 1874 году. До гостиницы—благо рукой подать—шли пешком, сопровождаемые носильщиками с чемоданами наперевес через плечо. Хозяин накрыл ужин в саду под большим платаном. Генри был в приподнятом настроении: у него в гостях в Арголиде ученые-археологи. Они вместе заложат несколько пробных шурфов в Тиринфе, затем осмотрят Микены — значит. Афинскому университету небезразличны его раскопки. Софья проснулась на рассвете, когда Генри уже вернулся после обычного утреннего купания, грудь и плечи у него горели—так старательно растерся он мохнатым полотенцем. — Пора вставать, любимая. Экипажи поданы, обед нам приготовил здешний повар. Софья надела на счастье платье с длинными рукавами и широкой юбкой, которое носила в последние, такие удачливые недели в Трое. На ней был легкий шарф, широкополая шляпа и перчатки — июльское солнце палило нещадно. В путь отправились с восходом. От Нафплиона до Тиринфа всего одна миля. И скоро все пятеро уже стояли под циклопическими стенами. Каменные глыбы были так чудовищно, так неправдоподобно велики, что захватывало дух. — Мои глаза видят эти стены, — сказала Софья, — но разум постигнуть не может. Свернув с главной дороги, они прошли немного вдоль южного основания плоского каменистого тиринфского плато. Возницы отнесли корзины с едой и прохладительными напитками во внутреннюю галерею, тянувшуюся в стене и дававшую доступ к казематам, в которых, по-видимому, хранились провиант и боевые припасы. В стене шириной от 25 футов до 50 было шесть узких прорезей для лучников. Шлиман со своей группой вошли в крепость по широкому пандусу, который поддерживала стена циклопической кладки. Слева от крепостных ворот стояла башня. Генри определил на глаз, что высота ее равняется сорока футам и, если верить словам его ученых спутников, это самая древняя постройка в Греции. Здесь их встретил Деметриос Дасис. Еще несколько недель назад Шлиман выслал ему все троянское снаряжение и инструмент: сотни кирок, лопат, тачек. Часть этого снаряжения была завезена в Тиринф: ровно столько, сколько необходимо для четырехдневной разведки. Деметриос привез с собой из Харва-ти десятерых землекопов. Генри распорядился, чтобы каждый участник группы, включая Софью, получил под свое начало по два рабочих и выбрал себе площадку. Профессор Касторкис и Софья решили копать на средней террасе, два других профессора на нижней, сам Шлиман, взяв с собой оставшихся рабочих и Деметриоса, поднялся на самый верх, чтобы наметить широкую траншею, которая прорежет верхнюю террасу по диагонали. Софья и профессор Касторкис наткнулись на стены двух домов, сложенных из небольших плит, скрепленных глиной. В нижней крепости две группы нашли большой осколок раскрашенной фигурки с женской грудью и воздетыми руками, напоминающими рога коровы, — древнее изображение Геры. Просеивая грунт, обнаружили множество расписных черепков. Солнце пекло вовсю, но в сводчатой галерее, где они обедали, было прохладно. В тринадцати шурфах средней террасы и в трех шурфах нижней нашли терракоту, которую и ожидали найти. Вечером мужчины шли купаться, а затем все собирались в гостиной Шлиманов и Софья раскладывала дневные находки: триподы, большие вазы с дырчатыми ручками, кувшинчики, горшки, кубки, чаши, блюда, сделанные вручную или на гончарном круге. Спустя пять дней караван двинулся в Микены. Генри распорядился, чтобы вся найденная керамика была упакована в корзины и отправлена Археологическому обществу тем же пароходом, каким отплывут в Афины университетские профес- s сора по возвращении из Микен. Деметриос сообщил Шлиману, что нанято шестьдесят рабочих, готовых в любую минуту начать раскопки. Генри наметил место раскопа, следуя своему толкованию Павсания. подробно описывавшего места царских захоронений. Все три профессора пожелали Шлиману от всего сердца удачи. Когда гости уехали, Шлиман с грустной усмешкой сказал: — Если бы мы могли уговорить кого-либо из них остаться наблюдателем от Археологического общества вместо этого юнца Стаматакиса. Я дважды беседовал с ним в Афинах — он улыбнулся за все время только один раз. По-моему, это плохой признак. Семейство Деметриоса Дасиса тепло встретило Шлиманов. Они ждали их возвращения два с половиной года. Комнаты для гостей были готовы: навешены новые деревянные ставни для защиты от палящего летнего солнца, полы выскоблены и натерты. Софья привезла с собой корзину с простынями, наволочками, полотенцами и одеялами — в октябре и ноябре будет холодно. Захватила с собой мыло и другие туалетные принадлежности, чтобы три-четыре месяца ни в чем не нуждаться. Они будут копать, пока затяжные осенние дожди не прогонят их из Микен. Генри в письме Деметриосу из Афин просил сделать две прикроватные тумбочки и завесить шторой угол спальни, там у них будет гардероб. Они взяли с собой всю старую одежду, в которой раскапывали Трою, но прихватили и хорошее платье, чтобы не стыдно было пойти в церковь или навестить друзей в Аргосе и Нафплионе. Софья открыла чемодан, поставила на тумбочку свою икону, помолилась деве Марии: пусть им сопутствует удача в Микенах, пусть сбудутся если не все, то многие смелые мечты Генри. Генри еще раньше отдал распоряжение Греческому национальному банку открыть в аргосском отделении счет на имя Дасисов, чтобы у них всегда были деньги на непредвиденные расходы. И послал им чертеж душа, каким они пользовались в Гиссарлыке. Душ этот был на открытом воздухе: небольшой навес, на котором стоял спускной бачок с цепочкой. Но где взять второго Яннакиса? Правда, с оплатой здесь будет проще: по субботам Генри будет выплачивать Деметриосу всю сумму, полагающуюся за вырытые его бригадой кубометры земли. Но как быть с рабочими из других деревень, которым придется платить и поденно, и по субботам? Генри остановил свой выбор на среднем сыне Деметриоса Николаосе, которому только что исполнилось шестнадцать лет: это был долговязый парнишка с золотистой кожей и ясными смышлеными глазами; он окончил несколько классов в аргосской школе и теперь пополнял образование, прочитывая от корки до корки все, что попадалось под руки. Генри дал ему блокнот и показал, как записывал работу Яннакис. Николаосу поручили также следить за снабжением водой. Воду брали из ближайшего источника. Полные бочки грузили на двуколки, подъезжавшие непрерывно. Укрыться на акрополе от жары было негде, августовское солнце начинало палить с утра, и рабочие с пересохшими глотками опустошали бочку, едва ее успевали снять с двуколки. Рабочим платили две с половиной драхмы в день, или пятьдесят центов, десятнику — пять драхм, Николаос получал в день один доллар. Дасисы были счастливы: через год он сможет поехать в Нафплион учиться дальше. В Троаде Шлиман меньше платил рабочим: уровень жизни в турецкой провинции был ниже. Скоро от соседей стало известно, что Панайотис Стаматакис. страж, присланный Археологическим обществом, поселился через дорогу. В деревне был только один дом, к которому примыкала кладовая. На этот дом и пал его выбор. Стаматакис велел врезать в дверь кладовой замок и единственный ключ спрятал к себе в карман. Здесь будет храниться все найденное на раскопках. С согласия Дасисов Генри пригласил Стаматакиса на обед. Стаматакис приглашения не принял. На другой день, восьмого августа, был праздник св. Пантелеймона, вся деревня собралась в крохотной церквушке послушать службу приехавшего на праздник священника. Шлиманы пришли вместе с семьей Дасисов, Стаматакис в церкви не появился. Вся деревня была оскорблена. «Он считает, что слушать деревенского священника ниже его достоинства», — был общий приговор. Хозяйка его рассказывала: — Сидит все время один. Ест у себя в комнате. — Может, он очень застенчив? — предположил Генри. — Попробуем пригласить его еще раз. Они опять пригласили его отобедать, и опять Стаматакис отказался. К вечеру, когда жар немного спал, поднялись к сокровищнице Атрея. Софья стояла перед ней восхищенная гением художника, создавшего столь совершенную красоту. Созерцание прекрасного возвышает, и душа ее преисполнилась благостного покоя. Стаматакис весь праздник не выходил из своей комнаты. Вечером Генри спросил Софью: — Как ты думаешь, не должен ли я из вежливости навестить его? Нам ведь работать вместе несколько месяцев, хорошо бы нам подружиться. — Ни в коем случае, — решительно возразила Софья. — Он молодой, это он должен выказать тебе почтение. Греки очень гордые… ведь у них такие предки. Господин Стаматакис возомнит о себе еще больше. — Ну что ж, будь по-твоему. Греческий характер — это по твоей части, — улыбнулся Генри. Наутро встали чуть свет, выпили кофе, сели на мулов и отправились по крутой извилистой дороге к Львиным воротам. В понедельник накануне праздника Деметриос доставил на террасу акрополя тяжелое снаряжение: лопаты, кирки, ваги. С дороги к узкому проему в стене вела пастушья тропа. Рабочие Деметриоса внесли инструмент в крепость, воспользовавшись этим входом. Шестьдесят землекопов имели вид не менее живописный, чем турки и греки, раскапывавшие Гиссарлык. Поверх брюк аргосцы носили груботканую юбку, белую или кремовую, собранную на поясе в складки; вся одежда была сшита из ткани, называемой дрили, которую женщины ткали и красили дома. Генри разделил рабочих на несколько групп и наметил контур траншеи, которая должна была идти в южном направлении, начавшись в сорока футах от Львиных ворот: общая ее площадь составит приблизительно сто квадратных футов. Деметриос получил в свое распоряжение сорок человек, десять пошли с Генри к Львиным воротам. Когда рабочие начали расчищать их, Софья сказала: — Нельзя ли нам пойти ко второй сокровищнице, у которой проломан купол? В последнюю прогулку, продравшись сквозь густые заросли травы и кустарника, им удалось заглянуть в ее черную пустоту. — Почему она тебя интересует? Она в четырехстах футах от крепостной стены и, значит, никак не может быть одной из царских гробниц, которые мы ищем. — Отвечу, когда мы придем туда. Они с трудом спустились по неровному, каменистому. поросшему сухим кустарником склону, затем поднялись по насыпному холму вверх. Раздвинув траву и кусты, росшие из расщелин между камнями, освободили пространство диаметром около метра, легли ничком и посмотрели внутрь. Лучи солнца сеялись сквозь расщелины в непроглядную темень толоса [28], как будто промеряли его глубину. — Вырвать эту постройку из трехтысячелетнего забвения — великая и трудная задача, — размышлял Генри. — Еще труднее найти ее дромос, длинный наклонный ход, ведущий к двери, и расчистить его. Но это будет величайший вклад в археологию. Смуглое лицо Софьи озарила улыбка. В темных глазах загорелось дерзание. — Мне бы хотелось самой раскопать эту сокровищницу, совершенно самостоятельно. Если мне удастся вырвать ее у веков и она окажется такой же красивой, как сокровищница Атрея, я буду знать, что тоже внесла вклад в археологию. — И старый муж не имел к этому никакого касательства. — Разве что самое малое. Давай завтра утром придем сюда, ты поможешь мне наметить место раскопки. Я постараюсь обойтись тем, что тебе самому будет не нужно: дашь мне нескольких рабочих, немного кирок и тачек. Они вернулись к Львиным воротам и увидели там Стаматаки-са. Он кричал на рабочих Шлимана, требуя, чтобы те немедленно прекратили копать. Подобно Генри, одет он был так же, как у себя в кабинете в Афинах: темный костюм с жилетом, белая рубашка и темный галстук. Он был худощав, прекрасно сложен, с ослепительными белыми зубами. Голову держал высоко, будто поверх грязного, пыльного раскопа созерцал строгую красоту Афинской национальной библиотеки, где на полках хранится мудрость веков и… не нужно натирать мозоли, копая эту твердую как камень землю. Шлиман приветливо поздоровался с ним: — Доброе утро, господин Стаматакис. Стаматакис, ничего не ответив, сухо поклонился. — Надеюсь, вы удобно устроились? — осведомилась Софья. — Удобства самые примитивные. — Как жаль. Мы бы очень хотели, чтобы вы обедали с нами. Мы звали вас дважды. Приходите, Дасисы будут рады. Хозяйка и дочери прекрасно готовят. Стаматакис, прищурившись, посмотрел на них: Софья и Генри стояли у Львиных ворот, их головы возвышались над массивной перекладиной. — Я должен сразу же предупредить вас, — холодно произнес он, — что не намерен заводить с вами дружбы. Я нахожусь здесь как государственный чиновник и представитель Греческого археологического общества: все наши отношения будут ограничиваться только тем, что непосредственно связано с раскопками и находками. Только так я смогу в точности исполнить данные мне инструкции. Софья и Генри взглянули друг на друга, брови у них изумленно поползли вверх. Еще один Георгий Саркис, их первый страж в Гиссарлыке; и этому тоже раскопки совершенно не интересны. — Как вам будет угодно, — резко сказал Генри. — Только, пожалуйста, не путайтесь под ногами, а то, неровен час, свои поломаете. Стаматакис презрительно выпятил нижнюю губу и медленно процедил: — Оставим пустые разговоры. И выслушайте мои распоряжения. — Ваших распоряжений никто здесь слушать не будет. Ваша обязанность — забирать наши находки и отправлять их в Афины. Ничего больше. Стаматакис оскалил красивые белые зубы. — Вы обязаны показывать мне все находки, пока они in situ. Вы можете копать одновременно только в двух близко расположенных местах, чтобы я мог наблюдать за вашими действиями. Копать можно только там, где я покажу… — Идите к чертовой матери, — выругался по-немецки Генри, зная, что Софья не поймет. — И не подумаю, — невозмутимо ответил Стаматакис. Рабочие Шлимана снова взялись за лопаты и кирки и стали долбить трехтысячелетний панцирь из спрессованной земли, щебня и мусора у входа в Львиные ворота. Стаматакис повернулся к ним и закричал: — Сейчас же прекратите! Подъездную дорогу трогать нельзя! — Почему? — поинтересовался Шлиман. — Необходимо сохранить именно этот уровень. Ведь мы не знаем, на какой глубине древняя дорога. С этого уровня будет легче поднимать циклопические блоки и устанавливать их обратно на стены, идущие от ворот. — Я намереваюсь прорыть только узкую траншею по ширине входа. Весь грунт по бокам останется in situ, с него и будем поднимать на стены эти огромные глыбы. — Толково придумано, — смягчился Стаматакис. — Спасибо, — ответил Шлиман и, повернувшись к рабочим, распорядился — Продолжайте копать. Складывайте камни и землю в корзины, а потом ссыпайте на телеги. На другой день, едва рассвело, Деметриос привел шестьдесят трех рабочих. Генри поставил двенадцать у Львиных ворот, Деметриос взял себе сорок три землекопа. Софье оставили восемь. Вместе с Генри она повела свою группу к соседней сокровищнице. — Давай, Генри, встанем на самую верхушку купола рядом с проломом и подумаем, с какой стороны может быть дромос. Генри осмотрелся кругом, вынул компас и сделал в блокноте какие-то вычисления. — Ты думаешь копать траншею поперек хода? — Да. Как можно ближе к треугольнику над дверным проемом. Когда дойдем до вершины треугольника, станет ясно, сколько приблизительно футов копать до поперечной перекладины и сколько от нее вниз до порога. Ведь размеры сокровищницы Атрея мы знаем. — Прекрасно. Начинай рыть траншею с южной стороны холма. — С южной? Почему? — Присмотрись к топографии места. На востоке и западе сразу начинается подъем, северная сторона наиболее удалена от акрополя. Значит, южная—самая удобная для устройства хода. — Понятно. А ты не мог бы, исходя из размеров сокровищницы Атрея, определить, на каком расстоянии от этой щели начинается дромос? — Мог бы, но, конечно, приблизительно. Начни рыть траншею в сорока футах отсюда. Я прибавил несколько футов, чтобы не попасть на свод фасада. Твоя траншея на соответствующей глубине должна проходить в двух-трех футах от основания треугольника. Достигнув нужной глубины, повернешь в сторону сокровищницы и начнешь рыть горизонтально. В Троаде Софья столкнулась с неожиданной трудностью— тамошние рабочие считали зазорным подчиняться женщине. Здесь ничего подобного не было. Ее землекопы были родом из Харвати. В тот первый вечер два года назад они приветствовали Шлиманов вместе с другими односельчанами и с большим удовольствием слушали, как Генри читал «Агамемнона». Сейчас Генри сказал им: — Эту сокровищницу будет раскапывать госпожа Шлиман. Пожалуйста, слушайтесь ее во всем. Софья отмерила расстояние, указанное Генри, сделала разметку и поставила восьмерых рабочих копать. Затем обозначила ширину траншеи двумя грядками камней, протянув их по обе стороны скрытого под землей дромоса, и выложила из камней же стрелу, показывающую на юг, вместо колышков и веревок, которыми пользовались в Гиссарлыке. Очень скоро выяснилось, что надежды на быстрый успех нет. Почва была твердая, как скала, то и дело попадались крупные глыбы. Траншея тянулась на двадцать пять футов, пересекая под прямым углом дромос и обрамляющие его циклопические стены. За весь долгий день рабочие углубились всего на несколько дюймов. Не успели они взяться за лопаты, как от Львиных ворот прибежал Стаматакис. — Сейчас же прекратите раскопку сокровищницы. — Почему? — Ни вы, ни кто другой не должен касаться этого прочного земляного покрытия. Оно поддерживает камни, из которых сложен толос. Уберите его — и все сооружение рухнет. — Кто вам сказал, что я хочу срыть весь этот холм? Моя цель—обнаружить дромос, очистить его от щебня и земли, найти вход в сокровищницу и выгрести оттуда весь мусор. Тогда люди смогут любоваться ею, как любуются сейчас сокровищницей Атрея. По-моему, в этом и заключается смысл работы археолога. — Госпожа Шлиман, я провел годы в университете, чтобы стать знающим специалистом. Почему же вы не хотите признать мой авторитет в вопросах археологии? — Признаю… когда увижу у вас на ладонях первые мозоли от заступа. — Ах, вот оно что! Вы презираете кабинетного ученого. Вы задираете нос, потому что по прихоти судьбы раскопали Гиссарлык. — По прихоти судьбы! Мы раскопали Гиссарлык, потому что мой муж гениально предугадал, что именно этот холм — гомеровская Троя. Стаматакис небрежным жестом отмахнулся от ее слов. — У меня нет охоты препираться с вами, госпожа Шлиман. Я сделаю официальную запись в дневнике, что категорически запретил вам копать здесь. Сегодня вечером я телеграфирую об этом в Афины. — Надеюсь, поездка в Аргос немного развлечет вас. Тем временем я найду дромос и расчищу его. Сокровищница ведь не пострадает от того, что мы расчистим в нее ход. Стаматакис ничего не ответил, повернулся и пошел обратно к Львиным воротам. Софья послала одного из рабочих за Генри. — На Стаматакиса есть только одна управа, — сказал он, — если не считать, конечно, что можно сбросить его в эту дыру. Сегодня вечером пошлю обществу телеграмму, чтобы прислали за мой счет инженера-строителя, пусть даже по их выбору. Он обследует все здешние сооружения и даст официальное разрешение производить раскопки. У Шлимана были свои трудности: его рабочие наткнулись у ворот на огромные каменные блоки, упавшие, по-видимому, с внутренней циклонической стены. Шлиман тотчас нашел объяснение: эти камни были сброшены самими микенцами на аргосцев, подвергших крепость осаде и захвативших ее в 468 году до нашей эры. Здесь нет культурных наслоений, как это было в Трое, решил он. Скорее всего, весь этот грунт намыло с верхних террас. Копать его было нетрудно, но гигантские блоки не поддавались примитивной ручной технике, бывшей в его распоряжении. Придется выписать специальные подъемные механизмы, а пока двенадцать его рабочих обвязывали блоки веревками, дюйм за дюймом оттаскивали их от Львиных ворот и оставляли у внешней стены крепости. К концу дня он и Софья нашли несколько разрозненных черенков и больше ничего. Стаматакис, однако, посчитал и эти находки важными. Он собрал в корзины все черепки до единого, отвез их в Харвати и запер у себя в кладовой. Третий день был более счастливым. Бригада Деметриоса, работавшая внутри крепостных стен, наткнулась на обуглившиеся руины большого жилого дома. Скоро стали вырисовываться уцелевшие стены. Осмотрев их, Генри пришел к заключению, что дом был уничтожен сильнейшим пожаром— крепостная стена, образующая заднюю стену дома, была вся черная от копоти. В засыпи рабочие н. ин. ш красивые черепки с архаическим узором, красным, желтым и коричневым, керамическую голову коровы с рогами и—самое интересное — огромный железный ключ с четырьмя зазубринами. — Возможно, это ключ от Львиных ворот! — воскликнул Шлиман. Стаматакис, жадно набрасывавшийся на каждую находку, негромко заметил: — Ох уж эти энтузиасты! Один-единственный ключ нашел— и уже отпирает им тяжеленные ворота. По Генри его и не слышал: он нашел в засыпи монеты, эллинскую и македонскую терракоту, высокие вазы с узким горлышком. — Господин Стаматакис, — обратился он к стражу, — вы знаток классической древности. Когда, по мнению историков, Микены перестали существовать? — В 468 году до нашей эры, когда крепость завоевали аргосцы. — А вот взгляните на эти эллинские вазы и македонские монеты. Стаматакис принялся внимательно рассматривать находки. Генри продолжал: — В Микенах, очевидно, существовали более поздние поселения, и эллинские и македонские, которые можно отнести к третьему — первому векам до нашей эры. Когда Павсаний был здесь в 170 году нашей эры, эти места были уже давно необитаемы. Наши находки прибавляют по крайней мере еще лет двести к возрасту Микен. В глазах Стаматакиса мелькнуло нечто похожее на уважение. — Эллинские поселения—да. Керамика, которую вы здесь нашли, подтверждает это. Но македонских поселений в Микенах никогда не было. Генри не стал спорить. Он был уверен, что видел в музеях точно такие высокие вазы и терракотовые фигурки, относящиеся к македонской эпохе. Но лучше не давить на Стаматакиса, не торопить его.2
Солнце палило вовсю. Грязно, пыльно, вокруг ни единой травинки. Бухта Нафплиона далеко, и Генри очень не хватало утренних морских купаний. До девяти вечера не темнело. А поскольку копать начинали в пять утра, то рабочий день длился шестнадцать часов. Не было случая, чтобы хоть кто-нибудь не вышел на раскоп, не считая, конечно, больных, но почти никто не болел. Рабочий день был здесь длиннее, чем в Трое, однако Софья, тщательно укрытая от солнца, выдерживала его неплохо. Воды не хватало — в конце лета ручьи и колодцы пересыхали. И все же Иоанна Даси уберегала для своих постояльцев несколько литров драгоценной влаги, чтобы, вернувшись с раскопок, они могли принять душ. После душа Софья надевала легкое платье, Генри только снимал пиджак и оба спускались вниз на веранду, где их ждал ужин — холодный овощной суп, цыплята и холодные артишоки. Генри и Софья стали своими в семье Дасисов. На раскопках работали все мужчины этой и окрестных деревень, даже шестнадцатилетние мальчишки. Теперь в каждой семье будет достаток. К Шлиманам не только чувствовали благодарность, их глубоко уважали. Генри и Софья отдавали распоряжения спокойно, вежливо. Греческие крестьяне с их независимым характером не потерпели бы грубых окриков. — Одно меня беспокоит, — заметил Генри, когда они с Софьей сидели в тени маслины в саду Дасисов. — Наш хозяин Деметриос не умеет ни организовать работу, ни разумно распорядиться инструментом, я это понял еще в Тиринфе. Из-за него не только замедляется темп работы, он не годится и как подрядчик. Я плачу ему. драхму за каждый вырытый кубический метр земли. К сегодняшнему дню вырыто пятьсот кубометров. С людьми он расплатится, но самому не останется ничего. У него пропадет интерес. — Почему бы не платить ему в конце недели премиальные? Ровно столько, сколько он надеется получить за работу. А среди рабочих наверняка есть кто-то посмышленее и порасторопнее его. Найди какой-то предлог, раздели рабочих на две группы и над одной поставь нового десятника. — Так и сделаю. Скажу Деметриосу, что перевожу его на постоянное жалование, назову приличную цифру. Никакой обиды не будет. Панайотису Стаматакису жилось несладко. Он как-то вскользь заметил, что не доволен ни комнатой, ни едой. О нем говорили, что он презирает аргосцев. Рабочие слышали его бесконечные препирательства с Генри и Софьей, видели, что он хочет остановить раскопки у Львиных ворот и сокровищницы. Пошли слухи, что он хочет сократить работы, потому и ставит палки в колеса. Значит, пропали их заработки. А ведь в кои-то веки выпала такая удача. Стаматакиса не только недолюбливали, он чувствовал себя настоящим изгоем. Если он что-нибудь приказывал, пусть даже не противореча Шлиману, рабочие делали вид, что не слышат. Это, однако, не уменьшало его прыти. Он поминутно дергал Софью и Генри, считая каждый их шаг антинаучным и опасным. Важное открытие было сделано только через неделю. На этот раз повезло Генри: справа от Львиных ворот за крепостной стеной рабочие откопали маленькую каморку. Это жилище древнего привратника было высотой четыре с половиной фута, полом служила массивная каменная плита. Каморку расчистили к обеду, и Генри с гордостью показал ее Софье. На глубине одиннадцати футов ниже уровня средней террасы рабочие Деметриоса откопали несколько простых каменных плит пяти футов высоты и трех футов ширины, стоящих вплотную друг к другу и образующих нечто вроде каменной изгороди. С места их сдвинуть было почти невозможно. Если все-таки удастся извлечь их из земли, что с ними делать дальше? В Трое подобных плит не находили. Каково их назначение? — Вполне возможно, что сами по себе они не представляют никакой ценности, — сказал Генри, показывая их Софье. — Сомневаюсь, чтобы Стаматакис захотел спрятать их в свою кладовую. Пусть пока остаются на месте. Вот раскопаем весь акрополь, может, тогда что-нибудь и прояснится. А на другой день сделала открытие Софья. Две группы ее рабочих, огибая стены дромоса, копали траншею навстречу друг другу. Они углубились на несколько футов, и тогда Софья велела им повернуть и рыть по направлению к сокровищнице, там она надеялась обнаружить вершину треугольника. Прошли всего несколько футов. — Госпожа Шлиман! Вот он, мы нашли его! — вдруг закричал кто-то. Софья стояла в нескольких шагах, осматривая грунт, который двое рабочих сбрасывали со склона холма. Она спрыгнула в раскоп, добралась до его середины, протянула руку, и пальцы ее заскользили по вершине треугольника. Эти полые треугольники над входом всегда применялись при сооружении толосов, чтобы уменьшить давление на поперечную балку. В треугольную нишу обычно вставлялась декоративная или культовая скульптура, например фигуры львов над Львиными воротами. Генри и на этот раз не ошибся, он точно указал, где находится вход в сокровищницу. Какая поразительная интуиция, не переставала дивиться Софья, это она привела его во дворец Приама, помогла найти клад, Скейские ворота, мощеную дорогу в Трою. Редкий, особый дар! Генри подавил желание похвастаться своим ясновидением. — Прекрасно, Софидион, прекрасно. Тебе удалось раскопать эту нашпигованную камнями землю всего за восемь дней. Я пришлю тебе в помощь несколько рабочих из бригады Деметриоса. Теперь двигайтесь вниз и отройте этот треугольник сколько возможно. Затем возвращайтесь обратно по дромосу. Землю сбрасывайте с холма вниз, копайте до тех пор, пока не появится основание стен и первоначальный грунт, на котором эти стены были построены. — Слушаю и повинуюсь. В последующие дни рабочие, раскапывающие акрополь, нашли диоритовый топорик, головки фигурок, изображающих Геру, тысячи черепков древнейших ваз, расписанных цветами, птицами, фантастическими животными: на одной была изображена лошадь с головой аиста и рогами газели. Кубки из белой глины и красные бокалы были похожи на троянские, найденные на глубине пятидесяти футов. Стаматакис бережно укладывал каждый черепок в корзину, рабочие относили эти корзины к Львиным воротам и грузили на телеги. Под бдительным оком Стаматакиса их отвозили в Харвати, где он запирал их в кладовую. — Хватит с меня этих глупостей, — сказал Генри Софье после ужина. — Я имею право осмотреть все найденные мной предметы и описать их в моем дневнике. Сию же минуту иду к нему. Софья чмокнула его в щеку. Генри нежно коснулся губами ее глаз. — Иди спать, Софидион. Ты копала сегодня с пяти утра. Софья пошла к лестнице, затем обернулась. — Сделайте такую милость, не убивайте друг друга. Она не слыхала, как Генри вернулся, спала крепко, покуда Генри не тронул ее за плечо в половине пятого. — Когда ты вернулся? — спросила Софья, зевая спросонок. — В два. — Ну как? Обошлось? — Начало было ужасное. Он заявил, что я не имею права ни осматривать находки, ни описывать их. Я показал ему условия лицензии, где черным по белому сказано, что я могу изучать и описывать все предметы, которые извлеку на свет божий. Он ответил: можете, но только в Афинах. Я не уступал, и он наконец сдался. Мы работали вместе четыре часа. Он даже стал помогать мне, счищать тряпочкой присохшую землю, чтобы легче было описывать находки. — Слава Всевышнему! Но ты спал всего два с половиной часа. Разве так можно? Тебе ведь работать шестнадцать часов в таком пекле. — Зимой отоспимся. Я сказал Стаматакису, что буду приходить к нему каждый вечер, пока все не сделаем. Он ответил: ценой моего здоровья. Софью вдруг кольнула жалость к Стаматакису. — Он не любит эту работу, жить ему тут не хочется, — сказала она тихо. — Нельзя требовать от него, чтобы он шел в ногу с человеком, который задался целью раскопать Микены и оставить свое имя в веках рядом с именами Атрея, Агамемнона, Клитемнестры, Эти ста. Стаматакис работает в августе 1876 года. Ты работаешь в XIII веке до нашей эры. В каком невыгодном положении этот бедняга! Генри откопал еще несколько вертикально стоящих, грубо обтесанных белых плит. Он высказал предположение, что это надгробные камни. Но чтб иод ними и существуют ли могилы вообще, пока неясно: надо рыть еще глубже. Первое замечательное открытие Генри сделал 19 августа; он долго не находил ему объяснения, терялся в догадках. Футах в двадцати-тридцати от циклопического дома рабочие наткнулись на две больших, на этот раз, без сомнения, могильных, плиты с барельефами. Они лежали на одной линии с севера на юг в футе друг от друга. Генри позвал Софью, как обычно звал ее на раскопках Трои, если натыкался на что-нибудь особенно интересное. Стаматакис спокойно стоял неподалеку: на этот раз можно не беспокоиться— плиты тяжеленные, их не утащишь. — Что ты нашел, Генри? Кладбище? — спросила Софья. — Кажется. Но вот то ли оно, которое мы ищем?.. Одна стела—северная — высотой четыре фута и толщиной шесть дюймов была из мягкого известняка. Верхняя ее часть потрескалась, но нижняя сохранилась хорошо. Генри подробно разглядел высеченную на камне сцену охоты: на колеснице стоит охотник, держа в одной руке поводья, в другой — кинжал. — Посмотри, Софидион, как выразительно передан стремительный бег коня, ноги у него вытянуты в струну. А пес гонит летящего точно на крыльях оленя. Орнамент же имеет, скорее всего, символическое значение: спирали, круги, цепочка букв позади колесницы. — Букв? Значит, мы нашли первые письмена микенцев? — Об этом пока рано говорить. Возможно, это всего-навсего узор. Вторая «надгробная стела», как окрестил эти камни Шлиман, сохранилась гораздо лучше. Высота ее равнялась шести футам, верхнюю часть также украшал линейный орнамент, а на нижней был высечен сидящий на лошади воин. В левой руке он держал кинжал, в правой—такое длинное копье, что оно доходил*) до головы жеребца. Тут же стоял еще один нагой воин, держа в руке обоюдоострый меч. — Софидион, дорогая, это уникальное, совершенно бесценное изображение гомеровской колесницы. Она, оказывается, не полукруглая, как мы ее себе представляли благодаря античным скульптурам. Вспомни хотя бы древнюю колесницу, выставленную в Мюнхенском музее. Микенская колесница — четырехугольная, короб сидит точь-в-точь как сказано в «Илиаде»:Эти стелы — первые свидетельства того, что мы действительно у порога Микен Агамемнона. Они относятся к тому же времени, что и львицы над воротами. Поведение Стаматакиса было совершенно непредсказуемо. Генри попросил разрешения взять домой несколько интересных находок, и тот любезно согласился, хотя и взял расписку на каждый предмет. Но на другой день он опять кипел от ярости. Софья разделила рабочих—одна группа откалывала перекладину под треугольником, другая расчищала дромос, разбивая кирками твердую как камень землю, наполнявшую его доверху. Работа подвигалась успешно, скоро фасад сокровищницы, сложенный из гладко отесанных плит, уже купался в раскаленном мареве, как три с половиной тысячелетия назад, когда его воздвигли руки древних зодчих. И тут появился Стаматакис. — Стойте! — закричал он. — Немедленно прекратите работу! Рабочие оперлись на свои заступы. — Почему вы кричите, господин Стаматакис? — спросила Софья. — Я не кричу, а приказываю. И кажется, выражаюсь яснее ясного: нельзя срывать ни одного дюйма земли, поддерживающей фасад. Я настаиваю на том, чтобы рабочие принесли назад весь выброшенный грунт и снова засыпали эти плиты. Софья на миг потеряла дар речи. Подумать только, всего несколько дней назад она жалела этого злосчастного молодого человека! — Уж не перегрелись ли вы на солнце, господин Стаматакис? Вам ведь, наверное, известно, что работа археолога состоит в том, чтобы раскапывать, а не закапывать. В ответ Стаматакис раскричался так, что даже рабочие Генри на акрополе его услышали. — Это вы—археолог? Не смешите меня! Вы простая гречанка, позабывшая, где ей надлежит быть и как женщине приличествует себя вести! — А вы. грек Стаматакис, истинный джентльмен и ученый. — Меня ваши оскорбления не задевают.Посмотрите на эти каменные стены, которые вы только что обнажили. Разве они могут вынести внезапное соприкосновение с воздухом, после того как тысячелетия простояли под слоем влажной земли? Они потрескаются и рухнут. — Довольно, Стаматакис, — сказала Софья, сердито тряхнув головой. — Посмотрите на фасад сокровищницы Атрея. Он не обрушился и стоит вот уже пятьдесят лет, после того как его откопал Вели-паша. Загорелое лицо Стаматакиса побелело, несмотря на сорокаградусный микенский зной. — Госпожа Шлиман. — холодно проговорил он, — я изо всех сил старался быть вежливым. Приказываю вам немедленно засыпать эту стену до самого верху. Я вызову сюда инженера, пусть он проверит сначала прочность кладки. — Я уже проверила. Хотя связывающий материал — глина, но она здесь прочнее цемента. — Вы проверили прочность кладки? Какая самонадеянность… Стаматакис окончательно потерял над собой контроль. Софья перестала слушать. Он кричал минут десять. Она и не пыталась остановить его. Генри в крепости за Львиными воротами, услыхав крик, поспешил, спотыкаясь о камни, на помощь жене. Он застал заключительную часть гневной тирады. Наконец Стаматакис выговорился и, тяжело дыша, смолк. Увидев мужа, Софья заговорила с ним, не понижая голоса, — пусть Стаматакис слушает на здоровье, что она о нем думает: — Я сейчас же иду в Харвати и пишу письмо Археологическому обществу с просьбой, чтобы этого наглеца немедленно отозвали. Когда они узнают о его бессмысленном упрямстве, о том, как он груб со мной, его мечта наконец сбудется, и он проведет остаток летнего сезона на побережье. — Согласен, — спокойно ответил Генри. — Твоих рабочих я возьму пока себе на акрополь. Вон стоит телега, возница отвезет тебя домой. Возобновишь раскопки, когда приедет инженер, о котором я просил, или получим разрешение из Общества. И, повернувшись к Стаматакису, будто полоснул кинжалом: — Если я увижу, что вы подошли к моей жене ближе чем на десять шагов, я вам голову оторву. Стаматакис, ученый педант и белоручка, по прихоти судьбы оказался в этом аду и еще должен был надзирать за этими двумя безумцами. На другое утро он сцепился уже с Генри — его рабочие скалывали толстые надолбы с внешней стороны Львиных ворот. Надо было понизить уровень наслоений и выровнять подъездную дорогу. Шлиман зорко следил, чтобы рабочие киркой не задели циклопической кладки. — Я запрещаю копать у Львиных ворот. Вы ослабите подпирающий грунт, львы упадут и разобьются. — Я слежу за каждым блоком. Никакого движения в стенах за две недели не было. Стоят так же неколебимо, как два с половиной тысячелетия после гибели Микен. Стаматакис не слушал. — Вчера я остановил раскопку сокровищницы. Сейчас прекращаю раскопку Львиных ворот. Вы говорили, что хотите найти царские гробницы. Ну и искали бы, если они вам тут померещились. Скорее бы уж вы докопались до материка, может, тогда мы наконец расстанемся с этой богом забытой дырой. Шлиман долго молчал. Наконец-то он начал понимать, в чем разница между кабинетным ученым, благоговейно листающим фолианты в тиши кабинета, и настоящим археологом, который проводит жизнь в поле, не боясь неудобств, умеет принимать смелые решения, которому знакомы и разочарование, и ни с чем не сравнимая радость открытий. — А если я не послушаюсь ваших приказов? — Я немедленно телеграфирую Археологическому обществу, чтобы оно аннулировало вашу лицензию. Как видите, и я могу оторвать вам голову. Шлиман не верил, что Стаматакис пойдет на такую крайность, но разрешение на раскопки Микен были для него дороже жизни и он не мог рисковать. — Ну что ж, до приезда инженера ограничусь раскопкой акрополя. Софья в жалобе, посланной в Афины, упомянула и это самоуправство Стаматакиса. Поскольку работы у Львиных ворот и сокровищницы пришлось свернуть, Генри начал рыть на акрополе еще одну траншею в двухстах футах к юго-западу от ворот. Теперь в его распоряжении были все сто двадцать рабочих. Одна группа, самая многочисленная, раскалывала большой дом с множеством комнат. Еще одна наткнулась на стену, стоящую на другой стене, — обычное явление в Трое. Шлиман внимательно осмотрел обе стены и заключил, что верхняя относится к более позднему римскому укреплению. Эти постройки в шлимановском «учебнике истории» считались слишком молодыми и нисколько его не интересовали. Нижняя стена, как более древняя, могла относиться к микенскому поселению. А поскольку он исследовал доисторическое прошлое Микен, ценность для него представляла только она. — Что будем делать, доктор? — спросил один из десятников. — Обойдем верхнюю стену или снесем? — Снесем. Стаматакис чуть не кувырком скатился с края раскопа. — Не трогать ни единого камня! Рабочие остановились, выжидательно глядя на Шлимана. — Стена не имеет никакого значения, — спокойно сказал тот. — Nouveau arrive. Совсем молодое наслоение. — Это для вас не имеет значения! — закричал Стаматакис. — Вы готовы разрушить все на своем пути. Но для археологов равно важны все древние постройки. Я запрещаю вам трогать эти стены. Генри пожал плечами. — Копайте вокруг стены, — обратился он к рабочим. На другое утро Стаматакис проспал. Когда он поднялся на акрополь, римской стены уже не было, рабочие раскапывали нижнюю. Генри оставил Софью наблюдать за ходом раскопок, а сам с половиной рабочих стал копать за большим домом в поисках других строений. Стаматакис воззрился на обломки разрушенной римской стены. Когда он заговорил с Софьей, голос его звучал до странного спокойно: — Госпожа Шлиман, я запретил вашему мужу сносить эту стену. Софья ответила столь же спокойно: — Господин Стаматакис, мой муж — человек ученый. Римская стена мешала раскопкам. У вас мало практического опыта. А доктор Шлиман к тому же человек очень горячий; если вы будете мешать ему на каждом шагу, он прекратит раскапывать Микены. — Ваш муж готов уничтожить все, только бы откопать микенские стены. Древнегреческие и древнеримские вазы вызывают у него отвращение. Он обращается со мной как с невежественным варваром. Я тоже пошлю телеграмму министру просвещения и попрошу отозвать меня, раз я так мешаю господину Шлиману. Стаматакис как сказал, так и сделал: отправился в Аргос и послал телеграмму. На другой день, в воскресенье, деревушку Харвати посетил сам префект Аргоса. Он привез телеграмму от министра народного просвещения и дал ее прочитать Стаматакису. В ней говорилось: «Немедленно поезжайте в Микены и скажите Стаматакису, чтобы он ни под каким видом не позволял сносить стены, каким бы временем они ни датировались. Для обеспечения надежного надзора запрещается производить раскопки в нескольких местах одновременно. Число рабочих должно быть ограничено. За каждое нарушение этих предписаний несет ответственность эфор». Префект пригласил Софью и Генри в дом мэра Харвати Панайотиса Несоса. Он огласил содержание телеграммы, затем предложил всем подняться в крепость и показать ему, какие намечены работы. Шлиман отказался идти, он весь дрожал от едва сдерживаемой ярости. — Я не признаю за Стаматакисом права вкривь и вкось толковать документ, собственноручно мной подписанный. Для меня эти раскопки дороже жизни. Никто не волнуется за их судьбу больше, чем я. Никто не потратил на них столько денег и времени. Теперь конец! Я прекращаю все работы. Генри и Софья в тот вечер не ужинали. Сразу поднялись к себе наверх. В комнатах было жарко от заходящего солнца. Генри беспокойно ходил из угла в угол. Софья надела легкий пеньюар, устало опустилась на стул. Генри все ходил и ходил, но вот он остановился, пересек комнату и встал перед Софьей. — Думаю, нам надо помириться со Стаматакисом… — Ты прав. — Я не могу бросать раскопки, в которых мы уже нашли столько интересного… — Безусловно. — Как же мне быть? — Спрятать свою гордость, перейти через дорогу и помириться. — Так и сделаю. Завтра утром съезжу в Аргос и уведомлю префекта, что раскопки будут продолжаться.
3
Раскапывая акрополь, Генри нашел еще несколько каменных плит, стоящих прямо. Стал проясняться замысел древних строителей: вертикальные плиты образовывали две дуги, внешнюю и внутреннюю; расстояние между ними равнялось трем футам. Тут и там лежали плиты поменьше, фута три длиной, тоже без орнамента—они, по-видимому, имели какое-то отношение к вертикально стоящим плитам. — Здесь явно было двойное кольцо, — сказал Генри. — Вот увидите, скоро мы откопаем еще такие стоячие плиты, и круг сомкнётся. В тот же день нашли еще две орнаментированные стелы; они уже, без сомнения, были каменными надгробиями. Так что же огораживало это двойное кольцо? Вновь найденные стелы стояли на одной линии с найденными раньше. Генри измерил их—ширина четыре фута, высота чуть более четырех. На первой был высечен воин в колеснице, державший поводья. Второй воин, по-видимому, пытался остановить лошадь, в руке у него было длинное копье, которое он, судя по всему, вонзил в тело возничего. Оба воина были нагие. Вторую стелу нашли в девяти футах к северу от первой. По ее краям справа и слева шел бордюр; остальное пространство почти донизу было поделено на три равные полосы, две боковые украшал волнистый узор, напоминающий кольца змеи. Назавтра было воскресенье: Генри не пошел в церковь слушать заутреню, а поехал в Нафплион. Он, видно, подхватил где-то цепня: такой диагноз, во всяком случае, поставили Дасисы, услыхав его жалобы: боли как при аппендиците, спазмы, колики, потеря аппетита, тошнота. Жизненная философия Генри в отношении болезней была очень проста: «Не обращай внимания, и все пройдет». На этот раз он, однако, решил наведаться в Нафплион к аптекарю, чтобы купить у него лекарство, изгоняющее паразита. Еще он решил повидать художника, фамилию и адрес которого ему дали, и пригласить его на раскопки: хорошо бы он оказался таким же полезным в Микенах, как Нолихрониос Лемпессис в Трое. Перикл Комненос и Шлиман договорились обо всем очень быстро. Комненос, если понадобится, останется на раскопках хоть целый месяц. Он взял мольберт, кисти, бросил в рюкзак кой-какую одежду и отправился со Шлиманом в Харвати. Увы, лекарства от цепня в Нафплионе не было. В понедельник утром Перикл Комненос, захватив с собой все необходимое, поднялся на раскопки и начал копировать со стел не только рисунки, изображавшие колесницы, лошадей, охотников и воинов, но и линейный орнамент. Софья получила из Афин ответ на свое письмо. Оно было от Ефтимиоса Касторкиса, который провел с ними неделю в Тиринфе. Письмо Софьи его огорчило, но, находясь далеко от Микен, трудно судить, нрав Стаматакис или нет. Он умолял Софью ради науки и Греции потерпеть Стаматакиса. Такие, как он, — неизбежное зло. Касторкис написал и эфору. Софья надеялась, что письмо из Афин немного смягчит Стаматакиса и он даст им большую свободу действий. С согласия Генри она снова поставила своих рабочих раскапывать стены дромоса, ведущего к сокровищнице. В засыпи она нашла древние керамические изделия, покрытые геометрическим узором, грубые терракотовые фигурки женщин и коров — изображения Геры. Стаматакис не протестовал. Он внимательно следил за вынимаемым рабочими грунтом и складывал терракоту в корзины. У Софьи теперь работало тридцать землекопов. Она откопала фасад сокровищницы и весь треугольник до каменной перекладины; кроме того, ее рабочие, вынув огромное количество грунта, очистили весь дромос длиной в сто двадцать футов. Генри не возобновил работы у Львиных ворот. Он бросил всех рабочих на раскопку только что найденной стены, сложенной из небольших камней и, должно быть, уходившей глубоко в землю. Стена описывала такую же дугу, что и два ряда вертикальных плит, как бы окружая их. Некоторые плиты стояли прямо на ней, это, однако, не проясняло, какая между ними была связь. Всего отрыли около пятидесяти вертикальных плит, все вместе они составляли дугу, равную трети полной окружности. Перикл Комненос, закончив рисовать надгробные стелы, обратился к вазам, терракоте, статуэткам, оружию и фигуркам животных. Чтобы сократить рабочий день Стаматакиса, Генри и Софья, оставив раскопки на десятников, уходили двумя часами раньше и вместе с Комненосом шли в кладовую эфора. Ненадолго вернулись счастливые вечера Гиссарлыка: очищали находки от земли, зарисовывали, описывали и вносили под соответствующим номером в дневник Шлимана. Потом возвращались к Дасисам, ужинали и поднимались к себе в комнаты, где Генри садился писать очередную статью для лондонской «Тайме», а Софья переписывала страницу за страницей, чтобы под рукой всегда была копия. Сама Софья начала цикл статей для ежедневной афинской газеты «Эфимерис», проявившей интерес к раскопкам. Генри тоже послал в нее по телеграфу несколько заметок. Неожиданно у основания первой орнаментированной стелы Генри обнаружил черную золу. В ней он нашел большую деревянную пуговицу, покрытую толстой золотой пластинкой, на которой были выгравированы заключенные в круг три меча и треугольник. — Наше первое микенское золото! Софья вертела пуговицу в руках, а Генри продолжал: — Помнишь, как мы нашли первое золото в Трое, золотую серьгу в куске оплывшего металла? От волнения мы почти не спали в ту ночь. Я испытываю большой соблазн опустить эту золотую бляху в карман, но я сдержу себя. Глубже под стелами появился серый пепел. Сначала Генри предположил, что это пепел, оставшийся после кремирования трупов; однако в нем были только кости животных, по-видимому, остатки ритуальных жертвоприношений. Откопали еще несколько орнаментированных стел: самый интересный барельеф изображал обнаженного мальчика, стоявшего на колеснице (эта часть стелы была отколота). В левой руке мальчик держал поводья, правую вытянул вперед. Генри был в полном восторге, но и в не меньшем смущении. Он никогда не видел подобных орнаментов и барельефов на античной скульптуре. — По-моему, мы открыли что-то совершенно новое, — предположил он, обращаясь к Софье, но на этот раз я не позволю обвинить себя в невежественном энтузиазме любителя. Пусть скажет свое слово Археологическое общество. Не менее интересными были находки на раскопе большого циклопического дома, в северном конце второй траншеи, где рыли уже на глубине семнадцати футов, если отсчитывать от поверхности террасы. Шлиман нашел здесь золу от трупов животных и древесины, смешанную с костями главным образом свиней, а также множество черепков древних расписных ваз, формы для отливки украшений, целый склад бронзовых изделий: ножи, колеса, копья, секиры, заколки для волос; геммы из стеатита, оникса, агата, украшенные резными изображениями животных; на самой красивой, из красного оникса, была изображена антилопа, точно живая. Тем временем раскопка стены из небольших камней и все новые вертикальные плиты не оставляли больше сомнений, что и стена, и два ряда плит образуют замкнутый круг. Шлиман знал, что изначально поверхность акрополя круто понижалась от Львиных ворот, стало быть, кольцевую стену возвели для того, чтобы сделать насыпную площадку и тем самым выровнять поверхность акрополя. Иначе нельзя было установить плиты на одном уровне и в строго вертикальном положении. Сидя у себя в комнате и внося очередную запись в книгу расходов, Софья про себя отметила, что в раскопки уже вложено двадцать тысяч долларов. Покончив с расчетами, отложив карандаш в сторону, она повернулась к Генри: — А эта круглая терраса… Разве могут быть там царские могилы? Совсем близко от Львиных ворот? — Я понимаю Павсания так, что он сам видел царские могилы, — проговорил в задумчивости Генри. — Но он не мог видеть надгробные стелы, которые мы откопали, поскольку к тому времени они уже были погребены под слоем земли и щебня толщиной двенадцать-четырнадцать футов. Из этого следует, что, если Павсаний не видел наших стел, значит, они не имеют никакого отношения к царским могилам. В первой декаде сентября Софья со своими рабочими откопала весь треугольник до поперечной перекладины. Работа ускорилась тем, что Генри отрядил ей еще две телеги и мусор из дромоса вывозили теперь в два раза быстрее. Чтобы найти порог, надо было копать до материка. Но уже было ясно, что сокровищница Софьи почти не уступает размерами сокровищнице Атрея; наклонный ход был той же ширины и длины. — Поскольку в толосах микенские цари хранили свои богатства, царская семья, по всей вероятности, имела туда доступ. Возникает вопрос: когда дромос и вход завалили этой огромной массой земли? И еще: были ли сокровища царя обязательными погребальными дарами или они переходили его детям, когда царь умирал? — На эти вопросы было бы легче ответить, знай мы, чьи это гробницы, — ответила Софья. — Некоторые геометрические узоры напоминают, по-моему, узор на аттических вазах, которые считаются самыми древними в Греции. Не означает ли это, что дромос был засыпан землей в глубокой древности? Когда поперечная перекладина была полностью отрыта, Софья измерила треугольник: основание его было более шести футов, высота более десяти. На перекладине Софья обнаружила следы декоративной группы, некогда украшавшей вход. Она надеялась, что, когда рабочие расчистят вход и она сможет войти под своды толоса, она найдет там эти древние скульптуры. В середине сентября солнце все еще пекло немилосердно, сильный ветер нес пыль, от которой воспалялись глаза, и Софье пришлось надеть турецкий яшмак. Генри с каждым днем мучился все сильнее; и чтобы отвлечься, он сочинял особенно высокопарные периоды. В заметках для будущей книги о Микенах он писал: «Несмотря на все эти неприятности, трудно представить себе что-нибудь более интересное, чем раскопки доисторического города, бессмертно прославившего себя: каждый предмет, даже простой черепок, открывает здесь новую страницу истории». Благословенный мир, воцарившийся на акрополе после обмена письмами, просуществовал недолго. Раскапывая свой дромос, Софья наткнулась на три ряда каменных ступеней, идущих поперек хода. Шлиман высказал предположение, что эти ступени — порог эллинской виллы. — Генри, я хочу перенести их отсюда, иначе нам дромос не расчистить. — Конечно. Перенесите эти камни как можно осторожнее и сложите так, чтобы можно было потом определить, кто и когда их строил. Но Стаматакис был уже тут, лицо его опять искажала ярость. — Эй, рабочие! — закричал он. — Сейчас же прекратите копать! Отойдите от ступеней. Это предметы старины. Их нужно сохранить. У Софьи не было никакого желания вступать в очередную перепалку. Она спокойно сказала: — Господин Стаматакис, как вы предлагаете сохранить эти ступени? Их нужно перенести, иначе мы не расчистим дромос. Глаза его метали молнии. — Я их перенесу! Я сохраню их! Я пророю под ними туннель, подниму их все вместе и куда-нибудь поставлю. — Но прорыть туннель под тяжелыми каменными ступенями невозможно. Они рухнут на вас, — сказал Генри. — Пусть госпожа Шлиман перенесет их отсюда, а на новом месте рабочие опять сложат их, как они были. — Ни в коем случае! Чтобы перенести эти ступени, рабочие госпожи Шлиман должны их разъять. Ступени утратят свою ценность. Я передвину их целиком. Вы же знаете мои инструкции. Я отвечаю за каждый памятник древности. Стаматакис ушел. Помолчав немного, Софья спросила: — Что нам теперь делать? — Во вчерашнем письме твоя мать пишет, что Андромаха простыла. Ты сказала, что хотела бы съездить на несколько дней в Афины, побыть с дочкой. — Я сказала, что мне было бы легче, если бы я была рядом с ней. — Сегодня вечером я отвезу тебя в Нафплион. И ты с завтрашним пароходом уедешь. Очень тебя прошу, выбери время в Афинах, повидай министра просвещения и нашего друга Касторкиса из Археологического общества. Пусть они смилуются над Стаматакисом и освободят его, раз он считает Микены ссылкой. И во имя какого угодно бога, заставь их прислать нам инженера. Август укутал Афины теплым одеялом; сентябрь сменил его на легкую накидку. Экипаж поднимался вверх к Парфенону, и Софья вдыхала ароматный воздух, такой живительный после слепящей жары Микен. Когда свернули на улицу Муз, Софья вспомнила свои прежние возвращения из Трои. Вот так, верно, и будет теперь идти ее жизнь. После Трои Микены, после Микен Тиринф, после Тиринфа Орхомен. А после Орхомена куда? Мадам Викторию порядком донимал ревматизм, но она все так же преданно ухаживала за внучкой. У пятилетней Андромахи все еще держалась температура. Встреча была радостная. Но позже Спирос по секрету сказал Софье: — Андромаха больна не столько от простуды, сколько от разлуки с тобой. Сердце у Софье оборвалось, она поняла тайный смысл этих слов: ты бросила свое дитя. Но ведь жене приходится иногда выбирать между мужем и детьми. Когда Андромаха совсем поправилась, Софья взяла вечером девочку к себе в постель: Андромаха очень любила спать с матерью. — Мамочка, ты больше не поедешь в Микены? — спросила она. — Поеду, маленькая. Совсем ненадолго, на две-три недели, пока не начнутся дожди. Мне очень нужно там быть. А на будущий год возьмем и тебя. В семействе Дасисов столько детей, ты будешь с ними играть. Андромаха радостно захлопала в ладоши. При первой возможности Софья побывала у доктора Ски-адарассиса. Он дал ей рецепт от цепня: эфирный экстракт мужского папоротника и касторовое масло. Получив лекарство. Софья послала Спироса в Пирей, чтобы он с первым же пароходом, идущим в Нафплион, отправил Генри лекарство. Дня через два получили телеграмму: «Цепень вышел: все сорок футов. Чувствую себя лучше». Все Афины были взбудоражены положением в районах, населенных греками, но все еще находившихся под властью Турции, особенно в Фессалии. Черкесы, бежавшие от русского царя и поселившиеся в этих северных областях, нападали на греков и даже убивали. По афинским улицам проходили демонстрации, слышались возгласы: «Готовьтесь к войне!» Спирос и младший брат Панайотис, без пяти минут студент университета, взяли ее с собой на митинг протеста в Пниксе, на который собралось восемь тысяч афинян, чтобы послушать страстные патриотические речи университетских преподавателей. В голове Софьи мелькнула неуместная мысль, что им теперь никогда не вернуться в Трою и раскопки так и останутся незавершенными. Но, прочитав газеты, которые она не видела уже много недель, она поняла, что никакой войны не будет. Дальние провинции Босния и Герцеговина восстали против султана, и турки были заняты их усмирением. Софья с жадностью слушала семейные новости: Панайотис решил изучать археологию, чтобы работать вместе с шурином. Спирос помог ей проверить бухгалтерские книги Генри; она передала ему приглашение мужа поехать с ней в Микены и руководить раскопками одной из групп. Ей рассказали, что ее статьи в афинской «Эфимерис» были очень хорошо приняты. Она писала более сдержанно, чем Генри, не теоретизировала, не выдвигала идей, которые вызвали бы возмущение ученых археологов. Впервые на страницах афинской газеты появилась археологическая статья, написанная женщиной; мужская половина греческого общества простила ей только потому, что она была женой доктора Шлимана. Софья отправила письмо министру народного просвещения Георгиосу Милессису, старому знакомому Энгастроменосов. Милессис прислал с нарочным ответ: он будет счастлив принять ее завтра в десять часов утра. Софья тщательно продумала свой наряд: надела костюм из розовой тафты и белую атласную блузку; длинная по щиколотку юбка понизу была отделана тем же атласом; белая бархотка оттеняла густой арголидский загар и яркий румянец на высоких скулах. В таком изысканном наряде она казалась степеннее, старше своих двадцати четырех лет. Георгиос Милессис, человек заурядной внешности, не отличался красноречием; он многие годы был членом парламента от округа Кранидион на Пелопоннесе. Несколько раз наезжал в Микены, видел Львиные ворота, крепость с циклопическими стенами и гору, поднимающуюся над ней. — Как я понимаю, у вас с инспектором Стаматакисом нелады, — сказал он, и по голосу нельзя было понять, на чьей стороне его симпатии. — Да. Я бы хотела говорить об инспекторе Стаматакисе в самых умеренных выражениях, но поймите, наша работа в Микенах—это бесконечные скандалы и паузы. В высшей степени перспективный раскоп у Львиных ворот и сокровищницы… — Я давно мечтал, чтобы их наконец раскопали! — …прекращен. Если можно, пришлите нам более опытного инспектора и, конечно, постарше, чтобы он не боялся каждую секунду потерять работу из-за того, что мы что-нибудь сделаем не так. Георгиос Милессис повернулся вместе с креслом чуть ли не спиной к посетительнице. Когда он занял прежнюю позу, перед Софьей был государственный муж—невзрачные черты его лица одушевляло сознание власти. — Эфор Стаматакис успешно наблюдал за строительством музея в Спарте. В числе трех новых инспекторов археологических раскопок он столь же успешно вел наблюдение за работами в Делосе. Он, вероятно, повинен в чрезмерном рвении и добросовестности, а ваш муж, чего греха таить, чрезмерно горяч. — Значит, нет никакой надежды, что его сменят? — В голосе Софьи звучало чуть ли не отчаяние. — Думаю, вы себе потом не простите, если из-за вас карьера этого умного, серьезного молодого человека будет погублена. Все же, если у вас есть несколько минут, я напишу эфору Стаматакису и попрошу его быть сдержаннее в обращении с вами. Я также попрошу, чтобы он больше доверял археологическим познаниям и чутью доктора Шлимана. На другое утро Софья отправилась повидать Ефтимиоса Касторкиса, члена ученого совета Археологического общества. На этот раз она надела прелестное шелковое платье, отделанное кружевами. Здесь она повела атаку в другом направлении: почти не жаловалась на Стаматакиса, зато расписала как могла убедительнее их нужду в инженере-строителе, который дал бы компетентное заключение, где можно копать, а где нельзя. — Я с вами согласен, госпожа Шлиман, это разумное решение проблемы. Один мой хороший знакомый, инженер по профессии, некто Карилаос Суидас, только что вернулся с Корфу—там у него дача. Попытаюсь уговорить его со следующим же пароходом из Пирея отправиться в Нафплион. В глазах Софьи блеснули слезы — большей благодарности Касторкису было и не нужно. Спустя несколько дней Софья получила от Генри телеграмму:«Инженер Карилаос Суидас, к моей радости, нашел стены сокровищницы достаточно прочными; Львиные ворота, по его мнению, тоже можно раскапывать. Браво. Твой любящий муж».
Спустя два дня пришла вторая телеграмма:
«Аргос, 30 сентября 1876 г. Никаких раскопок в твое отсутствие производиться не будет. Жду тебя в Нафплионе в следующий понедельник. Приезжай во что бы то ни стало, иначе я умру. Шлиман».
Софья перечитала телеграмму и громко расхохоталась. Но она не спешила с отъездом, не хотелось расставаться с Андромахой. Софья как в воду глядела. Из Арголиды пришла еще одна телеграмма:
«Оставайся в Афинах. Турецкое правительство приглашает меня в Трою показать раскоп дону Педро, Его величеству императору Бразилии».
Поездка Генри в Трою дала Софье еще три недели досуга, которые она провела с дочкой. Генри приехал в Афины 21 октября, чтобы поделиться впечатлениями о поездке и забрать Софью. Раскоп на Гиссарлыкском холме был совсем заброшен, ничья рука не касалась древних руин с тех пор, как Шлиман очистил от грязи траншеи; и все-таки Его величество дон Педро пришел в восторг, осматривая раскопки с томиком Гомера в руках и слушая объяснения Шлимана. Турецкое правительство было как будто благодарно. Софья обещала Андромахе, что они скоро вернутся. Спирос уложил чемодан и отправился в Аргос вместе с сестрой и зятем.
4
Дожди начались на другой день после возвращения, к утру вся рабочая площадка была полна воды. Генри повел Софью к Стаматакису показать находки, сделанные без нее. Стаматакис, посвежевший и подобревший за три недели свободы, провел их через двор и отпер дверь. В кладовой было темно и сыро. Больше всего Генри гордился черенком вазы, на котором изображены шесть воинов в полном облачении, уходящие воевать. На каждом панцирь, из-под которого видна рубашка с бахромой, в левой руке щит, в правой копье. — Точно такие были воины Агамемнона, которых он взял с собой в Трою. Когда они вышли из кладовой, дождь почти совсем перестал. Генри предложил надеть сапоги и попросить одного из сыновей Деметриоса отвезти их на раскопки в семейном фургоне. Не доезжая до места, остановились и к сокровищнице пошли пешком. Генри довел Софью до начала дромоса. Софья сразу заметила, что Генри расчистил дорогу по ширине входа и углубил траншею почти на восемь футов. Чтобы полностью очистить дромос, надо было, по его мнению, копать еще десять футов. — Я вижу, ты получил разрешение Стаматакиса передвинуть ступени. — Как бы не так. Он все же настоял на своем. Сделал подкоп, они и рухнули. Пришлось оттащить их в сторону. Генри также частично откопал входной проем длиной тринадцать футов. — Я хочу, чтобы ты сама разобрала последнюю преграду. Это ведь твой самостоятельный раскоп. Спирос тебе поможет. Ты должна первая вступить в сокровищницу. — Для меня это будет волнующий момент, — призналась Софья. — Интересно, был ли кто-нибудь внутри толоса с тех пор, как ход засыпали? — Если только Вели-паша или какой-то другой грабитель до него рискнул спуститься туда на веревке через верхний пролом. Вернулись к фургону и поехали дальше к Львиным воротам. Уровень подъездной дороги к воротам стал гораздо ниже, и открылся проем Львиных ворот шириной в шесть футов. Однако порог еще не был открыт. По обеим сторонам Львиных ворот высились огромные завалы. Софья поинтересовалась, почему он их не убрал. Генри с раздражением ответил: — Не разрешило Археологическое общество. Обещали прислать еще одного инженера, который поставит металлические подпорки к львам. Он взял Софью под руку, и они первый раз вошли в Микенскую крепость через ворота. Направились сразу же на среднюю террасу. Генри считал, что это агора, но не рыночная площадь, а, скорее, место собраний, устроенное над кладбищем. — Павсаний пишет, что в Мегаре так именно и строили ^горы: «чтобы могилы героев были в ее границах». Раскоп достигал уже глубины двенадцати футов. Теперь Генри больше не сомневался, что это агора. — Некоторые древние агоры были круглые. У Софокла в Царе Эдипе» сказано: «Артемида сидит на славном круглом седалище агоры». И Еврипид в «Оресте» упоминает «круг згоры». Кое-где стоячие плиты перекрыты поперечными. Возможно, это была гигантская круглая скамья, на которой восседал совет старейшин. Генри повел Софью показать ей четыре новые шахты: две под резными надгробными стелами, две под простыми, без орнамента. — Этими плитами отмечены могилы, и я их найду. Показал ей развалины здания, бывшего, по его мнению, царским дворцом: было раскопано уже семь комнат, самая большая тринадцать футов на восемнадцать. В свое первое посещение Микен они поднимались на самый верх горы и видели там внешний дворик Атрея, откуда древний царь любовался своей сокровищницей. И теперь Софья в глубине души сомневалась, могут ли быть эти палаты дворцом Атрея и Агамемнона. Но вслух ничего не сказала: она знала, Генри способен поменять свое мнение на противоположное в тот момент, когда уже описывает находку в дневнике. Но ведь он ищет истину, блуждая в потемках доисторического времени, а кто до него туда заглядывал? Возвратились в Харвати, переоделись. Дома ждала телеграмма: император Бразилии со своей свитой пожалует в Микены в воскресенье утром осмотреть раскопки. Едет он из Коринфа. — Если дон Педро решит провести здесь воскресенье, надо устроить для него обед, — сказала Софья. — Но в Харвати нет достаточно просторного помещения, чтобы вместить такую большую компанию, — заметил Генри. — Почему бы нам не придумать нечто из ряда вон выходящее… давай-ка наведем чистоту в сокровищнице Атрея, поставим там столы и устроим обед при свечах. Софья громко захлопала в ладоши, точь-в-точь как маленькая Андромаха. — Чудесно! Это будет незабываемый для дона Педро день, если он такой, как ты мне рассказывал. Сокровищница на тебе, я придумаю меню, а Иоанна с дочерьми приготовят прекрасный обед. Генри немедленно послал одного из сыновей Деметриоса в Аргос отправить телеграмму епископу Теоклетосу Вимпосу; он приглашал епископа в Микены отслужить молебен и пообедать с императором доном Педро. Ехать в Микены полдня, но Генри был так уверен в приезде Вимпоса, что снял ему комнаты в доме мэра Харвати. Епископ Вимпос приехал в субботу. Генри и Софья повели его посмотреть сокровищницу Атрея. Он пришел в восхищение от ее архитектуры, от длинного хода, который вел к дверному проему, перекрытому на высоте семнадцати футов двумя огромными плитами из полированного камня. Епископа провели в круглый зал, диаметр которого равнялся пятидесяти футам, такой же была его высота. Зал освещался только полосой света, падавшей из дверного проема. — Этот купол сделан из хорошо обработанных плит твердой брекчии, которые уложены правильными сужающимися кольцами одно над другим с величайшей точностью, — объяснял Генри. — Плиты ничем не связаны и держатся лишь силой собственной тяжести. Начиная с четвертого ряда плит и выше в каждой видны правильно расположенные парные дырочки, во многих еще торчат остатки бронзовых гвоздей. У этих гвоздей были плоские головки, по всей вероятности — другое объяснение трудно найти, — на них крепились бронзовые розетки, украшавшие внутреннюю поверхность толоса. Гомер говорит:— Грандиозно! — глубоко вздохнув, воскликнул Вимпос— Но почему вы показываете мне сначала эту усыпальницу, а не ваши собственные находки? — Всему свой черед, — улыбнулся Генри. — Ну, во-первых, потому, что именно здесь вы будете обедать с императором Бразилии. А во-вторых, я хотел узнать, сможете ли вы завтра утром, когда приедет дон Педро, отслужить молебен под этим куполом? Послушать вас, конечно, захочет вся деревня, а церквушка в Харвати крохотная, и четверти желающих не вместит. Взгляд Вимпоса скользнул вправо—там темнела четырехугольная камера, высеченная в скале. В ней царил непроглядный мрак, пол был покрыт метровым слоем истлевшего помета летучих мышей. Генри пробовал здесь копать, нашел огромную чашу, возле нее скульптуру из известняка. Как видно, в этой камере совершались ритуальные жертвоприношения. Но об этом он промолчал. — Вы хотите, чтобы я отслужил молебен в этой сокровищнице или в гробнице, где обитали древние боги? — Если это возможно. — Вполне возможно. Я захватил с собой напрестольную пелену, свечи, кадило и чашу для святой воды. Но будет ли это благопристойно? Генри и Софья промолчали. — Какую религию исповедовали в Микенах? — Политеизм. — Прочитав вашу книгу «Троянские древности», я написал вам письмо, в котором советовал меньше думать о языческих богах и больше о христианском. — Я предпочитаю не помнить об этом письме. Оно недостойно нашей дружбы. Лицо епископа вспыхнуло. — Принимаю ваш упрек. И чтобы досадное недоразумение навсегда забылось, завтра утром отслужу здесь молебен. Христос могущественнее Зевса. Завтра я освящу это языческое капище и обращу его в православный храм. Дон Педро со своей свитой приехал утром. Следом за ним явились префект Аргоса и полицмейстер Нафплиона. Генри и Софья очень обрадовались, увидев, что императора сопровождает в качестве официального лица их старый друг Стефанос Куманудис, профессор философии Афинского университета и секретарь Археологического общества, благодаря которому были спасены многие древние памятники в Афинах: театр Диониса, стоя Аттала. Весь облик дона Педро дышал благородством. Крупная античной лепки голова, могучая грудь римского сенатора, грива седых волос, большие темные глаза. Сейчас дону Педро было пятьдесят; на бразильский престол он вступил пятнадцати лет. Он был известен в Южной Америке как мудрый и просвещенный правитель. В 1850 году он запретил торговлю рабами, а пять лет назад освободил всех рабов [30]. Он ввел в стране прогрессивные реформы, был покровителем и поклонником наук и искусств, способствовал распространению образования. Особенно было приятно Генри в доне Педро то, что он знал наизусть Гомера, читал его книгу о Трое и сам попросил турецкое правительство, чтобы раскопки в Трое ему показал доктор Шлиман. Подобно Генри, он был энтузиаст, любил выдвигать идеи и гипотезы, особенно в археологии. Дон Педро и его друзья подъехали к сокровищнице в трех экипажах, которые Генри нанял в Аргосе. За императорским кортежем шли харватцы, растянувшись по извилистой дороге как паломники. Епископ Вимпос стоял за импровизированным алтарем, по обеим сторонам которого горели свечи, отбрасывая блики на красную пелену. Было очень красиво и таинственно. Генри подвел бразильцев к самому алтарю. Сам он, Софья, Стаматакис и Куманудис встали позади августейшего гостя вместе с префектом Аргоса и полицмейстером Леонардосом. За ними выстроились мэр Харвати и семья Дасисов. Вскоре все остальное пространство толоса заполнили сотни харватцев и жители ближайших деревень. Епископ Вимпос произнес молебен, его худое лицо было серьезно и строго. Под сводом сокровищницы заклубился аромат ладана. Народу было так много, что негде было стать на колени, но епископ словно и не замечал этого. Он обращал языческое капище в православный греческий храм. Проповедь его была короткой: «Есть только один Бог, и Иисус сын его». Епископ истово благословил толпу, точно хотел заглушить укоры совести—как-никак, он упразднил сегодня Зевса, Геру, Аполлона; и толос опустел. Пока Генри и Софья показывали дону Педро сокровищницу Софьи, Львиные ворота, стелы и могильные плиты на агоре, Дасисы укладывали длинные доски на деревянные козлы в центре толоса, устилали их самыми лучшими скатертями, ставили на столы самую лучшую посуду, собранную со всей деревни. Зажгли свечи, чередуя их с букетами осенних цветов. В два часа пополудни Софья рассадила гостей строго по чину, каждый сел на то место, где лежала карточка с его именем — Софья приготовила их накануне вечером. Дон Педро повернулся к Софье и восторженно прошептал: — У меня такое ощущение, будто я собираюсь разделить трапезу с веками! Епископ Вимпос благословил гостей и прочитал благодарственную молитву. Мужчинам подали узо, откупорили бутылки арголидского вина, наполнили бокалы. Женщины из Харвати устроили роскошное греческое пиршество: голубцы, фаршированные мидии, маринованные креветки, сухая соленая корюшка, баклажаны, тушенные с мясом, целиком зажаренный барашек, вареные цыплята, печень, тушенная в горшочках с овощами, ветчина с макаронами, пудинг, а на десерт баклава, ореховый торт с чищеным миндалем и густой черный кофе. Дон Педро поднялся и провозгласил тост за короля Георга и королеву Ольгу, епископа Вимпоса, сопровождавшего его профессора Куманудиса, за всех женщин Харвати, приготовивших такое вкусное и обильное угощение, и за хозяев—доктора Шлимана и госпожу Софью Шлиман, «которые, — сказал дон Педро — подарили мне самый памятный день в моей жизни». Генри сжал под столом руку Софьи. Они оглядели застолье и встретились с полным изумления взглядом Стаматакиса. До сезона дождей оставалось совсем немного. Генри предполагал свернуть работы в середине ноября. Значит, впереди три недели—и всего семьдесят семь землекопов; Генри поставил несколько рабочих раскапывать Львиные ворота—он надеялся все-таки добраться до порога; дал небольшую группу и две телеги Софье и Спиросу; а остальным рабочим велел копать на агоре, внутри двойного кольца вертикальных плит. Он не был уверен, что царские могилы именно здесь… а вдруг все-таки он опять не ошибся! Он также улучил момент и припрятал несколько черепков, чтобы послать их в Лондон Максу Мюллеру. Генри и Стаматакис решили перевезти в Харвати четыре стелы с барельефами, чтобы они не мешали раскопкам. До сих пор Генри рыл вокруг них, теперь же, когда стелы увезены, можно расширить площадь раскопа. Углубившись на три фута, сделали первую важную находку: две каменные плиты, лежавшие одна на другой, третья торчала вверх под острым углом. На горизонтальной плите нашли человеческую челюсть с тремя уцелевшими зубами. Всю следующую неделю лил дождь. Несмотря на грязь, Генри продолжал раскопки, и в конце концов дошли до материка. Здесь Генри ожидал сюрприз, поднявший его дух: в монолитной скале была высечена четырехугольная, десять футов на двадцать, яма. Зачем было прорубать скалу, если не для… могилы? Копать было трудно — после ливня яма заполнилась дождевой водой. Но Генри, несмотря на все трудности, продолжал рыть и наткнулся на еще несколько плит, лежавших одна на другой. Тем временем Софья одержала свою маленькую победу. Ее рабочие откопали порог входа и без особого труда вынули рыхлую землю, наполнявшую дверной проем; когда весь этот мусор был погружен на телегу, бригада прекратила работу, обступив полукругом Софью, — и она вошла во внутренний зал толоса. Помещение было залито мягким светом, падающим из пролома в куполе. Она не верила, что Вели-паша спускался через пролом внутрь; значит, она, должно быть, первый человек, вступивший под своды толоса, с тех пор как его засыпали землей. Это ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения, знакомое только археологу, она никогда не забудет. Софья позвала рабочих, они вошли с заступами и лопатами и стали расчищать толос. Если сокровищница не разграблена, здесь могут оказаться интересные находки. Софья еще на лопате просеивала сквозь пальцы землю, которую потом ссыпали в корзины и относили на телеги. Ничего особенного не нашли, если не считать обломка синего мрамора, покрытого узором в елочку. Приехал фотограф, один из братьев Ромаидисов, хозяев афинского фотоателье, и начал сниматьраскопки и извлеченные из земли предметы. Генри был нужен инженер, который мог бы сделать план-чертеж раскопок. Полицмейстер Леонардос рекомендовал ему военного, располагавшего досугом. В пятницу 3 ноября Генри отправился за ним в Нафплион. Опять всю дорогу моросило. Договорились сразу же. Василиос Дросинос был человек умный и, по-видимому, неплохой специалист. Он читал статьи Шлимана в «Полемических листах» и восхищался его раскопками Трои. Дросинос без колебаний принял приглашение Шлимана. На другой день, в субботу, рабочие Генри откопали плиту — «порог» Львиных ворот. Теперь на раскопках работало уже сто человек. Прямо на пороге нашли то ли бронзовый, то ли медный перстень-печать. На нем были выгравированы две молодые дамы, дивной красоты, как сказала о них Софья. — Мне нравятся их прически, — прибавил Генри, — простые, но изящные. А позы! Сидят рядышком, а смотрят врозь. Возле Львиных ворот нашли прозрачные красные камушки, просверленные насквозь, чтобы можно было снизать их в бусы, различные ритуальные фигурки, великолепно расписанный треножник, маленькое серебряное кольцо, кусочек свинца к форме цилиндра — гирька, как решил Генри, золотую серьгу, свитую из толстых золотых нитей и очень похожую на серьги, привезенные из Трои. На плите, образующей как бы порог шириной в восемь футов, были видны колеи, выбитые колесницами, въезжавшими и выезжавшими из акрополя. _ И все же я не уверен, что это колеи от колесниц. Конечно, колесница могла проехать под Львиными воротами, но дальше ведь ехать некуда. Склон горы очень крут, а между агорой и внутренней циклопической стеной слишком мало места. В понедельник приехал Василиос Дросинос и не медля приступил к топографической съемке. Выглянуло солнце, грязь просохла, и работа снова пошла быстрее. Генри вернулся к высеченной в скале могиле. На глубине девятнадцати футов в слежавшемся слое нашли вторую деревянную пуговицу, покрытую золотой пластинкой с резным узором. Стала попадаться одноцветная, очень яркая керамика, черная и красная, похожая на ту, что находили в нижнем городе при раскопках Трои. В последующие два дня Генри нашел двенадцать золотых пуговиц, несколько золотых листьев, множество человеческих костей и тут же кости свиней, большой топор и еще несколько одноцветных доисторических ваз. В северном углу шахты пришлось остановить работу — над ним как раз проходил двойной ряд вертикальных плит. — Я боюсь тут копать, можно нечаянно его разрушить, — сказал Генри Дросиносу. — Вы правы, лучше оставить этот ряд in situ. — Мне кажется, в этой могиле побывали грабители. Взяли все ценное, а ненужное кое-как побросали обратно. Наверное, поэтому мы нашли здесь лепную керамику вперемешку с гончарными изделиями. А может, когда ставили кольцевую стену из плит, из этой могилы сначала все вытащили, а потом как попало свалили обратно. Опять пошел дождь. Генри отправил Софью домой под крылышко Дасисов, а сам вернулся к первой могиле. На дне шахты уже собралась вода, скоро здесь будет глиняное месиво. Генри расстроился, он был уверен, что найдет здесь человеческие останки. Как только дождь прекратился, он начал раскапывать новую площадку над монолитной скалой, отмеченную простой, без орнамента пятифутовой плитой. Эта площадка находилась в двадцати футах к востоку от первой могилы. К полудню следующего дня, субботы, достигли каменных стен второй могилы, засыпанной чистой землей. Над головой опять собирались тучи, под ногами рабочих чавкала грязь. — Нет никакого смысла продолжать раскопки, — сказал Генри Софье. — Завтра утром свернем все работы и в понедельник вернемся в Нафплион. — Да, делать нечего. Возобновим раскопки ранней весной. Чтобы наметить объем работ на весну и лето, Генри решил определить местонахождение еще двух шахтовых могил, докопаться до каменных ящиков, высеченных в скале. Он поставит нескольких рабочих раскапывать еще одну площадку, где он нашел неорнаментированные плиты. Другая бригада раскапывала место на агоре с более темной землей, по-видимому откуда-то принесенной. Генри очень надеялся, что именно здесь он найдет четвертую могилу и что эта огромная терраса, обнесенная двойным кольцом вертикальных плит. — действительно некрополь. Генри просил рабочих копать как можно быстрее, обещая дополнительную плату за работу в воскресный день. Рабочие заразились его энтузиазмом. На поверхность появились обломки надгробных стел и раскрашенная керамика. К вечеру углубились уже на тринадцать футов в глубь скалы и на двадцать пять от первоначального уровня. Появилась новая трудность: как убирать из шахты мусор? Лейтенант Дросинос из толстых веток сколотил лестницы и приделал к корзинам заплечные ремни. Теперь рабочие смогли выносить мусор наверх, где его после просеивания ссыпали на телеги. Углубившись еще на два фута, натолкнулись на нечто совершенно новое — явно чужеродный слой крупной речной гальки. Генри приказал рабочим отложить в сторону ломы и заступы и дальше рыть с помощью ножей. Скоро установили границы галечного настила. Длина его равнялась пяти футам, ширина — трем. Софья спустилась в шахту, посмотреть, что там за переполох. — Как по-вашему, что означает этот галечный слой? — спросил лейтенант Дросинос Генри. — Он явно уложен руками. Генри с минуту раздумывал. — Пока его не снимем, трудно сказать. Прошу вас, друзья, отложите всю гальку в сторону. Работайте очень осторожно и только руками. Когда галька была аккуратно снята и уложена вдоль четырех стен, открылся тонкий слой черной золы. Софья уловила блеск желтого металла. Инстинктивно она протянула руку, засыпала пеплом блеснувший металл, встала и сказала Генри как ни в чем не бывало: — Пайдос. Уже поздно. Становится темно. Пора отпустить людей. Генри почувствовал в ее голосе волнение. — А завтра пусть приходят? — Да. — Прекрасно. Позвать Стаматакиса? — Было бы очень разумно. — Лейтенант Дросинос, пожалуйста, позовите сюда Стаматакиса. Когда они остались вдвоем на дне могилы на глубине двадцати семи футов под агорой, в густеющих сумерках. Генри шепотом спросил: — Что там? Софья поманила его, и он опустился рядом с ней на колени. Осторожно смахнули они слой пепла — и вот их изумленным взорам открылась большая золотая пластина. Продолжая смахивать пепел подушечками пальцев, они обнаружили еще несколько золотых пластин. Сняли одну за одной, пластины прикрывали грудную клетку скелета. Тяжело дыша, но не произнося ни слова, они сняли золотую пластину с головы, и на них глянул полуистлевший череп. Счистили пепел с черепа и нашли еще несколько золотых пластин, толще первых и соединенных серебряной проволокой. Скелет лежал головой на восток, ногами на запад. И Софья вдруг вспомнила—так лежал в могиле ее отец. Охрипшим голосом, который Софья едва узнала, Генри проговорил: — Вот она. первая царская могила. Это наш первый почивший тысячелетия назад монарх! Софья не могла унять дрожь. В этой могиле много места, наверное, тут не один мертвец… Скатившись по шаткой лестнице на дно могилы, Стаматакис бросил взгляд на золотые пластины, костяк и тихонько присвистнул, все еще не веря. Генри тотчас начал распоряжаться: — Золото надо убрать отсюда сегодня вечером. Стаматакис согласился. — Нужен большой кусок мягкой ткани. Лейтенант Дросинос, не найдете ли что-нибудь подходящее? Генри начал снимать золотые пластины со скелета уже почти в полной тьме. Лейтенант Дросинос вернулся с куском шерстяной ткани. Когда все золото было осторожно сложено, Генри попросил Дросиноса обвязать узел веревкой. Затем вручил этот непрезентабельный груз Стаматакису. — Сейчас мы все едем к вам. Я хочу пронумеровать каждую пластину. И получить на все расписку. Стаматакис счел это разумным. Генри попросил его поставить к могиле охрану. — У меня нет охраны. — Тогда я попрошу Деметриоса и Аякса, они сделают это для меня. Когда они вернулись в дом Дасисов, все уже давно пообедали. Иоанна оставила для них на плите два горшка. Сели ужинать, но было не до еды. Деметриос и Аякс, ни о чем не спрашивая, захватив с собой ружья, сели на осликов и отправились в крепость. Генри не объяснил им, что они будут караулить, но они понимали — что-то очень важное. Чтобы не замерзнуть холодной ноябрьской ночью, взяли с собой одеяла. Генри и Софья проговорили за полночь. Не могли заснуть, так были взволнованы. О возвращении в Афины не могло быть и речи. Софья забылась коротким сном уже на рассвете. Генри, как она догадывалась, не спал совсем. С первыми лучами солнца они уже были на раскопе. Да и Стаматакис на этот раз не проспал. И тут же нашли еще золото, которое вчера в темноте не увидели: пять великолепных крестов, каждый из четырех золотых лавровых листьев, четыре витых золотых ожерелья и несколько отдельных золотых листьев. Все это Софья занесла к себе в блокнот, как, впрочем, и Стаматакис, и передала ему, получив от него расписку. Генри распорядился, чтобы рабочие начали расширять стены могилы. К одиннадцати утра раскоп достиг двенадцати футов в ширину и двадцати одного в длину: открылись стены, выложенные камнем на высоту десяти футов, со следами копоти. Начался дождь и опять прогнал их из шахты. Остаток дня Софья провела за тем, что сшивала вместе с женщинами куски брезента — раскоп надо было предохранить от воды. Вечером Деметриос и Аякс отвезли брезент на акрополь и накрыли им отверстие шахты. Дождь лил весь вторник, Генри метался по комнатам наверху, как загнанный в клетку тигр, призывая на голову бога дождя все кары, какие можно придумать на восемнадцати языках. Софья пыталась успокоить мужа, но безуспешно. В среду солнце появилось и слегка подсушило Микены. Брезент помог — воды в раскопе было совсем немного. Генри спустил в шахту столько людей, сколько могло поместиться в ее тесном пространстве, дав им задание рыть слева и справа от галечного слоя, под которым они нашли первого доисторического покойника. Первые два фута осторожно копали кирками и лопатами. Как только показались еще два галечных слоя, Генри отправил рабочих на другие площадки. Он, Софья и лейтенант Дросинос аккуратно сняли гальку и отложили ее в сторону. Стоя на четвереньках, Генри и Софья осторожно убрали пепел и нашли еще два полусожженных костяка, покрытых золотом. У Генри перехватило дыхание. А Софье вдруг стало жутко. Она ведь на дне могилы, сырой, мрачной могилы, в которой больше трех тысячелетий назад были похоронены древние цари. Имеет ли она право нарушать их вечный сон? Чем отличается она от осквернителей праха? Обыкновенных грабителей могил? Того, кто потревожил прах, говорят, ожидает страшная кара. На каждом черепе было по пяти массивных диадем, каждая длиной девятнадцать дюймов, шириной в середине четыре дюйма, скрепленных вместе медной проволокой. Эти диадемы ничуть не похожи на те две, троянские, представлявшие собой ободок с множеством висящих цепочек. Просеивая пепел, нашли еще девять золотых крестов. Затем пошли предметы, имеющие сходство с троянскими находками: обсидиановые и бронзовые ножи, осколки большой серебряной вазы с медным устьем, покрытым толстым слоем позолоты и резьбой, серебряная чаша, множество черепков искусно расписанной лепной и гончарной керамики, несколько терракотовых треножников. Для Генри самой важной находкой были две фигурки с рогами—культовые изображения Геры. — Это доказывает, — воскликнул он, — что уже в самой глубокой древности здесь поклонялись Гере в этом ее образе! Софья услышала, как Стаматакис буркнул себе под нос: — Ничего подобного это не доказывает. Почему бы вам не заниматься своими находками, а теории оставить тем, кто знает границу между гипотезой и фантазией. Генри поблизости не было, и он не слыхал этих слов эфора, но Софья наградила Стаматакиса уничтожающим взглядом. Небольшие костры, разложенные древними могильщиками на нижнем настиле гальки, сожгли только плоть — кости остались целы. Но только Генри дотронулся до скелетов, они рассыпались — так они пострадали от дождя. Все уцелевшие кости Генри собрал — получилось не больше, чем от трех скелетов, найденных в Трое. — В Трое сожгли Гектора и Патрокла, но огонь пощадил их кости, — размышлял Генри на обратном пути в Харвати. — В Микенах укладывали своих усопших владык между двумя слоями гальки и разжигали под ними слабый огонь, чтобы сгорели только плоть и одежда. Скорее всего, это диктовалось санитарными соображениями. Стаматакис его не слушал. — Вечером отправлю телеграмму в Афины, — объявил он, — пусть немедленно пришлют помощников, чтобы помогли составить каталог находок. И еще потребую прислать солдат для охраны золота. Я отвечаю за все. Вдруг что-нибудь будет украдено. — Надеюсь, ни я, ни госпожа Шлиман не входят в число подозреваемых, господин Стаматакис? — с улыбкой отозвался Генри.
5
Подобных волнений в их жизни еще никогда не было. Генри почти всю ночь писал статьи для лондонской «Тайме». Софья — очередную статью для афинской «Эфимерис». Когда она наконец заснула, ей приснился кошмар: она в ловушке, на дне глубокой могилы, и никак не может оттуда выбраться. Полуистлевшие черепа древних царей обросли плотью и таращатся на нее: — Кто ты? Зачем потревожила наш покой? Дом Дасисов бурлил. Золота в Харвати никто не видел. Но все знали, что в могилах найдены древние скелеты. А в памяти народа жило предание, что, если могилы микенских царей когда-нибудь раскопают, в них окажутся несметные сокровища. Все видели, как Стаматакис шел но Харвати, прижимая к груди какой-то узел. Здесь, как и в Троаде, люди не сомневались— первое золото далось в руки не кому-нибудь, а доктору Шлиману и госпоже Софье. Спирос кончил расчистку круглого зала сокровищницы Софьи—и она и Генри должны были признать, что грабители сюда наведывались, — и Ромаидис сфотографировал Софью. В теплом шерстяном жакете, отделанном шнуром, длинной юбке и черной шляпе она стояла перед огромным входом под треугольной нишей, ее рабочие сгрудились в центре зала, из расщелины сверху на них сеялся солнечный свет. Фотография была опубликована во многих газетах, и откопанный Софьей толос стал называться «Сокровищницей миссис Шлиман», пока не был официально наречен «Гробницей Клитемнестры». Несмотря на дожди, Генри продолжал раскопки. Начали отрывать третью могилу. Дело оказалось нелегким—две простые без орнамента плиты, отмечавшие эту могилу, были придавлены огромными кубической формы глыбами. На глубине трех футов рабочие наткнулись на две большие горизонтальные плиты, а пятью футами ниже еще на три такие же плиты. Генри не сомневался, что их возложили на могилу последующие поколения, чтобы место захоронения не стерлось со временем в памяти людей. — Видите, с каким почтением относились древние к этим могилам. Первоначальные надгробья постепенно уходили под землю, но местонахождение могил было так хорошо известно, что их снова и снова отмечали надгробным камнем. Стремясь найти выдолбленную в скале могилу, рабочие преодолевали огромные завалы многовековых наслоений. Глубина достигала уже тридцати футов, землю поднимали наверх в корзинах. В засыпи нашли несколько мужских скелетов без всяких украшений и погребальных даров, а также множество клинков и осколков ваз; кости скелетов совсем истлели, их невозможно было поднять наверх. — Скорее всего, царские телохранители, — заключил Шлиман. — Известно, что в некоторых средиземноморских странах вместе с царями хоронили слуг, рабов и телохранителей. В одном месте пришлось рыть под нависшей скалой. Шлиман обещал рабочим дополнительную плату за каждую пусть даже самую пустяковую находку. В скале была глубокая трещина, но именно под этой скалой оказалось много древних истиц, и двое рабочих то и дело ныряли под нее и возвращались все с новыми и новыми находками. Наблюдая за ними, Генри заметил, что трещина вдруг раздалась. Он бросился к рабочим, успел оттащить их шага на два, и в тот же миг скала с ужасающим грохотом рухнула. Брызнувшие в стороны осколки сбили всех троих с ног. Софья бросилась к Генри, помогла ему подняться на ноги. — Все хорошо, дорогая. Ни одной царапины. И рабочие, слава богу, отделались только испугом. Помнишь Трою? Нет, счастье еще не изменило нам. Следующие два дня лил такой дождь, что на улицу нельзя было высунуть носа. Шлиман попросил у Стаматакиса позволения сфотографировать и описать золотые инталии [31] для своего дневника. Стаматакис был непреклонен. — Я поставил перед кладовой круглосуточную охрану и приказал не пускать никого, даже если я сам дал разрешение. В первый же погожий день Генри откопал вход в третью могилу, она оказалась девятью футами ниже тех совершенно истлевших скелетов. Неделю назад он окончил раскапывать вторую могилу, и вот перед ним снова крупная речная галька, под ней слой белой глины. Как и в других могилах, стеньг были выложены каменной кладкой, а на высоте от десяти до шестнадцати футов по стенам шли выдолбленные уступы. Софья, Спирос и лейтенант Дросинос осторожно сняли два верхних слоя. Под белой глиной обнаружили три скелета, буквально осыпанных золотом: золото кое-где оплыло и закоптело. В смятении—будто закружило внезапно налетевшим вихрем—смотрели они на останки древних владык. Стоя на коленях, Генри внимательно разглядывал останки. Но вот он поднял глаза на Софью, стоявшую по ту сторону траурного ложа, и взволнованно проговорил: — По-моему, эти три скелета — женские. Видишь, какие мелкие кости, маленькие зубы. Вот эта похоронена в старости, зубы у нее не все и плохие. Да, можно с полным правом сказать—древние кремировали своих покойников, потому что тела явно сожжены. На стенах могилы видны следы огня и копоти от погребального костра. Нашли сначала десятки, потом сотни толстых золотых бляшек диаметром два с половиной дюйма на три, украшенных разнообразным орнаментом. Собрали все бляшки и подсчитали— их оказалось ни много ни мало семьсот штук. Они валялись поверх скелетов, под ними, вокруг них. — Большую часть этих золотых бляшек рассыпали на дно могилы перед тем, как сложить погребальный костер, остальные, скорее всего, положены на полусожженные останки после того, как огонь погас, — заметил Генри. Эта шахтовая могила была всего четырех футов глубиной. Ее раскопали полностью. Сверху сеялся свет холодного ноябрьского солнца. Смахнули пепел с одной бляшки, с другой и залюбовались—как искусно выбиты на них разнообразные узоры: цветы, листья, бабочки, медндровый узор — как на могильных плитах, не то осьминоги, не то каракатицы с восьмью ногами, изогнутыми спиралью. Следующую находку сделала Софья: распавшееся на три части ожерелье. Каждая представляла собой резной драгоценный камень — инталию: на первой Геракл убивает немейского льва, на второй два сражающихся воина, на третьей—лев поднялся на задние лапы и стал передними на выступ скалы. Это ожерелье, казалось, было древнее тех, что были найдены в Трое. — Но я нигде не читала, что в Арголиде когда-нибудь добывали золото, — сказала Софья. — Откуда его столько у древних греков? — Возможно, победив Трою, они стали вести обширную торговлю с востоком, плавая по Эгейскому и Средиземному морям. Эти драгоценности могли быть куплены уже готовыми, но микенцы могли ввозить и золотые слитки. У них ведь наверняка были свои ювелиры. Взгляни, какую прелесть я только что нашел: не то кузнечики, не то сверчки на золотой цепочке, целый десяток. Они копали и просеивали грунт, простаивая часами на коленях по обе стороны погребального костра, и все это время Стаматакис не спускал с них холодного, настороженного взгляда. То и дело кто-нибудь восхищенно вскрикивал: чего только не таила в себе эта древняя земля — золотые грифоны, лежащие львы, олени с ветвистыми рогами, сферические украшения, сердечки, филигранной работы броши, орнамент, изображающий двух женщин с порхающими вокруг голубями, каракатицы, летящий золотой грифон. — Многие украшения имеют отверстие, — заметила Софья. — Это или частицы ожерелий, или брошки, которые прикалывали к платью. Генри ничего не слышал от волнения: на голове одного скелета он увидел великолепную золотую корону. Она потемнела от огня, и все-таки это была самая прекрасная их находка. Корона представляла собой обруч, покрытый барельефным узором из концентрических кругов; к обручу были прикреплены тридцать шесть больших золотых листьев. — Замечательнейший образец ювелирного искусства, — прошептал ей Генри. — Подойди ко мне. На концах короны есть маленькие дырочки и куски тонкой проволоки, которыми она крепилась на голове. Я хотел бы взглянуть на тебя в этой короне, пока Стаматакис не отобрал ее у нас. Софья присела рядом, и Генри надел ей на голову корону, так что тридцать шесть золотых листьев встали как нимб. — Эта корона красивее троянских диадем. Я буду настаивать, чтобы мне разрешили сфотографировать тебя в этой короне в кладовой Стаматакиса. Эфор услыхал последние слова Генри. — Никаких фотографий золота, пока мы не перевезем все сокровища в Афины, — вмешался он. Генри смерил его уничтожающим взглядом, Софья вернулась на свое место и снова принялась раскапывать землю руками. Скоро и она нашла золотую диадему. — Генри, — воскликнула она, — внутри пристал кусочек черепной кости. Можно его оторвать? — Не смейте ничего трогать, — приказал Стаматакис. — Что с этим делать, будет решать Археологическое общество. Они провели весь день в этой, по словам Генри, «самой богатой золотой копилке в мире». Нашли еще пять диадем. Осторожно смахнули щеткой черный пепел, все еще покрывавший их. Тут же Софья раскопала еще две диадемы. Всего в тот день было найдено девять золотых диадем. — Это, должно быть, могила цариц. — У Софьи перехватило дух: только вообразить себе, что они откопали! — Одна царица. Остальные принцессы, все они похоронены одновременно. Это не Клитемнестра, микенцы похоронили ее за городской стеной. Они считали, что прах ее осквернит акрополь. Интересно, как далеко в глубь тысячелетий мы заглянули? Во времена Атрея? Пелопса? В золе Генри нашел две большие золотые звезды, два креста, скрепленные посередине золотой заклепкой. Возле одного скелета лежала золотая брошь, изображавшая женщину в профиль с протянутыми руками. Смахнув с нее землю и пепел, Генри показал брошь Софье. — Это—гречанка, — внимательно вглядевшись в изображение. сказала Софья, — Нет никакого сомнения. Посмотри на профиль: лоб и нос составляют как бы одну линию. А эти огромные глаза… — Почти такие же, как у тебя, — улыбнулся Генри. Софья подняла глаза — Стаматакис бережно укладывал золотые находки в мешок и не смотрел на нее. — А какая пышная грудь! — прошептала она. — Только воздержись, пожалуйста, от дальнейших сравнений. Просеивая золу, они не переставали изумляться богатству погребальных даров: золотые серьги, ожерелья, шесть запястий, двое весов, детская маска с прорезями для глаз, сильно пострадавшая от времени. — Значит, в этой могиле был сожжен и ребенок, — заключил Генри, держа маску в руках. — Павсаний рассказывает об этом обычае древних. Возможно, ребенок умер вскоре после матери. Однако детских костей здесь нет. Софья откопала два скипетра — еще одно доказательство, что найдены царские захоронения. Скипетры были серебряные, обложенные золотой пластиной, рукоятки выточены из горного хрусталя. Затем последовали еще золотые находки: гребень с костяными зубьями, золотые и янтарные бусины, броши, кубок с изображением рыбы, золотая шкатулка с хорошо пригнанной крышкой. Генри нашел в золе красивую сферическую вазу с двумя ручками, еще три кубка с крышками, серебряную вазу без всяких украшений, серебряный кувшин и такой же кубок. Последняя находка этого дня представляла собой загадку. В изголовье всех трех могил лежали медные ларчики, наполненные гнилым деревом. — Я думаю, — высказал предположение Генри, — что эти ящички клали под голову усопшим, наподобие алебастровых валиков древних египтян. Глядя на все это золото, Стаматакис вдруг страшно перепугался. Он один отвечает за эти бесценные находки! А вдруг их украдут. Спрос будет с него. Это погубит его карьеру! Прислонившись к стене шахты, он тяжело дышал — ему ведь тоже пришлось покопаться в земле. — Доктор Шлиман, приказываю немедленно прекратить раскопки! — объявил он свое решение. — Прекратить? — Генри удивленно взглянул на присевшего рядом Стаматакиса. — И это когда древняя земля открыла нам свои кладовые? — Именно. Это же бесценные сокровища! Нужна охрана. Не могу я один нести такую ответственность. Необходимо вызвать сюда губернатора. — Какая чепуха! Мы с вами самая надежная охрана. Отсюда не может исчезнуть ни грана золота. Кроме того, в данном мне разрешении о губернаторе не говорится ни слова. — Знаю. Это я, эфор, вам приказываю. — А я не обязан выполнять ваши приказы. Если вам нужен губернатор, можете его звать. Стаматакис полез наверх, с большой неохотой покинул раскопки и поспешил отправить телеграмму в Нафплион и Афины, еще раз умоляя прислать для охраны золота солдат. Невозможно было дольше таить от жителей Харвати. что в царских могилах найдены несметные сокровища. Слишком много вокруг ушей и глаз. Стоило только взглянуть на Шлиманов: их лица сияли гордостью победителей. Не только семейство Дасисов, но и весь поселок глубоко почитали Генри и Софью, разгадавших трехтысячелетнюю тайну Микен. Деметриос Дасис. гордый, независимый грек, низко поклонившись Генри, сказал: — Я был неправ. Так же. как все. Мы говорили, что на акрополе нет царских могил. А ведь я мог бы и убедить вас в этом. — Нет, Деметриос. Помнишь, ты сказал мне: «Уж если там что-то есть, доктор Шлиман это отыщет». Назавтра начали раскапывать четвертую могилу. Она не была отмечена надгробной плитой, но грунт здесь был гораздо темнее, чем на всей агоре. Несколько раньше группа Софьи откопала в этом месте, на глубине двадцати футов, сложенный из циклопических глыб алтарь диаметром шесть футов и высотой в четыре фута. Генри тогда попросил ее приостановить работы, пока он не закончит раскопку третьей могилы. И вот теперь он отрядил большую группу рабочих, чтобы они осторожно разобрали алтарь — его предстояло переправить в Афины и заново там собрать. Как только огромные камни были убраны, Генри со своей бригадой начал копать. Календарный листок показывал двадцать пятое ноября. Просто чудо, что осенние ливни еще не начались—ведь через две недели Микены будут затоплены. Генри торопил рабочих; четвертую могилу — кромку четырех каменных стен — обнаружили шестью футами ниже алтаря, найденного Софьей. Эта могила оказалась самой большой — восемнадцать футов на двадцать четыре. Алтарь находился как раз над самым ее центром. Пять футов вниз прошли очень быстро. Когда показалась галька. Генри отпустил рабочих и дальше продолжали копать втроем — он, Софья и Спирос. Разрыхляли землю ножами, стоя на коленях в холодном сыром подземелье. Упорство их было вознаграждено. Довольно скоро появился трехдюймовый слой гальки: сняли его без особого труда, под ним оказался дюймовый слой белой глины. Одна стена могилы была высечена в скале; она шла в наклон и достигала высоты десяти футов, в ней тоже имелись уступы. Три другие стены были сложены из камня, как и стены других могил, и обмазаны белой глиной, смешанной с обломками кристаллического сланца. Осторожно сняв глину, обнаружили под ней древесную золу, пепел от сгоревшей одежды и два скелета со следами слабого огня. Все как и в других могилах, только одно разительное отличие — на лицах лежали большие золотые маски. Одна маска была сильно повреждена погребальным огнем и тяжелыми наслоениями. Генри вытер ее носовым платком, но пепел за тысячелетия плотно въелся в благородный металл. Протянул маску Софье. — Вглядись внимательно, Софидион, ведь можно угадать его черты. Это, конечно, юноша, у него овальное лицо с высоким лбом, длинный греческий нос, маленький рот и тонкие губы. Глаза закрыты, но ресницы и брови хорошо заметны. Вторая маска рисовала совсем иной характер. Что, если это не просто маски, а посмертные портреты царей, сделанные древними чеканщиками? Взяв вторую маску и вглядевшись в нее. Софья уже почти не сомневалась в этом. У монарха было круглое лицо, как будто надутые щеки, узкий лоб, торчащий прямой нос, маленький рот и очень тонкие губы. Глаза, как у первой маски, закрыты, ресницы и брови отчетливо видны. Осторожно отложили маски в сторону. Стаматакис тут же подхватил их и спрятал в мешок. Генри, Софья и Спирос, продолжая в сильном волнении разрыхлять золу, нашли пять больших бронзовых котлов: в четырех оказалась только земля с золой, пятый был битком набит золотом; из него высыпали сотню пуговиц, покрытых золотой фольгой с выгравированным рисунком. Восторженные возгласы — и снова усердно заработали ножи; следующая находка — огромная серебряная голова коровы с изогнутыми золотыми рогами, наполненными полуистлевшим деревом. Во лбу — золотое солнце двух дюймов в диаметре, украшенное орнаментом. Вспыхнув от радости, Генри воскликнул: — Несомненно, это изображение Геры, покровительницы Микен. Работу прервали, только чтобы на скорую руку пообедать. Спустившись опять на глубину двадцати трех футов, нашли целый арсенал: два десятка бронзовых мечей и множество копий. Тут же валялись золотые украшения от деревянных ножен и несколько золотых бляшек — инталий, точно таких, какие были на первом скелете во второй могиле. До конца дня откопали еще несколько бронзовых котлов, серебряных и золотых ваз. Между ними было рассыпано множество мелких золотых пластинок. Спиросу посчастливилось, он нашел уникальную вещь — литой пояс из золота. И все же работу пришлось прекратить. Не столько из-за Стаматакиса, с нетерпением ожидавшего приезда губернатора, сколько по настоянию Археологического общества. В тот же день из Афин пришла телеграмма, в которой говорилось, что в Микены срочно выезжает профессор Спиридон Финдиклис, и доктора Шлимана просят временно приостановить раскопки. Выло очень обидно терять два дня, ведь не сегодня-завтра могли начаться дожди; вынужденное безделье скрашивалось, пожалуй, лишь тем, что в Микены ехал их старый друг профессор Финдиклис, который посетил вместе с ними в августе Тиринф и Микены. Стаматакис сразу успокоился—теперь за судьбу драгоценных находок будет отвечать вышестоящее начальство. К тому же он получил известие, что для охраны золота и могил в Микены посланы солдаты. Он даже позволил Софье и Генри работать все воскресенье и понедельник у него в кладовой. В /in два дня непрерывного труда они успели описать много важнейших находок для будущей книги о Микенах. Утром в понедельник, перед тем, как пойти в кладовую, Генри закончил статью для лондонской «Тайме»; он писал: хотя в четвертой могиле обнаружено пока только два скелета, именно в этой могиле, по мнению древних авторов, похоронены «владыка мужей» Агамемнон, Кассандра, Эвримедон и их спутники.6
Профессор Спиридон Финдиклис приехал так рано во вторник утром, что, должно быть, из Нафплиона он выехал еще ночью. Генри сейчас же повел его в кладовую и показал ему нее найденные сокровища. Финдиклис был потрясен. С горящими глазами рассматривал он сотни украшений, масок, диадем. — А ведь вы действительно откопали царские гробницы,— проговорил он. Генри, обрадованный реакцией профессора, предложил: — Немедленно едем на раскоп. Не сомневаюсь, в четвертой могиле мы найдем еще других погребенных. Я хочу, чтобы вы своими глазами увидели усопших царей — они покрыты золотом с головы до ног. Фантастическое зрелище! На холм отправились верхом; пока ехали, Генри искоса поглядывал на своего друга, вспоминая его ученую карьеру. Финдиклис окончил Афинский университет, докторскую диссертацию писал в Германии. Вернувшись в Грецию, преподавал сначала в средней школе, затем был избран профессором греческой филологии университета, долгое время был вице-президентом греческого Археологического общества. Эти два человека любили и уважали друг друга, но их отношение к науке было диаметрально противоположным. Шлимана постоянно упрекали в том, что он слишком поспешно делает выводы и немедленно их публикует, отчего часто противоречит сам себе. Финдиклис, человек большого личного мужества во всем остальном, был очень осторожен, когда дело касалось публикации собранного им материала. В шестьдесят два года он еще ничего не опубликовал и просил одного своего коллегу уничтожить после его смерти все его записи. Он восхищался дерзостью Шлимана, хотя и был убежден: смельчак, публикующий свои взгляды, теории и даже просто гипотезы, сто раз не проверив их. непременно угодит в смоляную яму научного заблуждения, более глубокую, чем могилы микенских царей. По дороге к крепости профессор Финдиклис остановился осмотреть дромос и сокровищницу, раскопанные Софьей. Когда он посетил Микены в августе, на этом месте был ничем не примечательный пыльный курган. Он тепло поздравил Софью с ее открытием. Тогда же, в августе, подъездная дорога к Львиным воротам была скрыта под десятифутовым наслоением земли, камней и циклопических блоков. Профессор не скупился на похвалы, отдавая должное Шлиману, — великолепный памятник старины теперь был весь открыт взору. Они спустились на дно четвертой могилы. Профессор Финдиклис осмотрел два найденных скелета, которые Шлиман и не пытался поднять наверх. — Это, без сомнения, цари доисторического времени, — сказал он. — А почему вы думаете, что в этой могиле есть еще погребенные? — Смотрите сами — мы дошли до дна только в одной трети всего этого пространства. Генри подозвал Деметриоса, Аякса и еще двоих Дасисов. Землекопы спустились вниз по лестнице с заступами и корзинами. Начертив концом палки прямоугольник, он попросил их осторожно снять верхний слой земли, надеясь найти под ним еще один галечный настил. Часа два они копали и относили землю наверх: когда на лопатах появились первые камешки, Генри, как и раньше, отпустил землекопов. Профессор включился в работу, скоро последний слой земли был снят и появилась галька. — Скелеты, если они здесь есть, лежат под этим слоем гальки поверх другого такого же слоя. Я никогда прежде не слыхал о подобном способе кремации мертвых. Эти два слоя гальки, наверное, уменьшали силу тяги, чтобы одежда и плоть сгорели, а кости и драгоценности остались целы. В этой могиле нашли еще три погребальных костра. Когда с каждого сняли верхний галечный слой, обнаружили три костяка, лежащие головой к востоку. Увидев золотые маски, Финдиклис не мог удержаться от изумленного возгласа. Грудь каждого скелета покрывала большая золотая пластина, на голове—золотая корона, украшенная розетками и щитовидными бляшками, рядом с одним скелетом массивный золотой браслет с большим многолепестковым цветком. — Какой огромный, простому смертному впору на ноге носить, — почтительно произнес Генри. Финдиклис разглядывал браслет, не переставая удивляться. Здесь же нашли два больших золотых перстня-печатки, на одном изображен охотник в колеснице, запряженной двумя жеребцами, на другом сцена боя — один воин одолевает троих. Софья, Спирос. Генри, а сегодня и профессор Финдиклис, скорчившись, работали над тремя вновь откопанными остовами. Было очень тесно, девятифутовая, облицованная камнем стена поднималась наклонно, и у самого дна могила заметно сужалась. В полдень Софья попросила Аякса принести им на дно еды, кувшин с водой и чистую тряпку, чтобы можно было вымыть и вытереть руки. Ей удалось убедить мужчин ненадолго приостановить работу. Сели на землю, прислонившись спиной к стене, пили вино, ели хлеб, сыр, маслины и одновременно передавали из рук в руки маски, короны, браслеты, восхищаясь ювелирным мастерством и пытаясь приблизительно определить их возраст. Генри, разглядывая третью маску, заметил: — Морщинки в углах рта, крупный рот с плотно сжатыми тонкими губами не оставляют сомнения, что это портрет пожилого человека. Финдиклис отметил, что лица масок совсем не похожи на лица богов и героев, известных по сохранившимся скульптурам. Генри ласково обнял Софью за плечи, точно хотел согреть ее в этой промозглой сырости древней могилы. — Госпожа Софья первая высказала предположение, что эти маски, по-видимому, имеют портретное сходство с лицами похороненных здесь древних царей, — с гордостью сказал он. — Да, скорее всего, это маски — портреты царей. — согласился Финдиклис. Копали еще несколько часов и нашли девять золотых сосудов: первый — огромная чаша с двумя ручками, два золотых кубка, на каждом девять параллельных концентрических бороздок, изящный кувшин для вина с крышкой и большой ручкой, весь покрытый переплетающимся линейным орнаментом, другие были украшены широкой каймой с узором из клинков. У одного кубка ручка была приклепана золотыми гвоздиками, его Генри рассматривал особенно долго. — Точно такой кубок я нашел в Трое на глубине пятидесяти футов в самом древнем из четырех доисторических городов. Только он был сделан из глины. Софья, копавшая под третьим скелетом у самой стены, нашла в золе массивный золотой кубок, он был опоясан орнаментом из четырнадцати розеток. Были расписаны даже ручки кубка. Финдиклис взвесил его на руке — в нем было четыре фунта золота. — Этот кубок—одно из самых замечательных произведений искусства, найденных вами в Микенах, — проговорил он с сияющим лицом. Генри, раскапывающий слой гальки под средним скелетом, нашел еще один довольно большой кубок с горизонтально торчащими ручками и украшенный двумя золотыми голубками. Он взглянул на Финдиклиса, лицо его побледнело от волнения. — Вам не кажется, что этот кубок почти в точности соответствует описанию кубка Нестора в «Илиаде»?Копали до самого вечера; все четверо, включая Спироса, то и дело находили все новые удивительные предметы; то и дело слышались восхищенные возгласы. Спирос нашел красивой формы серебряный кувшин с длинной вертикальной ручкой. Вот появились на свет божий три золотые перевязи через плечо, украшенные розеточным узором, вот целая россыпь — сто штук—больших и мелких янтарных бусин. Генри взял пригоршню и послал по кругу. — Все эти бусины, конечно же, были снизаны в ожерелья, как тысячи золотых бусин из сокровищ Приама, — сказал Генри. — Профессор Финдиклис, как по-вашему, не доказывает ли присутствие этих бусин среди сокровищ в царских могилах, что янтарь в микенскую эпоху ценился очень высоко и шел на изготовление дорогих украшений? Не склонный к категорическим суждениям. Финдиклис с, обычной учтивостью ответил: — Возможно, и доказывает. Надо будет справиться в книгах по древней истории. Давайте заглянем в Национальную библиотеку, как вернемся в Афины. Назавтра поднялись спозаранку. Генри нашел три миниатюрных здания чеканного золота, которые сильно его озадачили. Рассмотрев их внимательно, передал находку Софье, она отдала профессору Финдиклис у. Все трое наперебой начали высказывать догадки: — …Что это может быть?.. Макеты храмов?.. У одного на коньке два голубя. И колонны такие же, как колонна между львами крепостных ворот! Первый раз за все время стал на колени Стаматакис и принялся разгребать золу, гальку, землю. Теперь на дне могилы лихорадочно работали уже пятеро, делая одно открытие за другим: четыре золотых диадемы; узкий с тонким орнаментом золотой пояс, тяжелые золотые булавки — не то заколки для волос, не то брошки; массивный литой золотой львенок; звезда из трех золотых пластинок, спаянных в центре; золотые кольца; два маленьких топорика из тонкой золотой пластинки; медная вилка с тремя изогнутыми зубцами; алебастровые вазы; красивой формы костяные крышки для кувшинов; пустотелая фигурка с ногами буйвола, служившая, по-видимому, вазой… Не замечали, как летит время. Пальцы просеивают землю, лица измазаны золой—хоть и холодно, приходится иной раз смахнуть пот; брюки на коленях побелели от глины, юбка у Софьи вся перепачкана в земле. К вечеру, когда стало смеркаться, нашли деревянные пуговицы в форме крестиков, обложенных золотой фольгой; сотню маленьких золотых цветов; более сотни круглых золотых бляшек; еще сотню похожих на щиты дисков из золота с резным орнаментом. Они уже устали удивляться, а руки откапывали все новые предметы: серебряные кубки, чаши, вазы, деревянный гребень с гнутой золотой рукояткой, около пятидесяти золотых каракатиц, отлитых, по-видимому, в одном литике, наконечники стрел из обсидиана, шестьдесят кабаньих зубов — ими были украшены шлемы усопших монархов. На этот раз «Илиаду» вспомнил профессор Финдиклис:
Теперь начали извлекать бронзовые мечи, копья, длинные клинки, нашли алебастровую рукоятку, украшенную большими плоскими шляпками золотых гвоздей. — Подобные шарообразные ручки из алебастра мы находили в Трое, — заметил Генри, — но не знали тогда, что это рукоятки кинжалов. Софья прибавила: — Помнишь, Генри, ты решил было, что это дверные ручки или набалдашники палок? К концу дня выкопали тридцать медных сосудов и медных треножников — в «Илиаде» и «Одиссее» такие вручали победителям в играх, — а когда на дне могилы стало совсем темно, наткнулись на целую гору устричных раковин, причем некоторые были закрыты. — В могилах оставляли пишу, как в древнем Египте, — объяснял Генри. — А керамические черепки, которые во множестве валяются вокруг, говорят, по-видимому, еще об одном обычае, который жив в Греции и по сей день: на могиле почившего друга принято разбивать сосуды с водой. Еще во время раскопок третьей могилы Стаматакис обратил внимание, что у особенно хрупких золотых предметов, если их поднимать наверх в мешке,обламываются края. И он попросил плотника из Харвати сколотить несколько небольших ящиков. Весь этот день, когда из земли как из рога изобилия являлись на свет маски, диадемы, браслеты и всевозможные украшения, он аккуратно укладывал их в очередной ящик, прилаживал к нему крышку и подавал одному из своих подручных, который выносил его по лестнице наверх и ставил к другим ящикам на телегу, охраняемую четырьмя солдатами, прибывшими из Афин. Окончив дневной труд, подняли наверх оставшиеся ящики. Домой шли пешком, следом за телегой. У дома Стаматакиса телегу разгрузили, и солдаты помогли перенести найденные за день сокровища в кладовую. Стаматакис закрыл за солдатами дверь, зажег две лампы. Несмотря на сильнейшую усталость, все были радостно возбуждены, сняли с ящиков крышки и сгрудились вокруг сокровищ, восхищаясь красотой древнего золота, тускло поблескивающего при свете керосиновых ламп. Какая огромная работа их ожидала! Каждый предмет надо было сфотографировать, описать, занести в каталог. А сейчас можно только подержать замечательные изделия в руках, внимательно их разглядеть; на остальное не было времени. В дверь постучали. Стаматакис впустил Иоанну Даси и ее старшую дочь, принесших накрытые блюда с горячей едой и бутылку узо. На них были темные шерстяные жакеты (вечера стали холодные). Мужчины выпили лакричной настойки, и все с большим аппетитом принялись за еду. Утолив голод, устроили военный совет. Как уберечь золото? Как переправить его в целости и сохранности в Афины? Стаматакиса было не узнать— вежливый, почтительный, куда девалась его резкость, — он когда-то учился у профессора Финдиклиса. — Профессор, — заговорил он, — не лучше ли вам захватить с собой это золото, когда вы поедете обратно в Афины? Я все аккуратно упакую, вы возьмете с собой солдат, и они будут охранять сокровища на борту парохода. — Согласен. Телеграфирую обществу, чтобы прислали охрану в Пирей, откуда сокровища будут сразу же доставлены в Национальный банк. Софья заметила, что у Генри дрогнули желваки, горькая улыбка скривила уголки губ. Она будто читала его мысли: «Я нашел эти могилы. Я раскопал их и обнаружил останки древних царей. Я извлек из земли несметные сокровища доисторической цивилизации. И вот словно меня здесь нет. Со мной даже не советуются. Они будут распоряжаться бесценной коллекцией как захотят. В Афинах обо мне и вовсе забудут. А ведь все это моя заслуга; сколько вложено труда, денег, умственных и душевных сил. Но для них я чужой. Больше они во мне не нуждаются». С дороги, когда шли к дому Дасисов, увидели на акрополе огни — это солдаты жгли костры на своих постах, чтобы не замерзнуть ночью. Генри обмер — ожила история! Обращаясь скорее к самому себе, чем к спутникам, он заговорил: — Микены пали в 468 году до новой эры, и вот теперь, спустя две с половиной тысячи лет, в крепости опять военный гарнизон, горят сторожевые костры, которые видны по всей аргосской долине. Они переносят нас в те давние времена, когда Агамемнон возвращался из Трои и на высотах зажглись вестовые огни, предупредившие Клитемнестру и ее любовника о его приближении. Пожелав спокойного сна профессору Финдиклису, которому они уступили вторую комнату, Генри и Софья прошли к себе. Софья легла, а Генри взял чернила и бумагу и, сжав коленями узкую тумбочку, набросал телеграмму королю Георгу I: «С огромной радостью спешу сообщить Вашему величеству, что мне удалось обнаружить гробницы, которые предание, а вслед за ним и Павсаний считает гробницами Агамемнона, Кассандры, Эвримедона и их спутников, убитых на пиру Клитемнестрой и ее любовником Эгистом. Могилы были окружены двойным кольцом каменных плит… Я нашел в них несметные сокровища — множество древних изделий из чистого золота. Одних этих сокровищ достаточно, чтобы заполнить целый музей, который превзойдет великолепием все другие музеи мира и всегда будет привлекать в Грецию тысячи иностранцев. Поскольку мною движет одно — любовь к науке, я, разумеется, не притязаю на эти сокровища. И счастлив принести их в дар Греции. Пусть эти сокровища станут краеугольным камнем будущего величайшего национального богатства». Генри тихонько дотронулся до плеча Софьи, которая уже заснула крепким сном. Он протянул ей телеграмму. — Я не могу смириться с тем, что наши имена останутся в тени. У нас и без того будет немало неприятностей, когда мы вернемся в Афины и начнем классифицировать наши находки. Мы опять вызовем на себя огонь, как после Трои и сокровищ Приама. Я решил сам пойти в атаку. Софья открыла глаза, прочитала телеграмму. Одобрительно кивнув, протянула Генри исписанный листок бумаги. — Ты правильно сделал. Как говорят на Крите: никогда не показывай противнику спину.
7
На следующее утро, 30 ноября, Генри начал раскапывать пятую могилу, отмеченную надгробной стелой с меандровым орнаментом. К этому времени рабочие Софьи углубились более чем на двадцать футов и наткнулись еще на две простые стелы. А через три фута нашли и самую могилу. Наутро в шахту спустились Генри, Софья, Спирос, Финдиклис и Стаматакис, взяв с собой самых лучших землекопов Деметриоса, и вынули всю землю со дна могилы, длина которой равнялась двенадцати футам, ширина — десяти, глубина всего двум футам. Это была самая мелкая могила. Сняв верхний слой гальки, нашли только один костяк, сплошь покрытый пеплом. Генри снял с черепа золотую диадему. Она была покрыта филигранными украшениями в виде концентрических кругов, колец, стилизованных цветов, по всему золотому полю шел узор из спиралей. Генри взял череп в руки, но он в тот же миг рассыпался в прах. С одной стороны скелета откопали наконечник копья, два небольших бронзовых меча и два бронзовых ножа. Софья, работавшая с другой стороны, нашла золотую чашу, украшенную горизонтальными полосами и узором елочкой. В могиле было много черепков керамической посуды ручного и гончарного производства, последней нашли разбитую зеленую вазу египетского фарфора. Копали еще несколько часов, но безрезультатно. — Не густо, — посетовал Генри, — четвертая была просто набита золотом. — Ну что ж, вернемся к первой могиле. Из-за дождей она осталась нераскопанной. Бригада Спироса начала раскапывать ее уже накануне, а теперь подключился и Генри, которому Деметриос отрядил двадцать рабочих. Углубились на двадцать футов от поверхности агоры: Генри по опыту знал, что надо пройти еще десять. Воздух был свежий, чистый, лужи просохли; работа шла полным ходом, землю вынимали с площадки размером двенадцать футов на двадцать два, влажный еще грунт выносили в корзинах. Когда до обеда и полуденного отдыха остался час, обнаружили стены могилы, выложенные циклопическими блоками. Колодец, чем глубже, тем делался уже; наконец появилась облицовка кристаллического сланца, скрепленного глиной. Вот и знакомый слой гальки, осторожно сняли его и обнаружили первый скелет, лежавший у южной стены шахты головой к востоку. По-видимому, это был очень высокий мужчина: тело его было еле втиснуто в ложе длиной пять с половиной футов. Взглянули на лицо и ахнули от благоговейного восторга. Более прекрасной маски они еще не видели. Это было лицо благородного эллина: прямой тонкий нос. огромные глаза, прикрытые веками, небольшой, но и не маленький рот, мужественный очерк губ. великолепная борода, не закрывающая подбородка, изящно приподнятые брови и пышные с загнутыми кончиками усы. — Это лицо венценосца! — воскликнул Генри. — Величайшего из царей… Спиридон Финдиклис смотрел на Генри с добродушной усмешкой. — Агамемнон! В этом нет никакого сомнения! — ликовал Генри. — Взгляните на него. Какая сила, какое властное выражение, высший дар повелевать! Наконец-то мы нашли кости Агамемнона! Профессор Финдиклис деликатно промолчал. Софья спокойно проговорила: — Милый Генри, ты уже сообщил лондонской «Таймс» и королю Георгу, что Агамемнон и его спутники похоронены в четвертой могиле. — Такова археология. Каждый день раскопок приносит новые находки, которые перечеркивают выводы, родившиеся накануне, — кротко ответил Генри. Стоя на дне этой узкой глубокой могилы, профессор Финдиклис тихим, ровным голосом, будто нерадивому студенту, выговаривал Шлиману: — Дорогой доктор Шлиман. первый закон науки — не высказывай суждения, пока не располагаешь бесспорными доказательствами его истинности. Генри не обиделся и не рассердился. — Воистину так, профессор Финдиклис. Но это не в моей натуре. Да и работаю я по-особому. Я хочу, чтобы весь мир участвовал в моих раскопках, день за днем, час за часом. Да, я высказываю догадки и предположения и спешу обнародовать их, таков мой метод. Если же очередная находка показывает, что я ошибался, я не боюсь во всеуслышание признать ошибку и выдвигаю новое утверждение, в справедливости которого я в тот момент не сомневаюсь. Люди не только видят наши находки, но и следуют за ходом наших рассуждений и как бы сами участвуют в нашей увлекательнейшей работе. Профессор отечески, с любовью похлопал Шлимана по плечу. — Прекрасно, доктор Шлиман. Человек должен во всем оставаться самим собой. Они снова принялись за работу. Увы, череп Агамемнона, соприкоснувшись с воздухом, рассыпался в прах. Генри выругался себе под нос. Софья и Финдиклис рассматривали нагрудную золотую пластину Агамемнона, длина ее равнялась двум футам, ширина немногим больше одного фута. Небольшие выпуклости очерчивали грудь Агамемнона, вся поверхность пластины была украшена филигранной спиралью. Шлиман с Финдиклисом подняли пластину, но под ней уже ничего не осталось. Плечевую кость—так они предположили—обвивала широкая, богато декорированная золотая лента. По левую и правую сторону лежало пятнадцать бронзовых мечей, в ногах еще десять. Многие мечи были непомерно велики, именно такие должен был иметь «владыка мужей». Среди погребальных даров нашли копья, обломки позолоченных кинжалов. Несмотря на тесноту, работа спорилась; обнаружили целую россыпь янтарных бус, золотых цилиндров, листьев, целых и поломанных; тут были серебряные вазы, серебряные щипцы, алебастровая ваза с бронзовым устьем, отделанным золотом, из нее высыпалась пригоршня золотых бляшек. Затем перешли к соседней могиле, находившейся немного севернее. К их вящей досаде, могила оказалась разграбленной. Ни верхнего галечного слоя, ни глины, только одна зола. И на скелете никаких украшений. — Теперь я понимаю, — воскликнул Генри, — почему я нашел те двенадцать золотых бляшек, когда мы начали раскапывать эту могилу. Грабители вырыли узкую длинную шахту и попали как раз на эту гробницу; они поскорее собрали все золото и убежали. — Когда же это могло произойти? — спросила Софья. Тот же спрессованный тысячелетиями грунт лежал и на этой могиле, и потому решили, что грабители поработали здесь еще до того, как Микены были захвачены аргосцами. А утром первого декабря еще одна поразительнейшая находка! Небольшая группа рабочих копала у северной стены, очень скоро показалось галечное покрытие. Генри, как обычно, отправил рабочих наверх; он, Софья и профессор Финдиклис принялись разгребать засыпанную золой гальку. Тут-то они и нашли третьего усопшего. Золотая маска была так погнута, что определить по ней черты лица было нельзя. Генри снял маску, нагрудную золотую пластину — и все остолбенели. Голова и торс почившего в древности монарха сохранились на удивление. Лицо глядело на них совсем как живое. Широкий лоб, тонкие губы, сжатые веки, два ряда белых безупречных зубов, не хватало только прямого короткого носа, каким он, судя по всему, был. Тело лежало в таком тесном пространстве, что голова прямо-таки вдавилась в плечи. Грудная клетка сохранилась хорошо, но за тысячелетия ребра спрессовались с позвоночником. Кости таза были на месте, ниже не осталось ничего. Замечательное лицо. Сильное, волевое и. без сомнения, при жизни красивое. Обретя дар речи. Генри сказал Софье: — Именно таким я всегда представлял себе лицо Агамемнона. — Ну, знаешь. Генри, — попыталась урезонить его Софья. — сразу три Агамемнона — это, пожалуй, чересчур. Ты должен решить наконец, кто из троих командовал войском ахейцев. — Да, конечно, — неохотно согласился Генри. — Та, первая великолепная маска, без всякого сомнения, маска Агамемнона. Но под ней не было лица. Я нашел человека, которого я всю жизнь искал, его лицо, и совсем отдельно — маска. Теперь мне предстоит разгадать эту загадку. Начали рассматривать погребальные дары. Нагрудная пластина была довольно массивная, но без орнамента, шестнадцати дюймов в длину и десяти в ширину. Справа от тела нашли два бронзовых меча. Рукоятка одного была богато отделана золотом. Углубившись всего лишь на фут, Генри нашел одиннадцать бронзовых кинжалов, золотые пластинки, больше сотни золотых бляшек. Софья на своем месте нашла двенадцать золотых пластинок, одну с изображением льва, преследующего оленя. Здесь же нашли огромный золотой кубок. Генри повернулся к профессору Финдиклису. — Просто чудо, что этот труп так хорошо сохранился. Я боюсь до него дотронуться, вдруг он рассыплется в прах, как все остальные скелеты. Вы случайно не знаете, как бальзамируют трупы? — Вам хотелось бы сохранить эти останки? Нет, к сожалению, не знаю. И думаю, что никто во всей Арголиде не сведущ в этом искусстве. — Остается одно, — сказал. Генри, — послать в Нафплион за нашим художником, чтобы он немедленно приехал сюда и сделал портрет этого древнего царя. Я хочу сохранить его облик для потомков. Генри выбрался из шахты, достал из кармана блокнот и набросал телеграмму Периклу Комненосу, прося его срочно приехать на раскопки. Затем снова спустился вниз. Начало быстро темнеть. — Не лучше ли продолжить работу утром, чтобы случайно не | повредить эти древние останки? — А не опасно оставлять так могилу? — спросила Софья. — Здесь вокруг еще столько золота. Генри поддержал Софью: можно работать при свечах. Профессору Финдиклису пришлось хоть и мягко, но проявить свою власть. — Не тревожьтесь, солдаты никого сюда не пустят. Неутомимая чета должна была уступить. Генри позвал Стаматакиса вниз и передал ему последние ящики с золотом, драгоценностями, нагрудной пластиной и маской. Крикнули, чтобы сверху спустили веревку, перевязали ящики крест-накрест, и Генри опять крикнул, что можно поднимать. Ящики наверху принимал Стаматакис; он развязывал веревки, накрывал каждый ящик холстом, ставил их на телегу; когда все ящики были погружены, укутал их сверху одеялом. Охранять эту телегу поставили солдата самой свирепой наружности. Излишняя предосторожность. Украсть золото из древней царской гробницы—да разве кто на такое решится? Жители Арголиды верили, что дерзкого нечестивца поразит страшная кара. Генри вспомнил, как в Троаде землекопы не хотели работать по праздникам святых—боялись, что святой непременно накажет грешника. Утром отправились на раскопки в фургоне Дасисов. Опять стали просеивать тысячелетний грунт, нашли массивный золотой кубок с изображением трех бегущих львов, затем еще два кубка и небольшую чашу. В засыпи нашли серебряные кубки и большую серебряную вазу, по-видимому не принадлежавшие ни одному захороненному. Разрыхляя землю небольшим ножичком, Софья откопала алебастровую чашу для питья. Финдиклис обнаружил целую россыпь золотых листочков, похожих на двуглавого орла — у черенка они были соединены, а маковки смотрели врозь. Перикл Комненос приехал верхом перед обедом; в притороченных к седлу сумках были эскизные блокноты, холсты, кисти и масляные краски. Генри сейчас же спустился с ним на дно шахты. Комненос сказал, что хотел бы сначала сделать карандашные наброски. — Живопись—ваше дело, не мое, — сказал ему Шлиман. — Делайте все, что считаете нужным. Важно, чтоб изображение было как можно точнее. Через день-другой мы попытаемся поднять его отсюда. Все остальные выбрались наверх, сели на плиты и принялись за еду, согреваемые скудным декабрьским солнцем, лучи которого были так же тонки, как найденная в могилах золотая фольга. Они были не одни. Накануне кое-кому из рабочих удалось все-таки увидеть бренные останки микенского монарха. Разговорам не было конца. Скоро о неслыханной находке знали все землекопы. И вот теперь они стояли у разверстой могилы, на их лицах застыло изумление, граничащее с ужасом. — Скоро о нашем открытии узнает вся Арголида. Слух о нем разлетится с быстротой молнии, — заметил Генри. Когда солнце было уже довольно высоко, к акрополю стали стекаться жители окрестных деревень. Они ехали верхом на лошадях, ослах, в фургонах или шли пешком. Поднявшись на гору, заглядывали, вытянув шеи, в отверстие могилы, чтобы хоть краем глаза взглянуть на доисторического человека, который был все еще во плоти и как будто присутствовал среди живых. После полудня из Аргоса стали прибывать экипажи. Деметриос и Спирос оставались на дне могилы. Солдаты натянули вокруг веревку, чтобы удерживать любопытных на почтительном расстоянии да и безопасности ради — того гляди, кто-нибудь свалится вниз. Прибыв на акрополь, новички на первых порах впадали в изумленное оцепенение, которое затем сменялось безудержным потоком вопросов и восклицаний, сливавшихся с более спокойным говором прибывших раньше. Генри. Софья и профессор Финдиклис переходили от одного к другому, спрашивая, не умеет ли кто бальзамировать или на крайний случай, не знает ли кто такого умельца. К вечеру Генри и Софья, работая на 'четвереньках и с большой осторожностью, нашли похожие на щиты блюда, верхнюю часть серебряной вазы с золотым устьем и ручкой, сотни золотых бляшек, сплошь в узорах, широкую золотую ленту, назначение которой они не смогли разгадать. Уже вечером откопали золотые украшения для поножей, обломки костяных и мраморных рукояток ножей, покрытых резным орнаментом; углубившись еще, наткнулись на несколько больших медных сосудов и на четырехугольный деревянный ящик, на двух стенках которого были вырезаны лев и собака. Дерево было как намокшая губка, и Генри опасался, что ящик рассыплется, не успеют они поднять его на поверхность. Этого не случилось; соприкоснувшись с воздухом, ящик затвердел как камень. В золе было полно черепков; как и в меньшей могиле, в этой были обнаружены остатки пищи — главным образом устрицы. Работая весь день в присутствии мертвого, который, казалось, был еще вчера жив, Софья испытала жуткое, мистическое чувство. Этот давно почивший венценосец, как бы его ни звали, точно все время следил за ней. Когда она поворачивалась в его сторону, взгляд ее как магнитом притягивало одушевленное, выразительное лицо. Древний царь, казалось, беседовал с ней. Она не понимала, что он ей говорит, не знала его языка; но в эти два дня она гораздо сильнее, чем все остальное время раскопок, чувствовала, что они с Генри живут напряженном жизнью сразу в двух исторических эпохах: в 1876 году после рождения Христа и во времена этого монарха, который сумел пережить сокрушительное для всего сущего действие трех с лишним тысячелетий. Каким-то шестым чувством она постигла его жизнь, хотя знала о ней только то, что им открыли раскопки в Трое и здесь, в Микенах. Она не боялась этого царя—лицо его выдавало силу характера, но не было грозным. Она чувствовала, что была бы счастлива, живя в большом прекрасном Микенском царстве, которым он правил. Но ведь и ее муж монарх. Он правит своим миром. Открытие этих фантастических могил-сокровищниц—заслуга Генри Шлимана, только его одного. Благодаря ему человечество будет знать, как жили и умирали микенцы, и, возможно, проникнет в самые сокровенные тайны доисторической цивилизации. У нее вдруг появилось дерзновенное желание, в котором она не призналась бы даже Генри: ах, если бы рядом с ними сейчас был Гомер! Они нашли столько из описанного им, что «Илиада» и «Одиссея» больше никогда не будут считаться вымыслом. В этот второй день декабря стемнело рано. Толпа разошлась. Генри и его маленькая группа оставались возле могилы до тех пор, пока солдаты не зажгли сторожевые костры, поклявшись, что ни на шаг не отойдут от могилы в течение всей ночи. На другой день, третьего декабря, аргосцы со всей Арголиды съехались посмотреть на небывалое чудо: к ним вернулся один из их прародителей. Солдаты все еще не сняли заслон: многие рвались спуститься в могилу. Генри стоял в центре агоры, беседуя с полицмейстером Нафплиона и префектом Аргоса, к ним подошел немолодой, лысый человек в очках с толстыми стеклами и синей блузе. В руках у него был туго завязанный узел. — Господин префект, — заговорил он, — будьте так любезны, представьте меня доктору Шлиману. У меня есть ему предложение. — Это Спиридон Николау. наш фармацевт из Аргоса, — повернулся префект к Шлиману. Глаза у Генри загорелись. — Надеюсь, вы как раз тот человек, которого я жду! — Да, доктор Шлиман, по-видимому. Ко мне в аптеку все эти дни то и дело заглядывали знакомые и говорили, что вы ищете человека, знающего бальзамирование. Я много читал о том, как бальзамировали древние египтяне; они предохраняли трупы от разложения впрыскиванием смол и ароматических веществ. Меня дважды приглашали в Нафплион, чтобы я забальзамировал трупы моряков, которых родные хотели увезти и похоронить дома. Я употреблял для этого спирт, в котором растворял сандарак. Мой метод, по-видимому, оказался успешным, поскольку я получил от семей погибших моряков благодарственные письма. — Милости просим! — воскликнул Генри. — Вас-то нам и надо. Идемте. Генри помог фармацевту спуститься вниз. Николау внимательно осмотрел останки и вынул из своего узелка необходимые приспособления. — Вы понимаете, конечно, что я смогу забальзамировать только сверху. — Забальзамируйте, пожалуйста, все, до чего только сможет добраться ваша кисть. Затем мы подведем под древнего царя железный или дощатый щит и попытаемся поднять наверх в целости и сохранности. Фармацевт налил в миску спирт и всыпал в него из мешочка прозрачные винно-желтые зерна сандараковой смолы. Взглянув на Шлимана с гордостью профессионала, он сказал: — Доктор Шлиман, я полагаю, что начать надо с этого широкого лба, затем спускаться ниже, перейти ко рту, зубам, подбородку, грудной клетке… — Да, да, — нетерпеливо перебил его Генри. — Вам виднее, вы специалист. Художник Комненос был очень недоволен, что ему помешали. Генри старался его утешить: — Вы сделали прекрасный портрет — полное сходство. — Но я еще не закончил! — Разумеется. Взыскательный художник всегда стремится ко все большему совершенству. Я вас прошу, пожалуйста, позвольте Спиридону Николау заняться нашим древним другом. Он сохранит для нас эти бесценные останки. Вы сможете закончить портрет, пока мы будем искать способ, как извлечь его отсюда, не повредив. Аргосцы напирали на солдат, требуя, чтобы им показали, как будут бальзамировать ахейского царя. Софья боялась, что самые отчаянные прорвутся и упадут в яму глубиной тридцати трех футов. Она попросила Леонидаса Леонардоса и префекта урезонить толпу. Но желание увидеть, как будут бальзамировать, было так велико, что ропот не унимался. Спиридон Николау сосредоточенно работал узенькой кисточкой около двух часов. Кончив бальзамировать, он выпрямился, счистил с блузы несколько случайных капелек лака. — Ну вот, доктор Шлиман, по-моему, теперь с вашим старым приятелем ничего не случится. Это, конечно, не настоящее бальзамирование, но законсервирован он весьма надежно. Ручаюсь, что можно спокойно везти его в Афины. Профессор Финдиклис, который тоже спустился вниз, чтобы посмотреть на работу фармацевта, поблагодарил Спиридона Николау от имени Греческого археологического общества. К свящему изумлению Генри, профессор вынул из кармана бумажник и, спросив, сколько причитается за работу, тут же заплатил ему. — Профессор, вы потрясли меня! — воскликнул Генри. — Еще ни разу за все годы, что я занимаюсь раскопками, никто не заплатил вместо меня ни драхмы. Профессор Финдиклис просиял. — Общество приняло решение оплачивать подобные расходы. И мне была выдана для этого определенная сумма. Я оплачу также подъем монарха наверх и перевоз его в Афины. Фармацевт пожал всем руки и поднялся по лестнице наверх, где его встретили аплодисментами. Софья спустилась вниз к мужчинам. — Я снял размеры, — сказал Генри. — Немедленно еду с префектом в Аргос, чтобы найти подходящий металлический щит, который попробуем под него подвести. У дома Дасисов Софья вышла, а Генри поехал с префектом дальше, в Аргос. Вместе отправились к городскому кузнецу, заказали сварить из железных полос нужных размеров носилки. К вечеру все было готово. Генри вернулся в экипаже, к задку которого был привязан железный щит. Деметриос и Аякс отвязали его и прислонили к телеге, чтобы утром доставить на акрополь. И вот еще одна бессонная ночь. Генри говорил и говорил, пока не забрезжил рассвет. У Софьи слипались глаза, она то слушала, то погружалась в сон. Генри вспоминал детство, как пробудился его мальчишеский интерес к Трое, Микенам; потом стал с упоением перебирать все подробности последних дней, когда были сделаны эти ошеломляющие открытия. Оделись с первыми лучами солнца. Вся семья Дасисов была уже на ногах. На кухонном столе дымился горячий кофе. Деметриос и Аякс погрузили на телегу железный щит. Генри, Софья и профессор Финдиклис поехали к Львиным воротам на ослах. Несколько рабочих с большим трудом опустили железный щит на дно шахты. Стали рыть щель в подстилающем слое гальки, который под тяжестью многометровых наслоений впрессовался за века в мягкую коренную породу. Генри и профессор позволили рабочим подкапываться со всех сторон — забальзамированные останки не грозили уже рассыпаться. Но отделить монарха от его трехтысячелетней постели и просунуть в щель железный щит не удавалось. — Доктор Шлиман. — после нескольких часов безуспешных попыток сказал профессор Финдиклис, — по-видимому, надо придумать что-то другое. Генри, совершенно расстроенный, кивнул головой. — Вижу. Я уже кое-что придумал. Что, если выдолбить в грунте вокруг неглубокую траншею, а затем сделать горизонтальный подкоп. Таким образом, мы вырежем пласт толщиной в два дюйма и поднимем его вместе с галькой и телом. — Поднимать будем на железном щите? — Нет. В деревянном ящике, чтобы ничего не повредить при подъеме. Надо привезти несколько досок, сколотить их и подвести под грунт, затем прибить к ним стенки. И наш друг окажется внутри ящика. Двое из семьи Дасисов отправились в деревню за досками. Тем временем бригада Генри стала долбить траншею и подкапываться под галечное ложе; работали только лопатами и ножами. На это ушло несколько часов. Вернулся Деметриос с досками, рабочие спустили их на дно, затем просунули одну за другой в поперечную щель, приколотили боковые — и получился четырехстенный ящик. Вокруг могилы опять собралась огромная толпа, чтобы посмотреть, как будут поднимать древнего царя. Рабочие спустили в могилу крепкие веревки, подвели их под ящик, крепко-накрепко завязали, чтобы, не дай бог, ящик не оборвался. Генри, Софья и профессор Финдиклис поднялись по лестнице наверх. Более десяти рабочих, протяжно ухая, стали тянуть наверх драгоценный груз. Поднимали медленно, плавно, дюйм за дюймом. Время тянулось бесконечно. Генри сжимал руку Софьи так, что ей казалось, у нее поломались все косточки; и вот наконец тяжелый ящик показался над поверхностью, его подтянули в сторону и почтительно опустили на землю агоры. Теперь уже толпу не надо было сдерживать. Каждый, кто здесь присутствовал, жаждал увидеть лик микенского владыки. Порядок был полный. Люди благоговейно ждали своей очереди: в торжественном молчании проходили они мимо царственных останков, как будто это был король Греции, умерший вчера и теперь возлежавший на траурном ложе в Афинском соборе. Отдал последние почести древнему царю последний аргосец. Генри распорядился погрузить ящик со скорбным грузом на дроги. Толпа запротестовала. — Доктор Шлиман, мы на своих плечах отнесем его в Харвати. Это для нас величайшая честь. Шесть человек встали по обе стороны и подняли ящик на плечи. Двое встали спереди, еще двое сзади, и процессия тронулась. Генри и Софья шли впереди всех, за ними профессор Финдиклис и Спирос. Далее следовал Стаматакис, по левую его руку—Леонидас Леонардос, по правую — префект Аргоса. Это было поистине королевское шествие. Прошли через Львиные ворота и неспешно двинулись по извилистой дороге вниз. Быстро смеркалось. Когда вступили в деревню, было уже совсем темно. По всей улице пылали факелы — это крестьяне из окрестных деревень пришли проводить своего царственного предка к месту временного упокоения. У кладовой Стаматакиса кто-то взял Софью под руку. Это была Иоанна Даси. По щекам ее текли слезы. — Иоанна, почему ты плачешь? — удивилась Софья. — Мне так жаль этого бедного человека. Тысячи лет никто не тревожил его покоя. Там, в глубине могилы, ему нельзя было причинить вреда. Это был его вечный дом. Что же теперь-то с ним будет? Обняв за плечи добрую женщину, Софья попыталась утешить ее. — Ну что ты, Иоанна, теперь он обретет бессмертие! Будет вечно жить в красивом археологическом музее в Афинах. И люди со всего света будут приходить к нему, преклонять перед ним колена и присягать ему в верности!
Книга восьмая. Пора зрелости
1
Афинские газеты сообщили о возвращении из Микен археологической экспедиции Шлимана и поместили описание некоторых ее замечательных находок. На пристань пришли друзья. С парохода сгрузили ящики с золотом и отправили в подвалы Греческого национального банка неподалеку от площади Омониа. В свой дом на улице Муз Софья и Генри вошли победителями. Софья сразу же вступила в свои обязанности матери и хозяйки дома. Андромаха не отходила от нее ни на шаг, личико ее сияло: весной ее тоже возьмут в Микены. Генри наведался в тайники, убедился, что троянское сокровище на месте. В доме воцарились мир и счастье, пока Генри не столкнулся с тем, что он назвал «продуманной обструкцией» его планам скорее сфотографировать золотые находки и отправить снимки в Лондон, своему издателю Джону Мэррею. За разрешением сфотографировать их Генри первым делом отправился к президенту Археологического общества Филиппосу Иоанну. Тот ушел от прямого ответа. Тогда Генри обратился к министру народного просвещения Георгиосу Милессису, и министр сказал ему: — Наберитесь терпения. Нужно подождать Стаматакиса. Шлиман вспыхнул и не без сарказма заметил: — Ну, разумеется, сторож очень важная шишка. — На этом настаивает Археологическое общество. Тогда Шлиман отправился к своему другу Стефаносу Куманудису, который привозил в Микены императора Бразилии лома Педро. Он объяснил Куманудису, сколько надо времени, чтобы сделать двести фотографий, и какая это кропотливая работа, поскольку «Микены» будут опубликованы в Нью-Йорке, Париже и Лейпциге с одними и теми же гравюрами. — Мой дорогой друг, я понимаю ваше нетерпение. Однако Археологическое общество постановило, чтобы на вскрытии ящиков присутствовал весь его состав. Больше идти было не к кому. Король Георг I не ответил на телеграмму, значит, королевский дворец был для него закрыт. Поскольку на людях Генри приходилось сдерживаться, дома он давал себе волю, вымещая раздражение на половицах и обличая власти. — В конце концов, я нашел сокровище! Я оплатил все расходы! Я принес Греции этот бесценный дар! Каждый день промедления все сильнее раздражал его; Софья пыталась его успокоить, это ей мало удавалось, но дорого стоило ее нервам. Однажды утром она надела черное с белым шерстяное платье, отделанное темно-серым кружевом, и отправилась к Ефтимиосу Касторкису, который прислал к ним в Микены дорожного инженера, высказавшегося за продолжение раскопок Львиных ворот и сокровищницы. — Я прошу об одном: чтобы общество назначило для вскрытия ящиков по возможности ближайший день. Окажите мне такую любезность. Устремив в пространство взгляд темных глаз, Касторкис несколько секунд размышлял. — Археологическое общество постановило посетить Национальный банк только после Нового года. Обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы перенести дату ближе. Я знаю, эти три недели покажутся вечностью вашему неугомонному супругу, но за это время я кое-что сделаю, чтобы успокоить господина Шлимана. На другой день Генри получил приглашение посетить 14 декабря министерство народного просвещения, где будет вскрыт один из ящиков с находками. В нем находились наиболее ценные фигурки Геры, ключ от Львиных ворот, перстень-печать с изображением двух женщин с красивыми прическами и осколок большой вазы с воинами. Вернувшись из министерства, Генри нашел дома приглашение от короля Георга: на другой день король давал им аудиенцию. Профессору Финдиклису удалось убедить короля, что Генри III inm.iм ничего не преувеличил в телеграмме и микенское золото, по-видимому, величайшая в мире коллекция древностей. Для столь торжественного визита Генри и Софья надели свои лучшие, хотя и несколько старомодные, туалеты, в которых год назад по приглашению английского министра Гладстона они посетили палату общин и пили чай на террасе парламента. Они вышли из экипажа перед парадными дверьми, прошли вестибюль и вошли в приемную гофмейстера. Тот провел их по коридору в зал аудиенций, находившийся рядом с личным кабинетом короля. Гофмейстер официально представил королю доктора Шлимана и его супругу госпожу Шлиман. Георг I тепло их приветствовал. Он был одет в темно-синий адмиральский мундир с двумя рядами золотых пуговиц и стоячим воротником, расшитым золотом. Георга I тринадцать лет назад возвели на престол военные, свергнувшие короля Отгона; сейчас ему был тридцать один год. Генри и Софье предложили кресла против короля. Софья молчала, зато Генри, не жалея красок, рассказывал, как были найдены могилы и извлечены сокровища. Когда он окончил рассказ, король сказал: — Поздравляю вас. Поверьте, я горю желанием увидеть микенское золото. Насколько мне известно. Археологическое общество решило вскрыть ящики в самом начале нового года. Спускаясь по дворцовой лестнице, радостно взволнованная монаршим благоволением Софья сказала: — Спасибо нашему другу Касторкису: действительно назначили ближайший день. Генри благодарно улыбнулся в ответ. — Ты умница. Софидион. — За оставшиеся две недели изволь написать последнюю статью для лондонской «Таймс» и переработать те страницы дневника, о которых ты говорил. Генри озорно взглянул на нее. — Иными словами, утихомириться? Вернуть покой на улицу Муз? Ну что ж, ладно. Генри вставал на заре и садился за статью для «Тайме», переписывал для книги беглые заметки из дневника. В десять часов он шел в «Прекрасную Грецию», пил кофе, читал европейские газеты. Ровно в половине второго он был дома; немного соснув после обеда, брал Софью и Андромаху и ехали за город. Яннакнсу с семьей в Ренкёе совсем не стало житья, и Генри послал деньги на проезд до Пирея всем троим — Яннакису, Поликсене и их сыну Гектору. Софья по-жилому обставила полуподвал, чтобы у людей был свой угол. Эти разорившиеся на чужбине греки были безумно рады вновь обрести свободу и покровительство Шлиманов. Великан Яннакис, увидев старых хозяев, опустился на одно колено, поцеловал руку Софьи и со слезами на глазах прошептал: — Ваш слуга. Поликсена обняла Софью, как родную сестру после долгой. разлуки. Генри поручил Яннакису уход за домом и садом. Свое жалованье Яннакис просил перечислять в банк: под Ренкёем ему приглянулось одно хозяйство. Первый день января был ясный, и уже покусывал холод. Отстояли службу в церкви святой Богоматери, оттуда отправились в Национальный банк. В кабинете директора собирались члены Археологического общества. Некоторые жены были членами Женской ассоциации. Они только что не облизывали Софью, гордясь ее статьями в «Эфимерис», но главным образом ее участием в раскопках, подаривших миру чудесную «сокровищницу госпожи Шлиман». Президент общества Филиппос Иоанну повел собравшихся в подвальное хранилище, перед дверью которого стоял вооруженный охранник. Директор банка и президент общества вложили свои ключи, тяжелая дверь отворилась. Последним вошел эфор Стаматакис. Вернувшись в Афины вскоре после королевской аудиенции Шлиманам, он привез еще тринадцать ящиков с находками. Их также заперли в подвалах банка. Ящики с золотом весили всего тридцать фунтов, остальные же находки, включая надгробные плиты и резные стелы — шесть тысяч фунтов. В холодном каменном мешке смотритель зажег несколько газовых ламп. Президент общества спросил Шлимана, какой ящик он желает вскрыть. Генри вгляделся и показал на тот, где хранились самые эффектные находки: диадемы, маски, нагрудные золотые пластины, кубки. Стаматакис, запечатавший ящик в Харвати, выступил вперед, «как будто сам нашел царские могилы», подумала Софья. Словно не замечая Шлиманов, с которыми он не встречался со времени своего приезда, он сорвал печать и поднял крышку. Он уже протянул руку к золотой маске, но тут вмешался Генри: — Господин Стаматакис, я укладывал эти сокровища в ящик, мне их и вынимать. Стаматакис молча ретировался в дальний угол. Первыми Генри извлек несколько золотых диадем из второй могилы. Среди восхищенного молчания кто-то шумно втянул воздух, кто-то воскликнул: «Невероятно!» Генри рассказал, как выглядели погребения, упомянул о слоях гальки, описал положение скелетов и только потом перешел к царскому золоту. Он показал сотни золотых пластин с рельефными украшениями, золотую корону, увенчанную тридцатью шестью листьями, две большие золотые маски из четвертой могилы, «кубок Нестора» с парой золотых голубок, невиданной красоты золотую маску Агамемнона: на узком лице крупный нос, короткие усы, бородка. Зрители потрясение молчали. Вдруг подземные своды огласились аплодисментами, кто-то крикнул: «Браво!» Президент общества Иоанну, ревниво оберегавший золото от любопытных рук, включая свои собственные, сказал: — Доктор Шлиман, примите мои сердечные поздравления. Я поздравляю не только вас и госпожу Шлиман, но и весь наш греческий народ, вообще весь мир. получивший такой великолепный подарок. Я побывал во многих знаменитых музеях мира, но я нигде не видел ничего подобного. Вы сделали человечество богаче. Он повернулся к своим коллегам и понял, что высказал общее мнение. — Завтра начинайте фотографировать.2
Январь 1877 года стал месяцем напряженной работы. Генри днями пропадал в банке, выбирая самый выигрышный ракурс для фотографирования каждой крупной находки, мелкие же находки—ожерелья, серьги, браслеты, узорчатые золотые листья — подбирал так, чтобы они эффектнее смотрелись. Он хотел, чтобы в книгу попало все самое важное. Задача облегчалась тем, что Джон Мэррей решил дать в книге гравюры и взял на себя все хлопоты и траты. Каждое утро братья Ромаидис приносили Генри проявленные негативы отснятого накануне. Если четкость изображения не удовлетворяла Генри, они проявляли другой негатив. А вот с работой в хранилище так складно не выходило. Генри бесило, что за ним неусыпно надзирала комиссия из пяти человек: Стаматакис, два члена Археологического общества, генеральный инспектор памятников старины и вице-президент Национального банка. Конечно, они не караулили его впятером весь день: вице-президента отвлекали дела наверху, у других тоже были обязанности в городе. Но по-видимому, между собой они решили, что по крайней мере трое должны постоянно присутствовать в хранилище. Они составляли подробные списки всего, что Генри вынимал из ящиков, и перед закрытием банка тщательно проверяли, все ли возвращено на место. — Они боятся, что я украду что-нибудь, — жаловался он Софье. — Если бы у меня было такое желание, я без труда сделал бы это в Микенах. — Все потому, что мы тайно вывезли сокровища Приама из Турции, — сетовала Софья. — Они этого не забудут. Софья давно заметила, что хорошее без худого не бывает. На радость Генри. Археологическое общество отправило Стаматакиса в Микены разведать места будущих раскопок и построить на акрополе помещение и я охраны, однако в отсутствие эфора фотографировать позволили только керамику, бронзу и каменные изделия. 20 января Генри получил телеграмму от лейтенанта Дросиноса, которого послал в Микены снять дополнительные планы. Дросинос был уверен, что наткнулся еще на одну могилу за кольцевой стеной агоры. Он просил Генри немедленно приехать в Микены. — Это невозможно, — воскликнул Генри, — я не могу бросить все и уехать! 26 января король Георг и королева Ольга в сопровождении герцога и герцогини Эдинбургских посетили хранилище Национального банка. Генри извлек самые красивые маски и диадемы. Августейшие гости были в восторге. А вечером пришла телеграмма: эфор Стаматакис раскопал могилу, о которой телеграфировал лейтенант Дросинос, и нашел золотой клад: четыре вазы с изображением собачьей морды, сосуды, перстни с чеканными пальмовыми листьями и роскошно одетыми женщинами, бычьи головы, ожерелья. Лицо Генри посерело. Его бросило в дрожь. С трудом сделав несколько шагов, он упал в кресло. — Как я мог это допустить? — простонал он, спрятав лицо в ладонях. — Надо было сразу же ехать в Микены. Пусть кто угодно нашел бы шестую могилу—только не Стаматакис. Микены — наши. А теперь мы должны делить их с этим… Софья пыталась найти слова утешения: — Дорогой, ты преувеличиваешь. Микены действительно наши. Открытие Львиных ворот, сокровищница, царские могилы— это все наше. Твоя книга станет доказательством этому. Вскинув голову, он посмотрел на нее лихорадочно воспаленными глазами. Казалось, он постарел на двадцать лет. — И раньше было трудно с ним, а теперь будет совсем невыносимо. — Одного он не сможет сделать! — воскликнула Софья. — Опубликовать сообщение о своих находках. Твой контракт дает тебе исключительное право распоряжаться микенскими находками. Тик, перекосивший на левую сторону его лицо, унялся. — Да, мы можем запретить ему обнародовать свои находки, но и он может не позволить нам дать их описание в книге. Какой я идиот! Был в двух шагах от этого клада — это же рядом сциклопическим зданием, которое я раскопал за стенами круглого кладбища. Почему я не копнул чуть дальше?! — Эррикаки, перестань казнить себя. Когда Генри ушел, она уже не в силах была ни о чем думать. Она чувствовала, что не находит себе места. Впервые за последние два года ее скрутила боль в животе. Несколько дней спустя пришло письмо от Дросиноса с подробным отчетом. Он приехал в Микены 20 января и, снимая планы, углядел за оградой могильного круга площадку, схожую с обнаруженными прежде могилами. Он предупредил караульного Панопулоса никого не подпускать близко и поехал дать Генри телеграмму. Вернувшись в Нафплион, он встретил там ожидавшего его Стаматакиса и рассказал о телеграмме и отданном караульному распоряжении. Стаматакис поспешил в Микены и раскопал площадку. Копию своего письма лейтенант Дросинос послал в газету «Стоя». В конце января, в тот самый день, когда письмо Дросиноса появилось в газете «Стоя», Стаматакис вернулся в Афины и поместил новый клад в хранилище Национального банка. Взбешенный письмом Дросиноса, он написал опровержение, которое было опубликовано 21 февраля в «Эфимерисе». Придя к Дросиносу посмотреть снятые им планы, утверждал Стаматакис, он услышал от него, что снаружи могильного круга, кажется, есть еще могила, Стаматакис объяснил Дросиносу, что с внешней стороны могил быть не может. На том разговор и кончился. Никакой площадки Дросинос ему не показывал. Клад он обнаружил в развалинах дома, а не в могиле, там были только кости животных. Находка золотого клада всецело его заслуга. Генри и Софья следили за этой газетной перепалкой. 7 февраля Дросинос опубликовал новую статью, в которой решительно утверждал, что в опровержении Стаматакиса нет ни слова правды. Спустя два дня Стаматакис огрызнулся через газету: «Дросинос ничего мне не показывал. Он написал статью* чтобы угодить господину Шлиману, который ему за это платит. Генри Шлиман боится, что мои недавние открытия опишет кто-нибудь другой, он желает поместить их в своей книге, которая принесет ему огромные барыши». Археологическое общество и сослуживцы Стаматакиса поверили его заявлению. Лейтенанту Дросиносу пришлось нелегко. Выяснилось, что он поехал в Микены по поручению Генри, не испросив разрешения у своего начальства. Его понизили в звании и оштрафовали в размере месячного жалованья. — Я добьюсь, чтобы это суровое наказание отменили. — заявил Генри. — В конце концов, по службе он не был занят и мог распоряжаться своим временем, как хотел. — Все наши помощники попадают в беду, — с горечью заметила Софья. Генри стоило немалых усилий добиться смягчения участи Дросиноса; он обращался и к министру просвещения, и к членам Археологического общества—словом, ко всем, кто имел доступ в правительственные сферы. И он не зря хлопотал: Дросиносу вернули звание, но штраф не отменили. Генри компенсировал ему эту потерю. Не успел Генри вызволить из беды Дросиноса, как в скверную переделку попал другой его старый друг, полицмейстер Нафплиона: его сняли с должности и угрожали тюрьмой. Леонидаса Леонардоса обвиняли в том, что он получил от императора Бразилии дона Педро тысячу франков за охрану его величества в Нафплионе, а между своими подчиненными разделил сорок франков, клянясь, что именно столько получил от императора. И он действительно получил всего сорок франков, писал Леонардос, то есть восемь долларов. Генри тотчас послал премьер-министру просьбу о помиловании Леонардоса. Премьер-министр не ответил. Генри снова написал ему, клятвенно заверяя, что Леонардос человек кристальной честности и обмануть своих подчиненных не мог. Подоплекой этой истории была ссора между мэром Нафплиона и полицмейстером. Мэр и распустил эти слухи. Поскольку премьер-министр промолчал и на этот раз, Генри не оставалось ничего, как обратиться к самому императору, и он написал дону Педро, который в это время был уже в Каире: «…во имя святой правды и человечности, сколько получил Леонардос—сорок франков или больше?» Получив письмо, император немедленно отправил телеграмму: он дал ровно сорок франков. Премьер-министр долго постигал смысл этой телеграммы. Потом он принес Генри извинения за то, что не ответил на его письма, и распорядился восстановить Леонидаса Леонардоса в должности. Генри не терпелось увидеть новые золотые находки. Из краткого описания в телеграмме, посланной Стаматакисом Археологическому обществу, можно было заключить, что найденное золото не походило на то, которое Генри извлек из захоронений. Коль скоро Стаматакис утверждал, что нашел клад в развалинах древнего здания, а не в могиле, значит, решил Генри, это золото составляло чью-то фамильную собственность. Это, несомненно, умаляло ценность находки. Тем не менее фотографии клада надо бы включить в книгу о Микенах, иначе она будет неполной. Эфор Стаматакис занимал скромный кабинетик в правительственном здании в центре города. «Войдите», — откликнулся он на стук в дверь и уставился на Генри неузнающим взглядом. Генри спросил, не могут они сходить в Национальный банк и увидеть золото, которое Стаматакис привез из Микен. — Я еще не готов вскрыть ящики, — сухо ответил Стамазакис. — А когда будете готовы, позвольте спросить? — Не знаю. Во всяком случае, не в ближайшее время, нужно еще написать отчеты. Я открою ящики только в присутствии членов Археологического общества и профессоров из университета. — Но вы понимаете, что я должен включить эти находки в мою книгу о Микенах? Стаматакис поднял на него глаза. — Вы не принадлежите к числу моих друзей, господин Шлиман. Вы взяли сторону лейтенанта Дросиноса, который публично ославил меня лжецом. — Он хороший инженер. Зачем портить ему военную карьеру? — Во имя истины! — И резко прибавил: — Впрочем, вас это никогда не волновало. Вы думаете только о себе, ваши удачи на Гиссарлыке и в Микенах важны вам постольку, поскольку они сулят славу и деньги. И снова Генри обивает пороги учреждений. Прямо ему нигде не отказывают в праве увидеть находки Стаматакиса, но все просят повременить. В роли просителя Генри вел себя безукоризненно, зато дома давал выход лютой ненависти к Стаматакису — этому клерку, этому ничтожеству, из-за которого приходится ходить из одного учреждения в другое, от одного знакомого к другому без всякого толку. Генеральный инспектор памятников старины особой любви к Генри не питал. Это к нему Шлиманы приходили каяться три года назад, вернувшись из первой поездки в Микены, и он тогда упрекнул их в неуважении к греческим законам. Зато сейчас именно Эвстратиадис распорядился, чтобы 18 февраля во второй половине дня Стаматакис встретил его и Шлиманов в Национальном банке, где доктор Шлиман с его разрешения сделает необходимые снимки. Подобие покоя спустилось на мятущуюся душу Генри (на его «взрывчатую» душу, уточнила бы Софья). Хотя фотографировать пришлось с пулеметной скоростью, но именно в эти минуты у Генри родилась мысль дать постоянное пристанище своим коллекциям из Трои и Микен. За ужином он сказал Софье: — Я возвращаюсь к своему первоначальному намерению, которое не было принято из-за нашей тяжбы с турками. Хочу опять предложить угловой участок вблизи университета и сорок тысяч долларов на строительство музея. Архитектор Циллер согласился сделать проект. — У тебя только одна коллекция. Генри: микенские находки принадлежат Греции. — Что за глупости! Только представь себе, каким он будет, музей Шлимана. когда мы передадим ему наше золото, геммы, вазы, стелы! Со всего света будут съезжаться посмотреть. Софья промолчала. Генри так и не смог постичь греческий характер. Правда, одна истина ему приоткрылась, когда в Харвати Финдиклис и Стаматакис, не смущаясь его присутствием, толковали о судьбе сокровищ: он понял, что в его услугах уже не нуждаются. И члены Археологического общества, и ведающие античными памятниками чиновники — всех их выпестовал. Афинский университет, у всех было одно образование, одни идеалы. Это была однородная среда, в которой Генри не было места: он иностранец, чудак, «энтузиаст». Они откажут ему. Так оно и случилось. Премьер-министр, министр народного просвещения, президент Археологического общества—каждый поблагодарил его за великодушное предложение, но они уже начали строить Национальный музей, в котором будут выставлены все греческие древности, как те, что уже имеются, так и будущие — из Олимпии, Дельф. Переживая свое унижение, Генри несколько дней угрюмо молчал, пока ему не пришла в голову мысль о предварительной выставке микенских сокровищ. И он опять отправился по департаментам за разрешением готовить стеллажи и стенды. Ему ответили, что с выставкой не горит, что предстоит большая подготовительная работа: многое реставрировать, склеить черепки, составить каталог. Софья страдальчески морщилась, слушая его рассказ. Она предвидела и этот удар, когда он признался ей, что хочет поторопить общество с выставкой. Но сломить Генри было непросто. — Я уверен, они не могут устроить выставку в этом году только потому, что у них нет подходящего помещения. Я обыщу весь город, но найду им прекрасный зал. Несколько дней он ходил по Афинам, но подходящего зала не было ни в университете, ни в каком другом учреждении. Наконец неутомимые ноги привели его к красивому корпусу строящейся Политехнической школы. Он переговорил с ректором, предложил деньги за аренду, получил согласие. Но когда он явился с этой вестью в Археологическое общество, его выслушали без всякого энтузиазма. — Господин Шлиман, мы ведь уже сказали вам, что не будем устраивать выставку ни в этом году, ни, по-видимому, в следующем. Необходимо очень многое сделать, чтобы выставка была во всех отношениях безупречной. Генри убитым голосом выкладывал Софье свои жалобы, но и она крепилась из последних сил. — Мне больно говорить тебе это о моих соотечественниках, — сказала она. — Мои слова могут прозвучать жестоко. Но они готовы ждать хоть несколько лет, пока твое имя понемногу забудется. И тогда это будет Афинская — и ничья больше— выставка, их собственная выставка, никакого отношения не имеющая к доктору Шлиману. Генри с болью глядел на нее, глядел долго-долго. В его глазах стояли слезы. — Хорошо, раз я здесь не нужен, начну переговоры с Кенсингтонским музеем в Лондоне. Предложу им выставить сокровища Приама. Эту мысль мне подал премьер-министр Гладстон. Он пишет, что они с восторгом согласятся выставить нашу коллекцию. Приняв решение, он повеселел. Софья радовалась за мужа, жертвуя собственными чувствами. Если троянский клад покинет Афины, обратно он может и не вернуться. Неожиданно из Лондона пришла телеграмма. Генри ликовал, читая и перечитывая ее. Его приглашали выступить в мае с лекцией в Королевском археологическом институте Великобритании и Ирландии. Тогда же им вручат дипломы об избрании почетными членами. — Два диплома, — улыбнулась Софья. — Словно мы с тобой вместе оканчиваем университет. Генри определенно решил не возвращаться в Микены. — После царских могил раскапывать дворец неинтересно. И вообще, я больше ничего не буду раскапывать в Греции. Я хочу возобновить наши работы в Трое. — В Трое? Что ты думаешь там еще найти? — Полностью раскопаем дворец Приама. Мы не успели кончить, потому что надо было спасать золото. Я хочу раскопать весь третий сожженный город и все кольцо обводной стены. Там может быть гораздо больше слоев, чем мы предполагаем. Может, не меньше семи. Я хочу раскопать их все. Работы на много лет. Теперь у меня больше опыта, и раскопки я буду вести более научно. Софья вздохнула. Она не могла взять с собой в Трою Андромаху — там ни школ, ни врачей. Фирман у Генри есть, но срок его действия истекает через год, 8 мая 1878 года, и он еще принимает приглашение Королевского археологического института!3
Немецкие ученые мужи, чьим мнением дорожил весь мир, не стали ждать, когда выйдет книга о Микенах, и заблаговременно повели дискредитацию царских могил и золотых сокровищ. Мишенью для своих нападок они избрали статьи Шлимана в лондонской «Таймс». Доктор Эрнст Курциус, автор знаменитой книги о Пелопоннесе и об истории Греции, бывший профессор Берлинского университета, недавно получил разрешение на раскопки в Олимпии и теперь возглавлял прусскую экспедицию. В 1871 году Генри познакомился с ним в Берлине. Они переписывались, и, хотя, по мнению Курциуса, Троя находилась в Бунарбаши, между ними были вполне дружеские отношения. Доктору Курциусу было разрешено осмотреть микенское золото в Национальном банке. Он писал жене: «Золото такое невероятно тонкое, что герой Агамемнон был, видимо, весьма нищий князек. Ничего подобного этим микенским могилам нет в античной древности». Основываясь на этих словах мужа, фрау Курциус написала для одной немецкой газеты статью, в которой громила теории Шлимана и умаляла ценность его находок. Мнение Курциуса было подхвачено всеми прусскими и австрийскими учеными, а газеты разнесли его по всему миру. Взбешенный Генри ответил ударом на удар. «Прусское правительство, — писал он, — разочаровано своими раскопками в Олимпии. Но если в Олимпии не найдено ничего стоящего, то лишь потому, что эти невежественные болваны работают без плана и системы и сваливают мусор в пятидесяти ярдах от раскопа. Имея одну треть их денег, я бы сделал чудеса. Они слишком учены, чтобы вести раскопки». Второй удар нанес Эрнст Бёттихер, капитан прусской армии, записавшийся в ученые. На конференции в Берлине, устроенной сразу после первых раскопок на Гиссарлыке, капитан Бёттихер выступил с заявлением, что никакой Трои не было и что Гомер — собирательное имя поэтов и сказителей, живших на протяжении нескольких веков. Генри тогда с места бросил реплику, что капитан Бёттихер не вчитался в тексты «Илиады» и «Одиссеи», из которых с несомненностью следует, что Гомер существовал и что он первый величайший поэт. Так Генри нажил себе смертельного врага. Бёттихер написал несколько статей, а потом даже книгу, в которой договорился до того, что Гиссарлык — просто крематорий, где древние сжигали мертвых. Он обвинял Генри в том, что тот якобы снес стенки печей и опубликовал в книге о Трое фальсифицированные планы и чертежи. Теперь для своих бредней он располагал материалами микенских раскопок. И Бёттихер прямо обвинил Генри в мошенничестве: он де сам начинил скалу золотом, причем поскупился на расходы и сфабриковал «невероятно тонкие» веши, что и подметил профессор Курциус. Третья категория недоброжелателей называла его мотом и расточителем, проматывающим состояние в угоду честолюбию. Генри пришлось даже приподнять завесу: пятьдесят тысяч долларов, ежегодно тратимых на раскопки, брались не из капитала, а с процентов, причем еще оставалось и на содержание семьи. — Видимо, я рано почила на лаврах, — сетовала Софья. — То, что есть люди, которые никогда не верили в существование Трои и не могут признать твои теории даже вопреки очевидным фактам, — это я еще понимаю. Но из истории всегда было известно, что в Микенах существовали царские могилы и что, согласно тогдашним обычаям, они должны быть буквально набиты золотом. И ведь все знают, что за раскопками наблюдало греческое правительство. Зачем Курциусу понадобилось опорочить наши прекрасные золотые маски, диадемы, кубки? Приступ гнева сменился у него угрюмостью. — Никогда бы не подумал, что Курциус способен натравить жену на наши раскопки. Зависть, злоба. Теперь в Археологическом обществе скажут: привез Шлиман тридцать фунтов золота и воз неприятностей в придачу. Софья никогда не считала себя хрупким созданием. Ее здоровье мирилось с дурным климатом Троады и ужасными условиями жизни в Хыблаке и Гиссарлыке. Она могла по пятнадцать часов в сутки работать и в дождь с прохватывающим до костей ветром, и под палящим солнцем. И воля у нее была, она не подведет ни в делах, ни в трудную минуту. — Духом и телом сильна, а вот нервы никуда не годятся, — расстраивалась Софья. Нападки, насмешки, откровенная травля, оскорбительное шельмование — «бездарности», «невежды», «проходимцы», «пиявки на здоровом теле науки», «самозванцы и хвастуны, недостойные дышать одним воздухом с настоящими учеными». Под такими ударами она чувствовала себя жалким суденышком, попавшим в девятибалльный шторм. Генри находил разрядку в яростных опровержениях, а она на это не была способна. Публичный мордобой был не в ее характере. К тому же Генри с головой ушел в работу — заканчивал несколько сотен фотографий для книги о Микенах, писал последнюю главу о находках чиновника по фамилии Стаматакис». А у нее и дел почти никаких не было: хозяйство вел Яннакис, Поликсена занималась Андромахой, молодая кухарка из Плаки прекрасно готовила. Софью охватила вялость, пропал аппетит. Как ни уговаривал ее Генри «съесть что-нибудь и выпить бокал вина»—она отказывалась. Она плохо спала, похудела. Однажды, вернувшись к обеду, Генри нашел ее в постели и не на шутку встревожился. Он подсел к кровати, взял ее руку, поцеловал. — Милая крошка, держись, не поддавайся. Через несколько недель мы будем в Англии, с людьми, которые нас обожают. И вся эта мерзость развеется как дым. Кто делает эти пакости? Ученые завистники, они все заодно. А для нормальных людей мы герои, перед нами преклоняются, мы живем беспокойной, интересной жизнью. Пусть это тебя утешает и поддерживает. — Я знаю, Эррикаки. — Софья слабо улыбнулась. — Мне самой неприятно раскисать из-за этого. Потерпи немного. Я поправлюсь, мы еще покопаем в Трое. Генри отплыл из Пирея в Лондон 18 марта. Софья осталась дома; она знала, что дороги ей не перенести. Желчные колики не проходили, и она почти все время лежала. Вставала через силу, помогала Катинго, которая тяжело разрешилась четвертым ребенком. Андромахе скоро исполнялось 6 лет, у нее менялись зубы, она температурила, капризничала. Слегла и мадам Виктория—с «сердечным приступом, — определил доктор Скиадарассис, — пугать ее не надо, а надо с месяц подержать в постели». Софья уложила мать в спальню рядом со своей. В конце марта Софью навестил Чарльз Ньютон из Британского музея. Его аккуратно подстриженные усы и короткие волосы подернула седина, но голубые глаза смотрели молодо и задорно. Софье было приятно снова увидеть его, посидеть с ним на атласном диване в гостиной. — Госпожа Шлиман, я только что видел ваше золото. Великолепно! Бесподобно! Эрнст Курциус абсолютно неправ. Это древние предметы, они почти наверняка современники Агамемнона. Завтра я веду Курциуса в хранилище. Поблагодарив его, Софья тихо обронила: — Для немцев Генри всегда неправ. А для англичан всегда прав. Ньютон отечески похлопал ее по руке: — Дорогая мадам Шлиман, все мы патриоты, но не любим, чтобы соотечественники опережали нас. А через два дня явился собственной персоной профессор Эрнст Курциус. Софья видела его впервые. У Курциуса была львиная голова с копной белых волос, густыми прядями спадавших на уши и шею. Неправдоподобно широко расставленные глаза, казалось, видели насквозь. — Госпожа Шлиман. я беспокоюсь, как бы не вышло недоразумения из-за статьи, критикующей находки вашего мужа в Микенах. Фрау Курциус написала ее, опираясь на случайное замечание в одном из моих писем к ней. По моей просьбе жена пишет такие статьи — ведь я годами путешествую по Греции, собирая материалы для моей «Истории Греции». Но эта статья была он шоком. — Сама статья или ваше «случайное замечание»? — сухо спросила Софья. — И то и другое. Я слишком поспешно судил о микенских находках и, что греха таить, немного завидовал. Ваш добрый друг Чарльз Ньютон провел вчера со мной в хранилище три часа, разбирая золотые маски, диадемы, нагрудные пластины. Я ошибался. Это действительно древние вещи. И золото вовсе не тонкое, как я писал, оно массивное и обработано с невиданным мастерством. Я бы не хотел, чтобы между мной и вашим мужем была хоть тень размолвки. Пошлите ему, пожалуйста, вот это письмо, где я отказываюсь от своих слов и приношу извинения. Софья взяла тонкий конверт и тихо спросила: — А вы не могли бы сделать такое заявление в газете, опубликовавшей статью вашей супруги? — Нет, госпожа Шлиман, этого я сделать не могу… Это поставит мою жену в неловкое положение, вызовет нарекания. Насколько мне известно, скоро выходит в свет книга доктора Шлимана о Микенах. Я помещу на нее рецензии в немецких археологических журналах. В них я с гораздо большим успехом восстановлю его доброе имя в наших ученых кругах. У Софьи гора с плеч свалилась. Поблагодарив Курциуса, она налила ему чашку чая и просто сказала: — Хотите, я расскажу вам, как мы раскапывали царские могилы? Добрые вести спешат вместе. Прошло несколько дней, и афинские газеты поместили сообщения о восторженном приеме, оказанном Генри в Королевском обществе древностей в Лондоне. Одна газета прямо писала: «Нужно признать, что Греция не сумела оценить по достоинству этого человека». А еще несколько дней спустя Софья получила номер «Лондонских иллюстрированных новостей» со статьей о «сокровищнице госпожи Шлиман». Там специально говорилось о ее участии в раскопках. «Поскольку купол этой гробницы был с давних пор пробит, в общем было известно, что это такое. Теперь же благодаря госпоже Шлиман раскопана и открыта для обозрения вся гробница. Пока ее муж трудился внутри стен акрополя, она вела исследование этого памятника древности…» Софья читала статью, и к горлу ее подкатывался комок. Жизнь с Генри Шлиманом, конечно, выдержать нелегко. Но какая это была удивительная жизнь! Жаль, что его нет сейчас рядом. И как-то ночью, уже в мае, мучаясь бессонницей и одиночеством, она встала, прошла в кабинет Генри, подошла к его столу и написала на древнегреческом стихотворение:При трезвом дневном свете она перечитала стихи и поняла, что на последний вопрос, видимо, придется ответить утвердительно. От разных ученых обществ Генри уже получил десять приглашений выступить с лекцией. Еще месяц нужно поработать с издателем Джоном Мэрреем и с лучшими английскими граверами Купером и Уимпером, готовившими клише для его книги о Микенах. Постоянные зубы у Андромахи благополучно прорезались, температура спала. Катинго оправилась от послеродовых осложнений. Госпожа Виктория тоже была на ногах и опять управляла домом, не подозревая, что перенесла сердечный приступ. Софья попросила доктора Скиадарассиса найти хорошую сестру посмотреть за матерью. Уладив домашние дела, она облачилась в свою «Амалию» — греческий национальный костюм: длинная до щиколоток шелковая юбка, синяя в красный горошек, белая блузка из тонкого полотна, короткий жакет и красная бархатная феска. С нею ехала вся компания: Андромаха, Поликсена, Спи рос. В Пирее сели на пароход до Марселя, потом ехали поездом в Париж, где Генри обещал их встретить, чтобы всем вместе переправиться через Ла-Манш. Им было очень хорошо в гостинице «Лувуа». А уже через два дня они стояли на пороге снятого Генри дома № 15 по Кеппел-стрит, рядом с Британским музеем. Здесь Софью ждало официальное приглашение. Президент Королевского археологического института Великобритании и Ирландии лорд Талбот де Малахид с единогласного одобрения своего совета сообщал: «Миссис Шлиман в самом ближайшем будущем приглашается почтить институт своим присутствием на специальном заседании в 5 часов пополудни. Госпожу Шлиман просят сделать сообщение на любую угодную ей тему». На этом заседании ей предстояло получить диплом почетного члена Королевского археологического института, одного из самых уважаемых в Англии. Генри сиял от восторга. Софья ударилась в панику. — Генри, я ни разу в жизни не выступала публично. Что я скажу? Генри рассмеялся над ее страхом перед публикой. — Говори, о чем хочешь: о греческом наследии, о наших раскопках в Трое, в Микенах… — По-гречески надо говорить или по-английски? — По-английски. Чтобы тебя все поняли. Знаешь, напиши-ка сначала по-гречески. Вырази себя свободно, а потом переведем на английский. Макс Мюллер отшлифует текст. У тебя впереди целых три недели. Твое выступление предполагается всего на двадцать минут. В их временном пристанище было удобно, но мрачновато. Гостиная выдержана в темно-коричневых тонах, стены столовой оклеены темными лаковыми обоями. Окна в спальне и в нижних комнатах, помимо легких занавесей, задрапированы тяжелыми, синего бархата гардинами, тяжело свисавшими на бронзовых кольцах с массивного карниза красного дерева. В доме не было ни света, ни воздуха. Комнаты заставлены так. что не пройти: громадный рояль, столы, кушетки, кресла, этажерки с цветами, ширмы, горшки с папоротниками, пальмы, резные орехового дерева горки, инкрустированные слоновой костью, тяжелые буфеты с фарфором, вазы с муляжными фруктами. — Не понимаю, — говорила Софья, — как можно пройти по этому лабиринту в темноте. Генри, сделай для меня одну вещь: сними эти гардины, распахни окна и впусти свет и воздух. — Боюсь, без лома тут не обойтись. Англичане считают, что свежий воздух вреден для легких. Весь май держалась прекрасная погода: теплое солнце, прозрачный, искрящийся воздух. Завтрак Софье подавала в постель кухарка, доставшаяся им вместе с домом, и завтрак был плотный, английский: овсянка, яйца, ветчина, гренки, повидло и чай. — Генри, куда мне столько?! Я утром пью только чашку кофе. — А ты вообрази себя англичанкой. Прибавить немного в бедрах тебе не мешает, будет на что посмотреть. Как ни странно, каждое утро она съедала весь этот завтрак. От болезни, подкосившей ее в Афинах, не осталось и следа. Забот у нее здесь не было никаких: кухарка покупала провизию, обсуждала с Генри меню. После завтрака Софья надевала халат, домашние туфли и садилась за письменный стол, который Генри распорядился поставить в углу между южным и восточным окнами библиотеки. Она работала несколько часов подряд, пока было солнце, записывая мысли для первого наброска своей речи. Это было счастливое время. Генри готовил еще три лекции: для клуба «Атенеум», для Королевского археологического института и для Королевского исторического общества. Поскольку августейшие особы были, как правило, членами сразу нескольких обществ, он тщательно следил за тем, чтобы не повторяться. Ясно, приходилось попотеть за столом. Работали, они с восьми утра до одиннадцати, что говорится, плечом к плечу, Софье очень нравились эти творческие турниры. Потом ехали к кому-нибудь, обедали дома или в саду: Генри, наезжая в Лондон, завел себе немало друзей. Прислушиваясь, Софья постепенно настраивалась на английскую речь. — Когда ты напишешь окончательный вариант своего выступления, — сказал как-то Генри, — я попрошу Филипа Смита отрепетировать его с тобой, чтобы ты говорила без акцента. Заседание было назначено на 8 июня. Генри. Макс Мюллер, Филип Смит и сама Софья были к этому времени довольны и речью и произношением. Экипаж доставил их на Нью-Берлингтон, 16, в пять минут шестого, как и было условлено. В сопровождении официальных лиц Софья поднялась по широкой лестнице и была встречена президентом Института лордом Талботом де Малахидом и Уильямом Гладстоном. который уже не был премьер-министром, но по-прежнему оставался лидером либеральной партии в парламенте. Они проводили ее к трибуне. С ее появлением все стихло. Собравшиеся в этом огромном зале просто растерялись, увидев, как она молода — ей было всего двадцать пять лет, — как по-гречески прекрасна. Лорд Тал бот тепло и непринужденно представил ее публике. В зале было много женщин, в красивых туалетах, искусно причесанных. Софья тоже не ударила в грязь лицом: Генри возил ее к самому модному лондонскому портному, и тот сшил ей длинное свободное платье из набивного шелка и в тон к нему шляпку. Из украшений на ней были только обручальное кольцо и коралловое ожерелье, которое Генри подарил ей в дни их первого знакомства в Колоне. Глядя на обращенные к ней лица, выражавшие почтительное внимание — очень немногие женщины выступали до нее с этой кафедры, да и не было такого на памяти присутствующих, — Софья вдруг почувствовала себя совсем легко. Восемь лет ее супружеской жизни — это долгий, кремнистый путь, но вот она достигла вершины — и можно оглянуться и порадоваться пройденному. Лорд Талбот поднес ей букет, подобранный в цвета греческого национального флага. Софья узнала в первом ряду Чарльза Ньютона, доктора Иеронимуса Мириантеуса, архимандрита греческого землячества Иоанниса Геннадиуса. греческого посланника в Лондоне, знаменитого тем, что он тратил почти все свое жалованье на букинистов, собирая книги по истории Греции и Турции; несколько новообретенных знакомых; были герцог Аргайльский. лорд Хаутон, Роберт Браунинг, издатель Джон Мэррей. И пришло много профессоров из Оксфорда и Кембриджа. Негромкие аплодисменты, во время которых Софья осваивалась на кафедре, смолкли. Софья уверенно начала свою лекцию. Макс Мюллер мудро поступил, сохранив в английском тексте несколько ярких, чисто греческих оборотов речи. Филип Смит научил ее верно произносить каждый слог, но совсем снять греческий акцент он конечно, не мог. и это сообщало ее речи пленительное очарование. Она начала с похвального слова своему народу: — В то время, когда весь мир еще был объят глубокой тьмой, мои предки, древние греки, достигли в искусствах и науке совершенства, до сих пор непревзойденного. Наши политические институты, наши государственные мужи, ораторы и философы, наши поэты во все века вызывали удивление и восхищение человечества… Софья коснулась древнегреческой истории, от Агамемнона, Ахилла, Одиссея перешла к Периклу, Солону, Платону. Затем стала рассказывать о раскопках: — Александр Великий спал с томиком Гомера под подушкой. Любовь к Гомеру вознаградила нас с доктором Шлиманом открытием Трои, Павсанию мы обязаны открытием в Микенах пяти царских могил, полных сокровищ. Мое участие в раскопках было весьма скромным. В Микенах рядом со Львиными воротами я раскопала большую гробницу… Хотя в ней сокровищ не оказалось, ее открытие представляет определенную ценность для науки: в ней найдено много интересной керамики, которая воскрешает седую древность, когда эта гробница была замурована. Она рассказывала, как были отрыты царские могилы в Микенах, где нетронутыми лежали сказочные сокровища. Аудитория сидела как завороженная. Генри распирало от радостного волнения и гордости. Он чувствовал себя Пигмалионом: женился на семнадцатилетней гимназистке, выучил ее, образовал, сделал известной на весь мир. Окончив свой волнующий рассказ, Софья поблагодарила Англию за ее щедрую помощь Греции, без которой Греция не смогла бы добиться независимости от Турции, и призвала англичанок «учить своих детей певучему языку моих предков, дабы они могли в подлиннике читать Гомера и других наших бессмертных классиков». Подняв голову от бумаги, Софья устремила в зал свои огромные черные глаза. — В заключение хочу поблагодарить вас за снисходительность, с которой вы слушали почитательницу Гомера. Ей аплодировали стоя. Вечером в честь Шлиманов лорд-мэр дал банкет, на котором присутствовали представители всех десяти ученых и литературных обществ, перед которыми Генри выступил с лекциями. И уже до самого их отъезда из Лондона в конце июня знаменитые фамилии приглашали их наперебой, устраивая в их честь обеды, ужины, приемы в саду. Софья не уставала радоваться этому сплошному празднику. — Ничего удивительного, что ты в восторге от всего этого, — сказал ей Генри после бала в их честь у лорда Эктона. — Тебя любят, с тобой носятся, тебе потакают, тобой восхищаются. — А что, это очень приятно, — ответила Софья, поворачиваясь спиной, чтобы он расстегнул крючки на ее бальном платье. — Почему в Афинах нам не перепадало ничего похожего? Почему здесь нас признают, а дома мы встречаем только презрение и недоверие? — Не могу не признаться тебе, что моя любовь к Англии и англичанам, а особенно к Лондону и лондонцам, с каждым часом становится все сильнее. Господин Иоаннис Геннадиус мечтает заполучить нас сюда на постоянное жительство. Он полагает, что наша любовь к древней и современной Греции может сослужить прекрасную службу вашей родине… Он секунду помолчал, ласково поцеловал Софью в уголок губ и спросил: — Почему не жить там, где нам рады? Но сначала нужно дать себе отдых: Генри признался, что устал от лекций и приемов. «Устал» — этого слова Софья никогда раньше не слышала от него; она так перепугалась, что не стала возражать против того, чтобы пожить в Париже. Генри связался со своим агентом и снял на три месяца квартиру в доме, принадлежащем ему самому: Елисейские поля, площадь Звезды, Тильзитская улица, 20.
4
Июль в Париже был очень жаркий, город наполовину пустовал. Генри нанимал красивый экипаж, в который была впряжена пара гнедых, и они ехали под сень Булонского леса, где устраивали пикник. Иногда уезжали подальше в лес Фонтенбло, останавливались на ночь в небольшой уютной гостинице, выстроенной в лесу, ужинали во дворе, наслаждаясь прохладой и мелодичным журчанием бегущего в двух шагах ручья. С того дня как Софья разрешилась преждевременно мертвым младенцем, минуло пять лет. Услыхав ее сетования, доктор Веницелос воскликнул: — Терпение, дорогая госпожа Шлиман! Природа мудра, у нее свои циклы, свои замыслы. Шевельнется у вас под сердцем плод—значит, все хорошо. И вот теперь в момент полного жизненного благополучия она опять почувствовала, что станет матерью. Но Генри ничего не сказала, чтобы потом не было разочарования. Гранки книги о Микенах Генри получал каждые два-три дня. Его убивало количество ошибок в английском тексте; он был недоволен и качеством гравюр, иллюстрирующих его находки. Он писал пространные письма в Лондон Джону Мэррею, объясняя, почему гравюры должны быть более яркими и контрастными. Его французский издатель Ашетт настаивал, чтобы Шлиман сам оплатил все расходы, связанные с изданием книги. Шлиман уже считал себя профессиональным писателем, и мысль, что он сам должен субсидировать свою книгу, уязвляла его самолюбие. Но больше всего его огорчала неудача с Кенсингтонским музеем: переговоры с дирекцией музея о выставке троянских находок зашли в тупик. К середине августа Шлиман больше не мог оставаться в бездействии. — Софидион. я должен ехать в Лондон и сам проследить за набором вместе с Филипом Смитом. — сказал он Софье. — Нельзя оставлять и гравюры только на Купера и Уимпера. Гравюры должны быть прекрасными. Да, всюду нужен свой глаз. Необходимо добыть один набор гравюр для французского издания Ашетта. Не менее важно лично встретиться с директорами Кенсингтонского музея, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки. Софья не хотела оставаться в Париже без мужа, но она знала: Генри доведет до конца начатое, чего бы это ни стоило. А кроме того, просьбы ее никакого действия не возымеют! И она ответила: — Поезжай, дорогой, но, пожалуйста, закончи все как можно скорее. Спустя два дня после отъезда Генри она открыла маленький ящичек в секретере, в котором он держал деньги на домашние расходы, и. к своему удивлению, нашла только четыреста франков. Открыла соседний ящик, где лежали неоплаченные счета. Все подсчитав, она обнаружила, что, уезжая второпях и под бременем забот. Генри оставил ей две тысячи франков долгу. Следующие два-три дня она только и делала, что платила стучавшимся в двери кредиторам — и скоро от восьмидесяти долларов ничего не осталось. Подошло время платить слугам, покупать провизию, уголь. Она послала Генри телеграмму, спрашивая, чем ей расплачиваться. Ответа не было. Может, Генри гостил у кого-нибудь за городом, а может, уехал с Максом Мюллером в Оксфорд… Тогда Софья отправила ему уничтожающее письмо:«…Я сгораю от стыда, что у меня, жены Шлимана, нет денег, чтобы заплатить за одежду и за уголь. Я не умру без денег, но стыдно даже разговор заводить об этом».
Эти фразы попали не в бровь, а в глаз. Генри ответил:
«Я понял свою ошибку. Посылаю в этом письме чек. Тебе этого должно хватить до моего приезда. Я вернусь в середине сентября».
Софья взглянула на чек и задохнулась от возмущения. Сумма была ничтожная. Едва хватит на еду. На глазах у нее закипели слезы. — Разлука превращает его в скрягу. Ну что ж. Будем питаться той славой, которой я ему обязана. К середине сентября, почувствовав недомогание, Софья обратилась к двум врачам — французу доктору Шатильону и греку доктору Дамаскеносу. Оба подтвердили, что она беременна. Только теперь Софья позволила себе отдаться радости предстоящего материнства. Назавтра из Лондона вернулся Генри. Она сообщила ему новость. Генри пришел в восторг. Схватил Софью и закружил ее по комнатам, тесно заставленным обитой золотой парчой мебелью в стиле Людовика Четырнадцатого. — У меня будет сын! — радостно восклицал он. — Мой сын — грек! Выбежал из дома и в приступе мотовства купил Софье роскошную соболиную пелерину. Вернувшись, набросил ей на плечи теплый шелковистый мех. — Чтобы грел зимой, — говорил он, не помня себя от счастья. — Как тебе идет! Софья гладила мягкий густой мех, не веря своим глазам, едва сдерживая нахлынувшие самые противоречивые чувства. Генри привез из Лондона добрые вести: гранки и гравюры приведены в надлежащий вид. Его выставка в Кснсингтонском музее откроется в конце декабря по меньшей мере на полгода. Музей согласился оплатить перевозку коллекции из Афин в Лондон. Надо скорее ехать в Афины упаковывать сорок с лишним ящиков сокровищ Приама и сотен других троянских находок. Гладстон после некоторого колебания согласился написать предисловие к «Микенам»; это будет иметь очень большое значение для всего англоязычного мира. Первая неделя по приезде Генри была восхитительна. Два раза они были в Комической опере. Генри возил Андромаху в цирк, который так нравился Софье в первый год их жизни в Париже. В последнюю неделю сентября погода вдруг изменилась, небо затянули серые тучи, полил дождь. Стало холодно. У Софьи заболели спина и ноги, как пять лет назад; это был плохой признак. Генри встревожился, послал Спироса за доктором Дамаске-носом. Доктор, знавший о выкидыше, нашел, что сейчас опасаться нечего. — Значит, я могу ехать в Афины? Глаза у Шлимана заволокли слезы. — Родная, нельзя рисковать. До Марселя два дня в поезде… море в это время года неспокойно… тебя будет страшно укачивать. Софья повернулась к доктору, ее губы и подбородок выражали непоколебимую решимость. — Доктор Дамаскенос, вы сказали, что я здорова и беременность развивается нормально. Какой вред могут мне причинить несколько дней дороги? Доктор Дамаскенос отрицательно покачал головой. — Я должен согласиться с вашим супругом, госпожа Шлиман. Это слишком рискованно. Если что-нибудь случится и вы потеряете ребенка, вы этого никогда себе не простите. Софья настояла, чтобы пригласили доктора Шатильона. Он согласился с мнением Дамаскеноса. Софья с тяжелым сердцем вынуждена была покориться. — Разве я могу устоять перед натиском моего мужа и двух докторов, — сказала она. В последнюю минуту Генри спросил у Софьи, не может ли он взять с собой в Афины Спироса, чтобы он помог упаковать золото. Генри не хотел, чтобы кто-нибудь посторонний видел сокровища, прикасался к ним. Спирос побледнел, представив себе Софью одну в ее положении под чужим небом. — Если ты возьмешь с собой Спироса, — восстала Софья, — я тоже поеду, даже если умру. У тебя в Афинах есть Яннакис, он и будет тебе помогать. Услыхав имя Яннакиса, Поликсена, которая была с Андромахой в этой же комнате, упала на колени перед Софьей. — Госпожа Шлиман, умоляю вас, отпустите меня к мужу и ребенку. Вот уже сколько месяцев… я так скучаю о них… Софья несколько секунд стояла молча, потом взяла молодую женщину под руку и помогла ей подняться. — Хорошо, Поли, поезжай домой к своей семье. Я лучше, чем кто-нибудь другой, понимаю, как тяжело быть вдали от тех, кого любишь. Генри нашел Андромахе вместо Поликсены няньку-француженку. И дал ей имя Гекуба по своей привычке давать прислуге имена из греческой мифологии. Он также оставил Софье большую сумму денег, что оказалось весьма кстати. Спустя два дня после его отъезда к Софье наведался агент Шлимана по найму квартир и уведомил ее. что в последний день месяца она должна съехать с квартиры, так как квартира уже сдана другой семье. — Съехать с квартиры? — задохнулась Софья. — Это невозможно… разве мой муж не продлил контракт? — Нет, мадам. — Агент был вежлив, но тверд. — Ваш контракт был подписан на три месяца — июль, август, сентябрь. Поскольку ваш муж не возобновил его, я вынужден был искать новых жильцов. Они въезжают 1 октября. Софья упала в кресло и глядела на агента широко раскрытыми глазами. — Как вы можете выгонять меня из дому, который принадлежит моему мужу? — Я обязан следить за тем, чтобы ни одна из сотен квартир, принадлежащих господину Шлиману, не пустовала ни дня. Если бы он сказал мне хоть слово… — Что же нам делать, Спирос? — Софья повернулась к брату. — Переедем. Завтра же. Вы ведь распоряжаетесь и другими квартирами, — обратился он к агенту. — Не можете ли вы нам что-нибудь посоветовать? — Сдается двухэтажный дом на бульваре Османна. Если хотите, я могу вас сейчас же отвезти туда. Мадам Шлиман он понравится. Спирос скоро вернулся и сказал Софье, что дом просторный и чистый и куда менее загроможден мебелью, чем их нынешнее жилье. Софья решила переезжать. Спирос нанял небольшой фургон, сложил вещи и на другое утро перевез сестру на бульвар Османн. Он сиял от счастья, что сумел так хорошо справиться с этим нежданным осложнением. Но Софье было не до веселья. Домовладелец потребовал квартирную плату за месяц вперед. Софья заплатила прислуге и купила дров для камина. На это ушли все деньги, которые Генри ей оставил. — Я зла до такой степени, — сказала Софья Спиросу, — что во мне все кипит. Будь сейчас передо мной доктор Генри Шлиман, я бы плюнула ему в глаза. Спирос смеялся так, чтоупал со стула на пушистый турецкий ковер. Глядя на брата, рассмеялась и Софья. — Когда он здесь, у нас все самое лучшее. Когда его нет — нищета. Ты встречал когда-нибудь более смешного человека? Я не сообщу ему, в каком положении мы оказались, не доставлю ему такой радости. Достойно умрем голодной смертью. Когда Генри вернется, похоронит нас в общей могиле, как хоронили в древности телохранителей. Помнишь, мы нашли над третьей царской гробницей в Микенах. — Вспомни лучше критскую поговорку, которую любит повторять матушка, — усмехнулся Спирос. — «Кто уповает на бога, никогда не ложится спать голодным, а приведись такое, сон насытит его». Если у Генри было удивительное чутье находить города, считавшиеся плодом воображения поэта, и царские могилы, не означенные ни в одном историческом сочинении, то никакого чутья, подсказавшего бы ему о бедственном положении жены, у него не было. Он писал ей длинные любящие письма о том, что в Афинах все благополучно: сокровища Приама, дивной красоты пифосы, статуэтки, изображавшие Афину Палладу. прясла, терракотовые сосуды — все было аккуратно упаковано в ящики и отправлено морем в Лондон. Но самое главное—18 октября было наконец выставлено микенское золото в том самом помещении Политехнической школы, которое семь месяцев назад он пытался арендовать. На какой-то миг он расстроился, узнав, что его не пригласили принять участие в устройстве выставки — все заботы и расходы взяло на себя Археологическое общество. Но когда он приехал на открытие, его так тепло встретили члены Археологического общества, профессора университета, государственные сановники, все экспонаты были так красиво, со знанием дела размещены, что его досаду как рукой сняло. Сделанные по заказу Археологического общества витрины были высотой по пояс и опирались на изящные резные ножки, в каждой имелось тринадцать неглубоких отделений. В первом отделении одной витрины лежали две золотые маски, во втором — кинжалы, в третьем — золотые запястья. В самом последнем стояло пятнадцать золотых чаш и ваз. В других витринах находились золотые нагрудники, диадемы, золотые пояса, львы, грифоны. Каждую витрину охранял вооруженный страж. Трогать экспонаты не разрешалось, зато можно было, склонившись над витриной, любоваться вдоволь всеми этими чудесными находками, их тончайшим орнаментом. Женщины были в нарядных шляпках, в жакетах с рукавом-буф и длинных юбках, мужчины во фраках, с цилиндром в руке. Некоторые, заметил Генри, разглядывали его находки в лупу. Выставку посетили король с королевой и пригласили Шлимана во дворец на обед. Афинские газеты воздали ему должное в полной мере. Восхищенные баснословными сокровищами, пришедшими из доисторических времен, они расточали ему похвалы, не жалея слов. Незнакомые останавливали его на улице и благодарили. Выставка работала с часу до четырех пополудни, и в эти часы во дворе Политехнической школы выстраивалась очередь жаждущих посмотреть микенское собрание. Шлиману удалось возвратиться к семье в последний день октября. Узнав, что он забыл продлить аренду квартиры и что оставленных им денег хватило на два дня после его отъезда, Генри стал пунцовым от стыда. — Почему ты не послала мне телеграммы? Как вы жили? — Просили милостыню, — ядовито ответила Софья. — Мы с Андромахой ходили по улице Риволи с оловянной кружкой и плакатами на груди: «Пожалуйста, помогите голодающей семье Генри Шлимана». — Я заслужил это! — возопил Генри. — Но такого больше никогда не будет. Я тотчас иду в банк и отдаю распоряжение выплачивать тебе любую сумму, которая тебе потребуется, первого и пятнадцатого числа каждого месяца. А сейчас скорее одеваться. Я везу всю семью обедать. Будем наверстывать упущенное. — Но не за один вечер. Мы не выдержим, — не унималась Софья, но она знала — это были ее последние слова упрека. — У нас сократились желудки. Генри побыл дома всего два дня и уехал в Германию. Уже около года его мучили боли в правом ухе, иногда очень сильные. А теперь началось воспаление. Из-за болей понизился слух. — Я был у врача в Афинах, — сказал он Софье. — Он посоветовал прекратить морские купания. Я никогда этого не сделаю. Важнее беречь здоровье всего тела, чем ублажать одно больное местечко. — Это не просто больное местечко, Генри, — заметила встревоженно Софья. — Ты такой общительный. Тебе нельзя потерять слух. — Так ты, значит, одобряешь мою мысль показаться доктору фон Трёлчу? Он живет в Вюрцбурге и считается одним из самых лучших ушных специалистов в Европе. Вернулся Шлиман домой в середине ноября. Воспаление прошло, боли уменьшились. Доктор фон Трёлч рекомендовал каждый вечер промывать ухо раствором, содержащим опиум. И категорически запретил зимние купания в каком бы то ни было море. У Софьи опять начались перемежающиеся боли в ногах и пояснице. Но они условились не говорить о болезнях, а радоваться жизни, пока они вместе, — Генри опять предстояла поездка, на этот раз в Лондон, встречать и распаковывать драгоценные экспонаты для выставки в Кенсингтонском музее. От Джона Мэррея пришел экземпляр «Микен». Это была большая, красиво изданная книга с длинным хвалебным предисловием, подписанным высокочтимым Уильямом Гладстоном, членом парламента. В книге было помещено пятьсот пятьдесят фотографий, многие в натуральную величину, важнейших золотых находок, а также множества секир, пуговиц, изделий из слоновой кости, изображений Геры, алебастровых ваз; семь гравюр во весь разворот, четыре из них цветные: тринадцать гравюр декорированных терракотовых ваз и сосудов; восемь карт, включая топографическую карту всего района акрополя и круглой агоры с пятью могилами, планы сокровищницы, раскопанной Софьей. Книга была переплетена в коричневую кожу, на верхней обложке — тисненные золотом Львиные ворота, на фронтисписе была изображена сокровищница возле Львиных ворот с надписью: «Раскопана миссис Шлиман». Американские издатели «Скрибнер. Армстронг и К0» поместили на верхней обложке гравюру, тисненную золотом: Софья в расчищенном дромосе у самого входа в гробницу; на гравюре была видна часть зала, поперечная балка и полый треугольник над ней. Генри хранил в секрете, что «Микены» выйдут в свет, охраняемые талисманом. И талисман — это Софья и ее сокровищница. Софья ласково взглянула на мужа и поцеловала его. — Ты так добр, дорогой. Генри смущенно улыбнулся, протестующе дернул плечом. — Бог неисповедимыми путями творит чудеса.
5
Генри опять уехал. Софья старалась привыкнуть к холоду и мраку парижской зимы. Спи рос вел хозяйство, проверял счета, оплачивал расходы. Софья нашла милую молодую гувернантку для Андромахи, а сама весь день проводила в комнатах наверху — врачи не рекомендовали ей ходить по лестницам. Иногда ее навещали давние друзья Генри — французы, иногда заглядывали гречанки: госпожа Хрустаки или госпожа Делингианни. Бюрнуфы были в Париже и тоже наведывались, вспоминая о горячем греческом солнце и плавучих островах Эгейского моря. Однажды Софья поехала в театр, где ей пришлось преодолеть высокую лестницу, и в середине представления ее вдруг объял панический страх. Она должна сохранить этого ребенка! Запертая наверху у себя. Софья не вникала в хозяйство, а Спирос по-французски не говорил ни слова, и дела в доме пошли из рук вон плохо. Слуги начали воровать. Видя беспомощность Софьи, стали отлынивать от работы. На ее увещевания отвечали грубостью или просто отказом. Новую прислугу сразу было найти трудно. И несколько дней Софье самой приходилось готовить на кухне, обходясь одной помощницей— Андромахой. Лицо Спироса суровело, и тогда он очень напоминал Софье мадам Викторию. — Ты все время на ногах. А доктор велел тебе больше лежать. Письма от Генри приходили восторженные—так хорошо устраивалась выставка. И вдруг письмо, полное резких упреков. Почему ей не хватает денег, которые он выдает ей через банк? Это что, мотовство или просто нерачительность? Ее счета действительно стали расти, но что она могла сделать. Софья отвечала мужу: «Мой дорогой, почему ты так придирчив к моим тратам. Я просто не знаю, как быть. Я расходую деньги очень экономно. Считаю каждый франк…» В этом письме она объясняла, почему расходы так выросли. В ответ получила от Генри примирительное послание: то полное упреков письмо он писал, когда у него сильно болело ухо. С ухом вообще стало хуже. Пусть она не расстраивается. Он вернется на рождество и возьмет в свои руки хозяйственные бразды… Опять заболела мадам Виктория. Неужели опять сердечный приступ? Катинго и Мариго ничего не написали об этом. Софья в ответном письме приглашала мать в Париж. Мадам Виктории ответила, что с удовольствием бы приехала, но доктор запретил ей далеко ездить месяц-другой. В конце ноября Софья получила от Генри отчаянное письмо. Он опять пал духом. Эфор Стаматакис обнаружил в Микенах шестую могилу! Рядом с теми пятью Шлимана. В могиле было два обгоревших скелета и немалая толика золота. Заслуги у Стаматакиса на этот раз не отнять. Никто не указывал ему местонахождение этой могилы, он сам ее раскопал! Мало утешения в том, что, не найди он, Генри, этой агоры с царскими могилами, не было бы и шестой могилы Стаматакиса. Генри писал: «Наши «Микены» только что вышли. И вот к ним уже требуется дополнение. Этот чертов клерк подложил нам свинью». Снова воспалилось ухо и болело так сильно, что пришлось опять ехать в Германию к доктору фон Трёлчу, и выставка в Кенсингтонском музее открылась без него. В Париж Генри едва успел вернуться к крещению: с утра до вечера брюзжал, проклинал Стаматакиса и ею шестую могилу, вскоре собрался и отбыл в Афины. Софью не обрадовало то известие о закладке дворца, который Шлиман начал строить на принадлежащем ему большом участке по улице Панепистиму недалеко от королевского дворца. Несколько лет назад он нанял модного афинского архитектора Эрнста Циллера, поручив ему спроектировать роскошный особняк, который он называл в разговоре «Палатами Илиона»; но потом испугался, что греки будут называть его парвеню, выскочкой, и решил со строительством повременить. Пиллер представил счет за сделанную работу. Генри заплатил ему смехотворную часть, и архитектор обратился в суд. Шлиман вовремя спохватился и оплатил счет полностью. Теперь, на гребне славы, когда заслуги его официально признаны греческим правительством, ссоры забылись и микенские сокровища выставлены в Афинах под эгидой греков, Генри снова пригласил Циллера и попросил его закончить проект трехэтажного особняка с двадцатью пятью комнатами, огромным бальным залом и несколькими выставочными залами на первом этаже; он дал ему название «Палаты Илиона». Строительство было рассчитано на два года. Громадные размеры дома были не по душе Софье, и все-таки она испытывала досаду из-за того, что церемония закладки прошла без нее. 16 марта 1878 года родился сын, и все взаимные обиды и огорчения как водой смыло. Генри всегда мечтал наречь своего сына, рожденного гречанкой, Одисеем. Но после открытия царских гробниц передумал и назвал мальчика Агамемноном, «владыкой мужей». Роды были нормальные, мать и младенец чувствовали себя прекрасно. Еще в феврале приехала мадам Виктория, чтобы побыть с дочерью последние недели до родов; энергичная, хозяйственная мадам Виктория вникала во все, готовила любимые греческие блюда. Для Софьи ее приезд был манной небесной. — Я знаю, — воскликнул Генри, — что рассуждаю, как восточный деспот; но я на седьмом небе, что имя Шлимана увековечено. — Наклонился над кроватью Софьи и, поцеловав ее в лоб, продолжал — Ты родила сына — самый драгоценный для меня дар. А что подарить тебе? Софья недолго раздумывала: — Подари мне тот прелестный дом в Кифисьи. — Он твой. Сегодня же отправлю телеграмму нашему агенту в Афинах. Мы проведем там лето, познакомим Агамемнона с речкой и деревьями. Он позволил Софье вернуться в Грецию только в мае, когда плыть по морю—одно удовольствие. Вернувшись, Софья сейчас же переехала в свой дом в Кифисьи и по греческому обычаю обставила его просто, даже скудно. Генри не помогал ей, но и не мешал; это был летний домик Софьи. Себе он строил троянский дворец, запрашивая по всей Европе и Англии каталоги мебели, канделябров, изразцов, декоративной чугунной решетки, ковров, фарфора. Железо для балок и чугунные решетки он заказал в Германии, там же для его будущего дворца ткали ковры. В Англии купил цемент, стекло и зеркала. Мрамор для пола заказал в Италии; он сам придумал римский орнамент и нанял итальянских плиточников из Ливорно, чтобы выложить этот орнамент. Кирпичи приехали из Аргоса, и, хотя лесу в Греции мало, панели во дворце задуманы были деревянные. Он также сам нарисовал этюды картин для гостиных и залов, перерыл всю древнегреческую литературу в поисках подходящих цитат, чтобы украсить ими стены. Эрнст Циллер появлялся на улице Муз каждое утро, и они с Генри садились за работу. Нередко он задерживался и оставался обедать. После обеда Генри отправлялся на улицу Панепистиму, проверял, как идет строительство. Раз в неделю король Георг и королева Ольга наведывались в королевские конюшни; проезжая по улице Панепистиму, они смотрели, как растет дворец. Софья познакомилась с Циллером еще семь лет назад, когда Генри первый раз обратился к услугам архитектора. Но тогда это было мимолетное знакомство. Глядя сейчас на Циллера, сидящего через стол, она заключила, что Циллер очень серьезно относится к своему делу, но, к счастью, без унылого педантизма. Одет с иголочки, гладко выбрит, над верхней губой темнеют франтоватые усики с закрученными концами. Изящно причесанные темные волосы отливают серебром в ярких лучах греческого солнца; на мужественном красивом лице привлекают внимание темные, глубоко посаженные глаза. Он считал архитектуру изящным искусством и, чтобы греки не сомневались в этом, носил широкий, свободный воротник и завязанный большим бантом галстук—так одевались художники парижской богемы. Циллер строил особняки, комбинируя черты древнегреческой архитектуры с украшениями Ренессанса, что сделало его первым архитектором Афин. Шлиман объяснял Циллеру: — Я всю жизнь жил в небольших домах, теперь я хочу простора. И еще мне хотелось бы большую мраморную лестницу снаружи, ведущую на первый этаж, и террасу на крыше. — Облик дворца будет эллинско-германский, — отвечал на это Циллер. — Простой, элегантный, но и внушительный. Для цоколя используем грубо обработанные гранитные плиты, а сбалансируем их пятью высокими, широкими арками-лоджиями на первом и втором этаже по фасаду. Здание будет таким легким, точно вот-вот взлетит. Поверьте, это будет самый красивый особняк в Афинах. Генри потирал руки, едва скрывая волнение. А у Софьи на душе был камень. Когда они устраивали свой Первый дом на улице Муз, Генри спрашивал ее совета во всем — какой выбрать район, какую купить мебель. Но эта храмина была для Генри Шлимана памятником самому себе. Она уговаривала себя: «Это эгоистично с моей стороны. Разве я не должна радовать, я, что мой муж наконец-то будет жить во дворце Медичи—ведь он это заслужил, как никто». Как бы то ни было, она будет хорошей женой, как подобает гречанке, будет восхищаться его детищем, жить в нем и, да помоги ей господь, управлять им в его отсутствие. Когда Генри вышел на миг из комнаты. Софья тихо спросила Циллера: — Господин Циллер, скажите, что может побудить человека построить себе один из самых больших дворцов Греции? Циллер взглянул на Софью, и его темные глаза вспыхнули. — Великие мужи должны строить великие здания. — Как жилье или как памятник? Циллер не стал сглаживать утлы. — И то, и другое. Можно жить с уютом и во дворце. Нелегко, но можно. Если, конечно, имеешь к этому склонность. — Я не имею. — Я догадываюсь об этом, госпожа Шлиман. Но вы будете царицей в «Палатах Илиона». — У меня нет желания быть царицей. Но Софья понимала и другое: этот дворец означает, что Генри решил насовсем поселиться в Афинах. Хотя они были так счастливы в Лондоне, Генри даже сказал тогда: «Почему бы не жить там, где нам рады?» — ей самой не хотелось жить нигде, кроме Греции. Она не просто любила родную землю, она чувствовала себя ее частицей, артерии, бегущие от сердца, не кончались в руках и ногах, а уходили в греческую почву, в воды Эгейского моря, откуда черпались ее жизненные силы. И чем великолепнее будут «Палаты Илиона», чем больше будут воплощать эллинскую идею, чем полнее Генри выразит в них самого себя, тем труднее будет ему расстаться с ними. Софья с облегчением заметила, что их новый дом будет ниже королевского дворца. Она-то знала, какую борьбу Генри выдержал сам с собой, чтобы выказать эту воспитанность. Генри страстно полюбил свой необыкновенный дом, он поможет ему снискать в Греции тот почет, о котором он так мечтал и который все не мог завоевать. Что касается ее, Софьи, она постепенно привыкнет к этому дворцу. Генри будет приглашать в гости знаменитых людей со всего света, и не на один день. Вот почему на втором этаже несколько лишних спален. Когда его опять потянет куда глаза глядят, благо во все стороны из Афин уходят шоссейные, железные, морские дороги, она постарается быть радушной хозяйкой. Сколько раз в прошлом он присылал именитого гостя в свое отсутствие с подробным наставлением, как его принимать. И она видела себя наверху мраморной лестницы, встречающей пришельцев со всех концов земли, — и так будет еще двадцать или тридцать лет. Генри Шлиман будет хозяином «Палат Илиона», а она их рабыней. К счастью, раз в году бывает лето. И Софья улыбнулась, вспомнив о своем уютном доме в Кифисьи, осененном могучими деревьями на берегу говорливого ручья.6
Теперь, когда «Микены» вышли в свет в Англии. Германии, Соединенных Штатах и скоро появятся во французском переводе, все помыслы Шлимана опять устремились к Трое. Узнав, что новый фирман будет подписан не раньше сентября, Генри опять потерял покой — помчался по делам в Париж, оттуда в Германию лечить ухо, затем в Лондон для беседы с сэром Остином Лейярдом, английским послом в Турции. Несколько дней провел в Афинах, полюбовался на сына, поиграл с ним и укатил на месяц в Итаку, надеясь обнаружить дворец Одиссея. В обоих кафе «Дарданелл» пошли разговоры, что Генри Шлиману везде хорошо, только не дома с женой и детьми. Софья нервничала: как объяснить досужим сплетникам, что бродяга Шлиман почти все пятьдесят шесть лет своей жизни только и делал, что колесил по свету, что удержать на месте его могли только раскопки. Наконец фирман получен. Генри объявил, что едет копать всего на два месяца, до начала дождей. Удобного жилья на Гиссарлыке не было, и Софье пришлось остаться дома с детьми. Но Софья недолго скучала — заболел ее брат Спирос. Его беспрестанно лихорадило, болела голова, он очень похудел и временами никого не узнавал. Врачи не могли поставить диагноз. Внезапно состояние его ухудшилось — парализовало левую сторону, нога и рука почти не двигались, губы перекосило. Врачи понимали, с ним что-то очень серьезное—опухоль или кровоизлияние, но ни исцелить, ни облегчить его страдания не могли. Софья была безутешна. Бедный Спирос, сначала на побегушках в отцовской мануфактурной лавке, а потом столько лет ее главная опора. Ему ведь только тридцать с небольшим, но вряд ли он когда-нибудь заведет свое дело. Генри вернулся из Трои в начале декабря. В эти два месяца он, по его мнению, многое успел. Яннакису разрешили вернуться на раскопки, и он отремонтировал несколько построек на северном склоне Гиссарлыка: кладовую для хранения находок, единственный ключ от которой был у турецкого чиновника Кадри-бея: деревянный дом для вооруженных охранников, нанятых для охраны раскопа от разбойников, наводнивших Троаду. Построили также бараки для смотрителей, слуг и гостей; сарай для археологического снаряжения Шлимана, небольшую столовую, конюшню. Яннакис теперь крепко стоял на ногах и попросил у Шлимана жалованья 60 долларов в месяц—понимал, что незаменим. Он вызвал из Ренкёя своего брата, чтобы вдвоем открыть хлебную и винную лавку. Торговали они в кредит, но в убытке не оставались. Ведь Яннакис сам платил рабочим и у каждого вычитал задолженность. Наконец-то он выбился из бедности, опять обрел доброе имя и на сбереженные деньги собирался вскорости купить приглянувшуюся усадьбу. Генри был доволен находками. По фирману он получал всего одну треть найденного; и Кадри-бей очень строго следил, чтобы при разделе Шлиману не доставалось самое лучшее. Но Шлиман и не пытался обмануть турок; он очень дорожил этим фирманом, рассчитывая продлить его действие на неограниченный срок. Среди находок были сосуды, наполненные золотыми бусинами, серьгами, пластинками, слитками. Благодаря его книгам, статьям, научным спорам Троя получила широкую известность. Туристы приезжали со всех уголков земного шара. Генри каждого водил по раскопу, давая пространные объяснения, убеждая в своей правоте. Самыми частыми гостями были моряки с английских военных кораблей, стоявших в Бесикском заливе. Фрэнк Калверт получил прощение английской королевы. Однажды турецкий султан посетил на своей яхте Чанаккале; дочь Калверта, юная девушка, преподнесла ему букет цветов и попросила замолвить словечко за отца перед королевой, когда султан встретится с ней для переговоров. И королева сменила гнев на милость, Фрэнк буквально воскрес. Он прискакал верхом в Гиссарлык поздравить Шлимана с микенскими находками. — И больше не будет никаких споров о том, кто открыл Трою, — сказал он Шлиману. — Трою открыли вы! Сгарые приятели обнялись. Фрэнк рассказал о своих планах начать раскопки в Ханай-тепе. — Я пошлю туда необходимый инструмент и несколько моих лучших землекопов. — обещал, Шлиман. Дома в Афинах Генри становился заботливым отцом. Два часа в день он учил Андромаху немецкому и французскому. С первой секунды появления на свет Агамемнон должен был спать с томиком Гомера под подушкой. А после крещения Генри прочитал сыну сто строк из «Илиады». Епископ Вимпос 1 приехал из Триполиса крестить младенца незадолго до отъезда Шлимана в Трою; крестным отцом был Иоаннис Сутсос, греческий посол в Петербурге в те далекие годы, когда там жили молодые Теоклетос Вимпос и Генри Шлиман. Какой радостной была встреча в Афинах старых друзей! По настоянию Генри за обеденным столом вместе с ним сидели оба его I ребенка. Хотя погода была холодная, Софья одевала детей по 1с и. не и все вместе ездили на прогулку за город. И самое главное — Генри опять стал пылким любовником, а Софья уже начала бояться, что муж охладел к ней. Но у Генри появилась и еще одна любовь: доктор Рудольф Вирхов. всемирно известный медик, профессор патологоанато-мии в Берлинском университете, глава немецкой медицинской школы, возглавлявшей всю мировую медицину во второй половине века. Кроме того, Вирхов был членом муниципалитета Берлина и прусской комиссии по борьбе с голодом. Вирхов основывал политические партии, писал научные обозрения, был новатором во многих областях знания и выпускал сотни печатных трудов—монографий и книг по анатомии, антропологии, археологии. Ни Генри, ни Софья никогда прежде не видали Вирхова, хотя Генри с ним переписывался и даже приглашал за свой счет в Троаду в 1872 или в 1873 году, зная, что доктор Вирхов увлекается доисторическим прошлым. Но тогда Вирхов был очень занят. Весной 1879 года Генри еще раз пригласил Вирхова на раскопки Трои. В этот раз, к его радости, приглашение было принято. Софья полагала, что Вирхова влечет в Трою единственно интерес к этому древнему городу. Но скоро она убедилась, что это не так. Генри писал Вирхову о затруднении с троянской коллекцией, которая уже год находилась в Кенсингтонском музее. Теперь музей просил увезти коллекцию, поскольку он готовил новую экспозицию. — А почему ты не хочешь привезти ее обратно в Афины, где ей и надлежит быть? — спросила Софья. — Пока еще рано. Может, удастся выставить ее в Лувре или в Петербурге… — Но в конце концов она вернется домой? Генри промолчал. В январе от Вирхова пришел ответ. Вирхов писал: «Печально, что вы, правда не без оснований, чувствуете себя отчужденным от родины… Но вы должны знать: общественное мнение всегда было на вашей стороне, что бы вам ни пришлось вытерпеть от наших ученых-историков». В конце февраля 1879 года Эмиль Бюрнуф, живший в то время в Париже, согласился поехать в Трою как научный консультант и наблюдатель. Луиза с отцом не поехала. Но и Софья на этот раз не принимала участия в раскопках. «Софья, дорогая моя, — писал Шлиман, — у нас тут нет своего дома. Я сплю в одной из девяти комнат барака для десятников и гостей. Женщин нет поблизости до самого Хыблака. Удобства самые примитивные. Яннакис очень занят, единственная от него помощь — готовит мне по воскресеньям обед, но плита никуда не годная, совсем не то, что ты привезла в 1872 году. Поликсена здесь никогда не бывает, негде жить. Когда работы идут полным ходом, в лагере ночует 150 человек. Тебе здесь было бы плохо. Это не Микены, где ты была под крылышком семейства Дасисов. Троада сейчас — поле сражения между разбойничьими шайками и крестьянами. Эти отверженные грабят, убивают, насилуют… Если бы у нас в лагере появилась красивая молодая женщина, мне пришлось бы нанять не десять охранников, а сто. И даже тогда я беспокоился бы о тебе денно и нощно. Оставайся с малышами дома, любовь моя, где ты в безопасности и окружена заботой. Наблюдай за строительством нашего нового прекрасного дома. Я вернусь в конце месяца, и все лето мы будем вместе. Можем провести месяц в нашем доме в Кифисьи, а на август снимем дом в Кастелле и обеспечим себе тридцать морских купаний…» Софья тосковала дома. Но Генри, наверное, прав. Ей ничего не остается, как ожидать его здесь, на улице Муз. Доктор Вирхов заехал в Афины по пути в Трою. Софья пригласила его обедать, любопытствуя взглянуть на ученого, который так очаровал ее мужа, и оценить по достоинству соперника, посягнувшего на троянские сокровища. С первого взгляда она поняла, что воображение рисовало ей совсем другого человека. Рудольф Вирхов не был выпустившим когти хищником, чего она очень боялась; обходительный, любезный, он был восхищен открытиями Генри и его археологическим чутьем. Софья изучала гостя, пока он отдавал должное креветкам и рыбному плаки [32]. Он был старше Генри на три месяца, а казалось, на несколько лет. В Берлине этого маленького человечка со сморщенным, похожим на пергамент лицом любовно называли der kleine Doktor [33]. Его небольшие глазки смотрели из-под очков добрым, но проницательным взглядом. Он носил усы и окладистую бороду, которая закрывала убегающий подбородок и выглядела столь солидно, что сомнений нс оставалось—этот человек глупцов не терпит. Он был весь, от редеющих седых волос до крошечных ног, воплощением протеста—и не только в медицине и политике, но и в совершенно новой области — народном здравоохранении. Бисмарк, правивший в те годы Германской империей, люто его ненавидел и даже вызвал однажды на дуэль. Вирхов смеялся так весело, что вместе с ним — неслыханное дело! — над Железным канцлером смеялся весь Берлин. Учить языки для Вирхова, как и для Шлимана. было так же естественно, как дышать, Он знал латынь, греческий, древнееврейский, арабский, английский. французский, итальянский, голландский. В 1869 году, когда Софья и Генри поженились, Вирхов основал первое Германское археологическое общество. Он основал также Берлинское общество антропологии, этнологии и предыстории и одновременно был практикующим врачом и выполнял многочисленные обязанности члена берлинского муниципалитета. Подобно многим коротышкам, он обладал отменным здоровьем, довольствовался всего несколькими часами сна и при всей своей занятости находил время играть в шары и лазить по горам. В столовой и потом в кабинете Генри они говорили по-немецки. — Я никогда не беседовала с учеными-медиками. — сказала Софья. — Интересно, а как в вашей области ведутся исследования? Генри часто обвиняют в скоропалительных выводах, в том, что для него собственные догадки важнее фактов. — Ваш муж действительно иногда этим грешит, — мягко улыбнулся Вирхов. — Но ведь его догадки служат толчком для дальнейшего изучения древних народов. Ценны даже его ошибки: спустя какое-то время он сам и его коллеги-археологи их замечают и в поисках истины устремляются дальше. — Вы очень любезны, доктор Вирхов… — Фрау Шлиман, — прервал ее гость, — мне ведь гораздо легче, чем доктору Шлиману. Мы создали целую новую науку — патологическую анатомию, но наш материал, человеческое тело, всегда под рукой — мы анатомируем трупы. Скальпель проникает во внутренние органы человека и постепенно учит нас распознавать заболевания. Мы тоже совершаем ошибки, и. как правило, в ущерб больному. Некоторые наши умозрительные теории и поспешные выводы принесли куда больший вред, чем догадки доктора Шлимана. Таков путь познания. Начинаешь с нуля, но, если в поисках истины дерзаешь выдвигать новые идеи, к концу жизни обязательно внесешь вклад в науку, пусть и скромный. — Как мне хочется вернуться на раскопки! — призналась Софья Вирхову. Но Генри гак и не позвал Софью в Троаду, сколько ни уговаривал его доктор Вирхов—с равным успехом он просил прусское правительство ввести реформы, улучшающие жизнь бедняков. Генри написал ей: «Ты очень хочешь приехать в Трою. Как бы ни было велико мое желание увидеть тебя, сейчас этого делать не надо. Каждое утро я езжу к дальним курганам, которые зовутся здесь ^могилы героев», потом возвращаюсь в Гиссарлык и наблюдаю за ходом раскопок — уже нанято более сотни рабочих. Так что за весь день я бы не перемолвился с тобой и двумя словами. Да и погода все время пасмурная, настоящая зима, притом холодная». И совершенно non sequitur [34] добавил: «В следующий раз, когда встретишь доктора Вирхова, говори с ним по-французски. Его французский хуже, чем твой». Ее утешением были дети. Каждое утро она подолгу с ними гуляла. Андромаха, восьмилетняя крепышка, любила катать Агамемнона в коляске, которую Генри выписал из Англии. После обеда приходили то Катинго, то Мариго. или она сама навещала их; дети играли, сестры разговаривали. Иногда Софья приглашала к обеду Панайотиса. Через год он собирался поступать в Афинский университет, изучать археологию. У Спироса все еще была парализована левая половина тела. Он почти все время лежал, но, когда приходила Софья, пробовал вставать и двигаться по комнате. «Он столько лет обо мне заботился, — думала Софья, — теперь мой черед заботиться о нем». А через несколько недель слегла мадам Виктория: сердечный приступ на этот раз был гораздо тяжелее. Доктор Скиадарассис прописал постельный режим, диету и никаких волнений. От сиделки мадам Виктория наотрез отказалась: — Зачем мне сиделка? За мной ухаживает моя любимая дочь. Софья перевезла брата и мать из Колона к себе домой. Дом на улице Муз превратился в лазарет — в одной комнате Спирос, в другой мать. Детей Софья взяла к себе в спальню, поставила по обе стороны матримониале две маленькие кроватки. Она наняла опытных слуг, мужа и жену, и поселила их в квартире Яннакиса и Поликсены в цокольном этаже. Спирос больше не мог вести бухгалтерские книги, и Софья взялась за них сама, хотя всегда говорила, что деловой жилки в ней нет. Каждый день она несколько часов проводила на улице Панепистиму. Особняк рос не по дням, а по часам, уже вырисовывались его размеры, и Софья каждый раз заново поражалась им. Примимал строительные материалы и расплачивался с рабочими нанятый Шлиманом десятник, но за общим ходом работ по настоянию Шлимана наблюдала Софья. — Разве я могу со всем этим справиться? — приходила она в отчаяние. — На стройке, должно быть, сотни рабочих: немецкие плотники, итальянские каменщики, французские штукатуры, греческие слесари. К концу мая Генри уже не был дома три месяца. Софья, совсем извелась. Заботы по дому отнимали все время. Она отказалась от самых простых радостей—симфонического концерта на площади Конституции, утренних представлений в театре Букура, не приглашала гостей. В отсутствие Генри очень немногие знакомые вспоминали о ней. «Одинокая женщина, — тосковала Софья, — никому во всем свете ненужная». В середине мая из Трои вернулся бронзовый от загара — доктор Вирхов. Весь месяц он собирал образцы флоры и фауны Троады, раскапывал «могилы героев», совершал дальние верховые прогулки со Шлиманом и Бюрнуфом — поднимались даже на вершину Иды. Он с восторгом рассказывал о новых золотых находках Шлимана: один клад нашли на северном склоне под упавшей стеной дома, другой — на глубине тридцати трех футов, в двух шагах от того места, где шесть лет назад они с Генри откопали сокровища царя Приама. Вирхов описывал золотые диски, очень похожие на те, что они находили в Микенах, серьги, браслеты, бусы, диадемы и нагрудное украшение: сплетенная из золотых проволочек полоса, к которой прикреплены два десятка цепочек с золотыми ритуальными фигурками на конце. Теперь Константинопольский музей получит свою долю золота, в которой ему отказал афинский суд. Но самое большое впечатление произвели на Вирхова раскопки оборонительной стены Трои и обугленных руин третьего города — гомеровской Трои, которую Генри нашел, раскопав три города, стоявшие над ней. — Я рада за Генри, — сказала Софья, — но я ему так завидую. Генри женился на мне, чтобы я помогла ему найти Трою. А теперь я больше не нужна ему. — У вас на руках двое больных — матушка и брат. Вы просто очень устали. Слезы хлынули из глаз Софьи, как будто плотину прорвало, — такое сострадание звучало в голосе доктора Вирхова. Ей так одиноко, она всей душой рвется в Трою. Новые великие открытия будут сделаны без нее, и Генри один уедет в Европу. Англию… Чтобы развлечь Софью, Вирхов стал рассказывать ей о том, как он заменял в Троаде Шлимана в роли врача. — Ваш муж прекрасный переводчик, слов не нахожу для похвал! С каким терпением, как точно разъяснял он больным мои предписания. На другой день Вирхов принес письмо, которое написал Шлиману: Софья доверила ему свои сокровенные чувства, рассчитывая на его скромность, и он не мог отправить письмо без ее согласия. «Ваша жена… ждет не дождется Вашего возвращения, — читала Софья, — ее терзает страх, что она и летом будет одна. Мой Вам совет — уделяйте ей больше внимания. Она думает, что Вы о ней совсем забыли. Весь дом болеет, и у нее нет возможности хоть немножко развлечься. Она скучает без интересных занятий. Судьба высоко вознесла ее. Вы развили ее ум, и она вправе требовать от жизни большего…»7
Генри вернулся в Афины в самом начале нюня очень довольный собой. Доктор Вирхов, по его словам, научил его "выдержке и осторожности ученого". Сколь бы яростно он ни отвергал критику других археологов и знатоков античности, нельзя, однако, сказать, что эта критика проходила для него даром. — Я выровнял все пространство, — рассказывал он Софье, — начал раскапывать по горизонтали, дом за домом, постепенно двигаясь в направлении северного склона. Таким образом мне удалось раскопать все дома третьего города, не разрушив их стен. Он задумал новую книгу о Трое под названием «Илион». В ней он не только опишет работу всех своих экспедиций, включая последнюю, не только приложит новые карты и планы раскопок, сделанные Бюрнуфом, — изменится самая форма изложения. Вместо очень субъективной дневниковой записи «Троянских древностей» с ее свободными и не всегда верными суждениями будет строго научное описание всего, что было найдено на Гиссарлыкском холме. Они пили вечерний кофе в беседке, спрятавшейся в густых зарослях их запущенного сада. — Отныне я буду брать тебя на все раскопки. Я уже стал подумывать об Орхомене. Гомер называет «златообильными» только три города: Трою, Микены и Орхомен. Софья воспрянула духом, хотя раскопки в Орхомене откладавались на будущий год. Генри был опять занят по горло: надо писать главы для «Илиона», подготовить полторы тысячи гравюр новых важных находок. — Дай мне две-три недели сроку. Вот закончу несколько деловых операций, отвечу на все письма, посмотрю, как подвигается строительство «Палат Илиона», и поедем на месяц в Баварию, в Киссинген, на воды. Возьмем детей. Как будет славно! А пока давай развлекаться в Афинах, будем ходить в театры, на концерты, в рестораны. Ты здесь без меня совсем засиделась. Встретив мужа, Софья, как часто бывало в прошлом, хотела показать ему, как она сердита на него, как обижена. И не могла. Чувствуя себя виноватым, Генри не знал, как обласкать Софью, чем заслужить прощение. Даже дал ей денег, чтобы купить для матери домик в Афинах. Лучшего лекарства для мадам Виктории нельзя было придумать. Она скоро была уже на ногах. Еще несколько дней, и она нашла подходящий домик. Генри перевез мадам Викторию и Спироса в их новое жилье, нанял им служанку и кухарку. — Спасибо, дорогой, это очень облегчит мое бремя. — Старый чудаковатый муж—достаточное бремя и без того… А через несколько дней спало с плеч еще одно бремя. Как-то в полдень раздался стук в дверь, и в дом на улице Муз собственной персоной явился лейтенант Василиос Дросинос. Он сказал Шлиману, что их инженерный полк перевели в Афины, работы у него здесь мало и, если они в нем нуждаются, он в их распоряжении. — Еще как нуждаемся! — воскликнул Генри. — Мой десятник уволился, архитектор несколько месяцев будет в отлучке. Не хотите ли стать главным инженером строительства «Палат Илиона»? Только теперь уж заручитесь разрешением начальства. Дросинос взял на себя все: он платил рабочим, получал строительные материалы, надзирал за работой всех, начиная от итальянских паркетчиков и английских стекольщиков, кончая французскими и баварскими художниками, расписывающими стены. — Какое счастье, что он опять с нами, — сказала Софья. — Яннакис процветает, Фрэнк Калверт опять наш друг, Дросинос теперь на хорошем жалованье. Нет, видно, это все выдумки, что осквернителя царских могил ожидает страшная кара. Июль провели в Киссингене. Софья так и не могла понять, что на нее подействовало: вода или забота Генри, но она опять поправилась и была счастлива. Когда пришло время возвращаться в Афины, Генри испросил у нее разрешения поехать в Париж — нужно было поработать с Бюрнуфом над картами для «Илиона». Вернувшись в Грецию, Софья поселилась в Кифисьи и пригласила к себе сестер. Скоро приехал Генри; и она сейчас же перебралась на улицу Муз. Генри вел жизнь затворника, целыми днями он просиживал у себя в кабинете, уйдя с головой в троянские дневникн и свои многочисленные заметки. Он работал с таким напряжением, что к ноябрю были готовы главы о топографии, этнографии, географии и религии Трои, а также изложен в подробностях спор о местонахождении этого древнего города. Задумав создать монументальный труд, он обратился к нескольким ученым с просьбой написать главы для его книги. Согласие дали многие. — Я хочу, чтобы эта книга читалась с интересом и пользой, — говорил он. Генри отрывался от занятий только затем, чтобы съездить на улицу Панепистиму посмотреть, как строится дом. Жизнь текла мирно и счастливо. Андромаха поступила в начальный класс Арсакейона и прекрасно училась. Агамемнону еще не было двух лет, а он уже все говорил. Мадам Виктория одна разъезжала по Афинам. И Спирос стал выходить с палочкой на улицу. Генри на этот раз не забыл десятой годовщины свадьбы и купил Софье целую гору подарков. Единственным огорчением оставалась судьба сокровищ Приама. В 1876 году Чарльз Ньютон отказался выставить троянскую коллекцию в Британском музее, посоветовав Генри устроить ее экспозицию в Кенсингтонском музее. Теперь же эта коллекция приобрела такую известность, что Ньютон попросил Шлимана назначить за нее цену; он не сомневался, что Гладстон добьется согласия парламента и Британский музей купит ее. А еще год назад, будучи в Троаде, Генри написал в Петербург своему старому знакомому барону Николаю Богачевскому письмо, в котором просил позондировать почву, не захочет ли Эрмитаж купить его коллекцию. — Почему вдруг в Петербург? — оторопела Софья. — Потому что в этом городе я жил двадцать лет. И составил там мое первое состояние. — Первый раз слышу от тебя о любви к Петербургу! Софья в недоумении покачала головой. Сначала Генри думал подарить сокровища Лувру, хотя во всеуслышание говорил о своей горячей любви к Греции. Потом отказался продать коллекцию Ньютону для Британского музея и сразу после этого предложил троянские сокровища Эрмитажу! И еще — она знала—он вел переговоры с американцами, потому что в Нью-Йорке в скором времени открывался музей Метрополитен. Да и Вирхов, конечно, не терял времени даром в Троаде, уговаривая Генри подарить сокровища Приама берлинскому музею… — Немцы семь лет публично обливали меня грязью, — сказал Генри. — Но вот и они взглянули на меня благосклонно. Теперь они очень высокого мнения о моих книгах. К тому же с годами моя привязанность к отечеству стала расти. Отдам бесплатно коллекцию Берлину. Но кайзеру это обойдется дорого. — Чего ты добиваешься, Генри? — спросила Софья. — Признания… признания моего научного вклада в археологию. — Почему тогда еще раз не предложить сокровища Приама греческому правительству? Наш Национальный музей через год-другой откроется. Если ты соединишь троянское собрание с микенскими находками, будет величайшая в мире археологическая экспозиция. Генри ничего не ответил. Софья чувствовала не гнев, а боль. Как можно взывать к здравому смыслу человека, который кружится в пляске дервиша между музеями мира. Словно девица, торгующая своим единственным сокровищем — девственностью. Но поскольку предложений было слишком много, Софья перестала тревожиться. Следующие несколько месяцев ушли на перевод «Илиона» и переговоры с издателями. В апреле был подписан договор с Харпером на издание «Илиона» в Соединенных Штатах с выплатой автору десяти процентов от каждой проданной книги. Закончив перевод на немецкий язык, Генри повез свою книгу в Лейпциг: Брокгауз обещал опубликовать ее в начале 1881 года. Английское издание, над которым уже трудились переплетчики, выходило в свет первым. Французский издатель Шлимана отказался заключить договор, так как «Микены» принесли убыток. Генри в свое время возместил убытки сполна и теперь удивлялся, чем недоволен издатель. Махнув на него рукой,Генри стал подыскивать для французского «Илиона» нового издателя. Все эти хлопоты совпали с переездом в еще недостроенные «Палаты Илиона». Генри заявил, что хочет лично наблюдать за росписью стен. Возражать ему было бесполезно. С душевной болью смотрела Софья, как 1 т>узят в фургоны домашний скарб и увозят с улицы Муз. Десять лет они с Генри прожили в этом доме. Здесь родилась Андромаха. В этот сад привезли они первые троянские находки. Были трудности, огорчения, но они давно забылись. Генри решил сдать внаем старый дом, еще хранивший тепло ее семейного очага. Теперь в нем поселятся чужие. Софья не могла думать об этом без слез. В июле получили разрешение на раскопки Орхомена. Генри сдержал слово: Орхомен они будут раскапывать вместе. Троя, Микены. Орхомен—три златообильных града. Генри впишет последнюю главу в эту легендарную трилогию. А пока что он распорядился привести в порядок все снаряжение. Половину июля Софья провела в Кифисьи, вторую половину в Касталле на берегу моря, где сняли дом, чтобы дети могли купаться и загорать. Генри уже учил Агамемнона плавать. Этим летом праздновали семейное торжество — помолвку брата Александроса с восемнадцатилетней Анастасией Павлиду; ее родители устроили роскошный пир. В августе поехали всей семьей на воды в Карлсбад. Оттуда в сентябре Генри умчался в Лейпциг работать с издателем над «Илионом». Когда Софья вернулась в Афины, дом был уже почти готов. В нижнем этаже две комнаты Генри отвел для музея, где будут храниться его археологические находки; там не хватало лишь витрин и стеллажей. Еще три комнаты—для прислуги, обставлены они чуть ли не с роскошью, есть даже ванная комната. Большую кухню Софья хотела оборудовать сама, но Генри уже все купил. И Софья отдала ему должное: все сделал как надо, написал из-за границы самые лучшие плиты, фарфоровые мойки. В бельэтаже, куда с улицы вела широкая мраморная лестница, мебели еще не было, но весь двор загромождали сотни ящиков с иностранными наклейками—они доставлены сюда из всех стран Европы: в этих ящиках была и мебель из парижской квартиры Генри. Из Парижа были выписаны ванны и калориферы; фирма Шевалье поставила высокие с затейливой резьбой шифоньеры, кушетки, столы с резными ножками, кресла. Для огромного бального зала, у которого стены и потолок расписаны пестрыми птицами и растениями Троады. Генри заказал множество стульев с плетеными сиденьями. Внутренняя лестница вела на верхний этаж, где находилась библиотека Генри. В ней стояли массивный резной письменный стол и огромные кресла, сделанные по его заказу. Книги, привезенные из Парижа и с улицы Муз, лежали пока в больших ящиках и плетеных корзинах: Генри хотел сам поставить на место каждый том. Он поручил Софье заказать у Брокгауза много новых названий, а сам выписал книги по каталогам французских и английских издателей. Библиотека находилась прямо над бальным залом, но была чуть-чуть его меньше; несмотря на три ряда высоких, вместительных полок из светлого дерева, света и воздуха в этой просторной комнате было достаточно; на верху каждой полки, по замыслу Генри, будет стоять по нескольку троянских ваз. С южной стороны к библиотеке примыкал зимний кабинет, чтобы зимой в нем было солнце; с северной—летний, где будет прохладно в самые жаркие месяцы. Напротив библиотеки через холл была их спальня, которая выходила окнами на Афины. Из нее вела дверь в будуар Софьи. Войдя в него, Софья обмерла: он похож на мужскую гардеробную или, вернее, на жилище воина из древней Спарты. Холодно, строго, ничего женского, уютного. У туалетного столика темного дерева с ящичками для косметики — жесткий стул. Над столиком небольшое зеркало. — Я этого не потерплю, — взбунтовалась Софья. — Этот крошечный закуток, единственный во всем замке, будет действительно мой. И я уберу его по своему вкусу. И еще она обязательно проследит, чтобы в детских было уютно и весело. Генри вернулся в конце октября. Рабочие открыли ящики и стали вносить в дом мебель. Ни в одной комнате дворца, решил Генри, не будет ни занавесок, ни гардин. Да и зачем они — в окна с улицы все равно не заглянешь: торцовые выходят в сад, а окна фасада спрятаны за изящной аркадой. — Во дворце Приама не было никаких штор, — сказал Генри. — Пусть и наш дом будет весь залит светом. — Но у себя я шторы повешу, — объявила Софья. — У меня такое впечатление, Генри, что в глубине души ты решил возвести в Афинах дворец Приама. — В какой-то мере, — возразил Генри. — Будь у меня действительно такое намерение, я бы не позволил Циллеру строить в смешанном эллинско-германском стиле. Я бы выбрал классический греческий стиль университета и Национальной библиотеки. На крыше по всем четырем сторонам Генри водрузил двадцать четыре мраморные статуи древних богов и богинь. Выше человеческого роста.8
Баварские живописцы расписали стены и потолки гостиных по эскизам, сделанным самим Генри: на одном потолке была изображена мраморная метопа: бог солнца Аполлон мчится по небу на своих великолепных конях. Саму мраморную метопу Генри поместил на карниз главного входа, над мраморной лестницей. Тринадцатого ноября 1880 года Шлиманы отправились к месту новых раскопок. Гомер называл Орхомен богатым и могущественным городом, но у древних авторов о нем было сказано очень мало. И, назначая дату начала раскопок, Генри имел об этом городе весьма смутное представление. Орхомен, по преданию, основал царь Миний, предок аргонавтов. Первоначально акрополь был расположен на восточном берегу большого озера Копаис, где были воздвигнуты циклопические стены. Но у озера не было стока, и частые наводнения, а также малярия заставили жителей Орхомена переселиться на западный берег, где возвышалась гора Аконтин. На этой горе, как сообщает древний историк Страбон, они построили новый акрополь и сокровищницу. Выехали с улицы Панепистиму в семь часов утра, свернули на улицу Пирея, миновали оливковые рощи и, оставив позади Дафни и Элевсин, поехали по берегу Эгейского моря, подернутого белыми барашками. Ночевали в Фивах, где находилась когда-то древняя Кадмея. На следующее утро приехали в Левадию, довольно крупный город Беотии, расположенный в шестидесяти милях от Афин и всего в нескольких милях от Орхомена. Остановились в доме полицейского Георгиоса Луки-диса, который помог им нанять рабочих. Назавтра чуть свет отправились в Орхомен; рабочие были уже на месте. Вырыли в разных местах несколько шурфов, но нашли только небольшое количество черепков древних ваз. На другой день, пока Генри искал на горе место, где мог быть скрыт под землей дворец царя Миния, Софья обнаружила сокровищницу. Подобно сокровищнице в Микенах, ее скрывал толстый слой земли и щебня. Купол был тоже проломан. Софья легла ничком и, ладонями заслонив от света глаза, глянула внутрь. Знакомая картина—сложенные из плит стены кругами сужались к верхушке. Софья позвала Генри. Решили, что Софья будет искать дромос и раскопает его до входа. Тем временем Генри пойдет сверху вниз, пока не отроет вход хотя бы до половины. Дромоса, к большому разочарованию Софьи, не оказалось. От него не осталось и следа, если не считать весьма заметного доказательства его существования в недалеком прошлом— небольшой церкви, построенной мэром соседнего селения Скрипу из красивых плит дромоса. В Орхомене они пробыли месяц. Каждое утро на рассвете верхом уезжали на раскопки, в сумерки возвращались в Левадию. Генри удалось нанять сотню рабочих и с большим трудом оттащить в сторону огромные, упавшие сверху плиты. Расчистив внутри толоса большое пространство, нашли множество бронзовых гвоздей. — Этими гвоздями, наверное, крепились бронзовые пластины, выстилающие стены сокровищницы изнутри,— предположил Генри. Софья сделала еще одно интересное открытие: в толосе справа от входа оказалась дверь, а за ней коридор, оканчивающийся входным отверстием. Оно было наглухо забаррикадировано плитой, богато орнаментированной рельефом и резными цветами. Сначала Софья подумала, что эта плита и есть дверь в соседнюю могилу, но оказалось, что она упала сверху, прочно I закупорив дверной проем. — Генри, может быть, можно добыть в Левадии подъемный механизм и оттащить эту плиту? Скоро начнутся дожди, а мне так хотелось бы поскорее войти внутрь. — Слишком поздно, дорогая. Над головой уже собираются тяжелые черные тучи. Мы вернемся сюда в марте. В Афины приехали девятого декабря. Генри ожидало письмо i из Кенсингтонского музея. Дирекция музея настоятельно требовала, чтобы Генри в самое ближайшее время вывез свою коллекцию. Эдинбургский Музей наук и искусств спрашивал, не могут ли они выставить троянскую коллекцию у себя. — Ты дашь согласие? — спросила Софья. — Нет. — Почему же? — Я хочу выставить ее в одной из великих европейских столиц. — А что, Афины не принадлежат Европе? — Пока нет. Это все еще восточное Средиземноморье. — Генри, я тебя очень прошу, верни сокровища Приама домой. В нижних комнатах витрины уже установлены. Генри промолчал, его устремленный на Софью взгляд ничего не говорил. Рабочие начали раскрывать новые ящики, прибывшие из Парижа, расставлять стулья, украшенные золотыми цветами и листьями, шезлонги, столы, секретеры. Вся эта мебель, загромождавшая квартиру в Париже, терялась в огромном зале, трех гостиных, столовой. Письма от Вирхова приходили ежедневно. Из отрывочных замечаний Генри Софья понимала, что Берлинский музей отвергает не коллекцию Шлимана, а его условия. В письме к кайзеру Вильгельму Генри требовал, чтобы его сделали почетным гражданином Берлина и избрали в члены Берлинской академии наук, чтобы Берлинский музей носил его имя или по крайней мере оно официально значилось в названии музея. Он заявил, что коллекцию приносит в дар не кайзеру и правительству, а немецкому народу. Он сам ее привезет и разместит в зале. И еще одно—кайзер должен наградить его орденом «За заслуги» — высшим гражданским орденом Германской империи. Доктор Вирхов убеждал его отказаться от некоторых условий: во-первых, от избрания в члены Берлинской академии наук—даже он, Вирхов, не был ее членом. Во-вторых, от притязания, чтоб его именем был назван Берлинский музей. Троянскую коллекцию, судя по всему, поместят в Этнографический музей, который в настоящее время реконструировался, и назвать его именем этот музей, разумеется, невозможно. Троянская коллекция, — предлагает Вирхов сформулировать предложение Шлимана, — дарится немецкому народу в вечное и неотъемлемое владение под надзором прусского правительства с условием, что коллекция будет размещена в Этнографическом музее самим Шлиманом в залах, которые будут на все времена носить его имя». Шлиман согласился на эти уступки и написал Вирхову соответствующее письмо. Вирхов немедленно ответил, что Берлин примет его условия, даже если ему, Вирхову, придется потратить на это месяцы. Но сначала надо заручиться содействием Бисмарка. Вирхову было не привыкать целыми днями просиживать в приемной канцлера, ожидая своего часа, — от борьбы за правое дело он еще никогда не отказывался. Софья вошла в библиотеку, и Генри протянул ей стопку писем — свою переписку с Вирховым. Лицо его было бесстрастно. Прочитав письма, Софья почувствовала, как у нее сжалось сердце. Но говорить уже было бесполезно, Софья вышла из библиотеки, прошла к себе в будуар, заперла дверь и упала в кресло. Безвозвратно утрачены для Греции ее чудесные троянские сокровища… Утрачены, и теперь ими будет владеть чужая страна. Софью охватило отчаяние. Почести в Лондоне, ее фотография на обложке берлинского журнала «Фрауен цай-тунг», с таким трудом завоеванное признание в Афинах — все рассыпалось в прах. Все эти семь лет с тех пор, как троянские сокровища были тайком привезены в Афины, они причиняли ей лишь горе и унижение. Софья безутешно разрыдалась. На другое утро Генри уехал в Лондон за троянской коллекцией. Они не попрощались. К рождеству Генри не вернулся: не успел упаковать сорок ящиков, которым предстояло отплыть в Берлин. Зато на праздники в Афины приехал епископ Вимпос. Щеки у него ввалились, глаза запали. Он благословил новый дом, затем Софья повела его осматривать все достопримечательности «Палат Илиона» и молодой сад, густо засаженный фруктовыми деревьями, цветущим кустарником и обнесенный бетонной стеной высотой в три фута. Вимпоса поразили внушительные размеры дома, настенная живопись, цитаты из античных авторов, которыми были испещрены чуть ли не все потолки и стены. Когда вернулись в уютную семейную гостиную. Вимпос заключил свои впечатления коротко: — Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. — Затем, немного помолчав, тихо спросил: — Чем ты так расстроена, Софидион? Софья рассказала ему, что Генри подарил троянскую коллекцию Германии. Вимпос внимательно посмотрел на нее и трижды осенил крестом. — Есть только одна возможность выжить, дитя мое: умей безропотно принимать поражения. Покоряйся воле божьей. Хотя тебе всего двадцать восемь лет, но ты должна была бы уже постичь эту истину. — Он глубоко вздохнул. — Я на двадцать лет старше тебя и давно убедился в ее справедливости. Он положил руку ей на плечо. — Бесполезно ссориться с Генри. Одержимого не остановишь. Он поступил так, как призван был поступить. Поддерживай его, радуйся вместе с ним, жалей. Этот бедный безумец в отмщение своей нишей юности дарит драгоценности тем, кто унижал его. Утешайся собственными достижениями, укрепляй силу своего духа и люби Генри. Наш долг—помогать беззащитным. Счастливое замужество и счастливая жизнь зиждятся на мудрости и самоотверженности. Генри вернулся из Лондона в первых числах января. Ящики с сокровищами Приама благополучно перенесли плавание и находились теперь в хранилище Рейхсбанка в Берлине. Генри поведал о своих планах: весной поездка в Орхомен, а одиннадцатого февраля—торжественное открытие «Палат Илиона», он уже составил список гостей: ни много ни мало двести человек, в том числе его родные из Германии. — А ты успеешь к этому времени со всем управиться? Люстры еще не приехали из Парижа. Ковры уже здесь, но до твоего приезда мы их не стали стелить. Генри стоял в библиотеке у своего стола. Притянул Софью к себе, ласково поцеловал в уголки губ. Эта была счастливая минута. Он чувствовал, что прощен. — Не бойся, малышка. Я обо всем позабочусь. Составлю меню. Найму поваров, официантов, оркестр для первого бала в нашем дворце. Ты будешь самая красивая хозяйка во всей Греции. Только представь, ты стоишь вместе со мной на верху мраморной лестницы в нашей чудесной прихожей и мы встречаем гостей — цвет афинского общества. — Ну да, я ведь тоже украшение. — съязвила Софья. — Но не только. Ты замечательный археолог, открывший царские гробницы и несказанной красоты сокровища. В конце января Генри получил официальное письмо от кайзера Вильгельма, в котором тот от имени немецкого народа принимал дар Шлимана—его троянскую коллекцию. Лицо Генри вспыхнуло от гордости. Софья поздравила мужа. Вскоре и она получила из Берлина послание—телеграмму от кронпринца Фридриха, который благодарил ее за троянские древности — бесценный дар, поднесенный немецкому народу ее знаменитым мужем. Софья была приятно удивлена, у нее дрожали губы. — Почему это кронпринцу вздумалось благодарить меня? — Это дань уважения тебе лично, — сказал Генри, не скрывая своего удовольствия. — Королевская семья знает, что мы вместе открыли Трою, вместе нашли сокровища. Софья глядела на мужа в немом изумлении. Когда же она перестанет удивляться его характеру? Он совершенно забыл, что подарил троянские сокровища Германии вопреки ее желанию. Он искренне верит, что судьбу их коллекции они решали вместе. Если она не откроет ему глаза—а она вовсе не намерена была это делать, — он до конца своих дней пребудет в этом заблуждении. Начались недели сумасшедшей гонки. В бальном зале, гостиных и столовой повесили роскошные люстры. Во всех комнатах бельэтажа появились украшенные изящной резьбой мраморные камины, а над ними высокие зеркала. На цементной ограде со стороны улицы поставили отлитую в Англии чугунную решетку с узором из спиралей и увенчанную двумя крылатыми грифонами, сидящими на «свастиках», скопированных с троянских узоров. Затем навесили чугунные двустворчатые ворота тоже со спиралями и грифонами. Когда ворота запирались, «Палаты Илиона» превращались в неприступную крепость. Итальянские мастера, работавшие целый год, закончили наконец укладывать мозаичные полы, на которых, как и на стенах, были цветы и птицы Троады, сделанные по рисунку самого Генри. Андромаха назвала одну гостиную «Флорой», другую «Фауной». В первый вечер новоселья, когда готовились ко сну, Софья заметила, как Генри положил себе под подушку томик «Илиады». — Бард будет петь мне всю ночь, — торжественно заявил он. Софья простила ему «барда», потому что над карнизом шерп в их спальню он поместил следующие строки из «Илиады» в собственной редакции:Для туалетной комнаты Генри выбрал озорную цитату из Эвбула:
Некоторую сдержанность Генри проявил только в отношении столовой. На ее стенах было всего три цитаты. Софья решила, что это не без умысла — пищеварению ничто не должно мешать. На западной стене на фоне голубого древнего здания с аркадой на крыше было написано из «Одиссеи»:
Любимой комнатой Генри была библиотека: вот где краснодеревщики постарались на славу. В ней было семь красивых дверей, три вели в крытую галерею с мозаичным полом, где Генри мог расхаживать, обдумывая что-то или просто отдыхая от чтения. Еще одна дверь открывалась в большой холл, куда выходила их спальня. Над главной дверью, ведущей из большого коридора, золотом было выведено:
УЧЕНИЕ — СВЕТ.
А над дверью летнего кабинета красовалась надпись, висевшая над дверями Академии Платона:
БЕЗ ЗНАНИЯ ГЕОМЕТРИИ НИКТО НЕ ВХОДИ.
На стенах и над другими дверями были разбросаны цитаты из Гомера, Лукиана, греческие пословицы, к примеру такие: «Невежество прискорбно». В одном из стихов Гомера пропустили строчку. Генри был вне себя. Эти россыпи цитат очень смешили Софью. — И к чему теперь тебе книги? Сиди себе в кресле и читай свои стены, — не удержалась она от колкости. Генри не обиделся, он был ей благодарен — у нее хватило такта промолчать об орфографических ошибках. Никто из рабочих, строивших «Палаты Илиона», не знал древнегреческого. Генри сидел за своим письменным столом темного красного дерева на резных ножках со львами. Оба подлокотника тронного кресла оканчивались резным изображением совы — символическим образом его любимой богини Афины. — Нравятся тебе фрески и надписи? — спросил он Софью. — Как еще мог украсить свое жилище открыватель Трои? Я чувствую себя маленькой девочкой в белой блузке и синей юбке. Как будто я опять учусь в Арсакейоне. Но шедевром Генри был бальный зал. На стенах под потолком тянулась длинная фреска—нагие младенцы, смахивающие на купидонов, читают Гомера или Павсания, раскапывают Трою и Микены, любуются древними сокровищами. Среди этих фигурок одна очень напоминала его двухлетнего сына Агамемнона: он сидел на скале, раскинув пухлые ручки, и озирал окрестный пейзаж, по-видимому Троады. Еще одна довольно комическая фигура — сам Генри, взирающий на танцоров сквозь большие очки в роговой оправе. — Ты само тщеславие, Генри! Хорошо еще, что хватило юмора изобразить себя в этом шутливом виде. — А ты бы хотела оказаться среди этих фигур? — Нет уж, благодарю покорно. Предпочитаю танцевать с гостями, а не парить в облаках. На всех четырех стенах были красиво начертаны десять надписей—пять цитат из «Трудов и дней» Гесиода, две цитаты из «Илиады», две эпиграммы и одна «Олимпийская ода» Пиндара. Надписи покрывали стены коридоров, попадались в «Палатах Илиона» на стенах прихожих, лестниц; всюду поблескивало золото изреченной мудрости. А на фасаде, выходящем на главную улицу Афин, между первым и вторым ярусом колонн, там, где могли прочесть прохожие, — мраморная доска, на которой золотом выгравировано:
ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ[35]
9
Дом был ярко залит огнями; казалось, он сиял на все Афины. Канделябры с сотнями высоких свечей, парижские люстры, бесчисленные бра — все излучало теплый, трепещущий свет. В каждой аллее, в каждом уголке большого сада горели факелы. Справа и слева по улице Панепистиму к дому подъезжали экипажи, слуги с горящими факелами указывали дорогу ливрейным кучерам; въехав в ворота, экипажи останавливались у парадного входа, два ливрейных лакея помогали выходить дамам в изысканных бальных туалетах и мужчинам в неизменных фраках и белых галстуках. Пажи провожали их по мраморной лестнице до высоких бронзовых дверей. Целая армия горничных в черных глухих платьях и белых крахмальных с рюшами передниках принимала у гостей пальто, палантины и накидки. Очень немногие задерживались, чтобы прочитать афоризм, начертанный над входными дверями:Когда очередная пара переступала порог бального зала, дворецкий в ливрее громко, на всю «гостиную для вечерних приемов» объявлял имя и титул; Генри и Софья стояли рядом в глубине зала и приветствовали гостей. На Софье было розовое платье, украшенное ниспадающими гирляндами из зеленых листьев и фиалок, с квадратным декольте, не очень длинным шлейфом и по французской моде без рукавов; туго затянутое в талии, оно подчеркивало изящество ее фигурки. Высоко поднятые волосы украшали те же зеленые листья и фиалки. Золотое ожерелье, из трех нитей, сделанное по заказу Генри, было в точности скопировано с ожерелья из сокровищ царя Приама. Официанты в темно-зеленых ливреях разносили шампанское в изящных бокалах, которые Генри привез из Англии. Первые полчаса, до появления ровно в десять премьер-министра, гости, тихо переговариваясь, разглядывали друг друга: всем было любопытно увидеть, кто приглашен и кто принял приглашение на этот чуть ли не королевский прием. Не приехали только король Георг I и королева Ольга—их не было в Афинах. В бальном зале «Палат Илиона» собрались сливки афинского общества: кабинет министров в полном составе, видные члены парламента, профессора Афинского университета, члены Археологического общества—среди них и Панайотис Стаматакис, дипломаты в орденах и медалях, архиепископ Афинский, директоры Государственного греческого банка, именитые купцы, епископ Вимпос, вся семья Софьи — ее мать, сестры с мужьями, Александрос с невестой, Спирос, Панайотис, — две сестры Генри с мужьями, приехавшие из Германии, лейтенант Дросинос, отлучившийся по этому случаю из Ламии, и полицмейстер Нафплиона Леонидас Лео-нардос. Оркестр Кайзариса из двадцати инструментов, помешенный в малой гостиной, заиграл кадриль, затем пятнадцатиминутную польку; за мазуркой последовали вальс и лансье—танцевали до полуночи. Дамам роздали красивые книжечки, куда они записывали ангажировавших их кавалеров. Официанты разносили подносы с мецетакья: бутербродами с икрой, анчоусами и сардинами, чтобы танцоры могли подкрепить свои силы. В полночь музыка смолкла. Ужин подали прямо в зал, гости ели кто сидя, кто стоя; разглядывали оранжево-красные «помпейские» фрески, читали надписи, которыми Генри украсил стены. Наиболее подходящей к случаю была, пожалуй, пространная цитата из «Илиады»:
Из кухни по лестнице тянулась бесконечная вереница горничных и лакеев. Официанты разносили на подносах французское шампанское; горничные подавали котлеты — кефтедакья, греческие колбасы, жареных мидий, креветок, омаров, голубцы в виноградных листьях, куриный плов, жаркое с рисом — шиш-кебаб. На десерт подали шоколадный торт с абрикосами, сливочный кремовый торт, золотистые ореховые меренги, баклаву и кофе по-гречески. В час ночи Кай за рис взмахнул своей палочкой, и бал продолжался до трех часов утра. Разъезжающиеся гости расточали Шлиманам самые восторженные похвалы. Венчание Александроса состоялось в семейной церкви Анастасии. Счастье молодых омрачало только одно облачко: Александроса могли в любую минуту призвать в армию — война с Турцией казалась неизбежной. Панайотиса уже призвали, но часть его стояла в Афинах, и он мог посещать занятия в университете. Шлиманы часто принимали гостей, полюбивших «Палаты Илиона» и их радушных, любезных хозяев. Девятого марта Генри дал обед в честь барона и баронессы Вальденбургских. Были приглашены многие дипломаты, и в том числе и немецкий посол в Греции Йозеф Мария фон Радовиц. Генри сказал тост в честь гостей из Германии. Говоря по-немецки, он повторил довольно часто мелькавшее в печати утверждение, что истинные потомки древних греков — германцы. Софья вспыхнула, поднялась и произнесла свой тост по-французски: — Дамы и господа, позвольте мне поднять бокал за здоровье всех представителей великих держав, почтивших нас сегодня своим присутствием. Я далека от политики, но я решительно протестую против того, что сказал мой муж. Нет, не германцы потомки древних греков. Истинная наследница Эллады—современная Греция. Когда последние гости ушли, Генри обнял Софью за плечи: — Дорогая моя мадам посол, я не уверен, что твоя речь была образцом дипломатии, но должен признаться, ты права. Через несколько дней Шлиманов пригласили в Олимпию присоединиться к группе Греческого археологического общества. Экспедиция Германского археологического института раскопала там великолепный храм Зевса, огромные скульптуры богов, мастерскую Фидия, агору, палестру, стадион, во всяком случае беговую дорожку с опорными стартовыми ямками для бегунов и финишными отметками. Раскопки продвинулись настолько, что был вычерчен план Олимпии. Генри весь кипел. Он ведь так хотел сам раскопать это святилище. Афины еще не были связаны железной дорогой с Патрами и Олимпией. Ехать туда надо было на лошадях чуть больше суток с двумя ночевками на постоялых дворах. Поэтому они сели в Пирее на пароход и через три часа были в Каламаке. Затем по суше миновали Коринфский перешеек, сели в Коринфе на другой пароход и, обогнув северную оконечность Пелопоннеса с Патрами, приплыли в порт Катаколон. Там наняли экипаж и через три часа были в Олимпии, пробыв в пути те же двадцать четыре часа, но с одной ночевкой на борту судна. Хозяева раскопок показали Шлиманам все замечательные сооружения Олимпии; когда осмотр кончился, к ним подошел молодой человек и представился, назвав себя Вильгельмом Дёрпфельдом. Он рассказал, что шесть лет работал на раскопках в Олимпии как архитектор. Дерпфельд был высок, гладко выбрит, не считая полоски небольших усиков, не красавец, но с приятным лицом и несколько сдержанными, но располагающими к себе манерами. Он читал все публикации Генри и хорошо понимал, с какими трудностями тому пришлось встретиться при раскопках Трои, там же не земля, а просто mille folie—торт «Наполеон». Он спросил, почему Шлиман ни разу не зашел в Германский археологический институт в Афинах. Молодые археологи этого института, заверил он, от души восхищаются упорством Шлимана и его разносторонними талантами, что бы там ни говорили почтенные старцы. Они не дадут его в обиду! До Шлимана археология была в полной безвестности, она считалась неинтересной наукой, имеющей дело с мертвыми камнями. — он вдохнул в нее жизнь, превратил в увлекательнейшую из наук. — Вы—отец современной археологии, так мы все считаем, — заключил он. Софья внимательно вглядывалась в лицо молодого человека: не льстит ли он Генри, а если льстит, то с какой целью? Нет, в нем не видно и тени лицемерия. Он искренне восхищен Генри. Это восхищение ученика перед учителем, который, неустанно трудясь, прокладывает новые пути в науке. Предки Дёрпфельда были крестьянами, корни его семьи уходили в. тем.1 щ.т. m век. Отец, известный деятель просвещения, в молодости преподавал в школе. Один из его предков был кузнец. У Дёрпфельда были широкие плечи, могучая грудь и ноги его прапрадеда-кузнеца. Окончив в Технологическом институте архитектурное отделение, он стал работать у своего учителя профессора Фридриха Адлера, который разрабатывал в то время предварительный план раскопок Олимпии. Возглавить раскопки должен был Эрнст Курциус, тот, что осмеял золотые микенские маски, сочтя их чересчур тонкими. Ему понравился толковый молодой человек, и он пригласил его в Олимпию в качестве помощника главного архитектора раскопок. — Этот день решил мою судьбу, — сказал он Шлиманам. — С тех пор я не хочу больше проектировать новые здания. Хочу раскалывать древние города, крепости, храмы. Архитектура мне помогает. Когда археолог находит древние развалины, пусть только пол или кусок стены высотой один-два фута, он должен тщательно все обмерить и сделать квалифицированный чертеж, чтобы восстановить по этим наметкам всю их былую красоту. Софья поймала взгляд Генри и поняла, что их осенила одна и та же мысль. «Вы и не подозреваете, молодой человек, — подумала она, — что в эту самую минуту вы произведены в первые помощники доктора Шлимана на новых раскопках Трои». Назавтра они получили телеграмму от Алесандроса. У Спироса случился второй удар, и он почти мгновенно умер. Хоронить его будут по их возвращении из Олимпии. Софья рыдала на груди мужа. Бедный Спирос, умер таким молодым. — Я понимаю твою скорбь, — утешал ее Генри. — Может, он и умер так рано, потому что у него совсем не было жизненной хватки. Помнишь, я его спросил при первой встрече: «Кем бы ты хотел быть?» А он мне ответил: «Никем, уж какой есть». Уложили вещи и спешно отправились в путь. Через несколько дней вся семья собралась на главном афинском кладбище. Три года спустя после смерти Георгиоса Энгастроменоса его кости были извлечены из могилы, уложены в ларчик и снова захоронены сбоку семейной могилы. Теперь к ним опустили гроб Спироса. Священник прочитал «вечную память», крест-накрест кинул вниз первую землю, щепотку угля, помахал кадилом с ладаном. Софья и близкие бросили по пригоршне сухой земли. Друзья и родственники принесли на кладбище всякую снедь: Спирос останется на земле еще сорок дней и ему будет чем подкрепиться в ожидании райского блаженства. Софья вспомнила слова Вимпоса, что жизнь человека—это тернистый путь от колыбели до могилы и что всем суждено пройти этот путь, длинный или короткий. И только одно требуется в этом пути—чтобы в сердце была любовь. — Пусть память о тебе живет вечно, мой бедный, не явивший себя свету брат. — тихо проговорила Софья. В марте Софья и Генри вернулись в Орхомен, пригласив с собой известного английского ассиролога А. Сейса и Панайоти-са Эвстратиадиса, генерального инспектора памятников старины. Все четверо остановились у полицейского офицера Георгиоса Лукидиса. На раскопки отправлялись с первыми лучами солнца. Работы было много: извлекли из сокровищницы несколько тщательно отесанных мраморных блоков и карнизов — быть может, это были остатки небольшого алтаря. Затем внутри толоса Софья и Эвстратиадис с бригадой рабочих убрали слой земли толщиной в двадцать пять футов из второго помещения; оно было высечено в скале, как царские могилы Микен. Эта гробница была ограблена еще в древности. Однако четыре каменные плиты, украшенные такими же спиралями и розетками, что и надгробные стелы в Микенах, представляли большую археологическую ценность, и Эвстратиадис решил перевезти их в Афины. Две недели спустя, по возвращении домой, Генри закончил монографию, в которой описал все находки. Софья прочитала работу и обнаружила, что он ни словом не обмолвился об ее участии в раскопках. Она ничего ему не сказала, только спросила: — Перевести твою работу на греческий? — Разумеется. И напиши предисловие, в котором расскажешь о своих находках в Орхомене.
10
Железнодорожного сообщения в ту пору между Афинами и Берлином еще не было. Генри и Софья с детьми сели в Пирее на пароход, идущий в Бриндизи, оттуда поезд повез их на север Италии, а там уже ходили берлинские поезда. На вокзале их встречали доктор Вирхов, его жена и дочь Адель, одна из шестерых детей Вирхова, которая была почти одних лет с Софьей. Погрузили багаж в фургон, сели сами в два экипажа и поехали в гостиницу «Тиргартен», где для них был заказан четырехкомнатный номер на верхнем этаже с видом на огромный парк и несколько блестящих, как зеркало, озер. Рудольф Вирхов показался Софье еще более тщедушным, чем она его помнила. Две горничные в туго накрахмаленных передниках подали кофе с пирожными. — Я проверил ящик с золотом, который находится в хранилище Рейхсбанка, — сказал Вирхов. — Все шесть ваших печатей на нем целы. Завтра мы с вами встретимся в банке в девять часов утра. Оттуда пойдем в Музей промышленных искусств, который только что открылся. Дирекция оставила на ваш выбор несколько комнат. А в двух шагах еще один музей, тот самый, куда сокровища переедут на постоянное местожительство. Но его будут строить еще пять лет. Фрау Роза Вирхов наняла для Агамемнона и Андромахи молодую гувернантку, которая водила детей на прогулки, в зоопарк и в Тиргартен, где они катались на лодке. Дети никогда прежде не были в зоопарке и теперь восторгались тиграми, леопардами, слонами и невиданными заморскими птицами. Софья не могла бы сказать, нравится ей Берлин или нет, но этот город ошеломил ее. По сравнению с Афинами, не вмещающими уже свое население, возросшее до ста тысяч, Берлин—город-гигант с населением в миллион человек, и жизнь в нем бурлит так сильно, что захлестывает и ее. Улицы широкие, идеально чистые, через каждые несколько кварталов— площадь, осененная деревьями, зачастую с раковиной для оркестра. Высятся десятки новых домов, все четырех-пятиэтажные, все по-своему украшены и построены из кирпича, камня и цемента так прочно, что смогут простоять вечность. Вечером Вирхов дал обед в честь знаменитых гостей, пригласив докторов, университетских ученых и членов Берлинского общества антропологии, Эрнста Курциуса и молодого Дёрпфельда. Шлиманов поздравили с открытием Трои и находками в Микенах. Не было только капитана Бёттихера, который изо всех сил старался помешать приезду в Берлин троянской коллекции: она, дескать, не достойна такой чести — храниться в Берлинском музее. Тут только Шлиманы узнали, каких трудов стоило Вирхову преодолеть все препятствия и осчастливить Берлин таким замечательным даром. Они получали много приглашений. Софья понимала берлинскую речь, могла читать берлинские газеты. Как хорошо, что Генри заставлял ее учить немецкий язык. Как-то даже один доктор, ее сосед за столом на званом обеде, сказал ей: — Вы, наверное, родились в Германии и вас ребенком увезли в Грецию? — Вы льстец, дорогой доктор. По-английски, по-французски и по-немецки я говорю с акцентом. Сама слышу. Но мне ваш комплимент приятен. Генри много времени проводил в музее, давая указания плотникам и размещая четыре тысячи предметов своей коллекции на покрытых лаком стеллажах и витринах, сделанных по его чертежам. Металлические витрины для золотых экспонатов еще не были готовы. Вильгельм Дёрпфельд помогал в чем только мог. И Софье и Генри он нравился все больше. О людях, повседневных делах он говорил спокойно, но, стоило коснуться археологии, он весь загорался. Его часто приглашали на обеды — берлинское общество уже проведало, что он едет с Генри в Трою, как только турецкое правительство возобновит фирман. Генри объяснил своим друзьям археологам, что Дёрпфельд ему нужен как архитектор—сам он в этой науке мало сведущ. Адель Вирхов повела Софью в парк Люстгартен, показала королевский дворец, затем перешли по мосту на ту сторону Шпрее и вышли на Унтер-ден-Линден — любимое место прогулок у берлинцев; выпили по чашке кофе за открытыми столиками возле кафе Бауэра с его высоким крыльцом и чугунными перилами. Софья ездила в Королевский оперный театр послушать «Тристана и Изольду» Вагнера. Это была первая опера Вагнера, которую Софья слушала целиком. Торжественная мощь музыки потрясла ее. Опера, к изумлению Софьи, длилась больше четырех часов, зрители, чтобы не умереть с голоду, подкреплялись в антрактах разными бутербродами и запивали их пивом из высоких глиняных кружек. «Немцы — целеустремленный народ, — думала Софья. — Если они способны сидеть спокойно и восхищаться Вагнером больше четырех часов подряд, им кажется, они могут победить мир. По-моему, сами они в этом убеждены. Я никогда еще не видела столько памятников в честь победоносного воинства». Были и другие различия между расчерченной по линейке Германией и ее обожаемой привольно живущей Грецией. Берлин строго соблюдал социальную градацию общества и безоговорочно подчинялся кайзеру и Железному канцлеру. Германский император и императрица никогда запросто не появятся на улице, как король Георг и королева Ольга. Теперь Софья понимала, почему немецкие ученые с такой свирепостью нападали на Генри. И вот наступило седьмое июля. Посмотреть на торжественную церемонию приехали в Берлин три сестры Генри. По просьбе Генри был приглашен и епископ Вимпос. Все четыре комнаты в гостинице «Тиргартен» засыпаны цветами. В час дня приехали бургомистр Берлина Форкенбек и члены муниципального совета во главе с малюсеньким Вирховом; на лице его было торжество. Муниципальный совет проголосовал за избрание доктора Генриха Шлимана почетным гражданином города Берлина. Этой чести удостоились до него только двое — канцлер Бисмарк и фельдмаршал фон Мольтке. Звучным, хорошо поставленным голосом бургомистр читает полностью решение муниципального совета. Как только он умолкает, официанты вносят в комнату подносы с шампанским и закусками: на тарелках бутерброды с ветчиной, сыром, с рыбой. Вечером был устроен банкет в Festsaal [36] ратуши, величественном здании из темно-красного песчаника на цоколе из серого гранита. Все столичные газеты поместили на своих страницах сообщение о новом почетном гражданине города Берлина. Шлимана узнавали на улицах. Как, впрочем, и Софью — ее красивый портрет только в прошлом сентябре был помещен на обложке журнала «Фрауенцайтунг». который был любимым чтением берлинских горожанок. Софью и Генри встретили на ступеньках лестницы бургомистр, члены муниципального совета, министр иностранных дел, президент Германского географического общества, директор королевских музеев профессор Шёне и директор Германских архивов. Остальные гости, одетые строго по этикету, ожидали Шлиманов в небольшом Зале легенд; их было несколько сот: государственные сановники, деканы факультетов университета и члены ученых обществ. После французского шампанского, икры, устриц, паштета и salt pretzels [37] все прошли через резные дубовые двери в огромный, сто футов на шестьдесят, Festsaal, уходивший ввысь на три этажа. — Даже больше, чем «Палаты Илиона», — шепнула не без ехидства Софья на ухо Генри. Шлиманы сидели за главным столом. Софья была так взволнована, что едва притронулась к подаваемым кушаньям. Немцы одержали победу над французскими войсками в войне 1870 года, но французы взяли реванш, одержав победу над немецкими желудками. К каждому французскому блюду подавалось особое французское вино. На обложке меню был изображен Генри, сидящий на троне Приама, в правой руке кирка, в левой — крошечная богиня Ника, протягивающая ему оливковую ветвь. У ног — медведь, символизирующий город Берлин. Надпись на меню сделана по-гречески, как дань уважения заслугам Софьи. Бургомистр Форкенбек встал. Гости умолкли. Слово предоставили доктору Рудольфу Вирхову. Его голос эхом отозвался по всему залу: — Я пытаюсь найти самые теплые слова приветствия новому почетному члену Берлина и его милой жене. Это большое счастье, что доктор Шлиман, живший вдали от Германии уже сорок лет снова оборотил свое сердце к родному отечеству. Воскресшая любовь подсказала доктору Шлиману подарить нам троянские сокровища и сделать Берлин их хранителем. Эти замечательные сокровища навеки останутся в нашем городе как символ горячей преданности доктора Шлимана науке. Гости поднялись и зааплодировали. Софья посмотрела на мужа: лицо у него было открытое, уверенное, спокойное. Мальчик на побегушках, спавший на полу под прилавком бакалейной лавки Теодора Хюкштедта, победителем вернулся в свое отечество. — Я высоко ценю оказанную мне великую честь, — сказал Генри, поднявшись на ноги и держа в руках красиво иллюстрированный диплом, поднесенный ему бургомистром. Хочу выразить сердечную благодарность бургомистру, муниципальному совету и всем жителям Берлина. Должен честно признать, я отдал навечно мои находки Германии только благодаря моему высокочтимому другу профессору Рудольфу Вирхову. Я мог бы сейчас в самых ярких словах рассказать вам, какую великую радость приносят археологу его открытия. Но мы с моей женой испытываем еще большую радость от того, что можем подарить Германии такой подарок. Когда аплодисменты стихли, поднялся директор королевских музеев профессор Шёне. — Бургомистр и муниципальный совет Берлина доверили мне совершенно особую честь—провозгласить тост за здоровье госпожи Софьи Шлиман. С этими словами онповернулся к Софье, поднял бокал и официальным тоном произнес: — Фрау доктор Софья, с большим удовольствием сообщаю вам, что вы тоже почетная горожанка Берлина. Генри протянул Софье диплом. Даже еще не заглянув в него, Софья знала, что там стоит только одно имя: «герр доктор Генрих Шлиман», что имени «фрау доктор Софья» там нет. Но какое это имело значение? Она видела только сияющие глаза Генри, его счастливое лицо — он получил свою награду. Софья встала, прижимая диплом к кружевам, украшающим ее черное бархатное платье. Когда стихли аплодисменты, которыми наградили ее эти великие и знатные мужи Берлина, она ответила им по-немецки с едва заметным акцентом: — Я принимаю эту честь от имени моего мужа. У него хватило мужества и прозорливости одному пойти против мнения всех и проложить для человечества путь в доисторическую эпоху. Если я и причастна в какой-то степени к его великой работе, так только благодаря его доброму сердцу. Мне выпало счастье участвовать в великих, удивительных свершениях, помочь мужу подняться до таких высот, которые мало кому доступны. И я считаю, что не зря прожила свою жизнь. Я могла бы тихонько всплакнуть, ведь троянская коллекция теперь навсегда потеряна для моих любимых Афин. Но если ей не суждено было остаться в Греции, то правы герр доктор Шлиман и герр доктор Вирхов: ей место только на родине моего мужа. Я благодарю бога за все то счастье, которое принесли мне двенадцать лет моей супружеской жизни. И в заключение хочу выразить глубокую признательность кайзеру Вильгельму, кронпринцу, канцлеру Бисмарку, герру доктору Вихрову и всем замечательным людям науки и искусства, собравшимся здесь на этот незабываемый вечер. Софья посмотрела в дальний конец своего стола, туда, где сидел епископ Вимпос. Лицо его светилось такой любовью, что Софья, приложив пальчики к губам послала епископу едва заметный воздушный поцелуй.
Книга девятая. Путь в бессмертие
1
Софье 1 января 1882 года исполнилось тридцать лет. Генри 6 января — шестьдесят. Праздновали два дня рождения вместе в «Палатах Илиона». В этот год Генри был старше своей жены ровно вдвое. — Как ты себя чувствуешь в тридцать лет? — Вполне зрелой женщиной. А ты как в шестьдесят? — Я раньше думал, что в шестьдесят лет человек уже стар. — И ты действительно чувствуешь себя старым? — Нет, но я привык к этой мысли. Время для Софьи перестало распадаться на часы, дни, недели. Оно текло так же спокойно и плавно, как речка за ее садом в Кифисьи. В прошлом месяцы, годы были четко отделены друг от друга, как геологические слои на горе Иде. Теперь все они слились, и Софья, как женщины Троады, считала, что время подобно речкам Симоис и Скамандр, течение его непрерывно. Тридцать лет — возраст зрелости. Она теперь по-иному стала смотреть на прошлые события. Генри опять рвался в Трою, но не потому, что мечтал о новых сокровищах, хотя это было бы не так уж и плохо; после выхода в свет «Илиона» Генри стали одолевать сомнения, которые он хотел разрешить на месте. Они сидели в библиотеке перед камином, в котором горели большие поленья, и Генри делился с Софьей тем, что его беспокоило все больше и больше. — Гомер с надежностью очевидца описал троянскую равнину, холмы, реки, оружие, утварь, и он не мог бы назвать «великим», «пышным», «процветающим градом с широкими стогнами» маленький городишко. А Троя, которую мы откопали внутри крепостных стен, занимала совсем небольшую площадь. Софья согласно кивнула. — Если бы Троя была небольшим укрепленным поселением, каким был, судя по его руинам, третий город, армия ахейцев легко могла бы захватить его в несколько дней и не было бы никакой троянской войны с десятилетней осадой. — Разумеется. — Гибель такого городка вряд ли могла вдохновить аэдов на создание великих произведений, этот маловажный эпизод очень скоро исчез бы из памяти народа. И Гомер не создал бы свой грандиозный эпос. Генри теперь уже ходил по библиотеке — ежедневная весьма продолжительная прогулка. — Где-то мы допустили ошибку. И я решил выяснить, где именно, — сказал он. Генри уже мечтал о новых раскопках. «Палаты Илиона» стали подготовительным плацдармом для решительного наступления. Две гостевые комнаты были заняты Вильгельмом Дёрпфельдом и молодым архитектором из Вены Иозефом Хёфлером, приехавшим с очень хорошими рекомендациями. Генри нашел десятников — двое проявили себя наилучшим образом на раскопках в Олимпии. Нанял личного слугу и кухарку. Слугу перекрестил в Эдипа, кухарку стали звать Иокастой. Скоро во двор стали прибывать один за другим фургоны, груженные раскопочным снаряжением; сотня заступов и тачек, пятьдесят кирок, сорок ломов, двадцать телег. Дети были в восторге, им тоже очень хотелось раскапывать Трою. Когда со двора съехал последний фургон, направляясь в Пирей, Софья с облегчением вздохнула: в доме опять стало тихо. Генри отбыл в середине февраля. Софья собиралась ехать в начале июля, когда станет совсем тепло, вместе с ней ехала Андромаха. Его первые письма были полны гневных излияний. Хотя бараки и снаряжение в наилучшем виде — всю зиму их охранял нанятый им сторож, и надо всего только покрыть крыши непромокаемым брезентом, — но портят жизнь турецкие чиновники. Правительственный наблюдатель Бедар-эд-дин категорически запретил Дёрпфельду и Хёфлеру делать какие-либо измерения и зарисовки: конечно, они шпионы и хотят снять план крепости в Кумкале в пяти милях от Гиссарлыка. Зря, что ли. Дёрпфельд привез с собой специальные топографические приборы? Двум архитекторам ничего не оставалось, как; присоединиться к Генри: он расчищал только что раскопанные ворота, наружные и внутренние стены, фундаменты домов. Когда Софья и Андромаха приехали в Трою, это был бурлящий городок, в котором жило сто пятьдесят рабочих. Генри отвел для них две комнаты в своем бараке: столовая была простым сараем, сколоченным из досок, но Яннакис и Поликсена поставили на стол большой букет полевых цветов. Поликсена взяла одиннадцатилетнюю Андромаху под свое крыло. Обед удался на славу. — Ты прекрасно здесь живешь, Эррикаки, — сказала Софья. — Мясо из Чикаго, языки, английский сыр, персики. Где ты все это берешь? — Еду мне поставляют мои лондонские друзья—«Шредер и компания». После утреннего купания в Эгейском море Генри и Дёрп-фельд повели Софью посмотреть новые раскопки. Софья обратила внимание, что рабочие откопали фундаменты эллинских и римских зданий в той части Гиссарлыка, которую Генри раньше не трогал. Он надеялся найти на северном склоне еще несколько метоп, подобных прекрасному Аполлону, раскопанному в 1872 году. Около двух месяцев копали здесь двадцать пять рабочих и нашли только мраморную женскую головку македонского периода. Генри обследовал большой театр, находившийся вблизи акрополя с восточной стороны, расчистил эллинский колодец, который они нашли осенью 1871 года. Была прорыта траншея длиной двести сорок футов в еще не исследованной восточной части холма: оказалось, что она представляет собой насыпь, сделанную для расширения территории застройки после гибели третьего города. На акрополе откопали два здания, по всей видимости храмы, относившиеся к сожженному городу. Оба храма были разрушены в страшной катастрофе, как и другие дома, которые они теперь относили ко второму поселению. Во время полуденного отдыха Генри рассказывал Софье: — Моя главная ошибка заключалась в том, что в 1879 году я неправильно разграничил второй и третий город. Весь прошлый год я мучился сомнениями, потому что третий, маленький, город не может быть гомеровской Троей. Стены, сложенные из огромных блоков, — это фундамент второй Трои. Я ошибся относительно слоя обгоревших руин, которые, как ты видишь, лежат прямо на этих стенах. Я думал, что обгоревший кирпич представляет собой остатки более поздней, третьей Трои, построенной на стенах второй. Дёрпфельд и Хёфлер убедили меня, что кирпичные стены были возведены прямо на каменных фундаментах раннего поселения. Вторая Троя — сожженный город, он гораздо больше третьего поселения. Мы с тобой обойдем всю его территорию. Ты увидишь — он такой большой. Здесь были акрополь, храмы, дворцы, здания властей. Это и есть Троя, о которой писал Гомер. — Но внутри этих стен могло жить не больше тысячи человек. — Это не противоречит Гомеру. Троянцы жили за стенами акрополя и не во дворцах, они жили в долине, как и население Микен. Мы не знаем, сколько их было, но они могли бы составить огромное войско. — А как же быть с дворцом Приама и сокровищами? Мы ведь считали дворцом самое большое здание именно третьей Трои. Генри если и смутился, то самую малость. — Это большое здание, безусловно, относится к третьему поселению. А посему не может быть дворцом Приама. Дворец Приама должен находиться на территории второго поселения, сожженного ахейцами. Пока мы его не нашли. Что же касается сокровищ, они вполне могут принадлежать Приаму. Раскапывая второй город, мы наткнулись на башню второго города, которая стояла как раз там, где среди мусора мы нашли наше сокровище. Софье было так больно, как будто она потеряла близкого человека. Сколько лет они с Генри верили, что нашли настоящий дворец Приама. Одно утешение — сокровища были найдены в Приамовой Трое. А Скейские ворота? Генри печально покачал головой. — И те ворота не могут быть Скейскими. Гомер, как всегда, оказался прав. Скейские ворота должны быть на равнине, а не в сорока футах над ней, как мы тогда считали. Я теперь убежден, что эти ворота не вели в акрополь. Они были в стене, окружающей нижний город, где жили простые троянцы. — Генри, подумай, сколько книг и статей вышло об этом. А теперь ты собираешься идти на попятный? Генри это ни капельки не волновало. — Вирхов ведь говорил тебе в Афинах, в науке иначе не может быть. Смелому исследователю каждый день приносит что-то новое. Я нисколько не смущен своими ошибками. Зато сейчас я еще на один шаг ближе к истине. Меня это только радует. Софья с Андромахой жили в Трое всего несколько недель. Андромаха гуляла по лугам с Поликсеной, Софья изучала раскопки. Когда болота Троады высохли и на лягушек опять начался мор, в лагере Шлимана вспыхнула малярия. Генри щедро поил семью и сотрудников хинином, но рабочие болели поголовно, масштабы раскопок заметно сократились. Генри I получил суровое письмо от Вирхова: «Отправьте фрау Софью и Андромаху домой. Ваша жена j знает, как я ее люблю, и, надеюсь, она простит мне это вмешательство…» — Вирхов прав, — заметил Генри. — Да и я сам останусь здесь только до июля. Утром Яннакис отвезет вас в Чанаккале. Генри приехал в Афины с приступом малярии. Это, однако, не помешало ему начать кампанию в помощь Дёрпфельду: турецкое правительство должно снять свой нелепый запрет. Для следующей книги о Трое, которая расскажет о раскопках самых последних дней, необходимы полные точные карты не только Гиссарлыка, но и всей Троады. Он написал письмо канцлеру Бисмарку с просьбой вмешаться. Как раз в то время прусским послом в Турцию был назначен искусный дипломат Иозеф Мария фон Радовиц: он не мешкая взялся уладить дело и действительно сумел победить шпиономанию турков. Для снятия планов и карт в Троаду отправился Дёрпфельд. Генри все время проводил в библиотеке, работая над книгой и подготавливая снимки последних находок. Софья делила свое время между Афинами и Кифисьей. В конце 1883 года Дёрпфельд привез первый научно снятый план акрополя. Главное внимание он уделил второму городу, на плане с особой тщательностью были отмечены отдельные объекты священной Трои Приама: башни, крепостные стены, ворота, стены домов, улицы. Чтобы дать полную картину Гиссарлыкского холма, он вычертил также план первого, древнейшего города, а также только что открытой третьей Трои, которая была возведена поверх сожженной Трои Приама. Генри, Дёрпфельд и Хёфлер втроем нарисовали карту, на которой эти три поселения были обозначены разными цветами. К концу мая Генри закончил работу над английским и немецким текстами новой книги о Трое. Но тут ему начали отравлять жизнь какие-то непонятные болезни, о которых ему не хотелось говорить с Софьей. Она знала, что у него двустороннее воспаление среднего уха, потому что он и с наступлением зимы продолжал купаться. Генри собрался в Германию—сначала в Лейпциг, чтобы поработать с Брокгаузом над «Троей», потом к своему врачу в Вюрцбург и далее в Анкерсхаген повидаться с родными. На этот раз он не захотел путешествовать один: с ним поедут Софья и дети. Они посетят Париж, Лондон, остров Уайт. В середине июня его ожидают в Оксфорде: Куинз-колледж избрал его почетным членом этого храма науки. Наконец-то Генри получит диплом ученого, присужденный ему старейшим университетом. Софья всегда инстинктивно чувствовала, где в воспоминаниях Генри кончается действительность и начинается мифотворчество. В автобиографии, которой предварялась книга о Трое, было сказано, что восемь страниц, представленных как диссертация в Ростокский университет, написаны были по-древнегречески — труд, посильный немногим крупнейшим ученым. В действительности же Генри написал ее на современном французском языке [38]. Вспоминая свою жизнь, он становился лшческим поэтом, сочиняющим собственную Одиссею. У него был особый дар переписывать свое прошлое, удивительно органично вплетая его нити в ткань настоящего. Он не лгал, а творил: стирал на доске своей жизни выведенную мелом правду и твердой, уверенной рукой вписывал поэтическую легенду прошлого. Что же касается раскопок и научных сочинений— тут он был скрупулезно честен и заслуживал полного доверия. «Что же, — думала Софья, — каждый человек имеет право по-новому прочитать свою юность».2
Андромаха и Агамемнон радовали Софью. Они были такие милые дети, разумные и красивые. Генри, обратившись за разрешением начать раскопки в Тиринфе, конец года проводил у себя в библиотеке, готовя «Илион» для французского издания, редактируя «Трою» на английском, французском и немецком языках. Он стал крестным отцом первенца Александроса, подарив младенцу приданое и серебряный крестик, часами беседовал об археологии с Панайотисом, который успешно проходил курс археологии в университете. Из Троады пришло печальное известие: Яннакис утонул в реке Скамандр. Софья и Генри послали соболезнующее письмо Поликсене, Генри заверил ее, что она будет впредь получать от него ежемесячную пенсию. Разрешение на раскопки Тиринфа задерживалось. Генеральным инспектором памятников старины был теперь Стаматакис, но ни Софья, ни Генри не сердились на него: бедняге всего тридцать шесть лет, а он тяжко болен, слег вскоре после того, как получил назначение, о котором мечтал всю жизнь. В 1 начале февраля 1884 года Деметриос Bуллнотис, министр народного просвещения, склонил наконец Стаматакиса дать Шлиману разрешение. 15 марта Генри отбыл в Нафплион со своими тачками, лопатами и кирками. Выбор Тиринфа был логическим следствием всех прошлых раскопок, он как бы бросал последний штрих на картину микенской цивилизации. Софья осталась в «Палатах Илиона» с Вильгельмом Дёр-пфельдом и его голубоглазой с льняными волосами супругой, гостившими у них. Дёрпфельд был на год моложе Софьи, жена его еще моложе. Он уезжал в Тиринф в конце марта и брал с собой Панайотиса. Софья и фрау Дёрпфельд готовились ехать в конце апреля. В Нафплионе они все поселятся в гостинице «Этранже». Генри начал раскопки с шестьюдесятью албанцами, которых он нанял в Нафплионе и селениях, лежащих вблизи Тиринфа, приехали пятнадцать человек из Харвати, которые участвовали в раскопках Микен. Стаматакис назначил к Шлиману наблюдателем молодого человека по имени Филиос. В нынешнем своем состоянии Стаматакис вряд ли думал о том, как бы посильнее досадить Шлиману, но он дал эфору Филиосу такие строгие инструкции, писал Генри Софье, что ему сразу вспомнились первые месяцы бесконечных баталий в Микенах. Филиос не разрешал Шлиману осматривать в обеденный перерыв утренние находки: а вдруг они пропадут. Он телеграфировал своему начальству в Афины: «Шлиман ведет раскопки сразу в четырех местах одновременно. Я физически не могу наблюдать сразу за четырьмя раскопами, которые значительно удалены друг от друга». Как и в Микенах, эфор Филиос добился того, что раскопки были приостановлены. И снова, как в Микенах, Генри телеграфировал Софье—хорошо бы министр просвещения поубавил немного рвение эфора Филиоса. Их друг Вулпиотис был полностью на их стороне, вполне разделял их негодование. Софья приехала в Нафплион в середине апреля вместе с фрау Дёрпфельд и французским художником Жильероном, который должен был зарисовать великолепную керамику и настенную живопись, в том числе фреску, изображающую не то укротителей быков, не то танцоров. На другой день после приезда Софья проснулась без четверти четыре. Быстро надела привычную рабочую одежду. От Нафплиона до Тиринфа тянулась болотистая низина, и Софья по совету Генри выпила четыре грана хинина. Перешли набережную и спустились к берегу — ровно в четыре там их ждал рыбак в своей лодчонке. Генри долго плавал в открытом море. Потом пошли в кафе «Агамемнон» выпить чашку черного кофе. У гостиницы их уже дожидался экипаж. Через двадцать пять минут, еще до восхода солнца, они были в Тиринфе, а экипаж отослали за Дёрпфельдами. Завтракали вчетвером в восемь утра, пока рабочие отдыхали, сидя на полу окруженного двойной стеной древнего тиринфского дворца, который Генри откопал на самой вершине холма. Время пощадило циклопические стены, и Дёрпфельду не составило большого труда вычертить план поселения. Землекопы Генри под слоем мусора толщиной всего три-пять футов обнаружили очень большой древний дворец с мозаичным полом, сложенным из мелких камней. Кое-где сохранились еще стены дворца. Раскапывая засыпь, они нашли вазы, ритуальные фигурки, очень похожие на микенские, — еще одно подтверждение, что обе крепости существовали одновременно. Генри и Дёрпфельд сделали интересные открытия. В самом дворце сохранилось много фундаментов колонн. Огромные каменные пороги все еще лежали в дверных проемах. Откопали очень большой пандус на восточной стороне, гигантскую сторожевую башню, расчистили от мусора и земли обнесенную высокими стенами подъездную дорогу, нашли огромные створчатые ворота. Размерами и великолепием подъездная дорога и ворота напоминали Микены. Но самой поразительной находкой был мегарон, поддерживаемый четырьмя колоннами; зал этот был тридцати шести футов в длину и тридцати в ширину, н центре его находился большой круг для очага. К мегарону примыкали передняя, портик и большой мощеный двор; поблизости была баня, подобная той, что, по преданию, имелась в нераскопанном Микенском дворце. Мегарон, помещение для мужчин, был очень похож на два троянских здания, которые он принял за храмы, значит, в Трое он тоже откопал царский дворец. Не вызывало сомнения, что все эти дворцы были построены приблизительно в одно время. Завершив раскопки, Шлиман вернулся в Афины и начал писать первые главы книги о Тиринфе. В первый день нового, 1885 года Софья пригласила свою семью на обед в «Палаты Илиона»-. Ее мать решила пройтись пешком в сопровождении Панайотиса. Когда они были на площади Конституции, мадам Виктория почувствовала в груди сильную боль. Панайотис остановил проезжавший мимо экипаж. Мадам Виктория с трудом поднялась по мраморным ступеням особняка и на самом пороге упала. Выбежали Софья и Генри. Панайотис вместе с дворецким отнес мать наверх в спальню. Мадам Виктория поцеловала Софью в щеку несколько раз и прошептала: — Моя дорогая дочка, ты всегда так заботилась обо мне… Я пришла, чтобы поздравить тебя с Новым годом и днем твоего рождения. Но теперь я должна сказать… прощай… Она чуть повернула голову к Генри, стоявшему на коленях возле кровати. — Мой дорогой сын… я умираю… и хочу на прощание поцеловать тебя. Она поцеловала Генри в щеку шесть раз, но так слабо, что он едва почувствовал прикосновение губ. Потом закрыла глаза и умолкла. Когда приехал доктор, ее не стало. И снова Софья с родными собрались у семейной могилы Энгастроменосов, где священник прочитал «вечную память». Софья точно окаменела. Когда на крышку гроба упал первый тяжелый ком, она прошептала: «Пусть память о тебе живет вечно». В экипаже по дороге домой сухим, охрипшим голосом она сказала Генри: — У меня нет больше ни отца, ни матери. Теперь я старшее поколение. Дома в «Палатах Илиона» Генри дал ей глоток коньяку, чтобы чуть отпустила боль. А спустя несколько дней она увидела, как Генри в библиотеке рисует эскиз величественного мавзолея, увенчанного греческим храмом в миниатюре с четырьмя колоннами и цоколем. Над дверью, которая вела в обширную усыпальню, была фреска, изображавшая Генри с рабочими, раскапывающего Трою. — Господи, что это такое? — изумилась Софья. — Я отдам этот эскиз Циллеру, — ответил Генри, — чтобы он сделал по нему проект благородной усыпальницы. Я хочу, чтобы после смерти мы с тобой были вместе навеки. — Спасибо, дорогой друг, за такие чувства. Но я предпочитаю жить с тобой в нашем доме. — Мне уже шестьдесят три года, и мое капризное тело мучат самые разнообразные и непонятные болезни. Говоря откровенно, я бы не хотел, чтобы мои кости вытаскивали из могилы спустя три года после моей смерти. И твои тоже. Я оставлю завещательное распоряжение Циллеру, чтобы он построил это сооружение, и пятьдесят тысяч драхм. В марте умер Панайотис Стаматакис. Генри и Софья были на похоронах. В их памяти уже стерлись давние ссоры: после смерти Стаматакиса Генри написал о нем несколько добрых строчек в своей книге о Тиринфе. В начале 1885 года Генри послал энергичного и неутомимого Дёрпфельда в Тиринф. Тот в самый короткий срок сделал карты и планы тиринфского дворца на акрополе, средней крепости, где находились помещения для слуг, а также нижней— где были склады, конюшни и помещение для рабов и пленных и другие хозяйственные службы. Обнаружили фрагменты настенной живописи в женском покое: человеческие фигуры и геометрический орнамент. Женский покой имел свой двор и множество комнат, он почти точно повторял описание дворца Пенелопы в «Одиссее». Генри наезжал в Тиринф ненадолго, передоверив наблюдение над всеми работами Дёрпфельду. Софья немало этому удивлялась, пока не нашла на кресле в библиотеке начатое письмо Шлимана.«…Но я устал, у меня появилось сильнейшее желание расстаться с раскопками и провести остаток дней в покое. Я чувствую, что не могу больше выдержать эту огромную нагрузку. И еще одно: всякий раз, как моя лопата врезается в землю, я открываю для археологии целые миры. Так было в Трое, в Микенах, в Орхомене, Тиринфе. И всякий раз на свет появляются все новые чудеса. Но фортуна—капризная дама, она может разлюбить меня, и начнутся неудачи. Пусть мне будет примером Россини, который написал несколько превосходных опер и на этом остановился. Удалившись от всех своих дел, раскопок и писания книг, я снова смогу путешествовать…»
Софью потрясло это письмо. Она видела, что силы у Генри с каждым днем убывают, болезни берут свое. Но не понимала до этой минуты, что раскопки больше не привлекают Генри, иссяк этот источник величайших радостей. Понадобилось несколько дней, чтобы Софья примирилась с невероятной мыслью — Генри хочет оставшиеся годы посвятить защите достигнутого, а не открытиям нового, что всегда связано и с новой борьбой. Весной получили известие, что королева Виктория наградила его золотой медалью за достижения в науках и искусстве. Генри отправился в Лондон в мае. Софья и дети присоединились к нему во Франции в Булонь-сюр-Мер, где они поселились в гостинице «Павильон Империаль». Три недели отдыхали на берегу моря, оттуда поехали в Швейцарию, где Андромаха должна была поступить в частную школу. Объездили Швейцарию, пожили в гостинице в Сен-Морисе, затем отправились в Лозанну, где была школа Андромахи и где они решили остаться на зиму. Брат Софьи Панайотис окончил университет и был назначен правительственным наблюдателем на раскопки Французского археологического института в Беотии. В сентябре раскопки закончились; он приехал к сестре погостить и привез известия, что Генри избран членом Германского археологического института в Афинах. Генри был счастлив. — Я должен построить для них первоклассное здание, чтобы оно не уступало французскому. Дом, который они занимают сейчас на Академической улице, совершенно никуда не годится. Я возьму с них совсем небольшую арендную плату. Им опять овладело беспокойство; вдруг сорвался и поехал сначала в Германию, во Францию, оттуда в Константинополь, где непостижимо для Софьи купил у Имперского музея две трети своих находок, сделанных на раскопках 1878 и 1879 годов. Скоро в «Палаты Илиона» прибыли ящики с древностями, и коллекция разместилась в собственном музее Шлимана. Наступил 1886 год, Софье наскучило жить одной в Лозанне, она взяла детей и вернулась в Афины. В конце 1885 и начале 1886 года в Англии, Германии, Франции и Соединенных Штатах увидела свет новая книга Шлимана, «Тиринф». Две главы в ней были написаны Дёрпфельдом. Книгу с интересом прочитали сторонники Шлимана, но весной 1886 года в лондонской «Тайме» появились статьи, обвиняющие доктора Шлимана в том, что он «по ошибке принял средневековый замок за крепость героической эпохи» и что спутал византийские развалины с доисторическими. Нападки на него были такие злобные и неожиданные—для доказательств его некомпетентности вспомнили даже Трою и Микены, — что Генри pennyi ехать в Лондон, чтобы самолично защитить себя. Вместе с ним поехал и Дёрпфельд. Дискуссия развернулась на специальном июльском заседании Эллинского общества. Противниками Шлимана выступили У. Дж. Стилмен, корреспондент «Тайме» и один из редакторов этой газеты, и архитектор по имени Пенроуз, который был в Тиринфе и изучал раскопанную крепость. Шлиман и Дёрпфельд выступили с мощной аргументацией, подкрепленной фотографиями, картами, рисунками и находками из Трои, Микен и Тиринфа. Генри на страницах «Тайме» защитили Макс Мюллер и Артур Эванс, раскопавший впоследствии Кносский дворец. Через несколько дней Генри получил письмо от секретаря Эллинского общества, в котором говорилось:
«Я внимательно просмотрел записи дебатов: не осталось ни одного важного обвинения, которое вы с доктором Дёрпфель-дом не опровергли… Утверждение Ваших противников, будто дворец в Тиринфе не относится к седой древности, разбито наголову, таково мнение всех сведущих людей».
Однако окончательно спор был решен только после того, как Пенроуз принял приглашение Шлимана отправиться в качестве его гостя вместе с ним и Дёрпфельдом в Тиринф. Несколько дней трое археологов изучали на месте раскопанную крепость. В конце концов Пенроуз благородно взял назад все свои возражения. Генри выполнил обещание, данное в неоконченном письме, и опять начал путешествовать. Он дважды ездил в Египет, первый раз в 1887 году, второй в 1888-м вместе со своим дорогим другом Рудольфом Вирховом. Они поднялись по Нилу до самого Луксора. Между двумя поездками он поручил Циллеру и Дёрпфельду спроектировать здание Германского археологического института, которое было построено на большом земельном участке по улице Пинакотон и летом 1888 года сдано в аренду этому институту. Победа, одержанная Шлиманом над английскими критиками в 1886 году, не заставила, однако, умолкнуть капитана Эрнста Бёттихера, который продолжал свои нападки, утверждая, что Гиссарлык—это древний крематорий. Генри решил бороться с капитаном тем же оружием, которое применил против Пенро-уза; он пригласил Бёттихера в Трою. Бёттихер долго отказывался, но в конце концов в декабре 1889 года принял приглашение. Генри пригласил также в качестве беспристрастных свидетелей профессора Нимана из венской Академии изящных искусств и майора Стеффена, опубликовавшего в свое время знаменитые карты и планы Микен. Целыми днями они не уходили с раскопок, придирчиво изучая все до сих пор найденное в Трое. Когда Генри стал уставать, на помощь ему пришел все тот же Дёрпфельд. Оба свидетеля, Ниман и Стеффен, полностью убедились в правоте Шлимана. Капитан же Бёттихер оставался непреклонным. Гиссарлык—это прекрасный древний крематорий, утверждал он в нескольких новых статьях. Как ни странно, эта его теория начала завоевывать себе сторонников. Генри бушевал. Софье все это было очень тяжело, она хотела растить детей в спокойной обстановке. Нет, видно, и в самом деле каждый первопроходец—осквернитель могил. — Я ошиблась, — сказала она Генри, — бабушкины сказки иной раз оборачиваются правдой. Потревожь давно почившего монарха… или забытую идею, они покарают тебя, и жизнь станет невыносимой. — Но только не меня! — воскликнул Генри, и лицо его стало пепельно-серым. — Я созову международную конференцию. Приглашу в Трою директора Берлинского музея, профессора археологии из Гейдельберга, директора Константинопольского музея, директора Американской школы классических исследований в Афинах… И он действительно пригласил их всех, и все они согласились приехать. В Трою приехало восемь видных ученых — специалистов по древности, включая его друга Фрэнка Калвер-та. На этот раз Генри победил. Международная конференция постановила, что на Гиссарлыкском холме нет никаких следов древнего крематория, что во втором слое находятся руины, несколько зданий, самые большие очень похожи на дворцы в Микенах и Тиринфе. Голос капитана Бёттихера умолк, но оставались еще немногочисленные шептуны, утверждавшие, что Троя находится в Бунарбаши, а не на Гиссарлыке.
3
Немецкие врачи, лечившие Генри, уже несколько лет спорили о необходимости операции. Но только в начале ноября Генри собрался наконец в Галле проконсультироваться с доктором Германом Шварцем, светилом в области ушной хирургии. Софья редко сопровождала его в таких поездках. Но тут речь шла об операции. — Я поеду с тобой, Эррикаки. Вдруг доктор Шварц решит, что нужно оперировать. — Спасибо, Софья, ты лучше оставайся дома. Доктор Шварц сказал, что если придется оперировать оба уха, то я буду три недели совершенно глухой. После операции поживу месяц в Галле. Там в это время холодно, снег, туман, сырость. Если я не буду слышать тебя да еще начнутся сильные боли, ты ведь мне не поможешь. А мне будет только труднее. Через несколько дней Софья узнала, что, по мнению доктора Шварца, операция ушей безотлагательна. Генри переехал из гостиницы «Гамбург» в частный пансион медицинской сестры фрау Матильды Гете, немолодой вдовы, у которой было четыре уже взрослых сына. Она не только давала кров своим постояльцам, но ухаживала за ними до выздоровления. В следующем письме Генри описал подробности операции—она была очень тяжелой: доктор Шварц вынул из правого уха три наросших там косточки. С левым ухом дело обстояло еще сложнее: костная опухоль вросла там в тонкую кость черепа. Шварцу пришлось сначала убрать, а потом обратно пришить ушную раковину. Операция осложнилась сильным кровотечением. Когда Генри проснулся, его сильно тошнило от хлороформа, голова была обвязана бинтами, а вокруг постели стояли доктор Шварц и его ассистенты, с тревогой ожидающие, когда к Генри вернется сознание. Она ни в коем случае не должна приезжать к нему в Галле! Ему очень здесь одиноко, но ничье общество не может его пока развлечь. Оба уха распухли, слуховые проходы закрылись, он не слышал ни одного звука. После операции Генри вернулся в дом фрау Гете: холода стояли такие, что ему категорически запретили выходить. Он не мог умываться, не мог бриться… плохая компания для кого угодно. К тому же боль в ушах не давала спать. Письма становились все более неутешительными. Левое ухо наполнилось гноем, и боль стала нестерпимой; стужа такая, что о прогулках не может быть и речи. Утром все окна заледеневают, хотя топят всю ночь. Не может ли Софья подождать с елкой до его приезда? Он думает, что к рождеству вернется и они уберут елку вместе. И хорошо бы она прислала ему свежие журналы «Академия» и «Атеней». Доктор Шварц посмотрел уши Генри и заверил его, что боль скоро станет меньше, острота слуха вернется и он в ближайшие дни сможет покинуть Галле. Надо будет только завязывать уши и ни в коем случае не застуживать. Генри решил ехать в Лейпциг повидаться со своим издателем, потом в Берлин и Париж. Но в декабре боль в левом ухе опять усилилась. Доктор Шварц прописал от боли опиум. И Генри все еще ничего не слышал. Следующее письмо пришло из Парижа. Он очень сердился на нее за то, что она не писала ему, а приехав в «Гранд-отель», нашел от нее сразу шесть писем. Вот была радость. Левое ухо как будто прошло, но, уезжая из Галле, он забыл вложить в него ватный тампон. И опять простудился, так что придется идти к ушному врачу в Париже. …Он собирается в Неаполь, хочет посмотреть новые раскопки в Помпеях. В Неаполе Генри останавливается в «Гранд-отеле». Хозяин этой гостиницы был его старый друг. Левое ухо опять стало сильно болеть. Доктор Коццолини сделал ему инъекцию. Наркотик помог, но доктор не советовал ему в ближайшие дни ехать в Афины. На другой день вместе с доктором Коццолини отправились смотреть раскопки Помпей. Накануне рождества он обедал один в ресторане гостиницы. Завтракал на другой день в буфете. Дальнейшие события, которые постепенно доходили до Софьи, показались ей невероятными. Рождественским утром в десять часов Генри вышел из гостиницы — пошел, по-видимому, сделать инъекцию. Но у врача не появился. На улице вблизи Пьяцца делла Сайта Карита он упал на тротуар и потерял сознание. Когда он пришел в себя, подошедшие к нему люди спросили, что случилось. Он не отвечал — язык не повиновался ему. Полицейский отвел его в ближайшую больницу. Бумажник с золотыми завалился так глубоко в карман, что полицейский его не нашел. В больнице Генри не приняли—кто за него будет платить? Оставалось отвести его в полицейский участок, где, к счастью, в кармане его жилета нашли визитную карточку доктора Коццолини. Пригласили доктора в полицию; узнав, что произошло, доктор пришел в ужас: подобранный в полубессознательном состоянии человек был знаменитый доктор Шлиман. Доктор Коццолини заказал удобный экипаж и отвез Генри в «Гранд-отель», где его напоили крепким бульоном, отнесли наверх и уложили в постель. Немедленно вызвали находившегося в Неаполе известного немецкого хирурга доктора фон Шоена. Он вскрыл левое ухо Генри, очистил его от гноя, но сказал, что, по-видимому, нужна трепанация. Речь к Генри не вернулась. Хозяин гостиницы сам ухаживал за ним, поил бульоном и кофе. На другое утро — был второй день рождественских праздников— в комнате, примыкавшей к спальне Генри, собрались доктор Коццолини, доктор фон Шоен и еще шесть специалистов— решали, можно ли делать трепанацию черепа. Пока они совещались, едва теплившаяся в Генри жизнь угасла. Все эти события Софья узнавала из телеграмм. Узнав, что Генри упал на улице, она немедленно собралась в Неаполь. Была пятница. Парохода на Бриндизи в тот день не было. А вечером пришла последняя телеграмма. Ее муж скончался. Дёрпфельд и ее брат Панайотис уговорили Софью остаться дома. С субботним пароходом, уходившим в Бриндизи, они отплыли в Неаполь, чтобы привезти в Афины тело Генри. Она сидела в библиотеке за письменным столом Генри: ей было так горько. И не только потому, что Генри не стало — это не было неожиданностью: он уже давно болел и занимался многочисленными делами без прежнего азарта, — а потому, что он умер на чужой постели в гостинице, далеко от своего дома: никто из родных не был с ним в его последнюю минуту, не поцеловал его, не сказал последнее прости. Затем пришло сознание вины. Узнав о тяжелой операции, она должна была немедленно ехать в Галле. Но как редко за двадцать один год жизни с Генри она восставала против его желания. А он ведь не велел ей ехать к нему… Она должна была настоять, чтобы он из Галле ехал прямо в Афины, где так тепло и где он потихоньку поправился бы в своем красивом доме, окруженный любящими людьми — женой, взрослой дочерью, сыном-греком, а он вместо этого помчался в Берлин повидать Вирхова, в Париж повидать других друзей, в Неаполь посмотреть раскопки Помпей… как это было на него похоже. Она никогда не могла направлять его поступки. Да и никто не мог. Софья содрогнулась, представив себе, что его, умирающего, отвергла больница потому только, что там никто его не узнал, а ведь они могли бы еще спасти его. Не узнать доктора Шлимана. одного из самых знаменитых в мире людей! Телеграммы соболезнования идут до сих пор со всех концов земли, газеты полны длинных статей о его удивительной жизни, о том великом вкладе, который он внес в археологию, в изучение предыстории человечества. Генри Шлиман, умерший за несколько дней до своего шестидесятидевятилетия, до конца прошел свой жизненный путь. Он исполнил свое предназначение. Гомеровская Троя, царские могилы Павсания в Микенах, сокровищница Орхомена, Тиринфский дворец… И все это уже в прошлом. Через несколько дней Дёрпфельд и Панайотис привезут его обратно домой—его последнее путешествие, которых было так много. Когда вскроют завещание, она отдаст на строительство усыпальницы пятьдесят тысяч драхм. Протестантский пастор отслужит заупокойную службу. А когда мавзолей будет готов, тело Генри упокоится в нем… навеки. Она вытянула на столе руки, уронила на них голову. В сердце хлынуло одиночество. Одна в тридцать восемь лет. Хозяйка грандиозных «Палат Илиоина. Андромахе девятнадцать лет, за ней ухаживает студент из университета. Возможно, она скоро выйдет замуж и покинет ее. Агамемнону еще двенадцать лет. Он будет ее утешением. Она знала содержание завещания Генри, которое он составил 10 января 1889 года. Он щедро обеспечил свою русскую семью, оставил подарки сестрам, Вирхову, Дёрпфельду. Андромахе и Агамемнону завещаны целые состояния. Когда-то очень давно он отвел ее отца Георгиоса Энгастроменоса к нотариусу и заставил подписать документ, в котором говорилось, что его семнадцатилетняя дочь Софья никогда не будет претендовать на его, Генри Шлимана, имущество. И вот теперь он завещал ей «Палаты Ил иона» со всем их содержимым, здание в Берлине и много другой собственности, включая здание Германского археологического института. Жизнь ее обеспечена. Она сможет содержать «Палаты Илиона», как их содержал Генри, примет как гостя каждого, кто переступит их порог, откроет двери музея, где выставлена их троянская коллекция. А когда она устанет от гостей, у нее есть надежное убежище — ее дом и Кифисье. Софья встала из-за стола, вышла из библиотеки и спустилась вниз. Медленно прошла по бальному залу, остановилась под фреской с портретом Генри, окруженном цитатами, которые он выбрал из любимых греческих классиков, услыхала его голос, читающий для нее отрывки из его любимых произведений. Воспоминания накатились на нее, как волны Эгейского моря. Теоклстос Вимпос нашел ей хорошего мужа и мудро направлял ее сквозь жизненные бури. Она больше никого никогда не полюбит. Еще долго будет жить в Афинах всеми уважаемая госпожа Софья Шлиман. будет давать деньги Дёрпфельду, чтобы он продолжал раскопки Трои, защищать честь и дело всей жизни своего мужа от немецких капитанов бёттихеров, английских стилменов и пенроузов и всех других, кто попытается бросить тень на его имя и работу. Она молода, богата, и у нее впереди еще долгая жизнь. Но ведь годы вдовства подразумевались с самого начала. И она не роптала на судьбу. Софья поднялась в свой будуар, опустилась на колени перед иконой и помолилась за душу Генри Шлимана. Пусть память о нем живет вечно.Примечание автора
Одна из трудностей, стоявших перед автором этой книги заключалась в том, что в описываемое время в Европе существовало два календаря. Генри Шлиман и вся остальная Европа считали время по Грегорианскому календарю, которым пользуемся и мы. А греки тогда жили по Юлианскому. Софья Шлиман, по всей вероятности, датировала письма тем числом, которое стояло в тот день на афинских газетах. А даты, которые встречаются в книгах, дневниках и письмах Шлимана, все даны по новому стилю. Отсюда кажущаяся путаница в датах, в силу чего иногда трудно определить, когда на самом деле происходило то или иное событие. В письме Генри к Софье от 26 ноября 1889 года читаем:«Дорогая, я дал тебе деньги на хозяйство до первого декабря. Ты видела письмо в Ионийский банк, которым я открыл на твое имя счет с первого декабря по новому стилю. Господи, не могла же ты обо всем забыть!»
Греция приняла официально Грегорианский календарь только 1 марта 1923 года. Читатели, которые надеются увидеть сокровища Приама в Берлине, будут разочарованы. Они исчезли. Когда в конце второй мировой войны советские войска подходили к Берлину, золото, хранившееся в Берлинском музее, было упаковано в четыре ящика и не то куда-то спрятано, не то зарыто. Сокровища как в воду канули. Существуют разные предположения, что случилось с кладом Приама: погиб во время бомбежки, был присвоен… украден. А может, лежит где-то п забытом тайнике. Не исключена возможность, что и одни прекрасный день он все-таки найдется.
Книги, написанные Генри Шлиманом:
La Chine et le Japun au temps present, 1867 Ithaque, le Peloponnese, Troie, 1869 Antiquites Troyennes, 1874 Atlas des Antiquites Troyennes, 1874 Troy and Its Remains. 1874 Mycenae, 1878 Ilios: City and Country of the Trojans, 1880 Orchomenos. Bericht iiber meine Ausgrabungen im Bootischen Orchomenos, 1881 Reise in der Troas im Mai 1881, 1881 Troja: Results of the Latest Researches, 1884 Tiryns: The Prehistoric Palace of the King of Tiryns, 1885Генрих Шлиман и «гомеровская» археология
В ярком созвездии археологов прошлого столетия едва ли можно назвать другую личность, запечатлевшую в сознании и памяти многих поколений столь же заметный, неизгладимый временем след, как Генрих [39] Шлиман. Громкое это имя не сходило в последней трети XIX века с полос крупнейших газет и научных журналов всего мира, находя в среде научной общественности самые противоположные отклики—от восторженно хвалебных до ругательно-критиканских. Жизнь и раскопочная деятельность Шлимана, осененные ореолом романтической биографии, стали для широких кругов любителей и поклонников археологии своеобразнымэталоном деятельности археолога, ярким образцом целеустремленного поиска, примером непреклонного преодоления препятствий на пути к осуществлению главной цели, а для некоторых—даже олицетворением самой археологической науки со всей присущей ей романтикой. О Шлимане написаны десятки биографических работ—от научных монографий и статей до пространных жизнеописаний, при этом число их неустанно растет. С одним из последних таких произведений, романом известного американского писателя Ирвинга Стоуна, автора многих романизованных биографий [40], мы и познакомили теперь советского читателя. В основу своего произведения И. Стоун положил второй, или «археологический», период жизни Шлимана—от женитьбы на Софье Энгастроменос в 1869 г. до кончины археолога в 1890 г. Основное внимание писатель уделяет, естественно, наиболее ярким страницам его биографии — раскопкам в Трое и Микенах; соответствующие главы романа читатель, бесспорно, найдет самыми колоритными и запоминающимися. Имея счастливую возможность использовать богатейшие документальные материалы, и среди них неопубликованную пока переписку археолога с Софьей и семьей Энгастроменосов, лишь недавно переданную внуками Шлимана Американской школе классических исследований в Афинах, И. Стоун предлагает на страницах своего романа собственное восприятие, точнее говоря, собственное интуитивное видение сложной, внутренне противоречивой и не подлежащей однозначной оценке личности этого человека. За строками писем и фразами диалогов, за внутренними монологами и размышлениями Софьи читается попытка автора проанализировать отдельные поступки и устремления Шлимана, по возможности осмыслить порой столь неожиданные проявления его недюжинной натуры. Иными словами, писатель рисует собственный оригинальный образ своего героя, и образ с жанровой неизбежностью во многом романтический. Кто же он был на самом деле — Генрих Шлиман, человек, с чьим именем связано столько крупных археологических открытий? Рас с чет ли вый коммерсант, удачливо вкладывающий капитал в любое предприятие, включая археологические изыскания, или счастливо наделенный тонкой интуицией серьезный ученый, обладавший чудесным даром видеть сквозь землю? Экстравагантный миллионер, не нашедший лучшего применения своим деньгам, как пускать их на ветер или, точнее, в буквальном смысле «зарывать их в землю», либо человек, с детских еще лет одержимый заветной идеей и добившийся в зрелые годы ее воплощения? Трудно, а может быть, и просто нельзя дать определенный ответ на этот вопрос, поскольку ни у современников, ни у последующих поколений не найти единодушного отношения к этому человеку. В ученом мире тех лет, равно как и в кругу широкой публики, взгляды которой формировались под сильным воздействием журналистов и тех же ученых мужей, выступавших в прессе, одна из самых популярных фигур 70—80-х годов XIX столетия обсуждалась зачастую с полярно противоположными оценками. Сходились все, пожалуй, лишь в одном — Шлиман отмечен удивительной благосклонностью фортуны, все, к чему он ни прикасается, будь то бочки с индиго или прах древних захоронений, моментально, как у царя Мидаса, превращается в золото. Наиболее трезвые из его критиков и те отдавали дань выдающимся способностям, прежде всего лингвистическим, и неодолимой энергии этой незаурядной личности. Что же касается обыкновенного бюргера и обывателя, то он, разумеется не без тени скрытой зависти, превозносил счастливчика как героя дня и кумира. Если присовокупить сюда удивительную, поистине «авантюрную» историю его жизни, то станет понятным и то, откуда появились названия многочисленных, вышедших впоследствии романизованных биографий Шлимана, такие, как: «История одного золотоискателя» (Э. Людвиг), или «Мечта о Трое» (Г. Штоль, А. Брекман), или «Одна страсть—две любви» (Л. и Г. Пул). Автор данного очерка вовсе не склонен навязывать своего восприятия Шлимана как человека и как ученого. Совсем наоборот. Уверен, что читатель, познакомившись с романом, вынес свой образ главного героя. Моя же задача — добавить к этому портрету отдельные реалистические штрихи, дабы хоть в некоторой степени приблизить единое целое картины к действительности. Читателю также небезынтересно будет, вероятно, узнать и некоторые биографические сведения, тем более что И. Стоун бытописует только второй период жизни Шлимана, к тому же события последних лет его деятельности, не менее важные для археологии, изложены в романе довольно бегло.
***
Биография Шлимана имеет под собой солидный фундамент документальных материалов. Не говоря уже о свидетельствах современников, собственное наследие археолога составляют 10 книг, масса статей в научных журналах и обычной периодике, 18 путевых и раскопочных дневников, многочисленные тетради для упражнений и заметок и сверх того 60 тысяч писем! Поистине непостижимой была способность этого человека к эпистолярному общению: ведь даже если считать все 45 лет его активной деятельности, и тогда получается, что он успевал сочинять по три-четыре письма в день! Лишь сотая доля переписки Шлимана была издана в двух томах, подготовленных его биографом Эрнстом Майером [41]. Кроме этого, Шлиманом была составлена и опубликована довольно подробная автобиография. Генрих Шлиман родился 6 января 1822 года в Ной-Букове. маленьком городке немецкой земли Мекленбург-Шверин, в семье пастора. Детские годы его проходят в расположенной неподалеку деревеньке Анкерсхаген. Здесь, воодушевленный местными легендами, наслушавшись рассказов о гибели Геркуланума и Помпей, начитавшись детских книжек о Троянской войне, маленький Генрих загорается желанием когда-нибудь самому найти и раскопать легендарную Трою. Серьезного образования мальчик не получил — пошатнувшееся общественное и финансовое положение отца вынудило его покинуть гимназию и после окончания реального училища зарабатывать на кусок хлеба в лавке мальчиком на побегушках. Пытаясь как-то вырваться из сдавивших его тисков нищеты, разорвать серый круг бесконечно тянущихся будней, хрупкий юноша, к тому же серьезно больной, пешком идет в Гамбург и там вербуется в Венесуэлу. Кораблекрушение, когда он чудом спасается, означило счастливый перелом в его жизни. Через некоторое время ему посчастливилось устроиться в солидную торговую фирму «Шредер и K°» в Амстердаме. Благодаря редким лингвистическим способностям и отменной памяти Шлиман по выработанной им самим методе быстро овладевает несколькими иностранными языками. Последний из них. русский, натолкнул его хозяев на мысль отправить молодого способного служащего-полиглота в 1846 году в Петербург. Неутомимая энергия и завидная деловитость очень скоро делают Шлимана из торгового агента компании купцом, открывающим свое дело. Удачливо занимаясь оптовой торговлей различными товарами, среди которых на первом месте стояло индиго, Г. Шлиман уже через несколько лет становится богачом. Свое состояние он приумножает в Калифорнии, открывая банк для золотодобытчиков, но более всего — на поставках русской армии военного сырья в годы Крымской кампании. В России Шлиман пробыл 18 лет. Здесь он, принявший русское подданство, венчался в Исаакиевском соборе с Екатериной Петровной Лыжиной, племянницей богатого петербургского купца, которая родила ему троих детей, здесь он достигает такого высокого положения в обществе, что приписывается к купцам первой гильдии, а незадолго перед тем, как покинуть страну, получает титул потомственного почетного гражданина Санкт-Петербурга. В конце 50-х годов уставший от спекулятивных махинаций, разочаровавшийся в своем несчастливом браке сорокашестилетний негоциант постепенно ликвидирует дела и отправляется в путешествие по Европе и странам Средиземноморья. В середине 60-х годов он предпринимает даже кругосветное путешествие. Серьезного научного образования Шлиман не получил и в зрелые годы. Древнегреческий язык он освоил практически аутодидактом, весь его археологический багаж — прослушанные в Париже за несколько месяцев лекции: раскопочной же практики у него и вовсе не было никакой. На первой странице собственного жизнеописания Шлимана, опубликованного впервые в 1881 году, программно высказывается идея, лейтмотивом проходящая через весь очерк: «Я предлагаю в начале этого труда свою автобиографию… желая показать, как дело моих зрелых лет явилось естественным следствием впечатлений моего раннего отрочества и как кирки и заступы, раскопавшие Трою и царские гробницы Микен, ковались… в маленькой немецкой деревушке, где прошло мое детство» [42]. В действительности есть все основания полагать, что романтическая история о том, как полуголодный ученик лавочника упорно добивался богатства лишь ради того, чтобы воплотить в жизнь свои мальчишеские грезы, не более чем красивая легенда. На самом деле отошедший от дел коммерсант вовсе не так уж решительно собирался посвятить остаток жизни научной раскопочной деятельности, что прямо следует, к примеру, из его письма конца 50-х годов петербургскому купцу Бесову: «Однако посвятить всю свою жизнь путешествиям или же в безделье проводить время в Риме, Париже или Афинах невозможно для человека, который, подобно мне, привык к тому, чтобы с утра до вечера отдаваться практической деятельности. Да и поздно мне посвящать себя научной карьере; я слишком долго был купцом, чтобы надеяться достичь теперь чего-то в науках; хотя я до сих пор и взращивал их в себе к собственному удовольствию, все же мне было бы не но нраву превратить их в свое единственное занятие» [43] Скорее всего, окончательное решение стать археологом, всколыхнувшее давно забытые в погоне за барышом детские мечты, созрело в путешествующем экс-коммерсанте во время поездки по Греции и Переднему Востоку. Это не первый случай, когда Шлиман сообщает о себе фиктивные биографические сведения: он называет своего друга и первого учителя греческого языка Теоклетоса Вимпоса архиепископом, хотя—как узнает читатель из романа—тот так и не смог подняться выше епископа. От начала и до конца вымышленной была и история о «случайном» американском гражданстве. Недавно стали известными архивные материалы, опровергающие утверждение Шлимана, что уже в первый год жизни в Петербурге он сумел приписаться к купцам первой гильдии [44] на самом деле он вступает в первую гильдию купцов, причем не петербургских, а нарвских, лишь в 1854 году [45]. Но едва ли разумнее обрекать Шлимана на излишне строгий суд за его наивный обман с красивой рождественской сказкой его детства. Не следует забывать, что конец 70-х и начало 80-х годов, когда и было составлено жизнеописание, проходят для уже прогремевшего по всему миру раскопщика в постоянной упорной борьбе за то, чтобы отстоять и утвердить перед лицом ученой общественности свое имя не просто как золотоискателя, но как серьезного исследователя. Не секрет, например, что Шлиман даже держал в Лондоне специального агента по рекламе. Этим стремлением завоевать симпатии не только широкой публики, но и коллег по профессии и вызвано, собственно говоря, составление автобиографии и включение ее в виде предисловия в монографию «Илион». О женитьбе на Софье, о Трое и Микенах — первых ступенях восхождения Шлимана на Идейскую вершину науки—читателя познакомят увлекательно написанные главы романа И. Стоуна. Мне бы хотелось здесь задержаться на других осуществленных и неосуществленных планах археолога, изложение которых в романе несколько смазано либо вовсе отсутствует. Прежде всего Орхомен, который Шлиман начал исследовать вместе с Дёрпфельдом в 1880 году. Раскопки на акрополе практически ничего не дали, поэтому основные усилия были сосредоточены на раскрытии толоса, который античный «гид» Шлимана Павсаний назвал сокровищницей владыки Орхомена— Миния. Проникнуть в купольную гробницу пришлось не через дромос, а сверху, при этом в ходе ее расчистки, давшей массу орнаментированных обломков мрамора, выяснилось, что она была ограблена уже в древности. Но самое интересное, что круглое в плане купольное сооружение соединялось небольшим коридором с другим помещением, но уже прямоугольным, служившим собственно усыпальницей—таламосом. Здесь-то раскопщиков и поджидала главная удача: весь пол был усыпан плитами из зеленого шифера, покрытыми диковинным узором. После того как разрозненные и расколотые блоки удалось сложить в первозданном виде и стало ясно, что это рухнувшая кровля усыпальницы, глазам зачарованных первооткрывателей предстала изумительная картина: рукой безвестного мастера, удивительно тонко и точно водившей умелым резцом, был изображен ковер полевых цветов, перемежающихся с хитросплетенными спиралями стеблей или побегов. Весь зеленый «луг», размером три на четыре метра, был обрамлен по краю не менее тонкими по резке многолепестковыми розетками; два ряда таких же розеток ограничивали в центре потолка квадрат того же орнамента из цветов и спиралей. Искусную резьбу по камню Шлиман уже встречал — например, в большом толосе Микен, так называемой сокровищнице Атрея, но здесь они раскрыли, безусловно, шедевр микенского камнерезного искусства. Тогда еще археолог не знал, что точная копия этого узора, но не гравированная, а исполненная краской, ожидает его в Тиринфе, который, он начал копать через несколько лет рука об руку с тем же Дёрпфельдом. В Тиринфе Шлиманом были сделаны еще более выдающиеся открытия. Здесь сложенная из огромных глыб циклопическая кладка обеспечила почти идеальную сохранность оборонительных сооружений акрополя. Целый ряд галерей, казематов, вылазных калиток и потайных лестниц был раскрыт за два года работ. Важные результаты дали и раскопки царского дворца на акрополе. Расписная керамика в Тиринфе была такая же, какая попадалась Шлиману в Микенах. Однако неожиданным и приятным открытием были многочисленные куски полихромной росписи, покрывавшей некогда штукатурку стен дворца. Большинство фресок представляло собой орнаментальные композиции с преобладавшим мотивом переплетавшихся спиралей и розеток; одна из них, как говорилось, полностью повторяла резное убранство потолка усыпальницы в Орхомене. Но попадались и изображения живых существ: на одном крупном фрагменте целиком сохранился разъяренный мчащийся бык, на спине которого исполняет диковинную пляску обнаженный юноша. Шлиман тогда не знал никаких аналогий подобному изображению. Раскопки Тиринфа были весьма поучительны, во многом способствовали росту Шлимана как ученого. Он теперь понимает и смело признает в своей книге «Тиринф», что раскрытые им в Трое здания, которые он в свое время с легкостью окрестил храмами, на самом деле не что иное, как жилища мегаронного типа, подобные дворцу тиринфского акрополя. Приехавший на раскопки Э. Фабрициус указывает ему, что сюжет ритуального танца юноши на быке неоднократно встречается на критских сосудах и геммах. Это предопределяет дальнейшее направление поиска: Крит, Кносский дворец—легендарный лабиринт грозного владыки Миноса. Шлиман предпринимает несколько попыток начать раскопки в Кноссе — о чем вовсе не упоминает И. Стоун, — но на сей раз судьба ему не благоприятствует— критской Одиссее археолога так и не суждено было случиться. У Шлимана зрели и другие проекты. И. Стоун кратко упоминает о том, что Шлиман предлагал «клад Приама» Эрмитажу, но он, как, впрочем, и остальные биографы, не упоминает, что в 80-е годы ставший уже знаменитым археолог предполагал начать раскопки на территории Российского государства [46]. В 1882 году, действуя через своего сына Сергея, Генрих Шлиман предложил Археологической комиссии на полном обеспечении произвести раскопки на юге Черноморского побережья Кавказа с тем условием, что все находки он предоставит в распоряжение Эрмитажа. Шлимана, видимо, привлекала перспектива проверить на практике связи древнейшей Эллады с Колхидой, о которых свидетельствуют античные авторы. Читатель наверняка сразу же вспомнит прекрасный греческий миф о золотом руне Фрикса, о походе аргонавтов в царство Аэта, о волшебнице Медее, владевшей тайным искусством превращать стариков в юношей, и много других сказаний. Ухватившийся за это предложение, сулившее очевидные выгоды казне и Археологической комиссии, председатель последней И. А. Васильчиков вступает в переписку с министром двора, с тем чтобы выхлопотать Шлиману разрешение на въезд в Россию и на производство раскопок. Из переписки выясняется, что помехой такому разрешению могут явиться некие скрытые «причины политического и гражданского свойства, не дозволяющие г. Шлиману вернуться в Россию без Высочайшего на то разрешения и Всемилостивейшего помилования». По всей видимости, препятствием к осуществлению новой кампании послужило то, что, женившись на Софье, Шлиман официально не расторг в России своего первого брака с Екатериной Лыжиной, что каралось по российским законам того времени «лишением всех прав состояния и ссылкой в Сибирь на срок от одного года до трех лет». Сыграло свою роль, очевидно, и то, что, приняв американское гражданство, Шлиман так и не вышел официально из русского подданства, что по законам Российской империи также было недопустимо. По всей видимости, процесс против уже знаменитого в те годы двоеженца, присягнувшего к тому же на верность сразу двум державам, возбужден русским правительством не был, а дело, скорее всего, просто положили под сукно. Не существуй названных причин, мы могли бы рассказать еще об одной Одиссее или, вернее, Аргонавтике удачливого археолога — кавказской.***
Как же мы теперь, спустя столетие, с позиций науки исхода 70-х годов XX века можем оценить раскопочную и исследовательскую деятельность Генриха Шлимана? В том водовороте противоречивых о нем суждений современников и последующих поколений археологов какое направление нам выбрать? Кто же он был, Генрих Шлиман, — великий разрушитель или гениальный пионер, проложивший новые пути в науке? Ведь и по сей день и не от дилетантов в археологии, а среди маститой профессуры слышишь порой сердитые возгласы: «Лучше бы Шлиман не копал Трою, через полвека Блеген сделал бы это лучше него!» Да, действительно, с точки зрения современной археологической практики методы раскопок Шлимана кажутся просто варварскими. «К несчастью, мы были вынуждены разрушить фундамент здания в 18 м длиной и 13 шириной, сложенный из огромных обработанных камней, после чего были найдены три надписи» [47]. «Я был обязан разрушить также небольшой желоб из зеленоватого песчаника, шириной 0,2 м и глубиной 0,17 м, который я обнаружил на 10,65 м ниже дневной поверхности и который служил, видимо, для стока воды, использовавшейся в хозяйстве» [48]. «Чтобы открыть настоящую Трою, я был обязан пожертвовать руинами многочисленных сооружений, от которых я сохранил лишь несколько стен на севере и на юге» [49]. Это только признания самого раскопщика. «Ниже, на глубине десяти футов, нашли двухтонные мраморные глыбы, обработанные в дорическом стиле: Генри посчитал их деталями храма Лисимаха. Надписей на них никаких не было, и Генри с легкой душой распорядился сбросить их вниз, на равнину». Это слова И. Стоуна, и слова, довольно близкие к истине, поскольку они основаны на записи в троянском дневнике самого Шлимана. Так навсегда погибли для науки архитектурные детали, которые позволили бы реконструировать декор великолепного храма Афины Илиады. Современная археологическая методика допускает разрушать более поздние строительные остатки—и то лишь после тщательной их фиксации—для доследования более ранних слоев только в тех исключительных случаях, когда эти кладки столь жалко сохранились и настолько обрывочны, что не дают никаких оснований для восстановления плана тех зданий, которым они принадлежали. Вполне понятна поэтому тревога эфора Стаматакиса—обрисованного в романе в несколько гротескном виде чинуши от науки, — приставленного Греческим археологическим обществом для наблюдения за микенскими раскопками Шлимана. Он, как и его коллеги по обществу, напуганные широким, лихим размахом одержимого поборника Гомера, душой болел за сохранение всех древних памятников, составляющих национальное богатство греческого народа. Вполне понятны поэтому и усилия другого эфора, Филиоса, отстоявшего в тиринфской кампании Шлимана остатки византийской церкви—ведь и она представляет интерес как памятник культуры. Раскопки шахтовых гробниц микенских царей—те просто напоминают некий археологический Сакраменто, золотую калифорнийскую лихорадку, на которой Шлиман когда-то нажил себе второе состояние. Самоотверженно работая почти месяц только втроем, без рабочих, явив удивленному миру бесподобную коллекцию сказочных золотых украшений, супруги Шли-маны при этом практически не составили столь необходимых науке точных описаний и планов самих погребений, а инвентарь захоронений, тут же лихорадочно снимавшийся с костяков восхищенными раскопщиками, настолько незамедлительно подавался в ящиках «на гора», что в итоге оказались смешанными различные комплексы и потеряны многие важные детали для воссоздания погребального обряда, одежды и убранства грозных владык «золотоносных Микен». И все же, несмотря на все эти серьезные промахи, и здесь нельзя слишком сурово осуждать Шлимана. Конечно же, получи он более солидную раскопочную квалификацию, приняв участие в археологических изысканиях других, опытных специалистов, и его собственные раскопки были бы более осторожными и методически совершенными. Но ведь нельзя забывать, что и археологическая наука тех лет была достаточно молодой, делала лишь первые шаги. Траншейный метод раскопок, присущий первым троянским кампаниям, повсеместно практиковался и дипломированными археологами. Кроме того, и сам исследователь не стоял на месте. Его творческий союз с В. Дёрпфельдом, символизировавший «обручение с наукой», столь же счастливое, как и брак с его «гомеровской женой», многое изменил во взглядах Шлимана, приучил его быть менее скоропалительным в собственных гипотезах, сделал его более зрелым ученым. Да и, как говорит известная пословица, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Удалось ли Шлиману открыть «гомеровскую» Трою? На этот вопрос нельзя дать однозначный утвердительный либо отрицательный ответ. Да, Генрих Шлиман первый продемонстрировал ученому миру, причем не с пером в тиши кабинета, а с лопатой на раскопе, что Троя — не выдумка великого аэда, а реальность, скрытая многовековыми наслоениями холма Гис-сарлык, хотя и по сей день находятся такие бёттихеры даже среди ученых мужей, кто объявляет Трою выдумкой Гомера, а то и более поздних поколений греческих писателей и поэтов. Но был ли найденный город Троей Гомера? Предоставим слово самому Шлиману: «Смотритель Фотидис раскопал сегодня великолепно построенный бастион из больших, прекрасно обтесанных квадров ракушечника, причем без применения цемента или извести. Однако он кажется мне не древнее времени Лисимаха, а кроме того, очень нам мешает. Но он слишком красив и достоин восхищения, чтобы у меня отважилась подняться на него рука—он должен быть сохранен» [50]. Так величавая красота могучей башни гомеровской Трои спасла ее от разрушения руками искавшего ее рьяного почитателя Гомера. Проблема «гомеровской» Трои, Трои Приама и Гектора, лишь часть более широкого и более сложного «гомеровского вопроса». Прежде всего, в науке и по сей день продолжают сражаться два лагеря—унитариев и аналитиков, придерживающихся диаметрально противоположных взглядов по вопросу о личности творца «Илиады» и «Одиссеи». Первые приписывают обе поэмы одному гениальному поэту, вторые делят авторство между несколькими создателями. В своих путешествиях и раскопках Шлиман руководствовался Гомером подобно тому, как современный турист пользуется путеводителями типа «бедекера». Он был склонен верить каждой детали, описанной божественным слепцом. Он находил в раскопанном им Гиссарлыке Скейские ворота, дворец Приама, его сокровищницу и так далее. Насколько он был прав? В современном гомероведении следует признать наиболее устоявшейся ту точку зрения, что «Илиада» была сложена в IX или VIII в. до н. э., причем ее создатель (или создатели), использовав более древние эпические сказания—оймы о Троянской войне и возвращении ахейских героев на родину, все же по большей части описывает современное ему общество. Это не исключает, конечно, того, что отдельные реалии микенской цивилизации II тысячелетия проникли в бессмертный эпос. Античная традиция, как мы бы сейчас сказали, датирует поход ахеян и разрушение «града Приама» достаточно широко—от 1334 до 1136 г. до н. э., но чаще всего в древности назывался XIII век. Как же укладываются эти указания в многочисленные пласты культурных отложений города, исследованного Шлиманом? После работ в Трое Дёрпфельда и особенно после великолепных по своей тщательности американских раскопок под руководством К. У. Блегена проясняется, что этот памятник, не считая эллинистического и римского Илиона. имеет 46 слоев, объединяемых археологами в восемь более крупных горизонтов. Дёрпфельд обнаружил в шестом горизонте интенсивные слои пожарищ, причем потом было установлено, что незадолго до этого город сильно пострадал от землетрясения. Поэтому немецкий археолог (и он не одинок в своем мнении) считал гомеровским «градом Приама» Трою VI. В свою очередь Блеген называл гомеровским Илионом следующий горизонт—Трою VIIa, которую он датировал тем же временем. Но сейчас выясняется, что и эта гипотеза не лишена противоречий. Как показали археологические изыскания последних лет в самой Греции, около середины XIII в. до и. э. многие микенские цитадели срочно укрепляются. Видимо, ахейцы в это время сами испытывают мощный натиск каких-то племен, а потому трудно предполагать, чтобы они смогли отважиться на какую-то организованную коллективную экспедицию к берегам далекого Геллеспонта, когда у них дома не все было благополучно. Вправе ли мы теперь строго укорять первооткрывателя Шлимана, который, пораженный величием мощных стен, ослепленный блеском золота «сокровища Приама», увидел воспетый Гомером город в Трое II, построенной на 1200 с лишним лет раньше царствования Приама? Если нынешние исследователи, вооруженные такими современными точными методами, как радиоуглеродный анализ, предлагают для Трои не менее шести хронологических колонок, можем ли мы смотреть свысока на ошибки Шлимана, перелопатившего целину? Показательно, что, предпринимая дальнейшие шаги в своих раскопках, археолог уже гораздо ближе подошел к истине: грезившиеся ему «сокровища Агамемнона» очутились в гробнице могильного круга Микен всего за 300 лет до того рокового дня, когда «грозный водитель народов Атрид» пал от руки коварной Клитемнестры. «Лучше бы Шлиман не копал Трою…» Но тут же возникает вопрос: а сколько еще лет понадобилось бы тогда сражаться ученым филологам-гомероведам, чтобы их спор настолько разжег интерес археологов, что среди них отыскался бы новый Шлиман, отважившийся поверить Гомеру и с лопатой в руках доказать реальность «града Приама», отыскать могилу Агамемнона, дворец Тиринфа? Трудно не согласиться с его биографом Г. Штолем, удачно сравнившим Шлимана с Колумбом: «Разве подвиг Колумба умаляется тем, что он искал морской путь в Индию и был убежден, что открыл именно ее? Разве значение Шлимана уменьшается от того, что он, заблуждаясь, думал, будто в руках у него сокровище Приама, тогда как это был клад правителя, жившего за тысячу лет до Приама?» [51] Да, Шлиман был пионером, и главнейшей его заслугой перед наукой следует признать то, что он произвел подлинную революцию в сознании археологов, историков, филологов. Интеллектуальной публике и простому обывателю он попросту подарил новый, неизведанный мир, ученых же он заставил — не без сопротивления и колебаний с их стороны — в конце концов поверить, что этот мир воистину некогда существовал и что он достоин как восхищения, так и глубокого, серьезного изучения. Заслуга Шлимана как первопроходца станет яснее, если мы оглянемся назад: а чем была занята далеко не малочисленная и не бесславная когорта археологов в те годы, когда Шлиман с заступом в руках боролся за своего Гомера! Австрийцы усиленно раскапывали целый комплекс святилищ «Великих богов» — Кабиров на острове Самофракия. где незадолго до этого была найдена огромная мраморная скульптура Ники, украшающая ныне одну из парадных лестниц Лувра. Французы сосредоточили свое внимание на двух крупных святилищах солнечного бога Аполлона—Делосе и Дельфах. Богатейшее собрание надписей и скульптуры стало наградой за их труды. Немцы систематически, метр за метром, исследовали Альтис—священную рощу «царя богов и людей» Зевса Олимпийского. Не сидели сложа руки и греки, копавшие неподалеку от Афин святилище Элевсина, знаменитое в древности своими мистериями, и Эпидавр — одновременно храмовый комплекс Асклепия и санаторий, куда прибывали за исцелением страждущие паломники со всех концов эллинской ойкумены. Чуть позже принялись исследовать и античные города в Греции и Малой Азии. Все эти раскопки дали огромное количество прекрасных в художественном и чрезвычайно важных в научном отношении находок. Но ведь ни единому искателю древностей, будь то археолог, архитектор или просто любитель-меценат, не приходило тогда и в голову вонзить свою лопату или кирку в один из «доисторических» холмов, заложить траншею или раскоп на вершине даже всем уже известного акрополя «героического» века греческой истории. Да, именно Шлиман явился Колумбом археологии бронзового века Греции и Малой Азии, причем Колумбом, открывшим— неведомо для себя самого—сразу две Америки. Вряд ли он сознавал, освобождая от наслоений стены Трои II, что тем самым приоткрывает завесу над «догомеровской» эпохой Ш тысячелетия. Переворот в умах, совершенный Шлиманом, нашел лучшее отражение в том, что еще при жизни его, когда вовсю бушевали жаркие дебаты вокруг троянских и микенских находок, нашлись археологи, отважившиеся пойти по его стопам. Уже в конце 70-х годов гробницы, подобные микенским толосам, были раскопаны в Аттике, неподалеку от Афин—в Спате и Мениди. В 1888 году греческий археолог Цунда открыл в Вафио, на юге от Спарты, купольную гробницу, подарившую новые шедевры ахейского искусства. Кто знает, может быть, именно в тот момент, когда троянскими сокровищами, выставленными в Саут-Кенсингтон-ском музее, любовался молодой Артур Эванс. он решительно загорелся идеей раскопать знаменитый Кносский дворец. Ту мечту, которую Шлиман лелеял последние годы, удалось воплотить английскому археологу, уже далеко не такому беспомощному— не только открытия, но и заблуждения Шлимана многих многому научили. Кносский дворец, как бы оправдывая древние предания, открылся подлинным лабиринтом: бесчисленные помещения, лестницы, переходы, залы, галереи, световые колодцы, дворики, кладовые, ванные комнаты. Но «дворец Миноса» оказался и сущим археологическим лабиринтом — весь его огромный комплекс на протяжении столетий неоднократно перестраивался, разрушался пожарами и землетрясениями, воздвигался вновь. И надо сказать, что новый Тезей с честью выбрался из этого лабиринта, при этом «нитью Ариадны» во многом послужила ему та раскопочная методика, которая была разработана Дёрпфельдом и другими археологами. Великолепный тронный зал, удивительные красочные фрески, ярко расписанные сосуды, украшенные тонкой резьбой геммы и печати из Кносса известны теперь всему миру. Сам дворец стал великолепным материалом для изучения истории, политического и социального устройства и экономики Крита. Но и у Эванса нашелся недавно свой бёттихер под говорящей фамилией Вундерлих, который предложил поистине «удивительную» теорию: Кносский дворец—это огромная усыпальница. своего рода колумбарий. Но если Бёттихеру для обоснования его теории «Троя — крематорий» послужил пепел, то теперь все строится на более «твердой», но не менее зыбкой почве: гипс, дескать, в обилии встречающийся во дворце, — непригодный для жилого строительства материал. Можно, однако, не сомневаться, что и без решения международных научных конференций новый бёттихер разделит участь своего предшественника. На удачах и открытиях Шлимана, на его ошибках и догадках выросла целая новая наука—микенология, наука о древнейшем прошлом эллинского народа. В начале 50-х годов нашего столетия в Микенах под так называемой гробницей Клитемнестры— той самой, которую в 1876 году расчистила Софья Шлиман! — греческий археолог Г. Милонас обнаружил и раскопал еще один, второй могильный круг царских захоронений, давший новые прекрасные украшения из золота, а главное, позволивший уточнить время погребений, раскопанных Шлиманом. В конце 30-х годов совместная греческо-американская экспедиция во главе с К. Куруниотисом и К. У. Блегеном, тем самым, кто так успешно исследовал Трою, начинает раскопки великолепного дворца в Пил осе—легендарном царстве мудрого старца Нестора. Эти изыскания, не прекращающиеся до сего дня, принесли науке среди прочих находок множество глиняных табличек, на которых значками древней письменности — линейным письмом Б—были записаны сотни хозяйственных документов—целый архив Пилосского дворца. Настоящую революцию в микенологии совершил в 1953 году английский дешифровщик Майкл Вентрис, который, работая бок о бок с лингвистом Джоном Чадвиком, сумел прочитать таблички из Кносса и Пилоса, написанные, как оказалось, на древнейшем диалекте греческого языка. Эта дешифровка подарила науке первые подлинные письменные источники по социальному устройству и экономике ахейской Греции и Крита. Оглядываясь сейчас на выдающееся открытие Вентриса, опять невольно вспоминаешь Шлимана. Если гот, благоговейно снимая с покойного золотую маску, ни минуты не сомневался, что перед ним не только идеал эллина, но и сам Агамемнон, то до дешифровки линейного письма Б далеко не все были так уж убеждены в том, что эта письменность передает звуки греческого языка. На ум приходит и другое сравнение: а на сколько же лет отстала бы наука, случись открытие Вентриса не четверть века назад, а гораздо позже? Разве имели бы мы сейчас возможность издавать уже пухлые библиографии книг и статей по микенологии? Спустя не так уж много лет после раскопок Микен, Тиринфа и Кносса выяснилось, что во II тысячелетии на Крите и в материковой Греции развивались сходные, хотя и этнически неродственные культуры, представители которых то мирно торговали, то устраивали друг на друга грабительские морские набеги. А что же происходило на островах Зтеиды, разбросанных «посреди виноцветного моря», воспетого Гомером? И там уже давно была обнаружена особая культура — кикладская. родственная как критской — минойской, так и микенской — элладской. Не хватало, пожалуй, одного, может быть просто наиболее эффектного, звена, чтобы это родство засияло в новом свете. И такое звено нашлось совсем недавно на острове Фера (Санторин), в местечке Акротири. Здесь греческий археолог С. Маринатос натолкнулся на вторые Помпеи—целый город с улицами и многоэтажными домами, погребенный в конце XVI в. до н. э., как и его младший собрат по несчастью, под мощным слоем пепла и пемзы во время ужасного извержения вулкана. Внутри жилищ, сохранившихся на высоту в два, а то и три этажа, археологи нашли мебель и домашнюю утварь, стоящую на своих местах. Вот деревянное ложе, под которым заботливый хозяин поставил сосуды с луком и чесноком, вот искусно сплетенная корзинка. А какие изумительные фрески, во многом похожие на росписи Кносса, Тиринфа и Пилоса, но в то же время удивительно самобытные, дышащие тонким реализмом. На этой стене двое юношей в перчатках занимаются боксом, здесь ласточки мирно порхают меж ветвей, там художник изобразил сцену кораблекрушения — быть может, именно так погибли жители острова, когда, заслышав первые подземные толчки, бросились к своим кораблям, успев забрать с собой лишь драгоценности. Гибель Санторина у многих сразу же вызвала ассоциации с пресловутой Атлантидой. Не менее важные открытия были сделаны и в другой Америке Шлимана — в Малой Азии. Сейчас Троя—лишь одно из десятков поселений бронзового века, исследованных в Анатолии, но она продолжает оставаться классическим памятником археологии, по хронологии Трои равняют прочие древние городища. Раскопки этих поселений на искусственно насыпанных холмах многое дали для выяснения истории их обитателей, быта, культуры, религии, передвижения племен и т. д. Но в последние годы были сделаны интересные открытия и в области «гомеровской» археологии. Если в распоряжении Дёрпфельда было всего лишь несколько десятков обломков микенских сосудов, попавших в Трою в результате торгового обмена с ахейцами, которые и дали ему основание считать шестой горизонт «градом Приама», то недавние раскопки в Милете — матери многочисленных ионийских колоний на Черном море — показали, что сама эта метрополия в XVI в. до н. э. была основана ахейцами, приплывшими из Греции. Находки в других соседних с Милетом поселениях показали особую заинтересованность в колонизации этого района мало-азийского побережья древнейшими греками, стремившимися, видимо, противопоставить себя могучему Троянскому царству. Выходит, не такими уж сочинителями были греческие аэды и Гомер, слагавшие сказания о Троянской войне. Новые открытия несут разгадку одних тайн, но тут же ставят и много новых проблем, ждущих еще своих Колумбов, — так всегда бывает в пауке. Троя же — первая в цепи этих загадок—останется вечным памятником упорству и мужеству ее первооткрывателя.***
Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале очерка, должен признаться, что едва ли мне удалось ответить на него окончательно и бесповоротно. Да так ли уж это и необходимо? Пускай, повторяю, чнтатель, захлопнув увлекательную книгу, составит о ее главном герое свое представление, навеянное ему романом, создаст собственный образ этой, без всякого сомнения, выдающейся личности. Автору же этих строк остается высказать одно пожелание — чтобы в этом образе перед Шлиманом-археологом не отступал в тень Шлиман-человек, человек, который остается для нас символом непреклонной воли, способности переносить лишения для осуществления поставленной цели. И еще одно. Многих в Шлимане поражает феноменальное везение, та перерастающая все границы не изменявшая ему удача, которая невольно вызывает в памяти роковой образ Поликрата и легенду о его перстне. Да, действительно, есть археологи-счастливчики, а есть и заклятые неудачники. По моему глубокому убеждению, счастье улыбается не всякому, но только тому исследователю, который обладает, во-первых, особым даром остро подмечать несущественные на первый взгляд мелочи, а кроме того, ведет поиск непрестанно, систематически, не перебегает в случае временного невезения с места на место, подобно рыбаку, у которого «не клюет». Если мы под этим углом зрения оглядим весь пройденный Шлиманом путь, то должны будем признать, что он не был лихорадочным метанием между разными памятниками в поисках сенсаций, но целенаправленным, систематическим и хорошо продуманным поиском археолога, одаренного, кроме всего прочего, замечательной наблюдательностью и удивительной интуицией, заряженного одной великой идеей—доказать правоту Гомера. По меткому выражению Г. Штоля, Шлиман — как показало время — не мимолетная комета, а звезда, которая светит и поныне. Время же показало, что никогда в сердцах людей не угаснет Прометеев огонь, зажженный в пору «прекрасного детства человечества» — великой эллинской цивилизации. Ради того, чтобы это чистое пламя горело ярче, столько сил, упорства и таланта положило не одно поколение подвижников науки.Ю. Виноградов, кандидат исторических наук

Ирвинг Стоун Происхождение
К читателям
О Дарвине написано много. И не только научных исследований, но и художественных произведений, авторы которых стремились постичь внутренний мир человека, совершившего революционный переворот в биологии. Образы великих людей всегда привлекают писателей возможностью проникнуть в тайники их мыслительной деятельности, поступков, решений, которые подчас оказывают определяющее воздействие на дальнейший ход политики, науки, культуры. И нет ничего удивительного, что такой видный мастер художественно-биографической литературы, как Ирвинг Стоун, обратился к жизни Чарлза Дарвина. Мы знаем Ирвинга Стоуна по его романам о Ван Гоге, Джеке Лондоне, Микеланджело, Генрихе Шлимане, переведенным на русский язык. Думается, Дарвин не случайно пополнил галерею великих людей, которые привлекли внимание, писателя. Сам Стоун во время недавнего пребывания в Москве объяснял свой литературный интерес к основателю эволюционной теории тем, что именно в Дарвине он увидел человека, и по воспитанию, и по складу своего характера менее всего подходящего для той великой миссии, что выпала на его долю. Ведь ему довелось ниспровергнуть вековые представления, освященные авторитетом религии, более того, противопоставить научные факты религиозным догматам, вступить в конфликт с богословами, до сих пор не простившими ему этого удивительного по своей смелости шага. Но Дарвин был прежде всего ученым. И во имя научной истины он пожертвовал своим покоем, личным благополучием, сложившимися убеждениями. В этом был его научный подвиг. Ирвинг Стоун как-то сказал, что писатель – это "археолог, вскрывающий пласты человечества". Это определение, пожалуй, в большей степени относится к тем из них, кто работает в трудном жанре художественной биографии. И это отчетливо прослеживается в книге, которую вам предстоит прочитать. Верный своему художественному методу, Стоун тщательно и скрупулезно пытается реконструировать буквально все, что связано с жизнью его героя, проникнуть в строй его мышления, в логику его поведения. Он не изменяет сформулированному принципу, что автор художественной биографии должен "собственными глазами увидеть места, где жил и действовал его герой, увидеть светившее ему солнце, землю, по которой ступала его нога.-..". Он должен "ознакомиться с социальной, психологической, духовной, эстетической, научной и международной атмосферой, в которой его герой жил и под влиянием которой вырабатывалась линия его поведения", иными словами, "проникнуться духом эпохи, которую собирается отразить". Можно без преувеличения утверждать, что автор книги выполнил все эти условия. Вместе с тем нужно учитывать, что его произведение – не научная и не научно-популярная биография Чарлза Дарвина. Это биография художественная. Поэтому не следует искать в книге точных научных оценок и формулировок. Вполне закономерны и некоторые субъективные характеристики, которые могут не согласовываться с общепринятыми. Таковы законы жанра. Нас интересует главное – жизнь и деятельность ученого, создателя науки о развитии органического мира, нанесшей сокрушительный удар по религиозным представлениям о божественном творении Вселенной. Это тем более важно, что и поныне на Западе ведется борьба против дарвинизма, что в Соединенных Штатах Америки мракобесы требуют запрещения преподавания эволюционной теории в школах, преследуют передовых ученых, бросающих вызов невежеству и суевериям, которые культивируются так называемыми фундаменталистами. Уместно заметить, что Ирвинг Стоун, несмотря на свой почтенный возраст, ведет активную борьбу по пропаганде дарвинизма в США, выступая с лекциями, в которых он отстаивает правоту эволюционного учения. Для советского читателя новая встреча с Ирвингом Стоуном представляет не только чисто литературный, но и познавательный интерес. Художественная биография Чарлза Дарвина позволит еще лучше узнать историю рождения научной теории, сокрушившей господствовавшие веками религиозные взгляды и представления о мире и человеке. Академик Б. М. КЕДРОВ"Найди мне хотя бы одного здравомыслящего человека"
Рассматривая себя в зеркале, оправленном в красное дерево, он опустил кисточку в расписанный по бокам голубыми цветами бритвенный стакан, который стоял на полукруглой полке, подлил в него немного горячей воды из медного кувшина, намылил светлую кожу лица и только иосле этого открыл остро наточенную стальную бритву с эбонитовой ручкой. Для двадцатидвухлетнего Чарлза Дарвина бритье было приятной и не слишком обременительной процедурой, поскольку его рыжевато-коричневые бакенбарды занимали чуть ли не половину лица. Все, что ему оставалось, это выбрить нижнюю часть румяных щек и округлый подбородок. Его красные губы были, казалось, несколько маловаты по сравнению с на редкость большими карими глазами, в которых загорались огненные искорки, – глазами, зорко Схватывавшими и запечатлевавшими все вокруг. Он вытер пену с лица, достал две расчески, отделанные серебром, и резким движением разделил свои длинные рыжеватые волосы на косой пробор, сначала на правую сторону, затем, перекинув густую копну волос, позволил ей изящной волной упасть на левое ухо. Достав из комода орехового дерева белую накрахмаленную рубашку, Чарлз пристегнул к ней высокий тугой воротничок, концы которого доходили до самых бакенбард, и широким узлом повязал вокруг шеи темно-коричневый галстук. Обыкновенно он брился рано утром, как только вставал, но сегодня с утра он на целый день отправился на ялике порыбачить и побродить по берегу Северна, с тем чтобы пополнить свою коллекцию. Поэтому бритье пришлось отложить до вечернего переодевания, когда в доме ожидали гостя – профессора Адама Седжвика. С широкой лестницы доносился упоительный аромат гусиного пирога, любимого блюда у них в Шрусбери: кухарка Энни неизменно пекла его в тех случаях, когда к ужину ожидались именитые гости..Мальчиком Чарлз часто наблюдал за тем, как приготовляется этот деликатес, прежде чем его поместят в духовку большой восьмиконфорочной плнты, топившейся дровами и углем. И сейчас, хотя просторная кухня, где колдовала Энни, находилась в другой части дома, мысленно он представлял себе, как она расправляется с огромным гусем, вытаскивая из него кости, потом принимается за большого цыпленка, которым фаршируется гусь; следом наступает черед маринованного языка, помещавшегося внутрь цыпленка, и все это обмазывается густым слоем теста, щедро сдобренного мускатом, перцем и маслом. Марианна, старшая сестра Чарлза, довольно рано, в двадцать шесть лет, вышла замуж за врача и перебралась к нему в Овертон. Но и прежде, после того как умерла мать, она не рвалась вести хозяйство в Маунте, их поместье, хотя в свои девятнадцать лет вполне могла бы с этим справиться. Ведение всех домашних дел она переложила на покорные плечи средней сестры семнадцатилетней Каролины. После своего замужества, родив двух мальчиков, Марианна почти не навещала родительский дом, а только изредка обменивалась письмами с сестрами. В качестве хозяйки Каролина безуспешно пыталась приучить Энни закрывать дверь на кухню, когда та готовила. Но Энни, как истинная дочь фермера, уроженка Шропшира, наотрез отказывалась. – Выходит, семья не должна и догадываться, что будет на обед, так по-вашему? Да если хотите знать, мэм, то в Маунте моя кухня – самое наиглавнейшее место! Доктор Роберт Дарвин увещевал дочь: – Второй такой кухарки, как Энни, не сыскать. Она же боготворит все, что связано с пирогами, а кухонные ароматы для нее лучше любых других. Когда я отправляюсь на вызовы, то всегда знаю, какой пирог она затевает – с птичьими потрохами или уткой, с голубятиной или селедкой и картофелем. И пока я езжу от одного больного к другому, это меня поддерживает. В том, что касалось еды, доктору Дарвину не так-то легко было угодить. Человек необъятных размеров, он весил триста двадцать фунтов – всего на двадцать фунтов меньше, чем его отец, доктор Эразм Дарвин, этот настоящий Гаргантюа, известный на всю Англию своими сборниками стихов, трактатами по естественной философии, медицине, законам органической жизни и… своим животом, – чтобы обладатель его мог садиться за обеденный стол, в последнем потребовалось сделать специальное полукруглое углубление. Между тем Чарлз извлек из гардероба синюю бархатную жилетку с широкими лацканами, потом коричневый костюм с еще более широкими лацканами, длинными фалдами и стоячим воротником. Со дна комода он достал пару выходных башмаков, поставил их перед собой на ворсистый ковер эксминстерской выделки, а на кровати с большими медными набалдашниками разложил одежду. Золотые часыг которые он носил обычно в кармане жилетки, уже висели на тонкой цепочке, обхватывавшей шею. Завершив свой туалет, он подошел к высокому зеркалу и, посмотревшись в него, остался вполне доволен своим внешним видом: в конце концов он дорос-таки до полных шести футов, чего ему так страстно хотелось. Пожалуй, только вот нос несколько великоват. Впрочем, Чарлз не страдал чрезмерным тщеславием – ровно настолько, насколько это было естественно для высокого, худощавого, хорошо сложенного и энергичного молодого человека, который всего четыре месяца назад окончил колледж Христа в Кембридже, где он изучал теологию и удостоился степени бакалавра. Хотя Чарлз не стремился к диплому с отличием, в выпуске 1831 года он все же стоял на десятом месте, и ему надлежало получить церковный сан в Херфордском соборе, неподалеку от тех мест, где жили Дарвины и их родственники Веджвуды. С посвящением его, правда, не торопили ни отец, ни англиканская церковь: в тех случаях, когда речь шла о молодых теологах, только что закончивших курс обучения, она не настаивала на жестких сроках. И вообще должен был пройти год или даже два, прежде чем появится вакантное место диакона или помощника приходского священника – место, которое находилось на нижней ступени церковной иерархии. В будущем ему предстояло замещать викария или же, если церковь окажется побогаче, проходить службу иод началом пастора. Назначение это зависело от местного епископа. Как бы то ни было, Чарлза вполне устраивало, что его обязанности, как, впрочем, я жалованье, будут более чем скромными. Зато у него останется время для пополнения своей коллекции и занятий естественной историей, не говоря уже об охоте, которую он обожал и которой увлекался, сколько себя помнил. Возможно, после трехнедельной геологической экспедиции в горах Северо-Западного Уэльса с профессором Седжвиком и месяца охотничьей жизни в Мэр-Холле он и начнет подумывать о предстоящем посвящении в сан. Впрочем, нет, лучше все-таки отложить эти мысли до лета следующего года. К тому времени он уже совершит вместе с профессором Джоном Генсло и двумя его учениками путешествие на торговом судне на тропические Канарские острова, где на острове Тенерифе они намерены были собственными глазами увидеть знаменитое драконово дерево, описанное в "Путешествии" Гумбольдта. Отец Чарлза уже дал согласие на это плавание в июне будущего года, так что ему предстояли целых двенадцать месяцев праздной жизни, как в свое время и его старшему брату Эразму, который немало постранствовал по свету, прежде чем заняться медициной. Считалось, что молодому человеку требовалось какое-то время, чтобы остепениться. Покончив с туалетом, Чарлз еще раз внимательно осмотрел себя в зеркале. – Ну и вырядился я сегодня, – заключил он. – Еще подумают, что у меня помолвка с очаровательной Фэнни Оуэн. Самого Чарлза никто не считал особенно привлекательным: его внешность была неброской и мягкой. Только большие глаза были необычайно выразительными. Одним словом, приятный молодой человек с природным обаянием и хорошими манерами, явно любящий пожить в свое удовольствие. Ему нравилось бывать на людях, и он не думал скрывать радости от общения с ними. И люди в свою очередь отвечали ему взаимностью – родные, друзья, преподаватели в Кембридже, где он учился. Его общество в особенности ценило старшее поколение, ибо Чарлз обладал весьма редким талантом не замечать в дружбе разницы в возрасте. Он был любимцем Джозайи Веджвуда, брата матери, в имении которого Мэр-Холл он проводил каждый сентябрь, охотясь на куропаток и прочую дичь; Уильяма Оуэна, владельца Вудхауса, где Дарвина непременно ожидали к первым морозам, чтобы "поистреблять оуэновских фазанов"; Джона Стивенса Генсло, его наставника и гида в изумительном и таинственном мире природы. Бывший профессор минералогии в Кембриджском университете, последние четыре года Генсло возглавлял кафедру ботаники и одновременно был помощником священника в прелестной маленькой церквушке святой Марии на углу Трампингтон-стрит, в двух шагах от реки Кем. Именно профессор Генсло уговорил своего друга Адама Седжвика взять Чарлза с собой в геологическую экспедицию- Вот почему сейчас Чарлз готовился встретить уважаемого гостя при параде. При грубоватой внешности Седжвик, все еще холостяк в свои сорок шесть лет, был настоящим лондонским денди: даже во время знаменитых исследований в Альпах, не говоря уже о горах Уэльса, он не расставался с высоким белым цилиндром и удлиненным пиджаком новейшего покроя. Кембриджские студенты по этому поводу шутили: – Знаете, зачем он носит свой белый цилиндр? Это чтобы охотники по ошибке не приняли его за оленя и не всадили ему пулю в лоб… Ожидая приезда гостя, Чарлз достал с полки книгу сэра Вальтера Скотта "Антикварий" и уселся в затянутое чехлом кресло у окна – в той самой комнате, где он появился на свет. Бархатные гардины были по бокам подобраны лентой, и сквозь тюлевую занавеску ему открывался -превосходный вид: перед домом широкий газон, старые дубы, ели и платаны, а за холмом, который жители называли Маунт, привольные луга и развалины старинного замка-крепости, возведенной британцами для защиты от римлян. Три с половиной года, проведенных Чарлзом в Кембридже, были приятными во всех отношениях. В колледже он много читал: и Дарвины, и Веджвуды справедливо могли похвастаться неплохими домашними библиотеками. Книга в этих семьях всегда была в почете, но в основном здесь предпочитали читать ради развлечения. Любимым местом для чтения, разумеется в хорошую погоду, служил Чарлзу сад – "Феллоуз гарден", где он обычно устраивался под раскидистой шелковицей, той самой, под сенью которой, как говорили, за двести лет до него часами сиживал Джон Мильтон, с жадностью поглощавший одну книгу за другой. На лекциях Дарвин умел внимательно слушать, и это позволило ему усвоить, а затем благополучно исторгнуть из себя мало его занимавшие "Естественную теологию" Пейли и "Элементарную геометрию" Евклида и после двух лет обучения в Кембридже успешно сдать переводные экзамены. Что же касалось предметов, интересовавших его по-настоящему, то их он изучал досконально. Много времени студенты проводили вне стен своего колледжа, и у общительного Чарлза не было недостатка в компании. Как правило, приятели вместе ездили на охоту, и, прежде чем присоединиться к остальным, Чарлз, стоя в своей комнате перед комодом с зеркалом, нередко репетировал, проверяя, так ли он вскидывает ружье на плечо, как положено. Если же перед охотой ему удавалось залучить к себе кого-нибудь из друзей, он давал ему в руки зажженную свечу, которой тот должен был размахивать, а Чарлз в это время стрелял, сунув в ствол бумажный пыж. В тех случаях, когда он целился точно, вырывавшаяся из ружья струйка сжатого воздуха, к немалому удовольствию стрелка, гасила пламя. При этом пыж разрывался с таким звуком, что их тьютор [Тьютор – наставник-преподаватель в колледжах Великобритании. – Прим. пер.] всякий раз сетовал: – Подумать только! Мистер Дарвин, по-видимому, часами упражняется у себя в комнате в щелканье кнутом. Стоит мне только пройти по двору у него под окнами – и я неизменно слышу один и тот же звук. Профессор Генсло часто брал своих студентов на загородные ботанические экскурсии, и Чарлз ни разу не пропустил возможности отправиться вместе с профессором. Иногда они уходили на весь уик-энд в дальние леса и болота. Однажды, во время такого похода, Чарлзу удалось поймать такое количество жаб, прятавшихся в высокой траве, что Генсло с гордостью воскликнул: – Вашему зрению, Дарвин, можно позавидовать! Впоследствии, когда Чарлз один научился ловить их больше, чем все остальные студенты, вместе взятые, Генсло полушутя спросил: – Что вы будете с ними делать, Дарвин? Уж не собираетесь ли вы испечь нам "жабий" пирог? Поначалу Чарлз растерялся, но весьма скоро сумел выкрутиться: – Разве вы не знаете, профессор, что повар из меня никудышный?! Генсло сумел заразить их всех своей любовью к энтомологии; Дарвин и его друзья коллекционировали жуков. Чарлз даже утверждал, что ни один род занятий в университете не доставлял ему столько радости. Однажды, отодрав кусок трухлявой коры, он обнаружил двух уникальных жуков и понес их учителю, по одному в каждой руке. По дороге он заметил еще один редкий экземпляр, не взять который он попросту не мог. Чтобы освободить руку, он сунул одного из жуков в рот. – Увы, – жаловался он профессору Генсло вечером того же дня, – жук выпустил заряд какой-то необычайно мерзкой жидкости, и она так обожгла мне язык, что я вынужден был тотчас выплюнуть насекомое, которое тут же погибло. Третий из найденных мной жуков также не перенес путешествия. – Это вам наказание за жадность, – рассмеялся в ответ Генсло. – Умейте довольствоваться малым, друг мой, идет ли речь о жуках или о деньгах. Когда Джон Стивене Генсло обосновался в Кембридже за тринадцать лет до приезда туда Дарвина, науку считали несовместимой с религией. В университете, основанном в XII веке для подготовки теологов, не признавались научные дисциплины и по ним не читалось курсов, дававших право на получение университетской степени. Ботанический сад в центре города был полностью заброшен. Профессора Генсло и Седжвик в корне все изменили. В 1819 году они совместно основали Кембриджское философское общество, где преподаватели и студенты-старшекурсники регулярно выступали с докладами по проблемам развития естественных наук, все еще находившихся под церковным запретом. Постепенно Генсло и Седжвик сумели добиться, чтобы курсы ботаники и геологии были включены в общеобразовательную программу. По пятницам вечерами Генсло приглашал к себе домой избранный круг – нескольких наиболее способных из числа своих студентов, а также тьюторов и преподавателей, интересовавшихся прогрессом науки. В доме профессора к Чарлзу относились как к члену семьи. Пообедав, они с Генсло нередко отправлялись на продолжительные загородные прогулки, а по уик-эндам для пополнения коллекций – в окрестные болота, изобиловавшие травами, василистни-ком, дикой петрушкой, ирисами и густым кустарником, а также живностью кузнечиками, светлячками, пауками и мошками. Из-за своей привязанности к профессору Чарлз получил прозвище "Тот, который ходит хвостом за Генсло". Джона Генсло любили в Кембридже как никого другого: большей чести университет не мог бы удостоить его при всем желании. Чарлз подобно хорошей губке впитывал мудрые мысли учителя, отличавшегося не только эрудицией, но и глубоким пониманием своего предмета. Их отношения во многом напоминали отношения Чарлза с братом Эразмом во время их совместной учебы в Королевской классической общедоступной гимназии в Шрусбери. Рас, как звали его в семье, был пятью годами старше Чарлза и страстно увлекался химией: в сарае на холме, где хранился садовый инструмент, он оборудовал настоящую лабораторию, Брат сделал Чарлза своим ассистентом, в чьи обязанности входило составление газов и смесей по формулам. Эразм показал ему, как разводить серную кислоту в пропорции один к пяти, чтобы затем, облив раствором железные гвозди, собирать образовавшийся газ в колбу. Другой эксперимент, сделавший в округе обоих братьев, так сказать, персонами нон грата, заключался в том, что они растворяли в серной кислоте ртуть в пропорции один к двум: испарявшаяся со дна колбы кислота распространяла по всему холму удушливый запах. Доктор Роберт Дарвин, вечно находивший повод быть недовольным своими сыновьями, однажды сухо заметил: – Если уж вам приспичило заниматься химией, то нельзя ли, чтобы она была менее пахучей? Эразм, которого куда меньше Чарлза заботило, какого мнения о нем отец, парировал: – Но мы не можем знать, как пахнут наши реактивы, пока их не получим. Неужели тебе хотелось бы задавить ростки поиска и отваги, которыми наградила нас молодость? Доктор Дарвин мгновенно чувствовал, когда задевали его больное место вес. Обернувшись к сыновьям, худощавым и нескладным, как большинство подростков, он с нарочитой издевкой, голосом, который, казалось, исходил из глубины карьера, изрек: – Как ты сказал: "Задавить"? О, боги! Да я всю свою сознательную жизнь только и делаю, что стараюсь кого-нибудь ненароком не задавить. На какое-то мгновение Чарлзу стало даже жаль отца. И почему это все шестеро детей Дарвина должны отдавать столь явное предпочтение родне со стороны матери – худым и жилистым Веджвудам? Отчего бы, спрашивается, хотя бы одному из сыновей не пойти в отцовскую породу? Хотя Чарлзу в ту пору было всего четырнадцать, он нередко засиживался в лаборатории Эразма далеко за полночь. Неудивительно, что по этой причине и из-за горящей серы, которой пропах весь дом, Чарлз заработал в школе прозвище "Газ". Вдобавок он получил выговор от доктора Самюэля Батлера. Этот известный педагог, директор Королевской классической общедоступной гимназии в Шрусбери, основанной Эдуардом VI в 1522 году и значительно расширенной при королеве Елизавете, однажды при всех отчитал его. Кстати, хотя школа именовалась общедоступной, обучение там в действительности стоило отнюдь не дешево. Правда, классные помещения, часовня и библиотека были выше всяких похвал. – Послушайтесь моего совета, Дарвин, и не тратьте своего времени на бесполезные предметы. Учите-ка лучше греческую грамматику и латынь. Для джентльмена они необходимы. На повороте усыпанной гравием аллеи, ведущей к парадному подъезду Маунта, послышался стук колес экипажа. Чарлз положил роман автора "Уэверли" ["Автор "Уэверли" – так долгое время называли Вальтера Скотта, анонимно опубликовавшего "Уэверли" и еще несколько романов, – Прим. пер.] рядом с цветочной вазой, встал и отодвинул тюлевую занавеску. Внизу, в своей двуколке, в которой он проехал кружным путем от Кембриджа через угольные копи Вулверхемптона и известковые карьеры Эльбербери, восседал неутомимый профессор Адам Седжвик, осаживая лошадь и держа вожжи в одной руке, а другой поправляя на голове белый цилиндр. Чарлз вприпрыжку сбежал по широкой лестнице. Адам Седжвик стоял в нескольких шагах от высоких дубовых дверей и портика, подпираемого четырьмя мраморными колоннами, раскинув руки и довольно улыбаясь. – Это, я понимаю, дом! Вот как надо строить. Главное – прочность. Такое сооружение способны разрушить разве что Везувий или Этна. – Как раз к этому отец и стремился, когда купил двенадцать акров на холме, по-здешнему "горе", – поэтому-то имение и называется "Маунт" ["Маунт" – по-английски "гора", – Прим, nep.]. Между нами говоря, то же прозвище дали и отцу. Чарлз позвал конюха, чтобы тот позаботился о лошади Седжвика. В это время Эдвард, их старый дворецкий, уже отнес чемоданы профессора наверх в комнату для гостей, выходившую окнами на реку Северн. Чарлз также распорядился, чтобы Седжвику принесли горячей воды сполоснуться после долгой дороги, а вернее сказать, целого геологического похода, составившего без малого сто семьдесят пять миль окольного пути от Кембриджа. – Как лето? Хорошо поработали? – спросил Сед-жвик. – Да, весь июль я занимался геологией, работал как вол, Генсло предложил мне для начала составить топографическую карту Шропшира. Это оказалось совсем непросто, куда сложнее, чем я предполагал. Я сделал в цвете набросок нескольких участков на выбор, по-моему, получилось точно. А вот насчет залегания пластов, тут я не вполне уверен, что все вышло как надо. – Сейчас умоюсь и гляну. Мой вам совет: берите в руки молоток и отправляйтесь в горы. Набирайте как можно больше породы. И через два года, даю гарантию, вы станете заправским геологом. Чарлз искоса глянул на огромного йоркширца, по-своему красивого, со скуластым лицом, густыми черными бровями, большими глазами, курчавыми волосами и носом, внушительные размеры которого тем не менее не скрадывали полноты его губ и резкой очерченности подбородка. В университете он считался замечательным лектором, умевшим покорять слушателей даже тогда, когда жаловался на мучивший его ревматизм. У него было неважное зрение последствие одной из первых геологических экспедиций, предпринятых еще в юности, когда в глаз ему попал осколок камня. Как и его ближайший друг Джон Генсло, Седж-вик имел духовное звание, сочетая профессорскую деятельность в Кембридже с обязанностями диакона. Он нередко проводил богослужения у себя в Денте в графстве Йоркшир и был человеком высоких нравственных и религиозных убеждений. Насколько было известно Чарлзу, в своей жизни Седжвик не знал ни женщин, ни женской любви. Свой взгляд на женитьбу он тоже изложил студентам: – Женитьба хороша для мужчины, когда он подходит к последней черте. Но до этого одна жена равнозначна многим невзгодам… Невзирая на столь желчную оценку, профессора считали весьма "перспективным женихом, который каждый день буквально-таки нарасхват на званых обедах". Чарлз, к стыду своему, так ни разу и не удосужился побывать на его популярных у студентов лекциях по геологии: два с лишним года, до девятнадцати лет, занимаясь на медицинском факультете Эдинбургского университета, Дарвин исправно посещал лекции профессора геологии Роберта Джеймсона. Они наводили на него такую скуку, что навсегда отбили всякую охоту иметь дело с этим предметом. Профессор Седжвик был необыкновенно тщеславен, но не мелочен, он дал понять Чарлзу, что не в обиде на него за подобное невнимание к своей особе. Свой геологический молоток Адам Седжвик величал "старым Тором" – в честь нордического бога-громовержца. Он обращался с ним со всей возможной нежностью, как с близким человеком. Генсло как-то заметил Чарлзу по этому поводу: – Если когда-нибудь Седжвик встретит молодую даму, к которой он будет испытывать такие же чувства, как к молотку, держу пари – он на ней женится. – Да, но, чтобы конкурировать с Альпами, дама эта должна быть, по меньшей мере, на несколько голов выше всех других женщин, – сострил Чарлз… Доктор Дарвин еще не вернулся с вызовов, сестры Чарлза были заняты переодеванием к обеду. – Пока не все в сборе, у меня есть время похвастаться перед вами нашим садом, – обратился Чарлз к гостю, как только тот спустился в гостиную. Это гордость здешних мест. – Цветы для англичанина, – высокопарно изрек Седжвик, – все равно что тюлений жир для эскимоса. Их красота согревает нас всю зиму. Они прошли мимо домика садовника и конюшни – туда, где начинался главный сад, заложенный доктором Дарвином и его покойной женой Сюзанной лет тридцать тому назад. Кругом виднелись цветочные бордюры, а по стенам вился издававший особый аромат позднего лета дикий виноград – цвета темной ржавчины, желтый и малиновый. Клумбы почти все были засажены исключительно одними анютиными глазками, но здесь же встречались островки с лобелиями, жабреем и гвоздикой разных оттенков. Дальше рос четырехфутовый дельфиниум, а за ним – высившиеся, подобно часовым, мальвы, достигавшие добрых пяти футов. Отдельную территорию занимали розы, вьющиеся по шестам, кусты и целке деревья. – Похоже, что вы раздобыли превосходного садовника, – заметил Седжвик. – Не мы. Джозеф сам нашел нас, когда отец был еще только занят постройкой Маунта. Теперь нашим огородом занимается его сын. На рынке мы покупаем совсем немного: приправы, мясо, молоко. Мать не позволяла отцу держать коров, потому что их мычание по ночам казалось ей слишком грустным и она не могла уснуть. Огород был обнесен кирпичной стеной, вдоль которой шпалерами росли персики, сливы и груши… Профессор и Чарлз шли мимо грядок картофеля, моркови, бобов, репчатого лука и накрытой соломой клубники; сверху все это защищалось от птиц сеткой. Дальше располагались грядки с капустой обычной, цветной и брюссельской (последнюю всегда собирали к рождеству, хотя, как и молодая картошка, она бывала съедобной уже весной, правда лишь на очень короткое время). Оба они с удовольствием осмотрели также грядки с мятой, ревенем и петрушкой. – Фрукты мы запасаем на зиму, варим сливовое и раа-. ное другое варенье. Глубокий вздох вырвался из могучей груди Седжвика. – Да, наше холостяцкое житье в Кембридже, сдается мне, подходит разве что одним аскетам. Чарлз повернул к дому. – Сестры уже наверняка спустились. Еще минута – и желтый фаэтон отца покажется на повороте. Когда они проходили через занимавшую оба крыла дома библиотеку, высокие потолки которой опирались на мраморные колонны, Седжвик ласково касался стоявших на полках в нише любимых книг, на корешках которых значились имена греческих и римских классиков. Остановившись у другой ниши, он увидел произведения Чосера, Мильтона, Поупа, Драйдена, Голдсмита, Вальтера Скотта, Шекспира. – А здесь собраны современные авторы, – пояснил Чарлз, указывая на последнюю нишу перед входом в зимний сад, примыкавший к библиотеке. Седжвик поставил обратно томик "Тайн Удольфо", пользовавшийся в те годы популярностью. – Что, все эти романы можно… читать? – спросил он с видом крайнего недоумения на красивом загорелом лице. – Я так и не прочел ни одного. – Всякое бывает: встречаются и хорошие, и плохие, и так себе. Заранее трудно определить. Когда кто-нибудь из семьи отправляется в Лондон, его всегда просят привезти книгу поинтересней. Случается, что "плохие" – как раз самые интересные. Нередко мы читаем вечерами вслух, по очереди. Сидеть при этом у камина, когда за окном холод, какой бывает у нас в Шропшире зимой, – что может быть чудесней! У Веджвудов, родственников матери, вслух вообще читают круглый год. Порой мы, правда, как у нас говорят, совершаем "объезды", то есть попросту пропускаем скучные места. Они вошли в открытые двери оранжереи; воздух, душный и влажный, слегка отдавал запахом болота. Застекленная крыша свободно пропускала солнечный свет и тепло. Сестры Чарлза тем временем успели привести себя в наилучший вид: ради встречи со знаменитым профессором Адамом Седжвиком они завили волосы щипцами. Мужчины прошли в дальний конец зимнего сада, где Каролина (ей шел уже тридцать второй год) хозяйничала за чайным столиком. По обеим его сторонам росли папоротники, калы, розовая и красная герань, на деревянных полках стояли растения в горшках, а в небольших короб-КЙХ – терракотовые горшочки с хризантемами, георгинами, белыми фиалками. – Профессор Седжвик, разрешите представить вам моих сестер. Слева Каролина, посредине – Сюзан, а это – Кэтрин, самая младшая, в доме ее зовут просто Кэтти. Седжвик поздоровался за руку с каждой, низко поклонился и произнес все принятые в подобных случаях любезности. Сюзан, темпераментная, стройная, златокудрая красавица, единственная из всех считалась любимицей отца. В семьях Дарвинов и Веджвудов было принято, чтобы девушки выходили замуж годам к тридцати, мужчины же могли жениться гораздо позже. Что касается Сюзан, то Есе думали, что она нарушит эту традицию и найдет себе мужа к двадцати годам – половина всех молодых людей в Шропшире готова была предложить ей свою любовь. Между тем ей исполнилось уже двадцать восемь, но она по-прежнему продолжала поощрять всех своих поклонников… в равной степени. Чарлз относился к ней с нежностью, что не помешало ему как-то заметить: – Для Сюзан всякий, кто носит пиджак и брюки, при условии, что ему не меньше восьми и не больше восьмидесяти, ее законная добыча. Улыбаясь Седжвику одной из своих самых обворожительных улыбок, Сюзан протянула ему бокал мадеры. Двадцатилетняя Кэтти с усмешкой наблюдала за сестрой; По складу характера она больше всех остальных походила на Чарлза. Когда шурин профессора Генсло Леонард Дженинс был у них в Маунте, у него невольно вырвалось: – Да это же Чарлз Дарвин в юбке! Взгляд ее был дерзким, одевалась она неизменно в белые платья и белые чулки, носила длинную челку, разделенную пробором. Держалась Кэтти с достоинством и подкупающим спокойствием. Ее общество любили, она была способна на глубокую привязанность, но в сравнении с сестрами – Каролиной, с ее сильной волей и кипучей энергией, и Сюзан, с ее красотой и экспансивностью, – она явно терялась. Каролина была такого же высокого роста, каким отличались все Веджвуды, но отнюдь не считалась у них красавицей, хотя глаза, цвет кожи и гладкие волосы ее были великолепны. Один кузен из Веджвудов однажды сделал ей комплимент: – У вас вид настоящей графини. Ее любили все, кроме Чарлза. После смерти матери, которая умерла, когда Чарлзу исполнилось восемь, Каролина заменила ее. Она держала его в необычайной строгости. Даже сейчас, в двадцать два года, Чарлз с тревогой думал, стоило ей только войти в комнату: "Господи, за что теперь она будет меня ругать". Он признавал, однако, твердость, пускай и чрезмерную, ее характера. Каролина, к примеру, организовала воскресную школу для самых маленьких из числа детей неимущих во Фрэнкленде, самой бедной части графства, неподалеку от Маунта. Там их – бледных, болезненных, плохо одетых – учили таблице умножения и молитвам. С этими детьми Каролина проводила большую часть своего свободного времени, стараясь раздобыть для них средства не только на книги и пособия, но и на еду, лекарства и теплую одежду. Кроме семьи Дарвинов, ее усилий никто не поддерживал, но она не сдавалась. Сюзан налила профессору Седжвику еще мадеры. Подняв бокал за здоровье молодых дам, он обернулся к Чарлзу: – И за нашу успешную охоту за горными породами в предстоящие недели. А вы уверены, что не захотите остаться со мной на более длительный срок? Чарлз смущенно улыбнулся: – По правде говоря, я и так думаю, что сошел с ума. Отправляться в геологическую или вообще в какую-нибудь еще научную экспедицию сейчас, когда в Мэр-Холле началась охота! Седжвик понимающе кивнул головой: – Еще бы. В молодости я тоже увлекался охотой у себя в Денте. До того как стать геологом, я был заядлым охотником. Но как только я обосновался в Тринити-колледже, то сразу распрощался и с любимыми собаками, и с ружьем. – Скажите, профессор, – обратилась к нему Сюзан, – что увлекательного находят в геологии люди, которые, подобно вам, отдают ей свои многочисленные таланты? Адам Седжвик довольно долго молчал. Казалось, он изучает ее длинные золотистые кудри, сверкающие глаза оттенка морской воды и кожу лица, белую, как крем, и розовую, как внутренняя поверхность раковины, – цвет тончайших фарфоровых ваз, которые Сюзанна Веджвуд принесла доктору Роберту Дарвину в приданое. Когда профессор наконец заговорил, голос его звучал проникновенно и мелодично, но куда более захватывающим был сам ход его мыслей, последовательно вытекавших одна из другой. По вечерним беседам в доме Генсло Чарлз зная: профессор Седжвик использует все свои немалые ресурсы, стараясь произвести наиболее благоприятное впечатление. – Мисс Сюзан, мой близкий друг поэт Вордсворт не жаловал людей науки, смотревших на природу другими; нежели он, глазами. Однако для меня он сделал исключение, написав любовное стихотворение, адресованное… геологии. Адам Седжвик обожал цитировать и мог делать это на полдюжине языков. На сей раз он произнес по-английски: О ты, кто отбивает молотком Куски породы от скалы несчастной, Которую сберечь природа тщилась… Благоговейную тишину нарушила хлопнувшая входная дверь. – Час прилива настал, – прокомментировала Каролина не без сарказма. Чарлз тут же вышел в холл, чтобы поздороваться с отцом. Они не выказали при этом никакой особой сердечности, хотя полагали, что любят друг друга, да и на самом деле и отец и сын испытывали друг к другу неподдельную симпатию, только не знали, как ее лучше выразить. Доктор Роберт Дарвин, 30 мая отметивший свое шестидесятипятилетие, относился к Чарлзу с неизменной добротой, хотя подчас, случалось, бывал с ним и резковат. Но после двенадцатичасового рабочего дня в Шрусбери, да еще проведенного в разъездах по ухабистым грязным проселочным дорогам графства, по которым ему приходилось добираться до своих пациентов, это было не слишком удивительно. В сущности, Чарлз мог припомнить всего одну неприятную сцену с отцом, когда в шестнадцать лет его отчислили из школы в Шрусбери за год до окончания курса обучения: не отличник, но и не из самых последних в классе, он и в школе и дома считался безнадежным середняком со способностями самыми посредственными. Тогда его глубоко уязвили слова, сказанные отцом: – Тебя не интересует ничего, кроме стрельбы, собак и охоты за тараканами, ты станешь позором не только для самого себя, но и для всей нашей семьи. Чарлз считал такой упрек незаслуженным. Каждое утро в школе, во время богослужения, он повторял про себя заданные накануне сорок – пятьдесят строк из Вергилия или Гомера, усердно учил древние языки и никогда не пользовался никакими шпаргалками. Он упивался Горацием, чьи оды доставляли ему истинное наслаждение. А успеваемость? Он просто не был примерным учеником и не имел ни малейшего намерения им стать. – Отец, – возразил он, – ты несправедлив ко мне. Об этом разговоре больше ни разу не вспоминалось. Чарлз, объявил отец, должен будет присоединиться к своему брату Эразму, изучавшему медицину в Эдинбургском университете, с тем чтобы оба его сына смогли стать врачами, как стал врачом он сам, унаследовав эту профессию от СЕоего отца, знаменитого в Англии доктора Эразма Дарвина. – Из тебя должен выйти неплохой врач, Чарлз. Ведь главное в нашем деле – это уметь внушить к себе доверие. А ты доказал, что умеешь, когда хочешь, этого достичь. Особенно у женщин и детей – помнишь, прошлым летом ты отлично помогал мне в лечении бедняков у нас в Шрусбери. Чарлз действительно составил тогда подробные истории болезней тех двенадцати пациентов, осмотр которых отец ему поручил. Он указал все до одного симптомы болезни, чем привел доктора Дарвина в изумление, читая ему на сон грядущий свои скрупулезные записи. – К тому же, – заметил он, – ты прекрасно справляешься с приготовлением прописанных мною порошков. Похвала отца окрыляла. Доктор Дарвин побуждал его заняться медициной: в сущности говоря, Чарлзу нечего было на это возразить. Возможно, отец прав. Но вышло все по-иному. Той осенью, в октябре 1825 года, после того как его зачислили в университет и он поселился вместе с братом Эразмом в студенческом общежитии на Лотиан-стрит, где жили около девятисот будущих медиков, Чарлз сразу же записался на курсы по основам медицины, химии и анатомии. С самого начала, однако, его природа решительно взбунтовалась. Как-то он побывал на двух хирургических операциях в больнице, проводившихся без всякой анестезии (в одном случае пациентом оказался ребенок), и оба раза, не выдержав, сбегал, будучи не в состоянии достоять до конца. Никакая сила на свете не могла бы заставить его вернуться в операционную. – Не лучше, кстати, обстояло дело и с теоретическими занятиями. О кошмарных лекциях доктора Дункана по основам медицины (о, эти холодные зимние утра, когда так не хотелось вставать!) нельзя было даже вспоминать без содрогания, настолько ненавистны они ему были. Лекции же доктора Монро по анатомии нагоняли на него невероятную скуку. – Впрочем, таков и сам профессор, – как-то раз поделился с Эразмом Чарлз. – Да и вообще-то говоря, этот предмет не вызывает у меня ничего, кроме отвращения. – Тогда становись "слушающим врачом", как отец. Он тоже, сдается мне, не очень чтит анатомию, вроде нас с тобой. Зато никто лучше, чем он, не умеет "разговорить" пациента, так что потом ему остается только сидеть и слушать, как тот выкладывает все свои беды. Женщины при этом плачут навзрыд, едва начнут вспоминать о своей горькой доле. Но они принимают безобидные отцовские порошки, и им сразу становится легче. Кроме тех, конечно, кто все-таки умирает. Чарлз пристально смотрит на брата. У него, единственного из Дарвинов, смуглая кожа. Строение лица правильное, но, как и у матери, подводит нос: переносица вогнута, а ноздри чересчур властные. Редкие пряди волос на макушке он зачесывает слева направо, чтобы хоть как-нибудь прикрыть почти совершенно облысевшую голову. Самое лучшее, что у него есть, это безусловно рот: тонкие губы выдают в нем почти трепетную чувствительность. У брата круглый "шропширский" подбородок отца, заставляющий подозревать наличие твердого характера. Это впечатление, правда, полностью разрушают глубоко посаженные карие глаза, которые глядят не на окружающих, а обращены вовнутрь. – Рас, сдается мне, что и ты не слишком-то горишь желанием быть врачом. – Горю? Да о чем ты говоришь! Через год я собираюсь перевестись в колледж Христа, получить там диплом, а потом… Так, задолго до окончания второго курса, Чарлз понял, что ни за что на свете не сможет стать практикующим врачом. Он признавал, что профессия эта гуманная, но просто не чувствовал себя способным ею заняться, хотя его дед и отец успешно делали это в общей сложности уже семьдесят лет. Сестрам он писал о своей неприязни к медицине, но отцу – ни слова. Поэтому, сообщая ему о своем решении не возвращаться в Эдинбург после второго курса, Чарлз ожидал бури. Дарвин-старший встретил сына в Маунте в конце весны 1827 года весьма холодно. После обеда они остались вдвоем в библиотеке. – Так ты не желаешь больше учиться? Собственно, почему? – Но я ведь и не давал тебе твердого обещания, отец. Медициной я стал заниматься только потому, что этого хотел ты. – А я и сейчас продолжаю хотеть того же. – В голосе отца звучала глухая обида. – Разве тебе безразлично мое желание? Ты что, восстаешь против семейной традиции? (Он рассердился не на шутку.) Тогда расскажи, каковы твои планы. Сделай одолжение! – Я хотел бы заниматься в колледже Христа в Кембридже. Там будет и Рас. – Ты стараешься угнаться за ним или просто выбрал себе самый веселый колледж из всех, какие есть в Кембридже? – Ни за кем я не гонюсь, отец. Мне уже больше восемнадцати, и я принимаю решения вполне самостоятельно. Я разговаривал с несколькими студентами оттуда, и мне понравилось, как там-.. по их елоаам, поставлено дело. Я хочу заниматься в этом колледже и получить диплом, бакалавра. – Да, но с какой целью, Чарлз? Чарлз заерзал. Его светлое лицо покрылось красными пятнами. Доктор Дарвин пытался выяснить, какое лекарство лучше подойдет для лечения недугов его собственного сына-неуча. – Чтобы стать священником, – наконец выговорил он. – Англиканской церкви? Но мы никогда не были религиозной семьей. Среди Дарвинов и Веджвудов нет ни одного проповедника, если не считать, правда, Джона Аллена Веджвуда, который только что стал викарием у себя в Мэре. Ну что же, профессия, по крайней мере, весьма почетная. Жена доктора Дарвина, урожденная Сюзанна Веджвуд, принадлежала к унитаристской церкви, отличавшейся от англиканской куда меньшим фанатизмом. Что касается отца, то он водил детей в церковь только на пасху и на рождество. В Маунте не принято было читать молитвы, разве что иной раз, когда к обеду приглашали кого-нибудь из лиц духовного звания. Никто в доме не думал спорить о религиозных верованиях как таковых. Они были чем-то само собой разумеющимся. Религиозные страсти исключались так же, как и любое отступление от веры. – Мне представляется, что я смогу соответствовать этому призванию, – продолжал Чарлз. – Людей я люблю. Всяких. Думаю, что со своей паствой я сумею найти общий язык. Может статься, что я даже буду чем-то полезен прихожанам. Впрочем, есть ведь и другие профессии, путь jt, которым открывает звание бакалавра: скажем, юриспру-.дездшя, дипломатическая и государственная служба, учительство. – Нет, Чарлз, духовная карьера предпочтительнее. Расправив плечи, сын стоял теперь во весь свой шестифутовый рост, но отец все-таки оставался выше на два дюйма. – Что же, если ты предпочитаешь религию, пусть будет по-твоему. Я стану священником. Обещаю тебе это.. А своих обещаний я не нарушаю, ты знаешь. Так что можешь на меня положиться. Улыбка теплой волной растеклась по лицу доктора Дарвина. Он подошел к сыну и обнял его. – Да, Чарлз, я знаю. Свое обещание ты выполнишь. Теперь, когда я уже немного примирился с тем, что ты не пойдешь по моим стопам, мне даже нравится, что у нас в семье будет свой собственный священнослужитель. Итак, считай, что мы договорились. Ты едешь в колледж Христа. Эразм был несправедлив по отношению к отцу, называя его "слушающим" врачом. Правда,он обладал поразительным умением поставить правильный диагноз там, где другие оказывались бессильны распознать симптомы болезни. В его время врач мог высказывать то или иное предположение, основываясь лишь на собственном опыте и интуиции. Возможности заглянуть под кожу человека, проникнуть в его тело или голову у него не было. Доктор Дарвин, по своим внушительным размерам чуть ли не вдвое превосходивший большинство своих пациентов и втрое – пациенток, неизменно вызывал к себе их доверие. Да и как мог человек с такой фигурой, сам почти ни разу не болевший, не выведать у пациента его подноготной? В семье доктора Дарвина звали не "слушающим", а "говорящим" врачом. Когда под вечер он приезжал домой, то, помывшись и переодевшись с дороги, он усаживался на стул с высокой спинкой и, предварительно убедившись, что все домашние и гости в сборе (а гостили здесь постоянно, чаще всего родственники), начинал свой двухчасовой монолог. Во время вызовов у него не было возможности обсуждать наболевшие вопросы, и ему прямо-таки позарез нужна была аудитория, чтобы наконец выговориться всласть о политике, о человеческой природе, о тонкостях ведения коммерческих дел, об очередной доморощенной философской теории. Впрочем, эти два часа не заполнялись бессвязными речами: восседая в своем элегантном желтом фаэтоне, доктор по пути домой тщательно продумывал план предстоящего выступления. Все, что он говорил, было исполненр глубокого смысла и имело отношение к раскрытию содержания того или иного из его тезисов. Домашние и гости со временем привыкли к этому тяжкому испытанию. Правда, любимая кузина Чарлза Эмма Веджвуд как-то заметила с кислой миной на лице: – Как это утомительно – два часа кряду слушать доктора, когд5 знаешь, что ужин давно на столе. Зачастую слушатели начинали ерзать на стульях, но перебивать оратора никто из них все же не решался. Дети, во всяком случае, осознавали, что их отцу просто необходима эта демонстрация своего искусства, чтобы иметь возможность как следует расслабиться, а затем, насладившись ужином, быстро заснуть. Весь день отец слушает своих пациентов, а вечером сам становится одним из них – этот каламбур помогал им переносить отцовские монологи. "Не столь уж дорогая цена, чтобы сделать отца счастливым, – рассуждал Чарлз. – В сущности, он, должно быть, очень одинок". Мать Чарлза умерла четырнадцать лет назад. Насколько было известно, доктор Дарвин ни разу за все это время не обратил внимания ни на одну женщину. Очевидно, он не собирался жениться вновь или просто позволить себе кем-либо увлечься. В этом отношении он был прямой противоположностью своего отца, доктора Эразма Дарвина, настоящего английского Гаргантюа. Спустя одиннадцать лет после смерти жены, матери доктора Роберта Дарвина, дед, у которого за это время было несколько романов, повел форменную осаду одной из самых обольстительных вдов в Дербшире – Элизаб.ег Поул. Несмотря на то что к ней сватались женихи куда моложе и симпатичнее, чем он, вдова предпочла все же доктора Эразма Дарвина. Элизабет родила ему семерых детей, и он жил с ней в мире и согласии ровно двадцать один год, до самой смерти. Случалось, Чарлз задумывался: а какой, интересно, была бы их жизнь в Маунте, появись в доме мачеха. Каролина конечно же с радостью свалила бы со своих плеч, груз домйшних забот, но лично ему такая перспектива не слишком улыбалась. И вовсе не потому, что в душе он хранил верность умершей матери. Он попросту не помнил ее – разве что какой-то смутный образ угасавшей женщины: черный бархат халата, необычного вида рабочий столик рядом с кроватью и одна или две короткие совместные прогулки. Бедность его воспоминаний казалась непостижимой, и это беспокоило его. Сын должен думать о матери, особенно такой красивой и благородной, как Сюзанна Веджвуд. Хотя она и долго болела, но ведь в далеком детстве они должны же были проводить вместе немало времени. Но и о той поре он ровным счетом ничего не помнил, кроме однажды произнесенных ею слов: – Если я прошу тебя сделать то или другое, помни: это для твоего же блага. Когда она скончалась, Чарлзу было восемь лет. Он вспоминал лишь, как его позвали в ее комнату и на пороге он столкнулся с рыдавшим отцом. Казалось, гигантская губка стерла все другие воспоминания, лишив его всякой памяти. Раздумывая сейчас над этим странным феноменом, он решил, что виноваты тут, по-видимому, сестры, которые никогда не говорили о матери и даже не упоминали ее имени, как, впрочем, и следовавший их примеру отец. Казалось, что женщины, бывшей ему женой двадцать один год и родившей ему шестерых детей, вообще никогда не существовало. Чувство утраты еще больше усиливалось оттого, что Чарлз необычайно отчетливо помнил похороны драгуна, увиденные однажды по дороге в школу мистера Кэйса, куда он стал ходить сразу же после смерти матери. До сих пор перед глазами его стояла лошадь с перекинутыми через седло башмаками ее хозяина, а в ушах раздавались ружейные залпы солдат над могилой товарища. Профессор Седжвик поднялся, дожидаясь, пока доктор Дарвин пройдет оранжереей, поздоровается с ним и опустится на свой стул, выставив перед собой ноги. Из вежливости и уважения к профессору из Кембриджа ежедневная беседа была сведена всего к одному часу. Седжвику доктор Дарвин показался человеком-горой, но отнюдь не толстым. Свои триста сорок фунтов он носил с поразительной легкостью. Дети нередко сожалели, что отцовский голос не отличается той же мягкостью и нежностью, что и походка. На его огромной голове с покатым лбом и скошенным затылком волос по бокам оставалось ровно столько, чтобы создать украшение для ушей. Когда-то поразительно тонкие брови отца были, по воспоминаниям Чарлза, иссиня-черными; теперь они превратились в еле видные изгибы над набухшими веками маленьких широко расставленных глаз; нос, казалось, занимал все лицо. Раньше у отца и подбородок был таким массивным, что нельзя было определить, где он переходит в щеки; теперь, отвиснув, он упирался в узел чистого белого шарфа. Лицо дышало мощью. Нет, он не запугивал своих детей, не давил, на них своими размерами. Просто, как заметила Кэтти: – Отец занимает в комнате столько места, что стены начинают как бы заваливаться и рушиться прямо на тебя. "Может, это и случилось с матерью после двадцати одного года замужества?" – думал Чарлз. По рассказам, Сюзанна Веджвуд была тоненькой, хрупкой женщиной. Никто так и не узнал, отчего она умерла. Уложила ли ее в постель постепенно подтачивавшая силы болезнь, или просто в пятьдесят два года его мать слегла, решив удалиться от мирской суеты? Сам Маунт своими размерами был под стать доктору Роберту Дарвину, что, впрочем, вполне соответствовало и его большим доходам, и вложенным в имение капиталам – своим собственным и жены. Его тесть, Джозайя Веджвуд-старший, возродил пришедший в упадок гончарный промысел, ранее поставлявший в основном примитивные чашки и молочные кувшины английским крестьянам, и превратил его в подлинное искусство, нашедшее признание во всем мире. Он оставил дочери Сюзанне двадцать пять тысяч фунтов стерлингов, не считая ценных бумаг. Всю жизнь Джозайя дружил с другим гигантом, Эразмом Дарвином, и был в восторге от того, что сын доктора Дарвина стал мужем его дочери. Роберт Дарвин проявил незаурядные способности коммерсанта, вложив деньги жены в надежные десятипроцентные облигации. Он вел наиподробнейший учет истраченного до последнего пенса. К тому времени, когда Сюзанна умерла, ее доля составила целое состояние. После рождения первого ребенка, Марианны, в начале 1800 года, они перебрались из одного пригорода Шрусбери, Кресента, в другой – Маунт, где девять лет спустя родился Чарлз. Занимаясь планировкой участка, доктор Роберт Дарвин стремился к тому, чтобы своими размерами он был под стать его собственной фигуре, напоминавшей шекспировского Фальстафа. И его габариты, и его имение сослужили ему хорошую службу: на пациентов подобное сочетание действовало прямо-таки целительно – немаловажное обстоятельство, ибо в ту пору врач мало что мог им предложить, кроме кровопускания и пилюль. В противоположном конце зимнего сада показался Эдвард, их давнишний слуга, в стареньком черном фраке с длинными фалдами, с пристегнутой белой накрахмаленной манишкой и стоячим воротником, в жилетке поверх широкого черного галстука, в черных бриджах и белых чулках. Объявив, что ужин подан, он при этом почти незаметно подмигнул Чарлзу как своему старому другу. Столовая высокими – до самого потолка – и широкими – каждое из двенадцати стекол – окнами выходила на дарвиновский лес, реку Северн и зеленые заливные луга. Чарлз любил эту просторную (тридцать футов на восемнадцать) комнату с тех самых пор, как его и Кэтти, закончивших период ученичества в детской напротив, начали допускать в общество взрослых за столом. В комнате всегда приятно пахло воском, которым полировали длинный коричневатого оттенка стол красного дерева с ножками в виде когтистых лап. Роберт Дарвин восседал во главе стола в кресле необъятных размеров, затянутом в полотняный чехол. По правую руку от доктора Дарвина Каролина усадила профессора Седжвика, рядом с ним Сюзан, а напротив – Кэтти. Сама она и Чарлз устроились на двух ближайших свободных стульях в стиле чеппендейл со спинками, сделанными в виде лестнипы. Был один из тех редких случаев, когда в доме, кроме профессора, больше гостей не было. – Сегодня за столом свободно, – пробормотал Чарлз. – Зато о комнате этого не скажешь, – заметила в ответ Каролина. – Я считаю, что у нас слишком много мебели. Помнишь, что говорил доктор Джонсон: "Природа не терпит пустоты". Отец придерживается того же мнения. Вдоль стен выстроились продолговатые буфеты из красного дерева с зеркальными задними стенками. Повсюду наготове стояли графины с красным и белым вином. На открытых полках валлийской работы были выставлены образцы веджвудовского фарфора, в шкафах виднелись серебряные супницы и подносы. На покрытом белой льняной скатертью столе на специальных подставках веерами были разложены салфетки. Из окон спальни Чарлза, выходивших на юг, виден был один только газон перед домом (дорогу на Северный Уэльс скрывал крутой склон), поэтому место в столовой, в северной части дома, ему отвели с таким расчетом, чтобы со своего стула он мог любоваться извилистой речкой Северн, зелеными лугами с коровами херфордширской породы, которые отдыхали в тени деревьев после целого дня, проведенного на пастбище. За ужином Адам Седжвик не прочь был поговорить: – Однажды, когда я вел изыскания в одной сельской местности, меня пригласил к себе домой крестьянин, который помогал мне в работе. На камине у него я заметил несколько образцов породы. – Зачем они вам? – спрашиваю я у него. – Вы же наверняка знаете, что они не представляют ровно никакой ценности. – Конечно, – отвечает он на мой вопрос. – Как не знать. А держу я их на видном месте для того, чтобы ясно было, чем собирается нагрузить свою бедную лошадь кембриджский профессор. – В том, что я избрал именно медицинскую профессию, виноват мой отец, – заметил доктор Роберт Дарвин. – А кто надоумил заняться геологией вас? – Я сам. Вообще-то я хотел пойти по юридической части, но на руках у меня в ту пору были отец и два младших брата, которых я должен был содержать, и я добился места преподавателя математики в Тринити-колледже. Математик из меня был никудышный, а вот лентяй – отменный, как и мои студенты, из которых никто не хотел заниматься. В конце концов здоровье мое пошатнулось. Я понял, что попросту не создан для сидячей работы, и стал искать себе другую, которая позволяла бы по нескольку месяцев в году проводить на свежем воздухе. Так я стал кандидатом в преподаватели геологии. И эта наука отплатила мне сторицей. Глаза Седжвика сверкали. – Вы представляете себе, каково это – найти полностью сохранившуюся в известковых сланцах ископаемую рыбу палеотриссум микррцефалум?! Или натолкнуться на расположенные друг над другом отложения красной известковой глины и гипса, красного песчаника, тонкий слой известняка, а снизу опять на красную известковую глину, гипс, желтый магниевый известняк… Как очутился на этом месте каждый из слоев? Каков их возраст? Какие химические комбинации применил господь бог, создавая все эти различные породы? Одним словом, человек, посвятивший себя геологии, пребывает все время в состоянии неизменного восхищения и изумления. Я называю себя рыцарем… молотка! Краешком глаза Чарлз видел, что Нэнси, его старая няня, жившая в семье со дня рождения старших детей, наблюдает из просторной буфетной за тем, как две служанки в белых чепцах и накрахмаленных передниках выносили от Энни из кухни сперва широкие тарелки с грибным супом на сметане, потом ароматный гусиный пирог, за которым последовали деревянные блюда, где отдельно были разложены овощи и три вида картошки – печеная, вареная и жареная. Кроме этого подавались пикули, вареные фрукты и острые закуски. Все это не задерживалось на столе: церемониться за едой у Дарвинов было не принято. – Дарвин, – обернулся профессор к сидевшему рядом Чарлзу, расскажите-ка нам, что интересного по геологической части сумели вы найти у себя в Шрусбери? Чарлз указал на раковину, лежавшую на буфете. – Я работал неподалеку отсюда в карьере, где добывают гравий. Эту раковину моллюска тропических морей принес мне местный землекоп. По его словам, он нашел ее тут же в карьере, а не где-нибудь еще. Сперва я предложил ему продать ее, но он наотрез отказался. Это окончательно убедило меня в том, что он говорит сущую правду. Так вот, уважаемый профессор, не можете ли вы мне сказать, что делает этот спиралевидный посланец из тропиков в нашем карьере? – Скорей всего, кто-то просто обронил его там, и только, – отвечал Седжвик небрежно. Чарлз был поражен. – Профессор, меня изумляет, что вас не приводит в восторг столь замечательный факт, как находка раковины тропических морей в центре Англии, да к тому же почти на поверхности земли? На темной коже профессорского лба резче обозначились все морщины. – Если бы эта раковина действительно находилась в здешнем карьере с самого начала, то для геологии как науки этот факт был бы величайшим… несчастьем. Да, несчастьем, ибо он начисто опроверг бы все наши знания относительно поверхностных отложений в графствах Средней Англии. Наука, мой дорогой Дарвин, состоит прежде всего из суммирования фактов. Только при этом условии оказывается возможным сформулировать те или иные выводы или, иначе говоря, законы. Чарлз весьма редко осмеливался возражать старшим, но на этот раз он был несколько задет тем, что его осадили на глазах у всей семьи. – Уверен, что вы правы, профессор. Но у меня перед глазами так и стоят полки над очагом, которые я видел у нас в округе. Во многих домах украшением для них служат точно такие же раковины. Нельзя же в самом деле предположить, что кто-то каждый раз ронял их у порога этих домов. Даже в том, почти невероятном, случае, если допустить, что раковины эти доставлены в наши края каким-то судном, плававшим в тропических морях, держу пари, что здешние крестьяне не раскошелились бы и на полпенса, чтобы их купить. Седжвик вымученно улыбнулся. – Не переживайте. Все, кто учится, совершают ошибки. Примером могу служить я сам. Знаете ли вы, что меня всю жизнь изводили насмешками из-за моего убеждения, ЧУО те перемены, которые мы наблюдаем на земной поверхности, способно было произвести всего одно большое наводнение, или Всемирный потоп? В 1825 году я даже опубликовал статью, в которой изо всех сил стремился доказать абсолютнейшую реальность подобной катастрофы в сравнительно недавнем прошлом естественной истории Земли… В ответ на замечание профессора отец Чарлза и сестры утвердительно закивали головами. Они не находили в таком взгляде на мир ничего предосудительного. Разве в Библии, в шестой главе книги Бытие, не говорилось буквально: "И увидел господь… что велико развращение человеков на земле… И сказал господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их". Один только Чарлз никак не выражал своего согласия. От профессора Генсло ему стало известно о поистине революционном выступлении, совсем недавно предпринятом Адамом Седжвиком перед своими коллегами. – В феврале этого года, – продолжал Седжвик, – когда я ушел с поста президента Геологического общества, то признал свое прошлое заблуждение. Дело в том, что мои суждения основывались не на обнаруженных мною самим свидетельствах ископаемой органической жизни, а на совершенно некритической вере в незыблемость библейских догматов. Сейчас я пришел к признанию того, что произошел вовсе не один какой-то потоп, а целая серия катастроф, изменивших земную поверхность. Все это в конечном счете и определило нынешнее расположение пород, так же как и их химический состав. Сюзан, чей живой ум отличался куда большей остротой, чем она обычно демонстрировала своим поклонникам, тут же спросила: – Да, но скажите-ка нам, какая сила вызвала к жизни все эти катастрофы? Публично признав перед всем миром свое многолетнее заблуждение, Седжвик, видимо, полагал, что заслужил теперь право надеть на себя власяницу смирения. – Сожалею, мисс Сюзан, но я просто не знаю этого. Тем временем на десерт подали приготовленное Энни печенье – "минутку" из взбитых сливок, яиц, розовой воды и сахарной пудры. Испеченные в духовке маленькие тонкие кружочки прямо-таки таяли во рту, и Адам Седжвик даже не заметил, как съел их целую дюжину. – Дарвин, на ближайшие три недели это будет для нас единственная вкусная еда. На следующее утро мужчины поднялись с первым лучом солнца. Отец Чарлза совершал свой часовой моцион по крутому лесистому склону холма – этот маршрут был известен в Шрусбери как "докторская тропа", тянувшаяся до самого Северна и еще на две мили вдоль его берегов. Нагруженная двуколка уже ждала профессора и Чарлза, готовая отправиться в путь. После возвращения доктора все трое плотно позавтракали: ведь до вечера никому из них не придется даже перекусить. Попрощавшись с сыном, отец добавил: – Береги себя, Чарлз, заклинаю тебя. Ты сам говорил мне, какая у Седжвика репутация: с утра до ночи он взбирается на вершины, как горный козел. Не вздумай себя изматывать, чтобы не надорваться. Чарлз не знал, что ему делать, удивляться или умиляться, настолько неожиданным было это проявление родительской заботы в устах отца. С детства он привык уходить один на целый день и бродить, где ему вздумается. Вслух он произнес: – Не беспокойся, отец. Я лазаю по горам и собираю свои коллекции так же легко, как дышу. …Возвращаясь домой, он уже в сумерках обогнул Шрусбери с юга, все еще разгоряченный после двадцатипятимильного перехода по плодородной зеленой равнине, и вошел в городок через восточные ворота, пройдя мимо школы, где он когда-то без особого рвения учился и жил. Величественное здание из серого камня было по-своему приятным: наверху красовалась высокая башенка с часами, а рядом, почти вровень с ней, возвышалась узкая часовня с витражами – такая красивая, когда светило солнце, и такая холодная, сырая и унылая в зимнюю пору. Ежедневные утренние и вечерние молитвы там не были ему в тягость: за это время он успевал выполнять домашние задания, по понедельникам заучивая Цицерона и Вергилия, по вторникам – Пиндара и Феокрита, по средам – Тацита и Демосфена. Остановившись на минутку перед высокими двойными дверями, невольно внушавшими уважение, Чарлз снял рюкзак, опустил его на газон и предался воспоминаниям о давно прошедшей поре детства, которые неожиданно нахлынули на него, подобно дождю в горах Уэльса. Он снова увидел перед собой неумолимое расписание занятий на неделю, прибивавшееся гвоздями на доске в главном вестибюле: четверг – богослужение. Повторять Горация. Принести стихи по латыни. Гомер. Урок алгебры; пятница – богослужение. Повторять Гомера, Ювенала или Горация, Сатиры и Послания. Тацит. Плавт; суббота богослужение. Повторять Ювенала или Горация. Урок евклидовой геометрии… Вспоминая о семи проведенных здесь годах, Чарлз вздохнул: как мало способствовали они развитию его интеллекта. Ничего, кроме жалких крох из древней географии и истории. Рассматривая сейчас декоративную каменную решетку на крыше, он мучительно пытался постигнуть, какая существует связь между зазубриванием пятидесяти строк из Гомера или Вергилия во время утренней службы, с тем чтобы через час-другой исторгнуть их из себя одному из учителей, и образованием или даже просто воспитанием хороших манер и кругозора истинного джентльмена. Но это еще не все. Хотя за пребывание в школе брали недешево, кормили тут ниже всякой критики: иногда пища бывала несъедобной; умываться приходилось лишь холодной водой из таза; спали Чарлз и Эразм в дортуаре, где на тридцать воспитанников приходилось всего одно окно. Всякий раз, когда ученики пытались бунтовать против этих варварских условий, их попытки безжалостно подав-лялиеь директором школы доктором Самюэлем Батлером. Как-то в декабре, когда Чарлз только начал выздоравливать после тяжелой скарлатины, Эразм вызвал настоящую революцию, пожаловавшись отцу: "Кровать Чарлза сырая, как навоз. Чтобы согреться, ему необходимо второе одеяло". Доктор Дарвин написал доктору Батлеру, прося выдать его сыну второе одеяло, поскольку тот еще не поправился. Доктор Батлер отрицал, что у Чарлза сырая постель, утверждая, что все постельное белье прогревается над кухонной плитой, а жалобы поступают от мальчиков после того, как они возвращаются из дому, где их "балуют", и вообще он не может выделять одного ученика из всех остальных. Так что если доктор Дарвин, будучи уважаемым в округе врачом, все-таки убежден в необходимости второго одеяла для Чарлза, то он, доктор Батлер, вынужден будет пойти на дополнительные расходы, с тем чтобы вторым одеялом был обеспечен каждый из воспитанников. Снова надев рюкзак, Чарлз по главному коридору, разделявшему школу на две половины, вышел к дортуарам, рядом с которыми располагался директорский дом. Оттуда по нескольким каменным ступенькам он спустился на спортивную площадку и, пробежав ее наискосок, вышел лугом к Северну неподалеку от Уэльского моста. Если после уроков оставалось время, он частенько бегал этим маршрутом домой. Путь в один конец составлял всего милю, и, поскольку бегун он был отменный, ему требовалось не больше десяти минут. Стоило немного подняться по холму – и вот он уже в дальнем конце дарвиновского сада, где длинными рядами тянутся розы и азалии. Никогда не любил он надолго расставаться с Маунтом: для этого он был чересчур домашним и слишком привязан к своим родным. Побыть с сестрами и отцом он мог только сорок минут, но как дороги для него были их внимание и любовь!.. Он умудрялся еще поиграть со своими собаками, Ниной и Пинчером, которых обожал, и скормить лошадям несколько кусков сахара с ладони, прежде чем умчаться обратно – садом вниз по холму, по мосту, вдоль берега реки, через луг и спортплощадку, вверх по крутым ступенькам, перепрыгивая через одну. – И как это ты не попадаешься? – спрашивала Чарлза младшая сестра Кэтти, похожая на него как две капли воды. – Когда я добегаю до реки и боюсь, что уже поздно, то молю бога, чтоб он мне помог. – Похоже, что бог не на стороне доктора Батлера, а на твоей. – Должно быть. Был поздний вечер, когда Чарлз вошел в парадную дверь Маунта. Сестры читали, собравшись все вместе в библиотеке. Вскочив, они по очереди расцеловали его в обе щеки. Каролина вызвалась наскоро приготовить ужин. – Тебя ожидает какое-то объемистое письмо из Лондона. Оно прибыло в субботу, два дня назад. Сейчас я его принесу, – сказала Сюзан. Тем временем вернулась Каролина с разогретой на пару жареной рыбой, вареным яйцом, хлебом с маслом и чаем. Чарлз, прямо-таки умиравший от жажды, первым делом набросился на чай. Но едва он приступил к еде, как появилась Сюзан с письмом. Почерк на конверте был ему не знаком. Орудуя пальцем, как ножом для разрезания бумаги, Чарлз вскрыл конверт. Внутри находились два письма: одно – от профессора Генсло из Кембриджа, другое – от Джорджа Пикока, члена ученого совета в Тринити-колледже и кандидата на звание профессора астрономии в Лаунде. В свое время Чарлз познакомился с ним на одной из пятниц у Генсло. Он начал с письма Генсло. Руки его задрожали. "Кембридж, 24 августа 1831 года. Мой дорогой Дарвин! Я полагаю, что скоро увижу Вас, так как убежден: Вы с радостью ухватитесь за предложение, которое скорей всего будет Вам сделано. Речь идет о том, чтобы отправиться на Огненную Землю и вернуться обратно через Вест-Индию. Пикок, который пошлет Вам это письмо из Лондона, обратился ко мне с просьбой порекомендовать ему кого-либо из знакомых натуралистов, который бы мог отправиться в плавание в качестве сопровождающего капитана Фицроя, посылаемого правительством с целью изучения юж. оконечности Америки. Я ответил, что считаю Вас наиболее подходящим человеком из всех, кто мог бы взяться за это дело. Я имею в виду не то, что Вы законченный естественник, а Вашу необыкновенную способность собирать коллекции, проводить наблюдения и отмечать все новое в естественной истории. Пикок берется устроить Ваше назначение… Капитан Ф. (как я понимаю) хочет, чтобы это был не столько натуралист, сколько компаньон: он дал понять, что не возьмет никого, кто не был бы рекомендован ему также как истинный джентльмен. Путешествие продлится два года, и если Вы возьмете с собой достаточно книг, то сможете изучить все, что душе угодно. Одним словом, я думаю, что лучшего шанса для человека, как Вы, исполненного духа отваги, просто невозможно себе представить. Не сомневайтесь, из-за природной скромности, в своих возможностях и не опасайтесь, что Ваша квалификация может оказаться недостаточной. Уверяю Вас, что Вы, по-моему, тот самый человек, который им нужен. Представьте себе, что Вашего плеча коснулся сам судебный пристав и преданный друг Дж. С. Генсло. P. S. Отплытие эксп. намечено на 25 сентября (самое раннее), так что времени терять нельзя". Когда Чарлз кончил читать письмо, он был бледен, глаза его затуманились. Сюзан сжала в ладонях длинное худое лицо брата. – Чарлз, что там такое? Я еще ни разу не видела тебя таким взволнованным! Голос его звучал, как из пустой бочки: – ..Предложение… невозможно… как гром среди ясного неба… На, читай, сама увидишь. Это от Генсло. Держи. Я буду сейчас читать другое, от Пикока. И он приступил ко второму письму. "Мой дорогой сэр! Вчера вечером я получил это письмо от профессора Генсло. Было, однако, чересчур поздно, чтобы тут же переправить его Вам почтой. Впрочем, не могу сказать, что сколько-нибудь жалею о подобной задержке, так как именно она-то и дала мне возможность повидаться с капитаном Бофортом из Адмиралтейства и изложить ему лично то самое предложение, которое я намерен теперь сделать Вам. Он полностью согласился с моим выбором, так что, считайте, отныне все зависит целиком от Вашего собственного решения. Я верю, что Вы примете мое предложение как возможность, которой нельзя ни при каких обстоятельствах пренебречь, и с огромным нетерпением буду ждать Вашей коллекции по естественной истории, привезенной из дальнего плавания. Капитан Фицрой, племянник герцога Крафтона, рассчитывает отплыть в конце сентября. Его задача прежде всего исследовать южное побережье Огненной Земли, затем посетить острова южных морей и возвратиться в Англию через Индийский архипелаг. Экспедиция ставит перед собой исключительно научные цели, так что ваше судно будет делать остановки достаточно длительные для того, чтобы Вы могли проводить Вашу работу по сбору естественнонаучной коллекции самым наилучшим образом. Сам капитан Фицрой – это образец офицера, усердно пекущегося об общем благе. У этого человека безупречные манеры, и остальные офицеры прямо-таки обожают его. За свои собственные деньги (а это 200 фунтов стерлингов в год) он берет с собой в плавание художника. Тем самым Вы можете рассчитывать на приятного компаньона, который наверняка будет всей душой стремиться войти в Ваше положение. Поскольку корабль отплывает в конце сентября, Вам, понятно, не следует тянуть с уведомлением о принятом Вами решении, которое надлежит направить капитану Бофорту и лордам Адмиралтейства. Адмиралтейство не склонно платить Вам жалованье, хотя Ваше назначение и является вполне официальным. Но Вам за их счет будет предоставлено все необходимое для плавания. Если же, однако, жалованье вам необходимо, я склонен думать, что его Вам определят. Искренне Ваш, мой дорогой сэр, Дж. Пикок". Это было похоже на удар молнии. Без всякого предупреждения ему подумать только! – предлагают совершить кругосветное путешествие… и в качестве не кого-нибудь, а натуралиста! Невероятно! Вместо того чтобы несколько лет сидеть сложа руки и ожидать места в приходе, он сможет повидать своими глазами Южную Америку, Анды, которые столь захватывающе описал Гумбольдт, Тьерра-дель-Фуэго, этот подлинный край света, Индийский океан… От изумления и восторга у него кружилась голова. Тем временем сестры прочли оба письма. Широко открытыми глазами смотрели они на брата, и на их лицах сменялась целая гамма чувств – от удивления до ужаса. Чарлз взволнованно ходил взад-вперед по зимнему саду, по обыкновению выражая в движении свои эмоции. Каролина, на правах хозяйки дома, озабоченно изрекла: – Ты не можешь принять этого предложения. Все-таки два года. Тьерра-дель-Фуэго! Плавать по опасным водам! – Ну и что? – прервал ее Чарлз. Его лицо выражало скорее удивление, чем досаду. – Такое везение выпадает только раз в жизни. Когда еще я получу возможность совершить кругосветное путешествие? Кэтти спросила: – Но, Чарлз, разве у тебя достаточно знаний, чтобы справиться со столь ответственным поручением? Что ты до сих пор собирал? Каких-то там жуков? – Генсло говорит, что достаточно. И Пикок с ним согласен. – Лицо Чарлза просветлело, и он со смехом заключил: – Пусть я и "незаконченный", но все же натуралист. Устроившись поглубже в плетеном кресле, он вытянул длинные ноги. Когда он опять заговорил, голос его был совершенно спокоен. – Давайте сперва договоримся: а что, собственно, понимать под словом "натуралист". Конечно, точно этого никто не знает. Скажем так: натуралист это человек, наблюдающий, изучающий, коллекционирующий, описывающий и систематизирующий все живое – будь то растения или животные. – Выходит, геолог, как твой профессор Седжвик, не натуралист? Ведь горные хребты – мертвые, не так ли? – ..Да… они не то же самое, что деревья, рыбы, пресмыкающиеся или жуки. Но, с другой стороны, горные хребты меняются под влиянием естественных сил, например ветра, дождя, наводнения, извержения вулкана… В общем, я смогу лучше ответить на этот вопрос, когда вернусь из плавания. Он встал, глаза его блестели, голос дрожал. – Да я уже в девять лет, как только стал ходить в школу преподобного мистера Кэйса, ничего на свете так не любил, как естествознание. Помните, я сам придумывал имена для растений и собирал все, что попадалось под руку: ракушки, монеты, минералы… – ..И еще каких-то скользких гадов, которых ты почему-то принес ко мне в комнату, – добавила Кэтти с язвительным смешком. – Страсть к собирательству была сильнее меня. Наверняка она врожденная: ни у одной из вас, ни у Раса нет ничего подобного. – Мы просто думали, что одного ненормального на семью больше чем достаточно, – парировала Сюзан. – Безусловно! А два года в Эдинбурге? Признаю, в хирургии я там явно не преуспел и в теории тоже. Лучшие мои часы – те, что я провел вне стен университета. Впрочем, профессоров мало интересовало, чем я занимаюсь после лекций. Я познакомился со множеством людей – и молодых, и старых. Нас всех объединяли общие интересы. Музей естественной истории находился в западном секторе, всего в нескольких минутах ходьбы… Ах, что это был за музей! Основал его профессор Роберт Джеймсон. А какую коллекцию птиц он собрал, какую научную работу там проводили! Нервы его были напряжены до предела и, протискиваясь во время хождения между белыми плетеными стульями, он движением пытался как-то унять неразбериху обуревавших его чувств. Музей естественной истории в Эдинбурге! Во главе его стояли два молодых, но уже опытных натуралиста – в свои тридцать три доктор Роберт Эдмунд Грант считался непререкаемым авторитетом в сравнительной анатомии и зоологии; Вильям Макджилливрей был моложе на два года. – Этот музей и был моим университетом, – с жаром продолжал Чарлз. – А его руководители уверовали и в мой неподдельный восторг, и в мою способность изучать то, что мне действительно нравится. Оба сделались моими друзьями и учителями. Они позволяли мне вместе с ними заниматься составлением каталога и анатомированием, и это стало моей школой. Доктор Грант часто брал меня с собой собирать живые организмы, которые оставались на берегу после прилива. Однажды на черных скалах Лейта мы нашли рыбу-пинегора. – Как она очутилась на берегу? – спросил я его. – Должно быть, на скалы она приплыла, чтобы метать икру, и осталась там, когда схлынула приливная волна. – Наверно, это все-таки необычно? – сказал я. – Если пинегор всякий раз при выведении потомства встречает такие трудности, как же он не вымер? Грант посмотрел на меня с явным одобрением. – Давайте-ка вскроем рыбу и посмотрим. Но сначала занесите все ее размеры в нашу тетрадь. Чарлз также записал тогда, что у пинегора чрезвычайно маленькие глаза. Грант вскрыл рыбу ножом, и они обнаружили, что в ее яичнике находилось большое скопление икринок розового цвета. Чарлз записал, что "икра выглядит нормальной и в ней не заметно глистов". С Макджилливреем они совершали длительные прогулки и частенько заглядывали на рыбачьи шхуны в Ньюхей-вене. Иногда рыбаки даже разрешали Чарлзу вместе с ними выходить на ловлю устриц. Чего только не попадалось в сеть! И все это он собирал и отмечал в своей записной книжке. Почти ежедневно находил он что-нибудь ненужное рыбакам: маленького зеленого эолида, моллюска с продолговатым скользким тельцем; Purpuralapillus, вид морской улитки, – Дарвин зарисовывал их, чтобы показать, как они выглядят, когда их извлекают из раковины. Его приглашали на заседания Вернеровского естественнонаучного общества, где ему довелось слышать доклады Джона Джеймса Одюбона о своих открытиях в мире птиц. Он познакомился со студентами и преподавателями из Плиниевского общества, которые собирались вечером по вторникам и заслушивали сообщения о новых открытиях в сфере естественных наук. Он сам дважды выступал перед аудиторией в двадцать пять человек: первый раз с изложением своего открытия способности к независимым движениям у яичек или личинок мшанки Flustra, морского беспозвоночного, с виду напоминавшего мох; а второй – чтобы доказать, что маленькие шарообразные тела, которые, как тогда полагали, являются ранней стадией Fucus loreus, коричневой морской водоросли, на самом деле были оболочками яиц червеобразной пиявки Pontobdella muri-cata. Естествоиспытатели были о нем столь высокого мнения, что его даже избрали членом правления. На второй год, когда Эразм перебрался в Кембридж, Чарлз по-прежнему оставался жить в их комнатах на Лотиан-стрит, меньше чем в двухстах метрах от университета, и завел себе новых друзей среди ботаников и биологов. Он учился набивать чучела, беря платные уроки, и в то же время занимался копированием сотен видов птиц из "Орнитологии" Брис-сона. – Потом Кембридж, профессор Генсло и, по крайней мере, сотня вылазок в окрестные болота, где мы с упоением собирали наши коллекции. – Голос его звучал так серьезно, что казался суровым. – Боюсь, что так и не смог убедить вас, а ведь мне предстоит убедить отца… В этот момент хлопнула входная дверь. Каролина вскочила с места: – Пойду посмотрю, какое у отца настроение. Если он устал – а это с ним теперь случается довольно часто, – лучше отложить и письма и твое красноречие до утра. Когда он вернется с прогулки, то будет больше расположен выслушать то, что, признайся, должно его поразить, мой дорогой Чарлз. Доктор Дарвин отправился спать сразу же после десерта. Чарлз сидел у себя в комнате, пытаясь заняться чтением. Но строчки расплывались у него перед глазами. Он пошел на конюшню, позвал собак и отправился на прогулку по темной и пустынной в этот час Северо-Уэльской дороге. Только после часа ходьбы он почувствовал усталость: еще бы, ведь за день он проделал немалый путь. Домой он вернулся без сил. Но заснуть все равно не мог. Он ворочался с боку на бок до тех пор, пока легкое летнее одеяло не перекрутилось жгутом, и, встав, ополоснул лицо холодной водой. Перед его покрасневшими от бессонницы глазами проходила череда тропических и экзотических земель: некоторые из них он увидел на картинках детской книги "Чудеса света", о других узнал из книг о путешествиях, которые он прочитал, – Гумбольдта, капитана Кука, адмирала Бичи ("Описание путешествия по Тихому океану и Берингову проливу") и Уильяма Дж. Бэрчел-ла ("Путешествие по внутренним районам Южной Америки"). Открывшаяся перед ним возможность ошеломила его. Правда, натуралисты и раньше участвовали в морских экспедициях, хотя коллекциями занимались чаще всего судовые хирурги. Но чтобы столь престижное место на целых два года плавания предложили ему, никому неизвестному молодому человеку, выпускнику университета, казалось невероятным. И только когда уже должен был вот-вот забрезжить рассвет, вконец измотанному Чарлзу представился весь ужас двухлетней разлуки с домом, семьей, друзьями, прелестной Фэнни Оуэн, со всем, что он так любил. Прощайте удобства, налаженный быт, развлечения! Одевшись, он отправился вместе с отцом на прогулку по "докторской тропе" – через лес за домом, вдоль реки до самого конца имения и обратно. Они шли быстрым шагом. К их приходу завтрак уже был на столе. Чарлз терпеливо выжидал подходящего момента, ел мало, между тем как отец расправлялся с подогретой на пару треской, четырьмя крутыми яйцами, разрезая их ножом, телячьими почками, беконом на треугольных ломтиках тостов и кофе с горячим молоком, который наливал ему в огромную чашку Эдвард, одетый в утренний ливрейный фрак. И только когда Дарвин-старший сделал паузу за второй чашкой кофе, сын решил, что долгожданный момент наступил. – Отец, – начал он, – я получил одно необычное предложение. – Да? Какое именно? – Отправиться на два года вокруг света судовым натуралистом. – Натуралистом? Когда это ты успел им заделаться? Деликатного Чарлза бросило в краску. – Не формально, конечно. Но некоторый опыт у меня есть и способность учиться тоже. – А от кого исходит это предложение? – От нашего королевского военно-морского флота. Пораженный, доктор Роберт Дарвин уставился на сына. – Что? Тебе предложили офицерский чин?! – ..Нет, плавать я буду в качестве гражданского лица, но моя работа это часть топографических изысканий флота. Доктор Дарвин выпучил глаза от удивления. – Давай начнем сначала, Чарлз. Когда ты получил это диковинное предложение? – Вчера вечером. Когда вернулся из Северного Уэльса. – Почему же ты вчера ничего мне не сказал? – Ты был огорчен из-за смерти своего больного… Хотя он и умер от старости. Он вынул из кармана пиджака оба письма и протянул их отцу наискосок через стол. – Сперва лучше прочесть письмо профессора Генсло. А второе – от Джорджа Пикока из Тринити-колледжа. Он друг капитана Бофорта из Гидрографического управления Адмиралтейства. Доктор Дарвин читал письма нескончаемо долго. Чарлз пал духом, не увидев на лице отца ничего даже отдаленно напоминавшего удовлетворение, несмотря на похвалы в адрес его младшего сына. Когда он закончил письмо Генсло, на лбу у него только глубже обозначились морщины. Молча, не поднимая глаз, он начал читать листки письма Джорджа Пикока. Чарлз заметил, как бело-розовое лицо отца вспыхнуло и покраснело. Кончив чтение, он швырнул письма обратно. – Дурацкая затея! – заявил он без обиняков. – Дурацкая?! Это же официальная экспедиция королевского флота. – Все это не может впоследствии не повредить твоей репутации священника. – Повред… – Голос Чарлза осекся. Он встал, в возбуждении отошел к стрельчатому окну, потом вернулся обратно к столу. – А как же профессор Генсло? Неужели ты думаешь, он рекомендовал бы мне участие в экспедиции, если бы полагал, что это может бросить тень на мою репутацию из-за того, что я попаду в компанию недостойных людей?! – Да, но спешка! Не кажется ли тебе, – возразил отец, – что она вызвана тем, что твое место уже предлагалось другим и эти другие отказались? Вероятно, у них были для отказа веские соображения, вызывавшиеся самим судном или составом экспедиции. – Я не могу тебе на это ровным счетом ничего ответить. Я просто не знаю, но твое замечание вовсе не кажется мне таким уж логичным. – Ну а удобства? Никаких – и два года плавания! Об этом ты подумал? Чарлз протестующе махнул рукой. Доктор Дарвин взглянул сыну в глаза. – Принятие данного предложения означало бы с твоей стороны, что ты вновь намерен менять будущую профессию. После экспедиции ты уже не сможешь заняться ничем серьезным. Чарлз начал усиленно тереть глаза, как будто это могло помочь ему узреть истину. – Нет, я намерен стать священником, других планов у меня нет. Но ты же сам говорил, что раньше чем через два года прихода мне не получить. Разве не ты разрешил мне будущим летом отправиться на Тенерифе? С твоего благословения я и получал рекомендацию к владельцу торгового судна в Лондоне и договаривался об отплытии на июнь. Кровь разом отхлынула от лица Дарвина-старшего. Оно сделалось совсем белым, глаза ввалились. Сгорбившись сидел он в своем большом кресле. – И все-таки я говорю: для тебя эта затея не имеет никакого смысла. Чувствуя, что от горя он словно стал вдвое меньше ростом, Чарлз глухо произнес: – Отец, если ты против, я не поеду. Ехать без твоего согласия я не могу: мне недостанет сил, которые необходимы для такого плавания. – Я не отказываю тебе окончательно. Я лишь советую тебе не спешить. – Но если я не последую твоему совету, то не буду знать покоя. Ты был всегда так добр ко мне, таквеликодушен, что я не стану идти против твоих желаний. Доктор Дарвин тяжело поднялся. Спор явно утомил его. – Пойми меня, Чарлз, – проговорил он. – Я не намерен становиться поперек твоего пути. Если ты найдешь хоть одного здравомыслящего человека, который посоветовал бы тебе ехать, я соглашусь. Глубоко разочарованный, Чарлз произнес срывающимся голосом: – Я напишу профессору Генсло и Джорджу Пикоку сегодня же утром и откажусь. Он поднялся к себе в спальню и, стоя за конторкой, принялся за письмо Генсло, в котором перечислял все возражения отца: "Что касается меня, то я конечно же с радостью ухватился за эту возможность, которую Вы столь милостиво мне предложили. Но отец хотя категорически и не возражает, настроен все-таки против поездки, так что ослушаться его я не осмеливаюсь. Если бы не это, я не посмотрел бы ни на что". Положив перед собой поперек седла хорошо смазанные и прочищенные охотничьи ружья, Чарлз тронул с места Доббина, своего любимого жеребца серой масти. Он ехал в Мэр-Холл через Английский мост, мимо Форгейтского аббатства и оживленного в это время года рынка, где продавали скот. Дорога была обсажена вишнями и вязами, изредка по сторонам ее виднелись фермы. То была плодородная нива страны, простиравшаяся до Ньюкасла. Здесь на лугах, разгороженных деревянными изгородями, мирно паслись коровы фризской породы. Округлые холмы на горизонте поросли сосной и золотистым дроком. Двадцать миль до Веджвудов, которые ему предстояло преодолеть, Чарлз знал досконально: он начал ездить по этой дороге еще на руках кормилицы. Брат матери, Джо-зайя Веджвуд (Чарлз звал его просто "дядя Джоз"), до последних ее дней оставался самым близким для Сюзанны человеком. Да и с доктором Робертом Дарвином их связывали узы давней дружбы. Мэр-Холл всегда был для Чарлза вторым и любимым домом. Дядя Джоз, сын Джозайи Веджвуда-старшего, после смерти своего отца вел все дела на веджвудовском фаянсовом заводе. Высокий, худощавый, красивый и элегантный, он был на редкость молчалив. Семья благоговела перед ним. Но только не Чарлз. Собственные дети Джозайи, многочисленные племянники и племянницы неизменно поражались, когда видели его непринужденно болтающим со своим племянником из Маунта, словно между ними не существовало сорокалетней разницы в возрасте. Более того, беседы эти явно доставляли им обоим удовольствие. Именно о дяде Джозе думал теперь Чарлз как о своем последнем, хотя и весьма маловероятном шансе найти того самого "здравомыслящего человека", который посоветовал бы ему ехать. Но зачем, спрашивается, надо Джозайе идти на открытое столкновение с доктором Дарвином? Еще их отцы были неразлучны друг с другом, а их собственные дружеские связи в свое время привели к встрече Роберта с Сюзанной Веджвуд. Да и с какой стати возьмет Джозайя на себя ответственность за Чарлза, которого в случае его поддержки ожидало бы столь длительное и полное опасностей путешествие? Вдруг судно пойдет ко дну или разобьется о прибрежные скалы? "Нет, – думал Чарлз, в то время как Доббин легко нес его через тополиную рощу, потом мимо стада коров, мимо нескольких крестьян, копавших на поле позднюю картошку. – Ожидать такого не приходится ни от кого". Хотя местность, по которой он ехал, дышала спокойствием и бесконечные оттенки зеленого цвета, делавшегося все более глубоким по мере перехода от лугов к лесу, радовали глаз, на душе у Чарлза было тревожно: страх на несколько лет покинуть давно известное и привычное наталкивался на страх потерять открывавшуюся перед ним сказочную возможность; страх погубить свое будущее мешался со страхом лишиться какого бы то ни было будущего вообще. Но все это отступало перед опасением, что Джозайя может встретить его просьбу обычным своим молчанием. Спешившись у таверны "Сквирелл", Чарлз дал Доббину напиться, а сам затушил пожар тревоги кружкой холодного эля. "Дядя Джоз – человек прямой, судит обо всем здраво, – успокоил он себя. – Никакая сила в мире не заставит его хоть на йоту отступить от того курса, который он считает верным. Что ж, я приму любое его решение без сожаления или мучительного чувства навсегда утерянной возможности". Прямая дорога, ведущая на Дрейтоиский рынок вдоль похожей на канал реки со множеством прогулочных лодок, привела его в Стаффордшир. По мере того как он поднимался в гору, лес делался все гуще. Спустившись затем в уютную долину, где слева от него расстилались свеже-вспаханные поля, Чарлз очутился в Мэр-Холле с его тщательно подстриженными газонами и высокими кустами рододендрона, усыпанного сдвоенными розовыми цветками. Аллею, ведущую к дому, окаймляли изящные ветвистые каштаны, липы, вязы, дубы, медные буки. Для разбивки парка Веджвуды приглашали одного из самых известных садовых архитекторов Англии, Брауна, по прозвищу "Все могу". Вскоре глазам Чарлза открылся вид на озеро, питавшееся подземными родниками; заканчивалось оно, по словам детей Веджвудов, "рыбьим хвостом" далеко за волнистыми газонами, цветочными клумбами и балюстрадой с большими шарами, покоившимися на каменных колоннах. На озере плавали дикие утки, утки-нырки и большие хохлатые чомги. На возвышавшемся противоположном холмистом берегу росли вперемежку зеленые буки, кошенильные дубы и каштаны, мирно пасся скот. Оставив лошадь на попечение конюха, Чарлз вынул из седельных сумок дорожный саквояж, охотничьи сапоги и ружья и зашагал к парадному портику Мэр-Холла. Господский дом стоял в этих местах с 1282 года. Джозайя Веджвуд купил его в 1805 году и полностью перестроил. Сейчас это был благородный, но простой по архитектуре трехэтажный особняк с выкрашенными свинцовыми белилами оконными рамами, сводчатыми двойными дверями и полукруглыми ступенями, спускавшимися к озеру. Из обитой деревянными панелями гостиной доносились звуки игры на рояле, за которым сидела Эмма Веджвуд. Ей подпевала сестра Фэнни, которая была на два года старше. Характер у обеих был настолько покладистым, что в семье их окрестили "голубками". С детства места эти были для Чарлза полны очарования. "Маунт гнездится на камнях, Мэр-Холл лежит в цветущей долине. Маунт прочно врос в землю. Мэр-Холл плывет. Маунт зажат в тиски узкой дорогой, рекой и массивными деревьями. Мэр-Холл открыт небесам, нежным волнистым холмам, кристально чистому озеру. Маунт – добротное жилище врача. Мэр – беззаботная мечта. Маунт – долг, Мэр – радость. Маунт – замкнутый, Мэр – открытый. Маунт – это реальность. Мэр – произведение искусства. Маунт – родственные узы, Мэр любовь. Маунт – буржуазен, Мэр – богемен. Маунт требует, Мэр – дает. Маунт заложен, Мэр – независим. Маунт – комфорт, Мэр – счастье. Маунт заточение, Мэр – освобождение". Отворив парадную дверь, Чарлз вошел в прихожую и, оставив там всю свою поклажу, завернул налево в гостиную. Здесь он увидел обеих своих кузин, до такой степени увлеченных игрой на фортепьяно, что они даже не заметили его появления. Одна из них, Фэнни, была невысокого роста и некрасива. Дарвину бросились в глаза пятна румянца на ее скулах, но все равно лицо девушки оставалось бледным, как у французской куклы. Мать прозвала ее "мисс Генеалогия" – за склонность к дотошному ведению любых записей, будь то составление счетов, регистрация показаний термометра, перепись садового инвентаря, мешков с семенами и кормом или скота на ферме. Она не успокаивалась до тех пор, пока не добивалась точного ответа на вопрос "сколько чего". Ее братья шутили: "Фэнни создана для счета, но ее собственная фигура – не в счет". "А вот Эмма совсем другая", – подумалось Чарлзу. Самая любимая им из веджвудовских кузин – Эмма была всего на несколько месяцев его старше. Ее большие блестящие карие глаза подмечали все, но никогда не выражали отношения к увиденному. Волосы она носила на прямой пробор, с короткими локонами по бокам. У нее был точеный носик, но привлекательность лицу придавал все же рот – большой, яркий, с полной нижней губой. Твердый подбородок не добавлял ее внешности ни чрезмерной самоуверенности, ни агрессивности. Вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову назвать ее красивой, но все сходились во мнении, что у нее открытое, дружелюбное и, по правде говоря, считал Чарлз, очень милое лицо. Даже подростками они не знали тайн друг от друга, без стеснения обсуждая любой вопрос, каким бы спорным или щекотливым он ни был, в твердой уверенности, что любая тайна останется между ними. И так уж повелось, стоило угрозе родительского наказания нависнуть над одним из них, как другой или другая тотчас приходили на выручку. Эмма и Фэнни месяцами гостили в Маунте. В Мэре иногда Эмма с Чарлзом отправлялись на охоту, катались на лодке или удили рыбу на озере; в Маунте она была его компаньоном во время плавания по реке Северн или в длительных прогулках по дальним холмам. Им нравилось бывать вместе, и они заботились друг о друге. В особенности любил он ее голос: неизменно спокойный, без всякого надрыва или озабоченности. Чарлзу нравилась и Эммина фигура: чистая розоватая кожа полных округлых плеч, высокая красивая грудь, живот, правда, не был столь уж плоским, но бедра – изящные, ноги – стройные, а стопы достаточно большие, чтобы твердо ступать по земле. У Эммы была привычка вешать свои платья не в шкаф, а в изголовье кровати, класть на стулья или даже на пол. За эту привычку она заработала от матери прозвище "маленькой мисс Неряхи". Закончив сонату, Эмма почувствовала, что в комнате кто-то есть, обернулась к двери и, подбежав к Чарлзу, звонко поцеловала его в щеку. Они не виделись несколько месяцев. Не снимая рук с его плеч, Эмма отступила на шаг и тотчас заметила необычную напряженность и скованность Чарлза. – Случилось что-то очень важное, да? – Чуть было не случилось, но, к несчастью, сорвалось. Отец дома? Лучше я расскажу вам обоим сразу. – Он в библиотеке. Иди туда, а я распоряжусь насчет чая. Чарлз прошел через гостиную в библиотеку Джозайи Веджвуда, отделанную дубовыми панелями. Джозайя сидел на обитом кожей стуле, поодаль от большого камина, у одного из двух высоких окон и читал "Оды" Пиндара. Он получил образование в Эдинбургском университете, любил литературу и изящные искусства и на всю жизнь сохранил интерес к научным изобретениям и механике. Хотя несколько дней в неделю он ездил по делам на свой фаянсовый завод в Этрурии, его куда больше интересовали раскраска керамики и эстетические качества изделий. Основанный его отцом завод процветал все годы, кроме времени наполеоновских войн, когда спрос на веджвудов-скую посуду упал столь резко и в самой Англии и в Европе, что Джозайя был вынужден из-за дороговизны содержания имения на несколько лет уехать из Мэр-Холла и снова вернуться в старый и более скромный особняк в Этрурии. Джозайя Веджвуд был многосторонним человеком. Обожая охоту, он вместе с тем являлся основателем Королевского общества цветоводов, сад которого находился возле Кью. Он состоял членом Общества по поощрению сельского хозяйства, мануфактур и коммерции Баса и Западной Англии. В политике Джозайя был воинствующим либералом, писал памфлеты в поддержку Билля о реформе [Билль о реформе парламентского представительства – первая парламентская реформа 1832 года, предоставившая право голоса средней и мелкой буржуазии, давшая его также ряду новых промышленных центров и уничтожившая часть так называемых "гнилых местечек". – Прим, пер.], призванного расширить право голоса в Англии, и стоял у истоков движения за отмену рабства, после того как в 1807 году была прекращена работорговля. Нынешней весной он потерпел поражение на выборах в парламент от Ньюкасла; однако, ничуть не обескураженный, он намеревался выставить свою кандидатуру от Сток-он-Трента, чтобы пройти в первый "реформированный" парламент, которому предстояло собраться в 1832 году. Мэр-Холл издавна служил местом встречи для либеральной интеллигенции графства Стаффордшир. Юная Эмма Колдуэлл, дочь соседей Веджвудов, как-то воскликнула: – Никогда не видела, чтобы в семье так легко дышалось. У каждого здесь полная свобода говорить все, что он думает. Будь то политика или любой другой принципиальный вопрос, никто не обидится, если вы открыто выскажете свои взгляды, – так все и поступают… Подлинной любовью Джозайи были книги. Книг было столько, что на полках приходилось размещать их в два ряда. У любого менее организованного человека это привело бы к хаосу и неразберихе, но дядя Джоз завел собственную систему карточек с индексами и благодаря ей безошибочно мог сказать, за каким из томов Платона стоит "Айвенго" сэра Вальтера Скотта. Чарлз и Джозайя тепло приветствовали друг друга, заранее предвкушая удовольствие от предстоящей с утра охоты. Одной из связывавших их уз разве не известно, что мальчики лучше ладят с дядями, чем с отцами? – было давнее пристрастие Джозайи, как и его отца, к естественной истории: он собирал коллекции по ботанике, энтомологии и орнитологии, так что отец, хотя у него и было еще двое сыновей, записал в завещании: "Все свои книги, гравюры, альбомы, картины и ящики с результатами экспериментов, ископаемыми, естественноисторическими коллекциями я завещаю означенному сыну Джозайе Веджвуду". Между тем в холле зазвонил колокольчик, созывавший всех к чаю. В библиотеке один за другим начали собираться отпрыски Веджвудов. Первой появилась Элизабет, самая старшая: ей было тридцать восемь – на пятнадцать лет больше, чем Эмме, самой младшей из девяти детей. Элизабет родилась с искривлением позвоночника, причинявшим ей постоянные страдания: считалось, что бороться с недугом можно только с помощью крапивы, которой секли спину. Она никогда не подавала виду, что страдает сама, и довольно успешно лечила детей бедняков со всей округи, прописывая им слабительное, пуская кровь или ставя мушку. Элизабет организовала в Мэр-Холле школу для детей из бедных семей и каждое утро занималась с ними по два часа. Она разбила в Мэре цветочные клумбы, сама возилась в земле, высаживая клубни, выпалывая сорняки и подбирая огромные букеты для дома. Чарлз восхищался Элизабет, но никогда не чувствовал к ней особой близости, как и к тридцатишестилетнему Джо, Джозайе-младшему, весьма гордившемуся престижным положением будущего владельца веджвудовского фаянсового завода. Все знали, что Джо и Каролина Дарвин любят друг друга и должны пожениться. Более близок Чарлз был с тридцатичетырехлетней Шарлоттой, которая в своей мастерской в задней части дома брала уроки живописи у Копли Филдинга и писала акварелью. Ее любили и дарвиновские сестры. В семье Веджвудов было еще три брата: Гарри, адвокат и выпускник Кембриджа, женатый на своей кузине Джесси Веджвуд, он увлекался сочинением стихов; Франк, тридцати одного года от роду, занятый, как и его старший брат, на фаянсовом заводе; предполагал жениться в будущем году. Спустился к чаю из своей спальни и младший, двадцативосьмилетний Генслей. Он получил звание магистра искусств в колледже Христа в том году, когда туда поступил Чарлз, и сейчас ожидал назначения на должность председателя суда при полиции. Он собирался также писать книги по лингвистике и был помолвлен со своей кузиной Фэнни Макинтош. В Мэр-Холле находился и второй гость – сорокадвухлетний доктор Генри Холланд, невысокий худощавый человек, который внушал Чарлзу восхищение и зависть. Он был не только хорошо известен как автор путевых заметок – его перу принадлежало несколько глав "Путешествия по Исландии" и такие собственные сочинения, как "Путешествия по Ионическим островам", "Албания", "Фессалия" и "Македония", – но и состоял придворным медиком принцессы Уэльской и действительным членом Королевского общества. Бабка его по материнской линии была сестрой Джозайи Веджвуда-старшего. Доктор Роберт Дарвин был отнюдь не в восторге от доктора Холланда. – Его врачебная деятельность, – заметил он Чарлзу, – основана не столько на науке, сколько на моде. Извинившись, Чарлз вышел, чтобы заглянуть к тетушке Бесси и засвидетельствовать ей свое почтение; перепрыгивая через две ступеньки, он поднялся наверх, деликатно постучал в дверь ее спальни и услышал в ответ тихое: "Войдите". Тетушка лежала в шезлонге, утонув в многочисленных подушках, и читала "Освобожденного Про-, метея" Шелли. Бесси Аллен Веджвуд исполнилось шестьдесят семь лет: замуж за Джозайю Веджвуда она вышла в двадцативосьмилетнем возрасте, в ту пору, когда мужу ее было только двадцать три, – брак по этой причине весьма необычный, но зато действительно брак по любви. Когда-то, судя по портрету Ромни – этот свадебный подарок стоял у нее в спальне, – она была писаной красавицей. Года полтора назад с ней случился какой-то таинственный припадок. Доктор Дарвин считал, что он, вероятно, вызван чересчур большой дозой макового сиропа, который она принимала в качестве успокоительного средства. – Заходи, Чарлз. Я ждала твоего приезда. Ты остаешься у нас на месяц? Чарлз подавил вздох. – Вы хорошо выглядите, тетя Бесси. – Это потому, что на мне новый чепец. Я всегда его надеваю, когда хочу выглядеть очаровательной. Чарлз согласился, что в очаровании ей и на самом деле нельзя было отказать, как и в неповторимой прелести голоса и манер. Сэр Джеймс Макинтош, приходившийся веджвудовским детям неродным дядей (однажды он заявил Генсло после очередной встречи у профессора в Кембридже: "В этом молодом Дарвине что-то есть"), отозвался о своей свояченице так: "Никогда не встречал я человека, чья любезность или дружба в столь малой степени зависела бы от принятых правил или привычек. В шутку я говорил ей, что она самая тихая хозяйка самого шумного имения в Англии". – Как дела у твоей сестры Каролины? – спросила тетушка Бесси. – Как всегда, в полном порядке: она продолжает терпеливо ждать, пока ваш Джо женится на ней. – Ума не приложу, что мне делать с моим оболтусом. Ведь они любят друг друга. Почему бы им не пожениться и не подарить мне внуков? – Джо любит свой фаянсовый завод. – Будь он проклят, этот завод! Разве Джо нельзя делать и посуду и детей одновременно? Но что это, Чарлз? Ты, кажется, краснеешь?.. …Спустившись в библиотеку, он застал за инкрустированным кусочками кожи длинным столом с аккуратной стопкой журналов, монографий, газет и политических памфлетов всю семью. Чарлз постарался сесть рядом с дядей. Эмма разделила тминный пирог на щедрые порции, но все были заняты сандвичами. Все, кроме Чарлза. Охваченный тревожным ожиданием, он пил сладкий чай с молоком чашку за чашкой, чувствуя себя так, словно по его рукам и ногам непрестанно сновали муравьи. Как смеет он взять и обрушить свои беды на этот мирный стол, за которым все так весело беседуют, дружески шутят, смеются! Хорошо бы на такой вот случай знать хоть какую-нибудь молитву, чтобы можно было пробормотать ее про себя. Но, как назло, вспомнить что-либо подходящее из молитвенника он так и не сумел. Впрочем, если за столом кто-то и обратил внимание на его упорное молчание, то был слишком поглощен ритуалом чаепития – непременно три чашки, – чтобы задавать вопросы. Доктор Генри Холланд, блестя лысиной, выпятив нижнюю губу, отчего глаза казались чересчур глубоко посаженными, только усиливал состояние неловкости, в котором пребывал Чарлз, разглагольствуя о впечатлениях от последней поездки в Европу. Однако в голосе его сквозила печаль. Он потерял свою молодую жену, прожив с ней всего восемь лет: это была та самая Эмма Колдуэлл, которая дала столь выразительную характеристику непринужденной атмосфере добродушия, царившей в Мэр-Холле. Дарвин со всегдашним обожанием смотрел на дядю Джоза. В шестьдесят два года его темные поредевшие волосы все еще курчавились, большие темные глаза смотрели проницательно, римский профиль оставался все таким же гордым, губы – плотно сжатыми, а подбородок – упрямым. Одет он был безукоризненно: вокруг шеи повязан узлом белый галстук, концы которого заправлены под белую жилетку, поверх элегантный пиджак с блестящим бархатным воротником и двумя рядами обшитых материей пуговиц. Перехватив взгляд Чарлза, Эмма поставила чашку. – Теперь, Чарлз, когда мы немного заморили червячка, не расскажешь ли ты нам о своих новостях? Он вынул из кармана пиджака два письма и протянул их дяде: – Будьте добры, прочтите их вслух. Сначала от профессора Генсло. И тогда все будут знать, о чем, собственно, идет речь. Джозайя протянул младшей дочери написанные от руки листки. Голос Эммы был приятным и выразительным. По мере того как она читала и картина вырисовывалась все яснее, в комнате становилось тише и тише. Собравшиеся слушали затаив дыхание, пока Эмма не закончила чтение и письма Джорджа Пикока. Тут все заговорили разом. Вскочив, Эмма обняла Чарлза за плечи. Генслей подошел, чтобы пожать ему руку, Элизабет и Шарлотта от души поздравили его. Джозайя сидел, плотно скрестив на груди руки. Первым высказался доктор Холланд: – На вашем месте я бы не слишком спешил, Чарлз. Подробностей они не сообщают. Похоже, что на судне вы окажетесь в полном подчинении. А когда натуралист отправляется в путешествие, он должен быть свободным и независимым, каким всегда был я. – Они полностью идут мне навстречу… – возразил Чарлз, – и даже согласны оставлять меня в гавани, пока корабль будет проводить у берегов съемочные работы. Он обернулся к дяде: – Дядя Джоз, отец просил меня передать вам эту записку. Взяв ее, Джозайя сказал: – Не лучше ли нам перейти ко мне в кабинет? Надо хорошенько все обсудить. Они вышли из библиотеки. Чарлз не удивился, когда Эмма, единственная из собравшихся, взяв его под руку, тоже направилась вместе с ними. – Это такой великолепный шанс, – прошептала она. – Кто еще из твоих сверстников мог мечтать о подобной поездке? В душе ты всегда был натуралистом. Тебе надо ехать… Чарлз покачал головой: – Теперь все зависит от твоего отца. Он может послать меня в кругосветное путешествие или оставить сидеть дома. Кабинет, который иногда величали "офисом", был тесен и пуст. Вся мебель состояла из трех жестких стульев и маленького бюро, на котором стопкой лежала писчая бумага и стоял чернильный прибор с двумя торчавшими из него ручками. Хозяин дома сел за бюро и вопросительно взглянул на Чарлза. – Итак, если я правильно понял, у твоего отца имеются веские возражения против этой экспедиции. Сядь, возьми бумагу и перечисли-ка мне их по порядку. Склонившись над листом, Чарлз взял гусиное перо, лежавшее на подставке, обмакнул его в чернильницу и принялся быстро писать. Окончив, он передал лист Джозайе, который внимательно прочел его с выражением глубокой озабоченности в темных глазах. Когда он заговорил, голос его звучал твердо: – Я осознаю, какую ответственность накладывает на меня обращение твоего отца в связи со сделанным тебе предложением. Ты перечислил то, что, по-твоему, вызывает его возражения. Самое лучшее, наверное, если я выскажу свое мнение по каждому из них. Немного помолчав, он начал: – Не думаю, что все это могло бы дурно повлиять в будущем на твою репутацию священнослужителя. Наоборот, мне кажется, что полученное предложение делает тебе честь. Что касается занятий естественной историей, хотя, конечно, не в качестве профессии, они вполне подходят для священника. – То же самое и я пытался втолковать отцу. – "Дурацкая затея"? Ума не приложу, что на это возразить. Во время плавания у тебя будет масса дел и занятий. Это позволит тебе приобрести и укрепить полезные навыки… Многим предлагали место на судне до тебя? Такая мысль не приходила мне в голову, да я и не вижу для нее оснований… У отца серьезные возражения против самого судна или состава экспедиции? Не представляю себе, чтобы наше Адмиралтейство могло послать на столь важное дело негодное судно. В любом случае, даже если бы было известно, что другие отклонили сделанное им предложение, из этого ничего не следует. Теперь допустим, что ты принимаешь предложение и не остаешься дома. Твой отец полагает, что два ближайших года сделали бы тебя неуравновешенным и неспособным остепениться. Но разве не известно, что, сойдя на берег, моряки склонны вести спокойный образ жизни? – По правде говоря, дядя Джоз, я мало что знаю о моряках, да и о море тоже. Чарлз в унынии поднялся со стула и зашагал, размышляя, что бывало с ним не так уж часто, о самом себе. – Это правда, что жизнь я вел самую беззаботную. А какие друзья были у меня в колледже Христа? Мы охотились, катались верхом, засиживались допоздна – пили, смеялись, подтрунивали друг над другом. Я, правда, много читал. – ..Ты всегда это делал, – заметил Джозайя. – Редко, когда я видел тебя без книги в руках. А беззаботность? Если не радоваться жизни в молодости, то другого подходящего времени уже не будет. Если бы я видел, что сейчас ты углубленно занимаешься своей будущей профессией, я скорей всего счел бы неразумным прерывать твои занятия. Но в данном случае этого нет и, я думаю, не будет. Чарлз не мог сдержать дрожи восторга. – Да, да, естественная история. Только ей я и занимался все годы, с самого раннего детства. Господи, если бы она могла стать моей профессией, чтобы я только смог зарабатывать себе на жизнь… Дядя Джоз понимающе улыбнулся: он всегда верил в своего долговязого племянника. – Рассмотрим последнее из возражений твоего отца: поездка никак не пригодится тебе в твоей будущей профессии. Зная твою чрезвычайную любознательность, уверен, что кругосветное путешествие даст тебе такую возможность увидеть мир, какая выпадает немногим. Наступило молчание. Эмма, с ее практическим складом ума, тихо спросила: – Но что же мы будем делать дальше, папа? – Я намерен написать письмо доктору Дарвину с изложением всего того, о чем я сейчас говорил. А вам двоим, наверное, лучше бы пока погулять в саду. Ведь скоро уже стемнеет. Чарлз с Эммой медленно пошли по центральной дорожке к озеру и стали бродить вокруг него, держась за руки. Лицо у Чарлза горело, как, впрочем, и у Эммы. – Знаешь, у меня такое чувство, словно мы на борту корабля, который везет нас вокруг света, – заметил Чарлз. – Это ты на борту. Я-то должна оставаться дома, на берегу. Но ты же будешь писать, и писать часто, не правда ли, Чарлз? А сестры будут пересылать твои письма нам, как только прочтут. – Из каждого порта. И еще я буду вести дневник. Твой отец замечательный человек. Он вступился за меня, как будто я ему родной сын. – Ты как две капли воды похож на его младшего брата дядю Тома, и, говорят, у тебя такой же склад ума и характера. Отец обожал Тома. Он был такой способный: первым разработал технику фотографирования. Но страшно больной. Куда только не посылал его отец, чтобы он вылечился! Полсвета объехал, но ничего не помогло. Он так и не успел получить фиксатор, и его изображения не сохранились. А все лавры изобретателя позже получил Дагер. Лучи солнца коснулись вершин зеленых холмов на западе. – Разве ты никогда не присматривался к портрету Тома в гостиной? спросила Эмма. – Вот и ответ, почему отец так тебя любит. Выражение ее лица говорило без слов: – И я тоже!.. Ложась спать, он с вечера поставил охотничьи сапоги возле кровати, чтобы можно было, выскочив из-под одеяла, сразу же сунуть в них свои длинные ноги. Поднявшись на рассвете, Чарлз выпил чашку свежеза-варенного кофе и отправился в самый дальний уголок поместья, где к нему вскоре должны были присоединиться доктор Холланд и несколько соседей Джозайи. В сопровождении егеря им предстояло целый день продираться сквозь густые заросли вереска и молодой сосняк. Прошло совсем немного времени, как вдруг к нему подбежал запыхавшийся грум. – Мистер Дарвин, вас зовет хозяин! Чарлз бегом бросился к дому. Вбежав со стороны озера в комнату, где обычно подавался завтрак, он застал Джо-зайю Веджвуда в дорожном костюме. – Чарлз, ночью я решил не посылать письма твоему отцу. Чарлз похолодел. – Письмо может прийти, когда у него будет не то настроение. Лучше я отвезу его сам. Тебе, наверное, следует отправиться вместе со мной на тот случай, если у отца возникнут вопросы по ходу дела. А свою лошадь ты можешь привязать к моему экипажу… Доктор Роберт Дарвин больше уже не сопротивлялся. Он прочел письмо Джозайи, выслушал заверения своего шурина в том, что путешествие принесет только пользу, и поблагодарил его за утомительную поездку, предпринятую ради Чарлза. Затем он обернулся к сыну: – Вчера я сказал тебе, что, если ты найдешь хоть одного здравомыслящего человека, который посоветовал оы тебе ехать, я дам тебе свое согласие. На свете нет человека, которого бы я уважал больше, чем твоего дядю джоза. Чарлз попытался обнять отца, но, учитывая габариты доктора Дарвина, это было непросто. Однако отец тепло пожал ему руку. Итак, дядя Джоз одержал победу."Мои чувства колеблются, как маятник"
Поспешно одевшись при свече, ровно к трем утра он был в городской ратуше Шрусбери, боясь опоздать к отправлению "Уондера", почтового дилижанса, которому требовалось шестнадцать часов, чтобы добраться до Лондона. Постояльцы близлежащих гостиниц уже успели занять все места внутри экипажа, так что ему пришлось сидеть наверху среди мешков с почтой. В Бирмингеме, пока пассажиры завтракали, сменили лошадей; теперь они ехали через Ковентри на юго-восток. В Брикхилле Чарлз сошел с дилижанса, нанял двуколку и остающиеся сорок миль до Кембриджа сам гнал ее по изрытым колеями сельским дорогам. Поздним вечером, совершенно разбитый, он добрался до "Красного льва", гостиницы, расположенной через дорогу от колледжа Христа. Прежде чем броситься на бугристую постель, он написал несколько слов профессору Генсло: "Когда можно будет утром повидаться с вами?" – и отдал записку одному из мальчиков-посыльных. Сон его был хотя и недолог, но глубок. Открыв глаза при свете дня, он заметил торчавший из-под двери конверт. Его наверняка положил туда сам Генсло, имевший обыкновение вставать вместе с птицами. "Приходите, как только проснетесь. Мы ждем вас к завтраку". Стоило Чарлзу выйти из "Красного льва" и направиться к дому Генсло, как на него нахлынули воспоминания, хотя он и уехал отсюда с дипломом, надежно покоившимся сейчас в его саквояже, всего четыре месяца назад. Не считая Шрусбери, Кембридж был его любимым городом, где он провел три счастливейших года своей жизни. Хотя он и учился в колледже Христа, среди его знакомых были также студенты из многих других колледжей: одни коллекционеры жуков представляли с полдюжины колледжей, а были еще и любители органной музыки, встречавшиеся в Королевской часовне утром по воскресеньям, и те, кто по уик-эндам сопровождали профессора Генсло в его ботанических экспедициях, и члены Клуба обжор… Университетский город не похож ни на какой другой: кажется, что и воздух здесь был иным! В своих черных шапочках и мантиях, с книгами под мышкой из одного колледжа в другой несутся студенты, чтобы послушать лекции или встретиться с друзьями. Повсюду царит дух всеобщего возбуждения, бурных молодых споров. Каждый знает, как много выдающихся людей Англии училось здесь, прежде чем выйти в мир, где их ждали великие дела: Мильтон, Ньютон, Драйден, Фрэнсис Бэкон, Вордсворт, сотни других, – все это делало город частью живой истории. Средневековое великолепие Кембриджу придавали семнадцать каменных зданий колледжей; внушительного вида часовни с витражами, зеленые газоны, старые деревья, великолепные сады вокруг домов ректоров и преподавателей; живописные каменные мосты в районе Бэкс, переброшенные через реку Кем, где студенты имели обыкновение плавать на плоскодонках, отталкиваясь шестами, или купаться нагишом возле Овечьего луга, в то время как дамы, идя по узкому переходу, спешили открыть свои зонтики от солнца, чтобы поглубже спрятать за шелковой завесой свои покрасневшие от смущения лица. Продолговатое белокаменное, со множеством окон здание сената, куда Чарлза и его сокурсников из колледжа Христа, как и выпускников других колледжей, вызывали по очереди для вручения дипломов, было образцом простоты и ясности классической архитектуры. Он очутился перед массивными воротами колледжа Христа; пройдя прохладным каменным вестибюлем, с левой стороны которого находилась каморка привратника, Чарлз обогнул первый из четырехугольных внутренних двориков и остановился на южной стороне, куда выходили окна его комнат на втором этаже. Лишь в первый год учебы он жил в другом месте – над табачной лавкой на Сидней-стрит. Теперь он с восхищением смотрел на герань в стоявших по-прежнему цветочных ящиках. Что ж, пусть он и не научился здесь многому, зато колледж Христа, безусловно, излечил его от былого отвращения к сажж учебе. Он вышел обратно через каменную арку. Сент-Андрус сливалась здесь с Риджент-стрит, вдоль которой тянулся длинный ряд домов с небольшими садиками и узкими дорожками, ведущими к ярко раскрашенным входным дверям. Водосточные желобы, обрамлявшие шиферные крыши, выводили дождевую воду в сад. Дом профессора Генсло размерами несколько превосходил остальные – за счет подвала, верхняя половина окон которого находилась над уровнем земли. Каждый из этажей трехэтажного рыжевато-коричневого кирпичного здания имел арочное окно. Каменная арка заключала голубую дверь, а все жилище окружала четырехфутовая каменная стена. Дом был приятным и удобным, хотя и тесноватым, без претензий, что отличало его от домов профессоров из колледжа св. Иоанна, куда из соображений престижа стремилось попасть большинство гимназистов Шрусбери. Эразм и Чарлз отвергли этот колледж из-за царившей там слишком уж строгой дисциплины. В отличие от многих своих коллег профессор Генсло, как и Адам Седжвик, не имел никаких личных средств. Будучи одновременно профессором ботаники в университете и помощником приходского священника англиканской церкви, он тем не менее должен был в бытность Чарлза студентом заниматься для заработка еще и репетиторством, иногда по шесть часов в день, чтобы иметь возможность содержать жену и троих детей, постоянно покупать книги и разные растения для ботанического сада и устраивать у себя дома встречи не только преподавателей, но и студентов, во время которых его жена Хэрриет неизменно умудрялась предложить гостям бутылочку мадеры и полное блюдо "паркинсов" печенья с имбирем. По старой привычке Чарлз резко постучал семь раз бронзовым молоточком: пять быстрых ударов и два медленных. Дверь распахнулась – на пороге, приветствуя его, стоял улыбающийся профессор Генсло. "Какое у него красивое и приятное лицо, – снова подумал Чарлз, другого такого в Кембридже нет". Большую голову профессора венчала копна мягких густых черных волос, пушистые бакенбарды доходили до подбородка. Благородный лоб был крутым и высоким. Резкие черты, однако, смягчали широко поставленные кроткие, но все подмечавшие глаза, брови дугой, полный, но не властный рот, ямочка на подбородке, чистая мягкая кожа бронзоватого оттенка, как у человека, много бывающего на воздухе. Его крупное сильное тело, казалось, не знает усталости. Этот человек любил труд и в созидательной деятельности видел смысл жизни. По общепринятой моде он носил упиравшийся в подбородок тугой крахмальный воротник с острыми концами, черный галстук, длинный пиджак и жилетку с лацканами, украшенную большими пуговицами. У него были хорошие руки с тонкими чувствительными пальцами, как будто специально созданные для занятий ботаникой. Выражение лица говорило о готовности поделиться всем, что он знает, если человек проявлял заинтересованность в постижении окружающего мира. Неудивительно, что Джон Генсло стал главным человеком в жизни Чарлза. Он был одним из самых строгих учителей, готовых в то же время с бесконечным терпением прививать своим ученикам не просто знания, но и любовь к науке, учил методам исследования и способам усвоения всех богатств человеческого разума – одним словом, учил научно мыслить. Никогда не бывал он скучным, поучающим или деспотичным; его преподавание отличали остроумие и возбуждающее чувство сопричастности. За пять лет, проведенных Чарлзом в Эдинбурге и Кембридже, он убедился, насколько редки профессора, которых считают чудом и студенты, и преподаватели. Хэрриет Дженинс Генсло спустилась по лестнице с десятимесячным младенцем на руках. Поцеловав Чарлза, она тихо произнесла: – С возвращением. А вот ваш крестник. – Вижу, вижу. Примите мои поздравления. И вы тоже, мой дорогой Генсло, теперь у вас есть продолжатель рода! Первым делом Чарлз сообщил о заступничестве Джо-зайи Веджвуда и о согласии отца на путешествие. Генсло был в восторге. – Прекрасно! Нас так разочаровало письмо с известием, что отец против вашей поездки. Мне было обидно так же, как в тот момент, когда я сам должен был отказаться от сделанного мне предложения. Чарлз смотрел на учителя в полном замешательстве. – Сделанного вам? Но вы никогда не говорили мне о нем. – В этом не было особой необходимости. Вообще-то я его принял. Хэрриет согласилась – без моей просьбы. Но вид у нее был такой жалкий, что я тут же передумал. А первое предложение было сделано Леонарду Дженинсу, и он уже почти согласился, даже начал упаковываться. Опыт натуралиста у него многолетний: он собирал коллекции в болотах прямо возле своего дома в Боттишэм-Холле. Но поскольку на нем целых два прихода, он счел невозможным бросить их. Нужно тотчас же написать Джорджу Пи коку. – Выходит, отец был прав, предположив, что до меня предложения уже делали другим. Наверное, на это место требуется кто-либо вроде меня, у кого нет ни семьи, ни обязанностей. – Да. Наконец-то оно достается тому, кто его достоин. После завтрака Чарлз и Генсло отправились в сад за домом, благоухавший ранними сентябрьскими хризантемами. Едва они поднялись со старых плетеных стульев, стоявших под гигантским дёреном, появилась Хэрриет в сопровождении визитера, которым оказался некий мистер Вуд, племянник лорда Лондондерри. Чарлз встречал его раньше "на пятницах" в доме профессора. Имени его он никогда не елышал и не знал, что этот человек делает и зачем тратит время на вечера, которые он называл "научными пятницами", поскольку рассуждал он лишь о политике, рабстве, всеобщем избирательном праве и о причинах, по которым только идеалисты могут считать, что Билль о реформе в состоянии когда-нибудь осуществиться на практике. Он был приземистым, с волосами, напоминавшими спутанную проволоку. Одетый по последней лондонской моде – остроносые ботинки, черные облегающие брюки со штрипками, двубортный сюртук и блестящий шелковый цилиндр, – он держался с гордым сознанием своего знатного происхождения. Однако радость его при виде Чарлза была неподдельной. – Мой дорогой Дарвин! Какой приятный сюрприз! А я-то думал, что вы погребены в каком-нибудь шропшир-ском приходе, где в воскресенье охотитесь за людскими душами, а в будни – за жуками. – Пока нет, Вуд. Похоже, что у меня два года отсрочки. – Прекрасно. А ну, рассказывайте. Едва Чарлз начал, как Вуд перебил его: – Подумать только! С капитаном Фицроем нас связывают родственные узы. Мы что-то вроде кузенов по линии лорда Лондондерри – он сводный брат матери Фицроя. Ходят слухи, что именно лорд Лондондерри и добился для него места капитана на "Бигле". – "Бигль", – тихо повторил Чарлз. – Я впервые слышу название судна. – Мы с капитаном Фицроем – большие друзья! – воскликнул Вуд. – Сейчас же возвращаюсь к себе и пишу ему хвалебное письмо о вас. Верите ли вы в судьбу, Дарвин? Я – да. Подумать только, что мы встретились тут в это воскресное утро, как раз накануне ваших окончательных переговоров в Лондоне! – С вашей стороны, Вуд, это крайне любезно. – О чем вы говорите! Ничего особенного! – Он повернулся к Генсло: – Я зашел, чтобы засвидетельствовать вам мое почтение, и прошу меня извинить, что покидаю вас. Время не ждет: в час письмо должно отправиться в Лондон почтовым дилижансом. Я хочу, чтобы уже сегодня вечером оно было у Фицроя. Генсло и Чарлз, оба длинноногие, быстро зашагали по Трампингтон-стрит мимо ворот и внутренних двориков и вышли на улицу св. Марии, на которой стояла церковь св. Марии, маленькая, но необычайно изящная, где утром по воскресеньям преподобный мистер Генсло читал проповеди своим прихожанам. Когда они поравнялись с церквушкой, позади которой находилось старинное кладбище, профессор изучающе поглядел на Чарлза. – Вы действительно хотите стать священником? Думаете, что справитесь? Чарлз смутился: никогда еще ему не приходили в голову подобные мысли. – Да, думаю. Занятия по теологии шли у меня неплохо, а книгу Пейли я знаю досконально. Так что у меня есть все основания полагать, что я смог бы написать и произнести сносную проповедь… – Но вы не… – Не слишком увлечен церковью? Нет, в моей семье никто этим не отличался. Впрочем, все мы верующие. Я думаю, что просто буду заботиться о своей пастве. Несколько минут они шли молча, затем Чарлз сказал: – Мой дорогой Генсло, может быть, вы срочно обучите меня искусству хранения экспонатов? Мои друзья из Эдинбурга немного познакомили меня с тем, как обращаться г морскими животными, а вы – с цветами и жуками. Вот пока и все мои познания. Между тем длинные переходы из порта в порт я собираюсь использовать для того, чтобы сохранить все собранное на берегу. Генсло рассмеялся. Приятно было слышать его смех. – Начнем с геологических экспонатов и окаменелостей. Сначала заверните их в бумагу, а потом в необработанную пеньку, известную больше как пакля, которая всегда в избытке и при этом дешева. Ее Вы найдете в любом порту. Каждую из находок надо пометить химическим карандашом, обязательно на ней самой, будь то раковина или кость. Вам также необходимо зайти в книжную лавку Уильяма Яррела в Лондоне и купить книжку Чарлза Лайеля "Основы геологии". Она чрезвычайно ценна практически, но никоим образом не следует принимать изложенные в ней взгляды. Автор выдвигает самые невероятные теории… Ну а что касается беспозвоночных с мягкими телами, амфибий, рептилий и рыб, то их всех следует помещать для сохранности в винный или хлебный спирт. Берите красный винный спирт домашнего изготовления, так будет дешевле. На раствор должно приходиться семьдесят процентов спирта и тридцать – воды. Девять из десяти экспонатов погибают из-за того, что раствор слишком слабый. Если попадутся большие экземпляры, то надо разрезать живот, вынуть внутренности и хранить их отдельно. Не полагайтесь на память. Записывайте названия кораблей и дату их отплытия при отправке домойящиков с экспонатами. И смотрите, чтобы получатель обязательно вел столь же точный учет. Чарлз метнул взгляд в сторону друга: – Но кто будет этим получателем? Ведь если я проплаваю два года, то ящиков наберется очень много, а экспонатов – тысячи. Не могу же я посылать их в Маунт. Там никто не знал бы, что с ними делать. – Да, их следует посылать знающему человеку, который смог бы обследовать содержимое и убедиться, все ли соответствует дубликату описи. – Извините меня, мой дорогой Генсло, но я полагаю, что вы только что нарисовали автопортрет. Кто, кроме вас, смог бы или захотел этим заняться? Улыбка Генсло выражала удовлетворение и вместе с тем покорность судьбе. – Попытайтесь сперва связаться с научными обществами в Лондоне. Они могут оказаться полезными. По возможности используйте стеклянные банки. Глиняная посуда и деревянные бочонки имеют обыкновение протекать или испаряют жидкость. Крышки банок обертывайте бычьим пузырем… В воскресенье утром Чарлз и семейство Генсло оделись, чтобы идти в церковь. Небольшая уютная церковь св. Марии со сводчатым потолком из дугообразных обструганных топором брусков могла похвастаться на редкость слаженным хором. Преподобный мистер Генсло, величественный в богатом черном одеянии, для своей полуденной проповеди специально ради Чарлза использовал то место из Евангелия от Луки, где сказано: "Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом… а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы". После службы, пока супруги Генсло наносили визиты прихожанам, Чарлз повел обеих маленьких дочек, Френсис и Луизу, одетых в нарядные белые воскресные платья, на реку прогуляться. Многие из горожан уже были там, восседая в своих плоскодонках, на дне которых высились корзины со съестными припасами для пикника. Когда все вернулись в дом, то застали в библиотеке шагавшего из угла в угол Вуда с посеревшим лицом. – Что случилось, мистер Вуд? – обратился к нему Генсло. – Вы чем-то расстроены? – Да, это так, – ответил тот еле слышно. Наступило молчание. В руке Вуда дрожал листок веленевой бумаги. – ..Вот ответ на мое письмо к капитану Фицрою… – Он с трудом заставил себя повернуться к Чарлзу. – Мне жаль, страшно жаль… но капитан Фицрой против вашей поездки, Дарвин. Это я, я виноват, что вы не сможете ехать. – Вы? Но каким образом? Вуд заскрежетал зубами, затем с трудом выдавил из себя несколько хриплых слов самообвинения: – ..Ничего, кроме похвалы… но я считал своим долгом сказать ему… по-родственному… что вы – виг, либерал… стоите за Билль о реформе… расширение права голоса. – Ну да, – произнес в ответ Чарлз. – Билль расширил бы его для тех, чья собственность приносит десять или более фунтов стерлингов в год. Вуд заставил себя подавить стон, чтобы собеседники ничего не услышали. – Для нас, тори, Билль – это "повторение вселенского хаоса". – А для нас, вигов, – голос Генсло был ровным и спокойным, – он провозвестник нового века. Однако при чем тут политика, когда речь идет о естественной истории? – Ни при чем. Но "Бигль" – маленькое судно, и капитан Фицрой хочет яметь на борту такого натуралиста, который бы мог стать ему другом. Ведь никому другому это не дозволено. Он должен быть близок ему по духу, чтобы беседовать с ним за трапезой… никому другому не разрешено ни есть вместе с капитаном, ни входить в его каюту. Раздражение в Чарлзе уступило место горькому разочарованию, как и тогда, когда отец отказал ему в поездке. Теперь снова он терял свой шанс. – Вуд, разве я когда-нибудь навязывал вам свои политические взгляды? – Никогда! Конечно, никогда! И Фицрою я написал только для того, чтобы рассказать, какой вы приятный человек. Но если бы вы стали спорить с ним из-за Билля… он никогда бы мне этого не простил. Да и для вас пребывание на "Бигле" стало бы невыносимым. Это место капитан Фицрой отдал своему давнишнему другу, некоему мистеру Честеру. Он, насколько я понимаю, служит в каком-то правительственном ведомстве. Вуд ушел, а Чарлз все продолжал слепо кружить по комнате. – Подумать только, сколько беспокойства я причинил отцу и дяде Джозу! Лишь одно чувство, злость, было чуждо натуре Генсло. Но сейчас на щеках его зардели красные пятна. – Это Пикок виноват во всем. Он заверил меня, что назначение натуралиста в его руках – и только в его. Чарлз фыркнул, что было для него обычным способом выражения эмоций. – Ну да, как же можно заставить капитана трижды в день делить трапезу с вигом, либералом? – произнес он язвительно. – Чего доброго, он еще посадит корабль на первую же мель. Когда подумаешь, что Билль о реформе, если ему вообще суждено миновать парламент, в лучшем случае затронет лишь семнадцать процентов англичан… Лицо Генсло потускнело. – Люди воюют из-за политики. Они воюют из-за религии. Они воюют из-за пограничных инцидентов, человеческий мозг редко когда упускает возможность, позволяющую уничтожить половину рода людского… Мужчины замолчали. В час в комнату вошла Хэрриет, чтобы объявить, что обед готов. Ели они без всякого настроения. Когда молодая служанка подала серебряную соусницу с луковым соусом, приправленным гвоздикой и мускатом, ни Дарвин, ни Генсло не захотели поливать им хлебный пудинг. Чарлз молча положил свой прибор на стол. Генсло взглянул на него, вопросительно подняв брови. – Что, уже раздумали ехать? Или пока еще нет? – Вовсе нет. Ни пока, ни вообще. На рассвете "Стар" ["Стар" – в буквальном переводе "звезда", Здесь – название почтового дилижанса, – Прим. пер.] повезет меня в Лондон. Предложение занять место натуралиста мне сделали вполне официально. Так что завтра капитану Фицрою придется посмотреть мне прямо в глаза и сказать в лицо, что он отказывается. На меньшее я не соглашусь. Прежде Чарлз несколько раз бывал в Лондоне с семьей и друзьями, большая, шумная, закопченная столица казалась ему суматошным и чужим городом. Ему повезло: он быстро нашел квартиру на Спринг гарденс, 17, всего в двух кварталах от Адмиралтейства. В его распоряжении была просторная угловая комната, где он тут же помылся и надел Чистое белье. Подойдя к окну, из которого открывался вид на Адмиралтейство, он вдруг подумал: "А что, если капитана Фицроя нет в Лондоне! Выходит, я зря сюда тащился?" Но вот он проходит под вычурной аркой Адмиралтейства в Уайтхолле, с грифонами, гордо венчающими входные колонны, просит доложить о себе, и мальчик-посыльный тотчас возвращается с ответом: – Капитан Фицрой шлет вам свое почтение, сэр. Он просит вас незамедлительно проследовать к нему в кабинет. Вслед за мальчиком Чарлз поднялся по лестнице, прошел длинным коридором. Постучав, посыльный открыл дверь. Первое, что бросилось Чарлзу в глаза, были совершенно голые стены. Когда морские офицеры возвращались из длительных плаваний, им предоставлялся отпуск, так что в Адмиралтействе они проводили всего несколько дней, необходимых для того, чтобы закончить и представить свои отчеты. Видимо, нужды в постоянных кабинетах у них не было. В облике самого капитана Роберта Фицроя, однако, не было ничего аскетического. Когда он поднялся ему навстречу, Чарлз увидел, что это высокий поджарый человек аристократического вида – от курчавых темных волос и длинных бакенбард до элегантных башмаков. Плотно прижатые к голове уши, темные лучистые глаза под черными, резко очерченными бровями, своеобразные усы. Его тонкое лицо несколько портил длинный нос. Одетый по последней моде, он, однако, выглядел не денди, а деловым человеком. Роберт Фицрой вел свое происхождение от незаконнорожденного отпрыска короля Карла II и графини Кливлендской Барбары Виерс. Он был внуком герцога Грэф-тонского и сыном лорда Чарлза Фицроя. Если, обладая умением держать себя, он и был несколько властным, то право на это он заработал, хотя большое состояние и досталось ему по наследству. В Королевский военно-морской колледж в Портсмуте он поступил в двенадцать лет и окончил его в девятнадцать с золотой медалью, приобретя известность своим великолепным знанием математики, метеорологии и искусства управлять парусником в самую отвратительную погоду, какую только можно себе представить. В октябре 1828 года, когда ему было двадцать три года, находясь на британской королевской военно-морской базе в Рио-де-Жанейро, он получил приказ взять на себя командование кораблем его величества "Бигль", капитан которого покончил жизнь самоубийством. За четырнадцать или пятнадцать месяцев плавания ему удалось, к восторгу Адмиралтейства, привезти в Англию "самые совершенные карты". Великобритания, намеревавшаяся править миром с помощью своего флота, хотела произвести гидрографическую съемку береговой линии разных континентов, с тем чтобы найти подходящие места для стоянок и сооружения наилучших из возможных портов, а также нанести на карту впадающие в море реки. Темные лучистые глаза Фицроя при виде Чарлза сверкнули. – У вас великолепное чувство времени, Дарвин! – Что вы имеете в виду, капитан? – Приди вы десятью минутами раньше, у меня были бы для вас плохие новости. – А пятью? – Хорошие. Я только что получил записку от моего друга мистера Честера. Он сожалеет, что не может отправиться в плавание вместе со мной, так как не имеет возможности оставить службу. Если бы я мог взять своего друга, это означало бы, что для вас попросту не осталось бы места на нашем и без того перегруженном суденышке. Эта неожиданная перемена судьбы заставила сердце Чарлза учащенно забиться. – Итак, я принят? – Я весьма доволен, что вы явились в Лондон столь быстро. Прошу прощения за мой поспешный ответ на письмо мистера Вуда. Трезво все взвесив, я понял, что двое молодых людей, если бы они подходили друг другу, никогда не стали бы спорить из-за английской политики, занимаясь съемкой южноамериканских или тихоокеанских берегов за тысячи миль от дома. – Сэр, по натуре я совсем не спорщик. – Прекрасно. Я предлагаю вам совместные трапезы у меня в каюте. Вам придется довольствоваться водой и самой простой пищей: я не употребляю ни вина, ни рома, когда командую судном. Вы также сможете пользоваться моим диваном в спокойные часы для чтения или отдыха. Правда, иногда мне необходимо уединение. – Каждый имеет право побыть наедине с собой. Иногда это необходимо больше, чем еда или сон. – Что ж, если мы будем относиться друг к другу подобным образом, то, надеюсь, поладим? Если нет, то, возможно, пожелаем друг другу провалиться в преисподнюю. Не хотите ли вы присесть? Должен предупредить вас: хотя я постараюсь предоставить вам во время плавания любые удобства, какие только смогу, их будет не слишком много. Я считаю своим долгом обрисовать все с самой худшей стороны. Было бы поистине ужасно, если, находясь рядом со мной, вы не чувствовали бы себя как дома. "Бигль" – маленькое суденышко, и нам всем предстоит жить одной семьей. – Можно спросить вас, где я буду спать? – В кормовой каюте. Ваш гамак мы подвесим в углу. Там у нас библиотека. Каюта несколько больше моей и окно тоже. Есть там и чертежный стол, он пригодится вам для работы. Гамак Джона "Порта Стокса будет висеть в противоположном углу. Этому офицеру девятнадцать, он – помощник картографа. Во время первого плавания "Бигля" он служил мичманом. Команда у нас весьма молода, мистер Дарвин, хотя большинство уже плавало под моим началом. Думаю, что вы поладите. Если, однако же, вы не захотите оставаться с нами, то сможете возвратиться обратно в Англию в любое время. Попутное судно в тех местах найдется всегда. – Спасибо. Я думаю, что единственное, что может мне грозить, – это морская болезнь. – Описания морских штормов сильно преувеличены. К тому же на время ненастной погоды – а это не больше двух месяцев в году – мы могли бы ради вашего здоровья оставлять вас на берегу, где вы будете в полной безопасности. На судне много книг: все они, а также приборы и оружие будут в вашем распоряжении. После того как судно бросит якорь, чтобы производить съемку местности и заниматься картографированием, вы сможете недели две оставаться на берегу и выполнять свою работу как натуралист. Иногда я буду к вам присоединяться. Меня также интересует естественная история и коллекционирование. Лицо Чарлза загорелось при мысли о предстоящих стоянках в экзотических портах тропиков. – Однако, прежде чем принять решение, вы должны своими глазами увидеть "Бигль". В ближайшее воскресенье я отправляюсь в Плимут на пароходе. Почему бы вам не присоединиться ко мне? – С удовольствием. – Решено. Наверное, вам захочется встретиться с капитаном Бофортом и обсудить условия плавания. Будьте так добры, порасспрашивайте его как следует о южных морях, расшевелите его хорошенько. А если на сегодня вы никуда не приглашены, прошу вас отужинать вечером со мной в клубе. Можно будет заказать вино и дичь. – С удовольствием. – Друзья наверняка станут говорить вам, что морской капитан – это чудовище, равного которому не сыщешь в созданном господом мире. Не знаю, как вам тут помочь: единственная моя надежда, что вы дадите мне испытательный срок. Мы отплываем из Плимута десятого октября. Человек, на которого сейчас во все глаза смотрел Чарлз, казался, сидя за бюро, маленьким: поблескивающая лысина, глубоко посаженные глаза, нос и подбородок, как будто небрежно слепленные из замазки. Мгновения, понадобившегося Бофорту, чтобы оторваться от бумаг, оказалось достаточно, чтобы Чарлз разглядел на его изрезанном морщинами лице следы многолетних мучительных переживаний и унижений. – Мистер Дарвин, ваше имя знакомо мне. Я имел удовольствие встречаться с вашим отцом в 1803 году, когда вас еще не было на свете. Вместе с сестрой Луизой мы через Ирландское море возили матушку к нему на консультацию. Ведь даже до нас в Ирландии дошла молва о его необычном умении исцелять своих пациенток. Мать моя много лет болела, в особенности ее мучила сыпь на ногах. Ваш отец сразу же заявил, что его больше интересует общее состояние здоровья нашей матери, чем эта сыпь. Он посещал нас несколько дней кряду, затем разрешил отправиться домой. После этого визита ее здоровье резко пошло на поправку, хотя сыпь и не сошла. Мать дожила до девяноста четырех лет. – Надеюсь, что смогу поддержать семейную репутацию. Улыбка Бофорта не изменила выражения его глаз. – Вы виделись с капитаном Фицроем? Великолепный картограф. Что он вам сказал? Чарлз пересказал суть своего разговора с капитаном Фицроем, не забыв упомянуть о его совете как следует расшевелить хозяина кабинета расспросами о южных морях. – Дарвин, если вы отправитесь в кругосветное путешествие, но не завершите его, то с полным правом можете считать себя обманутым. Неделю вы проведете на острове Мадейра и столько же на Канарских островах… – Замечательно! – воскликнул Чарлз. – Мы увидим Тенерифе и великолепное драконово дерево Гумбольдта. Бофорт сперва насупился, затем решил не сердиться на дерзкого молодого человека, воображавшего, что "Бигль", корабль его величества, совершает плавание ради изучения природы. – ..Я еще и сейчас занимаюсь составлением вашего маршрута по южным морям. Вероятно, возвращаясь домой, вам придется пройти через Индийский архипелаг. Это займет в лучшем случае три года. Чарлз побледнел. Три года вместо двух, на которые ему дали согласие! Не то чтобы сам он боялся этого года дополнительных трудностей: уж как-нибудь, раз надо, он приноровится к новой жизни. Но отец и сестры! Ведь они с трудом смирились даже с двухлетней разлукой! Что скажет отец, узнав о таком повороте событий? Он наверняка будет огорчен. Возможно, он сочтет себя обманутым и откажется от своего согласия на поездку! С ужасом ждал Чарлз того момента, когда придется обо всем сообщить родственникам. На какое-то мгновение он решил вообще не говорить им. На скулах у него выступили желваки. – Чем дольше продлится плавание, тем больше опыта и знаний у меня прибавится. – Хорошо сказано. Я включу вас в список на довольствие – тогда питание обойдется вам всего в тридцать фунтов стерлингов за год, как и остальным офицерам. Я уже сообщил Пикоку, что Адмиралтейство не намерено платить вам жалованье, хотя оно и предусматривает для вас официальное назначение. Если, однако, вы все же настаиваете, то, вероятно, его вам определят. – Капитан Бофорт, по этому последнему пункту я хотел бы переговорить со своим отцом. Он щедро выделял средства для моих занятий в Кембридже, и я полагаю, что он будет продолжать их мне выплачивать. Бофорт непроизвольно заскрежетал зубами, вспомнив свою собственную молодость, когда он только и делал, что выплачивал отцовские долги. Чарлз почувствовал эту перемену в его настроении. – Думаю, впрочем, что никакого жалованья не потребуется, сэр, произнес он нерешительно. – У меня нет никакой уверенности, что от меня на "Бигле" будет хоть какая-нибудь польза. Конечно, я намерен собирать коллекции по всем разделам естественной истории… Бофорт сразу увидел, что он подрывал веру молодого человека в свои силы. Мускулы его лица расслабились. Когда он опять заговорил, голос его звучал мягко. Встав, Чарлз поблагодарил капитана за участие. Бофорт уже склонился над картами, почти страшный в своей одержимости. Наконец Чарлз снова очутился на улице: после двух этих бесед голова его кружилась. Миновав Уайтхолл, он сразу же за Казначейством свернул к Темзе, прошел вдоль внушительного вида парламентских зданий, потом вернулся к Вестминстерскому мосту-и, стоя на нем, долго глядел, как под ним бурлят зеленые воды реки, устремлявшиеся к Ла-Маншу. На руках у него выступила сыпь. Подобное происходило с ним до этого всего один или два раза, когда он испытывал нервное напряжение. "Да, Шекспир прав. Есть и в самом деле "в делах людей приливная волна", я это испытал, – думал Чарлз. – Сегодня в час дня я считал, что надежды на путешествие нет. А в два тридцать я получаю не только официальное назначение, но и, возможно, жалование!". Он вернулся к себе, помылся и переоделся, готовясь к дружескому ужину в клубе с капитаном Фицроем… В Лондоне он пробыл шесть дней. 11 сентября вместе с капитаном Фицроем Чарлз отправился в трехдневную поездку почтовым пароходом: из устья Темзы, миновав Рамсгит и Дувр, им предстояло выйти в Ла-Манш и взять курс на запад, чтобы, обогнув остров Уайт, попасть в Плимут. В последний момент капитан Фицрой спросил: – А вы уверены, что хотите проделать этот путь по воде? Почтовый дилижанс "Дефайнс" доставит вас в Плимут всего за двадцать шесть часов. Боюсь, если Ла-Манш будет "не в духе", вы, чего доброго, испугаетесь и передумаете плыть на "Бигле". – Ничто не заставит меня отказаться от "Бигля". – Вы, кажется, упоминали, что плавали на кораблях? – Да, однажды. Это было четыре года назад, когда мой дядя Джозайя Веджвуд пригласил меня сопровождать его в Женеву, откуда он должен был забрать домой своих дочерей. Не могу сказать, что хорошо себя чувствовал, но с аппетитом съел на обед ростбиф. Семья тринадцатилетнего Чарлза Мастерса, нанявшегося на "Бигль" волонтером первого класса, обратилась к капитану Фицрою с просьбой взять их сына под свою опеку: мальчик впервые уезжал из дома. Дарвин вызвался о нем позаботиться. В Плимутский пролив они пришли на закате дня: стояла середина сентября, небо и море были безупречно бирюзового цвета. За громадным волнорезом пакетбот через узкий проход вошел в Саттон-Пул, где пришвартовался у одного из причалов поблизости от Сторожевой набережной. Саттон-Пул окружали массивные трехэтажные каменные склады, к крышам которых были подвешены шкивы для подъема прибывавшего груза. Когда Чарлз спускался по трапу, капитан Фицрой обратил его внимание на сгрудившуюся неподалеку толпу. – Здесь в Саттон-Пуле отцы города поставили позорный стул, – пояснил он. – К нему привязывают распутных или особо сварливых женщин и окунают их в воду. Между прочим, вон по тем ступенькам на противоположной стороне в 1620 году спускались пилигримы на свой "Мей-флауэр", отправляясь в Новый Свет. Фицрой взял наемный экипаж. Юного Мастерса и весь багаж поместили наверху. Капитан распорядился, чтобы кучер вез их в Хоу, с зеленой возвышенности которого горожане, совершая променад, могли обозревать почти весь Плимутский пролив. Десятки парусников стояли на якоре в расположенной совсем рядом небольшой бухте Маунт-Бэттен и в безопасных бухточках Кэтуотера. По правую руку высилась неприступная цитадель с гигантскими медными пушками для отражения нападения возможного агрессора, который вторгся бы в Англию с моря. По левую – располагалась Дровяная гавань, куда доставлялся с Балтики скандинавский лес. На дальнем конце виднелись Уильямские королевские продовольственные склады, а прямо перед собой можно было видеть островок, где в 1582 году сэр Френсис Дрейк, спустя два года после того, как он обогнул земной шар, установил свой компас. – Дух захватывает! – воскликнул Чарлз. Затем экипаж повез их по Юнион-стрит к мосту Стоун-хаус Проехав центром Плимута, Дарвин нашел, что это – шумный процветающий город со множеством прекрасных зданий. Вдоль узких мощенных булыжником улиц тянулись жилые дома, построенные при Елизавете и Якове, с богато украшенными верхними этажами. В Девонпорте Фицрой показал вознице, как выбраться из лабиринта улиц на небольшую возвышенность, расположенную прямо над Королевскими военно-морскими доками. – Вот он! – вскричал капитан. – Не красавец ли? Чарлз почувствовал, как ухнуло куда-то его сердце: без мачт и переборок "Бигль" производил впечатление деревянного скелета. – Он больше похож на потерпевшее крушение судно! – сорвалось у него с языка. Капитан Фицрой остался невозмутим. – Это потому, что вы понятия не имеете, каким он станет после окончания ремонта. Сегодня тринадцатое сентября. А распоряжение снарядить "Бигль" во вторую экспедицию мы получили четвертого июля. И поскольку надо было менять палубу и ремонтировать значительную часть верхних построек, я добился разрешения поднять верхнюю палубу. Для морского судна это огромное преимущество, оно существенно улучшит условия всех, кто находится на его борту, – как-никак восемь лишних дюймов в кормовой части и двенадцать – в носовой для еды, сна и работы. Видите ли, Дарвин, – темное красивое лицо Фицроя светилось гордостью, – я поклялся не жалеть ни расходов, ни усилий, с тем чтобы наша маленькая экспедиция имела все, чего только можно добиться с помощью моих средств и трудов. Чарлз подумал о восемнадцатифутовых потолках в комнатах нижнего этажа у них в Маунте и о десяти-двенадца-тифутовых – в спальнях верхнего: "Мы меряем футами, а Фицрой – дюймами". Капитан между тем продолжал: – Днище практически все сгнило. Мы обшиваем его двухдюймовыми еловыми досками. Поверх этого слоя будет другой – медный, а между ними – войлочная прокладка. – Но разве вы сможете все это закончить к десятому октября? – Отплытие перенесено на двадцатое. Чарлз с облегчением вздохнул: у него будет больше времени, чтобы привыкнуть к виду этого деревянного скелета там, внизу. Постепенно опустилась ночь, как бы окутав тонкой завесой угольной пыли и доки, и корабли. Фицрой повернулся к Чарлзу: – Предлагаю отправиться ужинать в наш "Королевский отель" на Фор-стрит, это совсем рядом. Управляющий, мистер Лавинг, мой друг, он о нас позаботится. На рассвете там подают отменный завтрак. Потом мы двинем прямо на "Бигль", и я представлю вас нашим офицерам, покажу, где вы будете жить. Вы человек сухопутный, но "Бигль" вас переделает. Да и что может быть на свете прекрасней, чем корабль, несущийся по ветру на всех парусах! В небе среди клочьев бегущих облаков поднялось теплое лимонно-желтое солнце. Когда они пришли в док, то увидели, что по корпусу корабля уже снуют с инструментом в руках плотники, похожие на деловитых муравьев. Капитан Фицрой провел Чарлза по всему судну, прочитав ему при этом целую лекцию по мореходству, из которой тот усвоил лишь небольшую часть. Голос молодого капитана звенел от возбуждения. – Новая обшивка добавит судну около пятнадцати тонн водоизмещения и почти семь тонн веса. Руль у нас будет сделан по чертежам капитана Лайхоу. Вот здесь, в камбузе, вместо обычного очага поставят печь Фрэзера с духовкой. Громоотводами, которые изобрел Гаррис по прозвищу "Гром и молния", – он сам приедет сюда, чтобы помочь их установить, – мы оборудуем не только все мачты, но и бушприт, и даже утлегарь. Веревки, паруса и рангоутное дерево у нас самого лучшего качества. А все каюты будут отделаны красным деревом. Сейчас специально для нас строят несколько превосходнейших лодок. Их конструкция и крепление таковы, что они выдержат любой шторм… У Чарлза голова шла кругом: столько раз ему приходилось спускаться в люки на носу и на корме, снова подыматься наверх, заходить и выходить из еще не отстроенных кают, кают-компании младших офицеров, спального помещения для мичманов, лазарета, склада корабельных парусов и угольного погреба. – Каким же идиотом я был вчера вечером, сэр, сравнивая "Бигль" с судном, которое потерпело крушение! – Скажу вам только одно, Дарвин: от берегов Англии никогда больше не отправится вторая такая экспедиция, снаряженная, как наша, чтобы обогнуть земной шар и нанести его на карту! А сейчас разрешите представить вас моим коллегам-офицерам. Офицеры "Бигля" были не в парадной форме: белые летние брюки, на плечах золотые галуны вместо эполет. Капитан Фицрой одно за другим перечислял их имена: – Джон Уикем, старший лейтенант, строевой офицер, ведет корабль. Эдвард Чафферс, штурман. У каждого на судне свой начальник, которому он непосредственно подчиняется. Съемочными работами руковожу я: определяю, куда двигаться кораблю дальше и сколько времени продлится стоянка, чтобы завершить съемку. Чарлз приглядывался к своим будущим товарищам по плаванию. Джон Уикем – среднего роста, худощавый и гибкий, с обгоревшим на солнце лицом. Весь его облик говорил о властном характере. Формально не получив образования, он тем не менее был начитан, сам выучился испанскому, чтобы в случае надобности представлять капитана Фицроя на переговорах с южноамериканскими чиновниками. На судне капитана почитали как бога, на которого простой смертный не осмеливался даже взглянуть. Уикем же был его правой рукой; приказы, им отдаваемые, выполнялись быстро и неукоснительно: никто другой на борту не знал корабль лучше, чем он. Пристальный взгляд его агатово-голубых глаз, казалось, пронизывает насквозь. – Мистер Уикем, это Чарлз Дарвин. Он едет с нами в качестве натуралиста. – Добро пожаловать на судно, мистер Дарвин. Постараемся, чтобы плавание прошло для вас гладко. – Благодарю вас, мистер Уикем. А что, Огненная Земля и в самом деле такое страшное место, как мне рассказывали? – Еще страшнее. Но уверен, через все испытания вы пройдете целым и невредимым. Направляясь на корму, Фицрой заметил: – Во время первой экспедиции он нанялся на "Адвен-чер" простым матросом и за год дослужился до лейтенанта. Следующим капитан Фицрой представил лейтенанта Бартоломью Джеймса Саливена. С отличием окончивший Королевский военно-морской колледж, он был на два года моложе Чарлза. Когда Саливен учился на первом курсе, Фицрой заканчивал последний, но они стали друзьями. Некоторое время Саливен прослужил на "Бигле", участвуя в первой экспедиции, и сейчас Фицрой сам попросил направить его к себе на судно в качестве лейтенанта. Приятной наружности, с копной темных волос над высоким лбом, с карими глазами, широким скуластым лицом, Саливен был необычайно разговорчив, что никак не вязалось с его плотно сжатым ртом. Все сходились на том, что он "достоин пальмовой ветви за красноречие". Он родился на берегах Фалмут-Харбор: отец его служил морским офицером, так что море было "написано ему на роду". Несмотря на свои двадцать лет, он носил форму как заправский моряк. Добродушный, открытый, Саливен любил свою службу и рассчитывал со временем стать адмиралом. В дополнение к своим многочисленным флотским талантам он был талантлив и в дружбе. Чарлза он приветствовал с шумной сердечностью. Первыми его словами были: – Вот уж не думал, что встречусь с внуком доктора Эразма Дарвина! Что за великий человек! И какой медик и писатель! Я дважды перечитывал его "Ботанический сад"! В детстве отец, бывало, читал мне его стишок: Ответь, о смертный, на вопрос: Ужель от хлеба красен нос? То старый эль – ужель неясно – Всех с носом оставляет красным. Правда, моим любимым было другое его стихотворение, где он пишет про огонь, землю и "необъятный небосвод". В лазарете Чарлз встретился с человеком, которому суждено было за время путешествия стать одним из самых преданных его друзей, двадцативосьмилетним Бенджамином Байно. Разница в их возрасте составляла шесть лет, но выглядели они одногодками. Родился Байно на Барбадосе в английской семье, и на учебу его послали в Англию. Диплом врача он получил в марте 1825 года, был зачислен в военно-медицинский корпус и по счастливой случайности получил назначение на "Бигль" помощником хирурга. Когда в 1828 году капитан Фицрой пришел на корабль, они подружились. Как раз во время снаряжения "Бигля" в новую экспедицию в июле 1831 года Бенджамин Байно сдал последние экзамены и ожидал теперь назначения на должность судового хирурга. Светлокожий, с серыми глазами, мягкий по натуре, он совершенно преображался, ухаживая за больным или раненым в своем лазарете – будь то офицер или любой другой член экипажа. Известно было, что однажды он накричал на пациента: – Вы хотите умереть, идиот вы эдакий! А я вам этого не позволю! Подумайте-ка лучше, что станет с моей репутацией. Черт меня подери, но я намерен сохранить вам жизнь, нравится вам это или нет! К больным он был "беспощаден" и не выпускал из лазарета матроса до тех пор, пока не убеждался, что тот в состоянии будет взобраться на верхушку грот-мачты. По какой-то необъяснимой причине главным хирургом на "Бигль" во время второй экспедиции Адмиралтейство назначило доктора Роберта Дж. Маккормика. Бенджамин Байно стал его помощником. К такому повороту событий он отнесся философски. – Все это лишь вопрос времени, – заметил Байно. – Я уважаю Маккормика. Человек он знающий, к команде относится заботливо. Единственный пациент, которому он ничем не может помочь, – он сам. Маккормик ненавидит тропики и жару. Они делают его больным – физически ли, умственно, не знаю. Адмиралтейство осведомлено о том, что его уже дважды приходилось возвращать домой из Вест-Индии. И зачем только им понадобилось снова подвергать его столь неприятным испытаниям? Затем капитан Фицрой подвел Чарлза к тому месту на верхней палубе, где предстояло закрепить ялик и два двадцативосьмифутовых вельбота, которые должны были опускаться в сторону кормы. После этого он показал его каюту на полуюте, за рулевым колесом с надписью: "АНГЛИЯ ЖДЕТ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ВЫПОЛНИТ СВОЙ ДОЛГ!". – Преимущество вашей каюты, – пояснил Фицрой, – в том, что вы попадаете туда прямо с верхней палубы. У вас, как и у меня, три окна в потолке, но моя каюта на нижней палубе, на уровне ватерлинии. Единственное неудобство для вас, что каюта расположена в кормовой части, где больше ощущается качка. Но вы к этому привыкнете. – Как все моряки? – Честно говоря, не все. Даже наш неустрашимый Уикем и тот страдает от морской болезни на более маленьких судах. Открыв дверь каюты, Дарвин застыл на месте от изумления, потом стал измерять ее шагами в длину и ширину. Последняя составляла немногим более одиннадцати футов. Часть площади при этом занимали пока что пустые книжные шкафы, полки для инструмента и выдвижные ящики. В центре каюты размечено было место для чертежного стола шесть с половиной на четыре с половиной фута. – Выходит, с боков остается всего по два фута! – воскликнул Чарлз. – В более широкой части – три фута, в узкой – два, – отвечал Фицрой. Для ходьбы можете рассчитывать на два фута вокруг стола. Ваш гамак мы подвесим вот в этом углу, поближе к выдвижным ящикам. Стоке, который будет проводить за столом большую часть дня, повесит свой гамак наискосок от вашего. Вы оба будете спать над столом, зато над головой у вас – целых два фута высоты до верхней палубы. За столом должен работать еще один человек мичман Филип Кинг. Могу себе представить, что для сухопутного человека помещение кажется тесноватым. Чарлз выдавил из себя: – Постараюсь использовать его в полной мере. – Так я и думал. Мне, правда, предлагали судно побольше, но я выбрал это, так как на опыте убедился в его исключительных качествах и надежности при самых коварных штормах. Размер – это далеко не все. Надежность корабля зависит прежде всего от основательнссти конструкции, знаний офицеров и мастерства экипажа. Ну, вы все еще не раздумали с нами плыть? – Нет, капитан. Мое отношение к плаванию подобно морскому приливу, только прибывает он не сразу, а небольшими волнами, – это мои сомнения и надежды, которые постоянно сменяют друг друга. Прошу извинить мне столь вымученное сравнение. На худощавом темном лице капитана Фицроя появилась дружелюбная улыбка. – Пойдемте знакомиться с остальными нашими офицерами. Они, быть может, и не подходят для королевского двора, но люди все славные… По прибытии в Лондон он нанес визит своему дальнему родственнику модному в аристократических кругах врачу Генри Холланду, жившему на Брук-стрит. Справившись из вежливости о новостях с момента их последней встречи за чаем в Мэр-Холле, тот, казалось, потерял всякий интерес к Чарлзу, предпочитая рассказывать о самом себе. – Семья еще ничего не знает об этом, но я усиленно ухаживаю за дочерью Сидни Смита, нашего остроумного и блестящего богослова. И я ей как будто нравлюсь. – Но, спрашивается, любите ли вы ее? – откликнулся Чарлз. – Не знаю… во всяком случае пока. Любовь в тридцать четыре года – в этом возрасте я женился в первый раз – отличается от любви в сорок два, когда у меня на руках четверо детей и прошел всего год, как я потерял жену. – Понимаю. – А поняли ли вы, когда мы виделись в Мэр-Холле, что я был без ума от Шарлотты Веджвуд? Я сказал ей, что у меня самые серьезные намерения. Она ответила, что уважает меня, что я ей нравлюсь, прибавив, что из меня, по ее мнению, получится заботливый муж. "Но, – закончила она, – я не смогу полюбить вас, как это ни печально". Однажды после полудня в дверь квартиры кто-то постучал. – Мистер Чарлз Дарвин? – Он самый. – Меня послал к вам капитан Фицрой. Отплытие "Бигля" снова переносится. На этот раз на четвертое ноября. Чарлз застонал. – Я тоже, как и вы, ненавижу ждать. Кстати, давайте познакомимся: Огаст Эрл, художник, нанят капитаном Фицроем, чтобы запечатлеть наше кругосветное плавание. – О, я так и думал, что вы художник. Вы чем-то на него похожи. Заходите. Хозяйка как раз собирается подавать чай. – С удовольствием. Вместо визитки я принес вам гранки своей новой книги. Чарлз прочитал заголовок: "Описание девятимесячного пребывания в Новой Зеландии". Ему достаточно было перелистать несколько страниц, чтобы убедиться, что пишет Эрл хорошо. Проглядывая книгу, Чарлз одновременно украдкой изучал лицо художника, его фигуру. Хотя Эрлу и было уже тридцать восемь, гладко выбритая кожа его лица оставалась по-мальчишески чистой и свежей, без единой морщинки, а брови – густыми и черными. На нем были широкие свободные матросские брюки, мятая белая рубаха (жилетки он не носил), стоптанные башмаки, небрежно повязанный черный галстук и круглая широкополая матросская шляпа. И отец и брат Эрла были профессиональными художниками, прошедшими школу Королевской академии. Огаст, можно сказать, родился прямо в мастерской. Он не хотел заниматься ничем иным, кроме живописи, и свои первые работы, всем на удивление, выставил в академии в возрасте тринадцати лет. Со времени окончания наполеоновских войн он много путешествовал, добираясь до таких отдаленных мест, как Австралия, Карфаген, земли берберов в Северной Африке, Чили, Индия, где его привлекали не только экзотические ландшафты, но и жизнь, хозяйство и войны примитивных племен. Аборигены, которые охотно принимали его, немало потешались при виде взрослого человека, размазывающего краски по куску дерева или холста. Тем временем хозяйка принесла чай и легкую закуску, и Эрл набросился на них прямо-таки с волчьим аппетитом. Самоучка, он необычайно много читал и за счет этого был неплохо развит. О пережитом он рассказывал с поистине детской непосредственностью, особенно о своих стычках с англиканскими миссионерами во времена, когда ему пришлось жить и заниматься рисованием среди племени маори. Его образ жизни настолько шокировал миссионеров, что они обвинили художника в разлагающем влиянии на аборигенов и начали кампанию по изгнанию Эрла с острова. – Они приписали мне отсутствие религиозности! Между тем, пока я жил на Тристан-да-Кунья, я каждое воскресенье вел по утрам богослужение в англиканской церквушке. Вообще я верю в божественное провидение. А вы? – Я тоже. Более того, приглашение отправиться на "Бигле" просто невозможно объяснить без божественного вмешательства. Вскоре после ухода Эрла посыльный из книжного мага" зина Родуэлла принес Чарлзу пакет. Вскрыв его, он, к величайшему своему восторгу, обнаружил там книгу Чарлза Лайеля "Основы геологии" – подарок капитана Фицроя. Генсло написал Дарвину рекомендательные письма к ботанику Роберту Броуну, писателю, автору многочисленных путевых очерков Уильяму Бэрчеллу, а также президентам Геологического и Зоологического обществ и директору Британского музея, но почему-то не включил в этот список Лайеля. Между тем Чарлз знал, что они встречались, когда в 1826 году Лайель провел в Кембридже целую неделю. Может быть, Генсло не написал ему в силу расхождения их взглядов? Не оспаривая фактов, касавшихся изменений в земной коре, замечательно описанных ученым, Генсло считал вопиюще ошибочными выводы, сделанные Лайелем. Что касается Чарлза, то он очень хотел повидаться с ученым, который в свои тридцать три года, обобщив новейшие данные, опубликовал книгу, вызвавшую ожесточенные споры, но которая вместе с тем оценивалась некоторыми как "самое авторитетное пособие по геологии". Еще в 1795 году шотландский геолог Джемс Хеттон выпустил свою "Теорию земли", где говорилось: "Не следует рассматривать святое писание в качестве учебника по геологии или какой-нибудь другой науке". Но его книга, написанная трудным языком, оставалась мало кому известной. В отличие от Хеттона Чарлз Лайель писал великолепно. Дарвин зачитался далеко за полночь. Теперь ему легко было увидеть, почему Генсло не мог принять взглядов Лайеля. Ведь первый, в полном соответствии с Библией, измерял геологическое время всего несколькими тысячелетиями. Школа Генсло полагала, что, после того как господь бог создал мир и населил его, как сказано в книге Бытие, он разочаровался в созданных им существах и ниспослал на их головы катастрофу, чтобы уничтожить Землю и опять начать все сначала. Что же касалось Чарлза Лайеля, то он связывал геологические процессы и явления с силами, действовавшими беспрерывно и равномерно на протяжении миллионов лет. Подобный взгляд был настоящей революцией. Хотя Адам Седжвик и пришел к частичному признанию серии катастроф, он ни за что не хотел признать концепцию эволюционных изменений, вызываемых естественными силами, а не божественным промыслом. Шел уже второй час ночи, когда Чарлз задул свечу и, упав на кровать, продолжал неподвижно лежать в темной комнате, пытаясь вжиться в новую теорию, которую он только что проглотил. В памяти всплыли слова одного из тьюторов в колледже Христа: – Книги – это последние хранилища всего сущего. Хорошего и дурного. Истинного и ложного. Мудрого и невежественного. Чарлз рывком сел. "Зачем вдруг капитану Фицрою понадобилось посылать мне именно эту книгу? Странно, что он выбрал для меня такой подарок. Ведь в Лондоне немало толкуют о религиозном фанатизме Фицроя, который согласился взять меня на "Бигль" в качестве натуралиста главным образом из-за того, что в будущем я собираюсь принять духовный сан". Чарлз подошел к окну, выходившему на Адмиралтейство, отдернул шторы. Капитану Фицрою наверняка известно содержание книги Лайеля, ведь в прессе о ней было предостаточно полемики. Выходит, раз он все-таки послал ее, слухи о религиозности капитана явно преувеличены! Они, правда, знакомы не так уж давно, но за все это время Чарлз ни разу не слышал, чтобы Фицрой произнес что-нибудь подобное тому, что он однажды услышал от Генсло: – Мне невыносимо думать, что хоть одно слово из тридцати девяти статей доктрины англиканской церкви может быть изменено. Да и вообще капитан не упоминал ни об англиканской церкви, ни о религии в целом. Почувствовав облегчение, Чарлз снова лег. "Я отправляюсь на "Бигле" на целых три года не ради какой-то сверхидеи. В мою задачу не входит доказательство правоты или неправоты священного писания. Я еду просто для того, чтобы наблюдать и собирать. Океан, земля, горы – все они должны приоткрыть мне свои тайны. Что же касается теологии, то спорить о ней с капитаном Фицроем я не собираюсь".В море нет гор
Когда Чарлз снова поднялся на то же самое возвышение в Девонпорте, откуда капитан Фицрой впервые показал ему "Бигль", он так и обмер от изумления. За те тридцать восемь дней, что он его не видел, гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Вся перестройка была завершена. Глаз его подметил и добротно обшитый планками корпус, и приподнятую верхнюю палубу, и переборки, и вздымающиеся мачты, и наверху, на корме, его чертежную. По сравнению с другими стоявшими на верфи судами бриг выглядел маленьким, но в его симметрии заключалась особая элегантность. На носу "Бигля" возвышалось небольшое резное декоративное изображение гончей ["Бигль" – по-английски означает "гончая". – Прим. пер.]. Судно располагало тремя светлыми отсеками, два из которых имели по три окна: один из них находился над чертежной, второй – над капитанской каютой, третий – над более вместительной кают-компанией младших офицеров, где они обедали, – имел по четыре окна с каждой стороны. Спускаясь к причалу, Чарлз увидел, что вся команда занята покраскойносовой части судна. Поднявшись на палубу, он обнаружил, что плотники устанавливают выдвижные ящики в его каюте на корме и обшивают строгими панелями красного дерева стены офицерских кают и офицерской кают-компании. – Ну, как вам сейчас наша развалина? За его спиной стоял капитан Фицрой, чье худощавое красивое лицо выражало насмешливое удовлетворение. Чарлз покраснел. – Бриг просто великолепен. Даже сухопутный моряк вроде меня и то не может не восхищаться им. – Бригу положено только две мачты. Зато мы добавили по третьему парусу – для большей маневренности. По нашему мнению, это самое лучшее судно на здешней верфи. Главное, мой дорогой Дарвин, – это надежность конструкции. Без этого непременного условия роскошные панели красного дерева могли бы никогда больше не увидеть берегов Англии. В прошлый раз Чарлз успел побывать в Кларенских банях на Ричмонд-Уолк возле порта, названных так в честь принца Кларенского, который за год до этого приезжал на официальную церемонию открытия этого роскошного заведения. Капитан Фицрой перебрался на жительство в обнесенный стеной офицерский квартал, примыкавший к верфи. Дарвин же предпочел перевезти свои пожитки в меблированные комнаты одного из шести со вкусом обставленных доходных домов возле двух бань с бассейнами для плавания (там имелись холодный и горячий душ, парильня, отдельные банные кабины для купания и массажа). Свежая морская вода подавалась в бассейн прямо из Атлантического океана по чугунным трубам. Рекламное объявление в газете обещало, что дом, где поселился Чарлз, "располагает всеми удобствами", и так оно оказалось на самом деле: просторная, безукоризненно чистая спальня, гостиная и столовая, выходившие окнами на Гамоазский канал и зеленый ковер Эд куме кой горы. В день переезда было холодно и сыро, но после того, как Чарлз разместил свои книги на столах и полках, а вещи – в ящиках и комодах, новое жилище показалось ему весьма уютным местом для ожидания предстоящего отплытия. Всего в нескольких шагах отсюда находились расположенные при банях кофейня, газетная читальня, а также кондитерская. Неподалеку были и таверны: "Курс", "Охота", "Регата"; таверну "Фонтан" и "Гостиницу Томаса" посещали в основном морские офицеры. Спустя несколько дней младшие офицеры пригласили Дарвина с собой в интендантскую лавку возле верфи. Здесь были лейтенанты Уикем и Саливен, штурман Чафферс, доктор Роберт Маккормик, его помощник Бенджамин Байно, казначей Джордж Раулетт, а также художник Огаст Эрл. Офицеры развлекались тем, что, перебивая один другого, живописали ему страшную картину встречи с Нептуном, когда Чарлз впервые пересечет экватор. Хотя стоял уже конец октября, день выдался ясн:.:й, дул свежий бриз. Все находились в приподнятом настроении, будучи уверены, что сразу же после получения приказа корабль сможет отплыть немедленно, едва только с севера задует ветер, который позволит им двигаться на юг. Дружеская обстановка пришлась Чарзлу по душе. "Чудесный народ, думалось ему. – И не беда, если манеры немного грубоваты". Куда больше его заботило другое: их речь перемежалась морским жаргоном, так что большей частью он понимал столько же, как если бы говорили на древнееврейском языке. Время проходило с приятностью, хотя погода то и дело менялась, почти как в Северном Уэльсе: холод, бесконечные дожди, туман – и яркое солнце. Все дни он проводил на "Бигле", пытаясь не путаться под ногами матросов, которые под руководством парусных дел мастера продевали через паруса крепкие шкоты, с чьей помощью их можно будет поднимать, закреплять и быстро опускать на палубу, если разразится шторм. Чарлз обшарил на корабле все закоулки, изучил палубы и ют. На полубаке стояло легкое орудие, возле фальшборта, по обе стороны шкафута, – "хлопушки". Четыре медные пушки, стрелявшие девяти- и шестифунтовыми ядрами, находились в кормовой части. Двадцатипятифутовые вельботы были подвешены к шлюпбалкам на юте, а два двадцативосьмифутовых – прикреплены к рейкам на шканцах. Посередине размещалась самая большая из лодок, ял, внутри которого, чтобы сэкономить место, гнездился маленький бот. На корме пристроилась судовая шлюпка. В Плимуте Чарлз сделал свои последние покупки – ночные колпаки, чтобы не застудить голову во время сна, и резиновый плащ со специальным карманом для хранения питьевой воды. Вечерами он был занят не меньше, чем днем. Гордившийся красотой и надежностью своей гавани, Плимут превратился также в один из самых богатых культурных центров Англии. К семи часам Чарлз являлся на научные лекции, читавшиеся в "Атенеуме", портик которого с четырьмя дорическими колоннами выходил на Плимутский пролив. Клуб располагал превосходной библиотекой и роскошным конференц-залом. Только что вышедшие из печати книги он брал на Корнуэлл-стрит в греческом храме, носившем название "Частная библиотека"; на богослужения ходил в церковь св. Катерины, стены которой были искусно украшены деревянными панелями. Кроме того, он много гулял по городским улицам. В Плимуте процветала оживленная торговля рыбой, разгружались и нагружались суда, работали железоделательные, мыловаренные и цементные заводы, мануфактуры, производившие парусину и канаты. Чарлзу повезло с соседом, с которым ему суждено было делить и чертежный стол, и каюту, – девятнадцатилетним Джоном Лортом Стоксом, родом из Юго-Западного Уэльса. Во время совместной экспедиции "Бигля" и "Адвенчера" в 1825 году ему было всего тринадцать лет, и присматривавший за подростком капитан Филип Кинг уже тогда отмечал в нем "уравновешенность, постоянство и добропорядочность". Чарлз сразу же подружился со Стоксом, что было весьма кстати, потому что жить бок о бок в одной каюте им предстояло не один год. – Вы с ним поладите, – спокойно отозвался Фицрой. – Стоке – мой самый надежный союзник на "Бигле". Когда нам поручили эту вторую экспедицию, я попытался добиться для него повышения и должности своего помощника. Я писал в Адмиралтейство о том, что он заслуживает назначения на должность помощника главного гидрографа, тем более что никакой прибавки к жалованью этот пост не предусматривает. Капитан пожал левым плечом – жест, которым он обычно выражал свое разочарование. – Отказали. Чересчур молод. Но все равно я сделал его своим помощником – неофициально. Он – настоящий талант. Да вы сами увидите. А со временем и Адмиралтейство тоже. На мягкое, открытое лицо Джона Стокса приятно было смотреть: оно как нельзя лучше отражало его дружелюбный характер. Всегда свежевыбритый, с ясными дымчато-серыми глазами, с шапкой густых черных волос, разделенных на пробор с такой тщательностью, будто он пользовался при этом одним из своих гидрографических инструментов. Среднего роста, еще не раздавшийся в плечах, он говорил неторопливо, с мягким пембрукширским [Пембрукшир – одно из графств Юго-Западного Уэльса. – Прим, пер.] акцентом, никогда не допускал ни назойливости, ни грубости; уверенные движения его рук выдавали в нем прирожденного чертежника. Когда Чарлз спросил, не разочаровал ли его отказ Адмиралтейства, заметив при этом: "Один почет, говорят, не в счет", Стоке беспечно отвечал: – Отец отзывался об удаче так: "Не будешь надеяться – не поймаешь". Время у меня есть. На флоте я намерен оставаться всю жизнь и надеюсь, что в одной из будущих экспедиций стану капитаном "Бигля". Чарлз негромко рассмеялся: – С такой установкой, Стоке, вы дослужитесь до адмирала. – Не исключено. Пошли покатаемся? Небольшую лодку я смогу раздобыть. Находившийся на борту тринадцатилетний Чарлз Мастере начинал уже тосковать по дому, и они решили прихватить его с собой. Пристав в Мильбруке, они привязали лодку и двинулись берегом моря вдоль западного склона Эдкумской горы. Фермы и каменные амбары, похоже, стояли тут еще со времен крестовых походов. Деревня, через которую они проходили, располагалась в низине у подножия высоких холмов, под сенью величественной горы. К единственной дороге, пригодной разве что для повозки с осликом, лепились старой кирпичной кладки дома, оштукатуренные снаружи; лишь изредка попадались сады, вносившие разнообразие в окружавший их горный ландшафт. В самом конце деревни они увидели сельскую церквушку с кладбищем, за которым тропа начинала свой извилистый путь наверх. – Для меня ходьба – это жизнь! – радостно воскликнул Чарлз. – Когда я подчиняю себе горное пространство, взбираюсь ли я на вершину или спускаюсь, я чувствую себя человеком. Стоке ухмыльнулся: – В море нет гор, если не считать тех, на которые "Бигль" начнет взбираться в шторм! Они стояли сейчас на длинном склоне, круто спускавшемся к прелестной деревеньке Косэнд у залива, с высокими деревьями и добротными домами. Внизу виднелись каменные укрепления, по обеим сторонам которых простирались плодородные поля, где пасся скот. Спустившись, они очутились на маленькой вымощенной камнем площади возле самого залива и зашли в трактир "Контрабандисты". – Нет, Джонни Стоке, – произнес Чарлз за кружкой эля, – вы неправы. Ведь на каждой стоянке "Бигля" будут горы. И я намерен на них взбираться. На следующее утро Стоке пригласил его с собой в Ате-неумский сад. – Я собираюсь привести в порядок принадлежащую "Биглю" астрономическую обсерваторию, чтобы производить наблюдения за склонением магнитной стрелки. – А что это такое? – Вы пользовались компасом? Ну так вот, это тоже компас, для навигации он крайне важен. Еще со времени Гилберта, то есть примерно с 1600 года, было известно, что земля действует как огромный двухполюсный магнит, обнаруживающий себя в двух направлениях: горизонтальном, что проверяется с помощью обычного компаса, и вертикальном, на которое реагирует подвижно закрепленная магнитная стрелка. На магнитном экваторе вертикально подвешенная магнитная стрелка занимает горизонтальное положение, а на полюсах стоит вертикально. И по тому, насколько она отклоняется к западу или к востоку, мореплаватель может судить о магнитном склонении. Раньше капитан ориентировался только по компасу и звездам, теперь же с помощью этого нехитрого устройства он узнает долготу и широту. Свое местоположение он определяет везде – на севере и на юге, на востоке и на западе – по отношению к двум полюсам и экватору. – Общепринято, что Плимут – географический центр мира [Таким центром английские моряки в то время считали этот расположенный в относительной близости от Гринвичского меридиана порт на Ла-Манше. – Прим. пер.], добавил Стоке. – Когда мы установим здесь центральное время, все находящиеся в море суда, обозначив свое местоположение, смогут приближенно сверить свое время с тем, которое показывают часы в Атенеумском саду. – Значит, когда я буду проплывать по Магелланову проливу, то смогу с точностью сказать, когда здесь, в "Атенеуме", начнется семичасовая лекция! – Reductio ad absurdum! [Reductio ad absurdum (лат.) – приведение к абсурду (как способ доказательства), – Прим. пер.] – воскликнул Стоке. – Я учился всего четыре года, а подготовлен лучше, чем вы! – Разные предметы, мой милый, разные предметы! Познания Дарвина пополнялись с каждым днем. Нередко за обедом у уполномоченного морского ведомства, куда его брал с собой капитан Фицрой, Чарлз встречался и беседовал с капитаном Филипом Паркером Кингом, чей двухтомник "Описание обследования тропических и западных береговых районов Австралии" настоятельно рекомендовал ему в Мэр-Холле Джозайя Веджвуд, Как-то капитан Кинг отвел его в сторону и сказал: – На "Бигле" в качестве мичмана отправляется мой четырнадцатилетний сын Филип. Это уже не первое его плавание. Как волонтер он провел на "Адвенчере" целых пять лет. Когда мы отплывали, ему было всего девять, но тогда на корабле находился я и мог сам за ним присмотреть. Сейчас я не могу просить о том же никого из офицеров: ведь это означало бы, что для сына создаются какие-то особые привилегии. Но поскольку вы не моряк, вас я могу попросить о таком одолжении. Зная, что на борту у него есть друг, я чувствовал бы себя спокойнее. – С удовольствием сделаю все, что смогу, – уверил его Чарлз. – Моим заботам уже поручили юного Мастерса. Я буду брать их обоих с собой на берег, чтобы они учились естествознанию. Видавшее виды лицо капитана озарилось благодарной отеческой улыбкой. – Спасибо, мой дорогой Дарвин. В свою очередь, пока "Бигль" стоит здесь на якоре, позвольте мне поделиться с вами некоторыми из моих метеорологических наблюдений. Я научу вас, как пользоваться инструментами, чтобы предсказать надвигающийся "вилли-во" ["Вилли-во" – шквальный ветер в Магеллановом проливе, – Прим. пер.] или ураган, шторм или водяной смерч; как записывать барометрическое давление, точку росы, силу ветра, количество выпадающих осадков… До сих пор кумирами Чарлза всегда оставались ученые. Профессора Генсло, Седжвик… Их вклад в ботанику и геологию позволил сделать эти науки точными. Сейчас судьба свела его с людьми иного рода изобретателями-практиками, инженерами. Первым из них был Вильям Гаррис по прозвищу "Гром и молния", сорокалетний уроженец Плимута, который закончил медицинское отделение Эдинбургского университета, служил полицейским врачом, а затем вернулся домой, чтобы вести врачебную практику. Женившись в возрасте тридцати трех лет, он забросил медицину. Все свое время он посвящал решению вопросов приспособления электричества к многочисленным практическим потребностям; его перу принадлежал уже ряд статей по электричеству, напечатанных в ученых журналах. Чарлз познакомился с ним за обедом в таверне "Фонтан" и сразу же заразился его бьющим через край энтузиазмом. Сейчас Гаррис занимался установкой системы громоотводов на "Бигле". – Мистер Гаррис, не будете ли вы добры объяснить мне технику контролирования молний? – попросил его Чарлз. Глаза Гарриса и его белые зубы ослепительно блеснули. – Мы не контролируем их, мистер Дарвин. Правильнее будет сказать, мы их заземляем. – Мне понятно, как вы это делаете на суше. А вот на море? – Точно так же. Двадцать первого ноября я намерен продемонстрировать свой способ в "Атенеуме", используя вместо грозового облака электрическую машину, вместо моря – корыто с водой, а вместо кораблей – детские игрушки. Моя система состоит из медных пластин, наложенных одна на другую, проходящих сверху через мачты и реи, а снизу соединенных с водой. Преимущество, которое мы получаем, основано на следующем принципе: пройдя по столь большой поверхности, электрический поток оказывается ослабленным до такой степени, что он не оказывает никакого вредного воздействия даже в том случае, если молния попадает прямо в мачту. Система подобных проводников и будет установлена на "Бигле". Уверен, что за три года вам придется услышать и увидеть предостаточно громовых раскатов, слепящих вспышек молнии, но ни одна мачта, ни один матрос не погибнут. Второго "человека дела" он встретил в "Атенеуме" на лекции. Сэр Джон Ренни, тридцатисемилетний инженер, только что по проектам своего отца завершил возведение нового Лондонского моста. Сэр Джон теперь был занят перестройкой огромного мола, которому надлежало оградить вход в Плимутский пролив от штормовых волн Ла-Манша и Северной Атлантики. В 1812 году под руководством его отца в этом месте начали сбрасывать известняковые глыбы, и уже через год мол можно было видеть над поверхностью воды. Однако шторм 1817 года и ураган 1824-го нанесли сооружению такой урон, что потребовалась новая перестройка. Таким образом, сын снова завершал работу отца как представитель нового поколения, возможно лучше осознавая, что природа куда более искусна в разрушении, чем человек – в созидании. Настроен он был весьма дружелюбно. – Завтра утром я буду работать на молу, мистер Дарвин. Если вас подвезут, то присоединяйтесь ко мне, и я покажу вам, какие изменения мы вносим в конструкцию дамбы. Капитан Фицрой как раз собрался совершить рабочую вылазку на адмиралтейской яхте и пригласил Чарлза "прошвырнуться". Когда после измерения углов дамбы Фицрой возвратился на яхте обратно, Чарлз остался вместе с Ренни на обдуваемых ветром скалах, наблюдая за тем, как рабочие сбрасывают в воду огромные куски известняка из Орестонских каменоломен. – Первая наша ошибка, – пояснил сэр Джон, – заключалась в постройке дамбы под прямым углом. Вскоре мы поняли, что не следует давать морю возможность обрушиваться на какую бы то ни было перпендикулярную поверхность. Если оно в сердитом настроении, то может спокойно швыряться глыбами весом в тонну так, словно это всего лишь галька. Новый мол сумеет перехитрить даже самый сильный шторм. Мы строим его как покатую крышу дома. Вода будет ниспадать с него каскадом. Чарлз взглянул на бурлящую у их ног воду и врезающиеся в море известковые уступы насыпи. – Вы напоминаете мне Гарриса по прозвищу "Гром и молния", – воскликнул он. – Оба вы стремитесь доказать, что мозг человека может одолеть силы природы. – Одно слово предостережения, мистер Дарвин. К несчастью, неверно, что мозг человека в состоянии управлять всеми силами природы. Есть то, чего он никогда не сможет ни превзойти, ни подчинить себе. – Что же именно, сэр Джон? – Сам человеческий мозг. …Барометры предсказали верно. Не прошло и часу, как солнце исчезло и с Атлантики подул резкий юго-западный Еетер, приковав корабль к якорной стоянке в гавани. Вскоре с моря надвинулась тяжелая пелена проливного дождя. Как только похолодало, он тут же превратился сперва в мокрый снег, а затем в град. "Бигль" подпрыгивал на волнах, как пробка. Еще ни разу в жизни Дарвин не испытывал такого всепроникающего холода. Шторм продолжался несколько дней. Чарлзом попеременно овладевали то морская болезнь, то тоска по дому, то отчаяние при мысли, что им никогда не выйти из гавани. 2 декабря после полудня, когда он полулежал, вытянувшись в кресле в гостиной у себя дома возле Кларенских бань, куда он вернулся, чтобы отдохнуть после качки на судне, с "Трактатом по теории Земли" Кювье в руках, кто-то забарабанил в дверь. Открыв ее, Чарлз увидел на пороге своего брата Эразма с дорожной сумкой в руке. – Привет, Чарли. Сюзан сообщила мне твой адрес, и я приехал, чтобы повидаться с тобой. От удивления у Чарлза отвисла нижняя челюсть и округлились глаза. Эразм превосходно выглядел: лицо его, и без того смуглое, покрывал загар. Волосы на темени заметно поредели, зато на висках торчали пучками, напоминая крылья птицы. Взгляд его глаз, темных и привлекательных, казался отрешенным. Одежда на нем была дорогой, но не крикливой: шерстяной пиджак с широкими лацканами, жилетка, белый воротничок и тонкая шелковая рубашка с черным галстуком. Чарлз стиснул брата в объятиях. Прошло уже три с половиной года, как Эразм окончил колледж Христа. После краткого визита в Маунт он уехал в Лондон, откуда надолго отправился путешествовать по Франции и Австрии. Когда он стал жаловаться на скверные гостиницы и трудности путешествий, Чарлз поинтересовался, почему он не ведет оседлый образ жизни и не живет с комфортом. – Как раз это я и намерен сделать, – отвечал Эразм.. – Свое время я буду делить между квартирой на Риджент-стрит и Уиндхемским клубом в Сент-Джеймсе. Время моих скитаний прошло. Я собираюсь навсегда обосноваться в Лондоне и с грустью взирать на то, как проходят годы. – А врачебная практика? – Я принимаю не пациентов, а лекарства. Вообще-то со здоровьем у меня как будто все в порядке, только вот моральное состояние подводит: часто я не в состоянии ничего делать. Чарлз был ошарашен. Как, после стольких лет, проведенных в Эдинбурге, в колледже Христа – а ведь Эразм считался хорошим студентом, – забросить столь уважаемую специальность, к которой брат так хорошо подготовлен! Он, правда, вспомнил, что сам решил не связывать свою жизнь с больными и увечными. Да, но ведь он вышел из игры в самом начале и стал изучать теологию. А где будет искать себе другую профессию Эразм? – Нигде, дорогой мой Газ! Годы учебы в Эдинбурге и Кембридже, похоже, доконали меня. А если и не меня, то, по крайней мере, мое честолюбие. Впервые дошел до Чарлза истинный смысл гневных слов отца, когда он увидел письмо с приглашением от Генсло: "Дурацкая затея… бесполезная… после экспедиции ты уже не сможешь заняться ничем серьезным". Да, для Роберта Дарвина было бы ударом, если бы обнаружилось, что он вырастил двух бездельников, по существу живущих на деньги, присылаемые из дому, и присваивающих себе плоды многих десятилетий тяжелого и самоотверженного труда дарвиновской и веджвудовской семей… По своим моральным качествам они выглядели бы "паразитами" в глазах доктора Дарвина, посвятившего сорок четыре года беззаветному служению своим ближним. – Я вовсе не собираюсь бездельничать только потому, что у меня не будет постоянного занятия. – Значит, Рас, у тебя есть какой-то план действий? В таком случае я рад за тебя. – В Лондоне все настолько заняты, что у людей не остается времени, чтобы посвятить его дружбе. Я рассчитываю, что у меня оно будет оставаться, насколько, впрочем, позволит мне мое слабое здоровье. Чарлз прежде не знал, что у брата "слабое" здоровье. Наоборот, он всегда казался ему и здоровым, и сильным. – А кого ты намерен одаривать этой дружбой? Лицо Эразма исказилось гримасой боли. Ему был мучителен этот суд младшего брата, перед которым приходилось оправдываться. – Я много об этом думал. Я хотел бы завести в Лондоне свой дом, скромный, но уютный, где мог бы собираться народ – есть, пить, знакомиться, беседовать на интересные темы. Я виделся с несколькими писателями. Это, пожалуй, самые одинокие люди на свете, которых мне приходилось встречать. Каждый день Эразм сопровождал Чарлза на "Бигль", помогал записывать показания барометров, помогал и в других его делах, поражаясь трудолюбию младшего брата. Предстоящее плавание восхищало его, и он ликовал вместе с Чарлзом, когда наконец была объявлена новая дата отплытия – 5 декабря. Чарлз думал: "Бедный Рас. В сущности, он так одинок. Вот для чего ему понадобился его светский салон, чтобы другие могли дарить ему свое тепло и дружбу". Как-то он спросил Эразма: – А что насчет женитьбы? Согласуется это с твоими планами? – Не думаю. Не хочу брать на себя такого рода ответственность. – Даже если влюбишься? – Газ, по мужской линии в нашей семье ты – представитель романтического начала. Я еще помню, как ты гарцевал по полям и лугам с этой своей кокеткой Фэнни Оуэн. По правде говоря, я никогда не знал любви. Моей натуре она чужда. – Ну уж и чужда. Я тоже могу кое-что вспомнить: разве тебе хоть немножко не вскружила голову кузина Эмма Веджвуд? В семье одно время поговаривали, что вы поженитесь. Лицо Эразма осветилось теплой улыбкой. – Ах, Эмма! Наша очаровательная "мисс Неряха"! Да мы даже ни разу не держались за руки. Так что если кто-то и толковал о женитьбе, то только потому, что дарвиновским и веджвудовским кузенам и кузинам просто положено жениться и выходить замуж друг за друга. Вообще-то наши славные сестрички предпочли бы, чтобы я женился на Фэнни, второй из "голубок". – Лично я всегда думал, что ближе всех тебе кузина Шарлотта. Она красива, обаятельна, а ее акварели сделаны рукой мастера. – Перестань, Чарлз, на роль свахи ты явно не годишься. Отъезд Эразма вызвал у брата приступ неподдельной тоски – впервые за время пребывания в Плимуте. Редко случалось, чтобы он испытывал подобное чувство. 5 декабря, в понедельник, на небе с утра не было ни облачка. Капитан Фицрой отдал приказ: – Готовить корабль к отплытию! У команды вырвался вздох облегчения. Чарлз прыгал от радости… до тех пор, пока с юга не задул штормовой ветер, снова приковав "Бигль" к гавани. Сидя за столом в чертежной, он сквозь зубы процедил Стоксу: – Я возвращаюсь в свои Кларенские бани. Хочется доставить себе удовольствие и поспать на прочной, ровной, устойчивой кровати. – Смотрите не переусердствуйте, – предупредил Стоке. – Стоит подуть ветру с севера и нас унесет из Плимута раньше, чем вы успеете сбросить свою ночную сорочку. Чарлз продолжал жить на квартире, пока один порыв ветра сменял другой. С каждым днем все больше наваливалась усталость. Когда он ступил на борт, чтоб хоть чуточку взбодриться, качка на "Бигле" оказалась такой сильной, что он тут же поспешил ретироваться. День за днем офицеры только и делали, что следили за барометрами. Понадобилось целых пять дней, чтобы ветер наконец переменился. В девять вечера они снялись с якоря. Как только обогнули мол, их подхватила большая волна. И снова их предостерегли барометры: с юго-запада надвигается шквал. Корабль начал зарываться носом в волны. Чарлз испытал приступ морской болезни. Это была самая кошмарная ночь в его жизни: вой ветра, рев волн, хриплые возгласы офицеров и выкрики команды – да, этот ночной концерт он забудет не скоро. Утром капитан Фицрой приказал возвращаться в Плимут и ожидать там более благоприятного ветра. Чарлз снова вернулся в свои Кларенские бани. Следующие две недели были ужасны: постоянный резкий холод, снег, лед. Все это время Чарлз плохо ел и еще хуже спал; он исхудал, взгляд его сделался грустным. Его товарищи на "Бигле" ворчали и огрызались. Один из них, Питер Стюарт, его ровесник (на флот он пришел в четырнадцать лет), которого Чарлз навестил во время ночной вахты, сказал: – Там, на берегу, кто-то наверняка держит черную кошку под корытом. Поэтому-то мы и торчим все время в гавани. Пусть скорей подует с севера легкий бриз! Тогда все мы завопим от восторга. Господи, как хочется скорей попасть в тропики! Когда ветер немного стихал, он надевал свои тяжелые башмаки, большую черную непромокаемую шляпу и дождевик и, взобравшись на Эдкумскую гору, не обращая внимания на пронизывающий холод, часами бродил там, не думая о яростно бушующих волнах, которые обрушивались на песчаный берег и скалы у подножия. Он подставлял лицо ветру и дождю, проникавшему под глубоко надвинутую шляпу. Затем, глядя вниз на клокочущее море, он бормотал про себя: – Ужас! Так вот оно, то самое море, которому мне суждено отдать годы жизни? Сумею ли я выдержать это? В воскресенье он вместе с Чарлзом Мастерсом отправился в часовню при доках. Всю ночь дождь лил как из ведра. Впервые тогда он испытал сперва боль в области сердца, а затем сердцебиение. Это могло стать серьезной помехой для его плавания, но он пробурчал: – Мои беды – это мое дело, о них не узнает никто, кроме меня. Сердцебиение усилилось. Он измерил пульс; расстегнув сюртук, приложил левую руку к сердцу. Что же делать? Несмотря на преследовавшие "Бигль" несчастья, Чарлз не столько страшился возможной гибели, сколько перспективы остаться на берегу. Поделиться своими страхами с доктором Маккормиком он не мог: тот немедленно отошлет его в Лондон. Не мог он довериться и Бенджамину Байно, известному своей требовательностью, когда речь шла о здоровье. Приходилось рисковать. Если сердце разорвется – а сердцебиение, похоже, день ото дня становилось все сильнее, – что ж, пусть тогда его похоронят в море. Едва Чарлз принял это решение, как сердце пронзила острая боль – "целый акр боли", определил он. Чарлз совершенно пал духом. Он больше не посещал лекции в "Атенеуме", не брал книг из Частной библиотеки. Он отказывался от любых приглашений на чай или на обеды, не совершал восхождений на Эдкумскую гору и не бродил по берегу клокочущего моря. Все свое время он проводил на борту "Бигля", охваченный приступом уныния, а вокруг грохотал гром, вспыхивали молнии и барабанил по палубе проливной дождь, и сердце его, как море о скалы, колотилось о ребра, пока он не решил, что они вот-вот треснут, будто валуны, готовые рухнуть в волны. То были самые худшие дни в его жизни. Но едва кончились дожди и погода, казалось, установилась, Чарлз занялся своими обычными делами, затем отправился с Саливеном и Кингом на прогулку, а на следующий день обедал в мичманской кают-компании: семеро молодых людей в возрасте от четырнадцати до двадцати трех лет с дружеским уважением взирали на Дарвина – еще бы, ведь у него есть престижный университетский диплом, которого им не видать никогда. Сердцебиения прекратились. Придя с Бенджамином Байно и Стоксом к открытому всем ветрам заливу Уитсон, Чарлз, обращаясь к друзьям, промолвил: – Как величественно и божественно здесь море! И после небольшой паузы воскликнул: – О небо, я только что произнес свою первую проповедь! С четверть часа наблюдали они за свирепствующими бурунами. Казалось, что покрывавшая их белая пена – это снег. Разбивавшиеся об уступы волны солеными брызгами окатывали всех троих, стоящих на высоком холме. Байно заметил: – С океанской силой не может сравниться ничто на земле. Стоке тут же возразил: – Неудачная игра слов, Бен, даже если это вышло у тебя непроизвольно. Чарлзу и мне куда больше по душе вода, если она ведет себя спокойно и благоразумно. Не так ли, дружище? – Аминь, – ответил Чарлз. Была середина декабря, когда Чарлз впервые обедал р каюте капитана Фицроя, который обставил ее с большим вкусом, так что по виду она напоминала комнату в его фамильном особняке. Отделанные красным деревом перебор ки выгодно оттеняли французскую конторку и пару удобных стульев, которые он привез с собой из дома; на сундучке ручной резьбы, где он держал некоторые из своих любимых книг, было разложено несколько особенно дорогих его сердцу вещей: медали, кубки, завоеванные им за время морской службы, две щетки для волос в серебряной оправе и вызвавшая восторг Чарлза маленькая оригинальная ваза веджвудовской работы. На стене висел портрет матери капитана. Круглый обеденный стол был накрыт, его личным стюардом Фуллером, жалованье которому он платил из своих средств: накрахмаленная скатерть, искрящийся хрусталь, до блеска отполированное столовое серебро. Корабельный кок с утра запасся на плимутском рынке свежим мясом, овощами и фруктами, но сперва на рассвете, прямо у рыбаков купил целую корзину рыбы. Блюда Фуллер подавал молча. Благодушно настроенный капитан Фицрой вышел к столу в легком цивильном платье и рубашке с кружевными гофрированными манжетами. – Выводят ли меня из терпения наши задержки? – повторил он вопрос Чарлза. – Да, но без тех эмоций, которые проявляют другие. Я не придерживаюсь теории "черной кошки". Важно одно: чтобы "Бигль" был в полном порядке. Мне подвластно все, что касается постройки корабля, но за юго-западный ветер или шторм я не отвечаю. Силы природы подвластны одному лишь богу. Давайте поднимем сегодня наши бокалы за четыре предстоящих нам счастливых и плодотворных года. К ростбифу я подобрал бутылку чудесного красного вина. Пейте, дорогой мой Дарвин, пока есть возможность. Ведь как только задует северный ветер и выгонит нас из Плимута, жидкости в этой каюте будет не больше, чем в черствых морских сухарях. – Из всех привилегий, которые вы столь любезно мне предоставили, сэр, ни одна не дорога мне так, как честь обедать вместе с вами. – Да, в кают-компании младших офицеров бывает шумновато. Все стараются развеселить друг друга. – И, посерьезнев, добавил: – Я должен сообщить вам и остальной распорядок наших совместных трапез. Стол накрывается точно по расписанию: завтрак – в восемь, обед – в час, чай – в пять, ужин – в восемь. Мы должны стараться не опаздывать, но, если один задерживается, другому следует приступать к еде незамедлительно. Кончать трапезу одновременно тоже не обязательно; кто поел первым, тут же возвращается к своим занятиям. – Понимаю. – Есть еще одна вещь, о которой я хотел предупредить вас. Здесь, в Девонпорте и Плимуте, мы все немало повеселились в компаниях. Уверен, что я болтал с адмиралами и их милыми дочками не меньше, чем вы. Но на море, особенно в ненастье или когда у меня не получается необходимая карта или схема, мне не до посторонних разговоров, я погружен в свои дела, и никто не имеет права сам обращаться ко мне. Иногда наши обеды будут проходить в полном молчании. Знайте, что это не вызвано никакими личными мотивами просто на море я не выношу пустой болтовни. – Капитан Фицрой, я уже давал вам обет не входить в эту очаровательную каюту, когда вам захочется побыть одному. Теперь я прибавляю к нему обет молчания, когда будете молчать вы. Я попрошу Стеббинга [Инструментальный мастер, приглашенный Фицроем и лично им оплачиваемый. – Прим. пер.] сделать для меня такой барометр, который бы показывал с максимальной точностью ваше желание или нежелание разговаривать. Фицрой пришел в восторг. – Мы с вами сработаемся, Дарвин, сработаемся. Его обычно серьезные глаза осветила озорная улыбка. – А я ведь почти готов был отказать вам в тот раз, когда вы пришли ко мне в Адмиралтейство. Знаете почему? Потому что, будучи ярым приверженцем немецкого физиономиста Лафатера, я был убежден, что могу определить характер человека по его наружности. И вот на какую-то долю секунды – вы еще сидели от меня через стол – я засомневался: можно ли с таким длинным носом, как ваш, обладать достаточной энергией и решимостью для путешествия? Чарлз решил обратить все это в шутку. – Перестаньте, дорогой мой капитан, вы не могли не знать, что Лафатер был поэтом и мистиком. И в своей теории он не потерпел бы ни грана науки. Капитан Фицрой нисколько не обиделся. – Во время предыдущего плавания "Бигля" я попросил мистера Джона Вильсона, нашего судового врача, изучить характер огнеземельцев: их силу воли, честность, хитрость, привязанности, память… Затем мы провели френологическое изучение их голов. Все это записано в моем бортовом журнале. Брови Чарлза от удивления поднялись. – Так БЫ изучали шишки на их головах, чтобы выяснить качество их интеллекта? – Да. Потрясающее занятие. Некоторое время Чарлз молча изучал мягкие подушечки собственных пальцев. – Неужели, капитан, вы стали бы ощупывать рукой корпус и нос "Бигля", чтобы убедиться в его мореходных качествах? Вместо ответа Фицрой с виноватым видом улыбнулся, но спина его при этом едва заметно напряглась. Возвращаясь к себе в каюту, Чарлз размышлял: "А стоит ли позволять себе такую роскошь, как брать над капитаном верх в споре?"Как бесконечно разнообразна созданная здесь жизнь
[Выйдя в декабре 1831 года из Девонпорта, "Бигль" в конце февраля 1832 года достиг берегов Бразилии и до середины 1834 года оставался у восточных берегов Южной Америки, где производил съемочные работы. Все это время Дарвин собирал свою коллекцию расте-ний и животных, которую он по частям отправлял в Англию на попутных судах, К тихоокеанскому побережью "Бигль" вышел 28 июня 1834 года. – Прим. пер.] …Восторг Чарлза от встречи с Тихим океаном быстро сник. Океан можно было назвать каким угодно, только не тихим. Один за другим налетали на "Бигль" неистовые порывы шквального ветра: такой отвратительной погоды не было ни разу с тех пор, как они наконец-то покинули Плимут, даже в сравнении со штормом, чуть не потопившим корабль у мыса Горн. Когда ветры стихли, большая волна все еще не давала кораблю подниматься вдоль западных берегов Южной Америки. Чарлз чувствовал себя совершенно разбитым и был не в состоянии чем-либо заниматься: он не мог ни работать, ни читать, ни принимать пищу, ни находить забвение в сне. Больше остальных страдал Джордж Раулетт: уже давно здоровье его подтачивалось вспышками, как полагал доктор Байно, туберкулеза или какой-то иной инфекционной болезни. При этом Раулетт наотрез отказывался от приема лекарств, которые, по мнению врача, могли бы спасти жизнь самого старого из офицеров на борту, – каломели, морфия, рвотного камня. Вскоре он впал в бессознательное состояние и умер. Ему было тридцать восемь – возраст, казавшийся почтенным. Тело вместе с грузом свинца зашили в гамак, обернули полотнищем холста, накрыли флагом и положили на доску. Офицеры и вся команда собрались на юте. Смерть Раулетта опечалила всех. Панихиду отслужил Фицрой, закончив ее словами: – Итак, мы предаем,-тело нашего умершего товарища матросской могиле "вечно меняющейся и таинственной океанской стихии". Один конец доски подняли. Тело с грузом было предано морским глубинам. – Это моя вина, – говорил потом Байно. – Я должен был бы списать его с судна и отправить домой из Монтевидео. – Раулетт знал, что умирает, – ответил Чарлз, стремясь утешить друга. – Он не хотел умереть в Англии. Я ни разу не слышал, чтобы он упоминал о доме, семье или друзьях. Пять лет проплаЕал он на "Адвенчере" и вот сейчас два с половиной года с нами. "Бигль" был его домом, а мы – семьей. Поэтому он и хотел умереть на борту. Капитан Фицрой намеревался плыть вдоль побережья до Кокимбо, находившегося значительно севернее Вальпараисо, главного порта на юго-западном побережье, но шестьсот штормовых миль вынудили его укрыться в бухте Сан-Кар-лоса на острове Чилоэ. После беспрерывной восемнадцатидневной качки Чарлз заявил: – Надеюсь, остров прочно стоит на якоре. Ютившиеся в крохотных, крытых тростником хижинах на северной оконечности туземцы, в чьих жилах текла смесь индейской и испанской крови, подплыли на своих легких лодках к "Биглю", приветствуя его с непритворной радостью, – суда в их отдаленный порт заходили не слишком часто. С собой они привезли на продажу свиней, картошку и рыбу. Чарлз совершил короткую экскурсию вверх по течению ручьев, змеившихся в лесу между деревьями. В свою записную книжку он заносит, что нигде, кроме тропической Бразилии, не наблюдал такого разнообразия проявлений красоты в природе. Удобренная вулканической золой почва была необычайно плодородна, поражая роскошным великолепием произраставших на ней лесов и зарослей бамбука, взобравшегося на сорокафутовую высоту. "Адвенчер" [Так окрестили участники второй экспедиции на "Бигле" одну из шхун, приобретенных капитаном Фицроем без разрешения Адмиралтейства, для ускорения запланированных съемочных работ, – Прим, пер.] приковылял в порт со сломанным во время шторма утлегарем. Обычно невозмутимый Уикем злился на себя. – Всю душу выворачивает, – жаловался он. – .. И конечно же прямо на вашу выскобленную до блеска палубу! съязвил Чарлз, которого Уикем частенько изводил своей придирчивостью по части соблюдения чистоты на корабле. Он нашел для себя чистую постель в одном из домиков деревушки Сан-Карлос, окруженном сочными лугами и величественными вечнозелеными деревьями. Местные жители были одеты в грубое домотканое шерстяное платье, выкрашенное в темно-синий цвет. Сперва не переставая шли проливные дожди, как им здесь и положено в зимние месяцы, потом на целых три дня наступила передышка. В один из них Чарлз провел исследование скальных пород с помощью "старого Тора", геологического молотка, названного им так в честь Адама Седжвика. Он пришел к выводу, что породы долго находились под водой и затем поднялись, став сушей. Когда именно? Пять тысяч лет назад, пятьсот тысяч, пять миллионов? К вечеру того же дня он вернулся на место стоянки "Адвенчера", поужинал на борту вместе с заметно помяг-чавшим Уикемом и осмотрел новый утлегарь. – Я чувствую то же, что и вы, Джон, – поделился он с другом за окороком с молодой картошкой. – Когда мы обогнули Горн, я места себе не находил от отчаяния и готов был спрыгнуть с корабля и вернуться домой к прелестям Шропшира. Но Чилоэ заставил меня передумать. Лейтенант Уикем побранил его: – Не можете же вы, в самом деле, стать знатоком геологии Южной Америки, сидя у себя в Маунте перед камином за вистом с вашими сестрами, если даже они, я в этом уверен, самые очаровательные леди. Десятидневный переход под парусами на север до Вальпараисо был достаточно спокойным, чтобы дать Чарлзу возможность исписать множество страниц своего дневника и записных книжек. На палубе он появлялся всего несколько раз, когда с "Бигля" замечали проходившие мимо суда. С двумя из них "разговаривали". – Издали корабли похожи на больших морских птиц, – заметил он Байно. Прибыв 23 июля в порт Вальпараисо, служивший местом основной стоянки для кораблей английского королевского военно-морского флота в Южной Америке, где пополнялись запасы провианта и куда доставляли официальные распоряжения и почту, они обнаружили там письма из Англии для большинства членов экипажа "Бигля". Чарлза ожидали сразу три: одно – от Каролины, посланное 3 ноября 1833 года, другое – от Кэтти, датированное 27 января 1834 года, и третье – от Сюзан, которая писала 12 февраля, в день его рождения. Все трое и отец помнили об этой дате и хотели, чтобы до него дошли их "любовь и благословение" по случаю его двадцатипятилетия. В семье все обстояло благополучно. Как всегда, преобладали описание романтических историй и перечень главных событий из семейной хроники: Генри Холланд собирается жениться на дочери Сиднея Смита, как он дал понять Чарлзу во время их встречи в Лондоне. Сестры Дарвина от этого не в восторге… Дядя Джоз уговорил Генслея Веджвуда не подавать в отставку со своего поста. Сюзан счастлива, "подчищая" толстую книгу расходов и бесконечные счета; Кэтти превратилась в настоящего "гуляку" и думает только о балах и приемах. Эразм ведет в Лондоне беззаботную жизнь холостяка, убивающего все время на светские визиты. От прежней Фэнни Биддалф [Соседка Дарвинов по Маунту, за которой Чарлз одно время ухаживал, – Прим. пер.] "осталась одна только тень"… Английские газеты сообщили о революции в Буэнос-Айресе… Получил он и длинное письмо от Генсло от 31 августа 1833 года. Еще одна партия коробок и ящиков, писал профессор, благополучно достигла Кембриджа: "…Не считая, правда, нескольких заспиртованных экспонатов, поскольку через дырявую затычку из бутыли вытекла жидкость. Ископаемые останки мегатерия оказались чрезвычайно интересными, поскольку они дают возможность представить себе некоторые из частей этого животного, которых недостает в коллекциях как нашей страны, так и Франции. Буклэнд и Клифт демонстрировали их на геологическом семинаре во время третьего заседания Британской ассоциации в Кембридже под председательством профессора Адама Седжвика. Я только что получил от Клифта письмо, в котором он просит меня послать ему всю находку целиком, с тем чтобы он мог произвести ее тщательный анализ, подремонтировать кости и затем отослать мне обратно с описанием назначения каждой из них и роли, которую они играют в остеологическом строении Чудовища… Я разложил различных находившихся в бочонке животных по банкам со свежим спиртовым раствором и поместил ихк себе в подвал. Все, что более подвержено разрушению (насекомые, кожи и т. д.), я храню в комнатах, а в кости в виде предосторожности ввожу камфару. От растений я в восторге, хотя до сих пор и не разобрался с ними; впрочем, вместе с Гукером и при его помощи я надеюсь вскоре сделать это…" Как и Чарлз, Генсло мечтает о том дне, когда они снова смогут встретиться и обсудить все, что случилось за время плавания, но вместе с тем надеется, что Чарлз будет продолжать его, пока возможно. "Если Вы подумываете о том, чтобы вернуться до истечения срока экспедиции, то не спешите с решением – принимайте его, дав себе, по крайней мере, месяц времени на размышление и лишь в том случае, если желания продолжать плавание не возникнет ни разу… Но подозреваю, что всегда найдется хоть что-нибудь, чтобы поддержать Ваше мужество. Посылайте домой любые кусочки черепа мегатерия, какие только попадутся Вам на глаза, и всех ископаемых. Не забывайте про свой сачок, так как я предвижу, что Ваши мельчайшие насекомые почти все окажутся неизвестными видами…" Сложив письма, Чарлз спрятал их в верхний ящик комода и сел за чертежный стол, чтобы поразмыслить над их содержанием. Сюзан, отличавшаяся абсолютной грамотностью, написала, что в своем путевом дневнике ои допустил ряд незначительных ошибок в написании слов "терять", "ландшафт", "высочайший", "профиль", "каннибал", "умиротворенный" и "ссора". Однако вслед за этим замечанием она приписала строку, которая не только компенсировала критику, но и глубоко потрясла его: – "Что за чудесная и увлекательная книга путешествий получилась бы из твоего дневника, если бы его напечатать". Опершись о стол, он прикрыл глаза ладонями. Неужели дневник мог стать книгой? Он никогда и не мечтал о его публикации. Правда, он был настолько самонадеян, что воображал, будто может написать книгу с изложением своих геологических наблюдений в Южной Америке. Он упорно и много работал над собиранием материала и теперь решил, что эта книга должна быть написана. Но вот дневник? За свою жизнь он прочитал множество дневников известных путешественников, и ему ни разу не пришла мысль, что у него есть даже малейший шанс внести хоть какой-нибудь вклад в подобную литературу. При одной мысли об этом кружилась голова. Однако он не будет таким дураком, чтобы робеть. За минувшие два с половиной года он исписал несколько сот страниц дневника, стремясь к той живой, искренней и непринужденной манере, которую подметила Сюзан. Что ж, он будет продолжать в прежнем духе, писать обо всем, что видит, думает и чувствует, включая условия жизни людей в странах, с чьей культурой он знакомился во время своих странствий. Роберту Фицрою с почтой повезло куда меньше. Когда Чарлз явился на обед, то не мог не заметить, что капитан был взвинчен до крайности: болезненный цвет лица, один глаз налит кровью. На его письменном столе лежало письмо от капитана Бофорта. Фицрой поднял на Чарлза невидящие глаза, глубоко вздохнул. – Новости хуже некуда. Придется продать "Адвенчер", рассчитать двадцать матросов, которых я нанял в Монтевидео, и выплатить им жалованье и все, что положено, за свой счет. Семьсот фунтов стерлингов, которые пошли на переоснастку шхуны, – тоже из моего кармана. Он вскочил, взволнованно зашагал по небольшой уютно обставленной каюте. – Да, Чарлз, для меня это горькое разочарование. Обида никогда не изгладится из сердца. Если бы Адмиралтейство позволило нам сохранить "Адвенчер", мы смогли бы ликвидировать все "белые пятна" на карте западного побережья Патагонии, произвести последовательную съемку берегов до самого экватора, а затем заняться Галапагосскими и Маркизскими островами, а также островами Общества, Тонга и Фиджи. С двумя судами мы управились бы со всеми делами в течение 1836 и частично 1837 года… – 1837-го! Выходит, путешествие должно занять целых шесть лет!! – И хотя все внутри Чарлза дрожало, лицо его оставалось невозмутимым. – Ваши карты и схемы – вот ваше оправдание. Мало кто в мире выполнял картографические задачи такого масштаба. Фицрой, однако, был слишком подавлен, чтобы ухватиться за эти приятные его слуху слова ободрения. – Ну нет, теперь лорды Адмиралтейства от меня уже не отступятся. Они зашлн так далеко, что отклонили всех троих, кого я представлял к повышению в звании, среди них Джоа Стока и боцмана… Однако я не допущу, чтобы страдала моя работа! Я предлагаю, чтобы оставшуюся неделю июля и август, то есть оба зимних месяца, мы находились здесь, в Вальпараисо. Я буду жить это время на берегу вместе со Стоксом и Кингом. Нам потребуется больше места, света и спокойствия, чем можно обеспечить на борту. А лейтенант Уикем займется переоснасткой и пополнением запасов на "Бигле". – Тогда я тоже смогу месяц с лишним находиться на берегу и совершить путешествие в Анды? – Чарлз с трудом сдерживал радость в голосе. На устало-озабоченном лице капитана появилось слабое подобие улыбки. Сам Фицрой ранее намеревался выбраться на неделю в Сантьяго, во всех отношениях приятный столичный город. Сейчас, однако, он сокрушенно покачал головой. – С Сантьяго ничего не выйдет. Там мое внимание неизбежно отвлекут тысячи разных интересных вещей, а мое дело – заниматься скучной рутиной подсчетов, изучать собранный обоими судами материал. Вместо себя я пошлю Уикема, чтобы добиться от чилийского правительства разрешения на проведение съемки их берегов. – Но, сэр, тысячи разных вещей – ведь это как раз то, что вам необходимо, – запротестовал Чарлз, – они помогут вам избавиться от ваших разочарований, как следует отдохнуть, чтобы с новыми силами проработать еще год. Фицрой устало закрыл глаза. Своими опасениями Чарлз поделился с Бенджамином Байно: – Послушайте, Бен, нельзя ли как-нибудь заставить его сбавить темп? Работа сводит его в могилу. А теперь, когда в Адмиралтействе с ним так обошлись… – Если бы капитан сломал руку, – ответил Байно, – он разрешил бы мне вправить кость. Если бы у него был порез на бедре – позволил бы промыть рану. Но вмешиваться в то, что происходит у него в голове, мне не дозволено. Излечение усталости и депрессии не входит в компетенцию судового врача. – А жаль, – откомментировал Чарлз. Поскольку в Вальпараисо Чарлзу предстояло провести целых пять недель, он сошел на берег и отправился на поиски жилья. Неожиданно он натолкнулся на Ричарда Корфильда, своего старого школьного друга из Шрусбери. В те далекие годы Дарвин нередко бывал у Корфильдов дома в Питчфорде, небольшой деревушке возле Шрусбери. Нынешние дела Ричарда, который был на два года старше Чарлза и приехал в Чили несколько лет назад в качестве торговца, представлявшего интересы английских промышленных фирм, шли в гору. После того как молодые люди перестали трясти друг другу руки и выражать свое изумление и восторг по поводу столь поразительной встречи вдали от дома, Чарлз рассказал, что занимает должность натуралиста на борту "Бигля", осведомившись затем у Корфильда, не знает ли он в городе какой-нибудь приличной английской семьи, которая бы сдавала комнаты. Корфильд рассмеялся: – Знаю ли я? Можешь ставить самую последнюю гинею – не проиграешь. Да у меня самого чудесный дом в пригороде Алмендрал, это бывший пляж. Места сколько душе угодно. Иди и возвращайся обратно к восьми с вещами. Я отвезу тебя домой прямо к ужину и устрою наилучшим образом. Погода стояла превосходная – голубое небо, теплое солнце над головой. Чарлзу нравился этот город, выстроенный у самого подножия гор и состоящий из одной длинной улицы, вытянувшейся параллельно побережью. В тех местах, где горы перерезали узкие лощины, дома так и лепились друг к другу. Все комнаты в доме Корфильда выходили окнами на внутренний дворик с маленьким садом; на стенах висели английские гравюры, изображающие охотничьи сцены: всадники в красных куртках на лоснящихся лошадях, свора ухоженных гончих, заливающихся лаем в предвкушении охоты на лисиц. Расходы по дому, объяснил Корфильд, делит с ним еще один джентльмен. Они составляют весьма скромную сумму около четырехсот фунтов стерлингов в год, включая затраты на еду и питье, жалованье двум слугам и содержание четырех лошадей. Когда Чарлз стал настаивать, чтобы ему позволили оплатить какую-то часть этих расходов, белокурый, голубоглазый Корфильд ответил: – Будь по-твоему, раз уж тебе так хочется, хотя я предпочел бы видеть тебя не постояльцем, а гостем. Будь любезен, вычисли свою долю сам – ты ведь проходил тот же курс арифметики, что и я. – Ричард, в Шрусбери меня так и не научили ни складывать, ни вычитать. Этому я научился, наблюдая, как отец каждый день тщательно подводит баланс в гроссбухе: сколько и откуда он получил, сколько истратил и на что именно. На следующий день было воскресенье, Корфильд устроил в честь Чарлза званый обед, на который была приглашена большая часть английской колонии Вальпараисо, а также капитан Фицрой. Чарлзу показалось, что по общему уровню гости превосходят тех англичан, которых он до сих пор встречал в других южноамериканских городах. Их интересы, во всяком случае, не ограничивались кипами товара, фунтами стерлингов, шиллингами и пенсами. Пожилой торговец наклонился к нему через стол с вопросом: – Мистер Дарвин, не будете ли вы столь добры высказать напрямик свое мнение по поводу "Основ геологии" Лай-еля? У нас тут неплохие связи с лондонскими книжными магазинами, так что первые два тома нам удалось прочесть. Удивленный тем, что встретил в Чили человека, читающего Лайеля, Чарлз отвечал довольно пространно. Корфильд заметил: – Знаешь, Чарлз, из тебя получился бы замечательный педагог. Сам-то ты не думал о преподавании в Кембридже? – Я учился на священника, и отец именно этого от меня и ждет. Но должен сказать, что не исключаю для себя возможности преподавательской деятельности. Чили представляет собой как бы длинный узкий карандаш, зажатый в тисках между суровыми Андами и столь же суровым Тихим океаном. Чарлз хотел было сразу же отправиться к подножию Анд, прежде чем зимние снега отрежут путь. Но ему, измотанному морскими штормами, так понравился здешний благодатный климат, что он провел в лени и праздности две недели, греясь в лучах вальпараисского гостеприимства. 7 августа 1834 года в порт завернул поднимавшийся вдоль побережья пакетбот. На его борту находилась почта для "Бигля". В ней было и письмо для Чарлза от Каролины, датированное 9 марта и содержавшее целый набор странных сообщений. Лондонская "Таимо, к примеру, извещала о прибытии "нескольких ящиков с ископаемыми, птицами, четвероногими и образцами геологических пород, собранными натуралистом мистером Даусоном и посланными на имя профессора Гиндона в Кембридже". – Ну и что! – воскликнул Чарлз. – Мое имя впервые появляется в английской газете, где уж тут надеяться, что его правильно напишут. Он с облегчением вздохнул, узнав, что третья партия его ящиков благополучно прибыла к месту назначения: на заметку в "Тайме" можно было полагаться, решил Чарлз, даже если в ней переврано не только мое, но и имя профессора Генсло. В письме Каролины содержалось и другое столь же удивительное известие. Эразм от имени брата развернул в Лондоне бурную деятельность, и результаты были налицо. Каролине он писал: "Я нанес визит мистеру Клифту, куратору музея при Медицинском колледже, чтобы ознакомить его с тем местом из письма Чарлза, где он говорит о костях. Надо было видеть, в какой неуемный восторг пришел этот маленький человечек. Из Кембриджа, по моей просьбе, ископаемых доставляют в Лондон. Дело в том, что последние месяцы куратор все свое свободное время отдавал ископаемым. То, что в колледже находится лобная часть черепа мегатерия, а Чарлз отправил домой как раз недостающие его части, действительно представляется необъяснимым совпадением. Теперь они смогут воссоздать череп полностью". От себя Каролина приписала: "Я так рада, дорогой мой Чарлз, что ты нашел именно те кости, которые так восхищают ученых мужей". Том Эйтон, в чье родовое поместье он ежегодно приезжал охотиться, несколько дней гостил в Маунте и затем отправился в Кембридж, чтобы, по словам Каролины, "услышать, что говорят там об экспонатах, которые ты отослал домой". Откуда, спрашивается, мог Том Эйтон взять, что в Кембридже вообще будут говорить о его коллекциях? В письме сестры было и третье поразившее его сообщение. Отец шлет ему самые добрые пожелания и просит Каролину написать, что он не "рычал и не ворчал" по поводу взятых Чарлзом последних пятидесяти фунтов стерлингов. Чарлзу нечего переживать из-за денег, но следует, однако, проявлять все возможное благоразумие. Доктор Дарвин также обратился к дочери с вопросом: "Сказала ли ты ему о его славе?" Чарлз от души расхохотался, представив себе славу мистера Даусона, пославшего все эти коллекции профессору Гиндону в Кембридж. …С нетерпением ожидал Дарвин встречи с Галапагосскими, или Черепашьими, островами, названными так в честь гигантских сухопутных черепах, которых по чистой случайности обнаружил епископ Берланга, чью экспедицию снарядил испанский король Карл I. Попавшее в штиль судно продрейфовало около шестисот миль в сторону от побережья Южной Америки, где его прибило к группе вулканических островов. Больше всего Чарлз, как сказал он Джону Стоксу, теперь радовался предстоявшему "восхождению на какой-нибудь действующий вулкан". Полтораста лет после первого случайного визита к Гала-пагосам не осмеливалось подойти ни одно судно, хотя острова и значились на картах Ортелиуса и Меркатора 1587 года. Те немногие, кто знал об их существовании, старались обходить опасные рифы, страшась зловещего вида самих островов, казалось сорвавшихся с места и медленно кружащих по Тихому океану. Так продолжалось до тех пор, пока флибустьеры и китоловы не обнаружили на островах запасы пресной воды и буквально тысячи гигантских черепах, месяцами сохранявших жизнеспособность: будучи штабелями, по полдюжине, сложены на нижней палубе, они обеспечивали команду свежим мясом. На Галапагосы началось сущее паломничество, там даже было открыто местное "почтовое отделение" – установленная в развилке двух сросшихся деревьев бочка, куда моряки могли опускать письма, которые забирало первое же судно, шедшее в нужном направлении. …За последние восемь дней "Бигль" проплыл уже расстояние в тысячу миль, и все с нетерпением ждали землю. Наконец вахтенный закричал с мачты: – Прямо по курсу остров, сэр! Это он увидел на оконечности острова Чатам верхушку горы Питт. По мере того как бриз и течение совместными усилиями продвигали их вперед, стали отчетливее видны вершины и других высоких холмов. Ненадолго задержавшись возле острова Худ, они спустили вельбот, чтобы отправить Чафферса и мичмана Меллерша подыскать место для стоянки. В бухте острова Чатам был спущен на воду другой вельбот, на котором отплыли десять матросов во главе с лейтенантом Саливеном с заданием нанести на карту центральные острова архипелага – восемнадцать вулканических реликтов. На первый взгляд острова показались Чарлзу совершенно безжизненными. Покатые симметричные конусы застывшей черной лавы были покрыты безлиственным кустарником и чахлыми деревцами. Но на этом его разочарование кончилось. Как только "Бигль" бросил якорь в гавани св. Стефана у берегов острова Чатам, обнаружилось, что вода в заливе буквально кишит рыбой. На поверхности то и дело появлялись головы акул и морских черепах. Как и другие, Чарлз тотчас закинул удочку и вскоре уже вытаскивал улов прекрасные экземпляры длиной от двух до трех футов, так что вся палуба оказалась заваленной трепыхавшейся рыбой. После обеда он высадился на берег вместе с Кингом и Стоксом. День был нестерпимо жарким, а цвет лавы напоминал ему черную кухонную плиту Энни у них в Маунте. Его поразило, какое множество пресмыкающихся живет на лаве – здесь были не только одетые в твердый как камень панцирь неповоротливые черепахи с торчащими на коротких толстых шеях головами, но и тысячи каких-то скользких тварей, преспокойно громоздившихся одна на другую по пять-шесть штук у подножия скал. – Что за отвратительные неуклюжие создания, черные, как сама эта пористая лава! – воскликнул Чарлз. – Я даже не подозревал, что они живые, пока не подошел ближе. Стоке скривился при виде столь мерзкого зрелища. – Я слышал, их называют "чертенятами тьмы". Чарлз отвернулся, не сделав даже попытки поймать хотя бы одного из них для коллекции. Вместо этого он предпочел заняться своим гербарием, взобравшись на склон мертвого вулкана. Он набрал десять видов различных растений. – Растения до того бедны, – воскликнул Чарлз, – что профессор Генсло наверняка решит, будто я собирал их не в тропиках, а где-нибудь в Арктике! К тому же растения издавали ужасный запах. Единственным утешением в этот первый день оказались для него птицы таких видов ему никогда прежде не доводилось видеть. – Все новые и все разные! То-то обрадуются дома мои друзья-орнитологи. Когда на следующий день судно сменило стоянку, находки были не менее ценными: в черных прибрежных скалах Чатама ползали ярко-красные крабы, на песчаных отмелях копошились морские львы, перекликавшиеся какими-то трубными звуками в перерывах между удивительно грациозными заплывами. – Подумать только, – удивился Чарлз, – со стороны остров выглядел совсем мертвым. Но как бесконечно разнообразна созданная здесь жизнь! Вместе со Стоксом он поднялся на край широкого, но невысокого кратера. Вся местность к северу была усеяна небольшими черными конусами. Чарлз назвал их печными трубами, через которые в древности выходила подземная расплавленная магма. Рассмотрев образцы породы, он быстро установил, что вулкан когда-то находился под водой. Из кратера он прихватил несколько кусков твердого вулканического туфа, похожего на песчаник. Каждый день на Галапагосах таил для Чарлза все новые и новые приключения, по мере того как "Бигль" менял места стоянок, обходя побережье одного острова за другим – Чатама, Джемса, Чарлза, Нарборо и Албемарла, где возвышался самый крупный вулкан: его восточный склон, сухой, безжизненный и черный от лавы, был изрыт мелкими кратерами, обрамлявшими большие, откуда и изверглась черная лава. Нередко Чарлз брал с собой палатку, спальные принадлежности и отправлялся на берег в сопровождении одного или двух членов экипажа. Обычно они располагались лагерем подле какого-нибудь жалкого ручья в небольшой долине; шли по черному или по коричневому песку, что было неприятно даже в башмаках на толстой подошве, так как температура доходила до предельной отметки на шкале термометра – 137 градусов [ По Фаренгейту (около 44 по Цельсию), – Прим. ред.]! На острове Джемс их прогулка оказалась весьма продолжительной. Они прошагали около шести миль от берега, чтобы подняться на высоту две тысячи футов. Было очень жарко и сухо; склоны возвышенности поросли низкими корявыми деревьями, почти лишенными листвы, но размерами превосходившими те, что попадались Чарлзу до сих пор. Еще выше они обнаружили единственные на острове источники воды. Над возвышенностью висели облака: водяной пар, конденсировавшийся деревьями, оседал в виде капель, наподобие дождевых. Это действовало удивительно освежающе, Иногда, чтобы попасть на узкую полоску пляжа, высаживался "десант": закатав широкие штанины выше колен, связав шнурками ботинки и повесив их на шею, они пережидали очередную волну, спрыгивали с борта вельбота и брели в воде, нашаривая босой ногой дно отмели, покрытое галькой базальтовых пород. Иногда перед ними возникал вздымавшийся резко вверх утес из лавы, карабкаться по которому приходилось, находя в почти вертикальных стенах едва заметные трещины. Ежедневно матросы доставляли с берега по десять – пятнадцать гигантских черепах. Чарлз и Симе [Моряк, которого капитан предоставил в распоряжение Дарвина, ставший впоследствии его помощником. – Прим. пер.] однажды попытались поднять одну из них. Приложив немало усилий, они добились лишь грозного шипения, вслед за которым тяжеловесное допотопное существо спрятало голову и начало медленно отползать в сторону. Дарвин взобрался на толстый панцирь, но черепаху это не остановило. , – Уверен, усмехнулся Чарлз, – она даже ничего не почувствовала. Интересно бы узнать, сколько ей лет? Говорят, они живут по нескольку столетий. Должно быть, кактусы, которыми они питаются, и есть "Фонтан вечной молодости" Понс де Леона [Испанский исследователь (1460 – 1521), попал в Новый Свет вместе с Колумбом, открыл Флориду в поисках так и не найденного им "Фонтана", Прим. пер.]. С точки зрения геолога, острова содержали много поучительного и забавного. Повсюду, насколько хватало глаз, высились вулканы всевозможных размеров, причем некоторые были столь малы, что казались игрушечными. То и дело Чарлз натыкался на слои вулканического песчаника, потоки застывшей лавы и целые поля огромных стекловидных кристаллов полевого шпата, сцементированных лавой. Ручьи почти все пересохли: об их возрасте говорило наличие или отсутствие растительности. Трава и деревья были одеты не только листвой, но и цветами, преимущественно коричневого цвета. Некоторые вулканы представляли собой довольно высокие холмы, становившиеся все зеленее по мере приближения к вершине, где часто дул освежающий южный пассат. Чарлз исследовал черные воронки кратеров, напоминавшие ему чугунолитейные печи Вулверхемптона. Это были большие круглые углубления, "которые, должно быть, образовались под давлением газа в ту пору, когда лава еще не застыла". – До чего же приятно своими глазами увидеть то, что издавна знакомо тебе лишь по книгам! – радовался он. Однажды Чарлз ночевал на берегу, а весь следующий день собирал образцы черной базальтовой лавы, вулканического туфа, древние раковины и насекомых, которых он мог только описать, но не назвать; собирал он также кактусы, кустарник, птиц и морских ящериц, поначалу показавшихся ему премерзкими существами, но теперь приводивших его почти в восхищение, так ловко ныряли они в воду за кормом, избегая при этом своего единственного врага, акул, и вновь возвращались на берег, чтобы вволю понежиться в тепле солнечных лучей. От палящего тропического солнца волосы Чарлза сделались золотисто-рыжими. Он никак не ожидал обнаружить на архипелаге красоту, от которой захватывало дух: искрящуюся синеву неба и моря; богатство оперения бесчисленных птиц-фрегатов с их надутыми воздухом оранжевыми или красными сумками на шее, пингвинов, глупышей в белоснежных масках и с голубыми лапками, не умевших летать бакланов с усеченными бесполезными крыльями, волнистых альбатросов, гнездившихся на лаве чаек с раздвоенным хвостом, красноклювых тропических птиц, ночных цапель, вьюрков; небольшие заводи, в которых игриво плескались детеныши тюленей, в то время как массивный самец забирался на самый удобный выступ скалы, где вокруг него располагались самки; морских черепах, выкапывающих ямку в песке, чтобы отложить там яйца, в то время как птицы откладывали свои яйца в жалких гнездах на затвердевшей лаве или высоко в изрытых оспинами пористых базальтовых скалах, местах их спаривание неуклюжих коротконогих наземных черепах, похожих на обитателей какой-то другой планеты; все разнообразие звуков, издаваемых птицами и морскими животными. А зелень на самой вершине холмов! В земле, которую веками заносил туда ветер, пустили корни palo santo, пуговичный мангр, matazarno: искривленные кактусовые деревья, особая разновидность неприхотливого кактуса, большие овальные листья которого образовывали соединенные между собой ветви. А отверстия в скалах – сквозь них, подобно гейзерам, извергалось из глубин море; а подводные утесы, спускающиеся, случалось, ко дну океана на целых две мили, и совершенно круглые озера или фантастические скальные колонны, над которыми потрудились два скульптора ветер и море! Несколько сот собранных Дарвином видов рыб казались просто невероятными; в прибрежных водах наряду с проворными крабами водились морские звезды, морские ежи, "песчаные доллары" и "морские огурцы", блестевшие в раскаленном добела воздухе. Чарлз сумел обнаружить всего один живой, курящийся вулкан. Поднявшись на край кратера, он заглянул внутрь и удостоверился, что там нет ни огня, ни жидкой лавы. Было совершенно очевидно, что ни многочисленные вулканы на каждом из островов, ни сами эти острова не появились одновременно. Каждый из них состоял из множества отдельных и разнородных по составу потоков лавы, извергнутых вулканами. Таинственное, наводившее ужас вулканическое обличье островов, обилие живых организмов в океане, в воздухе и на усеянных обломками ракушек берегах – все это выглядело так, словно Галапагосы были созданы господом богом на одной из самых ранних, "экспериментальных", стадий, пока он еще не пришел к окончательному решению, какой именно ему желательно видеть землю и кем ее заселять. Не сразу, а лишь когда "Бигль" бросил якорь в бухте острова Чарлза, Дарвин впервые за время плавания почувствовал, правда пока еще смутно, какое важное значение будут иметь для него Галапагосские острова. Толчком к этому послужило сделанное им самим неожиданное открытие. Изучая пойманных на двух разных островах земляных вьюрков, он обнаружил поразивший его феномен: у птиц было разное строение клюва. Его "пробуждение" довершил исполнявший на островах обязанности британского губернатора Николас Лоусон, назначенный на свой нынешний пост после того, как Эквадор стал заявлять о собственных притязаниях на территорию архипелага. За это время Лоусон успел основательно прожариться на здешнем солнце, что, впрочем, не мешало ему оставаться влюбленным в своеобразную красоту голых черных скал, чистоту лагун и разнообразный животный и растительный мир Галапа-госов. Прибыв на остров Чарлза, чтобы посетить китобойную шхуну, он сам вызвался показать Дарвину поселение, где проживало около двухсот ссыльных, выдворенных из Эквадора за политические выступления против режима страны. Во время четырехмильной прогулки по утрамбованной шлаковой дорожке, проложенной к центру острова, они обогнали несколько гигантских черепах, двигавшихся со скоростью четыре мили в сутки. Лоусон заметил: – Держу пари, что смогу безошибочно определить, с какого из островов попала сюда каждая из них. Чарлз остановился как вкопанный. – Что? Уж не хотите ли вы сказать, Лоусон, что на каждом из здешних островов свой особый вид черепах? – Безусловно, мистер Дарвин. Уже больше года назад я узнал, как их надо опознавать. В основном они отличаются своим панцирем. На каждом острове он разный по высоте, а спереди и сзади характерные для каждого вида выгнутые поля. Есть различия и в окраске, и в толщине. Да и по размерам черепахи с разных островов тоже разные: у одних шеи и лапы длиннее, у других – короче. Чарлз никак не мог прийти в себя от удивления. – Но почему и как возникли эти отличия? – спросил он Лоусона. – Ничего не могу сказать, мистер Дарвин. Я знаю только то, что вижу собственными глазами. Это загадочное явление застряло в мозгу Чарлза столь же прочно, как застревали колючки в шерсти Пинчера, которого он выводил гулять по берегу Северна. Те несколько часов, что он провел с Лоусоном в маленьком пуэбло [Поселок (мел.). – Прим. пер.], состоявшем из наспех сколоченных, крытых тростником хижин на высоких подпорках в окружении банановых зарослей и грядок картофеля, загадка галапагосских черепах продолжала терзать и мучить его. Чарлз расположился на бревне возле родника, куда приползали на водопой черепахи – и сухопутные, и морские. Пресная вода была крайней редкостью в здешних местах, так как пористая лава не удерживала дождевую влагу. Многие из этих доисторических чудовищ с вытянутыми шеями ползли вверх по склону, в то время как им навстречу спускались те, кто уже успел утолить жажду. Дарвин внимательно наблюдал, как черепахи, опустив голову, с жадностью лакают живительную влагу. "Я допустил серьезную оплошность, – решил он, – поместив свои находки с разных островов в общий контейнер, не обозначив при этом точного места происхождения каждой из них. Если существуют различия в форме клюва у вьюрков и панциря у черепах, то необходимо будет с величайшей тщательностью промаркировать всю коллекцию. Тогда появится возможность сравнивать экспонаты друг е другом, чтобы твердо установить, есть ли отличия и у всех других видов – птиц, ящериц или растений с разных островов. Это может стать самым важным из моих открытий за время плавания. Что же все-таки вызывает эти различия? Тут-то и зарыта собака". Из тридцати шести дней, которые "Бигль" занимался съемкой Галапагосов, двадцать Чарлз провел на берегу. Здесь в изобилии водились игуаны длиной от двух до трех футов с чередующимися оттенками цветов от желтого до розового и пурпурного (так что сама безобразность животного казалась красивой). Их норы были столь многочисленны, что порой негде было поставить палатку. Эти огромные ящерицы питались ягодами и листьями, в поисках которых частенько взбирались на деревья. Влагу они извлекали из сочных кактусов. От непрестанного собирания коллекции у Дарвина голова шла кругом одних только птиц было свыше двадцати видов, причем – он твердо знал – еще никем не изученных. Вокруг все цвело, поскольку экспедиция прибыла на острова как раз в пору цветения: шероховатые травы, кактусы, мхи, папоротники, солелюбивые суккуленты. Когда вельботы, один под командованием Чафферса и Меллерша, другой – лейтенанта Саливена, отправлялись на съемку побережья других островов, экипажи собирали для Чарлза маленьких черепах, змей, птиц (чаек, сарычей, сов, глупышей, певчих птиц, голубей и земляных вьюрков), а также всякого рода растения. Чарлз хорошо их проинструктировал, и весь улов с каждого из островов помещался в отдельный мешок. За все время плавания "Бигль" попал в беду лишь однажды, когда подошел к концу запас воды, а пополнить его оказалось невозможным, так как единственный источник пресной воды размыл океанский прибой. Команду перевели на половинные порции. На Албемарле Чарлз взобрался на вулкан, на дне кратера которого виднелось голубое, чистое и совершенно круглое озеро, со всех сторон окаймленное ярко-зелеными суккулентами. Кое-как спустившись по стене, усыпанной золой, задыхаясь от пыли, он зачерпнул ладонью воду и обнаружил, что она такая же соленая, как и морская; то же самое повторилось в бухте Сан-Хулиан, когда он пытался раздобыть воду мучимому жаждой капитану Фицрою. Их спасло американское китобойное судно: офицеры любезно предоставили им три фляги с водой и вдобавок, в качестве подарка, ведерко лука. Капитан Фицрой поблагодарил американцев. В первый раз сойдя на берег острова Чатам, Чарлз сравнил его с "возделанной частью ада, как мы его себе представляем". Теперь он думал совершенно иначе, потому что все острова, на которых он побывал, ошеломляли не только богатством животного мира, но и первозданной нетронутостью. За исключением гигантских черепах, тысячи которых стали жертвами китобойных судов и пиратских шхун, все формы жизни здесь размножались, счастливо избежав всякого влияния на них человека, оставаясь такими, какими сделало их естественное развитие, продолжавшееся миллионы лет, минувших со времени рождения самого архипелага после ряда вулканических извержений. На земле, насколько он знал, не существовало иного места, где природу можно было лицезреть такой, какой она была в день сотворения мира, – настоящая лаборатория жизни в ее изначальной форме. Но как, спрашивается, на каждом из островов при этом развились свои собственные, весьма отличные от других виды? И еще важнее – почему? …Вместо того чтобы двигаться прямо на север, в Англию, капитан Фицрой принял решение взять курс на запад, к берегам Бразилии, в Баию, чтобы проверить расхождения в определении долготы этой точки. Хотя он и был полон нетерпения как можно скорее завершить кругосветное плавание в Южном полушарии, тем не менее вторично вернулся в Баию тем же путем, каким "Бигль" прибыл туда из Англии. 4 августа 1836 года Чарлз писал Сюзан: "Эти зигзаги – одно мучение. Последний прямо-таки доконал меня. Как отвратительно, как ненавистно мне море и все корабли, которые по нему плавают!" Последнюю остановку они должны были сделать в Пер-намбуку, где бразильский берег выдается далеко в море, и затем отплыть на родину через Азорские острова. Из дома меж тем продолжали поступать приятные вести, и это еще больше увеличивало его нетерпение. От Каролины он получил датированное 28 декабря письмо – одно из тех, что гонялись по морским волнам взад-вперед за неуловимым "Биглем". Лежа на софе в капитанской каюте, он читал его: "…а сейчас послушай, сколь велика здесь твоя слава. На рождество наш отец получил записку от профессора Генсло с самыми лестными словами в твой адрес. Он пишет, что рад твоему скорому возвращению, когда ты наконец сможешь "пожинать плоды своей настойчивости и по праву занять место среди первых натуралистов мира". Вместе с запиской он также препроводил отцу несколько экземпляров выдержек из твоих писем ему, отпечатанных для распространения в узком кругу. В небольшом предисловии к ним сказано, что письма изданы "для членов Кембриджского философского общества ввиду большого интереса, вызванного некоторыми из содержащихся там геологических наблюдений, обнародованных на заседании, которое состоялось 15 ноября 1835 года". Представь, что отец с места не вставал до тех пор, пока не прочел твою книжку до самого конца, и был явно польщен. Ему так понравился простой и ясный стиль, каким ты излагаешь свое описание! Особенно же пришлась ему по душе твоя искренняя манера письма и отсутствие всякой претенциозности. Отец уже раздал несколько экземпляров тем, кто все это время не переставал справляться о тебе…" Его длинное сухопарое тело начала бить дрожь. Глаза его увлажнились. Когда-то Адам Седжвик сказал, что он будет среди первых естествоиспытателей Европы, а теперь профессор Генсло заявляет, что он займет место среди первых натуралистов мира! – Боже! Да что такое со мной происходит? А я и ведать ничего не ведаю. Неужели все правда? И я нашел свое настоящее призвание? Выходит, не судьба мне быть похороненным под вязами, окружающими мирную обитель сельского викария? Только тут до Чарлза дошел весь смысл письма сестры. Отец прочел его книгу от начала до конца и с уважением отозвался о его работе. Он настолько гордится своим сыном, что считает возможным раздавать экземпляры его книги близким знакомым. Означает ли это, что он позволит ему посвятить всю свою жизнь науке и не будет считать, что он, Чарлз, нарушит в этом случае еще одно свое обещание? Что ж, если отец и в самом деле поддержит его, то у Чарлза будут в запасе не только два положенных года, пока не освободится место викария, но и все последующие годы, чтобы по-настоящему разобраться в своих записных книжках по геологии и в дневниках, обработать их и подготовить монографии, которые, как он надеялся, со временем можно будет издать по всем разделам собранной им коллекции. В общем продолжить работу натуралиста, куда бы она его ни завела. Открывавшаяся перед ним перспектива творчества на всю дальнейшую жизнь в той области, которую он любил больше всего на свете, наполнила его несказанной радостью. Отец больше не будет смотреть на него как на шалопая, не бросит ему в лицо: "Тебя не интересует ничего, кроме стрельбы, собак и охоты за тараканами, ты станешь позором не только для самого себя, но и для всей нашей семьи". Отныне бездельником его уже не назовет никто. "В жизни, – думал он, – ничего вроде бы нельзя заранее рассчитать и запланировать. Однако настает момент – и склонения магнитной стрелки выстраиваются в один ряд, так что капитан знает, где именно он находится в море и куда держать курс, чтобы укрыться в гавани". Он распахнул дверь каюты. Наступила ночь. В небе кривой и узкий, как восточная сабля, висел месяц и горели яркие звезды. Чарлз прошел в носовую часть судна: подобно большому острому ножу, "Бигль" с раздувающимися от ветра парусами разрезал фосфоресцирующие воды Атлантики. Перед его внутренним взором встает картина: теплый душистый осенний день, на клумбах цветущие георгины – желтые, красные, оранжевые и розовые. Сидя под шелковицей Мильтона в саду "Феялоуз гарден" в колледже Христа, он читает стихотворение Уильяма Купера: Господь таинственным путем Себя являет нам: Ступив ногой в пучину вод, Он мчится по волнам. Душа его переполняется чувством восторга при одной только мысли, что он вновь увидит Маунт, Мэр-Холл, колледж Христа, родных и близких, друзей и товарищей в Кембридже и Лондоне. Увидит… уже в новом качестве.Возвращенный рай
Все высыпали на палубу, чтобы первыми увидеть Англию. "Земля!" К своему удивлению, Чарлз обнаружил, что вид родных берегов не вызвал в нем никаких чувств. Наверное, он слишком долго ждал этого момента. В Фалмуте "Бигль" пришвартовался ночью. Лил дождь, и к тому времени, когда Чарлз добрался до отеля "Ройяль", откуда отходил почтовый дилижанс на Лондон, его поношенное пальто оказалось промокшим до нитки. Путь до столицы занял двадцать девять часов, так что Дарвин едва успел к "Тэлли-Хо!", дилижансу, отправлявшемуся от лондонской гостиницы "Лебедь с двумя шеями" в семь сорок пять утра. Здесь он простился с Симсом. Его верный помощник, правда, уговорил Чарлза разрешить ему продолжать свою службу, пока не будет закончен разбор привезенной коллекции. Работу эту предполагалось начать в самом скором времени, и расставались они поэтому ненадолго. Еще шестнадцать часов тряски, во время которой лишь изредка удавалось забыться коротким сном, и "Тэлли-Хо!" въехал в Шрусбери, остановившись у гостиницы "Рэйвен инн" ровно в полночь. Дома в этот час наверняка уже спят. Заявись он, все сбегутся, разговоров хватит до утра. Да и сам он смертельно устал, ведь ему пришлось тащиться в дилижансах сорок пять часов кряду. Лучше всего немного передохнуть, переодеться. Чарлз спал как убитый, но уже к шести он плескался в большой металлической ванне, затем, тщательно побрившись своей остро наточенной бритвой, надел последнюю из уцелевших еще рубашек – из числа тех двенадцати, что сшила для него Нэнси. Ошметки когда-то такой великолепной синей бархатной жилетки, более новые, но не так хорошо сшитые длинный пиджак и брюки, купленные в Монтевидео; выходные коричневые башмаки, которые он обновил пять лет назад ради встречи с профессором Адамом Седжвиком перед экспедицией в Северный Уэльс, – все стоптанное, заношенное и мятое. Тут уж ничего не поделаешь. Семье придется встречать его в таком затрапезном виде. Стояло обычное шропширское слегка туманное утро раннего октября прохладное солнце напрасно пыталось пробиться сквозь тучи, воздух был чист и свеж. Но лучше всего то, что добрая земля Шрусбери не уходит из-под ног: спускался ли он по улице к Северну, пересекал ли Уэльский мост или входил в нижний сад Маунта, где цвели осенние цветы, а деревья сбрасывали с ветвей красновато-коричневые и пурпурные листья, Чарлз ни разу не ощутил ни килевой, ни бортовой качки. Услышав стук молотка, Эдвард открыл массивную входную дверь и не смог удержаться от возгласа удивления, гулко отозвавшегося во всех комнатах. Отец, только что возвратившийся с прогулки по "докторской тропе", первым бросился к нему: – Чарлз, дорогой! Наконец-то! Начиная с первого сентября мы ждали тебя каждый день! Сестры сбежали по широкой лестнице, на ходу застегивая наспех наброшенные халаты. Он почти не различал их лиц, когда все разом они кинулись обнимать и целовать его. Немного обождав, он отступил на шаг, чтобы получше рассмотреть их. Похоже, что они не слишком-то изменились за эти пять лет: хотя складки на лбу тридцатишестилетней Каролины и стали, казалось, резче, ее густые и по-прежнему черные волосы нисколько не потускнели от времени; высокая задорная Сюзан была по-прежнему хороша, разве что у ее спадавших до плеч локонов появился золотой оттенок. Больше других изменилась Кэтти: из девушки она превратилась в женщину, а дерзость во взгляде уступила место решительности. Чарлз подумал, что перемена ей к лицу, и не преминул сказать об этом. Сестры писали, что она стала "гулякой", без конца посещала дома друзей, принимала приглашения на балы и благотворительные базары. До сих пор никто не сделал ей предложения… что ни в малейшей степени ее не печалило. Домашние изо всех сил старались сдержать слезы радости, но никому это не удавалось, даже доктору Дарвину, которого Чарлз после смерти матери ни разу не видел плачущим. Тем временем собралась и прислуга. – О, мистер Дарвин, – воскликнула Энни, – не очень-то там вас, видно, кормили на этом вашем корабле. Джозеф, садовник, тепло тряс его руку. Нэнси, старая няня, не побоялась при всех обнять его. Отцовский кучер Марк приблизился, держа за руку свою жену, прачку в доме Дарвинов: они поженились, пока Чарлз отсутствовал. Практичная Каролина первой спросила: – А ты завтракал? – Насколько мне помнится, последний раз я ел вчера утром в Лондоне. Доктор Роберт Дарвин, в свои семьдесят почти совсем прекративший ездить на вызовы, начал явно сдавать. Он совершенно облысел, если не считать белых редких кустиков над ухом. Из-за постоянно мучивших его приступов подагры и радикулита он стал медленнее ходить. Нижняя часть его двойного подбородка сделалась слегка дряблой, но из своих трехсот сорока фунтов веса он почти ничего не потерял. Да и голос его раздавался на весь дом столь же раскатисто, как и прежде: – Все в столовую! А ты, Энни, по случаю возвращения блудного сына приготовь-ка нам самый шикарный завтрак, какой только сможешь. Чарлз занял свое традиционное место справа от отца за столом красного дерева с массивными ножками, напоминавшими когтистые лапы, и на него тотчас пахнуло уютным запахом воска. Он взглянул из окна на реку Северн и расстилавшиеся за ней зеленые заливные луга с пасущимися на них херфордширскими коровами. С волчьим аппетитом поглощал он приготовленную на пару треску, четыре вареных яйца, телячьи почки и бекон, треугольные ломтики тоста и горячий кофе с молоком, который из серебряных кофейников разливал по чашкам Эдвард. Откинувшись на спинку стула, Чарлз произнес: – Когда сидишь здесь с вами, то кажется, что все это уже было: как говорят французы, "deja vu". Прошлое повторяется. Будто никогда я никуда не уезжал и ничего не изменилось. – Кроме одной вещи, –откликнулся доктор Дарвин. – Какой, отец? – Формы твоей головы! На мгновение Чарлз и сестры пришли в ужас от этих слов, но потом расхохотались. – Иначе и быть не могло! – воскликнул Чарлз. – В нее теперь втиснуто столько впечатлений и сведений! Вопрос только в том, как подобрать ключ к тем сокровищам, которые там спрятаны? И что я сделаю с ними, когда извлеку их из этого склада? Все замолчали, потом доктор Дарвин наклонился вперед, накрыв своей огромной ладонью сухую и тонкую ладонь сына: – Я думаю, ты уже знаешь ответ на эти вопросы. И знаешь также, как тебе надлежит поступить со своими коллекциями. Работай энергично, но не считай, что тебе надо спешить. Впереди у тебя еще много-много лет для той работы, которая, кажется, предназначена тебе самой природой. Чарлз поднялся с места и, немного поколебавшись, поцеловал отца в лоб. Свободен! Отец подарил ему вторую жизнь! Потом он услышал слова Кэтти: – Хорошо бы, Эдвард затопил камин в библиотеке. Наверняка у Чарлза есть для нас новости – ведь последнее письмо мы получили еще из Бразилии. – Самая лучшая из моих новостей, – ответил он, – это что я вернулся домой и никуда больше не уеду. Так что давайте сперва посидим у камина и сыграем партию-другую в вист. Вот тогда я буду уверен, что снова в родных пенатах! В полдень, выйдя во двор, он кликнул Пинчера. Собака тут же подбежала и пустилась знакомым маршрутом по берегу реки, выказав при этом не больше радости или удивления, чем если бы она только вчера, а не пять лет назад в последний раз выходила на прогулку вместе с Чарлзом. Чтобы привыкнуть к суше, ему понадобилось девять дней: он набрал вес, потерянный за время болтанки "Бигля" на заключительном этапе пути, распаковал вещи, обновил туалет и вдоволь насладился чтением книжки [выдержек из своих писем], которую он положил на видное место у себя на бюро, чтобы видеть ее как можно чаще. Он написал нежные письма дяде Джозу Веджвуду, Уильяму Оуэну в Вудхаус, профессору Генсло и капитану Фицрою, все еще остававшемуся на борту "Бигля" в Фалмуте и буквально сгоравшему от нетерпения поскорей очутиться на берегу и сыграть свадьбу с Мэри О'Брайен, той самой, с которой он танцевал на вечеринках, что устраивались в честь офицеров "Бигля" перед отплытием из Плимута. На свидание с братом из расположенного по соседству с Маунтом Овертона приехала старшая сестра Марианна вместе со своими четырьмя сыновьями и девятимесячной дочкой. На следующий день рано утром Чарлз поднялся в просторную спальню отца, все окна которой выходили на реку и расстилавшиеся за нею зеленые луга. Налив по чашке кофе из принесенного на подносе кофейника, он присел на край отцовской кровати. – Отец, я вел весьма скрупулезные записи всех своих расходов за время путешествия. Если хочешь, мы могли бы сейчас их просмотреть. – Не думаю, что это требуется, Чарлз. Как ты и обещал перед отплытием, ты оказался "чертовски экономным" и тратил только на самое необходимое. – Я рад, что тебя не смущает та сумма, в которую обошлись мои сухопутные экспедиции. По моим подсчетам, за пять лет я снял со счета чуть больше девятисот фунтов, включая стоимость пистолетов, телескопа, микроскопа и компаса, купленных мною еще до начала плавания. Надеюсь, я смогу убедить тебя, что деньги были потрачены с пользой. – Дорогой мой сын, я уже отметил свое семидесятилетие и в оставшиеся мне годы намерен наслаждаться жизнью, а не расстраиваться из-за кого или чего-нибудь. Твое платье порядком износилось. Если ты хочешь стать геологом в духе Адама Седжвика, тебе понадобится несколько новых костюмов. Не можем же мы позволить, чтобы ты запятнал репутацию Дарвинов. Бери столько денег, сколько тебе требуется для продолжения работы. А я буду продолжать выплачивать тебе четыреста фунтов годовых. Оба, и отец и сын, так и сияли от радости. По существу, отец считает, что он стал ученым. И кажется, бесконечно доволен таким оборотом дела. Доктор Дарвин прочел мысли, роившиеся в голове сына, и был счастлив от сознания собственной щедрости. – С прошлым покончено, Чарлз. Ты открыл совершенно новую главу. Пять лет путешествий и трудов равно-значйы самой высокой степени, какой тебя могли бы удостоить в Кембридже. Теперь мы, я и мои дочери, с любовью и интересом станем следить за тем, что из этого всего получится. Оставив на конюшне гостиницы "Красный лев" свой экипаж, который ему пришлось нанять в Брикхилле, он пешком, с чемоданом в руке, направился к дому Генсло в Кембридже, где ему предложили остановиться. Трехэтажный особняк коричневатого кирпича на Риджент-стрит с дугами окон и голубой входной дверью под каменной аркой, казалось, ничуть не изменился с годами. Зато в семье за это время произошли значительные перемены: сейчас у Генсло было уже три девочки и два мальчика. О своем прибытии Чарлз оповестил условным стуком дверного молотка: пять быстрых, два медленных удара. Хэрриет и Джон Генсло вместе распахнули дверь, и Чарлз тут же попал в их дружеские объятия. Большое и доброе лицо Джона располагало к себе еще больше, чем всегда. Седые пряди в густых вьющихся волосах делали профессора привлекательнее в сорок лет, чем в более молодые годы. Встреча была радостной. Двое старших детей помнили его: оставалось "представить" его трем младшим. Хотя теперь в доме не устраивались знаменитые "пятницы", Генсло не стал домоседом. Он только что издал "Основы описательной и физиологической ботаники", которые расценили как последнее слово в этой области науки. Приход в Чолси-кум-Моулсфорд в графстве Беркшир давал ему дополнительно триста сорок фунтов в год. Путь туда был не близкий – сто миль, но зато каждое лето на все каникулы Генсло вывозил туда своих домочадцев, и они размещались в удобном доме при церкви в четырнадцати милях от Оксфорда. Теперь у него не было больше необходимости по шесть часов в день заниматься частным репетиторством, чтобы содержать семью. После ужина мужчины перешли в библиотеку. Генсло подложил в камин свежие поленья и привычным движением поворошил угли. – Дорогой мой Генсло, я так мечтал о встрече с вами, – проговорил Чарлз. – Вы мой самый лучший друг, каких никогда ни у кого не было. Пока я жив, я всегда буду вам обязан. – Я рекомендовал вас на "Бигль", и, естественно, отвечал за то, чтобы помочь доставить ваши коллекции в целости и сохранности. Когда можно будет ознакомиться с вашими растениями с Галапагосов? – Как только капитан Фицрой доставит корабль в Гринвич. Я хочу снять с вас заботу об этих своих ящиках и как можно скорее приступить к работе над книгой по геологии. – Оставайтесь в Кембридже, рассортируйте свои виды по семействам и ждите заявок на экспонаты от тех, кто уже работает в какой-нибудь конкретной области. Кстати, в прошлом месяце Седжвик и я подписали рекомендацию для вашего вступления в Геологическое общество. Ваша кандидатура будет выдвинута второго ноября. А вскоре после этого вас изберут. Из своего прихода в окрестностях Кембриджа прибыл брат Хэрриет Леонард Дженинс. Это был тот самый Дже-нинс, которому предлагали отправиться натуралистом на "Бигле", однако по семейным и служебным обстоятельствам он от этого предложения отказался. Дженинс не завидовал Дарвину и не держал на него зла: он испытывал удовлетворение от сознаний, что путешествие оказалось плодотворным. Он оставался все таким же, каким Чарлз его помнил: добрые глаза под набрякшими веками зорко всматривались в окружавший его мир. – Я привез вам экземпляр своей новой книги – "Руководство по позвоночным животным Британии". Его только что напечатало издательство Кембриджского университета. Не мне судить о достоинствах собственной работы, но ведущие зоологи отзываются о ней с похвалой. Я занялся изучением привычек животных, а не просто их описанием. Боюсь, что это представит интерес только для узких специалистов. – Никто из нас, увы, не может соперничать с Чарлзом Диккенсом, выпускающим с продолжением свои "Записки Пиквикского клуба", – заметил Чарлз. На следующее утро Генсло повел его осматривать подвал. У Чарлза перехватило дыхание: на него волной нахлынули воспоминания о пяти годах, проведенных на "Бигле". С трепетом смотрел он на это собрание коробок, бочонков и ящиков, а перед его глазами вставали картины морей, гор, пустынь, куда приводил его исследовательский пыл, и в ушах звучали разноязыкий говор бесконечных рыночных площадей, стук молотка, которым Мей, корабельный плотник, забивал первые ящики, грозные приказания лейтенанта Уикема поскорее очистить палубу от "всего этого хлама"… В прохладном, но сухом воздухе подвальных помещений смешивались запахи рыбного рынка, каким он бывает ранним утром, и густо населенного птичника. Генсло по ходу дела высказывал свое мнение по каждому пз экспонатов – от морских животных до образцов горных пород, не забывая при этом поздравить Чарлза с его "изумительными, выдающимися экземплярами рыб, столь прекрасно заспиртованных". – Что касается ископаемых, то, как вам известно, я переправил их мистеру Клифту в Сёрджентс-Холл в Лондоне, чтобы их там подреставрировали и сохранили наилучшим образом. Посылка со шкурами хотя и задержалась в дороге, но все они уже проветрены и находятся теперь в хорошем состоянии. А вот когда прибыли эти ваши зерна, которые вы наскребли по каким-то сусекам, я был за городом, так что некоторые из семян погибли, прежде чем мне удалось их посеять, И потом, ради всех святых, что там числится у вас под номером 233? Похоже, что эта груда пепла – результат действия электрического разряда. Зато ваши птицы, пресмыкающиеся, растения и папоротники дошли в наилучшем виде. Мы потеряли лишь одного замечательного краба, оставшегося без ног, и еще птицу, у которой помялось хвостовое оперение. Чарлз нежно обнял за плечи своего старшего друга: – Никто в целом мире, кроме вас, дорогой Генсло, не стал бы столько возиться с тысячами экспонатов. – У меня в семье пятеро детей, – отвечал Генсло, за нарочитой резкостью тона пряча свои истинные чувства. – Почему бы мне не завести и шестого? Эразм радостно приветствовал брата в своих лондонских апартаментах на Грейт Мальборо-стрит, 43. Чарлза поразил район, в котором он очутился: в городе редко где можно было встретить столь же колоритное и хаотичное нагромождение домов, улиц, пересекавших друг друга под немыслимыми углами, лавок и контор, выкрашенных в яркие, почти кричащие цвета. – Ясно, это квартал богемы! – воскликнул он. Даже люди на улицах выглядели тут по-иному, а их одежда ничем не напоминала стиль уравновешенных и добропорядочных британских бизнесменов. Это были, скорее, цыгане лондонского общества, и среди них живописцы в плисовых брюках и пиджаках, напомнивших ему Огаста Эрла. Писатели, актеры – все они, собравшись группками, оживленно переговаривались, жестикулировали или слонялись без дела с беззаботным видом. "Рас умудрился найти колонию вольных художников всего в двух шагах от Оксфорд-Сёркус и совсем рядом с дорогими особняками Кавендиш-сквера", подумал Чарлз. Братья шумно обнялись – это была их первая встреча после пятилетней разлуки. Затем, отступив на шаг, принялись критически рассматривать друг друга в поисках следов, оставленных временем. – Господи, до чего ж ты раздался в плечах! И форма головы другая. Или, может, это лицо так округлилось? А глаза, боже милостивый! Когда я в последний раз в них глядел, то видел там разве что Фэнни Оуэн или только что подстреленную тобой куропатку. А теперь в них светятся, как бы это сказать, знание, честолюбие, планы?.. – Работа, дорогой мой Рас. Ею забиты и мои глаза, и моя голова. Но дай-ка мне как следует посмотреть на тебя: пряди уже не так спадают на чело, но все равно ты такой же неотразимый повеса, каким был. А что ты, собственно, делаешь в халате – в час дня? – Наслаждаюсь жизнью и позволяю ей наслаждаться мною. Представь себе, жить в свое удовольствие, то есть бездельничать, как принято выражаться, самое хлопотливое дело на свете. У меня нет ни жены, ни любовницы, ни детей, ни какой-нибудь другой обязанности, кроме как быть одетым к вечернему чаю, когда в дом начинают сходиться мои друзья. Сегодня ты встретишься с Томасом Карлейлем и его женой Джейн, Хэрриет Мартино, самой модной писательницей в Лондоне, Сиднеем Смитом, богословом и одним из остроумнейших людей… – Рад за тебя, Рас. Ты не терял времени даром: пока я коллекционировал крабов и змей, ты коллекционировал литературных знаменитостей. Эразм смотрел на него со странным выражением на лице. – Знаешь, Газ, за это время ты стал, по-моему, ниже ростом! – Чепуха, люди начинают усыхать только к шестидесяти или к семидесяти годам, а мне еще целых четыре месяца до двадцати восьми. Во мне было ровно шесть футов, когда я уезжал, и сейчас их ровно столько же. – Хочешь пари? Я видел этот твой гамак в кормовой каюте. У меня есть метр, пошли я тебя измерю. Эразм оказался прав. Рост Чарлза составлял пять футов одиннадцать и три восьмых дюйма. – Проклятье! – прошептал Чарлз. – Путешествие на "Бигле" стоило мне больше чем полдюйма роста! Не мог же я отдать эти полдюйма ни за что. Очутившись в Лондоне, он тут же принялся ходить по музеям и наносить визиты ученым. Первые его вылазки были малоутешительны: не находилось почти никого, кто бы заинтересовался теми естественнонаучными сокровищами, которые он привез. Уильям Яррел [Книжный торговец и издатель. ~ Прим. пер.], оказавший ему столько услуг пять лет назад, был теперь целиком поглощен приведением в порядок собственных дел и к тому же пытался распространить свою новую книгу "История рыб Великобритании". Чарлз дважды заходил в книжную лавку к Яррелу, пока наконец не решил, что с его стороны эгоистично морочить тому сейчас голову. Томас Белл, только что назначенный профессором зоологии в Королевском колледже – Чарлз надеялся заинтересовать его своими пресмыкающимися, – дал понять, что настолько занят, что вряд ли сможет возиться с какими-то экспонатами. Зоологический музей на Брутон-стрит, 35, куда он завернул, сам располагал более чем тысячью еще не обработанных экспонатов. К Британскому музею он относился без всякого почтения: его материалы там оказались бы просто сваленными в кучу, заброшенными или утерянными. Что же касалось неизвестных экспонатов, то, сказали ему, вообще нечего надеяться, что их примут в коллекцию. – Когда я возвратился в Англию, – поделился Чарлз с братом, – то думал, что моя работа закончилась. Теперь я понял, что она, по существу, и не начиналась. – Потому-то я и не люблю работы, – отвечал Эразм. – Она имеет тенденцию длиться до бесконечности. – Похоже, придется вернуться в Кембридж, чтобы мне помогли разобраться с классификацией экспонатов. Как раз в это время он получил приглашение от Джорджа Уотерхауса, недавно назначенного куратором Зоологического общества, побывать на их вечернем заседании. Первым, кто приветствовал Чарлза, едва он вошел в здание возле Беркли-сквер, был орнитолог Джон Гулд, уже долгое время занимавшийся набивкой чучел для Общества: он тут же выразил желание увидеть привезенных Дарвином птиц. Впрочем, это было последним приятным впечатлением от вечера, потому что, стоило членам общества приступить к чтению собственных докладов, как они принялись рычать друг на друга. Вскоре зоологи с их явной задиристостью совершенно вывели его из терпения. Выяснилось, что Общество совершенно не проявляет интереса к его зоологическим коллекциям. А вот профессор Тенсло сожалел, что Чарлз не привез еще больше ботанических экспонатов. Сидя в душном взбудораженном конференц-зале, Чарлз думал: "Знать бы раньше, что ботаники относятся к своей науке с такой любовью, а зоологам до своей не! никакого дела. Тогда бы соотношение экспонатов в моем собрании было для тех и других совсем иным". Но как встающее солнце обращает мрак в день, как сменяют друг друга океанский прилив и отлив, нахлынув на берег или схлынув с него, так колесо фортуны Чарлза сделало неожиданный поворот на триста шестьдесят градусов. Однажды он поднялся особенно рано и только успел закончить свой туалет, как услыхал, что в дверь стучат. К своему изумлению, он увидел на пороге возвышавшегося, подобно утесу, Адама Седжвика. – Узнал вчера ваш адрес и направился по нему прямиком – так, как движется к вершине горный козел! – воскликнул Седжвик. – Мой дорогой профессор, какая это для меня радость! За время нашего совместного путешествия по Северному Уэльсу вы дали мне куда больше, чем предполагали. – Знания сочатся из меня, как вода из решета. Пошли со мной, я проведу вас туда, где подают самые лучшие в Лондоне завтраки, а вы меня – по своим Андам! – С превеликим удовольствием. И если ваши уши в состоянии выдержать, мне хотелось бы рассказать о книге по геологии, которую я задумал. За завтраком они просидели несколько часов. Седжвику было сейчас за пятьдесят: красивый, мужественный, неистощимый на рассказы, кладезь цитат… и при этом прежние жалобы на ревматизм. Пока Чарлз гостил в Маунте, Сюзан лишь мимоходом упомянула имя Адама Седжвика. Он же сейчас не упомянул ее вовсе. Чарлзу не оставалось ничего другого, как примириться с таким оборотом дела. – Мне нужно устроить вашу встречу с Лайелем, – заключил Седжвик. – Это человек, который сможет провести вас через лес любых фактов. Знаете, что он писал мне в декабре минувшего года? "Как я мечтаю о возвращении Дарвина. Надеюсь, вы не будете монопольно владеть им у себя в Кембридже". Чарлзу показалось, что рот его сам собою открылся. Когда он заговорил, голос его звучал глухо: – И Чарлз Лайель это вам написал? Но как… почему?.. – Ему понравились выдержки из ваших писем, которые мы с Генсло опубликовали. Он полагает, что у вао может быть свежее восприятие геологии. Написанная женской рукой, но подписанная Чарлзом Лайелем простая, но вместе с тем сердечная записка содержала приглашение явиться завтпа в любое время после полудня. Для визита он надел красивую темную жилетку с высоким стоячим воротником и атласными лацканами, двубортный пиджак и полосатые брюки, которые только что сшили его портные Гамильтон и Кимптон со Стрэнда, и новую пару башмаков, заказанных у Хауэлла. Нэнси прислала пару белых рубашек, сшитых с величайшей любовью. Эразм одолжил ему один из своих наименее экстравагантных галстуков. Чарлз тщательно побрился. Рыжевато-золотистые волосы, разделенные пробором над левым ухом, были аккуратно зачесаны назад. В карих глазах Эразма заиграло удовольствие. – Ты сегодня чертовски красив! Пожалуйста, оденься так же и для моих гостей, которых ты, будучи занят, так и не удостоил пока что своим присутствием. – Как-нибудь в другое время, Рас. А сейчас я должен встречаться с великими учеными мужами. Мне позарез нужна помощь, чтобы привести в порядок свою коллекцию. До небольшого трехэтажного кирпичного дома, который снимали Лайели, идти было недалеко: он находился возле Блумзбери-сквер, в отнюдь не фешенебельном районе. Ученые, коллеги Лайеля, недоумевали, с какой стати он, выходец из богатой семьи, и его жена Мэри, дочь богатого купца из Эдинбурга, предпочитают столь скромный образ жизни, не держат ни лошадей, ни экипажа, ни многочисленной прислуги. Замешкавшись у парадного входа, Чарлз постучал дверным молотком – и тут же на пороге выросла фигура Лайеля. – Мой дорогой Дарвин, какое удовольствие видеть вас! Я так ждал вашего возвращения! Заходите же. Разрешите представить вам мою жену Мэри. Она ведает всей моей корреспонденцией, как вы, вероятно, уже заметили, когда получили вчера нашу записку. Лайель провел Чарлза в большую гостиную. Она была обставлена мебелью из его прежней холостяцкой квартиры в Рэймонде и частично – той, что подарил его тесть, Леонард Хорнер. Это делало комнату чем-то вроде мебельного склада, но Лайели не слишком-то заботились о том, чтобы произвести впечатление. Стены были только что заново оклеены обоями и выглядели совсем свежими. – Чудесное место, много воздуха – и настолько близко от Соммерсет-Хауса и "Атенеума", насколько позволяет мне мой кошелек. Чарлз приглядывался к хозяину. Длинноногий человек лет сорока. Широкие длинные бакенбарды, спускавшиеся почти к самым уголкам рта, тщательно выбритое лицо и гладкий подбородок; уже начинающая лысеть крупная голова, седина на висках. Глаза Лайеля плохо видели, но зато каждому, кто смотрел в них, становилось хорошо на душе, столь тепел был их взгляд. Резко выдающийся греческий нос, четко очерченный тонкий нервный рот. У Мэри Хорнер Лайель была голова патрицианки, идеальная кожа, высокая грудь, роскошные каштановые волосы, которые она зачесывала назад, оставляя открытыми только мочки ушей с жемчужными сережками. Она указала Чарлзу на кресло напротив Лайеля, сидевшего за столом, заваленным книгами и бумагами, и спросила, какое шерри онпредпочитает: сладкое или сухое. Четыре года назад, когда она выходила за Лайеля, ей было всего двадцать три. За это время она стала и его неизменной спутницей в поездках по Франции и Германии, куда они отправлялись в геологические экспедиции, и его секретарем, писавшим под диктовку, чтобы сберечь зрение мужа для чтения книг. – Профессор Генсло говорил мне, что вы увлекаетесь коллекционированием жуков, – начал Лайель. – И даже основали в Кембридже Клуб собирателей жуков. Рассказывают, что вы нашли редчайший вид жука, который занесен в книгу Стивенсона "Насекомые Британии в иллюстрациях" со сказочно прекрасной пометкой: "Пойман Ч. Дар-вином, эскв.". Чарлз густо покраснел. – Мое имя появилось тогда в печати в первый раз. Это пьянит еще больше, чем бренди. – Держу пари – в первый, но не в последний. Я тоже вошел в науку через увлечение насекомыми. Из школы меня забрали домой в Хэмпшир по состоянию здоровья. Незадолго до того отец начал заниматься энтомологией: впрочем, его порыва хватило только на то, чтобы накупить книг по данной теме. Сперва я обратил внимание на бабочек, мотыльков и им подобных как на самых красивых, но вскоре полюбил наблюдать за удивительными привычками водяных насекомых и все утра просиживал на берегу пруда – скармливал им мух и, если удавалось, ловил. А сейчас, – продолжал он, – расскажите мне о ваших планах. Мне хочется помочь вам, чем только смогу. В присутствии прославленного геолога Чарлз стеснялся говорить о своих намерениях. Он сказал, впрочем, что посвятил геологии около девятисот страниц записных книжек, не считая того, что заносил в дневник. – Я совершал длинные переходы по суше в пампасах и в Андах. Очень надеюсь, что после того, как закончу расшифровку своих записей, мне удастся написать книгу своих геологических наблюдений в Южной Америке. Лайель одобрил эту мысль. – Монополии на геологию нет ни у кого. Чем больше выходит в свет книг, особенно если в них содержатся верные наблюдения, тем сильнее становится наша наука. Чему завидую, так это представившейся вам возможности побывать на Таити и других тропических атоллах, где вы могли сами изучать коралловые рифы. Мне никогда не доводилось видеть скоплений кораллов. Расскажите-ка мне о них. Несколько мгновений Чарлз неотрываясь изучал Лайеля. Это была его первая встреча с человеком, который был к нему великодушен, чрезвычайно ему нравился и с которым, похоже, у них со временем должны установиться плодотворные дружеские отношения. Вправе ли он был обидеть его, рассказав о своем открытии на островах Килинг [Острова Килинг (или Кокосовые) в Индийском океане, где Дарвин впервые сформулировал свою оригинальную теорию коралловых рифов. – Прим. пер.]? Вправе ли высказать уверенность в том, что именно он, а не Лайель знает теперь, как в действительности образуются коралловые атоллы? В конце концов он решил сказать правду. – Позволите ли вы мне изложить мою теорию кораллов? При всем своем уважении к вам должен сказать, что она отличается от вашей точки зрения, согласно которой атоллы возникают по краям кратеров подводных вулканов. Возможно, вы укажете мне на мои слабые или ошибочные места. Сочувственный взгляд Лайеля сделался строгим. – Выкладывайте! Готовясь к предстоящей умственной работе, Лайель принял весьма странную позу. Стоя, он умудрился положить голову на сиденье стула и крепко зажмурил глаза. Подобное положение требовало акробатических усилий от такого высокого человека, как он. Шаг за шагом рассказывал Чарлз о своих наблюдениях за рифами и лагунами южных морей, особенно на Таити, и об экспериментах на островах Килинг, в результате которых он сумел доказать самому себе, что кораллы могут жить только в теплой воде, причем полипы разрастаются на стороне, обращенной к морю, так как именно там они находят себе пищу, и не способны существовать ниже уровня 120 – 180 футов. – Ни разу, мистер Лайель, мы не обнаружили присутствия вулканического кратера. К-.тому же мне не кажется, что подводный кратер может иметь в поперечнике столько миль, как на атолле Боу. А какой кратер может достичь шестидесяти миль в длину, как остров Меншикова? Вулканическая теория не в состоянии объяснить существование барьерного рифа у берегов Новой Каледонии длиной в четыреста миль или Великого барьерного рифа Австралии, простирающегося на тысячу двести миль. Принимая во внимание глубины, на которых могут жить коралловые полипы, невозможно поверить, чтобы подводные вулканы, разбросанные по океанским просторам, повсюду поднимали края своих кратеров именно на сто двадцать футов ниже уровня моря. Моя теория заключается в том, что основу коралловых образований составляют не вулканические кратеры под поверхностью океана, а подводные горные хребты, континенты, которые когда-то возвышались над поверхностью воды, а потом, постепенно опускаясь, и создали то основание, на котором растут коралловые полипы. Когда Чарлз закончил, наступила пауза. Лайель оставался в прежней позе, обдумывая услышанное. Мэри молча сидела в уголке, наблюдая за мужем. После показавшегося вечностью молчания Лайель, рывком распрямившись во весь свой poст, в окликнул: – Я в восторге! И он принялся танцевать по комнате, выделывая самые невероятные па. Мэри спокойно заметила Чарлзу, остававшемуся посреди гостиной и отказывавшемуся верить своим глазам: – Мой муж всегда так себя ведет, когда что-нибудь чрезвычайно его обрадует. Лайель между тем прекратил свои прыжки и начал изо всех сил трясти руку Чарлза, восклицая: – Я весь переполнен вашей новой теорией коралловых островов. Во что бы то ни стало уговорю Уильяма Юэлла – в феврале он сменит меня на посту президента Геологического общества, – чтобы вы выступили с докладом на ближайшем же заседании. – Мистер Лайель! Я бесконечно благодарен вам за добрую волю и душевную симпатию, которую вы проявляете к начинающим любителям вроде меня. – В вопросах науки я действую с осторожностью. Если бы ваши доказательства не были столь очевидны, я привел бы все возможные опровержения. Этому научила меня моя юридическая практика в "Линкольнз инне" [Один из четырех "судебных иннов" (корпораций адвокатов) в Лондоне. Прим. пер.]. Я убедился теперь, что должен расстаться со своей вулканической теорией навсегда, хотя это для меня мучительно: ведь она так много для меня значила. Лайель тут же попросил его рассказать о своей геологической коллекции, и Чарлз подробно описал ее. Затем он решил, что из соображений вежливости не следует долее злоупотреблять гостеприимством хозяев. – Сегодня благодаря вам научные открытия сыпались как из рога изобилия. В ближайшую же субботу вы непременно должны быть у нас к восьмичасовому чаю. Я приглашу Ричарда Оуэна. Как хантеровский [Джон Хантер (1728 – 1793) – английский хирург, основатель научной школы. – Прим. пер.] стипендиат, он только что назначен профессором анатомии и психологии в Королевском хирургическом колледже. Это один из тех, кто лучше других в Лондоне сможет посоветовать, как расположить ваш зоологический материал и опубликовать его. – В субботу утром мне нужно будет съездить в Гринвич, чтобы забрать оставшуюся часть экспонатов, включая растения с Галапагосских островов, и свои приборы. Но я уверен, что поспею к сроку. ..Чтобы разместить несколько тысяч экспонатов, Чарлзу требовалось много места, а в доме Генсло все и без того было заставлено. Знакомые преподаватели из колледжа Христа, пригласив его к обеду, наперебой советовали арендовать комнаты в самом колледже сроком на один учебный год. – Но я же не знаю, сколько времени мне придется здесь пробыть, отвечал им Дарвин. – Лучше снять помещение с помесячной оплатой и с минимумом обстановки. Как раз такое помещение он и нашел неподалеку от Трампингтон-роуд на Фитцуильям-стрит, в тупике, образовавшемся там, где ее пересекала Теннисная аллея. На каждой стороне этой тихой благопристойной улицы было, как ему показалось, не больше дюжины домов с ящиками на подоконниках, где росли яркие цветы. Сами дома мало отличались один от другого размерами, окраской или стилем. Он зашел в жилищный трест на Фитцуильям-стрит, владевший многими из домов, как и большим участком на Трампингтон-роуд, где предполагалось, как только жюри отберет лучший архитектурный проект, построить музей. В нем должна была разместиться та самая коллекция картин, которой Чарлз в свое время любовался в здании гимназии Пэрса по соседству с будущим музеем. – Приятно иметь вас в качестве нашего квартиросъемщика, приветствовал его пожилой клерк. – Вам придется, однако, внести аванс за три месяца. Въезжать можно будет тотчас же. Узкий четырехэтажный дом как нельзя лучше отвечал требованиям Чарлза. Он пришел в настоящий восторг, осматривая одну за другой все комнаты и решая, в какой что разместить. В подвальном помещении, выходившем на улицу, было одно окно и камин ("Готовая кухня, где Симе сможет готовить еду"). На первом этаже находилась довольно большая гостиная, широкое окно которой выходило на солнечную сторону. Самая лучшая комната в доме была расположена в дальнем конце: размером десять футов на двенадцать. В ней помещались кровать и видавший виды комод. "Здесь будет моя спальня, – решил он. – А Симе может занять одну из комнат рядом с прихожей". Чарлз поднялся по винтовой лестнице, крутой и узкой. На втором этаже он обнаружил две маленькие гостиные: в той, что справа, можно будет разместить морскую живность, ракообразных, медуз, моллюсков, рыб; в той, что слева, – насекомых и пресмыкающихся. Надо будет только попросить Симса сделать побольше подставок. Более вместительную комнату в конце коридора он решил предоставить своим животным, позвоночным и беспозвоночным. На следующем, третьем этаже помещались две комнаты со слуховыми окнами. "Одна для птиц, – прикинул Чарлз, – а другая – для ботанической коллекции: растения, цветы, травы, семена, лишайники с тропических деревьев джунглей. Раковины поместятся в одной из боковых комнатушек четвертого этажа". Крыша дома была сильно.скошенной, но все равно на чердаке уместились еще две комнаты. – Сюда, конечно, пойдут горные породы! – воскликнул он. Вызвав к себе из общежития Симса Ковингтона, Чарлз поручил ему нанять лошадь и фургон, прихватить двух портье из гостиницы "Красный лев" и отправиться к дому Генсло. Симсу и портье понадобилось два дня для того, чтобы вновь упаковать и запечатать ящики, коробки и бочонки, которые Чарлз посылал Генсло, общим числом двадцать один, не считая еще пяти, привезенных им с собою на "Бигле". Большинство коробок нужно было забрать у Генсло из подвала. Остальные хранились в пригороде на складе. В большую гостиную первого этажа, которую он намеревался превратить в кабинет, где можно было бы заняться редактированием дневника путешествия, поместились некоторые из самых тяжелых ящиков и коробок поменьше. В две кладовые за подвалом-кухней и в комнатку рядом с передней влезло еще несколько. Два грузчика кое-как умудрились втащить наверх по крутой винтовой лестнице наиболее легкие бочонки и коробки, а все оставшиеся расставили в ряд, как деревянных солдатиков, в нижнем коридоре. – Эти придется разгрузить в первую очередь, – определил Чарлз, – чтобы очистить проход. Потом займусь ящиками в гостиной. Надо будет купить пару дешевых корзин, чтобы таскать в них наверх мелочь из коллекций. Ковингтон уже приноровился к этим ступеням, да и мои надписи он прекрасно разбирает. Разнося тысячи экспонатов (а ведь многие из них были еще и заспиртованы) по соответствующим комнатам, все сбились с ног. Перетаскивая на чердак сотни образцов пород, Дарвин проклинал себя: – Идиот! И чего я не разместил всю геологическую часть на нижнем этаже? Тогда не пришлось бы надрывать животы, поднимаясь с этим проклятым грузом на самую верхотуру. Однако его бесконечно радовало, что дело все же продвигается вперед. Теперь можно будет начать главную работу. Симе, умевший куда лучше играть на скрипке, чем плотничать, сооружая скамейки, успел дважды порезаться пилой. С робкой ухмылкой на широком плоском лице он заметил: – Прямо музей получается, мистер Дарвин. То-то здорово будет тут у вас работать На окнах висели выцветшие занавески, на двух походных кроватях имелись белье и одеяла, но зато совсем не было полотенец, кастрюль, посуды. Когда за ужином у Генсло он упомянул об этом, Хэрриет тут же откликнулась: – Можете не сомневаться, что для вас у нас найдутся кастрюли со сковородками, тарелки, ложки, вилки. – Хэрриет, вы заботитесь обо мне, как родная мать. Только постарайтесь, пожалуйста, дать мне вашу старую посуду – я же наверняка верну ее в гораздо худшем состоянии, чем получу. Последующие дни и недели были заполнены захватывающей работой: перед Чарлзом ожили все пять лет кругосветного плавания. Он выкладывал из ящиков маленьких темно-синих медуз и морских моллюсков – то был его первый улов по пути от Тенерифе до острова Сантьягу; а вот каракатица: когда он поймал ее у одного из островов Зеленого Мыса, она выпустила ему струю прямо в глаз; вот пауки и насекомые из окрестностей Рио-де-Жанейро: блестящие по окраске бабочки, жуки, муравьи; вот странное пресмыкающееся, которое они с Фицроем обнаружили возле Монтевидео. Оно выглядело как змея, но имело две задних лапки или плавники. Рядом коллекция его птиц из Маль-донадо: попугаи, грифы-стервятники, пересмешники, дятлы; утка с Фолклендских островов, стоившая жизни Эдварду Хеллиеру [Корабельный клерк, отвечавший за интендантскую часть: поплыв за подстреленной уткой, он запутался в водорослях и погиб. – Прим. пер.]; шкуры зверей, в том числе гуанако (он вспомнил, как в бухте Желания увидел двух животных и подстрелил одного из них); растения, вьюрки и другие животные с Галапагосов с точным указанием, на каком из островов они обнаружены. Самой полной оказалась геологическая коллекция: вулканическая порода с Сантьягу; гравий, перемешанный с молодым ракушечником из Баиа-Бланка, где он впервые нашел ископаемые окаменелости; образцы лавы, собранные во время путешествия вверх по течению реки Санта-Крус. Из экспедиции в Анды в коллекцию попали: чистый белый гипс из долины Валье-дель-Есо; куски породы с горной вершины, где воздух был настолько сухим, что деревянная ручка геологического молотка покрылась трещинами; белые, красные, пурпурные и зеленые осадочные породы, собранные возле Успальята, наконец, черная лава Галапагосских островов… От Лайеля пришло письмо, подтверждавшее избрание Чарлза членом Геологического общества и предлагавшее ему написать доклад по уже обговоренной ими теме "Наблюдения в поисках доказательств недавнего подъема береговой части Чили". По существу, доклад этот почти полностью содержался в готовом виде в его всеобъемлющей записной книжке по геологии, оставалось всего лишь прояснить кое-какие места и изложить материал научным языком. Чарлз был предельно краток: доклад занял всего шесть страниц, которые он отослал почтой на домашний адрес Лайеля. Чтобы немного встряхнуться, перед ужином он на часик отправился прогуляться с Генсло. С реки веяло холодом. Они проходили берегом мимо Королевского колледжа, колледжей Тринити, Кинге, Клэр и Сент-Джонс. Оба они кутались в свои пальто и кашне, натянув как можно глубже привезенные Чарлзом вязаные шерстяные шапочки, которые носят моряки. Говорили они о науке. – Лайель пишет, – поделился Чарлз с Генсло, – что прочел мой доклад с превеликим удовольствием, но в нескольких местах нужны разъяснения. Ему бы хотелось, чтобы второго января я приехал в Лондон и внес кое-какие мелкие исправления в работу. Это займет не более получаса, после чего мне предстоит выступить на заседании Общества. – Поезжайте не раздумывая! – отозвался Генсло с пылом. – Я был бы рад, если бы они там познакомились не только с качеством вашей работы, но и с вашими человеческими качествами. – Да, конечно, я поеду. А кроме того, Лайель предложил мою кандидатуру в члены "Атенеума". Он говорит, что уже сейчас я, если захочу, могу обедать в клубе. Вакансий, правда, пока не появилось, но в списке претендентов я как будто первый. – Великолепно! "Атенеум" – лучший частный клуб в Лондоне. Бывая там, вы получите счастливую возможность встречаться с наиболее известными учеными, литераторами и художниками, не говоря уже о меценатах покровителях науки, литературы и изящных искусств. Я думаю, что вы сможете вступить в члены клуба уже через пару месяцев, как только удалится на покой один из "старичков". Теперь работа над "Дневником" доставляла Чарлзу куда большую радость. Причиной тому послужило письмо от Роберта Фицроя, содержавшее самую приятную новость: "Находясь несколько дней назад проездом в Лондоне, я советовался с Генри Колберном, почтеннейшим издателем с Грейт Мальборо-стрит, относительно "Дневников" капитана Кинга и моего. По его мнению, следует издать их в одной серии отдельными томами – один Кинга, другой Ваш и третий мой. Прибыль, ежели таковая будет, можно всегда разделить между нами на три равные части. Принимать ли мне это предложение или подождать до нашей встречи, чтобы обсудить все как следует?" Он заканчивал трогательным приветом: "Желаю вам, дорогой Филос [Филос – сокращенное от "Философ" – прозвище Дарвина 'на "Бигле", – Прим. пер.], счастливого рождества. Всегда Ваш искренний друг…" Чарлз ответил согласием немедленно. У Лайеля он был ровно в пять. Работа по переписыванию нескольких фраз и перестановке абзацев и на самом деле заняла полчаса. Чарлз быстро убедился, насколько справедливы были все замечания. В половине шестого он уже сидел за столом вместе с родителями Мэри Лайель. Мистер Леонард Хорнер сердечно приветствовал его – он помнил Чарлза еще по Эдинбургу, где тот выступил на заседании Плиниевского общества с докладом "О яйцах мшанки Flustra". Заинтересовавшись тогда угловатым восемнадцатилетним юношей, Хорнер взял Чарлза с собой на заседание Королевского общества Эдинбурга. В тот же вечер вместе с Лайелем и Хорнером Чарлз отправился в Геологическое общество и выступил там с докладом. Впервые, если не считать его выступления в Эдинбурге, ему приходилось держать речь перед столь большой аудиторией. Когда Лайель в. качестве президента Общества представил его, Чарлза охватило нервное волнение. Стоило ему, однако, начать говорить, как оно улеглось, и он снова был в Южной Америке, в Чили, снова своими глазами видел вздыбленные участки суши. Голос, поначалу дрожавший, окреп и наполнил собой просторный лекционный зал, где сидели его коллеги. Раздались дружные аплодисменты. Лайель сиял. Хотя Чарлз был всего на двенадцать лет его моложе, он стал для него чем-то вроде сына. – Поднимаем паруса – и в "Атенеум". Этот успех надо отпраздновать! До этого Чарлз ни разу не бывал в клубе, основанном сэром Вальтером Скоттом и Томасом Муром в 1824 году. Особняк на северо-восточном углу улицы Пэлл-Мэлл был в этот поздний час почти безлюден. Чарлз походил по роскошным комнатам, заглянул в богатейшую библиотеку на втором этаже. После нескольких рюмок бренди, перед тем как портье объявил: "Время закрытия, джентльмены!", Лайель доверительно наклонился к Дарвину: – Чарлз, вы теперь вхожи в Общество, и мне хочется сразу же дать вам серьезный совет. – Я весь внимание. – Не соглашайтесь ни на какой официальный научный пост, если этого можно избежать, и никому не говорите, что такой совет вы получили от меня Сам я боролся со своим президентством, этим ужасным бедствием, пока хватало сил. Работайте только на себя и на науку многие годы и не принимайте прежде времени никаких официальных почестей. Есть люди, которым эти обязанности помогают: без них они попросту не могут работать. Вы к их числу не принадлежите. К тому времени, когда Чарлз вернулся в Кембридж, семестр уже начался. Он получал приглашения на многочисленные встречи, нередко устраивавшиеся в его честь. Одна такая встреча состоялась у Адама Седжвика, считавшего своим долгом отплатить за гостеприимство, оказанное ему в Маунте, другая – у Джорджа Пикока, только что избранного профессором астрономии, который вместе с Генсло в свое время рекомендовал его в качестве судового Натуралиста на "Бигль". У Седжвика Чарлз засиделся далеко за полночь, в остальных случаях он взял себе за правило уходить не позже десяти, с тем чтобы иметь возможность еще пару часов поработать над "Дневником" перед сном. Преподаватели начали все чаще заходить к нему на квартиру на Фитцуильям-стрит, чтобы познакомиться с коллекциями. Он объяснял им, что в настоящий момент занят тем, что пытается осмыслить свои зоологические находки. – Пресмыкающихся и ракообразных согласился посмо" треть в Лондоне Томас Белл, а ископаемые кости – Ричард Оуэн. Птицами обещал заняться Джон Гулд. А сегодня утром мне сообщили, что Леонард Дженинс согласен поработать с моими рыбами. Если бы только мне удалось раздобыть достаточно денег для цветных иллюстраций, каждый из них, надеюсь, выпустил бы по книге по итогам своих исследований. – Дарвин, разрешаете ли вы читать ваш путевой дневник? поинтересовался старший декан. – Мне бы очень хотелось перелистать хотя бы несколько страниц. – Вы окажете мне честь. Пойдемте, я вам его дам. Через час Чарлз оторвался от своей работы, заметив, что декан смотрит на него глазами, полными удивления. – Кто бы мог подумать, что человек, "который ходил хвостом за Генсло" и всего каких-нибудь пять лет назад собирал окрестных болотных жаб, оказывается, умеет писать как бог! Чарлз покраснел. Когда вечером следующего дня он появился в профессорской, его приветствовали как знаменитость. Все это, конечно, вскоре дошло до Генсло.За завтраком в ближайшее же воскресенье профессор, перед тем как отправиться в церковь, мягко спросил: – Вы хорошо себя чувствуете в колледже Христа, не так ли? – Чрезвычайно. Здесь поразительные люди. – А не думаете ли вы, что захотите к ним присоединиться? Получив постоянную работу – преподавание, лекции? Будущее длится долго, и человеку необходима опора. Лучшей, чем эта, не сыщешь. Чарлзу показалось, что ему нечем дышать. – А вы считаете, что они согласятся? Генсло улыбнулся: – Может быть, и не завтра утром, когда прозвенит восьмичасовой звонок. Но позже, когда будут опубликованы "Дневник" и работа по геологии Южной Америки. Человек, который пишет книги, делает это главным образом затем, чтобы учить других. Впрочем, поговорим о чем-нибудь другом – о тех книгах по зоологии, которые вы замыслили. Почему бы вам не обратиться к министру финансов с просьбой о дотации? В конце концов издание было бы завершением той работы, которая велась на корабле королевского флота. Геологическое общество, со своей стороны, вас поддержит, не говоря уже о Седжвике, Пикоке и обо мне. Пожалуйста, отбросьте свою застенчивость. Попытайтесь. Узнав о скором отъезде Чарлза в Лондон, президент колледжа пригласил его на обед. В профессорской собрались все четырнадцать преподавателей и профессора Генсло и Седжвик. – Прошу почтенное собрание разрешить почать эту бутылку, – громогласно объявил Седжвик. – Полагаю, что для данного случая мы все предпочитаем бордо? Чарлз заметил явную перемену в настроении собравшихся, Ему торжественно преподнесли сигару, которую он закурил. Эту привычку он перенял у гаучо в пампасах. Президент колледжа в официальной позе встал у камина. – Мистер Дарвин, не будете ли вы так добры подойти сюда? Глаза всех присутствующих устремились на Чарлза. Он пересек комнату и остановился прямо перед горящими углями – Мистер Дарвин, в качестве номинального главы колледжа, со всей откровенностью обсудив вопрос со своими коллегами, я пришел к выводу, что ваша работа на протяжении пяти лет, истекших с тех пор, как вы покинули сии величественные стены, дает вам право на получение сте-мени магистра. Это вовсе не почетная степень. Ее нужно было заслужить, и, по нашему мнению, вы ее заслужили. Завтра в помещении ученого совета вам будет вручен диплом. На глаза Чарлза навернулись слезы. – Это честь, о которой я не смел даже мечтать. Я дорожу вашим лестным мнением обо мне и буду стараться оправдать его. Чарлза дружески хлопали по спине, заказали еще вина и выпили за его здоровье. На следующее утро, упаковывая дорожные корзины, он получил официальное уведомление от секретаря университета. Степень магистра, как оказалось, дают вовсе не бесплатно. Ему надлежало уплатить государственной казне шесть фунтов стерлингов в виде гербового сбора и еще пять фунтов четыре шиллинга и шесть пенсов старшему проктору университета. Чарлз с кислой миной заметил Генсло: – Хорошо будет, если мне удастся возместить эту сумму за счет гонорара от двух моих книг. Порой Эразмом овладевала жажда деятельности. Часами подыскивая жилье для Чарлза, он обшарил всю округу: поднимался и спускался по бесконечным лестницам, придирчиво осматривал одну квартиру за другой, чтобы тут же отвергнуть ее как не соответствовавшую требованиям брата. Понадобилось несколько дней усердных поисков, прежде чем они нашли то, что хотел Чарлз. Это была квартира над лавкой на Грейт Мальборо-стрит в доме No 36, всего в двух шагах от Эразма. Из пяти комнат на Мальборо-стрит выходили две, на окнах там висели голубые занавески, оставшиеся от прежнего жильца. Хозяин запросил за квартиру около ста фунтов в год. Чарлз подписал бумагу, заплатил двухмесячный аванс. Его беспокоило только, что покупка мебели может обойтись чересчур дорого. – Тогда не обставляй всю квартиру. Вполне достаточно двух комнат: гостиной (она же будет и кабинетом) и спальни. В своем районе Эразм знал все и вся. Он помог брату приобрести стол, стулья, уютный диван, недорогие ковры, чтобы не слишком донимали лондонские холода, видавшие виды, но вполне приличные книжные шкафы, удобную кровать, простыни, одеяла и подушки, а также гардероб. Отец предупредил Чарлза, что не следует предаваться роскоши, однако все необходимое у него должно быть. Симсу Чарлз дал достаточную сумму денег, чтобы оборудовать кухню: если рассчитывать жить экономно, есть придется дома. Он расставил книги по полкам, повесил в гостиной-кабинете одну из акварелей Мартенса [Художник, сменивший в Монтевидео заболевшего Огаста Эрла. – Прим, пер.] – ту, где "Бигль" изображен вытащенным на берег в устье реки Санта-Крус; другую, где "Бигль" стоит на якоре в проливе Понсонби на фоне огнеземельского пейзажа, он повесил в спальне. Эразм одолжил ему две цветные гравюры: зелень английских лугов действовала освежающе. Мало-помалу комнаты начинали приобретать жилой вид. – Если тебе надоест стряпня Ковингтона, – предупредил Эразм, – учти: моя кухарка превосходно готовит бараньи котлеты. К тому же в доме всегда найдется бутылка шампанского, чтобы сделать их еще вкуснее. – Бараньи котлеты с шампанским! Именно это подавали нам на ленч в Плимуте перед отплытием "Бигля". Да, все возвращается на круги своя. Не прошло и нескольких недель, как Джордж Уотерхаус согласился написать монографию по млекопитающим и выступить с докладами по насекомым, а Джон Гулд, прославившийся своими книгами о птицах с замечательными литографиями его жены Элизабет, сам вызвался заняться неизвестными птицами из коллекции Чарлза. Томас Белл, профессор зоологии в Королевском колледже, внимательно изучал чарлзовых пресмыкающихся. – Изумительная коллекция, Дарвин! У вас там есть целая дюжина видов, о чьем существовании я даже и не подозревал. – Значит, вы беретесь за книгу о пресмыкающихся? Ричард Оуэн сообщил Чарлзу, что его больше не интересуют заспиртованные животные, которых он попросил для осмотра. Однако его прямо-таки очаровали ископаемые останки. Именно ими он и хотел бы заняться для серии статей по зоологии. Фортуна продолжала улыбаться. В научном мире поползли слухи, что молодому Чарлзу Дарвину удалось собрать такую большую, разнообразную и интересную естественнонаучную коллекцию, какой не привозил до него никто из путешественников. Ученый М. Дж. Беркли изучил дарвиновскую коллекцию тайнобрачных растений и выступил с рядом статей в "Анналах естественной истории"; другой специалист, Дж. Б. Соуэрби, занимался его ракушками и также написал о них несколько статей; Фредерик Уильям Хоуп, основатель и бывший президент Энтомологического общества, предложил ему свои услуги в разборе коллекции насекомых. В течение мая он еще дважды выступал с докладами на заседаниях Геологического общества: первый раз – об ископаемых останках мегатерия, обнаруженных им на Пунта-Альте, а второй – о теории происхождения кораллов. Оба доклада произвели подлинный фурор. Теперь, когда над его зоологическими экспонатами выразили готовность работать пять ученых – Дженинс, Оуэн, Белл, Гулд и Уотерхаус, Чарлз вплотную занялся подготовкой к печати монографий. К текстам требовалось множество иллюстраций, в том числе цветных, что особенно касалось книги Гулда о птицах. Цветные вкладки удорожали стоимость и затрудняли поиски издателя, готового идти на риск. В свое время Джон Гулд весьма успешно опубликовал несколько книг, и Чарлз заглянул к нему домой на площадь Беркли посоветоваться, что предпринять. – Ничего сложного, Дарвин. Естествоиспытатели в Лондоне крайне заинтересовались вашими коллекциями. Почему бы не обратиться к ним за помощью? Все они охотно подпишутся на эти книги, а на собранные деньги их можно будет печатать короткими частями, с продолжением. На этом вы, по крайней мере, не разоритесь. План Гулда Чарлз изложил Уильяму Яррелу, восседавшему за конторкой посреди своего книжного магазина, на что издатель ответил: – Не нравится мне, что вы должны будете ходить и выпрашивать эти несчастные подписки! – Что же, выходит, мне лучше прибегнуть к совету Генсло и обратиться за дотацией к министру финансов? Яррел так и подпрыгнул. – Ну конечно! Государственная казна! Свои коллекции вы передали нашим научным обществам. Ваша работа проводилась для британского правительства, и оно просто обязано оплатить публикацию результатов зоологических изысканий на "Бигле". – Но как мне обратиться к министру? – Составьте сперва общий конспект, потом покажите его графу Соммерсетскому, нынешнему президенту Линнеевского общества [Научное общество, занимающееся вопросами систематизации растительного и животного мира. – Прим. пер.], и лорду Дерби, бывшему президенту, а также Уильяму Юэллу, президенту Геологического общества. Они в свою очередь снабдят вас рекомендательными письмами. Пятеро ваших авторов пользуются большим уважением в правительстве, которое прекрасно осведомлено, сколь дорого обходится печатание не только цветных, но даже обычных черно-белых иллюстраций. Если повести дело должным образом, то вы сможете рассчитывать на сумму порядка тысячи фунтов. Чарлз чувствовал, что сердце его готово вот-вот выпрыгнуть. – Мистер Яррел, я надеюсь, что вы окажетесь пророком. Все трое, к кому он обратился по совету Яррела, поддержали идею о дотации, но предупредили: такого рода просьбы рассматриваются не скоро, так что следует запастись терпением и продолжать работать. Тем временем, в ночь на 20 июня 1837 года, семидесятидвухлетний король Вильгельм IV, чью коронацию Чарлз когда-то наблюдал и даже раскошелился на целую гинею, чтобы попасть на парад, неожиданно скончался. Наследовать престол предстояло его племяннице, Виктории, дочери графа Кентского. Последней королевой, правившей в Англии самостоятельно за двести лет до нее, была Елизавета. Говорили, что Виктория – она жила в ту пору в Кенсингтонском дворце, – даже не имела времени, чтобы переодеться, и встретила архиепископа Кентерберийского [По традиции он является примасом англиканской церкни. – Прим. пер.] и лорда Чем-Серлена, заявившихся к ней в пять утра, в халате. Королевскую присягу принимал лорд-канцлер. В течение нескольких недель газеты – лондонская "Тайме", "Морнинг адвертайзер", "Морнинг кроникл" и другие – посвящали одну колонку за другой изяществу и достоинствам восемнадцатилетней королевы и тому впечатлению, которое она произвела на тронных торжествах. Повсюду царило ликование в предвкушении нового "романтического" периода в истории английской монархии. Что касается Чарлза, то эта шумиха означала только, что решение его вопроса о дотации откладывалось на много месяцев. В полученном из Маунта письме его настоятельно звали приехать домой: есть хорошие новости, которые не мешало бы отпраздновать совместно. Он не видел родных уже семь месяцев. В конце июня, когда "Дневник" фактически был полностью написан, за исключением заключительной главы "Советы коллекционерам", Чарлз решил, что может наконец позволить себе свидание с отцом и сестрами. Он поедет самым ранним утренним дилижансом "Тэлли-Хо!", чтобы иметь возможность понаслаждаться английским ландшафтом. Приглашал он с собой и Эразма, но тот отказался, считая путешествие столь тяжелым, что больше чем на одну поездку в год он не отваживался. Новости и в самом деле оказались хорошими. Джо Веджвуд собрался с духом и сделал предложение Каролине. К этому времени ему исполнилось сорок два года, а невесте – тридцать семь. Глаза Каролины сияли, когда она встретила Чарлза в просторном холле Маунта. – Свадьба первого августа! Всего через пять недель. Шропшир был прекрасен в своем летнем уборе, ясное солнце блестело на зеленеющих полях клевера, пшеницы и ячменя с желтыми прямоугольниками горчицы. Чарлз поздно вставал, досыта наедался гусятины, утки, голубятины, селедки и картофельного пирога. Он брал сестер с собою на рыбалку, вместе с ними ездил кататься верхом в окрестностях Маунта. После вечерней трапезы все, по обыкновению, собирались за карточным столом для игры в вист. В гости к Каролине с ответным визитом приехала Эмма Веджвуд: за пять месяцев до этого Каролина гостила у нее. Помогая Эмме выйти из экипажа, Чарлз воскликнул: – Какое необыкновенное везение – встретиться с вами здесь! Ведь до конца моих каникул остается всего два дня. – Счастливое совпадение, не так ли? – ласково отвечала Эмма, но глаза ее при этом блеснули. Каролина понимающе кивнула, улыбкой выражая одобрение. В середине июля, отослав окончательный текст "Дневника" издателю, Дарвин приступил к вопросу, который несколько лет не переставал преследовать и мучить его. Прежде всего он начал с простого изложения своих мыслей. на бумаге. Однако Чарлз отдавал себе отчет в том, что его ожидает тяжкий труд, так как он вторгается в до тех пор закрытую для исследований зону – превращение видов. Отплывая из Плимутского пролива на "Бигле", он свлто верил, как и большинство тогдашних ученых, в неизменность видов. Господь бог создал все существа на небе, на земле и на море; "зелень, траву, сеющую семя… и дерево… приносящее плод… Рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся… и всякую птицу пернатую… Скотов, и гадов, и зверей земных… И сказал бог: сотворим человека по образу нашему [и] по подобию нашему". С того дня, когда был сотворен мир, и по нынешний, июль 1837 года, всевышний не создавал никаких новых видов. В истории Земли за это время происходили такие катаклизмы, как Всемирный потоп, но все живое сохранялось в том первоначальном- виде, в каком оно было сотворено. – Совершенно очевидно, что это не так! – утверждал теперь Чарлз. В своих мыслях он уносится назад. Вот "Бигль" стоит на якоре в бухте острова Чарлза на Галапагосах. Именно тогда он обнаружил, что у вьюрков, пойманных им на двух соседних островах, разные по форме клювы. Вместе с Николасом Лоусоном они отправились в селение за четыре мили, и во время этой прогулки его спутник заметил, что без труда отличит, с какого острова та или иная из гигантских черепах. – Вы хотите сказать, что на каждом острове свой вид черепах? – спросил его Чарлз. И Лоусон уверенно ответил: – У меня нет ни малейшего сомнения на сей счет, мистер Дарвин. Были еще и скелеты ископаемых, обнаруженные им на мысе Пунта-Альта, мегатерия, мастодонта, тоходонта, других жвачных животных. Некоторые из найденных им видов впоследствии начисто исчезли, в то время как другие изменились до неузнаваемости. Почему? Когда? Каким образом? Он не знал этого. Но в то же время чувствовал, что напал на что-то чрезвычайно важное. На "Бигле" Чарлз привык постоянно иметь при себе записные книжки, почти каждый день занося в них не только то, что удалось увидеть, но и свои мысли и чувства по поводу увиденного. Хорошо было бы снова завести записную книжку, чтобы рядом всегда находился "друг", которому можно поверять все тайны. Пусть сперва прорастет семя мысли, а там рука сама возьмется за перо. Был теплый июльский день, и, пробравшись сквозь толпу людей на Грейт Мальборо-стрит, он зашел в свой любимый писчебумажный магазин и купил коричневую записную книжку размером шесть с половиной дюймов примерно на четыре. В ней было около двухсот восьмидесяти страниц. На первой из них Чарлз, вернувшись домой, записал, что с марта он не переставая думает о "характере южноамериканских ископаемых и видов Галапагосского архипелага". Записи в книжке, озаглавленной им буквой "Б", велись теперь ежедневно. В них не было определенной системы: он просто заносил на бумагу прежде пришедшие ему на ум мысли или задавал самому себе вопросы примерно в таком духе: "Почему коротка жизнь? Почему человек умирает? Мы знаем, что мир подвержен циклу изменений, температурных колебаний и прочих факторов, оказывающих влияние на все живое. Мы наблюдаем, как молодые особи находятся в процессе постоянных перемен, видим, что они обнаруживают тенденцию к разнообразию в зависимости от обстоятельств". Он вновь принялся за "Зоономию", на этот раз не просто читая, а изучая сочинение деда, и с удовлетворением отметил прозорливость взглядов доктора Эразма Дарвина на природу человека и других живых существ на земле. Доктор Дарвин пришел к выводу относительно известной степени эволюции жизни и был убежден, что возраст земной коры насчитывает многие миллионы лет. Однако у него не было ни времени, ни энергии для доказательства своих еретических выводов. Он отдавал большую часть времени врачебной деятельности, а свободные часы почти целиком – стихам, которые широко печатались. Он никуда не ездил, чтобы вести наблюдения, и не привез неопровержимых фактов для подтверждения своих тезисов. Чарлз также перечитал десятую главу второго тома "Основ геологии" Лайеля, где автор касался вопроса о "распространении видов". Признавая подвижность всех форм жизни под влиянием перемен климата и географического положения, он тем не менее писал следующее: "Не имеет ни малейшего смысла дискутировать на тему об абстрактной возможности превращения одного вида в другой, когда существуют всем известные причины, гораздо более активные по своей природе, которые должны постоянно вмешиваться, с тем чтобы предотвращать практическое осуществление таких превращений". Чарлзу нравилось писать в книге, посвященной видам, совсем в ином духе, чем в своем "Дневнике" или в первоначальном наброске по геологии Южной Америки. Там он обобщал факты. Здесь же выдвигал новые идеи, гипотезы, расчеты, теоретические построения, чтобы связать воедино то, о чем не ведали даже самые знающие из тех ученых, с которыми он был знаком. Поэтому-то поиски ответов на вопросы были столь изнурительны – проводил ли он за этой работой целый день или всего лишь несколько часов. Всякий раз, заканчивая очередную запись, он чувствовал, что голова у него идет кругом. "Размножение объясняет, почему нынешние животные того же типа, что и вымершие, этот закон почти доказан. Они умирают, если не изменяются, как золотой пеппин. Виды живут поколениями, как и человеческие индивиды. Если виды производят другие виды, их род полностью не прекращается". Несколькими страницами дальше он записывает: "Раньше астрономы могли говорить, что бог предназначил каждой из планет двигаться по своей собственной орбите. Точно так же бог предопределял внешний вид каждого животного в той или иной стране. Но насколько проще и величественней другая сила: пусть взаимное тяготение обусловливается каким-то законом и – как неизбежное следствие этого – пусть животные создаются тогда на основе строгих законов генерации, определяющих потомство ныне живущих". Как-то старший брат Чарлза Эразм заглянул, чтобы хорошенько отчитать его: – Газ, ты несносен. Ты делаешь из нужды добродетель. – Какая нужда? О чем ты? – О твоей работе. Она для тебя вроде наркотика. – Не совсем. Я исследую сейчас область мысли пока еще не вполне ясную, но для меня она полна очарования. – Но это не оправдание, чтобы жить затворником. Приходи сегодня вечером на ужин. У меня соберутся самые известные лондонские писатели. – Хорошо, приду. Конечно, он не пришел. Он писал дотемна, а после был уже просто не в состоянии заставить себя идти на люди. Голова трещала, все тело ломило от усталости. Он съел тост с яйцом, выпил чаю и лег в постель. В разгар работы над теорией видов Дарвин получил предложение от президента Юэлла занять место одного из двух секретарей Геологического общества. Пост этот считался в британском научном мире одним из наиболее престижных, хотя жалованья он и не давал. Второму секретарю, Уильяму Гамильтону, который занимался геологией под руководством самого Родерика Мурчисона, предстояло взять на себя ответы на письма, поступавшие в Общество со всех концов света. Задача же Чарлза заключалась в том, чтобы писать аннотации на каждый доклад, отбираемый для публичного чтения на заседаниях Общества; тщательно изучать те доклады, которые ему предстояло зачитывать самому, и- присутствовать на заседаниях правления Общества. Прежде чем стать президентом, Лайель был секретарем в течение трех лет, и Дарвин тут же вспомнил его предостережение не соглашаться ни на какой официальный научный пост, если этого можно избежать. – Я горжусь тем, что вы, мистер Юэлл, предложили мне эту должность, ответил Чарлз. – Но разве я не чересчур молод для нее и неопытен? Ведь членом Общества я состою всего каких-то семь месяцев… – Да, но на этот пост мы как раз и предпочитаем молодых. – Президент Юэлл усадил Чарлза рядом с собой на званом обеде, устроенном Геологическим обществом. – Вы освоитесь довольно быстро. Члены Общества полагают, что у вас есть для этого все данные. В конце концов, место вы должны будете занять лишь в феврале, так что у вас остается полгода на подготовку. Первым делом предстояло более детально ознакомиться с новой должностью. Он побеседовал с бывшим секретарем доктором Джоном Ройлем, хирургом и натуралистом. – Работа в Обществе занимала у меня уйму времени, – рассказал тот. За полмесяца – полных три дня и даже больше. Конечно, Чарлз не мог не сознавать, что полученное предложение льстит его самолюбию. Однако может ли он позволить себе зря расходовать свое время и энергию, когда у него столько работы и ему предстоит продвигаться вперед в совершенно неизведанной области? В середине августа он наконец получил приглашение от министра финансов. "Беседа предстоит не из приятных", – подумал он. В приемной министра Томаса Спринг-Райса Чарлз обнаружил Джорджа Пикока, желавшего лично убедиться, что молодой человек, рекомендованный им в качестве судового натуралиста на "Бигль", действительно получит правительственную субсидию. Он долго тряс руку Чарлза и сам представил его министру. Томас Спринг-Райс не выказал ни малейшего намерения подвергать его неприятным расспросам. Он улыбался с видом крайнего довольства: – Примите мои сердечные поздравления, Дарвин. Впрочем, сначала мне надлежит официально уведомить вас… И он стал читать по бумажке: "Лорды казначейства ее королевского величества получили подтверждение из разных источников, что наука естественной истории окажется в большом выигрыше, если вам будет предоставлена возможность опубликовать в подходящей форме и по недорогой цене результаты ваших исследований в этой области, а посему милорды с полным на то основанием санкционируют ассигнование "уммы, не превышающей одной тысячи фунтов, для содействия такого рода публикации". Чувства, которые обуревали Чарлза, были чем-то средним между облегчением и ликованием. И еще тревогой. – Мы не выдвигаем никаких условий, кроме одного, Дарвин: деньги из общественных фондов надлежит использовать с максимальной отдачей. Сумма будет переводиться вам по частям – по мере получения нами подтверждений, что работа над гравюрами идет полным ходом. Чарлз выразил глубокую признательность за помощь. С Джорджем Пикоком он отправился в свой клуб, где от души поблагодарил его за то, что он был его "заступником при дворе". – В науке мы все обязаны помогать друг другу, – ответил Пикок. – Такой уж нынче век. Теперь Чарлзу можно было наконец подписать договор на публикацию многотомных "Зоологических результатов путешествия на "Бигле". Издательство "Смит Элдер энд К0", специализировавшееся на выпуске научной литературы, оговорило, что Дарвин берет на себя общее руководство изданием, редактуру каждой выпускаемой части и каждого из томов, к которым он, кроме того, должен написать предисловия географического характера, как и еще одно предисловие ко всей работе в целом. Его предполагалось поместить в первой части капитального труда "Ископаемые млекопитающие". Пяти авторам полагался номинальный гонорар, Чарлзу же за его труды не полагалось ничего. Правда, издатели соглашались напечатать его книгу по геологии Южной Америки, за которую кое-какой гонорар Дарвину все же причитался. Неизвестно отчего, но в самом начале сентября, проснувшись как-то среди ночи, Чарлз почувствовал тошноту и сердцебиение. Он сразу вспомнил, что то же самое было с ним и в Плимуте, когда пришлось томиться два долгих холодных и пасмурных месяца в ожидании отплытия "Бигля". Но откуда это состояние теперь, шесть лет спустя? Он жил вполне спокойно в своей лондонской квартире. Он испытывал удовлетворение от того, как продвигается его работа, даже гордился ею. Его записная книжка по трансмутации видов заполнялась страница за страницей, а над проблемами, которыми он занимался сейчас, задумывались весьма немногие. Еще накануне днем он записал: "У нас есть абсолютная уверенность, что одни виды умирают и на смену им приходят другие". То, что вначале он называл "этим взглядом на размножение", теперь стало "моим взглядом" и "моей идеей". Ему не надо было изгонять из своей теории божественное начало: господь создал законы, и они сами управляют ходом естественных процессов. Плохое самочувствие меж тем не проходило. Приступы сердцебиения, как и "шок" желудка, повторялись. Они случались с ним теперь в любое время дня и ночи. Единственное утешение – что хуже ему как будто не становилось. И хотя он мог при этом продолжать работать, на душе у него было довольно-таки скверно. В конце сентября самочувствие его, однако, настолько ухудшилось, что Чарлз решил обратиться за консультацией к Генри Холланду, который уже состоял лейб-медиком при королеве. Хотя Викторию еще не короновали, высокое положение сделало Холланда самым популярным врачом в Лондоне, попасть к нему стремился каждый. Он обнаружил у Чарлза гастрит и воспаление пищеварительного тракта. После того как Дарвин описал ему свой режим работы, упомянув также о предложении занять пост секретаря ("оно как кошмар преследовало меня все лето"), доктор Холланд снял пенсне, которое он носил на черном шнурке, и с удовлетворенным видом сунул его в наружный кармашек. – Теперь мне все ясно, и я могу вас вылечить. Два-три дня беспрестанной тревоги – ив результате полностью расстроенный кишечник, хотя раньше он мог быть в прекрасном состоянии. Даже умственное напряжение, без всяких эмоциональных срывов и то влияет на нормальный пищеварительный процесс. – Вы хотите сказать, что умственное напряжение – это мой враг!? вскричал Чарлз в отчаянии. – Как же в таком случае я смогу работать? – Да никак. Придется подождать до тех пор, пока я не вылечу вас с помощью моей широко известной диеты. Как правило, в таких случаях больше всего пользы приносит животная пища: употреблять при этом следует самое нежное мясо. Легко усваиваются баранина и любая дичь. А растительные жиры, наоборот, с трудом. Лучше всего есть телятину. Очень плохо переваривается свежий хлеб. Все жареное полностью исключается. Сыр, молоко и масло обычно действуют угнетающе. Свежие овощи и фрукты не приносят ничего, кроме вреда, особенно капуста, горох и бобы, так же как и огурцы, груши, дыни… Не удовлетворенный диагнозом доктора Холланда, Чарлз обратился к другому врачу, Джеймсу Кларку, с которым познакомился на одном из заседаний Геологического общества. Тот как раз работал над книгой по целебному влиянию климата. Чарлз рассказал о своем плохом самочувствии и непрекращающемся сердцебиении. Доктор Кларк приложил свой стетоскоп к сердцу Чарлза, затем к груди и спине. – Не нахожу никаких отклонений, Дарвин. Сердце бьется нормально, аритмии нет. Просто вы перетрудились. Я со всей серьезностью настаиваю, чтобы на время вы прервали всякую работу и на несколько недель отправились пожить в деревне. Буквально каждый день слышишь о тех чудодейственных для здоровья результатах, к которым приводит переезд из города в сельскую местность даже на самое короткое время. Через два дня Дарвин уже сидел в дилижансе, увозившем его из Лондона в Мэр-Холл. Веджвуды были одновременно удивлены и обрадованы его появлением. Чарлз поделился с ними своим предположением, что в его болезни виноват предложенный ему пост секретаря Геологического общества. – Эта работа не на год и не на два, – пробурчал он. – Пока с нее уйдешь, пройдет целая вечность. Эмма открыла окно в библиотеке, чтобы было прохладнее, потом, присев рядом с ним на софу, сжала его озабоченное лицо ладонями. – Ты просто малодушничаешь, Чарлз, а это так на тебя не похоже. Возьми веревку покрепче и завязывай на ней узел всякий раз, как добьешься очередного успеха в своих исследованиях. – Я предлагаю тебе вот что, – проговорил дядя Джоз. – Садись-ка за мой письменный стол, бери бумагу и пиши все свои возражения против этого твоего секретарства… Чарлз обвел взглядом лица столь горячо им любимых дяди и кузины, и его худощавое лицо осветилось смущенной улыбкой. – Вы нарочно надо мной подшучиваете, чтобы я не противился, ведь так? – Да, мы стараемся убедить тебя! – воскликнули отец и дочь почти одновременно. – Я напишу профессору Генсло и попрошу у него совета. – Но ты же знаешь, что он ответит, – сказал Джозайя. – Да. "Хватит заниматься нытьем, приступай к работе". – Браво, Чарлз! – воскликнула Эмма. – Вот ты и смеешься над собой. Таким я тебя люблю! После того как дядя Джоз вышел, они с Эммой направились в гостиную, где она сыграла ему несколько пьес Моцарта и Гайдна. Он поведал ей о своих сердцебиениях. – Мне так жаль тебя! – В ее голосе звучало неподдельное чувство. – Ты должен больше отдыхать. – Беда в том, Эмма, что отдыхать-то я как раз и не люблю. Кто это сказал, что человек страдает от своих добродетелей не меньше, чем от пороков? – Да сам ты и сказал! А может, это лондонская жизнь для тебя чересчур тяжела? – Так оно и есть. Но Лондон мне необходим, чтобы иметь возможность советоваться с учеными, пользоваться библиотеками Геологического общества, Линнеевского… бывать у издателей. Три последующие недели он провел в Маунте в абсолютной праздности, наслаждаясь знакомыми шропширскими ландшафтами: катался на лодке по Северну, скакал верхом или бродил пешком. Единственным делом, которым он в это время занимался, было чтение гранок "Дневника" и замечаний Генсло с указанием орфографических и фактических ошибок, неизбежных во всякой большой рукописи. Ни о чем серьезном они в семье не говорили, если не считать вопроса о том, надо ли им всем ехать в Лондон в июне на коронацию королевы Виктории. Отец справился у него об Эразме и скорчил мину, узнав, что тот, в свои тридцать три года, находит путешествие дилижансом от Лондона до Шрусбери слишком утомительным. – Он любит хорошее общество. Хозяин – это он так себя называет. Вот смысл его жизни. Правда, при этом он любит, чтобы, как только часы пробьют двенадцать, гости расходились по домам. Ему было бы неприятно, если бы утром, за завтраком, надо было лицезреть кого-нибудь рядом с собой. – Включая и жену? – В первую очередь. – Чарлз, надеюсь, ты не таков? – Отнюдь. Просто из-за работы у меня нет времени даже для того, чтобы подумать о женитьбе. – Тебе скоро тридцать. С этим не надо тянуть. Если ты поздно женишься, то сам лишишь себя большого настоящего счастья. …Вернувшись к себе на Грейт Мальборо-стрит, Чарлз убедился, что с трудом может теперь сосредоточивать свое внимание на работе, настолько все его мысли были заняты Эммой Веджвуд. Ее образ неотступно преследовал его не только днем, но и ночью. Какой он все-таки безнадежный дурак, что до сих пор не сделал ей предложения! Но он сделает это – и весьма скоро. Ведь он понял, что любит ее, что для него она – единственная женщина в мире. И как только он найдет нужные слова, он вернется в Мэр-Холл во что бы то ни стало. Больше уж он не смалодушничает. Забвение Чарлз смог найти, только углубившись в работу по геологии. Он начал статью о "дорогах", или "террасах", которые ему довелось наблюдать в Глен-Рое. В мае появилась первая часть серии "Млекопитающие" Джорджа Уотерхауса – на шестнадцать страниц приходилось десять иллюстраций. В июле вышла из печати первая часть из серии "Птицы" Джона Гулда с десятью превосходными цветными вкладками. Итак, его "Зоология" продвигалась вперед. В Общество на его имя поступил экземпляр только что вышедшей книги Лайеля "Элементы геологии". Сам Лайель гостил в это время в Киннорди, у родителей в Шотландии. Проглотив разом весь том, Чарлз тут же написал другу о своих впечатлениях: "Я прочел все от корки до корки и полон восхищения… Нам необходимо поговорить о Вашей книге. Ведь если не иметь возможности обсудить прочитанное, чтение лишается всякого удовольствия. Во многих местах я испытал нечто вроде досады при мысли о том, сколько борьоы и усилий понадобилось геологам для доказательства того, что, по-Вашему, представляется столь очевидным…" Одна строка в лайелевском предисловии, однако, встревожила его не на шутку. Опубликование дарвиновского "Дневника", говорилось там, задерживается, к большому разочарованию научного мира, "из-за неготовности Роберта Фицроя завершить остальные тома в серии". Чарлз понимал, что Лайель тем самым делает ему комплимент, но его тревожила возможная реакция Фицроя. Оставалось надеяться, что капитан не прочтет книги, но надежда эта была весьма слабой: Фицрой покупал все сколько-нибудь значительное по научной части… И действительно, через несколько дней в квартиру Дарвина кто-то нетерпеливо постучал. Открыв дверь, Симе пропустил капитана Фицроя высокого, поджарого и элегантного в длинном синем пиджаке и таких же брюках и жилетке дымчато-жемчужного цвета. Отложной воротник прикрывал галстук, повязанный свободным узлом по последней моде; на голове красовалась непривычного фасона гамбургская шляпа. Хотя он по-прежнему оставался на флоте, но получал половинный оклад и не имел под своим началом судна. Лицо его было явно темнее обычного – от душившей капитана ярости. – Капитан Фицрой! Как приятно вновь видеть вас после столь долгого перерыва, – приветствовал его Чарлз. – Я здесь не ради удовольствия. Меня оскорбили, затронута моя честь! С этими словами он протянул Чарлзу книгу Лайеля. – Вы видели этот выпад против меня? – Да, капитан, и глубоко сожалею о нем. – Сожалеете? Да вы, скорей всего, его и спровоцировали! Глаза Чарлза засверкали. – С какой это стати? – Чтобы доказать всему ученому миру, что вы – работяга, а я – лентяй, и к тому же безответственный. – Никто не мог бы сказать о вас подобное, сэр! Вы – один из самых преданных делу и добросовестных людей, каких я встречал в жизни. – И все-таки вы позволили Лайелю публично оскорбить меня? – Даю вам слово, что не видел этого предисловия до публикации. А если бы видел, то убедил бы его снять всякое упоминание о наших книгах. Симе, посмотри, не осталось ли у нас бренди? – Обратившись снова к Фицрою, он произнес примирительно: – Садитесь, прошу вас! Давайте обсудим все, как положено между старыми друзьями. Вы, знаете, что я никогда не обидел бы вас. Понятия не имею; зачем Лайелю понадобилось написать эти строки, но я опровергну их. – Каким образом? – Вопрос прозвучал весьма холодно. – Сообщив, что вы пишете и за себя, и за капитана Кинга и что, если бы мне пришлось писать оба тома, я не закончил бы работу раньше чем через год или даже два. Успокоившись, Фицрой принял рюмку бренди из рук Симса, которого он хоть и с опозданием, но узнал. – Что же, хорошо. Ноя хочу, чтобы вы сказали Лайелю, что я возражаю против его инсинуаций и требую, чтобы это место было изъято из последующих изданий. В первый раз после того, как Фицрой ворвался к нему, Чарлз позволил себе улыбнуться. – Никакого последующего издания не будет, прежде чем три наши тома появятся через .. год, как вы полагаете? Фицрой наконец заговорил своим обычным голосом: – Чтобы закончитьоба тома, мне осталось работы всего на несколько месяцев. Так что наши книги должны быть на прилавках магазинов в следующем году примерно в это же время. – И тогда при попутном ветре мы выйдем в спокойное море! Неторопливыми глотками попивая бренди, Фицрой произнес со своей характерной, столь хорошо памятной Чарлзу улыбкой: – Вы убедились сами, нрав у меня вспыльчивый. Конечно же я знаю, что никакого касательства к унизительному замечанию Лайеля в мой адрес вы не имели, и если бы вы видели рукопись до опубликования, то изъяли бы это место. Словом… я извиняюсь за то, в чем обвинял вас. – Извинение принято. Некоторое время они дружески болтали, после чего, пожав ему на прощание руку, Фицрой ушел. Чарлз тут же написал Лайелю: "Я виделся с Фицроем. Он приобрел Вашу книгу. Предисловие привело его в ярость… но потом он успокоился, Кое-что в его мозгу явно нуждается в починке…" Он продолжал писать статью по геологии: она получилась чересчур подробной и растянутой, отняв у него почти полтора месяца. Правда, в это же время он вел постоянные записи в своей, уже третьей, книжке по происхождению видов. Еще в июне он писал своему кузену Уильяму Дарвину Фоксу: "Я в восторге, убедившись, что вы столь любезны, что не забыли моего вопроса о скрещивании животных. Сейчас это мое главное увлечение, и мне действительно кажется, что придет день – и я смогу кое-чего добиться в этом самом запутанном предмете – в вопросе о видах и разновидностях". В сентябре, когда он подготовил к печати свою статью по геологии Глен-Роя, Дарвин смог все свое время отдавать записной книжке по происхождению видов. Со знакомыми он обсуждает подробности таких вопросов, как селекция, не раскрывая, однако, причины своего интереса. Лайелю он писал: "В последнее время меня, к сожалению, все больше тянет побездельничать, когда дело касается чистой геологии. Зато я буквально очарован множеством новых взглядов, касающихся классификации, родового сходства и инстинктов животных. Их становится все больше и больше, и все они имеют отношение к вопросу о видах, Я заполняю фактами одну записную книжку за другой, и они все отчетливее начинают укладываться в определенные закономерности". Погода в сентябре и октябре позволяла ему совершать долгие прогулки по городу, заканчивавшиеся обычно в одном из книжных магазинов – Яррела, Джона Таллиса или Хэтчарда. Чарлз бродил между рядами полок, отыскивая что-нибудь интересное для чтения на сон грядущий: он покупал что придется, чтобы отвлечься и позабыть на время о "маленькой мисс Неряхе". Так, в сентябре и октябре 1838 года, помимо работы над книгой о кораллах, он прочел "Мудрость бога" Джона Рея, "Бережливость" Листера, "Историю человека" Хорна, "Путешествие вокруг света" Лисян-ского, "Силу разума" Аберкромби, "Как вести наблюдения" Хэрриет Мартино. Движимый любопытством, он как-то взял с полки случайно подвернувшуюся под руку книгу Томаса Мальтуса "Опыт о законе народонаселения", написанную ровно сорок лет назад. Чарлз не встречался с автором книги во время своего весьма короткого пребывания в Лондоне перед отплытием "Бигля", но некоторые из его друзей были с ним знакомы. Образование Мальтус получил в Кембридже и более двадцати лет преподавал в колледже Ост-Индской компании в Хейлибери. Домой он возвращался с книгой под мышкой, следя, как садится бесцветное из-за дымного воздуха солнце. Симе подал ему легкий ужин. Устроившись в гостиной подле камина, где весело горел огонь, Чарлз открыл первую главу "Соотношение между ростом населения и питанием". Первые же страницы потрясли его. Ровно год и три месяца, как он начал систематически заниматься происхождением, изменением видов животных и растений, и лишь сейчас перед ним лежал ключ к разгадке тайны. "Причина, на которую я ссылаюсь, это постоянно проявляющаяся тенденция живой жизни увеличиваться без учета приготовленной для нее пищи", – писал Мальтус. "Наблюдением установлено… что не существует преград для плодовитой природы растений или животных, кроме их собственной скученности и посягательств на средства существования друг друга… Доказательства тому неопровержимы. В животном и растительном царствах Природа разбросала семена жизни необычайно щедрой, прямо-таки расточительной рукой, но оказалась сравнительно скудной, когда речь шла о пространстве и пропитании, необходимых для их произрастания. Семена жизни, посеянные в нашей земле, если бы у них была возможность свободно развиваться, заполнили бы собой миллионы миров в течение всего нескольких тысяч лет. Необходимость, этот императивный и всепроникающий закон природы, удерживает их, однако, в предначертанных рамках. Мир растений и мир животных сужаются под действием этого ограничительного закона, избегнуть воздействия которого не в состоянии и человек. …Народонаселение имеет тенденцию расти, не считаясь со средствами к существованию". Он не мог скрыть ликования, неожиданно обнаружив ключ к своему запертому на замок и остававшемуся неприкосновенным миру происхождения видов [Учение Дарвина о борьбе за существование было, по словам Энгельса, "перенесением из общества в область живой природы учения Гоббса о bellum.omnium contra oranes [войне всех против всех] и учения буржуазных экономистов о конкуренции, а также мальтусовской теории народонаселения" (Энгельс Ф., Диалектика природы, – Маркс К.. Энгельс Ф. Соч.. т. 20, с. 622). Мальтузианская теория реакционна и антинаучна. Однако было бы неверным считать, что учение о борьбе За существование заимствовано Дарвином у Мальтуса. Мальтузианская теория "абсолютного избытка людей" была направлена на то, чтобы объяснить бедственное положение трудящихся при капитализме не социальными условиями эксплуататорского строя, а "вечными" законами лрироды. Борьба за существование как одно из основных понятий теории эволюции, по учению Дарвина, применима лишь к отношениям между организмами, а также между организмами и внешней средой. Перенесение этого учения на человеческое общество несостоятельно. Не случайно Энгельс подчеркивал, что "борьба за существование может происходить в природе помимо какого бы то ни было мальтузианского ее истолкования" (Энгельс Ф, Анти-Дюринг, – Там же, с, 69). – Прим. ред.]. Взволнованный, вышагивал Дарвин по комнатам, а в голове, у него теснились картины всего виденного за время плавания на "Бигле" и мысли, родившиеся после возвращения домой. Измотанный, не имея сил даже раздеться и лечь в кровать, он, в чем был, бросился на софу. Наконец-то у него есть теория и он может работать! Впрочем, чтобы не судить предвзято, Чарлз принял решение какое-то время вообще ничего не писать, не делать никаких заметок. Необходимо выждать, пока теория не получит фактического подтверждения. В Мэр-Холл Дарвин приехал в пятницу вечером 9 ноября. К этому времени кое-кто в доме уже лег спать, в томчисле и его сестра Кэтти, приехавшая к Веджвудам погостить. Эмма отправилась на кухню в поисках съестного и принесла ему немного еды и горячее какао. Чувствуя себя совершенно разбитым, он и не думал делать Эмме предложение сразу по приезде. Ему хотелось побыть с ней наедине весь завтрашний день и попытаться восстановить ту близость, которая возникла между ними в его прошлый приезд в июле. Подходящий момент для объяснения выдался в воскресенье после возвращения из церкви, где они прослушали проповедь местного викария Джона Аллена Веджвуда, Эмминого кузена, "Благодарение, обращенное к господу после шторма на море". – Это в честь возвращения "старого морского волка", – прошептала Эмма на ухо Чарлзу. В гостиной было прохладно, но приятно. Чарлз и Эмма вместе сели у рояля, и она тихо заиграла для него песни Моцарта. Как она угадала? Это как раз те самые звуки, которые он жаждал услышать. Дарвин с облегчением вздохнул: – Я хотел бы попросить разрешения поговорить с тобой, Эмма. – Разрешения?! – Она была поражена. – С каких это пор ты должен испрашивать специальное разрешение? – Я говорю вполне серьезно. Речь идет о крайне важном деле. – По выражению твоего лица я и так это вижу. – Мы были с тобой друзьями долгое время, Эмма… – Ровно столько же, сколько кузиной и кузеном! – Не знаю, как ты это воспримешь. Я и так со страху, честно говоря, теряю последние остатки соображения. Эмма повернулась к Чарлзу. Она слегка побледнела. – Когда ты гостил у нас в июле, у тебя было прекрасное настроение и мне было так хорошо с тобой! Знаешь, у меня возникло убеждение, что, если бы мы чаще с тобой виделись, я бы могла тебе понастоящему понравиться. Лицо Чарлза перестало быть напряженным. Он взял Эммины руки в свои. – Эмма, дорогая! Ты всегда нравилась мне больше всех остальных. Сейчас я понял – прости, что я так поздно прозрел, но такова уж моя натура, – что давным-давно люблю тебя! Не бойся задеть мои чувства. Я ведь знаю, что далеко не красавец. Говори правду, одну лишь правду! – Обещаю, Чарлз. – Тогда я хотел бы спросить, не выйдешь ли ты за меня замуж? Эмма не колебалась ни секунды. – Конечно, выйду, Чарлз! – выпалила она. – Я столько лет ждала, когда ты наконец сделаешь мне предложение. Все Дарвины и Веджвуды ждали этого. Разве ты не знал? – Нет, не знал… ничего. Он выглядел таким растерянным и жалким, что она тихонько засмеялась. Чарлз робко произнес: – Я люблю тебя. Ты сказала, что выйдешь за меня. Но любишь ли ты меня? Она крепко обняла и поцеловала его. Чарлз еле слышно пробормотал: – Какой замечательный ответ! У нас будет с тобой чудесная жизнь. Надеюсь, ты так же счастлива? – Все это так неожиданно. Пока я еще не чувствую всей полноты своего счастья. Но это придет. Ты самый честный, самый чистый из всех, кого я знаю. Каждое твое слово выражает то, что ты думаешь. И ты так нежен с сестрами, так добр с ними, у тебя такой мягкий характер! – Как ребенок не может расстаться со своей любимой игрушкой, так я не могу расстаться со словами "моя дорогая Эмма"! Теперь настала очередь Чарлза поцеловать ее – со всей глубиной и страстью, на какие он оказался способен. Это был их второй поцелуй: он взволновал их обоих, внушив им веру в то, что все будет хорошо. Высвободившись из его объятий, она спросила: – Наверно, надо все рассказать папа и Кэтти? Как только в комнату вошли Джозайя и Кэтти, Эмма объявила с сияющей улыбкой: – Глядя на наши лица, вы уже обо всем догадались? Чарлз сделал мне предложение! Мы женимся! Джозайя Веджвуд не стал скрывать слезы радости. Он обнял сперва Эмму, потом Чарлза. – Это один из самых счастливых дней в моей жизни! – Голос его звучал хрипло от обуревавших его чувств. – Годами я надеялся и молился в ожидании этого момента. Ты знаешь, с каким уважением я всегда относился к тебе, Чарлз! – А я всегда относился к вам, дядя Джоз, с величайшим почтением и любовью. К воскресному обеду у Веджвудов были приглашены несколько родсгвенников. Из Лондона приехал Генслей с женой. Хотя, уволившись из полицейского суда, он почти год сидел без работы, муж и жена были в превосходном расположении духа, как, впрочем, и все остальные. – Да они просто какие-то буйные, – прошептал Чарлз на ухо Эмме, сидевшей рядом с ним за обеденным столом. – Не стоит, наверно, объявлять о нашей помолвке среди такого шума. – Ты прав, Он сжал ее руку под столом. – Я до того счастлив, у меня так легко на сердце оттого, что все сомнения позади и мы понимаем друг друга, что у. меня даже разболелась голова. – Представь, дорогой Чарлз, у меня тоже. Он уже собирался раздеться и лечь, когда к нему постучали. Отворив дверь, Чарлз увидел на пороге Генслея Веджвуда. – Идем к нам в спальню. У нас там вечеринка. Пока Чарлз шел за ним по коридору, до него доносились возбужденные голоса. Когда они вошли в комнату, Эмма вскочила со стула, стоявшего у камина. – Знаешь, за столом у нас был такой жалкий вид, что и моя тетушка Фэнни и Джесси, жена Гарри, заподозрили что-то неладное. Фэнни догадалась первой. Наша тайна раскрыта. – Вашей тайне уже несколько лет! – воскликнула Фэнни. – Это мы держали ее в… тайне. Родственницы тут же заключили Чарлза в сердеч-лые объятия. От радости у него стало тепло на душе, а голова закружилась от сознания, что все в его жизни "дет теперь как надо. Эмма усадила его на стул рядом с собой. – Чарлз, дорогой, все, оказывается, только и делали, что готовили наш брак. – Тем не менее Кэтти и я поедем завтра в Шрусбери, чтобы сообщить о нашем решении отцу и Сюзан, – отвечал он. – Уверен, что отец будет так же счастлив, как и дядя Джоз. Глаза Эммы сверкали. – Генслей, я голодна. Принесите, пожалуйста, чего-нибудь поесть. Потом все заспорили о том, какая помолвка предпочтительней длительная или короткая. – Короткая! – вскричал Чарлз. – Я и так уже лишился изрядной порции счастья. – Длительная, – тихо промолвила Эмма. – Не могу же я сейчас бросить маму на одну Элизабет. – А почему, собственно? – откликнулась Элизабет, с трудом превозмогая постоянно мучившую ее боль. – Твоего счастья хватит и на меня. Тем временем Генслей вошел, неся поднос с хлебом, кухонный нож и два фунта свежего масла. Все дружно накинулись на эту, как выразилась Эмма, "восхитительную закуску". На следующее утро первыми поднялись Джозайя и Чарлз. За окном падали мелкие, похожие на кристаллики снежинки. После кофе Джозайя предложил оседлать лошадей и отправиться на прогулку в лес. Бодрящий морозный воздух слегка пощипывал ноздри. Они проехали сперва берегом озера, а затем углубились в лесную чащу, где провели столько чудесных часов, вместе охотясь в сентябре на куропаток и другую дичь. В белом безмолвии раннего утра отчетливо слышалось каждое слово Джо-зайи: – Что может быть лучше приветливой и любящей дочери, не считая хорошей жены! Я ни за что не расстался бы с Эммой ради человека, который не был бы мне как родной сын. – Его изборожденное морщинами лицо расплылось в сердечной улыбке. – Но поговорим сейчас о практической стороне дела. Я предполагаю положить на имя Эммы пять тысяч фунтов стерлингов в ценных бумагах – ровно столько, сколько я выделил Шарлотте и сыновьям, и выплачивать ей ежегодно по четыреста фунтов из моих доходов, которых, смею надеяться, должно хватить до тех пор, пока я жив. Чарлз покраснел. Он ни разу не задумывался над приданым, которое могли дать за Эммой, хотя, разумеется, в бесприданницах ее не оставят: фаянсовый завод в Этрурии, известный далеко за пределами Англии, принес Веджвудам целое состояние. – Весьма великодушно с вашей стороны, дядя Джоз. Мне наверняка потребуется совет, и ваш и отца, куда лучше поместить Эммины пять тысяч. Скоро я и сам начну зарабатывать и надеюсь, что весь капитал Эммы вместе с процентами мы сможем оставить нетронутым для наших детей, как в свое время сделал для нас отец. Когда они вернулись, Эмма еще завтракала. Они поцеловались, глядя друг на друга сияющими глазами. Затем она поставила перед ним кашу, копченую селедку, вареные яйца в маленьких голубых подставках веджвудовской выделки, блюдо с ломтиками тоста и кофе с горячим молоком. Чарлз с аппетитом принялся за еду. – Как ты думаешь, – спросил он у Эммы, – нельзя будет затопить камин в библиотеке? Там так приятно посидеть, поговорить. Когда они перешли в уставленную книгами комнату, Чарлз обратился к Эмме: – Боюсь, первые несколько лет нам придется жить в Лондоне, пока я не опубликую своих геологических работ. Ты не возражаешь? – Где бы ни был наш дом, я буду в нем счастлива. У меня просто способность находить счастье. – Это один из твоих многочисленных талантов. А что ты предпочитаешь: центр или пригород? – Думаю, что центр, оттуда будет удобнее добираться до Геологического общества, где тебе надо бывать как секретарю. – И еще мне хотелось бы жить поблизости от Лайелей. Помощь Чарлза для меня просто бесценна – и по части геологии, и по части экономики. Район там, правда, не слишком модный, но довольно хороший, недалеко от Британского музея и нового Лондонского университета. – Когда ты найдешь несколько подходящих домов, я приеду и помогу тебе сделать окончательный выбор. После некоторого обсуждения Эмма назначила день их свадьбы на 29 января 1839 года – через два с половиной месяца. Венчаться им предстояло в церкви на холме рядом с имением.Любовь-та же лихорадка
От Джона Генсло Чарлз получил письмо: он и Хэрриет собираются в Лондон и надеются посетить там Дарвинов. Не будучи знакомой с супругами Генсло, Эмма знала о той решающей роли, которую они сыграли в жизни её мужа. – Почему бы нам не пригласить их погостить? – спросила она у Чарлза. Комната для гостей теперь, с новыми эстампами, выглядит вполне респектабельно. Он отослал приглашение и тут же начал тревожиться. – А чем мы сможем их развлечь? Сумеем ли мы заполучить на вечер тех ученых, кого Генсло наверняка захочет увидеть? Пожалуй, надо на несколько дней нанять экипаж? В ответ Эмма рассмеялась: – Ты похож сейчас на сына, который в первый раз пригласил к себе домой своих строгих родителей. Не беспокойся. Все будет в порядке. Она оказалась права: более легких гостей трудно было себе представить. Они явились к четырем пополудни, Хэрриет сразу же отправилась отдыхать в отведенную для нее комнату, а Чарлз и Генсло удалились в кабинет. Теперь Эмма смогла беспрепятственно заняться последними приготовлениями к первому в своей жизни званому обеду. По-веджвудовски безукоризненно сервированный стол поражал своим великолепием: серебряные приборы, сверкающий хрусталь и тончайшая скатерть камчатного полотна (еще один свадебный подарок). У нее еще осталось время, чтобы не спеша принять ванну, затем переодеться в декольтированное бархатное платье синего цвета, которое было ей так к лицу. Первыми из приглашенных прибыли супруги Лайели, с которыми приехала и сестра Мэри Леонора. Генсло и Лайели были давнишними друзьями. Вскоре появился Роберт Броун. Генсло и Броун, два самых известных ботаника в Англии, тотчас же с превеликой радостью бросились друг к другу. Доктор Уильям Фиттон, знаменитый геолог, один из бывших президентов Геологического общества, явился позже всех. Обеспокоенная, Эмма даже сбегала на кухню, чтобы удостовериться, не подгорел ли у Сэлли ужин. – Положитесь на меня, мэм, – успокоила ее кухарка, – уж я всегда помню про опоздавших. У нас в Шропшире без них разве когда обходилось, особенно как дороги-то развезет. Фиттон принес свои извинения за стаканом шерри, после чего вся компания перешла в столовую, где стол уже давно ждал гостей. Меню, предложенное Эммой, вызвало всеобщее восхищение. Облаченный в новый фрак, черные брюки и белую накрахмаленную рубашку, приобретенные по такому случаю Дарвинами, Парсло [Мужская прислуга, нанятая Эммой, – Прим. пер.] торжественно внес суп-пюре из артишоков, голову трески в устричном соусе, котлеты по-провансальски и сладкое мясо в белом соусе; затем баранью ногу, а на десерт – фрукты и сыр, пудинг, конфеты и круглые леденцы на серебряном подносе и маленькие пирожные. Все эти яства запивали отменным бордо. Несмотря на великолепный стол, обстановка была весьма напряженной. Лайель, хотя обычно стоило ему лишь коснуться геологии, как голос его начинал рокотать, на сей раз словно воды в рот набрал, а если и говорил, то еле слышно. Другие тоже начали разговаривать полушепотом, чтобы не заглушать его. В результате вообще нельзя было разобрать ни слова. Роберт Броун, которого Гумбольдт назвал "гордостью Великобритании", из-за своей скромности настолько растерялся, что просто ушел в себя. "Боже! – подумала Эмма. – С двумя такими учеными буками весь наш обед провалится". Спасают положение женщины. Хэрриет Генсло своим приятным громким и ясным голосом начинает рассказывать о последних новостях факультетской жизни Кембриджа. Мэри Лайель, пораженная непривычно тихой речью мужа, решает отомстить ему за все те часы, когда ей приходилось молча сидеть, слушая его разглагольствования на темы геологии. Она берет инициативу в свои руки и принимается оживленно болтать. Увидев, что происходит, Чарлз очертя голову бросается на помощь, и ему удается разговорить, одного за другим, всех своих друзей. Посреди всеобщего шума Лайелю и Броуну приходится почти кричать, чтобы быть услышанными. В конце концов все остаются довольны и поздравляют Эмму с превосходным обедом. На следующее утро Генсло уехал на консультации, и его не было целый день. Хэрриет заказала двуколку и отправилась с визитами. Чарлз чувствовал себя совершенно выпотрошенным: сказывалось перенапряжение во время вчерашнего приема. Супруги Генсло остановились у них всего на несколько дней. В среду они были на обеде у Лайелей, а в четверг их принимал у себя Уильям Фиттон. Перед отъездом Джон Генсло объявил: – Главную новость я приберег под конец. Мы продаем свой дом в Кембридже и переезжаем на казенные хлеба в Хитчем, в графство Суффолк, где у меня свой приход. А в Кембридж я буду наезжать весной, чтобы вести свой курс ботаники. Сидя на софе, он подался вперед, сцепив руки перед собой. – Дел в Хитчеме у меня непочатый край. Прихожан там больше тысячи, это бедные и необразованные люди, церемония крещения и венчания для них излишество или чрезмерная роскошь. Церковь стоит пустая. Что до еды, одежды и возможностей для мало-мальски приличного существования, то местные жители обеспечены значительно хуже большинства английских крестьян. Для меня это серьезный вызов, и я намерен принять его. Этих людей необходимо вернуть в лоно церкви. Один из путей достижения цели – помочь им вести сельское хозяйство современными методами, чтобы поднять уровень их жизни. И поскольку я сам вызвался служить богу, на меньшее я не согласен. Для Чарлза наступил счастливый и плодотворный месяц: он вычерчивал карты и делал рисунки с изображением различных участков атолла Килинг и рифов Маврикия, привлекая все новые материалы по скорости роста кораллов и глубинам, на которых они живут, описывая погрузившиеся и мертвые коралловые рифы. Этой работой он бывал занят большую часть дня, что вполне устраивало Эмму, так как оставалось время, столь необходимое ей для того, чтобы освоиться с жизнью в Лондоне. По вечерам она читала ему выдержки из юмористических "Изречений мистера Слика из Сликвилла" или играла что-нибудь успокаивающее на рояле. К концу апреля, решив устроить себе передышку, Дарвин вернулся к записям по. проблеме видов. В свою четвертую книжку он заносит: "Когда встречаются две человеческие расы, они ведут себя совершенно так же, как два вида животных: сражаются, поедают друг друга, заражают друг друга болезнями и т. д.. а затем наступает последний этап смертельной борьбы, когда решается вопрос, кто обладает наиболее совершенной организацией и инстинктами (у человека – это интеллект), чтобы победить… Трудно поверить в существование той страшной, хотя и незаметной войны, которую ведут все органические существа, такие мирные вокруг леса, улыбчивые поля. Вспомним, однако, о множестве растений, занесенных в наши сады из чужих краев, которые наряду с местными дикорастущими видами, размножаясь, в состоянии заполнить все вокруг, и мы увидим природу в ее чудесном равновесии". Затем он сделал обобщение, касавшееся изменения видов: "Мой принцип состоит в том, что уничтожаются все наименее стойкие и выживают случайно оказавшиеся более стойкими". В условиях, когда ему решительно не с кем было поделиться своими соображениями, кроме Лайеля, который и без того был сторонником эволюционных взглядов, Чарлз допустил серьезный просчет. Он решил, что нет никаких причин, почему бы не сказать Эмме, для чего это он начал вдруг покупать книги по разведению домашних животных, писать письма селекционерам, занятым экспериментами по выведению новых, улучшенных пород скота. Иногда, делая записи в своей четвертой книжке и отыскивая нужный ему материал в одной из трех предыдущих, он не мог удержаться, чтобы не прокомментировать работу, которая, хотя многое оставалось еще неясным и вызывало сомнения, захватила его целиком. – Последнее звено в цепи дал мне именно Мальтус! – как-то воскликнул он, – написав, что все живое имеет постоянную тенденцию увеличиваться быстрее, чем позволяют имеющиеся для него средства к существованию. Против моего тезиса, что размеры видовых изменений в пределах исторически обозримого периода сравнительно невелики, трудно что-либо возразить. Изменение у одной из форм – это результат изменения условий. Логично, что, когда тот или иной вид становится более редким по мере приближения к вымиранию, какой-то другой вид должен увеличить свою численность там, где появляется этот разрыв. Эмма не оспаривала его слов и, склонив голову, продолжала молча вышивать, что, как в неведении полагал Чарлз, означало согласие. В другой раз он сказал ей под вечер: – Любая структура способна на бесчисленные вариации при условии, что каждая из них наилучшим образом приспособится к обстоятельствам своего существования. И снова Эмма ничего не ответила. Если бы Чарлз не был так увлечен работой, он наверняка почувствовал бы в ее теперешнем молчании нечто отличное от того, что бывало прежде. Взрыв наступил после одной долгой дискуссии с Лайелем, суть которой он поведал своей записной книжке, а перед сном – Эмме. – Лайель заметил, что вымерший вид никогда уже не возрождается. Начиная с отдаленнейших периодов, как он предполагает, появлялись все время новые органические формы. Мои собственные исследования и наблюдения подтверждают это. Лайель также склонен думать, что те формы, которые существовали в доисторические времена, вымерли. Такие, как мегатерий, которого я нашел в Южной Америке. Эмма обеспокоенно взглянула на мужа. – Ты хочешь сказать, что бога не существует? – Я хочу сказать, что он в самом начале создал определенные законы и потом устранился от дел, предоставив этим законам делать за себя всю работу. Впервые Чарлз обратил внимание на озабоченный вид жены. Но он и думать не думал, что может за этим последовать. Вечером следующего дня Эмма тихо сказала: – Чарлз, я положила тебе на стол письмо. Ну не совсем письмо, скорее, послание. Сейчас прочтешь или, может быть, завтра с утра? – Сейчас. Конечно, сейчас. С тех пор как мы женаты, это первый случай, когда ты обращаешься ко мне в письменной форме. Он накинул халат, пошел в кабинет и обнаружил на столе Эммино "послание", написанное ее характерным четким почерком. "Чересчур четким, – решил он про себя. – Похоже, что она переписывала текст несколько раз". "Что касается моего отношения к тебе, то я желала бы быть постоянно уверенной, что, действуя добросовестно и вполне искренне желая и пытаясь познать правду, ты не можешь заблуждаться. Есть, однако, причины, которые, помимо моего желания, порой мешают мне испытывать эту уверенность в твоей неизменной правоте. Осмелюсь предположить, что в прошлом ты, должно быть, также нередко задумывался над этими причинами. Тем не менее я все равно пишу тебе то, что накопилось в душе, зная, что мой любимый извинит? меня… Не случилось ли так, что привычка, порожденная науч" ными исследованиями, не верить ничему, пока оно не доказано, оказала чересчур сильное влияние на твое сознание и в тех случаях, когда речь идет о вещах, которые не могут быть доказаны подобным же образом? Вещах, которые – если они истинны – скорей всего находятся за пределами нашего разумения. Должна также сказать, что с твоей стороны существует опасность в отказе от Откровения, то есть я боюсь, что, оказавшись неблагодарным, ты отвергнешь сделанное ради твоего блага, точно так же как и блага остального мира, что должно заставить тебя быть еще более осмотрительным, даже, быть может, опасливым, вынуждая слросить себя: а всели я сделал, что мог, чтобы не судить ошибочно?.. Я не настаиваю на ответе на мое письмо, мне доставляет удовлетворение уже то, что я его написала. Не думай, что это не мое дело и что эти вопросы не так уж много для меня значат. Все, что касается тебя, касается меня, и я была бы очень несчастна, если бы думала, что мы не принадлежим друг другу навечно. Я весьма опасаюсь, что мой любимый решит, будто я забыла свое обещание не беспокоить его, но я уверена в его любви к себе и не могу выразить словами, какое счастье он мне дарит и как горячо я его люблю, не уставая благодарить его за всю его нежность, которая день ото дня делает мою жизнь все более и более счастливой". Он чувствовал, как по щекам его катятся слезы, когда, он читал слова, выражавшие Эммину любовь к нему и вместе с тем ее тревогу из-за той опасности, которой он подвергает себя, теряя бога, а с ним и обещание вечной жизни. Она написала о своем страхе, вызванном его "отказом от Откровения" и тем, что он "отвергает сделанное ради его блага, точно так же как и блага остального мира", очевидно имея в виду господа бога. Голова его кружилась. Он долго сидел за столом в кабинете, потом поднялся и зашагал из угла в угол. Заглянув через некоторое время в спальню, Чарлз увидел, что Эмма крепко спит. Она выполнила свой долг, как она его понимала, и это позволило ей обрести душевное спокойствие. Он поднес письмо к губам и поцеловал его, выражая тем самым свое преклонение перед силой и цельностью любви Эммы. Стоя у выходившего в темный сад окна, он думал, что же ему теперь делать? Он не имеет права продолжать работу над происхождением и несовершенством видов, если его работа так пугает жену. Это значило бы нанести удар – "эстолько серьезный, что он, возможно, погубит их союз. – Я не могу взвалить на нее столь изнуряющее бремя. Она заслуживает лучшего. Все, чего она хочет, – это уберечь мою душу от вечных мук в аду. Он не шел ради Эммы ни на какие жертвы, просто он принял все великодушие ее любви, которое сделает его жизнь по-настоящему полноценной. Отныне он станет заниматься лишь геологией, будет счастлив и навсегда простится с занятием, ставящим под сомнение все тридцать девять догматов англиканской церкви, которым его наставник, профессор Джон Генсло, верил безоговорочно. Да, это конец его отступничеству. Хорошо, что по крайней мере у него хватило ума не предавать свои еретические взгляды огласке среди членов Королевского и Геологического обществ, так что позорное исключение ему не грозит. Подумать только, какой опасности он подвергался, не осознавая всех возможных последствий! Эмма пробудила в нем чувство ответственности. Решено, утром он сожжет свои записные книжки. Больше на этот счет разговаривать с ним ей не придется. Кончено, дверь заперта. Навсегда. В постели он долго не мог согреться. Можно было бы, правда, придвинуться к жене, но ему казалось, что он просто не имеет на это права. Во всяком случае, сегодня ночью. Минуты тянулись бесконечно, часы казались вечностью. Рассвет застал его по-прежнему бодрствующим. Он поднялся, прошел к себе в нетопленый кабинет, сел за стол и… заполнил еще восемь страниц записной книжки. "Можно утверждать, что дикие животные в соответствии с моими мальтузианскими взглядами будут различаться лишь до известных пределов. С этим надо поспорить. Аналогия, конечно, допускает разновидности вплоть до разницы в видах (например, голуби); затем возникает вопрос уже о родах". Он ничего не сказал Эмме: интерес к происхождению видов был сильнее его. Чарлз еще сумел заставить себя перелистать две новые книги – "О влиянии физических факторов" и "Знакомая история птиц". На большее его уже не хватило. Несколько дней кряду он ровно ничего не делал и страшно тяготился этим. Нельзя сказать, чтобы его одолевали грустные мысли или он упрямился. Нет, он попросту не мог работать. Дарвин заболел. У него поднялась температура, начались сердцебиения, рвота. – Что это с тобой, Чарлз? – встревожилась Эмма. – Может, виновата еда или сидячий образ жизни? Беспокойство за отца или сестер? Домашние заботы? Подойдя к нему, она взяла его за руку: – Что-нибудь не так во мне самой? (Она думала при этом о своем письме). – Да. Я слишком тебя люблю. Эмма поцеловала его теплый лоб. – Что ж, смиримся с твоим недугом и будем ждать, пока он не пройдет сам собой – так же таинственно, как пришел. В конце концов Дарвин с женой решили воспользоваться советом, который в свое время дал Чарлзу доктор Кларк, " 26 апреля поехали в Мэр. Это время года в Стаффордшире одно из самых очаровательных – пора цветения розовой вишни и белого миндаля. На грядках пестрели бутоны тюльпанов всевозможных оттенков, вдоль дорог и в полях во всей красе стояли вязы. Зеленые холмы набегали один на другой, подобно океанским волнам. Элизабет, которая оставалась одна, присматривая за хворавшими стариками, была в саду возле клумбы с крокусами. При их появлении она с трудом поднялась с колен. – Я сажала цветы и вдруг подумала, что делаю это одна – и для себя одной. И тут на меня нашла такая грусть! Впрочем, садоводство, как и любое искусство, надо любить ради него самого… Я так рада вас видеть! Три недели с вами будут для меня самым большим счастьем. А в последнюю неделю я намерена поехать вместе с вами в Шрусбери. Вместо меня о маме позаботится одна из наших кузин. Хотя его собственный том "Отчета о путешествиях кораблей его величества "Адвенчер" и "Бигль" официально должен был появиться лишь летом, Дарвин захватил с собой несколько недавно переплетенных экземпляров, чтобы раздать их родным в Мэре и Маунте. Занятый чтением, Джозайя Веджвуд целых три дня почти ни с кем не разговаривал. – Вам, дядя Джоз, мой "Дневник" наверняка показался стоящим, – заметил Чарлз. – Ведь ради того, чтобы я мог совершить это путешествие, вы поставили на карту свою давнишнюю дружбу с отцом. Джозайя с усилием приподнялся с обитого кожей стула и положил руку Чарлзу на плечо. – Я знал, что на несколько лет лишаю Эмму возможности выйти замуж. Но я решил, что путешествие поможет тебе стать на правильный путь. Так оно и случилось. Что это, судьба? Господня воля? Через две недели, в середине мая, они заехали в Шрусбери. Доктор Роберт Дарвин осмотрел сына, который по-прежнему плохо себя чувствовал, и пришел к такому весьма правдоподобно звучащему заключению: – Я полагаю, ты перетрудился во время плавания, и последствия этого сказываются теперь. Твою нагрузку за минувшие пять лет можно было бы приравнять к двадцати годам жизни в Англии. Поэтому сейчас тебе не следует чересчур утруждать свой мозг. Ночью, когда Эмма спала и слышно было ее тихое дыхание, он начал перебирать в уме возможные причины недомогания. За все пять лет путешествия он болел всего трижды или четырежды – наиболее серьезно в Вальпараисо, после того как выпил неразбавленное индейское виски. Принимая во внимание, сколько раз ему приходилось пить солоноватую воду, есть непривычную пищу туземцев, быть укушенным насекомыми, у него не было оснований жаловаться на свое здоровье. Откуда же, ни с того ни с сего, теперь эта болезнь? Ведь работа только прибавляет ему сил. "Вряд ли отец прав, что это усталость повлияла на мои мозги, пробормотал он вслух. – На "Бигле" у меня было предостаточно дней для отдыха и расслабления, когда я загорал на палубе или валялся с книжкой на диване у Фицроя. После возвращения, в Кембридже, несколько месяцев подряд я чувствовал себя здоровым как никогда. Да и на Грейт Мальборо-стрит тоже… до первого приступа болезни в сентябре 1837 года. Чем я тогда был занят?" Он осторожно поднялся, чтобы не потревожить Эмму, и, спустившись по лестнице в библиотеку, зажег в теплом, душном помещении лампу. При ее свете он попытался восстановить в памяти все события того времени: работа над "Дневником", два доклада, подготовленные им для Геологического общества, один о кораллах, другой об ископаемых млекопитающих, хлопоты в связи с правительственной дотацией на печатание книг по зоологии. Затем он начал записную книжку о происхождении видов, пытаясь как-то привести в порядок те мысли, которые вызвали в нем галапагосские черепахи, вьюрки с четырех различных островов архипелага и остатки скелетов южноамериканских ископаемых, обнаруженных им на Пунта-Альте. Ведение этих записей захватывал(r), но и каким-то странным образом изматывало его, притом куда больше, чем прежняя работа. Его геологические выводы основывались главным образом на наблюдениях: даже его противоречившая взглядам Лайеля радикальная теория роста коралловых атоллов и та опиралась на факты, в которых он сам удостоверился. Но, начав размышления над тем, как рождаются, приспосабливаются, вымирают или, наоборот, процветают виды, он ступил на зыбкую почву, где в любой миг можно было увязнуть по самые уши. Здесь были одни предположения, догадки, рассуждения, гипотезы. Он нашел рукоятку, но, увы, без молотка, – верного "старого Тора", с помощью которого можно было добывать образцы – только на сей раз не геологической, а биологической породы. Кроме того, он занимался проблемами и ответами на вопросы, считавшиеся божественным откровением. Чарлз не спеша потягивал холодный лимонад, раздобытый им в подвале. – Но я же никогда не предполагал ни публиковать свои размышления, ни делиться ими с кем-либо, кроме Лайеля, который не станет отвергать моих поисков. В сущности, для меня это было всего лишь упражнением, чтобы прояснить собственные мысли. Он поднялся по широкой лестнице и свернул налево, в спальню. Но сон все не приходил. Он продолжал размышлять над непонятным феноменом. Неожиданно он понял, в чем дело, и почувствовал безмерное облегчение. – "Ну конечно же! Мое нездоровье ничего общего не имеет с четырьмя записными книжками о видах. Ведь к ним я обращаюсь лишь тогда, когда окончательно вымотаюсь после занятий другой работой. И записи в своих книжках я начинаю делать только после того, как геология и зоология мне осточертевают. Мои записные книжки – это мое спасение!" С этой мыслью он крепко уенул. Теплым и благоуханным майским утром он проснулся освеженный и бодрый. Когда Эмма вышла из ванной комнаты, он объявил: – Дорогая, я абсолютно здоров и горю нетерпением скорее возвратиться в Лондон и засесть за работу. – Я так за тебя рада, Чарлз, родной мой! Мы ведь все ужасно за тебя беспокоились. Прощание было шумным. Чарлз обещал домашним, что снова приедет в августе или сентябре. На следующий день, проходя по Трафальгарской площади, Чарлз увидел лицо, показавшееся ему знакомым. Он остановился, воскликнув: : – Доктор Роберт Маккормик! Мы же не виделись с тех самых пор, как по болезни вас списали на берег в Рио-де-Жанейро. Это уже почти семь лет! Да, с вами ли тот серый попугай, которого вы собирались взять с собой в Англию? – Чарлз Дарвин! Ну и память же у вас! Он со мной, этот чертов попугай, и болтает как заводной. Разрешите представить вам Джозефа Гукера. Он едет помощником врача на корабле ее величества "Эребусе". Нас снаряжают для исследования Антарктики. – Лицо Маккормика расплылось в победоносной улыбке. – На этот раз судовым натуралистом назначили меня. – Во время нашей экспедиции, доктор, холодный климат для вас был спасением, а тропики вы переносили с трудом, – отвечал Чарлз. Он обернулся к Джозефу Гукеру, приятному на вид молодому человеку лет двадцати двух в очках в стальной оправе, слегка увеличивавших его и без того большие живые карие глаза. – На "Эребусе" вы будете еще и помощником натуралиста? – Нет, мистер Дарвин, ботаником. Надеюсь, четыре года плавания сослужат мне хорошую службу. Я ведь намерен продолжать дело отца, профессора ботаники в университете Глазго. – Тогда вы, значит, знакомы с работой моего хорошего друга профессора Джона Генсло? – Естественно. И с работой Чарлза Дарвина тоже. – С моей? Но каким образом? Я же еще почти ничего не публиковал? – Мне удалось прочесть в гранках ваш "Дневник". Их послал Чарлз Лайель в Киннорди моему отцу. А тот дал их мне, поскольку заботится о моем будущем как натуралиста. Я как раз готовился тогда к получению диплома врача в университете Глазго, времени у меня было в обрез, и на ночь я клал листы вашей книги под подушку, чтобы, проснувшись, иметь возможность почитать перед тем, как надо будет вставать. Она произвела на меня огромное впечатление и… вместе с тем повергла в уныние. Я увидел, что натуралист, который захотел бы следовать по вашим стопам, должен отвечать великому множеству требований – и к его умственным, и к физическим качествам. Во всяком случае, вы укрепили во мне желание попутешествовать и понаблюдать. Молодой человек пришелся Чарлзу по душе не только своими комплиментами в его адрес, но и тем, как на редкость бесхитростно и откровенно он держался. – Приходите навестить меня, когда вернетесь, Гукер. В Геологическом обществе вам всегда укажут, где я живу. Доктор Маккормик, желаю, чтобы ваша коллекция оказалась превосходной. Удачи вам, джентльмены. Восторженный отзыв Гукера обрадовал Дарвина, зато послеобеденный визит к издателю Генри Колберну обескуражил. В предваряющем все издание рекламном проспекте упоминание о его томе находилось в самом низу и было набрано мелким шрифтом, как будто речь шла о простом дополнении к томам Кинга и Фицроя, причем наименее ценном, задуманном в самую последнюю минуту. Генри Колберн, чья контора находилась на втором этаже здания на Грейт Мальборо-стрит, всячески уклонялся от прямого ответа, выражался весьма туманно. Да, он напечатал тысячу пятьсот экземпляров; нет, в переплет пошли далеко не все. Сколько именно? Точного числа он не знает. Во всяком случае, в книжных магазинах для начала будет достаточное количество. Что случится, если первую партию не распродадут? Он не знает. Возможно, остальную часть тиража придется пустить на макулатуру: места для хранения так мало, все время поступают новые книги… Вернувшись домой, Дарвин застал там Симса Ковингтона. Он не видел его со времени своей женитьбы, по случаю которой Симе, правда, прислал поздравительное письмо и скромный свадебный подарок. Хотя Ковингтон был одет вполне опрятно, Чарлзу бросилось в глаза, что он стал каким-то пришибленным. Однако, увидев Дарвина, он широко улыбнулся. Чарлз от души приветствовал его. Симе сообщил, что работает в большой конторе, где ведет бухгалтерский учет. – По твоему виду я бы не сказал, что эта работа тебе по душе. – Да, все время быть привязанным к своему столу – это совсем не то, что охотиться и собирать с вами коллекции. Мне удалось скопить из своей зарплаты немного денег, их почти хватит, чтобы добраться до Австралии. – Австралия! Так вот, значит, какая из стран тебе больше всего понравилась. – Верно, мистер Дарвин. Она большая и почти что… пустая. Мне показалось, что там можно чего-то достичь… на просторе. Может, зы бы согласились дать мне рекомендательное письмо? – Безусловно. И Чарлз написал: "Я знаю Симса Ковингтона более восьми лет, и все это время его поведение было совершенно безупречным. Он был моим помощником во время плавания, и впоследствии это стало его основным занятием. В трудных обстоятельствах он неизменно проявлял благоразумие. Я постоянно доверял ему как мелкие, так и крупные денежные суммы…" Симе принялся благодарить его за письмо. – Когда обоснуешься на новом месте, обязательно напиши мне, как прошла высадка. – Непременно, мистер Дарвин. А если я вам еще понадоблюсь, то знайте, что я примчусь обратно на всех парусах со скоростью ветра. После отдыха Чарлз вернулся к прежнему рабочему распорядку дня, продолжая писать книгу о кораллах, делать заметки по происхождению видов и с жадностью читать: "Бриджуотеровские трактаты" сэра Чарлза Белла и "Рука, ее механизм и главные достоинства для выполнения замысла" (мысли, родившиеся у него при чтении этих трактатов, он тут же занес в свою записную книжку); "Естественная история мира" Пайни, второй том "Философии зоологии" Ламарка. 1 июня посыльный доставил ему два тома записок Кинга и Фицроя и первую заметку, появившуюся в журнале "Атеней", одном из самых уважаемых изданий Великобритании. Она содержала цитаты и описание лишь двух этих томов – и никакого разбора. В примечании читателей уведомляли о том, что вскоре должен появиться обзор тома, принадлежащего перу Чарлза Дарвина. Через несколько дней рецензент "Атенея" отметил: "Недостаток вышедших томов в том, что, будучи скомпонованы не из одного, а из нескольких путевых дневников людей, описывавших одни и те же страны – вместе или один следом за другим, они подчас грешат разнобоем и частыми повторами, что снижает читательский интерес". Чарлз должен был признать критику справедливой, но оказался не подготовлен к замечаниям по своему адресу: "Мы вовсе не хотим, однако, быть понятыми в том смысле, что без "Путешествия" мистера Дарвина в данном случае можно было бы обойтись или что его следовало включить в текст двух предыдущих томов нынешнего издания. Наша цель – всего лишь выразить свое сожаление, что автор не сократил свои высказывания и не держался, насколько это представлялось возможным, в определенных рамках и даже в вопросах естественной истории касался многих деталей…" Затем "Атеней" подвергал весьма суровой критике дарвиновское заключение, что южноамериканский континент постепенно, каждый раз не больше чем на фут, поднимался из глубин океана и что с тех пор, как океанские волны ударялись о подножие Анд, прошло не менее миллиона лет. Данное утверждение абсолютно неправомочно, поскольку еще в XVII веке епископ Ушер объявил: мир в его нынешнем виде создан в 4004 году до рождества Христова. И хотя наблюдения и обобщения мистера Дарвина преподносятся со всем пылом, на какой только автор способен, они являются ложными и не обладают ни малейшим достоинством. В заключение на книгу, по определению Чарлза, обрушивалась порция "самой восхитительной ругани": "Путешествие" выдает крайнюю самонадеянность автора и "составлено из отбросов и ошметков, находившихся в его портфеле". В ответ на гневную дарвиновскую тираду Лайель рассмеялся: – Что говорил вам Генсло по поводу первого тома моих "Основ", помните? "Книгу следует изучать, но ни в коем случае не принимать те выводы, которые там содержатся". Но именно сам Генсло и другие, кто верит, что бог посылал на землю одну катастрофу за другой, дабы проучить человека, стоят перед дилеммой, а для нас, геологов, ее не существует. У Эммы тем временем появились для него новости, которые она считала куда более важными, чем все остальное. – Ты должен услышать их от меня, прежде чем природа растрезвонит о них целому свету, – с улыбкой, прятавшейся в уголках рта, сказала она. Он смотрел на нее во все глаза. – Да, дорогой. Тебе в скорости предстоит стать отцом. Думаю, еще до конца года. – Ты уверена? – Наверно, так спрашивают все мужья. Конечно уверена! Я знала это еще тогда, когда утром плохо себя почувствовала в Мэр-Холле. Он опустился на колени перед стулом, на котором сидела Эмма, и осторожно взял в ладони ее лицо. – Родная моя! Я так счастлив за тебя. За себя. За нас. За всех. – Он с нежностью поцеловал жену. – Обещаю, что буду всегда любить тебя и заботиться о тебе. – Обо мне нечего особенно заботиться, – ответила она. – Я же из породы Веджвудов: наш фарфор не бьется. Несмотря на "послание" Эммы и его страстное желание не причинять ей огорчений, он оказался не в силах отказаться от своей все более четко оформляющейся теории происхождения, изменения и становления видов. Он был как одержимый: простой подсчет показывает, что с начала первой записи в первой книжке два года тому назад, с июля 1837-го, он прочел сотни книг, брошюр и статей и подписался на многие из необходимых ему журналов "Вестник Линнеевского общества", "Научный ежеквартальник", "Эдинбургский философский вестник" и "Анналы естественной истории". И хотя он был в состоянии продолжать писать книгу о кораллах, следить за тем, чтобы цветные иллюстрации в третьей части монографии "Птицы" выполнялись на том же высоком уровне, что и в первых двух, или редактировать заключительную шестидесятистраничную главу монографии Уотерхауса "Млекопитающие", всякий раз, когда очередная работа заканчивалась, мысли его неизменно возвращались на стезю, бравшую свое начало на Галапагосских островах и каждодневно расширявшуюся по мере того, как шедший по ней путник делал все новые наблюдения и открытия. Он ступил на путь ереси, а еретиков осуждали на публичную казнь, как был осужден Галилео Галилей. В свою записную книжку он заносит: "…Я категорически против права кого бы то ни было оспаривать мою теорию на том основании, что она делает мир даже старше, чем полагают геологи. Но можно ли сопоставлять продолжительность жизни планет и нашу?" Четвертую записную книжку он закончил в июле, преисполненный решимости во что бы то ни стало набрать материал для подтверждения своих взглядов и постепенно подойти к предварительным выводам, которые он пока не собирался предавать огласке. Отныне он не напишет ни строчки, но для самого себя сформулирует законченную теорию. Однако в один прекрасный день, и Чарлз знал это, он должен будет изложить ее на бумаге. И опубликовать! Эмма готовится родить ребенка на радость им и их близким. А то, что готовится "родить" он… принесет ли оно радость хоть кому-нибудь? Погода все лето стояла чудесная. Чарлз и Эмма часто гуляли у себя в саду: беременность жены протекала легко. В конце августа, оставив Эмму в Мэр-Холле, он отправился в Бирмингем насъезд Британской ассоциации по распространению науки, где предполагалось выступление с докладами большинства ведущих ученых страны, собиравшихся, чтобы обменяться мнениями и скрестить шпаги в полемике. Туда должны были съехаться университетские профессора, сотрудники библиотек, архивариусы, исследователи и наиболее талантливые из дилетантов, для которых наука была не профессией, а хобби. Многих Чарлз знал лично, других видел впервые. Некоторые уже успели прочесть его "Дневник": они хвалили стиль изложения и описание экзотических стран и народов. Но вот геологические теории об опускании и подъеме на протяжении миллионов лет не только огромных масс воды, но и столь же огромных участков суши они отвергали. Принимая его наблюдения, они вместе с тем отвергали появившиеся в результате этих наблюдений дарвиновские гипотезы, подобно тому как Джон Генсло в свое время отвергал лай-елевские. Как-то они вместе с Лайелем зашли выпить пива в бар, расположенный рядом с залом заседаний. Смахивая с уголков губ пену, Лайель изрек: – Как говаривал в древности один мудрец, "не надейтесь обратить в свою веру современников; поверить вам сможет только следующее поколение". В Лондон Дарвины вернулись в конце октября. Дома его ждала записка от Яррела с приглашением зайти к нему в лавку. В шерстяной шапочке, предохранявшей голову от холода, с сияющей улыбкой на лице, старик удивительно напоминал греческую маску смеха. – Поздравляю, Дарвин! Все ваши книги распроданы. Мне пришлось заказать новую партию. В других лавках то же самое. Чарлз был удивлен. После рецензии в "Атенее" отзывы, появлявшиеся в прессе, были куцыми и лишь изредка положительными. – С томами Кинга и Фицроя ничего похожего не происходит, – продолжал книготорговец. – Теперь самое время потребовать, чтобы Колберн отдал в переплет оставшиеся экземпляры. И еще, вам необходим другой титульный лист. Ведь на нынешнем ваше имя не значится. Генри Колберн тут же согласился отдать в переплет еще пятьсот экземпляров для второго выпуска. – Но учтите, – сказал он Чарлзу, – что это не второе издание, а то же самое. Просто с другим титульным листом оно будет считаться дополнительным выпуском. Усмехнувшись про себя, Чарлз подумал: "Великолепно! В этом году у меня будет пополнение и от Эммы, и от Кол-берна". Новый титульный лист имел следующее заглавие: "Дневник изысканий по геологии и естественной истории различных стран, посещенных кораблем флота ее величества "Биглем" под командованием капитана Фицроя в 1832 – 1836 годах, составленный Чарлзом Дарвином, эскв.. магистр.. член. Корол. общ.. секретарем Геологического общества". Чарлз тотчас заказал тридцать экземпляров на свой адрес, как только они будут готовы. Наконец-то его работа должна была принести ему хоть какой-то гонорар. Ведь за одиннадцать уже опубликованных к тому времени выпусков "Зоологических результатов путешествия на "Бигле", хотя на редактуру и подборку иллюстраций к ним он затратил массу времени, ему не причитается ничего. В январе должен был появиться первый выпуск серии Дженинса, посвященный рыбам. Чарлз изо всех сил старался экономно расходовать тысячефунтовую правительственную субсидию, но изготовление карт и иллюстраций обходилось баснословно дорого. За чаем у Лайелей, сидя перед камином, он спросил: – Если к тому времени, когда выйдет вся "Зоология", у меня в кармане останется несколько фунтов стерлингов, то как вы считаете: могу ли я использовать их примерно для десяти карт и гравюр на дереве для своей книги о кораллах? – Почему бы и нет? – отвечал Лайель. – Министерство финансов, а уж лондонские научные круги и подавно согласны с тем, что работа была проделана блестяще. – Я, конечно, испрошу на это разрешение. Честно говоря, мне не слишком хотелось бы тратить свои собственные средства, учитывая, что книгу наверняка… не прочтет ни одно живое существо, несмотря на то что геология все больше входит в моду. – Ничего, мой юный друг, мы раздуем пламя. Вдвоем мы попытаемся убедить мир в том, что все мы живем на скользкой поверхности грязевого шара. Шли дни. К концу ноября Чарлз и Эмма переоборудовали маленькую спальню в передней части дома, предназначавшуюся ими для ожидавшегося ребенка. Маргарет, их старая прислуга, попросила расчет, боясь, что ей не справиться с новыми обязанностями. Мэри Лайель рекомендовала им Бесси, высокую тонкую девушку с плоской грудью и неровными зубами. Она была не слишком опрятно одета, но Эмме пришлась по душе ее откровенность и то, что она явно искала постоянное место. Вскоре к ним приехали Джозайя Веджвуд и Элизабет, чтобы быть рядом с Эммой до самых родов. Даже Эразм и тот не переставал поражаться своему волнению в предвкушении момента, когда станет дядей. – Мне как-то не приходило в голову, что на свет может появиться еще один Дарвин… я хочу сказать, если это будет мальчик, – говорил он. – На скачках в "Аскоте" ["Аскот" – ипподром, где ежегодно проводятся четырехдневные скачки, обычно собирающие весь цвет английской аристократии, – Прим. пер.] это только первый заезд! – выпалила в ответ Эмма, подавляя смущенный смешок. Акушерку им рекомендовал доктор Холланд. Ребенок родился через два дня после рождественского вечера. Хотя Эмма сильно страдала от боли, роды прошли без осложнений. Когда Чарлз влажной салфеткой отер со лба жены капли пота, она прошептала: – Это самый тяжелый труд, каким мне приходилось заниматься. Чарлз улыбнулся: – Мне нравится твое настроение. Два списка имен были составлены ими заранее. Наиболее подходящим оказалось Уильям Эразм Дарвин. – Счастливая примета! – воскликнул Чарлз. – Уильям Эразм родился двадцать седьмого декабря, в восьмую годовщину моего отплытия из Плимута. А все, что происходит со мной с того дня, приносит счастье. Эмма взглянула на первенца, лежавшего в своей аккуратно пригнанной деревянной кроватке с заводной пружиной, рассчитанной на то, чтобы баюкать малыша сорок три минуты (это был подарок отца). – Мне нравятся у него темно-голубые глаза. А в остальном он такой жалкий, бедняжка. – Ничего, – сострил Эразм, – с возрастом изменится к лучшему. Эммины отец и сестра задержались еще на несколько дней: им было так хорошо с ней и малышом, что они с трудом смогли заставить себя их покинуть. Хотя в соответствии с правилами англиканской церкви Уильяма Эразма и крестили, крестного отца и матери у него не было, так как ни Веджвуды, ни Дарвины не признавали обряда крещения. Большую часть января Эмма оставалась в постели. Она нашла замечательную кормилицу и к тому же договорилась, чтобы на дом приносили ослиное молоко. – Папа и Элизабет уехали слишком рано, – воскликнула она, – и не смогли увидеть, как внешность Уильяма начала меняться к лучшему! Сейчас он прямо красавец. Посмотри, какой у него чудесный маленький ротик. Про нос я бы, правда, этого не сказала, но для ребенка сойдет. Чарлз ухмыльнулся: – Что поделаешь, у всех Дарвинов носы чересчур длинные. Материнство придало новую прелесть и теплоту карим глазам Эммы. Довольно скоро она уже чувствовала себя настолько хорошо, что взяла с собой Фэнни Веджвуд с тремя детьми посмотреть иллюминацию по случаю предстоящей через неделю свадьбы королевы Виктории с ее кузеном, принцем Альбертом из династии Саксен-Кобург-Гота. – Неужели ты не хочешь пойти с нами, Чарлз? – Нет, спасибо. Я уже был в свое время на иллюминации по случаю коронации Вильгельма IV. А тот, кто видел хоть одну иллюминацию… С рождением первенца Чарлз начал вести тщательные наблюдения и записывать малейшие эмоциональные проявления у младенца: когда и отчего он плачет, как долго продолжается плач; когда в его глазах появляется выражение возбуждения или восторга; как реагирует малыш, когда его кормят, играют с ним или когда родители берут на руки, чтобы приласкать. Он никогда не встречал и не читал описания эмоций у детей с первого дня их появления на свет и решил, что этим стоит заняться. Если не считать аннотаций на чужие труды, направляемые в Геологическое общество для публикации в "Вестнике", сам он не писал ни строчки. Совершенно непонятно, по какой причине он утратил всякий интерес к своей книге о кораллах. – Бывает со всеми, – успокоил его Лайель. – Дайте ей отлежаться с годик. Единственно, когда он мог теперь сосредоточиться, были часы, проводимые им на диване с книгой в руках. Круг его чтения включал "Элементы психологии" Иоганнеса Мюллера и "Чартизм" Карлейля, которым зачитывались в Англии все. Эмму книга явно вывела из терпения. – В ней много страсти и добрых чувств, но полнее отсутствие логики. Секретарская работа в Геологическом обществе была для Чарлза настоящим утешением: по существу она – это единственное дело, которое ему удавалось доводить до конца (возможно потому, что чтение и составление аннотаций чужих научных статей не требовали от него затрат творческой энергии). Он также участвовал в выпуске еще трех частей зоологической серии – двух, написанных Дже-нинсом, о рыбах, и одной заключительной, Ричарда Оуэна, – об ископаемых млекопитающих. Колберн распродал второй выпуск "Дневника" и отдал в переплет остававшиеся пятьсот экземпляров: на титульном листе третьего выпуска стояла новая дата – 1840 год. В самом конце марта Дарвин заставил себя снова взяться за книгу о кораллах. – Мне недостает лишь жизненной энергии, – пожаловался он Эмме. – А без нее – и почти всего самого главного, что поможет нам жить. – Почему бы нам не поехать отдохнуть на все лето в Мэр-Холл или Маунт? – предложила она. – Это было бы неплохо. Вообще-то моя несбыточная мечта – жить где-нибудь около станции в Суррее милях в двадцати от города. А в Мэр, я думаю, отправимся в начале июня. – Превосходно. В это время в Лондон как раз собирается приехать на месяц моя тетка Джесси Сисмонди с мужем. Я жила у них в Швейцарии. Они могли бы остановиться у нас в доме, пока мы будем в отъезде. Уверена, что здесь им понравится. …Мать и отец Эммы сразу же приободрились. Час, проводимый ею за стареньким роялем, на котором ее учили музыке, был для стариков настоящим блаженством, таким же, как присутствие внука. Чарлз с наслаждением рылся в веджвудовской библиотеке, где хранились книги по естественной истории не только самого Джозайи, но и богатейшая коллекция его отца, автора четырехтомного сочинения об ископаемых. Дарвин читал с жадностью, особенно когда встречал то, что имело отношение к теории видов. Перевод "Естественной истории" Бюффона служил ему в качестве справочного издания, когда он буквально проглотил восемь книг путешествий с описанием стран, совершенно отличных одна от другой: Сибири и Леванта, Бенгалии и Северной Америки. Он также прочитал "Орнитологический словарь" Монтеня, две книги о розах, одну о торфе и работу Джонса о плодоносящих формах. И хотя он не сделал ни единой записи, его мозг неудержимо генерировал неизбежные выводы. Бродил ли он вокруг "рыбьего хвоста" или скакал по лесам на лошади, он оставался во власти своих мыслей, уточняя и оттачивая их: "Сколь волнующе видеть в ныне живущих животных либо прямых потомков тех, которые покоятся под тысячефутовой толщей породы, либо сонаследников какого-либо и еще более древних предков…" "Унизительно полагать, что создатель бесчисленных мировых систем должен был также создавать и каждую из мириад ползающих тварей и скользких червей, которые каждый день кишмя кишат и на земле и в воде одного лишь нашего мира. Мы уже не поражаемся" что, выходит, надо было специально создавать и целую группу животных, откладывающих свои яйца во внутренности и плоть других животных…" "Через смерть, голод, разорение и скрытую войну в природе нам дано уяснить, что наивысшее благо – создание более высокоорганизованных животных…" "Как проста и величественна жизнь с ее способностью роста, ассимиляции и воспроизведения, принимая во внимание, что первоначально ее вдохнули в материю в виде всего одной или нескольких форм; и пока наша планета, в соответствии с незыблемыми законами, продолжала свое вращение, а земля и вода, подчиняясь циклу перемен, продолжали меняться местами, эти столь простые по своему происхождению формы смогли развиться в бесконечно разнообразные, красивейшие и чудеснейшие за счет постепенного отбора мельчайших изменений…" Взглянуть на нового Дарвина в Мэр приехали в своем семейном экипаже отец и две сестры Чарлза. Сюзан и Кэтти так и прыгали от радости, между тем как доктор Дарвин, казалось, взирал на малыша с благоговейным трепетом. – В чем дело, отец? Ты так серьезен, – осведомился Чарлз. – До меня только что дошло. У твоей сестры Марианны пятеро детей, но все они Паркеры. А это мой первый внук, который носит нашу фамилию. Наверное, со стороны это выглядит по-азиатски, но всю жизнь я трудился не покладая рук, чтобы оставить после себя доброе имя, надеясь его увековечить. Спасибо, Чарлз. – Это заслуга Эммы. Они обещали захватить Уильяма в Маунт на пару недель, чтобы он имел возможность познакомиться с домом, где вырос его отец. – Ты же всегда обожал наш дом, правда, Чарли? – спросила Сюзан. – Да, я был там счастлив, кроме того времени, когда ходил в эту проклятую школу у нас в Шрусбери. – Что ты говоришь! Доктор Батлер всем хвастает, что ты был его самым способным учеником. – "Газ"! – воскликнул Чарлз, расхохотавшись при этом воспоминании. От Эмминой тетушки Джесси и Жана Сисмонди, известного швейцарского историка, пришло письмо. "Жизнь под вашей крышей, милая Эмма, – говорилось в нем, – приносит одну только радость: здесь буквально все нам по душе; хотим отметить, что ваш Парсло – самый любезный, исполнительный, деятельный и услужливый из всех слуг, какие когда-либо жили на свете. Надеюсь, вы никогда с ним не расстанетесь. Я только что обнаружила, что Сисмонди буквально впал в состояние экстаза, читая "Дневник" твоего мужа. По его словам, это самая увлекательная книга, которая ему попадалась, и он читает ее с величайшим интересом, несмотря на то что ничего не смыслит в вопросах естественной истории". В середине июля Чарлз вместе с Эммой, Уильямом и Бесси выехал в Шрусбери по знакомой дороге. В честь их приезда весь Маунт благоухал цветами. Доктор Дарвин больше не совершал до завтрака своего ежеутреннего моциона по "докторской тропе" и отказался от неторопливых прогулок по улицам славного города Шрусбери. – Теперь я по часу гуляю в саду после полудня, – сообщил он Чарлзу. Похоже, что после семидесяти четырех лет жизни мои ноги начали чувствовать мой вес – как-никак двадцать четыре стоуна [В Англии единицей измерения веса в то время быя стоун (камень;, равнявшийся 6,35 килограмма. Вес Дарвина-старшего составлял, таким образом, 152 килограмма. – Прим. пер]. Но мы вроде бы собирались обсуждать не мое, а твое здоровье. Может быть, твои силы подрывает рвота? Эмма заверила меня, что у Bat-отличный повар. Так что дело тут не в том, что ты ешь на завтрак или на обед, – А в чем же? – Это-то ты и должен мне рассказать. Может, что-нибудь омрачает твою жизнь? Иногда рвоту у моих пациентов вызывали тяжелые испытания, крушение надежд или неудовлетворенность работой. – Ничего из этого ко мне не относится. – Тогда надо искать другую причину. Я постараюсь составить для тебя рецепт самого лучшего успокоительного средства. В начале августа Эмма объявила, что снова беременна. – Правда, чудесно, что Уильяму скоро будет с кем-играть? Чарлз обнял ее. – Теперь, когда в тебе зародилась новая жизнь, я могу надеяться на новую жизнь и для себя. В октябре его вывел из состояния апатии номер газеты "Скотсмен" со статьей, посвященной Глен-Рою, – "Открытие прежде существовавших в Шотландии глетчеров, в особенности в Северном нагорье". Ее автор, Луи Агассис, профессор естественной истории из Швейцарии, был известен Чарлзу своими публиковавшимися с 1833 года монографиями о сотнях обнаруженных им ископаемых рыб. Чарлза встревожило, что на сей раз Луи Агассис заявлял об имеющихся у него доказательствах, опровергавших точку зрения Дарвина на природу так называемых "дорог" и "террас" Глен-Роя. В то время как Дарвин полагал, что это бывшая береговая часть моря, Агассис считал их долинами, которые когда-то заполняли озера ледникового происхождения. До тех пор ни Дарвин, ни Лайель не встречались с научными утверждениями о геологическом влиянии движущихся глетчеров. "Если Агассис прав, то моя работа по Глен-Рою абсолютно ошибочна. Это было бы ужасно! Под сомнение попали бы моя компетентность и научная ценность любых других моих работ. Агассис не может быть прав! Я должен выступить с контраргументами…" Чарлз решил, что настало время возвращаться в Лондон. Доктор Дарвин превратил комнату рядом с главной спальней в свой кабинет. Когда сын поднялся к нему по широкой лестнице, то застал его сидящим за столом. – Средство готово. Тут для тебя целый пакет. Принимай каждый день. – Что это за волшебное снадобье, отец? – Большинство ингредиентов тебе знакомы: бикарбонат калия от твоей кислотности, сандаловое дерево и корица, чтобы это варево можно было проглотить… Чарлз и Эмма были счастливы вновь очутиться в своем собственном доме, хотя это и была всего-навсего пятиэтажная коробка, с обеих сторон зажатая другими такими же пятиэтажными коробками. Внутри все сверкало безукоризненной чистотой, на плите стояли их самые любимые блюда. Чарлз не переставал с жадностью читать все, так или иначе относящееся к происхождению видов, хотя в его списке были и книги по философии, политической экономии, истории и христианству. Вслух вместе с Эммой они читали художественную литературу: стихи Грея, "Сон в летнюю ночь" Шекспира, "Векфильдского священника" Голдсмита, "Божественную комедию" Данте, "Путешествие Гулливера" Свифта. Все это время Чарлз порывался начать новую, пятую по счету, записную книжку. В голове его роилось множество мыслей, так и просившихся на бумагу. Требовалась вся его решимость, мучительная и для души, и для тела, чтобы заставить себя не заниматься делом, ставшим самым любимым, делом, которое он был в этом уверен – могло бы явиться важнейшим вкладом в науку. По реакции на свою относительно малозначимую геологическую "ересь" он не мог не видеть, что в данном случае рискует потерять не только все растущее признание и положение, завоеванное им в ученом мире, но и столь дорогую для него дружбу Генсло и Адама Седжвика и, очевидно, дружеское расположение членов Геологического и Королевского обществ! Он знал, что просто не сможет не опубликовать своего труда… в один прекрасный день. И тогда на его голову неминуемо обрушится англиканская церковь, правительство, университеты. Пока что Чарлз вполне удовлетворен тремя своими небольшими работами, одну из которых позже можно будет использовать в книге по геологии Южной Америки; в другой речь шла о переносе каменных обломков ледником, что проливало свет на происхождение гигантских "эрратических валунов", долгое время смущавших геологов тем, что они обнаруживались вроде бы совсем не в положенных им местах. Много времени отдавал он и деятельности в Геологическом обществе, наверстывая месяцы, проведенные в деревне: сокращал статьи, ждавшие своей публикации в "Вестнике", отвечал на груду скопившихся писем. Все должно было быть в идеальном порядке, так как 19 февраля 1841 года исполнялось ровно три года его секретарства и он собирался объявить об уходе со своего поста на ежегодном собрании членов Общества. Чарлза сильно задело то, что его добрый друг Лайель в ноябре и декабре 1840 года выступил с докладом и решительно поддержал теорию Луи Агассиса о глетчерах и их роли в геологическом строении Шотландии. На теорию глетчеров Агассиса ополчился Адам Седжвик. Сам Дарвин не брал слова, а только слушал продолжавшиеся почти до полуночи дебаты, которые наверняка вылились бы в язвительную перебранку, происходи они на заседании Зоологического общества. В воскресенье Эмма обратилась к Чарлзу с предложением: – Мэри Лайель все время зовет нас на чай. Мне кажется, что нам не мешало бы хоть изредка бывать на людях. Он и Лайель принялись горячо обсуждать Луи Агассиса и его глетчеры. – После того как Агассис и Уильям Бакленд завершили свою поездку по Глен-Рою и Северному нагорью, – заявил Лайель, – Бакленд заехал к нам в Киннорди. Он продемонстрировал мне красивейшие скопления породы, земляные и каменные завалы, образованные глетчером (и находящиеся в двух милях от дома моего отца!). Я принял их теорию. Она помогает разрешить множество трудностей, которые не давали мне покоя всю мою жизнь. – Что-то слишком уж быстро вы обратились в новую веру, вам не кажется? – тихо спросил Чарлз. Лайель, согнувшись, положил голову на сиденье своего любимого стула, потом распрямился: лицо его покраснело, в глазах горел ехидный огонек. – Да, точно так же, как и в случае с вашей революционной теорией коралловых рифов, которая доказала, что я неправ! – А теперь вы убеждены, что в отношении Глен-Роя неправ я? – Вот именно. – И хотите, чтобы я признал свою ошибку? – Рано или поздно вам придется это сделать. И чем скорее, тем лучше. Позвольте дать вам почитать "Наброски о ледниках" Агассиса, они только что появились. Лайель взял руки Чарлза в свои. – В искусстве и литературе совсем не обязательно признавать свои ошибки, – произнес он отеческим тоном. – Йо в науке это необходимо. Наш друг Роберт Броун поэтому до сих пор отказывается печататься на английском. Но наука не может развиваться в таких условиях. Мы обязаны иметь смелость вести исследования, на их результатах строить теории и при этом сами учиться. Но, я вижу, Мэри подает нам знак идти к столу. Она приготовила для вас холодное мясо, как вы любите, и печенье с тмином. Чарлз смущенно улыбнулся, направляясь вместе с Лай-елем в столовую: – Ну уж тут-то ошибки не будет, учитывая, что к чаю подадут еще сандвичи с помидором, салатом и огурцом и ячменные лепешки с клубничным вареньем! К началу 1841 года он стал приводить в порядок свои заметки и наблюдения об изменчивости видов. "Мне не уйти от этой темы", – убеждал он самого себя. Чарлз решил снова завести анатомическую лабораторию. Возможно, лучше всего для этой цели подойдет мансарда под самой крышей: она никому не нужна и ее можно будет держать запертой. Своему кузену Фоксу, в течение нескольких лет имевшему свой приход в Деламир-форест (то самое сочетание священнослужителя и натуралиста, к чему стремился сначала и сам Дарвин), Чарлз писал: "Я продолжаю собирать всевозможные факты для "Разновидностей и видов" (так будет называться моя будущая работа) и с благодарностью принимаю даже самые незначительные сведения, связанные с данной проблемой. Описание потомства, полученного при скрещивании любых домашних птиц и животных (собак, кошек), крайне ценно". Второго ребенка, девочку, Эмма родила 2 августа. Они нарекли ее Анной, но вскоре за ней утвердилось более привычное в доме имя Энни. С самого начала она была всеобщим баловнем. Чарлзу Эмма призналась: – Перед родами я уделяла Додди так мало внимания, что просто перестала для него существовать. Иногда это меня даже повергало в уныние. – Ничего, вместо тебя его балую я. Они редко не соглашались друг с другом и еще реже спорили. Единственным объектом их разногласий была экономка Бесси, теперь превратившаяся в няньку. Дарвин жаловался: – Она не носит чепца. Так не положено. – Но она их ненавидит. Пусть делает, как ей нравится. Я не хочу, чтобы нянчить детей было ей в тягость. – Но речь идет о более важных вещах. Посмотри на нее: она вечно ходит грязная. Я имею в виду ее платье. Разве ты не можешь уговорить ее почаще стирать свои вещи? – Но она и так это делает. Просто они у нее быстро пачкаются. "Маленькая мисс Неряха" из Лондона, вот кто она такая. Выпуски "Зоологии" между тем по-прежнему хорошо принимались читателями. В марте появился последний выпуск серии "Птицы", а в апреле третий из серии "Рыбы". Оба вышли отдельными книгами в твердой обложке серовато-зеленого цвета. На счету у Чарлза, таким образом, оказалось теперь еще три тома, где он выступал в качестве редактора и составителя: "Птицы" Джона Гулда, "Ископаемые млекопитающие" Ричарда Оуэна и "Млекопитающие" Джорджа Уотерхауса. Оставалось выпустить совсем немного – в серии "Рыбы", и тогда все пять томов "Зоологических результатов путешествия на "Бигле" будут завершены. У него сохранилось еще немного неизрасходованных денег для иллюстрирования своих собственных книг, которые он замыслил. Май был для Дарвинов хорошим месяцем. Чарлз выступил в Геологическом обществе с докладом "Об эрратических валунах и неслоистых отложениях" и удостоился всяческих похвал. Эмма вновь стала играть на рояле по часу в день, так что в доме опять звучала музыка; основное время, впрочем, она посвящала сыну, стремясь вернуть его любовь и доверие к ней. Дарвин продолжал трудиться над своими небольшими статьями, вести скрупулезные записи домашних расходов и развлекать себя тем, что давал оценку каждой из прочитанных книг, которых, как и у всякого заядлого читателя, перебывало в его руках великое множество ("Путешествия" Питера Талласа – отвратительно; "Изучение природы света" Абрахама Такера – невыносимо многословно…). Вордсворт все еще доставлял ему неизменное удовольствие. Но с наибольшей охотой он читал все, что имело отношение к его работе: исследования о северных оленях, ядовитых насекомых, шелкопряде, лиственных деревьях, экономии природных ресурсов, шведской сосне,перуанских овцах. Полученное Чарлзом Лайелем приглашение прочесть курс лекций в Лоуэлловском институте в Бостоне привело его и Мэри в восторг. Супруги давно мечтали о путешествии по Северной Америке: обещанный гонорар позволял им теперь осуществить задуманное. – Прежде всего я намерен изучить Великие озера, Ниагарский водопад. У меня есть кое-какие радикальные теории относительно их геологического происхождения. – Что касается радикальных теорий, то они есть у вас в отношении множества вещей, – заметил Дарвин. – Это-то и делает вас большим человеком. Эмма удостоверилась, что, хотя Мэри иногда и сидит со скучающим лицом, стоит ее мужу завести разговор о любимом предмете, она проявляет себя весьма сведущей в геологии. – Геологические путешествия приносят мне только радость, – заявила она Эмме. – Чарлз вслух излагает свои мысли, а я заношу их в записную книжку, по которой он может вести дальше свою работу. Вот когда мы оба по-настоящему нужны друг другу, А в Лондоне все тонет в суете. Когда в 1841 году директором Королевского ботанического сада в Кью назначили сэра Уильяма Гукера, переехавшего туда поздней весной из Глазго, Чарлз выбрался к нему с Эммой и двумя детьми. До этого знакомство сэра Уильяма с Дарвином ограничивалось лишь беглой встречей на заседании Британской ассоциации, но он знал, сколь высоко ценит "Дневник" его сын Джозеф, взявший книгу с собой на "Эребус", где она была его неразлучным спутником. Уильяму Гукеру исполнилось пятьдесят шесть, но жизненная сила била в нем через край, да и выглядел он значительно моложе своих лет: на энергичном лице выделялись огромные карие глаза. Он продемонстрировал семье Дарвина все пятнадцать акров своих владений, куда почти не допускалась обычная публика и где даже сейчас была выставлена основательная охрана. – Это первое, с чем я намерен покончить, – поделился с ними новый директор. – Как только мне удастся снести эти кирпичные заборы, каждый сможет являться сюда в любое время. Уверен, что никакого урона саду это не нанесет. К тому же я собираюсь еще приобрести землю по соседству и разбить там настоящий парк – с аллеями, фонтанами, клумбами. – А что вы сделаете со всеми этими стеклянными тумбами? – спросил Чарлз, глядя на теплицы, может быть и полезные для хозяйства, но неуклюжие. – Их мы перестроим, расширим, поставим современную систему отопления, проведем трубы с горячей водой для кактусовой оранжереи и еще для орхидей и папоротников – словом, для всех тропических растений. Потом мы соединим все оранжереи между собой, создадим пруды с водяными лилиями, зеленые лужайки. Полагаю, что, вернувшись из плавания, Джозеф привезет нам великолепную коллекцию. – Передайте ему от меня привет. Я с нетерпением жду его возвращения. – Я тоже, – заметил сэр Уильям, мечтательно добавив: – Надеюсь, он станет помощником директора. Здесь ему было бы лучше всего работать и жить. В Мэр Дарвины вернулись в конце мая. Как и всегда, их приняли с распростертыми объятиями. В Энни влюбились все поголовно. Элизабет щебетала: – Каждую весну или лето у вас новый младенец. Весьма разумно с вашей стороны. И мы ждем этого. Эмма взяла сестру под руку и улыбнулась: – Думаю, что ты, дорогая, не обманешься в своих ожиданиях. – Я вижу, что ты ничего не слышала про Шарлотту. Она беременна. После десяти лет замужества! Разве это не чудо? Ее муж, мистер Лэнгтон, уходит со своей пасторской должности в Онибери, и они переезжают на жительство к нам. Здесь она будет помогать мне ухаживать за матерью и отцом. Эмма с нежностью поцеловала сестру. – О, Элизабет, если бы ты знала, какой предательницей я себя чувствовала, живя преспокойно в Лондоне, пока ты оставалась тут одна и ухаживала за мама и папа. – Каждому свое, Эмма. Я счастлива, делая ту работу, которую определил мне господь. И я счастлива, что тебе выпало заботиться о дорогом Чарлзе и производить на свет наследников рода Веджвудов и Дарвинов. К концу июня, хотя свежий воздух здешних мест явно шел ему на пользу, Чарлз пожаловался Эмме: – Иногда часа в четыре пополудни меня начинает познабливать. За неделю до этого они экипажем отправили Уильяма в Шрусбери в сопровождении Бесси. – Почему бы тебе не привезти Уильяма обратно, а заодно не поговорить с отцом? Он ведь помог тебе в прошлом году. Доктор Дарвин, по обыкновению, не был расположен обсуждать с сыном состояние своего здоровья. – Я в полном порядке. Искра жизни пребудет во мне еще немало лет. Однако он озабоченно выслушал описание последних приступов озноба у Чарлза. – Видишь ли, с годами ты едва ли можешь рассчитывать, что станешь здоровее! Я недоучел степень твоей усталости в столь длительном плавании. За это время ты израсходовал пятнадцатилетний, а может быть, даже двадцатилетний запас энергии. И столько же лет, вероятно, потребуется тебе для его восстановления. Чарлз пал духом. Выходит, отец считает его инвалидом… – Отец, – голос его был напряжен, – мне горько и больно примириться с выводом, что "в гонке побеждает сильный" и что мне, похоже, придется довольствоваться тем, чтобы восхищаться результатами, которые покажут в науке другие. Как я мечтаю жить на свежем воздухе, не ведая ни грязи, ни шума, ни юдоли "Большого зоба", как назвал Лондон Уильям Коббет в своих "Сельских странствиях". В свое время ты предлагал купить нам дом в деревне в качестве свадебного подарка, Ты не передумал? – Разумеется, нет. – Тогда я начну подыскивать что-нибудь подходящее в Суррее и Кенте. ( – По-моему, вам стоило бы сперва лет пять-шесть снимать дом, прежде чем окончательно решить, подходит для вас выбранное место или нет. – Шесть лет! Это слишком долго, отец. Нам бы хотелось купить побыстрее, но, конечно, не первый попавшийся. После обеда они собрались в оранжерее, где было прохладнее. Несмотря на веселое щебетание Кэтти, атмосфера была напряженной. Сюзан сидела в угрюмом молчании, Дождавшись ухода Бесси, сообщившей, что Вилли уснул, доктор Дарвин начал: – Безобразие! Она не носит чепца. И кроме того, у нее вид грязнули. – Она похожа на служанку в лавке у бакалейщика! – взорвалась Сюзан. – Учти, что мужчины начнут к ней приставать, как только увидят, что она одевается не так, как другие служанки, – прибавил отец в крайнем раздражении. Чарлз не собирался предавать Эмму. – Когда мы вернемся к себе в Лондон, то наведем порядок в ее туалетах. – И потом она каждое утро дает Додди полчашки сметаны, – пожаловалась Сюзан. – Это одна из самых вредных для него вещей, – заметил доктор Дарвин. Уже сейчас он производит впечатление болезненного ребенка. – Болезненного! – воскликнул Чарлз. – Мы никогда так не считали. Сюзан оставалась неумолимой. – Вчера вечером я зашла к ребенку в спальню и обнаружила, что на ночь у его постели не поставили воду. Право же, Чарлз, Бесси, как и любую другую экономку или няньку, следовало бы научить обращаться с ребенком. – Мы так и сделаем, – только и мог пробормотать в ответ Чарлз. На следующее утро над Маунтом ярко светило солнце. После завтрака вся семья отправилась на прогулку в сад, где уже по-летнему благоухали цветы, и каждый по очереди учил маленького Додди, как называется тот или иной из них. Кэтти отвела брата в сторонку. – Все это буря в стакане воды, Чарли. Жаль, что мне не удалось тебя предупредить. Подумаешь, ему дают полчашки сметаны! Я совсем не уверена, что Додди это повредит. А если ночью ребенку захочется пить, он может позвать няню – ведь дверь всегда открыта. Вероятно чувствуя неловкость из-за того, что он обрушился на сына, доктор Дарвин попытался загладить свою вину. – Знаешь, Чарлз, ты прав. Шесть лет – это действительно чересчур долгий срок, чтобы решить, подходит вам место или нет. Так что сразу же дайте мне знать, как только вам с Эммой удастся найти что-нибудь стоящее. Деньги я уже отложил. Чарлз осторожно обнял отца за плечи – по-прежнему широкие, но уже сутулые. В Лондоне его ждало послание, полученное им, так сказать, через третьи руки: идея, по всей вероятности, принадлежала Джону Генсло, разработал ее Адам Седжвик, а передал Чарлзу Лайель. О чем же шла речь? О том, что пора приступать к переговорам о постоянной работе в колледже Христа. Впрочем, быть может, он желает подождать, пока не закончит своей геологической трилогии? Как бы там ни было, дольше откладывать визит в Кембридж для возобновления дружеских связей и прояснения своих планов нельзя. Некоторые из сотрудников колледжа начали недоумевать, отчего это Чарлз Дарвин не показывался в своей альма-матер с зимы 1837 года. А ведь с тех пор прошло уже пять лет. И это притом, что от Лондона до Кембриджа всего несколько часов езды комфортабельным дилижансом. Ему сообщили о том, что и преподаватели, и дирекция колледжа гордятся его "Дневником" и многочисленными статьями. Они с уважением отзывались о "Зоологии", вышедшей под его редакцией. Им льстило и то, что Чарлз избран секретарем Геологического общества и членом Королевского, что было честью даже для профессоров Кембриджского университета. Вне всякого сомнения, все в колледже – от президента до преподавателей – считали его членом своей семьи. Столь же несомненно было и то, что, как полагали Генсло и Седжвик, в свое время Дарвину предстоит войти в число постоянных сотрудников колледжа. Вместе с Эммой он уже обсуждал эту перспективу, хотя и не слишком серьезно. Сейчас настал такой момент, когда руководство колледжа хотело бы получить от него окончательный ответ. "Конечно, я мог бы с легкостью поехать в Кембридж. Но хочу ли я провести свою жизнь в стенах университета – вот вопрос. – Сгорбившись на стуле, он рассеянно провел рукой по широкому лбу и начавшим темнеть волосам. – Кембридж – прелестный средневековый городок. Там великолепнейшая архитектура, широкие газоны, сады со множеством цветов, плоскодонки, на которых можно плавать с шестами по реке Кем вдоль лужаек и парков, прославленная Королевская капелла с ее воскресным хором. Правда, жалованье всего сто, а со временем, возможно, двести фунтов в год, но, раз у нас есть кое-какие личные средства, мне не придется, как бедняге Генсло, тратить свое время на репетиторство. Я буду иметь возможность общаться со своими коллегами сколько душе угодно. Что касается занятий со студентами, как и административных забот, то это не будет для меня слишком обременительно; словом, большую часть времени я смогу уделять своей собственной работе. Это также совпадало бы и с желанием самого колледжа". Поскольку его характеру чужды были задиристость, воинственность, эгоистичность, хвастовство или пренебрежение к делам других и его, скорее, отличали отзывчивость и теплота, врагов в колледже Христа он вроде бы не нажил. Как студента его там любили, хотя и не ожидали от него успехов в науке. Но сейчас все переменилось. В конце концов удача и упорство могли бы сделать из него настоящего ученого. Для Эммы с ее общительностью, он знал это, кембриджская община давала чудесную возможность продолжить веджвудовскую традицию благотворительности и гостеприимства. – Со временем ты станешь дамой-патронессой кембриджского общества. Глядя на жену в упор, он продолжил: – У маленькой "мисс Неряхи" есть для этого и соответствующий опыт, и соответствующие склонности, учитывая ее способность быть счастливой самой и делать счастливыми других. Эмма смотрела на него широко открытыми глазами, не зная, куда он клонит. – Однако я убежден: как ни привлекательна, как ни содержательна была бы тамошняя жизнь, она попросту не для меня. Я нуждаюсь в покое и уединении, то есть в полной изоляции в сельской глуши, где общественная жизнь присутствует ровно настолько, чтобы мы не чувствовали себя совсем уж отрезанными от мира. У меня есть для этого основания, о которых я хочу тебе сказать. Видишь ли, мне предстоит писать книги, доказывать теории и заниматься их распространением. А все это исключает присутствие в колледже, университетские дела, общественные обязанности. Теперь Эмма в свою очередь в упор поглядела на мужа. – Я могу быть счастлива с тобой и в том и в другом месте, при одном образе жизни и при другом. Главное для меня – семья: мой муж, мои дети, наше благополучие. Я могу продолжать жить и в Лондоне, если тебе это надо, в Кембридже, если бы ты его предпочел, или в любой глуши, если так лучше для тебя и твоей работы. Я счастлива и останусь таковой, даже если бы тебе вздумалось переехать со всеми нами на Огненную Землю. – Нет, только не Тьерра-дель-Фуэго! – с жаром воскликнул Чарлз, тут же рассмеявшись. – Но уединение мне просто необходимо, чтобы быть в стороне от суеты, как необходимо иметь возможность работать без перерывов, с полной отдачей. А все эти званые обеды, официальные приемы, длинные бурные дебаты – они меня истощают. На следующий день я оказываюсь из-за них полностью выбитым из колеи. – Я это замечала, мой дорогой. – Я говорил с отцом о покупке дома в деревне. Мне так хочется жить в сельской местности и слышать только, как поют птицы и шелестит ветер в ветвях деревьев. Я до сих пор не могу объяснить приступов своего плохого самочувствия. Я не знаю, ни когда наступит следующий, ни сколько он будет длиться. Случись один из них со мною в колледже – я не смог бы тогда выполнять своих обязанностей, неловко бы себя чувствовал и терзался сознанием собственной вины. Если же я не связан с другими и отвечаю лишь за свою работу, то могу, когда буду плохо себя чувствовать, возиться с детьми, гулять в лесу, читать, слушать твою игру. И при этом никого не подводить. Ты согласна? – Да. Ты хочешь… свободы от конкретных обязанностей, чтобы выполнять то, что считаешь более важным. – Совершенно верно. Как бы я ни любил Джона Генсло за его способность учить своих студентов каждого по-своему – что касается меня, то я ему благодарен, – сам я на это не способен. Я хочу, чтобы не я учил других, а те мысли, которые содержатся в моих книгах. Книги должны стать моей опорой в жизни. Как ты думаешь, это не звучит чересчур самонадеянно? – Каждый из нас должен найти для себя наилучший путь, чтобы выполнить ту работу, которую определил нам господь. Мой отец стал "читающим" натуралистом, твой – "слушающим" доктором, тебе же выпало стать "пишущим" ученым. Ведь именно этого ты и хочешь? – Всей душой. Дарвин извлек давно заброшенную рукопись о коралловых рифах, перечитал написанное и нашел материал и выводы убедительными. "Тринадцать месяцев забвения! – подумал он. – Но не буду тратить эмоций на сожаления о былом. Постараюсь закончить книгу к концу года". В это утро он два часа без перерыва трудился над описанием вертикального роста рифов. В глазах его зажегся угасший было огонек. Когда Эмма высказалась на сей счет, Чарлз ответил: – Отец до смерти перепугал меня своими прогнозами относительно моего здоровья. Я должен доказать, что он неправ. И еще что я – не ипохондрик. – Да кто тебе это сказал? – Я сам. Эмма между тем добилась того, что Бесси стала носить чепец; она купила ей два новых платья и целую коробку белых фартуков, которые та научилась менять по нескольку раз в день, как только на очередном появлялось хоть малейшее пятнышко. Парсло, полная противоположность традиционному английскому дворецкому с его чопорной невозмутимостью, не думал скрывать своей радости, что наконец-то нашел себе место по душе. День-деньской он то подавал к столу, то сворачивал и разворачивал ковры, чтобы можно было натирать полы, чистил обувь, а с раннего утра мчался в ближайшую книжную лавку купить "Лондон кроникл" и "Тайме" – газеты, которые Чарлз имел обыкновение просматривать после завтрака. Сэлли со своей стороны старалась, и небезуспешно, готовить теперь по рецептам, которыми в Маунте снабдила ее Энни. После обеда Чарлз и Эмма нередко усаживали детей в коляску и везли в Риджентс-парк, где семья гуляла по тенистым аллеям. Отец учил Уильяма, полуторагодовалого карапуза, пускать кораблики вдоль извилистых берегов озера. Затем они пересекали длинный газон и шли в зоопарк, где наблюдали за тем, как брыкается носорог, носится рысцой слон, закручивая и раскручивая хобот и то и дело издавая трубные звуки при виде толпящихся зевак. Но больше всего очаровал Уильяма орангутанг, который, повалившись на землю, дрыгал лапами и вопил, как избалованный ребенок, когда служитель дразнил его яблоком. Но стоило обезьяне в конце концов заполучить плод, как она усаживалась и принималась за еду. По воскресеньям после церковной службы они отправлялись поездом в окрестности Лондона – Суррей или Кент, чтобы присмотреть себе дом, но ничего подходящего не встречалось. Дома были или слишком большие, или, наоборот, маленькие, то слишком дорогие, то слишком дешевые; иные с затейливыми украшениями, другие – в полном запустении, так как долго оставались без хозяев. Наконец они набрели на имение Весткрофт, состоявшее из усадьбы инескольких акров земли, всего в полутора с небольшим часах езды от Воксхоллского моста через Темзу и в шести милях от Виндзорского замка. Однако владелец запросил за свое имение, по крайней мере, на тысячу фунтов больше, чем считал возможным заплатить Чарлз. – Дом не стоит того, – сказал он Эмме на обратном пути. – И конечно, я не могу позволить отцу тратить на меня столько денег. В пятницу я возьму с собой оценщика. Оценщик нашел, что цена на имение завышена. Тогда Чарлз предложил более умеренную сумму. Владелец промолчал. Поиски продолжались всю осень. Иногда на станции они брали экипаж и осматривали по нескольку домов кряду. Безрезультатно. – И все-таки есть же где-то дом и немного земли, которые ждут меня, твердил Чарлз. – Ты становишься прямо каким-то фаталистом, – подшучивала над ним Эмма. К концу года произошло несколько событий. В третий раз забеременела Эмма. Исполнилось два года Вилли, и Эмма решила отметить день рождения вечеринкой. Сам Чарлз закончил свою книгу о кораллах и подготовил ее к изданию, снабдив шестью гравюрами на дереве и тремя складными картами, на которых атоллы были обозначены темно-синим, рифы – бледно-голубым и окаймляющие рифы – красным цветом. Прежде чем отослать книгу в издательство "Смит Элдер энд К0", Чарлз написал предисловие, пытаясь добиться предельной ясности: "Цель настоящего тома – описать, опираясь на мои собственные наблюдения и работы других исследователей, основные типы коралловых рифов, точнее говоря, тех, которые встречаются в открытом океане, и объяснить происхождение особенностей их форм. О самих полипах, которые возводят эти огромные сооружения, говорится лишь в связи с их расселением и условиями, благоприятствующими их бурному росту". Эмма попросила у мужа разрешения почитать рукопись. Обвив его шею руками, она проворковала: – А ты поэт, мой милый. Я поняла это, когда читала "Дневник", но опасалась за твои породы и кораллы. – Поэзия есть и в природе, дорогая. Тем временем подоспели гранки. Хотя изготовление цветных иллюстраций и рисунков для пятитомной зоологической серии в девятнадцати частях обошлось недешево, Чарлз сэкономил все же 130 – 140 фунтов стерлингов, которые лорды – представители казначейства разрешили ему истратить на карты и рисунки к томам своих геологических наблюдений в Южной Америке. Но иллюстрации к книге съели всю его экономию. – Правительственная субсидия, – пожаловался он Эмме, – улетучилась куда быстрее, чем я предполагал. – Как и любые деньги вообще, – отвечала она с иронической усмешкой. Когда дело дойдет до второго тома, посвященного вулканическим островам, то и Чарлзу, и его издателям придется вкладывать в иллюстрации собственные средства. Книги наверняка приобретут и британские библиотеки, и британские ученые, заверил его Яррел. – К несчастью, – в отчаянии воскликнул Чарлз, – их явно недостаточно! Так что тираж не разойдется. – Надо выпустить все три тома серии под одной обложкой, – дружески посоветовал Яррел. – Тогда все раскупят. – Да я вовсе не жалуюсь. Если бы я хотел разбогатеть, то мне следовало пойти по стопам деда и отца и стать врачом. С самого начала беременности Эмма чувствовала себя неважно. Все свое свободное время Чарлз проводил с нею, читая вслух популярные романтические новеллы, пересказывая ей ходившие по городу анекдоты. К обеду она неизменно считала нужным переодеваться. Часто вместе с ними за столом сидел и Уильям, отличавшийся поразительно хорошими манерами для своего двухлетнего возраста. Малышу никак не удавался звук "в". – Меня зовут Уилли Даруин… Уитри слезки у Додди… Открой дуерь… – Это все из-за лондонского воздуха, – заметил Чарлз. – Впрочем, чего доброго, я стану еще обвинять в конце света лондонскую копоть. По какой-то непонятной причине маленькая Энни перестала совсем тянуться к нему. Эмма принялась утешать его: – Это скоро пройдет. Вообще детство, как я поняла, состоит из бесконечной череды скоро проходящих настроений. Оставь ее в покое. Лучше научи Додди говорить не "Даруин", а "Дарвин". Свое время он также транжирил самым бесстыдным образом на то, чтобы помочь Эразму набрать голоса и пройти в члены "Атенеума". Для этого Чарлзу приходилось бывать на вечерних сборищах по понедельникам, когда в клубе собирались его члены, составлявшие большинство литературного и ученого мира Лондона. Эразм мог рассчитывать пройти по двум статьям: во-первых, он был хозяином литературного салона и, во-вторых, братом Дарвина. На голосование Чарлз отправился со смешанным чувством надежды и вполне обоснованной тревоги. Эмме он признался : – Только бы никто не стал спрашивать, что Эразм написал. Достаточно только одного голоса против, чтобы его провалить. А ведь для Эразма с этим так много связано. Неужели ему не дадут занять то место в столичном обществе, к которому он тянется всей душой? Домой Чарлз возвратился поздно, прихватив по пути брата. Оба смеялись и болтали без умолку, как два школяра. – Нет нужды спрашивать, как дела, – лаконично заключила Эмма. – Ответ – на ваших лицах. По счастливой случайности Дарвинам удалось заполучить превосходную няню, по имени Броуди, родом из Шотландии – с огненно-рыжими волосами, фарфорово-голу-быми глазами и мягкой улыбкой, разом преображавшей грубоватое, в глубоких оспинах, лицо. Как и Парсло, она была счастлива войти в новую семью. Твердая и ласковая одновременно, она сумела найти подход и к Уильяму, и к Энни: малыш начал выговаривать "в", а крошка теперь бежала к отцу со всех ног. После того как в доме появилось четверо слуг, Эмма сочла возможным попросить Чарлза отпустить ее съездить на недельку в Мэр. Ее сестра Шарлотта родила в ноябре, но до сих пор неважно себя чувствовала. В свой день рождения – ему исполнилось тридцать три года – по талому февральскому снегу Чарлз вышел на Грейт Мальборо-стрит и отправился на встречу с издателем "Дневника". Их беседа продолжалась целый час, но домой он возвратился ни с чем. В его письме Сюзан в Маунт сквозит явное разочарование: "К вопросу о деньгах. На днях я получил сполна всю прибыль, на какую можно рассчитывать от моего "Дневника": сюда входит и 21 фунт 10 шиллингов, которые мне пришлось уплатить мистеру Колберну за экземпляры, посланные мною различным лицам. Всего продано 1337 книжек. Выгодное дельце, не правда ли?" Неожиданным было для него появление посыльного, доставившего записку от Родерика Мурчисона, бывшего президента Геологического общества, дружившего с Адамом Седжвиком и Чарлзом Лайелем. Сейчас Мурчисон принимал у себя в гостях Александра фон Гумбольдта, выразившего желание повидать молодого Дарвина. Не откажет ли Чарлз в любезности, говорилось в записке, пожаловать к нему на завтрак на следующее утро? – Гумбольдт, бог моей юности, хочет со мной повидаться! – вскричал Чарлз. – Вот уж воистину гора идет к Магомету. Семидесятитрехлетний фон Гумбольдт излучал жизнерадостность и энергию, несмотря на то что недавно закончил публикацию тридцатитомного труда. Над огромным лбом спутанной копной лежали светлые волосы, голубовато-серые глаза смотрели зорко и, казалось, намеревались выведать у природы все ее тайны, а большой чувственный рот выдавал в нем эпикурейца, однако свою жизнь без остатка Гумбольдт стремился наилучшим образом использовать ради обожаемой им науки. Он носил элегантный, удлиненного фасона вельветовый пиджак с широкими лацканами, вокруг шеи был пышным узлом повязан белый галстук, заправленный в жилетку модного покроя. "Какой привлекательный человек!" – подумалось Чарлзу. Ученый долго тряс руку Дарвина, не переставая расточать комплименты его "Дневнику", зоологической серии и новой работе "Строение и распределение коралловых рифов", которую издатель прислал ему в гранках, рассчитывая на хвалебный отзыв. Особенно заинтересовали его растения, собранные Чарлзом на Галапагосах. – Но это я… должен был бы… Ведь для меня именно вы всегда были величайшим ученым, – лепетал Чарлз. – Я преклоняюсь перед вами… За столом Мурчисон предусмотрительно посадил Дарвина рядом с именитым гостем, чтобы они могли общаться. Однако Чарлзу больше не представилась возможность вставить в разговор хоть слово, так как Гумбольдт проговорил три часа без перерыва. Его монолог, впрочем, был весьма интересен: рассказы о бесконечных путешествиях, изложение новых теорий, описание собранных им коллекций, – при всем этом он умудрялся с аппетитом расправляться с многочисленными блюдами. Когда Чарлз собрался уходить, великий ученый снова принялся трясти его руку. – Счастлив был встретиться с вами, Дарвин, и кое-что узнать о вас. По пути домой Чарлз не переставал удивляться: – И как это ему удалось "кое-что" обо мне узнать? Он же ни разу не дал мне даже открыть рта. Неделя, проведенная в Мэре, явно пошла Эмме на пользу: она заметно посвежела, хотя и потеряла в весе. В начале мая она опять отправилась туда, взяв с собой обоих малышей и Броуди. Чарлз оставался в Лондоне, чтобы "заниматься делами, связанными с типографией". Чтобы ему не было одиноко, из Маунта приехала сестра Кэтти. В конце мая он отправился к Эмме в Мэр. – Прошу тебя, – в голосе жены звучала мольба, – уделяй папа побольше времени. Элизабет говорит, что за последние несколько месяцев видела его улыбающимся от силы дважды. Его тестю, которому исполнилось семьдесят три, уже не удавалось унять старческого дрожания рук; щеки его запали, в темных глазах застыли боль и ужас от сознания своей беспомощности. Чарлза он удостоил полуулыбкой, когда тот бережно обнял его за плечи. Тетушка Бесси, перенесшая удар, с трудом узнала Чарлза. Первые недели своего пребывания в Мэре Дарвин подолгу бродил по тропинкам в полях, размышляя над планом чернового наброска своей теории видов. Начать надо будет с главного: как произошли виды? Как изменялись? Почему они изменялись? Почему одни виды процветают, а другие гибнут? Есть ли законы, действию которых подвержено все, что живет и… умирает? Что это за законы? В Мэр-Холле он оставался месяц, а затем попросил у Эммы позволения отлучиться на две-три недели в Северный Уэльс, чтобы посетить некоторые из тех мест, куда за одиннадцать лет до этого ездил вместе с Адамом Седжвиком. Прочитав книгу Луи Агассиса, он захотел сам убедиться в том, какие следы оставили после себя ледники, которые, по мнению автора, некогда перекрывали все большие долины в горах. Прошло уже четыре года с тех пор, как он ездил в геологическую экспедицию в Глен-Рой. – Знаешь, сейчас мне впервые по-настоящему этого захотелось. По пути я заеду в Маунт, проведаю своих и возьму верховую лошадь. В Шрусбери его доставил в экипаже веджвудовский конюх. Дома все были в восторге от того, как он выглядит. Отец передал Чарлзу налоговые счета министерства финансов, поступившие на его имя из Лондона. Впервые после наполеоновских войн 1803 – 1815 годов в Англии ввели подоходный налог. Им облагались семь шиллингов из каждого фунта стерлингов. За минувший год, подсчитал Чарлз, его доход составил тысячу тридцать фунтов. Получается, что уплатить ему предстоит около тридцати фунтов. Хорошо бы налоговая ставка выше не поднималась: у них с Эммой столько расходов, особенно теперь, когда в семье дети. Через три дня он уже скакал по Северо-Уэльской дороге. Оставив лошадь в конюшне при гостинице, удобно расположенной у подножия, он совершил пешие восхождения на Капел Кьюриг, Каэрнаврон и Бангор, скитаясь целыми днями по горным долинам в поисках следов старых ледников. Ноги его не ведали усталости, дыхание было ровным. – Может, Агассис и прав относительно старых ледниковых следов. Но я все равно убежден, что в отношении Глен-Роя он ошибается. В течение десяти дней он придерживался в основном того же маршрута, которым прежде провел его Адам Седжвик. И даже старался останавливаться в тех же гостиницах, где они когда-то вместе ужинали и ночевали. Иногда он вспоминал хозяев, иногда они вспоминали его. Взбираясь на высоченную кровать в гостинице "Капел Кьюриг", он снова испытал прежнее чувство уже виденного, словно все это происходило с ним раньше. В Мэр Чарлз вернулся полный решимости начать писать о видах – их происхождении и законах развития, чтобы тем самым ответить на вопросы, которые он задавал самому себе на протяжении трех минувших лет. Заняв одну из пустовавших спален, он поставил там стол и разложил на нем все свои четыре записные книжки. Дарвин готов был вступить в борьбу с религиозным вероучением, как сделал это Галилей, экспериментально обосновавший идею Коперника о том, что Земля вращается вокруг Солнца, за каковое отступничество он был судим и поставлен перед выбором: либо отречься от своих кощунственных выводов, либо пойти на смерть. Галилей отрекся. А что сделал бы он, Чарлз Дарвин, при подобных обстоятельствах? На этот вопрос могло ответить только будущее. Пока же ему предстоит сделать первый тщательно обдуманный и выверенный шаг. Уклониться от него он не имеет права. Он взял карандаш с мягким грифелем и принялся писать – медленно, тщательно, безостановочно, внося исправления по ходу дела. "Новые условия приводят и к появлению новых качеств в организме животного. Они остаются в силе, если эти условия воздействовали на несколько поколений… Опыт заставляет нас ожидать, что всякий и каждый из этих организмов должен видоизменяться под воздействием новых условий. Геология констатирует наличие постоянного цикла перемен, привнося за счет всех возможных (?) изменений климата и вымирания предшествовавших видов бесконечное разнообразие в эти новые условия…" Каждый день закрывал он за собой дверь своего импровизированного рабочего кабинета: в его святая святых не допускался никто. День за днем поверял он бумаге то, что черпал из своих обширных запасов, накопленных во время плавания на "Бигле" и в результате чтения работ, посвященных миру растений и животных, водоплавающих и летающих, которых он сравнивал с окаменелыми ископаемыми, с тем чтобы теперь связать груду собранных им фактов стройной теорией, способной объяснить мириады изменений у видов с тех пор, как стоит мир. Чарлза поражало, как хорошо он себя при этом чувствует. Ни разу за время работы он не испытал приступов тошноты, так мучившей его в былые дни. В заключительном разделе он написал: "…близость различных групп, единство типов структуры, характерные формы, через которые проходит зародыш в своем развитии, метаморфоза одних органов и отмирание других – все это перестает быть невразумительными метафорами и становится вразумительными фактами. Мы уже не взираем на животное, как дикарь, например, на корабль… То есть как на вещь, целиком находящуюся за пределами нашего разумения, а активно стремимся исследовать его". Через несколько недель набросок был завершен, и, хотя он состоял всего из тридцати пяти страниц, начало было положено. – Начало чего? – вопрошал Дарвин самого себя. С первого взгляда дом и расстилавшиеся за ним пятнадцать акров меловых полей не слишком-то ему приглянулись. Между тем это место ему рекомендовали как "весьма соответствующее вашим требованиям – расположено в сельской глуши, всего в шестнадцати милях от собора св. Павла". Цена была весьма умеренной – две тысячи двести фунтов: за такой суммой ему не совестно было обращаться к отцу. Поезд довез его до станции Сиденхэм, в десяти милях от Лондона, а оттуда наемным экипажем по зеленеющим долинам, окруженным волнистыми холмами и великолепными кентскими лесами, он проделал остававшиеся восемь с половиной миль под теплым июльским солнцем, светившим на голубом, без единого облачка, небе. На несколько минут он остановился в деревушке Даун – до дома, который он собрался купить, отсюда оставалось ехать по улице всего с треть мили. Сама деревушка насчитывала примерно сорок домиков, включая лавки мясника, булочника и бакалейщика, над чьим заведением размещалась небольшая гостиница, а также почту, школу для малышей и плотницкую мастерскую. Даун лежал в стороне от проезжей дороги; посреди деревни на расчищенном участке высилось гигантское ореховое дерево, здесь же располагалась низенькая церквушка с кладбищем, к ограде которой сходились три узкие улочки. Церковь была сложена из кусков местного кремня, напоминавших огромные устричные раковины темного, переходившего в черный цвета. Местные жители, которых Чарлз повстречал, казались людьми почтенными, и это ему понравилось. Мужчины, завидев его, притрагивались кончиками пальцев к полям своих шляп, как в свое время в Уэльсе. Забравшись в экипаж, он двинулся по одной из улочек к дому, стоявшему на небольшом возвышении. Прежде имение было известно как Грейт-Хаус [Грейт-Хаус – буквально "большой дом". – Прим. пер.], но сейчас его называли просто Даун [Прилагательное "даун" по-английски означает "нижний". – Прим. пер.]. По первому впечатлению дом, сквозь выцветшую побелку которого проступала кирпичная кладка, показался ему безобразным. К тому же он чересчур близко подступал к дороге: какое уж тут уединение! "Впрочем, проезжает ли тут хоть кто-нибудь? – стал прикидывать Чарлз. – Ну, кляча с плугом, случайный экипаж". Особняк находился в хорошем состоянии. Всего несколько лет назад, затратив на ремонт полторы тысячи фунтов, дом покрыли добротной крышей и основательно обновили. В дальнем конце участка еще сохранился фундамент фермы, поставленной здесь около 1650 года. Просторное помещение кухни располагалось в подвале, рядом была холодная кладовая, где хранились масло, сыры, молоко и вина, а также комната для посудомойки и мясной погреб. Чуть поодаль на участке находились небольшой летний домик, конюшня с несколькими стойлами и жалкий огородишко. Из окон с обратной стороны дома открывался чудесный вид на все пятнадцать акров лугов со стогами сена; особую прелесть придавали пейзажу росшие кучно старая вишня, орех, тис, конский каштан, груша, лиственница, сосна, пихта и раскидистая шелковица. Чарлз зашел в дом, чтобы подробно все записать для Эммы. Вместительная прихожая. Одна из просторных комнат, выходивших окнами на дорогу, сможет служить кабинетом, а комната рядом с ней – столовой. Из гостиной открывался вид на деревья и луга со стогами сена. – Что мне больше всего понравилось, – рассказывал он Эмме, вернувшись домой под вечер, – так это количество спальных комнат. Их там достаточно, чтобы одновременно разместить Генслея и Фэнни Веджвудов, Сюзан, Кэтти, Элизабет и Эразма. – Он на мгновение заколебался. – Расположение идеальное: полнейшая тишина, а до Лондона рукой подать. Кентский ландшафт великолепен, и, хотя сам дом оставляет желать лучшего, мы сможем усовершенствовать планировку и переделать все по-своему. – Давай поедем завтра вместе. Какое это было бы облегчение, если бы Даун-Хаус нам подошел и можно было наконец переселяться. Утро следующего дня выдалось хмурым и холодным, к тому же дул сильный северо-восточный ветер. Тем не менее Эмма настаивала на поездке. С собой они взяли небольшой саквояж, на случай если придется заночевать в даунской гостинице. Окружающая дом местность разочаровала Эмму. – Чарлз, ты не находишь, что места здесь какие-то… пустынные? – Да, это из-за меловых отложений. У нас под Кембриджем было в десять раз хуже. Однако сама усадьба и луга понравились ей даже больше, чем Чарлзу. И расположен дом был так, как ей хотелось: не слишком близко, но и не слишком далеко от других. Утром взошло солнце. Они вторично осмотрели усадьбу и вернулись экипажем до железнодорожной станции. На этот раз окрестности привели Эмму в восторг. – Чарлз, похоже, что я сдаюсь. Эти зеленые волнистые холмы, узенькие улочки с высокой живой изгородью – сколько в них мира и покоя! Пожалуй, нам все-таки надо остановиться именно на Даун-Хаусе. – А тропинки в полях! – воскликнул Чарлз, вдохновленный Эмминой поддержкой. – Ведь по ним мы сможем кратчайшим путем добираться до таких чудесных лесов и долин, каких не сыщешь во всей Англии. Мест для прогулок нам с тобой и детям хватит тут не на один год. Доктор Дарвин охотно согласился на покупку имения в Дауне, поскольку Чарлз заверил его, что цена за сам дом, прилегавшие строения и пятнадцать акров земли была невысокой. К тому же, если еще сдавать в аренду луга на покосы, это принесет более сорока фунтов годового дохода. Перед самой покупкой Чарлзу удалось уговорить хозяев сбавить цену до двух тысяч двадцати фунтов – это оставляло ему сто восемьдесят фунтов, чтобы оплатить работу плотника, которому предстояло поставить в его кабинете стеллажи для книг и ящики для картотеки. Купчая была составлена, нужные бумаги подписаны, деньги уплачены сполна в течение нескольких недель. – Эмма, – обратился Чарлз к жене, – Даун-Хаус теперь наш, но не думаешь ли ты, что надо повременить с переездом, пока не родится ребенок и ты не придешь в себя? По дому будет столько дел, сама знаешь, во всяком случае, на месте сидеть не придется. И ты по-прежнему уверена, что хочешь перебираться сейчас? – Да. И лучше сделать это как можно скорее. Пусть ребенок родится уже в нашем новом доме. Мне кажется, в целом для меня было бы даже легче, если бы мы устроились и я смогла потом не спеша восстанавливать свои силы. С транспортной конторой он договорился об упаковке и доставке всех вещей в Даун. Но поскольку на это требовалось больше недели, Чарлз в последний раз сел за стол еще на старом месте, в доме по Аппер-Гауэр-стрит, и написал статью о влиянии ледников на характер местности Северного Уэльса. В ней он признавал, что ледники там в самом деле существовали, но все же утверждал, что "дороги", или "террасы", в Глен-Рое имеют другое происхождение, которым они обязаны отнюдь не ледниковым запрудам. Статью тут же принял "Лондонский, Эдинбургский и Дублинский философский научный журнал", что весьма обрадовало Дарвина, так как публикация в этом органе наверняка расширила бы круг его читателей. Хорошие новости поступили и из издательства "Смит Элдер энд К0": на его "Коралловые рифы" вскоре должна появиться серьезная рецензия, что же касается продажи, то, учитывая специальный характер книги, расходилась она неплохо. Издатели сообщали, что с нетерпением ждут выхода другой его книги – о вулканических островах. Чарлз разобрал свои записи, тщательно рассортировал и упаковал их, прежде чем уложить в ящики. Книги он заботливо обернул старыми газетами. Большинство остававшихся экспонатов он запаковал отдельно. Были, правда, среди них и такие, в которых он больше не нуждался: пакетик с красками, которыми огнеземельцы раскрашивают тело, два копья для добывания рыбы и охоты на черепах, выдр и гуанако и крюк, обнаруженный в теле тихоокеанского дельфина, – их он отослал профессору Генсло для его коллекции раритетов. После полудня, пока Эмма дремала, Чарлз подводил баланс всех их расходов, записи которых с педантичностью вел круглый год, с сентября по сентябрь. Подытожив сотни накопившихся счетов, он выяснил, что за год проживания в доме No 12 по Аппер-Гауэр-стрит они израсходовали 1062 фунта, или на 67 больше, чем за предыдущий год. Однако их доход тоже увеличился, и в банке на счету лежало теперь 475 фунтов 11 шиллингов. Он внушал себе: каков бы ни был расход по переезду и переустройству Даун-Хауса, они не имеют права тратить на дом ни на фунт больше того, что он зарабатывает. Долги – это проклятье. Вести, которые они получили из Мэра, были безрадостны. Паралич у дяди Джоза прогрессировал, больной уже не вставал. Из Шрусбери к нему каждые два-три дня наведывался доктор Дарвин, оказывая посильную помощь. Доктор Холланд запретил Эмме совершить утомительную поездку в Мэр-Холл, и это повергло ее в отчаяние. Наняв самый большой и удобный экипаж, 14 сентября 1842 года Чарлз отправил Эмму в Даун с Уильямом, которому вот-вот должно было исполниться три года, и полуторагодовалой Энни. Вместе с ними поехали Броуди, шотландская няня, успевшая за это время стать незаменимой; Парсло, которому предстояло руководить переселением, и кухарка Сэлли. Бесси решила, что ей лучше остаться в Лондоне. Несколько дней она находилась рядом с Чарлзом, чтобы заботиться о нем, пока ему приходилось заниматься дюжиной самых разных дел, прежде чем можно будет окончательно вернуть дом его владельцу. Спальня над гостиной, куда въехала Эмма, была приятной для глаза и удобной, если не считать того, что окна, выходившие на луг, были чересчур малы и пропускали не так уж много света. Чарлз успокоил жену: – Не волнуйся. У меня есть свой план перестройки всего крыла. В будущем году к этому времени мы будем буквально залиты светом, а вид на окрестные холмы откроется изумительный! Третий ребенок Дарвинов, девочка, названная Мэри Элеанор, родился через девять дней после переезда. По счастью, совсем близко – их дома разделяло лишь два поля – жил доктор Эдгар Кокелл, член Королевского хирургического колледжа, купивший в Дауне имение и переехавший из Лондона за два года до них; он встретил Чарлза на деревенской улочке и представился ему: вскоре выяснилось, что у них много общих друзей. Доктор Кокелл пользовался у жителей деревни большим уважением. Чарлз договорился с ним, что он примет роды у Эммы. Все прошло благополучно, и Эмма мучилась меньше, чем во время двух предыдущих родов. Но Мэри Элеанор с самого начала оказалась болезненным ребенком. Она постоянно плакала и затихала только во сне. Доктор Кокелл отыскал для нее в деревне хорошую молодую кормилицу, но девочка почти не сосала грудь. Роженицу с ребенком каждый день навещал доктор. Но ему так и не удалось установить, что вызывает болезнь девочки. – Мне что-то тревожно, Чарлз, – поделилась Эмма с мужем. – Она такая бледненькая. И в весе не прибавляет, и личико у нее такое сморщенное. Мне кажется, она ни на мгновение не перестает мучиться. Чарлз, сидевший подле нее на краю кровати, поцеловал жену в лоб, постарался как-то успокоить: – Но, дорогая, перемена к лучшему может наступить каждый день. – Знаешь, Чарлз, я так люблю ее. У нее черты лица моей матери. Я надеялась, что к Мэри перейдут также ее красота и характер. – Тут неподалеку живет еще один врач. Я приглашу его на консультацию. Эмме с каждым часом становилось все лучше, но в состоянии ребенка перелома не было. Малышку явно мучило какое-то внутреннее недомогание. Чтобы хоть чем-нибудь занять себя и перестать тревожиться за ребенка, Чарлз весь ушел в работу по дому: он вел переговоры с плотником, владельцем маленькой гостиницы над бакалейной лавкой, где они с Эммой однажды останавливались на ночлег, обмеривал свой кабинет, набрасывал эскизы полок разной высоты для своих книг и выдвижных ящиков для картотеки, которыми плотник занял пространство, остававшееся между дверью и полками: на каждый из ящиков Дарвин сделал соответствующую наклейку. Эмма наняла еще одну служанку, тринадцатилетнюю Бесси Хардинг, чью семью она в свое время знала в Стаффордшире. Девочка была приветливой по натуре и, чем могла, помогала Броуди в ее делах. Чарлз нанял человека по фамилии Комфорт, который выполнял обязанности садовника и кучера. Он сразу же ликвидировал жалкий огородишко, усеянный осколками кремня, разбил новый на гораздо более подходящем месте и привез перегной, чтобы удобрить землю. Вскоре Чарлз приобрел фаэтон и лошадей, коров и свиней (с которыми управлялся все тот же Комфорт), закупил седло, уздечку, кукурузу, овес и набор садовых ножниц для Комфорта. Мэри Элеанор умерла, не прожив и месяца. Они похоронили ее на маленьком кладбище рядом с деревенской церковью. Чарлз был сломлен горем, церемония похорон повергла его в ужас. Эмма, напротив, приняла удар с исполненным печали смирением. Именно она принялась утешать мужа: – Ты будешь неутешен лишь до тех пор, пока на свет не родится другой, здоровый ребенок, а это обязательно произойдет.Вся жизнь
Высокии маятник в прихожей знай себе отсчитывал минуты и часы, а листки календаря облетали так же быстро, как листья кленов и вязов. Время то неслось стремглав, то стояло на месте, как пересохший ручей. В самом начале 1844 года Чарлз передал рукопись о вулканических островах издателю. В феврале, вычитав последние листы гранок, он достал свой почти что девятисотстра-ничный труд по геологии мест, посещенных за время плавания на "Бигле", и записи, делавшиеся им чернилами на листках размером восемь на десять дюймов на борту судна. – Да тут хватит на полторы книги! – воскликнул Дарвин. – Материал необходимо как следует скомпоновать. Он перелистал страницы, затем отложил папки в сторону. – Пока что начинать работу еще слишком рано, – пояснил он Эмме, собиравшейся, по обыкновению, играть для него на рояле в течение часа немецкие песни, – мне нужна передышка между двумя книгами. – К чему спешить, – сказала она, опуская пальцы на клавиши. – У тебя хватит времени не на одну, а на дюжины книг. Чарлз ничего не говорил Эмме о том, как ему не терпится вернуться к прерванной работе о трансмутации видов. С тех пор как летом 1842 года в Мэр-Холле был закончен тридцатипятистраничный набросок, надежно запертый в ящике письменного стола, он не написал больше ни строчки. На этот раз Дарвин мечтал создать целую книгу, основывавшуюся не только на его собственных наблюдениях во время кругосветного плавания, но и на сравнительном анализе данных естественных наук, которым он занимался уже семь лет. Об этом немного знал Лайель, как и кузен Фокс. Не так давно Дарвин нашел и нового друга, которому счел возможным довериться, – совсем еще молодого человека Джозефа Гукера. Их познакомил доктор Роберт Маккормик незадолго до отплытия Гукера в качестве ботаника на судне "Эребус". Он отсутствовал почти четыре года, прислав Чарлзу письмо с описанием своей с каждым днем разраставшейся коллекции. Дарвин считал, что у его юного друга – Гукер был на восемь лет моложе – есть все данные, чтобы стать первоклассным ботаником и натуралистом: работоспособность, преданность делу и глубокое проникновение в его суть. После возвращения Гукера из плавания они успели обменяться письмами: Чарлз настойчиво побуждал его составить подробнейшее описание всех растений и цветов, собранных во время путешествия. 11 января 1844 года, когда он вновь засел за работу о видах, Чарлз открыто признался Гукеру: "С самого первого дня моего прибытия в Англию я занимаюсь одним делом, что не только самонадеянно с моей стороны, но и весьма глупо, как это признали бы все вокруг. В свое время я был так поражен распространением живых существ на Галапагосах и характером обнаруженных мною в Южной Америке млекопитающих, что решил собирать, пусть даже вслепую, любые факты, которые имеют хотя бы малейшее отношение к вопросу о том, что же такое виды. Я прочел груды книг по сельскому хозяйству и цветоводству. Луч света наконец-то забрезжил, и теперь (в противоположность тому, в чем я был убежден в начале своих исследований) я почти уверен, что виды не являются (это все равно что признание в убийстве!) неизменными и неизменяемыми… Я полагаю, что нашел (вот она, самонадеянность!) простейший путь, объясняющий, как виды могут удачно приспосабливаться к тем или иным задачам. Сейчас вы заскрежещете зубами и воскликнете про себя: "И на такого человека я потерял столько времени, столько раз писал ему!" Что ж, пять лет назад и я подумал бы точно так же". В конце месяца он получил от Джозефа Гукера обнадеживающий ответ: "Что касается растительности, то в давние времена она с несомненностью весьма отличалась в тех же самых местах от нынешней… По моему мнению, речь могла идти о появлении в разных местах целого ряда новых форм, а также о постепенном изменении видов. Я с удовольствием желал бы услышать вашу точку зрения о природе этих изменений, поскольку ни один из нынешних взглядов на сей предмет меня не устраивает". Перечитав всю имеющуюся литературу, Чарлз узнал, что еще в 1749 году французский натуралист Бюффон подсчитал: возраст Земли может составлять семьдесят тысяч лет. В 1755 году немецкий философ Иммануил Кант высказал предположение, что Земля могла существовать не тысячи, а миллионы лет. Ни тот, ни другой, впрочем, даже не пытались подтвердить свои предположения фактами. Первый, кто выступил с обоснованием эволюционных изменений в природе, был французский натуралист Ламарк: в 1809 году он изложил свою теорию изменений всего живого – от растений до животных и человека. О теории Ламарка Дарвин впервые услыхал от своих профессоров в Музее естественной истории Эдинбургского университета. Но ошибка француза, как уже давно понял Чарлз, состояла в том, что он относил эволюцию за счет естественного инстинкта, заложенного во всех организмах как неизбежное стремление к совершенствованию своего собственного вида. В холодные и вьюжные месяцы, январь и февраль, Эмма вслух читала Чарлзу романы шведской писательницы Фредерики Бремер и выдержки из писем лорда Честер-филда. К тридцатипятилетию она подарила ему "Конституционную историю Англии" Генри Холлама. К пятой годовщине их свадьбы он преподнес ей необычайно красиво изданные романы Вальтера Скотта из серии "Уэверли", но упросил жену избавить его от большого семейного торжественного обеда. Пригласить не всех, а только некоторых было невозможно, и поэтому за обеденным столом кроме них были лишь двое старших детей, не считая лежавшей в своей кроватке четырехмесячной Генриетты [Третья дочь в семье Дарвинов. Прим. пер.]. Парсло разложил самые лучшие серебряные приборы, постелил парадную льняную скатерть и поставил веджвудовский сервиз. Сэлли два дня трудилась на кухне над праздничным обедом – прозрачный суп, суфле из креветок, цыплята а ля Маренго, телячий ростбиф с мятным соусом, молодой картофель с маслом, ананасы и рис. Они были едва в состоянии отведать каждое из блюд. Сэлли испекла также фирменный кекс-данди со смородиной, рубленым изюмом и цукатами, мускатным орехом, бренди и миндалем. – Целых два часа смешивала и пекла, – произнесла она с гордостью. – Но может, и вправду стоило повозиться. Между засахаренными миндалинами были вставлены шесть свечей. – Одна на прибавление семейства, – еле слышно проговорила Эмма. Полагаю, что так оно и будет. Трое детей для нас явно недостаточно. Правда, мне не мешает передохнуть годик-другой. Чарлз взял ее ладонь в свои. – До чего это жестоко, что женщине достаются все мучения, а мужчина не может взять полагающейся ему доли! – К тебе, мой родной, это не относится. Мучения, которые ты испытываешь во время моих родов, столь же сильны, как и мои. Она взглянула на Уильяма, Энни и Генриетту. – Как согревают они наши сердца! У Фэнни Веджвуд вот-вот должен был появиться шестой ребенок, и Эмма попросила у мужа разрешения взять пятерых ее детей к ним в Даун-Хаус. – Дорогая, эти пятеро не только твои племянники и племянницы, но и мои тоже – ведь как-никак моя мать из Веджвудов. Генслей прислал весь свой выводок в большой карете в сопровождении гувернантки. Уильям и Энни были счастливы, когда разом заполучили столько товарищей для игр. В хорошую погоду они выбегали из всех дверей в своих шерстяных шарфах и вязаных шапочках и резвились вокруг раскидистой шелковицы прямо под новым окном, весьма кстати повторяя слова песенки: "Мы хоровод свой водим вкруг шелковицы той". Когда же погода не позволяла гулять на воздухе, Эмма устраивала для них игры в комнате наверху. Здесь она убедилась, сколь добротно построено старое здание. От визга, криков и смеха семерых детей, играющих в "Ну-ка, Дженкинс", когда требовалось определить, в чьем кулаке зажат стеклянный шарик, и в "Змеи и лестницы", когда на доске подбрасывали два кубика, от положения которых зависело, продвинется ли бросавший вверх по "лестнице" или же, угодив в "змею", должен будет спускаться вниз, сотрясалась мебель, полы и стены игровой, а в остальную часть дома при этом не доносилось ни звука. Чарлз не возражал против ералаша в коридорах и комнатах. И он, и Эмма, бывало, неделями, а то и месяцами гостя у своих тетушек и дядюшек, точно так же жили и играли вместе со своими кузинами и кузенами. Его приводила в восторг смена эмоций, столь ясно отражавшаяся на лицах его собственных детей и гостивших у них в доме младших Веджвудов. Ко всем своим друзьям он обращается с просьбой понаблюдать за своими маленькими и прислать ему результаты этих наблюдений. Папка с заметками становится все более пухлой, затем Дарвин заинтересовался поведением животных. Разве в животном мире не существует эмоций? Удовольствие от еды и подвижных игр, привязанность к хозяевам и прислуге, к себе подобным, настороженность в ожидании нападения, страх, боль? Он начинает описывать реакции животных, которые ему удавалось наблюдать во время стоянок "Бигля", а затем в лондонском зоопарке, разыскивает рассказы о животных в своей библиотеке. Материала набралось порядочно, но из писавших никто не занимался до сих пор исследованием причин или установлением границ эмоциональных реакций животных. Он был уверен: собранный им материал на многое может пролить свет: возможно даже, что между эмоциями детей и животных существует определенная связь. Его работа о происхождении видов между тем продвигалась. Он вел записи на чем попало, иногда разделяя большие листы на три колонки. Писал он только по памяти. Сохранив прежние наименования разделов своего наброска, законченного в Мэр-Холле, он с каждым днем все глубже проникал в материал, захватывая все более широкие пласты. К первой главе Дарвин добавил: "…Воздействие внешних условий на размеры, окраску и форму, которое редко и притом в весьма смазанном виде может быть прослежено в пределах одного поколения, становится ясно видимым через несколько поколений: незначительные отличия, часто едва поддающиеся описанию, которые характеризуют породы разных стран или даже отдельных регионов в той же самой стране, и объясняются, по всей видимости, этим длительным воздействием. …Так как разные человеческие расы хотят видеть у своих домашних животных разные качества, которыми они восхищаются, то каждая из них тем самым, пусть неосознанно, занимается постепенным выведением отличной от других породы". Расширил он и вторую главу, записав: "В одной из своих работ Декандоль весьма верно подметил, что вся природа находится в состоянии войны: один организм сражается с другим или с внешними силами. Лицезрея мирный лик природы, в этом вначале сильно сомневаешься, но по зрелому размышлению неизбежно приходишь к выводу, что это, увы, так и есть. Война эта, однако, не носит постоянного характера: в ослабленном виде она возобновляется через короткие промежутки времени, а в более суровой форме – через промежутки более длительные, так что ее последствий легко и не заметить. Это и есть доктрина Мальтуса, только применимая в большинстве случаев с десятикратной силой… Даже медленно размножающееся человечество и то удвоилось за двадцать пять лет, и если бы оно могло без особенных усилий увеличить количество потребляемой пищи, это удвоение произошло бы еще скорее. Но для животных, при отсутствии каких-либо искусственных средств, в среднем количество пищи для каждого вида должно находиться на постоянном уровне; в то же время численность особей имеет тенденцию возрастать в геометрической прогрессии и в подавляющем большинстве случаев ее знаменатель выражается огромной величиной…" Тут же он добавил: "Все, что рождается, рождается для того, чтобы есть и быть съеденным". В конце марта склоны вокруг Даун-Хауса покрылись бледно-голубыми фиалками. Повсюду цвели примулы. В окрестных рощицах, где гуляла семья Дарвинов, среди деревьев в изобилии цвели анемоны и белая звездчатка. Луга расцветились колокольчиками. Появились жаворонки, не редкостью были и соловьи; большое количество голубей наполнило леса своим воркованьем. – Напоминает мурлыканье кошки, – заметила Эмма. Она взяла мужа под руку: – Помнишь, Чарлз, какой пустынной казалась здешняя земля, когда мы только купили дом. С нашей стороны это было почти актом отчаяния. А сейчас мне кажется, что это самое прекрасное место на свете. Все вокруг Дауна цвело. На тропинках им встречалось теперь куда больше народу, местные жители приветствовали их дружелюбно и радушно. Семейство Дарвинов приняло несколько приглашений к обеду, и Чарлз был счастлив, что у Эммы появились здесь первые знакомые. В апреле Чарлз высадил лилии, дельфиниум, портулак, вербену и газании – "как по науке, так и без оной". Рядом с ним трудился и Комфорт. В теплую июньскую погоду они выходили посидеть на скамейках за домом под окнами гостиной. Кент славился своими розово-пурпурными закатами. В этот час Парсло подавал чай, и тогда к взрослым присоединялись дети, чтобы отведать пирога с красной смородиной. К 4 июля Чарлз написал уже почти сто девяносто страниц трактата о видах. К прежним формулировкам прибавились новые наблюдения и выводы. "… До чего же интересными становятся инстинкты, когда мы задаемся вопросом об их происхождении. Что это – переданные по наследству привычки или слегка видоизмененные прежние инстинкты, увековеченные в отдельных особях и ставшие врожденными? Когда любой сложный инстинкт мы рассматриваем как суммарное выражение длинного ряда приспособлений, каждое из которых приносит несомненную пользу его обладателю, это почти то же самое, что и механическое изобретение, являющееся суммарным выражением труда, опыта, разума и даже ошибок многочисленных мастеров… Ибо во всем этом мы видим неизбежные последствия одного великого закона размножения органических существ, не созданных неизменными…" Хотя, сидя у себя в укромном уголке, он испытывал небывалый прилив сил, но все же решил: "Я не стану публиковать работу в ее нынешнем виде, однако сохранить ее на случай своей смерти я обязан. Что заставляет меня думать о смерти – и как раз сейчас, когда уже столько месяцев подряд я так хорошо себя чувствую? Что ж, все мы смертны. Не столь уж редко у нас в Англии люди ложатся спать на этом свете, чтобы проснуться уже на том. Не знаю, догадывается ли Эмма, чем именно я занимаюсь с начала года. Вероятно, да. Женщины всеведущи, когда речь идет о такого рода вещах. Но как бы то ни было, в один прекрасный день ей придется узнать, потому что эту рукопись я должен буду доверить именно ей". На следующее утро в восемь часов он устроился поудобнее в своем кресле и, положив на подлокотники обитую материей дощечку, принялся за письмо Эмме, "держа курс на свет вулкана", как говорили на "Бигле" в таких ситуациях. "Ятолько что завершил набросок своей теории видов. Если со временем она, как я верю, будет признана пусть всего одним компетентным судьей, в науке будет сделан значительный шаг вперед. Вот почему на случай своей неожиданной кончины я и пишу это. Моя серьезная и самая последняя просьба к тебе, а я знаю, что ты отнесешься к ней так же, как если бы она была юридически оформлена в моем завещании, выделить 400 фунтов стерлингов на публикацию этого труда и затем, самой или через посредство Генслея, приложить все усилия для его распространения. Я желаю, чтобы мой труд попал в руки какого-нибудь компетентного лица и указанная выше сумма могла побудить его улучшить и расширить мою работу… Я просил бы также, чтобы этому лицу были переданы все вырезки, разложенные примерно по восьми или десяти папкам из оберточной бумаги. Что касается редактора, то лучше всего было бы привлечь для этого дела мистера Лайеля, если бы он согласился, особенно при содействии Гукера…" Он положил письмо в ящик стола, открыть который надлежало только после его смерти: сюда же он намеревался поместить свои последние распоряжения и завещание. Затем, взяв рукопись, Дарвин отвез ее писцу по имени Флетчер, который должен был переписать ее набело, не слишком задумываясь над тем, что именно ему поручили переписать. Чарлз был занят работой, Эмма – детьми. Уильяму исполнилось уже четыре, Энни – три, а Генриетте, которую они звали просто Этти, – девять месяцев от роду. Хотя и Эмма, и Чарлз воспитывались в семьях, где детей не наказывали ни за ошибки, ни за шалости, во многих (слишком многих!) английских домах няньки и гувернантки были злобными садистами, вымещавшими собственные неудачи и беды на своих подопечных, которых они избивали, запирали в шкафах или темных комнатах. Когда у Дарвинов родился их первенец, Эмма поклялась: – С нашими малышами ничего похожего не будет. Днем она часто заходила в игровую, рассказывала им разные истории или читала вслух. Малютку Этти приносили в комнатушку рядом с кухней, где ее поочередно баловали то Сэлли, то Парсло, то Броуди. Несмотря на опыт, приобретенный в течение многих лет, начиная с экскурсий в окрестные болота в Кембридже и кончая собиранием коллекций растений во время путешествия на "Бигле", Чарлз по-прежнему считал себя всего лишь, ботаником-любителем. С этим пробелом надо было покончить как можно скорее: ведь обоснование эволюции видов в значительной степени строилось на примерах из жизни растительного мира. Поскольку, по его мнению, Джозеф Гукер был самым даровитым из молодых английских ботаников, Дарвин решил обратиться к нему за помощью. Он попросил Эразма пригласить Гукера к себе домой на Парк-стрит к завтраку. Эразм вызвал кухарку пораньше, и она подала почки на вертеле, бекон, яичницу, салат и клубнику. Сам хозяин был чересчур сонным, чтобы присоединиться к своим гостям, и, кроме того, все равно большей частью не мог понять, о чем они ведут речь. Извинившись, он ушел досыпать. Покончив с едой, Чарлз и Гукер перешли из маленькой столовой в гостиную. Несмотря на всего лишь восьмилетнюю разницу в возрасте, Гукер, казалось, принадлежал к более молодому, чем Чарлз, поколению. Он носил очки в стальной оправе, дужки которых скрывались в черных густых волосах, разделенных аккуратным пробором и скромно зачесанных назад. За время плавания на "Эребусе" он отрастил широкие длиииые бакенбарды, лицо его стало более худым и похожим на лица с картин Эль Греко, хотя в глазах и не таилась печаль, а горел жадный интерес к любимому предмету-. Портрет дополняла большая ямочка на подбородке. В общем он выглядел простоватым по сравнению с другими учеными, которых знал Чарлз. Больше всего Гукер походил на студента, готовящегося стать ученым. И одет он был соответственно, Джозеф отличался хрупким телосложением туберкулез в их семье был наследственным. В детстве его называли "Ворота Джо" из-за постоянной хрипоты от бесконечных бронхитов. Однако он прекрасно перевес долгое и трудное плавание на "Эребусе". Впервые у Чарлза был друг моложе его. Все другие – Генсло, Седжвик, Лайель – были кто на десять, кто на четырнадцать лет старше, так же как и авторы вышедшей под его редакцией "Зоологии". Общение с Гукером действовало на него освежающе. Они проговорили о ботанике целое утро. У Гукера оба деда по отцовской и по материнской линии интересовались или занимались ботаникой. Ребенком он собирал мох, как Чарлз собирал жуков: возвращаясь домой из своих ботанических походов, Джозеф выкладывал во дворе макеты гор из валявшихся камней и располагал на них собранный мох в той последовательности, в какой он встречался ему в естественных условиях. – Так зародилась во мне любовь к географической бо-ташгке, – признался он Чарлзу, когда, перейдя в гостиную Эразма, они уселись на покрытую дорогим чехлом софу. – Я не стремлюсь к завоеванию популярности среди современников, да и не мог бы отдавать свои силы этому искусству просто потому, что мне не позволяет здоровье. Признаюсь, что страдаю от нервной раздражительности, которая сказывается на сердце: еще в детстве у меня начиналось сердцебиение, как только требовалось идти к доске делать синтаксический разбор. Про себя Чарлз подумал: "Это замечательный товарищ, и у него доброе сердце. Сразу видно, что он благороден от природы. К тому же обладает острым умом и несомненной способностью к обобщениям". Чарлз знал, что в свое время Ланедь поедав Гукеру экземпляр его "Дневника", и тот ответил ему: "Это поистине великодушный дар. Книга уже зачитана почти до дыр, потому что ее берут у меня нарасхват все офицеры на корабле". Матери он писал: "Облака ли над нами или туман вокруг, дождь ли идет или падает снег – все это совершенно так, как описывает Дарвин. Его замечания столь правдивы, столь выразительны, что, где бы мы ни аяыли, великолепный подарок Лайеля остается не только моей настольной, но и самой любимой книгой – спутником и путеводителем". Он рассказал Дарвину, что ему почти отказали в месте ботаника на "Эребусе", когда капитан Росе заявил, что им "нужен на судне кто-нибудь столь ж.е шшуларныв в ученом мире, как мистер Дарвин". – Я тут же прервал его, заметив: "А кем был этот ваш мистер Дарвин, прежде чем отправиться в плавание? Да, он, надо полагать, знал свой предмет лучше, чем знаю сейчас я, но знал ли его научный мир? Нет, он создал себе имя после плавания с капитаном Фицроем…" Они ие смогли прийти к согласию только дважды, и оба раза спор был весьма бурным. Так, когда Чарлз высказал предположение, что превратившиеся в пласты угля растения жили когда-то в морском мелководье, Гукер решительно запротестовал. Чарлз со своей стороны с презрением обрушился на концепцию Гукера, согласно которой между Австралией и Южной Америкой в прошлом должен был находиться континент. Оба они весьма скоро сменили гнев на милость и принялись хохотать над собственной нетерпимостью. – Лучше уж пусть будет так, – сказал Чарлз. – Сейчас мы убедились, что не станем соглашаться друг с другом из простой вежливости и пережевывать комплименты. Это была бы какая-то каша, а нам по зубам – роетбиф с кровью. Благодаря постоянным подталкиваниям Лайеля Дарвин значительно продвинулся в работе над своими геологическими исследованиями Южной Америки. Все это время он продолжал много, но беспорядочно читать: тут были книги об охоте на оленей и ловле лососей, о гигантском вымершем ленивце и по философии естественной истории, по сельскому хозяйству и линнеевские "Размышления об изучении природы", которые он расценил как "пустое место". Заметки и выдержки он раскладывал по десяткам соответствующих ячеек своей картотеки. После того как с ремонтом и расширением Даун-Хауса было покончено, Дарвин вызвал представителя страховой компании "Сан иншуранс офис лимитед", чтобы осмотреть имение, прежде чем выписать полис. Его годовой взнос составил четыре фунта шестнадцать шиллингов от суммы в 2100 фунтов стерлингов. В очередную поездку в Лондон он обедал у Лайелей. Лайель только что сдал в типографию новую книгу – "Путешествия по Северной Америке". – Интересная все-таки страна – эти Штаты, – заметил он. – Люди там очень жизнерадостны и так и сыплют анекдотами. – Я помню это по встрече с американскими моряками, которые снабдили "Бигль" свежей водой и провиантом, когда у нас иссякли последние запасы. Невероятно щедрый народ. – Да. И в массе своей те, кто активно участвует в политической жизни, лет на пятнадцать – двадцать моложе, чем у нас или в Европе. Удивительно, как мало знают в Англии о том, что там происходит, а между тем у них есть так много стоящего, чтобы перенять, и не меньше – чтобы отвергнуть. Вам с Эммой надо бы съездить в Северную Америку: после издания "Дневника" теплый прием вам гарантирован. Чарлз в притворном ужасе воздел руки к небу: – Что, снова пересекать Атлантический океан? Начав затем обсуждать геологию Соединенных Штатов, они перешли к чарлзовым "Геологическим наблюдениям над Южной Америкой", шестьдесят страниц которых были к тому времени уже написаны. Дарвин признался Лайелю: – У меня такое чувство, что вы – соавтор моих книг. Я всегда считал величайшим достоинством ваших "Основ" то, что они меняют образ мысли таким образом: когда сталкиваешься с новым явлением, которое вы не могли наблюдать, смотришь на него отчасти вашими глазами. – Будьте осторожны, дорогой мой Дарвин. Ведь в один прекрасный день, особенно после публикации вашей книги о происхождении видов, какой-нибудь молодой ученый наверняка бросит вам в лицо тот же очаровательный комплимент. Чарлз не стал говорить Лайелю, что не намерен публиковать свою книгу о видах. Да, он будет упорно над ней работать и соберет все исчерпывающие свидетельства по столь широкому кругу естественных наук, чтобы выводы его теории были неопровержимыми. Но с официальной идеологией он не собирается связываться: всякого, кто посягнул бы на откровения Библии, не станут увещевать с помощью логики или разума. Нет, против него обратят "веру, которая выше всякого понимания". Отказаться от своего труда из-за страха перед таким приемом, значило бы проявить малодушие. Он закончит свой труд, даже если на это уйдет вся жизнь, и договорится о его посмертном издании… И пусть тогда бушует любой ураган. По какой-то неведомой ему причине издание книги о вулканических островах отложили до ноября, хотя с версткой уже давно ознакомились и сам Лайель, и отец его жены Леонард Хорнер, отозвавшийся о работе весьма лестно: Прочтя отзыв, Чарлз сказал Эмме:. – Если хотя бы треть того, что пишет Хорнер, правда, а не продиктовано его пристрастием ко мне, то я могу гордиться своим томиком. Хорнеру он писал: "Хотя работа и небольшая, она стоила мне уймы времени. Удовольствие от наблюдений целиком окупает себя. Но не писательство! Оно предполагает хоть какую-нибудь надежду на конечную пользу от твоего труда, ради которой стоило бы корпеть над моим отвратительным английским языком, чтобы сделать его чуточку лучше". Эмма пришла в ужас. – Как "отвратительный английский"? Специальная терминология – да, но это совсем другое дело. Не забывай, прошу тебя, что я сказала, когда прочла твои "Коралловые рифы". Я назвала тебя поэтом и была бы весьма тебе признательна, если бы ты всегда помнил об этом. – Постараюсь, – ответил он кротко, явно довольный тем, как заблестели ее тлаза. Вскоре после этрго разговора, в октябре 1844 года.. Англия заговорила о книге под названием "Следы естественной истории сотворения мира". Она была напечатана анонимно. Дарвин ходил мрачнее тучи. Неужели анонимный автор каким-то образом ознакомился с его рукописью? Чепуха! Даже то, что "Следы" (как сокращенно называли вышедшую книгу) сразу же разругали, нисколько его не утешило. Один из критиков сравнил ее с опытной уличной девкой. Хотя, писал он, пение ее может быть столь же сладкоголосым, как у сирены, сама она являет собой "грязное и порочное существо, чье прикосновение заразно, а дыхание тлетворно". "Научный ежеквартальнию" обрушился на книгу как на отъявленную ересь; "Атеней" отнес ее к числу таких же надувательств, как алхимия, астрология, колдовство, месмеризм и френология. Дарвин прочел книгу с карандашом в руке, составив подробный список вопросов и замечаний по тексту. "Следы", считал он, в целом неплохо написаны, хотя разделы геологии и особенно зоологии ниже всякой критики. Его и забавляло, и ужасало, что авторство книги, среди прочих, приписывалось также и ему. Своим друзьям в Лондоне он заявил: – Я должен быть столько же польщен, сколько и уязвлен. Между тем "Следы" продолжали читать с жадностью, главным образом благодаря радикальности взгляда на естественную эволюцию. Но именно это и вызывало оскорбительные замечания по поводу книги. Большинство из них, по мнению Дарвина, были совершенно неуместными, но острота самой реакции его нисколько не удивляла. – Книга, конечно, слабая и неубедительная, – заметил Чарлз в разговоре с Гукером, который приехал навестить его в Даун-Хаусе в начале декабря, захватив с собой первую часть своей новой книги "Флора Антарктики". – Автор страдает теми же пороками, что и мой дед в своей "Зоономии". Чувствуется, что ни тот, ни другой не занимались самостоятельными исследованиями, не вели наблюдений за природой, как делал это я на "Бигле". С другой стороны, оба прочли всю имевшуюся в их распоряжении литературу. Так что "Следы" тоже плод кабинетного творчества. – Не знаю, лично меня они больше позабавили, чем взволновали, ответил Гукер. – Вы правы, – согласился Чарлз. – Представление о том, что рыба превращается в пресмыкающееся, и в самом деле смехотворно. Немного поколебавшись, Дарвин принял смелое решение. – Дорогой мой Гукер! У меня имеется собственная рукопись, страниц на двести тридцать, об эволюции видов. Ее никто не видел, кроме переписчика. Не хотите ли вы с ней познакомиться? Тогда можно будет сравнить ее со "Следами". Я знаю, что могу рассчитывать на ваше благоразумие. – О да, безусловно. Гукер читал рукопись, запершись в кабинете Чарлза. На следующий день в полдень они отправились в дальнюю прогулку. Первым заговорил Гукер – голос его звучал вежливо, но твердо. – Особенно по душе мне пришлись те примеры, которые взяты из моей области. То место, например, где вы пишете: "Может ли кто-нибудь утверждать, что если огородничество и цветоводство будут процветать еще несколько столетий, то у нас не появятся многочисленные новые сорта картофеля и георгинов?.." – А мои принципы отбора, постепенное появление новых видов, вымирание старых – что вы думаете обо всем этом? Гукер набрал в легкие побольше воздуха. – Я согласен с вашими предположениями… до известной степени. Вы безусловно правы, говоря о бесконечной изменчивости видов, о способах их передвижения и расселения. Я принимаю и взаимосвязанность отдельных видов, их родство с ископаемыми предшественниками. Но когда я добираюсь до главного вопроса о превращении одного вида в другой, то здесь ваши аргументы меня не убеждают. Солнце постепенно угасало на зимнем небе, и Чарлз потуже затянул на шее шерстяной шарф. – Ничего, дорогой мой. Придет время – и вы убедитесь. Они повернули обратно к дому, где в гостиной вовсю полыхал камин и Эмма ждала их с чаем. Наступил новый, 1845 год. Выяснилось, что Эмма снова беременна. 13 февраля она отправилась в Мэр повидаться с матерью и сестрами, оставив Чарлза дома с тремя детьми. Погода стояла такая сырая и туманная, что играть можно было только в комнатах. Целые часы Чарлз проводил с ними за игрой в снап с двумя колодами карт или возился с Этти. Иногда, когда дети начинали слишком уж шуметь, прыгать на диванах или играть в салки, опрокидывая стулья, Чарлз ворчал: – Я тоже буду прыгать – от радости, когда зазвенит звонок на обед. Уильям добавлял: – А я знаю, когда ты будешь прыгать еще выше: когда мама приедет, вот когда. Несмотря на нездоровье, к концу апреля он закончил вчерне свои "Геологические наблюдения над Южной Америкой". Тогда же Чарлз в первый раз получил за свои писания приличный гонорар – сто пятьдесят фунтов стерлингов. Их заплатил ему Джон Мэррей, приобретший права на издание его "Дневника изысканий ("Путешествие натуралиста вокруг света на корабле "Бигль") в сериях "Колониальная библиотека" и "Домашняя библиотека". – Правда за эти денежки мне придется изрядно попотеть, – сообщил он Эмме. – И Джон, и я – мы оба считаем, что книга выиграет от переработки и сокращений. Игра в данном случае стоила свеч. Ведь "Дневник" попадал теперь к более широкому кругу читателей: книга должна была стоить всего полкроны. Издание, конечно, не назовешь роскошным: мелкий шрифт, крошечные поля. Жертвовал Мэррей и картами, о чем Чарлз весьма сожалел. Но зато увеличивалось число иллюстраций. Выпуски этой серии пользовались большим спросом. Всем этим Дарвин был обязан Лайелю, под чьим влиянием Мэррей приобрел права на публикацию. Чарлз, не откладывая, принялся за переделки. Он наполовину сократил описание климата и ледников, но зато добавил многое из жизни аборигенов Огненной Земли. Самым же ценным добавлением, решил он, явилась смягченная, правда, постановка вопроса о вымирании видов. Шесть лет, истекшие с момента первой публикации "Путешествия", не прошли для Дарвина даром. Новое издание в гораздо большей мере, чем прежнее, отражало его веру в эволюцию. Тем временем в Даун-Хаус собрались приехать супруги Лайель. Чарлз только что получил по почте книгу Лайеля "Путешествие по Северной Америке". Он тут же прочел ее. Его критический взгляд обнаружил в ней прегрешения не только против структуры, но и против морали. К примеру, автор, казалось, довольно терпимо отнесся к рабству. Чарлз так и заявил ему, едва они отправились вдвоем на прогулку в лес. Лайель был поражен. В конце года они с женой снова собирались в Соединенные Штаты, на этот раз на целых девять месяцев, и он обещал Дарвину внимательно отнестись к изучению данной проблемы. – Послушайте, Дарвин, – обратился он к другу, – моя Мэри самым решительным образом останавливает меня, если я чересчур много работаю. А как Эмма, тоже держит вас в узде? – Это излишне: с ее обязанностями справляется мой мерзкий кишечник. Чарлз украдкой бросил взгляд на лицо Лайеля. – Я знаю, многие из моих друзей думают, что я – ипохондрик. К этому времени они возвратились в маленькую пристройку к гостиной, выходившую окнами на сад и окрестные луга. Закатившееся летнее солнце оставило на небе целую гамму оттенков – от светло-розового до темно-пурпурного. Лайель подвинул свой стул поближе к Дарвину: – Нет, мы вовсе не думаем, что вы, Дарвин, страдаете ипохондрией. Мы только недоумеваем, как это врачи не могут поставить правильного диагноза. – Как и я сам! Вскоре после отъезда Лайелей в Лондон Эмма разрешилась от бремени: Джордж Говард Дарвин, их второй сын, редился 9 июля 1845 года. На этот раз Эмма долго не могла оправиться после родов. Чарлз был с нею столь же нежен, как она бывала терпелива с ним во время его приступов. Оба они души не чаяли в своем пухленьком младенце, а сколько было радости, когда Эмма снова смогла гулять с Чарлзом в саду и в лесу! В июле, сентябре и октябре Джон Мэррей выпустил "Путешествие на "Бигле" тремя отдельными частями. Читатели хорошо их встретили. После этого он отдал в переплет пять тысяч экземпляров всей книги целиком. А ведь в свое время другому издателю, Колберну, понадобилось почти четыре года, чтобы распродать всего полторы тысячи. – Что касается количества, то это настоящий скачок, – воскликнул Чарлз, добавив не без некоторой горечи: – Правда, в анонсе серия была названа "дешевой". Лучше бы уж выбрали другое слово – скажем, "недорогая". В Лондон Чарлз поехал, чтобы походить по книжным лавкам и пообедать с Лайелем в "Атенеуме". Выбрав столик в самом дальнем углу, они удобно расположились у окна на обитых кожей стульях. – А ведь все это время я не переставал читать и собирать факты для доказательства видоизменения одомашненных животных и растений, – рассказал Чарлз. – По вопросу о видах у меня накопилось множество фактов. Мне кажется, что теперь я могу сделать обоснованные выводы. – О том, что все виды способны изменяться и что изменения эти происходят на протяжении тысячелетий? – Да. И что родственные виды происходят от общих предков. – И вы все еще не надумали обнародовать свою теорию? – Нет. Во всяком случае, это будет не скоро… если будет вообще. Я занимаюсь видами уже девять лет, и никогда ничего не доставляло мне такого удовольствия. На лбу Лайеля резче обозначились морщины. – Удовольствия, говорите? Вы уверены в этом? – Допив бокал белого рейнского вина, он задал еще один вопрос: – А как относится Эмма к этой вашей атаке на божественное откровение? Чарлз задумался. Отвечая, он тщательно взвешивал каждое слово. – Она, должно быть, догадывается о том, чем именно я занят, потому что видит весь этот нескончаемый поток писем, специальных журналов и книг от селекционеров, ботаников, зоологов… Я-то все-таки геолог! Но она ничего не говорит, а сам я никогда не завожу речи об этом предмете. Во время очередного однодневного наезда в Лондон он узнал, что капитана Фицроя, посланного около двух лет назад английским губернатором в Новую Зеландию, отозвали, так как он не сумел наладить отношений с поселенцами. Это была не единственная огорчительная для него новость. И в уединении сельской жизни, ежедневно читая лондонскую "Тайме", Чарлз был осведомлен о том, что Англия давно уже не переживала столь трудных времен. За последние сто лет заработки никогда еще не падали так низко. Ненавистные Хлебные законы [Общее название законов, регулировавших до 1846 года ввоз и вывоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Охраняя интересы английских землевладельцев, они ухудшали положение народа, особенно в период "голодных" сороковых годов. – Прим. пер.], против которых выступали Дарвины и Веджвуды, сохраняли такие неимоверно высокие пошлины на зерно, что его ввоз практически прекратился, в результате чего цены на хлеб в стране резко подскочили. Бедняков охватила настоящая паника: не хватало денег, чтобы прокормить семью. Из-за промышленной революции резко сократилось сельскохозяйственное производство. Фермеры, особенно молодежь, бежали из деревни в город, чтобы иметь возможность хоть как-то заработать на жизнь на заводах и фабриках. В придачу год выдался неурожайным для зерновых, а картофель почти полностью погиб из-за грибка. На примере собственного огорода Чарлз убедился, что большая часть картофеля сгнила. – Что же мы посадим в будущем году? – сокрушалась Эмма, – Ведь так у нас не останется ни одной семенной картофелины. – Я накопал немного хорошей. Сегодня насушу в печке песок – картошку мы будем хранить в корзинах с песком. Он не стал говорить жене, мало интересовавшейся газетными новостями, что, по мнению некоторых обозревателей, страна никогда еще не была столь близка к революции. Джону Генсло он писал: "Мой садовник жаловался мне, что, когда цена на муку снова поднялась, его семье пришлось тратить на выпечку хлеба на пятнадцать пенсов больше, чем раньше, – из тех двенадцати шиллингов, которые он получает в неделю. Это примерно то же самое, как если бы одному из нас, скажем, пришлось дополнительно платить за хлеб девяносто или сто фунтов стерлингов. Эти проклятые Хлебные законы нужно поскорее вышвырнуть на свалку". Зима выдалась мрачная. Весной Хлебные законы отменили. Чарлз записал: "Порча картофеля привела к тому, к чему так и не смогли привести двадцать лет агитации". В начале 1846 года здоровье матери Эммы заметно ухудшилось, и дочь отправилась в Мэр-Холл, чтобы быть рядом с нею. Как только она вернулась, Чарлз поехал в Маунт навестить отца, чьи силы таяли с каждым днем. В конце марта Бесси Веджвуд скончалась. "Как я благодарна, что смерть ее была такой легкой, – писала Элизабет. – Вечером я услыхала, как она, по обыкновению, говорит: "Господи, позволь рабе твоей почить в мире". Теперь, я полагаю, пора подумать над тем, чтобы уехать отсюда и продать имение". Мысль об этом потрясла Эмму. – Неужели Мэр-Холл навсегда уйдет из нашей жизни? – застонала она. Место, где мы выросли, самое прекрасное на земле? Организм доктора Дарвина оказался более выносливым, чем у тетушки Бесси. Кризис миновал, и жизнь в Маунте пошла по заведенному порядку. За отцом продолжали преданно ухаживать дочери – Сюзан и Кзтти. Уияльму исполнялось семь лет: при четырех маленьких детях в доме решено было оборудовать для них в Даун Хаусе классную комнату и пригласить гувернантку, чтобы заняться их образованием. – С гувернанткой я бы повременил как можно дольше, – предложил Чарлз, – но насчет комнаты я целиком согласен. Надо будет перестроить оба флигеля, а над ними настелить пол для просторного классного помещения. Я хочу, чтобы оно выходило окнами в сад, а рядом была комната для гувернантки. – Раз уж ты заговорил о переделках, – вставила Эмма, – то учти, Сэлли жалуется, что через кухню должны проходить все, кто ни придет в дом, посыльный ли это -или рабочие. Это ей очень мешает. Нельзя ли заделать старую дверь кирпичом, а новую сделать в другой части кухни со стороны кладовой? Обдумывая предложение жены, Чарлз принялся массировать брови. – Кладовая Парсло тоже нуждается в перестройке. Она чересчур тесна, придется добавить ему места. К тому же прежний владелец заделал окно кирпичом, чтобы не платить оконного налога. Надо будет разобрать кирпич и вставить стекло. – А-хватит ли у нас на все это денег? – С трудом. Но, надеюсь, конклав в Шрусбери не осудит меня за мотовство. Правда, сейчас, когда мы читаем биографию сэра Вальтера Скотта, я иногда склонен думать, что мы, пусть и со скоростью улитки, но все-таки движемся по его стопам – к неминуемому разорению. Как-то во время одного из визитов Чарлза в Лондон доктор Генри Холланд порекомендовал ему ради укрепления здоровья отказаться от двух ежедневных сигарет и сигары, которую он выкуривал от случая к случаю. В результате Дарвин перешел на нюхательный табак и очень бьй этому рад: ему казалось, что табак "прочищает мозги" и обостряет восприятие. Теперь он постоянно держал на камине темно-зеленую глиняную табакерку, чтобы до нее легко было дотянуться правой рукой. – Слишком уж легко ты захотел избавиться от своих 0олезней! воскликнула Эмма, когда он снова захворал. – Этот твой табак так же вреден, как и сигареты. Ради меня и самого себя откажись от него на месяц. Чарлз так и поступил, но при этом то и дело ворчал: – Злодейка!.Заставила меня бросить нюхать табак, и теперь я туп и вял, как сонная муха. В конце месяца они пошли на мировую. – Разреши мне оставить табакерку в коридоре! – взмолился Чарлз. Тогда, чтобы до нее добраться, мне придется сперва снять с подлокотников кресла дощечку для письма, а потом пройти через всю комнату – в общем причинить себе столько беспокойства, что нюхать табак я буду гораздо реже. – Втрое реже? Тогда я согласна. Такая малость уж конечно тебе не повредит. Но детям я никогда не открою, что тебе потребовалось передвинуть предмет вожделения подальше от себя, чтобы бороться с искушением. В гости к ним приехал Джозеф Гукер, захватив с собой начатую работу. За это время он успел сделаться самым близким другом Чарлза, которому тот поверял самые сокровенные мысли, делясь с ним своими последними открытиями. Гукер выглядел таким бледным и изможденным, что Чарлз не удержался от восклицания: – Вам следует обзавестись женой, чтобы она не позволяла вам чересчур много работать! Гукер едва заметно улыбнулся. – Мне всего двадцать восемь. Вы-то женились только в тридцать! Прежде чем окончательно остепениться, я хотел бы совершить еще одно путешествие. После того как Гукер уехал к себе в Кью, Чарлз поделился с Эммой: – Я решил соорудить тропу для прогулок на границе между нашим участком и землями Леббока – наподобие "(докторской тропы" в Шрусбери. Мне нужно иметь собственную прогулочную аллею, "тропу раздумий", если хочешь, где я мог бы сам себе задавать вопросы и искать на них ответы. Монографии и книги сперва должны созреть в голове, на бумаге они пишутся потом. Я проложу ее на южной стороне. До середины она будет проходить по открытому полю, а потом свернет в лес за дальним лугом. Получится нечто вроде замкнутого круга. У себя в лесу мы обнаружили песчаную яму, поэтому песка у нас предостаточно. Как только мы с Комфортом окончательно определим трассу, надо будет нанять двух рабочих, чтобы очистить тропу от камней и сорняков, выкорчевать пни, кое-где подровнять и тогда уже засыпать ее песком. – А что, большой будет эта твоя "мыслительная империя"? – Ну, скажем, семь-восемь футов в ширину и, вероятно, с треть мили в длину. Вскоре Чарлз увидел, что для облюбованной им трассы собственной земли за лесом у него не хватает, так что требуется на несколько футов залезть к соседу, сэру Джону Леббоку. Банкир, астроном и математик, он владел большим имением Хай Эямс: полоска земли, о которой шла речь, находилась ва отшибе и никак не использовалась, хотя она и увенчивала собой чудесную зеленую долину, куда выгоняли пастись скот. Дарвины и Леббоки были знакомы домами и несколько раз обедали друг у друга. Леди Леббок с особой теплотой относилась к Эмме. – Я не собираюсь просить об одолжении у соседей, – заявил Чарлз. – Хорошо, предложи арендовать землю и возобновляй аренду каждый год, деловым тоном сказала Эмма. Дарвин тут же отправился в Хай Элмс и изложил свою просьбу относительно песчаной тропы. – Могу ли я арендовать у вас этот участок? – осведомился он. – Мы, со своей стороны, готовы пойти на любые разумные условия. – Земля, о которой вы говорите, кажется, ирннадле-жит моей жене, ответил сэр Джое. – Позвольте мне узнать у нее. Через два дня Леббок прискакал в Даун-Хаус на своем любимом жеребце. За чаем он сообщил Дзрвннам: – Леди Леббок просит вас распоряжаться этой узенькой полоской земли как вам потребуется. От денег ока наотрез отказывается, но я предложил, что было бы лучше, если бы вы вносили чисто символическую арендную плату и не чувствоеали себя никому обязанными. Открытый участок тропы был по указанию Чарлза ряд за рядом обсажен остролистом, орешником, ольхой, липой, грабом, бирючиной и дёреном. В дальнем конце огорода у деревянных воротных столбов, от которых шла высокая живая изгородь, садовник посадил дуб и бук. Здесь брала начало Песчаная тропа, как называли ее в семье, лежавшая между лугами Дарвинов и Леббоков и обнесенная в открытых местах забором, чтобы Чарлз мог укрыться от постороннего взгляда. По его просьбе плотник соорудил в конце открытого участка тропы небольшую летнюю беседку. Отсюда тропа сворачивала в темные лесные заросли. Проходя опушкой, петляя по мху, меж низкорослых растений, она вновь змеилась по просторам полей. В конце концов, к немалому удовольствию Дарвина, прокладка трассы завершилась. Почва вокруг была плодородной (по существу, нетронутая целина), и он ожидал, что его посадки – изгородь, цветы и деревья быстро пойдут в рост. – Теперь, – радостно сообщил он Эмме, – мне остается выработать методу подсчета, чтобы точно знать, сколько кругов я сделал, входя в лес. – А что, нельзя просто ходить, пока не устанешь? – Это слишком примитивно. Мне нужна формула. Эмма рассмеялась, но он говорил вполне серьезно. На том месте, где Песчаная тропа делала поворот в лес, Чарлз выкладывал кремневые камешки – от одного до семи. Каждый из них означал один круг: проходя мимо них, Чарлз отшвыривал последний камешек в сторону, возвращался обратно по светлой стороне, проходил через маленькие ворота в изгороди и шел домой огородом и садом, чтобы сесть за обеденный стол. Чарлз яе мог нарадоваться Песчаной тропе и никогда не пропускал прогулки по ней, каким бы усталым он себя ни чувствовал. – Меня озадачивает только одно, – произнесла Эмма, совершая променад вместе с мужем. – Каким образом ты заранее определяешь, сколько именно голышей выкладывать? – Это зависит от множества факторов, – отвечал Чарлз с нарочито серьезным видом. – Как когда-то капитану Фицрою приходилось учитывать все переменные величины, чтобы решить, искать ли ему гавань и ложиться в дрейф или идти наперекор волнам, так и мне всякий раз надо решать математическое уравнение со многими неизвестными. Сколько времени мне нужно гулять, пока из организма не выйдут все яды, накопившиеся при интенсивной умственной работе? Хорошая ли сегодня погода? Какой запах издавала телячья нога, которую жарила на кухне Сэлли, когда я выходил из ворот? Видишь, дорогая, с тех пор как я больше не хожу по окрестностям, скажем, до Кадхэм-ского леса или до Холмской долины, мне просто необходима раз и навсегда заведенная система. Это дает мне возможность расслабиться и вместе с тем меня дисциплинирует. Ну что, есть в этом смысл? – Для тебя безусловно. Что касается меня, то я всегда бываю рада, когда остается последний камешек. В сентябре в Саутгемптоне должен был собраться съезд Британской ассоциации, и, решив отправиться туда, Чарлз спросил у Эммы, не согласилась ли бы она "го сопровождать. Эмма на мгновение задумалась, потом спросила: – А что, можно будет совершить экскурсию в Портсмут и на остров Уайт?.. К своей радости, они застали в Саутгемптоне Лайелей и Леонарда Дженинса, преподнесшего Чарлзу экземпляр своей только что вышедшей книги "Наблюдения над естественной историей". Встретился Чарлз и с некоторыми из друзей по Эдинбургу, с группой натуралистов из Ирландии. Те, кто жил неподалеку, показывали Дарвинам местные достопримечательности и наперебой приглашали на званые обеды, проходившие обычно в научных спорах. Как-то раз, когда очередное выступление на съезде оказалось особенно скучным, Чарлз повернулся к Эмме: – Боюсь, что доклад тебя очень утомил? – Не больше, чем все другие, – отвечала она со вздохом. Чарлз от души расхохотался и рассказал об ее ответе самым близким друзьям. После этого он свозил ее на обещанные экскурсии. По дороге домой он заметил: – Чта ж, неделя была приятной во всех отношениях. Эмма изучающим взглядом окинула лицо мужа: румянец на щеках, живой блеск в глазах, – казалось, от него так и веет здоровьем. – Может быть, всю оставшуюся жизнь нам стоило бы посвятить скучным заседаниям и экскурсиям? Тогда тебя перестанут мучить приступы болезни. – Я знаю, что ты шутишь, – ответил он. г – Без работы жизнь для меня сделалась бы невыносимой. К концу года должны были выйти из печати его "Геологические наблюдения над Южной Америкой". Неужели с того дня, как он взялся за эту работу, прошло уже десять лет? Чарлз в изумлении покачал головой. Выходит, Джон Генсло оказался прав, с самого начала предсказав, что для описания коллекции потребуется вдвое больше времени, чем для ее сбора и наблюдений. Минувшее десятилетие было весьма плодотворным. "Ну а будущее? – спросил он самого себя. – Как я намерен им распорядиться и чего надеюсь достичь?" Теперь Чарлз решил заняться усоногими ракообразными, и прежде всего морскими уточками. У берегов Чили он в свое время столкнулся с удивительной формой этих усоногих, отличавшейся от всех, какие были ему известны. Чтобы разобраться в ее структуре, он решил сейчас изучить и. препарировать множество других, обычных экземпляров, но обнаружил, что об усоногих науке известно плачевно мало. Только когда в гости к ним на несколько дней приехал ДжозефТукер, перед Чарлзом начал вырисовываться примерный план работы. – Усоногие займут у меня несколько месяцев, может быть, год, поделился он с Гукером. – После этого я вновь обращусь к своим записям о видах и разновидностях, которые я веду уже десять лет. Чтобы дописать их, потребуется, я полагаю, лет пять, не меньше. Зато я тут же паду в глазах всех сколько-нибудь серьезных натуралистов, если их опубликую. – Вы неправы, – отвечал на это Гукер, – ваши друзья могут засвидетельствовать необычайную тщательность, характерную для ваших исследований, и, конечно, выступят на вашей стороне. А ваши враги, точнее, враги ваших идей, естественно, ополчатся против вас. Что же, такова отведенная им в жизни роль. 1 октября 1846 года – начало второго десятилетия профессиональной деятельности Чарлза. День выдался ясным. Дарвин позвал собаку и, выйдя на Песчаную тропу, положил на старте у обочины целых семь камешков, такой прилив сил он ощущал. В час дня, когда они, по обыкновению, сели обедать, Чарлз обратился к Эмме: – Знаешь, у берегов Чили я обнаружил любопытную форму усоногих рачков. От всех других она отличается тем, что у. ее представителей развился специальный орган, напоминающий буравчик: он позволяет рачку проникать через раковину моллюска Concholepas – возможно, это его единственная пища. Так что без своего буравчика данная разновидность была бы обречена.Я намерен препарировать этого усоного рачка и с помощью микроскопа изучить, как он функционирует. На втором подоконнике (возле первого стояло его "письменное кресло") Дарвин установил микроскоп и поместил необходимый инструментарий: длинные тонкие ножницы с колесиком, регулирующим ширину разреза при вивисекции; треугольную пилку с игольчатым наконечником; несколько малюсеньких щеточек; длинную трость из слоновой кости со стальным, крючком на конце; зонд, или "раздражительную иглу"; небольшой ножик. Заинтересовавшая его морская уточка была заспиртована вместе с десятками других, обычных собранных им экземпляроб. Спустившись в прохладный погреб, он достал оттуда одну из нескольких бутылей, которые пролежали у него десять лет, принес ее к себе в кабинет и извлек маленького рачка. Осторожно отделив оболочку и "обнаружив, что тело еще сохранило мягкость, он опустил его в стеклянное блюдце с прозрачной водой. Затем поместил блюдечко под микроскоп на подставку размером в дюйм и, прильнув к стеклу правым глазом, отрегулировал нижнее эеркальце так, чтобы поймать максимум света. Результат разочаровал его: внутренность рачка, занимавшая в длину меньше одной десятой дюйма, [оказалась все ж" слишком плотной и не просматривалась насквозь. Как он ни бился, но так и не смог на шаткой подставке ясно разглядеть даже отдельные органы, ни тем более их детали, и не получил тех сведений, на какие рассчитывал. Микроскоп явно не подходил для его задач. Если ему надо изучать перуанскую диковинку, которая добывала себе пропитание, пробуравливая раковину моллюска, и препарировать других усоногих, которые намертво прикрепляют себя к днищу кораблей, бревнам и скалам, загоняя пищу из моря прямо себе в рот с помощью мохнатых ножек, то придется доставать большую и прочную подставку для блюдечка. В свое время Чарлз выбрал самый совершенный микроскоп, подходивший для работы на "Бигле", и он сослужил ему хорошую службу. Теперь, когда предстояло заниматься препарированием позвоночных и беспозвоночных животных, ему требовалась более совершенная модель. Только в Лондоне можно было попытаться ее найти. Пар-сло собрал ему в дорогу старую голубую сумку, и Чарлз отправился в город, где собирался ночевать у Эразма. В Лондоне на Бридж-стейшн он нанял кеб, чтобы побыстрее добраться до района Ковент-Гарден, где были сосредоточены оптические магазины на Гэррик-стрит, а также на Ньюгейт и Коулмен-стрит. Он обошел с полдюжины лучших магазинов, объясняя, что именно ему требуется. Владельцы, хотя и вежливо, отвечали отказом: – К сожалению, мистер Дарвин, у нас есть только та модель микроскопа, который вы покупали в 1831 году. Об улучшенном варианте нам ничего не известно. В одном из больших магазинов "Смит энд Бек" по Коулмен-стрит, возле Английского банка, владельцы пообещали ему изготовить все, что он захочет, если им будут даны чертежи или спецификация. – Благодарю вас, джентльмены, но у меня нет чертежей, и я, увы, не могу их сделать. В сумерках, обескураженный, Чарлз добрался до дома Эразма на Парк-стрит как раз тогда, когда веселье в салоне брата было в полном разгаре. В камине полыхал огонь, чайнае столики были уставлены подносами с сандвичами, обдирным хлебом с маслом, горшочками с мясом, тарелками с заливным из курицы, блюдечками с вареньем, горячими лепешками, чайниками с заваркой и кипятком, покрытыми стегаными чехольчиками. В гостиной было шумно и весело. – Газ! – приветствовал его Эразм, встретивший брата в дверях. – Ты приехал исключительно вовремя. Сегодня моя кухарка себя перещеголяла. Должно быть, знала о твоем приезде. Разреши, я представлю тебе гостей. Лицо брата так и сияло в этот счастливейший для него час. Пожимая руку Томасу Карлейлго, Чарлз невольно подумал: "Рас создан для роли хозяина. Это его профессия. Нет никого, кто занимался бы ею лучше, чем он". Земля вращалась вокруг собственной оси, а жизнь Дар-винов – вокруг собственной сплоченной семьи и непреетзя-иой работы Чарлза над усоногнми. Хотя он препарировал, исследовал, описывал мельчайшие подробности и проводил классификацию там, где о ней раньше никто не заботился, это была в основном механическая деятельность: она занимала его целиком, пока он склонялся над микроскопом, но, как только за ним в конце дня закрывалась дверь кабинета, он переставал думать о работе. Куда любопытнее было ему следить за развитием своих детей, столь непохожих друг на друга. Восьмилетний Уильям отличался независимым нравом, склонен был держать свои мысли при себе и действовать втихомолку. Энни, которой скоро исполнялось семь лет, чувствительная, нежная и веселая, была его любимицей. Нередко она являлась к нему в кабинет с понюшкой прихваченного тайком табака. При этом на лице ее сияла улыбка: она знала, что доставляет ему радость. Когда у отца случался перерыв в работе, она забиралась к нему на колени и в течение получаса "делала ему красивые волосы". Бывало, она сопровождала его во время прогулки по Песчаной троне, то держа отца за руку, то уносясь вперед. Родители сходились на том, что этот ребенок – самое очаровательное существо в доме. Генриетта, Этти, в свои четыре года являла собой прямую противоположность сестре. Тихая, прилежная, она рано научилась читать, а когда Эмма вслух читала мужу, неизменно усаживалась рядом, поражая отца и мать тем, насколько внимательно и серьезно она слушала. В семье она была ревнивой: она страдала оттого, что после рождения Джорджа уделявшая ей прежде все свое внимание Броуди переключилась на новорожденного. В хорошую погоду дети убегали играть на Песчаную тропу. Броуди в этовремя восседала в летней беседке с вязаньем в руках – по шотландскому обычаю одна из спиц для устойчивости втыкалась в пучок петушиных перьев, привязанный к поясу. Даун-Хаус сделался притягательным центром для родственников обеих семей – и Дарвинов, и Веджвудов, как раньше им был Мэр-Холл или Маунт; в имении постоянно кто-нибудь гостил: Эммина сестра Элизабет, ее братья Генслей с Фэнни и детьми или Франк и Гарри с женами и детьми, Джо Веджвуд с сестрой Дарвина Каролиной и тремя детьми, перебравшиеся по соседству в Лейс-Хилл-плейс возле Уоттона в графстве Суррей, сестра Эммы Шарлотта и преподобный Чарлз Лэнгтон с их единственным отпрыском Эдмундом. Наезжали из Шрусбери и сестры Дарвина – то Сюзан, то Кэтти. Чарлз особенно радовался за Эмму: семейные связи были корнями, питавшими ее. Его самого родственники не отвлекали от работы, и никто не вынуждал его поддерживать за столом общий разговор, если ему этого не хотелось. Их визиты требовали от него куда меньше усилий, чем званые обеды у знакомых или прием друзей. – Да, у нас настоящий матриархат, – заметил он жене. – Обе семьи обращаются к тебе всякий раз, когда надо уладить какие-нибудь неприятности или разрешить сомнения. – Или когда хотят поделиться своим счастьем и радостями, – Эмма улыбалась с видом матроны. – Что ж, мне импонирует, что для них я все равно что родная мать, хотя по возрасту все они старше меня, кроме Кэтти. – Мудрость не зависит от возраста. – Но у меня ее нету. Все, чем я обладаю, – это терпение и любовь. Теперь, когда обоим было далеко за тридцать, в их внешности произошли заметные перемены. Волосы Чарлза из светло-рыжеватых стали темными. Его густая шевелюра, с едва заметными залысинами ко времени женитьбы, к тридцати восьми годам порядком поредела. Чтобы как-то компенсировать потерю, он отпустил длинные, широкие и пушистые бакенбарды. Брови его тоже потемнели. – И с чего это я так постарел за эти восемь лет? – жаловался он Эмме. – Когда ты вышла за меня замуж, я был молодым, светловолосым, светлолицым и вполне симпатичным. А сейчас? Да ты только погляди на меня сегодня, на пороге моего сорокалетия: почти что лысый, брови кустятся… – Это все от постоянных раздумий, – пошутила жена. – Что касается меня, то я нахожу, что сейчас ты гораздо привлекательней, чем тогда, когда мы поженились. В лице у тебя куда больше решимости, а голова – помнишь, твой отец сказал, что после "Бигля" ее форма изменилась? – сделалась еще массивнее. Раньше ты был просто мил. Теперь ты – могуч. – Ах, любовь! Так очаровательна и так слепа! "Чем старше становишься, – размышлял он на следующее утро, смотрясь в зеркало для бритья, – тем вернее выражает лицо твою внутреннюю сущность". Хотя к 1847 году Эмма родила уже пятерых детей, она мало изменилась. Каштановые волосы сохраняли прежний блеск, кожа оставалась гладкой, щеки румяными. Ни Веджвуды, ни Дарвины никогда не считали ее красавицей (впрочем, и дурнушкой тоже). Ее ласковые лучистые глаза были по-прежнему бархатисто-карими, к тому же с возрастом она не потеряла и фигуру. Что касается Чарлза, то если, как отметила Эмма, внешне он и казался более могучим, о своем физическом состоянии он не мог бы сказать того же самого. Ушли в прошлое времена, когда он без устали, по четырнадцати часов кряду, скакал на лошади, спал на сырой земле; подложив под голову седло, ел мясо гуанако… ощущая независимость и свободу. Джозефу Гукеру он обмолвился: – О своем здоровье мне нечего сказать, потому что я всегда чувствую себя почти одинаково – то чуточку лучше, то чуточку хуже. Его продолжало угнетать, что друзья могут считать его ипохондриком. Эмма однажды сказала ему: она счастлива оттого, что, даже когда ему особенно плохо, он остается таким же общительным и заботливым, как обычно, и она чувствует, что нужна ему. Для работы у него оставалось совсем немного экземпляров усоногих из коллекции, переданной им Ричарду Оуэну по возвращении из Кембриджа; их должно было хватить от силы месяца на три. Морские уточки, которых он собирал в тропических или просто.теплых морях, имели небольшое ромбовидное или овальное отверстие почти белого или пурпурного, иногда черного или бледно-персикового цвета. Щитки клапанов были почти треугольной формы, а в мягких тельцах просматривались сегменты с толстыми стенками и многочисленные трубочки. Чарлз очень жалел, что в Дауне экземпляров для исследования у него так мало. "Придется мне просить Оуэна, чтобы он уговорил Королевский хирургический колледж вернуть мою коллекцию", – в конце концов надумал он. В феврале 1847 года Дарвин сделал короткий перерыв в занятиях, чтобы съездить к отцу в Шрусбери и проездом через Лондон побывать в Королевском обществе. Газеты как о большой победе вовсю трезвонили, что палата общин приняла "10-часовой билль", ограничивавший десятью часами рабочий день женщин и детей, занятых на фабриках: возможно, то был самый либеральный законодательный акт со времени отмены Хлебных законов. Когда он вернулся домой, Эмма сообщила ему, что снова беременна. – С рождения Джорджа прошло почти два года, – начала она. – Мы же хотели, чтоб у нас была большая семья, так что поблагодарим бога – он даровал нам ее… Чарлз поцеловал ее в лоб, промолвив: – Боюсь, у нас просто нет другого выбора, если только я не постригусь в монахи и не перееду в монастырь. Работа с микроскопом не занимала мыслей Чарлза. Он мог спокойно обдумывать материал, что давали те отрасли знания, в которые он углублялся, а также сведения по выведению новых разновидностей, поступавшие от селекционеров. Десять лет назад он написал: "Если бы мы решились дать полную свободу вымыслу, то пришли бы к выводу, что животные ведут свое происхождение от одного общего с нами предка. И они и мы – это единый сплав… Не следует жалеть усилий в поисках причин последующих изменений". "Почему все более редкими становятся страусы в Патагонии?" – размышлял он, пока его не осенило: благоприятные условия сохраняют разновидности, в то время как неблагоприятные ведут их к самоуничтожению. Дарвин получал удовольствие от обоих видов работы – и практических опытов в лаборатории, и теоретических размышлений во время своих прогулок по Песчаной тропе. В июне он побывал в Оксфорде на заседании Британской ассоциации, куда, казалось, съехались все его коллеги: Адам Седжвик, Джордж Пикок, Ричард Оуэн, Чарлз Лайель, Юэлл, Бакленд, Мурчисои, Майкл Фарадей, сэр Джон Гершель, Джон и Хэрриет Генсло приехали со своей старшей дочерью Френсис. Джозеф Гукер взволнованно поведал Чарлзу: – Странная вещь! Я столько раз виделся с ней в доме Генсло, и в общем-то она мне всегда нравилась. Но вот вчера вечером за ужином я как будто впервые увидел Френсис, так поразила меня ее красота. Это было как откровение. Я понял, что люблю ее и должен просить ее руки. Сегодня утром я говорил с ней. Генсло согласны. – Еще бы! Ведь они заполучат в семью самого блестящего ботаника страны. Интересно, что у нас тоже получается скрещивание – семьями, профессиями. – ..Однако свадьбы нам придется ждать еще несколько лет. Адмиралтейство снаряжает научную экспедицию на Борнео, и, возможно, меня возьмут судовым натуралистом. А лесное ведомство предлагает мне совершить рейс в Индию. Гукер принес известие о том, что Королевский ботанический сад в Кью открыт для публики, как и новый музей экономической ботаники сэра Уильяма Гукера. На Ботанический сад Джона Генсло в окрестностях Кембриджа наконец-то выделили средства, и первые деревья там уже посажены. На геологической секции выступили Дарвин, Адам Седжвик и Роберт Чеймберс: именно этот последний и был, решил Чарлз, автором вызвавших столь бурную оппозицию "Следов". Возвратившись домой, он заявил Эмме: – Заседания доставили мне большое удовольствие, но все-таки самое приятное – одобрительная реакция специалистов по ракообразным, когда они узнали, что я занимаюсь препарированием и описанием всех родов усоногих. Генри Милн Эдварде, автор одной из моих давнишних любимых книг трехтомного исследования ракообразных, предложил мне познакомиться с его коллекцией и обещал оповестить всех, что мне срочно требуются экспонаты для работы. Эммина улыбка была вежливой, но сдержанной. – Извини, дорогой, но в данный момент меня больше занимает наш выводок, чем твои уточки. 8 июля у Дарвинов родилась дочь Элизабет, третья девочка. Сразу же после родов самочувствие Эммы улучшилось. Чарлз вернулся к работе над "Tubicinella coronula" и анатомией "стебельковых усоногих". – Когда я закончил книгу о коралловых рифах, то жаловался, что никто не станет ее читать, – заметил он. – Но спрашивается: кто же тогда станет читать мою анатомию усоногих рачков? – Да все грамотные усоногие, вот кто! А потом, разве ты сам не говорил, что хотел бы создавать книги-первоисточники? – Но мне нравится, когда их к тому же еще и покупают. Джон Мэррей уже распродал весь тираж переделанного "Дневника". Я знаю, что по контракту гонорар за переиздание книги мне не положен, но все равно то, что написанные мною книги расходятся, тешит мое авторское самолюбие. Опубликованные Чарлзрм четыре собственные и пять отредактированных им книг в целом были весьма благосклонно восприняты в ученом мире. Как правило, дарвиновские теории не оспаривались, а если критика и высказывалась, то в самой корректной, "академической" форме. И вдруг в сентябрьском номере "Журнала Эдинбургского королевского общества" за 1847 год появляется статья с описанием "дорог" и береговой линии Глен-Роя, автор которой буквально обрушивался и на доклад, в свое время сделанный Чарлзом на заседании Лондонского Королевского общества, и на его научную добросовестность. – Я прямо заболел от горя, – признался он Гукеру. Хотя полемика и не была бурной, Чарлз проклинал тот день, когда девять лет назад поехал в Шотландию, чтобы собрать материал для своего доклада. – Не умею я защищаться! – пожаловался он Эмме. – Конечно, это слабость. Нужно быть сильнее, нужно уметь драться, когда на тебя нападают. Удалившись в свой кабинет, он на девяти страницах составил опровержение и послал его редактору "Скотс-мена". Испещренное многочисленными поправками письмо, почти каждую фразу которого он переписывал по нескольку раз, так никогда и не появилось в газете. В октябре погостить к Дарвинам приехали на недельку Лайели: Чарлз привез хозяину коллекцию усоногих, а Мэри подарила превосходный портрет мужа в раме. Чарлз тотчас же повесил его над зеркалом на центральной стенке камина и пригласил Мэри в кабинет, чтобы продемонстрировать ей результаты своих трудов. – Я так рад вашему подарку. Огромное за него спасибо! Лайель прочел все, что было написано Чарлзом по усо-ногим рачкам, наблюдал, как виртуозно проводит тот препарирование под водой, выделяя мягкую округлую мешковидную часть тела. – Отличная работа, Дарвин, – отозвался он. – Вы становитесь прямо-таки экспертом по части обращения с этим мельчайшим режущим инструментом. И все-таки больше всего меня восхищает в вас способность скрупулезно описывать все детали. Таким и надлежит быть настоящему ученому, специалисту, которого каждый обязан уважать. Для меня вы – его живое воплощение. В ответ Чарлз только вздохнул и, накрыв микроскоп чехлом, предложил: – Одевайтесь и пошли пройдемся по Песчаной тропе. Сколько сегодня камешков положим? Может, десять? Уже целый год я не проходил свою дистанцию столько раз подряд. На восьмом круге Чарлз произнес: – Вот уж никогда не представлял себе, что в мире столько разновидностей усоногих. Мне были известны сотни, а оказалось, что их тысячи. Если препарировать и описать всех, то на это уйдут годы! По дружелюбному лицу Лайеля расползлась широкая улыбка: – Но разве не за этим они вам и даны? Чарлз задумался. Лайель сам отшвырнул ногой очередной камешек. Оставалось пройти последний круг. Холодало, в воздухе пахло дождем. – Да, вроде бы ваши морские уточки – это скучища, – прибавил Лайель. Вся их деятельность – облеплять днища кораблей. Но природа создала усоногих рачков не бесцельно. Изучая их приспособляемость к климатическим условиям, различным морям, меняющимся запасам пищи, вы – кто знает? – быть может, обнаружите что-то такое, что имеет отношение к этой вашей таинственной теории трансмутации видов… Он прервал свою тираду ровно настолько, сколько требовалось, чтобы по-дружески грубовато обнять Чарлза за плечи: – ..теории, которой я верю не больше чем наполовину. Как только Дарвин закончил препарировать усоногих рачков Лайеля, он поехал в Лондон, чтобы повидаться с Ричардом Оуэном. Помещения, которые он занимал в Королевском хирургическом колледже, разительно отличались одно от другого. Одна комната представляла собой теплый кабинет, уставленный книгами, где витал дух учености и трубочного табака; другая – холодную лабораторию с операционным столом и набором скальпелей, ножей с изогнутыми лезвиями и хирургических ножниц, необходимых для анатомирования животных – как живых, содержащихся в клетках, так и мертвых, хранившихся в ящиках со льдом. – Оуэн, – обратился к нему Чарлз, – можно мне одолжить коллекцию своих усоногих, которую в свое время я передал колледжу? Мне нужно гораздо больше родов, чтобы разобраться в изменчивости их структуры. – Конечно. Ваша коллекция находится в музее без всякой пользы. – Я был не совсем точен, когда употребил слово "одолжить". Усоногих рачков мне придется уничтожить: ведь я должен их препарировать, а помещать их обратно в раковины я еще не научился. Оуэн улыбнулся этой попытке Чарлза сострить: его всегдашняя манера держаться отчужденно не позволила ему открыто рассмеяться. – Вы вернете их в виде своей монографии. А это замена вполне равноценная. Чарлза поражало, как много времени приходится отдавать сосредоточенной работе: и наблюдениям под микроскопом, и записям в тетради. Он вел подробный дневник, где отмечал, сколько именно времени заняло изучение того или иного рода.. – Совершенно непроизвольно я пришел к необходимости дать название нескольким клапанам, а также некоторым из более мягких частей тела, сказал он Эмме. – А что, до тебя их никак не назвали? – До меня их попросту не видели! Одним из родов он занимался ровно тридцать шесть дней, а описание его заняло всего двадцать две страницы. Другим – девятнадцать, но зато Чарлз был вознагражден двадцатью семью страницами свежего материала. – При такой скорости я никогда не кончу! – простонал он, сидя в гостиной у камина. – Эти "зверюги" и так отняли у меня больше года. – Работа есть работа, – отвечала жена. – Ты же любишь их, правда? – Моих дорогих уточек? Да я от них без ума! После того как одна за другой лопнули все предпринятые Адмиралтейством попытки направить Джозефа Гукера на Борнео, Малайские острова или в Индию для проведения ботанических исследований и положение выглядело безнадежным, неожиданно пришло спасительное письмо от барона фон Гумбольдта. Постаревший, но по-прежнему столь же активный Гумбольдт обрисовал все выгоды, которые сулила науке экспедиция по Индии и Гималаям, чьи ископаемые окаменелости неопровержимо свидетельствовали, что эта двойная горная цепь с высочайшими вершинами мира когда-то была морским дном. Это побудило министра финансов наконец-то согласиться выдать Гукеру, все еще получавшему половину своего прежнего жалованья, пособие из расчета четырехсот фунтов в год. Ему был разрешен бесплатный проезд на корабле флота ее королевского величества "Сидоне", на котором отправлялся в Индию новый британский генерал-губернатор. – От души поздравляю, – сказал Чарлз своему молодому другу. – Уверен, и путешествие, и экспедиция пройдут великолепно, но я хотел бы, чтобы они поскорее закончились. Пусть это и эгоистично, но мне будет вас страшно не хватать – во всем. Тем временем сэр Джон Гершель прислал записку, предлагая вместе пообедать, как только Чарлз надумает выбраться в Лондон. Когда-то именно Гершель первым сообщил ему об издании Кембриджским философским обществом его небольшой монографии. Из Кейптауна сэр Джон вернулся в Англию в 1838 году, двумя годами позже экспедиции на "Бигле", и последующие девять лет занимался главным трудом своей жизни – "Наблюдениями на мысе". Вскоре он должен был стать президентом Королевского астрономического общества. При виде Гершеля на Чарлза нахлынула теплая волна ностальгических воспоминаний о пяти проведенных на море годах. – Я пригласил вас, с тем чтобы просить принять участие в важной работе по заказу лордов – представителей Адмиралтейства, – сообщил Гершель за обедом. – Они обратились ко мне с просьбой составить, я цитирую, "Руководство по научным исследованиям для офицеров военно-морского флота ее королевского величества, для натуралистов и просто путешественников:". В нем предполагаются, в частности, главы по астрономии, гидрографии, метеорологии и, конечно, зоологии, которую поручено написать вашему другу Ричарду Оуэну, и ботанике – ее делает сэр Уильям Гукер. Все мы считаем, что именно вы самый подходящий автор для главы по геологии. Что вы на это скажете? Хотя Чарлз закончил свою рукопись по геологии Южной Америки всего два года назад и она порядком успела ему надоесть, он не ожидал, что ему будет трудно уложить в двадцать пять – тридцать страниц текста, призванного помочь не одному поколению моряков и натуралистов, то, что он знал. – За издание берется Адмиралтейство, – сказал сэр Джон. – А распространением займется Джон Мэррей. Никакого гонорара или авторских не предусматривается, но не думаю, чтобы это вас остановило. – Я должен Адмиралтейству немало, да что там – я обязан ему всем. И горжусь, что мое имя появится в той же книге, что и ваше, и Ричарда Оуэна, и сэра Уильяма Гукера. По пути домой, глядя на зимний пейзаж Кента, мелькавший за окнами вагона, он бормотал под скрежет колес: – Что же, это вам за нападки на меня в "Журнале Эдинбургского королевского общества". Одно калечит, другое лечит. Зачехлив микроскоп и отложив инструменты, он пересел на свое обычное место в кресло с обитой материей дощечкой на подлокотниках для письма… радуясь возможности вновь очутиться на время в своей прежней корабельной каюте. Глава писалась сама собой, без всяких усилий, настолько он был переполнен впечатлениями и мыслями, накопившимися за пять лет плавания на "Бигле". Чтобы ее завершить, ему понадобилось всего две-три недели; поначалу он боялся, что включил чересчур много материала, но сэр Джон пришел в восторг и от его трудолюбия, и от качества работы. Воспрянув духом, Чарлз тут же принялся за другую работу, о которой давно просили его Лайель и Геологическое общество, – "О переносе эрратических валунов с более низкого на более высокий уровень". По вечерам Эмма играла для него попурри из опер Беллини "Норма" и Россини "Вильгельм Телль". Одной из любимых опер Чарлза была – по вполне понятной причине – "Эмма" Обера. Год выдался удачным и по части чтения вслух: только что в Лондоне появились "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, первые выпуски "Ярмарки тщеславия" Теккерея и "Грозовой перевал" Эмилии Бронте. По мере того как его коллеги из Лондона узнавали о существовании Даун-Хауса, увеличилось также и количество поездок на станцию Сиденхэм. 19 апреля.1848 года Чарлз обедал в Геологическом обществе с Лайелем, Мурчисоном, Хорнером и Юэллом. Он довольно долго не бывал на заседаниях Общества и сейчас град насмешек обрушился на "удалившегося от дел сквайра, впавшего в спячку в сельской глуши". – "Удалившегося от дел?" – вступился за друга Ла-йель. – Посмотрели бы вы на его кабинет. Он еще выйдет из своей пещеры – и тогда весь мир признает его как непререкаемый авторитет по усоногим рачкам. Выступив с докладом, Чарлз привел доказательства своей теории, согласно которой в поднятии валунов с исходного уровня материнской породы виноваты прибрежные льды. Доклад был хорошо принят, ему тепло жали руку почти все из тех, кто присутствовал в конференц-зале. По дороге домой Лайель негромко произнес: – Дарвин, а не лучше ли вам жить в Лондоне? Городская жизнь имеет много плюсов. Таких, как сегодняшний восторженный прием, например. У вас же наверняка сердце радовалось. – Совершенно с вами согласен: Лондон имеет свою привлекательность, свои светлые стороны. Но я все равно никогда не откажусь от сельской жизни. Вот увидите, так для меня будет лучше. На следующее утро он завтракал с Эразмом, затем зашел повидаться к Джону Грею, хранителю зоологического отдела Британского музея. Там находилась большая коллекция усоногих, пополнявшаяся с годами за счет экспедиций натуралистов, включая и самого Грея; экспонаты, однако, не были классифицированы и не могли поэтому быть занесены в каталог. – У нас они фактически лежат без всякой пользы, – сказал Грей. – Никто не считает нужным ими заняться. Я поговорю с попечителями, чтобы они разрешили передать коллекцию вам. Весной Чарлз еще раз побывал в Лондоне, чтобы послушать доклад Гидеона Мантелла об ископаемых окаменело-стях в древних породах. Выпив по аперитиву, Чарлз и Лайель остались обедать в Королевском обществе в помещении Соммерсет-Хауса. Через стол от них восседал Ричард Оуэн, который, Дарвин знал это, считал себя самым большим авторитетом по части геологических ископаемых. Впрочем, он и на самом деле приобретал все большую известность. Чарлзу понравился доклад: он был не только интересно изложен – большая редкость в научных кругах! – но и убедительно аргументирован. Поэтому-то Дарвин просто оторопел, услышав, как Ричард Оуэн, буквально кипящий от ярости, принялся вопить прямо в лицо Мантеллу, едва успевшему занять свое место за столом: – Доклад никуда не годится! Исследование поверхностно, а выводы насквозь фальшивы. Я решительно вы-стугшо против подобного шарлатанства как недостойного Королевского общества и требую, чтобы оно было осуждено. Дежтар Гидеон Мантелл, пятвдесятввосьмилетний практикующий врач, весьма уважаемый в Англии за его "Чудеса геологии", "Медали сотворения" и учреждение музея, где им была собрана уникальная коллекция ископаемых, сидел как громом пораженный. Публика, явно смущенная, молчала: тем не менее ухо Чарлза улавливало гул голосов. В "Атенеуш Чарлз и Лавель шли молча. За бокалом портвейна, почти утонув в глубоком кожаном кресле, Чарлз наконец нарушил молчание. – К какой мерзости приводит слава! Только дюбовь к нетине способна помешать так несправедливо обрушиваться ва другого. Некоторое время Лавель внимательно изучал лшю Чарлза. – Еы ведь дружили с Оуэном, ее так да? – Да. – И он бывал у вас в Даун- Хаусе? – И не раз. – Надеюсь, вы ее делились с ним своими теориями происхождения видов? – Конечно, нет. Зачем об этом спрашивать. – Берегитесь Оуэна. Он еще выступит иротав вас. Как делает это с каждым. Такова уж его природа. Своих старших детей Дарвин обучил обращению с микроскопом, и они были в полном восторге, особенно когда удавалось разглядеть какой-нибудь из скрытых органов, обнаженный отцовским скальпелем. Часто слыша, как Чарлз употребляет термин "ракообразные", они окрестили "папиных морских уточек" "ракообразными мумиями". Любивший одинокие прогулки Уильям частенько отправлялся бродить по тропинкам в лугах и постепенно узнал всех соседей в округе. Однажды он вернулся к обеду чем-то явно озадаченный. – Папа, ты знаком с мистером Монтпичером, который живет в нескольких милях южнее деревни? Каждое утро этот джентльмен сидит у открытого окна своего коттеджа, курит трубку и ничего, кроме этого, не делает. – Может быть, он на пенсии, Уилли? – Да, но когда же он занимается своими уточками? Эмма от души рассмеялась. – Видишь, Чарлз, что получается. Последние пару лет дети только и видят, как ты препарируешь усоиогих рачков, вот они и решили, что каждый мужчина должен делать то же самое. Ничего другого они просто не могут себе лред-ставить. – Придет время – смогут. Если, конечно, я когда-нибудь сумею закончить эту поистине нескончаемую работу. Впрочем, я сильно в этом сомневаюсь. Недавно мне написал некий мистер Статчбери из Бристоля: предлагает в дар свою коллекцию усоногих – он собирал ее всю свою жизиъ. Говорит, она великолепна. Коллекции поступали к нему из разных мест. Одну из них прислал Хью Каминг, натуралист и парусных дел мастер; вторую – преподобный Р. Л. Лоу, собиравший ее на острове Мадейра. Свои экземпляры направили Чарлзу Огаст Гулд из Бостона, а также Луи Агассис, незадолго до того назначенный профессором зоологии в Гарварде. Даже Симе Ковингтон, работавший сейчас в Австралии, по доброй воле прислал коробку с морскими уточками. Чарлз получал множество писем из Франции и Германии от людей, хотевших, чтобы он воспользовался плодами их трудов… а следом прибывали коробки и ящики, была получена банка, содержавшая целую сотню новых экземпляров, о существовании которых он прежде и не подозревал. Он изучал каждую группу, начиная с самой ранней стадии личинки и кончая взрослыми формами. Путем тщательного препарирования он сумел доказать, что все без исключения усоногие – это ракообразные, родственники крабов, креветок и омаров. Почта приносила также известия иного рода. Через три с небольшим года после фиаско с губернаторством в Новой Зеландии капитан Роберт Фицрой получил назначение на должность управляющего доками в Вулвиче. Королева Виктория присваивает Чарлзу Лайелю звание "рыцаря" "а церемонии в королевском замке Балморал в Шотландии: отныне он будет именоваться сэром Чарлзом Лайелем, а его жена – леди Мэри. По этому случаю Дарвины откупорили бутылку шампанского, подняв бокал за своих друзей. Газеты сообщали, что в Германии, Австрии, Италии шли революции, В Лондоне чартисты, рабочие, гребовавшие всеобщего избирательного права, таимого голосования и ежегодных выборов, готовились к массовой демонстрации. Министры королевы Виктории убедили королевскую семью переехать на остров Уайт, чтобы избежать возможного насилия. Лето принесло с собой приятное тепло, не переходившее в изнуряющую жару. От разросшихся побегов плюща на выходившей в сад стене Даун-Хауса, казалось, становилось даже прохладнее; цвели азалии, ветви яблонь гнулись под тяжестью плодов. Чарлз проводил на воздухе по нескольку часов в день. Плодотворными были его прогулки по Песчаной тропе: новые идеи постоянно роились в его голове. В августе Эмма родила Френсиса, их третьего сына. Казалось, все шло как нельзя лучше. Но отчего же тогда, уже с самого начала июля, ему, как он записал в дневнике, "особенно нездоровилось"? Отчего кружилась голова, одолевала депрессия, нападал озноб, перед глазами плавали черные точки, мучили тошнота и рвота? Хотя Эмма и ухаживала за ним с неизменным вниманием, ему становилось все хуже. Начали сдавать нервы, тряслись руки, непроизвольно дрожали мышцы. В конце года, когда страдания уже не отпускали его ни на минуту, он решил: – Пора собираться в мир иной. Жалея Эмму, Чарлз не сказал ей, что ему кажется, будто он умирает. Он отпер ящик стола и, достав оттуда свою рукопись о происхождении видов, датированную 1844 годом, и адресованное жене письмо, положил их на видное место, где она наверняка его заметила бы. Из состояния летаргии его вывело письмо Кэтти. Отец совсем не может ходить. Все время он проводит в кресле-каталке, а спит на кровати, которую перенесли в библиотеку. Каждое утро садовник вывозит доктора Дарвина в оранжерею, потому что самое большое удовольствие ему доставляет посидеть немного под пальмой: он посадил ее, получив от Чарлза письмо из Баии с описанием, как эти деревья растут в Бразилии. Письмо сестры не оставляло сомнений в том, что отец при смерти, и Чарлз не мешкая выехал в Маунт. Эмме он не разрешил ехать – ведь ребенку было всего несколько месяцев. Увидев доктора Роберта Дарвина в инвалидной коляске посреди библиотеки, он был потрясен. Отец пил бледный чай, а сидевшая подле Сюзан читала ему вслух одного из любимых им поэтов. Когда Чарлз, наклонившись, поцеловал его в обе щеки, на глазах исхудавшего до неузнаваемости отца выступили слезы. – Я. намерен, остаться с тобой целых две недели. Да, отец, у меня есть для тебя замечательные новости. Мою книгу об усоногих рачках, как только она будет закончена, вызвалось напечатать "Общество Рея". Создано оно четыре года назад для публикации научных статей и книг и названо в честь Джона Рея, известного английского натуралиста. В "Обществе" больше семисот пятидесяти членов, среди которых самые выдающиеся ученые Великобритании. По правде говоря, я очень сомневался, что мою книгу вообще могут напечатать. Тень улыбки осветила лицо Роберта Дарвина. Он протянул руку и коснулся сына, слишком взволнованный, чтобы говорить. Под вечер, когда находившийся под присмотром Сюзан отец уснул, Чарлз спросил Кэтти, сидя с ней за обеденным столом в столовой, пока Энни, готовя ужин для своего любимчика, хлопотала на кухне: – Как дела? – Ничего нельзя сказать определенного, Чарли. Отец выдержан, спокоен, никогда не жалуется. Он так бесконечно добр, так трогательно заботится обо всей прислуге, их детях. Свои распоряжения он отдает через Сюзан. Иногда ей не удается сомкнуть глаз в течение ночи, но она справляется со всеми трудностями. Две недели пролетели как один день: в присутствии сына доктор Дарвин, казалось, воспрянул духом. Силы его крепли, когда он слушал рассказы Чарлза о прогулках по Песчаной тропе, об Эмме и детях, о его дружбе с маленькой Энни, новом микроскопе. Сам Чарлз чувствовал себя хорошо: ему удалось убедить себя, что так нужно, чтобы не причинять беспокойства отцу. Но стоило ему очутиться в своем кабинете в Даун-Хаусе, как все симптомы его болезни тотчас же вернулись. Он совершенно не мог работать. Сознание парализовала и мысль о неизбежности плохих вестей. И они пришли всего через девятнадцать дней после его возвращения домой. Доктор Роберт Дарвин мирно скончался в возрасте восьмидесяти двух лет. Чарлз рыдал, не стыдясь своих слез. Старшие дети, и прежде всего Энни, уже понимавшие, что такое смерть, приходили, чтобы поцеловать его, и плакали вместе с ним. Чарлз всегда любил отца, особенно они стали близки после того, как сын доказал, что у него в жизни есть и другие интересы, кроме охоты, собак и ловли жуков, и он не опо-, зорит чести семьи. "Да благословит тебя господь, дорогой мой Чарлз, отец так любил тебя"! – писала Кэтти. Он чувствовал себя настолько плохо, что два дня вообще не вставал с постели. – Но все равно на похороны в Шрусбери я должен поехать, – заявил он Эмме. – А хватит ли у тебя сил? – Силы появляются, когда делаешь дело. Пожалуйста, попроси Парсло собрать мои вещи. Путь до Лондона не слишком утомил его. Усталости он не ощущал до тех пор, пока не добрался до дома Эразма. Брат уехал в Маунт, но служанка приготовила Чарлзу чай с тостами. Было уже три часа, так что добраться до Шрусбери дилижансом или поездом в тот же день не представлялось возможным. Чтобы Эмма не волновалась, он отправил ей записку, что чувствует себя "почти так же, как обычно". И хотя он выехал первым утренним дилижансом, к самим похоронам он не успел. Доктора Дарвина погребли рядом с женой на скромном церковном кладбище в Монтфорде. Чарлз прибыл в Маунт к тому времени, когда одна из молоденьких горничных начала обносить кофе вернувшихся в дом с похорон родных и знакомых отца. Некролог в местной газете "Кроникл" был полон восторженных похвал. Чарлз, однако, видел, что Сюзан и Кэтти безутешны. Доктор Дарвин был смыслом всей их жизни, и сейчас обе они напоминали парусники, очутившиеся в море без руля и ветрил. Он решил, что побудет с сестрами неделю и постарается убедить их оставаться в Маунте до конца своих дней. Когда было зачитано завещание, обнаружилось, что отец оставил достаточно средств, чтобы дать им возможность жить в имении вполне обеспеченно. Доля наследства, доставшаяся Эразму, оказалась весьма щедрой, так что ему можно было теперь не беспокоиться о своем будущем. Чарлзу причиталось свыше сорока тысяч фунтов: этого с лихвой хватало, чтобы дать детям образование и профессию и сделать сам Даун-Хаус еще более просторным, а все имение еще более красивым. Одним словом, доктор Роберт Дарвин не забыл ни одного из своих детей… Летом 1850 года, когда Эмме исполнилось сорок два года и Ленард был еще грудным младенцем, она поняла, что снова беременна. В это время заболела Энни. Уже несколько раз за последние несколько лет ей, как говорили в семье, было "не по себе", но потом она снова чувствовала себя лучше. Эмма и Чарлз не были слишком этим обеспокоены, так как девочка обладала завидным жизнелюбием. На сей раз она поправлялась не так быстро, как раньше. У нее держалась температура, исчез аппетит; врач не мог поставить диагноз. – Я думаю, это инфекция. Но откуда? У нее нет ни порезов, ни гноящихся ран. Я закажу лекарство, чтобы понизить температуру. Глаза Энни были безучастными. Она мало ела, но ни на что не жаловалась. Затем что-то произошло, и жизненные силы победили лихорадку, она смогла подняться, начала нормально есть и даже играть со своими сверстниками во дворе. Однако каждый новый приступ болезни отнимал у нее силы. – Мы справились со следствием болезни, но не с ее причиной. Мы должны продолжать наблюдение, – сказал доктор. Чарлз и Эмма решили поехать с семьей на праздники в Рамсгит – курорт на юго-восточном побережье Англии. Стоял октябрь, морской воздух был чист и прохладен; курортный сезон закончился. Прогулки с отцом вдоль берега как будто шли Энни на пользу. Но здоровье ее улучшилось ненадолго: после возвращения в Даун-Хаус лихорадка то появлялась, то исчезала. Приехавший погостить на рождество Генри Холланд тоже осмотрел Энни. – Признаюсь, я сбит с толку, – сказал он. – Это не похоже ни на одно из известных мне заболеваний. К началу марта 1851 года не оставалось ни малейшего сомнения, что Энни тяжело больна. – Может быть, мне отвезти ее на воды в Молверн? – спросил у Эммы Чарлз. – Возможно, доктор Галли сможет ей помочь? – Он единственный доктор, который тебе всегда помогал. – Пожалуй, стоит попробовать, – согласился он. – С нами поедет Этти, чтобы Энни не скучала, а также Бро-уди. Может приехать туда и мисс Торли. Я боюсь, что из-за близости родов тебе не стоит путешествовать. Чарлз с детьми и прислугой занял несколько комнат в главном здании. – Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ей, – сказал участливо доктор Галли. – Мы начнем лечение очень осторожно. Я буду наблюдать за ней каждый день. Ободренный обещанием доктора и прибытием гувернантки, которая должна была следить за двумя девочками, Чарлз уехал в Лондон, чтобы провести пару дней с Эразмом. В воскресенье 30 марта он и Эразм отобедали с Генс-леем и Фэнни Веджвудами в их новом доме на Честер-Террас, районе, который они сочли более удобным для их детей, чем Аппер-Гауэр-стрит. На обеде были Томас Кар-лейль с женой и другие друзья и родственники. Тогда только и говорили о книге Рескина "Камни Венеции". Отвечая на вопрос Эразма о "Камнях Венеции", Карлейль резко сказал: – Это не книга, а моральная проповедь: ты должен быть добропорядочным и честным человеком, чтобы построить даже простой дом. Чарлз и Эразм; затеяли спор с Карлейлем. Тетя Эммы Фэнни Аллен сказала: – В тебе есть что-то свежее и приятное, Чарлз. Не знаю, кто из вас, двух братьев, мне больше по душе. Чарлз вернулся в Даун на следующее утро, успокоил Эмму по поводу Энни и возобновил свою работу. Он находился дома уже шестнадцать дней, когда принесли телеграмму, которая была послана из Молверна в Лондон и оттуда доставлена специальным курьером. У Энни началась рвота, которой поначалу доктор Галли не придал значения, затем – сильнейшая лихорадка. Чарлзу необходимо было немедленно приехать в Молверн. Фэнни Веджвуд присоединилась к нему в Лондоне, чтобы скрасить ему поездку. Когда Чарлз вошел в комнату Энни, он не узнал ребенка; все черты ее заострились, лицо отЕер-дело и сморщилось. Она открыла глаза, сказала "папа" очень тепло. Это помогло ему представить себе свою любимицу прежней. Броуди отвезла Этти в Лондон на челтенхемском дилижансе. В тот вечер, в одиннадцать тридцать, доктор Галли посмотрел на спящую Энни и сказал: – Ей становится лучше. Чарлз воспрянул духом и с чувством надежды отправился отдохнуть в соседнюю комнату. На следующее утро он увидел, что дочь его стала чересчур тихой, и впал в отчаяние, когда доктор сказал, что пульс у нее неровный. Тем не менее она каждый час съедала немного каши, позже – попила немного воды, ни на что не жаловалась. Когда Чарлз сказал ей, что она поправится, девочка смущенно ответила: – Спасибо. Она попросила у Фэнни апельсин. Затем Фэнни дала ей немного чая и спросила, вкусный ли он, Энни ответила: – Очень вкусно, просто чудо. Где Этти? На следующий день, когда Чарлз попоил ее, она сказала: – Спасибо тебе. То были последние слова, обращенные к отцу. Энни умерла в полночь 23 апреля. Чарлз и Эмма обменялись письмами. Он отправил мисс Торли в Лондон. Фэнни Веджвуд осталась на похороны. Энни похоронили на небольшом кладбище в Молверне. Затем Чарлз поспешил домой, чтобы быть подле Эммы. Оба они были безутешны. Гувернантка мисс Торли вернулась в Даун-Хаус, а Бро-уди, которая нянчила обеих девочек, не могла найти в себе силы, чтобы вернуться в семью Дарвинов. Она отправилась домой в Шотландию и лишь иногда приезжала погостить в Даун-Хаус. Менее чем через месяц после смерти Энни родился пятый мальчик у Эммы, которого нарекли Горасом. В Даун-Хаус приехала Элизабет. Чарлз надеялся, что рождение ребенка поможет немного развеять их печаль. Когда в Лондонском палеонтологическом обществе стало известно, что Чарлз работает над исследованием ископаемых усоногих – область, в которой мало что было известно, Общество предложило ему опубликовать монографию в своем ежегодном журнале. Чарлз закончил первую часть исследования в 1850 году. Но восемьдесят восемь страниц под "устрашающим" заголовком "Монография по исследованию ископаемых Lepadidae, или усоногих на ножках" не увидели света до июня 1851 года. Позже, в том же году, "Общество Рея" опубликовало первую половину его работы по современным видам усоногих с детальными анатомическими рисунками. Эта работа была предложена вниманию членов "Общества". В книжных магазинах монография не продавалась, и общественность практически не обратила внимания на этот труд, ибо текст был слишком специальным для широкого читателя. Работа, однако, была оценена по достоинству в научных кругах. Ему удалось получить двадцать два экземпляра своей работы от "Общества" (что было единственной компенсацией за его труд), которые он разослал тем директорам, патронам и ученым, которые помогали ему в опубликовании этой работы. Сейчас, когда он снова читал газеты, он узнал, что разразился большой скандал относительно строительства большой выставки изделий промышленности всех стран в Гайд-парке. Проект павильона выставки называли "Хрустальным дворцом", ибо он представлял собой примерно миллион футов стеклянных рам, укрепленных на перекрытиях, поддерживаемых колоннами. Лайель был членом комитета и пытался придать выставке просветительский характер. Он настаивал на том, чтобы на галереях были выставлены экспонаты. Джозеф Гукер, который только что вернулся из Индии, был главным инспектором Ботанической секции. "Хрустальный дворец" был задуман принцем Альбертом, и проект его был одобрен королевой Викторией. Однако по мере того, как строительство, занявшее девятнадцать акров земли, приближалось к завершающей стадии, лондонская пресса и особенно критически настроенная часть английской публики набросилась на этот проект: "Гайд-парк разорен… Он превратится в место для пикников лондонских бродяг… Иностранцы будут пытаться организовать заговор и осуществить покушение на королеву .. Крысы будут разносить бубонную чуму… Всякого рода провокаторы будут творить бесчинства… Здание может рухнуть при первой же грозе". Больше всех негодовал полковник Сибторп, который заявил: "Отвратительное здание, безобразный обман, бесстыдный грабеж народа нашей страны". Чарлза все это развлекало. Лайель и Гукер уверили его, что здание крепкое, что через него пройдут сотни тысяч людей и что этот проект великое достояние современной цивилизации. Он сказал Эмме: "Мы проведем неделю с Расом и посмотрим "Хрустальный дворец". Возьмем с собой двоих детей. Им это очень понравится". В конце июля они приехали в Лондон с Генриеттой и Джорджем. Эразм нанял еще одну приходящую прислугу в помощь семье брата. На следующее утро они наняли два кеба. Чарлз был одет в темный фрак и светлые рейтузы, туалет завершал шелковый цилиндр. Эмма была в платье с длинной пышной юбкой на обруче и большой шали. Дети тоже были одеты словно на парад. Чарлз был в восторге от выставки. Здесь были представлены сотни тысяч экспонатов со всего света: из Турции, Туниса, России и Соединенных Штатов. На галерее, где были выставлены скульптуры, они увидели работы американского скульптора Хайрема Пау-эрса "Греческая рабыня", работа из Бостона "Раненый индеец", скульптуру из Бельгии "Король-крестоносец", а также вызвавшую много пересудов скульптуру "Обнаженный Бахус". – Это произведение прислано из Франции, – сказала Эмма, отвлекая детей от "Бахуса". Но Этти, которой было почти восемь лет, и шестилетний Джордж интересовались куда больше чучелами зверей и глазели на целое семейство кошек, сидящих за столом и распивающих чай, а также на то, как одна лягушка брила другую. Но еще больше им понравились мороженое и пирожные. Чарлз поводил свою семью по галереям, объясняя различные механические изобретения, получившие те или иные призы, а также указал им на плуг, который приводился в движение паровым двигателем, нож, у которого было восемьдесят восемь лезвий, а также на модель плавучей церкви для моряков, которая была прислана из Филадельфии. Однако Дарвинам больше всего понравилась кровать со специальным бесшумным "будильником". Владелец этой кровати мог установить "будильник" на любое время, когда ему было необходимо встать; и когда "будильник" срабатывал, специальная катапульта выбрасывала спящего хозяина с кровати в ванну с холодной водой. Они весь день провели в "Хрустальном дворце". Наконец дети утомились. Чарлз приходил в "Хрустальный дворец" несколько раз на неделе. Но уже с Лайелем или Гу-кером, а не сосвоей семьей. Чарлз и Джозеф Гукер несколько раз встречались в саду павильона. Общение доставляло им радость и укрепляло их дружбу, возникшую после четырехлетней экспедиции Гукера в Индию и Гималаи. Он прошел через горы более восемнадцати тысяч футов высотой и побывал в таких местах, где не ступала нога человека. Гукер, человек довольно хрупкого сложения, продемонстрировал во время путешествия громадную внутреннюю силу, храбрость и выдержку. Он привез с собой замечательную коллекцию растений, которые никто и никогда не только не видел в Англии, но даже и не слышал о них. По возвращении Гукера он и дочка Генсло Френсис поженились без особой помпы в церкви в Хитчеме и отправились жить в Кью. Неожиданно Чарлз натолкнулся на Джона Генсло, возглавлявшего группу прихожан, которых он привез из Хит-чема. Это была одна из многочисленных экскурсий, на которые он возил прихожан с целью расширения их кругозора. Все они были аккуратно одеты и вели себя так, словно заново родились. В каком-то смысле так оно и было, ибо Генсло вышел победителем из битвы с крупными землевладельцами, которые теперь продавали своим крестьянам продукты земледелия, ими же, крестьянами, произведенные. Джону Генсло было пятьдесят пять лет, и его великолепные волосы начали седеть. Чарлз воскликнул: – Мой дорогой Генсло, когда я вижу, чего вы достигли, все, что я пишу, бледнеет перед этим. Генсло строго ответил: – Каждый из нас делает работу свою по воле божьей и согласно своим наклонностям. Там же, в "Хрустальном дворце", Чарлз и Джозеф Гукер встретились с двадцатишестилетним Томасом Гексли, который долго отсутствовал: четыре года бороздил воды Индийского океана и находился в плавании вокруг Австралии в качестве помощника хирурга на корабле "Гремучая змея". В конце путешествия он написал и отправил в Лондон три статьи по зоологии, которые Чарлз прочитал в "Трудах Зоологического общества", а также в "Философских трудах Королевского общества" и в "Анналах естественной истории". Все три статьи отличались глубиной, ясностью мысли и свежестью идей, и, когда Гексли вернулся в Лондон, он сразу стал знаменитостью. Чарлз был так поглощен своими усоногими, что ему не довелось встретиться с Томасом.Гексли, хотя он с удовольствием проголосовал за его прием в Королевское общество. Джозеф Гукер познакомил Чарлза с Томасом Гексли. – Я знаю, Дарвин, что вы нелегко сходитесь с людьми. Но Гексли человек, который вам понравится, причем сразу. Гексли покраснел, протягивая руку: – Я не знаю другого человека в Англии, господин Дарвин, перед которым я бы так преклонялся, как перед вами. Я изучаю ваши книги с первого номера журнала, включая ваш последний труд по ископаемым усо-ногим. Томас Гексли был такого же роста и сложения, как и Чарлз. У него была смуглая кожа, четко очерченные темные брови, густые волосы ниспадали на плечи. Это был человек, который нравился с первого взгляда, но не потому, что любил доставлять людям удовольствие. Его лицо с пронзительными темными глазами, прямым носом и широким ртом говорило о внутренней силе и решимости. – Я очень рад познакомиться с вами, Гексли. Я давно хотел этого, сказал Чарлз, – особенно после того, как я много наслышался о вас от своих друзей. Кстати, мои дети говорят, что здесь замечательное мороженое. Когда им подали мороженое, Чарлз внимательно вгляделся в лицо молодого человека. Он был одет в свободный бархатный пиджак с высоким воротничком, почти как у священника, с большим галстуком-бабочкой, гладко выбрит, лишь тоненькие полоски бакенбард обрамляли лицо. У него были приятные манеры, он внушал доверие и создавал хорошее настроение. – Гексли, расскажите мне о себе. Где вы получили образование? Гексли улыбнулся: – Я не получил никакого образования. И хотя мой отец был помощником директора школы в Илинге, где я родился, я лишь окончил два класса школы. Затем моего отца выгнали с работы. Мы перебрались в другую деревню, где жили бедно. Общество, с которым я имел дело в школе, было ужасным. Мы были самые обыкновенные парни, и у нас была склонность творить добро и зло так же, как и у других ребят, но те люди, которые были поставлены, чтобы учить нас, мало думали о нашем интеллектуальном и моральном развитии. Гексли улыбнулся, и было такое ощущение, что показалось яркое, весеннее солнышко. – И именно тогда, я думаю, я инстинктивно понял, что мне необходимо что-то сделать, чему-нибудь научиться. В двенадцатилетнем возрасте я просыпался очень рано утром, зажигал свечку, закутывался в одеяло и читал "Геологию" Хаттона… А вслед за этим, на следующий год – "Основы геологии" Лайеля. Чарлз вспомнил годы работы в Эдинбургском музее под руководством научных руководителей, а затем три с половиной года в Кембридже, где он сотрудничал с такими людьми, как Джон Генсло, Адам Седжвик, Джордж Пи-кок, Уильям Уэлл. – Конечно же вы получили какое-то научное образование? – Своеобразное. Мои две сестры вышли замуж за врачей. Один из них водил меня вместе с собой по больничным палатам. Таким образом, я получил трехгодичное образование в больнице Черинг-Кросс, а затем я посещал Лон-денекий университет, где мне было присвоено звание магистра медицины. Вот почему я и сумел получить пост помощника хирурга нa корабле "Гремучая змея" и таким образом отправиться путешествовать в дальние страны. Я всегда мечтал стать инженером-механиком. И, если хотите, именно это моя профессия и в области зоологии. Я изучаю внутренние механизмы, приводящие в движение беспозвоночных животных, так же как вы изучаете усоногих. – А каковы ваши дальнейшие планы? Лицо Гексли омрачилось. – Ричард Оуэн любезно согласился замолвить за меня словечко в Адмиралтействе, с тем чтобы я мог получить какой-то номинальный пост и таким образом закончить свою работу, начатую во время экспедиции на "Гремучей змее". Стипендия весьма скромная; я живу с братом. В науке для меня места не нашлось. Я пытался достучаться до разных колледжей и институтов, которые приглашают лекторов. Все очень осложнилось, особенно после того, как я полюбил английскую девушку, родители которой переехали в Сидней. Мы уже более трех лет помолвлены. Я не знаю, сколько еще пройдет времени, прежде чем я смогу привезти ее обратно из Австралии и жениться на ней. Чарлз не хотел без оснований вселять оптимизм в молодого человека. – Через несколько лет вам удастся это сделать, после того как вы опубликуете свои научные труды и книги, явившиеся результатом вашей экспедиции на "Гремучей змее", и когда вам предложат какую-нибудь работу. Теперь они говорили о происхождении видов. Гексли считал, что существует разграничительная линия между природными группами, и он также настаивал на том, что переходных форм не существует. Чарлз мягко спорил с ним, и лукавая улыбка не сходила с его лица: "Ну, я не совсем такого мнения". Джозеф Гукер вернулся примерно через час. Чарлз протянул Гексли руку: – Надеюсь, я снова скоро увижу вас. – Обязательно, – воскликнул Гексли, – я часто бываю в доме вашего брата Эразма! Меня даже приглашают Карлейли. Они помогают мне совершенствовать немецкий язык, который я начал изучать, чтобы читать европейские научные журналы. Когда Гукер и Гексли ушли, Чарлз подумал: "Мне положительно нравится этот молодой человек. Он меня глубоко тронул, я чувствую, что мы можем стать союзниками". После знакомства с Джозефом Гукером никто не вызывал в нем подобные мысли. Чарлз и Томас Гексли снова встретились в доме Эразма и у Лайеля в Лондоне, а также в доме Гукеров в городке Кью. Когда Чарлз сталкивался с какой-то сложной зоологической проблемой, он обращался за помощью к Гексли, острый ум которого, словно нож, вскрывал сердцевину проблемы. Часто их разговор возвращался к Ричарду Оуэну, самому знаменитому зоологу и анатому Англии. Гексли пытался как-то отблагодарить Оуэна за его помощь в избрании Гексли членом Королевского общества, но Оуэн ответил: – Вам некого благодарить, кроме самого себя и вашей великолепной научной работы. Гексли рассказывал: – Оуэн был удивительно добрым по отношению ко мне. Но он очень странный человек и такой ужасно вежливый, что я зачастую неловко чувствую себя. Чарлза так и подмывало сказать Гексли, что он никогда не будет чувствовать себя в своей тарелке рядом с Оуэном, но решил воздержаться от этого и дать возможность молодому человеку самому найти свою дорогу в джунглях лондонского научного мира. Времени на это потребовалось немного. После одного из заседаний научного общества Чарлз взял Гексли с собой в "Атенеум", чтобы пропустить рюмочку. Гексли размышлял, держа в руке бокал с бренди: – Странный человек Ричард Оуэн. Его и боятся, и ненавидят. Я знаю, что в жизни он делал очень недобрые вещи. Я не думаю, что он велик настолько, каким считает себя. – Надеюсь, он с вами не сыграл никаких дурных шуток? – Пока нет. Однако ждать оставалось недолго. Гексли написал работу для Королевского общества по морфологии головоногих моллюсков. Он считал эту свою работу одной из лучших. Ричард Оуэн попытался помешать опубликованию ее в "Философских трудах". Гексли воскликнул: – Он никому не дает возможности возвыситься! Почему он такой жадный? Мне так хочется верить людям без всяких оговорок! Чарлза тронула душевная боль, с которой были сказаны эти слова. – В течение последних двадцати лет Оуэна считают авторитетом в своей области, – объяснил он, – никто не наступал ему на пятки до тех пор, пока не появились вы. К сожалению, он привык смотреть на естественную историю как на свою вотчину… – ..А мы все, таким образом, браконьеры? – Вот именно. Но вам нечего волноваться без причины, вас ему не остановить. По секрету скажу вам, что мы с друзьями представили вас на медаль Королевского общества. На мгновение Чарлзу показалось, что Томас Гексли вот-вот заплачет. Он взял руку Чарлза в свои и воскликнул: – Если такие люди как вы, Джозеф Гукер, Чарлз Лайель, поддерживают меня, я смогу бороться с дюжиной Ричардов Оуэнов. – Может быть, вам это предстоит, – ответил Чарлз с печальной улыбкой. – Да и мне тоже, наверное, придется. В течение года или, может быть, двух Дарвин должен был завершить классификацию усоногих, которых он когда-то называл "мои любимые морские уточки", а теперь думал о них как о "своих ненавистных морских уточках". Ему нужно было закончить две оставшиеся темы. Помощников у него не было. Единственное успокоение он находил лишь в том, что публикация этой работы была обеспечена. Он делал все, чтобы скрыть свое раздражение от семьи, начал поиски самой лучшей школы для Уильяма, которому должно было исполниться двенадцать лет. После тщательного отбора он остановился на Регби, что находился по пути в Шрусбери. Двое старших мальчиков Генслея Веджвуда уже учились там. Стоимость пребывания в этом колледже колебалась между 110 и 120 фунтами в год. Дважды в сутки – один раз днем и один раз перед сном – он делал записи в медицинском дневнике о своих припадках меланхолии, включая те моменты, когда он просыпался ночью от "MX" (так он сокращал слово "меланхолия"), сколько раз у него болело горло, сколько раз болели зубы, сколько раз он простужался, как высыпала у него сыпь, какие появлялись на теле болячки. Он также заносил в этот дневник данные о лекарствах, которые он принимал, о водолечении, о том, сколько раз его тошнило, как начиналась депрессия, припадки страха, сколько раз он чувствовал дрожь, а также испытывал ощущение падения или тяжести во всем теле; он регистрировал время, когда чувствовал себя усталым без всякой причины. Он начал дневник своего физического состояния в 1849 году. В конце каждого месяца он также регистрировал количество дней, во время которых он чувствовал себя хорошо, даже совсем хорошо. Количество хороших дней колебалось от двух до пяти в самые тяжелые моменты, а иногда их было от двадцати до двадцати девяти. После каждого хорошего дня он ставил двойное тире. Он понимал, что его дневник здоровья, куда вписывал объективные данные своего состояния, был своеобразной "исповедальней". Когда он вел этот дневник, он словно бы исповедовался кому-то. Благодаря дневнику он не изливал тревоги на своих близких. По мере того как шло время, он использовал метод Галли лишь частично. Однако, пытаясь найти средства для того, чтобы поправить свое здоровье, он продолжал верить "новым" методам лечения, о которых читал в лондонских газетах. В октябре 1851 года он попытался воспользоваться модным методом гидроэлектрических цепей, обматывая себя поочередно то медной, то цинковой проволокой. Смазанные уксусом, эти цепи должны были создавать электрические разряды. В те ночи, когда он использовал этот метод лечения, он чувствовал себя лучше, но спать не мог. Он решил, что этот метод не имеет научной ценности, и отказался от него. Деревья, которые обрамляли тропинки в его саду, росли очень быстро. Так же быстро росли дети. Увеличивались в размере и рукописи. Он благодарил небо за то, что Эмма оставалась в форме. Теперь у них было семеро детей. Издательство "Смит Элдер энд К°" издало в одном томе три его книги: "Строение и распределение коралловых рифов", "Геологические наблюдения над вулканическими островами" и "Геологические наблюдения- над Южной Америкой". Этот том был в голубой и лиловой обложке и продавался по вполне доступной цене – десять шиллингов и шесть пенсов. Его друг Уильям Яррел сообщил ему, что книга продается хорошо и что количество читателей ее растет. Часы составляли недели, недели – месяцы, месяцы сливались в годы. Семья навещала Уильяма в Регби. Он хорошо учился и вел себя хорошо, несмотря на то что его оторвали от родного дома и семьи и поместили среди задиристых ребят старшего возраста. Шестеро оставшихся дома детей были здоровы, старшие занимались под руководством бывшего гувернера Вильяма, которому Чарлз платил сто пятьдесят фунтов в год за то, что он преподавал им "ничего больше, кроме латинской грамматики". В Даун-Хаусе всегда было полно родственников и друзей. Он был гостеприимным хозяином, но усталость от постоянного общения зачастую заставляла его испытывать страдания. И тогда он никого не хотел видеть, кроме своих близких. Когда после такого общения он чувствовал себя особенно плохо, то превращался в отшельника. Тогда он посылал сигналы бедствия, например обращался к Джозефу Гукеру с просьбой поспособствовать ему войти в Философский клуб, который вот-вот должен был открыться в Лондоне: "Всего два или три дня тому назад я жаловался своей жене на то, как я бросаю своих знакомых и как они бросают меня и думаю лишь о клубе, который, насколько я понимаю, поможет мне достичь цели сохранить старых и приобрести каких-то новых знакомых". В ноябре 1853 года он был награжден медалью Королевского общества за свои публикации – самой высокой наградой, которую могли ему присудить. Он писал Джозефу Гукеру: "Через год или два я буду работать над своей книгой о происхождении видов при условии, что я не сломаюсь". Он знал, что не сломается. И когда закончит последние два тома о морских уточках, станет свободным человеком. "Но случится ли это? Может быть, я всего лишь перейду в другую тюрьму? В тюрьму без решеток, но из которой я не смогу выйти и в которую я посадил сам себя, и, может быть, на весь остаток своей жизни".Все гении в какой-то степени идиоты
К маю 1855 года вышел из печати второй том "Живых ракообразных" и Палеонтологическое общество опубликовало второй том монографии "Ископаемые ракообразные". – Наконец-то я разделался с усоногими – просто гора с плеч свалилась, – признался Чарлз Эмме. – Если мне попадется еще один из них, я просто отвернусь и пройду мимо. Они сидели перед камином в спальне, было слышно знакомое пощелкиванье вязальных спиц Эммы. – Теперь я полон желания взяться за новую работу. – За какую? Чарлз вздрогнул от неожиданности: раньше она никогда не интересовалась его планами. С той поры, как шестнадцать лет назад он прочел ее письмо, он не обсуждал с женой свою теорию происхождения видов. Но теперь свои намерения не скроешь – ведь этой работе он решил посвятить все оставшиеся годы. Чарлз не хотел причинять Эмме страданий, но скрывать истину было еще хуже. Он сидел и смотрел на огонь. Потом повернулся к Эмме, отложил ее вязанье в сторону, взял руки жены в свои. – Дорогая, я хочу поделиться с тобой моими планами на предстоящие годы. Сказать тебе всю правду, как я ее вижу. Надеюсь, мои слова не огорчат тебя, и молю об этом бога. В ее теплых карих глазах он прочитал – не бойся. – Обещаю, что не позволю себе волноваться. Он поднялся с дивана, стал спиной к огню. – Я решил поднять все боковые паруса, чтобы поймать пассат. Мне кажется, если ты будешь знать, какое я выбрал направление, ты не будешь считать меня безумцем и глупцом. Взгляды мои сформировались медленно и, надеюсь, вполне осознанно. Но они наверняка столкнутся с оппозицией. Вот тебе пример: когда я в прошлый раз встретился в Лондоне с моим другом ботаником Хью Фаль-конером, он яростно, хотя и без злобы, набросился на меня и сказал: "Вы один принесете столько вреда, что его не смогут исправить десять естествоиспытателей. Вы уже развратили Гукера, наполовину испортили его!" Эмма молча внимала. – Позволь, я вкратце изложу тебе мои соображения о средствах, с помощью которых природа создает виды. Считать, что виды претерпевают изменения, меня заставляют данные эмбриологии, рудиментарные органы у животных, геологическая история и география распространения органических существ. Ты понимаешь меня? – Смутно. – Постараюсь выражаться яснее. – Он сделал паузу. – Давай рассмотрим органы: рудиментарные, атрофированные и недоразвитые. Органы или части тела, помеченные печатью бесполезности, в природе встречаются часто, даже у высокоорганизованных животных. Возьмем, к примеру, млекопитающих – у самцов рудиментарные грудные железы. Или у змей одна легочная доля – рудимент. Так называемое "незаконнорожденное" крыло у птиц – это рудиментарный большой палец, он никак не используется при полете. А наличие зубов у зародышей кита, тогда как у взрослых китов нет ни единого зуба, – что может быть любопытнее? А каких поразительных результатов добились селекционеры! Они отбирают животных с нужными им качествами и на их основе выводят новые породы. Даже сами селекционеры удивляются получаемым результатам. Уверен, что сознательная селекция – главное средство для выведения домашних пород. Ведь человек способен накапливать незначительные или более значительные отклонения и приспосабливать животных к своим потребностям. Можно сказать, что шерсть одной овцы он делает пригодной для того, чтобы ткать ковры, а другой – чтобы шить одежду. – Но проводить селекцию стали только в последнее время, верно? спросила Эмма. – Да. Однако я все-таки считаю, что можно показать, что в природе работает некая безошибочная сила, происходит естественный отбор, и эта работа идет исключительно на пользу всем органическим существам. Заметь, все живые существа, даже слоны, размножаются с такой скоростью, что через несколько десятилетий, максимум, столетий, на поверхности земли просто не останется места для потомства хотя бы одного вида. Мне не дает покоя мысль, что количественный рост каждого отдельного вида на каком-то этапе его развития ограничивается. Только некоторые из ежегодно рождающихся выживают и способны плодить себе подобных. Какие-то ничтожные различия зачастую определяют, какой особи суждено выжить, а какой – исчезнуть навсегда. Эмма побледнела. – Но разве это не противно христианству? – Нет, это противно догме. Догматам, навязанным церкви уже потом. А моя теория не оспаривает существования бога. Просто природа следует его законам. – А не приписываешь ли ты богу жестокость, когда говоришь, что лишь немногие из тех, кто рожден на свет, способны выжить? – Было бы куда более жестоко, если бы все родившиеся на свет растения и животные оставались жить. Наша земля задохнулась бы и погибла миллионы лет назад. Только за счет естественного отбора, за счет вымирания наименее приспособленных возможна жизнь на земле. Эмма внимательно слушала мужа: она подалась вперед, локти уперлись в колени, подбородок лежал на ладонях. Она была женщиной искренне религиозной, мало того – непоколебимой в своих убеждениях. Она регулярно ходила в церковь, причащалась у его преподобия мистера Иннеса. Читала Библию детям и возражала против светских выездов в экипаже по воскресеньям. Она даже сомневалась, можно ли по воскресеньям вышивать, вязать, раскладывать пасьянс, хотя и считала, что Англия только выиграла бы, получи народ разрешение хоть как-то развлекаться по воскресеньям. В начале ее супружеской жизни она с огорчением узнала, что Чарлз не разделяет ее убеждений. Однако огорчение прошло; Чарлз, решила она, ведет столь праведную жизнь, что, по всей видимости, носит образ божий в себе. – Мне трудно принять мысль, что все живые существа не таковы, какими их сделал бог, что он не благословил их, не повелел процветать. – Знаю. Мне тоже было трудно, но в конце концов собранные данные оказались неопровержимыми. Лайель не полностью согласен со мной, как и Гукер. – Я должна уважать твои убеждения. Но какими доводами ты обоснуешь столь неприемлемую идею? – Чтобы написать о непостоянстве видов, их изменчивости, росте, исчезновении, я собираюсь изучить все жи" вое и получить документальные подтверждения. Растения и животные, насекомые, рыбы, птицы, пресмыкающиеся, земная кора с ее горными хребтами, долинами, плато, моря и океаны. Эта задача невыполнима, ни один человек не может знать все секреты нашего мира, вплоть до каждого изначального существа. Но ведь кто-то должен начать! У иудеев есть изречение: "Ты не обязан проделать всю работу, но и уклоняться от нее не имеешь права…" Вдруг настроение у него упало, он приуныл. На лбу жены обозначились морщины. В голосе ее звучали теплые нотки: – Тебе кажется, что для этой задачи избран ты? – Я избрал себя сам, – ответил он с саркастической улыбкой. – Это одно и то же, Чарлз. Если это предначертание судьбы, ты не должен противиться. Раз уж ты цитируешь изречения, утешься словами Евангелия от Матфея: "Если возможно, да минует меня чаша сия; впрочем не как я хочу, но как ты". Он обнял жену. Чарлз устроился в своем отгороженном уголке, напоминавшем каюту на корме "Бигля", поперек ручек его зеленого кресла лежала все та же покрытая зеленым сукном планка. Было приятно думать, вновь окунуться в работу, столь его занимавшую. В январе два их сына слегли с лихорадкой и бронхитом, и Дарвинам пришлось снять дом в Лондоне, на Бейкер-стрит, отчасти для развлечения, отчасти для того, чтобы сменить обстановку, – они надеялись, это пойдет сыновьям на пользу. Но едва они переехали, как в городе ударили крепкие морозы, и большую часть времени пришлось просидеть дома. В ту зиму разразилась ужасная Крымская война, англичане и французы сражались с русскими. Англия тяжело переживала гибель многих своих сынов; и хотя после появления поэмы Теннисона "Атака легкой пехоты" настроение в народе поднялось, Лайель заметил: – Помните, что сказал французский генерал Боске: "Она была прекрасной, эта атака, но атака еще не война". Недовольство страны тем, как ведется Крымская война, вынудило кабинет лорда Абердина уйти в отставку; премьер-министром стал лорд Пальмерстон. Наконец-то отменили налог на газеты, теперь их могли покупать и менее обеспеченные люди, особенно недавно основанную и выходившую большим тиражом "Дейли телеграф". Господа Страхэм, Пол и Бейтс, крупные банкиры, присвоили себе на двадцать две тысячи фунтов акций – и были пойманы с поличным. Поскольку это были образованные люди и полностью отдавали себе отчет в том, на что идут – по крайней мере, так сказали в суде, – им был вынесен суровый приговор: ссылка в Австралию на четырнадцать лет. – Австралия! – воскликнул Чарлз, вспоминая, как был в этой стране во время путешествия на "Бигле". – Хороший край. С богатейшими возможностями. Так что я о них не беспокоюсь. Купят огромные пастбища, возьмут в жены хорошеньких австралиек. Я бы [приговорил их к четырнадцати годам ссылки куда-нибудь в район лондонских трущоб: Бермондси, Холборн, Ист-энд. Это было бы для них наказанием! Мелькали и хорошие новости. Флоренс Найтингейл с группой медсестер высадилась на Скутари, чтобы ухаживать за больными и ранеными жертвами Крымской войны. На улицах Лондона впервые появились почтовые ящики, избавив жителей от необходимости ходить на почту каждый раз, когда нужно отправить письмо. В честь королевы Виктории и принца Чарлза в Версале был дан бал; король Сардинии Виктор Эммануил, взявший в войне сторону Англии и Франции, нанес визит королеве Виктории и принцу Альберту, ему был пожалован орден Подвязки, что предвещало надежные дипломатические отношения между странами. Когда позволяла погода, Дарвины ездили в Кью, к Джозефу и Френсис Гукерам. Они брали двенадцатилетнюю Генриетту на концерты дирижера Луи Жюльена, представительного француза, столь много сделавшего для популяризации симфонической музыки в Англии, знаменитого также своими роскошными жилетами. В первое же воскресенье в Лондоне они наняли закрытую карету и отправились на обед к Эразму, он жил в шикарном четырехэтажном доме на Куин-Энн-стрит, недавно им купленном, неподалеку от чудесного парка на площади Кавендиш-сквер. Дом стоял в тихом переулке, за ним находились лишь два красивых здания; самое дальнее – Чандос-Хаус, штаб-квартира престижного Королевского медицинского общества. Рядом проходила Харли-стрит, на которой практиковали лучшие, по крайней мере, самые дорогие хирурги в Лондоне. Позади шла Уимпол-стрит, где в доме отца, тирана и собственника, выросла поэтесса Элизабет Моул-тон; сбежав от отца, она вышла замуж за Роберта Браунинга и перебралась в Италию, во Флоренцию. Пять лет назад она опубликовала "Сонеты из Португалии", которые пользовались большим успехом. Эразм жил в нескольких минутах ходьбы от Церкви всех душ на Лэнгем-Плейс, с ее прекрасным кругом колонн и изящным тонким шпилем. Целую минуту Дарвины стояли перед домом Эразма в восхищении, хотя на дворе была февральская стужа. Сквозь шерстяную шаль, закрывавшую рот, Эмма пробормотала: – Брат выбился в люди. Пользуется наследством. – О да. У него на обедах часто бывают молодые члены парламента. С тех пор как он подружился с драматургом Чарлзом Ридом, автором популярных "Масок и лиц", в гости к нему частенько заходят самые модные актеры, красотки актрисы. Но его фавориты все-таки писатели: Чарлз Кингсли – ты читаешь его "Эй, к западу!", Энтони Троллоп – сейчас печатают его роман "Попечитель", Уилки Коллинз – дома ты читала мне его "Антонину"… Они поднялись по ступеням. Дворецкий в элегантном черном костюме, накрахмаленной белой рубашке и белом галстуке открыл дверь на первый же, стук дверного молотка. Он взял их пальто. Войдя в просторную, с высоким потолком гостиную, они подошли к мраморному камину в резной деревянной раме, по обе его стороны стояли медные ведра с углем. Эмма протянула руки к огню, чтобы согреться. Чарлз повернулся к камину спиной. Эмма заметила: – Как меняются вкусы. В прежнем доме Эразма все было светло. Но королева Виктория ввела новый стиль, и эта гостиная уже в более темных тонах. На окнах тяжелые плюшевые гардины, атласные обои – темные, и рисунок какой-то мрачный. Гостиная была примечательна обилием заполнявших ее вещей: коллекция китайских шкатулок, большие и маленькие вазы и статуэтки, богато украшенные часы, растения. На спинках стульев ручной работы висели вышивки. Были здесь и английские вещички, например прекрасной работы конторка, стол с откидной крышкой – Эразм последнее время пристрастился ходить по антикварным лавкам Лондона. – Нравится? – раздался голос Эразма. – Сейчас все здесь доведено до конца. Чтобы обставить эту комнату как должно, я затратил два года. Он вплыл в комнату, источая запах одеколона; на нем был изысканный пиджак из голубого бархата, прекрасно сшитые серые брюки сидели как влитые – делали свое дело лямки под его начищенными до блеска туфлями. – Очаровательно, Эразм! – проговорила Эмма. – У тебя тонкий вкус. – Одного не могу понять, – начал Чарлз будто бы серьёзно, – где ты размещаешь своих многочисленных гостей – ведь эта новомодная мебель занимает столько места! – Стулья убираются. Диваны складываются. – На обычно унылом лице Эразма заиграла улыбка. – Сами увидите, как это делается. Будто по мановению волшебной палочки. К тому же после двухчасовой молитвы в Церкви всех душ мои гости будут голодны, как волки. Первым прибыл Томас Гексли, полный жизни человек, с появлением которого начинали дрожать стены, а чуждые ему убеждения – рушиться. Он отвесил Эмме изящный поклон, схватил за руку Чарлза. – Дарвин, я нарочно пришел пораньше, – признался он. – Надеялся, что застану вас одного и смогу извиниться. – За что же, силы небесные? – За то, что показал себя идиотом. Когда мы встретились, я выразил убеждение, что демаркационные линии между группами в природе проходят достаточно четко, что переходных форм нет. Я говорил с уверенностью, которая, свойственна дерзновенной молодости и неглубоким позна-; ниям. Вы спокойно ответили, что придерживаетесь другого мнения, и этот ответ долго преследовал меня, он изрядно меня озадачил. Годы упорного труда позволили мне понять, что вы имели в виду. – Рад это слышать, Гексли. – Прошу вас, Дарвин, пока не записывайте меня в свою веру. Меня ведь вполне устраивает, как сотворение мира описано в "Потерянном раа" у Мильтона, где он так живо воплощает естественный смысл книги Бытие: "Я никогда не скажу, что сие неверно, ибо невозможно". Пока Чарлз от души смеялся, Эмма заинтересованно спросила: – Как дела у вашей невесты, мисс Хиторн? Широкое, красивое лицо Гексли осветилось яркой улыбкой. – Она с родителями сейчас на пароходе, возвращается из Сиднея. Мы ждали семь лет и теперь собираемся пожениться безотлагательно. Сейчас я хоть и с трудом, но все-таки могу содержать семью, двести фунтов в год мне платят за чтение лекций в Государственной горной школе, кроме того, я получаю гонорары в Геологическом обществе. Его огромные глаза чуть помрачнели, лицо стало печальным. – Я очень обеспокоен. Отец Нетти написал мне, что она подорвала здоровье. Видимо, австралийские лекари верят только в кровопускание да в каломель, больше ни во что. Начали собираться гости Эразма. Дарвин словно попал на выставку мод. На женщинах были изысканные туалеты. Шляпки, украшенные цветами, шнурами и бархатными лентами, были сдвинуты подальше к затылку, чтобы не закрывать лицо. Корсеты туго стягивали талии, а юбки с оборками и воланами заполонили всю комнату. Самые смелые были одеты в тона посветлее: голубые, золотисто-зеленые, розовые, желтые. Дамы поконсервативнее были в темно-коричневом и зеленом, их легкие шерстяные жакеты и набивные муслины были украшены замысловатыми шнурами или веточками цветов. Но всеобщее внимание привлек последний крик моды: юбки из переливчатого шелка поверх кринолинов. Каждая дама держала ридикюль из берлинской шерсти или отделанный бисером, на руках – вошедшие недавно в моду короткие белые перчатки, на ногах – туфли-лодочки из черного или белого атласа. – Клянусь! – воскликнула Эмма, обращаясь к Чарлзу. – Рядом с этими элегантными дамами я чувствую себя провинциалкой. – Но самое яркое оперение, – негромко сказал Чарлз, – не у кур, а у петухов. Только посмотри на эти двубортные приталенные пальто… на распахивающиеся сюртуки! Мужчины старались перещеголять женщин: кашемиры и шелка, бархат, светло- и темно-зеленые тона чередовались с модными шотландками. Яркие жилеты были украшены шнурами, тонкой вышивкой. Воротники плиссированных спереди сорочек лежали поверх широких вязаных галстуков. Полуботинки из мягкой кожи были начищены до блеска. Несколько друзей Эразма из артистической среды были в свободного покроя пиджаках и небольших шапочках из бархата или кашемира. – Одежда красит джентльмена, – заметил Чарлз с хитрой улыбкой, – или по крайней мере его внешность. Через несколько часов мы узнаем, есть ли что-нибудь под этими изощренными жилетами. Но в яркости им не откажешь. Чарлз переходил от группы к группе, прислушиваясь к оживленным беседам. Гости перебрасывались бойкими, живыми, остроумными, иногда не совсем пристойными, а порой и злопыхательскими фразами, когда препарировались последние книги, пьесы, музыкальные сочинения, подвергалась тонкому анализу политика правительства, пускалась по кругу последняя сплетня о каком-нибудь судебном деле или скандале в благородном семействе. Всех пригласили к столу. Столовая Эразма была не менее элегантной полосатые обои и занавеси из зеленого в полоску шелка. Ярко горевший камин украшала белая резная полка, под хрустальной люстрой, рассеивавшей мягкий свет свечей, стоял длинный красновато-желтый стол. Закуски подавались вымуштрованной прислугой; палтус с соусом из креветок, цыпленок в горшочке, холодный фазан, заливное из телятины, салат, яблочный пирог с кремом, фруктовое желе, заварной крем. – Неплохая разрядка для того, кто привык к говяжьей отбивной! – шепнул Чарлз Эмме. Мороз на улице, светские разговоры в гостиной, три часа пополудни все это пробудило у гостей аппетит. В том числе и у Чарлза с Эммой, к их собственному удивлению. Невероятно, но факт – обильный обед, запитый бесконечным множеством бутылок белого вина, был не просто побежден, но решительно уничтожен, и, когда гости поднялись, длинный чиппендейловский стол был пуст, как покинутое войском поле битвы. Эразм проводил их до двери. – Ты достиг того, к чему стремился в жизни, Рас, – сказал Чарлз. – К чему эта снисходительность? Я, как и ты, стремлюсь к совершенству. И делаю все, чтобы каждое такое сборище осталось у людей в памяти. Приятное общество, приятная еда и питье, располагающая обстановка, в которой легко течет беседа, расцветает дружба. Не представляешь, как много подлинных талантов, мужчин и женщин, встретились здесь впервые и завязали отношения, которые обогащают их жизни. – Не сомневаюсь в этом, Рас, – умиротворяюще ответил Чарлз. В середине февраля Дарвины вернулись в Даун-Хаус. Дети, одетые в шубы, шарфы и шерстяные шапки, играли, утопая в снегу. Чарлз писал статью о силе движущихся ледников, об их способности корежить и видоизменять пересекаемую ими местность. Эту статью опубликовал "Научный ежеквартальник". Потом Чарлз с головой ушел в недавно вышедшую книгу своего друга Томаса Уолластона о насекомых Мадейры. Описания он нашел замечательными, а выводы неудовлетворительными. Уолластон был энтомолог и конхиолог, выпускник колледжа Христа в Кембридже. В книге он развивал свои взгляды на причины существования зачаточных крыльев у большой группы насекомых, хотя Чарлз не раз пытался разубедить его в правильности занятой им позиции. Когда в гости приехал Джозеф Гукер, Чарлз показал ему спорную главу. – Вам не кажется, что эти предположения весьма забавны? – Кажется. И все далеки от истины. Насекомые с зачаточными крыльями напомнили Чарлзу нелетающих бакланов с Галапагосских островов. Его, как и капитана Фицроя, Джона Уикема, Бенджамина Байно, тогда крайне озадачили эти птицы, потерявшие способность летать. Никто на "Бигле" не смог дать этому разумное объяснение, и только теперь, исследуя рудиментарные органы, Чарлз смог объяснить себе это явление. Сидя с Гукером в кабинете, Чарлз во всех подробностях живописал ему тот день на острове Албемарл. Запасы пресной воды на судне настолько истощились, что ежедневную норму пришлось уменьшить вдвое, до полгаллона на человека, это суровое испытание на экваторе, где солнце весь день стоит в зените. Чарлз сошел на берег, полный решимости найти пресную воду, но попадалась лишь солёная. Именно там, на Албемарле, он увидел больших бакланов, они кормились на нижних уступах скал, их крылья являли собой обрубки с бахромой из- перьев. Пищи на скалах было предостаточно, в летать "ад водой в поисках рыбы не требовалось; не водились там и хищники, и большие птицы. Крылья бакланов атрофировались, потому что в них отпала нужда! Крыльями перестали пользоваться, и от неподвижности Они усохли – а ведь когда-то их размаха хватало, чтобы поднять эти большие тела в воздух! – как сходит на нет всякий неиспользуемый орган всякого живого существа, если он теряет свою функцию. Джозеф Гукер любовно пощипывал брови, столь же густые, как тропические растения в его Ботаническом саду в Кью. – Да, тут нечего возразить. – Конечно, Гукер. Это просто невозможно. Бог не мог дать птице обрубки вместо крыльев – ведь птица должна летать! Нелетающих бакланов создало время и изменения. В начале 1855 года Чарлз забросил дневник здоровья, который вел пять с половиной лет. Ему нравилось делать записи, но ежедневные пометки все равно не позволяли обобщить его хронические недомогания. В кабинете он проводил лишь часть своего времени; в основном он работал на воздухе, исследовал скелеты цыплят, уток, индеек, пытаясь определить, какие разновидности есть у каждого вида. Своему кузену он написал: "Я был бы очень рад получить от тебя семидневного утенка и какую-нибудь старую утку, умершую естественной смертью". Изучая крошечных цыплят, он стал измерять их конечности, ощупывая суставы, записывал данные о скелетах старых индеек, тщательно обследовал ломовых и скаковых лошадей. Он узнал, что один из его приятелей-натуралистов насчитал сорок разновидностей обычной утки. Дарвин начал исследовать строение глаза и уха сотен птиц, лесных и домашних, пресмыкающихся и млекопитающих, ни на минуту не забывая о том, насколько эти органы хрупки и сложны. – На какую глубину меня занесло! – жаловался он. Чтобы получить скелеты, он вынужден был варить уток над огнем, который поддерживал в сарае за домом молодой Леттингтон, новый садовник, заменивший ушедшего на покой Комфорта. Семь детей Чарлза (из Регби приехал погостить Уильям) были заинтригованы его опытами с домашней птицей; от усоногих рачков они устали гораздо раньше, чем их отец. Они поддразнивали его, крича: – Ой, как здорово пахнет вареная уточка! Эмма не возражала против смрада, она просто спросила: не лучше ли построить небольшую печь в дальнем конце заднего дворика? – Я собираюсь заняться изучением голубей. Яррел подучит меня, и тогда голубятникам не так-то просто будет меня провести. Не бойся, – усмехнулся он, – варить их я не буду. Через крупнейшего лондонского поставщика Бейли Чарлз купил несколько отборных голубей, веерохвостых и дутышей, и поместил их в большую клетку. Раньше голуби его никогда не интересовали, но теперь он был ими просто очарован и, к восторгу детей, построил голубятню. Весной Джозефа Гукера назначили заместителем директора Королевского ботанического сада в Кью. Джозеф и его жена Френсис, которая уже родила двух детей и ожидала третьего, получили домик у входа в сад. Чарлз сказал Гукеру: – Я искренне и от всей души поздравляю Вас с этим назначением. Понимаю, пока это не бог весть что, но в будущем Вы наверняка станете директором. Гукер относился к Чарлзу так же, как тот – к Джону Генсло. Гукер был чрезмерно перегружен, так как постоянно подрабатывал – принимал экзамены по ботанике у соискателей ученой степени в медицине. Он готовил к публикации свой труд о флоре Новой Зеландии и Индии, но занятость и усталость никогда не мешали ему отвечать на письма Чарлза со множеством вопросов, касавшихся ботаники. В начале июня Чарлз и мисс Торли, гувернантка его детей, собрали все растения с поля, которое раньше возде-лывалось, а теперь заросло. Потом – с соседнего возделываемого поля, чтобы узнать, какие растения появились недавно, какие исчезли. – До чего трудно распознать растения! – воскликнул Чарлз, разглядывая свои трофеи. – Наверное, без Гукера нам не обойтись. Когда среди многочисленных трав Чарлз впервые сумел выделить уже знакомую, он воскликнул: – Ура! Ура! В жизни бы не подумал, что когда-нибудь сумею отличить одну травинку от другой. Нужно написать об этом Гукеру. Во время путешествия на "Бигле", как и в последующие годы углубленного чтения, он столкнулся с тем, что на отдаленных островах водятся растения, животные и птицы, i которые сами никак не могли туда попасть. У традиционали-: стов имелось готовое объяснение: бог одновременно создал все формы жизни во всех уголках земли. Чарлз в это не верил. Мало-помалу он пришел к выводам, дававшим частичный ответ на этот вопрос: семена и яйца перемещаются через моря на бревнах, плотах, водорослях, в когтях или кишечниках перелетных птиц, которые опорожняют на острове желудки, наполненные на материке. Чарлз спросил Гукера: – Могут ли семена, яйца сохраняться в соленой воде в течение дней, недель, месяцев и затем воспроизводить свои виды на далеких берегах? – Думаю, что да, – ответил Гукер, – но вы должны проверить это. – Да я готов положить все силы на то, чтобы выяснить такую возможность. Я знаю, что вы отнесетесь к моим экспериментам, как подобает доброму христианину. Я собираюсь собрать различные семена, свежие яйца, положить их в бутылки и бочонки с соленой водой, записать, сколько они там пролежат, а затем вынуть их и дать им развиваться нормальным путем. Если вы, конечно, не возражаете. – Да что вы! – воскликнул Гукер. – А вы не против, если я немного поэкспериментирую подобным образом у себя в Кью? Я тоже хочу выяснить, могут ли семена плавать. – Давайте работать вместе. Поплывут, должны поплыть! Он купил бутылки, бочонки разных размеров, поставил их в ряд на заднем дворике, наполнил соленой водой, поддерживая температуру тридцать два – тридцать три градуса по Цельсию – он считал, что среднегодовая температура воды в океане должна быть как раз такой. Детям-нравилась эта новая игра, они думали, что он затеял ее ради них. Эмма, не желавшая участвовать в препарировании животных, домашних и лесных птиц, не говоря об усоногих раках, теперь заинтересовалась. Дети сделали на каждой бутылке и бочонке наклейки с надписью, где какие семена. Эмма вызвалась изо дня в день записывать состояние семян. Она не думала, что эта работа ляжет в основу трактата ее мужа о происхождении видов. Он начал с семян редиса, салата, капусты, латука, моркови, сельдерея и лука. Неделю семена держали в бочонках с соленой водой, потомих посадили в землю. Дети забегали к отцу в кабинет и кричали: – Папа, папа, иди скорей, сельдерей и лук прорастают! Салат и латук росли быстрее обычного, а вот капуста поднималась неравномерно. – Наверное, многие семена капусты погибли. Дети стонали от разочарования. Три недели спустя салат и латук продолжали давать мощные побеги. Чарлз сказал: – Честное слово, не могу поверить в наш успех. – Ты утрешь нос доктору Гукеру? – спрашивали дети. Следующая партия семян для обработки соленой водой состояла из французского шпината, овса, ячменя, канареечного семени и свеклы. В бутылках и бочонках они плавали две недели, три, потом Чарлз вынул их и посадил. Он знал: за такой малый срок семенам не доплыть до дальних краев. Но когда после восьмидесяти пяти дней жизни в соленой воде проросли семена сельдерея и лука , он воскликнул: – Это триумф! Значит, некоторые формы жизни способны пересекать океаны и воспроизводиться на островах; и, разумеется, на других удаленных материках. Он обратился к своему старому учителю Генсло с прось-" бой: пусть девчушки из прихода за полкроны соберут дли него семена. Семян прислали множество, Чарлз расплачивался почтовыми марками. Еще один опыт он провел совместно с Зоологическим обществом в Лондоне. Он написал Гукеру: "Рыбе в Зоологическом обществе скормили много замоченных семян. Моя взыгравшая фантазия нарисовала такую картину: цапля заглатывает рыбу вместе с семенами, уносит их за сотни миль, освобождается от них на берегах какого-нибудь другого озера, где они прекрасным образом прорастают. Увы, рыбы с яростью выплюнули все семена". Кузен Фокс выслал ему для анатомирования веерохво-стых голубей и дутышей. Из наспех сколоченного сарая Чарлз изгнал Эмму, но старшим детям разрешил остаться. Фоксу он написал: "Я совершил черное дело и уничтожил маленького веерохвостого ангела десяти дней от роду. К веерохвостому я применил хлороформ и эфир. А со вторым проделал вот что: положил кусочки цианистого калия в большую влажную банку, а через полчаса посадил туда голубя: образовавшийся газ синильной кислоты быстро оказал фатальное воздействие". Чарлзу хотелось знать, могут ли только что отложенные яйца ящерицы и змеи долго плавать в море – достаточно долго, чтобы животные появились на других землях. Он просил Фокса: "В ваших краях песчаная почва, и, наверное, ящерицы там не такая большая редкость? Если я прав, надеюсь, вам не покажется смешной моя просьба: пусть мальчишки вашей школы за вознаграждение найдут для меня отложенные ящерицами яйца. Шиллинг за каждые полдюжины или больше, если найти трудно. Как наберется две-три дюжины высылайте. Если по ошибке попадутся яйца змеи, это будет весьма кстати, они мне тоже нужны, ведь у нас ни ящерицы, ни змеи не водятся". Шли недели и месяцы, Чарлз исписывал результатами опытов сотни страниц, в дело шел любой подвернувшийся клочок бумаги, даже старые конверты. Десятки картотечных ящичков, которые он сам сделал, постепенно заполнялись. Здесь хранились его наблюдения и имевшиеся сведения. Если факты противоречили теории, он почти никогда не унывал. С помощью Джозефа Гукера Чарлз свел в Кью очень полезное знакомство с американцем Асой Греем. Доктор Грей, преподаватель ботаники в Гарвардском университете, автор "Справочника по ботанике Северных Соединенных Штатов", снабдил Чарлза очень ценными сведениями об американских растениях. Чарлз также поехал в Лондон и вступил в Саутуоркское общество голубеводов, члены которого собирались в семь часов в йоркширской таверне в доме 4 на Парк-стрит. Потом он поехал на север, в Регби, навестить заболевшего корью Уильяма. Чарлз сказал ему: – В таверне я повстречал довольно странных мужчин. А принадлежит таверна женщине, что тоже странно. Некой мисс Виктуар Арден. – И что же предпочитает мисс Арден, – спросил его старший сын с озорной улыбкой, – странных мужчин или голубей? – Странных мужчин. Ведь они, в отличие от голубей, могут платить за пиво. Мистер Брендт, один из их лидеров, оказался редким чудаком. После обеда он протянул мне глиняную трубку и сказал: "Вот ваша трубка", будто само собой разумелось, что я курю. В субботу я заберу гораздо больше голубей – это занятие куда благороднее и возвышеннее возни с мотыльками и бабочками, даже если ты с этим не согласен. Его дети любили ловить бабочек и презирали собирателей жуков. Это был для них повод лишний раз подшутить над отцом. Своими наставлениями и энтузиазмом он привил детям любовь к живой природе, но не считал нужным снабжать их экземплярами для коллекции. Коллекцию дети должны собирать сами – только тогда она принесет им радость. Летом и осенью Чарлз занялся петухами и курами, стараясь выявить различия в строении костей, весе, количестве хвостовых перьев, чтобы четко определить разновидности. Добывать материал для опытов было трудно – не всем нравилось упаковывать или отправлять ему мертвую птицу, с усоногими раками было куда проще. А умерщвление птенцов огорчало Эмму и детей. Тогда он предложил вознаграждение за мертвых голубей, кроликов и уток мистеру Бейкеру, который разводил их и продавал. Самым верным поставщиком оставался кузен Фокс, который вы" сылал ему нужные экземпляры. Чарлз послал также два десятка писем известным птицеводам и профессиональным свежевальщикам с просьбой присылать ему останки домашней птицы и голубей. Он размышлял: "Около тридцати лет назад много говорилось о том, что геологи должны только наблюдать, но не теоретизировать; хорошо помню, как кто-то сказал, что, если рассуждать подобным образом, лучше просто спуститься в гравийный карьер и считать там камешки и описывать их цвета. Неужели люди не понимают, что смысл любого наблюдения – доказать или опровергнуть какую-либо позицию, иначе польза от наблюдения равна нулю". Осенью 1855 года он получил очередной номер "Анналов естественной истории" и начал читать статью Алфреда Рассела Уоллеса под названием "О законе, регулирующем возникновение новых видов". Его потрясло уже само название. Ему и в голову не приходило, что кто-то другой идет той же непроторенной дорогой, на какую он ступил восемнадцать лет назад, в 1837 году. Он вышел в переднюю, взял из рыжевато-зеленой керамической табакерки щепотку нюхательного табака и снова принялся за чтение статьи. Его ждал новый сюрприз: "Географическое распространение зависит от геологических изменений. Каждый естествоиспытатель, изучающий вопросы географического распространения животных и растений, наверняка сталкивался в своих исследованиях со странными фактами… …Местность, на которой имеются определенные виды, роды и принадлежащие к ним целые семьи, безусловно сформировалась в результате длительной изоляции, достаточной для того, чтобы многие подвиды сложились по типу предсуществовавших, которые вымерли, как и многие виды более раннего периода, в результате группы стали казаться изолированными…" Чарлз поднялся и, глубоко обеспокоенный, стал ходите по комнате. Взглянув на оглавление, он понял, что автор статьи – молодой человек, которого он смутно помнил по мимолетной встрече в Британском музее года два назад. Он также читал в доме Лайеля главу или две из книги Уоллеса "Путешествие по Амазонке" и тогда еще подумал, что автор – вдумчивый и наблюдательный естествоиспытатель. Сейчас Алфреду Расселу Уоллесу тридцать два года, а тогда он собирался отправиться в экспедицию: Сингапур, Бали, Целебес, Малакка – зона Малайского архипелага, еще не изученная естествоиспытателями. Чарлз вспомнил слова Уоллеса: – Выбрать Сингапур исходным пунктом для сбора материалов по естественной истории меня натолкнули занятия, проведенные здесь, в этом музее, в разделах насекомых и птиц. Я хочу, чтобы моя экспедиция продлилась несколько лет, как ваша на "Бигле" и Гукера на "Эребусе". Я холост, и время мое ничем не ограничено. Перед мысленным взором Чарлза возник облик Уоллеса: простоватый с виду, эдакий увалень, массивные плечи и широкая грудь, копна черных волос, темные бакенбарды, очки без оправы, слишком маленькие для его огромных, пытливых, но добрых глаз. Держится застенчиво, говорит негромко, прекрасно образован, хотя выучился не в школе: семью Уоллесов, никогда не жившую в роскоши, постигло разорение, и мальчику пришлось бросить школу в четырнадцать лет. Всплыло в памяти и все, что он знал об Алфреде Уоллесе. Поскольку у Уоллеса не было денег, тот изложил свой план Родерику Мурчисону, тогдашнему президенту Королевского географического общества, и именно благодаря прошению, поданному Мурчисоном в правительство, было разрешено провести экспедицию на корабле компании "Па-сифик энд ориент", отплывавшем в Сингапур в начале 1854 года. Чарлз снова взял в руки журнал. Статья была опубликована всего через полгода после отплытия Уоллеса из Англии! – Поразительно! Он столького добился за такое короткое время! воскликнул Чарлз с бьющимся сердцем; потом прочитал всю статью целиком, все девятнадцать страниц наблюдений и примеров Уоллеса до завершающего абзаца: "Нами было показано, хотя довольно поверхностно и кратко, как закон о том, что "все виды начали свое существование, связанное во времени и пространстве с предсуществовавшими схожими с ними видами", связывает и наделяет логическим смыслом огромное количество разрозненных и потому доселе не объясненных фактов…" Он не мог поверить своим глазам. Алфред Уоллес выступил с революционной теорией и изложил ее почти его собственными словами. Невероятно! Во время чтения Чарлз был раздосадован, озадачен, разочарован, рассержен, наконец, опустошен. Он вышел из кабинета, взял плащ, мягкую шляпу, ясеневую трость и направился в сторону Песчаной тропы. Камни считать не стал, но сделал по дорожке два круга и лишь после этого испытал какое-то облегчение. Да, Уоллес выявил факты и сгруппировал их в теорию о видах, но он не обнаружил механизма естественного отбopa. Чарлз взял ножницы, вырезал из журнала все остальные статьи и выбросил их, оставив между обложками лишь статью Уоллеса. Ее он положил в ящик своего шкафядаса и с этого момента решительно перестал о ней думать. Но не надолго. Перед встречей в Обществе он ужинал с Лайелем, и тот спросил: – Вы читали статью Алфреда Уоллеса в "Анналах"? – Читал. – Неплохо написано, как считаете? – Превосходно. – Наступает вам на пятки, а? – Скорее, на мозоли. Но он не дает ответа на вопрос, что вызывает изменение видов. – А вы? – На это я отвечу позже. – Прочитав статью Уоллеса, я сам начал делать записи о видах. – Только теперь!.. Я обсуждал с вами виды столько лет, и лишь теперь, после его статьи, вы начали вести записи? – Когда вы были один, я не видел в этом нужды. Но сейчас вас стало двое… Второе напоминание пришло от друга, естествоиспытателя Эдварда Блита, хранителя Музея Азиатского общества Бенгалии, большого специалиста по птицам и млекопитающим Индии. В письме, содержащем сведения об индийской флоре, Блит спрашивал: "Что вы думаете о статье Уоллеса в "Анналах"? Здорово, черт возьми! По-моему, материал подан Уоллесом хорошо; по его теории, различные породы домашних животных развились в виды". Письмо это обеспокоило Чарлза больше, нежели разговор с Лайелем, потому что Блит охарактеризовал умозаключение Уоллеса, как "триумф факта, на который наткнулся наш друг Уоллес". Сумеет ли Уоллес вывести также принцип естественного отбора? Что же тогда, все его годы работы и открытий – впустую? Неужели ему суждено уступить первенство? – Да нет же! – воскликнул он вполголоса, обращаясь к книжным полкам своего кабинета. – Все это ерунда. И эгоизм высшей степени. Уоллес преданный науке талантливый молодой естествоиспытатель. Я помогу ему, чем смогу, как мне помог Лайель. Январь 1856 года оказался неудачным для семьи. Эмму вдруг начали мучить головные боли. Дети были простужены, и их нельзя было выпускать на улицу. На полях лежали высокие сугробы, и Чарлз почти не мог работать в своих сараях. В кабинете перед камином Чарлз аннотировал вновь поступившие книги, писал письма и переваривал полученную корреспонденцию, касавшуюся особенностей яиц и цветовых различий уток и овец в разных частях света. Он обобщал тысячи разрозненных фактов о жизни животных и растений, об их предназначении, – такая работа была по силам далеко не каждому. О его грандиозном замысле знал лишь он сам. Иногда он колебался, переживал, когда ход его исследований в том или другом направлении тормозился. Но твердая вера в теорию развития, изменения и приспособления видов с момента появления на земле первых форм жизни миллионы лет назад, эта вера оставалась незыблемой. Он был убежден, что его теория – это крепкий корабль, который не пойдет ко дну при первом ударе волн. Но нужна осторожность, беспристрастность – и никакого догматизма. Пришла удручающая новость из Лондона – в покойнике, обнаруженном на Хэмпстед-Хит опознали члена парламента Джона Сэдлера. Он совершил самоубийство, потому что был замешан в банковских махинациях. С этого факта началась серия разоблачений высокопоставленных чиновников, запускавших руку в государственную казну, что нанесло неисчислимый ущерб вкладчикам, фермерам, торговцам. В том же году некто Леопольд Редпэт подделал записи акций Большой северной железной дороги и присвоил себе четверть миллиона фунтов стерлингов. Чарлз пришел в ярость, заслышав об этом, потому что всерьез собирался купить на имевшиеся у них сбережения акции Большой северной. "Подожду, пока они возместят потери, – решил он. – Все же несколько их акций мы купим – вложение это хорошее". Многие говорили, что подобные скандалы подрывают веру англичан в правящие классы. Ко всем неприятностям сгорел популярный театр "Ковент-Тарден", сгорел во время бала-маскарада, обернувшегося пьяной оргией. Некоторой компенсацией стала с восторгом принятая премьера оперы "Пикколомини". Чарлз обещал Генриетте свозить ее на эту оперу. Он часто брал детей на выставки в "Хрустальный дворец", который в 1854 году был за семьдесят тысяч фунтов куплен Брайтонской железнодорожной компанией и перевезен в Сиденхэм, в восьми с половиной милях к северо-западу от Даун-Хауса. Дети с раннего возраста питали любовь к выставкам. В конце марта был подписан мирный договор, и Крымская война закончилась; но тут же последовало объявление войны Персии, затем бомбардировка Кантона, известившая о начале завоевательной войны, которую королевский флот повел против Китая. – Есть такая старая поговорка: "Сомневаться можно во всем, кроме смерти и налогов", – ворчал Чарлз. – А я бы добавил: "(Кроме смерти, налогов и войны". По Мальтусу, войны необходимы для того, чтобы снизить прирост населения? Он пропускал через себя ежедневные новости и в тщательно отредактированном виде преподносил их детям, если они оказывались рядом и слушали. Эмму газетные страсти мало трогали. Где-то в глубине души ей казалось, что газеты – это лишь раскрашенные черной краской игрушки, ежедневные соски для простодушных мужчин. Проходили дни, одни сплетни сменяли другие. Все это так недолговечно! Волновало и заботило Эмму другое – благополучие ее мужа, детей, дома. В конце апреля 1856 года Чарлз решил предстать перед высоким судом и подвергнуть свое детище испытанию. Он пригласил в Даун-Хаус Чарлза Лайеля, Джозефа Гукера, Томаса Гексли и Томаса Уолластона вместе с женами. Чтобы собрать эту четверку в Даун-Хаусе, потребовался месяц переписки. Леттингтона он послал с экипажем на станцию в Сиденхэм, где тот нанял второго извозчика, чтобы привезти всех. Чарлз не ждал от друзей единодушного одобрения, скорее, ему требовалась критическая оценка его теории. В 1856 году Лайель опубликовал всего одну статью, ио его "Основы геологии" выдеоживали уже девятое, расширенное издание. Джозеф Гукер продолжал работать над флорой Тасмании. Томас Гексли меньше года как женился. Некий доктор, известное светило, предсказал, что мисс Генриетта Хиторн не протянет и полгода, но супружеская жизнь с экспансивным, но нежным Томасом Гексли излечила ее. Два последних года Гексли читал лекции в Государственной горной школе на Джермин-стрит и был главным естествоиспытателем в Геологическом обществе. Ему предложили возглавить кафедру биологии в Эдинбургском университете, но он отказался – предпочитал работать в Лондоне, где его как раз попросили выступить с лекциями в Королевской ассоциации. Тридцатичетырехлетний Томас Уолластон посвятил себя изучению жуков Мадейры, островов Зеленого Мыса и Святой Елены. Там он и почерпнул свидетельства, подтверждавшие его веру в существование затонувшего континента Атлантиды, это была его любимая фантазия. Свою первую научную работу он написал, когда еще учился в Кембридже, в колледже Христа. К вечеру в пятницу гости собрались на ступенях Даун-Хауса. Эмма потеснила детей и освободила четыре спальни. А чтобы управиться на кухне, наняла в деревне еще одну женщину. Когда гости отдохнули с дороги и спустились в гостиную выпить по бокалу шерри, Эмма сказала им: – У всех у вас сегодня был трудный день, наверное, некогда было как следует пообедать. Перейдем в столовую, надеюсь, нам удастся восполнить этот пробел. Освещенный полудюжиной свечей, обеденный стол был прекрасен. Сэлли приготовила запеченного лосося, тушеную телятину с соусом и картофелем, яблочный пудинг, обсыпанный хлебными крошками. Гости с аппетитом поглощали блюдо за блюдом. В отличие от первого обеда, который Эмма дала для коллег Чарлза на Аппер-Гауэр-стрит, 12, где мужчины говорили почти шепотом и, казалось, разговор вот-вот умрет, на сей раз все были оживлены, веселы и разговорчивы. Едва разделавшись с лососем, гости принялись -обсуждать ледниковый период; могли или нет северные растения мигрировать на юг, даже к экватору, как это сделали многие племена; верно ли, что единственными существами, выжившими после таяния льдов, были те, которые сумели заползти, поколение за поколением, на горы, как это было на Цейлоне, Яве, в горах Бразилии. Женщин за возбужденными мужскими голосами почти не было слышно, они мирно беседовали вполголоса. После обеда все вернулись в гостиную. Эмма немного поиграла на рояле. Чарлз организовал две партии в триктрак с меняющимися участниками. По комнатам разошлись рано – Чарлз попросил коллег спуститься к завтраку в семь утра. К восьми часам все пятеро закрылись в кабинете Чарлза. Старшим по возрасту среди них был пятидесятивосьмилетний Лайель, и Чарлз посадил его в кресло, стоявшее в углу. Сорокасемилетний Дарвин сел справа от Лайеля, тридцатидевятилетний Гукер – слева, а самому молодому, тридцатилетнему, Гексли пришлось довольствоваться обитой материей скамеечкой, которой Чарлз пользовался все годы работы над усоногими рачками. Взгляду Чарлза предстали чисто выбритые лица, внимательные глаза. Все пятеро бывали в далеких и экзотических странах, встречались с опасностью, вернулись с богатейшими знаниями. – Первым делом я хотел бы узнать, что вы думаете о географическом распространении на земле растительных и животных видов. Мне кажется, что сходство живых существ, населяющих весьма удаленные друг от друга земли и острова, можно объяснить. – Можно, – ответил Джозеф Гукер. – Но не с помощью твоей теории о семенах, плывущих через океаны. В далеком геологическом прошлом существовали огромные материки, соединявшие такие далекие земли, как Новая Зеландия и Южная Америка. Землю опоясывала цепь материков, многие из которых исчезли. Сотни маленьких островков наших дней – это вершины затопленных материков. – Согласен, – решительно заявил Уолластон. – Я убежден, что Атлантида была таким соединительным материком. Жуки различных видов свободно летали по всему земному шару, и теперь они водятся в любом уголке земли. Чарлз решил ответить Гукеру. – Мои опыты с семенами доказали, что некоторые из них способны жить в соленой воде до восьмидесяти дней, а потом прорастать на грядке. Я выяснил, что в экскрементах перелетных птиц часто содержатся семена, которые, попав на плодородную почву, могут дать побеги, даже если это очень далеко от родных краев. То же относится и к большим птицам, переносящим в когтях грязь. В этой грязи есть живые семена. – Похоже на правду, – пробурчал Гексли. – По крайней мере, это лучше, чем каждый раз изобретать материк, стоит нам столкнуться с растением, птицей, пресмыкающимся, найденными в тысяче миль от им подобных. – Давайте вернемся к вашей теории видов, – предложил Лайель. – А как насчет людей, Дарвин? Чарлз даже вздрогнул: – Что насчет людей? – Ведь они тоже вид? – Разумеется. – Тогда каков путь их эволюции? – Ну нет! – бурно запротестовал Чарлз. – Человек – это запретная зона. – Почему же? – вкрадчивым голосом спросил Лайель. – Разве мы не могли произойти от орангутанга? Допустим, с Борнео или Суматры. Рост самцов превышал четыре фута, это не намного ниже изящно сложенных танцовщиков с острова Крит. В один прекрасный день вам все равно придется заняться происхождением человека. Поэтому ваш подход я считаю неприемлемым – в общую картину не вписывается человек. Распространенная точка зрения такова, что все разновидности рода человеческого произошли от одной пары. Насколько могу судить, против этой теории нет серьезных возражений. Чарлз не клюнул на приманку. Он спросил: – Кто-нибудь из сидящих в этой комнате согласен с моей теорией о том, что борьба за существование есть движущая сила эволюции современных форм жизни? Гости переглянулись. Затем Лайель и Гукер сказали, что Чарлзу потребуется немалый запас бесспорных фактов, подтверждающих его идею об исчезновении прежних разновидностей и видов. Томас Гексли заявил, что он и сам готов посвятить больше времени работе в этой области. А Томаса Уолластона слова Чарлза всерьез обеспокоили. Подход Чарлза оскорблял святость библейской книги Бытие. В голосе Уолластона слышался легкий упрек. – Разумеется, меняется наш мир и населяющие его существа. Мы все согласны с тем, что был ледниковый период, а до него много прочих периодов. Но все они логически объяснимы. Когда бог по причинам, известным ему одному, задумал произвести на нашей земле серьезные перемены, он просто создал разные материки, моря, заселил их разными птицами, рыбами, цветами, деревьями. Ведь, в конце концов, он создал мир всего за шесть дней! Так разве не мог он позже перекроить этот мир по своему желанию? Думаю, что мог. Они беседовали до полудня, потом Чарлз повел друзей на прогулку по Песчаной тропе. Пообедав, все разошлись по комнатам отдохнуть. В три часа снова собрались в кабинете, и Чарлз рассказал о своей работе с пятнадцатью разновидностями обыкновенного голубя. – Работу по классификации прекрасно ведут такие люди, как Генсло, Броун, Вы, Томас, Гукер, Аса Грей в Гарварде. Это колоссальная задача ведь на поверхности земли, в воздухе, в морях все живое существует в сотнях тысяч разновидностей, и я утверждаю, что это вызвано суровой, а порой и жестокой необходимостью изменений, без коих невозможно приспособиться к окружающей среде и выжить. Именно эта классификация будет постаментом для моей теории о естественном отборе – или могильным камнем. В воскресенье утром, когда гости отправились в деревенскую церковь, Чарлз попросил Лайеля остаться, чтобы показать ему "багаж" накопленных доказательств. – Лайель, не следует ли определить естественный отбор как сохранение видов, лучше других ведущих борьбу за выживание? В этом состязании любая разновидность имеет все шансы выжить, но в ней должны произойти органические изменения, она должна приспособиться к пище, хищникам, среде, перенаселенности. А те разновидности или виды, которые не могут приспособиться к условиям жизни, вымирают. Вы за свою жизнь видели немало иског паемых останков. Почему одни подвиды исчезли, а другие существуют? Лайель посмотрел по сторонам, выбирая, в какое кресло сесть, но в конце концов принялся шагать по комнате. – Зубы мудрости у меня прорезались на "Основах геологии" Лайеля, – с нажимом сказал Чарлз. – У великих ученых не бывает тупоголовых учеников. Лайель даже покраснел. – Я решительно вам советую, Дарвин, начать писать книгу с изложением вашей теории. Гораздо более подробную, чем очерки, которые вы писали несколько лет назад. Чарлз молчал. Лайель настаивал: – Используйте материал, наиболее ясно подтверждающий ваши выводы. Но не медлите, садитесь за работу сейчас же, иначе кто-нибудь опередит вас, и ваши лавры достанутся ему. С неохотой Чарлз ответил: – Да, не желал бы я, чтобы кто-нибудь выступил с моей теорией раньше меня. После обеда друзья снова собрались в кабинете – к вечеру Чарлз обещал доставить гостей на станцию. – Мне нужно знать ваше отношение к моим идеям, – сказал он собравшимся. – Прошу вас, задавайте безжалостные вопросы. И посыпались вопросы: каким образом у насекомоядных и сухопутных животных появились огромные крылья (летучая мышь)? Что сказать о пингвине, который использует крылья лишь при нырянии? Как объяснить, что пресмыкающиеся раньше летали? Почему у низших животных один и тот же орган часто служит для пищеварения и дыхания? Как могут шестьсот гусениц на однородном участке долины реки Амазонки превратиться в шестьсот различных видов бабочек? Чарлз спокойно отвечал, используя свою теорию о естественном отборе, об изменчивости видов. Спокойно выслушивал их возражения. Рассаживая гостей по экипажам, он сказал им: – Да, это была для меня хорошая встряска. Большое спасибо за все, особенно за долготерпение. Джозеф Гукер, посадив жену в стоявшую перед домом коляску, повернулся и сказал: – Я уже как-то говорил: всегда покидаю этот дом с чувством, что ничего сюда не принес, а уношу столько, что едва не падаю под тяжестью груза. – Вы тоже считаете, что мою работу о видах следует опубликовать? – Конечно, Дарвин. – Но как? Я не хочу подводить редактора или коллегию – ведь, публикуя ересь, они здорово рискуют. – При выдвижении новых идей риск неизбежен, – ответил Гукер. – В издательствах и научных обществах это хорошо знают. К тому же они всегда могут отказаться. Или сопроводить материал словами о том, что Общество или издатель не разделяют взглядов автора. – Не знаю, хватит ли у меня мужества засесть за необъятную, как ее называет Лайель, книгу. Мне было бы проще начать, если бы я знал, что речь идет о тонкой книжице… – Начинайте как угодно, – убежденно произнес Гукер, – но садитесь за работу немедленно! Сбор всех материалов потребовал титанических усилий – на это ушло две недели, – и вот 14 мая он уселся в свое большое кресло, положив поперек подлокотников дощечку для письма. Ранее он использовал для заметок любой подвернувшийся клочок бумаги. Но сейчас речь шла о настоящей рукописи. Из шкафа он достал стопку бумаги размером восемь дюймов на двенадцать, обмакнул перо в чернильницу и начал писать: "Никто не должен удивляться тому, сколько еще остается непонятного в вопросе о происхождении видов и разновидностей, если иметь в виду наше поразительное невежество в том, что касается взаимосвязи множества окружающих нас живых существ. Кто способен объяснить, почему одни виды распространены широко и весьма многочисленны, тогда как другие родственные им виды водятся лишь в определенных местах и достаточно редки? Тем не менее эти отношения чрезвычайно важны, ибо они определяют нынешнее благосостояние и, как мне кажется, будущий успех и развитие всех населяющих нашу землю существ. Еще меньше нам известно о взаимосвязи бесчисленных обитателей мира во многие прошедшие геологические периоды его истории…" Страницы так и вылетали из-под его пера. Он писал только на одной стороне листа, но иногда возвращался к написанному и добавлял что-то между строк. Если мысль не нравилась ему, он безжалостно вымарывал строку. Он что-то вставлял с помощью знаков, дописывал фразы на полях, иногда переворачивал лист и сочинял целый абзац. Делал для себя карандашные пометки, например "показать Гексли". Иногда подклеивал к страницам дополнительные куски, подкалывал их булавками. Его почерк, по собственному утверждению, был "страшно корявым", но он знал, что мысли его текут и ложатся на бумагу гладко. А переписчик сделает ему хороший экземпляр. Знал он и то, что иногда делал ошибки в орфографии и пунктуации. Но это не тревожило его. Перед ним стояла одна задача изложить свою теорию доступным и ясным языком, не скрывая ее недостатков, делая определенные оговорки и указывая на трудности, доказательно подтвердить свою теорию о том, что философы называют "тайной тайн". Часы отдыха он проводил на воздухе, наблюдал за растениями, прораставшими между корней деревьев. Он озадачил своих детей, показав им, как двадцать девять растений проросли из столовой ложки грязи, которую он зачерпнул в маленьком пруду. В письме Фоксу он упомянул число страниц, написанных им за месяц. Получив восторженный ответ Фокса, Чарлз написал ему: "…смею заметить, что сказанное тобой о моей работе очень верно: у меня приступ словесного недержания. Надеюсь все же, что работа выйдет достаточно скромной". Серьезное чтение вместо того, чтобы приносить пользу, раздражало его. Недавно опубликованная работа Томаса Уолластона "Об изменениях видов" основывалась больше на теологии, чем на биологии. Всех, кто с ним не согласен, Уолластон клеймил как носителей "крайне вредных"… "абсурдных"… "необоснованных" идей. При следующей встрече в Лондоне Чарлз сказал Уолла-стону. – Вы словно Кальвин, сжигающий на костре еретиклв. – Сверхчестность – ваша характерная черта, – парировал Уолластой. Чарлз получил письмо от Самуэля Вудворда, сотрудника отдела геологии и минералогии Британского музея, ранее опубликовавшего солидную книгу о раковинах. Вуд-ворд также придерживался мнения, что все острова Тихого и Атлантического океанов являются остатками материков, затопленных в период существования видов, сохранившихся доныне. Негодованию Чарлза не было границ. Свой протест он выразил в письме к Лайелю: "Если сложить вместе все материки, созданные в последние годы Вудвордом, Гукером, Уолластоном и Вами… неплохой кусочек земли получится!" Гукеру он написал: "Мне надо перестать беситься, утихомириться и не мешать вам всем печь материки, как блины!" Между тем Горасу уже исполнилось пять с половиной лет. Эмма и Чарлз были уверены в правоте Генри Холланда, утверждавшего, что зачатие возможно лишь до определенного возраста – так повелела природа. Но в июне 1856 года, в сорок восемь лет, Эмма обнаружила, что снова в положении. Они сидели в спальне возле арки окна. Чарлз положил жене руку на плечо, притянул к себе. Десятки извинений готовы были сорваться с его губ. Наконец он произнес: – Мы сделаем все, чтобы твоя жизнь стала легче и счастливее. Она опустила голову ему на плечо: – Я не привыкла противиться воле господней. Французы говорят, что "аппетит приходит во время еды". Англичане утверждают, что "мысли приходят во время письма". К середине июля, когда Чарлз писал уже два месяца подряд, ему удалось справиться с занозистой проблемой. Он написал Лайелю: "Я только что закончил подробное описание холодов в тропических районах во время ледникового периода и вызванной ими миграцией организмов… Все это соответствует теории об изменении видов". В письме к Гукеру он заметил: "Какую книгу о неловких, расточительных, ошибочных, постыдных и невероятно жестоких деяниях природы мог бы написать подручный дьявола!" С Джозефом Гукером у Чарлза сложились весьма своеобразные отношения. Они любили друг друга, восхищались друг другом, старались бывать вместе возможно чаще, еженедельно обменивались длинными письмами. И в то же время буквально воевали, отстаивая свои взгляды по тем или иным научным проблемам. Уютно устроившись в кресле в своем кабинете, Чарлз забрасывал наделенного ангельским терпением Гукера всевозможными просьбами: "С присущей вам искренностью вы говорите о том, что многочисленные населяющие землю существа созданы непосредственно богом, и это противоречит моим суждениям. Если вам удастся доказать хотя бы один такой случай, моя теория рассыплется в пух и прах. Но я предпринимаю все возможное, чтобы разбить самую сильную оппозицию. А сейчас хочу попросить вас о величайшем одолжении: прочитать переписанные набело страницы (около сорока!!) о флоре и фауне Арктики и Антарктики и о предполагаемом ледниковом периоде. Вы меня чрезвычайно этим обяжете, потому что без вашей помощи я обязательно насажаю ошибок в области ботаники". Сорок страниц составляли лишь половину того, что он первоначально собирался вместить в "тонкую книжицу". Шли недели, и стопка исписанных листов на его столе становилась все выше. "Очень хорошо, – подбадривал он себя, – природа материала такова, что вместить его в маленькую книгу невозможно". Из писем Лайеля следовало, что "теория об изменчивости видов тянет его к себе словно магнитом". В середине июля он разрешил упомянуть в предисловии к будущей книге, что работу Дарвина он одобряет. Чарлз был на седьмом небе от радости. Сэр Чарлз Лайель одобряет подход к происхождению видов, более глубокий, нежели исследования доктора Эразма Дарвина, французских ученых Ламарка и Кювье, Роберта Чеймберса, подход, разрабатываемый вот уже двенадцать лет, но до сих пор не принимаемый всерьез, – каким ударом это будет для коллег-ученых! К книге сразу появится доверие. Но когда же он ее опубликует? Ведь уже пошла вторая сотня страниц! Если выдавалась свободная минута, Чарлз спешил провести ее в саду с детьми, помогал ему даже пятилетний Горас – они пытались скрещивать цветы. Душистый горошек, орхидеи или шток-розы слабо поддавались скрещиванию. Во время очередного визита в Кью, когда Джозеф Гукер показывал Дарвину, как идут работы по созданию нового озера – вода будет подаваться из Темзы, Чарлз пожаловался: – До чего я невежествен! Даже не знал, что душистый горошек нельзя обрезать – для него это смерть. – Этого не знал никто! Но я не позволю вам заниматься этим одному. Я начну скрещивать растения в Кью. Кстати, прочитав ваши записи до конца, я обнаружил, что все особи видов, на которые вы ссылаетесь, имеют, как мне показалось, непрерывное распространение. – Другими словами, они… эволюционируют? – Похоже, что так. Худое лицо Чарлза расплылось в благодарной улыбке. – Значит, хотя бы частично вы согласны со мной – я очень этому рад. Воспрянув духом, он решил, что будет полезно в одном документе вкратце изложить смысл дела всей его жизни. Он сделал это в ответном письме Асе Грею, который постепенно становился ведущим ботаником в США. Чарлз написал своему другу: ".. Либо виды были созданы независимо, либо они произошли от других видов… Думаю, вполне возможно показать, что человек сохраняет те разновидности, которые наиболее этого заслуживают, другие же уничтожает… Как честный человек, должен вам сказать, что пришел к еретическому выводу: независимо возникших видов не существует, виды – это всего лишь ярко выраженные разновидности… Еще одно слово в свое оправдание (ибо уверен, что вы обольете презрением меня и мои чудачества) – все мои выводы о том, как меняются виды, основаны на длительном изучении работ агрономов и ученых-садоводов (и бесед с ними); я совершенно ясно представляю себе средства, которыми пользуется природа, чтобы изменить виды и приспособить их к чудесным и исключительно прекрасным обстоятельствам, воздействию которых подвержено любое живое существо…" При следующей встрече он сказал Гукеру: – Какой наукой станет естественная история, когда мы будем лежать в могилах, когда законы изменения будут считаться важнейшими в естественной истории! Отчасти вследствие написанного им письма Чарлз получил от Асы Грея приглашение приехать в США и прочитать лекции о сделанных им открытиях, проезд на пароходе в оба конца будет оплачен. На мгновение Чарлз даже забыл о своей работе: вспомнился "Бигль", сам Чарлз еще молод, он лежит в гамаке в своей каютке, отщипывает кусочки печенья, глотает изюм – по наказу отца, – а под ним сердито ворочается океан. В это лето каждый вечер Чарлз читал Эмме. К счастью, популярной литературы в тот год вышло много. В лондонских книжных лавках он приобрел "Каллисто" Джона Генри Ньюмена, роман в стихах Элизабет Браунинг "Аврора Ли", "Джон Галифакс, джентльмен" Дины Марии Муллок, "Бритье Шагпета" Джорджа Мередита. Когда Эмме хотелось прогуляться на свежем воздухе, Чарлз водил ее по Песчаной тропе три или четыре круга. Они получили добрые вести об их втором сыне, одиннадцатилетнем Джордже; он прекрасно успевал в школе в Клэп-хеме, которую возглавлял его преподобие мистер Притчард, беззаветно влюбленный в науку. Джордж, представленный отцом как "страстный энтомолог", не был ограничен изучением греческого и латыни, но постигал математику, обучался рисованию и современным языкам, собирал коллекцию жуков и насекомых. Ежемесячно ему разрешалось на день съездить домой. Сам Чарлз никуда не ездил. Помимо работы над распухавшей рукописью он следил за воздействием соленой воды на растения, изучал голубей и кроликов. Как оказалось, скелеты домашних кроликов имеют различия. Удивительно, думал Чарлз, что ни один зоолог не счел важным всерьез заняться изучением настоящих различий в скелетах домашних животных и птиц. Он все больше убеждался, что в ботанике философский дух присутствовал куда в большей степени, чем в зоологии. Даже общим положениям в зоологии он не очень доверял, предпочитал справиться у ботаников. Он работал полный рабочий день и довольно долго не испытывал недомоганий; беспокоили его разве что прострелы в пояснице, в такие минуты не разгибалась спина. Он решил, что весной на пару недель поедет в водолечебницу около Мур-Парка в Хартфордшире; он не мог заставить себя вернуться в Молверн ведь там похоронена маленькая Энни. За осень у него скопились новые сотни страниц тщательно документированного материала. Он писал невероятное количество писем с вопросами скотоводам, садоводам, путешественникам – любому другому человеку в Англии с головой хватило бы одной этой переписки. Чарлз начал с темы, которая была ему хорошо знакома, – видоизменения при одомашнивании. Он указал, как, руководствуясь принципом отбора, скотоводы и птицеводы улучшали породу скота, овец, скаковых лошадей, веерохвостых и зобастых голубей. "В настоящее время выдающиеся животноводы проводят методичный отбор, имея перед собой ясную цель – вывести новые подпороды, превосходящие им подобные". Таким же было положение в мире ботаники, где по сравнению с предыдущим поколением явно увеличились размеры и красота розы, георгина, фиалки и других цветов. Благодаря замечательному искусству садовников, которые при появлении чуть лучшей разновидности сразу начинали ее культивировать, заметно улучшились овощи в огородах, груши и яблоки, клубника. К 13 октября он закончил главу "О видоизменении. при одомашнивании", а также часть раздела "О географическом распространении". Желая проверить себя, он отвез эту часть работы Гукеру и провел в его доме приятный вечер, так что едва успел на поезд, отходивший с вокзала в половине десятого. Гукер прислал длинное письмо, в котором дал оценку работе: "Прочитал Вашу рукопись с большим удовольствием, почувствовал себя обогащенным. Свою теорию Вы доказываете в высшей степени убедительно, и у меня теперь куда более благоприятное мнение об изменениях, чем было раньше. В первой части требуется кое-какая редактура. Я сделал карандашом пометки по отдельным словам и т. п.. чтобы лучше постичь написанное. Местами читается тяжело. Я набросал пару страниц с замечаниями, на многие из них ответ был получен по мере чтения рукописи…" Некоторое время Чарлз занимался небольшими хищными птицами, потом снова сосредоточился на "путешествиях" семян через океаны. Семена, пробывшие в желудке орла восемнадцать часов, не потеряли всхожести. Изучая во время прогулки экскременты маленьких птиц, он нашел в них шесть различных сортов семян. На лапке найденной им куропатки он обнаружил ком засохшей земли – вполне достаточно, чтобы перенести немало живых семян. Он подумал о миллионах куропаток, перелетающих с места на место – было бы странно, если бы семена растений не переносились через моря. Еще одно семя проросло, проведя два с половиной часа в желудке совы. Друзья-орнитологи заверили его, что сова может нести семена "бог знает сколько миль; в штормовую погоду даже четыреста – пятьсот". Услышав это, Чарлз возликовал. Он пытался писать сжато; несмотря на удовлетворение от работы, его все время угнетала мысль, что главы непомерно растягиваются. Сейчас он работал над главой о причинах плодородия и бесплодия и о скрещивании в природе, написал уже больше сотни страниц и не видел возможности что-то из нее выкинуть. 6 декабря Эмма родила десятого ребенка, снова мальчика, которого они назвали Чарлз Уоринг. Доктор дал Эмме хлороформ, в последнее время ставший в Англии популярным, потому что его одобрила королева Виктория – когда она рожала восьмого ребенка, четвертого сына, ей дали именно это анестезирующее средство. У Эммы роды начались столь внезапно и бурно, что доктор даже заметил: – Хорошо, что я сидел рядом, а то ваш сын появился бы на свет без моей помощи. К середине декабря Чарлз закончил третью большую главу, названную им "О возможности скрещивания всех организмов: о подверженности воспроизводства изменениям". Такая скорость отчасти объяснялась тем, что он использовал готовые страницы из записной книжки 1837 года, а много справочного материала почерпнул из второй записной книжки – с февраля по июнь 1838 года. "Краду сам у себя, – размышлял он. – Но все равно эти разделы я сегодня не написал бы лучше, почему же не воспользоваться оригиналом?" Однажды вечером, когда Эмма уже обрела былую бодрость, Чарлз сидел на краешке постели и держал ее за руку. – Полдюжины парней! Господи, ведь всех их надо посылать в школу, потом учить будущей профессии. – А приданое для двух дочерей! – поддразнила она. – Найдем ли мы средства на все это? Он принес наверх свои бухгалтерские книги, подвернул фитилек керосиновой лампы. Он вел эти книги со дня переезда на Аппер-Гауэр-стрит. Как и раньше, все расходы он делил на двадцать категорий: пища, керосин, мыло, чай для слуг, книги, платья для Эммы и девочек, одежда для мальчиков, оплатаприслуги, обучение… Здесь же с точностью были записаны все его доходы, и дело было заведено так, чтобы никогда не тратить больше, чем они получали от различных железнодорожных акций, акций лондонского порта, фарфоровой компании "Веджвуд". – Ничего, управимся. В 1854 году наш доход составил 4603 фунта, из этой суммы нам удалось сберечь на вложения 2127 фунтов. В 1855 году мы получили чуть меньше 4267 фунтов, а сэкономили и вложили даже больше – 2270 фунтов. В прошлом году приход был 4048 фунтов, а в оборот мы пустили 2250 фунтов. Уверен, что не ошибаюсь, и доходы наши будут расти вместе с детьми, а все дополнительные затраты окупятся. – Огромное спасибо, ты меня успокоил, – проговорила Эмма с притворным облегчением. – А то я уже начала бояться, что мы вырастим необразованных Дарвинов. – О-о, это принесло бы мне немыслимые страдания. И они засмеялись. Весь январь он проработал над завершением четвертой главы "Изменения в природе". Соединить материал в жесткую логическую цепь – это потребовало большого внутреннего напряжения, и Чарлз был измотан. Он признался Эмме: – Что-то я стал себя хуже чувствовать. – Ты слишком много работаешь. – Но что же делать? Книга получается очень большой. Хочу, чтобы рукопись вышла безупречной. Я словно Крез, сгибающийся под тяжестью своего богатства. Стал принимать минеральные кислоты – я читал о них раньше, по-моему, помогает. Эмма предложила ему поехать в водолечебницу около Мур-Парка прямо сейчас, не дожидаясь весны, ведь это всего в сорока милях от дома. – Не представляю, как смогу оставить рукопись, опыты. Она окинула его осторожным, изучающим взглядом. – Чарлз, дорогой мой, а не проснулся ли в тебе эгоизм? Уж не ищешь ли ты мировой славы от своей книги? Чарлз пожал плечом, как бы говоря: "Кто знает?" – Просто я безумно увлечен работой, вот и все. Но и безделица слава, сегодняшняя или посмертная, мне небезразлична. Впрочем, слишком большого значения я ей не придаю: насколько я знаю себя, будь мне известно, что имя автора этой книги навсегда останется анонимным, я бы работал с тем же усердием, но получал бы от работы меньше удовольствия. Его загородная изоляция объяснялась, в частности, желанием избежать конкуренции и зависти со стороны лондонских ученых. С этими явлениями он столкнулся давно, когда посещал заседания Зоологического общества, особенно ему помнилось заседание Королевского общества весной 1848 года, на котором Ричард Оуэн критиковал Гидеона Мантелла. Теперь, в 1857 году, ссора вспыхнула между Ричардом Оуэном и Томасом Гексли. После возвращения Гексли из четырехлетнего плавания на "Рэттлснейке" Оуэн обратился к первому лорду Адмиралтейства с просьбой дать Гексли оплачиваемую работу на корабле "Фисгард". – Оуэна я считаю великим человеком, – сказал тогда Гексли Чарлзу, как он курит сигару, с какой страстью поет! Вместе с Чарлзом и другими Оуэн голосовал за принятие Гексли в члены Королевского общества. Но Чарлз все равно решил предостеречь Гексли, как его самого в свое время предостерег Лайель: – Будьте осторожны с Оуэном. Он на вас еще набросится. Он набрасывается на всех. Это у него в крови. Вскоре Гексли убедился в двуличности Ричарда Оуэна, которого большинство современников боялись и ненавидели – за его недобрые шутки, за высмеивание подчиненных. Оуэн был человеком незаурядным и не скрывал, что это ему известно. Он относился к Гексли пристойно лишь до тех пор, пока не понял, что тот способен поколебать его безоговорочный авторитет в зоологии. Первый раз Оуэн показал себя, когда не позволил напечатать в "Трудах Королевского общества" статью Гексли "О морфологии головоногих моллюсков". Гексли сказал по этому поводу: – Оуэн считает естественный мир своей вотчиной и никому не позволяет туда вторгаться. Чарлз был свидетелем растущего антагонизма между двумя учеными, в конце концов приведшего к ссоре. В начале года Оуэн, пользуясь своим положением в Государственной горной школе, присвоил себе титул профессора палеонтологии и серьезно пошатнул позиции Гексли в этой школе. Гексли порвал всякие отношения с Оуэном. – Оуэн делает все, чтобы зажать меня, да и не только меня! Пусть поостережется. В моих предметах я разбираюсь лучше, чем он, и готов сражаться с полудюжиной драконов. Да, у него едкое перо, но могу сказать о себе не без лести, что не уступлю ему и в этой сфере. Чарлз предвидел, что эти два антагониста: представитель старой гвардии, пытающийся всеми средствами сохранить статус-кво, и ученый помоложе, без оглядки рвущийся к лидерству, в один прекрасный день схватятся не на жизнь, а на смерть, и битва эта всколыхнет весь научный мир и оставит неизгладимый след в истории. Но Чарлз не знал, не мог даже представить себе, что эпицентром и даже побудительной силой этой битвы станет он сам. Чарлз не раз приглашал в Даун-Хаус контр-адмирала Роберта Фицроя с женой. Первая жена Фицроя, Мэри О'Брайен, умерла, оставив ему четверых детей. И он женился на дочери своей кузины. Сейчас чета Фицроев приняла приглашение, и Чарлз предвкушал удовольствие от воспоминаний о годах, проведенных вместе на борту "Бигля". Но Фицрой сразу же дал понять, что приехал с другой целью. Мужчины удалились в кабинет, Чарлз предложил заметно постаревшему Фицрою кресло. Волосы адмирала побелели, взгляд стал жестким. Тем не менее он и сейчас оставался представительным мужчиной. – Дарвин, помните ли вы, как мы плыли в вельботах по реке Санта-Крус в апреле 1834 года? Когда мы двигались вдоль равнин, покрытых огромными валунами, футов на сто погруженных в породу, я сказал: "Едва ли на эту работу ушло всего сорок дней потопа". – Помню. Вы упомянули об этом в последней главе вашей книги. – Да, но лишь потому, что я очень плохо знал Библию, не разбирался в священном писании. Я кое-что прослышал о ваших теориях. Вы, что же, отрицаете достоверность книги Бытие? – Ее опровергает природа. Я лишь записываю то, что вижу. Природа никогда не лжет. – Значит, лжет Библия? Стыдитесь! – Во всем мире накапливаются сведения о том, что нашей планете много миллионов лет. Что вся жизнь на ней возникала, изменялась, приспосабливалась к обстоятельствам, связанным с перенаселенностью, запасами съестного, наличием хищников, климатом. Многим видам не удалось приспособиться, и со временем они исчезли. Вы видели органические остатки костей на Пунта-Альте. Некоторые виды за миллионы лет подверглись радикальным изменениям, их невозможно узнать, а изменения эти были продиктованы потребностью их внутренних органов, не говоря уже о внешнем облике. И жизнь на земле в ее нынешнем виде – это не что иное, как выжившие и наиболее успешно приспособившиеся виды. Фицрой вспыхнул. – И каков же ваш вывод? Что первый человек явился на свет ребенком или дикарем? По моему разумению, такое абсолютно невозможно. Такой человек погиб бы через несколько часов. Я согласен лишь с одним толкованием: человек был сотворен с совершенными телом и разумом, а как вести себя дальше, ему было подсказано свыше. Фицрой стал объяснять, что первые кочевники, покинувшие цивилизованную Малую Азию, вскоре лишились письменных принадлежностей, одежды, детям они прививали лишь простые бытовые навыки и так, постепенно, удаляясь от совершенства, они превратились в дикарей. Лицо его посуровело. – Есть ли у нас хоть тень основания для того, чтобы считать, будто дикие животные или растения улучшились с момента их появления? Разве может разумный человек поверить, что первая особь любого рода, вида или типа была самой низшей? Но почему же тогда эти никуда не годные философы считают, что дикие расы возникли отдельно, в разных местах и в разное время?.. Он не мог более сдерживаться. – Мозаичность мироздания непосредственно связана с потопом. Моисей обладал сверхъестественными познаниями. Это он заявил, что свет возник до того, как нам были ниспосланы солнце и луна. Разве в первой части книги Бытие не говорится, что "отделил бог свет от тьмы. И назвал бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один"? И уже потом бог создал два больших светила, чтобы большее из них правило днем, а меньшее ночью… Чарлз вовсе не желал ссориться с гостем, к тому же его бывшим капитаном и старым другом. Он примирительно заговорил: – Друг мой, я вовсе не желаю хулить прекрасную поэзию Ветхого Завета. Я ценю его, как любой другой человек… Но все было впустую. Фицрой бушевал еще целый час, вдохновенно цитировал Библию, указывал главу и стих, всеми силами стараясь доказать, что книга Бытие верна до последней строчки. Деяния бога совершенны. Чарлз все глубже вжимался в кресло, стараясь укрыться в нем, как в пещере во время шторма. Первая жена Фицроя была женщиной крайне религиозной. Может, он отдавал дань ее памяти, сражаясь за ее убеждения? Внезапно Фицрой закончил проповедь. Чарлз вскочил на ноги: – Прошу вас, сэр, прогуляемся. В этой части Кента самый нежный в Англии дерн. А когда вернемся, посидим у огня в гостиной за чаем с лепешками. Я бы хотел поближе познакомиться с вашей Марией. Благодаря приветливости Дарвина положение удалось спасти. Во время чая и за ужином он следил, чтобы беседа не затухала. Почуяв неладное, Эмма тоже поддержала спасительную крышу разговора над их головами. Наутро чета Фицроев возвращалась в Лондон, и Чарлз в своем экипаже отправил их на новую, расположенную ближе станцию в Бекенеме. Прощаясь, Фицрой торопливо и без улыбки пожал протянутую руку Чарлза. Когда они уехали, Чарлз сказал себе: "У меня есть нехорошее предчувствие, что с моим прекрасным идеалом, Робертом Фицроем, я больше не увижусь". Работа продвигалась. 3 марта 1857 года Чарлз закончил пятую главу "Борьба за существование", а всего месяц спустя была завершена шестая, и главная, глава – "Естественный отбор". Изо дня в день он перекрывал установленную норму, и это угнетало его. Он сказал Эмме: – Вставая поутру, я понятия не имею, сколько страниц напишу до вечера. – Почему не воспользоваться твоим "методом Песчаной тропы"? предложила Эмма. – Перед началом работы реши, сколько хочешь написать страниц, выложи на тропе столько же камешков и выбивай их по одному, когда выходишь проветриться. Кончились камешки, – значит, и работе на сегодня конец. – Эмма, ты гений. Если бы выразить мысль было так же просто, как пройтись по тропинке… Но предложение Эммы пошло на пользу. Каждый раз, когда ему казалось, что то или иное положение доказано, приведен весь необходимый вспомогательный материал, Чарлз из приготовленной кучки отбрасывал один маленький камешек. Чарлз и Эмма не помнили, когда впервые заметили – с последним ребенком что-то неладно. Это была не болезнь, не боли, потому что малыш почти не плакал. Он хорошо ел и физически развивался, как все нормальные дети. Но все время был какой-то вялый. Обычно дети водят перед глазами пальцами и разглядывают их – он этого не делал. И когда Эмма или Чарлз брали сына на руки поиграть, глазенки его не вспыхивали. – Его лицо ничего не выражает, – сказал Чарлз Эмме, стоявшей по другую сторону кроватки. – Я всегда следил за игрой чувств на лицах других наших малышей. Какое разнообразие! Жаль, что мисс Торли ушла от нас. Новая гувернантка, мисс Паф, мне не по душе. – Но ведь с ребенком сидит кормилица, а не мисс Паф. – Эмма поджала губы. – Конечно, дети развиваются по-разному. Может быть, его ограничивает кроватка. В теплый день нужно выпускать его на коврик – пусть двигается как хочет. – Я попробую музыкальные игрушки и яркие картинки – может, они пробудят у него интерес? – предложила Эмма. – Возможно- ли, чтобы четырехмесячному было скучно? – У других детей ничего такого не было. Тревогу вызывала и Генриетта. Ей нравилось болеть. Временами она бывала ко всему равнодушной, ела без аппетита. У Чарлза и Эммы еще не зарубцевалась травма после смерти Энни, поэтому они окружали Этти заботой и постоянным вниманием. Когда ей как-то сказали, что она будет завтракать в постели, это предложение пришлось ей по нраву. Она сказала родителям: – Даже когда выйду замуж, всегда буду завтракать в постели. В последнюю неделю апреля Чарлз поехал в водолечебницу около Мур-Парка, в графстве Суррей, недалеко от Олдершота. Владельцами там были доктор Лейн, его жена и мать, с которыми Чарлз был дружен. Приняли его хорошо. Процедурами ему не докучали: по разу в день душ и сидячая ванна. Единственным недостатком доктора Лейна, по мнению Чарлза, была молодость. Он был очень начитан, и его общество Чарлз предпочитал обществу доктора Галли, потому что Лейн не слишком верил во всякие эксцентрические теории и не пытался объяснить то, что не может объяснить ни один доктор. Окрестности были прекрасным местом для прогулок. К концу первой недели Чарлз с удивлением обнаружил, сколь благотворно повлияли на него эти дни. Он лишний раз убедился, что для хроников водолечение – лучшее средство. Никаких книг у него с собой не было, и работа над видами не продвинулась ни на йоту; Чарлз чувствовал себя так хорошо, что 1 мая, в начале его второй недели в Мур-Парке, он решил ответить на письмо Алфреда Уоллеса, посланное с Целебеса через Борнео и пролив Массакар 10 октября прошлого года, то есть бывшее в пути пять с половиной месяцев. Чарлз получил его как раз перед отъездом из Даун-Хауса в Мур-Парк. Он написал Уоллесу: "Дорогой сэр! …Очевидно, что наши мысли во многом схожи, и в определенной степени мы пришли к одинаковым выводам. Что касается вашей статьи, опубликованной в "Анналах естественной истории", я согласен почти с каждым ее словом. Надеюсь, вы согласитесь со мной, что это встречается довольно редко – почти полное согласие с чьей-либо теоретической работой. Как ни прискорбно, но обычно на основе одних и тех же фактов разные люди приходят к разным выводам. Этим летом исполнится 20 (!) лет с того дня, как я начал вести свою первую записную книжку о том, как и каким образом виды и разновидности отличаются друг от друга. Сейчас я готовлю свою работу для печати, но тема столь всеобъемлюща, что, хотя я уже написал много глав, работы хватит еще года на два. Мне неизвестно, сколько времени вы хотите пробыть на Малайском архипелаге. Очень хотелось бы познакомиться с вашими "Путешествиями" до того, как моя работа попадет к издателям – ведь вы наверняка собрали урожай фактов…" Во вторую неделю он много и энергично ходил по окрестностям, наблюдал за тем, как животные влияют на растительность. Восемь или десять лет назад часть земли, на которой росли старые шотландские ели, была огорожена. На этом участке подрастали молодые елочки, и, казалось, они были посажены человеком – уж слишком много их было, и все одного возраста. А на неогороженной территории Чарлз на целые мили не нашел ни одного молодого деревца. Но когда во время дальней прогулки он пристально вгляделся в вереск, он обнаружил десятки тысяч молодых шотландских елочек, по тридцать на квадратном ярде, – но верхушки их были общипаны скотом, иногда здесь пасшимся. В письме к Гукеру Чарлз заметил: "Какая удивительная проблема, какая сила обстоятельств, определяющая тип и размер каждого растения на квадратном ярде дерна! Но мы почему-то любим удивляться, когда какое-то животное или растение полностью исчезает". К концу второй недели Чарлз заметно посвежел, окреп. Пришло время прощаться с доктором Лейном и его семьей. Экипаж приехал за ним еще с вечера. Но за целый день дороги в Даун-Хаус Чарлз простудился. И когда на следующее утро вошел в свой кабинет, чувствовал себя не лучше, чем перед отъездом в Мур-Парк. Он признался Эмме: – Похоже, наш кузен доктор Генри Холланд прав. Поразительно – отдыхая на прекрасном курорте в обществе очаровательных хозяев я чувствовал себя замечательно. Но стоит сесть за работу, здоровье снова ни к черту. – Что же делать? – Ворчать. Не знаю, сможет ли работать моя голова, но скорее я стану жалким и презренным инвалидом – собственно, я уже им стал, – чем соглашусь вести жизнь праздного сквайра. Круг его интересов был безграничен. Он хотел знать, есть ли порода свиней, которую можно успешно скрещивать с китайской или неаполитанской свиньей. Стал анализировать окраску и признаки древних предков лошади, осла и зебры. Из шестнадцати сортов высеянных им семян проросло пятнадцать; на небольшом клочке земли два на три фута он ежедневно в течение трех месяцев отмечал каждый вылезший сорняк. Триста пятьдесят семь из них погибло, главным образом по вине слизней. А кто уничтожает слизней, этих медлительных и липких брюхоногих моллюсков? Кто уничтожает маленьких зверьков, пресмыкающихся, птиц? Это действительно была борьба за существование, как он назвал пятую главу своей книги. Проглядывая страницы этого раздела, он наткнулся на подзаголовок "О взаимодействии животных и растений". Он перечитал написанное: "До сих пор мы, за малым исключением, рассматривали лишь способы, какими животные тормозят рост других животных. Но растения и животные связаны еще более тесно; как и растения с растениями… Все животные прямо или косвенно живут на растениях; и их дыхание – это основная пища растений; поэтому совершенно очевидно, что между двумя царствами существуют обширные связи. Прежде всего напрашивается предположение, что травоядные животные поглощают почти все растения сходных видов; но оказалось, что из брюквенных растений рогатый скот ест только 276 сортов, а 218 не ест; козлы едят 449 и не едят 126, свиньи 71 и 271 и так далее. К югу от Ла-Плата я, и не только я, с удивлением отметил, как изменились равнины, на которых пасся скот, одно время мы даже считали, что здесь произошли какие-то геологические изменения почвы. Какими растениями питаются маленькие грызуны, точно никто не знает, но все слышали об уничтожении мышами и кроликами целых плантаций… Я иногда задумывался, не объясняется ли наличие колючек на кустах, растущих в пустыне, необходимостью как следует защититься от животных, иначе кусты просто погибнут… Форскахль подробно показал, что растения, которые не поедаются скотом, подвергаются решительным нападкам со стороны насекомых; одним растением иногда кормятся от 30 до 50 видов. Я предполагаю, что, если растением кормятся насекомые и четвероногие, оно оказывается полностью истребленным…" В июне 1857 года Чарлз получил приятный сюрприз: к нему в Даун-Хаус приехали его преподобие мистер Иннес и отец и сын Леббоки, приехали предложить ему должность мирового судьи, или стража закона. Чарлз воскликнул: – Мне? Должность судьи? Но я совсем слабо разбираюсь в законах. Сэр Джон Леббок улыбнулся и сказал: – Вам не придется заниматься серьезными преступлениями. Никаких арбитражных решений в спорных вопросах о крупной собственности. В основном это ссоры между соседями из-за границ земельных участков, заборов, заблудившегося скота, пьяные драки, охота на чужой территории. Сомневаюсь, что здесь потребуется серьезное знание законов; скорее, здравый смысл, вам придется выслушать факты в изложении обеих сторон, а затем помочь этим сторонам прийти к разумному компромиссу. Чарлзу это отчасти польстило. – Где заседать? – В Бромли, – ответил викарий. – Возможно, иногда и в Мейдстоне, там отправляет правосудие графство Кент. Они договорились объединить все судебные дела в этом районе и назначить слушания на какой-то удобный для вас день. Чарлз дал ответ не колеблясь. Он стал патриотом этого района, и статус казначея местного "Даунского клуба друзей" приносил ему удовлетворение. Он распоряжался фондами клуба так же тщательно, как своими собственными, в результате за семь лет его казначейской деятельности фонды эти возросли до весьма внушительной суммы. – Разумеется, я согласен, – сказал он Иннесу и Леббо-кам. – Когда меня приведут к присяге? – Предварительно речь шла о 3 июля. Эмма и дети были в восторге. Они настояли на том, чтобы ехать на церемонию всей семьей, в лучших воскресных туалетах. С тех пор, стоило их отцу объявить о планах на день, кто-нибудь обязательно спрашивал: – Это окончательное решение суда? Или мы имеем право на апелляцию? Когда дети ссорились из-за игрушек, игр или места за столом, кто-нибудь неизменно заявлял: – Судья, мы соседи и пришли к вам по щекотливому делу… Чарлзу такие подшучивания нравились. Обязанности в суде не были ему обременительны, не мешали его работе. Никакого денежного вознаграждения он не получал, должность была просто почетная, и все же косвенные дивиденды были налицо – из затворника, работавшего в какой-то немыслимой области, он превратился в популярного члена общества, при появлении которого мужчины уважительно приподнимали шляпы, а местные женщины, молодые и старые, делали реверанс. На лето Чарлз отвез Генриетту погостить в семье доктора Лейна. Регулярно навещая ее в Мур-Парке, он научился неплохо играть на биллиарде. Игра невероятно увлекла его, пожалуй, впервые после партий в двадцать одно в студенческие годы. Точный глазомер, твердая рука – без этого не загонишь шар в лузу; Чарлз так полюбил биллиард, что поклялся поставить стол у себя в Даун-Хаусе. Недели и месяцы сменяли друг друга – Чарлзу исполнилось сорок восемь. Его дорога исследователя шла все время в гору, а на пути то и дело попадались обломки скал и рытвины. Дарвина интересовал процесс опыления – это зарождение жизни в тонкой структуре природы. Если ему попадались новые представители флоры и фауны, он заносил их в свои записные книжки; эта работа отнимала много времени и утомляла, к тому же здесь легко было ошибиться. Когда Джозеф Гукер указал, что один из списков Чарлза по флоре неполон, Чарлз удрученно ответил: – Да, я никуда не годный составитель и порой презираю себя за это не меньше вашего, но всю работу в целом я презирать отказываюсь! Составляя таблицы флоры Новой Зеландии, он разработал, как ему казалось, верный метод классификации, но его сообразительный сосед и неофициальный ученик, двадцатитрехлетний банкир-ботаник, сын сэра Джона Леб-бока, показал, что Чарлз перепутал некоторые роды. Чарлз воскликнул: – Вы спасли меня от постыдной ошибки! Какой позор, хоть рви с отчаяния всю рукопись на части и бросай работу! Я искренне вам благодарен. Всегда бдительный энциклопедист Томас Гексли указал ему на ошибочное пристрастие к теории домашних животных. Чарлз ответил энергичному Гексли: – Увы! Ученый не должен иметь пристрастий, а его сердце должно быть каменным. Но когда пришла очередь Чарлза поймать дотошного Гексли на ошибочно сделанном допущении, тот со смехом воскликнул: – Забавно видеть, что я стал для вас пугалом; думаю, приятного тут мало – стоит вам написать какое-нибудь острое и достойное предложение, как перед вами безобразным призраком вырастает мое лицо. Как выяснилось, Чарлз обидел своего американского друга Асу Грея, предположив, что Грей, заслышав о его теориях, станет его презирать. Грею показалось, что его чувства дружбы и преданности подвергли сомнению, о чем он и написал Чарлзу. Чарлз ответил: "Мой дорогой Грей! Уж не помню, как именно я выразился в прошлом письме, но, полагаю, написал, будто опасаюсь, что вы станете меня презирать, когда узнаете о моих выводах, не сообщить вам о которых я, как честный человек, не мог… Я опасался, что вы, узнав о направлении моих поисков, сочтете меня настолько безумцем, а выводы мои – столь глупыми (бог свидетель, они сделаны без всякой спешки и, надеюсь, осознанно), что откажете мне в вашей поддержке и помощи… Коль скоро вас интересует тема моего исследования, и для меня огромная радость писать вам и получать хотя бы краткие ответы, я прилагаю краткое изложение моих соображений о средствах, с помощью которых природа создает виды…" Он исписал убористым почерком десять страниц и закончил так: "…В этом маленьком изложении затронута лишь накопительная сила естественного отбора, который, по моему мнению, является наиболее важным элементом в создании новых форм…" В 1857 году Дарвины решительно отказались от романтической прозы и стали читать прекрасную серьезную литературу. Когда кто-нибудь из членов семьи или соседей спрашивал: "Что бы вы хотели почитать?" – они называли "Профессора", "Башни Барчестера", "Мадам Бовари", "Школьные дни Тома Брауна", "Путешествие миссионера". Наиболее спокойным временем дня для Чарлза оставался час после обеда, когда он уютно располагался в гостиной со свежим номером ежедневной лондонской "Тайме", прибывавшей на почту в Даун к полудню. Теперь он прочитывал "Тайме" от корки до корки. Подписка на "Тайме" обходилась ему в одну гинею за четыре месяца, довольно дорого, но Чарлз считал, что затраты вполне окупаются. Таким образом он держал связь с внешним миром и происходившими в нем событиями. "Тайме" помогала ему следить за всеми бесконечными войнами, которые велись в отдаленных землях, за всеми гнусными деяниями правительства. Долгие годы он занимал противоречивую позицию человека, убежденного в благотворности величия и расширения Британской империи и в то же время несогласного с угнетением народа Индии. Когда в июне 1857 года перед огромной толпой в Гайд-парке появилась королева Виктория и наградила шестьдесят одного ветерана Крымской войны вновь учрежденным викторианским крестом "За доблесть", Чарлз, прочитав об этом, швырнул газету на пол и вскричал: – Кто же наградит мертвых? Сколько людей погибло в этой самоубийственной войне! Но просачивались и хорошие новости. Открылся читальный зал Британского музея с его куполообразной ротондой, он вместит триста читателей; два ряда отведены женщинам. Был торжественно открыт первый суд по расторжению браков, и развод стал возможен и для людей с относительно низкими доходами. Появились новые школы для бедняков. На Темзе был спущен корабль "Грейт истерн", по размерам в пять раз превышавший любое другое судно, говорили, что, пересекая на нем Атлантику, не чувствуешь никакой качки. – Может, теперь ты примешь приглашение Асы Грея, поедешь в США и прочитаешь в их университетах лекции, – предложила Эмма. В конце сентября, когда была завершена седьмая глава "Законы изменения", Чарлз разложил на столе в гостиной свои бухгалтерские книги посмотреть, по карману ли им новое расширение Даун-Хауса. Начиная с 1851 года их доходы ежегодно превышали четыре тысячи фунтов. В этом году на вложения снова осталось больше двух тысяч фунтов. Помимо сэкономленных денег имелось наследство Чарлза от отца и наследство Эммы в две тысячи фунтов. Общая сумма вложений составляла примерно пятьдесят тысяч фунтов. Подняв глаза от цифр, Чарлз сказал: – Я человек бережливый, но, клянусь богом, мне кажется, что на пристройку новых комнат нам хватит. Как считаешь? Эмма давно считала, что пристроить новые комнаты им по карману, но ей хотелось, чтобы Чарлз пришел к этому выводу сам. В углах ее рта появилась едва заметная улыбка. Она ответила: – А ты не боишься, что все наши сбережения пойдут на покрытие судебных расходов? – Интересно, кто это собирается с нами судиться? – Все, начиная с отца небесного и кончая приходским священником. Чарлз громко расхохотался и заключил жену в объятия. – Эмма, прекрасно, что ты можешь с юмором относиться к вещам, которые не одобряешь. – Лишь в случае крайней необходимости. Чарлз позвал плотника и дал ему задание построить новую, более просторную гостиную, со стороны залы, подальше от старой гостиной, вместительную – девятнадцать футов на двадцать восемь, чтобы три больших окна выходили в сад за домом, в сторону Песчаной тропы. Входную дверь, открывавшуюся прямо в холл и на лестницу, было решено отодвинуть на несколько футов, чтобы перед холлом была еще небольшая передняя. Площадь над новой гостиной они разделили на две спальни равного размера, а над ними решили сделать дополнительные детские комнаты. Когда новое крыло было пристроено, оштукатурено и покрашено под цвет старой части дома, когда гостиную обставили новой мебелью, оказалось, что расходы составили пятьсот фунтов. – Стоит того! – воскликнула Эмма, оглядывая комнату. Обитое заново большое кресло и четыре удобных разноцветных стула заняли свои места вокруг стола с мраморной крышкой; рояль, который покрыли свежим лаком, навеки обосновался в дальнем углу у выходящего в сад окна. Над мраморной каминной доской висело длинное зеркало в позолоченной оправе, у дивана стояли новые приставной столик и лампа. Обои Эмма выбрала светло-серые в розовую полоску. – Не думая о претенциозности, – сказала Эмма, -мы получили вполне подходящую гостиную, роскошную и просторную. Несколько картин, небольшая подвесная полка для наших книг в кожаном переплете… Из темной комнаты, выходившей на дорогу, они перенесли обеденную мебель в более солнечную бывшую гостиную в три окна. В столовой стало значительно светлее. Они сошлись во мнении, что теперь Даун-Хаус с окрестностями не уступит по красоте Мэр-Холлу или Маунту. Они создали свой мир, вернулись к стилю своих предков; но привнесли в этот мир и что-то личное. Именно к этому они оба и стремились. В десять месяцев Чарлз Уоринг еще не пытался ходить или говорить, и Дарвины попросили доктора Генри Холлан-да заехать в Даун-Хаус при первой возможности. Сэр Генри давно получил дворянское звание, пост лейб-медика при королевском дворе и был занят больше, чем когда-либо. В праздничный день он поездом доехал до Бекенема, а там его встретил Чарлз со своим кучером. До Даун-Хауса было шесть миль, и, пока они ехали по извилистым и живописным дорогам графства Кент, сэр Генри все время расспрашивал Чарлза. Приехав в Даун-Хаус, он провел в верхней спальне у ребенка целый час, потом спустился по наклонной лестнице в гостиную, где, молчаливые и бледные, сидели Чарлз и Эмма. При его появлении они быстро подняли головы. На лице кузена, слегка грубоватом, было выражение сочувствия. – Боюсь, порадовать вас нечем, – сказал он. – У ребенка серьезное психическое заболевание. – Но как же? Почему? – горестно воскликнула Эмма, – Как и почему, дорогая кузина, – это один и тот же, вопрос. Его мозг либо не развился, либо был поврежден. Роды прошли нормально? – Доктор назвал их бурными, – ответила Эмма со слезами на глазах. – Есть сотни заболеваний, о которых мы и понятия не имеем. Увы, заглянуть в эту маленькую головку мне не дано. – Но каков будет прогноз? – задал вопрос Чарлз. – Что нам предстоит? – Самый тщательный уход за ребенком, который, воз-!: можно, никогда вас не узнает. А еще – принять волю, господню. – Я готова к этому, – сказала Эмма сквозь слезы. – Но неужели нет никакой надежды? – Надежда есть всегда. Порой случаются чудеса. Но вы должны смотреть в глаза действительности. Сколько у вас детей? Шесть, семь? Все здоровые, нормальные, счастливые. Видите, бог одарил вас многим. И не убивайтесь из-за того, чего нельзя изменить или исправить. – Мы постараемся, брат Генри, – подавленно ответил Чарлз. – Я и Эмма чрезвычайно благодарны тебе за то, что приехал. Я провожу тебя до станции. – Не нужно. Я вздремну в дороге. Он поцеловал Эмму, пожал руку Чарлзу и уехал – от потерянных, испуганных и опечаленных родителей, которые против воли задавали себе невысказанный вопрос: "За какие грехи господь так жестоко поступил с нашим младшеньким?" После дружеского ответа Чарлза в октябре 1856 года на письмо с Целебеса Алфред Уоллес написал ему несколько длинных и подробнейших писем, из коих Чарлз заключил, что Уоллес считает его своим собратом и товарищем, особенно после того, как Чарлз проявил желание обсудить с ним свою теорию видов, хотя и частично. К концу 1857 года, когда Чарлз проработал над своей книгой уже полтора года, он понял, как правы были Лайель, Гукер и Гексли, убеждая его скорее изложить свои открытия на бумаге. В последнем письме Уоллеса, написанном 27 сентября 1857 года, говорилось: "То, что содержалось в моей журнальной статье – лишь предварительные наметки; у меня есть и детальные доказательства, план которых я уже набросал…" У Уоллеса есть доказательства его теории видов! Он уже набросал план! Но неужели его доказательства – это естественный отбор, или сохранение наиболее приспособленных видов в борьбе за жизнь? Нет, такое совпадение невозможно. Человечество размышляло над законами природы многие тысячелетия – так разве может быть, чтобы два человека пришли к одним и тем же доказательным выводам? И если Уоллес уже получил результаты Дарвина, уже написал статью, не исключено, что в один прекрасный день через несколько месяцев Чарлз откроет в Даун-Хаусе журнал, на страницах которого будет разгадана "тайна тайн", и разгадана Уоллесом. Он стоял у окна кабинета и глядел на окружавшую дом каменную стену, но не видел ее. Все же постепенно он обрел душевное спокойствие. "Я должен ответить Алфреду Уоллесу немедленно, – сказал он себе, – и выразить ему свое восхищение. От важный человек, он собирается пробыть в этих далеких от цивилизации краях еще три или четыре года!" 22 декабря 1857 года "Дорогой сэр! Благодарю вас за письмо от 27 сентября. Очень рад слышать, что вы занимаетесь проблемой расселения в соответствии с теоретическими выкладками. Я твердо убеждег, что оригинальные наблюдения возможны лишь на теоретической основе. Не многие путешественники пришли к тому, чем сейчас занимаетесь вы. Да и вообще, о распространении животных известно во много раз меньше, чем о распространении растений. Вы пишете, что отчасти удивлены, что ваша статья в "Анналах естественной истории" прошла незамеченной. Должен сказать, меня это не удивляет. Большинство естествоиспытателей интересуется лишь описанием видов, не более. Но не следует думать, что вашу работу не заметил никто; два замечательных человека, сэр Лайель и мистер Блит из Калькутты, специально обратили на нее мое внимание. Я согласен со сделанными в вашей работе выводами, но должен сказать, что иду гораздо дальше; впрочем, мои теоретические выкладки – это слишком долгая тема…" Три месяца он проработал над главой о гибридности. А в начале 1858 года начал новую главу – "Умственные способности и инстинкты животных". Нужно было сопоставить и отобрать колоссальное количество материала, основанного не только на собственных многолетних наблюдениях, но и на публикациях других авторов на многих языках. Любопытная область инстинкты. И весьма туманная. Он сказал Эмме: – Работа над главой об инстинктах подвигается очень тяжело. Разные авторы не сходятся в определении инстинкта. Тут нет ничего удивительного, ведь почти все чувства и самые сложные их проявления, например мужество, робость, подозрительность, часто объясняются инстинктами. Чем глубже он уходил в работу, тем хуже себя чувствовал, особенно по ночам – его стала мучить бессонница. В письме Гукеру он признался: "О, здоровье, здоровье, ты заставляешь меня трястись от страха денно и нощно; из жизни уходит всякая радость". Но не желая вызывать к себе жалость, он добавил: "Прошу простить меня великодушно, такое нытье – признак глупости и слабости. Каждый в этом мире должен нести свой крест". В конце января скончалась Хэрриет Генсло. Это известие очень опечалило Чарлза, потому что в годы, проведенные в Кембридже, она заменяла ему мать. Он написал Генсло: "Дни, когда в бытность студентом я так часто бывал в вашем и дорогой миссис Генсло доме, я не колеблясь отношу к самым счастливым и лучшим дням моей жизни". Он также послал теплое письмо с соболезнованиями Гукерам, особенно обращаясь к Френсис, которую знал с трех лет. Чтобы не думать о своих недугах, он читал новую популярную литературу, вгрызался в лондонскую "Тайме". Посыльный из Дауна, еженедельно ездивший в Лондон, Есегда получал от Дарвинов список книг, которые надо было купить или взять в библиотеке. Их родственники, Эразм и Генслей Веджвуд в Лондоне, Сюзан и Кэтти в Ма-унте, Шарлотта и Чарлз Лэнгтоны в близлежащем Харт-филде, регулярно привозили или присылали в Даун-Хаус книги, нравившиеся им самим. Таким путем к концу года, неумолимо утекшего, как воды Темзы, они прочитали вслух "Доктора Торна" Энтони Троллопа, два первых тома "Истории Фридриха Второго Прусского", написанные их плодовитым другом Томасом Карлейлем, "Сцены приходской жизни" Джордж Элиот. Получили они и ноты опер "Лючия ди Ламмермур" Доницетти и "Кора" Мегюля, рондо Вебера и сонаты Гайдна. Так жившие в провинции Дарвины поддерживали связь с культурной жизнью Лондона. Чарлз был непререкаемым авторитетом по части новостей и рассказывал семье обо всем, что происходит в мире, вплоть до самых отдаленных уголков земли. Был упразднен имущественный ценз для членов парламента; парламент провел закон, призванный улучшить правление в Индии, и Ост-Индская компания передала власть кабинету королевы. Первая дочь королевы Виктории обвенчалась в придворной церкви Сент-Джеймсского дворца [Королевский дворец в Лондоне. – Прим. пер.] с прусским принцем Фридрихом Вильгельмом. Идущее от Темзы зловоние настолько усилилось, что занавеси на окнах парламента приходилось пропитывать хлорной известью. Мистер Бенджамин Дизраэли, лидер палаты общин, решил эту малоприятную проблему – убедил парламент выделить три миллиона на очистку реки и завершение строительства городской системы канализации. Лорд Элгин, назначенный послом в Японию, подписал с этой страной договор об открытии пяти японских портов для английских торговых судов. Англия также подписала в Тяньцзине мирный договор с китайским императором, по которому английским гражданам разрешалось въезжать в Китай и проповедовать там христианство. Англия развязывала с Китаем войну, а император брал на себя часть ее расходов! С Генриеттой, которой скоро исполнялось пятнадцать, и ее сестрой Элизабет занималась новая гувернантка, некая мисс Грант. Уроки проходили в светлой и полной воздуха комнате, построенной над кухней в 1845 году. Это была просторная комната с большим книжным шкафом, встроенным в заднюю стену, а передняя стена почти полностью состояла из окна, выходившего в сад; в комнату вела лестница с роскошными перилами из красного дерева… на которых обожали кататься младшие дети. Эмма и Чарлз пытались приучить девочек к дисциплине в учебе, хотели дать им такое же образование, какое получали в частных школах их братья. Как-то Генриетта заявила, что плохо себя чувствует и учиться не может, но сэр Генри Холланд заверил Чарлза и Эмму, что подобные заболевания типичны для растущих девочек. С возрастом это проходит, и Этти проживет до ста лет. Писать об инстинктах – это оказалось самым захватывающим, но пришлось изрядно поломать голову. Многими историями, включенными в эту главу, Чарлз делился с семьей, потому что они были поистине поразительны: скажем, математическая точность, с какой медоносные пчелы строят соты. Или способность муравьев общаться между собой, их умение свободно узнавать своих в смертельной схватке с семьями схожих видов. Мудрость улиток, которые, найдя пищу, возвращаются за более слабыми сородичами и ведут их за собой вдоль выложенного ими слоя слизи. А устрицы закрываются в своей раковине, если их вытащишь из воды, и продлевают этим свою жизнь. Бобры собирают кусочки деревьев даже в сухих местах, где строительство плотины невозможно. Хорек инстинктивно кусает крысу в затылочную часть головы, где находится мозговое вещество, и смерть, как правило, наступает сразу. Роющие осы сперва изучают норку своей жертвы, а уж потом несут пищу молодняку. Молодые овчарки без всякого обучения бегают за отарой и следят, чтобы овцы не разбегались. Молодые птицы мигрируют, преодолевая огромные расстояния, а молодые лососи переплывают из пресной воды в соленую, а потом обратно, на нерест. Галапагосская игуана пепельного цвета ныряет в море лишь для того, чтобы поесть затопленные водоросли, и тут же возвращается на береговые скалы – подальше от акул. К началу марта глава "Инстинкты" была закончена. Иногда Чарлз ездил в Лондон, обедал в "Атенеуме" с друзьями и Эразмом. В то время в его кругу все были помешаны на "Истории цивилизации в Англии" Бокля, Чарлз считал эту книгу "удивительно умной и оригинальной". В конце апреля гигантская рукопись насчитывала уже две тысячи страниц; Чарлз чувствовал, что по-настоящему устал. Пора было ехать на воды. Линнеевское общество назначило свое последнее весеннее заседание на 17 июня, намечалось слушание пяти докладов. Но 10 июня скончался библиотекарь Общества, а потом и его президент Роберт Броун, с которым Чарлз подружился еще до плавания на "Бигле", и заседание было перенесено на 1 июля. На нем почтят память покойного, и в совет будет избран новый член. Через десять дней после смерти Броуна, 18 июня, Чарлз получил пухлый конверт от Алфреда Уоллеса, посланный с маленького островка в Малайзии. В нем было не только письмо, но и длинная статья "О стремлении разновидностей бесконечно удаляться от первоначального типа". Строчки плыли у Чарлза перед глазами, когда он вчитывался в первые страницы статьи Уоллеса. Рухнув в ближайшее кресло, он, превозмогая боль то ли в сердце, то ли в желудке, с трудом читал: "…Жизнь диких животных – это борьба за существование… В природе действует общий принцип, в силу которого многие разновидности оказываются в состоянии пережить отцовский вид, за ними появляются последующие разновидности, все более удаляющиеся от первоначального типа… …Простой подсчет показывает, что за пятнадцать лет каждая пара птиц способна дать потомство, достигающее десяти миллионов! Но у нас нет никаких оснований предполагать, что число птиц в какой-либо стране за последние пятнадцать или даже сто пятьдесят лет хоть как-то возросло. Весьма вероятно, что при таких способностях к размножению число птиц давно достигло нормы и перестало увеличиваться… Таким образом, идет борьба за существование, в которой слабые и наименее приспособленные погибают…" Уоллес никогда не читал рукопись Чарлза, написанную в 1844 году, но, казалось, он излагает ее содержание, и излагает прекрасно! То, чего Чарлз все время опасался, произошло. Он был переполнен чувствами: глубочайшее неверие сменялось горькой яростью, обидой на жестокосердную предательницу-судьбу. Но силой воли он заставил себя успокоиться. Подобрал упавшее на пол письмо и прочитал: Уоллес надеется, что статья понравится Чарлзу, и в этом случае он просит переслать ее Чарлзу Лайелю, который хорошо отзывался о его первой статье в "Анналах естественной истории". Из кабинета Чарлз вышел бледный и изможденный. Он достал из гардероба свой длинный черный плащ и черный складной цилиндр; с подставки для зонтов выбрал крепкуютрость и зашагал через сады и поля к Песчаной тропе. На сей раз ему было не до камешков, и он не считал, сколько сделал кругов, вернулся домой, лишь когда почувствовал физическую усталость. Труд всей его жизни шел ко дну, словно потерпевший кораблекрушение "Те-тис". Эмма сразу увидела, что с мужем неладно. – Что случилось, Чарлз? Они уселись на уединенную, залитую солнцем скамью, и Чарлз рассказал Эмме о статье Уоллеса. – Подумать, даже его термины совпадают с названиями моих глав! воскликнул он. – Но как такое возможно? Ты не сообщал ему подробности своей работы? Или это, сами того не желая, сделали Лайель или Гукер? – Но будь это плагиат, разве стал бы он посылать это на отзыв мне? – Что ты намерен делать? – Пошлю статью Лайелю, как просит Уоллес. Посылая Лайелю статью, он приложил записку: "Вы оказались правы, и еще как – меня опередили. Вы предупредили меня об этом, когда я здесь, в Даун-Хаусе, изложил вкратце мои взгляды на естественный отбор, его связь с борьбой за существование… Пожалуйста, эту рукопись верните; Уоллес не пишет, что просит ее опубликовать, но я, конечно, тотчас напишу ему и предложу переслать ее в какой-нибудь журнал. И вся новизна моей работы, если таковая имеется, вмиг пропадет… Полагаю, вы одобрите статью Уоллеса, и я смогу сообщить ему ваше мнение". Чарлз был расстроен и раздражен, он не мог работать, сидеть на месте, как следует есть и спать. В тот день его рвало сильнее обычного. В следующее воскресенье перед полуднем к Даун-Хаусу подкатил экипаж, и из него вышли Чарлз Лайель и Джозеф Гукер. Лайель уговорил Гукера сопровождать его, так как их общий любимый друг переживает глубокий душевный кризис. Нам, говорил он, надлежит сообща найти решение, приемлемое и для Чарлза Дарвина, и для Алфреда Уоллеса. Чарлз был настолько поражен их неожиданным появлением, что образы двух друзей, стоявших в дверях, навсегда запечатлелись в его памяти, словно это был дагерротип на его каминной полке. Гукер, которому уже стукнуло сорок, изрядно полысел. Оставшиеся волосы были еще темными, но длинные бакенбарды, роскошно стекавшие под подбородок, были белыми. На щеках, от носа к углам рта, пролегли две глубокие морщины. Очки без оправы казались еще меньше под его огромными кустистыми мохнатыми бровями. Лайелю уже перевалило за шестьдесят, он совершенно по-еедел, широкие белые бакенбарды почти достигали подбородка. Под глазами резко обозначились темные круги, выдававшие несвойственное ему напряжение, ибо обычно он спокойно сносил житейские бури. – Не спрашиваю, чем обязан такой чести, – сказал Чарлз. – Надеюсь, с десятой попытки и сам догадаюсь. – Нужно быть идиотом, чтобы не догадаться, – проворчал Лайель. Впрочем, все гении в какой-то степени идиоты. – Мы приехали не для теоретических дискуссий! – воскликнул Гукер с необычной хрипотцой в голосе. – Я прочитал работу Уоллеса. В поезде по пути из Лондона мы с Лайелем разработали спасительный план действий. Чарлз едва не лишился дара речи. – Очень тронут, что вы хотите вызволить меня из этой дурацкой истории. Я распоряжусь, чтобы в кабинет подали кофе. Вдоль всех стен – стеллажи с книгами, множество картотечных шкафчиков, микроскоп на полке, столы заставлены бутылками, коробочками и банками, здесь же увеличительное стекло и стопы бумаги – уютно и безопасно, как во чреве матери. Чарлз набрал побольше воздуха. – В пятнадцатистраничной статье Уоллеса есть все, о чем я более подробно – на двухсот тридцати страницах – написал в 1844 году, и вы, Гукер, это давным-давно читали. Около года назад я послал краткое резюме моих наблюдений Асе Грею, таким образом, у меня есть точные доказательства, что я ничего не позаимствовал у Уоллеса, Я бы рад сейчас напечатать небольшую статью, страниц на десять, с общим изложением моих взглядов, но имею ли я теперь на это право? Ведь Уоллес может сказать: "Вы не собирались излагать свои взгляды, пока не получили представление о моей теории. Так справедливо ли воспользоваться тем, что я по собственной воле сообщил вам мои идеи, и таким образом помешать мне опередить вас?" Получится, что я воспользовался подвернувшейся под руку статьей Уоллеса, работающего в этой же области, и опубликовал свой материал. Да я скорее сожгу всю свою книгу, чем допущу, чтобы Уоллес или еще кто-нибудь подумали, будто я занимаюсь подтасовкой! А разве вы не считаете, что, прислав свою статью, он связал мне руки? – Разумеется, нет, – быстро ответил Гукер. – Вы старше и первым начали работать в этой области, на двадцать лет раньше Уоллеса. Чарлз благодарно кивнул, но продолжал стоять на своем. – Уоллес ни словом не обмолвился о публикации, но ведь будет несправедливо, если мне придется уступить первенство в моей многолетней работе… впрочем, чувства чувствами, но сути дела они изменить, пожалуй, не могут. Однако его слова не впечатлили Лайеля и Гукера. – Ваши материалы 1844 года у вас далеко? – спросил Гукер. – Близко. На них сплошь ваши карандашные пометки. Чарлз подошел к большому картотечному ящику около двери. – Вот они. Гукер взял работу и углубился в чтение. Лайель спросил: – А можно почитать письмо, которое вы написали Асе Грею? Чарлз вынул из папки Асы Грея копию письма, передал ее Лайелю, и тот начал читать. – Я не могу заставить себя… – пробормотал Чарлз. – Успокойтесь, – сказал Лайель, – иначе окажется, что ваш отец был прав, когда предсказывал, что вы будете знать толк лишь в охоте, собаках да ловле крыс. Впервые за последние дни Чарлз засмеялся. Потом начал вышагивать по комнате и наконец опустился на свою подушечку. Лайель и Гукер переглянулись, кивнули друг другу. – По-моему, этого достаточно! – воскликнул Гукер. – Без сомнения, – согласился Лайель. – Письмо к Асе Грею плюс работа 1844 года прекрасно сочетаются – Сочетаются для чего? – спросил Чарлз. – Для того, чтобы представить их первого июля на заседании Линнеевского общества. – Но как же так? – воскликнул Чарлз. – Ведь материал нужно обработать, на это уйдут месяцы… Лайель отвел его возражения: – Там же мы зачитаем и статью Уоллеса. – Нужно заручиться его согласием, – всполошился Чарлз. – Да я и не успею к сроку! – Ерунда, – решительно возразил Гукер. – На базе трактата 1844 года и письма к Асе Грею мы с Лайелем напишем обстоятельное и убедительное заключение. По объему оно не будет превышать статью Уоллеса. У Чарлза отвисла челюсть. – Вы хотите… сделать всю эту работу… вместо меня? – Не умрем, – заверил его Гукер. – Вы прожужжали нам все уши вашей теорией видов, так что нам это будет нетрудно. Некоторое время Чарлз молчал, потом произнес: – Вы добрейшие люди на земле. Но как мы объясним Линнеевскому обществу столь странное совпадение? – Расскажем им всю правду, – твердо сказал Лайель. – Мы с Гукером уже написали в поезде представление. Вынув из внутреннего кармана пиджака сложенный лист бумаги, он начал читать: "Прилагаемые бумаги, которые мы имеем честь представить на рассмотрение Линнеевского общества и которые связаны общей темой, а именно "Законы, влияющие на возникновение разновидностей, родов и видов", содержат результаты исследований двух неутомимых естествоиспытателей: мистера Чарлза Дарвина и мистера Алфреда Уоллеса. Эти господа, независимо друг от друга и не имея сведений о работе друг друга, разработали одну и ту же весьма оригинальную теорию, объясняющую появление и увековечение разновидностей на нашей планете, оба они могут справедливо претендовать на право быть первооткрывателями в этой весьма важной области исследований. Ни один из них не публиковал своей теории, хотя вот уже долгие годы мы постоянно уговариваем мистера Дарвина сделать это, и, поскольку сейчас оба автора безоговорочно передали свои материалы в наши руки, мы считаем, что в интересах науки представить наиболее значительные места из этих работ на рассмотрение Линнеевского общества" Обдумав текст представления, Чарлз нашел его весьма убедительным. – Великолепно! Мне только потребуется некоторое время, чтобы кое-что подновить… – Но надо действовать быстро, – предупредил Гу-кер. – До заседания первого июля осталось несколько дней. – Парсло доставит бумаги прямо в Кью. Тут же постучал Парсло и объявил, что обед на столе. Чарлз сказал: – Парсло, спустись в погреб и принеси две бутылки шампанского. Войдя в залитую солнцем столовую, он сказал Эмме и своим друзьям: – Не знаю, как рассудит нас будущее, но ничто не помешает нам отпраздновать настоящее. Следующая неделя обернулась хаосом. В Дауне вспыхнула эпидемия скарлатины. Заразились несколько деревенских детишек. Дарвины обследовали собственное потомство и нашли симптомы болезни у младшенького; у Генриетты было красное горло. Они послали за доктором, а приехавшая навестить их сестра Эммы Элизабет предложила забрать остальных детей к себе, в Харт-филд. Чарлз постоянно дежурил у постели заболевших детей. Лишь в четверг он собрался с силами и зашел в кабинет. Лежавшие на столе бумаги вызвали у него отвращение. – Давай выпьем по чашечке кофе, – предложила Эмма. На следующий день стало известно, что в деревне от скарлатины умер мальчик. Дурные предчувствия уступили место страху. Но от предложения Элизабет Дарвины отказались: остальные дети, от восемнадцатилетнего Уильяма до семилетнего Гораса, чувствовали себя хорошо, чего нельзя было сказать о няне, ухаживавшей за Генриеттой. У нее заболело горло, появились симптомы ангины. Чарлз решил отправить ее домой, а к Генриетте приставил другую. В тот же вечер Генриетту перестало лихорадить, очистилось дыхание; у малыша температура, как и прежде, оставалась высокой. В воскресенье настроение было ужасное. Эмма сказала: – В даунской церкви сегодня служба, пойду помолюсь за нашего маленького. – Как ты можешь! – воскликнул Чарлз. Ведь в Дауне полдюжины детей лежат со скарлатиной. Со дня визита Лайеля и Гукера прошла ровно неделя. Перед заходом солнца вернулся изможденный доктор. Эпидемия скарлатины охватила весь район. Из комнаты маленького Чарлза он вышел весьма озабоченный. – Сожалею, но должен вам сообщить, что у ребенка скарлатина. Мы мало что можем сделать. Боюсь, заболевает и няня. Настоятельно советую никому к ребенку не заходить. Скарлатина – болезнь очень заразная. Это была томительная, жуткая ночь. Чарлз и Эмма спали урывками, несколько раз они поднимались и стояли у двери детской комнаты, прислушиваясь к звукам. В понедельник рано утром доктор приехал снова. Няня действительно заразилась скарлатиной, и ее пришлось перевести в другую спальню. Доктор сказал: – Посижу с малышом. Я провожу столько времени с больными, что у меня, должно быть, выработался иммунитет. День прошел в мучительном, безнадежном ожидании; ночью ребенок умер. Утром его похоронили на маленьком церковном кладбище в Дауне, где шестнадцать лет назад была похоронена Мэри Элеанор, трех недель от роду. Домой они вернулись глубоко опечаленные; в те дни печаль поселилась во многих домах Дауна. Детей из-за эпидемии на похороны не пустили. Чарлз собрал их в гостиной, вокруг стола с мраморной крышкой. Эмма постаралась не причинять им излишних страданий. – Такова воля господня, – сказала она потомству. – И мы должны принять ее со смирением. Маленького Чарлза больше нет с нами. Так давайте возлюбим и утешим друг друга в этот час. Детей решили отправить к тете Элизабет, а Эмма присоединится к ним позже. В тот же день пополудни Чарлз получил от Гукера срочное письмо с напоминанием, что до заседания Линнеевского общества осталось два дня и что Чарлз должен немедленно переправить Гукеру все бумаги, иначе он и Лайель не смогут подготовить совместные доклады Дарвина и Уоллеса. Чарлз колебался около часа. Потом взял статью Уоллеса, свой трактат 1844 года и письмо к Асе Грею. Вызвал Парсло. – Пожалуйста, побыстрее одевайся. Я хочу, чтобы ты лично передал этот пакет доктору Гукеру в Кью. Чарлз сел в свое рабочее кресло, поставил дату: вторник, 29 июня 1858 года. "Мой дорогой Гукер! Боюсь, уже слишком поздно. И судьба моей работы меня почти не заботит. Но вы с такой щедростью приносите в жертву свое время и доброту… Я даже смотреть не могу на мою рукопись. Не тратьте больше времени. И вообще это мелочно с моей стороны – думать о приоритете. Благослови вас бог, мой дорогой добрый друг. Писать больше нет сил". Чарлз не мог дождаться 1 июля и заседания Линнеевского общества. Ему не сиделось дома, и он носился по Песчаной тропе, словно рысак, которому под седло попала заноза. Эмма прилагала героические усилия, чтобы отвлечь его, но все было тщетно. У него голова шла кругом от вопросов. Как члены Общества встретят работы его и Уоллеса? Обе революционные, одна подкрепляет другую. А что, если они встанут во гневе и обвинят его в святотатстве? Или назовут сумасшедшим? Или заподозрят, что он с Уоллесом в сговоре? Вдруг потребуют исключить его из членов Общества? Ведь он пока не собирался обнародовать свои выводы, хотел подождать еще несколько лет, собрать неопровержимые доказательства своей правоты. Но судьба в лице Алфреда Уоллеса распорядилась иначе. Кажется, самые жуткие новости Чарлз перенес бы легче, чем это томительное ожидание. На заседание в Лондон он не поехал. Это выходило бы за рамки приличий – ведь он похоронил сына только два дня назад. Вместо этого он упросил Эмму побольше поиграть на рояле, отложил все книги, рано лег спать и всю ночь проворочался в постели. Скоро ли придет письмо от Гукера и Лайеля? 2 июля на дорожке перед домом появился экипаж, из которого вышел слегка побледневший Гукер. – Гукер, почему вы не сообщили о своем приезде? Я бы выслал фаэтон. – Я хотел сообщить вам новости как можна. скорее. Чарлза забил озноб. – Только не щадите меня1 – Ничего не произошло. – Ответ был краток. – То есть как? Разве наши материалы не зачитывали? – Зачитывали. Сначала ваш. Мы с Лайелем пытались внушить собравшимся, сколь важны эти работы для будущего естественной истории. Но обсуждения, как такового, не было. – Не было обсуждения? – поразился Чарлз. – Неужели это не заинтересовало их? – Думаю, что заинтересовало. Но предмет настолько новый и настолько опасный для старой школы, что принять вызов с ходу никто не решился. После долгого вечера были отдельные разговоры, но одобрение Лайеля и до некоторой степени мое остановило тех, кто был готов наброситься на вашу теорию. Заседание закрылось под жиденькие аплодисменты. А потом все разъехались по домам. Гукер озадаченно покачал головой. – Представьте себе, что в Париже идет кровопролитная французская революция, а завсегдатаи уличных кафе знай себе жуют булочки и запивают их кофе – примерно так выглядело вчерашнее заседание. Чарлз застыл в изумлении, потом принялся хохотать во все горло. Наконец, успокоившись, он воскликнул: – Столько переживаний – и все впустую! Да лучше бы я отправился с Джоном Генсло на болота и собирал бы там лягушек для пирожков! Но Гукер не видел ничего смешного в том, что произошло. – Мы с Лайелем вчера решили, что этого краткого отчета мало – вы должны что-то опубликовать. Краткое изложение своей теории, тщательно продуманное, с лучшими примерами, подтверждающими вашу правоту. Вы должны закрепить свои права в этой области. Чарлз посерьезнел. – Я займусь этим.По душе ли вам такая родословная человека?
9 июля 1858 года Эмма и Чарлз поехали в Хартфилд к детям: те жили в доме у Элизабет. Дни в Сассексе выдались погожие. Семейство провело там целую неделю, а потом отправилось на юг Англии, на остров Уайт, прославившийся своим мягким климатом, живописной природой и меловыми холмами. Остров запомнился Чарлзу с юных лет: как гулял он по песчаному берегу, как купался в укромных бухтах – некогда он отдыхал там с Уильямом Дарвином Фоксом. Чарлз выбрал гостиницу в Сандауне, едва ли не самом популярном морском курорте. Все девятеро членов семьи и гувернантка, приставленная к младшим детям (Горасу исполнилось семь, Ленарду – восемь, Френсису – девять, а Элизабет – одиннадцать лет), заняли шесть смежных комнат на первом этаже в самом конце коридора. Полдничала семья на просторной деревянной веранде, а ужинала в доме – к вечеру холодало. Старшими сыновьями верховодил восемнадцатилетний Уильям, его вскорости ожидала месячная поездка по Европе, а потом – учеба в колледже Христа. Мальчики бегали на пляж, катались на лодке, рыбачили, загорали до черноты. Чарлз и Эмма несколько оправились от недавних бед. Здесь сама обстановка располагала к отдохновению и покою. Старшие Дарвины либо гуляли с дочерьми, либо сидели в тени на веранде, и Чарлз читал вслух, а Эмма вязала шарф Уильяму. Чарлз отдыхал душой, напряжения и усталости как не бывало, словно вернулись времена в Мур-Парке. Прошло несколько дней, и ему уже не терпелось достать из саквояжа первые главы своей рукописи о видах – Гукер настоятельно просил статью-обзор, страниц на тридцать, для "Журнала Линнеевского общества". Но тут от самого Джозефа Гукера из Лондона пришла посылка. В ней были гранки его и Уоллеса работ, о которых Лайель доложил Линнеевскому обществу 1 июля. Прошло всего девятнадцать дней – и уже гранки. Чарлз опустился на стул в гостиной и пробежал предисловие, написанное Лайелем и Гукером. Он нашел кое-какие изменения по сравнению с тем, что говорилось ими в Даун-Хаусе, но суть по-прежнему ясна: неважно, кому мистеру Дарвину или его другу мистеру Уоллесу – принадлежит пальма первенства, главное – служить науке. "Взгляды, основанные на конкретных выводах и подкрепленные многолетними размышлениями, намечают цель и вместе с тем служат отправным пунктом поиска других исследователей", – писали они. Чарлз разложил листы на столе, чтобы править собственную рукопись, но оказалось, что Лайель и Гукер уже весьма тщательно отредактировали ее, оставалось править… лишь собственный стиль. – До чего ж омерзителен мой слог! Хочется все переписать, но ни силы, ни время не окупятся, – сокрушался Чарлз. – Ты словно монах во власянице: мешает, а не сбросить, – заметила Эмма. Чарлз зарделся, обнял жену. – Ничего, постараюсь получше написать обзор. Ума не приложу, как рукопись почти в две тысячи страниц изложить на тридцати. – А больше Журнал не даст? – Попрошу. Возьму на себя расходы за лишний объем. Он отослал гранки Гукеру и попросил ознакомить с ними и Уоллеса. Каждый день Чарлз выкраивал часа два для обзора рукописи "Изменение домашних животных и культурных растений". Занятие любопытное, но напрасное, поскольку объем не позволял привести даже ссылки на цитируемые источники. Дарвин сетовал: – У меня сто шестьдесят сносок, почти сотня ссылок на разные работы, указания томов и страниц шестидесяти пяти журналов и шестидесяти книг. В обзоре придется все это опустить. Разве истинный ученый смирится с подобным! Эмма научилась спокойно принимать всполохи мужниной, зачастую безосновательной, тревоги. Озорно блеснув глазами, она сказала: – А ты щепотку сносок здесь, щепотку там, будто яичницу солишь. Десять дней провели они у благодатного моря в Санда-уне, потом экипажем отбыли в Шенклин – скромные жилища выстроились рядами прямо на самом берегу. – Домики эти выросли как грибы после дождя, – рассказывал детям Чарлз, – когда-то кузен Уильям Фокс брал меня с собой, и мы гуляли по острову вокруг ни души, бухта пустынна. А сейчас, взгляните: три гостиницы да милых домиков сколько… Старший сын Уильям к тому времени уже путешествовал по Европе, теперь за главного спорщика оставался тринадцатилетний Джордж. – Папа, то было сто лет назад. Спать время не пойдет. – Вспять время не пойдет. Вспять, Джордж. Его не остановить. Темпус фугит [Tempus fugit (лат.) – "время бежит", выражение, ставшее кры" латым благодаря Вергилию. – Прим. пер.]. И всякая пора несет обновление. Семья остановилась в Норфолк-Хаусе. Чарлз все работал над обзорной статьей. Подчас его беспокоил желудок, но, право, стоило ли жаловаться? Однажды, гуляя под руку с Эммой по пляжу и любуясь предзакатными оранжевыми и пурпурными бликами, неспешно уплывающими за горизонт, Чарлз признался: – Как я благодарен Гукеру и Лайелю за то, что они уговорили меня писать обзор, ведь он поможет и основной работе над книгой. – А потом сокрушенно покачал головой. – Впрочем, я уже на пять страниц превысил объем, а мне еще осталось в рукописи глав восемь, и все обширные. – Ты же сам осуждаешь многословных романистов, дескать, они только людей с толку сбивают. – Я и так отбрасываю все не представляющее научный интерес и все, с чем я сам столкнулся впервые. Чудная все же затея: писать обзор еще не опубликованной книги. – Помнишь, что говорил отец: "Исполни свой долг, и доверься судьбе". 5 августа Чарлз получил известие от Гукера, и на душе полегчало: Гукер переговорил с Джорджем Баском, помощником секретаря зоологического отделения Линнеевского общества, и тот передал, что Чарлз, в случае крайней необходимости, может расширить обзорную статью. – Это во многом облегчит работу, не придется выжимать крохи из каждой главы, – радовался он за неторопливым обедом на веранде гостиничного ресторана. – Впрочем, постараюсь написать покороче. Нужно и о других авторах думать, им каждая страница дорога. Гукер предложил выступить в журнале с лекциями по каждой главе и печатать постепенно в течение года. Дарвин обрадовался поддержке. Он писал Гукеру: "Статья-обзор только выиграет, если ее разбить на части. С "Изменениями в одомашненном состоянии" я уложился в сорок четыре страницы, на это хватит и одной лекции в Линнеевском обществе. Конечно, я буду весьма огорчен, если со временем не удастся напечатать весь обзор целиком". Домой Дарвины вернулись 13 августа. На море они отдохнули, загорели, теперь их ждали будни: нужно поработать в саду; погожими вечерами так хорошо посидеть на веранде, дважды в день Чарлз снова будет в раздумье мерить свою Песчаную тропу. Он получил от Томаса Гексли текст лекции, которую тот прочитал в Королевском обществе под названием "К вопросу о позвоночном происхождении черепа". Томас Гексли развенчал теорию Ричарда Оуэна и, как считали многие, "во многом поколебал его непререкаемый авторитет". Заслуг у Оуэна не отнять, однако он заблуждался, считая череп продолжением позвоночного столба. Гексли, ссылаясь на работы других эмбриологов, доказал, что кости черепа формируются в зародыше раньше, тем кости позвоночника, отсюда и несостоятельность теории. Чарлз слышал, что Гексли бесплатно читал лекции рабочим, получить образование иным путем те не могли. Он говорил: – Пусть рабочий класс осознает, что наука и научные методы – великая действительность, а не абстракция в их жизни. На пятый день после приезда Чарлз принялся за самую важную главу: "Естественный отбор". Он избегал ссылок и сносок, выбрасывал все прямо не относящееся к теме, зато добавлял абзацы, целые страницы нового материала. Когда была готова подглава "Возможности всех организмов скрещиваться и видоизменяться в природе", он загорелся мыслью издать обзор отдельной брошюрой. Эмма лишь улыбалась. – Ишь, аппетит разыгрался! Сначала помышлял о скромной статье, а трех месяцев не прошло – уже о брошюре. И скоро ли эта брошюра перерастет в солидный том? Чарлз добродушно усмехнулся. – Скоро. Просто мне больше удаются обширные обзоры, нежели краткие. В конце августа "Журнал Линнеевского общества" опубликовал его и Уоллеса статьи. Но на них никто не откликнулся. Чарлз пришел в отчаяние. – Кому, спрашивается, нужен мой обзор? Зачем, вообще, я все это пишу? У Дарвинов гостил Джозеф Гукер. Ему лучше работалось в комнате прямо над кабинетом Чарлза. Гукер завершал книгу по ботанике на материалах морской экспедиции. Оставались последние разделы "Флора Тасмании" и "Растительность Цейлона". Потом вместе со своим приятелем Джорджем Бентамом он собирался заняться многотомной энциклопедией семеноносных растений. На предобеденной прогулке по Песчаной тропе Чарлз сказал ему: – Вы видите лишь разрозненные главы моей рукописи, поэтому может сложиться впечатление, что все мои рассуждения – сплошной винегрет. Гукер остановился посреди залитой солнцем дорожки и простодушно уставился на Чарлза. – Мой дорогой Дарвин, я не предполагал, что вы еще и отличный кулинар. Чарлз извинился: – Я привык даже исподволь готовиться к возражениям, непониманию, к насмешкам, вот и сейчас забылся, а ведь вы едва ли не единственный на всем белом свете постоянно поддерживаете меня, помогаете. Гукер втянул голову в плечи, нахохлился, снял очки, протер. – Ваша теория естественного отбора поначалу пришлась мне не очень-то по вкусу. Потом распробовал и поверил безраздельно. Ну а что касается вашей рукописи, читай я ее по частям – и жизни не хватит. Сколько у вас осталось? – Месяца на три-четыре работы. Писать короче не могу: нужно четко изложить свои взгляды. Друзья в седьмой раз обошли по опушке густой лесок и поспешили домой. Чарлз подгонял себя в работе: не терпелось опубликовать статью, это важно и для собственной репутации, и еще больше для репутации гипотезы о происхождении всего живого. Сейчас закручен каждый винтик, отлажен весь механизм. Пригодился и зоркий глаз – в рукопись вошли наблюдения живой природы во время путешествия на "Бигле" и опыт редакторской работы над томами "Зоологии". По кирпичикам складывалась его теория: тут многолетние наблюдения и классификация членистоногих, бабочек, жуков; изучение инстинктов голубей; анатомия кроликов, уток и прочей домашней живности; пропорции тела лошадей; посадка и проращивание семян после многодневного пребывания их в соленом растворе; перевозка плодов на значительные расстояния; наблюдения зарубежных биологов, с которыми Дарвин постоянно переписывался; данные об опытах по скрещиванию животных. Рукопись вобрала в себя годы тяжкого, но столь упоительного познания. Он, подобно взошедшему светилу, пронзил Вселенную лучами своей пытливой мысли и растопил мрак неведомого. К концу октября он завершил пятый раздел – "Законы изменяемости" и принялся за шестой – "Трудности в работе над теорией". Преодолевать непроходимую чащобу препятствий и помех Чарлзу приходилось ценой нервного перенапряжения, и это сказалось на желудке, он стал, по выражению самого Дарвина, пошаливать. Вне семейного круга он не распространялся о путешествиях в молодые годы, зато с детьми проявлял незаурядную выдумку, чаруя их рассказами о Шрусбери, о Северном Уэльсе, о Кембридже, о топях Линкольншира, о невероятных приключениях на "Бигле", особенно когда экспедиция высаживалась на берег. Младшие дети частенько совершали набеги в его кабинет, даже когда отец работал, то за булавками или ножницами, бечевкой или клейкой лентой, линейкой – там всегда отыщется нужное, как на складе. Однажды к нему ворвались Горас, Ленард и Френсис – что-то понадобилось для игры. Чарлз спокойно сказал им: – А вы не боитесь, что я вас больше не пущу? Не могу же я отвлекаться каждую минуту. Эмма посоветовала ему съездить на неделю в Мур-Парк. Доктор Лейн тоже звал его погостить. Здесь Чарлз отдыхал, много ходил пешком, лечился водами. Но не забывал и о работе, готовил раздел об инстинктах для статьи-обзора. Домой он вернулся 1 ноября. Эмма спросила: – Как у тебя с желудком? – Хорошо, даже самому не верится. В начале ноября Королевское общество удостоило. Чарлза Лайеля высшей в английской науке награды – медали Копли. Гукер попросил Дарвина написать хвалебный отзыв. Целый вечер трудился Чарлз, расписывая заслуги друга. На следующий день набросок был готов и отослан Гукеру. Отзыв содержал "ужасающе убогие", но отнюдь не опрометчивые похвалы в адрес Лайеля. Сын Уильям поступил в колледж Христа, и ему удалось поселиться в комнатах, где некогда жил Чарлз. И прислуживал ему Импи, тоже знававший еще отца. Причастность близких к его делу радовала Чарлза, вот и третий сын, Френсис уже сам собирает жуков. Дочка Генсло замужем за Джозефом Гукером, сейчас она переписывает набело лекцию о видах, которую Лайелю вскоре читать. Какая замечательная взаимосвязь! Как близки ему эти люди! Лекции Генсло в Саффолке прошли столь успешно, что принц-консорт пригласил его в Букингемский дворец познакомить отпрысков королевской семьи с ботаникой. Конечно же Генсло знал, что Дарвин пишет книгу о происхождении видов путем естественного отбора. Генсло – человек набожный, пастор англиканской церкви. Счел ли он Дарвина отступником? Ведь некогда, включив в экс-, педицию на "Бигле" юного потрошителя лягушек, он тем самым буквально подтолкнул Дарвина к познанию, которому он уже столько лет небезуспешно служит. Сейчас Генсло шестьдесят два, волосы совсем белые, под глазами темные круги. Да, жизнь пошла на закат, особенно одиноко ему после смерти жены. В отличие от капитана "Бигля" Фицроя он не искал ссоры с Чарлзом и Эммой. Наоборот, навещал их и отогревался душой, видя их расположение. И на этот раз он провел с ними несколько приятных дней. Не сразу Генсло ответил на мучивший Дарвина вопрос. Как-то раз в кабинете Чарлза за чащкой кофе старик не выдержал его долгого испытующего взгляда и улыбнулся: – Не бойтесь. Нашей дружбе ничто не грозит. Никогда вас в обиду не дам, за друга сумею постоять. Чарлз облегченно вздохнул. – Генсло, дорогой мой, я до слез восхищаюсь вашей душой. К рождеству рукопись насчитывала уже триста тридцать страниц, еще сотни полторы – и получится солидная книга. Завершив главы по гебридизации и геологической последовательности, он решил отдохнуть и провести рождественские праздники в кругу семьи, благо двое старших сыновей приехали на каникулы. Парсло – сам человек уже семейный – поставил в гостиной рождественское дерево, украсил камин и картины ветвями остролиста, разложил подарки под деревом. А Чарлз, увлекшись работой, совсем забыл о подарках. Вспомнил лишь в последнюю минуту и страшно огорчился. – Не печалься, – успокоила Эмма, – я передала целый список в магазин Дауна, нарочный всегда привозит нам заказы из Лондона. Может, даже и для тебя что-нибудь найдется. За праздничным столом, который украшала крупная индейка и пудинг, Чарлз поведал о своих трудах. – От журнальной публикации, видно, придется отказаться. Слишком уж я расписался. – Значит, издашь отдельной книгой? – Мысль неплохая. Но нужно известное издательство, чтобы тираж быстро разошелся. – Гукер обещал помочь: можно договориться с Королевским обществом или с Геологическим о субсидии на книгу. Или обратись к правительству. – Это отпадает. Ни одному Обществу, ни правительству не нужны лишние хлопоты ради моего удовольствия. В середине января 1859 года Чарлз с удивлением узнал, что Геологическое общество наградило его медалью Уолла-стона, присуждаемой за выдающиеся исследования структуры земной коры. Среди его предшественников были и Луи Агассис, и Ричард Оуэн, и Адам Седжвик. Хвалебный отзыв взялся написать Лайель, весьма благородно с его стороны, ведь сам он не удостоен этой награды! Итак, Чарлз – обладатель второй и третьей по престижности наград в британской науке. На душе, однако, было неспокойно: как-то Алфред Уоллес отнесется к тому, что и он сам, и Дарвин выступили с докладами одновременно. Но вот из Тернэта пришло два письма – ему и Гукеру. Чарлз торопливо распечатал конверт. Уоллес, оказывается, несказанно обрадовался за них обоих! Впрочем, самое важное он написал Гукеру: "Позвольте первым делом выразить искреннюю признательность Вам и сэру Чарлзу Лайелю за Вашу любезную помощь. Полагаю, что мне воздано сверх моих заслуг, ибо в подобных случаях по сложившейся традиции лавры по праву достаются первопроходцу, будь то новое явление или теория, а не тем, кто идет по его стопам, пусть и самостоятельно, и неважно, придут ли они к таким же результатам спустя годы или считанные часы…" Чарлз заметил: – Великодушнейший, должно быть, человек! В начале нового года, 29 января, Дарвины отмечали двадцатилетие супружеской жизни. Эмма готовилась заранее, ей хотелось собрать всю семью. К счастью, 29-е приходилось на субботу, и на выходной смогли приехать все. Из Хартфилда – ее сестра Элизабет и семейство Лэнгто-нов, из Маунта сестры Чарлза, по пути к ним присоединился Эразм. Приехали Генсло и Фэнни Веджвуд со старшими детьми, а также братья Веджвуды. Увидев грандиозный размах жены – она даже пригласила кукольный театр для детворы и поместила в учебной комнате горы продуктов и несметное количество бутылок, все прибывавшие и прибывавшие в Даун-Хаус, Чарлз воскликнул: – Да, это всем праздникам праздник! Раз уж и мое пятидесятилетие не за горами, двенадцатого февраля, почему не отметить две даты вместе? – Прекрасно. А я испеку два пирога. Один для нашего юбилея в субботу, другой – на твой день рождения, в воскресенье. За праздничным столом Чарлз сказал: – Вот и мы стали старшим поколением. Растут наши дети, как некогда и сами мы в Маунте и Мэр-Холле. Сегодня мы на месте дяди Джоза, тети Бесси, моего отца, а не успеешь оглянуться, нас сменят теперешние молодые. И душа радуется, когда думаешь об этой вечной смене. Чарлз все подгонял и подгонял себя. Хватит ли жизни, чтобы закончить работу? В этом самом кабинете три года назад он поддался уговорам друзей… Гукеру он сказал: – С какой радостью поставлю я точку в своем обзоре, тогда и отдохну. Здоровье ухудшилось, мучила тошнота, кружилась голова – все это очень огорчало. Порой он боялся, что не успеет закончить книгу, хотя осталось совсем немного. Но работу пришлось прервать – он вновь поехал в Мур-Парк. Там он отдыхал за биллиардом, принимал пепсин, помогавший выделению желудочного сока. Первую неделю он чувствовал себя лучше, но потом увлечение биллиардом и целительный пепсин перестали оказывать свое действие. Он даже забыл про свой день рождения и вспомнил лишь вечером, уже в постели, после того, как провел два часа за чтением "Испытаний Ричарда Февереля". Положив на одеяло раскрытую книгу, Чарлз задумался: "А что же я успел сделать за свои пятьдесят лет?" В подарок ко дню рождения он решил купить себе биллиардный стол, его можно поставить рядом с кабинетом, в бывшей столовой. Стол, крытый зеленым сукном, он подыскал в магазине Гопкинса и Стефенса в Лондоне. Дерево прочное, полированное до блеска. Но, увидев цену, испугался – пятьдесят три фунта восемнадцать шиллингов. – Придется кое-что из вещей продать, иначе не собрать нам таких денег. – Нужно ли, Чарлз? Доход наш за прошлый год почти пять тысяч, на тысячу двести больше, чем в позапрошлом. Одних ценных бумаг у нас тысяч на семьдесят. – Биллиардный стол – роскошь, и ради него я ни гроша из наших денег не потрачу. Лучше продадим кое-что из твоего фарфора. Такая скаредность очень задела Эмму. Почему она должна расставаться с уникальными вазами, медальонами, статуэтками, перешедшими к ней от деда? Но она быстро справилась с мятежными мыслями. Конечно, фамильный веджвудовский фарфор ей дорог, не сравнить с каким-то биллиардным столом, но еще дороже для нее мир и согласие в семье. – Будь по-твоему, милый. Чарлз заканчивал последнюю главу. В заключении он смело писал: "… классифицированные факты, представленные в этой главе, неоспоримо подтверждают, что развитие каждого из неисчислимого многообразия видов, родов, семейств берет начало в рамках данного вида, от единых предков, претерпевших эволюционные изменения. Без колебаний готов отстаивать эту точку зрения, даже если она не подтвердится новыми фактами и доводами". Завершив работу, Чарлз вновь вернулся к первым главам – он получил от переписчика беловик – и стал править стиль. Он писал Фоксу: "Наконец-то правлю рукопись уже для печати, надеюсь, через месяц придут гранки…" И вдруг замер, отложил доску, которую подкладывал под бумагу, и принялся мерять шагами кабинет. "…Печать… гранки". Какая печать? Какие гранки? Издателя-то нет, хоть в огромный телескоп, что на "Бигле", смотри = не высмотришь. Он решил довериться судьбе, и не напрасно. Леди Мэри Лайель прислала письмо, и Чарлз из него понял, что Дайель замолвил словечко о будущей книге Джону Мэр-рею, тот купил права на публикацию материалов "Журнала" в своей серии "Библиотека для Англии и колоний" и, видно, не прогадал. Дарвин решил на следующий же день ехать в Лондон. Долго стучал он в дверь дома 53 на Харли-стрит. Открыла служанка и проводила его прямо в кабинет к Лай-елю. Тот оторвался от работы, взглянул на Чарлза, и лицо его озарилось улыбкой; так солнце, вырвавшись из-за тучи, озаряет землю. – А, Дарвин! Вы приехали очень кстати. Подождите, пожалуйста, минут десять, я закончу абзац. Я попрошу сейчас, чтобы вам принесли бокал шерри. Чарлз подошел к огромным стеллажам и провел рукой по переплетам книг. Наконец Лайель оторвался от работы и указал Дарвину на кресло. Тот заговорил: – Насколько я понял из письма леди Лайель, вы говорили обо мне Джону Мэррею. – Говорил. – Он имеет какое-нибудь представление о содержании книги? – Думается. – И он заинтересовался? – Еще как! Хотя сперва хочет взглянуть на рукопись. – Разумеется. Дней через десять я пошлю ему три начальные главы. – Вот и отлично. Лучше Мэррея издателя научной литературы и не сыщешь. Если помните, еще в 1830 году у него вышел первый том моих "Основ геологии". – Как по-вашему, стоит ему сказать, что в рукописи содержатся факты отнюдь не общепринятые, но к этому меня побуждала лишь ее тематика? Ведь я никоим образом не оспариваю положений книги Бытие, а лишь привожу конкретные факты и делаю сообразные моему воззрению выводы. Лайель понимающе улыбнулся: как переплелись в душе друга надежда, горячность и тревога! – Мне нечего посоветовать. Пусть рукопись говорит сама за себя. Теперь Чарлз не расставался с мыслью о книге; так собака не расстается с костью. – Как по-вашему, предложить ли мне свои условия публикации или спросить, какие приемлемы для него? – Подождем, что скажет Мэррей, когда прочитает рукопись. Он заранее чует, каким тиражом может разойтись книга. – Да, это верно. А не взглянете ли на титульный лист? Лайель тщательно прочитал каждое слово: "Обзор эссе о происхождении видов и разновидностей". Потом подошел к креслу, перегнулся через спинку и уткнулся лицом в сиденье. Чарлзу показалось, что прошла вечность, прежде чем Лайель выпрямился. – Снимите в оглавлении слово "обзор". Оно отпугнет читателей, они подумают, что это лишь голое резюме. – Но должен ведь я оговорить, что не полностью привожу цитируемые источники и фактический материал. – Никаких оговорок! Мэррею виднее. И если он предложит снять "обзор", значит, будьте уверены, не во вред книге. На следующий день Чарлз в письме к Мэррею привел названия всех глав. Тот ответил незамедлительно и предложил выгодный контракт. Взволнованный Чарлз бросился с письмом к Эмме, та сидела с Генриеттой в гостиной, нежась в робких лучах весеннего солнца. – Ты только послушай, Эмма! Мэррей согласен! Он даже не прочитал рукопись! И предложил долю в прибылях. – И потом, немного поостыв, добавил: – Напишу ему, что согласен, но с единственным условием: я оставляю за ним полное право отказаться от публикации после знакомства с рукописью. А в письме еще прибавил: "Возможно, я заблуждаюсь, но мне думается, тема заинтересует читателей, я уверен, с такими суждениями они ранее не встречались". Джон Мэррей прочитал три начальные главы и показал их своему консультанту, преподобному Уитвелу Элвину, редактору "Квартального обозрения". Тот посоветовал выбросить рукопись на свалку, пусть лучше Дарвин изучает жизнь голубей. Далее Мэррей отдал рукопись своему другу Джорджу Поллоку, юристу, тот посчитал, что "этих взглядов не уразуметь ни одному из ныне здравствующих ученых", но напечатать посоветовал, сославшись на то, что "мистер Дарвин столь искусно преодолел значительные препятствия, на которые сам же и указал, как и подобает всякому честному ученому". Самому Мэррею рукопись понравилась, и, коль скоро у него были авторитетные рекомендации Лайеля и Гукера, он написал Чарлзу, что трех глав вполне достаточно для ознакомления, но ему хотелось бы получить полный текст как можно скорее, чтобы отослать в типографию. Для первого издания он предлагал тысячу двести пятьдесят экземпляров. Слово "обзор" он все-таки снял с титульного листа. Теперь отредактированное заглавие читалось так: "О происхождении видов путем естественного отбора, или В борьбе за жизнь выживают достойнейшие". – Для научной книги тираж небывалый, – радовался Чарлз, – "Дневник" вышел у Генри Колберна всего лишь полутысячным тиражом. – С тех пор прошло двадцать лет, – напомнила Эмма. Тебя тогда еще никто не знал. А сейчас, разве не ты сам предрекал Гукеру, что твою книгу будут читать и ученые, и простые люди? Чарлз покраснел. – Если хочешь, я просмотрю потом гранки и исправлю опечатки, предложила она. Чарлз оторопело уставился на жену. Она собиралась править гранки столь ненавистной ей рукописи, в которой каждая страница противоречила ее жизненным устоям! Он обнял ее, горячо поцеловал и прижал к груди. – Дорогая моя мисс Веджвуд, я женат на тебе уже двадцать лет, но крепче всего люблю сейчас. В дальнем углу кабинета на столе стопками лежали страницы рукописи. Комната забита различным оборудованием, бутылками, склянками, коробками, пробирками, тиглями, измерительными приборами – открывающими удивительный мир. Еще больше о нем расскажет рукопись, которой ученый отдал двадцать лет жизни, в ней чередуются сомнение в своих силах, робость и вера в то, что ему дано постичь больше, нежели простому смертному. И не вырваться из этого круга: то он верит в свою избранность, то малодушничает, боится провала; то ликует, то впадает в уныние. Он мечтал: лишь бы книга увидела свет, и тут же пугался: но только не при жизни. Сначала он громогласно предрекал ей успех и популярность, потом разуверился: никто ни покупать, ни читать не станет. Он то корпел, исправляя, как он сам признавался, свой "корявый стиль", то с легкостью выпускал из-под пера тысячи страниц, упиваясь написанным: открытый им всеобщий закон природы в корне изменит взгляд на науку. Едва ли не в каждом письме знакомым онжаловался, что сил мало, здоровья нет, хотя именно в это время умудрялся работать наиболее плодотворно: много писал, исследовал, задумывал новые главы. Ему порой хватало и месяца, чтобы составить и изложить в длинной и обстоятельной главе взгляды на проблемы в новой, не исследованной ранее области. Геркулесов подвиг, равно как и его восхождения в Андах. Каждое его слово истинно, подтверждено опытами в "дарвиновской лаборатории". Книги его покупали не менее охотно, чем книги других ученых-испытателей, в них усматривали зачатки теорий, которые не скоро дадут всходы; что ж, видно, не суждено ему больше. Впрочем, относился он к этому хладнокровно, верил, что в его идеях, записях, наблюдениях – величайшее открытие со времен Коперника: в 1543 году тот опубликовал книгу, перевернувшую все представления о мире, он доказал, что существует Солнечная система и что Земля – отнюдь не единственная в ней планета – вращается вокруг Солнца. Дарвин сочетал в себе непоколебимую рассудочность и доверчивость. Умом он понимал, что прав доктор Генри Холланд: здоровье ему вернет лишь отдых и смена обстановки, а отнюдь не водолечение, к которому он так стремился; прав Чарлз Лайель, советовавший ему поездить с Эммой по Европе. Италия, Испания, Франция – везде он сможет найти покой. Порой казалось, что вот-вот душа расстанется с телом, но вскоре силы и уверенность возвращались, и Чарлз неделями плодотворно работал. Он не скупясь тратил деньги на препараты, книги, микроскоп, пересылку по почте, переписку набело. Восемь лет тратил он время и деньги, прослеживая жизнь усоно-гого рака, хотя не очень-то верил, что все окупится. И в то же время он скрупулезно изучал записи прихода и расхода, как скупец, отказывал себе даже в малости, требовал отчета о каждом потраченном на личные нужды гроше. Он то упивался немалым достатком семьи, то страшился якобы неминуемой нищеты. Ему необходимы были надежные друзья, но сам он чурался людей; то окопается в тиши Даун-Хауса, то выдумывает бесчисленные предлоги, чтобы съездить в Лондон; он считал своим долгом оправдываться: дни безделья – это вынашивание новых идей. Он с трепетом прислушивался к критике своих работ, признавал ее необходимой, писал критикам длинные письма, объясняя или возражая, а сам верил в душе, что творческое начало переживет всех критиков. На похвалу он бывал удивительно падок, а резкое слово ввергало его в пучину отчаяния. Он жаждал признания у современников и сильных мира сего, а получал чаще всего порицание и осуждение, ибо поиск приводил его к выводам непривычным, смелым, которые трудно понять и принять. Он привык благодарить за любую, даже ту, на которую он вправе рассчитывать, помощь, привык воздавать сполна и по достоинству работам коллег. Сам же шел только непроторенными путями. Так бок о бок в нем уживались скромность и смирение с тщеславием и заносчивостью. Чарлз как-то признался: – Лучше жить убогим, презренным калекой, как я живу сейчас, чем лениво угасать в собственных поместьях. Вот какую истину исповедовал Чарлз Дарвин! Почему же тогда работа отнимала у него здоровье? Люди работают и в более тяжелых условиях, и отдача требуется не меньшая, да и занимаются они зачастую нелюбимым делом. Чарлза снедала тревога. Темными бессонными ночами метался он в страхе и сомнениях: что-то принесут его теории, записанные в дневниках 1837 и 1839 годов, и работы, опубликованные в 1842 и 1844 годах? Как-то откликнутся они в богобоязненных сердцах англичан? Помогали Чарлзу кто чем мог. Френсис Гукер (дочь Джона Генсло) переписывала главы всякий раз, когда черновик оказывался слишком грязным для редактора, Джозефа Гукера. Гукер сам наведался в Даун-Хаус; нужно было по карте уточнить распространение разных видов. Разложив на столе все девяносто страниц главы, Чарлз сказал: – Мне бы хотелось знать, с какими положениями вы решительно не согласны. И самое главное: не заимствовал ли я у вас материал, который вы хотели бы опубликовать самостоятельно? Гукеру перевалило за сорок, он находился в самом расцвете, о чем свидетельствовали и пышные, до подбородка, бакенбарды, столь буйная растительность была, право же, достойна оранжерей его отца. Гукер нежно погладил их, словно это были не бакенбарды, а редкостные растения, привезенные с далеких Гималаев. – Вы цитировали в основном мои опубликованные работы. Для того их и печатали. Но я и впрямь не согласен с некоторыми пунктами. Вот ими и займемся… К концу марта подруга Эммы и всей семьи Веджвуд, мисс Джорджина Толлет, жившая в восьми милях от Мэр-Холла, по воле случая переехала в дом No 14 по Энн-стрит, рядом с особняком Эразма, на чьих приемах она частенько бывала. Писатели любили ее, она всегда вызывалась прочесть рукопись, исправить орфографические и грамматические ошибки, этому она была обучена. Чарлз встречал ее и в Мэр-Холле, и у Эразма и, набравшись смелости, попросил посмотреть его работу. – Сочту за честь, мистер Дарвин. Только не забывайте, что в науке я понимаю куда меньше, чем в стилистике. – А я, мисс Толлет, и хочу добиться ясности в стиле. Джон Мэррей переслал ей три начальные главы. И пока она правила и шлифовала слог Дарвина, получил от Чарлза четвертую – "Естественный отбор" с примечанием: "Полагаю, Вам захочется прочитать эту главу – краеугольный камень, на котором зиждется все мое построение". Джон Мэррей пришел в восхищение от "Естественного отбора". Он отослал и эту главу мисс Толлет. Та сообщила Чарлзу, что пока исправила только три непонятных предложения. Однако Гукер, редактируя уже последнюю часть, сетовал, что неясных мест много, и Чарлзу предстоит не раз и не два переписать главу, чтобы донести смысл полностью. Чарлз знал, что Гукер во всем стремится к совершенству и до жестокости требователен и к себе, и к друзьям, поэтому не очень беспокоился. Но когда и Френсис Гукер признала, что многие абзацы весьма туманны, Чарлз ударился в панику. Он столько работал, чтобы распутать хитросплетение своих идей, и вот здоровье его окончательно пошатнулось… Впрочем, выяснилось это почему-то только после того, как Чарлз отослал остаток рукописи Джону Мэррею. – Поедешь в Мур-Парк, – твердо решила Эмма – будешь читать "Адама Вида". Успокаивает нервы не хуже биллиарда. Статьи Дарвина и Уоллеса в "Журнале Линнеевского общества" остались незамеченными. Только сейчас получил он первый критический отзыв – лучше бы его вообще не было. Эмма с младшими детьми занималась в классной комнате чистописанием. Чарлз ворвался в комнату и крикнул с порога: – Вот что меня ждет! Из Геологического общества в Дублине пишет преподобный Самюэль Хотон: "Рассуждения господ Дарвина и Уоллеса не заслуживали бы никакого внимания, если бы не солидная репутация их покровителей Чарлза Лайеля и Джозефа Гукера, способствовавших появлению данных выкладок…" Красота Мур-Парка, отдых, ненавязчивые водные процедуры, прогулки и "Адам Бид" – все действовало благотворно. Когда у доктора Лейна выпадал час досуга, он играл с Чарлзом в биллиард. Всего лишь за неделю здоровье его существенно улучшилось, можно ехать домой. Очень скоро пришли гранки книги, и Чарлз, сидя в своем большом кресле, принялся читать. Какой ужас! Рукописный вариант отличался от печатного, как солнечный ясный день от ненастной ночи. Он написал Мэррею, как никогда тщательно выбирая слова: "Работа над гранками двигается медленно. Помнится, писал Вам о том, что правка, по-моему, будет незначительная. Увы. Весьма прискорбно, но я заблуждался. Нахожу, что стиль невероятно плох… правки очень много. Уму непостижимо, как я умудрился так отвратительно написать…" Не одну неделю провел Чарлз, скрупулезно вписывая чернилами свои поправки меж печатных строк, добавляя материал на полях, сверху и снизу, пока разобрать, что к чему, стало уже невозможно. Он предложил Джону Мэррею соглашение, по которому из доходов Дарвина должна вычитаться не только весьма скромная сумма за корректуру, но и расходы за правку сверх нормы. В конце июня он в отчаянии писал Гукеру: "Приходится вымарывать едва ли не целые страницы и вклеивать новые полосы, до того ужасен мой стиль. Вы мечтали, чтобы книга моя увлекала, но, видно, это мне не по плечу. Боюсь, ее сочтут невыносимо скучной и непонятной". Эмма ежедневно по нескольку часов исправляла опечатки, невыносимо было смотреть, как терзается муж. – Надеюсь, ты еще не начал упиваться жалостью к себе? – спросила она однажды-Единственным утешением Чарлзу явилась речь Лайеля в Абердине на заседании Британской ассоциации в сентябре 1859 года. "Скоро выйдет в свет труд господина Чарлза Дарвина, результат его двадцатилетних исследований и опытов в области зоологии, ботаники и геологии. Он пришел к выводу, что развитие человечества и ныне существующих видов животных и растений обусловливается теми же силами природы, которые на значительно большем отрезке времени порождают виды и на протяжении веков изменяют их. Исследования и заключения представляются весьма успешными, так как в изобилии проливают свет на многие явления, связанные со сходствами видов, их географическим распространением, геологической преемственностью органической материи, что по сей день не объяснила и не пыталась объяснить ни одна гипотеза". Официальная поддержка Лайеля подбодрила Чарлза. Он сознательно не задержал внимания на окончании длинного письма, в котором Лайель писал: "И все же я считаю, что без постоянного участия нашего творца не обойтись". Чарлза это несколько обескуражило. Не принял его взглядов Лайель. Шагу ступить не может, не посоветовавшись с богом. Ответил он незамедлительно: "Можно и обойтись. Если признать существование творца, то моя теория естественного отбора и гроша ломаного не стоит. Допустим, что у примитивной ильной рыбы, у которой сохранились и жабры, и легкие, есть пять чувств и зачатки мозга, и, уверяю вас, теория естественного отбора объяснит вам происхождение любого из позвоночных". Первая неделя ноября принесла радостные перемены: Джон Мэррей прислал экземпляр "Происхождения видов". Чарлз любовно ощупал зеленый матерчатый переплет: пятьсот страниц, печать добротная, даже красивая. Мэррей сообщал, что из первого издания пятьдесят восемь книг отослано Чарлзу, критикам и в книжную палату для заявки авторства, а тысяча сто девяносто два экземпляра уже распроданы на осенней книжной ярмарке, которую устроил Мэррей. Он писал: "Необходимо срочно приступать ко второму изданию". Счастью Чарлза не было границ! Прошло еще три дня, и Чарлз получил первый опубликованный отзыв в "Атенее" за 19 ноября. Безымянный рецензент отозвался о книге враждебно. Не остановившись на доводах в пользу теории Дарвина, он упрекнул его в "явном самодовольстве" и в "изрядной самонадеянности и пренебрежении к спорным вопросам". Далее, касаясь теологической стороны, автор оставил Чарлза на милость "церкви, колледжа, лекционного зала и музея". Чарлз огорчился и в письме к Гукеру попросил узнать, кто писал этот отзыв. "…Очень уж подло спекулирует он на бессмертии, натравливает на меня святых отцов и оставляет на их "милость". На костер он меня, конечно, не отправит, но дровишки приготовит и науськает на меня этих бестий в черных сутанах". Вслед за этим Чарлз получил письмо от контр-адмирала Роберта Фицроя. Тот возглавлял отдел метеорологической статистики при министерстве торговли, которое изучало данные с британских кораблей о ветрах, атмосферном давлении, температуре, влажности воздуха. Со времени его неудачного визита в Даун-Хаус Чарлз не виделся с ним и не переписывался. Сейчас же Фицрой спешил выразить опасения в связи с чересчур смелыми взглядами Чарлза: "Вы, вероятно, все эти годы так увлеклись своими голубями и кроликами, микроскопическим анализом, что взялись и общие вопросы рассматривать под микроскопом, а тут надобен телескоп, чтобы пошире охватить; кроме того, вы, очевидно, не удосужились прочитать исследования последних лет и знаете их лишь по обрывочным цитатам, кои можно было обратить себе на пользу. Вы привыкли так работать, и как следствие – субъективизм вместо честных, объективных результатов. По крайней мере, я не нахожу ничего облагораживающего в том, что происхожу из древнейшего рода… обезьян". Листок бумаги в руках Чарлза задрожал. В книге ни слова не говорилось о происхождении человека. Он лишь задавался вопросом: "Почему обезьяны не достигают человеческого величия разума?" И отвечал: "Много тому причин, но пока это лишь догадки, не стоит их приводить". Снова перечитал он статью в "Атенее", может, и она спровоцирована Фицроем? В ней тоже хватает оскорблений: "В блистательной притче Дизраэли леди Констанс Ролей считает, что человек произошел от мартышки. Эта столь приятная гипотеза перекочевала из литературного произведения в научное и стала едва ли не символом веры мистера Дарвина. Из его взглядов явствует, что человек появился вчера, а завтра исчезнет. О каком бессмертии речь! Человек – существо лишь временное, можно сказать, случайное". – Ну что ж, – вслух произнес Чарлз, он уже успокоился, – мысль не новая, не первый день об этом говорят. Ясно одно; кому-то очень хочется приписать мне авторство. 24 ноября, день выхода книги в свет, вся семья отметила еще в Илкли. Какая радость! Джон Мэррей уже готовил второе издание трехтысячным тиражом. Пришли поздравительные письма от Лайеля и Гукера, теплые слова поддержки от Томаса Гексли. – Эти трое – самые близкие, родные люди! – воскликнул Чарлз, прочитав письма Эмме, – с такими друзьями нам никто не страшен. Откликнулся и сэр Джон Гершель; обычно приветливый, на этот раз он отозвался неодобрительно: "Книгу получил, но взглядов не разделяю". Чарлз удивился: – Сам Гершель создал астрономию, так почему же он противится созданию другой науки? Знаешь, я думаю, что мозг человека – что комод. Выдвинешь один ящичек, он пуст, готов к познанию, откроешь другой – забит косностью. Поймем ли мы его когда-нибудь? – Поймем настолько, чтобы выжить, но не настолько, чтобы упиваться познанным, – едко заметила Эмма. Еще один приятный сюрприз – письмо от видного ботаника Хьюэта Уотсона: "Начал читать "Происхождение" и не смог оторваться, пока не проглотил всю книгу. Несомненно, Ваши основные взгляды будут приняты и станут основополагающими принципами в науке, то есть в "Естественном отборе". Описаны все основные Законы природы, объяснено все, бывшее неясным, стало понятным представлявшееся запутанным, накопленные знания во многом обогатились. Вы – величайший преобразователь естественной науки в нашем столетии, а то и во всей истории…" В Лондон к Эразму, где гостили Чарлз с Эммой, приехали Томас и Генриетта Гексли. Томас с порога воскликнул: – Ваша книга – лучшее, что я читал по естественной истории за последние девять лет со времен работы фон Баэра по эмбриологии! Я ради вашей теории хоть на плаху пойду, и крепко надеюсь, что вы не станете сердиться и огорчаться из-за нападок и неверного толкования ваших взглядов, а их, как я понимаю, будет предостаточно. Однако пусть вас поддерживает мысль, что вы заслужили вечную благодарность всего мыслящего человечества. И пусть не пугают вас всякие шавки, не забывайте, есть друзья, которые в силах постоять за вас и готовы верой-правдой служить вам, хотя ранее вы им в этом частенько и не без причин отказывали. Я и сам готовлюсь к битве, точу когти и вострю клюв. Последними приехали Джозеф и Френсис Гукер. Джозеф оставил обычную свою серьезность дома в рабочем кабинете, сейчас он смотрел весело, радостно что-то бормотал, тискал Чарлза за плечо. – Книга отлична от рукописи как небо от земли. "Происхождение" мы прочитали в гостях у Лайелей. Знаете, Лайель прямо оторваться не мог, зачаровала его книга. Да и я считаю, что написано отменно, вы славно потрудились. Успех обеспечен. Спасибо за теплые слова, адресованные мне в предисловии. Для меня это дань любви честнейшего, хотя и заблудшего человека. Пока Гукер здоровался с остальными гостями, Чарлз отвел его жену в сторону. – Отец прочитал мою книгу? – Да. – И как же мой старый добрый наставник Генсло отнесся к ней? Боюсь, на этот раз ему не за что похвалить ученика. – Почему же, отдельные главы ему понравились, хотя… – Он возненавидел меня? – Нет, по-прежнему любит как сына… и прощает все прегрешения перед господом. Чарлз всмотрелся в лицо Френсис – копия профессора Генсло, только каждая черточка миниатюрнее. Гости собрались за столом. Бокалы наполнили холодным белым вином. Лукаво прищурившись, Эразм поднял бокал и провозгласил тост: – За происхождение нашего вида! Чарлз Лайель вставил: – Американец Эмерсон раз сказал: "Берегитесь, когда вседержитель посылает на землю мыслителя". Через два дня Дарвины вернулись в Даун-Хаус. Тогда-то и оправдались слова Джона Мильтона – тоже выпускника колледжа Христа, – сказанные более двухсот лет назад в "Потерянном рае": "Поднялся адский шум". Поразившее всех послание пришло от Адама Седж-вика, старого друга Чарлза. Сейчас Седжвик – каноник в Норидже, лицо весьма влиятельное как в англиканской церкви, так и в Кембриджском университете. Письмо, судя по всему, лишь пристрелка, а настоящий бой Седжвик даст на страницах солиднейшего в Британии журнала, где он частый гость. После почтительнейших заверений в дружбе, Седжвик перешел к делу: "Не знай я Вас как человека доброй души и чести, не стал бы писать всего этого… Книгу Вашу прочел скорее с болью, нежели с радостью. Местами она восхитительна, местами же я смеялся до колик; отдельные взгляды повергали меня в печаль, ибо они представляются мне в корне ошибочными и вредными, о чем и скорблю. Предлагаемая Вами человечеству структура развития столь же чудовищна, как и локомотив епископа Уилкинса, на котором он хотел довезти нас до Луны. …Я ставлю первопричиной волю господню и могу доказать, что она вершится на благо тварей его. И суждение мое непоколебимо, будь оно выражено в словах или, тем паче, в логических построениях. У природы не только физическое, но и моральное, метафизическое начало. И всякий отринувший эту двойственность безнадежно погряз во грехе… Вы не связали первое со вторым, напротив, насколько я понял по некоторым примерам, усердствуете в обратном. Отдельные места в Вашей книге глубоко оскорбляют мои моральные воззрения". Чарлз положил письмо на стол перед собою. Как оно его уязвило! И Эмму обличительная речь пастора огорчила настолько, что она не разрешила прочитать письмо даже старшим детям. Уже вечером перед сном Чарлз излил жене всю боль и горечь: – До чего ж обидно читать: "Местами она восхитительна, местами же я смеялся до колик". Седжвик говорит, что пр-доброму ко мне относится, а сам выставляет меня на посмешище, вот, мол, дурак, годы корпел и напечатал нечто "в корне ошибочное и вредное". Он же знает, что я вею жизнь кропотливейше изучал естественную историю, и насмехается. Что может быть обиднее? Целых два дня обдумывал он ответ, отвергая вариант за вариантом, и наконец решил написать просто: "Думаю, не найдется человека, которому не хотелось бы огласить результаты работы, поглотившей все силы его и способности. Я не нахожу вреда в своей книге; случись в ней неверные взгляды, их вскорости полностью опровергнут другие ученые. Уверен, вы согласитесь, что истину можно познать, лишь одолев все превратности судьбы". Следующая отповедь появилась в "Эдинбургском обозрении", снова без подписи. Чарлз, Лайель, Гукер и Гексли собрались в "Атенеуме", просмотрели эту на редкость длинную статью и сообща пришли к выводу, что ни одному мало-мальски известному ученому в Англии не сохранить анонимности. Из статьи, хотя и неочевидно, следовало, что наступление на Чарлза подготовил Ричард Оуэн. Непонятно только, почему он предпочел остаться в тени. Джозеф Гукер едва заметно улыбнулся: – Трудно объяснить природу человеческую, это посложнее редкой тропической флоры или горных пород. – Статья очень ядовитая и тонкая, – заметил Чарлз. – Вреда она принесет немало. К вам, Гексли, Оуэн относится весьма критически, вас, Гукер, просто ненавидит. Только к вам, Лайель, он не питает вражды. Считайте, что вам повезло. – Наоборот, – Лайель широко улыбнулся. – Мне кажется, что меня обделили. А если подходить "весьма критически" к самому Оуэну, то не показательно ли, что за многолетнюю деятельность он не нажил ни учеников, ни последователей. Четверо друзей расположились за рюмкой шерри в глубоких кожаных креслах: пополудни они решили перекусить и зашли в клуб. Чарлз развернул "Эдинбургское обозрение" и прочитал вслух: "Весь научный мир с огромным интересом и нетерпением ждал, когда наконец господ дин Дарвин соблаговолит привести убедительные доводы в пользу своей теории, касающейся основного вопроса биологии, и познакомит с этапами исследования, способного пролить свет на эту "тайну из тайн". И вот перед нами его книга, в ней изложены основные, если не все, наблюдения автора. После ознакомления с ними наше разочарование вполне объяснимо…" Гексли не выдержал: – Это ж зависть! Явная зависть! Он весь с ног до головы начинен завистью, как чахоточный – туберкулезными палочками. Нападки участились, откровенные, злобные, не знаешь, откуда и ждать. В "Дейли ньюс" напечатали обзор, в котором Дарвина резко критиковали и уличали в плагиате у его же ученика, автора "Следов". В "Дневнике садовода" появилась весьма недружелюбная статья, удивившая Чарлза. Многие годы он печатал в этом журнале свои заметки. Затем последовал мощный залп от "Записок Эдинбургского королевского общества", невразумительная статья в "Канадском натуралисте", а в "Северо-Британском обозрении", по всеобщему признанию, просто "варварская", написал ее преподобный Джон Дане, священник пресвитерианской церкви, вообразивший себя знатоком естественной истории. "Я, право, никак не ожидал, что у моей книги окажется столько недоброжелателей! – воскликнул, обращаясь к Эмме, Чарлз. – Причем все нападки скорее теологического, чем научного, характера. Этого следовало ожидать. Впрочем, и от друзей мне тоже досталось. Аса Грей пишет, что наименее удались в книге попытки объяснить естественным отбором эволюцию отдельных органов, образование глаза, уха. Даже Гукер говорит, что естественный отбор – мой любимый конек и что уж слишком резко я его погоняю". Впрочем, Гукер выступил с объяснительной статьей в "Дневнике садовода". Тот же Аса Грей сначала расхвалил книгу в "Американском журнале науки и искусств", а потом написал обстоятельный, но весьма колкий отзыв для лондонской "Тайме", затем последовала публикация в "Журнале Макмиллана". Томас Уолластон весьма нелестно написал о книге в "Анналах естественной истории", искусно, но предвзято истолковав выводы Чарлза. Самюэль Хотон, некогда расправившийся с работой Дарвина и Уоллеса в "Журнале Линнеевского общества", выступил с резкой критикой книги в "Записках Дублинского естественноисто-рического общества". Совершенно нежданно о книге высоко отозвался "Английский пастырь", хотя автор очень уж заносчиво отнесся к теории естественного отбора. А в противовес этому престарелый Дж. Э. Грей, крупный зоолог, работавший в Британском музее, писал: "Вы лишь повторили теорию Ламарка, с ней Лайель и иже с ним не могут смириться уже двадцать лет. Но стоило Вам, именно Вам, слово в слово высказать те же взгляды, и в лагере Лайеля их приняли. Смехотворное непостоянство!" И книгу, и самого автора проклинали и предавали анафеме все проповедники, начиная с севера – в Глазго, кончая югом – в Плимуте. Он прославился едва ли не в одночасье, хотя слава приносила не только лавры, но и тернии, По всей Великобритании шли яростные споры, причем зачастую спорщики и в глаза не видели самой книги. Чарлз получил восторженное письмо от именитого священника и литератора Чарлза Кингсли, только что назначенного духовником королевы Виктории: "Дорогой сэр! Позвольте поблагодарить Вас за присланную книгу – такой чести я не ждал. Из всех ныне здравствующих естествоиспытателей Вы для такого натуралиста, как я, непререкаемый авторитет и учитель, и подарок Ваш подвигнет меня на более тщательные наблюдения и неспешные выводы. …Благоговею и трепещу перед каждой страницей: столь велик вес многочисленных фактов и Вашего имени, да и чутье подсказывает, что, окажись Вы правы, мне впору отказаться почти от всего, во что я верил и о чем писал в своих работах. Впрочем, не мне судить. Да будет истин бог, а все смертные – лживы. Да познаем мы сущее, отважимся пойти по коварному пути споров и сомнений, минуем все топи и преграды. Вдруг и случится нам узреть его…" Дарвина поддержал также каноник Броди Иннес из Дауна, оставшийся верным другу; настроен он был хоть и мрачно, но воинственно. Он отклонил всякие попытки прихожан вызвать споры вокруг книги. Иннес навестил Чарлза в Даун-Хаусе и после легкого ужина за бокалом вина рассказал: – Еще до знакомства с вами, мистер Дарвин, я публично высказывал мнение, что естественная история, геология и вся наука в целом не должна в своем поиске опираться на Библию, что природа и религия идут параллельно, нигде не сталкиваясь. Чарлз согласно кивнул и протянул Иннесу оскорбительный памфлет какого-то церковника. Тот лишь рассмеялся, прочитав выдвинутые обвинения, однако, взглянув на Чарлза, осекся. – Неужели, мистер Дарвин, вы огорчились? – Весьма. Я никогда не позволял себе нападок на церковь и священников. Почему ж они поносят меня? – Боятся. Вдруг из-за вашей книги лишатся своих теплых местечек в приходах. Когда Чарлз дал волю своему негодованию в присутствии Гексли, тот попытался утешить: – Да вы только-посмотрите, сколько пишут о "Происхождении"! И всякая, даже самая злопыхательская, статья влечет новые и новые споры. Чарлз прожил бы и без такой популярности. Ветры критики круто меняли направление: то нагоняли грозовые тучи, то стихали, и выглядывало солнце, то вновь налетал ураган – так же непредсказуемо менялась погода, когда Чарлз путешествовал на "Бигле". От качки по теологическим и научным волнам его уже мутило. Как не хватало ему сейчас уединенной каюты с картами и гамака – лежишь в нем растянувшись, жуешь изюм или галеты, а корабль то вздымается, то опускается на волнах. Книга уже переводилась на французский и немецкий – Чарлз безмерно радовался. У американского издателя Эпплтона первое издание расходилось быстро: он выпустил две с половиной тысячи экземпляров, в два раза больше, чем Джон Мэррей. "Американцы – люди отчаянные", – думал Чарлз. Он еще больше укрепился в этом мнении, когда получил от Эпплтона чек на двадцать два фунта стерлингов, он не ожидал, что издание книги за рубежом принесет прибыль. Мэррей доверительно сообщил Лайелю, что только за последние двое суток продано пятьдесят экземпляров "Происхождения видов". На вокзале у моста Ватерлоо человеку, справлявшемуся о книге, пришлось отказать – тираж распродан, ждите следующего. Сам книготорговец не читал "Происхождения", но, судя по отзывам, книга отменная. Чарлзу казалось, что и его самого, и книгу ругают и обвиняют раз в сто чаще, чем хвалят. Доказательство тому – письма. Почти все корреспонденты читали хотя бы отдельные славы, и ни один не остался безучастным. Неужто поносить более естественно, чем поощрять? Выдержать такую публичную порку помог не кто иной, как Лайель. Он внушил Чарлзу нехитрую истину: "Напрасно убеждать современников. Вас поймет грядущее поколение. Сейчас людей отпугивает Ваше противостояние богу и церкви. Ополчись Вы против всей Британской империи, Вам бы и то сопутствовала куда большая удача". С тех пор как он стал известен на всю страну, Чарлз чаще наведывался в Лондон – нужно разведать обстановку в разных научных обществах: в Королевском, Линнеевском, Зоологическом, Энтомологическом, Королевском географическом, Геологическом. И разведать, явившись туда лично. Лишь Энтомологическое общество официально выступило против него, большинство же коллег считало, что оригинальные идеи Чарлза предстоит изучить и оценить. Зто ли не наглядный пример поддержки ученых. Те, кто лишь упоминал о книге, обещали непременно прочитать и поздравляли: серьезный научный труд, а так популярен в широких читательских кругах! Те, кто вообще не ознакомился с книгой, относились к Чарлзу по-прежнему. Возвращаясь из клуба "Атенеум" Чарлз поделился с Лайелем: – Не любят меня, но и неприязни у них нет. Меня это вполне удовлетворяет. В конце зимы и ранней весной в Даун-Хаусе Чарлзу не было одиноко. Навестить любимого, хотя и "заблудшего" ученика приехал Джон Генсло. Вместе они бродили по лесу, собирали образцы редких видов мха и папоротника. – Все хорошо в Кенте, не хватает лишь кембриджшир-ских болот, какая там богатейшая фауна, будто изо всех уголков земли собрана. Всегда я был заядлым натуралистом, но только в Кембриджшире вы привили мне научный интерес. Генсло было в ту пору шестьдесят четыре года. Седой как лунь, с запавшими щеками – и все же Чарлз любовался им: беспредельно добрый, готовый отдать последнее, праведный. В мире, где царит суета и вражда, такие люди уже в диковинку. Генсло помог Чарлзу обрести душевное равновесие – ураганы налетали один за другим, и непросто устоять перед ними. Чарлз ушам своим не поверил, услышав, что глава колледжа Святой Троицы в Кембридже доктор Уильям Уивелл не разрешил держать в библиотеке "Происхождение видов". – Двуличие человеческое для меня непостижимо. Он запрещает мою книгу в крупнейшем университете – неслыханное злодеяние – и тут же пишет мне дружелюбное письмо, дескать, хоть в свою "веру" вы меня и не обратили, нов книге столько убедительных идей и фактов, что выступать против нее нельзя, ибо всякое расхождение во взглядах надлежит тщательно проверить: затрагивает ли оно суть или лишь метод. Генсло покачал крупной головой и добавил: – Почему б тогда не доверить самим студентам эту "тщательную проверку"? Любой запрет не вечен, л.а и оборачивается против себя же. Непременно обсужу книгу со своими студентами. – Как-то мои старинные приятели по колледжу Христа восприняли столь позорное поведение их бывшего однокашника? В выцветших голубых глазах Генсло вспыхнул огонек. – По-философски. Даже с гордостью. Кстати, почему бы вам не навестить альма-матер? – Уже двадцать три года прошло с тех пор, как мне присвоили степень магистра. – Скоро Адам Седжвик будет читать всему университету лекцию с критикой "Происхождения". Вот бы и поехали. Кому, как не вам, его опровергать? Чарлз ужаснулся при одной лишь этой мысли. – Духу не хватит защищать свои взгляды на людях. Мне это удается лишь в кабинетной тиши. – Что ж, тогда выступлю я, – проговорил Генсло. Эмма особенно радовалась, что у них гостят Лайели. С Мэри она подружилась, когда жила три с половиной года на Аппер-Гауэр-стрит, а Лайели – по соседству, на Харт-стрит. По окнам Даун-Хауса косо хлестал дождь. Дарвин усадил Лайеля за бюро четыре года назад за ним работал и он сам, а тот же Лайель и Гукер побуждали его не мешкая приняться за работу и скорее ее напечатать. Сейчас Лайелю уже шестьдесят два, поредели волосы, зато большие глаза и волевой рот по-прежнему молоды. Лайель был одержим новыми планами. – Решено, Дарвин. Напишу книгу о родословной человечества. Назову, пожалуй, так: "Геологические свидетельства древности человека". Чарлза весть и обрадовала, и ошеломила. – Слава богу. Прямо гора с плеч! Вашу смелость я только приветствую. Не сомневаюсь, весь белый свет всколыхнется от вашей книги. И ужаснется ею. Вы, помнится, в этой же комнате предостерегали меня: писать о человеке опасно. По-моему, сейчас время вернуть вам сторицей ваши же предостережения. – Я помню о всех опасностях. Книга эта станет моей последней вехой на пути в ад. Разве что вы защитите и любезно согласитесь прочитать всю рукопись. Чарлз посуровел. – Без сомнения, человек относится к той же категории, что и животные. Наши предки жили в океане, у них был плавательный пузырь, мощный хвост плавник, несовершенный череп, и, несомненно, они – обоеполые. По душе ли вам родословная человека? Когда приезжали Джозеф Гукер и Томас Гексли, в Даун-Хаусе наступал праздник. Жены ученых делили одни и те же заботы и радости. Такой великой созидательной троицы, как их мужья, не сыскать во всем британском научном мире. Они смело докапывались до первоистоков природы, открывая на пути все новые ее тайны. В работе они себя не щадили, посему часто болели, им требовался уход и забота. Богоборческие идеи всех троих пагубно отражались на семейных отношениях. Все трое черпали силы в своем вдохновении. Раннее весеннее утро. Нежаркое еще солнце освещает первые робкие цветы на клумбах. Трое ученых в гостиной склонились над столом. Заговорил Гукер: – По-моему, скоро всем опротивеет шакалий вой в ваш адрес, Чарлз, и у вас появится много сторонников. Сейчас многие ополчились на вас отнюдь не из принципиальных соображений, вскоре они будут вас так же поддерживать. Оуэн, несомненно, изрядно подорвал свою репутацию в глазах тех, кто пишет и мыслит самостоятельно: будь то его оскорбительный выпад против Гексли или подлость по отношению к вам. Гукер заблуждался, он заглядывал слишком далеко в будущее. А пока его вступительная статья к "Флоре Тасмании", некогда благожелательно встреченная критикой, всячески замалчивалась – враги Чарлза сговорились никоим образом не упоминать о ней, ибо отдельные ее положения поддерживали идеи естественного отбора. – До чего ж мелочны все нападки! – воскликнул Чарлз. – Каждая из них еще одно подтверждение ценности моей работы. Поэтому нельзя отчаиваться. Я верю, придет время, хотя я до него не доживу, и на генеалогическом древе жизни на земле обозначится каждая истинная веточка. И все трое, захватив трости, вышли в сад и направились к Песчаной тропе совершить по традиции семь кругов по опушке темневшего вдалеке леса. Шагали слаженно, в ногу. Заговорил Гексли, в голосе его звучала напористость и убежденность. – Сейчас в спорах верх одерживают не логические доводы, а субъективные факторы. Хочешь, чтобы тебя поняли, – пускай в ход кулаки. Смешно сказать, но и наши критики начинают переругиваться. Обвиняют друг друга: не тем, мол, оружием сражаются – И все же, – с достоинством заметил Дарг – неприятно, когда тебя до такой степени ненавим и, как Оуэн. В Лондоне говорят, он извелся от зависти, еще бы: только о моей книге и говорят. Не понимаю, как может он завидовать ученому, стоящему неизмеримо ниже, чем он сам. Как говорит Джон Генсло, "вражда одного естествоиспытателя с другим так же недостойна, как и гонения одной секты на другую". В то время как Ричард Оуэн, прячась под маской анонимности, опубликовал гнусный пасквиль в "Эдинбургском обозрении", появились искренние восторженные отзывы от физиолога Уильяма Карпентера в "Национале" и честное, непредвзятое мнение профессора палеонтолога Ф. Ж. Пиктэ, напечатанное в женевской "Всемирной библиотеке", которое со временем пробудит интерес к книге Дарвина во Франции и Германии. Пришло хвалебное письмо от Алфреда Уоллеса из Малайзии – книгу он дочитывал там. Чарлз поделился с друзьями: – Уоллес пишет непритязательно и, что меня восхищает, без намека на зависть или уязвленное самолюбие. Каждый сходит с ума по-своему. Так и критики Чарлза: Самюэль Хотон из Дублина и Уильям Гарвей, профессор ботаники из колледжа Святой Троицы, совсем было убедили его, что толковать факты он не умеет. Но затем, узнав, что сам великий Генри Томас Бокль, автор "Истории английской цивилизации", высоко отозвался о книге, Чарлз воспрянул духом. Бостонский "Христианский исследователь" поместил обстоятельный и благожелательный обзор. Зато "Журнал Фрэзера" неуважительно отозвался о логическом мышлении вообще всех ученых-натуралистов! Но от яростных нападок Адама Седжвика, казалось, противоядия не найти. В "Наблюдателе" появилась его оскорбительная анонимка: "…В заключение хочу выразить свое отвращение к этой теории, потому что: во-первых, она сугубо материалистична; во-вторых – отказывается от индуктивного метода, единственного истинного пути в познании материального мира; в-третьих – отказывается признать высшее предназначение человека, и, следовательно, у сторонников этой теории тоже подорваны моральные устои. Я, конечно, не допускаю мысли, что Дарвин не верит в бога, хотя материализм его открыто атеиста-чен… Факты сгруппированы и связаны меж собой цепью догадок и бесконечными перепевами одного и того же в корне неверного положения. Но из мыльных пузырей каната не совьешь". Гексли возмутился: – Каково, а?! Сегодня превозносят до небес, а завтра – лицом в грязь. Чарлз нехотя улыбнулся. – Точно как на "Бигле": придем в порт – матросы пьют, гуляют, а потом расплата – боцман их плеткой-девятихвосткой угощает. "Происхождение видов" носило по штормовым волнам в основном у научных и теологических берегов. Усилиями Адама Седжвика дискуссионная буря разыгралась не на шутку. Седжвику не терпелось пустить на дно своего врага, как некогда едва не пошел на дно "Бигль", попавший в страшный ураган у мыса Горн. От Генсло Чарлз узнал, что Седжвик замышляет нанести новый удар на конференции Кембриджского философского общества. Он утверждает, что "Происхождение" – всего лишь модная книжица. Сегодня ее читают, а через неделю, через месяц появится другая. Гексли считал, что ее читают сегодня и будут читать и завтра, и послезавтра. На обвинение в атеизме Чарлз ответил в письме к Асе Грею: "Точка зрения теологов меня огорчает. Даже не знаю, что сказать. У меня и мыслейбогоборческих не было. Я признаю, что не так отчетливо вижу во всем промысел божий и дарованную нам благодать. В мире, по-моему, слишком много страданий. Не верится, что всемогущий и милосердный всевышний нарочно создал ихневмонов для единственного предназначения: паразитировать в организмах гусениц и пожирать их изнутри, а кошек – чтобы охотиться за мышами. Все вокруг, по моему разумению, развивается по определенным законам, а частности (неважно, вредные или полезные) зависят от более тонких механизмов, которые мы называем случайностью. Такое представление, разумеется, не в полной мере удовлетворяет меня. Я глубоко убежден, что человеческому разуму не объять необъятного. С таким же успехом собака могла бы рассуждать об уме Ньютона…" Аса Грей написал Чарлзу, сколь бурно обсуждается книга в Соединенных Штатах. Из "Высоких вязов" верхом прискакал молодой Джон Леббок и сообщил, что отец прочел хвалебный отзыв в "Обозрении Старого и Нового Света". – Скоро вся Европа вслед за Англией и Соединенными Штатами оценит "Происхождение". От редактора "Атенея" отец узнал, что Роберт Фицрой, некогда командовавший "Биглем", хочет выступить единым фронтом с епископом Уилберфорсом на конференции Британской ассоциации в Оксфорде и… – Стереть меня в порошок? – Вы, несомненно, примете вызов Фицроя. Леббок ускакал домой, а Чарлз опустился в кабинетное кресло и задумался, поглаживая бокал холодного лимонада – об этом позаботилась Эмма. – "Примете вызов Фицроя" – черта с два! – выругался он. В 1860 году конференция Британской ассоциации в Оксфорде обещала быть представительной. Из двух уже заявленных докладов явствовало, что не один день будет посвящен обсуждению "модной книжицы", даже недруги признавали, что это самый значительный в научном мире труд за последние годы. Оксфордский профессор Чарлз Добини, специалист по сельскому хозяйству, человек ученый и известный, приготовил доклад "О предназначении половых различий растений в свете книги мистера Дарвина "Происхождение видов". Второй доклад – Уильяма Дрей-пера, бывшего профессора химии и физиологии, ныне ректора медицинской школы при Нью-Йоркском университете, – назывался "Интеллектуальное развитие Европы и влияние на него взглядов мистера Дарвина". На конференцию приехал Ричард Оуэн. Епископ оксфордский Самюэль Уилберфорс обещал выступить непосредственно на открытии в субботу с изложением официальной позиции церкви. Уилберфорс немного знал математику и посему полагал, что разбирается во всех науках. Он считался, благодаря остроумию, одним из известнейших ораторов в Англии, везде, где бы он ни выступал, собирались огромные толпы. Естественную историю он не знал, да и не интересовался ею. Поэтому все нападки его – это ловкое жонглирование словами, искажение смысла и издевка. А слушать его будут в основном его сторонники. Спорить с ним все равно что ловить облака сачком. Чарлз понимал, что никто и не попытается возражать. Эмма посмотрела на мужа, поняла и даже пожалела: – Раз уж ты отказался поехать в Оксфорд, может, проведешь недельку на водах? У доктора Лейна в Ричмонде новая лечебница, это недалеко, всего миль двадцать… И доктор Лейн, и его супруга обрадовались Чарлзу. Он выбрал тропу для прогулок, начал принимать водные про-цедуры… И совсем занемог. Раньше, будь то в Молверне или в Мур-Парке, недомогание быстро проходило. Сейчас же пропал аппетит, замучила бессонница, одолела тоска. Он взялся было за "Тайме", которую выписывал доктор, но и газета не подняла настроения. В Лондоне городская осветительная компания устанавливает газовые фонари прекрасно, но его родному Дауну о таком мечтать да мечтать еще много лет. В районе Вест-Энда открыли новый вокзал – Чэринг-кросс, добираться до Лондона теперь быстрее. На часовой башне парламента установили тринадцатитонный колокол – Биг Бен, его звон разносился каждый час по всему Лондону. Англия вновь воюет с Китаем, тринадцатитысячная армия обстреливает из пушек Пекин. Маори – коренные жители Новой Зеландии, которых Чарлзу доводилось видеть во время экспедиции "Бигля", взбунтовались из-за земли, напали на английские укрепленные пункты, изгнали белых поселенцев из глубинных районов… Он отложил газету и взялся за два новых романа – "Мельница на Флоссе" Джордж Элиот и "Большие надежды" Чарлза Диккенса. Воздал должное и тому и другому, но сосредоточиться на чтении больше чем на пять минут не мог. Вконец отчаявшись, решил, что его предрасположенность к болезням наследственная и наверняка передалась детям. Леттингтон, садовник и возница в одном лице, довез их до "Высоких вязов" – усадьбы в четырнадцать тысяч акров: зеленые лужайки, пруды, посреди которых бьют фонтаны, обилие статуй, нисходящие галереи, неожиданные в столь строгом саду тропки, теряющиеся в буйстве июльского пестроцветья. Усадьба –продолговатое трехэтажное здание, причем потолки в гостиной и в библиотеке на первом этаже – метров шесть в высоту. Уже не одко поколение Леббоков занималось банкирским делом на Ломбард-стрит. Встретил Дарвинов Джон Леббок-младший, личность весьма незаурядная для своих двадцати шести лет. В четырнадцать лет ему пришлось прервать учебу в Итоне и заняться банковскими операциями – заболели сразу несколько компаньонов отца, сэра Джона, и тот решил понемногу передавать ведение дел сыну. Сам Леббок-старший был весьма поднаторевшим натуралистом. Сын самостоятельно изучил антропологию и археологию, начал заниматься исследованиями, написал две книги: "Доисторические времена по свидетельствам, дошедшим до нас" и "Поведение и обычаи современных дикарей". Мощный лоб, на который ниспадали курчавые волосы – Джон Леббок постоянно отбрасывал их рукой, – широко расставленные глаза, пробивающаяся бородка – таков был его облик. И он, и отец побывали на конференции в Оксфорде. Они очень интересовались письмом Гукера, хотя и самим нe терпелось поделиться впечатлениями. Леббок-младший открыл дневник и начал с предисловия: – Четверг в Оксфорде выдался солнечным; хотя иногда набегали облака, было тепло, тихо, на редкость славный денек, ничто не предвещало страшной битвы, которая вски-рости разыграется в этом милом городке. И битва грянула. Не сразу, конечно. Сначала вашего друга профессор Генсло избрали председателем секций ботаники и зоологии, затем пришлось выслушать бестолковый доклад преподобного Карпентера "Развитие естественной истории в США и Канаде". После него выступил Добини. Потом Генсло попросил Томаса Гексли высказаться по докладам. Тот отказался, видно понял, что у присутствующих чувствэ возобладают над разумом, что совершенно неправомерно, и потому бессмысленно затевать с ними обсуждение научных работ. – Не похоже на Гексли, – удивилась Эмма. – Вступать в бой ему еще не время, – вставил сэр Джон. – Потом мы выслушали от некоего мистера Даудена из Корка анекдоты о мартышках как доказательство того, что все обезьяноподобные – будь то мартышки, гориллы, бабуины или лемуры – намного уступают в умственном развитии собаке, слону и прочим. – Вот это уже, похоже, сигнал к атаке, – снова вмешался сэр Джон. – Выступил некто доктор Райт и рассказал о поведении горилл. Не успел он сесть, как на трибуне оказался Ричард, Оуэн. Поначалу медоточиво распространялся о том, что он, дескать, подходит к вопросу философски. Воздав должное смелости Дарвина – еще бы, выдвинуть такую теорию! онсказал, что ее истинность могут подтвердить только факты. И вот здесь-то он ринулся в наступление. Он пришел к выводу, что всю книгу можно считать ошибкой, доказав несостоятельность вашей гипотезы о происхождении человека от обезьяны. – Но я не выдвигал такой гипотезы! – разъярился Дарвин. – Я сознательно не касался этого аспекта. В своих рассуждениях я всего лишь писал, что в далеком будущем откроются необозримые горизонты новых исследований. И что они прольют свет на происхождение человека и его развитие. – ..Оуэн сказал, что сравнивал мозг человека с мозгом человекообразных обезьян. И мозг гориллы отличается от человеческого больше, чем от мозга низших наименее изученных обезьян. – Ну вот, настал черед Гексли идти в бой! – решил Чкрлз. – Именно! – воскликнул Леббок-младший. – Ведь Оуэну снятся лавры величайшего анатома и зоолога Англии. И вот Гексли, мальчишка по сравнению с ним, просит разрешения выступить. Он доказал полную несостоятельность тезиса профессора Оуэна о якобы большом различии мозга человека и высших обезьян, сославшись на анатомический анализ Тидемана и прочих. Далее он подчеркнул, что структуры мозга человека и гориллы близки, во всяком случае ближе, чем у высших и низших обезьян, хотя Оуэн утверждал обратное. А отличает человека от обезьяны способность говорить. Чарлз сидел и безмятежно оглядывал приусадебные холмы. У подножия пасся скот Леббоков, дальше волнистый – холмы да овраги – ландшафт Кента, Чарлз любил его не меньше, чем Мэр, Страффордшир или его родной Шропшир, где течет Северн. От третьей чашки чая он отказался, подавшись вперед нескладным костлявым телом, он приготовился слушать дальше. – Но это еще только пролог, – продолжил сэр Джон, – истинная драма разыгралась, как вам и написал Гукер, во время субботнего заседания, когда главным докладчиком выступил епископ Самюэль Уилберфорс. Он давно уже грозился "сокрушить" Дарвина, всех своих приспешников собрал. Народу набилось – наверное, с тысячу будет, не пройти, все проходы заняты, духота, женщины платочками обмахиваются, нарядные, в ярких летних платьях. Занятий в университете не было, но собралась и небольшая группа старшекурсников. Зато духовенства хоть отбавляй – заняли весь центр зала, – пришли поддержать епископа. Как Уилберфорс ополчился на вас и на Гексли, хотя тот сидел в нескольких футах! Ему аплодировали, махали белыми платочками, он воодушевился и тут же допустил просчет. Повернулся к Гексли и, высокомерно улыбнувшись, спросил: "Мистер Гексли, позвольте спросить, у вас прабабка обезьяна, что вы так рьяно отстаиваете свое происхождение?" Тут Гексли ударил себя по колену и воскликнул, обращаясь к соседу: "Ну вот, сам господь отдает его мне в руки!" Потом встал и сказал: "Не вижу ничего зазорного, если у человека прабабкой обезьяна. Куда зазорнее, если предком окажется человек, наделенный острым и гибким умом, не удовольствовавшийся успехом в своей области и посягнувший на другую, о которой не имеет понятия, научные споры он подменяет бессмысленным словоблудием и лишь отвлекает внимание слушателей от сути вопроса своей велеречивостью и умелой игрой на религиозных предрассудках". Студенты ему аплодировали, а Уилберфорса освистали. Тут начали было выступать всякие церковники и дилетанты. Но Генсло быстро осадил их: "На заседании заслушиваются лишь строго научные доклады". Так он великолепно парировал и атаку Уилберфорса. Ну а остальное вы знаете из письма Гукера, – заключил сэр Джон. – В тот вечер профессор Добини устроил прием, и говорили в основном о поединке Гексли и Уилберфорса. Кое-кто ехидничал: мол, выживет ли Гексли после такого побоища? Вице-канцлер Оксфорда встал на его сторону, сказал, что епископу воздано по заслугам. Солнце завершало свой неспешный путь по летнему небу, горизонт на западе окрасился в пурпур, переходящий в темно-синий цвет. Рассказ отнял у Чарлза последние силы и взволновал. Как ему благодарить друзей? Впрочем, благодарность им вовсе и не нужна, они ее не ждут. Разве в кругу самых близких друзей благодарят за верность и преданность? Это само собою разумеющиеся черты среди людей близких, родных. На четыре дня – с пятницы до вторника – в Даун-Хаус к Дарвинам приехали Томас и Нетти Гексли. В семье было уже трое детей. Нетти была в добром здравии и мужа, казалось, любила еще крепче, чем пять лет назад, на заре супружества. Гексли отпустил длинные волосы – темные густые пряди ниспадали сзади на воротник. Он так увлекся беседой с Дарвином об оксфордской конференции, что оба не заметили, сколько раз обошли Песчаную тропу. Чарлз отметил, что у Гексли растет уверенность в своих силах, когда он попадает в беспокойную и зачастую враждебную обстановку. "И впрямь, – размышлял Чарлз, – Томас сейчас завоевал репутацию лютого спорщика. А в научном мире приобрел авторитет: спас теорию эволюции от искажения и насмешек". В глазах Гексли прыгали довольные огоньки. Когда Песчаная тропа вывела их из тени на залитую июльским солнцем полянку, Чарлз сказал: – Вы сражались достойно. – Я же давно говорил вам, что у меня острые когти. – А подойдя к калитке, спросил: – А рассказывали Леббоки, каким шутом выставил себя капитан Фицрой на том памятном заседании? – ..Фицрой? – Джон Генсло тщетно пытался отговорить его от выступления. Старик для начала назвал вас "своим бедным другом", с коим он пять лет сидел бок о бок в кают-компании "Бигля". Потом он поведал, как вы бесконечно спорили и ссорились, отстаивая свое мнение о структуре Земли, о ее растениях и животных. Чарлз встал как вкопанный. – Да мы всего дважды за пять лет повздорили с Фиц-роем. Первый раз из-за отношения к работе, второй – к судовому гостеприимству. – Но в памяти у старика это отложилось по-иному. Он стоял на трибуне, потрясал над головой огромной Библией и призывал собравшихся внимать слову господа, а не человека; заклинал нас отринуть с ужасом те домыслы человечьи о мироздании, ибо нет ничего очевиднее Откровения всевышнего, сотворившего по своему разумению и мир, и все сущее в нем. Чарлз шел задумавшись, ему вспомнились все злоключения и опасности, выпавшие на их с Фицроемдолю. Он на всю жизнь остался благодарен капитану за то, что тот сделал из него естествоиспытателя, и всю жизнь относился к нему с благоговейным трепетом. Друзья вышли на тропинку к огороду. Гексли захотелось поднять настроение Чарлза, прежде чем они войдут в дом, и он воскликнул: – Сейчас я вам расскажу самую удачную шутку на конференции. Помните, Леббоки рассказывали, как я ответил Уилберфорсу, что для человека нет ничего зазорного иметь прабабкой обезьяну, куда зазорнее, если в предках окажется… – Да, да, помню. – Так вот, по всей Англии разошлись мои слова, но в чуть измененном виде. Вот какой афоризм мне припи сывают: "Уж лучше иметь прабабкой обезьяну, чем епископа". Чарлз в изумлении остановился на садовом крылечке. Потом от души расхохотался, грубовато обнял своего защитника. – Дорогой мой Гексли, да мы оба навсегда войдем в историю уже благодаря только одной этой столь прелестно истолкованной фразе!Я как азартный игрок: люблю дерзкие предприятия
В 1860 году Даун-Хаус превратился в осажденную крепость. Чарлз распорядился, чтобы в его кабинете между окон под углом к стене приладили зеркало, и теперь ему было видно, кто приближается к дому. Ему незачем было каждый день посылать на почту за письмами; когда их скапливалось слишком много, какая-нибудь добрая душа доставляла их Чарлзу прямо домой. А писем с каждым месяцем приходило все больше и больше – многие от родственников. Недаром в семье Дарвинов так любили стишок: Письма шли хоть каждый день нам: Рады мы советам дельным. Но больше всего Чарлзу писали люди незнакомые. Он уже давал себе слово, что станет читать только письма друзей, но сдержать его не мог – это было не в его характере. Поэтому он читал все письма, даже если в них метали громы и молнии в его адрес. Эмма и дочери Генриетта и Элизабет тоже внимательно просматривали почту. Теперь Чарлз чувствовал себя видавшим виды бойцом. Лишь иногда он позволял гневу, который скрывался за внешней любезностью, выплеснуться наружу кипящей лавой. Ирландскому ботанику Уильяму Гарвею, который решил во что бы то ни стало опровергнуть Дарвина с его "Происхождением видов" и в каждом письме к Чарлзу приводил псевдонаучные аргументы, он наконец ответил: "Мне сдается, что вы скорее согласитесь принять рвотное, чем перечитать хоть одну главу моей книги". – Удалиться бы мне в райские кущи, где не гремят гневные голоса! воскликнул как-то Чарлз в кругу семьи. Он сидел в гостиной, придвинув кресло-качалку к камину и грея колени. – А как туда попасть, я знаю. Надо написать такую работу по естественной истории, которая не вызовет никаких споров. Вон хоть об изменении животных и растений при одомашнивании. Или труд об опылении орхидей пчелами, бабочками и другими крылатыми насекомыми. Насколько мне известно, еще никто не утверждал, что орхидеи опыляются пчелами. – Так не слишком ли это смелое предположение? – спросила Эмма. Улыбка Чарлза напоминала гримасу. – Я как азартный игрок: люблю дерзкие предприятия. Осенью Джон Мэррей распродал семьсот экземпляров второго издания "Происхождения", теперь у него оставалось только триста пятьдесят. Чарлз быстро вносил правку в готовящееся третье издание. Будучи в Лондоне, он навестил Лайеля. Ноябрьская изморось, казалось, вот-вот перейдет в дождь со снегом. Лайель, протянув к горящим в камине углям ноги в чулках, что-то диктовал своему новому секретарю. Когда горничная провела Чарлза в кабинет, Лайель посмотрел на него сердито. – Черт вас подери, Дарвин! Оксфордский профессор геологии Джон Филлипс пытается разгромить вас с помощью цитат из моих "Основ геологии". Придется мне в следующем издании кое-что изменить: доказать, что вы добрались до истины, а я застрял на полпути. Чарлз робко улыбнулся. – Гукер говорит, что вы единственный философ, который в шестьдесят лет, несмотря на свою солидную репутацию, решится изменить взгляды. Выслушав этот двусмысленный комплимент, Лайель что-то проворчал, подошел к письменному столу и стал показывать Чарлзу кремневые орудия, которые он нашел в долине Соммы возле Амьена и в долине Сены. – Эти орудия говорят о том, что род человеческий существовал уже в то время, когда по земле ходили сибирские носороги и другие ископаемые животные… Но вы все о чем-то своем думаете? Чарлз сел в кресло возле камина и тихо сказал. – Хочу с вами посоветоваться. Мне пришло в голову, что хорошо бы в третьем излянии "Происхождения" сделать ряд примечаний, которые будут касаться только ошибок моих критиков. – Ни в коем случае. С чего это вы решили обессмертить своих противников? Чарлз задумчиво покачал головой. – Вы, конечно, правы. Я ведь могу просто добавить по лишнему абзацу с ответами на возражения. Это займет страниц двадцать – не больше. После диспута в Оксфорде о теории эволюции заговорили повсюду. В английском языке появилось новое слово – "дарвинизм". Оно распространилось по всей Великобритании, а затем стало известно и в научных кругах США и Европы. В Германии выходило уже второе издание "Происхождения". Один немецкий натуралист, посетивший Даун-Хаус, рассказал Дарвину, что немецкие ученые в восторге от теории естественного отбора, но боятся потерять место, если ее поддержат. Книга вышла и во французском переводе. Из Голландии сообщали, что "Происхождение" вызвало живой интерес и там. По предложению Чарлза Аса Грей издал отдельной монографией три свои статьи, опубликованные авторитетным "Атлантик мансли". Двести экземпляров он послал Дарвину, поскольку Чарлз тоже вложил деньги в издание. Дарвин разослал эти двести экземпляров газетам, журналам и научным изданиям. Когда в декабре 1860 года "Журнал Макмиллана" обвинил Джона Генсло в том, что он – приверженец теории эволюции, Генсло опубликовал в этом же журнале выдержки из письма, которое он получил от преподобногр Леонарда Дженинса. В этом письме Дженинс признавал, что хотя он не разделяет взглядов Дарвина полностью, но все же вполне допускает, что "многие из небольших групп животных и растений могут иметь общих предков, существовавших в далекие времена". Чарлз торжествовал. – Теперь все узнают, – объяснил он Эмме, – что наше научное семейство становится все более дружным. Между тем его "научное семейство" часто одолевали болезни, вызванные чересчур усердной работой. Часто хворал Гукер, Гексли слег от переутомления, к которому прибавился еще и грипп, – ему пришлось пролежать в постели десять дней. Лайели уехали в Баварию – тоже поправить здоровье. А Чарлз переходил от одной темы к другой, как пчела, перелетающая от цветка к цветку и опыляющая орхидеи, которыми он, кстати, в последнее время занялся всерьез. Он изучал наземные орхидеи, которые росли в Кенте и которые Гукер присылал ему ич Ботанического сада в Кью. Ему помогли добыть орхидеи из Перу, Эквадора, Бразилии, с Мадагаскара и Филиппин, из районов, расположенных на высоте от четырех до восьми тысяч футов над уровнем моря, где никогда не бывает морозов и очень большая влажность. В джунглях Бразилии только на одном дереве может расти тридцать – сорок видов орхидей. Особенно заинтересовали Чарлза чашелистики и пыльца, предохраняемая либо лепестками, либо зонтиком над цветком. В сентябре Чарлз увез семью на три месяца в Истборн, потому что Генриетта заболела. Ночами, когда Чарлзу вместе с Эммой не нужно было дежурить у постели больной, он изучал странное поведение растений семейства росянковых, которыми прежде биологи занимались мало. Иногда Чарлзу начинало казаться, что это насекомоядное растение на самом деле животное и только прикидывается растением – так ловко его листья ловили мух и других насекомых и пожирали их. Он узнал, что в болотистых районах Северной Америки встречается растение, которое называют "венерина мухоловка". Стоит добыче коснуться щетинок, растущих на круглых листьях, как листья захлопываются подобно медвежьему капкану. Пузырчатка и другие насекомоядные растения действуют по образцуу мышеловки: рачки и даже маленькие лягушки случайно заплывают в его полые пузырьки через отверстие с открывающимся клапаном и таким образом попадают в ловушку, а растение их пожирает. Непостижимый мир! Чудесный мир! Занявшись изучением пестиков и пыльцы примулы и первоцвета, Дарвин обнаружил, что опыление этих растений производят насекомые. Своим детям он объяснял: – Наблюдать за многообразной жизнью природы – настоящее наслаждение, писать о ней – настоящая пытка. И все же, если не записать эти наблюдения, то как еще можно запечатлеть чудеса эволюции, жизненные циклы птиц, животных, цветов, растений, человека? Когда Дарвины вернулись в Даун-Хаус, Чарлза заинтересовал вопрос о происхождении современной собаки вследствие эволюции некоторых разновидностей волка, шакала и других видов. В этой области было еще много неисследованного. Друзьям, которые в своих многочисленных письмах спрашивали, что он сейчас поделывает, Чарлз отвечал: "Вожусь с собаками". С возрастом время для Чарлза будто уплотнилось. Раньше ему казалось, что сменявшие друг друга месяцы распадаются на отдельные события, теперь же он философски воспринимал год как нечто целостное и упорядоченное. Сначала он решил написать для третьего издания "Происхождения" исторический очерк страниц на тридцать и отдать в нем должное натуралистам, которые в своих трудах подготовили почву для возникновения теории эволюции: Ламарку, Жоффруа Сен-Илеру, У. С. Уэллсу, фон Буху, Герберту Спенсеру и современникам Чарлза – Ричарду Оуэну, автору "Следов", которым все еще считался Роберт Чеймберс, Алфреду У атласу. Он обошел молчанием своего деда Эразма Дарвина, так как боялся обвинений в том, что он задним числом разводит семейственность в науке. Этот обзор должен был подготовить читателя к труду самого Дарвина. Томас Гексли тоже стремился к серьезной работе. Чтобы отделаться от грустных мыслей, вызванных смертью его четырехлетнего первенца, он сделался главным редактором "Журнала естественной истории" и работал не покладая рук. Первый номер журнала, вышедший под его руководством, он привез Чарлзу в Даун-Хаус. В научном мире Англии Гексли стал признанным авторитетом. Будучи секретарем Геологического общества, он помогал Лайелю, работавшему над "Древностью человека", в подборе данных по анатомии, читал рабочим лекции о "месте человека в животном мире", он еще подумывал и о двух солидных университетских постах. Чарлз прочел в журнале статью Гексли "Человек и низшие животные" и похвалил ее, а потом заметил: – А я все вижу в черном цвете. Вот и сейчас боюсь, что неискушенный читатель не сможет по достоинству оценить вашу статью. – Так ведь и ваши книги не проще, – парировал Гексли. – Однако вас это, по-моему, не смущало. Гукера очень волновал вопрос о преемственности. Он работал над первым томом своей энциклопедии семеноносных растений мира "Генера плантарум", а почти все оставшееся время ходил с отцом по Ботаническому саду Кыо, тщетно пытаясь помочь ему в управлении садом, – сэр Уильям Гукер мыслил уже не так ясно, как прежде. Приехав к Гукеру, Дарвин взмолился: – Да отдохните вы хоть немного! – А я отдыхаю. Когда сплю. Только это напрасная трата премоаи. – Знаю. Да и не мне вам советовать: я и сам ни минуты не могу сидеть без дела, хочу я этого или не хочу. Только за работой и чувствую себя человеком. А слово "отдых" для меня пустой звук. Самый старший из них, шестидесятитрехлетний сэр Чарлз Лайель, писал наиболее трудную и, по мнению Чарлза, наиболее значительную свою книгу "Геологические доказательства древности человека". Он внимательно изучал подготовительные материалы, которые собирал всю свою жизнь, посвящал целые разделы скоплениям раковин, обнаруженным в Дании, раскопкам в Египте, кремневым орудиям, морским раковинам, определению возраста ископаемых останков человека в Натчезе. К удивлению Чарлза, Лайель не прислал ему ни одной главы, ни одной страницы нового труда, хотя еще год назад спрашивал, не согласится ли Чарлз с ним ознакомиться и высказать свои соображения. Да и при встречах Лайель ничего не говорил о своих выводах. Чарлз гадал, почему его друг изменил решение, однако молчание Лайеля его не пугало. Он не сомневался, что Лайель в своей работе непременно докажет: в процессе эволюции человека постигла участь прочих живых существ, – сам Чарлз не стал высказывать эту мысль на страницах "Происхождения видов". Лайель же благодаря своему дворянскому званию и заметному месту в научном мире страны мог коснуться этой темы и при этом избежать того негодования, который навлек бы на себя Чарлз. Как-то Дарвин удостоил Лайеля высшей похвалы: – Ваша книга будет великим исследованием, но поначалу она ужаснет мир сильнее, чем мое "Происхождение". – Я вовсе не стремлюсь ужасать мир, – ответил Лайель с некоторым неудовольствием. – Моя цель – дать людям знания. Факты не подлежат сомнению, а до моих выводов никому нет дела. Все, что я считаю нужным сказать о вас, я скажу в последней главе. На новогодние каникулы из школы приехали домой все пятеро сыновей, так что 1861 год начался весело. Прогулявшись по Песчаной тропе и пообедав, Чарлз растянулся на кушетке в гостиной и взялся за книгу. Он читал "Путешествие по далекой стране" Ольмстеда – яркое повествование о положении рабов Америки и их жизни в южных штатах. Интерес Чарлза к этой теме усиливался еще и тем, что, по сообщениям лондонской "Тайме", страсти вокруг рабовладения грозили перерасти в гражданскую войну между Севером и Югом. – Прямо не могу поверить этим статьям в "Таймсе", – возмущался Чарлз. – Такая война равносильна самоубийству. Должны же обе стороны это понять! – По логике вещей, должны, – с сомнением сказал Уильям. – Но разве правительства руководствуются логикой? Работа Чарлза над "Изменением домашних животных и культурных растений" продвигалась. Он чувствовал, что рукопись снова получится чересчур большой и обстоятельной. Он уже закончил изучение свиней, крупного рогатого скота, овец и коз из разных частей света, их происхождения и результатов их разведения в контролируемых условиях. Но его интересы были прикованы к орхидеям; Оказалось, что их опыление происходит столь диковинным образом, что писать об этом было настоящим наслаждением. Чарлз не переставал удивляться той поразительной изобретательности, с какой проходила эволюция в семействе орхидных, и он работал без устали по нескольку часов в день. Воодушевление его росло так же быстро, как и стопа исписанных листов на его рабочем столе. Он так осмелел, что даже рискнул выдвинуть гипотезу, которую пока не мог доказать. Длина нектарника звездной орхидеи, которую ему прислали с Мадагаскара, составляет целый фут, однако он заполнен нектаром лишь на полтора дюйма. Как же пчелы, мотыльки и другие насекомые ухитряются добраться до нектара? И Дарвин пришел к выводу, что это под силу только бабочке, у которой длина хоботка достигает одного фута. Правда, бабочку с таким хоботком никому видеть не приходилось, но это не важно. Не будь такой бабочки, и звездной орхидеи с Мадагаскара уже давно не было бы. "Вестник Линнеевского общества" согласился опубликовать монографию. Чарлз съездил в Лондон, пообедал в Линнеевском обществе вместе с Томасом Беллом, который в свое время готовил том о рептилиях для "Зоологических результатов путешествия на корабле "Бигль", и последним поездом вернулся домой. Эмма ждала его. – Ну, как прошел вечер? – Я так не привык обедать на стороне, что нынешний обед мне понравился. – Вот и хорошо. А то ты, кажется, совсем превратился в затворника. Вскоре Дарвин узнал, что в возрасте сорока семи лет от паралича умер Симе Ковингтон. Неожиданная смерть сподвижника, с которым у Чарлза были связаны воспоминания о путешествии на "Бигле", об учебе в Кембридже, о жизни на Мальборо-стрит, опечалила Дарвина. Время от времени они обменивались письмами; как-то Чарлз послал Симсу новую слуховую трубку, а тот собрал для Чарлза большую коллекцию морских уточек на разных участках австралийского побережья. А вслед за этим до Чарлза дошла весть о том, что Джозеф Гукер и Френсис находятся в Хитчеме у постели умирающего Джона Генсло. Гукер тяжело переживал предстоящую утрату: для него Генсло был не только ботаником, священником и тестем, но прежде всего – любимым другом. Чарлз тоже вознамерился отправиться в Хитчем, чтобы проститься с умирающим. – Это мой долг по отношению к Генсло, – объяснил он жене. До Хитчема было около сотни миль. Чтобы попасть туда, надо было добираться экипажем до Бекенгема, оттуда – поездом до Лондона, затем в почтовой карете – до Ипсуича, а там нанять кэб до Хитчема – двенадцать часов в пути. У Дарвина же регулярно через три часа после еды начинались приступы рвоты. Да и будет ли в маленьком городишке Хитчеме гостиница? Чарлз никак не мог решиться на такое путешествие. Почему-то он ощущал ужасную слабость. Гукеру он написал: "Если я тотчас же не приеду, если желание Генсло повидать меня было не просто пустым капризом, я никогда себе этого не прощу". По всей видимости, Генсло посчитал это письмо прощальным. Умер он в середине мая. Чарлз места себе не находил от угрызений совести. Но словно само небо помогло ему от них избавиться. Преподобный. Леонард Дженинс начал писать биографию Генсло. Не согласится ли Чарлз написать о своем знакомстве с Генсло в первые годы учебы в Кембридже? Чарлз сейчас же выполнил эту просьбу: "Помогая всем молодым натуралистам, он выказывал редкостную непосредственность, чуткость, искренность. Он обладал удивительным даром: в общении с ним молодежь чувствовала себя очень непринужденно, несмотря на все наше благоговение перед его огромными знаниями". Рукопись Дженинса должен был опубликовать на будущий год Джон ван Хорст в издательстве "Патерностер роу". Значит, имя преподобного Джона Генсло сохранится в истории. И Чарлз успокоился. Чарлз получил письмо от своего почитателя – ботаника Хьюэтта К. Уотсона, который собирался писать рецензию на третье издание "Происхождения видов". Уотсон упрекал Чарлза в том, что в первых четырех абзацах предисловия к новому изданию он сорок три раза повторяет слова "я", "мне", "меня", "мой". – Ох уж мне это несчастное слово-выскочка "я"! – простонал Чарлз, которого Эмма и дети допекали насмешками. – Неужели я и впрямь такой бахвал? – Нет, дорогой, скромности тебе не занимать, – сухо отвечала Эмма. Недаром же ты считаешь, что, кроме тебя, никто на свете не знает, как возникли виды. У Нетти Гексли родился еще один сын, но она все еще не могла оправиться после смерти своего первенца. Эмма уговорила ее взять с собой всех троих детей и погостить две недели в Даун-Хаусе. Хью Фальконер, который когда-то заявил Чарлзу: "Вы один принесете столько вреда, что его не смогут исправить десять натуралистов", путешествовал сейчас по Италии и Германии. Чарлзу он писал: "Повсюду только и разговоров что о Вашей теории и Вашем великолепном труде. Конечно, отзывы о них самые разные, поскольку они зависят от взглядов спорящих. Но честность Ваших намерений, грандиозность замысла, убедительность примеров и смелость выводов у всех вызывают огромное восхищение". Чарлз по-прежнему наблюдал за опылением орхидей и писать о них продолжал с наслаждением. Ну разве не удивительно, что пыльца одного цветка, которой у него хоть отбавляй, идет на опыление всего лишь двух цветков этого же вида. Чарлз изучил все разновидности орхидей, какие только ему удалось добыть, в особенности орхидей Coryant-hes, и узнал, какими ухищрениями сопровождается опыление орхидей в Англии и других странах, каким образом насекомые переносят пыльцу с одного цветка на другой. С помощью лупы и перочинного ножа он исследовал крупицы пыльцы на некоем подобии мешочка с ароматной густой жидкостью, запах которой и привлекает пчел и других насекомых. Чарлз наблюдал, как в поисках одурманивающей жидкости пчела проникала внутрь цветка, набирала нектар и, выползая из крошечной чашечки, собирала на спинку пыльцу. Затем она подлетала к другому цветку, забиралась в него и ненароком оставляла пыльцу там. Углубления в лепестках у разных видов орхидей были разными: то широкими, то УЗКИМИ, ТО небольшими, то глубокими, поэтому пыльцу каждой орхидеи могли разносить насекомые лишь определенного вида. – Как повозишься с этими орхидеями, так кажется, что цветы куда изобретательнее человека, – заметил Чарлз. – А что бывает с теми орхидеями, которым не удается заманить насекомых в свою поилку? – поинтересовался Уильям, который на летние каникулы приехал из колледжа Христа домой. – Они вымирают. В июле Генриетта опять занемогла, и Эмма решила, что ей обязательно следует месяца на полтора уехать на море. Хотя Чарлз был рад этой поездке, морока предстояла немалая: надо было перевезти шестнадцать человек и без малого тонну багажа. Они отправились в Торки, курорт на побережье Ла-Манша в юго-восточной части страны. Там они сняли домик, из окон которого открывался великолепный вид на залив. Здоровье Генриетты почти сразу же пошло на поправку. Отдых на побережье всем пришелся по душе. Мальчикам скучать не приходилось: к Дарвинам часто приезжали гости. Сначала к ним наведался Эразм, а потом Хоуп, дочь Генслея Веджвуда составила Генриетте компанию. В начале августа приехал доктор Генри Холланд. Понаблюдав за Генриеттой пару дней, он сказал родственникам: – Этти подвержена ипохондрии. Откуда она у нее берется – ума не приложу. Чарлз давно уже боролся с подозрением, что опубликованная двадцать два года назад статья о Глен Рое содержала ужасающие ошибки. Лайель был согласен с Агассисом, который пытался опровергнуть утверждение Чарлза о том, что дороги и скальные уступы были когда-то побережьем, поднявшимся до нынешнего уровня. Но Чарлз, заупрямившись, ничего и слушать не хотел. Теперь же он познакомился с человеком, который отправился в Шотландию, чтобы разрешить этот спор, и возвратился с материалами, неопровержимо доказывавшими, что скальные уступы и дороги возникли вследствие того, что доступ воды в озеро был прегражден ледником. – Меня разбили в пух и прах, – по секрету сообщил Чарлз жене. Э-хе-хе. Ничего, зато эта ошибка посбила с меня спесь. – Конечно, дорогой. Денька на два. Во время очередной поездки в Лондон Чарлз признался в своей ошибке Лайелю. В лучах августовского солнца они шли по набережной Темзы от моста Ватерлоо у Черинг-Кросса мимо Парламента и Вестминстерского аббатства. – За все эти годы одна серьезная ошибка? Мой дорогой Дарвин, вы просто мальчишка. От скольких ошибок вам еще придется открещиваться, когда доживете до моих преклонных лет! Работа исследователя без них немыслима. – Вы – само великодушие. А как продвигается "Древность человека"? – Из-за нее я и сам начинаю чувствовать себя древним стариком. Чарлз переменил тему. – По-моему, вы с Асой Греем считаете, что я слишком принижаю роль верховного разума в ходе эволюционных изменений. Лайель кивнул и добавил: – Сэр Джон Гершель как-то в разговоре о вашем "Происхождении" заметил, что никогда не следует забывать о высших законах провидения. – Однако ни Гершель, ни прочие астрономы не станут утверждать, что путь каждой планеты, кометы и падучей звезды предначертан всевышним. – Так оно и есть, – с заметной резкостью ответил Лайель. – Вы-то, наверно, не возьметесь логически доказать, что хвост дятла приобрел свою нынешнюю форму в результате изменений, свершенных волей "провидения"? – настаивал Чарлз. – Станете ли вы, не покривив душой, убеждать меня, будто мой нос приобрел такую форму стараниями "божественного разума"? Лайель рассмеялся, и к нему вернулось хорошее настроение. – Нет, Дарвин, всевышний не стал отрываться от трудов своих, чтобы сотворить вам орган обоняния. И мне тоже. Надо будет не забыть об этом, когда я буду писать последнюю главу, которую я посвящаю вам. Все еще опыляете перочинным ножом свои орхидеи? – Нет, занимаюсь перекрестным опылением страниц рукописи с помощью пера и чернил. Работу об орхидеях он закончил. Ему пришлось значительно сократить материал, пожертвовав многими убедительными деталями, и все-таки работа занимала сто сорок страниц. Опять она оказалась чересчур большой для "Вестника Линнеевского общества"! Что же делать? Был конец октября. Вечером сквозь шторы в спальню проникал холодок, предвещающий зимнюю стужу. Чарлз развел посильнее огонь в камине и, как всегда, в половине одиннадцатого отправился спать. Но ему не спалось. Он ворочался с боку на бок, не понимая, что не дает уснуть Эмме. Наконец она сказала: – Чарлз, тебе бы спать в гамаке, а не в кровати. – Я хочу кое-что обдумать. – Неужели нельзя подождать до утра? После обеда, когда Змма в саду выкапывала цветочные луковицы, чтобы до весны укрыть их в подвале, Чарлз предложил: – Не желаешь прогуляться со мной по Песчаной тропе? – На сколько камешков? – Да хоть на пять. Выложив пять камешков в начале тропинки, которая уходила в рощицу, Чарлз тут же забыл об Эмме и принялся рассуждать: – А не издать ли мне работу об орхидеях отдельной книжкой? Я ведь и так уже выбросил столько существенного материала. Если Джон Мэррей согласится издать такую книжку, я могу рассчитывать на приличный объем, и тогда книга будет содержать не только свежие мысли, но и интересные факты. Только вот как она будет раскупаться? Сможет ли Мэррей хотя бы окупить расходы? Я частенько преувеличиваю ценность своих выводов. Но обычно людей занимают как раз те предметы, которые занимают и меня. Вопросы размножения сейчас интересуют многих, даже если это размножение цветов. Впрочем, хотя о больших доходах от издания и речи быть не может, крупных убытков тоже можно не бояться. Зато эта книжечка может сослужить службу "Происхождению". Джон Мэррей посчитал, что книга заинтересует натуралистов. Он решился пойти на риск и даже оплатить иллюстрации, а Чарлзу положил выплатить половину прибыли. Это было щедрое предложение. Чарлз обещал закончить работу через два месяца. Но хотя великолепие и фантастические формы цветов орхидей повергали его в изумление, дальнейшая работа с ними оказалась куда сложнее. Труд двух недель пошел насмарку, так как на изображении цветка орхидеи, опыляемой бабочками, он неверно показал направление сосудов верхних чашелистиков. – Никогда еще я не попадал в такую передрягу, – сокрушался Чарлз. Черт меня дернул взяться за орхидеи! – Рано или поздно ты говорил так обо всех своих книгах, – успокоила его Эмма. Чарлз считал, что обязан выступить в Линнеевском обществе хотя бы с коротким докладом. Доклад этот он прочитал на одном из заседаний общества. Когда он кончил выступление и сдержанные, но благосклонные аплодисменты умолкли, первым подошел его поздравить Гукер. – Ваш доклад произвел грандиозное впечатление. – Нет уж, пора и честь знать, не то я окончательно сделаюсь ботаником. Чарлз до того устал, что едва добрался домой и пролежал в постели до следующего вечера. В письме Гукеру он признавался: "Я вовсе не считаю, что доклад произвел на Линне-евское общество такое уж "грандиозное" впечатление, но зато общество произвело грандиозное впечатление на меня. Боюсь, что мне надо воздержаться от публичных выступлений. Все-то у меня получается не как у людей". Узнав, что Королевское медицинское общество Эдинбурга сделало его своим почетным членом, Чарлз сказал Эмме: – Помнишь, каким способным студентом я был на медицинском факультете в Эдинбурге? Отсижу, бывало, утренние лекции доктора Дункана по фармакологии, от которых даже мухи дохли, потом занудные лекции доктора Монро по анатомии, потом в больнице оперирую каких-нибудь двух ребятишек. А потом весь день собираю всякую морскую живность в заливе Ферт-оф-форт: то устриц, пойманных рыбаками из Ньюхейвена, то морских звезд, то ловлю морских воробьев у черных скал в Лейте… Снова наступило рождество, снова пришел Новый год и дети снова собрались в Даун-Хаусе. Чарлз и Эмма по очереди читали последние книжные новинки. Они уже прочли "Ист Линн" и теперь выписали из Лондона "Сайлеса Марнера" Джордж Элиот и "Монастырь и дом" ["Ист Линн" (1861) – роман Г. Вуд, "Монастырь и дом" (1861) – роман Ч. Рида. – Прим. пер.]. К вящему удовольствию всей семьи, Генриетта читала большие отрывки из обеих книг вслух. 1862 год начался неожиданной удачей. Эдинбургский институт философии пригласил Томаса Гексли прочесть цикл лекций, и тот решил посвятить их отношению человека к низшим животным. И тут Лайель, который обычно отличался мягким характером, вдруг начал его отговаривать. Он был родом из Киннорди и хорошо знал шотландские нравы. – Помяните мое слово, вас побьют камнями и вышвырнут вон из города. Чарлз тоже принялся увещевать Гексли, но тот рвался в бой и его было не убедить. Выступая в Эдинбурге перед притихшей аудиторией, он сказал: – Вдумчивые исследователи, которые вырвались из-под гнета укоренившихся предрассудков, обнаружат в царстве низших тварей, от которых происходит род человеческий, ярчайшие свидетельства того, сколь велики возможности человека. И, проследив путь его развития в прошлом, эти исследователи обретут уверенность в том, что его ждет славное будущее. Опасения обоих Чарлзов не оправдались. Эдинбургские слушатели наградили Гексли искренними аплодисментами. Когда в следующее воскресенье Гексли приехал в Даун-Хаус, чтобы посоветоваться с Дарвином, не написать ли ему книгу на основе этих лекций, Чарлз бросился к нему с поздравлениями и рукопожатиями. – Подумать только, вы дали бой рутинерам в их же собственной цитадели1 – Какие же мне там воздавали королевские почести, – заметил Гексли, крепкое смуглое лицо которого расплывалось в широченной улыбке. – А ведь я их попотчевал откровенным дарвинизмом! Но через несколько дней от признания не осталось и следа. "Уитнесс" от 11 января с яростью обрушился на тех, кто встретил аплодисментами Гексли и его "глубоко порочную теорию… самым кощунственным образом противоречащую священному писанию и религиозным догмам, тогда как им следовало дать отпор гнусным оскорблениям, нанесенным им лично и всему роду человеческому, который был создан по образу и подобию божию, и всем вместе покинуть зал". История повторялась. Однако об этих нападках узнали и те, кто прежде не имел ни малейшего представления о дарвинизме, и теперь при виде столь яростного возмущения стали выяснять, в чем же суть дарвиновских идей. Чарлзу и Гексли все это представлялось игрой, которую они назвали "Как увеличить число сторонников новой теории, понося ее защитников". О том, как "Уитнесс" напустился на Томаса Гексли, стало известно и лондонским натуралистам, но резкий тон статьи почти ни у кого не встретил сочувствия. Поскольку президент Геологического общества Леонард Хорнер был в отлучке, на Гексли как на секретаря общества была возложена обязанность произнести поздравительную речь на заседании по случаю очередной годовщины общества. Чарлз не присутствовал на заседании в Берлингтон-хаусе, но узнал о нем со слов Лайеля. – Никогда еще не видел, чтобы поздравительную речь слушали с таким интересом и встретили такими аплодисментами, – рассказывал Лайель. – Хотя некоторые его смелые суждения кое-кого покоробили. – Его или мои? Чарлз задал этот вопрос потому, что с недавних пор Гексли прозвали "Дарвинов бульдог". – Он опирался на "Происхождение", – ответил Лай-ель, – но поделился и собственными мыслями и наблюдениями. Он отметил, что если обратиться к позвоночным и беспозвоночным давних эпох, если принять во внимание, что некоторые животные существуют в самых разных уголках земли, почти не изменяясь, то окажется, что о ранних формах жизни на земле нам мало что известно. Может быть, события, которые геология относит к одному времени, отстоят друг от друга на десять миллионов лет. В семье Дарвинов происходили не только счастливые события. Скончалась сестра Чарлза Марианна, и Сюзаи взяла опеку над младшими Паркерами. А в январе и Шарлотта, сестра Эммы, тридцать лет назад вышедшая замуж за преподобного Чарлза Лэнгтона, слегла от неизвестной болезни и тоже умерла. В феврале самого младшего из сыновей Чарлза – десятилетнего Гораса поразила непонятная болезнь: иногда его руки, ноги и шея начинали судорожно дергаться. Поначалу родители боялись, что болезнь эта вызвана каким-то поражением мозга, ведущим к параличу. Но местный врач и спешно вызванный из Лондона доктор Холланд не нашли ничего опасного. К концу апреля судороги у Гораса прекратились, но он еще целый год страдал несварением желудка. – Конечно, у него это наследственное, – ворчал Чарлз. – Нет, благоприобретенное, – спорила Эмма. Первого апреля в Англию вернулся Алфред Рассел Уоллес. Он восемь лет путешествовал по Малайзии, Суматре, Яве, Борнео, Целебесу, Молуккским островам, Тимору и Южной Гвинее, собирая образцы флоры и фауны. Человек, который восемь лет провел в далеких краях, где на него часто смотрели как на врага, в глазах Чарлза был героем. Он пригласил Уоллеса в Даун-Хаус. Уоллес в ответном письме благодарил его и добавлял: "Мне надо еще немного подлечиться, но, как только смогу, обязательно к Вам приеду". Джон Мэррей издал две тысячи экземпляров книги Чарлза "Различные приспособления, при помощи которых орхидеи оплодотворяются насекомыми". Книга вышла в красивом фиолетовом переплете; на матерчатой обложке была вытеснена золотом орхидея. В предисловии Чарлз писал: "Цель настоящей работы показать, что способы опыления у орхидей по своему разнообразию и даже совершенству не уступают наиболее ярким примерам приспособляемости в животном царстве". Исследованиеморхидей Чарлз занимался несколько лет, работа над книгой заняла всего девять месяцев – ее пришлось прервать только для того, чтобы отредактировать второе немецкое издание "Происхождения" и написать статью о весьма примечательном способе оплодотворения у двух видов примулы: маргариток и первоцвета. Работать над книгой об орхидеях было приятнее всего: Эмму и детей они занимали не меньше, чем самого Чарлза, поэтому они часто просили его почитать свою рукопись. Книга вышла 15 мая. Цена была весьма доступной – всего девять шиллингов. Натуралисты раскупали книгу охотно. Чарлз боялся, что его догадка о существовании насекомого с "хоботком длиной в целый фут" вызовет насмешки. Так оно и случилось. Но вскоре некий миссионер на Мадагаскаре обнаружил бабочку с хоботком именно такой величины – бабочка забиралась в цветок звездной орхидеи и покидала его, унося на себе пыльцу, которая шла на опыление другой звездной орхидеи. Хотя "Атеней" отозвался о книге, по выражению Чарлза, "с высокомерным сожалением", ботаники сообщили Дарвину, что рецензент ничего в книге не понял. Прочие отзывы были отличными: "Парфенон" писал о книге очень благожелательно, а "Лондон ревью" нашел ее великолепной. Даже "Литерари черчмен" пришел от нее в восхищение. Из Гарварда прислал свои теплые поздравления Аса Грей: по его словам, если бы книга об орхидеях появилась прежде "Происхождения видов", то богословы канонизировали бы автора, а не предали его анафеме. Чарлз Лайель тоже высоко оценил книгу; он считал, что "после "Происхождения" это наиболее значительная работа Дарвина". Работа нашла такую горячую поддержку у натурализуй, что Чарлз только диву давался – Никак не думал, что моя книга будет иметь такой успех. Он писал Асе Грею: "В последнее время мне казалось, что я опростоволосился, излагая в книгах свои мысли в несколько упрощенном виде. Зато теперь я считаю себя вправе клеймить своих критиков с ни с чем не сравнимым самодовольством". Восторженная рецензия Асы Грея на книгу об орхидеях появилась в "Американском журнале науки и искусства". В своем письме Грей шутливо укорял Чарлза: "По-моему, Вы написали книгу об орхидеях для того, чтобы обойти противника с флангов". Грей, несомненно, был прав. В английской печати появились следующие слова Чарлза: "Исследуя орхидеи, я окончательно убедился в том, что почти все части цветка организованы и взаимосвязаны таким образом, что помогают опылению цветка насекомыми, а следовательно, Есе они, вплоть до самых незначительных их элементов, являются результатом естественного отбора". Благодаря "Орхидеям" за Дарвином окончательно укрепилась слава добросовестного и смелого в своих предположениях ученого, который описывает доселе неизвестные или малоизученные биологические явления. Эта слава несколько умерила пыл критиков "Происхождения". Хотя Чарлз по своему обыкновению жаловался Алфреду Уоллесу: "Здоровье мое плохо, и ничего-то с ним не поделаешь. Я ведь самый настоящий ипохондрик", у него все-таки хватило сил заняться совершенно новым вопросом – движения и повадки лазящих растений, которые были еще слабо изучены. Несколько лет назад Чарлз прочел небольшую работу Асы Грея на эту тему. Между тем Лайель начал подумывать о том, что Чарлзу пора получить дворянское звание. – С тем же успехом премьер-министр может ходатайствовать перед королевой о присвоении дворянского звания моему "Происхождению", – возразил Чарлз. – Кабинетам приходилось подавать в отставку и из-за меньших оплошностей. – Давайте прикинем, – терпеливо рассуждал Лай-ель. – Гукер тоже должен удостоиться этой чести, когда станет директором Королевского ботанического сада. Гек-сли? О нем и речи быть не может. Он, конечно, большая умница, но уж больно ершист. Не умеет умаслить своих противников. – Без этого он бы и гением не был, – сказал Чарлз. Узнав, что книга об орхидеях была так хорошо принята, Чарлз успокоился. Мысли его теперь опять были заняты здоровьем. Вроде бы ни слабость, ни сердцебиение в последнее время его не мучают, но почему руки потрескались от экземы? Может быть, оттого, что Ричард Оуэн снова перешел в наступление? А может, причиной экземы были химикаты, которые он использовал в своих опытах? Чарлз вспомнил, что в годы учебы в колледже Христа с ним уже такое случалось. Тогда, чтобы избавиться от волдырей, он принимал небольшие дозы мышьяка. Об этом способе лечения он прочел в "Новой фармакопее", когда учился в Эдинбурге. Отец не советовал ему принимать это средство, и все-таки экзема у Чарлза прошла. Прошла она и сейчас, но… без всякого мышьяка. Громя дарвинизм в своих бесчисленных лекциях и статьях, Оуэн стал на этом поприще настоящим виртуозом, однако почти ни одно положение теории естественного отбора ему Опровергнуть не удалось. Лайель, Дарвин, Гукер и Гексли, устроив за обедом в "Атенее" "военный" совет, пришли к выводу, что Оуэн ведет себя как помешанный. Авторитет их научной группировки еще более утвердился, когда Томас Гексли получил профессуру в Королевском хирургическом колледже. Занимая этот пост, он мог знакомить студентов, порой несмотря на их внутреннее сопротивление, с дарвиновской теорией эволюции. Здесь "Дарвинов бульдог" мог использовать более хитроумную тактику, Но обитателям Даун-Хауса было не до торжества. Заболел второй сын Дарвинов, Ленард, который вот-вот должен был пойти в школу в Клэпхеме; там в первом классе уже учился его брат Джордж, который мог присматривать за братишкой. У мальчика обложило горло, тело покрылось сыпью, затем началось серьезное воспаление, которое перешло в скарлатину. Послали в Даун за доктором Энгле-гартом. Мальчика удалось спасти лишь благодаря тому, что Чарлз и Эмма круглые сутки заботливо ухаживали за ним, поили из ложечки портвейном. Доктор Энглегарт по прозвищу Шпенгль наведывался в Даун-Хаус по нескольку раз в день. Через некоторое время Ленарда удалось немного покормить жидкой овсянкой. – По-моему, кризис миновал, – сказала Эмма, внося в комнату большую вазу с июньскими цветами. Вечером, к изумлению родителей, Ленард, не открывая глаз, спросил: – Мои марки целы? – Да, – ответил Чарлз. – Профессор Грей прислал тебе из Америки еще одну. Завтра посмотришь. – А можно сегодня? Чарлз принес марку. Ленард с огромным трудом открыл один глаз, взглянул на нее и с довольным вздохом произнес: – Красивая. Час спустя Чарлз принес еще несколько марок, только что полученных из Америки. Ленард приподнялся на локте и сказал: – Передай профессору Грею большое спасибо. На следующий день Ленарду стало гораздо лучше. Присев отдохнуть вместе с Эммой в прохладной тени сада, Чарлз размышлял вслух: – Дети, конечно, великое счастье, но и хлопот с ними не оберешься. Ученому не следует заводить детей, да и без жены, пожалуй, лучше. Тогда ему ни о ком на всем белом свете не надо будет заботиться: работай себе и работай. Хватит ли у него сил – это уже другой вопрос. Ну ладна. Даст бог, через пару дней я смогу опять собраться с мыслями. Эмма увидела, какое облегчение испытывает Чарлз, и пожалела его. Ленард понемногу выздоравливал, и Чарлз снова пригласил в Даун-Хаус Алфреда Уоллеса. Уоллес приехал в начале августа. Чарлз испытывал огромный интерес к этому человеку: он считал, что Уоллес не только не уступает по своим способностям ему самому, но и скажет еще свое слово в естествознании. К тому же Уоллес может стать прекрасным дополнением к их научной четверке. В зеркало Чарлз наблюдал, как Уоллес вылезает из посланного за ним экипажа. Он был высокого роста – около шести футов, – сухощав и плечист; у него были узкие бедра и крепкие ноги, как видно привыкшие к хождению по горам. На лоб падали густые черные кудри. Уоллес носил аккуратные усы, бакенбарды и раздвоенную черную бороду. Когда Парсло провел его в кабинет, Чарлз рассмотрел его глубоко посаженные голубые глаза, проницательно глядящие через стекла крошечного, меньше чем у Гукера, пенсне. Уоллесу было тридцать девять лет. На нем был серый жилет с широкими лацканами, темный фрак и светлые брюки. Ботинки его были плохо вычищены. Уоллес жил в Лондоне вместе с семьей своей сестры – на чердаке их дома ему отвели место для разборки коллекций. Чарлз попросил Парсло принести холодного лимонада. Когда Уоллес напился, Чарлз сказал: – Уоллес, еще до вашего возвращения в Англию естественнонаучные журналы опубликовали тридцать пять ваших статей! Я преклоняюсь перед вашей четкостью изложения. С меня-то обычно семь потов сойдет, пока я напишу хоть одну фразу. Уоллес зарделся от удовольствия и возразил: – Если бы я за всю свою жизнь написал только две книги, но такие, как ваши "Путешествие на "Бигле" и "Происхождение видов", я был бы счастлив. – Мне вот что интересно: как БЫ пришли к теории естественного отбора, которую приписывают нам обоим? Словно для того, чтобы ему лучше вспоминалось, Уоллес сделал большой глоток лимонада и протер шарфом пенсне. – Хотите – верьте, хотите – нет, мистер Дарвин, но случилось это в феврале 1858 года на Молуккских островах, когда меня свалил сильнейший приступ малярии. Как-то я лежал в постели, закутавшись в одеяла, хотя температура на улице поднялась выше тридцати, и опять размышлял на эту тему. И тут мне на ум почему-то пришли "положительные ограничения", о которых пишет Мальтус в "Опыте о законе народонаселения", – я прочел эту книгу несколько лет назад, и на меня она сильно подействовала. – На меня тоже. – Я был уже основательно подготовлен, – робко добавил Уоллес. Кажется, еще в 1847 году я впервые прочел ваше "Путешествие на "Бигле". Как научный путевой дневник эта книга уступает лишь "Путешествию" Гумбольдта, но как увлекательное повествование, на мой взгляд, даже превосходит его. Чарлз покраснел, эта похвала по-настоящему тронула его. Уоллес был одним из тех немногих людей, которые говорят точно так же, как и пишут: он выражал свои мысли без вычур, правильно строя фразу. – Мне пришло в голову, что эти ограничения – война, эпидемии, голод и другие – вероятно, распространяются не только на людей, но и на животных. Эти и им подобные явления происходят беспрерывно. А поскольку животные размножаются гораздо быстрее, чем люди, то, по всей видимости, огромное их количество ежегодно погибает – иначе число представителей одного вида выросло бы неимоверно. Я вдруг понял, что этот самостийный процесс неизбежно приводит к улучшению вида, ибо в каждом поколении менее совершенные непременно гибнут, а более совершенные остаются в живых. Другими словами, выживают наиболее приспособленные. Было уже за полдень. Чарлз предложил Уоллесу прогуляться по Песчаной тропе. – С удовольствием. Знаете, про вашу тропу говорят даже в Лондоне. Ее называют "дорогой в будущее". – Неужели? А ведь именно там меня посетили самые светлые мои мысли. За ужином Уоллес познакомился и сдружился с Эммой и детьми; им понравилась его застенчивость, сочетающаяся с искренним смехом. – Мне еще не скоро удастся получить приличный доход от моих книг и статей, – говорил Уоллес. – Иногда мне бывает так одиноко. Хочу жениться, завести детей, жить своим домом. Когда Ленард поправился, вся семья отправилась на лето в Борнмут. Но тут Эмма заболела скарлатиной. Это случилось по пути, в Саутгемптоне, где находилась банкирская контора, совладельцем которой стал окончивший колледж Христа Уильям. Чарлз, Эмма, Ленард и пожилая экономка Дарвинов остались в Саутгемптоне, а остальные поехали в Борнмут. Все четверо поселились в доме Уильяма на Карлтон-террас. Дом не блистал комфортом, но зато был достаточно просторным. Чарлз нанял сиделку, однако и сам день и ночь не отходил от больной. Опасения, вызванные здоровьем Ленарда, а теперь еще и Эммы, измотали его. Вот уже несколько недель его мысли были заняты только болезнями родных. К счастью, болезнь Эммы оказалась не столь серьезной. Чарлз снял еще один дом, в котором поселились Ленард и экономка, а сам остался с больной. Затем он вместе с женой и сыном последовал за семьей в Борнмут. Эмма выздоровела. Наконец все они снова были вместе и могли наслаждаться всеми прелестями курортной жизни. В Даун-Хаус они вернулись только в конце сентября. Чарлз уже давно мечтал обзавестись для своих исследований теплицей. Как раз накануне рождества в Даун-Хаус приехал садовник сэра Джона Леббока Горвуд, который слыл мастером своего дела. Он привез подарок от своего хозяина – полную тележку растений и луковиц из теплиц Леббока. – Знаете, Горвуд, – грустно сказал Чарлз, – а я давно подумываю о небольшой тепличке, Горвуд был толковый малый, он получил уже немало призов за свои растения. К тому же он отличался исполнительностью. – Я все ждал, когда вы сами предложите, мистер Дарвин. Вон и сэр Джон согласился, чтоб я вам помог. Хотите – могу план нарисовать. Теперь Горвуд каждый день на часок заезжал в Даун-Хаус. Теплицу решили поставить возле колодца в двух шагах от дома, ближе к огороду – там, где находились солнечные часы, по которым Чарлз обычно проверял и свои золотые и старинные дедовские часы в прихожей. Фасад теплицы должен был смотреть на благоухающую Лайм-авеню – липовую аллею, которая вела через сад к Песчаной тропе. Горвуд решил, что длина теплицы будет пятьдесят футов, ширина десять, односкатная крыша должна отлого спускаться к фасаду. У теплицы два входа. Притолока крепилааь на массивных стойках. Столь же массивные столбы по углам придавали постройке устойчивость. Крыша и фасад были застеклены, чтобы внутри было светло и тепло. Вдоль стен тянулись грядки, а по стенам ряды полок. Для обогрева в теплице было решено соорудить печь. Строительство шло своим чередом, и Чарлз радовался как ребенок. Горвуд отлично руководил строительством. Когда в середине февраля работа закончилась, Чарлз отправился к Леббокам. – Теплица готова, – объявил он. – Большое спасибо, что позволили Горвуду взяться за эту работу. Сам бы я ни за что на такое не решился, а если бы и построил что-нибудь, то из рук вон плохо. Для меня эта теплица не просто забава: теперь я смогу ставить в ней кое-какие опыты, о которых без нее и думать было нечего. При встрече с Джозефом Гукером он восторженно сообщил: – Новая теплица построена, мне не терпится в ней что-нибудь посадить. Скажите, какие растения вы можете мне дать, и я прикину, какие еще следует купить. – Тепличных растений и мхов у нас хоть отбавляй. – Как же мне их перевезти? Я могу выждать денек потеплее и рано утром послать к вам тележку, которую прежде выстелю изнутри циновками, – и к вечеру растения будут у меня. Только вот как бы они не померзли: путь займет около пяти часов. – Мы их хорошенько укроем, – пообещал Гукер. – Они будут в тепле, и с ними ничего не случится. Когда сестра Чарлза Сюзан узнала, что Гукер стал страстным собирателем веджвудского фарфора и при своих скромных доходах скупает все изделия, какие оказываются ему по карману, она прислала ему из Маунта кое-какие старые вазы и медальоны. Этот подарок привел Гукера в восторг. Чарлз писал ему: "Вы представить себе не можете, какую радость нам доставили Ваши растения, куда большую, чем Вам – фарфор Сюзан. Мы с Горвудом от них не можем глаз оторвать. Однако мы по секрету признались друг другу, что, не будь эти растения нашими собственными, мы не смогли бы обнаружить такую ни с чем не сравнимую прелесть в каждом их листике". В начале февраля 1863 года вышла книга Чарлза Лайеля "Геологические свидетельства древности человека". Он так и не показал рукопись Дарвину, да и другие не имели о ней ни малейшего представления. Получив присланную Лайе-лем книгу, Чарлз сразу же открыл последнюю главу и остолбенел: ни одного слова о нем и о его труде. Только коротенькая выдержка из рецензии на "Происхождение видов", опубликованной в "Журнале Фрейзера". Разговор о происхождении заканчивался словами Асы Грея, который отмечал, что "учение об изменяемости и естественном отборе вовсе не призвано расшатать основы естественной теологии". В заключение Лайель писал: "Те, кто упорно считает возникновение отдельных организмов, равно как и родов и видов, прямым следствием акта творения, могут придерживаться своей излюбленной теории, поскольку она отнюдь не противоречит учению об изменяемости". Чарлз глазам своим не верил. – Короче говоря, – с- горечью заметил он, – объективной истины не существует. Пусть каждый верит во что хочет, а факты, от которых не отмахнешься, побоку. Испытывая горькую досаду и недоумение, мысленно повторяя обещание Лайеля: "О вас я напишу в последней главе", Чарлз поднялся с кресла, положил книгу и вышел на улицу. Небо хмурилось, с полей дул холодный ветер. Но Чарлз не чувствовал холода, им овладела растерянность. И он взялся за работу, которая уже не раз оказывала на него целительное действие: принялся пропалывать сад. Приводя в порядок сад, он приводил в порядок и свои мысли. Через полчаса он успокоился, вернулся в кабинет и начал читать с самого начала. Ясно было одно: что касается геологических данных о происхождении человека, то их Лайель исследовал обстоятельно. Он добросовестно анализировал работы и взгляды Гукера, Гексли, Уоллеса. Шестнадцатая глава была посвящена Дарвиновской теории происхождения видов путем естественного отбора; все исходные аргументы Чарлза излагались в ней столь же добросовестно. "Значит, Лайель запнулся на полуслове лишь в конце книги, – огорченно подумал Чарлз. – У него не хватило духу принять бой". Тут у него мелькнула другая мысль, и он улыбнулся. "То-то Эмма будет рада. Ей претило, что Лайель может стать на мою сторону". Вскоре Чарлз прочел несколько рецензий на книгу Лайеля, которая имела большой успех. Чарлз радовался за своего друга и все-таки испытывал прежнюю досаду оттого, что Лайель обошел молчанием его взгляды на происхождение человека и ограничился геологическим обоснованием. Ветреным мартовским днем в Даун-Хаус приехали Лайели. Им отвели спальню над кабинетом Чарлза. Пока Мэри Лайель и Эмма в гостиной беседовали за чаем о своих делах, Чарлз и Лайель сидели в столовой у окна, выходившего в тихий сад, за которым виднелись пастбища. Лайель рассказал, что отказался от места депутата Лондонского университета в парламенте. – По-моему, будет больше толку, если я продолжу свои геологические изыскания, – объяснил он. – Это верно. Мне и самому как-то пришлось принимать такое решение, когда мне предложили преподавать в колледже Христа. Мимо, скрипя несмазанной осью, проехала телега на ВИХЛЯЮЩИХ деревянных колесах. Чарлз молча наблюдал за тем, как лошадь и дремлющий возница исчезают за поворотом. Он понимал, что Лайелю не терпится узнать его мнение о "Древности человека", но говорить он не решался: боялся обидеть друга. – Я прочел вашу книгу с огромным интересом, – сказал он наконец. – Но мне нечего о ней сказать. – Э, нет, – покачал головой Лайель. – Я за двадцать лет прекрасно изучил выражение вашего лица. Вам есть много что сказать. Чарлз почувствовал ком в горле. – Ну, раз уж вы сами разрешаете, я начну с самого неприятного. Меня очень огорчило, что вы никак не определили и не высказали своего собственного мнения о происхождении человека. Лайель помрачнел. – Так я и думал. Вас огорчило, что я не пришел к тем же выводам, что и вы. Но я писал только о том, в чем я сейчас полностью уверен. Ветер стих, и, хотя в небе еще висели тучи, сквозь них уже пробивались лучи солнца. – Может, прогуляемся по Песчаной тропе? – предложил Чарлз. – Подышим свежим воздухом. Глядишь – и в голове прояснится. – Моя голова в порядке, – ответил Лайель, – но о прогулке я мечтаю давно. Положив рядом с тропинкой пять камешков, Чарлз сказал: – По-моему, рецензент "Парфенона", который писал, что вы не даете читателю ясного ответа, был прав. Напоминание об этой рецензии Лайелю не понравилось. – Прав, говорите? Вы и Гексли углубились в область непознаваемого… – ..Поскольку вы обо мне, Гукере и Уоллесе пишете больше, чем о Ламарке, – перебил Чарлз, – читатель несомненно решит, что вы о нас более высокого мнения. И все-таки я думал, что ваше собственное суждение произведет переворот в науке. И он ногой отбросил один камешек. – Между прочим, – заметил Лайель, – в отношении изменений биологических организмов я выразил такую уверенность, какой на самом деле не обладаю. Но, может быть, это увеличит число ваших с Гексли сторонников значительнее, чем все старания молодых ученых вроде младшего Леббока: им-то не придется отбрасывать столько укоренившихся, давно привычных представлений. Чарлз не ожидал, что Лайель так откровенно распишется в своем консерватизме, но обижать друга ему не хотелось. Он предложил вернуться в дом – приближалось время обеда. Мэри и Эмма никак не могли понять, почему их мужья за обедом не спорят о науке, а те старались и виду не показать, что впервые за все время их дружбы между ними возникли серьезные противоречия. После хереса и великолепных сардин, устриц и гренков Эмма подала рыбные кнели, жареную баранью ногу, шпинат с картофелем, пирог и крем. – Может, постучим на бильярде? – предложил Чарлз. Играли они рассеянно и не испытывали никакого удовольствия, даже когда шары со стуком влетали в лузу. – Лайель, я вас прекрасно понимаю, – начал Чарлз, как бы извиняясь. Я просто поражаюсь, до чего умело вы подобрали доводы и проанализировали их. Выше всяких похвал глава, где вы прослеживаете развитие речи у человека. Но Лайеля такое одобрение наполовину не обмануло, тем более что исходило оно от единственного натуралиста, с мнением которого Лайель считался. Он положил бильярдный кий и отчеканил: – Если я обманул ожидания тех, кто предполагал, что я полностью приму вашу теорию, то меня это ничуть не волнует: я хочу быть до конца последовательным. Как я могу убеждать других принять новое учение в мгновение ока, если сам меняю свои взгляды лишь постепенно? Когда я перечитываю некоторые главы своих "Основ геологии", то всякий раз нахожу там факты, которые не позволяют мне принять до конца новую доктрину. Для меня в ней не все так просто, поэтому мне несвойственно опасное усердие прозелитов, которые по части веры превосходят своих наставников. Гукер утверждает, что людям не нравится, когда им чересчур уж определенно указывают, в какую научную теорию верить; религия – другое дело, там эта определенность им необходима. Чарлз уже досадовал на себя: и зачем только он вынудил Лайеля признать, что в своей книге он пошел на компромисс? Он тоже отложил кий и подошел к Лайелю. – Вы, конечно, не обиделись на меня за мою откровенность? Вы же знаете, что для меня вы были и остаетесь высокочтимым учителем. Лайель решил, что шутка поможет укрепить возродившуюся доброжелательность: – А читали вы, как окрестили мою книгу в "Субботнем обозрении"? "Трилогия Лайеля о древности человека, льдах и Дарвине". Чарлз подлил масла в огонь: – А эта гнусная статейка о вашей книге и книге Гексли "Место человека в природе" в "Атенее"? Оказывается, вы задались целью состарить человечество, а Гексли – превратить его в скопище выродков. Этот писака и понятия не имеет, что такое научное открытие. Лайель улыбнулся. – Вы что, считаете рецензентов хищниками, которые истребляют пишущую братию? Регулируют ее численность? Они рассмеялись. Лайеля больше не угнетало собственное признание в том, что у него не хватило твердости духа пойти до конца, а Чарлза больше не мучила досада оттого, что его друг не смог перебороть свою нерешительность. И в таком благодушном настроении они вернулись в кабинет. Сидя в кресле, Чарлз подался вперед, словно желал преодолеть возникшую в их отношениях трещину. – Вы, кажется, все еще на меня дуетесь. Лайель добродушно улыбнулся. – Не могу я на вас долго сердиться. Я отношусь к вам так же, как когда-то покойный Джон Генсло. Во многих отношениях вы заменили мне сына и наследника, которых у меня никогда не было. Поэтому я жду от вас лишь полной откровенности. Чарлз взял из банки, которую он прихватил из передней, щепотку табаку. – Я все-таки считаю, что, выскажись вы более определенно, это сильно подействовало бы на читателей. Тут ему в голову пришла забавная мысль и он лукаво спросил: – А может, вы позволите мне заново написать последнюю главу о предках человека? – Черта с два! – рявкнул Лайель. – Пишите собственную книгу. Если вам ругань, вызванная "Происхождением видов", была нипочем, то как-нибудь переживете и ту бурю, которая поднимется, когда вы объявите предком человека обезьяну. И низших животных. Чарлз встал и принялся расхаживать по кабинету, трогая микроскоп, редкие минералы, колбы с образцами на столе и полках. – Поймите, я очень хочу – для вашей же пользы, – чтобы вы с полной уверенностью, решительно и определенно заявили, что разные народы не были сотворены независимо друг от друга. Что возникновение человека вообще не могло произойти независимо от окружающего мира, что он развивался подобно прочим живым существам. Лайель смотрел на него с каменным лицом. – Это ваша область и ваша обязанность, – подчеркнуто произнес он. Когда-нибудь вам придется взять на себя этот труд. Возвращаясь из Бекенема, где остановились Лайели, Чарлз снова и снова вспоминал эти споры. Он знал, что события человеческой жизни имеют свойство повторяться. Что стоит ему опубликовать книгу и высказать в ней такой взгляд на происхождение человека, который не соответствует существующим в Европе и Америке представлениям, как эта книга вызовет такое же возмущение и хулу, что и "Происхождение видов", а самого Чарлза ждет всеобщее осуждение. Но знал он и то, что несомненно напишет такую книгу. Так зачем же ему надо было столь откровенно осуждать Лайеля за то, что тот поступил иначе? Когда экипаж миновал даунскую церковь и кладбище и медленно начал подниматься по дороге, ведущей к усадьбе Дарвинов, Чарлз уже окончательно решил, что последует совету дяди Джоза "Исполни свой долг и доверься судьбе". Он вернулся к обязанностям судьи, но его редко приглашали в Бромли слушать дела: он все еще был казначеем Даунского клуба друзей. По-прежнему приглашал гостей в Даун-Хаус, с большим удовольствием работал в теплой, влажной оранжерее, где пахло всевозможными цветами и кустарниками, с которыми он экспериментировал. Но писать он не мог совсем, и потому 1863 год показался ему самым тяжелым из всех, им прожитых. Здоровье его окончательно расстроилось. Он уже привык к упадку духа и приступам дурноты, которые сопровождались расстройством желудка, быстрой утомляемостью и бессонницей. Но теперь он был настолько болен, что не мог даже оставаться в кабинете и держать в руках перо. В начале мая они с Эммой поехали недели на две в Харт-филд – вдруг ему станет лучше от перемены обстановки? Остановились сначала у преподобного Чарлза Лэнгтона, потом у сестры Дарвина Каролины и у Джо Веджвуда. Однако поездка не принесла ему облегчения. Тем временем Чарлза представили к медали Копли – самой высокой награде в британском ученом мире. Его поддерживали друзья – новые члены Королевского общества, старое поколение ученых было настроено решительно против. Контр-адмирал Роберт Фицрой пустил слух, что Дарвину пришлось, по его настоянию, покинуть "Бигль" из-за морской болезни. В Даун-Хаус слух этот привез Эразм. Чарлз пришел в ярость. – Фицрой никогда не предлагал мне сойти на берег из-за морской болезни! А мне самому это и в голову не приходило, хотя морская болезнь сильно меня мучила. Но я не считаю ее причиной моего последующего нездоровья, стоившего мне стольких лет жизни, а потому и думать о ней нечего. Однажды Эразм был свидетелем, как Чарлза рвало через три часа после обеда. – Может, ты прибегнешь к старому отцовскому средству, – заметил он не без юмора, – изюму и сухарям? А ко дню рождения я тебе куплю гамак. Что было тому виной, значения не имело, но Чарлз потерпел поражение, медаль Копли присудили другому. Вернуло его к работе новое открытие и новая любовь: лазящие растения. У него в кабинете росла Echinocystis lobata. Наблюдая за ней, Чарлз с удивлением обнаружил, что верх у каждой веточки постоянно, очень медленно закручивается, иногда образуя два-три витка. Потом так же медленно раскручиваются и закручиваются в обратную сторону. Очередное движение начинается через полчаса. Все дети, кроме Уильяма, были дома. Чарлз показал им чудесное растение, все были поражены. Они спросили отца: "А кто-нибудь еще наблюдал это явление?" Оказалось, что об этой способности растений писали два немецких ученых, а также Аса Грей, но она была совершенно не исследована. – Я хочу написать об этом книжицу. Вполне мирную, но достаточно удивительную. – Это очень красиво, отец. Но как это происходит? – поинтересовался младший сын. – Да, красиво, Горас. Каждые полтора или два часа растение описывает круг диаметром от одного фута до двадцати дюймов, усик растения нащупывает какую-нибудь опору, прицепляется и начинает по ней ползти вверх. Садовник у Леббока уверяет, что усики могут "видеть": куда бы он ни посадил лазящее растение, оно обязательно найдет, вокруг чего обвиться. У этих усиков есть и "чутье": друг друга они никогда не обвивают. В этот период неожиданного прилива сил и возвращения работоспособности Чарлз вернулся и к своей книге "Изменение домашних животных и культурных растений"; 16 июля он начал главу "Селекция", содержащую основательно изученный материал. 20 июля он эту главу закончил. Тем не менее он признался Гукеру: – Меня все больше занимают эти усики. Самая подходящая сейчас для меня работа, – когда я пишу об этих растениях, я отдыхаю. Эмма, у которой состояние Чарлза перестало вызывать опасение – он, забыв обо всем, возился со своими вьюнками, растущими в кабинете и теплице, – занялась исполнением своей давней мечты, организовав кампанию за новую конструкцию капканов. В маленьких стальных кап-канчиках, которыми все пользовались, попавшийся зверек мучился перед смертью восемь – десять часов. Она послала длинную статью в "Дневник садовода", обратилась в Общество гуманного обращения с животными с призывом учредить премию изобретателю за лучшую конструкцию капкана. И начала собирать деньги для этой премии. Семья ею гордилась. Событием, изумившим всех тем летом, была помолвка Кэтти с преподобным мистером Лэнгтоном, вдовевшим по смерти Шарлотты Веджвуд; свадьбу назначили на октябрь месяц. Новость произвела ошеломляющее впечатление на семью Дарвинов. Первой взорвалась двадцатилетняя Генриетта. – По-моему, просто неприлично думать о замужестве, когда тебе уже за пятьдесят, – возмущенно проговорила она. – Дело ведь вовсе не в годах, – попенял ей Чарлз. – Кэтти не может похвастаться ни крепким здоровьем, ни хорошим характером. И у нее и у Лэнгтона слишком сильная воля. Я сомневаюсь, что она будет счастлива. – Да, их помолвка не может не беспокоить, – согласилась Эмма. – Но, с другой стороны, они ведь так давно знают друг друга. Возможно, они и смогут ужиться. – И почему это Кэтти до пятидесяти трех лет не выходила замуж? Она пользовалась успехом, могла бы не один раз составить хорошую партию. – На свадьбу мы, конечно, пойдем, – решила Эмма. – Они не должны знать о наших сомнениях. – Бедная Сюзан, останется совсем одна в Маунте, – пожалел сестру Чарлз. – Мы пригласим ее в Даун-Хаус, пусть живет с нами, – сказала Эмма. Наблюдение за усиками лазящих растений стало любимым занятием Чарлза. С волнением следил он, как Аросупасеае, выпустив свои усики длиной восемнадцать дюймов, настойчиво искал какую-нибудь опору, а найдя, лез вверх; это лазанье было результатом кругового движения верхушки растения. Чарлз обнаружил, что, прикоснувшись карандашом к двум веточкам одного усика, можно придать им любую форму. Он уже подробно изучил движения плюща пятилистного и теперь то и дело писал Гукеру, прося прислать ему вьющиеся растения с усиками какого-нибудь особенного, необычного строения. Когда у него самого не хватало сил писать, он диктовал Эмме или дочерям. Отдыхал он по вечерам; растянувшись в шезлонге у пианино, слушал, как Эмма играет его любимые отрывки из опер. Ему никогда не надоедал Гендель. Днем он читал лондонскую "Тайме", которая часто приводила его в ярость, поддерживая Юг в Гражданской войне в Америке и тем самым защищая рабство. – "Тайме" становится все ужасней, – говорил он детям. – Мама хочет, чтобы я ее больше не читал. А я ей ответил, что на такой героизм способны только женщины. Отказаться от "кровавой старушки" "Тайме", как ее называл Коббет, все равно что отказаться от мяса, вина и свежего воздуха. В начале сентября он на полтора месяца поехал в Мал-верн для водолечения. Никакой пользы оно не принесло. Чарлз проболел до конца года; в 1864 году легче не стало; он сильно недомогал до самой середины апреля. "Куда, – спрашивал он себя, – уходят недели, месяцы? Я с содроганием думаю о страшной потере времени, когда на руках столько неоконченных дел. У меня такое чувство, что я никогда не поправлюсь. Жизнь моя окончена так рано, в пятьдесят пять лет". Проснувшись 13 апреля после крепкого, здорового сна, он почувствовал себя так хорошо, что сразу же после завтрака сел писать свою книгу "О движении и повадках лазящих растений". Здоровье вернулось к нему, и после четырех месяцев упорного труда монография была закончена. Долгие месяцы уныния, когда Чарлз не мог взять в руки пера, сменились радостным оживлением. – Какое было удовольствие писать эти сто восемнадцать страниц, сказал он Эмме. – Вот если бы все мои книги было так приятно писать! – Это вполне возможно. Надо только писать о любимом предмете. Линнеевское общество опубликовало его исследование в своем "Вестнике", а также напечатало его в виде монографии и пустило ее в продажу по цене четыре шиллинга за экземпляр. Чарлз заказал еще двести экземпляров, чтобы разослать своим корреспондентам во многие страны мира. "Лазящие растения" были приняты с большим одобрением читающей публикой. Для натуралистов эта его книга стала еще одним источником знания и вдохновения. Теперь, когда он вновь мог сам писать свои письма, он возобновил переписку с друзьями, живущими в Лондоне. Вышла третьим изданием книга Лайеля "Древность человека". Его избрали президентом Британской ассоциации и дали титул баронета. Будучи в Берлине, Лайель познакомился с английской принцессой крови, вышедшей замуж за кронпринца Пруссии; принцесса сказала ему, что "Происхождение видов" Дарвина нанесло такой удар старым воззрениям, от которого они вряд ли оправятся. Чарлз честно признался Лайелю: "У меня в крови чисто английское преклонение перед титулами". Большой успех имела книга Томаса Гексли "О положении человека в ряду органических существ", которая тут же вышла вторым изданием. Гексли жаловался Чарлзу: "Я должен был бы работать как лошадь, вернее как вол. Я погряз среди неоконченных дел. Просыпаюсь утром и слышу, как будто кто-то шепчет мне на ухо: "А" не сделано, "Б" не сделано, "В" не сделано, "Г" не сделано". Я чувствую себя как человек, дом которого осажден кредиторами". Чарлз был счастлив, что его молодой друг Гексли рядом. – Скажите мне, что вы сейчас делаете? – Редактирую лекции о строении черепа позвоночных, собираюсь послать их в "Медикал тайме". Переписываю лекции по начальной физиологии, думаю над курсом из двадцати четырех лекций, который прочитаю весной о млекопитающих в Королевском хирургическом колледже. Работаю над учебником по сравнительной анатомии, будь он неладен, я уже семь лет корплю над ним. И наконец меня всюду казнят – публично и в частных домах. Казнят за то, что я, как теперь принято говорить, "дарвинист". – В другой раз будете более осмотрительны в выборе единомышленников, рассмеялся Чарлз. Уоллес по-прежнему жил вместе с сестрой на скромный доход от двух опубликованных книг и от статей, которые время от времени появлялись в разных научных журналах. За годы жизни в заморских странах он собрал огромный материал; исследовав его и опубликовав результаты, он стал одним из ведущих натуралистов страны. Его попытка обзавестись семьей кончилась неудачно. За время очередного приступа болезни Чарлз решил отпустить бороду. И в этом весьма преуспел, чего нельзя было сказать о других его начинаниях. Борода выросла на славу, пышная, с красивой проседью, окладистая. Под густыми, кустистыми бровями его карие глаза казались еще глубже. Однажды за столом он с гордостью спросил Эмму и детей: – Не правда ли, у меня вид, как у священника? – Тебя будут звать епископом Кембриджа, – ответила Генриетта, – как Уилберфорса – епископом Оксфорда. – Но "скользким" Чарлзом я никогда не буду. Он стал представлять время в виде интервалов. Длинные интервалы. Короткие интервалы. Интервалы благотворные и плодотворные. Интервалы бездеятельные. Время было застывшим паковым льдом Северного полюса. Время было ледяным полем, трескающимся, тающим, движущимся то медленно, то быстрее и быстрее, В процесс подбора и обработки материалов о различных человеческих расах, древних и настоящих, мысль его совершила скачок, изменивший и его самого. Он подошел к осознанию того, что самым мощным средством изменения человеческих рас является половой отбор. Он записал: "Я могу доказать, что у разных народов разное представление о красоте. У дикарей самых красивых женщин выбирают самые сильные мужчины, и у них бывает самое многочисленное потомство". – Вот где самый страшный грех! – проворчал он про себя. – Если я разовью эту идею полового отбора, то приведу в ярость громадное большинство нашего общества, для которого страшное слово "пол" – табу, его не встретишь даже в самых неприличных романах. Этим я стократ умножу свои преступления. Дарвин получил по почте копию статьи Алфреда Уоллеса "Развитие человеческих рас под действием закона естественного отбора", опубликованной в "Антропологическом обозрении". Просматривая статью, он не испытывал того беспокойства о приоритете, которое почувствовал много лет назад, читая первую работу Уоллеса о естественном отборе. На этот раз он ощутил разочарование и расстроился не меньше, чем от работы Лайеля. Уоллес писал: "Человек в самом деле является особым существом, он не подвержен действию великих законов, неукоснительно изменяющих все другие живые существа… Человек не только свободен от произвола естественного отбора, но сам присвоил себе эту прерогативу природы, результат действия которой был заметен повсюду до появления человека…" Неужели Уоллес может всерьез так считать? Ведь он еще молод и не отличается консервативностью мышления… Чарлз был очень признателен сыну Уильяму, пригласившему в гости братьев; ведь ему самому так хотелось, чтобы все дети жили в дружбе и согласии. Вторым своим сыном, девятнадцатилетним Джорджем, Чарлз тоже был доволен: тот успешно сдал первый экзамен на степень бакалавра в Кембриджском университете. Джордж определенно имел способности к математике, и он вознамерился добиться поощрительной стипендии. Шестнадцатилетний Френсис решил стать врачом – пойти по стопам деда и прадеда. Из всех пятерых мальчиков у него одного были художественные наклонности. Он любил музыку, учился играть на флейте, гобое, фаготе; писал недурные стихи и рисовал забавные карикатуры. Его отличало обаяние и колкое остроумие, хотя временами на него-нападала меланхолия. Он больше своих братьев интересовался занятиями отца; по его просьбе Чарлз научил его работать с микроскопом и производить перекрестное опыление. Френсис читал книги отца, а если чего-нибудь в них по молодости не понимал, приставал к отцу с расспросами. Четырнадцатилетний Ленард всерьез занялся фотографией. Он фотографировал отца, и снимки так ему удались, что Чарлз разослал их своим друзьям. Самый младший сын Чарлза Горас, которому исполнилось тринадцать лет, ходил в школу и поэтому жил вдали от дома. Учился он превосходно. Младшей дочери Дарвинов Элизабет было семнадцать лет. Она была неказистой полной девушкой. Хотя она сильно уступала Генриетте в сообразительности, но зато отличалась большей чуткостью. В практических делах она была довольно беспомощна. Джорджу так и не удалось втолковать ей, что такое пять процентов, однако в людях она разбиралась лучше, чем Генриетта. К болезням она всегда относилась с недоверием и без всякого стеснения давала это понять. Частенько Генриетта своим поведением напоминала сестре, что она старше и сильнее ее, однако Дарви-нам случалось убедиться в том, что в некоторых вопросах Элизабет проявляет большую проницательность. Генриетте исполнился двадцать один год. Чтобы подчеркнуть свою самостоятельность, она стала читать книги Томаса Гексли и высказывать о них суждения. Теперь она сама ездила в гости к Эразму, Веджвудам и Лэнгтонам, которые жили в Уилтшире. Дети решили, что они уже не маленькие и поэтому будут звать родителей не "папа" и "мама", а "отец" и "мать". Но Чарлз об этом и слышать не хотел. – Уж лучше зовите меня "Пёс", – заявил он. Прозвища прилипают. Уильям, которого в детстве звали Вилли, требовал, чтобы его теперь называли полным именем, и добился-таки своего. Генриетта так и осталась Этти, Элизабет стала Бесси, Френсис – Фрэнком, а Ленард превратился в Ленни. Но Джорджа и Гораса переименовать было не так-то просто. Когда решался вопрос о присуждении очередной медали Копли, Чарлзу было предложено направить в Королевское общество дополнительные материалы, но он отказался. – Хватит с меня этой мороки, – сказал он. Однако Хью Фальконер, который путешествовал по Европе, написал в Королевское общество обстоятельное письмо, в котором выдвигал Чарлза кандидатом на эту медаль. В письме содержалось такое признание: "Я считаю, что мистер Дарвин не только один из наиболее выдающихся натуралистов современности, но что впоследствии он будет признан одним из величайших натуралистов всех времен и народов… И наконец, великий труд мистера Дарвина "Происхождение видов путем естественного отбора". Прежние трактовки этой серьезной и загадочной темы отличались таким легкомыслием или нелепостью, что создалось впечатление, будто она вообще не может стать объектом философского исследования. Посвятив двадцать лет пристальному изучению этого вопроса, мистер Дарвин опубликовал свои выводы. Достаточно отметить, что они привлекли к себе внимание всего цивилизованного человечества. Трудно себе представить, что один человек мог с успехомсправиться с проблемой такого огромного масштаба, решение которой сопряжено со столькими трудностями". Благодаря этому и другим письмам Чарлз получил медаль. На церемонии вручения он решил не присутствовать: кое-кто из старейших членов Королевского общества противился присуждению этой медали Дарвину, и Чарлз решил поберечь нервы. Лайель вызвался произнести речь после торжественного обеда, Чарлз с радостью согласился. Однако на церемонии вручения чуть не разразился скандал. Об этом рассказал Чарлзу Джозеф Гукер: – В своей речи президент Общества Эдвард Сэбин сказал, что, присуждая вам эту медаль, члены Общества "умышленно не принимали во внимание" "Происхождение видов". Тогда Гексли встал и потребовал объяснений. Он попросил огласить протокол, и оказалось, что "Происхождение" там, конечно, упоминалось. Лайель попытался хоть как-то спасти "Происхождение" от посягательств Сэбина и объявил, что целиком согласен с вашей книгой. Он сказал: "Происхождение" заставило меня отречься от прежних убеждений, однако где искать новые, я пока не знаю". Он прислал вам записку: "Надеюсь, теперь вы довольны мной". – Сэбин обещал внести поправки в свою речь, когда ее будут публиковать? – Да вроде намекнул. Но Сэбин не внес никаких поправок. В опубликованной речи президента Сэбина, говорилось: "Обсуждая заслуги кандидата, все члены Общества умышленно не принимали во внимание "Происхождение видов". Из-за этой подтасовки Чарлз не испытал такой уж радости от получения медали. – Сэбин просто-напросто пытался умиротворить старейших членов Общества, которые голосовали против твоей кандидатуры, – успокаивала его Эмма. – Ведь одна из задач президента – предотвращать раздоры. – Это что же, любой ценой? – гневно возразил Чарлз. – Умышленно подделывая протоколы? Это уже называется склокой. Кое-кто из его коллег прислал ему поздравления, которые, как он выразился, были для него "как бальзам на душу". – Надо же, кто-то еще помнит такую старую загнанную клячу, как я, удивлялся он. Эмма уже привыкла к его обычной манере уничижать себя. – Старая? Загнанная? – переспросила она. – Да ведь у тебя на столе столько бумаг, что на полдюжины книг хватит. – Да-да, ты права, – вздохнул Чарлз. – Я, по всей вероятности, буду жить вечно. Он не ожидал, что присуждение ему медали Копли вызовет новую волну нападок. Однако недруги вдруг разразились статьями, проповедями и даже книгами. Благодаря той же медали и новым нападкам о "Происхождении видов" заговорили там, где прежде об этой книге никто и не слышал. Чарлз просто не мог этого понять. Было похоже, что в конце концов и новый взрыв негодования мог оказаться ему на руку. Генриетта пристрастилась к чтению научных трудов. Как только в Даун-Хаус попадали работы Гексли, Гукера и Уоллеса, она тут же прочитывала их и даже высказывала свое мнение относительно их стиля. Особенно это забавляло Гексли. Прочтя его "Лекции об элементах сравнительной анатомии", Генриетта сказала ему" – Написали бы вы книгу. – Я только что написал толстенную книгу о черепе, мисс Этти. – Разве это книга? Я про такую книгу, которую можно прочесть. Вы можете написать какой-нибудь популярный трактат по зоологии? – Но.миссЭтти, моя последняя книга – действительно книга. Господи ты боже мой! Или ваша милость считает ее брошюрой? – Да, просто монографией. Чарлз, сидевший неподалеку, заметил: – По-моему, популярные трактаты дают науке не меньше, чем исследовательские работы. – Я недавно закончил цикл лекций для рабочих о разных расах. Это будет как раз такая книга, о которой говорит мисс Этти. Многие из коллег Чарлза не дожили до конца 1865 года. В конце января, возвращаясь из Европы, умер Хью Фаль-конер – умер через три месяца после того, как Чарлз его стараниями получил медаль Копли. В июне после сердечного приступа скончался добрый сосед Чарлза сэр Джон Леббок. В августе умер сэр Уильям Гукер. 30 апреля вице-адмирал Роберт Фицрой перерезал себе горло. Самоубийство Фицроя опечалило Чарлза больше всего: – У меня в голове не укладывается, как этот щеголь, бывший в моем представлении идеальным капитаном, мог наложить на себя руки, – услышала Эмма, как Чарлз рассуждал вслух. – И все-таки я часто за него боялся. Его дядя, лорд Кесльри, покончил с собой примерно в этом же возрасте. Эта мысль не давала Фицрою покоя даже в юности. Все объяснилось после похорон. Фицрой начисто разорился. Чтобы оплатить его долги, была устроена подписка. Фицрой болел, переутомился; работа в Метеорологическом бюро ему опротивела, нагоняла на него тоску. Но хуже всего было то, что самый значительный его труд со времени возвращения "Бигля" в 1836 году оказался никому не нужен. Изучая собранные им метеорологические карты, он пришел к выводу, что погоду можно предсказывать. Но лондонская "Тайме" попросту высмеяла этот "бессвязный лепет". Предположение Фицроя разгромили, жестоко раскритиковали и предали забвению. И при всем том он остался одним из самых упорных и неугомонных гонителей Чарлза. – Бедняга Фицрой, пришлось-таки и ему хлебнуть горечи, которая по его милости досталась и на мою долю, – сказал Чарлз. – Нет, я вовсе не рад, что одним противником стало меньше, – добавил он, словно отвечая на свой собственный вопрос. – Я помню о его дружбе, о том, как он помогал мне в исследованиях во время славного плавания на "Бигле". Тогда он был мне другом, и в моей памяти он навсегда им и останется. Чарлз не умел предугадывать, когда его посетят новые мысли, однако подготавливать их возникновение и развитие ему определенно удавалось. Прежде чем написать "Изменение домашних животных и культурных растений", он несколько лет изучал изменение почек и семян, наследственность, атавизмы, наиболее и наименее благоприятные условия размножения. У него появилась страсть связывать в единую систему собранные факты с помощью какой-нибудь гипотезы. Теперь он загорелся идеей пангенезиса, пытаясь объяснить им явление наследственности: каждая клеточка организма, по его мнению, воспроизводится, отделяя от себя мельчайшие крупинки и передавая их зародышу или почке, из которых развивается затем новый организм. Изложив на тридцати страницах идею пангенезиса, Дарвин отправился в Лондон побеседовать с Гексли и дать ему прочитать написанное. – Это будет при вашей занятости огромным для меня одолжением. Пангенезис – грубая и скороспелая теория, но она была для меня большим облегчением, я "навесил" на нее множество фактов. Гексли согласился прочитать. – Великолепно! – воскликнул Чарлз. – Могу сказать, что я действительно герой – не колеблясь, подставил себя под обстрел вашей убийственной критики. По мнению Гексли, создавая эту гипотезу, Чарлз находился под большим влиянием французских натуралистов Бюффона и Бонне. – Я не оспариваю ваше суждение, – разочарованно проговорил Чарлз. Попытаюсь уговорить себя не публиковать эту работу. Конечно, все это слишком умозрительно. И все-таки мне кажется, что подобную точку зрения просто необходимо принять. – У меня в мыслях не было отговаривать вас от опубликования ваших взглядов, – Гексли пытался загладить неловкость. – Я не могу взять на себя такую ответственность. Представьте, что спустя полвека кто-нибудь будет перебирать ваши бумаги и, наткнувшись на эту рукопись о пангенезисе, воскликнет: "Вот какое замечательное произведение, а этот осел Гексли отговаривал Дарвина опубликовать его". Публикуйте свои взгляды, но не в виде окончательных теорий, а как гипотетические предположения, основанные на единственном имеющемся в нашем распоряжении факте. Не давайте филистерам в руки против себя оружие. Чарлз почитал Бюффона и Бонне, увидел, что они стоят на иных позициях. Но он отдал должное их теоретическим поискам в пространном примечании. Эмма, также как и дети, считала, что главная черта в характере Чарлза – нетерпимость к жестокости. В семьях Дарвинов и Веджвудов всегда осуждалось рабство. В 1863 году лондонские газеты перепечатали "Манифест об освобождении рабов" Авраама Линкольна – Дарвины радовались безмерно. А как стало легко на душе, когда 14 апреля 1865 года в Америке закончилась Гражданская война: девятого числа в Апоматоксе генерал Грант принял капитуляцию войск генерала Ли. Впрочем, в "Таймсе" чаще появлялись гнетущие и безотрадные известия. Эмма умоляла его не читать "Тайме", и Чарлз в конце концов внял ее уговорам. Вторую половину дня Чарлз занимался главным образом тем, что просматривал старые научные журналы, читая и конспектируя статьи для своего труда "Изменение домашних животных и культурных растений". Час в день он уделял верховой езде. И всегда старался разнообразить занятия. Семейная жизнь Кэтти с преподобным Чарлзом Лэнгто-ном сложилась удачно. Правда, Кэтти часто хворала, и довольно тяжело. Но когда в Маунте слегла Сюзан, Кэтти вернулась и стала ухаживать за сестрой. Сюзан поправилась, а Кэтти сама слегла и уже больше не поднялась с постели, тихо во сне угасла. Чарлз очень горевал о младшей сестре. Внешне они были похожи и дружили, когда Чарлз жил дома. – Еще раз попробую уговорить Сюзан переехать жить к нам, – сказал он Эмме. – С тобой ей будет хорошо. Чарлз с головой ушел в работу. Кабинет, бывший столь часто полем брани, стал теперь тихим прибежищем. Активная работа поддерживала бодрость духа. Размышляя о половом отборе, Чарлз заметил: на бабочках особенно хорошо видно, что красивая окраска располагается на тех частях тела, которые особенно бросаются в глаза. Самцы имеют более яркую окраску, чем самки, особенно пестрая окраска у них на внутренней стороне крылышек. Вспомнилась птица-фрегат, живущая на Галапагосских островах; в брачный сезон их видимо-невидимо на побережье и возле болот; самец облачается на это время в ярко-оранжевый или огненно-красный воротник и, важно надувшись, расхаживает туда и сюда, привлекая своим видом самочек. Сходное явление Чарлз обнаружил и у цветов, которые своей яркой окраской привлекают насекомых для опыления. Он вступил в переписку с двумя профессорами ботаники – один из Фрайбурга, другой из Мюнхена, – обсуждая с ними мудрость природы, проявляющуюся в изменчивости функций органов, в красивом наряде цветов, яркой окраске ягод. Эти последние наблюдения ему хотелось увязать со своей теорией естественного отбора. Увлекшись работой, он забросил все хозяйственные дела, так что Эмма даже однажды спросила: – Может, я буду теперь вести все хозяйственные записи? Я не против. Чарлз любил вести запись домашних расходов и доходов, но теперь ему была дорога каждая минута. Пришло письмо от Джона Мэррея, он готовил четвертое издание "Происхождения видов". Исправления, уточнения – как все это сейчас докучало Чарлзу. Правда, тираж предполагался большой – тысяча двести пятьдесят экземпляров, это сулило приличный гонорар в двести тридцать восемь фунтов стерлингов. – Будет что записать в графе доходов, – улыбнулся он Эмме. Одновременно он проверял, исправлял, дополнял рукопись "Изменения". Набралась уж amp; тысяча страниц, но он медлил с заключительной главой, пока рукопись не отослана в типографию. Работа продвигалась успешно, это благотворно сказывалось и на здоровье. В середине апреля он даже предложил Эмме съездить в Лондон к Эразму, который давно их приглашал. Эмма обрадовалась. Она уже не помнила, когда была в театре, на концерте. В поездку взяли с собой и дочерей. Работа двигалась быстро, но и лето 1866 года не стояло на месте. Однажды, вернувшись с прогулки в экипаже, Эмма воскликнула: – А я уже почти забыла, как приятно дышать свежим воздухом! – Я тоже, – отозвался Чарлз. – Но мне грех жаловаться. Главы "Изменения" принимают постепенно законченный вид. Друзьям Гексли и Карлейлю – начинают воздавать почести в Эдинбургском университете. Уоллес скоро женится на восемнадцатилетней Энни Миттен, дочери знакомого ботаника. Жених, правда, на двадцать пять лет старше, но сил и мужественности ему не занимать: наверное, их семейный союз окажется удачным. У Лайеля выходит уже десятое издание "Основ"; для научной книги неслыханное чудо. Он дополняет ее все новым материалом. Гукер после смерти отца стал директором Ботанического сада. Он сделает его богаче и разнообразнее, все будет вестись по-научному. Он говорит, что часов шесть в день проводит на воздухе. На лето сыновья съехались домой, а в сентябре Френсис поедет учиться в Тринити-колледж. Мальчишки резвились, как щенята, и Чарлз с ними. Генриетта побывала на юге Франции. Она с упоением рассказывала о Сен-Жане, "маленькой бухте, расцвеченной желтыми и красными треугольными парусами". Элизабет уже девятнадцать, и она начинает самостоятельную жизнь. Она часто читала отцу нашумевшие книги, будь то роман Чарлза Кингсли, сочинение Джордж Элиот о временах английской Реформации или роман Шарлотты Йонг "Голубь в орлином гнезде". Осенью, когда работа над рукописью "Изменения" подходила к концу, Чарлз решил, что необходимо добавить главу о происхождении человека, может быть самую важную и принципиальную. Она логически завершит книгу, без нее рукопись ощущается неполной. Он должен вписать последние страницы в работу, которую не удалось довести до конца Лайелю. – Тогда не придется писать отдельный фолиант о человеке. Можно будет ограничиться одной главой. И тогда я свободный человек. Сестра его Сюзан часто болела. Она всю жизнь прожила в Маунте, отказывалась от приглашений Чарлза, Эммы и других родственников, не желая покидать отчий дом. В октябре, шестидесяти трех лет от роду, она умерла. Похоронили ее в Шрусбери. Каролине и Эразму Чарлз сказал: – Я, кажется, догадываюсь, почему Сюзан не покидала Маунт, хотя последние годы жила там в одиночестве ив одиночестве умерла. Она боялась порвется ниточка, связывающая ее с отцом. А она больше всех на свете любила его. Потому и замуж не вышла. – Я это чувствовала, – сказала Каролина. Чарлз получил отчет о распродаже имущества усадьбы Маунт – деньги выручили немалые. Домашняя утварь, мебель, книги, фортепьяно, добротная голубая карета от лондонского мастера с упряжью и "багажной корзиной наверху", фаэтон доктора Дарвина "на самых лучших рессорах, обитый коричневой тканью", "модный четырехколесный экипаж, почти что новый…". Чарлз закрыл глаза и увидел отца, возвращающегося домой после долгого дня работы. Деньги от аукциона разделили между детьми Марианны Паркер, как того и желала Сюзан. Когда продали дом, на Чарлза навалилась тоска по ушедшим дням. "Прекрасный старый цветник, площадка для прогулок, сад с оранжереей, пять акров земли". С домом продавались: четыре конюшни, кучерская, упряжная, кузня, псарня, амбар. Покупателям обещались "охота и гольф". В те годы, когда Чарлз жил в Маунте, площадки для гольфа еще не было. Но охота в окрестностях Шрусбери и тогда была отличная, особенно около Вудхауса. Там он влюбился в Фэнни Оуэн. Ни от нее, ни от ее сестры Сары он и строчки не получил с тех пор, как вернулся в Англию. Прошло несколько дней после смерти Сюзан; Чарлзу все не работалось, и вот мало-помалу он стал понимать, что ни единой строки о происхождении человека он в рукопись "Изменения" не добавит. На то было две причины. Первая – критики, главным образом теологи, сразу набросятся на главу о человеке, обойдя вниманием тридцать с лишним глав о растениях и животных. Вторая причина – нельзя рассматривать эволюцию человека в одной-единственной главе в конце рукописи, насчитывающей тысячу страниц. Нужен простор, чтобы изложить свою теорию, обосновать ее, связать воедино все звенья, чтобы получилась неразрывная цепь. Целая книга отнимет годы, но это не страшно: уже собран огромный материал, на котором можно построить теорию происхождения человека. Хорошо бы еще включить объяснение этнических различий народов земли. К 21 декабря Дарвин завершил правку "Изменения" и остался доволен: лучше, чем есть, он не мог бы сделать. Джона Мэррея смущал объем книги; он сказал Чарлзу, что для однотомника она велика. Пришлось бы набирать мелким шрифтом, сокращать поля. Он предлагал издать книгу в двух томах, приблизительно одинаковых по объему. Дорогостоящая затея: оба тома будут стоить один фунт десять шиллингов. Чарлз написал Мэррею: "Трудно передать, как огорчительно, что книга слишком велика по объему. Боюсь, она себя не окупит. Но сократить не могу. Даже если бы и предвидел ее объем, не изъял бы ни одной главы. Если вы побоитесь ее напечатать, тотчас же уведомьте меня. Я приму это как отказ. Если решитесь печатать, отдайте наиболее понятные главы на суд человеку, которому вы доверяете. Умоляю, не беритесь печатать, не взвесив все хорошенько, ибо, если вы из-за меня окажетесь в убытке, я не прощу этого себе до конца дней". Дожидаясь ответа Мэррея, Чарлз пребывал в мрачном, раздраженном настроении. Ходил как неприкаянный, и вот ожиданию пришел конец: Мэррей написал, что расходов он не боится, несмотря даже на то, что для иллюстраций потребуется сорок три доски. Книгу он издаст, хотя один из его друзей, человек, близкий к литературе, познакомившись с рукописью, высказался о ней отрицательно. Чарлз закончил последнюю главу "Изменения домашних животных и культурных растений", назвав ее "Заключительные замечания". Она была короткая, но содержала несколько строк с грозным предупреждением: "Если всемогущий, всеведущий создатель все планирует и предвидит, то мы поставлены перед лицом проблемы, которая так же неразрешима, как проблема свободной воли и предопределения". Год отнимет у него кропотливая правка гранок, что-то он пересмотрит, что-то прояснит. И затем с легким сердцем – ведь Мэррей уже печатает книгу – кто же еще взялся бы печатать? – он вновь садится в любимое кресло за крытый зеленым сукном письменный стол в своем кабинете и начинает писать первую главу "Происхождения человека". И снова он невольно обманывает себя, думая, что напишет "один не очень объемистый том". В феврале они отправились на неделю к Эразму в Лондон: отпраздновать день рождения Чарлза (ему исполнялось пятьдесят восемь лет) и отметить двадцать восьмую годовщину своей свадьбы. Чарлз заранее известил Уоллеса, Гексли, Гукера и Лайеля и назначил день встречи с каждым из них. Первым он навестил Уоллеса, проживавшего теперь на Сант-Марк, в доме No 9, вблизи Риджент Парк Роуд. Его жена Энни готовилась летом стать матерью. Своего первенца – если, конечно, родится мальчик – они намеревались назвать в честь Герберта Спенсера, ученого-философа, который пустил в оборот выражение "выживание сильнейших", с тех пор прочно вошедшее в обиход дарвинизма. С Уоллесом у них получился длинный разговор. Вначале – к обоюдному удовольствию – их точки зрения совпали, затем при обсуждении "выживания сильнейших" Чарлз сказал: – Я не могу понять, почему среди множества гусениц, имеющих защитную окраску, тем не менее попадаются ярко окрашенные экземпляры – прямо художественная работа?.. – Можно предположить, что эти подозрительные гусеницы, а также прочие насекомые, непригодные в пищу птицам, дают о себе знать подобным образом, осмелился заметить Уоллес. Лицо Чарлза озарилось неподдельной радостью. – В высшей степени оригинально, Уоллес! Развивая идею, столь занимавшую его в последнее время, Чарлз выразил мнение, что изучение полового отбора привело его к решению опубликовать небольшую работу на тему о происхождении человека. – Ведь половой отбор является, по сути, основным фактором, влияющим на формирование различных человеческих рас, – сказал он. И тут он почувствовал, что Уоллес не согласен. Но почему? Возможно ли, что он сам готовит книгу по данному вопросу? Или снова все упирается в проблему первой публикации? В это он поверить не мог. Уоллес никогда не стал бы ограничивать его; он был человек с благородным сердцем. Разве не настаивал он публично в одной из работ на том, что первенство в исследовании и разработке вопроса о происхождении видов путем естественного отбора принадлежит Чарлзу Дарвину? Он отогнал от себя эти пустые подозрения. Однако на их месте возникло еще одно: ведь в статье "Развитие человеческих рас под действием естественного отбора" Уоллес прямо сформулировал мысль о том, что на человека не распространяется действие законов, определяющих развитие всего органического мира. Не в этом ли кроется причина уоллесовских опасений? Иначе он не отговаривал бы его столь откровенно. – Я намеревался включить главу о происхождении человека в "Изменение домашних животных и культурных растений", так как многие называют его, правда незаслуженно, выдающимся одомашненным животным, – сказал Чарлз. Теперь же я нахожу, что эта проблема выходит за рамки отдельной главы. Единственная причина, по которой я поднимаю этот вопрос, заключается в том, что половой отбор всегда составлял объект моего неослабного интереса. Когда-то я думал, что просто доставляю себе этим удовольствие, но сейчас ко мне пришла уверенность, что предмет изучения более достоин интереса и внимания со стороны науки, чем вы, по всей видимости, допускаете. На следующий день Чарлз поехал в Ботанический сад в Кью, где жили Гукеры. Январские заморозки и обильный снежный покров погубили много старых деревьев, более половины всех кустарников и почти все молодые сосны и кипарисы. Он ожидал найти Гукера удрученным, но ошибся: тот встретил Чарлза весьма бодро. – Чтобы справиться со всем этим, мне потребовалось немалое мужество и уверенность, что не все потеряно, – заявил Гукер. – Когда шок прошел, я вдруг увидел возможность извлечь немало пользы из того, что произошло. Теперь можно высадить растения по системе, которая обеспечит полный набор образцов. Первый сад создавал мой отец. Сейчас очередь за мной. – Он робко улыбнулся и прошептал: – Ландшафтное садоводство – моя страсть, вы ведь знаете. Потом Гукер демонстрировал свои достижения: семь газонов, которые лучами разбегались от пагоды; еще одну газонную полосу, что была высажена параллельно реке, и, наконец, новые площади, отведенные под сезонные цветы и кустарники. – Ах, Гукер, впереди у вас счастливое время, заполненное творческой активностью, – воскликнул Чарлз. – Со временем Ботанический сад Джозефа Гукера в Кью станет одним из прекраснейших в мире. В ответ Гукер тихо рассмеялся: – К этому я и стремлюсь. Мне хочется, чтобы вы могли гордиться мною. Спустя два дня он посетил лекцию Гексли о тяжелейших условиях жизни безработных в Ист-Энде. Ученый подверг суровой критике политику имущих, пренебрегающих нуждами неимущих сограждан, которые продолжают прозябать в нищете и голоде. – Все мы за социальную справедливость, против крайней нищеты, но именно ваша деятельность приносит плоды. Ваш голос, я уверен, будет услышан, – сказал Чарлз, обращаясь к Гексли, когда они выходили из зала. Потом они вместе приняли участие во встрече прогрессивных преподавателей средних школ, на которой Гексли рекомендовал включить изучение естественных наук в программу закрытых частных средних школ. Лайель развивал ту же идею в более влиятельных кругах. Во время чаепития у Лайелей на Харли-стрит хозяин попросил Чарлза прислать ему гранки "Изменения", и он обещал выслать первый же оттиск. Вернувшись в Даун-Хаус, Чарлз не раз спрашивал себя, почему правка не приносит ему никакого удовлетворения, – ведь он работал над книгой с таким упоением. А тут недели оборачивались месяцами, а дело не близилось к концу. В мае Эмма с дочерьми съездила в Кембридж повидаться с Джорджем и Френсисом и посмотреть лодочные гонки. Братья ожидали их в своем общежитии. После обеда прошлись все вместе по городу, осмотрели прекрасные каменные здания колледжей. На следующее утро наняли экипаж и проехали три мили до реки, где и расположились, чтобы наблюдать за состязаниями гребцов. Это было прекрасное зрелище: двадцать лодок медленно приближались к месту старта, гребцы – как на подбор симпатичные, атлетически сложенные юноши в разноцветных спортивных костюмах. Прозвучал выстрел стартового пистолета, и зрители ринулись по тропинке вдоль трассы, вслед за лодками. Река Кем не могла вместить по ширине больше одной лодки, так что, если задней случалось врезаться в идущую впереди, та была вынуждена уступать ей дорогу, прижимаясь к берегу. После гонок пили чай в комнате Джорджа: подали рыбу, отбивные котлеты и пирожные. Следующие два дня они провели в хлопотах, завтракали у Френсиса, а ленч, обед и прочие угощения заказывали на кухне Тринити-колледжа. В последний вечер перед отъездом неожиданно потеплело, так что все съездили в Эли и посетили местный собор, славящийся своими размерами. Вскоре, удостоверившись, что Чарлз отлично себя чувствует и дома все образцово налажено, Эмма позволила себе отдохнуть и отправилась в столь редкий для себя "отпуск" в Равенсбурн, отстоявший на шесть миль к северо-западу от Дауна. Она любила этот тихий городок отчасти и потому, что летом дожди здесь преимущественно шли по ночам. Она взяла с собой книгу с забавным названием "Свадьба в Ланкашире, или мораль Дарвина" и читала ее в дороге. В одном из писем домой она писала: "Мораль ясна и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять ее: ради женитьбы на богатой, но больной и сварливой девице неразумно отказываться от счастья любви с хорошенькой, здоровой, но бедной девушкой. Следовало бы представить все иначе: герой отказывается от счастья любви с красивой, но больной девушкой и женится на здоровой, к которой он не испытывает никакого чувства. Книга эта настолько скучна, что недостойна даже деревенской библиотеки". Дома все шло своим чередом, и это радовало Чарлза. С утра до вечера он работал, уединившись в своем кабинете. Летом в Лондоне прошли прощальные выступления одной из знаменитых актрис Англии – Кейт Терри. Она покидала сцену в связи с замужеством. Вернувшись в Даун-Хаус, Эмма съездила на несколько спектаклей с ее участием. В этих поездках Эмму сопровождали дочери. Шесть миль до ближайшей станции в Бромли проезжали в открытом экипаже, запряженном парой небольших, но быстрых серых лошадок. Каждый раз возвращались ночным поездом, и так как погода стояла на редкость хорошая, а небо было усыпано звездами, то эти обратные поездки со станции доставляли всем особое удовольствие. Они составляли основное содержание того, что Генриетта описывала как "почти неслыханно легкомысленный образ жизни, которым наша мать наслаждалась наравне с нами". По мере получения оттисков из типографии Чарлз отсылал по одному экземпляру Лайелю и Асе Грею в Бостон. Особенно радовала его глава о пангенезисе и наследственности. В этой связи он писал Асе Грею: "… что это? Мечта сумасшедшего или мечта, достойная внимания науки? В глубине души я уверен в том, что она несет в себе великую правду". Алфред Уоллес опубликовал работу о половом отборе у птиц и продолжал отговаривать Чарлза от публикации работ на тему о происхождении человека. Однако в конце концов он смирился с невозможностью добиться своего и сказал: – Работа над этой проблемой прославит вас, но с таким предметом должно обращаться осторожно. Замечание Уоллеса навело Чарлза на мрачные размышления. Да, с этим предметом надо быть предельно осторожным – это известно ему лучше, чем кому-либо другому. И разве он закрывает глаза на то, какой неистовый отпор встретит его точка зрения, разве он не представляет себе заранее, что голоса оппонентов смолкнут ох как не скоро? Но вот насчет "деликатности" обращения с предметом (ведь именно на это и намекает, кажется, Уоллес) тут он не согласен: там, где речь идет о поисках истины в вопросе об эволюции природы, нет места "осторожности". Либо устанавливаешь наличие фактов и описываешь их так, как они есть на самом деле, либо вообще отказываешься от дела. Он знал наверняка: небеса над ним разверзнутся. Каковы бы ни были сомнения, одолевавшие его по поводу того, как примут книгу, они исчезли, когда он получил письмо от Лайеля, уехавшего в Париж на выставку. Туда же отправился и Гукер, в чьи обязанности входила экспертиза ее ботанической секции. Лайель писал: "Хочу сказать Вам, что считаю за честь для себя возможность читать Вашу работу до ее опубликования. Она выходит далеко за пределы того, что я ожидал, как по количеству оригинальных наблюдений, так и по разнообразию материала, собранного из множества источников, который будет способствовать истинному пониманию Вашей книги "Происхождение видов", чего, я полагаю, не случилось бы, будь новая книга Вашим первенцем". Эти несколько строк несказанно ободрили Чарлза. В конце октября состоялся традиционный осенний аукцион Джона Мэррея. Он объявил, что напечатает полторы тысячи экземпляров, тысяча двести шестьдесят из которых были заказаны заранее владельцами книжных магазинов к радости издателя и автора. Появилось третье издание "Происхождения видов" на немецком языке и второе – на французском. Он был удостоен новых почестей и наград; и хотя они столь мало значили в его жизни, в то же время это было свидетельством серьезного отношения к его работе за рубежом. В Пруссии его удостоили звания кавалера ордена "За заслуги" (привилегия, редко выпадавшая на долю англичанина), в России он был избран членом Петербургской академии наук. Наконец в январе 1868 года новая книга – "Изменение домашних животных и культурных растений" – была представлена на суд широкой публики. Она хорошо распродавалась, и интерес к ней был велик. Через две недели Мэррей информировал Чарлза о скорейшей необходимости второго издания, предлагая немедленно высылать список замеченных опечаток. При вычитке гранок Чарлз исправил двенадцать опечаток, теперь – лишь одну. Он читал все отзывы и рецензии на свою книгу, которые мог достать, остальные присылали друзья. Газета "Пэлл-Мэлл" поместила положительную рецензию, "Атеней" – как всегда – ужасную. Отзыв "Хроники садоводов" отличала солидность. В разговоре с Эммой и детьми Чарлз заметил: "Прежде всего это будет способствовать продаже и распространению книги". Одна из эдинбургских газет выразила ему глубокое презрение. Не менее категоричен в оценке был и герцог Аргильский. С другой стороны, Аса Грей отозвался о книге с восхищением. Он поместил рецензию в журнале "Нейшн", пытаясь привлечь к ней внимание натуралистов и ученых-естественников Америки. Как и предсказывал Чарлз, книга не вызвала разночтений, ее рассматривали как отчет натуралиста по вопросу развития видов. Серьезные возражения исходили лишь от Ричарда Оуэна и некоторых других, которые отказывались поверить или принять на веру, что естественный отбор является способом существования вида или его смерти. Время стало своеобразным зонтиком, защищавшим его от невзгод. Месяцы, в течение которых он чувствовал себя хорошо и мог напряженно работать подряд по три-четыре часа и, кроме того, писать ежедневно по десятку писем специалистам, снабжавшим его информацией по вопросу полового отбора, создавали у Чарлза ощущение непрерывности работы. Более чем когда-либо, его деятельность приобрела теперь ощутимую цельность. В дневнике он отметил, что подолгу работал над завершением глав "О способе развития человека из низших форм" и над "Сравнением умственных способностей человека и низших животных". И для Эммы эти годы проходили незаметно, подобно плавному течению спокойной реки. Текли дни, похожие друг на друга, иногда по воскресеньям она посещала церковь, одев подходящее платье и шляпку. В юности время казалось ей цепью горных вершин, которые нужно преодолеть, теперь жизнь походила скорее на равнину, и только иногда вдали виднелся небольшой пологий подъем. Для них обоих чувство устойчивости жизненного уклада обретало дополнительную силу в сознании тех успехов, которых добились их сыновья в учебе. Джордж стал вторым по успеваемости в математических науках в Тринити-кол-ледже. За это полагался приз, и он мог рассчитывать на получение стипендии. Они узнали об этом из телеграммы. Парою принес бутылку шампанского из погреба, Чарлз и Эмма выпили за успехи своего отпрыска. Чарлз написал Уильяму в Саутгемптон, Ленарду и Горасу в Клэпхем и сообщил им эту приятную новость. Френсис помог Джорджу устроить вечеринку в Тринити. Джорджу Чарлз написал: "Я так счастлив, я поздравляю тебя от всего сердца, от всей души. Я всегда говорил тебе с детства, что такая энергия, такое упорство и талант, как у тебя, будут в конце концов вознаграждены. Но я не ожидал такого блестящего успеха. Снова я поздравляю тебя. Благослови тебя бог, мой мальчик! Желаю успехов". На следующий день он был поражен, увидев в зеркале кабинета, что по дорожке к дому бегут его младшие сыновья. Он вышел на порог и крикнул им: – Что это вы делаете дома? Зардевшись от волнения, Горас ответил: – После того как в школу пришло твое письмо о Джордже, нас отпустили с занятий, и мы играли в футбол в зале, угрожая окнам и картинам на стенах. Ленард продолжал: – Директор собрал нас всех в холле и сказал, как замечательно, что выпускник Клэпхема занял второе место на испытаниях по математике в колледже с такими высокими требованиями, как Тринити. Он сказал, что это поднимает престиж нашей школы в глазах научной элиты, и, чтобы отпраздновать это событие, предоставил нам выходной день. – Мы доехали в наемном экипаже до Кестон-Марк, – сказал Горас, – а потом шли пешком остаток пути до дома. Другие ребята отправились в Кристал-Пэлас, но мы хотели быть с вами в такой день. Эмма обняла обоих мальчиков, а Чарлз пожал им руки. Ленард сказал: – Я хочу добиться таких же успехов, как Джордж, потому что собираюсь поступить в Королевскую военную школу в Вулвиче и стать королевским инженером. Чарлз почувствовал, как слезы набегают ему на глаза. 4 февраля 1868 года, когда он начал наконец писать книгу о происхождении человека, он понял, что именно сейчас, в возрасте пятидесяти девяти лет, достигает высшей точки в работе. "Не в том смысле, конечно, что я исписался, – думал он, – напротив, материала хватит на добрых полдюжины монографий: о выражении эмоций, о насекомоядных растениях, – проблем, которые волнуют меня вот уже много лет, достаточно…" Эти книги станут скромным вкладом в пополняющуюся сокровищницу знаний, это будут выдержки из капитального труда объемом в две тысячи страниц, который он никогда не собирался печатать. Он, разумеется, не считает их менее заслуживающими внимания, чем книга о происхождении человека. Скорее, они станут логическим продолжением наблюдений над природой и ее исследования, то есть того, чему он когда-то положил начало на корабле "Бигль", когда второпях соорудил небольшую сеть и прикрепил ее к полукруглой дуге, так чтобы корабль тащил ее за собой. Тогда он впервые, пораженный размером улова, попытался найти объяснение непонятному дотоле факту, что такое количество великолепных экземпляров живых существ могло обитать столь далеко от суши. На следующий день после этого замечательного события он записал в своем дневнике: "Я ужасно устал, проработав целый день над описанием моего улова… Многие из этих существ, которые находятся на столь низкой ступени развития, совершенно изумительны по формам и богатству окраски. Это создает ощущение чуда, вызывает удивление, почему такое обилие красоты, по существу, создано для такой ничтожной цели (11 января 1832 г.)". В то время, еще не сознавая этого, он сделал лишь первый шаг на пути, который превратил его в "законченного натуралиста", как и предсказывал Джон Генсло. Всю свою жизнь он искал ответы на вопросы, которые ставила перед ним природа. Больше всего Дарвина огорчило, как приняли по прочтении его книгу "Изменение домашних животных и культурных растений", в которой он изложил теорию, названную им пангенезисом [Пангенезис – умозрительная гипотеза наследственности, согласно которой признаки и свойства родителей передаются потомству посредством мельчайших зародышей – геммул, поступающих в полоные клетки из всех других клеток организма. При развитии нового организма геммулы дают начало такого же рода клеткам, какими они образованы. Дарвин считал гипотезу пангенезиса "временной" и позднее сам признал ее неудовлетворительной. – Прим. пер.]. Рецензенты обошли ее молчанием, а ведь она казалась ему самым важным элементом книги. Возможно, потому, что это была одна из его свежих идей, еще ни с кем, кроме Гексли, не обсужденная (Гексли она не понравилась, что не помешало ему, впрочем, настоять на ее публикации). Когда Чарлз снова поехал в Лондон навестить Эразма, то не раз наведывался в зоологический сад, где изучал расцветку павлиньих хвостов, раскраску зебр и жирафов. Вечера он проводил с Лайелем, Гукером и Уоллесом, обсуждая с ними все волновавшие его вопросы. Как-то раз, сидя напротив Чарлза за столом в "Атенее", Лайель, как всегда добродушно рассмеявшись, объявил: – Я говорю всем: можете не верить в пангенезис, но, когда вы разберетесь в этой теории как следует, она вас покорит. Гуляя с Чарлзом по Ботаническому саду в Кью, Гукер высказывал ему свои сомнения: – Боюсь, вы будете смеяться над моим невежеством, – говорил он, – но я вижу в пангенезисе лишь то, что – как я давно предполагаю – составляет основополагающую идею всех учений о развитии, а именно: переход к потомству всех свойств и качеств родителей… И тем не менее я считаю главу о пангенезисе самой замечательной во всей книге и самой интересной – она плод работы выдающегося ума. И вам самому она ведь так нравится! Гроша ломаного не дам за то, что они об этом думают! Я уверен, что на каждую сотню ученой братии в лучшем случае только один по-настоящему способен оценить эту идею. Мне самому еше предстоит в ней как следует разобраться. Сэр Генри Холланд за обедом у Эразма сказал: – Я нахожу книгу трудной для понимания, но допускаю истинность вашей концепции в Общих чертах. Как ни странно, именно Алфред Уоллес, который, казалось, возражал против всего, что было написано Чарлзом на тему о происхождении человека, за чаем в доме Эразма дал идее пангенезиса самую высокую оценку. – Я начал читать прямо с главы о пангенезисе, уж очень мне не терпелось. Просто не могу вам не выразить своего восхищения. Так здорово получить в руки объяснение тех трудностей, что всегда не давали мне как следует работать. Вряд ли возможно предложить более совершенное объяснение, а это значит, что я буду не в силах расстаться с вашим. А потом в Дарвина полетели камни. Виктор Карус, пунктуальный немецкий переводчик, переслал ему свой неблагоприятный приговор: теория слишком сложна. Джордж Бентам, сотрудник Гукера по энциклопедии растений, сказал, что он просто не в состоянии переваривать идею пангенезиса. В одной английской рецензии также содержалась мысль, что эта концепция недоступна для восприятия. Статья Асы Грея в "Нейшн" дала американцам представление о том, что Чарлз пытался сформулировать как один из законов природы. В ответ Чарлз с благодарностью писал: "Пока что пангенезис – это младенец в пеленках, обласканный лишь немногими, кроме своего заботливого родителя. Надеюсь, однако, что ему предстоит долгая жизнь. Вот вам и родительская самонадеянность!" Наиболее активный творческий поиск в области естественной истории вела в Великобритании группа ученых, в которую входили Чарлз Дарвин, сэр Чарлз Лайель, Джозеф Гукер, Томас Гексли. В последние шесть лет в ту группу входил также и Алфред Уоллес. Чарлз Дарвин прекрасно понимал, что, не будь их рядом, его жизнь как ученого и как человека стала бы бесцветной и ограниченной – не будь этой столь необходимой ему дружбы, конструктивной критики, поощрения и одобрения с их стороны. В определенном смысле они составляли некий эквивалент профессуры колледжа. Еще раньше, в 1844 году, Чарлз говорил: "Я всегда считал, что все написанное на добрую половину зародилось в голове Лайеля". То, что они замышляли, о чем рассуждали, было частью их общей работы мысли. Град писем, статей, монографий, распространившихся по всему свету, содержавших научные прозрения и фундаментальные научные понятия, сформировал целое поколение ученых. Все вместе они перевернули мир представлений, изменили способ мышления человека о себе самом и об окружающем его мире, способствовали истреблению предрассудков и предубеждений против тех, кто не разделял ортодоксальных религиозных убеждений, наконец, принесли освобождение от жесткой церковной догмы и всепроникающего контроля церковной иерархии, который распространялся не только на школьную систему образования, прессу и правительственные круги, но и на повседневную жизнь. Теперь появилась надежда на интеллектуальную независимость, индивидуальную свободу от диктаторского засилья церкви. Теперь, когда с человеческой мысли, похоже, скоро спадут оковы мистицизма, она сможет достичь еще невиданных высот. Став хозяином своей судьбы, человек обретет свободу, которая предопределит будущие великие свершения. Вместе они составляли организацию, общество, хотя специально и не стремились к этому, но, как таковое, они утвердились в мнении других естествоиспытателей. За рубежом к ним относились как к авторитету, обсуждали и изучали их идеи от Санкт-Петербурга на севере до Неаполя на юге. Их переписка, эти пространные письма, в которых они излагали свои научные проблемы, могли бы составить полдюжины первоклассных томов в издании Джона Мэррея. Судьба собрала их в одно время и в одной стране. Подобно тому как современный мир театра, философии, образования обязан своим возникновением Софоклу, Еврипиду, Сократу и Платону в Афинах, а переворот в живописи XVI века – Микеланджело, Леонардо да Винчи, Лоренцо Медичи и Рафаэлю в Риме и Флоренции, так и зарождение интереса к истории земли и ее обитателей связано с деятельностью этих пяти ученых в Лондоне. Окружение ли сформировало и направило их научные интересы, сами ли они создали друг друга? А может статься, нужда в их деятельности была столь велика, что само время и социальные условия способствовали созданию той основы, на которой в полную силу расцвели их дарования? Чарлз был убежден, что ни один из них не смог бы выполнить своей столь важной и насущной функции без любви, преданности и постоянной поддержки со стороны остальных. Силу их чувства друг к другу с полным основанием можно назвать любовью. Они всегда боролись друг за друга, сражаясь отважно, даже если это было связано с опасностью. Но никогда они не наносили ударов друг другу, не поддавались чувству ревности, зависти, злобы. Их содружество было спаяно нерушимыми узами. Для Дарвинов и Веджвудов семейные привязанности оставались неизменными. После смертиШарлотты, одной из сестер Эммы, другая продала оба их дома. Элизабет всю жизнь страдала от болей в позвоночнике и сочла, что ей легче устроиться в Лондоне. – Мне кажется, Чарлз, – сказала Эмма, узнав о переезде сестры, – что Элизабет должна окончательно переселиться в Даун. Лондонские нищие утомляют и пугают ее, а в семьдесят пять лет суета большого города просто невыносима. Здесь поблизости продаются дома. Она сможет взять с собой собачку Тони и преданных слуг, а я буду в состоянии позаботиться о ней. Они подыскали дом с красивой гостиной наверху, удобными спальнями и что было важнее всего для Элизабет – с теплицей; ведь она сама была талантливым садоводом. Вскоре фигура Элизабет в сопровождении Тони замелькала на дорожках сада. Когда она появлялась в Даун-Хаусе, то непременно спрашивала с порога: – А где Эмма? Эмма всегда тепло встречала сестру и сразу бросала любые свои занятия. Она устроила дополнительную спальню специально для Элизабет, чтобы сестра могла ужинать и оставаться с ними до утра. Забота и любовь Эммы делали свое дело: Элизабет чувствовала себя теперь гораздо лучше. Все это, безусловно, приносило Чарлзу удовлетворение. Он словно возвращал часть своего долга дяде Джозу. Он методично продвигался вперед в работе над главами "Человеческие расы" и "Вторичные половые признаки у животных низших классов". Занимался по нескольку часов ежедневио, только иногда верхом на Томми выезжал размяться и отдохнуть. И вдруг неожиданно он заболел и 23 июня был вынужден приостановить работу. Этот факт не столько удручал его, сколько вызывал раздражение. – Прошло уже два с половиной года после последнего приступа. Если бы я мог понять причину заболевания, я бы так не беспокоился. – Вместо того чтобы думать о причинах, – заявила Эмма, – давай лучше найдем приличный дом на острове Уайт, куда бы мы смогли поехать отдохнуть всей семьей. В середине июля они сняли там комнаты в доме миссис Камерон. Через два дня после приезда Чарлз почувствовал себя лучше, хотя желтоватый оттенок кожи, который появился во время недельного недомогания, все еще не исчезал, Прошло несколько дней. Как-то раз, читая газету, они узнали, что Ленард прошел вторым на вступительном экзамене в военную школу в Вулвиче. Это означало автоматическое зачисление. Чарлз воскликнул: – Я так счастлив! Разве это не великолепно? Кто бы мог поверить, что бедный маленький Ленни поступит в такую замечательную школу? – Я бы первая поверила, – ответила Эмма. Скоро к ним присоединился Эразм, а потом их навестили Фэнни и Генслей Веджвуды со старшей дочерью. На несколько дней заезжал Генри Холланд. Потом – на три дня – Гукер, который был недавно избран президентом Британской ассоциации и должен был выступить на предстоящем заседании 1868 года в Норвиче. Он загодя известил их о своем посещении: "Я содрогаюсь от мысли, что должен показать Вам свою президентскую речь на этом заседании. Не могу же я настолько поддаться трусости, чтобы скрыть ее от Вас". Джозеф Гукер очень нервничал: он боялся, что в его выступлении соседствует слишком разнородная информация из области ботаники и эволюции. Во время прогулок по острову Чарлз сделал несколько предложений по докладу. После отъезда Гукера они познакомились с местным обществом. Миссис Камерон знала всех в округе. Однажды она повезла их в гости к поэту Альфреду Теннисону. Посвежевшие, они вернулись в Даун-Хаус в августе. Чарлз купил "Таимо, "Телеграф", "Спектэйтор", "Атеней" и кучу других газет и журналов, чтобы ознакомиться с отзывами на речь Джозефа Гукера. Хотя акустика в зале подкачала и голос Гукера был едва слышен, доклад прошел "на ура". Лишь "Спектэйтор" выразил недовольство по поводу его не слишком ревностной религиозности. Гукер рассказывал, что после такого отзыва его ждала довольно прохладная встреча в воскресное посещение церкви в Кью. Чарлз был убежден, что своим выступлением Гукер чрезвычайно способствовал распространению идеи эволюции видов, и немедленно написал ему: "Ваш огромный успех меня очень порадовал. Я только что внимательно прочел всю Вашу речь в "Атенее", и хотя Вы заранее ознакомили меня с ней и она мне очень понравилась, все же в тот момент я был озабочен лишь тем, чтобы найти, к чему придраться. Конечно, я упустил из виду общее впечатление и сейчас пользуюсь случаем высказать свое восхищение. Как должно быть приятно Вам сознавать, что все тревоги миновали. Должен добавить немного о себе. Никогда еще не приходилось слышать столько похвал в свой адрес, и я горжусь этим. Не могу прийти в себя от изумления: Вы так высоко оценили мою работу в области ботаники". На том же заседании, в секции "Д", выступил М. Беркли, сокурсник Дарвина по колледжу Христа, знаменитый на весь мир пионер в области систематизации патологии растений. Это была та самая секция "Д", на которой когда-го – в бытность Генсло ее президентом в Оксфорде – Гукер и Гексли учинили решающий разгром епископу Уилберфор-су в дискуссии о "Происхождении видов". Беркли, в частности, заявил: "…было бы непростительно закончить эти беглые заметки, не упомянув одного из интереснейших учений нашего времени дарвиновской доктрины пангенезиса. Как и все, что выходит из-под пера этого ученого, которого я без колебаний назвал бы величайшим естествоиспытателем нашего времени, данная теория нуждается в тщательном и беспристрастном рассмотрении…" Итак, речь Гукера опубликована, теория пангенезиса заняла подобающее ей место в истории науки, как прежде это случилось с "Происхождением видов" после заседания в Оксфорде. Чарлзу потребовалась дополнительная информация для одной из глав "Происхождения человека", и он пригласил к себе Уоллеса. Тот прибыл на уик-энд из Лондона, при-, хватив с собой Д. Дженнера Уэйра, специалиста по насекомым, и Эдварда Блита, в течение двадцати лет состоявшего куратором Музея Азиатского общества Бенгалии, известного знатока птиц и млекопитающих Индии. Много лет он предоставлял Чарлзу ценные сведения, получить которые другим путем представлялось практически невозможным. Это была волнующая встреча: все трое щедро делились своими знаниями. Чарлз вел дискуссии по теоретическим и спорным вопросам. В другой раз Гукер привез в Даун-Хаус Асу Грея с женой. Чарлз не видел американца с тех пор, как впервые встретил его в Кью несколько лет назад. – Восхищение и любовь, озаряющие отношения между вами тремя, заслуживают самой высокой оценки, – заметила Эмма. На следующий день после рождества Чарлз прервал работу над "Происхождением человека", чтобы внести поправки в пятое издание "Происхождения видов"; Джон Мэррей выпустил дополнительный тираж в две тысячи экземпляров. Эта работа заняла пять недель, надо было внести кое-какие поправки и довести книгу до современного уровня знаний; естественная история, подобно живому организму, росла и развивалась с каждым днем. "Прошло только два года после предыдущего издания, – писал Дарвин, – и я уже неприятно поражен тем, как много следует изменить и добавить". В это же время он позировал скульптору, работавшему над его бюстом.. Это была скучная обязанность, отрывавшая его от чтения и письма во время сеансов. Он закончил доработку "Происхождения видов" как раз к празднованию своего шестидесятилетия. Из Лондона приехали Эразм, семейство Веджвудов с детьми и Генри Холланд. Из Лейт Хилл Плейса прибыли его сестра Каролина и брат Эммы Джо. Эмма пригласила также молодого Джона Леббока и доктора Энглегарта с женами и преподобного Броди Иннеса с супругой. Генриетта как раз вернулась из Швейцарии со своими друзьями. Она стала совсем независимой. В эти же дни Джордж в Тринити отпраздновал получение звания младшего научного сотрудника, что означало возможность делать академическую карьеру, в том случае, если он этого захочет. Френсис тоже учился в Тринити-колледже, а прошлой осенью туда же поступил и Горас. Так что теперь все три брата одновременно были студентами одного колледжа такое случалось в Кембридже не часто. На юбилейном торжестве поздравительные речи сменяли одна другую. Когда очередь дошла до Генри Холланда, он сказал: – Сегодня вы празднуете свое шестидесятилетие. Кто бы мог подумать, что это станет возможным? Ведь вы провели в ожидании неизбежной смерти несколько десятилетий! Повар подал на стол огромный пирог с черешней, покрытый белой глазурью. По ней надпись: "С днем рождения!" Это постарался Парсло, использовав в качестве орудия письма маленький бумажный конус. В центре пирога были зажжены шесть белых свечей. Доктор Холланд прошептал на ухо Эмме: – От всего сердца желаю вам отпраздновать семидесятилетие Чарлза и поставить на стол пирог с семью свечами. Чарлз продолжал упорно работать над главами о половом отборе у млекопитающих и человека, медленно, но неуклонно продвигаясь вперед; "со скоростью поезда", ворчал он, смирившись с необходимостью постоянно делать остановки в работе или возвращаться назад для устранения неточностей. Несколько приятных неожиданностей подбодрили его. Во-первых, Алфред Рассел Уоллес опубликовал книгу путевых заметок "Малайский архипелаг", которую он посвятил Чарлзу. Чарлз поблагодарил его за оказанную честь и сказал: "Этим будут гордиться дети моих детей". Вышел и английский перевод книги Франца Мюллера о Дарвине под названием "Факты и аргументы в пользу Дарвина". Чарлз приобрел несколько экземпляров для рассылки друзьям. Он отправил своему ученику теплое письмо, в котором благодарил его за книгу. В частности, он писал: "Прочтя Ваше эссе, лишь отдельные фанатики, уверовавшие в не связанные между собой акты творения, способны сохранить свои заблуждения". В апреле привычное течение дней было нарушено, когда его жеребец Томми неожиданно споткнулся во время прогулки и упал. Чарлз сильно ушибся при падении. И хотя в последние три года Томми показал себя спокойным и осторожным жеребцом, отличавшимся к тому же живостью нрава и старательностью, Чарлз прекратил на некоторое время прогулки верхом. Второе происшествие он счел не менее серьезным. В апрельском номере "Куотерли ревью" была помещена рецензия Уоллеса на десятое издание "Основ геологии" Лайеля и шестое издание его же "Элементов геологии". Похвалив Лайеля за отказ от возражений против теории эволюции, Уоллес добавил, что лично он придерживается того взгляда, что человеческий мозг, а также его органы речи и рука не могли эволюционизировать путем естественного отбора. Чарлз поставил на полях "нет" и три раза подчеркнул, добавив несколько восклицательных знаков. Он почувствовал, что обязан сказать Уоллесу примерно так: "Я был бы уверен, что эти строки написал кто-то другой, если бы Вы не убедили меня в обратном. Как Вы и предполагали, я придерживаюсь прямо противоположного мнения". За обедом у Дарвинов адмирал Джеймс Саливен сообщил им, что корабль "Нассау" проплыл через пролив Магеллана, достиг берегов Южной Америки и высадил экспедицию на берегу реки Галего. Там были обнаружены останки ископаемых животных. По возвращении находки были переданы для изучения Томасу Гексли. Гексли буквально поразил один уникальный экземпляр: это была челюсть млекопитающего, в которой сохранились почти все зубы. Было доказано, что челюсть принадлежит неизвестному дотоле млекопитающему размером с некрупную лошадь. Гексли немедленно сообщил об этом Дарвину: "Какие великолепные образцы диких животных, по всей видимости, обитали в Южной Америке". В июне, после четырех месяцев напряженного труда, состояние здоровья Чарлза снова – как и год назад – ухудшилось, он был близок к истощению. Вместе с Эммой и пятью детьми он отправился в Северный Уэльс. Остановились в Бармуте, о котором у него остались теплые воспоминания еще со студенческих лет. Не хватало только Уильяма и Гораса: они не смогли выбраться. По дороге в Бармут заезжали в Шрусбери навестить Маунт. Нынешние владельцы провели их по дому. Он был заново обставлен и отделан. Когда экипаж вновь задребезжал по дороге, ведущей в Бармут, Чарлз сказал: – Останься я в одиночестве в той теплице еще минут пять, то уверен, что увидел бы отца в его кресле на колесах с такой отчетливостью, как если бы он сидел тут, напротив меня. В Бармуте они сняли хороший дом на северном берегу дельты реки, выходящей окнами на горную цепь напротив Кадер Идрис. Перед домом шли три длинные террасы, все засаженные розами и другими цветами. Чарлза одолевала апатия. Эмма ежедневно водила его за руку гулять. Террасы служили им для Этих прогулок: туда – по одной из них, обратно – по другой. Особое любопытство всей семьи вызывал велосипед, недавно привезенный из Парижа. Они никогда раньше не видели такой машины, и Чарлз сразу купил его для мальчиков. Недалеко проходила довольно ровная дорога, там сыновья и носились на двух колесах в свое удовольствие. Вскоре, однако, Ленард упал с велосипеда и сильно ушиб ногу. С тех пор машина только раздражала Эмму. К концу июля они вернулись в Даун-Хаус. Чарлз возобновил работу над "Происхождением человека". Северный Уэльс несомненно оказал на него благотворное влияние. С августа он начал читать насквозь все готовые главы о половом отборе. Гексли прислал записку, в которой сообщал о своем выступлении на прошедшем заседании Британской ассоциации в Экстере. Его назначили президентом следующего заседания, которое было решено провести в 1870 году в Ливерпуле. С присущим ему беспощадным чувством юмора Гексли писал: "Как обычно, Ваши мерзкие ереси послужили средством ввергнуть меня во всяческие неприятности на заседании. Три священника нападали на Ваши идеи и оскандалились: будь Вы самым злорадным человеком на всем белом свете, клянусь, Вам не удалось бы более ловко оставить их в дураках". Не уведомив Чарлза, Джон Мэррей запросил академию о возможности скорейшего обсуждения "Происхождения человека", что повлекло за собой поток писем от друзей и коллег с просьбой предоставить экземпляр работы. В жизни каждого человека бывают периоды,когда огорчения затмевают радости. Постоянные огорчения доставлял Чарлзу "Атеней", на страницах которого Джон Робертсон поместил ядовитую рецензию на пятое издание "Происхождения видов": "Внимание еще не означает всеобщего признания, а частое переиздание не обеспечивает истинного успеха". Огорчения соседствовали с радостями. Газеты напечатали сообщение о награждении Гукера орденом Бани за его заслуги в восстановлении Ботанического сада в Кью. Чарлз отправился в Лондон поздравлять Гукера. Сотрудники последнего чувствовали себя слегка уязвленными: они рассчитывали, что их патрон получит дворянство. Чарлз сказал: – Мне следовало бы прокричать "ура", хотя, я уверен, что вы заслужили дворянский титул. Гукер ответил: – Прошу вас, только не упоминайте этих заслуг в письмах ко мне [Орден давал право именоваться кавалером ордена Бани. – Прим. пер.]. Я не выношу этого. Признаю, что награждением отмечены мои чисто служебные успехи и это, возможно, поможет скорее преодолевать некоторые формальности в переписке с Индией и другими колониями. Но как ученый я испытываю неприязнь к подобным условностям. Кстати, как продвигается ваша работа над "Человеком"? – Бьюсь над текстом по-прежнему: хочется, чтобы было понятным каждое предложение. К тому же я устал от этих бесконечных мужских и женских особей, от петухов и кур. Глаза Гукера весело блеснули за стеклами очков. – Победа не всегда дается только отважным, иногда ее добиваются настойчивостью. Нетерпение – добродетель молодости! – Согласен, но вы-то покорили мир на лету, – ответил Чарлз. Подытожив свои достижения, он пришел к выводу, что 1869 год был успешным для него и для Ассоциации. Листы практически завершенной рукописи были навалены на письменном столе. Положительными отзывами встретила шведская общественность выход в свет перевода "Происхождения видов". Вместе с Гукером и Гексли он был принят в члены Американского философского общества в Филадельфии. Гукер работал над учебным пособием по флоре Британских островов, выполняя настоятельную просьбу шотландской профессуры. Нынешний учебник, написанный еще его отцом, устарел. Были серьезные основания надеяться, что книгой Гукера будут пользоваться учащиеся школ в Англии и Шотландии. Уоллес и Гексли продолжали постоянно публиковаться Алфред Уоллес и его жена Энни захотели приобрести за городом обширный участок земли, заросший лесом. Условием покупки было также наличие ручья или небольшой речки в пределах владения. Уоллес прислал Чарлзу экземпляр своей новой книги "Естественный отбор". Предисловие представляло собой почти панегирик "дарвинизму". В ответном письме он писал Уоллесу, с которым все еще находился в состоянии дружеской дискуссии по вопросу о происхождении человека: "Хотелось бы полностью оправдать Ваши похвалы. Надеюсь, Вам доставит удовольствие мысль, что, хотя мы и являемся в известном смысле соперниками, мы никогда не испытываем чувства ревности друг к другу. Лично мне это приносит удовлетворение, как ничто другое. Я говорю сущую правду и более чем уверен, что это справедливо и в отношении Вао". Чтобы как-то восполнить нехватку общения, Чарлз купил собаку по имени Боб. Это был нечистопородный черно-белый ретривер, который теперь сопровождал его на прогулках по Песчаной тропе. Когда Чарлз останавливался, чтобы немного поработать в оранжерее, Боб сидел снаружи с выражением полного неудовольствия. Чарлз отметил это для своей будущей книги об эмоциях. И когда у кого-нибудь в семье появлялось на лице выражение нетерпения или грусти, ему обязательно говорили: – Ого, ты похож на "оранжерейного" Боба! Генриетта прочла рукопись и кое-где внесла в нее поправки, исправляя неясности стиля. Когда она поехала ь Канны, на юг Франции, погостить у двоюродных братьев м сестер, Чарлз прислал ей туда рукопись главы "Разум". Получив ее обратно, он принял большинство исправлений я предложений дочери. Генриетта ясно излагала свои мысли и разработала такой способ вносить исправления, что он избавил Чарлза от многих неприятностей. Он писал: "Ты так помогла мне, но, боже милостивый, как напряженно, должно быть, ты работала, как тщательно исправляла мою рукопись. Теперь я вполне доволен этой главой. Любящий, покорный и восхищающийся тобой отец". До сих пор качество гравюр в его книгах оставляло желать лучшего, а между тем "Происхождение человека" надо было снабдить значительным количеством иллюстраций. Через смотрителя отдела зоологии в Британском музее он нашел некоего Форда, превосходного гравера, отличавшегося особым умением передавать мельчайшие детали раскраски перьев у птиц. Птицы, изображенные на его гравюрах, производили впечатление живых, так что Чарлз невольно провел пальцем по поверхности бумаги, чтобы убедиться, что это просто-напросто оптический обман. Не хуже оказались и гравюры с изображением рептилий. Чарлз предполагал, что в марте можно будет сдать рукопись в печать, но, как всегда, основная тема потянула за собой побочные рассуждения, и это развитие трудно было остановить. Мыслительный процесс невозможно прервать. В разговоре с одним из посетителей он заметил: – Одному богу ведомо, когда я наконец завершу этот труд. Постепенно были написаны главы об умственных способностях, моральном чувстве, развитии интеллекта, о переходе от низших форм к высшим. Теперь он рассчитывал, что закончит книгу только к осени 1870 года, и с головой ушел в работу; за несколько месяцев он принял одного посетителя. Отдыхал за выращиванием перекрестноопыляющихся и самоопыляющихся растений, часть из которых высадил в теплице, остальные разместил прямо на камине. Опыты принесли ряд интересных результатов, в частности любопытные аномалии. Этим объяснялись непомерные на первый взгляд затраты, на которые шла природа, допуская частые случаи скрещивания столь различных особей. Неожиданности, таящиеся в природе, приводили его – как и прежде – в трепет. По привычке он не выдержал и прошептал: – Какой странный, удивительный мир! В конце мая они решили навестить сыновей в Кембридже и заранее заказали комнаты в отеле "Бул". Тридцать три года он не был здесь, с тех пор как он решил больше не возвращаться в университет. Покрытые дерном пологие склоны позади зданий колледжей спускались к реке и по-прежнему производили впечатление райских уголков, сад с деревом Мильтона у колледжа Христа сохранил нетронутой свою знаменитую красоту. В понедельник с утра он свиделся с Адамом Седжвиком, который радушно приветствовал его. Седжвику было восемьдесят пять лет, и Чарлзу показалось, что его интеллект заметно ослаб. Тем не менее в тот вечер он был просто великолепен. Он предложил Чарлзу пройти в музей, но так трясся над каждым экспонатом, что довел своего более молодого друга буквально до изнеможения. Чарлз пригласил его к обеду. На прощание Седжвик сказал: – Мое сердце преисполнилось радости, когда я увидел вас во время семейной трапезы, окруженного счастливыми домочадцами и заботой любящей прекрасной супруги и дочерей. Как это не похоже на мою жизнь, жизнь старика, влачащего свое существование в безрадостном одиночестве! Когда они остались одни, лицо Чарлза исказилось от боли. Он повернулся к жене. – Почему он не женился на Сюзан? Ведь его так тянуло к ней. Она подходила ему во всех отношениях. У них обоих была бы совсем другая жизнь. – Возможно, он и делал предложение, но она отвергла его, – мягко возразила Эмма. – Ты же сам говорил, что единственным мужчиной, которого она любила, был твой отец. Наверное, она не могла заставить себя уехать из Маунта. Он снова принялся за работу над разделом "Эмоции", пытаясь окончательно выяснить вопрос, действительно ли перья у птиц поднимаются при испуге и в гневе. Он успел провести опыты над совами, лебедями, домашними и тропическими птицами, а также над кукушками. Он послал запрос одному из орнитологов с просьбой объяснить, совершает ли дикая утка-пеганка прыжки или танцеподобные движения во время отлива для того, чтобы морские черви выползли на поверхность. Он уже знал, что в неволе пеганки подпрыгивают, когда просят есть. Чарлз назвал эти движения выражением голода и нетерпения. Адмирал Джеймс Саливен получил титул кавалера ордена Бани второй степени, что было на порядок выше награды Джозефа Гукера. Вскоре почетный ректор Оксфордского университета лорд Солсбери пригласил Дарвина в Оксфорд на церемонию присвоения ему почетной степени доктора канонического права. Чарлз вежливо отклонил приглашение, сославшись на нездоровье. В "Оксфордской университетской газете" от 17 июня 1870 года появилось сообщение о его болезни. Конечно, газета ошиблась. Он был здоров, но сказал Эмме: – Я больше не в состоянии выносить эти пустые формальные церемонии в Оксфорде, равно как и балы в Букин-гемском дворце. В результате Оксфордский университет взял обратно свое предложение о присуждении докторской степени. Эмма была расстроена отказом Чарлза. Ей хотелось, чтобы в Оксфорде ему была присуждена степень, которой не предложил Кембридж. Однако она не возражала против его решения. Ей случилось прочитать некоторые из его записей о выражении эмоций у человека и животных, и она не хотела обнаруживать свои чувства, если существовал хотя бы малейший шанс, что Чарлз может принять их как укор. Чувство горечи частично умерялось успехами Френсиса, который окончил Тринити-коллеяж перйым по естественным наукам и сдал экзамен с отличием. Он принял решение пойти по стопам деда и прадеда и выбрал медицину. Его приняли в больницу св. Георга близ Гайд-парка в Лондоне. Там он и должен был начать с осени свое медицинское образование. Последнюю неделю июня Дарвины решили провести в Лондоне, а поскольку они не видели еще последних достижений строительного искусства, то проехались в экипаже Эразма мимо Гросвенора, где новые постройки лорда Вестминстера смахивали на Тюильри, осмотрели Вестминстерский мост и набережную, вдоль которой оживленно сновали пароходы, затем отправились к больнице св. Фомы, шесть корпусов которой, похожих на дворцы, выходили фасадами на реку; напротив Ламбета. Обратно вернулись по новому мосту Доминиканцев и Холборновскому виадуку. Открытые пространства перед Вестминстерским аббатством и парламентом являли собой величественное зрелище. Пока Эмма с дочерьми ходила по магазинам, Чарлз навестил Гукеров. Недавно Гукер обедал у герцога Аргиль-ского. – Его основная претензия к "Происхождению видов" – то, что вы не настаиваете на предопределенности порядка эволюции. Я сказал ему, что, по моему мнению, вы намеренно не касались этой проблемы и не пытались создать впечатление, будто занимаетесь происхождением жизни. Ваше дело – изучать ее явления. Чарлз глубоко вздохнул. – В вопросах религии у меня сплошная путаница. Я не в состоянии представить себе Вселенную результатом игры слепого случая. С другой стороны, я не вижу свидетельств в пользу какого-либо благодетельного замысла или плана, будь он даже детально разработан. Что же касается любой разновидности живых существ, из которых якобы каждой предопределен особый конец, то я верю в это не больше, чем в то, что каждой капле дождя заранее отведено место, на которое она упадет. Наконец в августе он закончил работу над рукописью книги "Происхождение человека и половой отбор" и отослал ее в типографию. Почти все предисловия он писал после окончания работы над основным текстом. Чарлз полагал, что лучше всего говорить читателю правду и начать с того, что объяснить, как писалась эта книга, – ведь тогда и сама работа будет понята гораздо лучше. И он рассказал, что многие годы копил заметки на тему о происхождении человека без всякого намерения публиковать их; напротив, с твердым убеждением не давать их в печать, так как, по его мнению, это только усилило бы предубеждение против его взглядов… "… В первом издании "Происхождения видов" мне казалось достаточным отметить, что эта книга бросает свет на природу человека и истоки его истории. Это означает, что мы должны включить человека, наравне с другими живыми существами, в любой вариант его возникновения на нашей планете. Теперь все предстает в совершенно ином свете… По крайней мере, достаточно большое количество естествоиспытателей должны допустить, что любые виды представляют собой модификации предшествующих видов. Особенно много среди них молодых ученых. Все больше становится тех, кто признает фактор естественного отбора… … Я пришел к выводу, что должен собрать свои заметки, чтобы убедиться, насколько выводы, содержащиеся в моих более ранних работах, могут быть применимы к Человеку". Джон Мэррей считал, что тираж будет готов к рождеству. На праздники Дарвины поехали в Саутгемптон навестить Уильяма, имевшего обыкновение отправляться на службу не раньше половины десятого и возвращаться домой до шести. Уильям был хорошим хозяином, веселым и добродушным. Чарлз выезжал верхом каждое утро, благо ушибы давно зажили и он смог взять с собой Томми. Места для прогулок были замечательные. Вечера они посвящали беседам почти исключительно о франко-прусской войне. Бисмарку, похоже, эта война нужна была, чтобы объединить немецкие государства. Французы оказались плохо подготовленными к ней, поэтому была серьезная опасность их разгрома. Ленард заметил, что почти все молодое население Вулвича на стороне Франции большей частью потому, что мечтали попасть на войну. Сам Ленард был твердым сторонником пруссаков. Не вдаваясь в подробности споров, Эмма затеяла чтение вслух "Мемуаров Наполеона" Ланфре. Все нашли, что это освежает спорщиков – и не удивительно: французский биограф остался равнодушен к "славе" завоевателя. – Стыдно за Луи-Филиппа: вернул останки Наполеона во Францию с острова Святой Елены и хочет сделать из него прямо святого, – заметила Эмма. – Я уж не говорю о поражении в русской кампании – оно слишком ужасно. Возвратившись из Саутгемптона, они узнали, что Томас Гексли будет не только председательствовать на заседаниях Британской ассоциации в Ливерпуле в качестве ее президента, но и выступит с важной речью на тему о происхождении жизни; Нетти Гексли не поедет в Ливерпуль из-за детей: она не хотела оставлять своих семерых детей, старшей из которых было только двенадцать лет, без надлежащего присмотра. Тогда Эмма настояла, чтобы все семеро были привезены в Даун-Хаус на две недели. Они наполнили дом и сад болтовней, смехом, играми. На них действовали свобода и простор, которых им так не хватало в своем тесном лондонском доме. Генриетта и Элизабет помогали ухаживать за детьми. Эмме нравилось, когда в доме много детей. Чарлз тоже был доволен. – Все это похоже на цирк, напоминает дни нашей молодости в Мэр-Холле и Маунте. Я отношусь к юным Гексли как к собственным племянникам и племянницам. Но кто, кроме тебя, моя дорогая, способен взять в дом семерых детей, чтобы дать возможность подруге съездить с мужем на неделю в Ливерпуль? И он нежно ее поцеловал. – Эмма, бывают моменты, когда я подозреваю, что ты просто святая. В конце ноября начали приходить гранки "Происхождения человека". Джон Мэррей заказал у типографа две тысячи пятьсот экземпляров книги. Чарлз с головой ушел в работу, и его уединение было нарушено только однажды. После окончания Тринити-колледжа Джордж был избран в состав группы ученых, отправляющихся на Сицилию для наблюдения за полным солнечным затмением. Он должен был отплыть на посыльном судне адмиралтейства "Психея". Судно потерпело крушение близ берегов Сицилии. Когда Дарвины узнали об этом, они обезумели от ужаса. Затем пришло известие, что Джордж опоздал на это судно и плыл на другом пароходе. Он собирается подняться на вершину Этны, чтобы наблюдать затмение. К рождеству работа Чарлза была почти закончена, оставалась лишь небольшая порция гранок, с которой он намеревался легко справиться до конца года. "Происхождение человека" в двух томах увидело свет 24 февраля 1871 года. Была установлена высокая цена в фунт и четыре шиллинга, но это ни в коей мере не помешало распродаже книги. Экземпляры первого тиража разошлись за несколько дней, и в типографии приступили к печатанию еще двух тысяч экземпляров. Отзывы в печати были в основном благоприятными. В "Сатердей ревью", в частности, говорилось: "Он утверждает, что включил человека в то единство, которое он издавна стремился выявить во всех представителях животного мира. За годы, прошедшие со времени опубликования предыдущей книги Дарвина, дискуссии в научном мире продвинули эту проблему далеко вперед". "Спектэйтор" поместил пространный отзыв в двух выпусках. В нем говорилось, что Чарлз затронул самую суть психологической проблемы и в этом далеко опередил своих предшественников. Рецензент заключал отзыв словами о том, что книга является "оправданием теизма более замечательным, нежели рассуждения Пейли в "Натуральной теологии". – "Натуральная теология"! – воскликнул Чарлз. – Да ведь это была моя любимая книга в годы учения в Кембридже, она и еще "Путешествия" Гумбольдта. Кто бы мог подумать, что из меня выйдет защитник теизма в духе Пейли? Газета "Пэлл-Мэлл", дала рецензию на три номера. Среди прочего сообщалось: "Труд, проделанный г. Дарвином, представляет собой одно из тех редчайших и фундаментальных достижений человеческой мысли, которые оказывают решающее влияние на все области общественного сознания". "Атеней" не изменил себе, в очередной раз обрушившись на ученого. Вниманию читателей было предложено письмо из Уэльса, в котором Чарлза сравнили со старой и глупой обезьяной. Лондонская "Тайме" писала: "… если допустить, что весьма маловероятно, существование животного мира во всем его разнообразии исключительно благодаря эволюции, то и тогда для доказательства положения о том, что человек есть лишь звено в самоэволюционирующей цепи, потребовалось бы независимое исследование, выдающееся по силе мысли и законченности". Эта рецензия была опубликована без подписи. Чарлз заметил, что рецензент "не обладает научной подготовкой и вообще похож на пустозвона, напичканного цитатами из области метафизики и классической литературы… хотя, впрочем, я опасаюсь, как бы такие выступления не помешали распространению книги". Его опасения оказались напрасными. Продажа шла полным ходом. Гукер заметил с удивлением: – Я слушал, что дамы из высшего света с удовольствием читают вашу книгу, но об этом не говорят вслух, поэтому все заказывают ее втихую. А это, вне всякого сомнения, только поощряет торговлю. За последнюю неделю я был на трех обедах, и каждый раз об эволюции говорили как об общепринятом факте, проблему происхождения человека обсуждали спокойно. Сэр Чарлз и Мэри Лайель как раз гостили у них в Дауне, когда появилась статья Алфреда Уоллеса. Лайель признал, что он согласен с Уоллесом в том пункте, что человек не мог произойти путем естественного отбора из примитивного организма. Чарлз расстроился, а Эмма зарделась от удовольствия. – Я так счастлива и признательна вам, – воскликнула она. – Как чудесно, что и вы, и Алфред Уоллес – на моей стороне. И еще Аса Грей в Гарварде. Если три таких авторитета согласны, что человек – совершенно особый вид, то, значит, бог все еще находится среди нас! Вполне понятно, что Томас Гексли считал "Происхождение человека" просто шедевром. В апреле Мэррей заказал следующий тираж, и общее количество экземпляров, проданных в течение двух месяцев, подскочило до семи тысяч просто неслыханный успех в деле продажи научной литературы. Таким образом, Есе больше представителей широких читательских кругов знакомились с вопросами естественной истории. Резкая рецензия появилась в журнале "Куотерли ревью". Она оказалась последним выпадом против "Происхождения человека". Клерикальная пресса, в свое время обрушившаяся на "Происхождение видов", на этот раз использовала "Происхождение человека" – подобно "Спектэйтору" – для того, чтобы сделать из дарвинизма еще одно свидетельство веры в божественное творение. Некоторые естествоиспытатели не согласились с основными положениями теории Дарвина, но большей частью они не выразили этого публично, а высказали свои взгляды лично или в письмах. Так поступил, к примеру, Броди Иннес, живший теперь в Шотландии. Он изложил свои сомнения в дружеском послании. Проповеди против новой книги Дарвина, несомненно, произносились, но они не стали достоянием прессы, как это случилось в прошлом с проповедями против "Происхождения видов". Все эти годы он опасался повторения бурных обвинений, выливавшихся в публичные скандалы. На этот раз, однако, никто не назвал Чарлза Дарвина "дьяволом во плоти" или "антихристом". Огонь под адским котлом потух. "Я провел эти дни в состоянии крайней тревоги, – писал он. – Какая напрасная трата энергии и душевного покоя! В конце концов мои ереси получили право на существование. Я сам свидетель этому. Подумать только1 Ведь я не предполагал давать в печать ни строчки. Ну и ну!"Исполни свой долг
Он выиграл решительное сражение, но война еще продолжалась. Война с противниками или с самим собой. В письмах к друзьям Чарлз по-прежнему называл себя инвалидом, но слово это употреблял как защиту от возможных собраний и официальных встреч, до которых он был неохоч. Месяц спустя после выхода в свет "Происхождения человека" Сент-Джордж Майварт, известный биолог, опубликовал свое сочинение под названием "Генезис вида", в котором пытался опровергнуть дарвинизм, резко критиковал теорию естественного отбора. Книга быстро разошлась и вызвала бурные споры. Чарлз прочитал ее, сделал на полях пометки, сравнил главы одну за другой с главами своей книги. Майварт не убедил его ни на йоту. И все-таки появление этой книги задело его. – А желудок не заболел? – спросила Эмма. – Нет, как ни странно. Вот на душе как-то нехорошо. Я дожил уже до тех лет, когда даже самая злобная критика не отражается на здоровье. – Слава тебе господи! Сент-Джордж Майварт писал Чарлзу письма, исполненные самых теплых чувств, и одновременно не переставал нападать на него на страницах прессы: по-видимому, именно он был автором анонимной, полной яда статьи в "Куо-терли ревью", направленной против "Происхождения человека". Этого Дарвин никак не мог понять. – Прихожу к печальному выводу, – как-то заметил он, – что Майварт, хотя и пытается сохранить личину благородства, на самом деле так закоснел в предрассудках, что не в состоянии рассуждать справедливо. Чонси Райт, американский натуралист, опубликовал в "Норт-Америкэн ревью" статью, в которой дал такую глубокую и всестороннюю критику взглядов Майварта, что Чарлз обратился к Райту с просьбой опубликовать его статью в виде брошюры. Гексли также бросился защищать друга, да так горячо, что Чарлз должен был успокаивать его. – Война, мой друг, будет долгая, – сказал он, – мы с вами умрем, а она все будет длиться. Гексли не утихомирился и написал главу ко второму изданию "Происхождения человека", в которой сравнивал мозг человека с мозгом обезьяны. Гукер также повел борьбу с противниками Чарлза, особенно с Майвартом и Оуэном. Он, между прочим, сказал: – У каждого из нас есть хотя бы один человек в мире, которого ненавидишь. Это способствует душевному равновесию, – при этих словах лицо Гукера нахмурилось. – У меня тоже есть такой человек, Эктон Эйртон, новый министр работ в правительстве Гладстона. Этот высокомерный джентльмен занял антинаучную позицию в отношении моего сада в Кью. Он делает все, чтобы я ушел в отставку. Поскольку он мое прямое начальство, я стараюсь сотрудничать с ним, но у него шкура, как у носорога. И все-таки можно сказать, что для Чарлза семидесятые года были такими же хорошими, как далекие тридцатые, когда он совершил свое плавание на корабле "Бигль", вернулся в Кембридж, где занялся обработкой привезенных коллекций, переехал в Лондон, женился на Эмме и начал писать геологические и естественнонаучные труды. Причин для огорчений почти не осталось. Он был почетным членом научных обществ, академий и университетов многих стран; "Происхождение человека" было издано в США и переведено на многие языки. Изредка случались вспышки раздражения или наступал упадок сил от чрезмерной, изнуряющей работы над микроскопом – Чарлз изучал секрецию плотоядных растений, – но все это быстро проходило. Каждый день, даже если погода была холодная, он совершал прогулку по Песчаной тропе в сопровождении своей любимой собаки. В июне произошло событие, напомнившее о быстротечности времени. Неделю они гостили в Лондоне у Эразма. Генриетта, которой было уже двадцать восемь лет, познакомилась с неким Ричардом Лнчфилдом, и в августе они поженились. Дарвинам Личфилд понравился. Ему исполнилось тридцать девять лет, он был широк в плечах, а его близорукие глаза придавали ему отрешенное выражение. Ричард окончил Тринити-колледж Кембриджского университета, стал адвокатом, основал Рабочий колледж, преподавал в нем и был его казначеем. Когда церемония бракосочетания закончилась, Чарлз сказал: – Только что на наших глазах начался новый цикл. Наши птенцы начинают вылетать из гнезда, напутствуемые молитвой священника. – Дай-то бог, – ответила Эмма. – Нам с тобой перевалило уже на седьмой десяток, пора внуков нянчить. Чарлз дал дочери только один совет: – Душа у твоей матери, – сказал он, – из чистого золота. Будь, как она. Лицо у Эммы было совсем без морщин, только под глазами лежали тени. В каштановых волосах пробивалась седина, она по-прежнему носила их на прямой пробор, опуская на уши наподобие крыла. Отправляясь в гости, она надевала нарядный капор с широкими лентами. Эмма родила десятерых детей, у нее было отменное здоровье, и она всегда находила в доме какую-нибудь работу. Эмма гордилась мужем; во многих странах его называли "первым ученым мира"; в этом была и ее заслуга, она ведь нянчила его, как ребенка, больше тридцати лет. И она уже давно примирилась с тем, что они с Чарлзом никогда не будут одинаково относиться ко всевышнему. Однажды Чарлз сказал ей в утешение: – Я отнюдь не атеист. Я не отрицаю существование бога. Скорее всего я агностик; просто я не знаю точно. Дети были их радостью. Ни в одном не было червоточины. Уильям большую часть времени посвящал сбору пожертвований на медицинскую и другую помощь неимущим, поскольку Саутгемптон по обнищанию населения занимал второе место после Бристоля. Они часто навещали Уильяма. Генриетта с Ричардом поселились в Лондоне, но часто наезжали в Даун-Хаус. Они помогали Чарлзу редактировать его труды; у Ричарда был острый глаз на повторы. Вычитывали гранки вновь публикуемых работ, которые нескончаемым потоком шли от Джона Мэррея, таким образом, Чарлз мог не отрываться от своей работы – он изучал под микроскопом росянку и ее органы пищеварения. Джордж, второй сын, решил было стать юристом, но потом вернулся в Тринити-колледж, опять занялся математикой и начал преподавать. Теперь его увлекла астрономия, он мечтал стать полным профессором. Чарлз одобрил выбранный им путь. – Мои знакомые юристы говорили мне, – сказал он сыну, – что закон вещь прекрасная, если ты готов питаться в завтрак, обед и ужин опилками без масла. Ленард успешно работал в Королевском военном училище в Вулвиче, Френсис проходил практику в лондонской больнице св. Георга, Горас учился в Тринити. В доме родителей осталась только Элизабет, радуя их сердца добротой и приветливым нравом. Джордж и Френсис на каникулы поехали в Соединенные Штаты. – По возвращении подробно опишите мне американцев, – напутствовал их Чарлз. – Едем с нами, отец, сам все увидишь. – Я Стикс-то даже не знаю, как переплыву, – содрогнулся Чарлз. Как-то Дарвины вместе с Горасом приехали погостить к приятелю и в первый раз увидели пристроенную к дому веранду. На веранде собиралась вся семья; гости пили чай, читали газеты, просматривали новые книги. Было уютно, прохладно, легко дышалось, царил какой-то особый дух товарищества и все-таки крыша над головой. Перед отъ-. ездом Эмма сказала: – А у нас нельзя сделать такую веранду? Пристроить со стороны гостиной? Дома Чарлз позвал двух плотников из деревни и начертил план веранды длина, как у гостиной, ширина двенадцать футов. Постройка самая простая бетонный фундамент, покатая стеклянная крыша, начинающаяся между первым и вторым этажами. Фасад совсем открытый, боковые стены в три фута высотой; рамы с частым переплетом и встроенные скамейки. Обставили верандунедорогой плетеной мебелью с красными подушками. Веранда изменила обычное течение жизни в Даун-Хаусе, распорядок дня стал менее строгим. В хорошую погоду грелись в лучах солнца, падающих сквозь стеклянную крышу; особенно любила веранду молодежь; дети и их гости часами разговаривали на веранде, читали, играли в карты или шашки. От горячих лучей полуденного солнца с запада веранду защищали высокие липы, в июне наполняющие воздух медовым ароматом; из окон открывался вид на цветущие клумбы и солнечные часы. Чарлз с Эммой любили смотреть, как молодежь играет на лужайке в крокет. – Ну не странно ли, – говорила Эмма, – что простое маленькое крыльцо может так сплотить семью? – Я должен был построить такую веранду много лет назад, – сокрушался Чарлз, – так мы больше проводим времени под открытым небом, ближе к природе, А когда он смог выменять кусок Песчаной тропы, принадлежащий Леббокам, на равноценный кусок своей земли, он почувствовал, что наконец-то все в его мире встало на свои места. Чарлз вынашивал планы нескольких книг, которые должны были завершить его труд "Происхождение видов". Это были по большей части работы в области ботаники: "Насекомоядные растения", "Различные формы цветов у растений одного и того же вида", "Действие самоопыления и перекрестного опыления в растительном царстве", "Способность к движению у растений". Теперь в его распоряжении было достаточно материала, чтобы написать строго научное сочинение на основе монографии "О движении и повадках лазящих растений". Джону Мэррею постоянно требовались все новые издания его книг, а Чарлз не мог просто перепечатывать старые. Всегда появлялись какие-то новые открытия, которые нельзя было обойти молчанием; многие из них выросли на почве, подготовленной его собственными трудами; они способствовали более глубокому и строгому пониманию естественной истории. Его картотека десятки узких ящичков с наклейками, сколоченных в 1842 году, в год переезда в Даун-Хаус, – была битком набита результатами ежедневных наблюдений над живыми организмами, рассеянными по всему лику земли. Чарлз работал больше двух месяцев над шестым изданием "Происхождения видов", расширив его, исправив ошибки, встречавшиеся в предыдущих изданиях, а в январе 1872 года закончил работу над гранками дешевого издания этого сочинения. Оно было набрано на бумаге низкого качества, мелким шрифтом, но зато число ее читателей значительно возросло. Он также доставил себе удовольствие дать в новом издании хорошо аргументированный, написанный в сильных выражениях ответ Сент-Джорджу Майварту. Его идеям не были страшны далекие расстояния ни на земле, ни в сознании человека. Но идея пангенезиса, универсальной структуры клетки, не находила отклика у коллег-натуралистов, если не считать узкого круга друзей – Лайеля, Гукера, Уоллеса, доктора Холланда. После выхода в свет очередной книги, критикующей его теорию, Чарлз писал Уоллесу: "… я еще не опустил знамен пангенезиса…" Опубликовав "Происхождение человека", Чарлз почувствовал, что здоровье его опять пошатнулось, и он мог теперь работать всего полдня. Но поездка на несколько дней в Лондон восстановила его силы. За весь 1872 год он написал всего одну печальную строчку: "… я старею, теряю силы; ни один человек на свете не может сказать, когда его интеллект начнет сдавать по-настоящему…" Его интеллект, по-видимому, еще и не начинал сдавать. Он очень много работал и писал научные статьи для журналов "Природа" и "Дневник садовода". В Даун-Хаус приезжали и оставались пожить гости из Германии, России, Голландии и Соединенных Штатов. Прежде, побыв с гостем минут десять, в крайнем случае полчаса, Дарвин спешил вернуться к своему уединению; теперь же он с большим удовольствием долго оставался в обществе друзей и единомышленников. К сожалению, многие его друзья переживали в это время тяжелые дни. Джозефу Гукеру по-прежнему мешал министр работ; он урезал бюджет для лаборатории, музея и библиотеки в Кью; уволил нескольких главных его помощников; распространил слух, что и Гукеру скоро придется уйти. Гукер обратился к премьер-министру Глад-стону с просьбой вмешаться. Гладстон ничего не ответил. Министр работ Эйртон поручил Ричарду Оуэну, давнему противнику Гукера, приготовить анонимный доклад для прочтения в палате общин, который был опубликован как официальный отчет о состоянии Ботанического сада в Кью. Оуэн бросил тень на доброе имя сэра Уильяма Гукера и его сына Джозефа; он с издевкой писал о его гербарии, перечислил погибшие деревья, объясняя потери плохим руководством и небрежением. – Я всегда стыдился своей ненависти к Оуэну, – сказал друзьям Чарлз. Теперь я буду лелеять свою ненависть и презрение к нему до последних дней моей жизни. Группа натуралистов, куда вошли Лайель, Гексли, Бентам и Дарвин, написала письмо о Кью и о заслугах перед наукой отца и сына Гукеров, вручив его премьер-министру. В то же самое время Джозеф Гукер был избран президентом Королевского общества – высший пост ученого в Англии. От переутомления заболел Томас Гексли, он не мог ни работать, ни отдыхать. Его доктор, Эндрю Кларк, посоветовал Гексли отправиться путешествовать, но у того не было ни единого свободного фунта стерлингов. Чарлз с Гукером обратились к друзьям и коллегам за помощью и набрали приличную сумму в две тысячи сто фунтов. – Теперь осталось самое трудное, – сказал Гукер. – Он ведь откажется от денег. Скажет, что это благотворительность. – Я напишу ему такое письмо, – пообещал Чарлз, – что он примет деньги, и гордостьего не пострадает, Гексли согласился. Ехать он решил во Францию и Германию. Гукер предложил сопровождать его. Перед отъездом Гукер сказал друзьям: – Я везу с собой огромный список советов доктора: что Гексли должен есть и пить и от чего воздерживаться. Сколько должен спать и сколько отдыхать, сколько разговаривать и сколько ходить. Одним словом, я буду сразу и сиделкой и лекарем. Гексли вернулся здоровым и полным новых замыслов: какие он напишет книги, статьи, какие прочитает лекции, что сделает для перестройки всего народного образования в Англии. В ноябре 1872 года вышла книга Дарвина "Выражение эмоций у человека и животных"; книгу читали с таким захватывающим интересом все слои общества, спрос на нее был так велик, что очень скоро она стала самым популярным из всех его сочинений. К концу года в типографии печаталось девять тысяч экземпляров, что на тысячу превосходило тираж "Происхождения человека". В книге были помещены иллюстрации: кошка, скалящая зубы на своего извечного врага – собаку; лебедь, отгоняющий чужака; плачущие и недовольные дети. Книгу читали в каждом доме от мала до велика. Это была совершенно новая область исследований и наблюдений; она имела такой успех, что Чарлзу пришлось заплатить в министерство финансов пятьдесят два фунта стерлингов подоходного налога. – В этом году мы им заплатили больше, чем всегда, – жаловался он Эмме. – Тебе не кажется, что налоги с каждым годом растут? – У всего на свете есть обратная сторона. Чем больше книг ты пишешь, тем больше денег за них получаешь, тем выше становится налог. Адмирал Саливен сказал, что королевский флот завоюет весь мир. А каждый корабль стоит довольно-таки дорого. Не знаешь, сколько стоил "Бигль"? Чарлз ничего не ответил, и разговор сам собой прекратился. Когда в "Атенее" появилась благоприятная критическая статья, Чарлз заметил Френсису, который неделю работал в кабинете отца: – По-видимому, одним противником стало меньше. Журнал "Эдинбург ревью", тоже старый, закоренелый противник Чарлза, писал: "Господин Дарвин присовокупил еще один том забавных историй и гротескных рисунков к ряду своих удивительных сочинений, в которых излагаются и защищаются эволюционные теории". – Я смеялся до колик, – комментировал Чарлз, не отрываясь от микроскопа. – Оказывается, я еще и писатель-юморист! После Адама Седжвика, который сказал, что, читая "Происхождение", он не мог удержаться от смеха, это первый раз, когда мои сочинения находят забавными. Френсис оторвался от листка, который внимательно разглядывал. – Будь добрым христианином, отец, – сказал он. – Ненависть – плохое чувство. Поди лучше сюда и посмотри, что делается с сырым мясом, которым ты накормил насекомоядные растения. Растения поглощали сырое мясо точно так же, как ассимилировали месиво из гороха и капустных листьев, которым угощали их раньше. Не отрывая глаза от объектива микроскопа, Чарлз сказал: – Вот, оказывается, как дросера переваривает пищу. Клянусь всем святым, ни одно открытие не доставляло мне большего удовольствия, чем это. Не меньшую радость ему доставляла и индейская тре-фоль, чьи крошечные листики двигались прерывистыми толчками. Как-то вечером, уже собравшись идти спать, Чарлз предложил Эмме: – Давай посмотрим, что делает трефоль. Они вошли в кабинет и увидели, что растеньице спит – все, кроме крошечных ушек, которые, по словам Чарлза, "играли в превеселую игру". – Днем я ни разу этого не видел, – заметил он. Чарлз закончил черновой вариант "Насекомоядных растений" в январе 1873 года и поехал на неделю в Лондон немного развлечься. В начале февраля он начал работать над задуманной книгой "Действие самоопыления и перекрестного опыления в растительном царстве". Он уже поставил множество опытов по перекрестному опылению; но самоопыление редко удавалось подглядеть не только ему, но и другим ботаникам. Чарлз часами наблюдал орхидеи и в теплице и у себя в кабинете, где цветы стояли на каминной полке и на столе, пока наконец не понял, что все орхидеи обоеполые растения, мужские и женские одновременно. Когда насекомые опыляют два цветка орхидеи А и Б, расположенных на одном цветке, у того и другого цветка все готово, чтобы цветок А оплодотворил цветок Б и Б оплодотворил А. У цветов на пестике есть рыльце, над ним сейчас же пыльник. Когда идет дождь, вода наполняет чашечку цветка, пыльца плавает на ее поверхности, потом оседает вниз и оплодотворяет тот же самый цветок, на котором она зародилась! Кроме орхидей к самоопылению довольно часто прибегают и лютики. Первый раз они поехали погостить к Фаррерам, жившим в Суррее, в поместье Абинджер-Холл; хозяин дома был женат на одной из дочерей Генслея Веджвуда. И все-таки Чарлз не мог пересилить себя и через неделю засобирался домой. – Но мы обещали погостить две недели, – пыталась протестовать Эмма. – Можно ведь опять вернуться. У меня накопилось множество заметок о самоопылении. Я не могу дольше бездельничать. Работа – это жизнь. Авторы многих писем из все растущего потока корреспонденции хотели бы обсудить религиозные вопросы. Чарлз отвечал на все письма, кроме непристойных. Журналы и газеты без конца просили статьи о его религиозных взглядах. На все подобные просьбы он вежливо отвечал: "Я бы не хотел выступать публично на религиозные темы". Тем не менее он публично одобрил отмену всех теологических экзаменов в Кембридже и Оксфорде; теперь эти экзамены сдавали только студенты, изучающие теологию. Даун-Хаус навестил некий доктор Конвей из Американской теологической школы при Гарвардском университете. Фэнни и Генслей Веджвуды приехали с ним познакомиться. Доктор Конвей был автором волнующей проповеди о дарвинизме, которую он читал прихожанам и даже опубликовал. Веджвуды прочитали эту проповедь перед заморским гостем, что тому явно очень понравилось. Когда все уехали, Эмма сидела какое-то время задумавшись, а потом сказала себе: – Иногда просто не верится, что принадлежащий мне человек может наделать столько шуму во всем мире. Волна смертей глубоко огорчила его. В Кембридже в возрасте восьмидесяти семи лет скончался Адам Седжвик. Чарлзу вспомнилась их давняя поездка в Северный Уэльс, теплая встреча в гостинице "Бул" три года назад. И совсем изгладилась из памяти его убийственная критика "Происхождения видов". Вслед за Седжвиком ушла после недолгой болезни Мэри Лайель. Лайелю было уже семьдесят пять лет; его больше изумила, чем опечалила смерть Мэри. – Я представить себе не мог, – сказал он друзьям, – что Мэри уйдет раньше. Она была гораздо моложе меня, на двенадцать лет! Я всегда думал, что умру первым. В день своего восьмидесятипятилетия умер Генри Хол-ланд, много лет исполнявший должность придворного лейб-медика ее величества королевы Виктории; в похоронной процессии принимали участие члены королевской семьи. – Он был не очень тактичен, но добр и много лет лечил нас, – горевал Чарлз. А Элизабет с торжеством прибавила: – Он тогда согласился со мной, что у Генриетты просто была ипохондрия. С тех пор как она вышла замуж, все ее хвори как рукой сняло. Подождав, пока отец выйдет из комнаты, Эмма прошептала: – Есть старая пословица, Бесси: "В доме повешенного не говорят о веревке". В августе у Чарлза обнаружился новый недуг. Он так описал его симптомы Эмме – потеря памяти и постоянное ощущение сильнейшего удара в голове. Встревоженная Эмма настояла на поездке в Лондон для консультации с доктором Эндрю Кларком, который так лвмог Томасу Гекели. Доктор Кларк оказался очень приятным человеком с двб-рыми, сострадательными глазами. Лицо у него было белое, довольно красивое, с тонким гарбааым носом, обрамленное черной с проседью бородой. В нем не чувствовалось никакого снобизма, хотя он был в числе самых знаменитых лондонских медиков. Он очень внимательно выслушал Чарлза, доскональнейшим образом осмотрел его. Окончив осмотр, сказал вселяющим надежду тоном: – Я смогу помочь вам, господин Дарвин. Но придется приложить усилия. Теперь в голосе его зазвучали властные нотки. – Во-первых, диета. Ее вы будете соблюдать очень строго. Чарлз стал питаться только тем, что ему предписал доктор. Через неделю он пожаловался: – Диета отвратительна. – Но вам стало гораздо лучше. – Да, стало. Буду и дальше насиловать желудок, чтобы ублажать голову, которая должна быть ясной. После месяцев воздержания Чарлз старался изо всех сил нагнать упущенное. На завтрак – черный хлеб с маслом, яичница, жареная рыба или крылышко холодного цыпленка и вдобавок чашка какао, выпиваемая со вкусом, неторопливо. На обед нежный, хорошо прожаренный кусок мяса, хлеб, картофельное пюре, рисовый пудинг или тушеные зеленые овощи. Все это запивалось стаканом воды с тридцатью граммами коньяку. Иногда перед сном Чарлз выпивал стакан воды с пятнадцатью граммами коньяку. Болезнь больше не возвращалась к нему, хотя он и писал кузену Фоксу спустя несколько месяцев (кузен Фокс был жилеткой, в которую Чарлз долгие годы плакал): "Я забываю свои недуги, только когда работаю". Кузен Френсис Голтон готовил к изданию книгу "Ученые Англии". Чарлз, заполняя анкету, вернул себе потерянные на корабле "Бигль" полдюйма и написал, что рост его равен шести футам. Его так увлекли изучаемые с помощью микроскопа результаты скрещивания растений, что он обратился к доктору Кларку лишь через четыре года, да и то только по поводу приступов головокружения. Давно забыты расстройства желудка, дурнота, сердцебиение. Эмма настаивала на частом отдыхе. Ездили гостить в Абинджер-Холл, к кузену и другу Томасу Фарреру, однажды гостили целый месяц. Чарлз любил бродить по древнеримским развалинам, находившимся неподалеку, здесь он нашел виноградный куст с рассеченными листьями, от которого взял веточки для прививки на своих кустах. Ездили в Саутгемптон к Уильяму. Вернувшись домой после первой поездки, Чарлз сказал: – Я последний раз чувствовал себя таким же бодрым, отдохнувшим, получившим такой же заряд энергии, как в те далекие дни, когда мы ездили в Мэр. В Лондоне они гостили у Эразма или Генриетты. Ричард Личфилд попросил позволения привезти в Даун-Хаус попить чай на лужайке шестьдесят учеников класса пения из Рабочего колледжа. Чарлз и Эмма радушно приняли гостей, поили их чаем с печеньем и гренками с огурцами, помогая ухаживать за гостями стареющему Парсло и двум горничным. Не проходило и дня, чтобы кто-нибудь из детей Дарвина не гостил в Лондоне у дяди Эразма. Еще одной семейной радостью была любовь дяди Эразма ко всем племянникам и племянницам – и детям Генслея и Фэнни Веджвуд и детям Дарвинов. Он буквально усыновил и удочерил их всех. Его дом на улице Королевы Анны стал для них вторым отчим домом. Дядюшка Рас, как они называли его, говорил им, что они могут приезжать к нему, когда хотят, жить у него, сколько хотят, располагать его домом, каретой и всем его имуществом, как своими собственными. – Вы даже представить себе не можете, как это замечательно иметь двенадцать детей, не будучи никогда женатым! – восклицал он, Эмма наслаждалась свободой. Ее увлекла мысль открыть в деревне библиотеку. Чарлз Муди, лондонский книготорговец, основавший библиотеки во многих городах вокруг Лондона, посчитал Даун слишком маленькой деревушкой и не включил ее в свою просветительную сеть. Жители Дауна, чтобы взять из библиотеки книгу, должны были ехать в Лондон или Бромли или ждать, когда к ним наведается книгоноша, появлявшийся раз в месяц. Кроме того, Муди сам отбирал книги для своих библиотек. Церковь в Дауне имела свою крохотную библиотечку, состоявшую из нескольких устаревших религиозного содержания томиков. Эмма устроила читальный зал, выбрала несколько книг из церковной библиотечки, другие купила и собрала у знакомых. Семьи, живущие по соседству, могли брать в библиотеке книги, уплатив тридцать шиллингов в год. Третий сын, Френсис, прошел медицинский курс в больнице св. Георга. Но практикующим врачом он так никогда и не стал, Когда ему было двадцать пять лет, он влюбился в Эми Рук, девушку родом из Северного Уэльса; она прислала в подарок Чарлзу пакет с листьями от растений Северного Уэльса, в котором оказалось несколько случайно попавших туда насекомых, чем сразу же покорила его. Френсис вошел в кабинет к отцу, закрыл за собой дверь и сел на зеленый пуф, – Отец, ты ведь знаешь, что я не хочу быть врачом, – сказал он. – Я тоже этого не хотел, А что же ты собираешься делать? Френсис придвинул пуф поближе к отцу. – Я много думал об этом. И я знаю, что мне больше всего по душе. Тебе нужен секретарь, который помогал бы тебе справляться с твоей огромной работой. Мои занятия медициной довольно хорошо познакомили меня с естественными науками. У меня есть диплом. Чарлзу не надо было долго обдумывать предложение сына. – Моя жизнь стала бы гораздо легче. А как ты думаешь это организовать? – Я сегодня же включусь в работу. Когда мы с Эми поженимся, мне хотелось бы переехать в Даун-Хаус и жить с вами одной семьей. – Ты советовался с Эми? – Да, она тоже мечтает об этом. – Ас матерью ты говорил? – Нет еще. Я сначала хотел узнать, нужна ли тебе моя помощь. – Тогда пойди поищи ее. Она опять что-нибудь приводит в порядок. Эмма пришла в восторг от этой идеи, потому что из всех детей ее под родительским кровом осталась одна Элизабет. Уильям жил в Саутгемптоне, Генриетта в Лондоне, Ленард год назад вторым окончил Королевский военно-инженерный колледж; его преподаватели были такого высокого о нем мнения, что он был послан с группой ученых в Новую Зеландию наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца; результаты этого наблюдения должны были помочь рассчитать расстояние между Землей и Солнцем. Горас, самый младший сын, сдал первый экзамен на степень бакалавра в Кембриджском университете. Он собирался стать инженером-механиком, о чем всегда мечтал; и он, конечно, поедет туда, где потребуются его знания и умение. Иногда пустота Даун-Хауса оглушала Эмму. Познакомившись с Эми Рук, она сразу полюбила тоненькую, изящную девушку, милую, спокойную, хорошо воспитанную. Услыхав предложение сына, она поцеловала его, поднявшись на цыпочки. – Как будет хорошо! Опять сын дома и еще одна дочка, Скажи Эми, что мы ее очень, очень ждем. – Надо будет заново покрасить одну из больших комнат с тремя окнами-фонарями, которые выходят в сад. Френсис и Эми поженились. Отношения у Эми с Эммой и Элизабет сложились прекрасные. Она была очень милая, хрупкая молодая женщина с блестящими черными волосами, скрученными на затылке в узел. Лицо у нее было тонкое, продолговатое, темные глаза широко расставлены, взгляд спокойный. Они с Френсисом очень любили друг друга. По настоянию Эми Эмма часть домашних дел передала ей. Элизабет не возражала, она терпеть не могла заниматься домашним хозяйством. Дневные трапезы в столовой Даун-Хауса стали оживленнее, веселее, как и вечерний чай на веранде. Френсис очень скоро проявил себя не только превосходным секретарем, но и знающим ассистентом, таким, какие помогают в исследованиях университетским ученым. Он помог Чарлзу составить из отдельных кусков рукопись о насекомоядных растениях. С одобрения Чарлза и при его помощи Френсис разработал несколько собственных программ для изучения его коллекций и их описания. Однажды Чарлз, оторвавшись от микроскопа – он только что обнаружил новую подробность на обратной клейкой стороне листка, – сказал сыну: – Работа – моя единственная радость в жизни! – Смотри, чтобы мать не услышала этих твоих слов! В начале сентября пришло письмо от Лайеля из Белфаста, где проходила конференция Британской ассоциации. С приветственным обращением к конференции выступил президент ассоциации физик Джон Тиндал. Лайель писал: "Я каждый день собираюсь поздравить Вас; здесь, на конференции в Белфасте, Ваше имя и Ваша теория встречены – без преувеличения – овацией. Что бы ни говорили о Тин-дале, надо отдать ему должное – его речь была мужественным и бесстрашным выражением своего мнения…" Речь Тиндала вызвала бурные отклики по всей Ирландии; в этой стране отношение к Дарвину было резко отрицательное; статья была опубликована и в английских газетах. В 1874 году выступления английских натуралистов в защиту Джозефа Гукера и его работы в Ботаническом саду в Кью наконец дали результат. Премьер-министр Глад-стон не мог дольше отмахиваться от протестов Британской ассоциации; не мог он и не обратить внимания на статьи в газетах "Тайме", "Дейли ньюс" и "Пэлл-Мэлл", с похвалой отзывающихся о деятельности Гукера. Гладстон переместил министра общественных работ в Управление Верховного суда. Гукеру было позволено пригласить себе на должность помощника директора Тизелтона-Дайера, превосходного ботаника, помогавшего Дарвину исследовать насекомоядные растения. В начале февраля 1875 года в Даун-Хаус приехал Джозеф Гукер. Три месяца назад скоропостижно скончалась его жена Френсис, оставив на руках отца шестерых детей. Гукер был убит Горем. – Почему? Почему Френсис? Она прекрасно себя чувствовала. Она была счастлива. Обожала детей… – Такова воля бога, – мягко утешала его Эмма. – В вашем сердце должна быть вера. Чарлз мог только положить руку на плечо своего друга. Эмма с беспокойством спросила, как Гукер управляется с семьей, на что Гукер ответил подавленно: – Только тот, кто сам пережил подобное, может понять, что такое дом без матери, в котором шестеро детей. – Пройдет какое-то время, и вам, наверное, надо будет жениться второй раз. Гукер покачал головой. – Никогда, – почти не разжимая губ, проговорил он. В кабинете Чарлза он спросил, как продвигается книга о насекомоядных растениях. – Мне казалось, что она написана очень прилично, но теперь я нашел в ней столько мест, которые нужно переделать, что, думаю, раньше чем через два месяца она к издателю не попадет. – Знаете, что такое два месяца в вашей творческой жизни? – заметил Гукер. – За эти два месяца у вас в голове созреет замысел еще одной книги. – Я вчера читал, что в Америке один человек по имени Ремингтон делает аппараты, которые он называет пишущими машинками. Оказывается, можно писать без помощи ручек и чернил: просто ударяешь по клавишам с буквами, и все. Я-то сам никогда не научусь новому способу письма, а вот, пожалуй, Френсис научится. Он молод и может решиться на любой опасный эксперимент. У сэра Чарлза Лайеля не было впереди и двух месяцев творческой жизни. Он умер 22 февраля 1875 года, спустя почти два года после смерти своей жены, умер, скорее всего, от старости. Его близкие и друзья видели, что конец близок. Гукер стал хлопотать, чтобы Лайеля похоронили в Вестминстерском аббатстве, где покоились многие великие люди Англии. Разрешение было дано. Крупнейший английский геолог, пионер в своей области, по книгам которого постигали науку все ученые Англии, был погребен с самыми высокими почестями. Чарлз и Джозеф Гукер написали эпитафию для надгробного камня, под которым покоился Лайель. Чарлз был безутешен. Он очень горевал об утрате старейшего друга. Три месяца Чарлз был с головой погружен в работу, "трудился как черт", по его словам, подготавливая второе издание "Происхождения человека". Из Кембриджа помочь отцу приехал Джордж, и все-таки работа над книгой затянулась до конца года. "Насекомоядные растения" были изданы Мэрреем в июле: две тысячи семьсот экземпляров из первого тиража разошлись мгновенно. В который уже раз английская публика с захватывающим интересом читала о фантастических, невероятных открытиях этого странного гения – Чарлза Дарвина. Он не стал тратить время на то, чтобы отпраздновать успех новой книги, и немедленно сел за переработку "Лазящих растений", увеличив объем книги на девяносто страниц, в которых описывались последние открытия в этой области. – Ваша прелестная книжица о лазящих растениях, – сказал ему Алфред Уоллес, – представляет собой очень интересное дополнение к вашим "Орхидеям" и "Насекомоядным растениям". Они составили ботанический триптих. Вскоре Чарлз начал работать над отчетом о десятилетних опытах, исследующих рост и размножение растений, выросших от перекрестного опыления и самоопыления. В письме к Эрнсту Геккелю он писал: "Поистине удивительно, какое действие на потомство оказывает пыльца, взятая с растения, выросшего из саженца, который на протяжении его жизни помещали в самые разные условия". В семье не было никаких разногласий с 1865 года, когда Уильям выступил с защитой английского губернатора Эйра, подавившего восстание на Ямайке. И вот теперь Генриетта приехала из Лондона и привезла с собой петицию, составленную некой мисс Коб, в которой требовалось запретить вивисекцию в Англии. – Мисс Коб, – сказала Генриетта, – убедила многих важных лиц подписать эту петицию. В Лондоне петиция наделала большой шум. – Я знаю, – сухо ответил Чарлз. – Прочитал об этом в газетах. – Прошу тебя, отец, подпиши и ты. – Нет, дорогая дочь, никогда не подпишу. – Почему? – Потому что я давно считаю физиологию одной из величайших наук. Рано или поздно она принесет человечеству огромную пользу, а развиваться эта наука может только с помощью опытов на животных, – Чарлз похлопал рукой по петиции и продолжал: – Предложение ограничить исследования только тем, что имеет непосредственное отношение к здоровью по нашим сегодняшним понятиям, представляется мне глупым ребячеством. В глазах у Генриетты заблестели слезы. – Отец, ты только подумай о тех страданиях, которые люди причиняют беззащитным животным! – Животных всегда сначала анестезируют. Наша задача – как можно меньше мучить животных и в то же время не мешать физиологам в их работе. Спор о вивисекции разгорелся вовсю и продолжался довольно долго. Муж Генриетты привез Чарлзу черновик законопроекта о вивисекции, который предстояло направить затем в парламент; была создана специальная Королевская комиссия для изучения этого вопроса. Чарлз давал показания в комиссии, председателем которой был Томас Гексли. Было внесено столько поправок, что окончательный вариант законопроекта не мог устроить ни ту, ни другую сторону. – Закон, который позволяет мальчишкам ловить на удочку щук и насаживать на крючок живых лягушек, – сказал Гексли, – а учителям этих мальчишек под страхом штрафа и тюремного заключения запрещает использовать эту самую лягушку, чтобы продемонстрировать одно из самых прекрасных и поучительных зрелищ – циркуляцию крови в лапке лягушки, – такой закон просто не имеет смысла! Когда бесценный Парсло, который был тридцать шесть лет членом семьи, ушел на покой, поселившись со своей женой и детьми в домике по соседству, Эмма стала давать ему ту или иную работу в усадьбе и платила столько, чтобы общий заработок у него получался приличным. Скоро она нашла нового дворецкого по имени Джексон. Это был маленький человечек с румяными щеками и длинными вьющимися бакенбардами. По внешнему виду он больше походил на клоуна, чем на дворецкого. Недостаток ума в нем компенсировался веселым нравом. Прислуживая за столом, даже в присутствии гостей, он старался не пропустить ни одного слова, а услыхав что-нибудь смешное, разражался гомерическим хохотом, чем бы в это время ни был занят – собирал ли со стола тарелки или передавал блюла с едой. – Как ты думаешь, – спросила Эмма Чарлза, – не поговорить ли мне с ним, чтобы он вел себя более сдержанно? – Да нет, не надо, – ответил Чарлз, – гостей развлекает его смех. Кто-то в прошлый раз назвал его "исцелителем". В 1875 году Англия купила половину всего пая у владельцев Суэцкого канала за четыре миллиона фунтов стерлингов. – Вот куда идут деньги налогоплательщика, – сетовал Чарлз. – И ведь только подумать, я даже не знаю, какую половину мы купили. Джексон подумал, что это шутка, громко захохотал и даже чуть не начал аплодировать. – Я бы назвал его скорее шутом, чем исцелителем, – заметил Френсис. Смит Элдер, один из первых его издателей, попросил Чарлза приготовить к переизданию его старые книги "Строение и распределение коралловых рифов", "Геологические наблюдения над вулканическими островами" и "Геологические наблюдения над Южной Америкой", опубликованные тридцать лет назад. Студенты и геологи все еще нуждались в этих книгах. Как всегда, Чарлзу очень не хотелось отрываться от своей настоящей работы. Но чувства юмора он не потерял. Вот что он писал Асе Грею в Америку: "Передайте миссис Грей наш самый сердечный привет. Я помню, что ей очень нравилось, когда мужчины хвалятся; это их так вдохновляет. Так вот, скажите ей: наша с женой турнирная таблица – мы продолжаем состязаться в трик-трак – выглядит следующим образом: у нее 2490 побед, а у меня – ура! ура! 2795!" Он съездил в Лондон специально для того, чтобы посмотреть, как Гукер председательствует в Королевском обществе. Вернувшись домой, он сказал Эмме: – Моя поездка доставила мне большое удовольствие. Я видел много людей, и это не причинило мне никакого вреда. В начале нового года Эми порадовала их новостью – она ждала ребенка. Эмма и Чарлз рассчитали, что они станут бабушкой и дедушкой в середине сентября. – Наконец-то у нас будет внук или внучка, – с восторгом повторяла Эмма. – Я так давно об этом мечтала. – Подожди, их будет очень много, – отвечал ей Чарлз. – У тебя ведь еще четыре неженатых сына и одна незамужняя дочь. Иногда ему казалось, что он занимается перекрестным опылением своих собственных книг. В мае он начал вносить поправки во второе издание своей книги об орхидеях. В июне занялся пересмотром (уже во второй раз) сочинения о самоопылении. В июле один немецкий издатель попросил Дарвина "написать историю развития его ума и характера и рассказать немного о своей жизни". Это было интересное предложение; до сих пор еще никто никогда не просил его написать автобиографию. – Эту рукопись ты оставишь своим внукам, – предложила Эмма. – Да, прекрасная мысль. Особенно потому, что ее исполнение оторвет меня – пусть ненадолго – от микроскопа. Я едва жив. – Почему бы нам не поехать в Суррей? Генслей и Фэнни несколько раз предлагали нам пожить в их летнем домике. – Прекрасно. Я буду там писать и надуваться от гордости, как голубь-дутыш. В Суррее ему работалось легко, без натуги; писал он по утрам, после обеда отправлялся на прогулку. Он рассказал о своем детстве в Маунте, об отце, докторе Роберте Дарвине, о семи годах в Шрусберской школе, о трех с половиной годах в колледже Христа, о пятилетнем плавании на корабле "Бигль"… "У меня привычки педанта, – писал он, – и это очень помогает в работе… Поскольку мне не надо было зарабатывать на хлеб насущный, у меня всегда был досуг, свободное время. Даже мое слабое здоровье, хотя оно и похитило несколько лет жизни, ограждало меня от светских развлечений и забав… … Мои успехи в науке, каковыми бы их ни считать, объясняются, насколько я могу судить, сложными и разнообразными свойствами моего ума и определенными условиями. Самые важные мои свойства – любовь к науке, безграничное терпение, благодаря которому я мог долго размышлять над одним и тем же предметом, упорство в накапливании и объяснении фактов, изобретательность и здравый смысл. То, что я с моими скромными способностями, по-видимому, оказал существенное влияние на убеждения ученых в некоторых важных областях, поистине для меня удивительно". В начале августа вернулись домой; и Чарлз уже дома закончил автобиографию. Получилось около ста страниц. Чарлз дал рукопись Эмме. Она читала ее на веранде. Окончив читать, сказала: – Это интересно. Другим будет еще интереснее. А этот издатель из Германии действительно хочет напечатать ее? – Мне кажется, не надо ее публиковать. Пусть возьмут отдельные куски. Но в целом это – небольшой рассказ о моей жизни для внуков, как ты и говорила. Дети про меня знают все. Джозеф Гукер стал ухаживать за Гайесинт Саймондс, дочерью известного геолога, и сделал ей предложение. Она была намного моложе Гукера, среди ученых пользовалась большим уважением. Гайесинт согласилась стать женой Гукера. Дарвины были счастливы за него; он больше не будет одинок, а за детьми теперь будет присматривать заботливый женский глаз! Когда Эми подошло время рожать, она спросила Френсиса, не может ли она вернуться на время родов к себе домой в Северный Уэльс. – Я знаю, Френсис, что значит для отца твоя помощь. Оставайся дома, я поеду одна. Я ведь буду там со своими родителями, у нас есть домашний доктор. Будь за меня спокоен. Френсис не соглашался. Он хотел ехать с ней. Если придется ждать, он может и вернуться домой, убедившись, что оставляет ее в надежных руках. Но Эми уверяла его, что легко перенесет путешествие. И в конце концов Френсис уступил, хотя на сердце у него щемило. Эми поехала одна. Вскоре в Даун-Хаус пришло письмо, которое потрясло всех. Эми умерла при родах, никаких подробностей в письме не было. Младенец же – у Эми родился мальчик – был жив и здоров. Убитый горем и мучимый угрызениями совести, Френсис немедленно отправился в Уэльс за сыном. Смерть Эми глубоко ранила Эмму; она стала всего бояться, в душе поселилась тревога. Френсис замкнулся в себе. Но мальчик, его назвали Бернард, приносил огромную радость и утешение. Эмма наняла ему кормилицу, взяв на себя все остальные заботы матери. Ей пришлось ограничить круг своей деятельности, но она не жаловалась. Книга "Действие самоопыления и перекрестного опыления в растительном царстве" увидела свет в декабре. Уильям Тизелтон-Дайер, помощник Гукера в Кью, опубликовал в журнале "Природа" прекрасную статью, посвященную книге Дарвина; статья послужила как бы благословением: до ее появления было продано уже тысяча пятьсот, а после статьи книга пошла нарасхват. 12 декабря Чарлз отпраздновал свое шестидесятивосьмилетие. Его борода стала длинной и совсем белой. Он убедил Эмму не праздновать день рождения. Но почитатели в Германии и Голландии решили по-своему. И Чарлз получил два великолепных альбома, в каждый были вклеены фотографии ученых: в один немецких, в другой – голландских, под каждой фотографией – несколько благодарственных слов и подпись. Чарлз был глубоко тронут; очевидно, альбомы готовились не один месяц. Он ответил ученым двух стран: "… я думаю, что у каждого ученого бывают порой минуты депрессии, когда ему кажется, что жизнь его прожита зря и что его труды не заслуживают затраченных усилий; так вот, всю остальную жизнь, когда мне будет нужна поддержка, я взгляну на фотографии моих выдающихся коллег и вспомню их добрые слова, сказанные в день моего рождения. А когда я умру, эти альбомы перейдут к моим детям как самое дорогое сокровище". Когда Чарлз получил очередное почетное звание за научные труды, Френсис спросил его: – Отец, сколько таких званий ты уже получил? – Не знаю, Френк. Никогда не считал. – А хочешь, я сосчитаю? – Если это доставит тебе удовольствие. Френсис сосчитал, что отец был почетным членом семидесяти пяти зарубежных академий и университетов; пожалуй, больше почестей, чем он, заслужил только сэр Исаак Ньютон, который тоже окончил Кембриджский университет и был там профессором с 1669 по 1701 год. Через неделю после дня рождения Чарлз получил уведомление из Даунского клуба друзей, в котором он был бессменным казначеем двадцать семь лет, о том, что члены клуба постановили клуб распустить, а находившиеся в казне деньги в сумме тысяча сто пятьдесят фунтов стерлингов разделить между собой. На это были две причины: боязнь, что английское правительство объединит все клубы в один, а значит, объединит и все фонды. И во-вторых, все члены клуба стали уже состоятельными людьми и нужда в таком клубе как будто отпала. Чарлз сурово, по-отечески, отчитал своих собратьев по клубу: "Уверяю вас, что все слухи касательно объединения клубов и создания единого фонда не имеют под собой никакой почвы. Я консультировался со служащим, которому нет никакой корысти обманывать вас; он подсчитал, что можно пустить на дивиденды около тысячи пятисот фунтов стерлингов, а около тысячи фунтов сохранить. Ни один здравомыслящий человек не станет сомневаться, что полученная сумма как раз та, которая может понадобиться для похорон или на лечение. Поэтому я надеюсь, что вы позволите мне самым серьезным образом просить вас не распускать клуб не только ради ваших жен и детей, но и ради вас самих. Я надеюсь, вы понимаете, что я не руководствуюсь неблагородными побуждениями, высказывая вам это свое мнение…" Члены клуба вняли его совету. Джозеф Гукер стал сэром Джозефом Гукером. Он чувствовал себя очень неловко оттого, что в рыцарское достоинство возвели не Чарлза, а его, хотя он на восемь лет моложе и, по его мнению, внес в науку и сокровищницу знаний гораздо меньший вклад, чем его друг и учитель. Ученые коллеги Дарвина были потрясены, возмущены, оскорблены тем, что Чарлза Дарвина обошли. Была организована мощная кампания, требующая восстановления справедливости; участникам кампании не ответили "нет", их просто игнорировали. По-видимому, ни правительство, ни двор не желали связываться с церковниками. – Меня это нисколько не трогает, – сказал Чарлз своим друзьям, – мои сочинения – вот МОЙ рыцарское достоинство. И он не кривил душой. Дочь Гукера Хэрриет вышла замуж за Уильяма Тизел-тона-Дайера, ставшего таким образом членом большой ботанической семьи Гукеров – Генсло. А через пять дней после свадьбы сэр Джозеф уехал в Соединенные Штаты по приглашению профессора Хейдена, главы американского Общества топографических и геологических исследований; ему предстояло принять участие в естественно-геологической экспедиции, участником которой был также Аса Грей; экспедиция должна была пройти по штатам Колорадо, Юта, Невада, Калифорния и закончить работу в Сан-Франциско. В задачу сэра Джозефа входило составить описание флоры, особенно лесов – их характер и размещение. V – Я почти ему завидую, – сказала Эмма. – Оказывается, что уже все, включая наших мальчишек, побывали в Америке. А мы – нет. – Если ты найдешь перешеек, соединяющий два континента, я, так и быть, повезу тебя в Америку. А ведь, между прочим, и у нас в Англии есть одно из чудес света. Не съездить ли нам в Стоунхендж? В Стоунхендж отправились вместе с Джорджем. Джордж, по профессии математик, показал им, что расположение камней, возможно, не случайно, его могли использовать для наблюдения за небесными объектами. " В разговоре с Горасом Чарлз на один из его вопросов ответил: – Я часто задумываюсь над тем, что делает человека открывателем неизвестного. Это сложный вопрос. Многие очень умные люди, гораздо умнее открывателей, никогда ничего не могли открыть. Я вижу объяснение в следующем: открывает тот, кто постоянно доискивается до причин или до смысла всего происходящего. Для этого нужно иметь острый глаз наблюдателя и знать по возможности все об исследуемом предмете. Вернувшись из Америки, Гукер сказал Чарлзу: – Сотни людей в Америке спрашивали о вас, так что примите через меня привет от американского народа. Чарлз работал как одержимый. На очереди была книга о различных формах цветов и растений одного вида. Фактически она уже существовала в отдельных записях, оставалось только собрать их в книгу. Вместе с Френсисом они очень быстро подготовили рукопись и сдали ее в печать 9 июля 1877 года. Чарлз посвятил книгу Асе Грею, который собирал статьи о Чарлзе, помещенные в американских журналах. Джон Мэррей выпустил только тысяча двести пятьдесят экземпляров книги, но их тут же расхватали те, кто любил тщательную и точную методу описаний Чарлза. – За работой я горю как в огне. Это означало также, что он и чувствовал себя прекрасно. Энергия била в нем ключом, он даже написал статью о поведении младенцев, используя свои записи об Уильяме; статья вышла в "Майнде" и привлекла внимание публики. У него появился новый предмет исследования; он говорил, что это, по всей вероятности, его последний научный интерес. Он очень увлекся им, отчасти потому, что у других этот предмет вызывал отвращение. На этот раз Чарлз занялся червями! Вернувшись из плавания на корабле "Бигль", он не раз задумывался над жизнью этих пресмыкающихся. Как-то он гостил в Мэр-Холле у дяди Джоза, и дядя Джоз показал ему, сколько земли нанесли на его газоны черви. Спустя год Чарлз написал и прочитал в Геологическом обществе доклад, в котором утверждал, что дай земляным червям время, и они похоронят под слоем почвы все, что находится на поверхности земли. Двадцать лет никто не вспоминал об этом сообщении, только однажды в "Гарденерс кроникл" появилась статья, опровергающая точку зрения Чарлза. И он тогда же решил, что придет время, и он ответит своему критику. И вот время пришло. Много месяцев изучал Дарвин анатомию, повадки и работу земляных червей. В его кабинете повсюду стояли горшки с землей. – Я хочу выяснить, – сказал он Френсису, – в какойстепени они действуют сознательно, есть ли в их действиях проявления разума. Мне тем более это интересно, что, насколько я знаю, очень мало ученых занималось до сих пор такими низко организованными животными. – Многие считают, – пожал плечами Френсис, – что черви годятся только для насадки на крючок. – Это неправильно. Черви принимают участие в формировании гумуса верхнего слоя почвы в странах с влажным климатом. – А для чего нужен гумус? И как черви формируют его? – Ты видел маленькие земляные холмики – их бывает везде очень много? Эти холмики нарыты червями. – А что еще мы должны узнать о них? – спросил Френсис, тон его говорил, что он отнюдь не уверен, что черви – достойный объект исследования для такого ученого, как Дарвин, магистра гуманитарных наук, члена Королевского общества. – Все: их строение, их чувства, железы внутренней секреции, повадки, разум, что они едят, как переваривают пищу, как роют свои ходы, как подрывают крупные камни и погребают их под слоем земли, вес земли, которую они выносят на поверхность… Френсис свистнул. – Опять за микроскоп! Меньше всего я ожидал, что буду резать червей, как ты резал усоногих рачков. – Черви играют куда большую роль в истории земли, чем ты думаешь. Археологи должны быть им благодарны за то, что они сохраняют на протяжении необозримо долгого времени под своими холмиками предметы, не поддающиеся гниению, причем сохраняют так же успешно, как мы с помощью лопат и заступов. Эмма была удивлена гораздо меньше, чем Френсис. – Всюду, где есть жизнь, отец устремляет свой ум исследователя, сказала она ему, Генриетте Эмма написала: "… Отец был очень счастлив, найдя в земле два старых камня. Он нанял человека, который роет для него червей. Сн хочет понять, как черви постепенно подрывают камни, а потом погребают их под слоем земли. Пойду отнесу ему зонтик". Прогуливаясь по соседнему полю, которое он знал как свои пять пальцев, Чарлз обнаружил, что все камни на нем, благодаря земляным червям, каждый год уходят в землю на четверть дюйма. Более трудная задача – выяснить, сколько земли выносит на поверхность один червь. Вскоре удалось установить, что на меловых холмах вблизи Дауна черви поднимают на поверхность восемнадцать тонн земли ежегодно! Все эти годы Чарлз был вполне доволен своим кабинетом, хотя иногда и приходилось набросить на плечи плед – окна были слишком близко к рабочему месту; и вот наконец в его кабинете негде повернуться: весь он забит книгами, картотеками, инструментами, глобусами, чучелами, стены увешаны фотографиями, портретами, картами. И Чарлз решил выстроить себе новый большой кабинет за гостиной. Он выбрал проект подешевле, сам наблюдал за строительством; пришлось перестроить также крыльцо, входную дверь и сени. К осени 1877 года все содержимое старого кабинета было размещено в новом. Нашлось место для кушетки, на которую можно было прилечь, появилось глубокое кожаное кресло, длинный широкий стол, на котором лежали рукописи, книги, статьи, письма, бумага, чернильница с ручками. Его стул, как всегда, стоял в углу у большого окна с широким подоконником, на нем – книги и журналы. Он попросил местного плотника приделать к ножкам стула колесики, чтобы разъезжать в нем по всему кабинету. Однако переезд в новый кабинет не решил проблемы; полгода спустя новый кабинет стал таким же тесным. Увидев, как полки набиты книгами, Эмма сказала: – Да, природа не любит пустоты. Как-то Чарлз, одетый в свой длинный плащ, бродил один по окрестным полям. Задумавшись, остановился и долго стоял, не шелохнувшись, так что белки решили, это дерево, и запрыгали по его ногам и спине. Жесткошерстный фокстерьер Полли, которого Генриетта, переезжая в Лондон, оставила в Даун-Хаусе, чуть не лишился от такой наглости собачьих чувств. Он знал, что Чарлз – большой пес. К нему очень хорошо прыгать на колени, когда можно, конечно, и дремать на них. Чарлз был находкой для карикатуристов. Журналы "Лондон-скетч-бук", "Панч", "Хорнет" то и дело помещали на него карикатуры скорее веселые, чем злые. Его голова, лицо, длинная белая борода изображались очень похоже, тело же было обезьянье, волосатое, а на ногах когти. Старший сын Уильям объявил о своей помолвке с американкой Сарой Седжвик. – Я очень, очень этому рад, – сказал Чарлз. – Уильяму тридцать восемь лет, и я уж думал, что он останется холостяком. Уильям, живший в Саутгемптоне, упал с лошади. Доктор Эндрю Кларк высказал предположение о возможном сотрясении мозга. Горас, которому было уже двадцать шесть лет, ухаживал за братом и исполнял роль секретаря, отвечая на деловые письма. Почти одновременно Ленард, строивший форты для Британской империи, упал на теннисном корте и так сильно расшиб коленку, что несколько дней пролежал в постели. За Ленардом ухаживала Элизабет. В Лондоне заболел Личфилд, Генриетта ухаживала за своим мужем так же заботливо и преданно, как мать за отцом. Эмма хвалила Генриетту. – Ничто так не сближает, как болезни, – сказала она. Но самое большое переживание выпало на долю Эммы. Многие годы у нее были самые лучшие отношения с местным священником. Вместе с преподобным мистером Инне-сом они занимались всевозможными приходскими делами, местной школой, помогали беднякам; с преподобным Генри Пауэлом, сменившим мистера Иннеса, она тоже ладила. Но с последним священником – преподобным Джорджем Финденом она никак не могла найти общего языка. Он был тори и выступал против всего, что всегда отстаивали Веджвуды и Дарвины. На все приходские дела в Дауне у них с Финденом были противоположные точки зрения. Они так ссорились на местных собраниях, что Эмма перестала их посещать. И вот на днях преподобный Фин-ден совершил вопиющую бестактность. Читая в воскресенье утреннюю проповедь, он позволил себе напасть на Дарвина и его сочинения в присутствии Эммы и Элизабет. Услыхав слова священника, обе женщины поднялись со своей фамильной скамьи и удалились из церкви. Эмма всю дорогу домой не находила слов от возмущения. Распахнув дверь в новый кабинет мужа, она воскликнула: – Нет, он непроходимый болван! Ноги моей больше не будет в даунской церкви. В то воскресенье я пойду за две мили в Кестон и помолюсь в кестонской церкви. Разобравшись, в чем дело, Чарлз сказал: – Я провожу тебя. Ну а как же быть зимой? В дождь и грязь туда трудно добираться. Ты ведь не захочешь, чтобы наш кучер возил нас и в воскресные дни? Эмма опять возмутилась: – Если я не могу в воскресенье пройти в непогоду две мили, то какая же я добрая христианка! Чарлз обнял жену. – Ты не только добрая христианка, – сказал он, утешая ее, – ты святая мученица. Я так и вижу тебя на арене Колизея в Риме, ты отгоняешь нападающих на тебя львов и кричишь императору, что он подлый язычник. Немного успокоившись, Эмма поцеловала его в щеку и сказала: – Ну почему именно нам из всей Англии достался этот ханжа? Чарлз усмехнулся. Его жена Эмма была такой же рьяной христианкой, как и преподобный Финден; и вот она сражается с ним в защиту своего мужа-вероотступника. Эмма так никогда и не примирилась с тем, что муж ее не был возведен в рыцарское достоинство. Кембриджский университет объявил, что Дарвину присуждена степень доктора юридических наук, высшая ученая степень, которую университет мог присвоить. Церемония вручения диплома состоялась 17 ноября в Сенатском зале университета (степень магистра университет присвоил Чарлзу сорок лет назад). Чарлз согласился поехать на церемонию. Семейство остановилось в гостинице "Бул". На другой день Эмма, Элизабет, Ленард и Горас вошли в сенат через боковую дверь. Зал сената представлял собой удивительное зрелище. Галереи по обеим сторонам были переполнены, в партере яблоку негде было упасть, студенты стояли на подоконниках, висели на статуях. Время от времени там и здесь слышался смех… Когда вошел Дарвин в красной мантии, шум поднялся невообразимый. Дарвин улыбнулся и стал ждать появления вице-канцлера. Вдруг откуда-то сверху на веревках, идущих от галереи, спустилась навстречу Дарвину большая игрушечная обезьяна. Веселье поднялось неописуемое – кембриджские студенты радовались шутке, которую они приготовили для Дарвина. Наконец появился вице-канцлер в красной мантии, отороченной белым мехом; начались поклоны и рукопожатия, затем Чарлза проводили по проходу между рядами два жезлоносца. Оратор на трибуне прочитал скучнейшую речь на латыни, студенты, согласно традиции, прерывали его одобрительными возгласами. Затем Дарвин с сопровождающими лицами подошел к вице-канцлеру. Против правил, он не встал на колени. Наконец церемония была окончена, все подходили к Дарвину и пожимали ему РУКУ В честь Дарвина было устроено много обедов и встреч. Чарлз побывал в своих старых комнатах, где он жил, учась в колледже, – отдал дань сентиментальным воспоминаниям. Показал детям цветущий Ботанический сад, который заложил Джон Генсло, прогулялся по городу с дипломом доктора в кармане своей шелковой мантии. В тот же вечер Томас Гексли произнес речь, посвященную Дарвину, в Кембриджском философском обществе. "Замкнулся круг", – подумалось Дарвину. Это было то самое общество, которое в 1835 году опубликовало отрывки из его писем Джону Генсло, написанных на борту корабля "Бигль", с комментариями Адама Седжвика. Сэр Джозеф Гукер удивил всех: его молодая жена родила ему сына. Томас Гексли не удивил никого, обрушив на мир целую лавину лекций, монографий и книг, и в конце концов тоже, как и Дарвин, получил степень доктора юридических наук. Этой зимой Чарлз с Френсисом месяц работали в новом кабинете, стараясь доказать, что спячка растений нужна для того, чтобы листья меньше страдали от радиации. Весной он поехал в Лондон повидать доктора Эндрю Кларка по поводу частых головокружений. Доктор Кларк посадил его на сухую диету и отказался от гонорара. Не взял он денег и посетив Чарлза в Даун-Хаусе, чем поставил Чарлза в затруднительное положение: неудобно было приглашать врача, который не берет платы. Уильям продолжал заниматься общественной помощью беднякам в Саутгемптоне; при его активном участии была организована профессиональная школа, где преподавались такие разные предметы, как живопись и химия. Когда он приехал в Даун-Хаус повидать родителей, Чарлз сказал сыну: – Не попробуешь ли ты уговорить доктора Кларка брать хотя бы символический гонорар? Так мне будет легче. Уильям попробовал. Доктор Кларк даже рассердился. – Даун-Хаус – это Мекка для всего ученого мира. Так вы полагаете, что за привилегию посещать Мекку я должен получать деньги? Годовалый сын Френсиса Бернард, веселый живой мальчик с ясными глазами, радовал всю семью. И все-таки Эмма требовала, чтобы Чарлз почаще устраивал себе каникулы. Побывали в прелестном озерном крае в Камбрии, где бродили по крутым, обрывистым скалам. Чарлз, даже жалуясь, говорил с восторгом об этом красивейшем месте Англии. Он написал Алфреду Уоллесу: "Чувствую себя сносно, хотя все время такое ощущение, что не живу, а умираю. Тем не менее продолжаю исследовать психологию растений; я знаю, что сразу же умру, если перестану работать…" Алфреда Уоллеса постоянно преследовало безденежье. Его единственным источником дохода, на который он кормил все растущую семью, были книги и статьи для журналов, за которые очень мало платили. Он понимал, особенно после того как женился, что ему необходимо найти постоянную работу. Он уже обращался в Королевское геологическое общество с просьбой дать ему оплачиваемую должность помощника секретаря. Но на эту должность назначили его друга и товарища по путешествиям Генри Бейтса. Он просил место директора музея в Бетнал Грин и управляющего в Энтинг-форест. Всюду ему было отказано, эта третья неудача совсем выбила его из колеи; он не видел будущего для своей семьи. Чарлз поехал в Лондон и пригласил друзей на обед в дом дяди Эразма. – Ничего больше не остается, – сказал он, обращаясь к Гукеру и Гексли, – мы должны выхлопотать правительственную пенсию для Уоллеса. Это замечательный ученый, мы должны ему помочь. Разработали план действий. Сначала Чарлз написал несколько писем в разные инстанции. Хлопотали целый год, просили, уговаривали и наконец убедили правительство выплачивать Уоллесу пожизненную пенсию в двести фунтов стерлингов в год. Времена года в 1878 году точно с ума сошли. В июне разразилась тропическая гроза с градом. Градины были такие крупные, что Дарвины боялись за стеклянную крышу веранды. Теперь, в октябре, намного раньше срока выпал снег на еще не опавшие листья. Под тяжестью снега у многих деревьев в саду обломились ветви. Вдруг непредвиденная радость – письмо от некоего мистера Антони Рича из Гина, графство Уортинг. Мистер Рич писал, что они с сестрой последние представители семьи и при таких обстоятельствах "должны помнить о тех, чьи таланты приносят наибольшую пользу человечеству". Поэтому они оставили почти все свое состояние Чарлзу Дарвину. Это были акции домостроительной компании в Корнхилле, которые приносили тысячу фунтов в год. Чарлз хотел было отказаться от наследства. Но ни в ком не нашел поддержки – ни в Эмме, ни в детях, ни в друзьях. Все они, в том числе Личфилд, Гукер, Гексли, Уоллес, в один голос заявили: "Примите эти деньги! Пусть эта тысяча фунтов пойдет через Королевское общество молодому натуралисту, который нуждается в помощи. Этим вы подадите прекрасный пример. Возможно, и другие люди будут оставлять часть своего состояния натуралистам и ученым обществам. Такого ведь раньше никогда не было". И он получил это наследство. Туринское научное общество присудило Дарвину Брес-совскую премию, он получил положенные ему сто фунтов стерлингов и отправил Неапольской зоологической станции письмо, в котором писал, что если станции понадобится аппаратура стоимостью приблизительно сто фунтов стерлингов, то пусть ему позволят за нее заплатить. За несколько дней до своего семидесятилетия Чарлз вошел к себе в кабинет и остолбенел, увидев на столе роскошную меховую шубу. Следом за ним вошли сыновья и Элизабет и хором воскликнули: – Это подарок! Наш подарок ко дню рождения! От всех нас! Померь! Шуба пришлась в самый раз. Он обнял детей. Генриетта, принимавшая участие в подарке, была в Лондоне. – Я не смогу ее носить. – Почему, отец? – В наших широтах таких холодов не бывает. Но Чарлз ходил в этой шубе так часто, что даже боялся совсем износить ее. В ноябре 1880 года он узнал о наводнении в Бразилии, в котором чуть не погиб его друг Фриц Мюллер. Чарлз немедля написал его брату Герману Мюллеру, что если в наводнении у Фрица погибли книги и инструменты, то он просит, чтобы ему позволили "во имя науки возместить потерянное – наука не должна страдать". Приблизительно в то же время младший сын Горас женился на дочери их друга и родственника Томаса Фар-рера. Дарвины любили, чтобы браки детей совершались в пределах семьи. Дома остались только Френсис и Элизабет да еще маленький Бернард – Эмма и Чарлз растили внука, вспоминая с умилением, как растили своих первенцев на Аппер-Гауэр-стрит, 12. Подобно тому как года два назад погода вдруг удивила своими капризами, так и сейчас, точно снег на голову, на Дарвина свалились неприятности, хотя сам он, в сущности, ни в чем виноват не был. Самюэль Батлер, внук директора шрусберской школы, в которой учился Дарвин, известный своим сочинением "Еревуон" – почти точное обратное написание английского "никуда", выпускник кембриджского колледжа Сент-Джон, опубликовал книгу "Эволюция – старая и новая", в которой отстаивал взгляды доктора Эразма Дарвина в противовес взглядам его внука Чарлза. Спустя немного времени доктор Эрнст Краузе, научный редактор своего журнала "Космос", опубликовал краткую биографию доктора Эразма Дарвина, собираясь затем переработать ее в книгу. Он попросил Чарлза написать коротенькое вступление о своем деде. Прочитав все это, Батлер послал в "Атеней" разгневанное письмо, обвинив Краузе в том, что он заимствовал из его книги целые параграфы без указания на источник, а Чарлза – в содействии плагиату. Дарвины собрались на семейный совет. – Отец должен защитить свое доброе имя, – настаивали сыновья. Эмма, Генриетта и муж ее Ричард были категорически против. – Удостоить вниманием этот пасквиль – слишком большая для него честь, – сказал Личфилд. Самюэль Батлер поместил в "Сент-Джеймс газетт" еще одно письмо, в котором недвусмысленно намекал, что Чарлз Дарвин – лжец. Гексли на этот раз с сардонической усмешкой заметил: – Позвольте мне процитировать Гёте, который тоже бывал объектом подобных нападок: "У каждого кита есть своя вошь", В начале августа 1881 года Чарлз и Эмма отправились в Лондон навестить Эразма. Туда же по делам службы приехал Уильям. В Лондоне в это время находился и Френсис, который водил свою сестру Элизабет по театрам и выставкам. При встрече с Эразмом Чарлз сказал ему: – Твой дом на улице королевы Анны – совсем как Даун-Хаус. – Совершенно справедливо. А Даун-Хаус – совсем как Маунт. Дарвины пробыли в Лондоне три дня. Вид у Эразма был больной – ему уже было семьдесят семь лет, но держался он бодро. Поэтому, когда 26 августа в Даун-Хаус пришла телеграмма, извещавшая о смерти Эразма, Дарви-нов это известие поразило как гром среди ясного неба. Умер Эразм после непродолжительной болезни. Смерть его была легкой. Для Чарлза эта смерть была тяжкой потерей: словно часть Англии навсегда канула в морскую пучину. – Раса нельзя хоронить в Лондоне, – сказал он родным. – Я привезу его в Даун, и он будет лежать на кладбище возле церкви. Тогда мы каждый день будем проходить мимо его могилы, и он будет знать, что его помнят. Эразма похоронили там, где хотел Чарлз. Похороны были скромные. После похорон Уильям сказал: – Удовольствие от поездок в Даун может сравниться только с тем удовольствием, которое я получал, навещая дядю Раса всякий раз, когда бывал в Лондоне. И не только потому, что он был моим дядей. Я с детства помню его мягкость и доброту; он всегда умел расположить к себе людей, доставить им радость. Да и когда я вырос, каждая поездка к нему была для меня счастьем. Он был на редкость обаятельный человек. В письме к Томасу Фарреру Чарлз писал: "Смерть моего брата Эразма большая утрата для всей нашей семьи. Эразма отличало удивительное добросердечие. Я в жизни не встречал такого милого человека. С ним было интересно разговаривать на любую тему. Как больно, что атих бесед больше не будет1 По-моему, он не чувствовал себя счастливым, и многие годы жизнь не имела для него интереса, однако он не роптал. Хорошо хоть, что в последние свои дни он не очень мучился. Неужели мне никогда больше не суждено увидеть этого человека?" Своей сестре Каролине Эразм завещал приличную сумму. Остальная его собственность, в том числе и дом на улице королевы Анны, досталась Чарлзу и Эмме. Это было солидное состояние. – Пожалуй, нам не стоит распоряжаться имуществом Раса, – сказал Чарлз жене. – Он хотел, чтобы оно перешло к нашим детям. Для них мы его и сохраним. Годы сказывались на Чарлзе куда сильнее, чем на Эмме. Хотя разница в возрасте у них была всего несколько месяцев, он казался гораздо старше жены. То ли продолжительные болезни, то ли упорная изнурительная работа, то ли окладистая белоснежная борода и седина под мягкой черной шляпой придавали Дарвину внешность некоего вселенского патриарха. Глаза его глубоко запали, и выглядел он так, будто вот-вот распростится с этим миром, но это его не очень расстраивает. Конец его жизни был уже недалек; по его собственным словам, кратер вулкана наполнился до самых краев. В гостиной он поставил на пианино Эммы банку с земляными червями; Эмма уже и не заикалась о том, что червям место в теплице. Чарлз пытался установить, как реагируют черви на свист и другие звуки. Черви не обращали на них никакого внимания. Тогда Чарлз взял несколько высоких нот на фортепьяно. Черви поспешно спрятались в землю. – Наверное, – язвительно заметила Эмма, – кроме тебя еще никто не устраивал фортепианные концерты для червей. К большому камню, который водрузили на газоне, Горас приладил инструмент, который показывал, на какую глубину камень ушел в разрыхленную червями почву и за какое время. Френсиса этот опыт очень заинтересовал, но женщины, как ни странно, были к нему совершенно равнодушны. Рукопись книги "Дождевые черви" Джон Мэррей получил в апреле 1881 года. Книга вышла в свет 10 октября. Две тысячи экземпляров разошлись мгновенно, а к концу года было продано пять тысяч. О земляных червях заговорили повсюду. – Надо же, с каким восторгом встретили мою книгу – смех, да и только! – восклицал Чарлз. Джозеф Гукер, считавшийся одним из самых авторитетных ботаников мира, признавался в письме к Чарлзу: "…по правде говоря, я считал червей самыми беспомощными и безмозглыми тварями на свете. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что у них есть личная жизнь и общественные обязанности! Теперь я буду с уважением относиться даже к тем червям, которые живут у нас в цветочных горшках, и они теперь для меня не просто корм для рыб". Чарлз не испытывал особого желания затевать новые длительные исследования. Он с большим удовольствием занимался менее значительными проблемами. "Два месяца я изучал воздействие углекислого аммиака на хлорофилл и корни растений, но мне трудно разобраться в этом вопросе: некоторые непонятные явления, которые я наблюдал, я просто не могу объяснить. А только записывать свои наблюдения мне совсем неинтересно". Он горячо поздравил Гораса и Иду с рождением первого сына. Долго утешал Бернарда, когда его кормилица вышла замуж и уехала. Попросил Уильяма, опытного банкира, заняться денежными делами семьи, оценить стоимость всего имущества и рассчитать, сколько получит каждый из его детей. Уильям оценил все состояние отца в двести восемьдесят тысяч фунтов стерлингов плюс деньги Эммы. И выработал формулу, по которой каждый сын получал пятьдесят три тысячи фунтов стерлингов, а дочери – по тридцать четыре тысячи. Таким образом, дети Чарлза- были обеспечены на всю жизнь. Это было его мечтой. Чарлз не сказал ни Эмме, ни Уильяму, что у него начал слабеть пульс. Френсис повез его в Лондон к доктору Кларку. – Есть небольшие неполадки, но это не страшно, – сказал им доктор. Чарлз знал, что это не так, но возражать не стал. Несколько дней спустя, идя в гести к одному из друзей, Чарлз почувствовал себя плохо. Кое-как дотащился до дому, постучал в дверь. Друга дома не оказалось. Дворецкий, видя состояние Чарлза, пригласил войти. Чарлз отказался. Дворецкий спросил, не поискать ли кеб. Чарлз опя1ь отказался. – Не хочу причинять вам беспокойство. Не позволил дворецкому проводить себя. И побрел в ту сторону, где легче было найти кеб. Пройдя шагов триста, он пошатнулся и, чтобы не упасть, должен был схватиться за решетку ограды. Это было начало конца. Но еще не самый конец. Начался сильный кашель, пришлось лечь в постель. Эмма поила его хинином, от которого ему стало лучше. Он не забыл послать Гукеру двести пятьдесят фунтов – Гукер составлял "Индекс" – полный список опубликованных когда-либо названий всех известных растений с указанием их автора и места публикации. Отдал распоряжение душеприказчикам и детям, чтобы они выплачивали Гукеру ежегодно двести пятьдесят фунтов, пока тот не закончит составление "Индекса". Джордж ходатайствовал о получении места профессора математики и натурфилософии в Кембридже с окладом восемьсот фунтов в год; когда через год он получил это место, Чарлз сказал домочадцам: – Не сомневаюсь, что в один прекрасный день Джордж станет великим математиком. Ежегодная конференция Британской ассоциации 1882 года должна была состояться в Саутгемптоне, и Уильям, как сын Чарлза Дарвина, решил взять на себя ее устройство. – Смотри, – предупредил его Чарлз, – кто везет, того и нагружают. Последним проявлением воли к жизни были две коротенькие работы для Линнеевского общества; одна – о его исследовании корней, другая – о хлорофилловых зернах. К большой его радости, Ленард женился, его молодую жену звали Элизабет Фрейзер. Четверо сыновей из пятерых были женаты. На последней неделе февраля и в начале марта его сильно мучили боли в области сердца, к вечеру начиналась аритмия. Теплые дни он проводил в саду с Эммой, потому что "любил слушать пение птиц и смотреть на распустившиеся крокусы". 7 марта он решил прогуляться по любимой тропе, но у него опять сделался сердечный приступ. Болезнь приняла такой серьезный характер, что Эмма послала за доктором Кларком. Пригласили специалистов из больницы св. Варфоломея и св. Марии Крей. Врачи ничего не могли сделать, чтобы снять у него ощущение сильнейшей слабости. С глубокой печалью он начинал осознавать, что работать больше не сможет. 15 апреля за обеденным столом у него начался мучительный приступ головокружения, он встал и, сделав шаг в сторону шезлонга, потерял сознание. Через два дня с ним опять случился глубокий обморок. С большим трудом его привели в чувство. За Чарлзом ухаживали Эмма, Френсис и Элизабет. Дали знать о состоянии отца Генриетте. Генриетта приехала утром девятнадцатого, накануне у Чарлза был еще более тяжелый сердечный приступ. Оставив у отца Генриетту, Эмма спустилась вниз, чтобы немного отдохнуть. Генриетта и Френсис сидели по обеим сторонам его постели. На секунду придя в себя, Чарлз взглянул на дочь и тихо произнес: – Ты самая лучшая из сиделок. Чарлз отходил. Генриетта пошла за матерью и сестрой. Чарлз в последний раз открыл глаза. Ему удалось вложить свою ладонь в ладони Эммы. – Я не боюсь умереть, – сказал он. Эмма поцеловала его в лоб и прошептала: – Ты и не должен бояться. Через несколько минут Чарлз вздохнул в последний раз. Один из врачей закрыл ему глаза. Эмма с детьми спустилась вниз, там ждали родные. Генриетта отметила про себя, как спокойно и естественно держится мать. Принесли чай. Эмма позволила себе улыбнуться на миг какой-то мелочи. – В чем секрет, мама, твоего спокойствия и самообладания? – спросила Генриетта. Эмма секунду помедлила, затем сказала, глядя на дочь добрыми, понимающими карими глазами. – Отец, наверное, не верил в бога. Но бог верил в него. Там, куда он ушел, он будет покоиться в мире. Семья решила не устраивать пышных похорон и предать Чарлза земле на старинном кладбище возле церкви рядом с братом Эразмом и детьми Мэри Элеанор и Чарлзом Уорин-гом. Джон Леббок рассудил иначе. Он послал петицию, подписанную двадцатью членами палаты общин, настоятелю Вестминстерского аббатства доктору Брэдли. В петиции говорилось: "Глубокоуважаемый сэр, мы надеемся, вы не сочтете вольностью с нашей стороны утверждение, что большинство наших сограждан всех сословий и убеждений полагает желательным похоронить нашего замечательного соотечественника в Вестминстерском аббатстве". – Я вполне разделяю ваши чувства, – сказал Джон Леббок родным, – и я лично тоже предпочел бы, чтобы ваш отец покоился в Дауне и был бы всегда рядом. Но с общенациональной точки зрения Чарлз, несомненно, должен быть похоронен в аббатстве. Похороны состоялись 26 апреля 1882 года. Гроб несли Джозеф Гукер, которого Чарлз называл самым дорогим другом; Томас Гексли – "Дарвинов бульдог"; Алфред Уоллес, заявивший, что "происхождение видов целиком заслуга мистера Дарвина"; Джон Леббок, называвший Дарвина своим учителем; Джеймс Рассел Лоуелл, американский посланник при Сент-Джеймсском дворе, который хотел, чтобы его страна была представлена на похоронах; Уильям Споттисвуд, президент Королевского общества; каноник Фарар; герцог Девонширский; граф Дерби; герцог Аргильский. В Вестминстер на похороны приехали представители Франции, Германии, Италии, Испании, России, члены академий и ученых обществ, друзья и почитатели. Дарвин не был возведен в рыцарское достоинство, он так и не стал сэром Чарлзом Дарвином, но и англиканская церковь, и вся титулованная Англия оказали ему самые высокие почести в его последнее появление перед публикой. В соответствии с правилами процессий первыми шли члены королевской семьи, затем вестминстерские плакальщики, старшие священники аббатства, жезлоносец, затем друзья несли гроб, сопровождаемый родными, слугами; процессию завершали представители ученых обществ, академий, университетов… Место последнего успокоения для Дарвина настоятель Вестминстерского аббатства выбрал, очевидно, в минуту озарения: гроб опустили в северной стороне нефа, там, где сквозная загородка отделяет хор, в двух шагах от могилы сэра Исаака Ньютона. Похороны были торжественные. Впускали только тех, кто был в трауре, но под древними сводами ощущалась не безысходная скорбь, а восхищение и гордость от сознания того, что такой человек мог жить на земле. По мнению Эммы, иначе и быть не могло. Она так и не стала называться леди Дарвин, но сегодня были достойно оценены заслуги ее мужа, с которым она прожила сорок три года и который "наделал столько шуму во всем мире". По дороге домой Уильям сказал Френсису: – Надеюсь, мои слова не прозвучат неуместно, но вообрази себе, какие восхитительные беседы будут каждую ночь вести наш отец и сэр Исаак Ньютон, когда с наступлением ночи собор опустеет и затихнет. Оставалось самое простое – сочинить эпитафию для надгробного камня. Гукер и Гексли попробовали, но оказалось невозможно двумя-тремя фразами передать все величие труда Дарвина. – Самое лучшее, – предложил Гексли, – высечь на камне потрясающие слова американского поэта Эмерсона: "Берегитесь, когда Вседержитель посылает на згмлю мыслителя". Но их предвосхитили. Чарлз подумал и об этом. Он не хотел, чтобы на его надгробье было какое-нибудь изречение. На камне уже было все, что нужно: ЧАРЛЗ РОБЕРТ ДАРВИН родился 12 февраля 1809 умер 19 апреля 1882. Дарвин потряс мир. Но не весь. На другой день после похорон в Вестминстерском аббатстве фирма часовщиков с Флит-стрит отправила письмо банку Мартина в Лондоне. В письме говорилось: "Сэр, мы сегодня выписали чек на 28 000 фунтов стерлингов и таким образом закрыли счет в вашем банке. Причина, почему мы закрыли счет, открытый так много лет назад, такого свойства, что ее можно расценить не соответствующей результатам… Причина заключается единственно в том, что мистер Р. Б. Мартин присутствовал вчера в Вестминстерском аббатстве, одобряя тем самым происходившую там церемонию не просто как частное лицо, а, по-видимому, как один из членов общества, которое дошло до того, что поддерживает и почитает теории мистера Дарвина. Мы полагаем, что пришел день, когда все те, кто не стыдится отстаивать истину бога живого, заключенную в его словах, объясняющих акт творения, которые даны им на горе Синай и записаны в книге Бытие, должны наконец открыто заявить о своей позиции. Мы озабочены тем, чтобы господь по крайней мере засвидетельствовал нашу веру в истинность каждого его утверждения, которые находятся во всех книгах Библии, начиная от книги Бытие и кончая Апокалипсисом. Мы понимаем, что наш собственный слабый голос потонет в восторженном хвалебном гимне человеку, чьи смешные и злобные теории мы считаем ужасным богохульством. Да будет так. Грядет день, который будет гореть огнем, и мы увидим тогда, кто прав – бог или мистер Дарвин. С уважением Баррод и Лундс".Ирвинг Стоун Бессмертная жена или Джесси и Джон Фремонт
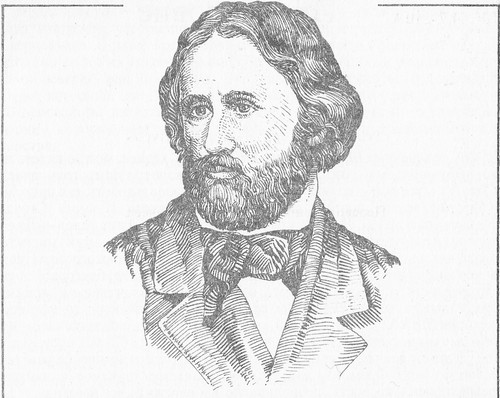
Число строк, отведенных той или иной личности в Энциклопедическом словаре, служит формальным и вместе с тем объективным свидетельством ее исторической значимости. Исходя из этого критерия, следует отметить, что герою повести Ирвинга Стоуна «Бессмертная жена» Джону Чарлзу Фремонту Американская энциклопедия уделила значительно больше места, чем многим президентам США. Плод страстной любви француза-роялиста, бежавшего из Франции в годы Великой французской революции конца XVIII века, и молодой виргинской аристократки, Джон Фремонт стал одним из наиболее известных и отважных путешественников, исследователей, топографов, сыгравшим исключительную роль в изучении американского Запада. Память о Фремонте увековечена на картах Америки: три города (в штатах Мичиган, Небраска и Огайо) носят его имя, а в штате Вайоминг в его честь назван горный пик. В лице Джесси Энн Бентон, дочери влиятельного американского сенатора, Джон нашел верную подругу: она всегда была рядом с ним и в светлые и в мрачные дни, оказалась хорошей помощницей, сумевшей приложить свой литературный талант к докладам и описаниям экспедиций и сделанных в их ходе открытий. Ее беззаветная любовь и преданность мужу и побудила Ирвинга Стоуна назвать свою биографическую повесть «Бессмертная жена».
Предисловие
Девиз Соединенных Штатов Америки, который, кстати, можно видеть на звонкой монете, — «Е pluribus unum», что в переводе с латинского означает: «Один из многих», — вполне можно было бы использовать как эпиграф к биографической повести американского писателя Ирвинга Стоуна «Бессмертная жена». И хотя в этой повести два главных героя — Джон Фремонт и его супруга Джесси, но каждый из них поистине «один из многих», оказавших приметное влияние на формирование американского характера, американской нации и государственности. Произошло это благодаря двум обстоятельствам: Джон и Джесси сами по себе были талантливыми, яркими личностями, а волею судеб они оказывались в эпицентре крупнейших в истории США XIX века событий, которые и служат канвой повествования. Поэтому мы не ошибемся, сказав, что повесть Ирвинга Стоуна произведет неизгладимое впечатление на читателя, и он надолго запомнит беззаветно любящую чету Фремонт, для которой взаимное уважение и любовь превратились в крепость, позволившую им пережить все невзгоды и до смертного часа сохранить свежесть и чистоту своих чувств. Эта книга, пользовавшаяся большим успехом в Соединенных Штатах и других англоговорящих странах, привлекла к себе внимание не только яркостью образов главных персонажей, но и ненавязчивым и в то же время обстоятельным показом жизни американцев середины XIX века. В это время на полную мощь заработал так называемый плавильный котел, превращающий переселенцев из Европы — англичан, французов, немцев, голландцев, шведов и других — в американцев, в американскую нацию. Такого не было в период британского владычества, когда на территории будущих Соединенных Штатов существовали подчиненные британской короне колонии и жители этих колоний именовали себя виргинцами, пенсильванцами, жителями Нового Амстердама, позже ставшего Нью-Йорком, жителями французской Луизианы. Война за независимость 1775–1783 годов начала процесс сплочения бывших английских колоний на Североамериканском континенте в единое государство и новую нацию. Но этот процесс шел медленно, поскольку в колониях, а затем штатах Атлантического побережья укоренились английские традиции и сложилась своя аристократия, поддерживавшая старые устои. Консолидации американского народа как самостоятельной нации способствовала англо-американская война 1812–1814 годов, которую американский ученый и дипломат Бенджамин Франклин называл второй Войной за независимость. Победа в этой войне, одержанная генералом Эндрю Джэксоном (главным героем другой биографической повести Ирвинга Стоуна — «Первая леди», вышедшей в данной серии), стала катализатором, ускорившим вызревание национального самосознания американцев. В наше время принято ниспровергать привычные авторитеты, но не все из сказанного или обдуманного нашими предшественниками неверно или ошибочно. Это касается и известного выражения «Крот истории», принадлежащего К. Марксу. Можно с достаточным на то основанием назвать Джона и Джесси Фремонт теми «кротами истории», которые внесли свою лепту в становление американского государства. В настоящее время едва ли можно найти выпускника американского колледжа или европейца-американиста, не знакомого с книгой французского ученого Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке». Алексис де Токвиль посетил США в то самое время, когда развертывалась личная и общественная драма героев Ирвинга Стоуна. По прихоти случайности в судьбах Токвиля и Джона Фремонта оказались общие моменты. Токвиль родился в семье убежденных приверженцев королевской власти, что, впрочем, не помешало ему быть близким по своим взглядам к либерализму. Отец Джона был роялистом, бежавшим в годы французской революции XVIII века в Америку, где он полюбил молодую жительницу Виргинии. Плодом этой связи и явился Джон, а стигма незаконнорожденного была тяжким пятном в Америке, несшей на себе печать ханжеского пуританизма. Видимо, это предопределило либеральные взгляды Джона, разделявшиеся его женой Джесси. Токвиль разглядел и объяснил процесс экспансии американцев на Запад Американского континента. Ученый развеял ложные представления, будто заселение пустынных земель Америки происходило за счет европейских эмигрантов, приезжавших из Старого Света. В действительности же на Запад устремлялись американцы, родившиеся на Атлантическом побережье. Они оседали здесь с целью накопить необходимые средства, узнать страну, освоиться с ее климатом. Многие из них стали хозяевами крупных земельных угодий. История Америки — это история завоевания все новых и новых земель, продвижения на Запад, завершившегося в середине XIX века. Где удавалось, США были готовы заплатить; так была куплена у Франции Луизиана. В иных условиях, как в Техасе, использовались в качестве «пятой колонны» американские поселенцы, а также прямое военное вторжение, как в Калифорнии. В лексиконе американцев Запад именовался «диким». Но в действительности он был заселен индейскими племенами, и его колонизация сопровождалась оттеснением и физическим истреблением индейцев, которых сенатор Томас Гарт Бентон, отец героини повести, Джесси, называл «бесполезным и опасным населением». «Право» на изгнание индейцев оправдывалось ссылками на «прогресс цивилизации» и «намерениями Творца». Затем появилась теория «предопределения судьбы», якобы обязывающая Соединенные Штаты распространить свое владычество на весь континент, выйдя к Тихому океану. Наибольшим драматизмом насыщены те страницы повести, где рассказывается об участии супругов Фремонт в событиях, связанных с захватом Калифорнии и Новой Мексики, повлекшим за собой американо-мексиканскую войну 1846–1848 годов. Видные американские мыслители и публицисты того времени Горас Грили, Ралф Уолдо Эмерсон, Генри Дэвид Торо, писатель Герман Мелвилл и другие безоговорочно осудили американо-мексиканскую войну, наносившую ущерб международному авторитету США, подрывавшую то благоприятное впечатление об американских нравах и демократии, которое привнесла в Европу книга Алексиса де Токвиля. Ситуация в стране трагическим образом сказалась на судьбе Джона и Джесси Фремонт: Джон Фремонт был привлечен к военно-полевому суду, признан виновным в бунтарстве и неподчинении начальству, его карьера сломана. Фремонт баллотировался в качестве кандидата в президенты на выборах 1856 года. Ему не удалось победить в этой кампании, но его участие подготовило почву для прихода в Белый дом в 1860 году Авраама Линкольна, которого Америка почитает как великого президента. Историки не любят неудачников и стараются в своих исследованиях обходить их имена, хотя порой они опережали свое время и выступали с идеями, подсказывавшими направление развития общества. Имена Джона и Джесси Фремонт упоминаются в солидных исторических грудах, но, как нам кажется, роль этих двух личностей в ходе событий в середине XIX века в Соединенных Штатах не раскрыта достаточно полно. Ведь Джон и Джесси были не только сторонниками американской экспансии на Запад, но и первопроходцами в освоении западных земель, как об этом ярко повествует Стоун. А что другое способно выковать новый характер, новые нравы, как не жизнь в новых, ранее неизведанных условиях? Обратимся к свидетельству такого проницательного и авторитетного наблюдателя, как Чарлз Диккенс, посетивший Соединенные Штаты в 1842 году и побывавший в тогдашних западных землях, в том числе в Сент-Луисе, который часто упоминается в повести Стоуна. 22 марта 1842 года Диккенс писал своему другу Уильяму Макриди, английскому актеру и режиссеру: «Народ здесь сердечный, щедрый, прямой, гостеприимный, восторженный, добродушный, с женщинами все любезны, с иностранцами открыты, искренни и чрезвычайно предупредительны; они гораздо менее заражены предрассудками, чем принято думать, подчас чрезвычайно воспитанны и учтивы, очень редко невежливы и грубы». Не представит большого труда читателю убедиться в том, что именно такими свойствами наделены герои Ирвинга Стоуна. Понятно, у Диккенса были наблюдения и негативного порядка, и касались они в первую очередь положения рабов и индейцев. Ирвинг Стоун не акцентирует внимание на этих особенностях американского общества, но и не уклоняется от исторической правды. Последнее обстоятельство делает книгу особенно ценной. Читатель, желающий лучше познать историю Америки и формирования американской нации, почерпнет из повести Стоуна много полезной информации.Джин, в которой я нашел мою Джесси
Книга первая РАННИЙ РАСЦВЕТ
_/1/_
Она стремительно ворвалась, шурша платьем из тафты, в приемную Академии мисс Инглиш, ее карие глаза сверкали от возмущения. Не глядя по сторонам, Джесси Бентон устремилась к отцу и сказала с твердостью в голосе: — Я не останусь ни одного дня в этой школе. Я еду домой с тобой сегодня же! Не пытаясь даже встать со стула, ее отец спросил: — Что случилось? — Я добилась того, что Гарриет Уильямс выбрали королевой Мая. Она самая красивая девушка в школе и танцует лучше всех. Но во время завтрака мисс Инглиш объявила, что королевой должна быть другая. Томас Бентон уставился на огромные глаза дочери: — Надеюсь, что приняла решение, спокойно взвесив его? Она откинула назад голову в знак решительного отрицания. — Я поднялась и закричала: «Это несправедливо и нечестно! Гарриет выбрана правильно!» — И что же произошло потом? — Мисс Инглиш вызвала меня, поставила перед классом, положила руку намою голову и сказала: «Мисс Джесси, у вас вроде бы повышенная температура. Будьте добры, сходите к врачу». Том Бентон усмехнулся на нарочитую строгость голоса своей дочери. — Как понравился тебе отвар сенны? — Он чудовищный, спасибо тебе. Меня держали в одиночке весь день. Но я не теряла времени, задумав бунт. В день праздника все девушки принялись жаловаться на головную боль, и нас уложили в постель. Скажу тебе, что пить слабительный чай не так горько, как смотреть на попытки той, другой королевы танцевать. Ее назначили только потому, что она из семьи Фицхью, а отец Гарриет — всего лишь правительственный клерк… — Джесси, дорогая, — прервал ее отец, — мама чувствует себя не очень хорошо и не смогла прийти на музыкальное представление, поэтому я привел своего друга. Могу ли я представить тебе лейтенанта Джона Чарлза Фремонта? Молодой человек в армейской форме, стоявший позади кресла, в котором сидел Том Бентон, шагнул вперед, под свет канделябра. Раздражение Джесси, переполнявшее ее с самого утреннего завтрака, тотчас же испарилось, словно выдернули пробку, мешавшую его выходу. Ее первой мыслью было: «Наконец-то я вижу мужчину, который выглядит лучше, чем мой кузен Престон. Рада, что не сделала глупость и не надела новое розовое полосатое платье с бантом вместо муслинового в голубой горошек». Она протянула руку, и он пожал ее. Молодой человек не делал резких движений, не сдавливал ее ладонь, он отвечал таким же пожатием. Она почувствовала, что их рукопожатие было подобно мимолетному соприкосновению плоти, а не пустому формальному жесту. Это ощущение прошло. Она услышала слова отца: — …Майская королева вроде бы лучшая ученица в школе. Разве Харриет не миф класса? Преодолевая упорное нежелание, она все же смогла ухватить нить разговора. Казалось, утро уже прошло и осталось далеко позади. Питая отвращение к школе, она воспользовалась несправедливостью, учиненной в отношении Гарриет, чтобы оттянуть ответ. — Нет, — все же уступила она, — Гарриет чаще сидела на вершине шелковицы, чем возглавляла класс. Мы могли подниматься на дерево из окна моей комнаты, а преподаватели не слышали, как мы разговариваем и смеемся. — Ты была уязвлена, — рассудил сенатор Томас Гарт Бентон со свойственным ему важным тоном. — Если ты решила, что следует выбрать Гарриет, то должна была бы помочь ей в учебе, чтобы она получила все голоса. Верно ведь, лейтенант Фремонт, — продолжал он, — мы не можем допустить слабину как в политике, так и на войне? — Правильно, — тихо сказал лейтенант, — на войне, в политике и в любви. Но этого не всегда легко добиться. Джесси восхищенно посмотрела на молодого человека, подумав: своим дополнением он тонко обошел отца. — Что же касается майского бунта, — продолжал ее отец, — то это дело опасное, оно может завести слишком далеко. Джесси повернулась к лейтенанту Фремонту; ее лицо напоминало камею, обрамленную длинными каштановыми волосами, расчесанными на прямой пробор, а на висках так, что они закрывали уши, оставляя открытыми лишь кончики мочек. Для столь выразительного лица ее рот был несколько пухлым и ярким, выделявшимся на смуглом фоне ее гладкой кожи. Когда она сосредоточенно думала, на ее щеках появлялся румянец, как сейчас. — Мой отец, — тихо сказала она, — не вправе читать такие проповеди, лейтенант Фремонт, он воспитал меня на рассказах о том, как он и Эндрю Джэксон взбунтовались против военного департамента. Ее отец сделал жест, благосклонно признав свое поражение. Многие годы духовного общения научили Джесси удалять жало, прежде чем отец даст отпор. — Однако я сдаюсь, — согласилась она, — так или иначе бунт бесполезен. Мать Гарриет забрала ее из школы сегодня в полдень. Пойдемте, джентльмены, в аудиторию, музыка вот-вот заиграет. Она села между отцом и лейтенантом, а ее старшая сестра Элиза открыла музыкальный вечер, сыграв аккуратно, но без вдохновения одну из фуг Баха. В зале Академии разместилось около сотни гостей. Небольшую сцену освещали стоявшие на полу фонари, а темно-синие занавеси закрывали боковые окна от ранних февральских сумерек. Из-за ее рассказов о Гарриет они вошли в зал с опозданием, и им пришлось сидеть в дальнем углу на обтянутых тканью скамьях. Она была рада, что случилось именно так, ведь у нее была возможность рассмотреть лицо Джона Фремонта в полутьме. Она удивилась, увидев, что он невысок ростом, во всяком случае не выше ее: их плечи и глаза были на одном уровне. «Ну, он даже маленький, — подумала она. — Рост, как у меня, всего от силы метр шестьдесят. Странно, что я не заметила этого, когда мы стояли. Но он не выглядел мужчиной низкого роста». Она повернулась и посмотрела на отца: над ней возвышалась его огромная фигура, с крупными костями, покатыми, как у нее, плечами, но тяжелыми и мощными благодаря годам, проведенным на открытом воздухе. Она не питала большого интереса к музыке и тем более к этой фуге, которую в течение целой недели вколачивала в ее уши Элиза. Глаза Джесси блуждали по спинам ее однокашниц, сидевших со своими родителями. Она не хотела учиться в Академии мисс Инглиш в Джорджтауне, пригороде Вашингтона, и помнила ссору с отцом, когда он впервые сказал ей, что она должна заниматься в этой школе. — Чему я смогу научиться там, чего не могла бы узнать дома? — спрашивала она. — Что нового я смогу прочитать в их детских учебниках после того, как мы вместе перечитали большую часть мировой литературы? Кто поможет тебе с отчетами и речами? Кто утешит тебя, когда ты мечешься по комнате, проклиная своих глупых оппонентов? Ради всего святого, Том Бентон, я не пойду в эту школу салонных девиц. — Нет, ты пойдешь, Джесси, — сказал отец, склонив голову и не глядя ей прямо в глаза. — Если случится так, что кто-то обвинит меня, будто у тебя нет манер или грации, которым обучают в школе, я никогда не прощу себе этого. Боюсь, что ты повзрослела раньше времени, слишком много работая со мной. Мать обвиняла меня в том, что я лишил тебя детства. — Но она не права! — воскликнула Джесси, обиженная таким утверждением матери. — У меня было чудесное детство: мы выезжали каждую осень охотиться на перепелов, ели печенье и яблоки, а ты тем временем читал мне истории, написанные твоим другом Одюбоном. Мы проводили целые недели в седле, путешествуя по штату Миссури, в то время как ты вел избирательную кампанию, мы… — Мама говорит, что ты недисциплинированная. Она считает, что ты должна научиться работать в классе и освоить девичьи игры. — Но, черт возьми, отец, — ответила она, — я не хочу играть в игры. И скажи, пожалуйста, почему мне нужна школьная дисциплина, когда каждый раз, выезжая на пикник с тобой, я беру по твоему настоянию «Одиссею» Гомера и читаю ее на древнегреческом? Если я менее образованна, чем другие девушки Академии мисс Инглиш, тогда я готова сжевать твои двадцать томов «Британских государственных процессов». Отец даже не слушал, что она говорит. — Я знаю свой долг, Джесси, и меня трудно отговорить от того, что я решил. Позже в тот же вечер она пришла с покрасневшими и опухшими глазами к отцу в библиотеку и предстала перед ним с обрезанными каштановыми волосами, едва достигавшими плеч. — Боже мой, что ты сделала с волосами, Джесси? — спросил в отчаянии отец. — Я укоротила свои волосы, чтобы стать некрасивой, — сказала она сквозь слезы, — теперь мне не нужны ни классная комната, ни дисциплина, ни выходы в свет. Отец, все, что я хочу, — это оставаться здесь и быть твоим компаньоном. Том Бентон сохранял твердость: — Я не могу быть ответственным за то, что ты утеряла в своей жизни. Тебе четырнадцать лет, ты уже опоздала войти в общество. Кончай хныкать и отправляйся с матерью и Элизой в магазин за новыми платьями. Когда она повернулась, чтобы выйти из библиотеки, он сказал: — Быть может, школа лишь наполовину плоха, как кажется. Я обещаю не редактировать свои важные речи до твоего возвращения домой в конце недели. Этот разговор происходил два года назад. Ее волосы отросли, но отвращение к школе сохранилось. Элиза сыграла фугу Баха, ее приветствовали вежливыми аплодисментами. Джесси взглянула на Джона Фремонта, ожидая, что он раскроет себя, постарается создать впечатление о себе: так поступали сотни мужчин, переступавшие порог дома Бентонов в Вашингтоне. Молодой лейтенант любезно взглянул на нее, но не сказал ничего. Слова всегда казались Джесси Энн Бентон прекрасными, но сейчас, сидя в уютной тишине, остро чувствуя близкое соседство армейского офицера, она поняла, что слова — не единственное и, возможно, не лучшее средство общения. Джон Фремонт молчал, но что-то еще неизведанное подсказывало, что он хочет поговорить с ней. — В каком подразделении вы служите, лейтенант Фремонт? — спросила она. — В Топографическом корпусе. Я работаю с мистерами Николлетом и Хасслером над картой Миннесоты. — Николлет и Хасслер? Ведь это самые близкие друзья отца. — Именно там я и встретился с сенатором Бентоном. Он пришел в дом мистера Хасслера, где я работал над материалом, собранным нами во время экспедиции в верховья Миссури. — Вы были в этой экспедиции с Николлетом? — взволнованно спросила она. — Да, я его помощник уже четыре года, большую часть этого времени мы провели на целинных землях Севера, на территории индейцев. С пухлых губ Джесси сорвалось восторженное восклицание. — Верно ли, мисс Бентон, — спросил лейтенант, — что ваш отец не бывал на землях западнее Миссури? Я не могу этому поверить; он знает о Западе больше, чем кто-либо. Джесси было приятно слышать столь лестный отзыв о своем отце. Она почувствовала дух товарищеской близости. — Он никогда не был в местах западнее Миссури. Но мысленно он жил в этих районах еще с детства. Его ближайшие друзья — следопыты и охотники, база которых находилась в Сент-Луисе и которые вели исследования в районе Скалистых гор. Они останавливались в нашем доме в Сент-Луисе, возвращаясь из походов. Она повернулась вполоборота к отцу, чтобы втянуть его в беседу. — Перед моим появлением на свет божий отец рассчитывал, что родится сын. Я должна была бы пройти подготовку в армии, присоединиться к Топографическому корпусу и исследовать Запад. Не так ли, папа? — Нечто вроде этого, — проворчал отец. Заиграл струнный квартет, и они вновь замолчали. В перерыве Томас Бентон представил лейтенанта Фремонта Элизе. В то время как лейтенант и Элиза обменивались приветствиями, сенатор Бентон предложил Джесси погулять в саду. Хотя было лишь семь часов вечера, но они почувствовали, что воздух стал прохладным, а ветер — резким. Прохаживаясь по посыпанным гравием дорожкам сада мисс Инглиш, окруженным живой изгородью, Том Бентон спросил: — Не кажется ли тебе, что Элизе понравится лейтенант Фремонт? — Он способен взволновать, — ответила Джесси, ее широко расставленные карие глаза сверкали. Том искоса взглянул на дочь. — Я спросил тебя, понравится ли он Элизе, а не нравится ли он тебе. Молодые леди, которым нет еще и семнадцати лет, не считаются достаточно зрелыми, чтобы поддаваться чарам незнакомцев. Джесси посмотрела насмешливо на отца. — Считаете ли нужным зафиксировать это ваше заявление, сенатор? — спросила она, имитируя тон, каким он обычно обращался к оппонентам в сенате Соединенных Штатов. Когда они возвратились в зал, глаза Джесси быстро заметили подтянутую фигуру лейтенанта Фремонта на фоне голубой драпировки. Казалось, он излучал энергию, сохраняя при этом одухотворенность своего лица. «Он совсем юн, — подумала она, — чтобы достичь вершин в своей профессии». Когда ее сестра и лейтенант Фремонт присоединились к ним, она почувствовала, как волна негодования охладила ее собственную романтическую глупость. «Я веду себя, как шестнадцатилетняя девчонка, — сказала она сама себе. — Если я не могу держать себя достойнее, то отец прав, оставляя меня в женской школе». Она приподняла свои покатые плечи и грудь и сосредоточенно слушала исполнявшиеся в этот момент баллады. Музыка была забавной; она медленно расслабила плечи и сидела в кресле умиротворенная. В тот момент, когда пение достигло крещендо, ей показалось, что молодой человек обращается к ней. Она взглянула на него: его губы были неподвижны. — Да? — мягко спросила она. Его голос, такой глубокий для некрупного тела, произнес: — …Ничего особенного, я просто наблюдал, как ваши серьги… мерцают в свете свечей. Свет и тень сменялись в ритме музыки. Джесси подняла свою руку к тому месту, где тугой завиток густых каштановых волос нависал над ее ухом, схватила его палец и легким движением приблизила его к мочке, не закрывавшейся волосами. Затем она засмеялась, это получилось невольно, и тут же последовал его смех, сильный, переливающийся с ее смехом и его подавляющий. К счастью, в этот момент музыка достигла высшего звучания, и никто не услышал их смеха. Но Джесси слышала и спрашивала себя с удивлением: «Что это значит?»_/2/_
Она сидела перед туалетным зеркалом, глядя то на свое отображение, то на окно, выходившее в сад позади дома. Близился момент, которого она ждала после вскользь брошенного отцом замечания в конце музыкального вечера в среду, что она встретит лейтенанта Фремонта на обеде в воскресенье. Дни проходили во взлетах и спадах настроения. Гарриет ушла из школы, и молодой лейтенант вытеснил ее из мыслей Джесси. Академия мисс Инглиш казалась ей более детской, чем когда-либо. Друзья и сотрудники ее отца, навещавшие гостиную Бентона, называли ее самой красивой девушкой Вашингтона. В доме ее матери в Черри-Гроув, в Виргинии, когда она каждое лето посещала это поместье, семья выставляла ее напоказ, заставляя медленно поворачиваться и комментируя при этом ее гибкую фигуру, густые каштановые волосы, удивительно нежные карие глаза, изящный овал лица, который, по их утверждениям, продолжал благородную традицию семейства Макдоуэлл. Эти замечания не производили на Джесси большого впечатления. Ей казалось само собой разумеющимся, что она привлекательная девушка, как и все окружавшие ее. Молодым свойственна миловидность. Ныне же впервые, разглядывая себя, как ей казалось объективно, она поняла, что семья и друзья льстили ей. Ее глаза были слишком большими и широко расставленными для узкого овала. «Мое лицо — одни глаза, — думала она, — как у кошки в сумерках. В них тонет все остальное лицо. Но не мой нос. К сожалению, у меня нос отца. Он всегда любил свой длинный римский нос, который помогал ему быть похожим на сенатора, но я не хочу быть сенатором, и такой нос мне совсем не нужен. И если природа захотела, чтобы у меня были гладкие щеки, почему она не завершила этот рисунок? Почему мой подбородок страшно похож на подбородок сенатора Бентона в момент, когда он упорно требует выделить свободные земли для поселенцев на Западе?» Ее интерес к собственному лицу внезапно исчез, когда она откинулась на низком стуле перед зеркалом и попыталась представить лицо лейтенанта Джона Чарлза Фремонта. Ее охватило чувство разочарования: она не могла вспомнить, как выглядел молодой человек. «Как такое могло случиться? — спрашивала она себя. — Почему я не могу вспомнить цвет его глаз, очертания его рта, его прическу?» Услышав шум экипажа у главного входа, она быстро застегнула на шее ожерелье из кораллов и вдела в манжеты такие же запонки, благодарная им за то, что они скрашивали бледность ее кожи. «Я не хочу, чтобы он думал обо мне как о неженке», — рассуждала она, поднимаясь со стула и отбрасывая назад локон, упорно спускавшийся на лоб. Она достала из ящичка секретера носовой платок кораллового цвета. Проходя мимо двери спальни матери, она остановилась на мгновение и заглянула внутрь. Элизабет Бентон полулежала в обтянутом сатином шезлонге. Ее темные волосы посеребрили седые нити, на некогда изящном лице пролегли глубокие морщины. Хотя ей было всего сорок семь лет, на двенадцать лет меньше, чем мужу, она всегда казалась Джесси гораздо старше, возможно потому, что проводила большую часть времени в шезлонге. Никто ей не прописывал постельного режима, она сама выбрала для себя недвижимость тела и духа. Миссис Бентон внушила всем, что ее спальня — это ее убежище, куда никто не может войти без ее разрешения. Пол спальни устилал толстый розовый ковер, кружевные занавески украшали вышитые медальоны, перед окнами стояли два легких позолоченных стула, а рядом с кроватью — столик из красного дерева. В спальне все было утонченно и изящно в отличие от всего дома, построенного богатым английским торговцем в массивном мужском вкусе. «Здесь все отлично от других помещений дома, — подумала девушка, — как отлична Элизабет Макдоуэлл Бентон от Томаса Гарта Бентона… или от Джесси Энн Бентон». По приглашению матери Джесси подошла к ней, поправила стеганое покрывало. — Как ты себя чувствуешь? — спросила она. — Спасибо, сносно. — Ты не спустишься вниз к обеду? — Не-ет, мне удобно здесь. Мейли принесет мне мой поднос. Отец рассказал мне, кто придет, за столом будут нескончаемые споры, Джесси. Я не привыкла к этому, ты знаешь, какой больной я становлюсь от шума. Джесси знала, что ее мать страдает каким-то постоянным недугом, причины которого были неизвестны. К миссис Бентон не приходили врачи, она не принимала никаких лекарств и каких-либо процедур, симптомы болезни не были установлены. Тем не менее несколько лет назад она отошла от активного управления домашним хозяйством, отдав его в руки опытной прислуги, привезенной ею из Черри-Гроув. Она обедала вместе с семьей только в тех редких случаях, когда не было гостей. Ее дочери казалось, что мать вообще выключилась из активной жизни: она не читала, ее руки вяло лежали на коленях, она оставила круг своих подруг, и в ее присутствии было невозможно обсуждать серьезные дела. Но так было не всегда. Джесси еще помнила, как зимой мать сидела вместе с ними перед ярко горящим огнем; отец по одну сторону камина читал нескончаемую череду книг, а миссис Бентон сидела напротив мужа за небольшим столиком, занимаясь вязанием или вышивкой. Джесси, ее сестра и брат делали уроки за массивным квадратным столом, стоявшим под окнами с фасадной стороны дома. Даже теперь, во время ежегодного отдыха в материнском доме в Виргинии, где родились и Элизабет Макдоуэлл, и Джесси Бентон, болезнь, казалось, отступала, морщины на лице матери сглаживались, к ней возвращалась энергия, и она вновь становилась счастливой женщиной, какой ее помнила с детства Джесси. Между ними не было горячей любви и полного взаимопонимания, и все же, когда Джесси обходила окна и открывала шторы, а затем брызгала одеколон на свежий кружевной носовой платок матери, ей было приятно вспомнить тот прежний облик матери. Джесси знала, что она сама виновата в том, что нет близости с матерью: она любила отца и работу, которую выполняла для него самоотверженно, скрывая свое предпочтение. Она с трудом подавляла в себе недовольство тем, что мать не работает вместе с отцом, не помогает ему формулировать его планы, писать речи и статьи, не обсуждает с ним столь волнующие проблемы современного мира. Хотя отец ничего не говорил ей, хотя она каждый день видела свидетельства того, как предан Том Бентон своей Элизабет, Джесси чувствовала, что отцу не хватало участия матери в его работе. Лишь косвенно, на основании выводов, вытекавших из философии, в духе которой он воспитывал свою вторую дочь, она пришла к пониманию этого: «Не довольствуйся ролью хозяйки дома, не ограничивай себя заботой о манерах, очаровании, дилетантских разговорах, не позволяй, чтобы твой рассудок и личность оказались подавленными твоим мужем. Подготовь себя, развивай свои умственные способности, будь готова к конфликту и противоборству идей. При такой подготовке, когда вырастешь, ты сможешь внести свой вклад в общество и всегда будешь стоять на твердых ногах и достигнешь личного благополучия». Джесси пожелала матери приятного аппетита, а затем торопливо спустилась по лестнице. Задержавшись на пороге гостиной, она прислушалась к расслабленному гулу послеполуденных воскресных разговоров, в то время как ее взор скользил по комнате, отмечая присутствие друзей. В нише окна, выходившего на Си-стрит и обрамленного длинными занавесками из накрахмаленных белых кружев, она увидела отца; он сидел со своими коллегами — сенаторами Линном и Криттенденом, сторонниками экспансии на Запад. Они были одеты в традиционные белые жилеты и черные сюртуки с квадратными фалдами и в черные брюки, туго облегавшие их веллингтонские сапожки. Перед ними на обтянутой вельветом козетке с витыми подлокотниками небрежно откинулись два их самых яростных оппонента в конгрессе, поддразнивавшие сенаторов по поводу законопроектов, которые они заблокировали за неделю до этого. В задней части комнаты Джесси заметила свою простенькую на вид сестру Элизу, тихо игравшую на фортепьяно. Ее не удивило, что Элиза не проявила интереса к молодому лейтенанту из Топографического корпуса. Элиза была спокойной, вялой в беседах и педантичной. Она унаследовала от отца широкую кость и крупные черты лица. Если бы она была мужчиной, то стала бы адвокатом, ибо ей нравилось точное и строгое мышление юриста. В детстве Элиза часто болела, она была слабой и страшно боялась эмоциональных потрясений. Поначалу Джесси думала, что Элиза бесчувственная, и лишь позже поняла, что сестра сторонится людей, сберегая тем самым свои скромные силы. Около фортепьяно, опираясь на него, стояла миссис Линн в новом рединготе из белого индийского муслина, отороченном бледно-голубым шелком. Она рассказывала миссис Криттенден и соседке Бентонов миссис Кинг о выставке дутого стекла, где она была накануне. В дальнем углу за круглым мраморным столиком сидел, потягивая шерри, Николас Николлет, выдающийся ученый путешественник и картограф Америки. Он описывал полковнику Дж. Аберту, руководителю Топографического корпуса, и полковнику Стефану Уоттсу Кирни, одному из старейших и наиболее близких друзей семейства Бентон, новое изобретение — резиновую лодку, которую использует следующая экспедиция, чтобы пройти пороги на реке Де Мойн. Быстро взглянув на знакомые лица и отметив для себя характер их бесед, Джесси остановила взор на высоком прямоугольном зеркале над массивным камином. В зеркале отражались три лица: Сэмюэла Морзе, в блестящем черном костюме, подчеркивавшем болезненный цвет его лица со следами разочарования; Энн Ройяль, семидесятилетней дамы, с сухими, острыми чертами, в топорщившемся платье из накрахмаленного сатина, перехваченном в талии шнуром с кистями, и лейтенанта Джона Чарлза Фремонта, в синей армейской форме с блестящей золотой тесьмой. Первая феминистка, проникшая в Вашингтон, миссис Ройяль страстно говорила о статье, опубликованной в ее журнале «Поул Прай», в то время как Сэмюэл Морзе стоял, не слушая ее, предаваясь собственным горьким мыслям, а лейтенант самым невоенным образом старался пропустить мимо ушей лавину слов, уставившись в ковер и обводя носком ботинка рисунок листа на ковре. Словно молния пробежала по телу Джесси. «Сейчас, прежде, чем он увидит меня, прежде, чем я приближусь к нему, я внимательно рассмотрю его». Она упорно разглядывала отражение в зеркале, но, чем пристальнее смотрела, тем более учащалось ее дыхание, а изображение расплывалось. «Это похоже, — сказала она сама себе, — на первые дагерротипы Сэма Морзе, они передают отпечаток, но не четко, словно в дымке». Она остановила взгляд сначала на волосах Джона, которые, как она заметила, вздрогнув, были расчесаны на пробор. «Как мои!» — воскликнула она про себя. Волосы были темные, и не без зависти она обратила внимание на их мягкую волнистость, набегающую слегка вперед к его высокому лбу, а затем уходящую к верхнему краю ушей. Его темные брови повторяли рисунок глазниц; карие глаза были серьезными и симпатичными, худощавый нос — коротким и тонким, а темные усы — столь же прямыми, как его отутюженный мундир. Однако, перечисляя для себя его характерные особенности, она поняла, что никакое физическое описание не сможет закрепить в ее уме неизгладимый облик лейтенанта Фремонта, ибо облик человека выше его отдельных составных частей, которые он являет миру. Ей казалось, что за его медленной, загадочной улыбкой таится обещание; он излучал уверенность. Сэмюэл Морзе начал рассказывать какую-то историю низким, хриплым тоном, и, в то время как лейтенант Фремонт слушал изобретателя с интересом и симпатией на лице, Джесси поняла, что, пока она не поговорит с глазу на глаз с молодым человеком, не поймет дух, мотивирующий его поступки, у нее не будет ясного представления о том, как он выглядит. Она вспомнила, как радикально приходилось ей менять мнение о многих людях, с которыми она встречалась благодаря работе отца; некоторые, казавшиеся поначалу красивыми, оказывались мелкими душонками, хапугами, изменниками, не способными выполнить работу, посильную настоящему мужчине. По мере того как раскрывались их характеры, она приходила к заключению, что в них нет никакой привлекательности, тогда как другие, чей нос или веки имели странный рисунок, становились со временем в ее представлении все более привлекательными и даже красивыми благодаря своей честности и преданности. Она отдавала себе отчет в том, что лейтенант Фремонт вызывает в ней волнующие чувства, от этого никуда не уйдешь. Останется ли он в ее представлении столь же красивым и притягательным по мере того, как она будет все более узнавать его? Или же он станет скучным, откровенно некрасивым? Словно почувствовав, что его изучают, лейтенант Фремонт вдруг поднял голову. Их глаза встретились в зеркале. Он по-мальчишески улыбнулся. Она быстро шагнула ему навстречу._/3/_
Еще в прошлое воскресенье Джесси слышала, как их давний друг Джеймс Бьюкенен сказал, что обеденный стол Бентона — это место, где смешиваются утраченные возможности с еще не родившимися, и никто не может провести различие между ними. Ожидая, когда Джошаам, один из красивых близнецов-негритят, распахнет массивные деревянные двери в столовую, она подумала о том, какая большая часть американской истории была отрепетирована за этим длинным столом из красного дерева с 1821 года, когда ее отец был избран сенатором от штата Миссури и переехал из Сент-Луиса в Вашингтон. Все президенты после Медисона — Джеймс Монро, Джон Куинси Адамс, Эндрю Джэксон, Мартин Ван-Бюрен и Уильям Харрисон — сидели за этим столом и с аппетитом ели вместе с множеством членов кабинета и послов, целой сменяющейся панорамой конгрессменов, армейских офицеров, исследователей и охотников с Запада. Двери открылись, она вошла внутрь и быстро осмотрела зал до прихода гостей. Комната, отделанная панелями из красного дерева, с высокими потолками и окнами, простым федеральным камином, рама которого была плотно врезана в стену, а верхняя панель представляла собой узкую резную полку, смотрелась приятно. Ее блуждающий взгляд заметил сверкающие канделябры, каждый из которых висел на четырех отполированных цепях, плотный, цвета бургундского вина ковер на полу, портреты матери и отца Томаса Бентона на широкой стене над резным буфетом и портрет Элизабет Макдоуэлл Бентон, написанный много лет назад Сэмюэлом Морзе. Стол был накрыт камчатой скатертью. В центре стола стояли витые свечи, которые Элизабет Макдоуэлл привезла с собой из Черри-Гроув, а по краям — изящные хрустальные блюда с фруктами и цветами. На дальних концах в больших длинных блюдах в светлом желе покоились огромные лососи, а перед каждым гостем стоял охлажденный жареный лобстер и на крошечной угольной горелке в металлических чашечках — растопленное масло и подогретый ром. Довольная тем, что все готово, как хотел отец, она послала Джошаама объявить гостям, что обед подан. Она сделала так, что лейтенант Фремонт оказался с правой стороны от нее, и в угоду другим гостям, которых считала наиболее желательными партнерами за столом, она посадила Энн Ройяль слева от себя. Когда все гости уселись, Джесси, посчитав по носам, определила, что за столом двадцать два человека. Она полила своего лобстера горячим маслом и ромом, затем повернулась к своему новому гостю и спросила: — Вы любите беседовать во время еды, лейтенант? — Только тогда, когда пища невкусная. — В таком случае я советую вам насладиться тремя первыми блюдами, ибо к ним благосклонен отец. Когда подадут жаркое, вы не сможете услышать то, что вам бы хотелось. Ее задача состояла в том, чтобы направлять разговоры за столом, делать их интересными, следить за тем, чтобы присутствующие не разбивались на группы беседующих между собой. Долгий опыт научил ее тактическим приемам: она побудила Энн Ройяль рассказать историю о том, как редактор вашингтонского «Глоба» назвал ее редактором в нижней юбке, а она ему ответила, что патриот в нижней юбке лучше предателя в штанах. Услышав в гостиной рассуждения миссис Криттенден о постановке «Ричарда III» в Национальном театре, она попросила эту леди рассказать, как актер Хаккетт составил программу, позволившую ему раскритиковать исполнение любым другим артистом роли Ричарда. Миссис Кинг разделала конгресс под орех за то, что он упорствовал в нежелании выделить средства на мощение главных улиц Вашингтона и на ночное освещение. — Ну, на прошлой неделе, — воскликнула она, — бедная миссис Спингарн в своем новом вечернем платье с кружевной отделкой пыталась пройти в Национальный театр, чтобы послушать божественную Селесту, и растянулась плашмя в огромной луже на Би-стрит! К правой ножке стола был прикреплен китайский гонг, издававший глубокий бархатный звук, и Джесси было достаточно ударить по нему каблуком туфли, чтобы вызвать прислугу в нужный момент. В то время как близнецы в своих коротких черных сюртуках и штанах, подвернутых на щиколотках, сновали вокруг стола, заменяя тарелки с остатками лобстеров на голубые веджвудские для холодной лососины, а затем на глубокие блюда для тушеных устриц, Джесси попросила Сэмюэла Морзе рассказать, что ему известно о скупости конгресса. Морзе, мрачное настроение которого еще не улетучилось, обрисовал тупость комитета, которому он демонстрировал свой телеграф. Конгрессмены отказали ему в скромных ассигнованиях на сооружение опытной линии до Балтимора. Но когда кровавый ростбиф с лежавшими вокруг него кусками пирога с ливером был внесен в столовую, Джесси увидела, что ее отец, до этого почти не прикасавшийся к еде, отрезал себе толстый ломоть, а затем быстро завязал разговор с конгрессменами из Новой Англии о необходимости исследовать земли между штатами Иллинойс и Миссури и Скалистыми горами, чтобы когда-нибудь Соединенные Штаты протянулись от океана до океана. Жители Новой Англии воспринимали это как откровенное сумасшествие, и они без колебаний открыто сказали об этом хозяину. После того как шум за столом усилился, Джесси положила нож и вилку и откинулась на спинку сиденья. — Пропал аппетит, мисс Джесси? — спросил Джон Фремонт. — Отец лучше всего кушает, ведя жесткий спор. Я же, напротив, не могу есть, когда яростно спорят. Отец излагает лучше всего свои мысли тогда, когда поглощает добротную пищу… — Я вижу, — заметил он, глядя через стол с изумленным восхищением на сенатора Бентона. — …Впрочем, вы полагаете, что он не имеет ни малейшего представления о том, что ест, думая столь сосредоточенно? Однажды я поддразнила его, спросив, доставляют ли ему наслаждение дикая утка и замороженный пудинг. Он ответил: со вторника у нас не было утки, а с воскресенья — замороженного пудинга. Джон засмеялся: — Полагаю, что это пристыдило вас. — Действительно пристыдило. Сегодня поздно вечером он пригласит меня в библиотеку, посадит за стол и продиктует целую речь для завтрашнего заседания сената, основываясь на материале, который он формулирует именно сейчас, когда его рот набит сладким картофелем. — Я слышал, что у сенатора самая блестящая личная библиотека в Вашингтоне. Вы мне ее покажете когда-нибудь? Джесси осмотрела гостей отца, а затем подумала, как приятно поговорить наедине с лейтенантом Фремонтом. Ей нечего было скрывать от посторонних ушей, однако она знала, что их отношения претерпят глубокие изменения, если их слова будут окружены покровом тайны. — Когда остальные пойдут в гостиную пить кофе, — сказала она, — мы ускользнем наверх. Прежде чем принести сладкое, Джошиим и Джошаам сняли камчатую скатерть, под которой оказалась другая, столь же чистая и красивая. Затем, когда гости разобрали фрукты и сладости, они сняли и вторую скатерть, и на полированной поверхности красного дерева засверкали серебряные подсвечники и хрустальные вазы. Наконец Джесси предложила гостям перейти в гостиную для кофе. Она отошла в сторону, в то время как ее отец, взяв под руки миссис Линн и миссис Криттенден, провел их через зал. Когда все вышли из столовой, она шепнула лейтенанту Фремонту: — Никто нас не хватится, если мы поднимемся наверх на некоторое время. Она перешагнула порог библиотеки, показав ему кивком, чтобы он встал рядом. Лампы горели, а венецианские жалюзи были закрыты. В комнате царило ощущение теплого вечернего покоя. Комната была большой, во всю ширину дома, с окнами, выходившими на Си-стрит и открытые поля за ней. Небольшие оконца перемежались с полками на стене, заставленными книгами в переплетах различных цветов, разными по времени издания и месту написания, там же находились полные собрания сочинений Шекспира, Расина, Мольера, Вольтера. Вдоль восточной стены стоял дубовый стол, заваленный картами и атласами. Перед камином друг против друга высились два больших кожаных кресла, и около каждого — столик, который можно было превратить в пюпитр для писания. Здесь же были беспорядочно расставлены стулья, на которые можно было присесть, чтобы перечитать страницу или параграф из книги, стоявшей на полке. Под полкой с особо ценимой Томом Бентоном серией «Британские суды над государственными преступниками» стояла видавшая виды качалка, а перед письменным столом с шахматной доской — кресло в стиле ампир. Она впервые неожиданно увидела библиотеку глазами чужого человека, и та показалась ей новой и свежей, напомнив о годах товарищества с отцом. — Какая прекрасная комната! — сказал лейтенант Фремонт так тихо, что она еле расслышала. Казалось, он забыл о ее присутствии, обходя плотно заставленные полки, вынимая редкие и прекрасные тома с нежностью, свойственной ценителю книг. — Лейтенант Фремонт, ваши глаза загораются при виде хорошей книги, как у других — при виде красивой девушки! Обращенная к ней улыбка говорила о его большом чувстве. — Разве такие два вкуса исключают друг друга? — лукаво спросил он. Она рассмеялась, затем взяла экземпляр книги Хенри Скулкрафта «Экспедиция к Верхней Миссисипи». — Знаете ли вы эту книгу? По ней отец учил меня читать. Думаю, что он сделал это сознательно, чтобы интерес к исследованиям стал для меня столь же естественным, как чтение. Джон Фремонт одобрительно кивнул своей небольшой головой: — Почти до девятнадцати лет я не знал, что люди постоянно исследуют границу. — Он открыл экземпляр «Джорнэлз». — Я наткнулся на эту книгу в первый же день, когда пришел работать в Библиотеку для обучающихся в Чарлстоне. Передо мной словно открылся новый мир. До этого момента у меня не было ни малейшего представления, чему я хотел бы посвятить свою жизнь. Я читал ночь напролет и к рассвету решил, кем буду. Следующие полгода я поглощал книги, которые есть у вас здесь: генерала Уильяма Эшли, Джедедиа Смита, Зебулона Пайка, Джона Джэкоба Астора, Льюиса Касса. Джесси указала ему на два кресла у камина: — Сюда, садитесь в мое кресло, а я сяду в отцовское. Она села напротив него, как много лет сидела перед своим отцом. — Эта библиотека и кресло, в котором вы сидите, были моей школой. Отец научил меня читать, когда мне было четыре года, а когда мне исполнилось пять лет, научил меня рисовать и чертить карты Соединенных Штатов. Прежде чем я узнала, что Париж — столица Франции, я уже знала, что есть большая река, берущая начало в Соленом озере и впадающая в Тихий океан. — Которой может и не быть! — воскликнул он почти сердито. — Да, я знаю, что Джедедиа Смит сообщил о такой реке, но мистер Николлет и я просмотрели все отчеты по топографии страны и не смогли отыскать возможное русло для такой реки. — И однажды вы это докажете, — спокойно добавила она. Он посмотрел на нее довольный и с удивлением: — Как вы это узнали? — Вам трудно скрыть тот факт, что вы исследователь. — Я не был таким удачливым, как вы, мисс Джесси, — возбужденно продолжил он. — У меня не было отца, который учил бы меня. Я посещал колледж в Чарлстоне два года, занимался языками и математикой, интересовавшей меня, но никогда не видел смысла в моей учебе. Она следила за его жестикуляцией, когда он рассказывал ей о своем детстве, своем отце — странствующем французском учителе и художнике, умершем, когда его сын был еще маленьким мальчиком; об усилиях матери, воспитывавшей троих детей; о своей дружбе с Джоэлем Пойнсеттом, нашедшим ему первую работу преподавателя математики на американском военном корабле «Натчез», плававшем в Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айрес. У него был низкий тембр голоса, вызывавший в ней внутреннюю дрожь. Рассудком она уловила обертоны его ранней борьбы и радости самоосознания в его рассказе об исследованиях в целях прокладки железной дороги Луисвилл — Цинциннати — Чарлстон и о работе в качестве гражданского помощника капитана Уильямса из Топографического корпуса Соединенных Штатов в изучении территории племени чироки. У Джесси редко появлялось желание рассказать о себе, теперь же мысль об этом была приятной. — Я мало что могу сказать, — начала она застенчиво. — Для меня всегда было большим удовольствием работать с отцом. До того как меня отправили в ту ужасную школу, я обычно сидела в этом кресле, где вы сейчас, с дощечкой на коленях и записывала его речи для сената, а он в это время расхаживал по комнате и заглядывал в книги, отыскивая интересовавшие его ссылки. С шести лет я начала ходить с отцом каждое утро в Капитолий, где он усаживал меня в библиотеке конгресса. Старый мистер Михан приносил мне книги мистера Одюбона о птицах или коллекцию репродукций картин Лувра и другие книги со старинными французскими гравюрами. Если я уставала рассматривать книги, я выходила на широкую галерею и любовалась чудесной панорамой Потомака и зеленых холмов за рекой. Когда мне исполнилось восемь лет, отец решил, что я достаточно взрослая и могу слушать дискуссию в сенате. Она подошла к дубовому столу, заваленному массой карт, ярко-красные, зеленые и желтые пятна которых придавали комнате жизнерадостный вид. Ее голос звучал серьезно: — Думаю, отец забывал, что я девочка, поскольку он хотел научить меня всему, что касалось исследования, путешествий, освоения Запада. Он обучил меня испанскому языку, чтобы я могла прочитать доклады Кортеца, Бальбоа, Магеллана и Де Сото. Ему был крайне нужен помощник в работе. Страстно стремясь быть ближе к ней, Джон Фремонт воскликнул: — Я тоже изучил испанский, чтобы прочитать Кортеца и Коронадо. Подобно вам, я знаю географию диких мест намного лучше, чем Нью-Йорк и Бостон. Ваш отец хотел, чтобы вы были сыном и поступили в Топографический корпус. С тех пор как капитан Уильямс начал вести разведку линии железной дороги, у меня возникло желание стать сотрудником Топографического корпуса и обследовать Дальний Запад. В то время как вы сидели в этой библиотеке, я находился в тех самых лесах, горах и прериях, о которых вы читали, составлял карты, собирал образцы растений, проводил замеры по звездам. Он замолчал. Джесси повернулась к нему лицом, ее глаза сверкали. — Действительно, лейтенант Фремонт, мы были вместе в диких краях! Затем она сильно покраснела._/4/_
Джесси сидела за письменным столом в небольшой безликой спальне в Академии мисс Инглиш, когда услышала грудной голос цветной мамми, медленно напевавшей негритянскую духовную песню. Эта песня оповещала, что пришла прачка. Выстиранное белье поднималось на верхний этаж здания с помощью веревки и блока, прикрепленного к подоконнику каждого окна. Джесси так и не могла уяснить, почему было сделано именно так, вероятно, чтобы не таскать белье по коридорам школы. Она поднялась из-за шаткого столика, который мог выдерживать только легкие книги и столь же легкие мысли, и подошла к открытому окну. Она увидела, как женщина привязала веревку к ручкам корзинки, а затем медленно потянула ее наверх в ритм песне. Наклонившись над подоконником, чтобы взять свою корзинку, Джесси с удивлением увидела листок бумаги на отутюженном белье. Она прочитала:«Я не в состоянии ждать до следующего воскресенья. Нет ли места, где мы могли бы поговорить? Дж. Ч. Ф.».Она еще раз выглянула в окно, увидела Джона Фремонта, стоявшего под шелковицей. — Привет, — сказала она, — вот это сюрприз! — Не могла бы ты спуститься вниз? — Нет, но ты можешь подняться. — Подняться? Он уставился на нее в изумлении. — Да, по шелковице. А я выберусь отсюда и встречу тебя на верхней ветке. Если ты, конечно, не боишься порвать свои красивые синие бриджи. Его веселый смех долетел до нее, а она в это время наблюдала, как он схватился за ветку и подтянулся вверх. Джесси туго подобрала вокруг себя юбку и с подоконника перебралась на сплетение толстых веток, образовавшее под ее окном некое подобие платформы. Едва она уселась, как в зелени листвы показалась голова Джона Фремонта. Быстрыми ловкими движениями он оказался рядом с ней. Джон оставил свою шляпу внизу, и его волосы взлохматились, когда он пробирался через густую листву. С места, где они сидели, были видны волнистые лужайки школы и темно-зеленые леса на берегах Потомака. Сидя на суке и раскачивая ногами, Джесси Бентон едва бы могла доказать кому-либо, что ей почти семнадцать лет. — Разве это не пример своего рода бунта, лейтенант Фремонт, — спросила она, сверкнув глазами, — вмешательство в распорядок женской школы? И как получается, что армия позволяет тебе беспечно бродить в полдень в среду? Он широко улыбнулся: — Господа Николлет и Хасслер провели во время ланча конференцию по поводу моего здоровья и решили, что я страдаю острым приступом весенней лихорадки.Это было единственно верное заключение по поводу того, что на своих картах вместо гор и рек я рисовал девичьи лица. — Но ведь это совершенно нормально, когда молодой человек рисует девичьи лица, — ответила она. — Разве ты не делал этого раньше? — О да, делал, но такого не было уже несколько лет. После того как меня выставили из колледжа Чарлстона. Про себя она сказала: «Мне не понравится то, что я услышу, но лучше сейчас, чем позднее». Вслух она спросила: — Что это была за девушка, лейтенант Фремонт? Его темные глаза стали серьезными. — Цецилия, старшая дочь семьи креолов, сбежавшей в Чарлстон во время массовых убийств в Санто-Доминго.[1] Я вырос с ее братом. Когда нам было шестнадцать лет, Цецилия и я решили, что мы влюблены. — И вы были влюблены? — прервала Джесси. Какой-то момент он колебался, затем мягко сказал: — Было бы несправедливым дезавуировать Цецилию. Да, я любил ее, как парень любит возлюбленную. Она была прекрасна, с блестящими глазами и превосходной улыбкой. Охваченная ревностью, Джесси боролась сама с собой, чтобы не спросить: «Была ли она более красива, чем я?» Вместо этого она спросила: — Но почему из-за влюбленности тебя отчислили из колледжа? — Я несдержанный человек, мисс Джесси… — …В противном случае не сидел бы на вершине шелковицы в три часа дня… — …Я просто не мог оставаться в классе, когда холмы усыпаны цветами, когда можно выбраться на лодке из гавани, чтобы ловить рыбу и заплывать в уединенные лагуны. Именно поэтому я не закончил колледжа. Видите ли, мисс Джесси, я не отношусь легко к любви. Когда влюбляюсь, я готов бросить все ради нее. — Думаю, что могла бы одобрить это, лейтенант Фремонт. Я никогда не влюблялась, но должна испытать то же самое. — Она смущенно поколебалась, но затем, решившись, быстро добавила: — Говоря о любви, я должна сказать самую волнующую новость сегодняшнего утра: моя подруга Гарриет Уильямс выходит замуж за графа Бодиско, русского посланника. — За графа Бодиско? — спросил он с удивленным, почти болезненным выражением лица. — Это не тот напыщенный, кто ежедневно едет в свое посольство в ослепительно белой карете, запряженной четверкой вороных? — Да, я полагаю, что он претенциозный, но по-доброму, и это не причиняет кому-либо вреда. Он просто старается поддержать достоинства русской аристократии в том месте, которое другие послы называют грязной столицей. — Но он ведь старик! — сердито выпалил он. — Ему за шестьдесят! — Всего шестьдесят. А Гарриет всего шестнадцать. Но граф Бодиско такой добрый. Он был так щедр к ее родителям, переживающим со своей большой семьей тяжелые времена. Граф намеревается дать воспитание детям и обеспечить им блестящее будущее. Подумай, лейтенант, на прошлой неделе Гарриет не была достаточно хороша, чтобы стать Майской королевой школы, а через пару недель она станет графиней Александр де ла Бодиско, кузиной царя, и президент Гаррисон подведет невесту к венцу. Он молчал. Ни один мускул его лица не дрогнул, но она чувствовала, что он словно отдалился, огорчился по поводу своего прихода в школу, и душевный настрой мужчины переместился с шелковицы в рабочую комнату дома Хасслера. Когда он заговорил, в его голосе был отзвук металла: — Вы, как кажется, одобряете все это, мисс Бентон? Она тронула пальцем его рукав легко, подобно упавшему листу. — Я не хотела бы такого для себя, лейтенант Фремонт, — тихо сказала она. — Но считаете ли вы, что мы вправе порицать Гарриет Уильямс? Граф — очаровательный, образованный, всеми уважаемый человек. Я знаю, что он нравится Гарриет и она благодарна ему. Она по-своему щедра, лейтенант, не думаете ли вы, что и мы должны быть щедрыми в отношении ее? Он взял пальцы, касавшиеся его рукава, и поцеловал их. — Простите меня, мисс Джесси, это было грубо с моей стороны, но у меня в душе все похолодело, когда я подумал, что вы… можете одобрить, что ты сама… — Нет, лейтенант, не я. Я выйду замуж за молодого человека, которого полюблю всем сердцем. За человека в начале его карьеры, за человека с будущим, стремящегося достичь желаемого и готового превратить брак в партнерство в полном смысле слова. Он молчал, устремив взгляд на запад, где садилось солнце в ранней весенней дымке, прочерчивавшей небо горизонтальными полосами от слегка розового до пурпурного цвета. Джесси смотрела в ту же сторону. Они сидели спокойно в тени дерева, любуясь красотой весеннего заката и вдыхая аромат распускающихся цветов. Она первая нарушила молчание: — Лейтенант, не придешь ли ты на свадьбу Гарриет? Уверена, она будет очень веселой. — Но я не знаком с графом Бодиско… — Я как раз писала письмо Гарриет, когда ты положил свою записку в мою корзинку с бельем. Не разрешишь мне попросить считать и тебя приглашенным? После свадебного ужина будет бал. Любишь ли ты танцы, лейтенант Фремонт?
В день свадьбы Джесси находилась в центре внимания семейства Бентон: ведь это был ее первый выход в свет. Ей страшно нравилось одеваться на бал в окружении матери, двух младших сестер и Мейли, ее воспитательницы. Ее платье из белого сатина с узором, отороченное тонкими кружевами вокруг шеи и рукавов, было сшито миссис Эббот, модной портнихой из Лондона. В полдень она села в семейный экипаж с отцом и матерью, которые уговорили ее пойти на такие усилия ради семьи Гарриет и завоевания положения в обществе. Дорога к поместью Бодиско на целую милю была забита экипажами. Сюда прибыл весь дипломатический корпус, а также высшие офицеры армии и флота с генералом Уинфилдом Скоттом, возглавлявшим процессию в блестящих мундирах. Присутствовали президент и члены его кабинета, а также старейшие члены конгресса и Верховного суда. Джесси провели в комнату невесты на втором этаже, где она нашла Гарриет необычайно веселой. Она была легкомысленным, живым ребенком, стремившимся извлечь удовольствие из всего. — Дорогая! — закричала она Джесси. — Вот кольцо с жемчугом. Граф хочет, чтобы оно было у тебя. Гарриет подбежала к окну, посмотрела в щель между жалюзи: — Джесси, посмотри на карету с сатиновыми розетками на лошадях. Это, должно быть, французский посол. Я так волнуюсь, уже три дня не могу куска проглотить. Граф говорит, что мне нельзя есть до свадебного ужина. Джесси скромно улыбнулась, ощущение тревоги ушло: Гарриет нравится все, имеющее отношение к ее свадьбе, — драгоценности, платье, кареты, поездка, государственные обеды, балы и церемонии. Она с ее бурлящей натурой будет извлекать счастье из происходящих событий и благосостояния своей семьи и долго умалчивать, что ее муж старый и уродливый. Вскоре группу невесты провели по задней лестнице в гостиную, примыкавшую к крытой галерее. Двери были открыты, и сидящие гости наблюдали за проходившей церемонией. Джесси мгновенно окинула взором зал и глазами нашла лейтенанта Фремонта, красивого в парадном мундире и улыбающегося. Во время искусно спланированного обеда она чувствовала себя далеко от него — он сидел почти на полстола от нее. Но позже, когда за рядом пальм, образовавших своего рода ширму, в бальном зале заиграл оркестр и она протанцевала первый вальс с Джеймсом Бьюкененом и богемскую польку с графом Бодиско, Джесси, считая, что выполнила свой долг, присоединилась к Фремонту на открытой площадке, с которой открывалась панорама столицы. Мелодичная музыка долетала до них из зала, где танцевало уже много пар, их драгоценности и золотые шнуры сверкали в отблеске тысяч горящих свечей. Щеки Джесси раскраснелись от волнения столь необычного дня, и она улыбнулась в сгущавшихся сумерках, когда лейтенант взял ее под локоть за бахромкой кружев и прошептал: — Вы, возможно, пришли на свадебную церемонию, я же пришел потанцевать с вами. Они вошли в танцевальный зал, некоторое время стояли не двигаясь, напряженные, задумчивые, не даст ли начало танца толчок чему-то такому, чего они сами потом не смогут или не пожелают остановить. Для Джесси этот момент, неотчетливый, но навсегда запомнившийся, словно был вырван из потока времени. Она вдруг оказалась в его руках и закружилась в звуках венского вальса Иоганна Штрауса. Вновь, после того, как она сидела с ним рядом на концерте, Джесси увидела, что он был невысокого роста. Ранее она никогда не танцевала с невысоким и с такой гибкой тонкой талией мужчиной. Поначалу возникло странное, почти неприятное чувство, связанное с тем, что нельзя взглянуть на мужчину снизу вверх, почувствовать около себя его огромность, ширину его плеч, делающие женщину крохотной и изящной. Но стоило начаться танцу, и она поняла никчемность количественных оценок. Ее мысли и чувства устремились вперед, их воздействие было столь сильным, что она испугалась, ей даже показалось, что теряет сознание. Она была рада, когда смолкла музыка и они прошли в конец танцевального зала, где она опустилась в глубокое кресло. Столь же неожиданно и необъяснимо, как и чувство слабости, ее охватил гнев, возмущение самой собой и даже некоторый страх. «Кто он такой, — спрашивала она себя, — этот странный человек, который так волнует меня? Несколько недель назад я ничего не слышала о нем, а сейчас еле стою на ногах! Такого со мной не бывало. Я думала о нем, я представляла его лицо и прислушивалась к тембру его голоса. Мне нравился он как самый красивый человек, какого я увидела впервые, и его задумчивость. Казалось чудом, что он любил те же самые книги, что и я, решил избрать карьеру исследователя Запада, как мой отец, а также и я в меру своих сил. Это совпадение казалось восхитительным и волнующим, но при этом внутри меня не появлялось силы, так ослабляющей мои колени, что они не способны держать меня!»
_/5/_
В теплое воскресное утро в марте после службы в пресвитерианской церкви Джесси и ее отец отправились в дом Хасслера, где Николлет и Хасслер намечали провести совещание с сенаторами, чтобы изложить им доводы для нажима на сенат и побудить его дать разрешение на проведение ряда экспедиций в районы Дикого Запада. Том Бентон был изумительным пешеходом. Своим длинным шаркающим шагом он передвигался так быстро, что Джесси приходилось почти семенить, чтобы успевать за ним. Так было всегда. Ее отец никогда не замедлял шага и не подстраивался под рост, возраст и аллюр взрослевшей дочери. Он относился к ней как к равной, говорил с ней тем же языком и с той же серьезностью, как со своими избирателями в Сент-Луисе или со своими коллегами в сенате. Джесси медленно, зачастую мучительно понимала смысл сказанного им; но с течением времени его идеи становились более ясными и все глубже входили в ее сознание. После Джесси Элизабет Бентон родила мальчика, но он умер, и эта смерть еще сильнее привязала Тома Бентона к Джесси. Ко времени рождения Рэндолфа отцу уже было поздно менять привязанность к своей подававшей большие надежды дочери, в рассудке и сознании которой он обнаружил повторение собственных интеллектуальных качеств. Джеймс Бьюкенен как-то заметил, что Джесси и Том Бентон — одного поля ягода. Отец и дочь были довольны такой оценкой, и оба знали, что она верна. Прислушиваясь к разъяснениям Джесси относительно экспансии на Запад, необходимости прокладки национальной дороги от Сент-Луиса к Санта-Фе, слушатель мог закрыть глаза и мысленно видеть перед собой Томаса Гарта Бентона, слышать его тон, его вокабулы, его колючие фразы. Однако никто никогда не думал назвать Джесси Бентон подголоском ее отца. У нее было собственное мнение, и притом уверенное. Случилось так, что, будучи уроженкой пограничного района Сент-Луиса, воспитанная в среде охотников, звероловов, проводников, мехоторговцев и коммерсантов, которым доводилось видеть большие неисследованные земельные массивы с несметными богатствами, она также прониклась убеждением, что нынешние Соединенные Штаты — лишь небольшая часть того, какими они должны стать. Она использовала даже такие термины, как «предопределение судьбы», звучавшие напыщенно в устах молодой девушки, но Том Бентон проповедовал предопределение судьбы с того времени, когда Джесси было всего пять лет. С восьми лет она слышала его выступления в сенате, когда он сражался за эту идею, видела, как он работает со своими единомышленниками в библиотеке дома Бентонов; прочитала сама или ей прочитали о всех фактах истории, которые, по мнению Тома Бентона, доказывали его тезис, что ни одна молодая нация не может сидеть сложа руки, она должна завоевать соседствующие целинные земли, чтобы набрать физическую мощь и приобрести органическую целостность. Во многих речах, написанных ею в его библиотеке, и в замечаниях, делавшихся ею в ходе обсуждения, она даже опережала Тома Бентона — будучи моложе на поколение, она осмеливалась на большее. Быстро шагая под лучами весеннего солнца, Джесси оживила в памяти некоторые эпизоды своего раннего детства. В 1828 году, когда ей было всего три года, ее отец вел бурную кампанию за избрание Эндрю Джэксона, своего командующего и друга. В течение нескольких месяцев она слышала возгласы: «Ура Джэксону!» Однажды утром она и Элиза в пальто и капорах — в такой одежде они совершали с отцом прогулки по Лафайетт-скверу — вошли в библиотеку. В это утро Том работал, готовя сокрушительный отпор изоляционистам Новой Англии, которые были готовы довольствоваться Америкой, состоявшей в тот момент из двадцати штатов, и были настроены против любого приобретения территорий на Юге, Западе, Среднем Западе по той причине, что будет нарушено политическое равновесие в конгрессе и ослаблено их влияние на решение национальных вопросов. За неделю до этого от имени Новой Англии выступил сенатор Фут; он настаивал на том, что все государственные земли не должны ставиться на продажу, за исключением тех, которыми уже владеют поселенцы, что ныне существующие границы и пределы Соединенных Штатов должны быть объявлены неизменными. Джесси и Элиза оказались в библиотеке одни. Некоторое время они сидели спокойно, потом, увидев листы писчей бумаги, отыскали карандаши и принялись рисовать на рукописи сенатора Бентона. Через несколько минут в комнату вошел отец. Увидев, что они натворили, он резко спросил: — Кто сделал это? Элиза заплакала, а Джесси, лицо которой было запачкано карандашом, посмотрела снизу вверх на отца и объявила: — Маленькая девочка, которая говорит: «Ура Джэксону!» Том непонимающе уставился на дочь, затем рассмеялся: — Джесси, ты наша плоть от плоти, умеешь выходить из трудного положения. Взяв листы рукописи, он осмотрел их, чтобы определить меру порчи. Он с чувством воскликнул, когда его глаза разобрались в извилистых линиях, оставленных ее синим карандашом, и прочитал вслух:«Запад — моя, а не его страна. Я знаю ее, он не знает. Было бы ущербным для человеческой расы сохранить превосходную долину Миссисипи как пристанище диких зверей, вместо того чтобы превратить ее в место, где царят свобода и цивилизация, в приют угнетенных всех наций».Дом Хасслера находился на Капитолийском холме, откуда открывался вид на Потомак. Они свернули к северу, прошли мимо здания управления топографического обследования побережья, в котором Хасслер руководил геодезической съемкой, и пошли вверх, по Пенсильвания-авеню. Николас Николлет, выглядевший постаревшим и больным из-за рецидива тропической лихорадки, провел их на второй этаж беспорядочно построенного здания, в большую комнату, лишенную мебели. Две длинные доски, закрепленные на козлах, были завалены множеством карт, бумаг, схем, записок, журналов, атласов, калек, карандашей. Войдя в комнату, Джесси застала такую картину: лейтенант Джон Чарлз Фремонт стоял на подставке, склонившись над листом бумаги, держа мягкий чертежный карандаш в правой руке, а растопыренными пальцами левой прижимая страницы журнала. Рукава его рубашки были закатаны вверх, ворот расстегнут, волосы взлохмачены и спадали на лоб, а лицо выражало напряжение человека, поглощенного работой. — Ему было всего двадцать четыре года, когда я взял его к себе, — сказал ей Николлет, — он получил некоторую подготовку у капитана Уильямса в экспедициях, но знал лишь азы искусства жить в гармонии в безлюдных местах. Но он усваивал опыт и знания как одержимый. Пристально вглядываясь в Джона, занятого синтезированием грубых, набросанных от руки карт, заметок, записанных у костра, их сверкой с опубликованными сведениями и картами исследованных земель, Джесси понимала, что готовится первоклассная карта. Ей подсказало это внутреннее волнение, отличное от того, какое появилось, когда его рука сжала ее руку в тот вечер в Джорджтаунской школе; отличное от того, когда его смех заглушал ее смех; отличное от ощущения в библиотеке, когда он держал в руках книги ее отца и комментировал их; отличное от чувств на свадьбе Бодиско; отличное от всего этого. Перед нею был человек, которым могут восхищаться и которого могут уважать его сотрудники. Человек, который достигнет многого в своей работе, обладающей подлинной ценностью и солидностью, коей он решил посвятить свою жизнь, и который в свое время внесет ценный и нетленный вклад. Она вошла в комнату, за ней следовали отец и Николлет. Джон быстро поднял глаза, вначале рассеянно, но затем, увидев ее, соскочил с подставки и пошел навстречу, чтобы поздороваться. Том Бентон поспешил к большой карте, над которой шла работа, провел пальцами по местам, наиболее интересовавшим его. — Да, да, — сказал он, — это то, что нам нужно… но я разочарован — все идет… так медленно. Джесси наблюдала, как лейтенант Фремонт повернулся к ее отцу и терпеливым тоном сказал: — Да, это медленная работа, сенатор, ведь мы должны добиться максимальной точности. Малейшая ошибка на этой карте может обернуться опасностью для караванов, надеющихся найти воду и пропитание в обозначенном месте… — Верно, верно, — пробурчал Том, — но у нас так мало времени, Англия планирует захват Тихоокеанского побережья. Весь этот обширный район должен быть сделан доступным с помощью дорог, насыщен фортами и поселениями. Мы должны послать экспедиции к долине реки Колумбия, с тем чтобы она была заселена американцами. — Согласен, сенатор Бентон, — ответил раскрасневшийся Джон. — Мы должны обследовать каждую милю целинных земель. Но мы не можем отдать беззащитные группы переселенцев на милость враждебных индейцев, пустынь, снежных горных хребтов, мы должны убедить, что эти карты точны. Джесси почувствовала руку на своем плече. Она повернулась и увидела, что Николлет в восторге от своего протеже. — Молодой лейтенант прав, — шептал он. — Подумать только, мисс Джесси, на этой огромной карте Миссури, для которой он сам собрал большую часть материала и которую он начертил почти полностью сам, он допустил лишь две небольшие ошибки в расчетах. Это настоящее мастерство. Наблюдая за отцом и Джоном Фремонтом, головы которых, почти соприкасаясь, склонились над картой, Джесси заметила, как они стимулировали друг друга. «Да, — подумала она, глядя на длинные пальцы Джона, продолжавшие быстро чертить во время разговора, — настоящее мастерство. Только хороший человек может выполнить добротную работу. Большинство знакомых мне молодых людей легкомысленны, они кажутся непоследовательными по сравнению с человеком вроде этого. Я не смогу полюбить того, кто не является хорошим работником, кто не предан такой работе в равной мере, как и мне».
_/6/_
Зная, что лейтенант Фремонт приглашен, Джесси попросила Мейли приготовить особенно вкусный обед. Однако ее предупреждение воздерживаться от споров не подействовало. Он с сожалением отложил нож и вилку, когда Том Бентон призвал его убедить редакторов двух газет, сотрудника кабинета и нескольких конгрессменов в том, что земля между Миссисипи и Скалистыми горами плодородна и хороша для поселений. В гостиной повеяло первым теплом надвигающегося лета, предвещавшим, что вскоре Вашингтон-Сити будет задыхаться от зноя. Джесси надела легкое батистовое платье. После чашки кофе она предложила Джону пойти в сад подышать свежим воздухом. Алые вьющиеся растения оплели высокие стены, окружавшие сад. Спустившись с веранды, они прошли вдоль небольшого импровизированного навеса, под которым висели два деревянных бочонка. Почувствовав вопрошающий взгляд Джона, Джесси объяснила: — Это душ отца. Он принимает ледяной душ утром и вечером как часть старого армейского режима. Он говорит, что получает от этого удовольствие, отец любит трудности. Я иногда думаю, что он любит их ради них самих. — Вполне возможно! — понимающе воскликнул лейтенант. — Мне доставляют удовольствие трудности в походе и сама по себе опасность неизведанного. Откровенно говоря, для меня самые болезненные трудности — это обязанность жить в большом городе среди толп людей. — Действительно, лейтенант? — спросила она, слегка лукавя. — Недавно я слышала, что вы один из самых разудалых молодых людей в столице, даже когда нет танцев, вы остаетесь до трех часов утра. Он покраснел. — Ну хорошо, мисс Джесси, я молод, мне всего двадцать восемь лет. Временами мне нравятся красивые девушки и музыка, и если я должен жить в условиях цивилизации, чтобы завершить свою работу, то я вправе получить от этого наибольшее удовольствие. Но дайте мне мчащееся стадо бизонов, трехдневный форсированный марш через пустыню, пустую флягу; дайте мне прерию с дикими голубыми цветами, которой до этого не видел ни один белый человек, или неизвестную безымянную реку, шумящую рядом с ночной стоянкой, в то время как я лежу на земле и рассматриваю звезды… Ухо Джесси уловило поэзию, прозвучавшую в его словах, ослабившую ревность, которую она питала, думая о нем как о члене столичного общества, недоступного ей из-за несовершеннолетия. Они прошли к летнему домику по обсаженной живой изгородью дорожке. Домик находился под тенью высокого платана, и большая часть его стен была увита темно-зеленым плющом. Они уселись рядом на деревянную белую скамью, в воздухе плавал острый аромат жимолости. — Я не очень интересуюсь политикой, — сказал он рассеянно. — Я жду не дождусь дня, когда смогу вновь отправиться в экспедицию. — Отец всегда говорил, что политика и наука — неподходящие соседи по койке, но как избавиться от этого? Вы ничего не можете сделать без помощи и разрешения конгресса, и вы ничего не можете сделать с конгрессом, не умея играть в политику. Он кивнул в знак согласия с разумным доводом, затем откинулся на спинку скамьи с непроницаемым лицом и серьезными глазами. В прохладной тени дерева его отчужденность, казалось, усилилась. Джесси была обижена и озадачена его желанием отдалиться. Несмотря на его открытость и откровенность, у нее было ощущение, что она не может нащупать контакт с тем, что составляет его сущность. Ее первой реакцией в сумрачной музыкальной комнате школы мисс Инглиш было понимание того, что в его характере есть нечто таинственное, скрытое. Признаки уклончивости, отчужденности за уравновешенностью и привлекательностью пугали ее. Джесси повернулась так, чтобы видеть его: — Что случилось с Цецилией? — Не знаю, — ответил он. — Я уехал из Чарлстона, а она осталась там. Почему ты спрашиваешь? — Потому, что меня интересует любовь и меня вдруг осенило, что я ничегошеньки не знаю о ней. — Боюсь, что ты обращаешься не к тому человеку, — усмехнулся он. — Я также мало знаю о ней. У топографа, проводящего большую часть своего времени в диких местах, мало шансов на любовь. Они улыбнулись, сознавая, что находятся рядом, что ночь полна запахов земли, свойственных запоздавшей весне. Слова иссякли. Они подвинулись ближе друг к другу. Их руки сплелись, ее волосы прикоснулись к его губам, когда она положила свою голову ему на плечо. Вдруг она увидела на дорожке своего отца и Николлета. Улыбавшийся Николлет шептал что-то Томасу Бентону. Ее отец напрягся. После настороженной паузы он подошел к летнему домику и позвал ледяным голосом: — Джесси, иди сюда, в дом! Она поднялась и вместе с Джоном Фремонтом, шедшим рядом с ней, последовала с отцом и Николлетом по садовой дорожке. В прихожей она заметила, что лицо ее отца было сурово-напряженным, а Николлета — извиняющимся. Игнорируя присутствие лейтенанта Фремонта, Том Бентон сказал: — Джесси, попрощайся, пожалуйста. Время уже позднее. В напряженной тишине слова, которые не решались высказать четверо присутствующих, были достаточно ясны и не требовали растолкования. Лейтенант Фремонт сказал тихим голосом: — Я тоже должен откланяться. Спасибо за гостеприимство, сенатор Бентон, и за превосходный обед. Он поклонился, снял свою шляпу с боковой вешалки и вышел. Николлет прошептал прощальные слова и тоже удалился. Джесси прошла вслед за отцом в библиотеку, глядя на его широкую сердитую спину. После того как он опустился в свое кресло и закрыл руками лицо, она мягко спросила: — Что я сделала? Он посмотрел на нее, его лицо казалось изможденным и постаревшим. — Джесси, — сказал он, — я поражен. — Что вынудило тебя к таким чувствам? — поинтересовалась она. — Это глупый, уклончивый вопрос, — ответил он хрипло. — Ты вела себя так откровенно, что даже Николлет сделал замечание. Я был так занят работой, что не сумел заметить… Ее голос также звучал твердо: — Я не сделала ничего, кроме того, что получила удовольствие от компании лейтенанта Фремонта. То же самое делал и ты. В чем же ты меня обвиняешь? — В том, что ты влюбилась в него, — выпалил отец. «Вот, — подумала она, — наконец-то все пошло в открытую. Я никогда не позволяла себе думать так, но сейчас отец выразил это словами». — Возможно, ты и прав, — спокойно ответила Джесси. — Я не воспринимала такое понятие. Я знала, что лейтенант Фремонт — один из самых приятных и симпатичных молодых людей, с какими я когда-либо встречалась. Но ты не одобрял романтических рассказов, а литература об исследованиях не может помочь молодой девушке в осознании того, что она влюблена. Теперь же, когда ты поставил меня перед фактом, я полагаю, что люблю его. Том Бентон произнес сдержанным тоном: — Лейтенант Фремонт не появится больше в нашем доме; его не станут приглашать, и ты его больше не увидишь. — Но почему ты наказываешь его? — спросила она. — Он заставил тебя влюбиться в него. — Заставил меня! — Ее голос был таким же плоским, таким же напряженным, как у отца. — Что, у меня нет собственного рассудка? Действительно, отец, это недостойно тех лет твоего наставничества. Ты знаешь, что я отнюдь не слабый или глупый ребенок… — Тем не менее сюда он больше не придет. И ты не увидишь его. Брак слишком авантюрный и может соблазнить лейтенанта. — Лейтенант Фремонт не авантюрист. Он один из наиболее талантливых и многообещающих мужчин в Вашингтоне. Ты сам говорил это. — Может быть. Но он не столь многообещающий, чтобы не видеть, какие преимущества дает женитьба на дочери сенатора Бентона. Глаза Джесси вспыхнули от возмущения. Она подошла к окну, отодвинула шторы и устремила взгляд на темно-зеленые поля вокруг Вашингтона. — Итак, ты думаешь, что произвел на свет такую непривлекательную, не вызывающую интереса дочь, что лейтенант не мог влюбиться в нее за ее собственные достоинства? Том Бентон сказал более спокойно: — Прости, дорогая, я не хотел умалить твое обаяние и значение. — Однако его голос все еще оставался холодным. — Джесси, я должен защищать тебя. Ты слишком молода, чтобы знать… — Сенатор, — сказала она размеренно, — вы прибегаете к самой плохой софистике. Считаете ли вы, что я была слишком молодой, чтобы научиться читать в четыре года, слишком молодой, чтобы в пять лет просиживать в библиотеке конгресса, слишком молодой, чтобы совершать с вами выезды на охоту и в лагеря, слишком молодой, чтобы в восемь лет слушать вас с сенатской галереи, читать вместе с вами увесистые серьезные книги, слишком молодой, чтобы в десять лет начать записывать ваши речи, слишком молодой, чтобы в четырнадцать лет стать вашим советником и доверенным лицом, бродить по вечерам по улицам Вашингтона, а вы в это время решали проблемы и проверяли правильность своего решения по моей реакции? А теперь вдруг вы суете мне в лицо календарь и заявляете, будто я недоразвитая, не доросшая до семнадцати лет, ребенок, не ведающий, что делает. Она продолжала говорить, безжалостно используя свое преимущество, как это делал Том Бентон, когда его желания оказывались под ударом. — Я никогда не оспаривала ваше мнение. Если меня хвалили за хорошую работу, я работала еще более упорно, чтобы заслужить еще большую похвалу, и вы даже заявляли, что вам вскоре придется пойти на выучку ко мне. А теперь, при первом повороте событий, который вам не по вкусу, вы превращаетесь в раздраженного отца, стремящегося давить тяжелой рукой. Том глядел на нее, сохраняя спокойствие: — Вот это речь, Джесси, быть может, тебе следует стать сенатором от Миссури? Джесси быстро подошла к отцу, сделав примирительную мину: — Я не хочу быть сенатором от Миссури. Я хочу быть дочерью сенатора. Отец, ты знаешь, как я тебя люблю, нам не было нужды говорить об этом. Ты нежно вел меня за руку все эти счастливые годы, ты не можешь вдеть мне, как волу, в нос кольцо под предлогом, что делается такое ради меня самой. — Что сказал тебе лейтенант Фремонт? — Ничего… во всяком случае прямо от него я не слышала. Возможно, я читала его мысли, но свидетельства такого рода судом не принимаются, не так ли? — Совсем не забавно. — Лейтенант Фремонт был очень осторожным, — продолжала она, — Ты форсируешь события, отец, ведь ты никогда не шел напролом в деликатных вопросах. — Я слишком хорошо учил тебя, — застонал сенатор. — Ну вот, Том, — проворчала Джесси, — ты вложил мне в руки оружие для борьбы, и неужели ты думаешь, что я его не использую, когда мое счастье под угрозой? — Твое счастье! Но это же фантастика, Джесси! Впервые у тебя появилось романтическое увлечение, и ты уже говоришь о своем счастье! Лейтенанта Фремонта просто не будут приглашать в этот дом. Они молча стояли, глядя друг на друга глазами столь одинаковыми, что их можно было принять за зеркальное отражение. Противоборствовали их воля и упорство. Затем Джесси повернулась и пошла в свою комнату. Ее ожидала Мейли с подносом, на котором стояла еда. — Ты, наверное, проголодалась, дитя, — сказала пожилая негритянка, — я видела твою тарелку, когда ее принесли на кухню: ты даже не прикоснулась к еде. — Спасибо, Мейли, но я не хочу есть. Женщина посмотрела на нее с откровенным удивлением: — Не хочешь? Что с тобой, детка, ты захворала? — Так утверждает отец. — Что же ты подцепила? Хочешь, я принесу отвар сенны? Джесси грустно улыбнулась: — Спасибо, Мейли, не приноси, отвар сенны ничего не лечит и уж во всяком случае не лечит то, что я подцепила._/7/_
Последующие недели были бы невыносимыми для Джесси, если бы не присутствие бабушки Макдоуэлл, каждую весну приезжавшей к Бентонам с визитом. Как в школе, так и дома в ее воспоминаниях постепенно угасал облик лейтенанта Фремонта. Хотя она чувствовала себя несчастной от разлуки с ним, она не впадала в отчаяние и была уверена в том, что силы, которые свели их вместе, слишком велики, чтобы исчезнуть лишь по той причине, что Томас Гарт Бентон счел ее слишком юной для любви. Она хотела поговорить с отцом о лейтенанте Фремонте, убедить его, что давление на нее будет иметь обратный результат. Если бы отец позволил ему вновь приходить на обеды в воскресенье, она дала бы обещание вести себя равнодушно и контролировать себя во время бесед. Но и в конце второй недели Джесси не смогла обсудить вопрос с отцом. Он готовился выступить в сенате, а это, по его оценке, потребует нескольких часов, и, чтобы сберечь голос для такого события, хранил молчание несколько дней. Джесси решила, что даст ему возможность отдохнуть и через день вызовет его на откровенный разговор. Придя в библиотеку на следующее после выступления утро, она обнаружила, что он все еще испытывает неприятное ощущение в горле, и, пожалев его, решила проявить терпение. Разлука с Джоном Фремонтом была тем более болезненной, что в доме Бентонов не было никого, с кем она могла бы поговорить о нем. Потому она была рада встрече с бабушкой Макдоуэлл. Бабушка Макдоуэлл родилась восемьдесят лет назад в Виргинии, в Черри-Гроув. Она пережила войны с индейцами в Революционную войну. На ее лбу белел шрам от ножа, брошенного в нее, когда она была ребенком, индейцем, воевавшим на стороне англичан. Она называла этот шрам меткой короля Георга. Когда бабушка была больна или переживала неприятности, навалившиеся на детей и внуков, шрам, казалось, становился большим по размеру, когда же она чувствовала себя хорошо и семья процветала, он почти исчезал. С возрастом у бабушки Макдоуэлл проявились необычные качества. Вместо того чтобы худеть, она приятно располнела, вместо того чтобы ворчать по поводу накапливавшихся последствий разных недомоганий, она становилась все более добродушной, вместо того чтобы уставать от любовных дел и браков детей, внучат, племянников и племянниц, она с интересом наблюдала за тем, как происходит весь этот процесс. Джесси стоило произнести несколько фраз о лейтенанте Фремонте, как бабушка Макдоуэлл кивнула головой и заметила: — Итак, наконец-то подошел черед и моей Джесси. Я начала тревожиться по поводу тебя: к тому времени, как я достигла твоего возраста, у меня уже была дочь. Смерть президента Уильяма Гаррисона[2] спустя месяц после его инаугурации предоставила Джесси первую возможность увидеть Джона. Похоронный кортеж должен был проследовать по Пенсильвания-авеню к Капитолию. Дом Бентонов находился в квартале от главной улицы, и члены семьи не могли наблюдать за процессией из окон. Том Бентон сообщил бабушке Макдоуэлл, что она может посмотреть на кортеж из дома Хасслера на Капитолийском холме. На вопрошающий взгляд Джесси он ответил: — Мистер Хасслер сделал предложение сегодня, когда я встретил его в конторе полковника Аберта. Да, ты можешь сопровождать бабушку. В день похорон утро выдалось холодным и дождливым. Бабушка Макдоуэлл надела черное шелковое платье и черную накидку на вате, а мать разрешила Джесси надеть платье и пальто из темно-зеленого вельвета. Том Бентон высадил дочь и тещу у дома Хасслера, а сам поспешил в сенат на официальную церемонию. Входную дверь открыл лейтенант Фремонт при всех регалиях. Джесси воскликнула: — Лейтенант, почему вы не в своем полку? — Простудился. Врач арсенала отсоветовал мне маршировать под дождем. Они стояли, радостно улыбаясь друг другу. Джесси повернулась к бабушке: — Вот молодой лейтенант, о котором я тебе рассказывала. — Рада встрече с вами, молодой человек. Должна признаться, что пришла скорее для того, чтобы посмотреть на вас, чем на похороны. В мои годы на них не тянет смотреть. — Но, бабушка! — воскликнула Джесси. — Вы не могли знать, что лейтенант Фремонт будет здесь! Он должен был маршировать со своим полком. — Рассказывай! — прошептала бабушка Макдоуэлл. Джон наклонился и поцеловал руку старой женщины, а затем провел их в рабочую комнату на втором этаже, где не было ни столов, ни рабочих инструментов. В комнате стояло много ваз с геранью и розами, а на подоконнике — горшки с азалиями. В камине ярко горели кедровые поленья, испускавшие терпкий аромат. Перед камином был накрыт небольшой столик для чая, а перед окнами, выходящими на Пенсильвания-авеню, стояли удобные кресла. Джесси наблюдала за Джоном, встретившим жену полковника Аберта и миссис Криттенден, которую также пригласили в это удобное место. Джесси сидела у большого окна вместе с другими женщинами, слушая рассказы о Уильяме Генри Гаррисоне. Но Джон стоял сзади ее кресла, и голова Джесси закружилась от сильного и понятного только ей чувства. В отдалении послышался траурный марш, потом показалась шестерка белых лошадей, тащивших по склону Капитолийского холма катафалк с телом президента Гаррисона. Когда в комнату вошли еще две женщины, Джесси быстро встала и уступила им место. Джон отвел ее к камину. Они сели около него друг против друга и смотрели на желто-красные языки пламени. Женщины, собравшиеся у окна, были поглощены сценой внизу. Джесси думала, что, будь они даже только вдвоем, и тогда не нашлось бы более укромного места. — Я дважды был в сенате во время выступления сенатора Бентона, — сказал Джон, — надеясь увидеть тебя там. — Но я все еще посещаю Академию мисс Инглиш. — Я знал, что наша разлука временная. Я знал, что ничто не удержит нас вдали друг от друга, не удержит, прости меня, даже сенатор Бентон. Джесси молчала, она не могла произнести ни звука, словно речь шла о ее жизни. Он взял ее за руку: — Мисс Джесси, возможно, похоронная процессия — не самый хороший момент для разговоров о любви, но я настолько ею полон, что, боюсь, мне любой момент, любой фон покажется хорошим. — Как всегда, порывистый, — прошептала она. — Ты умеешь читать мысли в моих глазах, — сказал он, — думаю, что прочитала мои чувства к тебе. — Нет, — мягко поддразнила она, — когда дело доходит до любви, я неграмотна. Так думает отец. — Ты знаешь, что я сказал мистеру Николлету, вернувшись с музыкального вечера в Джорджтауне? Я сказал: «Я влюбился с первого взгляда». Когда ты ворвалась в комнату для приемов, возмущенная несправедливостью в отношении подруги, я сразу же понял, что со мной случилось что-то важное. Когда ты рассмеялась и от твоего смеха повеяло таким теплом, я понял, что моя жизнь будет бессодержательной, если я не буду всегда с тобой. Я думал только об одном: когда и где смогу встретить мисс Джесси. Я люблю тебя, — очень спокойно сказал он. — Я полюбил тебя с первого взгляда. Думаю, что ты также любишь меня. Ее глаза заблестели. — Разумеется, ты также веришь, что это сама судьба. Если бы мы оба обшарили весь мир, потратили годы на поиск мужчины и женщины, стремясь составить самую хорошую пару… — Да, я верю в это, — нежно ответила она. — Мистер Бентон прав, говоря, что я лейтенант без пенса в кармане и со скромной перспективой… — Со скромной перспективой! У тебя самая блестящая перспектива по сравнению с любым молодым человеком в Америке, ты свершишь великие дела… — Мы свершим их вместе, Джесси. Она освободила свою руку из его рук, распрямилась, ее тело напряглось. — Ты серьезно говоришь об этом? — спросила она. — Я должна предупредить: не могу жить без работы. Я не могу выйти замуж за мужчину, который не позволит мне работать бок о бок с ним на равных условиях в качестве партнера. Называй меня Энн Ройяль, если желаешь, моя мама называла меня так сотни раз, но я не феминистка, ты никогда не услышишь, чтобы я ратовала за равные права для женщин. Я верю, что самый высокий долг женщины в мире — быть хорошей женой, а хорошая жена должна стоять плечом к плечу с мужем и умом к уму. — Ее голос срывался. — Я должна иметь мужчину, который станет считаться с моим мнением, сделает меня своим доверенным лицом, не будет отталкивать меня потому, что я женщина, говорить мне: ступай в свет и наслаждайся. Она расслабилась в кресле, но ее карие глаза все еще оставались напряженными. — Я никогда не поставлю тебя в неловкое положение, Джон Фремонт. Мне не нужно снисхождение, особое внимание или публичная похвала. Я никогда не встану посреди улицы с папкой дел в руках так, что, увидев меня, друзья будут стараться скрыться в боковые улочки. Но я хочу помочь тебе, хочу внести свой небольшой вклад в твою работу, хочу расширить твои возможности совсем немножко, в меру своих способностей. Джесси опустила глаза и сидела, взволнованно потирая свои маленькие ручки. — Я все сказала. Надеюсь, что это не оттолкнуло тебя и ты не станешь думать, что я совсем невежественна. Она взглянула на его лицо. Его глаза были закрыты, а лоб прочертили глубокие складки. — Надеюсь, я вовсе не романтик в этих вещах, — сказала она. — Я понимаю, что, с точки зрения посторонних, сказанное мною нежелательно. Знаю, что большинство мужчин предпочитают забавную, очаровательную жену, рожающую детей и ведущую домашнее хозяйство, домоседку, ожидающую прихода мужа после работы. Растить детей, заботиться о здоровье домочадцев, содержать в мире и порядке дом, чтобы дети выросли хорошими людьми, — все это большая задача. Она достаточна для любой женщины. Но ты должен понять, лейтенант, что для меня этого недостаточно. Я дочь своего отца. Если бы я была мужчиной, то давно глубоко вникла бы в свою профессию. Поскольку я женщина, то должна проявить себя через своего мужа. Итак, я должна найти мужа, который позволит мне осуществить мои амбиции, позволит стать необходимой для его работы и жизни. Медленно затихающая похоронная музыка все еще слышалась в комнате. Некоторые женщины у окна тихо плакали. Лейтенант Фремонт начал говорить. — Я люблю тебя, Джесси, — произнес он. — Мне не нужна Энн Ройяль, но твое великолепие и очарование рассеивают мои опасения, Джесси, я буду всегда любить тебя, в этом ты можешь быть уверена. Я могу допустить ошибки, могу в чем-то подвести тебя, могу не оправдать твоих ожиданий, но я буду всегда любить тебя. Искорка нежного изумления мелькнула в ее глазах, и она почувствовала подъем радостного настроения. Она не хотела, чтобы этот священный для нее момент, который навсегда останется в ее памяти, приобрел излишнюю серьезность, если не суровость. — Говоришь, как истинный французский поэт, месье Фремон, — сказала она, подмигнув. — Признаюсь, я писал тебе стихи. Плохие стихи, мисс Джесси, удивительно плохие, учитывая глубину моей любви. — Я выхожу замуж не за поэта, лейтенант Фремонт, и не стану упрекать тебя за плохие стихи. Его глаза затуманились из-за тех молниеносных перемен настроения, к которым она еще не привыкла. — Ты не обязана принимать меня таким, каков я есть, — сурово сказал он. — Я подозреваемое лицо в этом деле. Ты наверняка понимаешь, что многим этот брак покажется браком по расчету. Быть зятем сенатора Бентона значит получить мощное подспорье в карьере. Ведь сенатор может использовать свое влияние в конгрессе и военном департаменте ради моего быстрого продвижения по службе, ради руководства экспедициями… Джесси ответила с наигранной серьезностью: — Да, конечно, но в таком случае, лейтенант Фремонт, ты понимаешь, что я слишком молода, чтобы осознавать своипоступки. — Вполне! В шестнадцать лет ты безответственный ребенок. — …Пройдет еще несколько лет, прежде чем я стану достаточно взрослой, чтобы принять решение. Его мрачное настроение исчезло. — Поскольку ты выходишь за меня замуж не как за поэта, — со страстью сказал он, — то в таком случае могу ли я надеяться, что выйдешь за меня как за второго лейтенанта Топографического корпуса? — Не могу сказать. Ты должен обещать мне держать все в секрете до того, как я поговорю с отцом. — Долго ли придется ждать? Простишь мне, если я окажусь нетерпеливым? — Нам не придется ждать так долго, как ждал он. Мама отказывала ему на протяжении шести лет. Она говорила: «Я никогда не выйду замуж за рыжеволосого армейца и демократа». Отец отвечал: «Я не могу изменить цвет волос и всегда буду демократом, но я уйду из армии, я вступил в нее, чтобы побить англичан». И нам следует подождать удобного случая, чтобы сказать ему. — Я буду держать нашу помолвку в секрете, — улыбнулся он, — какое чудесное слово «помолвка»! Моя дорогая Джесси, теперь мы помолвлены и всю свою жизнь будем вместе в интересах работы, для счастья и взаимной любви! Похоронная процессия скрылась из виду. Лейтенант Фремонт подбросил дрова в камин, передвинул кресла от окна и удобно разместил гостей. Потеплело, косой дождь, поливавший Пенсильвания-авеню, казался красивым. Джон исчез на время и вернулся с мороженым на подносе, с французскими пирожками и русским самоваром. Он беспечно болтал, разливая чай. «Боже мой, — думала Джесси, — неужели и мое счастье так же рвется наружу? Если это так, то через час о нашем секрете будет знать весь Вашингтон». — Каким был похоронный кортеж? — спросила она бабушку. — Я бы сказала: он выполнил свою цель, — ответила бабушка Макдоуэлл._/8/_
Проснувшись на следующее утро, она запела, а потом подумала, что могла бы рассказать отцу обо всем, что произошло, ведь при встрече с ним она не смогла бы скрыть свое счастливое настроение. Она надела голубое фланелевое платье, причесала волосы, завязала их лентой и спустилась вниз. Едва она успела появиться за семейным столом, как вошли Джошиим и Джошаам, у каждого из них в руках было по два горшка с азалиями. Том Бентон посмотрел карточки, сопровождавшие цветы, не обратив внимания, что они адресованы миссис Бентон. Он положил нож и вилку, отодвинул в сторону котлету, с которой энергично расправлялся, и уставился на дочь. — Случайно не был ли вчера с вами лейтенант Фремонт? — Да, — призналась Джесси, — был. — Почему он не участвовал в процессии? — Он был простужен. — Знала ли ты, когда поехала в дом Хасслера, что лейтенант Фремонт будет там? — Нет, отец, я не ясновидящая. Но, буду честной перед тобой, я надеялась… — Мне не нравится такая форма обмана, Джесси, даже если она на первый взгляд невинна. Я запретил тебе видеться с лейтенантом Фремонтом, а ты пренебрегла моим предупреждением. Остальные члены семьи молча съели завтрак и ускользнули из комнаты, оставив Джесси наедине с отцом. — Будь добра, расскажи мне, что произошло вчера в доме Хасслера? Очевидно, что-то произошло. Джесси не хотелось говорить заведомую ложь. Поскольку она понимала, что придется открыться, она решила действовать смело: — Я открою тебе секрет, отец, если ты обещаешь не говорить никому. — Секрет от кого? — От тебя, дорогой. Я помолвлена с лейтенантом Джоном Чарлзом Фремонтом! Когда Томас Бентон был в страшном гневе, он мог выпалить самые сильные, неслыханные в Вашингтоне ругательства. Но когда его гнев был холодным, он держал свои эмоции на привязи и тщательно подбирал слова. — Итак, ты помолвлена! Не известив меня, не получив моего согласия и вопреки моим откровенным приказам не видеть лейтенанта Фремонта. Ей не шел на ум ответ, и она лишь склонила голову. — Ты думаешь, что твоя жизнь кончится, если не осуществишь этот тайный сговор? Что случилось с твоим пониманием будущего, Джесси? Она вдруг поняла, что это ее первое серьезное разногласие с отцом. Ей это не нравилось, она не хотела перемен в их отношениях, но и не было возможности избежать этой сцены. Если отец догадается, что эта ссора с ним тягостна для нее, он станет давить эмоционально, пока она не сдастся. Она должна провести спор так, чтобы наилучшим образом и наиболее эффективно противостоять ему. Отодвинув от себя стоявшую перед ней тарелку, Джесси вытянула руки и положила их на стол. — Если я почувствую, что мое замужество с лейтенантом Фремонтом отдалит меня от тебя, отец, или обидит тебя, я сделаю то, что ты просишь, — откажусь от него. Я откажусь от кого бы то ни было и без твоей просьбы. Но Джон Фремонт — это воплощение твоих собственных амбиций. Он будет исследовать и покорять целинные земли. Он откроет Запад, создаст империю, какую ты рисуешь на картах и какую ты заставлял меня рисовать, когда мне было всего пять лет. Джошаам тихо вошел в комнату, неся на подносе жареную свинину, овсяную кашу с медом и горячий шоколад. Джесси подождала, пока он поставит принесенное на стол, а затем отодвинула свой стул от стола. Ее юное лицо было спокойным. — Том Бентон, ты должен был бы умолять о таком браке, а я должна была бы ухватиться за него, ибо знаю, какое значение имеют для Джона твои мечты и планы. Я знаю, с какими постоянными трудностями и опасностями он столкнется, знаю, какую горькую и долгую разлуку сулит мне его сотрудничество с тобой. Если подумать, то будущее будет тягостным и мучительным, отец, но я иду ему навстречу с открытым забралом. — Итак, первое, что я должен понять, — ты выходишь за него замуж ради меня! — после паузы крикнул он. — Джесси, ты в самом деле противишься моей воле? Ты против меня в таком важном деле? — Если я позволю тебе лишить меня самого важного в моей жизни, папа, моя любовь к тебе может превратиться в ненависть. Я хочу, чтобы ты советовал мне и защищал меня, но в конечном счете именно я, а не ты, должна определить свою жизнь. Ты же понимаешь справедливость этого? Сам Томас Бентон научил ее ценить логику больше, чем чужое мнение, формировать собственное на основе фактов, а затем отстаивать его вопреки всем нападкам. Но Том Бентон неистово закричал: — А кто такая шестнадцатилетняя, осмеливающаяся бросать вызов отцу? — Маленькая девочка, кричавшая: «Ура Джэксону!» Он вспомнил о прошлом, и гнев его иссяк. Джесси подвинула стул к столу, положила на тарелку еду и спокойно произнесла: — Все, что я могу сказать, Том Бентон, — ты недооценил сам себя. Если бы в свои семнадцать лет я была сбившейся с толку дурочкой и мечтательной идиоткой, и твои усилия и труд были бы напрасными, я оставалась бы дурочкой и в двадцать семь и в шестьдесят семь лет. Признаем вместо этого, что я рано повзрослела благодаря влиянию отца, интенсивное наставничество которого сделало свое дело. Быть может, если бы в эти годы я думала лишь о красивых манерах и о покорении сердец молодых людей, а не о диких землях, затерянных реках и враждебных индейских племенах, я не могла бы, естественно, влюбиться в мужчину, который, по моему мнению, сделает больше для открытия Запада, чем кто-либо из ныне живущих. В ее голосе слышалась нотка горечи: — Может быть, следовало бы обеспечить для меня нормальное детство, с куклами, играми, с сюсюканьем. Может быть, это было бы лучше. Том провел своей крупной ладонью по глазам: — Джесси, моя дорогая, неужели я отнял у тебя детство? Твоя мать… Со звонким смехом она уронила свою вилку, обежала вокруг стола и села отцу на колени. — Ради Бога, папа, не поддавайся моей смешной женской логике. К этому времени завтра ты увидишь, что я хитро разрушила твое сопротивление. Ты дал мне самое чудесное и полное впечатлений детство, какое когда-либо давалось какой-либо девочке. Я пытаюсь всего-навсего сказать, что я не чувствую себя ребенком, что школе оставалось мало что делать после твоего наставничества; что некоторым людям нужно меньше времени, чтобы научиться большему, чтобы наслаждаться и страдать больше, чем другие. — Да, разумеется. Но когда он взглянул на нее со скорбью, она поняла, что он думает не так, как она, что он предчувствует неизбежную потерю не только своей любимой дочери, но и, как он сам часто говорил, близкого ему человека. Она поняла это интуитивно, нарисовав в своем воображении будущий мир без Томаса Гарта Бентона. — Ты, дитя, не понимаешь, — со стоном сказал он, — человеку нужно время подготовиться к такой важной перемене, как эта. В глубине своего рассудка я всегда надеялся, что, когда ты влюбишься и захочешь выйти замуж, я буду готов к этому. Оно не обрушится столь неожиданно на меня. — Но, отец, не мы определяем момент встречи с любимым человеком, она может случиться в пятнадцать лет, в пятьдесят или ее вообще не будет. Стоит ли ждать моего восемнадцатилетия, девятнадцатилетия или двадцатилетия, когда твой рассудок смирится, и выйти замуж за того, с кем у тебя будет мало общего? А не лучше ли выйти замуж раньше, чем ты ожидал, и заключить превосходный брак? Она подошла к окну, прислонилась к подоконнику. Солнце согревало ей спину. — Думая о замужестве, я всегда представляла себе мужчину, работа которого может меня волновать. Я убеждена, что женщина, стоящая в стороне от работы мужа, теряет контакт с лучшей частью жизни своего супруга. Где я могу найти кого-то более подходящего, чем лейтенант Фремонт? Ее отец проворчал: — Джесси, у тебя слишком большие запросы._/9/_
Реакция Томаса Бентона на доставленные в его дом азалии в горшках стала для нее очевидной, когда через несколько дней ее посетил Николас Николлет, выглядевший совсем старым и бормотавший себе под нос: — Здесь явно черт попутал. Джесси он сообщил: — Они снимают Джона с работы над картой, посылают на территорию Айовы для обследования реки Де Мойн. Твой отец убедил военного министра Пойнсетта послать его немедленно. В голове Джесси возникло сразу несколько догадок. — Новая экспедиция! Разумеется, с вашим участием? — У меня есть работа здесь, мисс Джесси. К тому же лейтенант хорошо знает территорию Айовы, и я ему не нужен. Она вспыхнула от гордости: — Во главе экспедиции! Это продвижение по службе, не так ли? — Верно, и это как раз то, к чему я готовил его последние четыре года. — Расходившиеся кругами морщины от глазниц старого человека создавали впечатление, будто его темные зрачки утопают в бездне. — Но я не могу остаться без него сейчас. Он нужен, чтобы закончить карту, ведь первоначальный набросок принадлежит ему… Она старалась слушать Николлета, но в ее ушах звучали вопросы: «Почему это случилось именно в данный момент? Не опасно ли это? Кто несет ответственность за такое решение? Как я проведу без него месяцы?» — Он уедет на шесть месяцев, — продолжал Николлет. — Поймите меня правильно, Джесси, это нужная работа. Но она появилась неожиданно, и я огорчен, что не могу поехать… В ее глазах показались слезы. — Мы можем ждать его шесть месяцев, вы и я, ибо для него это важное начало. Он хорошо выполнит поручение, а когда конгресс одобрит планы отца о большой экспедиции в Скалистые горы и в Орегон, лейтенант Джон Фремонт будет тем, к кому они обратятся, чтобы ее возглавить. Николлет встал: — Хорошо молодым, они — хозяева своего времени. Он нежно обнял ее. Она не сказала отцу о визите Николлета. В ее голове кружилась одна и та же мысль: «Увижу ли я Джона до отъезда?» Во время обеда в дверь громко постучали. Вошел Джошаам и шепнул что-то мистеру Бентону. Тот покраснел и вышел из-за стола. Чуть позже слуга вернулся и позвал Джесси. Когда она вошла в прихожую, то увидела лейтенанта Фремонта, прижимавшего военную шляпу. — Я выезжаю сегодня вечером в Сент-Луис, — сказал он. — Я попросил у вашего отца разрешения попрощаться с вами. Джесси не могла вымолвить ни слова и стояла, пожирая его глазами. Она заметила, что Джон также пристально рассматривает ее. Весь дух маленькой прихожей был пронизан стремлением влюбленных быть ближе друг к другу перед разлукой. Томас Бентон не мог больше противостоять силе их чувств. — Хорошо, — сказал он дружелюбным голосом, — в конце года, если вы будете чувствовать себя так же, как сейчас, я дам согласие на вашу свадьбу. Он повернулся к Джону и протянул ему руку: — Удачи вам, и сделайте хорошую работу. — Это я сделаю, сэр, — улыбнулся он, а Джесси стояла рядом, счастливая и гордая за Джона. — Благодарю вас за возможность возглавить мою собственную экспедицию и заверяю, что привезу материал, который сделает неизбежным в будущем и более дальние экспедиции. — Я готов позавидовать тому, как вы проведете лето на открытом воздухе, — сказал Том, — сон под звездами, охота, купание на заре в горных реках. Это здоровая жизнь, лейтенант. — Очень здоровая, сэр, — согласился Джон с искоркой в глазах, — но она не излечит мой особого рода недуг. Том Бентон молча усмехнулся, потом пошел в столовую и закрыл за собой дверь. Джесси и Джон остались вдвоем. Позже, на протяжении долгих месяцев разлуки, она старалась вспомнить, что произошло в наступивший вслед за этим момент. Она не помнила, какими взглядами они обменялись, какие слова сказали. Она не помнила, кто сделал первое движение, какой импульс толкнул их в объятия друг друга. Вдруг она почувствовала его руки, притягивающие ее к его телу, и его губы на своих губах. Она не могла дышать, не могла думать. Его рот, прижатый к ее губам, не произносил слов, а выразил себя в ободряющем поцелуе, говорившем им обоим, что в их единении была полная истина, а не ложь.На следующее утро отец пригласил ее в библиотеку, где сообщил, что отныне она может не посещать Академию мисс Инглиш. — Спасибо, дорогой, хорошо, что ты понял. Не поедешь ли со мной в Джорджтаун, чтобы помочь оформить мой уход из школы? Она быстро собрала свои пожитки в спальне, затем присоединилась к отцу, приносившему извинения мисс Инглиш. Мисс Инглиш высказала свое мнение относительно ученицы: — Мисс Джесси умная, сенатор, но ей не хватает послушания, которое присуще образцовому учащемуся. Более того, она обладает странной манерой ставить под вопрос наши задания: она либо принимает их, либо отвергает в соответствии с собственными нормами. Джесси и ее отец посмотрели друг на друга. Мисс Инглиш, уловив мимолетные взгляды, добавила: — Эта черта может быть положительной для мужчины, но не для молодой женщины. Она может привести к неприятностям и душевным страданиям. Боюсь, что у мисс Джесси странные идеи относительно роли женщины в современном обществе. Повернувшись к Джесси, она продолжала: — Если даже вы не получили ничего полезного за два года пребывания в моей школе, мисс Джесси Бентон, то, надеюсь, вы будете помнить, что мы старались обучить вас быть прекрасной леди: выдержанной, спокойной, с хорошими манерами — самым важным в жизни женщины, без чего она теряет свое очарование и красоту. Нет ничего более нетерпимого, чем настойчивая, стремящаяся самоутвердиться женщина, отказывающаяся быть хорошей хозяйкой дома и матерью. Сенатор Бентон, надеюсь, вы не разрешите вашей дочери стать лидером в радикальном феминистском движении. Оно принесет ей лишь несчастье. Незаметно скривив рот, он ответил: — Верно, мисс Инглиш, жизнь первопроходца трудна. Скромным образом я пытался выступать в роли первопроходца. Вы правы, утверждая, что такой путь тернист. Повернувшись к дочери, он заметил: — Пожалуйста, не забудь, Джесси, сказанные здесь слова и, когда ты получишь сполна потому, что игнорировала наши советы, не утверждай, что мы тебе этого не говорили.
_/10/_
Джесси ожидала, что проведет ближайшие месяцы в работе с отцом, но из Черри-Гроув пришло известие, что одна из ее кузин собирается выйти замуж. Ее мать решила, что они поедут на Юг на свадьбу. Родители Джесси были в восторге от поездки, рассчитывая, как они полагали, что впечатления и пышность свадьбы развеют ее воспоминания о лейтенанте Фремонте. В сопровождении отца они добрались до небольшого пароходика, который должен был довезти их по Потомаку до Фредериксбурга, а тем временем Джошаам доставил их обвязанные веревками чемоданы к задним сходням. После прощаний Джесси и ее мать расположились на носу судна и любовались тем, как небольшой корабль скользил по тихой глади реки. По мере того как их судно удалялось от Вашингтон-Сити, Джесси заметила, что мать молодела, ее глаза становились более чистыми, бледные щеки порозовели, она распрямилась. Она принялась рассказывать дочери о своем детстве в Черри-Гроув, о красе и спокойствии поместья, и Джесси казалось, что мать сбросила добрых десять лет со своих плеч и вновь стала той красивой женщиной, какой она запомнила ее с детства. Она была рада поездке с матерью, поскольку ее роман с Джоном, казалось, мог еще более отдалить их друг от друга. Джесси любила свою мать, но негативно относилась к тому, что Элизабет Бентон не проявляла интереса к кампаниям и борьбе мужа, не восхищалась победами сенатора Бентона, не страдала, когда он подвергался нападкам, и не работала с ним по ночам, не посвящала ему лучшие побуждения сердца и разума во имя его успехов. От тетушек, дядюшек, бывших поклонников и особенно от бабушки Макдоуэлл она узнала, что ее мать была мягкой благородной девушкой-южанкой, любимицей Черри-Гроув. Ее комната была самой светлой в большом поместье, ее туалетный столик украшали серебряные канделябры, ее постель под балдахином была высоко набита перьями. У нее был небольшой, но приятный голос, и она развлекала ухажеров популярными балладами, аккомпанируя себе на клавесине. Поначалу Джесси развлекали рассказы о том, как на протяжении шести лет шесть раз мать отклоняла предложения отца о свадьбе, но постепенно ее удивление переросло в возмущение. Где-то в глубине души она изумлялась, почему ее мать отвергла Томаса Гарта Бентона, когда он был всего лишь молодым адвокатом Сент-Луиса, и дала согласие, когда он стал первым сенатором от Миссури и вступил на стезю, которая сулила ему важную карьеру. Джесси не могла понять, как можно не любить в течение шести лет, а затем вдруг решить, что появилось достаточно любви, чтобы сочетаться браком. Для нее, как и для Томаса Бентона, не существовали ни искатели руки, ни долгие годы колебаний и сомнений, ни послабления в отношении человека и дела. Отец встретился с матерью в доме ее дяди, губернатора Джеймса Престона из Виргинии. Это был один из частых случаев, когда она выезжала в Ричмонд в сопровождении горничной и слуги в своей английской карете желтого цвета с красными сафьяновыми сиденьями. Он в нее влюбился с первого взгляда и уже на следующий день появился в доме будущей невесты. Глядя на свою мать, с лица которой годы стерли былую красоту и прелесть, Джесси вспоминала ее рассказы о том, как надоедливый молодой человек Том Бентон, который не шел ни в какое сравнение с виргинскими кавалерами, по уши влюбился в Элизабет Макдоуэлл, происходившую из самой старой и уважаемой семьи в Америке. Она вроде бы имела все преимущества над Томом Бентоном — богатство, положение в обществе, красоту, воспитание. «Да, — думала Джесси, — у матери были все преимущества, кроме одного — интеллекта». За ней ухаживал один из лучших умов в Америке, но шесть лет она твердила: — Папа и мама восхищаются вами и уважают вас, я уважаю вас, но я никогда не выйду за вас замуж. Имея возможность сделать выбор в высшем обществе южной аристократии, она предпочла бы одного из виргинских отпрысков. У Элизабет Макдоуэлл было много возможностей выбрать мужа и создать семью. Она слишком любила ухаживание льстивых мужчин, ей нравились веселые балы, полная свобода от ответственности. Однако, когда она вышла замуж за сенатора Бентона и приехала с ним в Вашингтон, она стала заботливой женой и матерью. В ее чувствах к Тому Бентону никто не мог сомневаться. Вдруг мать повернулась к Джесси и посмотрела на нее с поразительным упорством. — Джесси, на свадьбе будет твой кузен Престон Джонсон. Ты говорила, что он самый красивый мужчина из всех, которые встречались на твоем пути. Престон — душка, он обеспечит тебе легкую жизнь. В двадцать один год он получит в наследство ферму Блю-Ридж, столь же прекрасную, как Черри-Гроув. У тебя была бы там чудесная жизнь, свободная от суеты Вашингтона. Джесси вытаращила глаза на мать, не веря ушам своим. — Ты предлагаешь мне выйти замуж за кузена Престона? — спросила она. — Ты легко полюбила бы его, Джесси. Миссис Бентон прислонилась к плавно изогнутому ограждению носовой палубы парохода: — Джесси, дорогая, я хочу избавить тебя от того, что пришлось пережить мне. Верь мне, дорогая девочка, в Виргинии — мир и спокойствие. Ты сможешь вести легкую, очаровательную жизнь. Тебе не придется бороться и сражаться, на тебя не станут клеветать и не станут полоскать в газетах твою частную жизнь. Ты не будешь частью этой расталкивающей, хватающей за руки толпы оппортунистов, которые выталкивают кого-нибудь, чтобы прорваться вперед. — Значит, тебе не нравился Вашингтон? — Я его ненавижу, как никто другой. Я выросла в мирной стране, где были неведомы войны и вендетты, меня вытащили из дружественной атмосферы Черри-Гроув и бросили в котел политики. В Виргинии, по крайней мере среди вигов, политика — игра джентльменов. Но с ужасного дня инаугурации Эндрю Джэксона, когда толпа ворвалась в Белый дом, растолкала официальных гостей, порвала мое красивое белое платье… вся политика стала неприятной, неумытой, не уважающей старших, рвущей платья из дорогих кружев и устоявшиеся традиции. Она отвернулась от дочери, ее волнение улеглось, и она принялась спокойно рассматривать пенящуюся за кормой воду. — Думаешь, мне нравится, когда моего мужа называют шкурой старого носорога? — Но, мама, — воскликнула Джесси, — в этом нет ничего плохого! Отца никогда не беспокоили клички и оскорбления, он перешагивал через них. Было бы гораздо хуже, если бы он жил при короле или тиране, и он и его оппоненты не могли бы свободно высказаться. — А как же со мной? — простонала миссис Бентон. — Больше всего в этом мире я не люблю споров. Я не могу спуститься к обеду, не столкнувшись с группой сторонников или противников твоего отца, готовых разрешать свои разногласия за столом. Многие годы, когда я посещала приемы, на них не было места для танцев, бесед и смеха, говорили лишь о том, как свалить ту или иную личность и призвать к порядку партию. Куда бы мы ни поехали, где бы мы ни путешествовали, нам сопутствовали ссоры, разногласия, постоянная борьба, гнусные перебранки… — …Но это же часть работы отца. — Джесси, — умоляюще сказала мать, — пожалуйста, попытайся понять. Я не критикую работу твоего отца, не умаляю ее значение. Я просто стараюсь сказать, что подобная жизнь не для меня. Мне нравятся спокойные, приятные, забавные люди, люди, не создающие неприятности и конфликты, беззаботные, безобидные люди вроде тех, кого я знала в Черри-Гроув. Джесси, я хочу избавить тебя от пережитого мною. Мне следовало бы выйти замуж за одного из приятных молодых людей, чьи плантации находились по соседству с нашей. В таком случае я могла бы продолжать привычную жизнь, знакомую мне с детства. Я понимала это, когда была молодой, и именно поэтому я отказывала отцу целых шесть лет. Я люблю отца, он первый подтвердит тебе, что я была верной, любящей женой, но все время я чувствовала, что его образ жизни никогда не станет моим. Куда бы он ни поехал, он вызывал волнения, а я этого не хотела, мне они казались вульгарными, подрывающими настоящие, постоянные ценности. Я упорно старалась быть с ним повсюду, сопровождала его в первые годы, мечтала вместе с ним, пыталась разделить горечь его поражений, но это всегда противоречило моей натуре, и мне было тяжело… и потом, я не могла спокойно видеть этих разъяренных людей. Для меня, Джесси, это было так болезненно, что казалось, будто я сама заболела. — Понимаю, — вежливо ответила Джесси. — Мне горько, мама, очень горько. — Но не потому я сказала тебе это, — нежно прошептала мать. — Я поклялась, что до самой смерти не скажу никому, ибо не хочу, чтобы Том Бентон думал, будто он навредил мне. Я нарушила свою клятву ради тебя, Джесси. Моя дорогая, я знаю, что между нами появилось нечто. Я знаю, что последние несколько лет я не была близка к тебе, отдалилась от твоей жизни и твоих проблем… — Со мной все в порядке, мама, я счастлива и чувствую себя хорошо. — …Но ныне я должна повлиять на тебя, должна сделать то, что положено матери, чтобы спасти свою дочь. Джесси смотрела на плавные линии виргинских зеленых холмов. — Спасти меня от чего? — От лейтенанта Фремонта! Пойми меня правильно, Джесси! Мне нравится молодой человек, но он слишком энергичен и стремителен, как твой отец! Он всегда будет стремиться пробиться наверх, используя большую дубинку, как Том Бентон. По этой причине у него будут враги, он никогда от них не избавится. Ты будешь жить в борьбе и разногласиях, в бесконечных схватках, мешающих даже ощутить вкус самой элементарной пищи. Это плохо для женщины. Это подрывает тот самый внутренний дух, который призван дать ей чувство облегчения и безопасности, если она хочет жить счастливо и растить своих детей. Она взяла руку Джесси и крепко держала ее. — Именно поэтому я хочу, чтобы ты серьезно подумала о кузене Престоне. Он родился в одной из лучших семей Виргинии, богат и обеспечен, у него нет амбиций, кроме как хорошо вести хозяйство, он благодушен, и ему нравятся всякие мелочи. Ты могла бы прекрасно жить с ним, Джесси, какой жизнью ты могла бы наслаждаться! Видя, что мать близка к обмороку, Джесси настояла на том, чтобы отвести ее в их крохотную каюту, где устроила ее на кресле-кровати и протерла ей лоб одеколоном. Поначалу она подумала, что мать уснет, но глаза Элизабет следили за каждым ее движением, молчаливо требуя ответа. Джесси села на край постели и погладила тонкую белую руку матери. — Мама, как ты думаешь, мог бы отец жить полнокровной жизнью, не конфликтуя постоянно, что тебя так мучает? — Нет, — ответила миссис Бентон, — то, что для него было живительным глотком, для меня — яд. — Ты часто говорила, что я дочь своего отца. Тогда ты должна понять, дорогая, что я также честолюбива и не боюсь конфликта. Я понимаю и принимаю политическую суету потому, что выросла в ней. Как и ты, я не могу обедать, когда рядом идет дискуссия. Но поесть можно в любое время, а здравые суждения приходят лишь иногда. Мне нравится образ жизни отца, мама, он для меня столь же естествен, как и для него самого. Для меня было бы трудно поселиться на ферме Блю-Ридж и проводить время в поездках верхом, танцах и охоте. Такой образ жизни угнетал бы меня. Он подавил бы меня, как суматошная жизнь в Вашингтоне отравила тебя. Уставшая миссис Бентон, прикрыв рукой глаза, смотрела на дочь, не понимая. — Джесси, ты так похожа на меня, твое лицо похоже на мое, твоя фигура такая же изящная, как моя; она не выдержит всей этой толчеи, ты заболеешь, ослабнешь… — Ты ошибаешься, мама, я люблю Джона Фремонта и чувствую, что он оставит свой след в истории. Я хочу быть частью этой борьбы и этого вклада. — …Ты так легко полюбишь кузена Престона, — упорствовала мать. — Он красивый, очаровательный… У причала в Фредериксбурге их ожидала высокая желтая семейная карета, которую дети прозвали тыквой. Джесси взобралась на жесткое кожаное сиденье рядом с матерью. После нескольких минут езды по булыжной мостовой она поняла, что Элизабет Бентон все еще не оставила надежду повлиять на нее. — Не могу не сказать, как меня огорчает, Джесси, то, что ты не восприняла традиции Черри-Гроув, а в тебе бродят лишь отцовские традиции задиристых, упрямых пограничных земель. Я не стала меньше любить отца из-за того, что он ввязывался в грубые ссоры, но это воздвигло барьер между нами. Трудно отделить мужчину от его работы, Джесси, а когда работа грязная, когда в себе самом он носит следы этой работы, тогда нарушается вся жизнь. — Самая лучшая часть мужчины — это его работа, — категорически заявила Джесси. — Твой отец научил тебя этому. — Что, это умаляет истину? По щекам Элизабет Бентон побежали слезы. Но на этот раз она не прижала к себе дочь. — Мой дорогой ребенок, как мне жаль тебя! С какой бедой и страданиями ты столкнешься! Когда показались дубы Черри-Гроув, Элизабет Бентон сделала непроизвольный трепетный жест тонкой белой рукой, признав свое поражение. — Я вошла в жизнь отца слишком поздно, чтобы изменить его, такая попытка была бы нечестной, даже неразумной. Но ты так молода… Никто не слушает меня, все упрямо идут своим путем._/11/_
Черри-Гроув был дарован прадеду Джесси английским королем за его военную службу в колониях. Здание было построено в арлингтонском колониальном стиле, с портиком, поддерживаемым колоннами, и с красивыми белыми боковыми пристройками, с просторной гостиной и столовой по обе стороны прекрасного зала. Их провел в дом полковник Макдоуэлл, ее дядя, с румяным лицом и длинными шелковистыми усами. Помимо бабушки Макдоуэлл и Элизы, приехавшей сюда весной, Джесси оказалась предметом восхищения и объятий тридцати пяти тетушек, дядюшек и двоюродных родственников — всего клана Макдоуэлл. Там были английские родственники во втором колене из Спрингфилда; тетушка из Ричмонда, приехавшая через форт Патрик-Генри; дядюшки из Абингтона, владевшие тамошними соляными копями; дядя Макдоуэлл, считавшийся в семье самым известным преподавателем Виргинии; кузен, преподобный Роберт Брекинридж, славившийся по всему Югу своим красноречием. В переполненной прихожей был и ее кузен Престон Джонсон, прибывший из Вест-Пойнта на каникулы. Он воспользовался представившейся возможностью присоединиться к объятиям и энергично поцеловал ее. Престон, высокий блондин с голубыми глазами, считался одним из наиболее смелых и опытных наездников Виргинии. Он был троюродным братом Джесси. Едва она вошла в гостиную, как тетушки и дядюшки принялись настаивать, чтобы она встала рядом с Престоном, и ахали и охали насчет того, как она похожа на мать Престона и какую чудесную пару они могут составить. В то время как пожилые собирались каждое утро в библиотеке, чтобы, как говорила она, перемывать косточки членам семьи, Джесси и ее молодые родственники выезжали верхом на прогулку. Престон был неисправимым задирой, все время их веселившим. — Престон, у тебя нет другого желания, как смешить? — спросила она однажды утром. Впервые за все годы, что она знала его, он подтянулся и стал серьезным. Таким она и запомнила его, а несколько лет спустя доставили домой его израненное шрапнелью тело с равнины Черубуско. — Мне жалко людей с амбициями, — сказал он, старательно подбирая слова. — Они разрывают на части и себя, и окружающих. Они не наслаждаются и не пользуются покоем, их снедает честолюбие — чем больше успехов, тем больше жадности. Нет, спасибо, Джесси, амбиции не для меня. Я хочу жить приятно, честолюбие для тех, кто рвется вверх, кто хочет подняться до того, с чего я начинаю. Молодой кузен стал больше нравиться Джесси после того, как он несколько раскрыл себя. И вместе с тем она поняла, какая глубокая пропасть их разделяет. Она одиноко бродила в сумерках по дубовым аллеям парка. Цвели черешни, и к их аромату примешивался аромат цветущих кленов и платанов. Хотя она была прочно привязана к Вашингтон-Сити и к дому бабушки Бентон в Сент-Луисе, простор и красота Черри-Гроув всегда вызывали у нее ностальгию. Прогуливаясь по необозримому поместью, пересекая просторные лужайки и сады с дорожками, обсаженными живой изгородью, она поняла кое-что из растревоживших ее откровений матери. Мать называла ее упрямицей. Неужели ее мечта о браке как о совместной работе мужа и жены, их совместном развитии неосуществима? Неужели ее любовь к мужчине, разбудившему ее чувства, работу которого она считала важной и ценной, ошибочна? Она подумала о своем кузене Престоне и о том, что совершенно иначе чувствовала себя в компании Джона Фремонта, побуждавшего ее рассудок обращаться к глубоким мыслям и острым эмоциям. Женщина должна выражать себя через мужа, она должна найти хороший сосуд, чтобы вылить в него себя. Когда она возвратилась в дом, бабушка спокойно сидела в библиотеке, положив книгу на колени. — Подойди, деточка, — позвала она. Джесси опустилась на мягкий голубой коврик, поджав ноги под себя и глядя на бабушку. — Я устрою твою свадьбу здесь, в Черри-Гроув, — сказала она. — Я доживу до этого события, хотя сильно постарела и устала. Она нежно погладила голову Джесси: — Именно ты дала мне понять, как неистребима жизнь. Моя мать приехала сюда молодой невестой сто лет назад, в 1743 году. У нее была богатая, но трудная жизнь. У нее были шрамы от войн с индейцами, как и у меня. Ее первый ребенок был убит в ночном налете. У тебя, Джесси, будут свои сражения и свои шрамы, но ты будешь их носить, как носила моя мать — как медали за храбрость._/12/_
Прошло четыре месяца и еще два, если считать по дням, на протяжении которых впервые в жизни она избегала своего отца. Ее сестра была единственной, с кем она могла поговорить о Джоне, и разговор о нем как-то заполнял часы ее ожидания. Она читала вечером в небольшой гостиной наверху, когда вошел Джошаам и объявил, что лейтенант Фремонт желает засвидетельствовать свое почтение. Никто не шелохнулся: ее мать устремила свой взор на афганскую овчарку; Томас Бентон смотрел на сына, словно он виноват в том, что лейтенант Фремонт не исчез навсегда в землях племени сиу. Джесси посмотрела на отца, ее лицо пылало, а сердце сжалось в ожидании. Лишь Элиза оказалась способной на естественный шаг: она встала, спустилась вниз и вернулась с лейтенантом Фремонтом. Джесси захотелось подняться, когда она увидела в проеме двери его загорелое лицо, длинные волосы, придававшие ему облик индейца, среди которых он провел лето. Будучи все еще не в состоянии подняться и говорить, Джесси подумала, что миссис Криттенден была права, утверждая, что он самый красивый офицер, когда-либо маршировавший по улицам Вашингтона. Ей казалось, что прошло много времени в неловком молчании, но потребовался лишь миг, чтобы Томас Бентон вспомнил о своих хороших манерах, обнял молодого лейтенанта и приветствовал его успешное возвращение. Джон одарил девушек индейскими украшениями, молодого Рэндолфа — томагавком. Для миссис Бентон, Джесси и Элизы он привез ожерелья из бирюзы ручной работы, а для Тома Бентона — красочную индейскую трубку мира. Джесси напряженно сидела в своем кресле, в то время как Рэндолф просил рассказать об индейцах. Спустя некоторое время Том Бентон сказал: — Я хотел бы услышать кое-что о ваших открытиях, может быть, мы пойдем в библиотеку, где у меня есть карты? До этого момента Джесси не обменялась ни единым словом со своим суженым. Ее не просили сопровождать мужчин в библиотеку, но она знала: какова бы ни была реакция сенатора Бентона, она пойдет с ними. В библиотеке было прохладно и сумрачно, тяжелые венецианские жалюзи в течение всего дня защищали ее от солнца. Когда отец зажег верхнюю лампу, Джесси неловко поджала ногу, устремив взгляд на Джона, ей хотелось быть в его объятиях. Но по тому, как Том Бентон передвигался по комнате, раскладывая свои географические схемы, она почувствовала его неодобрение, нежелание понять ее эмоции. Она стояла около рабочего стола, наблюдая за тем, как Джон склонился над картами и глухим голосом отвечал на вопросы отца. Она старалась поймать его взгляд, отблеск восхищения на его смуглом лице, в то время как пальцы его левой руки сжимали ее ладонь под столом. Но она понимала, что он забыл, где находится, и мысленно вновь переживает наиболее острые моменты своей экспедиции. И это не вызывало у нее ревности. Но когда Том Бентон отложил в сторону бумаги, они инстинктивно повернулись друг к другу, преодолев свою сдержанность, и, не обращая внимания на сенатора, оказались в объятиях друг друга. Они слышали голос сенатора Бентона, доходивший словно издалека: — …Хорошо, вы любите друг друга. Я не слепой. Но вам придется ждать еще шесть месяцев… Когда они, выйдя из библиотеки, спускались вниз по лестнице, она пожелала ему доброй ночи и в присутствии отца, стоявшего рядом, сумела прошептать: — …Завтра в полдень у миссис Криттенден, в три часа. В следующий полдень она позвонила в дверь сенатора от Кентукки. Миссис Криттенден всегда проявляла благосклонность к Джесси Бентон, к тому же она любила быть в курсе всех осложнений, случавшихся в вашингтонском обществе. — Он здесь, моя дорогая, — сказала она. — Я его отправила в сад, там прохладно и спокойно, и вы можете быть наедине друг с другом. На самом деле, я завидую тебе, Джесси. Этот мужчина каждый раз, возвращаясь из очередной экспедиции, вызывает все большее восхищение. На твоем месте я бы вышла за него немедленно. Джесси била дрожь, и она смогла лишь произнести: — Боже мой, миссис Криттенден, я стараюсь! Но если бы кто-то смог убедить отца… Ждать еще шесть месяцев звучит для меня как шесть десятилетий, боюсь, что не переживу их. — Ты переживешь, — ответила миссис Криттенден, — но будешь много раз на грани смерти. Джесси пыталась улыбнуться в ответ на шутку. — Я думаю, что отец собирается послать его в другую экспедицию до того, как истекут шесть месяцев. На этот раз он может услать его на целый год или даже на два. Ой, он может поступить так, будьте уверены, — торопливо сказала она, видя, что миссис Криттенден собирается возразить, — он может вновь уговорить секретаря Пойнсетта, ведь в этом деле непочатый край работы. Но только не сейчас, миссис Криттенден, не до нашей свадьбы. Я не могу позволить отцу опять послать его! — Нет, — согласилась, помедлив, миссис Криттенден, — не думаю, чтобы ты могла. Она положила свою руку на хрупкое плечо Джесси и прошла с ней в сад. — Поступай, как считаешь лучше, Джесси, хотя небеса знают, что я не стесняясь вмешивалась в дела своих детей. Когда Джесси увидела Джона Фремонта, безмятежно сидевшего в низком плетеном кресле в ожидании ее, она поняла, что не сделает ничего, что у нее не хватит смелости. Она подождет, пока выскажется он. Сидя на качелях в тени, они рассказали друг другу о том, как провели последние шесть месяцев. Джесси поведала ему о свадебных празднествах в Черри-Гроув, о прогулках верхом и охоте, разговорах старших о том, сколько колониальных и американских губернаторов вышло из их семейства, о смерти бабушки Макдоуэлл через два дня после свадебной церемонии. В следующий полдень, когда Джесси встретилась с ним у миссис Криттенден, она заметила, что он не в своей тарелке и нервничает. — Давай прогуляемся, — предложил он сразу же, — я хочу поговорить с тобой. Осенний день был свежим, одним из немногих в году, когда можно действительно прогуляться по Вашингтону: достаточно сильный ранний дождь прибил пыль, но не было больших грязных луж. Они прошли по булыжной мостовой вдоль Эф-стрит, затем Джон поднял Джесси на руки и поставил по другую сторону ограды, на зеленый лужок. Они перебрались через несколько рвов, и он еще раз поднял ее на приступок, от которого начиналась дорога к военно-морской верфи, где в окружении небольших коттеджей стояла Христова церковь. Отсюда они повернули на восток и прошли мимо городского работного дома и кладбища, где хоронили членов конгресса. Джесси была довольна тем, что надела выходное платье из розового сатина, широкая юбка которого ритмично раскачивалась, когда она старалась идти в ногу с лейтенантом. Она застегнула пуговицы на своих перчатках из брюссельских кружев и крепко ухватилась за его руку, чтобы не оступиться на неровной почве около военно-морских казарм. На ходу она взглянула на его профиль и с тревогой отметила, что его кожа выглядит более темной, чем ей казалось раньше, а черты лица — более тяжелыми. У нее возникло опасение, что он чем-то расстроен. Ей нравилось идти рядом с ним, легко прикасаясь своим плечом к его. Постепенно ощущение гармонии нарушилось. Он замедлил шаг, а затем неожиданно остановился, вся его фигура напряглась. Он повернулся, загородил ей дорогу, с его решительного лица исчезло очарование и спокойствие, и она почти не узнавала мужчину, стоявшего перед ней. Странным показался и его голос, когда он наконец заговорил, — хриплый, ломающийся. — Я ждал… да, я догадывался, что опаздываю… но, пожалуйста, верь мне, Джесси, это не потому, что я хотел… скрыть. — Что такое, мой дорогой? — нежно спросила она. — Просто я не могу, Джесси, я не осмеливаюсь оставить так, чтобы ты узнала сама… случайно… и держала бы это против меня, потому что я не сказал тебе всю правду. Джесси взяла его за руку: — Пойдем мимо Дафф-Грин-Роу, тебе будет легче говорить. Они тронулись с места, но он шел медленно, почти волоча ноги. — Джесси, я не могу позволить тебе выйти за меня замуж, пока не сказал тебе… Он замолк, затем остановился и сказал глухим голосом: — Я никогда не рассказывал тебе о своей матери, верно? Они стояли перед фасадом большого кирпичного здания, в котором конгресс проводил свои первые заседания. Воздух был неподвижен. — Только то, что ей было трудно воспитывать троих детей после смерти твоего отца. — Да. Хорошо. Девичье имя моей матери — Энн Беверли Уайтинг. Она дочь полковника Томаса Уайтинга, крупного землевладельца в Виргинии и одного из лидеров в доме Бургесс. Моя мать была младшим ребенком среди двенадцати детей. Семья была процветающей, но, когда умер отец моей матери, ее мама вышла замуж за человека, который пустил по ветру все поместье. Вскоре умерла ее мать, и мою маму воспитывала замужняя сестра. Он ходил взад-вперед, говоря все быстрее: — Она никогда много не рассказывала о тех днях. В доме сестры ее держали почти как рабыню. Моя мать была красивой девушкой, я думаю, самой красивой из всех сестер. Когда ей было всего семнадцать лет, пожилой мужчина по имени Джон Прайор стал ухаживать за ней. Он сражался под началом Вашингтона, был богат, имел самую большую платную конюшню в Виргинии и сады в Хеймаркет. Ему было за шестьдесят, но он добивался руки моей матери. Брак с Джоном Прайором обещал благоденствие, место в обществе Ричмонда, избавление от опеки тетки. Мать вышла за него, когда ей было всего семнадцать лет, и прожила с ним двенадцать несчастливых лет. Джессиотвела взгляд от его смущенного лица. Она взглянула на свои туфли и увидела, что лакированная кожа на носке безнадежно поцарапана. Освободившийся от ее наблюдательного взгляда Джон ускорил шаг, продолжая свой рассказ: — Когда моей матери было двадцать семь лет, она встретила молодого учителя в Ричмонде по имени Чарлз Фремон. Мой отец — он стал… мой отец был роялистом во время Французской революции и бежал в Санто-Доминго во время одного из восстаний. Его корабль был захвачен англичанами, и несколько лет он содержался в качестве пленного в Вест-Индии. В конце концов его отпустили, и он переехал в Виргинию, где преподавал французский язык и писал фрески. Там встретила его моя мать, и они полюбили друг друга. Он остановился, повернулся, глядя ей в глаза: — Джесси, они не могли жить друг без друга. Целый год они наслаждались счастьем в Ричмонде, а потом об их связи узнал Джон Прайор. Он пригрозил моей матери, что убьет Чарлза Фремона и всякий в Виргинии не только одобрит его действия, но и поможет при необходимости. На следующее утро моя мать и Фремон бежали из Ричмонда. Он остановился, заявив: — Вернемся! — взял ее крепко за плечо и порывисто пошел в обратном направлении. — Джон Прайор обратился в законодательное собрание Виргинии и потребовал развода с матерью. Мама знала об этом. Они обошли здание кирпичного завода, глядя на пылающие печи, где обжигали кирпич. — Совершили ли мать с отцом брачную церемонию? Моя мать утверждает — «да». Но она никогда не показывала мне брачное свидетельство. Это, впрочем, не имеет значения, поскольку законодательное собрание Виргинии отклонило просьбу Джона Прайора, и он так и не получил развода. Я родился в Саванне 21 января 1813 года. Итак… ты видишь, я… да, я… Джесси стояла, глядя на него и ощущая самую глубокую симпатию к нему. — Я… незаконнорожденный, Джесси. Я могу попытаться забыть об этом или же сделать вид, что это не имеет значения, я могу убедить самого себя, что мать получила брачное свидетельство, что Джон Прайор развелся с ней, что обращение в законодательное собрание имеет ту же силу, что и сам развод, и, несмотря на то что все позади, мне не дает покоя неумолимый факт незаконного рождения. Казалось, Джон Фремонт усыхает, сжимается так, что она становится выше него и смотрит сверху вниз в его глаза. — Это тебя трогает, вызывает горькое чувство — мне это понятно, но, разумеется, ты не порицаешь свою мать? — Нет, нет, — энергично сказал он, — я всегда был счастлив: ведь она нашла любовь и отважилась принять ее. — Тогда я должна спросить тебя: есть ли для тебя что-то важное в этом? — Нет… но, — ответил он нерешительно, словно понимая, что излагает лишь частицу правды, — за исключением того, что это придало мне решимости делать добро, показать людям, что сын Энн Беверли Уайтинг столь же хорош, как все остальные. — Зачем же тогда так терзаться? — Потому, что я боюсь, — прошептал Джон. — Боишься? Ты, который смотрит в лицо смерти каждый раз в глухомани? — Я живу с чувством страха… перед тем днем, когда… кто-то назовет меня… выродком! Джесси подумала: «Вот в чем дело, хорошо, что он высказался, теперь, возможно, такая мысль не будет скрываться в тайниках его ума». — Ты самый великолепный мужчина из всех встретившихся мне, — мягко прошептала она, — такой же прекрасный и чудесный, как мой отец. Я люблю тебя всей душой. Не было нужды рассказывать мне то, о чем поведал; это не имеет никакого значения, но я понимаю, какой ценой это тебе далось. — …Самый болезненный… тяжелый момент… моей жизни. — Успокойся, Джон, мы больше никогда не будем говорить об этом. — Она плотнее закутала свои плечи в кашемировую шаль. — Пошли к миссис Криттенден. Чашка горячего чая нам будет кстати. — Еще один момент, Джесси. Я хочу, чтобы ты знала, что ускорило мое заявление. Это твои рассказы о Черри-Гроув и о семье Макдоуэлл, корни которой уходят в два века американской истории. Представь себе, как будет возмущена твоя семья в Черри-Гроув, узнав, что отпрыск семьи Макдоуэлл вышла замуж за вы… незаконнорожденного ребенка. Ведь они узнают об этом, Джесси. Слишком много людей знают на Юге об этом, их не удержишь от сплетен. За твоей спиной они станут судачить: «А являются ли законными дети незаконнорожденного?» Она пыталась вновь успокоить его скорее своим поведением, чем словами, ибо знала, что он сам уже нашел возможные ответы на все вопросы. — Мой дорогой, ты пробил собственный путь и обрел покой для себя. Твои способности и репутация на подъеме, и ничто не может тебе навредить… — Джесси, твое положение прочно, никто не сможет бросить тебе вызов. Ты не можешь понять, как такая неопределенность может отравить жизнь человеку, даже когда он смел и привлекателен. Ох, Джесси, знала бы ты, как я хотел бы принадлежать к твоему обществу, быть неуязвимым, чтобы никто не мог указать на различие! Я хотел бы принадлежать к большинству, а не к презираемому меньшинству, как бы я хотел быть уверенным, полагая, что думаю, как все… Они прошли мимо старого стекольного завода, где делали лучшие стекольные изделия в стране. В большой мастерской работали около ста мужчин и мальчиков. Джесси и Джон наблюдали какое-то время за работающими, а затем побрели мимо свежевыкрашенных, увитых виноградной лозой коттеджей с широкими верандами, утопавшими в тени деревьев. «Итак, его сила порождена его слабостью», — думала Джесси. Ее отец также не стал бы неукротимым и отважным бойцом, был бы простым, неприметным человеком, как все другие, если бы не был склонен к туберкулезу и не оказался на грани смерти. Невзгоды сделали Тома Бентона сильным, как и Джона Фремонта. Джесси рассказала Джону об отце Тома Бентона, умершем от туберкулеза, когда дети еще были малолетними, об умерших от чахотки трех сестрах отца, а через год — двух его братьях. Тогда Том изучал право в Нашвилле, был принят в коллегию адвокатов и выбран в законодательное собрание Теннесси. Когда в 1812 году вспыхнула война, он пошел добровольцем в чине полковника, сражался под началом Эндрю Джэксона. Придя попрощаться с матерью, Том был вынужден признаться, что у него ранняя стадия чахотки, поскольку у него повышенная температура, кашель; мать могла судить по его истонченному скелету, что он не спит по ночам. Женщина-поселенка понимала, что может лишиться последнего и самого многообещающего ребенка. — Это конец моим надеждам, — плакала она. — Том, оставайся дома, я уложу тебя в постель, стану ухаживать. — Нет, мама, — ответил он, — с такой болезнью не шутят. Если я обречен, тогда лучше отдать последние несколько месяцев жизни сражениям за свою страну. Том Бентон присоединился к своему полку и совершил переход на юг, навстречу английским войскам. И не собирался уступать смерти. Иконокласт по природе, с восприимчивым умом к любой радикальной мысли, кажущейся разумной, он считал, что чувствует себя лучше на свежем воздухе, подвергая свое тело испытаниям, которые все считали опасными для него. На рассвете и при закате солнца он купался в холодных реках, растирал тело грубым полотенцем, сбрасывал одежду, когда выдавалась возможность полежать нагим под солнцем, он не пил и не курил, прилагал невероятные усилия в поисках яиц и молока для утреннего завтрака и, вместо того чтобы нежить свое тело, буквально насиловал его в форсированных маршах. К концу лета он нарастил двадцать фунтов твердых мускулов. — Страх заставил моего отца, — сказала Джесси. — Этот страх не ослабевал ни на один день в его жизни, и поэтому он не отступал от самодисциплины. Это не только спасло ему жизнь, но и превратило его в бойца. Подумай только, каким ценным человеком он стал благодаря своей храбрости, подумай о той работе, какую он проделал, как твердо противостоял своим противникам и никогда не впадал в отчаяние. Страх — дело хорошее, мой дорогой, он сделал моего отца сильным человеком. Он может сделать тебя великим человеком. Джон прошептал с благодарностью: — Ты добрая, Джесси, ты все понимаешь. Джесси грустно улыбнулась: — Я также использовала слабости, чтобы с их помощью создавать себя. Я боялась, что не дотяну до приличного роста, что, будучи женщиной, обнаружу свою слабость, что не смогу понять действительные проблемы и текущую борьбу. Именно поэтому я настойчиво училась и трудилась, чтобы не провалиться, чтобы мой отец и мой муж не считали, что мне не хватает рассудка, отваги и опыта быть их компаньоном. Какая-то доля угрюмости сошла с лица Джона, его взгляд потеплел, а фигура распрямилась. И Джесси чувствовала, что и в ее жилах закипела кровь. Она остановилась у края болота, мимо которого они шли, обняла его за шею и поцеловала в губы. Это был поцелуй любви, веры и утверждения, такой крепкий, неизгладимый, что слова застряли в его горле._/13/_
Сухой осенний ветер срывал листья с платанов и тополей, когда Джесси и Джон вместе с мистером Николлетом и миссис Криттенден встретились в назначенный час в доме пресвитерианского священника, церковь которого посещала Джесси. Ее опасения, что сенатор Бентон вновь ушлет Джона, усилились из-за чувства неопределенности, которое испытывал лейтенант и которое могло нанести ущерб их отношениям. Он заявил ей: — Доверие — величайший дар одного человека другому. Какой самый большой символ доверия могла бы она подарить ему, кроме как согласиться немедленно выйти за него замуж? Они застали священника в его кабинете, высокого седого мужчину с худым, благородным лицом и необычайно большим ртом, как утверждали некоторые, самым большим, состоящим на службе Господу Богу. Он посмотрел на явившихся без уведомления и спросил не очень-то любезно: — Что я могу сделать для вас? Миссис Криттенден ответила без колебаний: — Джесси Бентон и лейтенант Фремонт желают обвенчаться. Поскольку мисс Джесси принадлежит к вашему церковному приходу, мы, естественно, пришли к вам, чтобы провести церемонию. — Прекрасно, прекрасно — пробормотал священник улыбаясь. Его взгляд перебегал быстро и неуверенно с лица на лицо. — Когда же мы можем ожидать появления ваших отца и матери, мисс Джесси? — Не ждите их, они не придут, — оборвал Николлет. — Не придут! — воскликнул священник. — Но я не понимаю. Они непременно захотят присутствовать на свадьбе мисс Джесси… — Они хотят и не хотят, — ответила Джесси. — Видите ли, сэр, это тайная… э… свадьба, отец точно… он хочет, чтобы мы подождали еще шесть месяцев. — Вы имеете в виду, что ваша мать и ваш отец не знают, что здесь происходит? — Нет, сэр. Выпрямившись во весь свой рост, священник сжал губы так, что его рот превратился в узкую щелку: — Неужели вы думаете, что я навлеку на себя гнев сенатора Бентона? Полагаете ли вы, что я совершу тайную церемонию, зная, что ее не одобряет сенатор? Вы что, сошли с ума? Наступила тягостная пауза, прежде чем он продолжил: — Я не разглашу вашу тайну, мисс Джесси. Приходите с матерью и отцом, и я буду несказанно рад выдать вас замуж за лейтенанта Фремонта. Добрый день всем. Огорошенная и разочарованная свадебная группа спустилась по ступеням дома священника. — Что станем делать? — спросил лейтенант Фремонт. — Попросим другого священника, — ответила миссис Криттенден, — кого вы могли бы рекомендовать, мистер Николлет? — Попробуем нового методистского священника, он смекалистый. Методистский священник не был лишен чувства осторожности. Он очень вежливо спросил: — Вы пресвитерианка, мисс Бентон? Почему вы не пошли к своему пресвитерианскому священнику? — Я была у него, — ответила Джесси. — И? — Он не хочет совершить брачную церемонию в отсутствие моих родителей. — Это звучит необычайно здраво, — заметил священник, подморгнув глазом. — Пусть не говорят, что методист идет поспешно туда, куда боится вступить пресвитерианец. Вновь свадебная группа вышла из дома. Она попробовала обратиться к лютеранскому священнику, который репетировал со своим хором в небольшой деревянной церкви. Лютеранский священник, видимо, догадался по выражению их лиц, что они потерпели поражение, поскольку он ответил: — Совершенно немыслимо, однако, если вы будете того же мнения завтра, я приду в ваш дом, мисс Бентон, и проведу церемонию. Начиная свой поход в бодром настроении и с большими надеждами, они стояли теперь, освещаемые резким октябрьским солнечным светом, и виновато глядели друг на друга. — Хорошо, — протянул Николлет, — в другой раз повезет. Пошли, лейтенант, если ты не можешь жениться, то можешь в любом случае вернуться на работу. Джесси проводила миссис Криттенден, а затем устало пошла к себе домой. Вначале она была удивлена, затем оскорблена, сейчас же ее охватила ярость. «К чему пришел мир, — вопрошала она, — если молодая любящая пара не может вступить в брак? Конечно, должен быть выход из положения…» Выход был, но прошло три мучительных дня, прежде чем пришел ответ. Миссис Криттенден прибыла в полдень 19 октября с визитом к миссис Бентон. Она спросила миссис Бентон, может ли Джесси провести ночь у нее, поскольку она устраивает вечеринку для своей молодой племянницы. В этой просьбе скрывалась единственная цель; Джесси упаковала свою сумку и вскочила в карету миссис Криттенден с таким чувством, словно мир заново родился. — Все улажено, — сказала миссис Криттенден. — Я виделась вчера с отцом Ван Хорсейном, католическим священником, и убедила его провести брачную церемонию. Он придет сегодня в полдень. Я уже послала весточку лейтенанту Фремонту. Здесь будут Николлет и Хасслер, Гарриет Бодиско и несколько других молодых друзей. Я обязала их хранить тайну. Когда они приехали в дом Криттенденов, там уже ожидал лейтенант Фремонт. Он был в парадной форме — той самой, в которой он предстал перед нею восемь месяцев назад. Хотя Джесси и Джон Фремонт были протестантами, они не видели причин, почему бы не мог сочетать их браком католический священник. Джесси воспитывалась с французами-католиками в Сент-Луисе. После второй экспедиции Джон был направлен Николлетом на отдых в колледж Сент-Мари семинарии в Балтиморе. Церемония была короткой и простой. Лишь однажды решимость Джесси Бентон почти изменила ей, и в ее глазах показались слезы. Она вспомнила красоты Черри-Гроув, подумала о сотне друзей и родственников, которые собрались бы на свадьбу. На ней было бы превосходное платье из парижских кружев на сатиновой подкладке, обеденный стол из красного дерева был бы заставлен винами и изумительной пищей, стоял бы свадебный торт, украшенный листьями плюща и герани, вырезанными из арбузных цукатов, в приданое были бы простыни и скатерти, миткаль и кружева, каждый стежок которых был бы выполнен друзьями и родственниками. Она была бы первой в Черри-Гроув, вышедшей замуж в заказанном платье. Под навесами ожидали бы оседланные лошади, повозки и лондонские кареты и все виргинские сельские жители в волнении и восторге, потому что выходит замуж мисс Джесси Энн Бентон. По ее щекам текли слезы. Джесси Бентон сопровождала традиционные слова священника своей собственной молитвой: «Я отказываюсь от традиций Черри-Гроув, я отказываюсь от имперского платья, я отказываюсь от любовно сшитого постельного белья, я отказываюсь от свадебного торта, я готова отказаться от всего, получая тебя, Джон Фремонт». Она вырвалась из глубин своего раздумья, и ее поразила тишина в комнате. Церемония завершилась, она даже не слышала, как ее и Джона объявили мужем и женой. Миссис Криттенден подала свадебный ужин, затем слуги предложили кларет, сыр, фрукты, сладкое и в довершение большое серебряное блюдо с мороженым, изготовленным, как заметила Джесси, с дорогими ванильными бобами. Трио — скрипка, гитара и аккордеон исполнили несколько музыкальных номеров; Джесси не прикоснулась к пище и танцевала совсем немного. У нее кружилась голова и подгибались ноги. В десять часов миссис Криттенден позвала Джона и Джесси и провела их в прохладный сад. — Внимание, дети мои, — сказала миссис Криттенден, — я отвечаю перед Томом Бентоном только за церемонию бракосочетания. Поцелуй свою суженую, лейтенант, ты должен вернуться в свою холостяцкую обитель. Итак, на следующее утро Джесси поднималась по ступеням дома Бентонов, полная радости, что она стала миссис Джон Чарлз Фремонт, и ее била дрожь при мысли о ярости отца, когда он узнает, что произошло. Каждый день она и ее муж виделись друг с другом несколько минут, и никогда без посторонних. При встрече всегда были Николлет или миссис Криттенден, выполнявшая роль надзирателя с намного большим рвением, чем до церемонии. Иногда Том Бентон также считал неловким не допускать в свой дом восходящую молодую звезду экспедиций на Запад. Овальное зеркало на туалетном столике Джесси убедило ее, что она чахнет и глаза ввалились. Ей становилось все труднее, находясь рядом с Джоном, вежливо отвечать и говорить только на нейтральные темы. Элиза знала о состоявшейся свадьбе и уговаривала сестру открыться. Об этом говорил и Николлет. Он хотел, чтобы они начали нормальную жизнь и работу. — Я старею с каждым часом, дети мои, — говорил он, — скоро мне придется изучать небесные карты. До того, как я уйду в мир иной, мне хотелось бы знать, что все улажено. Наконец Джон взмолился: — Я никогда не любил секреты. Мы торопились, но мы не преступники. Позволь мне пойти к сенатору и все объяснить. Джесси ответила твердо: — Мы объясним завтра утром. Я попрошу сенатора встретиться с нами пораньше. Спустя немногим более месяца после брачной церемонии Джесси провела Джона наверх, в библиотеку. Том Бентон сидел в своем глубоком кресле. Его выпуклый лоб прорезали глубокие морщины, губы были поджаты, подбородок выдвинут вперед, серые глаза казались усталыми. Они встали перед сенатором. — Мы сочетались браком, отец, — тихо сказала Джесси. — Церемония состоялась 19 октября. Она боялась. Ей хотелось, чтобы мужчины стали друзьями. Сможет ли ее отец понять, что ее любовь к нему не станет меньше из-за того, что она вышла замуж? Из глубин кресла Тома Бентона послышался рев; разгневанный, он обрушился на Джона Фремонта: — Убирайся из моего дома и никогда не переступай этот порог! Джесси останется здесь. Спокойно и без колебаний Джесси взяла мужа под руку. Ее голос был уверенным и ясным. — Отец, ты помнишь клятву Руфи из Библии? «Куда ты пойдешь, туда и я пойду…» (Ветхий Завет, книга Руфь, глава I, стих 16). Том Бентон медленно встал и словно гора возвышался над ними. Он уступит, но тогда и так, как сочтет нужным. Она надеялась, что муж сумеет понять это. — Ступай, собери вещи и немедленно возвращайся домой, — приказал он лейтенанту тоном, каким полковник обращается к своему подчиненному. В комнате воцарилась тишина. Ее нарушил неожиданный стук в дверь. На пороге стояли корреспонденты двух газет. — Сенатор Бентон, — сказал репортер «Нэшнл интеллидженсер», — мы узнали новости относительно мисс Джесси. Том Бентон уставился на репортера и затем прорычал: — Да. Имею удовольствие объявить о браке моей дочери Джесси Энн Бентон с лейтенантом Джоном Чарлзом Фремонтом. Репортер нью-йоркской газеты «Глоб» усмехнулся: — Разве это не странное выражение, сенатор? Семьи обычно объявляют о браке мужчины с их дочерью. Том Бентон посмотрел сердито на дочь, затем сказал без улыбки: — Если мне когда-либо встречалась женщина, женящаяся на мужчине, то это моя дочь Джесси. Но если вы напечатаете это, я затаскаю вас по судам за клевету. До свидания, джентльмены.Книга вторая ЖЕНЩИНА ЖДЕТ
_/1/_
Она тихо лежала в своей высокой кровати, сверху, из сада, повеяло прохладным ветерком, поэтому Джесси натянула стеганое одеяло до подбородка. Через несколько часов наступит Новый год. Лейтенант и миссис Джон Чарлз Фремонт приглашены президентом Джоном Тайлером[3] на прием в Белый дом. Было уже два часа ночи, около нее мирно спал муж. Ее забавляло видеть этого мужчину: на людях он держался прямо, словно аршин проглотил, а сейчас свернулся как ребенок, не способный защитить себя. Она думала: «Кто, кроме жены, может знать все о мужчине, видеть, целиком чувствовать его, понимать неожиданное проявление характера и столь же неожиданный уход в себя?» Они подолгу разговаривали в темноте спальни, создававшей впечатление, будто они за занавеской, и лишь случайный взрыв смеха, вызванный какой-либо нелепостью, нарушал ход их беседы. Она больше всего любила эти часы, товарищеские периоды, когда она могла лежать в надежных объятиях, прижавшись к любимому мужчине. С ранних лет она мечтала создать прекрасную семью. Она родилась с этой мыслью, но ее лелеял и отец, говоривший ей о «великом супружестве» — высочайшей цели, которой она должна достичь и которая столь же важна, как воспитание детей. Супружество должно стать для нее испытанием, соединяющим искусство и науку самовыражения. Оно будет иным по сравнению с временными союзами, которые она видела вокруг себя, оно докажет, что два человеческих существа могут совместно полностью осуществить заложенные в них начала. Ее отец говорил ей, какими ценными были для него советы жены и как много он потерял, когда она заболела. Джесси порой наблюдала за матерью и отцом, когда они были вместе, надеясь понять характер их былых взаимоотношений. Она была страшно огорчена, увидев, как мало у них осталось от прошлого. С самонадеянностью, свойственной молодости, она была уверена, что справится с задачей, которую не сумела осуществить ее мать. Глядя на смуглое лицо мужа на подушке и отодвинув прядь, спустившуюся ему на лоб, она ощутила приподнятое настроение: ведь она нашла мужчину, не только достигшего высот в профессии, с которой и она хотела связать свою судьбу, но и волновавшего ее каждый раз, когда она оставалась с ним наедине. Она могла бы выйти замуж за человека, восхищавшего ее, и не любить его с такой страстью или же выйти замуж за доктора, архитектора, адвоката и в итоге обделить вторую половину своей натуры, порождавшую ее честолюбие. Джесси никогда не давала повода кому-либо догадаться, что питает подобные мысли, ибо в таком случае ее обвинили бы в желании стать Энн Ройяль. Но когда она проводила кончиком пальца по тонким морщинкам на лбу мужа, затем вниз по небольшому носу и по теплым губам, к ее приподнятому настроению примешивалось трепетное чувство счастья: она нашла одного из тех крайне редких мужчин, которые разрешают жене работать рядом с собой. Она никогда не думала, что в супружестве будет получающей стороной, полагая, что скорее будет дающей. Она была довольна тем, что супружество дало Джону: до этого он был бездомным, человеком без семьи, теперь же верность и надежность, свойственные Бентонам, вобрали и его в свое лоно. Их брак, казалось, рассеял последние следы неуверенности, таившиеся в глубине его глаз. Свой медовый месяц они провели в большом доме на Си-стрит. Их выкрашенная в синий цвет спальня и гостиная выходили окнами на юг, в сад, и освещались нежным светом зимнего солнца. Семья не тревожила их; Мейли или один из ее двойняшек приносили им завтрак; дети старались не шуметь в саду. Она сообщила своим друзьям в Вашингтон-Сити, что им не хотелось бы терять время на формальных обедах и приемах. Единственной посетительницей Джесси была часто приходившая с коробкой русских или французских конфет графиня Бодиско, рассказывавшая забавные истории. — Я смеюсь, — сказала Гарриет, — когда вспоминаю, что сказал один из моих дядьев отцу. Я подслушала, как он говорил: «Не позволяй Гарриет выходить замуж за этого старика, он никогда не сможет дать ей полноценной супружеской жизни». Моя дорогая, я готова поспорить, что через пять минут после того, как граф закрыл за собой дверь спальни, я забеременела. Этот русский в летах пробрал меня до кожи и костей. Джесси взглянула на высокую фигуру Гарриет, быстро пополневшую. — Благодаря этому ты цветешь, — парировала она. Ей доставляло удовольствие шептать самой себе: «Мой муж». Во фразе не было ничего собственнического, кроме того, что она принадлежит ему как жена, поскольку Джон Фремонт отныне ее муж. Поскольку она думала о равной работе и равной ответственности, ей было трудно называть своего нежно любимого мужа «мистер Фремонт». Ее мать даже после стольких лет супружества называла отца «мистер Бентон». На людях Джесси обращалась к мужу «лейтенант Фремонт», когда же рядом никого не было, она звала его Джоном. Сегодня ночью они с наслаждением беседовали несколько часов, пока он не заснул посреди неоконченной фразы. В комнате было умиротворяюще сумрачно, телу удобно на мягкой постели, воздух прохладен и пропитан ароматом цветущего жасмина. В момент высшей точки физической близости она почувствовала, что нет больше загадок, не нужно больше сдерживаться. А как только близость прерывалась, но оставалась страстная любовь между ними в набегающей примиренности, она догадывалась, что такое прощупывающее, наваливающееся нервное возбуждение не может быть постоянным или непрестанным: оно будет убывать и притекать, соединяющий их стержень может сейчас быть сильным и требовательным внутри нее, а затем отступит, ослабнет, погаснет, как меркнет свет, оставляя ее покинутой и все же довольной испытанным чувством. «Быть может, именно это и есть брак, — думала она, — когда нужна вся жизнь, чтобы понять партнера, разгадать тайны его характера, о существовании которых, вероятно, он даже не подозревает. Может быть, успешное супружество вовсе не означает завоевание места в обществе, приобретение богатства; нет, это даже не рождение детей, а полное понимание души своего мужа, осуществление этой наиболее трудной и в то же время самой прекрасной задачи»._/2/_
Когда лейтенант и миссис Джон Фремонт добрались до Белого дома вскоре после полудня 1 января 1842 года, Пенсильвания-авеню была забита частными каретами, наемными экипажами, широкими омнибусами и сотнями верховых лошадей, привязанных к коновязям. Хасслер предложил им использовать его привезенную из Англии карету для новогоднего визита. На Атлантическом побережье карета получила известность как «ковчег Хасслера» по той причине, что она была достаточно вместительна для его спального белья, кухонного оборудования, научных инструментов, книг и журналов. Джесси в последний раз критически взглянула на свое темно-синее вельветовое платье с нешироким кринолином, плотно прилегающим к фигуре лифом, отороченным у шеи и на манжетах кружевами. В туфельках, перехваченных ремешком, она легко спустилась на землю, опираясь на руку мужа, одобрительно посмотрела на его синюю с золотом парадную форму, а затем поправила свою накидку из синего бархата. Когда они подошли к входной двери, она повернулась к мужу с вопрошающим взглядом: «У меня все в порядке?» Джон коснулся мочки уха, которая не была закрыта ее тугой прической, и сказал: — Какие милые серьги у вас, мадам. Они прошли мимо оркестра морской пехоты, игравшего в вестибюле, их приветствовали сенаторы Линн и Криттенден. Линн воскликнул: — Мои дорогие, от вас прямо-таки исходит свет. Уверен, вы возьмете в полон президента Тайлера! — Полонить его стоит тридцать тысяч долларов, — сказал сенатор Криттенден. — Если он согласится стать спонсором законопроекта в конгрессе, мы получим такие ассигнования, и вы отправитесь к Южному перевалу. — Мы приложим все усилия, — обещала Джесси. Сенаторы провели их в зал приемов и представили президенту Тайлеру — человеку с высоким лбом, впалыми щеками и костлявым носом, изгибавшимся наподобие арки, как бы продолжая линию лба. Характерный рисунок его лица привлекал внимание и наводил на мысль, что он неисправимо независимый человек. Как бывший сенатор от Виргинии президент Джон Тайлер давно был знаком с Бентонами. Он поздравил молодую чету со свадьбой, а затем сказал лейтенанту Фремонту: — Молодой человек, я понимаю, что вы рветесь в экспедицию в неизведанные земли. — Именно так, господин президент, — ответил Джон. — Имею основания полагать, что вы не будете разочарованы, — сказал Тайлер, — хотя на вашем месте я бы после брака с мисс Джесси не поддался на уговоры уехать из Вашингтона. — Но я намерена ждать его, господин президент, — ответила она улыбаясь. Выражение лица президента Тайлера стало серьезным. Он сказал негромко: — Нам нужны подробные карты всей страны, от Сент-Луиса до Скалистых гор, чтобы караваны переселенцев могли там осесть. Но берегитесь углубляться на запад от Скалистых гор, молодой человек. Мы уже имеем больше сотни американцев в Орегоне. Если большее число наших поселенцев достигнет Колумбии, появится опасность войны с Англией. Холодным, серым утром в середине января Джесси и Джон шагали вместе с Томасом Гартом Бентоном к зданию сената. Это был день, ради которого сторонники экспансии работали двадцать лет. В сенате находился законопроект об ассигновании тридцати тысяч долларов на экспедицию, «предназначенную ознакомить правительство с характером рек и местности между границами Миссури и подножия Скалистых гор и в особенности исследовать характер и уточнить широту и долготу Южного перевала — большого прохода в этих горах на пути в Орегон». Джесси сидела в первом ряду галереи посетителей, следя за происходившим в красном плюшевом амфитеатре внизу. Она и Джон понимали, что от принятия решения об ассигнованиях зависит их будущее, поскольку Николлет был уверен, что ему будет поручено возглавить экспедицию, а он в свою очередь назначит лейтенанта Фремонта своим заместителем. У них перехватило дыхание во время подсчета голосов. И когда последний сенатор проголосовал «за» и таким образом было выдано разрешение на экспедицию, муж и жена посмотрели друг на друга счастливыми глазами. В этот вечер в доме Бентонов состоялся праздничный прием по случаю победы. Джесси, беседовавшая с полковником Абертом и полковником Стефаном Уоттсом Кирни о том, с какой радостью будет получена новость в Сент-Луисе и на Юго-Западе, заметила, что ее подзывает Николас Николлет. — Надень накидку, дитя мое, — сказал он, — я хочу поговорить с тобой. Когда они шли по садовой дорожке, Николлет прокомментировал: — Именно здесь я увидел тебя сидящей с лейтенантом Фремонтом. Я сказал твоему отцу: «Как прекрасна молодая любовь». И из-за моего галльского романтизма Джон был выставлен из дома. — Если бы вы не ускорили тот кризис, — засмеялась Джесси, — мы все еще оставались бы неженатыми. Они сели рядом на садовую скамью. Николлет сказал: — Мисс Джесси, я должен сказать вам кое-что. На какой-то момент слова застыли у нее на языке. — Конечно, вы берете лейтенанта Фремонта в качестве второго по старшинству? — Нет, Джесси. Он будет руководить экспедицией. Я не поеду, я слишком болен. — Но это невозможно! — воскликнула она, ее симпатия к бледнолицему старику возобладала над первой вспышкой радости. — Это самая важная экспедиция, посылаемая федеральным правительством со времени экспедиции Льюиса и Кларка, экспедиция, ради которой вы работали двадцать лет! — Я старый человек, — упорно повторил Николлет, — я сделал свою работу. Завтра утром я информирую полковника Аберта, что не в состоянии командовать экспедицией и назначаю своим преемником лейтенанта Фремонта. На следующее утро по всему Вашингтону разнеслась новость: Николас Николлет подал в отставку, и экспедицию к Южному перевалу возглавит лейтенант Джон Фремонт. Месяцы вслед за этим были самыми радостными в жизни Джесси. Графиня Бодиско устроила в их честь пышный бал для дипломатического корпуса в своем джорджтаунском доме. Нэнси Полк собрала на обед и танцы молодежь Вашингтона. Сенаторы Линн и Кинг дали обед, на который пришла удивительно большая группа конгрессменов; явившиеся пригубили вино и после плотной еды втолковывали лейтенанту Фремонту, как составить карту Дикого Запада. Сэмюэл Морзе организовал бал-маскарад, участники которого облачились в костюмы художников или персонажей их картин. Энн Ройяль пригласила на чай феминисток Вашингтона, и Джесси была почетной гостьей. Полковник Аберт провел прием для Топографического корпуса. Стефан Кирни дал обед в отеле «Метрополитен» для высокопоставленных офицеров армии. Джеймс Бьюкенен выкупил здание Национального театра и пригласил друзей Джесси на представление «Призывник, или Обет девы». Кульминацией бурных счастливых недель стал неофициальный обед, данный президентом Джоном Тайлером в Белом доме. Наряду с круговертью приемов была и работа. Джон должен был собрать свою экспедицию, закупить для нее снаряжение. К тому же оказалось, что пол-Америки желает помочь в составлении карты Южного перевала. В дом Бентонов приходила почта из каждой деревушки, от людей различных профессий, молодых и старых, изъявлявших желание отправиться с экспедицией. Они посещали дом на Си-стрит с рекомендательными письмами, появлялись и изобретатели с новыми инструментами и оружием, ремесленники с предметами, которые они хотели продать. Незаметно для себя Джесси заняла место секретаря. Каждое утро она вставала в шесть часов, выпивала шоколад в своей гостиной, писала ответы на пришедшие накануне письма. В полдень она по часу беседовала с посетителями, то и дело стучавшимися в дверь. Вечером, когда Джон возвращался домой из Топографического бюро, она записывала замечания и очерки, основу которых он формулировал в течение дня. В начале марта она съездила с ним на станцию железной дороги «Балтимор энд Огайо», чтобы проводить его в Нью-Йорк, где он провел две недели, закупая снаряжение. Он вернулся, восхищенный несколькими новыми изобретениями, обнаруженными им там. Главным была разборная резиновая лодка, к мысли о создании которой был причастен Николлет. — Лучше вынести ее на открытый портик и там распаковать, — сказал он семье. — Производитель в Нью-Йорке говорил, что химикалии могут плохо пахнуть. Едва успели снять водонепроницаемую упаковочную бумагу, как по всему дому распространилась всепроникающая вонь. Джесси стало так плохо, что она позеленела. Когда она вновь обрела способность двигаться, Мейли сказала: — Лейтенант хочет видеть вас в вашей гостиной, милая. По его взгляду, я думаю, он понимает. Джошаам и Джошиим разогрели в кухонной печке два больших металлических совка, насыпали в них зерна кофе и обошли весь дом, чтобы аромат поджаренного кофе вытеснил отвратительный запах. Мейли помогла Джесси подняться с постели, подвела к двери и ободряюще похлопала по плечу. Джесси увидела мужа, сидящего на подоконнике и прислонившегося к оконной раме. Его глаза выражали удивление и озорство. — Черт возьми, Джон, — сказала она. — Я искала, как сказать тебе поделикатнее. Но ты привез домой эту новомодную резиновую лодку. Пока ты отсутствовал, я развлекалась тем, что изобретала, как поярче подать тебе новость… Мы могли бы сесть у огня, и ты бы вдруг заметил, что я начала вязать детские вещи… Он быстрым шагом пересек комнату, поднял Джесси и поцеловал ее. Затем, путаясь в словах, сказал о своем желании иметь сына; это было желание человека, не имевшего надежной фамилии. Он изменил фамилию своего отца с французской Фремон на звучащую по-английски Фремонт, не полагаясь на то, что эта фамилия станет его законной. Однако если он проведет жизнь, все время утверждая ее, передаст сыну, тогда процесс возымеет обратный эффект, включая и тот момент, когда он присвоил себе это семейное имя. Множество друзей и доброжелателей пришли в дом Бентонов в полдень накануне отъезда Джона. В три часа дня Джесси подала чай и кексы сотне гостей. К пяти часам, когда обед был готов, оставалось около пятидесяти человек. После обеда зазвучал смех, посыпались различные рассказы, и сердце Джесси наполнилось счастьем. Казалось, все любят Джона, восхищаются ее мужем и уверены в его успехе. К десяти часам вечера ушел последний гость. Джесси поднялась в спальню. Она устала, но ждала этого часа, последнего момента, чтобы побыть с мужем наедине, почувствовать последний поцелуй, услышать последние слова любви. — Ты не хочешь, чтобы я остался, чтобы кто-нибудь иной возглавил экспедицию? — спросил он. Она приподнялась в постели, ее слезы каким-то чудом высохли. — Боже мой, нет. Если бы такое случилось, я кричала бы в десять раз громче и во сто раз дольше. В темноте она скорее почувствовала, чем увидела, его улыбку. — Ах, мой дорогой, — прошептала она, — ты был так тактичен в отношении меня. Ну, не обращай внимания, это на меня подействовало. Я всегда думала, что стану хорошей женой, во всяком случае хотела ею стать, — это в той же мере моя амбиция, как твое желание быть исследователем и топографом. Я думала о замужестве как о карьере, как мужчина думает о своей профессии. Я пролью немного слез, но они часть моей работы, связанной с проводами тебя в глушь и заменой в Вашингтоне. Раздели себя пополам: пусть одна половина будет в пути, другая останется здесь. — Вот это речь, сенатор, — нежно поддразнил он. — Разве не так? Но ты будешь поражен, узнав, как это помогает моему настроению. А теперь, дорогой, спи, завтра тебе предстоит тяжелый день, лиха беда начало. Он поймал ее на слове, почти мгновенно она услышала его ровное дыхание и поняла, что он уснул. На какой-то момент это ее обидело, ведь это их последняя ночь вместе, когда они должны были бы говорить до зари о своих планах и будущем ребенке, а он при первых ее словах крепко заснул. Потом она вспомнила, что время позднее и что он находился на ногах с пяти часов утра. Она наслаждалась еще некоторое время тем, что теплота и дыхание его тела успокаивали ее, а затем также провалилась в глубокий сон._/3/_
Вечером на следующий день она сидела в библиотеке перед огнем, когда вернулся отец и сообщил, что Джон успешно отправился в путь. Он опустился в кресло и как бы между прочим сказал: — Джесси, у меня накопилась работа. По-твоему, завтра утром ты будешь чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы помочь мне? — Помочь тебе? Разумеется, я буду чувствовать себя достаточно хорошо. — Добро! — воскликнул он громко. — Мне нужна копия Договора 1818 года, установившего наш совместный с Англией суверенитет над Орегоном. — Да, папа. Она поднялась с кресла, опустилась на красный ковер у его ног и положила свою голову на его колени. — Так в прошлом много раз, когда у меня возникали небольшие проблемы, ты садился в это кресло напротив меня и мгновенно устранял их. Ты уверен, что даешь мне работу не для того, чтобы развеять мои печальные мысли?.. — Да, конечно, уверен, — поспешно ответил он, стараясь скрыть свои чувства. — Работа полезна для тебя. Но в то же время мне нужны результаты твоей работы. Разумеется, нет ничего плохого в согласовании твоих нужд с моими. — Как всегда, способный тактик! — воскликнула Джесси. — Приятно знать, что я нужна тебе. Ведь сейчас как раз мне необходимо, чтобы я была кому-то нужна. — Для тебя будет печально, моя дорогая, когда ты окажешься больше ненужной. Поднимайся, пора спать. Джесси приказала, чтобы Мейли принесла ей завтрак в пять тридцать, и быстро нырнула в постель, хотя была уверена, что не сомкнет глаз до утра, думая о Джоне, представляя себе его поездку в Балтимор на медленно движущемся, пропахшем дымом поезде. Эта мысль была последней, когда раздался стук в дверь и Мейли принесла серебряный кувшин с шоколадом, два рогалика, кусочек сливочного масла и в маленькой стеклянной плошке — черносмородиновый джем. Утром без пяти шесть она вошла в библиотеку с надеждой поразить отца тем, что она опередила его. Но Том Бентон встал на час раньше обычного. Он установил переносной пюпитр перед ее креслом. На пюпитре лежали шесть стальных перьев и пятьдесят листов бумаги с водяными знаками, освещенной канделябром отцовского изобретения — четыре спермацетовые свечи на квадрате белой промокательной бумаги, отражавшей свет. Она молча уселась в свое кресло. Кто-то сказал Томасу Гарту Бентону в молодости, что он похож на римского сенатора. Джесси так и не сумела составить представление, стал ли Том сенатором потому, что выглядел как сенатор, или же выглядел как сенатор потому, что превратил себя в олицетворение сенатора. У него был длинный костлявый нос, начинавшийся прямо от надбровий, а там, где он спускался между широко расставленными карими глазами, кожа собиралась в странные морщинки. У него была крупная голова, а лоб такой высокий, что лицо казалось скошенным. Он держал голову так, что подбородок выпирал вперед, словно при малейшей провокации он готов вступить в интеллектуальную схватку. Скулы были высокими и крепкими, а рот небольшим по сравнению с носом и подбородком. Бакенбарды доходили почти до верхней губы, и он зачесывал их вперед. Его упрямое лицо нельзя было назвать красивым, но все же оно было привлекательным, выдававшим напряжение борьбы. — Я не выполнил приказа в эту ночь, Джесси, — сказал он. — Я не спал около часа, обдумывая план: еще никто не написал историю исследования Америки… — Льюис и Кларк, Пайк и Касс написали о своих экспедициях… — Да! Каждый рассказал о собственных приключениях, но их описания и отчеты — технические. Я думаю, что американцы с интересом прочитают историю, Джесси, если ты сможешь написать ее. Ее глаза светились от возбуждения. — Знаешь, папа, это схоже с забавной идеей, возникшей у меня. Когда Джон показал мне свою временную карту, пытаясь дать мне представление, сколько миль в день его группа должна проходить, я подумала, что могу составить карту-дубликат, покрывающую всю страну между Сент-Луисом и Южным перевалом. Мы знаем, когда он предполагает выехать из Сент-Луиса. Я могу взять это за точку отсчета, прочертить линию, отображающую расстояние, какое он может пройти за день, потом поставить красную точку, где экспедиция разобьет лагерь на ночь и разожжет костры. Ее отец кивал в знак одобрения, и поэтому она осмелилась продолжать: — Я подумала, что буду читать имеющиеся описания, на что похожа окружающая местность на каждом участке похода, какая там живность, каких зверей они отстреливают для пропитания. Я составлю карту, где обозначу равнины и леса, реки и горы. Расставляя точки по маршруту, я изображу местность, какой она мне представляется: с зарослями диких цветов, участками хвойных лесов, бизонами, бродящими по равнине… — Ты поставила перед собой большую задачу, —сказал отец, заинтересовавшийся ее планами. — Но разве ты не видишь, отец, — страстно воскликнула она, — ведь при этом он никогда не покинет меня, я не буду одинокой, я буду с ним в пути каждый час! Ее отец отправился в сенат. На долю секунды на нее навалилось чувство одиночества в предстоящие шесть месяцев, у нее сжалось сердце и перехватило дыхание. Она сделала жест, желая не допустить приступа истерии, быстро опустилась в кресло и склонилась над листами бумаги, оставленными на пюпитре отцом. Поначалу она не видела слов записки, лежавшей перед ней. Потом она догадалась, что отец написал ей наставление. Оно гласило:«Джесси, моя дорогая, я захотел оставить тебе эту строку из Марка Аврелия: „Не беспокойся о будущем, ибо если придешь к нему, то будешь иметь то же основание для твоих направляющих принципов, которое оберегает тебя в настоящем“».Джесси расстегнула пуговицы своего платья с узкими рукавами, сложила записку отца, прикрепила ее булавкой к нижней юбке и быстрыми движениями пальцев вновь застегнула платье. Она погрузилась в работу.
_/4/_
Николлету и Хасслеру идея Джесси показалась более чем занимательной, и они потворствовали ей. Они сколотили из тонких досок щит размером примерно полтора на три метра и оклеили его листами белой бумаги. Несколько дней двое стариков обучали ее, как приводить расстояние к единому масштабу и чертить схему большой карты. На следующее утро Джошаам и Джошиим перенесли щит из дома Хасслера на Капитолийском холме в дом Бентонов, где отец освободил для него место у задней стены библиотеки. В четыре часа тридцать минут в карете Хасслера приехали ее хозяин и Николлет. Они быстро поднялись в библиотеку. Джесси рассчитала, сколько дней потребуется ее мужу, чтобы достичь Южного перевала, и разделила карту на пятьдесят пять частей по вертикали, обозначавших ежедневные переходы. Потом она провела черную линию в центре карты, отделявшую путешествие туда от путешествия обратно. На линии, обозначавшей поездку к дому, она нарисовала небольшой символ, известный только ей, — примерно в это время должен был родиться ее первый ребенок. Хасслер извлек заметки из своего черного пальто и принялся набрасывать схему части территории Колорадо. Николлет сказал: — Ты используешь карту майора Лонга, хотя прекрасно знаешь, что Лонг был дискредитирован как научный наблюдатель. — Этот материал заимствован не у Лонга! — в сердцах воскликнул Хасслер. — Я скомпоновал его по отчетам звероловов. Карта Джесси вызвала интерес в Вашингтоне. Генерал Уинфилд Скотт,[4] выезжавший в Детройт для ведения войны против Черного Сокола, настаивал, чтобы на карту было нанесено все, что известно ему о территории вокруг Великих озер. А генерал Льюис Касс, первый губернатор территории Мичиган, пришел позже вечером, чтобы начертить местность между Детройтом и Чикаго, тропу, по которой он прошел как первый белый человек. Полковник Кирни, намечавший планы нескольких своих военных экспедиций на Юго-Запад на веранде дома сенатора Бентона в Сент-Луисе, написал акварельные эскизы этой местности. Профессор ботаники из Гарварда рассказал о некоторых диких животных этого района. Полковник Аберт, считавший себя астрономом, пришел на обед и, едва успев проглотить шоколадный мусс, нетерпеливо нарисовал небесные тела, которые мог видеть Джон. Каждое утро она приходила к отцу в библиотеку и оставалась там до момента его ухода в сенат. В книжном ящике справа от нее теперь лежали тридцать семь книг и копии официальных отчетов, представленных правительству Соединенных Штатов в форме исполнительных документов палаты представителей и сената. На нижней полке она собрала заметки отца, написанные размашистым, смелым, но трудно понятным чужаку почерком еще на широкой веранде их дома в Сент-Луисе в течение ряда лет, когда французские, испанские, мексиканские и американские охотники, звероловы, купцы и торговцы возвращались из поездок в Мексику и на Тихоокеанское побережье. Начиная с 1836 года, когда ей исполнилось двенадцать лет, отчеты писались ее рукой, ибо Том Бентон не любил писать, слушая посетителей, и доверил эту работу ей, сочтя ее чистописание более приличным, чем свое собственное. Поначалу она писала лихорадочно, стараясь запечатлеть на бумаге каждое слово, но постепенно обнаружила, что ее ум все более и более редактирует эти сырые дискуссии. Каждая запись содержала зерно нового и пригодного к использованию материала, но было много и бесцельных повторений. Однажды отец попросил ее дать ему материал о тропе Санта-Фе, прочитал написанное ею резюме пятичасового разговора и сказал: — Хорошо продумано, Джесси. Это избавит от огромной работы. Он посмотрел на нее с удивлением через плечо: — Джесси, я всегда предполагал, что могу стать великим педагогом. Теперь я убежден в этом. — Конечно, и педагогу не помешает хороший материал, с которым можно поработать, не так ли, сенатор? — Тш, тш, дитя, — парировал он, — никогда не допускай, чтобы тебя одолела болезнь самомнения. Он посадил ее на колени: — Посмотри, какого старого дурака сделали из твоего отца! Как и в Сент-Луисе, в Вашингтоне она продолжила практику уточняющего редактирования. Столь интенсивная подготовка имела неизбежный, но почти трагический результат — вскоре она начала редактировать Томаса Гарта Бентона. В ранние годы ей казалось, что все сказанное ее отцом было Богом данным и безупречным. Но, по мере того как она слушала его единомышленников и противников в зале сената, слушала Клея, Хейна, Уэбстера и Кэльхуна, она поняла, что у отца есть свои ограничения — иногда он повторялся там, где прямая атака была бы более эффективной. Он слишком много полагался на Марка Аврелия, на Цезаря и Плутарха, иногда увлекался напыщенными фразами, когда простота могла бы обеспечить победу. Поначалу, когда он диктовал ей, она просто опускала слово или фразу, позже она устраняла абзацы, слабые места и ненужные повторы. Разразилась буря, когда Том Бентон услышал, что делает его дочь. Несколько дней он не разговаривал с ней… пока она не добыла «Конгрешнл рекорд», не скопировала на одном листе бумаги то, что сказал Том Бентон в сенате, а на другом — то, что он продиктовал ей. После долгих убеждений и слез она уговорила его посмотреть и сопоставить эти копии. Она пристально смотрела на его лицо, когда он, утонув в своем кресле, сличал листы. Она знала, что дело идет о ее будущем — либо он должен одобрить сделанное ею, либо она не будет больше работать с ним. После долгого молчания отец поднял голову, его лицо все еще оставалось покрасневшим. — Ради Всевышнего, Джесси! — воскликнул он. — У тебя не было права поступать так. Это отвратительная наглость, с какой я когда-либо сталкивался… но, сказав это, я должен признать, что ты сделала свое дело блестяще!_/5/_
Джесси работала за своим пюпитром в библиотеке каждое утро с восьми до одиннадцати. После завтрака она совершала долгую медленную прогулку по Вашингтону со своей сестрой Элизой, Гарриет Бодиско и Нэнси Полк. В четыре часа она приходила в здание сената, чтобы позвать отца на обед, а вечерами занималась изготовлением детской одежды, обвязывала края этой одежды, кроила простынки и ночные рубашки, которые должны были сшить негритянки-портнихи. Ее взволновали сведения, почерпнутые из изучавшихся ею материалов, что исследование американцами Запада началось за десятилетие до того, как ее отец поселился в Сент-Луисе в 1815 году, что Запад стал доступен для миграции, можно сказать, в день ее рождения благодаря открытию перевала в Скалистых горах, что позволило проложить тропу Орегона.[5] Когда Соединенные Штаты купили Луизиану в 1803 году,[6] вдвое расширив свою территорию, ни один человек толком не знал, что было приобретено всего за пятнадцать миллионов долларов. Это побудило президента Джефферсона поручить Мэриуэтеру Льюису и Уильяму Кларку пройти по территории и составить карту возможной тропы — дороги. Льюис и Кларк были первыми белыми, пересекшими Скалистые горы и спустившимися по западному склону в долину реки Колумбия. Едва успели они вернуться в Вашингтон в 1806 году с отчетом, как правительство отправило Зебулона Пайка исследовать ту часть Луизианы, которая простирается на юго-запад от Сент-Луиса. Пайк дошел до Мексики, проложив тропу Санта-Фе, ставшую излюбленной дорогой для торговцев и звероловов. К 1811 году охотники и звероловы Джона Джэкоба Астора начали переходить Скалистые горы в районе Айдахо, а с 1814 года звероловы Северо-Западной компании и Компании Гудзонова залива пересекали Скалистые горы каждый год. В поисках лучших пушных зверей они сотворили целую легенду о необжитых землях, но это были в основном необразованные люди, не умевшие составлять карты и не писавшие дневников, поэтому их знания практически не имели никакого значения для тысяч семей на Востоке, желавших переехать на Запад, но не готовых отправиться туда, не имея точного представления о тамошних землях. Потом генерал Уильям Эшли основал Пушную компанию Скалистых гор и убедил жителей пограничных районов: Эндрю Генри, Джеймса Бриджера и Джедедиа Смита — присоединиться к нему. Это был судьбоносный момент в исследовании западных земель, поскольку поиски пушного зверя сопровождались объездами больших территорий. В 1823 году Джим Бриджер вышел к Соленому озеру — Солт-Лейк, а в следующем году был обнаружен Южный перевал. Когда Джесси был всего год, Джедедиа Смит наткнулся на реку Гумбольд, и, идя по ней, он дошел до гор Сьерра-Невады, а затем спустился в долину Сакраменто. Однако ни Эшли, ни Смит, ни Фитцпатрик, ни Генри не сделали свои открытия достоянием американской общественности. Информация была собрана лишь благодаря усилиям таких людей, как сенатор Бентон, требовавших, чтобы материал был представлен в форме докладов конгрессу. Около 1832 года правительство приступило к посылке армейских исследователей для составления карт отдельных мест с целью определения линий железных дорог и мест переселения индейцев. Среди этих экспедиций наиболее важными были две под началом капитана Уильямса и две под руководством Николаса Николлета. Лейтенант Фремонт участвовал во всех четырех. До этих экспедиций имевшиеся карты были фрагментарными и зачастую ошибочными. Теперь же лейтенант Фремонт должен был составить первую научную и всеобъемлющую карту района между Сент-Луисом и Южным перевалом. Он должен был исследовать иным образом, чем Льюис, Кларк, Пайк, Касс и Скулкрафт, его задача состояла не в поиске, а в прокладывании дорог. Однако перед отъездом он сказал жене: — Я хочу проверить некоторые исследования до того, как завершится экспедиция. Хочу пройти по местам, о которых у нас не хватает сведений. — Будет ли для этого время? — спросила она. — Очень хочу, чтобы нашлось. В конце концов после окончания топографических съемок у меня будет несколько недель для исследований. Я хочу доказать, что могу найти новые тропы, а не только нанести на карту старые. — Да, — согласилась Джесси, — ты должен сделать это, если можешь. В таком случае военный департамент предоставит тебе больше свободы в будущих экспедициях.Проходили дни и ночи. Ощущение зреющей внутри нее жизни становилось все более настойчивым, и эта новая жизнь раскрывала себя и внешнему миру. Джесси располнела, и ее походка отяжелела. Она никому не говорила, как сильно не хватало ей мужа в месяцы, когда в ее чреве рос плод. Ребенок стал ее товарищем, особенно в те ночные часы, когда она ложилась спать, поскольку именно тогда она нуждалась в Джоне, в его руках, защищавших от глубоко проникших в сознание волнений по поводу близящихся родов… Она проводила много бессонных ночей, повторяя имя ребенка — Джон Чарлз Фремонт, ибо была уверена, что родится сын, который станет исследователем. Помимо приятных чувств, которые вызывал ребенок, ей было приятно то, что половина официального Вашингтона включилась в игру около ее большой карты. Не только Николлет и Хасслер, навещая ее три-четыре раза в неделю, утверждали, что ее безграничная вера в способности мужа побуждает приписывать ему чрезмерно большие дневные переходы, но и другие шутили по этому поводу. Она рассмеялась, когда Сэмюэл Морзе сказал: — Что ты за жена, Джесси? Твой муж не может избавиться от твоего всевидящего ока даже на необжитых землях. Когда Джеймс Бьюкенен прокомментировал: «Вижу довольно большие костры, они обогревают лейтенанта, Джесси. Я надеюсь, что вы не учините лесного пожара», она была вынуждена ответить: — Не беспокойтесь, Джеймс Бьюкенен, когда-нибудь появятся города на местах стоянок лейтенанта Фремонта, где горели его костры. В те месяцы, когда шла подготовка к экспедиции, миссис Бентон принимала большее участие в семейной жизни, чем когда-либо за последние несколько лет. Казалось, у нее даже появилось чувство гордости за то, что ее зятю доверили возглавить экспедицию. Затем Джесси заметила, что подъем энергии у матери стал иссякать. Однажды вечером она с ужасом заметила, что лицо матери свело судорогой — уголок ее правого глаза и правая бровь сдвинулись наверх, а левый уголок рта и левая щека сместились вниз. Придя в спальню матери пожелать ей доброй ночи, Джесси увидела, что искаженное лицо матери породило страх в ее глазах. На следующее утро Мейли не смогла разбудить миссис Бентон. Она с криком побежала за сенатором Бентоном. Джошаам поспешил за врачом, который сразу же пришел и, запинаясь, сообщил Тому Бентону, что его жену разбил паралич. Томас Бентон стоял, словно его оглоушили палкой, его глаза налились кровью, а большое лицо обмякло. Следующие три дня были мучительными для Джесси. Отец не отходил от кровати больной, старался вдохнуть жизнь в ее белые неподвижные руки, разговаривал с ней, целовал ее губы. На третий день вечером Джесси вошла в темную, заброшенную библиотеку и увидела отца: он уставился в окно и молча плакал. Она подошла к нему, положила руку на его плечо. Спустя минуту он успокоился: — Джесси, ты не можешь знать, что это такое… не иметь возможности дать ответ. Словно тебя ударили в темноте, ты не знаешь, кто твой противник… не знаешь, куда повернуться, что сказать и сделать. Я никогда не чувствовал себя беспомощным, но теперь… Слова и облик страдающего отца глубоко врезались в ее память. На следующее утро на открытых глазах миссис Бентон непроизвольно задрожали веки, а сама она лежала без движения. Затем она улыбнулась, как бы говоря семье, что ее смерть — не конец всего. Элиза взяла на себя ведение домашнего хозяйства. Джесси оставалась большую часть времени с матерью, иногда читая ей Библию. На десятый день миссис Бентон дала понять, что хочет поговорить с дочерью. Джесси ждала несколько минут, прежде чем миссис Бентон смогла собраться с силами: — …Не вина отца… я не могла… получать удовлетворение… не вина отца… Она молчала несколько минут, закрыла глаза, затем открыла их вновь: — Я была… больше… ты не должна… осуждать отца. Помни, Джесси… не его вина. Голова миссис Бентон опустилась на подушку, по ее щекам пробежали слезы. Джесси поняла, что мать старалась изо всех сил вычеркнуть из памяти дочери упрек или горечь, которые могли остаться после их разговора во время поездки в Черри-Гроув. И она поняла, как долго придется подниматься по крутой дороге, чтобы стать хорошей женой.
_/6/_
Шел девятый месяц ее беременности, когда пришло известие, что Джон и его группа благополучно вернулись в Сент-Луис. — Я надеюсь, что лейтенант появится здесь во время рождения твоего ребенка, — заметил ее отец. — Он появится. — Откуда у тебя такая уверенность? — Потому, что я подожду, — упрямо ответила она. 28 октября Джон переступил порог дома Бентонов. Его темные волосы отросли и сзади лежали на воротнике мундира. Поздоровавшись с членами семьи, он поднялся в комнату миссис Бентон, поцеловал ее в щеку и сказал, что его радует ее улучшившееся самочувствие. Джесси отвела его в свою гостиную, где они сели в креслах перед камином. — Сожалею, что я располнела, дорогой. А ведь так хотелось быть красивой к твоему возвращению. — Если бы ты не была столь красивой перед моим отъездом, то не была бы такой раздувшейся сейчас. Не беспокойся, я подожду нашего второго медового месяца. Она достала гребень, щетку и ножницы, предложила ему сесть на край кровати и опустилась на колени перед ним. Накинув полотенце на его плечи, она расчесала его длинные волосы. После того как она отстригла их настолько, насколько хватило смелости, Джесси встала перед ним со словами: — Теперь передо мной вновь мой прекрасный лейтенант, — и нежно поцеловала его. Он посадил ее на кровать рядом с собой. — Ты, кажется, оголодал, — сказала она, проведя пальцами по его впалым щекам. — Мы откормим тебя водяными черепахами и добрым ростбифом. — Хочешь, чтобы я был такой же толстый, как ты сама? На следующий день она спала долго, допоздна, обретя покой, которого она лишилась в те месяцы, когда он отсутствовал. Открыв глаза, она увидела залитую солнечным светом комнату, но рядом с ней мужа не было. Она обнаружила его в библиотеке: он лежал на животе на ее большой карте с карандашом в руке. Карту он снял со стены и что-то рисовал на ней. Он поднял голову, почувствовав ее присутствие. — Когда я впервые вошел сюда и увидел эту карту на стене, — сказал он, — я подумал, что лишился рассудка. Не знаю, как долго я стоял перед картой, прежде чем осознал, что это сделала ты. — Я, — засмеялась Джесси, — и все другие в Вашингтоне: Николлет, Хасслер, полковник Аберт, генерал Кларк, полковник Кирни, генерал Скотт, сенаторы Бентон, Линн, Криттенден, Кинг, твой друг — ботаник из Гарварда и половина любителей-астрономов в столице. Он подвел ее к карте и подставил стул. — У тебя масса ошибок. Ты продвигала нашу экспедицию слишком быстро. Ты не предоставила нам времени, необходимого для перехода через Скалистые горы. Ты не учла часть времени, требуемого для перехода небольших каньонов и рек, о которых, возможно, у тебя не было сведений. Но посмотри, как близка была твоя линия к моей! Джесси указала пальцем на значок лагерного костра у Биг-Сэнди. — Это была ночь, когда мне не хватало тебя более всего. Поскольку я не могла быть там, то постаралась предоставить тебе больше всего удобств. Я отметила твою стоянку около студеной реки, чтобы ты мог искупаться после дневного перехода, и к тому же в месте, где много дичи… Вошел Джошаам, широко улыбаясь, его короткие черные штаны были закатаны до колен. Он поставил на столик любимые блюда Джона — бараньи отбивные с картофельным пюре, взбитый омлет, кукурузные лепешки с черносмородинным джемом и большую кружку кофе со сливками. Когда муж набил трубку свежим табаком, Джесси сказала: — Ты должен рассказать все о своей экспедиции. К полудню наш дом будет переполнен. Но я хочу услышать первая, и самый интересный рассказ. Он молчал какое-то время. — Ты помнишь, как мы договорились, что я проведу некоторые исследования после того, как нанесу на карту Южный перевал? — Да. — Так вот, мы с трудом поднимались по долине Пресная Вода и 8 августа достигли Южного перевала. Это был очень широкий развал, и мы подошли к нему под таким плавным углом, что мне было трудно установить точный пункт континентального раздела. Не было ущелья. Вместо него мы нашли широкую песчаную дорогу, которая медленно и ровно поднималась к высшей точке, примерно на отметке двух километров над уровнем моря. Мы прошли к истокам Грин-Ривер и прошли по ее руслу до Колорадо. После этого перед нашими глазами возник самый великолепный вид, какой я когда-либо видел: цепь гор Уинд-Ривер, громоздящихся одна над другой, с их снежными шапками, сверкающими в ярком свете августа. — Есть ли чьи-либо отчеты о горной цепи Уинд-Ривер? Он вскочил со своего кресла и принялся ходить взад-вперед. — Дорогая, представляешь, что я нашел? Самую высшую точку в Скалистых горах! Я взял пик, которого никто ранее не видел, не говоря уже о достижении его вершины! Ты помнишь тот флаг, что я заказал в Нью-Йорке, с рисунком орла с трубкой мира в клюве, чтобы показать индейцам, что мы пришли с дружескими намерениями? — Разумеется, я помню. — Я взял с собой пятерых спутников. Это был трудный подъем. Наша пятерка держалась почти на отвесной гранитной стене. Мы увидели бесконечную линию изломанных, зубчатых конусов. Пришлось оставить лошадей и карабкаться, цепляясь руками за выступы гранитной стены. Взобравшись примерно на триста метров, мы обнаружили под нами три озера, отливавших изумрудом. В одном месте я был вынужден преодолеть вертикальную расщелину, цепляясь за трещины в скале. Я добрался до вершины, но если бы я сделал всего полшага, то упал бы на огромное снежное поле, находившееся более чем в сотне метров внизу. Я был на самом краю снежной пропасти. Его возбуждение передалось ей. — Джесси, это было изумительно: яркий солнечный день, на западе — широкая сверкающая гладь озер и рек, на востоке — обширный глубокий лес с извилистой рекой Уинд и тонкими проблесками рек, впадающих в Йеллоустон и дальше в Миссури. Вдали, на северо-западе, мы увидели снежные пики трех Тетонов, откуда берут начало реки Снейк и Колумбия. Я воткнул шомпол в лед, развернул наш флаг и привязал его наверху. — Это приятный рассказ, — прошептала она. В пять часов начался вечер встречи, похожий на прощальный прием, только здесь было больше веселья. Все присутствующие хотели услышать рассказы. Полковник Кирни первый заявил в своей обычной прямолинейной манере: — До нас доходили сообщения, что племена сиу, черноногих и чейенов объединились и заблокировали ваш маршрут от Ларами к Южному перевалу. У вас были неприятности с ними? Джон стоял спиной к камину. Джесси сидела, наблюдая за своим мужем и восхищаясь его красотой. — Мы пришли к форту Ларами в тот момент, когда туда пришел с Норс-Платт Джим Бриджер с группой торговцев. Он рассказал нам, что сиу и черноногие наложили на себя краску войны и ищут сражения. Торговцы и индейцы в форте советовали нам переждать несколько недель, пока кончатся набеги и индейцы вернутся в свои стойбища. Но это показалось мне неразумным. — Теперь мы имеем достаточно неприятностей с ними, — проворчал полковник. — Если у них появилась такая мысль, они могут не пускать нас на свои территории, просто намазавшись краской войны… — Я думал точно так же, полковник Кирни. Одна из задач нашей разведки заключалась в том, чтобы выявить самые лучшие места для устройства армейских фортов. Но никакое число фортов не защитит от индейцев, сумевших запугать нас. Генерал Уинфилд Скотт хотел, чтобы ему показали на карте места, где, по мнению Джона, следовало бы построить армейские форты. Сенаторы с Запада желали получить сведения о характере почвы, есть ли там вода, сколько там пахотных земель и какое по численности население они могут прокормить. Некоторые конгрессмены с Востока интересовались, могут ли сельские и ремесленные семьи провести крытые фургоны через Южный перевал. Встреча длилась долго, даже слишком долго. Джесси не знала, была ли причиной радость снова видеть мужа дома или волнение, связанное с приемом, но перед рассветом она родила. Когда врач сказал, что родилась дочь, Джесси зарыдала от злости. Она не выполнила своего обещания мужу, не осуществила свою часть обещанного. Когда он вошел в комнату, она старалась не смотреть ему в глаза. — Нет, не утешай меня, — сказала Джесси. — Если ты попытаешься отвлечь меня банальными словами, я тебе никогда не прощу этого. В распоряжении Джона было два часа, чтобы примириться с происшедшим. На его лице была слишком широкая улыбка, когда он присел около постели. — Очень хорошо, никаких банальностей. Но могу ли я высказать два предположения: в восемнадцать лет ты еще не слишком стара, чтобы не иметь детей, а шесть месяцев пребывания в глуши не ослабили моего желания их сотворить. Маленькая искорка мелькнула в ее усталых глазах. — Тонко сказано, лейтенант. А теперь уходи и дай мне поспать. Джесси проснулась в следующий полдень. Когда она пробудилась, умылась, причесала волосы и повязала их розовой вельветовой лентой, в комнату вошел ее муж со свертком ткани под мышкой. — Дорогая, помнишь, я сказал тебе о флаге, который поднял над пиком Фремонта? Глаза Джесси ответили ласковым «да». — Он слегка выцвел, и ветер пробил в нем несколько дыр. Но это первый американский флаг, поднятый над самым высоким пиком Скалистых гор. Я принес его тебе, моя дорогая. Он расправил флаг и положил его поперек кровати. Джесси была тронута его жестом. — Неисправимый поэт-романтик, — прошептала она, вытянув руки для поцелуя, не состоявшегося накануне из-за разочарования прошлой ночи._/7/_
К концу второй недели Джесси переместили на шезлонг в их жилой комнате. В окна врывалось солнце рано наступившей зимы, и Джон развлекал ее рассказами о своем походе. Она слушала его, стараясь понять, как они связаны с историей исследований и какой вклад способен внести лейтенант Фремонт в традиции Роджерса и Кларка, Пайка, Эшли, Смита, Касса, Лонга или капитана Бонневилля. В дальнейшем он раскрывал картину своего похода в виде последовательной серии рассказов. Одни он рассказывал в постели, другие — за завтраком, третьи — расхаживая в пижаме по спальне; в нижнем белье за бритьем; в брюках из грубой ткани и в выцветшей рубашке, сортируя на полу привезенные образцы; в своей сине-золотой форме в ожидании встречи с официальными лицами военного департамента. Джесси представляла себе, как он преодолевает реку Канзас в сотне миль от устья, испытывая резиновую лодку Николлета в быстром желтом потоке. Она продвигалась мысленно с ним в земли враждебно настроенных индейцев, где по утрам выдавался порох каждому участнику экспедиции. Она видела перед собой группу иммигрантов, направлявшихся в Колумбию и просивших Джона доставить их письма в Штаты. Она пересекла Большой Вермильон и поставила лагерь на большой возвышенности Блю, где холмы кишели антилопами, а деревья гнулись под тяжестью плодов. Джесси словно шла по свежим следам переселенцев в Орегон, — следам, помогавшим преодолеть одиночество в пути. Она чувствовала, что по мере продвижения на запад почва становится все более песчаной. Там по ночам лили дожди и налетали тучи москитов. Ее мучила два дня жажда по той причине, что ручьи около Биг-Триз по неясной причине пересохли, но когда она добралась до малой возвышенности Блю, то она, мужчины и лошади напились и искупались в чистом прохладном потоке. Каждую ночь она мысленно расставляла охрану и наконец благополучно добралась до Платта, где группа разделилась на развилке — Кит Карсон повел половину членов экспедиции по обычной Орегонской тропе к форту Ларами, а ее муж направился с остальными по пути к форту Сент-Врен. В форте Ларами она пережила драматические часы: Джим Бриджер сообщил, что сиу, черноногие и чейены объединяются на тропе войны, и было принято решение пробиваться вперед, невзирая на опасность. Затем последовал долгий переход по долине Суитуотер, и наконец наступил великий день 8 августа, когда экспедиция оседлала Южный перевал, составляя карты, схемы и обширные записи с целью зафиксировать дорогу для будущих переселенцев в Орегон. Джесси спросила мужа, не возражает ли он, если она прочитает его дневник. Она была восхищена его поэтическим воображением и вскоре заметила, что дневник состоит из блестящих фрагментов. Лейтенант Фремонт точно и красочно описывал то, что видел, но не имел стройного плана, который позволил бы ему соединить все части в цельную картину. Его дневник походил во многом на сырой материал, опубликованный Льюисом и Кларком, Кассом и Скулкрафтом. В таком виде его прочитают ученые, исследователи и студенты, но не широкая публика. Для того чтобы отчет лейтенанта Фремонта оказал добрую услугу переселению на Запад, он должен быть более популярным для чтения документом по сравнению с его предшественниками, включить все точные описания и стать литературным произведением. Она понимала, что должна проявить максимум такта, отыскать тонкий способ, чтобы привести его к выводу о том, каким должен быть его отчет конгрессу. Когда Джесси полностью оправилась после родов, она показала ему свою работу по истории исследований и, объясняя смысл этой работы, сумела убедительно изложить свою точку зрения, почему прежние описания экспедиций не стали достоянием широкой публики. Джон, казалось, проявил интерес, но не выразил желания привлечь ее к работе. Она установила для него пюпитр в их гостиной, разложила ручки, карандаши и пачку бумаги, обеспечила тишину и покой. Джесси поцеловала мужа, сказав: — Удачи, дорогой, уверена, что у тебя получится хороший доклад, — и закрыла за собой дверь. Во время обеда она увидела, что он расстроен — не смог написать ни слова. Джесси успокоила его, сказав, что первая страница всегда труднее дается, чем остальные девяносто девять, что после начала рассказ пойдет гораздо быстрее. В конце второго дня она обнаружила в своей гостиной кучу мятой бумаги, пюпитр, испачканный чернилами, а мужа — в таком плохом настроении, что не смогла поговорить с ним. Когда она на третий день тихо постучала в дверь, чтобы пригласить мужа к обеду, то увидела, что у него идет носом кровь. Она заставила его лечь на пол, вытерла его лицо и положила на лоб полотенце, смоченное холодной водой. — Не могу понять, Джесси, — сетовал он, — когда я рассказываю тебе о том, что происходило во время похода, это стимулирует и возбуждает меня, слова текут сами собой, и в моей голове возникают живые картины. Но как только я сажусь писать, слова становятся холодными, мертвыми. На какой-то момент Джесси запаниковала и спросила себя: «Что я сделала? Не оказала ли слишком большого давления, не выставила ли доклад в таком свете, что он не может больше над ним работать?» Паника прошла. Она спокойно сказала мужу, удерживая рукой холодное полотенце на его лице: — Возможно, тебя отвлекает сам механизм письма. Возможно, твой мозг работает быстрее твоих пальцев, которые не успевают записывать твои мысли. — Нет, думаю, что так действует на меня твое присутствие, Джесси. Ты стимулируешь меня, и я могу быстро думать и рассказывать, все словно оживает. В горле ощущалось биение пульса, когда она спросила: — В таком случае, мой дорогой, могу ли я служить твоим секретарем? Ты будешь мне рассказывать, как делал раньше, а я буду записывать твои рассказы. Она чувствовала себя неловко, делая такое предложение, даже дрожала, боясь, что он примет его за ее желание вмешаться, за попытку обрести голос и значение, используя в этих целях сотрудничество с ним. Он вскочил, обнял ее обеими руками и закружил в танце. — Джесси, моя любовь, я сижу как проклятый уже три дня в ожидании, когда ты предложишь свои услуги. Черт возьми, мне было одиноко здесь, ты обеспечила такой покой, что я почувствовал себя отшельником. В новогодний день 1843 года, ровно через год после посещения ими приема у президента Тайлера, Джесси села за пюпитр в своей гостиной, а Джон возбужденно ходил за ее спиной. Отец противился ее работе так быстро после родов. — Но пока я чувствую себя совсем хорошо. Этот доклад конгрессу так же важен для тебя, как и для Джона. Чем лучше мы его сделаем, тем больше амуниции ты получишь. — Это совершенно верно, — согласился он без улыбки, — если этот доклад получится хорошим, то можно получить разрешение на вторую экспедицию, на этот раз в Калифорнию. Но только, я понимаю, тебе потребуется еще месяц или два… Ей казалось, что мужу нужно помочь в организации материала. Она отвергла несколько скучных вариантов начала доклада и постаралась найти такое, которое не только заинтересует читателя, но и заставит его присоединиться мысленно к экспедиции и пойти по тропе к вздувшейся реке Канзас. При первом всплеске энтузиазма Джона она не смогла записать все, поэтому отобрала наиболее близкое к тому, что он сказал, а остальное отложила до поры до времени. Она начала соединять воедино части его изложения, делая более образными, чем у него, фразы, используя более выразительные и точные слова, когда он затруднялся. — Посмотрим, что ты сделала. Окончив читать, он прокомментировал: — Нет такого дурака, который не хотел бы выглядеть лучшим образом. Итак, их рассказ рос, иногда на пять отредактированных страниц в день. Она слышала такие истории раньше, она пересказывала их сама себе, зачастую своим сжатым и выразительным языком. Если она находила его прозу чрезмерно цветистой или поэтичной, пересказывала эпизод более простым языком, придавая нужный ритм, но боялась откровенно сказать ему об этом последнем эксперименте. Она вспомнила бурную сцену, когда ее отец обнаружил, что она не только редактирует его, но и придерживается презумпции сотрудничества с ним в составлении его речей для сената. Придя утром в гостиную, она застала мужа за чтением результатов работы в предшествующий день. На его лице было напряженное, в известной мере озадаченное выражение. — Джесси, когда я произнес эту фразу? Я ее не помню. Она сглотнула, чтобы прочистить горло, а потом ответила: — Ты этого не говорил. Порвем эти листы и переделаем раздел? Он подошел к окну, выходящему в сад. Она осталась неловко стоять около пюпитра, будучи не в состоянии угадать, что происходит в голове мужа. Прошло, как ей показалось, бесконечно много времени, когда он подошел к пюпитру и сказал бесстрастным голосом: — Могу ли я прочитать еще раз эти страницы? Она вручила ему пять сколотых скрепкой страниц. Окончив чтение, он вернул страницы Джесси: — Первый раз меня обеспокоили некоторые странные выражения. — После паузы он продолжил: — Я согласился в тот день, когда сделал тебе предложение, что наш брак будет сотрудничеством. Каждый из нас обладает своими талантами. Если ты обладаешь таким, какого мне не хватает, то мне просто повезло. Джесси расслабленно присела. Они трудились три месяца, чтобы завершить доклад в сто страниц. Несколько последних недель она работала одна, перечитывая и переписывая. Они договорились между собой, что первым увидит манускрипт Том Бентон. — Доклад хороший, — заявил ее отец, окончив чтение, — он не только положит начало волне иммиграции в Орегон, но и у нас не будет сложностей в получении ассигнований на очередную экспедицию. Через три дня отец вернулся из сената с хорошим известием: конгресс был весьма доволен и докладом, и картой, заказал дополнительно тысячу экземпляров, а большинство основных газет попросили разрешения перепечатать доклад. Была дана команда провести вторую экспедицию, выделены ассигнования, и лейтенанту Фремонту было доверено возглавить ее. Все они должны были выехать в Сент-Луис в течение месяца: Том Бентон — чтобы подкрепить свои политические позиции, готовясь к предстоящим выборам, Джон — чтобы собрать свою экспедицию, Джесси — чтобы жить в доме Бентонов во время отсутствия мужа. Это были ее счастливые дни: дочь, названная Лили, росла крепким красивым ребенком. Казалось, все в стране только и говорят о лейтенанте Фремонте, его экспедиции, докладе и карте. Его хвалили в печати, с трибун, в школах. Военный департамент и Топографический корпус признали его важный вклад. Лейтенант Фремонт воспринял эту честь скромно и с достоинством. А Джесси Фремонт тихо держалась на заднем плане, сияя любовью и гордостью, крайне довольная._/8/_
Множество чемоданов, сундуков и ящиков было доставлено накануне вечером на станцию железной дороги «Балтимор энд Огайо». На следующее утро Джесси, ее мать и отец, ее муж, Мейли с крошкой Лили на руках, Рэндолф и две молоденькие девочки сели в жесткий, пропахший дымом вагон, отправлявшийся в Балтимор. Эта поездка заняла большую часть дня. Они провели ночь на постоялом дворе около причала, с которого их багаж мог быть поутру погружен на пароход. Плавание к Филадельфии было приятным благодаря прохладной погоде. Они провели ночь и день в Филадельфии, затем сели в почтовый дилижанс, который, раскачиваясь и прыгая по разбитой дороге, доставил их вдоль долины Саскеванны в Гаррисбург. Отсюда отправлялись баржи, плававшие по каналу между Гаррисбургом и Питтсбургом, но четкого расписания не было, и они сочли, что им повезло, когда на вторую ночь они смогли сесть на баржу. Пароходы между Питтсбургом и Цинциннати считались самыми скоростными и роскошными для путешествия по Америке. Джесси и Джон общались с пассажирами, прислушивались к разговорам. Там были охотники и звероловы в своих кожаных одеяниях и енотовых шапках; перекупщики земли с наполненными золотом мешочками, направлявшиеся в новые города в Иллинойсе и Айове; непременные землемеры, стремившиеся на Запад, чтобы проложить новые дороги и определить расположение новых поселков; бродячие торговцы из Луисвилла и Цинциннати со своими товарами; английские авантюристы, рассчитывающие удачливо обосноваться в глухомани; подлинные жители пограничных районов, переселяющиеся на Запад в третий и четвертый раз; торговцы с Востока со своими женами и детьми, добивающиеся независимого существования в новом мире; экзальтированные ирландцы и немцы, вырвавшиеся из своих прежних стран и рвущиеся на Запад как в новый рай. Поездка должна была занять около двух-трех недель, кому как повезет. Но Джесси не спешила. Около нее был муж, и она беззаботно наслаждалась его обществом. Дорога была ей хорошо известна: впервые она проехала по ней, когда ей было всего десять месяцев; однажды, когда ей было три года, она выпала из кареты; она останавливалась почти на каждом постоялом дворе и в каждом частном доме на пути во время четырнадцати поездок, совершенных за девятнадцать лет. Они пересекли Миссисипи у Каиро 16 мая, в яркий, сверкающий весенний день, когда в Сент-Луисе бурлит жизнь, когда портовые рабочие наводняют берега реки, когда Миссури вспенена пароходами; суда и шаланды пришвартованы к грубым деревянным пристаням; дамбы усыпаны грузчиками-неграми, загружающими трюмы под звуки ритмических песен. Том Бентон настоял на том, чтобы проехать по Мейн-стрит и проверить, осталось ли гладким ее гранитное покрытие, и полюбоваться новыми зданиями. Они проехали мимо особняка полковника Огюста Куто, выходившего фасадом на Мейн-стрит и защищенного стеной трехметровой высоты и более чем полуметровой толщины, выложенной из камня, с бойницами для обстрела в случае набега индейцев. Проезжая в карете по обсаженной белыми акациями улице, они рассматривали сверкавшие белизной дома аристократов Сент-Луиса, величественный собор и епископальный сад. Далее по пути к дому Бентонов следовали небольшие улочки и скопление захудалых домов, поскольку Сент-Луис расширялся по частям, каждый строил как хотел и где хотел. Джесси заметила, как быстро вырос город. Он стал большим и дальше всех шагнувшим на Запад центром деятельности, удобной отправной точкой для экспансии в Мексику, Калифорнию, Орегон и Канаду и на большие просторы неосвоенных земель, лежащих между ними. Выглядывая из окна кареты, она видела красочные драматические и разноплановые сцены, знакомые еще с детства: охотники и звероловы в одежде, предназначенной для леса, дружественные индейцы в национальных костюмах, авантюристы и непоседы из всех европейских стран, одетые в свои оригинальные платья и говорившие на своем родном языке. В воздухе, как прежде, витал некий дух обеспокоенности, ведь Сент-Луис был не местом, где оседают люди, а скорее трамплином, с которого пускаются в авантюры. Для Джесси город был последним прибежищем цивилизации: сюда стекался целый мир, желающий оторваться от нее, броситься в неизвестное, и лишь немногие понимали, что поток переселенцев неизбежно несет эту цивилизацию все дальше на Запад до тех пор, пока вся Америка и все неосвоенные земли не будут заселены. Том Бентон около двадцати лет назад построил свой дом в таком удалении от делового района Сент-Луиса, что он все еще находился на окраине, и вокруг было сравнительно тихо. Когда Том приехал сюда в 1817 году с четырьмя сотнями долларов в кармане, он вложил триста долларов в десять акров земли около небольшой деревни. Через два года так быстро возросло движение через пограничный порт на Миссисипи, так много скапливалось здесь караванов вооруженных торговцев, путешественников, звероловов Американской пушной компании, что Том Бентон начал продавать свои земли по две тысячи долларов за акр. Дом Бентонов утопал в тени акаций с их гроздьями пахнущих ванилью цветов. Построенный в преобладавшей в тех местах креольской манере, дом имел центральный дворик, выложенный каменными плитами. Посадки белой акации создавали зеленый занавес для широких галерей вдоль дома. Половые доски из черного ореха были навощены до блеска. Том Бентон заложил дом к югу от гавани и делового квартала, на небольшом возвышении, с которого открывался вид на широкое мутное русло Миссисипи. Джесси устроилась в южной спальной комнате, окна которой выходили на поредевший грушевый сад Тома Бентона. В комнате стояли легкая кровать из дерева черешни, секретер и стулья, купленные Томом у ранних французских иммигрантов. Хотя Джесси угнетала мысль, что ее муж уедет через неделю или две, она чувствовала себя счастливой в Сент-Луисе, где каждый был заинтересован в экспансии на Запад, где редко говорили на иную тему, где любой незнакомый прохожий мог объяснить ей, как далеко прошел лейтенант Фремонт и почему так важно для него отыскать более легкий перевал через Скалистые горы. В Вашингтоне ей удалось скрасить свое одиночество в течение шести месяцев его первой экспедиции, следуя за ним по большой карте. Здесь же, в Сент-Луисе, ей не нужен искусственный стимул, чтобы чувствовать себя нормально. В Сент-Луисе жили представители всех рас, исповеданий и философских течений, существующих в мире, и если, как думала она, ее судьба оставаться дома и ждать мужа, тогда самое лучшее место, разумеется, там, где собран весь мир и где едят, дышат, спят и грезят экспедицией. Джесси не хватало лишь бабушки Бентон, умершей пять лет назад. Встреча с бабушкой Бентон, когда они приезжали в Сент-Луис, происходила по раз и навсегда заведенному распорядку. Став инвалидом в восемьдесят лет, Энн Бентон носила свое лучшее черное платье и всегда была в ожидании, чтобы приветствовать своего сына и его семью вкомнате в конце нижней галереи. Первые моменты встречи смущали Джесси, поскольку ее отец, счастливый тем, что вернулся домой, не скрывал слез, наклоняясь, чтобы поцеловать бабушку. Когда же наступала ее очередь приветствовать молчаливую старую леди, сидевшую на кушетке, она дрожала, увидев белые пальцы, показывавшие, что надо приблизиться, и ощутив прикосновение сухих губ к ее щеке. Казалось, не было разумной причины, почему Энн Гуч Бентон оставила свой благоустроенный дом в Северной Каролине, в Хиллсборо, в 1798 году, где была окружена родственниками и друзьями, где жизнь была безопасной и обеспеченной. Но миссис Бентон после смерти молодого мужа упаковала пожитки, посадила детей и рабов в несколько фургонов и направилась по долгой, опасной, протянувшейся на четыреста миль тропе через горы Каролины и темные хвойные леса в Нашвилл. За несколько лет до этого ее муж получил большие земельные угодья в Теннесси от короля Англии. Тогда эти земли ничего не стоили, не были заселены, в них господствовали враждебные индейские племена. Здесь она основала поселение Вдовы Бентон, построила свою бревенчатую хижину, церковь, школу и лавку. Вдова Бентон предлагала поселенцам, приезжавшим по тропе, бесплатную аренду земли сроком на семь лет, после чего она либо продавала, либо сдавала за умеренную цену землю осевшим семьям. Энн Бентон сознательно предпочла жить в глуши. Эта страсть к расчистке, к новизне, к возможностям первопроходца пустила глубокие корни в сердце Тома Бентона. Крохотный пост Сент-Луиса, основанный французами, крайне нравился ему, и он чувствовал себя удобно в нем. Том бросил свою адвокатскую практику в Нашвилле и переехал в Сент-Луис. Хотя он с трудом говорил по-французски, французские поселенцы уважали его и доверяли ему. Затем начали приезжать и селиться другие американские семьи, и Том Бентон превратился в связующее звено двух национальных групп. К концу года он был включен в число опекунов школы, начал писать политические статьи в газету «Миссури инкуайрер», был назначен одним из редакторов, пропагандирующих немедленное исследование необжитых земель, чтобы «навсегда поставить эти земли под господство нашего народа». К 1820 году его положение казалось надежным: он построил себе большой дом, перевез мать в Сент-Луис, сыграл важную, активную роль в превращении Миссури в штат, был избран в первое законодательное собрание, помогал в разработке конституции штата, а потом выбран одним из двух сенаторов штата. Приехав в Вашингтон-Сити, он увидел скопление скверных домов вдоль реки и около болот. Большинство конгрессменов оставляли семьи дома, жили в третьеразрядных меблированных домах и выезжали из столицы при первой возможности, проклиная сырость, малярию и несчастную жизнь. Но Том Бентон полюбил этот только что родившийся город. Он привез жену и детей в Вашингтон, объявил его своей второй родиной, снял самый хороший дом, какой удалось найти, а затем купил свой. Он призывал коллег-конгрессменов брать с собой семьи, чтобы можно было основать школы, церкви и обустроить Вашингтон. Дни Джесси в Сент-Луисе были заполнены, ибо теперь она выполняла роль секретаря как отца, так и мужа, и ничто не могло заставить ее отказаться от этой работы. Солнце вставало над Миссисипи в пять часов утра, и, хотя она плотно закрывала шторы, Джон просыпался при первых лучах света. Через полчаса он уже был одет, успевал съесть свой завтрак и покинуть дом. В шесть часов утра Джесси и ее отец завтракали на свежем воздухе в длинной галерее нижнего этажа. Эта галерея была одновременно кабинетом Тома Бентона. Там он поставил диван, стол и то, что он называл колонией стульев. К шести тридцати утра появлялись первые посетители, чтобы обсудить последние сообщения из Вашингтона и проблемы Миссури. Джесси вела записи этих утренних встреч, чтобы отец, вернувшись осенью в Вашингтон, имел при себе эти заметки. В одиннадцать часов возвращался ее муж, завершив дневную организационную работу. После ланча он диктовал ей материалы, касающиеся экспедиции: имена шестидесяти с лишним охотников и звероловов, едущих с ним, ведомости на получение каждым из них одного доллара в день, ведомость на сто долларов в месяц для Кита Карсона — сумма неслыханная, но Джон отстаивал ее на том основании, что в Америке нет никого, равного Киту Карсону. Составлялся список закупленных материалов с указанием их стоимости, научного оборудования, необходимого для полной отчетности экспедиции: компасов, телескопов, секстантов, хронометров, барометров. Обед подавали в пять часов, после чего приходили друзья и родственники — на музыку, танцы и отдых, ведь Сент-Луис был веселым городом во французской традиции, и в каждом доме хранилась скрипка. Вскоре ее двойная нагрузка прекратилась. Отец отправился в объезд штата в избирательных целях, а Джон приготовился уехать на пристань Коу, где собирался весь состав экспедиции, находились откормленные лошади и откуда начиналось долгое путешествие в Орегон. За несколько дней до отъезда он попросил жену: — Не можешь ли ты пригласить полковника Кирни на обед? У меня есть особое дело к нему, и я хотел бы обговорить его наедине с ним. — Я это устрою. Полковник Стефан Уоттс Кирни, комендант казарм Джефферсона в окрестностях Сент-Луиса, пришел на обед в знойный полдень 1 июня. Это был бывалый солдат, с рыжими волосами, желтым лицом и скрипучим голосом. Он отличился в войне 1812 года не потому, что был блестящим стратегом, а благодаря бесстрашию и упорству — он брал не умом, а вытеснял противника. У него были грубые манеры неуклюжего человека, проведшего тридцать лет в глуши и в военных лагерях. После приятной беседы Джон спросил: — Полковник Кирни, не считаете ли вы возможным дать мне пушку на время экспедиции? Гость Джона вынул изо рта сигару: — Пушку! Для чего вам нужна пушка? — Я ожидаю серьезных неприятностей от индейцев. В прошлом году их престиж потерпел урон: они не смогли напасть на нас, выйдя на тропу войны. Я понимаю так, что они ищут возможности отомстить. — Понимаю. — Кроме того, — продолжал Джон, — я думаю, пришло время показать, что армия в состоянии перемещать свое тяжелое снаряжение через континент… — Но ведь вы командуете не военной, а научной экспедицией, — прервал его полковник Кирни. — Вид этой пушки может вызвать у индейцев, да и у англичан и испанцев подозрение, будто мы посылаем армию для завоевания. — И все это с одной небольшой пушечкой, полковник? Мое главное соображение — показать, что мы можем перевезти такую тяжесть, как пушку, через новый перевал в Скалистых горах, который, я надеюсь, мы найдем. Если мы сможем переправить через него пушку, то тогда караваны иммигрантов будут знать, что и они могут провести свои фургоны через перевал. — По глубокому снегу? Лейтенант, вы никогда не сможете сделать этого. Вы надорветесь, стараясь перетащить пушку через перевал. — Вы бесспорно правы, полковник, — ответил Джон, — но я все же хочу попытаться. Можете выделить мне пушку? Обещаю доставить ее обратно в казармы Джефферсона к концу года. Полковник Кирни некоторое время молчал, попыхивая сигарой. — Хорошо, если вы так страстно хотите. Я не думаю, чтобы пушка потребовалась нам в Миссури в следующем году. Через три дня Джесси вновь проводила мужа, на этот раз без слез. После завершения работы по составлению карты дороги в Орегон и выявления нового прохода через Скалистые горы, более легкого, чем Южный перевал, Джон должен был спуститься со своей группой в Калифорнию. При этом он должен был проявить осторожность, чтобы не встревожить и не оттолкнуть мексиканское правительство, заверить местных губернаторов из Мехико-Сити, что его экспедиция — чисто научная, но в то же время обследовать профиль местности, поговорить с американцами, владеющими там ранчо, познакомиться с калифорнийцами и составить представление о военной силе мексиканских гарнизонов, узнать, что потребуется, чтобы Калифорния перешла в руки американцев, ибо никто не сомневался, что Мексика потеряет Техас и Калифорнию. Жители западных штатов и территорий были настроены самым решительным образом против того, чтобы англичане владели Калифорнией. — Я хочу поехать с тобой в Калифорнию в следующей экспедиции, — сказала Джесси. — Хочу обосноваться там. — Но я сомневаюсь, чтобы на всей тамошней земле было больше полудюжины американок. — Меня не тревожит, если я окажусь первой, — ответила она. — Более того, мне это даже понравилось бы. У нас в семье уже есть Бентонвилл. Теперь наш долг заложить Фремонтвилл. Джон рассмеялся: — Я уверен, что смогу дойти до форта Саттер, это даст мне возможность исследовать долину Сакраменто. Я слышал, что там плодородные земли. Я исследую окрестности, посмотрю, смогу ли я найти подходящее место для Фремонтвилла. Если найду, поставлю вешку. — Прекрасно, — сказала Джесси, — а как только Калифорния станет штатом, тебя пошлют в Вашингтон в качестве ее первого сенатора. Она установила для себя напряженный режим, который, как она надеялась, оставит ей мало времени для одиночества. Она вставала в шесть утра, шла в детскую комнату поиграть с Лили, в семь часов относила матери кофе и булочки, в восемь — отправлялась в кухню с Мейли, чтобы наметить дневные покупки и меню, после этого говорила со старым Габриэлем относительно работ в саду. Избавившись от обыденных хлопот по дому, она работала по намеченной схеме интеллектуальной активности: ежедневно четыре часа для чтения — один час на испанском, один — на французском, чтобы поддерживать их в активном состоянии, и два часа — для чтения и составления выписок из книг отца по истории. Ей предстояло выдержать почти год без мужа. Первая из пятидесяти недель прошла довольно быстро, поскольку ей даже понравилось установление дисциплины для себя. На исходе двенадцатого дня прибыл почтовый катер. Габриэль принес ей депешу из военного департамента, адресованную лейтенанту Джону Ч. Фремонту. Имея указание мужа вскрывать всю почту, чтобы принимать в случае необходимости соответствующие меры, Джесси отложила в сторону шитье и разрезным книжным ножом из слоновой кости вскрыла конверт. Она прочитала:«Лейтенанту Джону Ч. Фремонту, Топографический корпус США, Сент-Луис, Миссури. Сэр, Настоящим Вам приказывается передать Вашу экспедицию второму по команде и немедленно прибыть в Вашингтон. Необходимо представить объяснение, почему Вы взяли двенадцатифунтовую гаубицу в мирную научную экспедицию. Будет послан другой офицер Топографического корпуса возглавить экспедицию. Полковник Дж. Дж. Аберт».Бумага выпала из ее дрожавших пальцев. Лейтенанта Фремонта вызывают в Вашингтон? Но это невозможно! Группа должна отплыть от пристани Коу через несколько дней, чтобы успеть до снегопада перебраться через Скалистые горы. Другой офицер в качестве командующего! Как может другой офицер принять группу, подобранную Джоном? Он отладил каждую деталь экспедиции, расписал переходы с научной точностью; реорганизация потребует недель, половина участников уйдет, состав группы станет случайным, и она сможет выполнить лишь самую незначительную часть намеченного. Затем сознание пронзила парализующая мысль: что будет с ее мужем? Не накажут ли его в Топографическом корпусе в Вашингтоне, не посадят ли его за стол заниматься рутинной работой или пошлют в какой-нибудь захудалый форт? Эта вторая экспедиция, призванная пройти весь путь до Орегона, — самая важная с тех пор, как президент Джефферсон послал Льюиса и Кларка пересечь континент. Если экспедиция будет удачной, то Джон добьется еще большего. Но если его отстранят, для него не будет больше экспедиций, его место займет другой, обладающий лишь крохотной частью его талантов в исследовании неизведанных земель. Джесси спрятала приказ на дне своей корзинки для шитья, потом вышла во двор и подставила лицо жаркому солнцу. «Я слишком привязана ко всему плану, — думала она, — чтобы он оказался под ударом. Я просто не могу подвести Джона и его группу, не могу подвести своего отца и сторонников освоения Запада, так много лет добивавшихся этих экспедиций. Я должна спасти экспедицию! Но как?» Джесси знала, что второй экземпляр письма военного департамента должен быть на почтовом катере доставлен на пристань Коу. Как только Джон получит письмо, у него не будет иного выбора: он должен оставить экспедицию и отправиться в Вашингтон. Ответ она нашла почти немедленно — второй экземпляр не должен попасть к нему! Экспедиция должна выступить до того, как он узнает о своем отзыве! Джесси послала Габриэля позвать франко-канадца Де Розье, которому Джон разрешил задержаться на две недели в Сент-Луисе из-за нездоровья жены. Де Розье пришел через полчаса. Это был высокий черноглазый зверолов, проведший лучшую часть жизни в лесах. — Де Розье, у меня есть срочное послание, и его нужно незамедлительно доставить лейтенанту Фремонту. — Я возьму его, мадам. — Сколько времени нужно вам для подготовки? — Столько, сколько требуется оседлать коня. — Вы знаете местность между этим городом и причалом Коу? — Как свои пять пальцев. — Сможете ли вы добраться туда раньше почтового катера? — Разумеется, мадам Фремонт. Я знаю, как срезать изгибы реки. Я могу также выиграть время за счет того, что по ночам катер вынужден становиться на якорь из-за тумана. — Хорошо! Полагаюсь на вас, Де Розье. Это послание должно попасть в руки лейтенанта Фремонта до того, как туда прибудет почтовый катер. Ясно? — Прекрасно, мадам. Могу ли я взять брата с собой? Две лошади скачут вместе лучше одной, и мой брат доставит вам письмо от лейтенанта Фремонта. — Чудесная мысль. Мне нужна всего минута, чтобы написать послание. Она пошла к письменному столу отца, где лежали ручки, чернила, бумага. Не колеблясь, она написала:
«Мой самый дорогой! Не откладывай выход ни на один день. Доверься мне и выступай немедленно».Джесси запечатала конверт, вручила его Де Розье. Он сказал с серьезной миной: — Не беспокойтесь, мадам. Послание будет передано вовремя. — Да благословит вас Бог, — сказала Джесси. Она вернулась к письменному столу отца, села, внутри нее все словно обмякло. Она не чувствовала ничего, кроме леденящего душу страха: а вдруг что-нибудь случится с Де Розье на пути к причалу Коу и второй экземпляр приказа от Топографического корпуса дойдет до Джона раньше ее записки? День и ночь слились воедино в лишающую сна череду надежд и тревоги. Доверится ли муж ее мнению? Выступит ли он немедленно, даже если группа не совсем готова? Или же он пренебрежет ее запиской, сочтя ее вспышкой истерии, к которой склонны женщины? Это было первым подлинным испытанием Джона Фремонта, обещавшего считать ее полноправным партнером и доверять ее мнению. Она не знала, сколько дней прошло — три, четыре, когда брат Де Розье галопом примчался к дому Бентонов, соскочил с коня и постучал в дверь. Он вытащил из-за пазухи своей кожаной куртки запачканный и пропитанный потом конверт. Протягивая конверт Джесси, он сказал: — Лейтенант Фремонт шлет вам это послание, мадам. Я привез его так быстро, как могла скакать моя лошадь. — Спасибо, Де Розье, вы и ваш брат были несказанно добры. Джесси вскрыла конверт и прочитала:
«До свидания. Я верю и выступаю».Стоя в проеме двери, чувствуя слабость и в то же время торжествуя, Джесси тотчас же подумала: «Никто не должен знать о содеянном! Братья Де Розье не проговорятся. Мы просто заставим военный департамент считать, что его приказ опоздал с доставкой на причал Коу». Однако она сразу же отвергла такую мысль. Она не боялась содеянного ею и не стыдилась. Взяв в руки то же самое перо, каким она написала послание мужу, Джесси составила письмо полковнику Аберту о своем поступке. Она изложила причины, почему нужна пушка, чтобы пройти через территорию черноногих, почему было бы трагической ошибкой отзывать лейтенанта Фремонта в тот момент, отставить экспедицию или же передать отобранных им людей под командование другого офицера. Она закончила письмо словами, что готова подвергнуться следствию и суду по возвращении в Вашингтон, но полагает, что результаты этой второй экспедиции окажутся настолько благоприятными для полковника Аберта и Топографического корпуса, что ее поступок будет оправдан полностью. Джесси писала смело и уверенно, но, как только Габриэль отнес письмо на почту, отвага покинула ее, и она упала ниц на кровать. Она не сомневалась, что муж одобрит ее решение. Но как поведет себя отец? Том Бентон относился сурово к дисциплине. По какому праву девятнадцатилетняя женщина взбунтовалась против правительства Соединенных Штатов? Она была уверена в своей правоте, однако также была уверена, что если отец осудит ее, то она никогда больше не выдержит годовой разлуки с мужем. На следующее утро пришел полковник Стефан Кирни, его лицо и белки глаз были еще более желтыми, чем обычно. — Я только что получил письмо от военного департамента, — сказал он холодным тоном, — упрекающее меня в том, что я предоставил лейтенанту Фремонту гаубицу для экспедиции. Это моя вина — я не проявил твердости и не разубедил лейтенанта. Мне не нравится получать, нагоняи от военного департамента, Джесси, но я не такой эгоист, чтобы думать только о моем унижении. Я огорчен, что лейтенант Фремонт отозван в Вашингтон. — Он не возвращается в Вашингтон, полковник Кирни, — сказала Джесси тихим, но твердым голосом. — Не возвращается?.. Меня информировали письмом, что ему дан приказ вернуться. — Этот приказ никогда не дойдет до него. Он выступил в поход несколько дней назад. — Я не понимаю, Джесси. Экземпляр письма должен был быть доставлен вам, поскольку вы в курсе дела. Лейтенант Фремонт не должен был покидать по плану причал Коу еще неделю. Почтовый катер должен прибыть туда к данному моменту с копией приказа. — Вот почему я должна была действовать быстро, полковник Кирни, — ответила она. — Когда ко мне поступила депеша из Топографического корпуса, я послала записку лейтенанту Фремонту с просьбой немедленно покинуть лагерь. Я не указывала в записке причин. Вчера я получила сообщение, что он выступил в поход. Джесси видела, как кровь прилила к голове полковника, желтые белки его глаз прочертили налившиеся кровью сосуды. Одновременно его губы побелели. Его голос, когда он заговорил, был глухим: — А вы не подумали о том, что такой поступок падет на мои плечи? Что меня осудят не только за предоставление лейтенанту Фремонту гаубицы, но и за то, что наличие этой пушки может вызвать осложнения с индейцами, англичанами, мексиканцами? Все последствия падут на меня. — Последствий не будет. Лейтенант Фремонт использует пушку только в случае нападения на него. — Не вам это говорить! — закричал полковник Кирни. — Мы на грани войны с Мексикой и Англией. Как мы сможем объяснить, что армейская гаубица под началом армейского офицера оказалась на спорной территории? Я говорю вам, Джесси, этот инцидент может ускорить начало войны. Каким дураком я был, позволив неопытному и импульсивному офицеру втянуть меня в такой безумный поступок! Джесси видела, что его страх был искренним, и не только за себя, но и за страну в целом. Она заговорила примирительным тоном: — Я огорчена на самом деле, полковник Кирни. Огорчена не потому, что лейтенант Фремонт взял с собой пушку, поскольку она защитит его группу от мародерствующих индейцев. И не потому, что перехватила приказ лейтенанту Фремонту о возвращении в Вашингтон. Я глубоко огорчена причиненными вам неприятностями. Я уже написала полковнику Аберту о своем поступке и принимаю на себя всю ответственность. Я ему вновь напишу сегодня и объясню, что лейтенант Фремонт взял пушку под свою ответственность и что вы к этому непричастны, что он возьмет на себя всю ответственность за случившееся. Напряженная фигура полковника Кирни несколько смягчилась. — Ох, Джесси, — сказал он, слегка успокоившись, — вы такая разумная во многих отношениях и вместе с тем такой ребенок! Вы на самом деле думаете, что ваше письмо в военный департамент избавит меня от ответственности, если лейтенант Фремонт нарвется на неприятности? И разве вы не понимаете, какой страшный проступок вы совершили, скрыв приказ? — Это вопрос о соотношении ценностей, полковник. Я оказалась перед выбором: либо экспедиция не состоится и все сделанное моим мужем и отцом окажется разрушенным, либо я возьму дело в свои руки. Я разрешила дилемму, как сочла правильным. — Джесси, сядем. Я должен поговорить с вами как друг, знавший вашего отца еще до вашего рождения. Вы понимаете, моему сердцу близки ваши интересы, именно поэтому я должен попытаться побудить вас понять. Они сели рядом, и на некоторое время воцарилась тишина. Затем полковник Кирни заговорил сухим солдатским языком: — Джесси, нельзя ослушаться приказа военного департамента или его старших офицеров независимо от того, насколько правым считает себя ослушавшийся или насколько, по его мнению, не правы командующие. — В обычных условиях это было бы правильным… — Это правильно при всех обстоятельствах. Армия развалится без полной дисциплины, в особенности гражданская армия. Мятеж создает хаос — это верно в отношении не только армии, но и всего демократического правительства. Когда полковник Кирни произнес слово «мятеж», Джесси была глубоко шокирована тем, что ее действия могут быть названы мятежом. Когда же она смогла собрать воедино свои мысли, то ей показалось, что предпринятое ею отвечало здравому смыслу, интересам экспедиции, армии, правительства. — В таком случае вы претендуете на право определять мятеж согласно вашим собственным критериям? — спросил полковник. — Разве вы не понимаете, любой человек, обвиненный в мятеже, поклянется, что он не задумывал мятеж, а осуществил акцию, соответствующую обстоятельствам? — Он грустно покачал головой. — Нет, я полагаю, что женщины не понимают таких вещей. Вряд ли можно найти мужчину, который одобрил бы ваш шаг, Джесси. — Лейтенант Фремонт одобрит. — Тем хуже для лейтенанта Фремонта. Если бы вы были мужчиной, то поняли бы, что я имею в виду. Но не думайте, что ваш статус женщины оправдывает ваши действия. Я не знаю такой женщины, которая одобрила бы ваше поведение. Джесси покачала головой в знак несогласия с таким заявлением: — Я думаю, что многие женщины в подобных обстоятельствах сделали бы для своих мужей то же, что сделала я. — Тогда я могу сказать, что ради общего блага жен лучше держать вдали от мужских дел. Если бы все женщины были способны создавать хаос, подобный тому, который возник по вине вашего темперамента, тогда работа мужчин вообще бы прекратилась. Энн Ройяль назвала бы вас современной женщиной, но, по-моему, вмешивающаяся в мужские дела женщина — это регресс, а не прогресс. Полковник умолк на минуту, не отводя от нее глаз. — Джесси, много раз наши старшие офицеры были не правы и ошибались, так же как и наши выбранные представители. Но мы причинили бы намного больше вреда, выступая против плохих приказов, чем выполняя их. Мы создали нашу собственную форму правления, и без дисциплины и послушания, которые мы сами возложили на себя, мы не сможем поддерживать наш образ жизни. Полковник встал, взял свою шляпу, прижал ее левой рукой к своему телу и добавил: — Я сожалею о случившемся. Я сожалею об этом, хотя лично глубоко заинтересован в экспедиции и в экспансии на Запад, как вы, сенатор Бентон, лейтенант Фремонт. Скажу, что полковник Аберт ошибался, отзывая лейтенанта Фремонта. Скажу, что экспедиция оказалась бы неудачной без его командования. Скажу, что осуществление экспансии на Запад было бы задержано. Но, даже учитывая все это, я все же сожалею, что вы выступили против установленной власти. Я надеюсь, что полковник Аберт решит ничего не предпринимать. До свидания, Джесси. Ожидание возвращения сенатора Бентона в Сент-Луис было самым тяжким испытанием. Она была уверена в своей правоте, в том, что нельзя слепо подчиняться, что любое правило может быть нарушено при чрезвычайных обстоятельствах. И тем не менее она понимала, что полковник Кирни ответит на это: «Каждый человек считает, что его собственный случай и есть эти чрезвычайные обстоятельства». Ее отец вернулся домой через несколько дней. Охваченная нетерпением, она выпалила историю, не дав ему даже умыться или отдохнуть после длительной поездки по штату Миссури. Джесси следила за выражением его лица, пока говорила, стараясь уловить хотя бы признаки того, что он одобряет ее поведение. Но лицо Тома Бентона было непроницаемым. Когда она пересказала слова полковника Кирни, он какой-то момент сохранял неопределенное молчание. Джесси охватил страх, ибо она поняла, что отец не намерен согласиться с ее действиями. — Я хотел бы… я хотел бы, чтобы ты подождала, посоветовалась со мной, Джесси… — Но, отец, не было времени, речь шла о часах, даже минутах. У меня не было уверенности, обгонит ли Де Розье почтовый катер. Это была игра, и ее исход мне был неизвестен до возвращения его брата… — Да, да! — воскликнул он, встав со стула. — Ты поступила правильно! Черт побери этих идиотов в Вашингтоне. Неужели они не понимают, что, сломав экспедицию, готовую отправиться, когда вся страна жадно ждет ее результатов, они совершают чудовищную ошибку? Неужели они не понимают, что нельзя просто так убрать командующего офицера и воткнуть любого другого на его место, не понимают, что исследование — сложное и трудное дело? Что было бы с британским флотом, если бы лорд Нельсон не приставил телескоп к слепому глазу, когда адмирал издал глупый приказ? Что случилось бы с человеческими мозгами и душой, если бы мы не считались с собственными суждениями, если бы мы вели себя подобно машинам даже перед лицом саморазрушения? Таков чертовский военный ум, Джесси, он понимает только послушание и еще раз послушание независимо от того, приведет ли это вас к смерти или нет. — В таком случае, ты не считаешь, что я допустила мятеж? — Определенно, нет! Ты в величайшей степени послужила нам. Полковник Аберт будет первым, кто согласится, когда экспедиция вернется с триумфом. Мятеж может зреть долго, но это порой и является гением демократии. Однажды я сам восстал против военного департамента. Это случилось в конце марта 1813 года, когда я служил полковником под началом генерала Эндрю Джэксона. Мы пододвинули нашу небольшую армию к Натчезу, но в это время получили приказ от военного департамента распустить войска. Когда генерал Джэксон показал мне депешу, я посоветовал ему ослушаться. Я сказал: «Депеша обозначена 6 февраля. Военный министр предполагал, что его депеша будет доставлена нам до того, как мы окажемся далеко от дома. Сейчас мы в пятистах милях от Нашвилла. Это армия генерала Джэксона. Она должна вернуться домой под командой Джэксона. Мы можем обратиться к губернатору Уилкинсону за средствами и транспортом, чтобы перевезти больных и уладить споры с лавками». Наш небольшой мятеж спас здоровье и лояльность армии Теннесси, и, когда генерал Джэксон вновь вернулся на поле боя, войска сражались под его началом у Нового Орлеана и помогли выиграть войну 1812 года. Дай мне чернила и бумагу, Джесси. Я напишу полковнику Аберту и приму всю ответственность на себя. Ты должна представить себе, будто действовала в качестве моего агента; будь я здесь в тот момент, я поступил бы точно как ты. Когда отец закончил писать письмо, Джесси тихо спросила: — Что самое худшее могут сделать с нами? Том Бентон перечитал письмо не ответив. — Отец, я задала тебе вопрос. Что самое худшее может сделать армия лейтенанту Фремонту? Не поднимая головы, он сказал ровным голосом: — Ничего. Когда Джон возвратится в Вашингтон и будет опубликован второй доклад, Топографический корпус поблагодарит тебя… — Я хочу ясно видеть самые плохие последствия сделанного мною, чтобы быть к ним готовой. Что самое худшее ждет моего мужа? Том Бентон вгляделся в милое, решительное лицо своей дочери и понял, что нет смысла обманывать ее. — Военно-полевой суд. Увольнение со службы.
_/10/_
Она лежала в своей зашторенной спальне, воздух благоухал ароматом, помогавшим заснуть. Но она не могла сомкнуть глаз: ее терзала мысль, что ее муж будет предан военно-полевому суду и уволен со службы по ее вине, что он не простит ее и перестанет любить, что она разрушила их брак, а женщине не следует ни при каких обстоятельствах вмешиваться в работу мужа, а стоять в стороне, чтобы в случае неуспеха мужа и неприятных последствий это не стало виной жены; муж не должен обвинять ее за действия, которые могут быть причиной подрыва брачных отношений. Встав на рассвете, она боялась, что будет бледной и помятой. Но, посмотрев в зеркало, не нашла следов бессонной ночи, лишь у левого уголка рта ее чистая и мягкая кожа несколько вспухла. Она не пыталась восстановить самодисциплину, которой следовала до поступления судьбоносного письма из Вашингтона. Вместо этого она отдалась на милость потока дней, не строя никаких планов, лишь присматривая за матерью и Лили. Дни не были такими уж плохими. Утром она работала несколько часов с отцом. В дом приходили люди обсудить вопросы торговли, политики и исследований. Но по ночам она бодрствовала в своей большой французской кровати под балдахином с четырьмя колонками, тоскуя о муже, думая о том, как сообщить ему о содеянном ею и получить от него оправдание своих действий. Однажды в полдень она совершила прогулку вдоль Миссури на окраине города, где на широком лугу разместилось несколько караванов переселенцев, занимавшихся последними приготовлениями к отъезду. Изготовители фургонов, продавцы волов, мулов и лошадей предлагали свой товар, представители бакалейщиков, портных и оружейников расхваливали свою продукцию. Джесси привлекли большие буквы ДЕЛАВЭР, написанные на ярко-синем брезенте фургона. На перевернутом тазу около фургона сидела женщина примерно ее возраста, баюкая ребенка. Ее улыбчивые голубые глаза посмотрели на Джесси из-под розовой шляпки, украшенной оборками. — У меня девочка примерно того же возраста, что ваш ребенок, — сказала Джесси. — Как зовут вашего? — Джон, по имени отца. — Моего мужа также зовут Джон. — Ну, вот какое совпадение, не так ли? Вы также едете в Орегон? — Нет… То есть еще не едем. — Но это больше не опасно. Посмотрите, я покажу вам карту, она была составлена тем военным офицером. Молодая женщина взобралась на сиденье своего фургона и вытащила из сумки, пришитой к брезенту, много раз побывавшую в руках бумагу. — Видите, вот здесь показано, где много травы для лошадей, где нужно запастись водой и как проехать по перевалу в горах. И индейцы не так уж страшны, если семьи остаются вместе и сражаются вместе. — Я бы не испугалась, — сказала Джесси. — Мой отец научил меня стрелять из ружья. Взволнованная ясно прозвучавшим в голосе Джесси желанием, молодая женщина серьезно посмотрела на собеседницу: — Не хотите ли вы со своими родичами поехать с нами? У нас здесь три фургона. Знаете ли вы, что там можно получить большой участок хорошей земли и таким образом избавить своих детей от участи наемников? Джесси заплакала. Импульсивно женщина взяла ее руку. — Скажу вам, что я сделаю, — заметила она. — Назовите ваше имя и адрес. Когда мы приедем в Орегон, я напишу вам все о дороге, как по ней лучше проехать. Может быть, в следующем году вы сможете приобрести собственный фургон и присоединиться к нам там. Мое имя — Мэри Олгуд. А как вас зовут? Прошло долгое лето, а от Джона не было весточки. Она не беспокоилась о его благополучии, и все же в глубине души ее тревожила мысль об опасности. Ведь достаточно небольшого инцидента — перевернулась резиновая лодка на реке Платт, ослабла бдительность ночью, одна индейская стрела… Картины такого рода ей удавалось отгонять от себя в дневное время, но по ночам они назойливо нависали, как тяжелое промокшее и липучее покрывало, и часы от сумерек до зари были в сотни раз более длинными, чем от зари до заката. Осенью ее отец должен был вернуться в Вашингтон на очередную сессию конгресса. Для них обоих расставание было трудным. — Я понимаю, какими бесконечными кажутся тебе ожидание и неопределенность, — сказал он. — Прошу тебя, не поддавайся грусти. Не сопротивляйся бегу времени, иди с ним в ногу. Скоро все вернется к тебе, и лейтенант Фремонт вновь будет дома. Время тянулось медленно, и она пришла к осознанию двойственности своей любви к Джону и двойственности своей собственной личности. Она была женщиной, любившей мужа как мужчину, и одновременно женой, любившей его как партнера в супружестве. Ведь именно жена отправляла его в длительные и опасные экспедиции, — жена, честолюбивая не по отношению к самой себе и мужу, а к их супружеству. Именно жена, крепкая, как закаленная сталь, способна выдержать лишения и тяготы, и именно эти качества заставляли зачастую страдать женщину, у которой не было иного желания, как оставаться с любимым мужчиной. Она принимала важные решения как жена, верившая в то, что брак представляет высочайшую цель отношений между мужчиной и женщиной, что ему должно быть все подчинено, но, когда одиночество брало верх над ее чувствами, тогда она считала, что самое важное в отношениях между мужчиной и женщиной — это их любовь. И она должна поддерживаться даже за счет сотрудничества в супружестве. В такие моменты она охотно заключила бы его в свои объятия, забыв об экспедиции и карьере. Ее отец приехал домой на Рождество. Все прошедшие шесть месяцев от Джона не было писем, но к ее тревоге примешивалось хорошее настроение, вызывавшееся тем, что с момента разлуки прошло уже полгода. Том Бентон настаивал на том, что они не должны падать духом; он последовал обычаям немцев Сент-Луиса и организовал елку для Лили. Несколько близких друзей и родственников были приглашены отведать жареного гуся и сливового пудинга, обменяться подарками перед пылающим камином. Джесси получила особое удовольствие от отцовского подарка — трехтомной работы Прескотта «Завоевание Мексики», изданной всего несколько недель назад в Нью-Йорке. Когда в середине января отец готовился к отъезду в Вашингтон, она сказала ему, будучи в лучшем настроении, чем перед его предыдущей поездкой в столицу: — Лейтенант Фремонт уже некоторое время находится в Калифорнии. Я уверена, что он вскоре отправится назад и вернется домой по южному пути. Я ожидаю его самое позднее к концу марта. На какой-то момент ей показалось, что глаза отца затуманились, однако он ей ответил: — Капитан Суттер снабдит его провизией в долине Сакраменто, и это существенно облегчит возвращение южным путем. Вскоре после отъезда отца она заметила, что отношение окружающих к ней изменилось. Ее родственники и друзья были непреднамеренно добры к ней: в конце концов ведь лейтенант Фремонт выехал со славной миссией, никто лучше его не знал, как командовать экспедицией и благополучно привести ее назад, и, хотя год разлуки был неизбежно тягостным, подобную судьбу разделяли многие жены. К началу февраля она заметила, что ее родственники чрезмерно нежны с ней, а некоторые из друзей отца чаще, чем в прошлом, посещают ее, приносят подарки и охотно беседуют. Она спрашивала себя: «Почему обо мне так заботятся? Что побудило их изменить свое отношение?» Она вчитывалась в газетные строчки, желая найти сообщения с Тихоокеанского побережья в Вашингтон и Нью-Йорк, предназначенные для основных публикаций в газетах. Она задавала косвенные вопросы, но родственники и друзья уклонялись от ответа. Будучи не в состоянии выносить появившуюся в ней тревогу, она посетила своих двоюродных сестер Брант и умоляла их сказать, что им известно из неведомого ей. Но в их глазах она заметила то же самое желание уйти от ответа, какое было у отца. Они пытались утешить ее, и она почувствовала, что поймана в ловушку доброго заговора. Вернувшись в этот полдень домой и проходя по нижней гостиной, она обратила внимание на свое отражение в прямоугольном зеркале над камином. Что-то притягивало ее к зеркалу. В осенние месяцы, когда она сильно тревожилась, то замечала, как выступала в уголке рта небольшая припухлость. Когда же тревожное настроение рассеивалось, пятнышко постепенно исчезало. Ныне же, глядя в зеркало, она увидела, что пятно появилось вновь и его размер увеличился. «Это моя отметка короля Георга, — подумала она, — как отметка на лбу бабушки Макдоуэлл». Из лабиринта ее мозга вырвалась мысль: «Они думают, что мой муж мертв!» Для сомнений не оставалось места: даже ее отцу, приехавшему на Рождество, было известно, что поступили плохие новости. Она не думала, что эти люди располагают достоверными фактами. Однако каким-то образом с Запада поступило сообщение, что лейтенант Фремонт в трудном положении. Но откуда это пришло? И как ей выяснить, о чем идет речь? Если Джон умер, тогда для нее умер весь свет. Она вспомнила историю бабушки Бентон: ей было всего тридцать лет, когда умер ее муж. Молодому Тому не разрешали три месяца видеться с матерью. Он помнил ее красивой синеокой женщиной, когда же вновь увидел ее, перед ним предстала не та живая молодая женщина, какую он знал, а худая седая леди. Никто лучше Джесси не знал, что Бентоны влюбляются лишь один раз. Наконец она встретила старого зверолова, не способного обмануть ее. Он сказал, что из Орегона пришло сообщение, что лейтенант Фремонт, благополучно добравшийся со своей группой до Колумбии, совершил опасный переход из Колумбии к реке Траки, на восток от гор Сьерры. Он пренебрег предупреждениями индейцев о невозможности преодолеть горы Сьерры, стал пробиваться вперед, попал в снежный буран и куда-то исчез. Из Калифорнии не поступало сообщений о том, что он прибыл к капитану Саттеру; прошло так много времени, что вряд ли он жив и здоров. Находясь в разлуке с мужем десять месяцев, Джесси считала, что ей досконально известно, как действует механизм одиночества. Она вообразила, что у одиночества зримый образ, что, познав его худшую форму, она сразу узнает своего врага при его появлении и у нее найдутся средства противостоять ему. Но она обнаружила, что одиночество — многоголовый монстр вроде гидры, который не появляется дважды в одном и том же облике и одной и той же форме, не поддается обману и возникает в неожиданных местах и в неожиданное время, как раз в тот момент, когда появляется некоторое чувство облегчения. Он мог появиться, например, при чтении и сделать невыносимым превосходный отрывок прозы. Он мог наброситься в момент умывания лица или расчесывания волос; в таком случае гребень падал на пол, а мыло выскальзывало в таз, отображение в зеркале становилось безжизненной маской. Он мог проникнуть в рот во время разговора, тогда пропадали слова, а зубы кусали губы. Он мог прокрасться ночью в постель при неполном и беспокойном сне и вызвать невыносимые мучения, превращая ложе в громадный опустевший мир без любимого мужчины, без обожаемого мужа, без объятий, которые спасают от тьмы и чувства фатальности. Такое одиночество терпимо, если любимый вернется и первый поцелуй при встрече позволит забыть те грустные часы. Но если любимый не вернется? Четыре дня она почти ничего не ела и не пила, почти не спала, тупо выполняя работу по дому. Она не признавала факта гибели Джона и вместе с тем не могла опровергнуть его. Она знала, что если существует человек, способный пробиться через горы Сьерры в снежный буран, то этот человек — Джон. Но если подобное не способно совершить ни одно человеческое существо, что тогда? К рассвету пятого дня, когда она лежала в оцепенении, круг треволнений разомкнулся — Джесси вдруг глубоко заснула. Пробудившись к полудню, она выпрыгнула из постели, умылась, расчесала волосы, надела сильно приталенное голубое шелковое платье, которое она сшила вызывающе коротким, не закрывавшим щиколотки, чтобы было легче ходить по булыжным мостовым Сент-Луиса. После ланча она провела час с Лили, а затем надела на голову шапочку такого же цвета, как платье, и отправилась к Брантам. Она заявила своим кузинам: — Не тревожьтесь больше. Лейтенант Фремонт и его группа в безопасности. Кузины не смогли скрыть свою былую озабоченность, и некоторые из них воскликнули: — Как чудесно, Джесси, мы так счастливы за тебя, словно камень с души свалился! Когда пришло известие? Как удалось ему выжить в горах в таких чудовищных условиях? — Сообщений не было. Я не получала письма. Я просто знаю, что мой муж в безопасности. Ничто не убедит меня в противном. Лейтенант Фремонт будет дома через несколько недель. Ее родственники были поражены. Когда Джесси увидела их испуганные лица, она улыбнулась и сказала: — Нет, мои дорогие, я не сошла с ума. Что я знаю, то знаю наверняка. Прошел почти год с момента отъезда лейтенанта Фремонта в экспедицию. Он скоро вернется в Сент-Луис._/11/_
Джесси погрузилась в счастливую суматоху подготовки к его возвращению. Хотя 1 марта было слишком ранней датой для генеральной уборки, она перевернула дом вверх дном: все было выскоблено, побелено, покрашено и натерто воском. Потом она решила сшить новые костюмы для себя и Лили, проводила целые часы за кройкой и вышиванием. Каждый вечер она ставила на стол прибор для Джона, а после того, как другие члены семьи кончали обед, она переносила этот прибор на маленький столик у камина. Приготовленная для Джона пища оставалась в кухне, чтобы ее можно было быстро разогреть. — Мужчина не должен думать, что явился нежданно-негаданно, — уверяла она. В нижней гостиной постоянно горел камин, и, отходя ко сну, Джесси подбрасывала в него дрова. Однако сон был последним ее желанием. Она засиживалась за полночь, изучая и совершенствуя свой испанский язык, который, как она считала, явится большим подспорьем, когда она поедет с мужем в Калифорнию. Джесси ставила лампу для чтения на стол у окна, обращенного в сторону города. Джон увидит ее свет издали, когда пойдет вдоль берега реки к дому Бентонов. Поступала она так не потому, что он нуждался в путеводной звезде, — ведь человек, пересекший неизведанный континент, в ней не нуждается, — она хотела показать, что это свет ее сердца и страстное желание видеть его вновь дома. Она знала, что он поймет. Иногда Джесси засыпала в своем кресле у камина, но потомвдруг просыпалась: ей слышались шаги на улице, короткие, быстрые, частые, отличавшие его от любого другого человека в мире так же отчетливо, как его голос и внешний вид. Порой после полуночи она ложилась спать и лежала с уверенностью, что он вернется к утру; в такие ночи она спала урывками, тревожным, беспокойным сном. К рассвету Джесси вставала, убирала лампу и прибор на столике у камина, и наступал еще один день ожидания, ее решимость и воля давали ей новые силы, ничто другое не могло помочь. Прошел март, затем апрель. От Джона не было вестей. Жители Сент-Луиса были твердо убеждены, что он и его группа погибли в снегах Сьерры. Когда ее родственники узнали, что она ставит для него прибор на стол, готовит для него пищу и оставляет зажженной лампу, они встревожились за ее рассудок. Джесси похудела и выглядела хрупкой. К июню, когда минул год со времени его отъезда, она весила всего сорок пять килограммов, стала, как говорят, кожа да кости, глаза казались огромными, и на лице со впавшими щеками выделялось ниже уголка рта красное пятно короля Георга. На исходе первого года разлуки случилось нечто, поломавшее ее выдержку. Она бросила читать, почти перестала думать, забыла разницу между ночью и днем, между неделями и месяцами. Летний зной иссушил ее последние силы, и она вяло отсчитывала дни июля и начала августа. Прошло пять месяцев с тех пор, как она сказала кузинам, что Джон жив и чувствует себя хорошо. Она поняла, что теперь она — единственная в Соединенных Штатах, кто верит в это. Рано утром 7 августа, когда она находилась в странном, знакомом ей уже несколько месяцев состоянии между сонливостью и бодрствованием, ей послышались возбужденные голоса внизу, в прихожей. Она поднялась с постели, набросила на себя халат и побежала вниз. Мейли разговаривала с Габриэлем, который то ли был возбужден, то ли дрожал от страха. Джесси услышала, как он сказал: — Я слышал, как камушки стукнули в мое окно… в каретной… Я выглянул. Там стоял лейтенант Фремонт. Он спросил, могу ли я впустить его в дом, не беспокоя семью? Джесси встала перед стариком: — Ты сказал, что видел лейтенанта Фремонта? Когда? Почему ты не привел его ко мне? — Наверное, в три часа, мисс Джесси. Он сказал, что подождет до утра, — он не хотел никого будить, он погуляет до рассвета. Потом она услышала звуки, на которые ее ухо было настроено четырнадцать месяцев, — звуки шагов вверх по лестнице, резкий стук в дверь, и Джон оказался в прихожей, проскочив мимо Габриэля; он подхватил ее в полуобморочном состоянии на руки, отнес в большое кресло, присел рядом, покрыл ее дрожащее лицо поцелуями. Весть распространилась по городу со скоростью пушечного выстрела. В дом Бентонов сбежались друзья. К восьми часам утра встреча превратилась в подлинный прием: присутствующие смеялись, плакали, говорили, перебивая друг друга. Счастье обрушилось на Джесси, как большая волна. Ожидание кончилось, неопределенность исчезла. Около нее сидел ее муж, более худой, чем она, с ввалившимися щеками, его кожа посерела и поросла щетиной, на лице пролегли глубокие морщины усталости, глаза были воспаленными, одежда — потрепанной. Но он сидел рядом, его похудевшая рука обнимала ее уставшие плечи, ее ухо плохо слышало его ослабевший голос, она ощущала сухие, потрескавшиеся губы у своих щек. Джесси понимала, что сейчас они не такая уж красивая пара, но как прекрасен мир, как чудесно быть вновь вместе! В полдень шумная толпа друзей ушла. — Мой дорогой бедняга, — сказала Джесси, — тебе не везет. Когда ты вернулся из первой экспедиции, я была на сносях, а теперь я тоща, как заморенная кошка. — Ты никогда не была так красива, как сейчас, — ответил Джон, целуя ее в губы. Его нежность сломила ее решение быть спокойной, она захлюпала, как ребенок, и он прижал ее к себе так сильно, что у нее перехватило дыхание. Позже она сказала: — Я должна рассказать тебе, почему я отправила ту записку на причал Коу. Я надеюсь, ты одобришь мой поступок, а если не одобришь, то честно скажи мне, чтобы это стало мне уроком на будущее. — Если ты написала мне немедленно выйти из лагеря, то я понял, что для этого была веская причина, — сказал он. — Что случилось? — Пришло письмо из Топографического департамента, отзывавшее тебя в Вашингтон для объяснения, почему в мирной экспедиции находится пушка. — Отзыв. Но он означал бы… — …Был послан другой офицер на твое место. — На мое место? — Джон откинулся, как взбрыкнувший конь, его лицо покраснело. — Это дело рук клики из Вест-Пойнта! Они завидуют тому, что я сделал. — В таком случае я права, что игнорировала приказ? — Права! — Он закричал на нее, словно она представляла всю аристократию Вест-Пойнта. — Ты была бы дурой, если бы не сделала этого. Ты спасла положение. — Хорошо! А что случилось с пушкой? Была ли она полезной? Смог ли ты доставить ее назад? — И да, и нет. Она помогла отбить одну крупную индейскую атаку. Мы устояли бы, но ценой потери нескольких человек. Мы провезли эту пушку от причала Коу тысячу пятьсот миль до Далласа на реке Колумбия, а затем еще четыреста миль по снегу и льду через перевалы из Орегона на западный склон Скалистых гор. Мы даже наполовину перетащили ее через горы Сьерры. Там мы потеряли ее в более чем трехметровом снегу. Нам пришлось туго, и, чтобы уцелеть, мы бросили пушку. — Сожалею, что ты не смог доставить ее назад в казармы Джефферсона. Но поскольку она спасла вас от набега, у тебя есть оправдание для полковника Аберта и полковника Кирни. — Подождем до тех пор, когда они увидят наши карты и отчеты, Джесси, и мы будем оправданы. После этого она спросила: — А что произошло в горах Сьерры? Почему пришло известие, будто ты и твоя группа погибли? Было очень тяжело? Серьезная ли была опасность? Джон почесал рукой свои ноги. Стоя на прохладном полу, он отошел от Джесси, мысленно перенесясь в горы Сьерры и в слепящий глаза снежный буран. — Трудности? Да. Опасности? Да. Смерть? Нет. В дороге погибает слабый. Только тот, чья воля сгибается перед превосходящей силой. Я пересек Сьерру в середине зимы, Джесси, когда индейцы, прожившие там всю жизнь, говорили, что это невозможно. Я первый человек, который перешел перевалы Сьерры зимой. Я нашел перевал во льду на высоте более четырех тысяч метров, когда мы все были на девять десятых мертвыми и все, кроме Карсона и меня, потеряли надежду. Я осуществил переход, Джесси, там, где он находился по моим расчетам. И, взяв перевал, мы спустились прямо в долину Сакраменто и к форту Саттер. Я нашел прямую дорогу и новый проход в Калифорнию. Когда-нибудь он будет так же широко использоваться, как Орегонская тропа. Если будет война с Мексикой, мы возьмем Калифорнию с помощью армии, которая пройдет туда по проложенной мною тропе. Его голос стал звонким от возбуждения. — Джесси, это было самое величайшее испытание в моей жизни! Я терпел поражение. Горы Сьерры вымотали меня, невозможно было пробиться человеческому существу… от нас остались слабые тени, и не было сил двигаться. Снег оказался настолько глубоким, что ни человек, ни лошадь не могли пройти. Мы были ослеплены и ничего не видели, окоченели до бесчувствия, ослабли от голода так, что еле держались на ногах. Никогда ранее группа не была так близка к гибели и смерти. Джон ходил взад-вперед по комнате. — И вот, когда человек на пределе, когда он на грани поражения и весь мир думает, что с ним покончено, когда у него вроде не остается ни единого шанса, он все же пробивается вперед, преодолевает препятствия, тогда он сильнее природы, тогда он — самая большая сила на земле. Ибо, Джесси, я нашел перевал! Я нашел его, не имея продовольствия и сил, ослепленный, не способный двигать руками и ногами. Я полз три тысячи метров и отыскал наш перевал. Потом вернулся, собрал всю группу и потащил за собой людей и лошадей. Ой, Джесси, такие моменты, такой триумф — высшее удовлетворение, но такое редко выпадает в жизни. И Джесси, сидя в гостиной, ощутила, что ее сердце, переполненное гордостью за его свершения, вместе с тем сжимается от жалости за это несчастное существо, которое превратило себя в покорителя из-за того, что в своем собственном сознании он оставался неполноценным человеком. В ледяных проходах Сьерры последний должен быть первым, и Джон Фремонт проявил себя, победив природу в отместку за свое незаконное рождение. «Если бы он жил в ледяных ущельях, — подумала Джесси, — преодолевая непреодолимые препятствия, добивался неслыханных успехов, тогда он был бы признанным покорителем, исчезли бы страх и неопределенность, была бы решена загадка Джона Чарлза Фремонта»._/12/_
Последующие две недели были очаровательными. Склонившись над запоздалым завтраком, Джесси услышала задумчивые слова мужа: — Мужчина, у которого хорошая жена, — король, она делает приятным каждый час. Не может быть истинного счастья или успеха в жизни для мужчины с никчемной женой, равно как не может быть невосполнимой неудачи у мужчины с хорошей женой. Какой гениальный ход я сделал, высоко оценив тебя, Джесси! Я всегда буду думать хорошо о себе за этот блестящий взлет мудрости. Джесси усмехнулась в ответ на такой комплимент. — А как насчет меня? — поинтересовалась она. — Не получу ли я кредит за то, что увидела ценное в тебе? — Это гораздо меньшее достижение по сравнению с моим. Ты знаешь, в чем величие твоего свершения? — Скажи. — В том, что, обдумывая прошлое, я не нахожу трещины в нашем браке. Согласен, что я бывал иногда трудным и неразумным, что тебе приходилось сдерживать себя, чтобы не злиться на меня и не терять терпение. Но ты была всегда неизменно доброй, поддерживала наши отношения приятными и чистыми, что, когда мне хотелось повздорить с тобой, было не к чему придраться. Я даже не могу представить в своем воображении раздор с тобой. Это великое счастье, Джесси, и это — твоя заслуга. — Совсем нет, — передразнила она, скрывая свои чувства. — Требуется лишь любовь, а она столь же проста, как падение с горы. К концу второй недели они завершили подготовку к поездке в Вашингтон. Проплыли на пароходе до Уилинга, где арендовали карету, а остаток пути проехали по только что построенной национальной дороге к Вашингтону. Было приятно вновь оказаться в вашингтонском доме, но приходило так много посетителей, что не было никакой возможности засесть за составление отчета. В начале октября, когда Джесси поправилась и окрепла, она отыскала свободный двухэтажный коттедж в том же квартале. Взволнованная, она пригласила Джона осмотреть здание: — Посмотри, дорогой, мы можем обрести здесь полный покой, никто не будет знать, что здесь находится наша мастерская. Мы можем превратить две комнаты наверху в рабочие кабинеты, а нижние помещения предоставить Прейссу и Джону Хаббарду для их карт. Не кажется ли тебе, что так будет хорошо? — Сними коттедж немедленно, — ответил Джон. — Первое, что я сделаю утром, — перевезу сюда наши записки и дневники. Джон и отец Джесси вставали с рассветом, принимали душ в шесть часов утра, выпивали кофе и съедали булочки, и Джон уходил в коттедж. Джесси не разрешено было появляться там до девяти часов утра. От девяти до часу дня они работали над докладом. После этого приходила Мейли, держа маленькую Лили в одной руке, а корзинку с ланчем — в другой. Пока они ели холодную курицу и кукурузные лепешки, жевали свежие фрукты, Мейли рассказывала, как вел себя ребенок. После ланча Мейли сажала Лили в корзинку и уносила домой, тогда как чета Фремонт совершала получасовую прогулку вдоль Потомака, а затем возвращалась в рабочую комнату. Джон проделал более серьезную работу по составлению дневника, чем ранее. В нем было много блестящих научных наблюдений, красочное описание тропы, гор, рек и лесов, но для нее наибольшее значение представляло то, что в дневнике отражалась естественная поэзия его ума: сидя глубокой ночью у лагерного костра, он записывал без помех все увиденное и испытанное. Отныне их сотрудничество не вызывало сомнений, каждый понимал свою роль и уважал труд другого. Она всемерно старалась сберечь краски, аромат и очарование его непосредственных наблюдений, остроту рассказанных им историй, она была довольна тем, что может внести свой вклад в улучшение формы и организации материала, чтобы устранить ненужное и представить работу Джона в лучшем свете. Они работали пять месяцев над докладом, и такой сосредоточенной работы она ранее не вела. Джесси понимала скромность своего вклада в этот документ, но в то же время чувствовала, что получилась одна из наиболее увлекательных книг об исследовании: в ней были описания лесов и горных хребтов, восхода солнца над ледяными голубыми скалами, непревзойденные в известной ей литературе. Там был целый кладезь сведений об индейцах и их образе жизни, раскрывались чувства людей, терпящих невыносимые муки, порой сгибающихся под тяжким бременем, но всегда распрямляющихся, там говорилось о разносторонних методах исследований, использующих все разумное, новое и проявляющих изобретательность в невообразимо трудных условиях. Там было множество непревзойденных по научной точности и блеску поэтического вдохновения наблюдений в области ботаники, геологии, природы гор и снега, лесов. Полковник Кирни прибыл в Вашингтон по делам армии, и Том Бентон пригласил его на обед. По-военному прямолинейный, полковник не относился к числу тех, кто старается под приятной улыбкой скрыть натянутые отношения. Он выбрал момент и, оставшись наедине с Джесси, сказал ей хрипловатым голосом: — Не разочаровывайтесь во мне, мисс Джесси. Я страшно рад за вас, рад, что все окончилось так хорошо. Я начисто забыл о том неприятном инциденте. На следующий вечер она и Джон были приглашены к полковнику Аберту в роли почетных гостей на обед, устроенный для офицеров Топографического корпуса. Джесси чувствовала себя неуверенно, выбирая платье, Джон поторапливал ее, но она никак не могла закончить укладку волос. — Что тебя так расстраивает? — спросил Джон. — Я боюсь. Дом полковника Аберта для меня, пожалуй, один из последних в Вашингтоне, куда я хотела бы войти. — Полковник Аберт — разумный человек, он не похож на полковника Кирни. Он ни за что не сошлется на тот невыполненный приказ, не говоря уже о твоем письме. — Тем не менее я нервничаю, — ответила она, — нервничаю так, что не могу сделать этот окаянный пробор прямым. — Оставь его кривым. Я не хочу опаздывать. Но когда она вошла в дом полковника Аберта, все еще немного бледная и не способная произнести слова, которые позволили бы выдержать наиболее трудный момент встречи, полковник приветствовал ее тепло и радушно, посадил справа от себя и был более, чем когда-либо, любезным. Она не прикоснулась к аппетитной марсельской кухне из-за страха, что очарование полковника — всего лишь маскировка и он воспользуется первой возможностью, чтобы упрекнуть ее. Но к тому времени, когда на стол были поданы дикая утка и молочный поросенок, она поняла, что ей простили ее самодеятельный бунт. Встречи в доме Бентонов убедили Джесси и Джона, что для официального Вашингтона наиболее интересной частью похода Джона было его кратковременное пребывание в Калифорнии. Дело заключалось в том, что война с Мексикой из-за Техаса приближалась с каждым днем и почти все в Вашингтоне стремились не допустить, чтобы Калифорния досталась англичанам. Председатель комитета сената по военным делам сенатор Бентон получал на сей счет тревожащие его известия. — Там благодатное побережье, и его гавани попадут в руки англичан, как перезревшие плоды! — шумел он. — Мексиканское правительство даровало англичанам тысячи акров земли по щедрому трактату, и они посылают туда множество ирландских семей. Если такая колония будет создана, мы окончательно потеряем Калифорнию. Никто из живших в столице не бывал в Калифорнии, кроме Джона, и поэтому его мнение имело исключительное значение. Однако Джесси не могла включить в доклад мнение мужа на этот счет, ибо Мексика считалась дружественным государством. Учитывая это, Джон вкратце суммировал свои политические наблюдения: заинтересованность Мехико-Сити в этом обширном регионе сводится к сбору налогов; Мексика не занимается его колонизацией; мексиканское правительство держит в Калифорнии небольшую, недостаточно снаряженную и со слабым офицерским составом армию. В Калифорнии проживает почти сотня американцев, отличных стрелков, никто из них не относится к числу поклонников мексиканского управления, и почти все они готовы бороться за присоединение к Соединенным Штатам. — Армейский офицер с сотней солдат под его началом может захватить Калифорнию, — говорил лейтенант Фремонт, — нужно лишь, чтобы они оказались там в надлежащий момент. Когда они закончили писать доклад — это было ровно через год после того, как он пересек горы Сьерры, 20 февраля, — Джесси спросила с тревогой в голосе: — Попросит ли конгресс отпечатать тысячу дополнительных экземпляров? В прошлый раз это нам помогло. — Сомневаюсь, Джесси. — Почему не отпечатать? Этот доклад намного превосходит прошлый, и материал, касающийся местности от Южного прохода до Тихоокеанского побережья, совсем новый… — Но доклад составил триста страниц, конгресс может счесть его слишком длинным и утомительным для чтения. Прежде чем Джесси нашла ответ, она догадалась, что Джон дразнит ее. 3 марта 1845 года, накануне инаугурации президента Джеймса К. Полка, он явился домой сияющий от радости. — Что ты думаешь! — воскликнул он. — Сенат принял резолюцию о выпуске пяти тысяч дополнительных экземпляров нашего доклада. — Пять тысяч, — вздохнула Джесси, — это превосходно! — Это лишь половина того, что произошло: Джеймс Бьюкенен превознес меня до небес и провел решение, что число должно быть увеличено до десяти тысяч экземпляров. И вот здесь, моя дорогая, прочитай, что сказал секретарь Бьюкенен о твоем муже. Я слишком скромен, чтобы хвастаться перед тобой. Джесси передразнила его гримасой, а затем прочитала вслух заявление Бьюкенена в сенате о достижениях Джона:«Он — исключительно достойный, энергичный и способный молодой джентльмен, готовый служить своей стране. Лейтенант Фремонт заслуживает поощрения».Скрывая за шуткой свою радость, она добавила: — Никогда не считала, что тебе нужно поощрение, ты из того сорта людей, что хватают без всякой команды. На следующий день Джесси причесалась на новый, польский манер — девять прядей-косичек были скручены на затылке и заколоты небольшим букетиком цветов и листьев и прикрыты небольшой черной шляпкой из миткаля. Ее новое выходное платье было сшито из черного муара, вырез лифа закрывала белая кисейная шемизетка. Шелковая накидка была отделана черными кружевами и прихвачена вокруг талии широкой лентой. — Полагаю, что выгляжу красивой, — заметила она мужу. — Почему для выхода ты всегда надеваешь свои лучшие платья и выглядишь такой роскошной? — парировал он. — Почему ты не одеваешься так для меня, когда мы остаемся дома? — Считается, что ты любишь меня за мои духовные качества, а не за мою новую одежду. — Но даже твои духовные качества выглядят лучше в черном муаровом платье. Во время поездки вдоль Пенсильвания-авеню Джесси спросила: — Ты помнишь последний прием, на котором мы были? Мы только поженились, и президент Тайлер первым подал мысль об экспедиции. — Надеюсь, что это установило прецедент для инаугурации, — ответил Джон. — Мне хотелось, чтобы сегодня президент Полк намекнул, что он за третью экспедицию в Калифорнию. — Уверена, он намекнет, — прошептала она. — Кто может устоять против тебя, когда ты так красив в своем новом мундире? — Верно. Но я боюсь, что не смогу взволновать президента в той же степени, как свою жену. Пока они ожидали очереди к президенту, их приветствовала Нэнси Полк, давнишняя подруга Джесси. Когда формальная часть приема завершилась, президент Полк собрал вокруг себя группу офицеров армии и членов кабинета. Он попросил лейтенанта Фремонта рассказать о своих впечатлениях относительно Запада. Джон выбрал несколько коротких драматических эпизодов, которые, как он полагал, могли увлечь воображение президента. Ободренный успехом, Джон осмелел и сказал: — Господин президент, все Тихоокеанское побережье представляет огромную ценность для Соединенных Штатов. Географически оно принадлежит нам, но если землями у Тихого океана будут владеть два или три государства, то возникнут непрерывные конфликты. С лица Полка сошло выражение заинтересованности. Понимая, что весь четырехлетний президентский срок его будут осаждать просьбами, он сухо сказал: — Лейтенант Фремонт, вы страдаете двумя недугами, которыми я страдал недавно, — молодостью и импульсивностью. Ожидаю, что вы их преодолеете, а тем временем примите мои самые теплые поздравления за достижения вашей второй экспедиции. Лейтенант и миссис Фремонт поняли, что им предлагают откланяться. По пути домой в своем экипаже они оба были в слегка мрачном настроении. — Дело сорвалось, — с сожалением сказал Джон, — Полк не имеет намерения поддержать третью экспедицию. — Может быть, ему нужно время. Я думаю, нам надо сказать об этом Нэнси. Она благосклонна к новым идеям и знает, как повлиять на президента. Джесси не удивило, что после издания конгрессом второго доклада Фремонт стал популярным героем Америки. Газеты перепечатали большие выдержки из доклада с портретом лейтенанта на первой странице. Несколько издательств выпустили его книгу, и она разошлась мгновенно, столь же широко в Англии, как в Соединенных Штатах. Посыпались почетные звания от научных обществ Англии и Европы. Генерал Уинфилд Скотт, основатель американской профессиональной армии, пришел в дом Бентонов с официальным документом в руках и торжественно объявил, что президент Полк удостоил Джона звания капитана за «отважную и ценную услугу в двух экспедициях под его командованием». Такой популярностью в столице не пользовалась ни одна экспедиция с тех пор, как генералы армии добились победы в войне 1812 года. В церквах читались проповеди о моральном духе экспедиции, в школах зачитывались части его доклада. Повсюду в Соединенных Штатах — на небольших фермах, в лавках, на перекрестках дорог, в гостиницах, барах и клубах, на тротуарах больших городов — собирались люди, чтобы посудачить о втором докладе Фремонта, высказать желание двинуться на Запад, испытать великие приключения, увидеть тамошние красоты, вспахать новую и богатую землю, обрести недвижимость на новых территориях, выйти в поход, стать прокладывателями дорог, поселенцами, создателями новых штатов — одним словом, стать самими собой. И Джесси Бентон Фремонт была довольна. Она выбрала своего мужчину с первого взгляда, признала его силу и величие, помогла ему пробиться через горы, придала ему силы и сделала его более цепким, настойчивым, передав ему тот скромный талант, каким была наделена сама. Это было именно то, о чем она мечтала, когда думала о замужестве.
_/13/_
Споры в Вашингтоне о войне с Мексикой из-за Техаса становились с каждым днем все более жаркими. Одним из центров споров стал дом Бентона и его зятя капитана Фремонта. Сенатор Бентон, противник войны с Мексикой, считал, что Техас и Юго-Запад, включая Калифорнию, должны быть приобретены за справедливую сумму, как была куплена Луизиана у Франции. Однако ни этика, ни международное право не оправдывали давления на Мексику. Сама концепция приобретения путем покупки была сравнительно новой на международной сцене, и Том Бентон понимал, что правительство США находится в нелегком положении. Мексика не могла освоить эти земли, они достались ей в наследство от Испании, и не приходилось надеяться, что регион будет процветать под властью Мехико-Сити. Однако по закону он все же принадлежал Мексике. Мыслящий по-военному капитан Фремонт придерживался более прагматических взглядов. Его не беспокоило, каким путем Соединенные Штаты получат Калифорнию — покупкой, аннексией, захватом или просто присвоением. — Мои этические взгляды, вероятно, несколько туманны, — признался он Джесси, — но мое видение безупречно. Я был в Калифорнии. Я знаю, что она географически принадлежит Соединенным Штатам. Я хотел бы помочь приобрести ее. Я не могу лить слезы по поводу мексиканцев; если не считать собираемых ими налогов, они так же заинтересованы в Калифорнии, как мы в Луне. Однажды вечером, когда она не спеша просматривала экземпляр выходившего в Лондоне «Юнайтед сайенс джорнэл», она наткнулась на абзац, который крайне озадачил ее. Джесси воскликнула: — Отец, Джон! Послушайте:«Нет никакого сомнения, что мы, англичане, имеем трех мощных противников в лице Франции, России и Соединенных Штатов, но из них самыми серьезными являются американцы из-за своего происхождения, отваги, большей предприимчивости и активности по сравнению с нашей. У них есть сырье, рабочие руки и хороший торговый флот, который можно превратить в военный в случае необходимости».Сенатор Бентон, яростно ненавидевший британцев после войны 1812 года, выхватил из рук Джесси журнал, надел шляпу и пальто и отправился в дом сенатора Кэльхуна. Кэльхун подозревал, что Англия намерена вести войну против Соединенных Штатов, овладев сначала Орегоном, а затем Калифорнией. Двое мужчин почти военным шагом прошли в дом секретаря военно-морского флота Джорджа Банкрофта. На следующий день утром секретарь Банкрофт имел продолжительную встречу с президентом Полком. Через несколько дней было принято решение об отправке третьей экспедиции на Запад. Военный департамент ассигновал на ее проведение пятьдесят тысяч долларов, и капитан Фремонт был назначен руководителем экспедиции. Последующие дни конфиденциальных совещаний были восхитительными для Джесси. Однако вскоре в ее мыслях появилась некоторая тревога: многие хотели приобрести Калифорнию за разумную сумму, и в то же время никто не хотел, чтобы она попала в руки Англии, если окажется невозможным купить ее. Мужчины говорили, насколько ценна и важна Калифорния, что по предначертанию судьбы она принадлежит Соединенным Штатам, все были уверены, что Мексика не продаст Калифорнию и не станет вести переговоры на сей счет, все, казалось, знали, что Калифорнию следует захватить, если Соединенные Штаты не желают потерять эту территорию в пользу Англии. Однако никто не хотел публично признать, что питает такие настроения, все уклонялись от ответственности за незаконные действия и не спешили увидеть в скрижалях истории свое имя как пособника международного грабежа. Многие старшие по чину офицеры армии, многие члены кабинета, сенаторы и конгрессмены уверяли капитана Фремонта, как они счастливы, что в Калифорнию отправляется научная экспедиция… Они соглашались, что присутствие офицера армии там необходимо в случае возникновения войны. Однако никто из них не говорил, как действовать, и обходил молчанием вопрос о полномочиях. — Каждый вроде знает, что нужно сделать, — сказала Джесси, — но никто не хочет брать на себя ответственность за это. — Это нетрудно понять, — ответил Джон. — У нас все еще мирные отношения с Мексикой, и поэтому ни один член правительства не хочет прослыть сторонником агрессии. Ведь это сделает правительство Соединенных Штатов ответственным за его действия. Но я не являюсь официальным представителем правительства. Я всего лишь капитан Топографического корпуса. Все, что буду делать помимо исследований, подпадает под мою личную ответственность. Если я осложню положение правительства, меня могут дезавуировать. — Я хотела бы, чтобы у тебя были полномочия в письменном виде. — Это невозможно при таком щекотливом положении. Быть может, Мексика продаст нам Калифорнию. Может случиться, что живущие там американцы взбунтуются и установят независимую республику, как они сделали в Техасе. Возможно, еще не подошло время для аннексии. При таком положении вещей опасно иметь полномочия делать что-то, кроме исследования и составления карт Тихоокеанского побережья. Джесси намерена была оставаться в столице во время отсутствия мужа, ибо ситуация менялась так быстро, что в Вашингтон-Сити, а не в Сент-Луисе скрещивались все нити деятельности по освоению Запада. Она знала, что предстоящая разлука будет самой долгой, что ее муж останется на Тихоокеанском побережье до тех пор, пока назревающие события не придут к логическому завершению. Как долго он будет отсутствовать? Год, два, три? Она надеялась отправиться с ним в следующий раз в Калифорнию. Вместо этого ее ждет мучительная разлука. Утешало лишь то, что, по всей видимости, он в последний раз уезжает на Запад без нее. Они договорились, что он вложит свои сбережения в самое красивое ранчо между Монтереем и Сан-Франциско. Через несколько лет Калифорния станет американским штатом, и чета Фремонт окажется в числе первых поселенцев. Они провели свой последний вечер в гостиной наверху после шумного семейного обеда, на котором лишь у миссис Бентон сдали нервы и стало ясно, как плохо воспринимает она отъезд Джона. Ко всеобщему изумлению, Элиза попросила разрешения пригласить молодого юриста, с которым она недавно встретилась, — высокого худого блондина, спокойного и сухого в разговоре. Подготовка к выходу экспедиции проходила гладко, за исключением того, что Прейсс, блестящий картограф, отказался от участия под нажимом жены, предъявившей ему ультиматум: — Выбирай между домом, семьей и твоим инстинктом к бродяжничеству. В то время как Джесси пришивала водонепроницаемый карман к куртке Джона, в котором он должен был хранить свои ценные бумаги, ее муж крикнул: — Дорогая, как я могу оставить тебя?! В последний раз я уехал на четырнадцать месяцев. На этот раз я уеду на больший срок. Дни, когда мы вместе, летят так быстро, а когда я вдали от тебя, они тянутся мучительно долго. Ее слезы упали на кожаную куртку. — Итак, — сказала она, — твоя куртка освящена. Теперь она принесет тебе удачу. — Джесси провела рукой по его коротким черным волосам. — То, что ты сказал, осторожно, хотя, строго говоря, неправильно. Когда ты в походе, то живешь своей жизнью. Твое дело — идти, мое — дать тебе возможность идти с легким сердцем. — К черту все это, Джесси, не хотелось бы тебе выглядеть хоть слегка огорченной, чтобы я мог возгордиться? — Напыжиться, как твоя надувная лодка? Ты не хочешь, чтобы я стала миссис Прейсс? Я давно решила для себя, что тебе надоест скулящая жена. Мой дорогой, я не хочу надоесть тебе, хочу, чтобы ты любил меня всю долгую совместную жизнь. Проснувшись на следующее утро, она увидела перед собой ухмыляющееся чернокожее лицо Мейли, которая держала экземпляр газеты «Юнион», приготовленный для нее. В центре первой страницы был помещен большой портрет капитана Фремонта. — Как чудесно, Мейли, получить приветствие от мужа, когда он сам не может сделать этого. Хотела бы ты послушать, что пишут о нем?
«Капитан Фремонт отправился в свою третью экспедицию, полный решимости провести военное и научное исследование всего обширного неизученного района между Скалистыми горами и Тихим океаном, между рекой Орегон и Калифорнийским заливом. Эта экспедиция будет продолжаться, как полагают, почти два года, и ее успешных результатов ждут с большим интересом все поклонники науки в Америке и Европе. Его жизнь — пример, а его успехи — поощрение для молодежи Америки, стремящейся к почетному признанию ее собственных достойных усилий».Джесси едва успела свыкнуться с отсутствием Джона, как к ней пришел без уведомления государственный секретарь Джеймс Бьюкенен, который охотно согласился выпить чашку чая и спросил, может ли он поговорить с ней с глазу на глаз. Джесси провела его в библиотеку и плотно прикрыла двери. Джеймс Бьюкенен приехал в Вашингтон, чтобы войти в администрацию, в то же самое время, когда Том Бентон стал членом сената. Таким образом, Джесси хорошо знала его. Это был благопристойно выглядевший мужчина, с открытым лицом, почти круглыми глазами и, как полагали женщины, чувственным ртом. Он был одинок из-за трагедии, пережитой в юности. Девушка, которую он искренне любил, рассердилась на него из-за сплетен. Не позволив ему объясниться, она порвала их помолвку и уехала в Нью-Йорк к родственникам. По дороге она скончалась, а он так и не смог выяснить, была ли это естественная смерть, несчастный случай или самоубийство, и постоянно упрекал себя за то, что не помешал ее отъезду. Потеряв свою первую любовь, он больше не влюблялся и не женился, хотя многие женщины пытались нарушить его холостяцкую жизнь. Джеймс Бьюкенен никогда не считал себя блистательным деятелем, но он сознательно относился к делу и был упорен в работе. Скромный, очаровательный мужчина, усвоивший железную логику благодаря изучению права, он пользовался уважением на посту посланника в России, его избиратели в Пенсильвании говорили о нем как о ценном сенаторе. Он вел безупречную личную жизнь, получая удовольствие от хорошо сделанной работы, сила, грубость, безответственность вызывали в нем отвращение. Некоторые считали его слишком щепетильным, слишком замкнутым в непроницаемой скорлупе формализма, слишком сухим, но эти качества не помешали ему в течение двадцати пяти лет оказывать ценные услуги своему штату и стране. Джесси заметила у него забавную странность: передняя, выдававшаяся половина его пухлой нижней губы словно была покрыта слоем белой пудры. Смотревший на него мог подумать, что он пудрящийся мужчина. Однако, когда он открывал рот, была видна внутренняя часть его губы — красная, влажная, живая. Таков был парадокс Джеймса Бьюкенена: его внутренняя жизнь была богатой интеллектуально и духовно, то же, что он открывал взорам публики, казалось сухим и мертвым. Он начал говорить, когда Джесси размышляла о его жизни и карьере. — …Трудно понять, каким образом женщина из такой семьи, с таким воспитанием и образованием… я отказывался верить некоторое время, пока не почувствовал, что нужно удостовериться. Сомнений быть не может: миссис Гринхау — шпионка на содержании британского правительства. Если бы обвинение не исходило от государственного секретаря, то Джесси не поверила бы ушам своим. — Миссис Гринхау — шпионка! Ну и ну, ведь это одна из лучших семей в Вашингтоне! — Мы должны посвятить время не попыткам понять мотивы леди, а исправлению нанесенного ею ущерба. Верно ли я помню, что вы хорошо владеете испанским языком? — Довольно хорошо. Отец обучил меня ему еще в детстве. Секретарь Бьюкенен увлажнил языком пересохшую губу, а затем продолжил разговор: — Вы знаете, сколь деликатно наше положение в отношении Мексики. Ко мне ежедневно поступают приватные и доверительные сообщения. Я никогда не учился испанскому и после разоблачения миссис Гринхау чувствую, что не могу доверять никому в моей собственной конторе. Не станете ли вы переводить доверительные сообщения для меня? Не сможете ли вы просматривать испанские газеты и журналы и составлять для меня отчет за несколько дней о тоне и характере сообщений мексиканской прессы? — Мистер Бьюкенен, от всего сердца благодарю, вас за такое доверие, и вы можете быть уверены в хорошем качестве работы. — В этом я уверен, мисс Джесси. Вы понимаете, конечно, что информация, полученная из доверительных источников, не должна передаваться вашему отцу. Как государственный секретарь, я являюсь чиновником исполнительной ветви власти, а ваш отец, как председатель сенатского комитета по военным делам, принадлежит к законодательной ветви. В то время как между нами не может быть конфликта в отношении национальных интересов, существует все же борьба между исполнительной и законодательной ветвями по поводу полномочий правительства. — Понимаю, мистер секретарь. Ни одно слово из моей информации не дойдет до сенатора Бентона. — Хорошо! И теперь последнее критическое замечание: ваш муж находится на пути к Тихоокеанскому побережью. В нашем правительстве есть люди, которые подталкивают его к использованию силы для захвата Калифорнии. Я решительно возражаю против этого. Я должен просить, чтобы никакая часть вашей информации не передавалась капитану Фремонту. Я нарушу функции моего бюро, если он получит сведения и конфиденциальную информацию, которая может подтолкнуть его на конфликт с Мексикой. — Вы увидите, мистер секретарь, что американские женщины не относятся к числу безответственных. Секретарь Бьюкенен встал и официально откланялся: — Спасибо за чай, мисс Джесси. Рассыльный принесет вам завтра утром почтовый ящик. Вот ключ к нему. Не допускайте никого в комнату, когда работаете, и не оставляйте комнату, не заперев бумаги в почтовую сумку. — Хорошо, сэр. Он пожал ей руку и пожелал доброго дня.
_/14/_
В первой партии доверительных бумаг из Мехико Джесси вычитала, что мексиканское правительство ведет переговоры с Великобританией о ее вмешательстве в случае вспышки войны с Соединенными Штатами. Трения возникли по поводу Техаса: Соединенные Штаты аннексировали Техас, и в ответ мексиканское правительство разорвало дипломатические отношения. Когда Техас принял американское предложение об аннексии, Мексика реорганизовала свою армию. Президент Полк был готов направить Джозефа Слиделла в Мехико-Сити с предложением выплатить сорок миллионов долларов за мирное приобретение Техаса. В этот момент Вашингтон наводнили сообщения о военных приготовлениях Мексики. Поскольку Соединенные Штаты и Англия все еще спорили из-за территории Орегона, Джесси пришла к выводу на основании депеш, что в случае войны между Англией и Соединенными Штатами из-за Орегона Англия захватит Калифорнию с помощью своего военно-морского флота, заранее договорившись с Мексикой. Когда она явилась на следующий день в бюро Бьюкенена, чтобы показать ему сводку новостей, он был огорчен. Он сказал: — Мексика готова ввязаться в войну из-за Техаса. Англия вроде бы склонна воевать из-за Орегона. Соединенные Штаты не прочь повоевать ради Калифорнии. Президент Полк опасается, что англичане не примут компромисса по разграничению Орегона, а я убежден, что примут. Я также уверен, что Мексика согласится на продажу Техаса и Калифорнии, ибо у нее нет законных прав на эти территории. Когда наш посланник поедет в Мехико-Сити, я намерен предложить, чтобы он заявил о нашей готовности выложить двадцать пять миллионов долларов за Калифорнию и Нью-Мексико. — Да, мистер секретарь, но тон мексиканской прессы указывает на то, что никакая цена не может быть справедливой, ибо на Мексику оказывают давление. Пока существует такое глубокое расхождение в позициях, наш посланник не будет даже принят. — Мисс Джесси, я хочу предотвратить войну с Англией и Мексикой; если такая война возникнет, я буду считать, что не выполнил свою миссию. Она встала, заверив его, что утечки информации не будет, и вернулась домой. Ее дни были так заполнены обязанностями и заданиями, что у нее оставалось мало времени для грусти. Исполняя роль секретаря Бьюкенена и своего отца, она, кроме того, вела домашнее хозяйство и устраивала бесчисленные обеды: один — в честь Сэма Хьюстона, служившего под началом ее отца в войне 1812 года и только что прибывшего в Вашингтон в качестве первого сенатора от Техаса; другой — в честь командующего военным кораблем Соединенных Штатов «Принстон» Роберта С. Стоктона, отплывающего к берегам Калифорнии, и он, несомненно, встретится с капитаном Фремонтом по прибытии туда; еще один — в честь военно-морского министра Джорджа Банкрофта, живого воплощения энергии и отваги, — красивого мужчины с обветренным лицом, жизнерадостного и воинственного, молодого, но уже известного в истории Соединенных Штатов лидера тех сил в Вашингтоне, которые вознамерились сделать весь Юго-Запад, включая Калифорнию, американским, даже ценой кровавой войны с Мексикой. Джесси устроила также прием для Джона Л. Стивенса, автора книг о путешествиях по Аравии и Палестине, которые она читала еще в детстве, а также личный прием в честь Сэмюэла Морзе, который после долгого ожидания получил от конгресса небольшие ассигнования и из зала сената послал первую телеграмму в Балтимор по телеграфной линии протяженностью тридцать миль. Джесси доставляло большое удовольствие наблюдать за тем, как влюблялась Элиза. Она тревожилась по поводу двадцатитрехлетней сестры, ибо ей казалось, что Элиза вовсе не рвется замуж. Джесси высматривала, как ведут себя за обеденным столом Бентонов ее сестра и Уильям Карей Джонс, — они вроде бы не проявляли интереса друг к другу. Когда же молодой адвокат попросил у Тома Бентона разрешения жениться на Элизе, Джесси поняла, что за внешним отсутствием интереса скрывалась их манера влюбляться. Однажды в начале ноября военно-морской министр Джордж Банкрофт прислал Джесси записку с просьбой разрешить прийти к ней на чай. Джесси надела широкую юбку, которая придавала ей вид цветущей петунии. Когда прибыл Джордж Банкрофт, она провела его в свою гостиную, где аромат китайского чая и кексов смешался с запахом цветущей герани и тлеющих палочек лавра. Джордж Банкрофт в отличие от щепетильного Джеймса Бьюкенена не церемонился. Он отклонил предложение Джесси сесть в глубокое кресло, вместо этого оседлал жесткий стул, положив скрещенные руки на его спинку и внимательно рассматривая через полусжатые пальцы лицо Джесси своими широко расставленными синими глазами. Некоторое время он молчал. Джесси всматривалась в его черные, зачесанные назад волосы, бакенбарды, сходившие на нет к ушам, длинный, костлявый, некрасиво сжатый над ноздрями нос, неровный, жесткий и выразительный рот, резко высеченное лицо, мускулистое, мощное, открытое, лицо волевого и умного мужчины. Она налила ему чашку чая, а затем откинулась в шезлонге на обшитые кружевами подушки, уставшая от долгого рабочего дня, но озадаченная вопросом, чего ему нужно от нее. — Вы делаете переводы для секретаря Бьюкенена, — сказал он, проглотив до этого три ломтика кекса. — Скажу вам, что я знаю об этом, значит, мы можем сразу взять быка за рога, не занимаясь обсуждением особенностей мексиканской ситуации. — Очень хорошо, мистер секретарь. — Мисс Джесси, англичане думают, что они захватят Калифорнию с помощью своих военных кораблей. Но они ошибаются: они могутзахватить порты, но не смогут продвинуть корабли внутрь страны. — Да, — согласилась Джесси, не понимая еще, к чему он клонит. — Но то, что верно для британских военных кораблей, верно и для наших: они не могут овладеть страной. Нам нужны солдаты в Калифорнии. На этот раз Джесси даже не ответила «да». Она слегка распрямилась в своем шезлонге, ожидая, что Банкрофт раскроет себя. — На основании советов, полученных мною от консула Ларкина в Монтерее и от командиров наших судов, заходивших в Монтерей и Сан-Франциско, я уверен, что нам не нужны большие силы, чтобы захватить Калифорнию. Но перед нами дилемма, мисс Джесси: мы не можем послать войска на территорию страны, с которой мы не воюем. А если мы не пошлем войска до объявления войны, мы потеряем Калифорнию. Она вновь не стала прерывать его, а сказала сама себе: «Он знает так же хорошо, как я, что капитан Фремонт скоро будет на Тихоокеанском побережье. Он армейский офицер. С ним вместе шестьдесят хорошо вооруженных мужчин, вне всякого сомнения желающих и готовых сражаться». — Положение будет развиваться само собой, мисс Джесси. Президент Полк прав, когда говорит, что мы не можем влезать в чужой сад, но если фрукт созрел и готов упасть, то он будет либо украден, либо сгниет, но почему неэтично стоять под деревом, готовясь поймать плод руками? — Это в той же мере неэтично, как неэтичен прагматизм. — Что не обязательно верно. Как вам известно, я историк. Я следил за прогрессом нашей нации, за ее развитием из года в год. Я всегда соглашался с вашим отцом, что эта страна должна протянуться до Тихого океана. Было бы преступной глупостью с нашей стороны допустить, чтобы Калифорния и Юго-Запад попали в руки европейского государства или же оставались за Мексикой, которая не в состоянии их освоить. Это противоречит нашему национальному характеру, это противоречит нашим национальным интересам и, я глубоко убежден, это противоречит ходу истории. Вы согласны со мной? — Я не была бы дочерью сенатора Бентона, если бы не согласилась с вами, — сказала Джесси. — Хорошо! — воскликнул секретарь Банкрофт. — В таком случае мы понимаем друг друга. — Да, — ответила она, не зная, что она должна понимать. Секретарь военно-морского флота пришел в ее дом не для обсуждения истории. Банкрофт, видимо, ожидал, что она сделает следующий шаг. Видя, что она не собирается говорить, он заговорил сам, на этот раз зондирующим тоном: — Поначалу я думал, что президент Полк ошибается, не занимая более воинственную позицию в отношении Калифорнии, ибо он не меньше, чем я, хочет забрать Калифорнию, но как президент миролюбивой страны он не располагает свободой рук. Я послал несколько наших военных кораблей в районы мексиканских и калифорнийских портов, чтобы они были под рукой на всякий случай. Но я не могу сделать что-либо большее помимо этого. Мои руки также связаны, поскольку я член кабинета. Нахмурив брови, Джесси подумала: «Он пытается подтолкнуть меня к выводу, не связывая самого себя». — Без официального разрешения, — продолжал он, — в Калифорнии ничего нельзя сделать. — Его речь стала более быстрой. — Если, конечно, не предприняты действия частного порядка, за которые правительство не несет ответственности. Если бы мы имели кого-то в Калифорнии, кто мог бы в надлежащий момент действовать быстро и решительно, Мексика лишилась бы возможности попросить защиты у англичан, а Англия не могла бы вступить во владение. Нам крайне нужно, миссис Фремонт, чтобы объявился не имеющий официального статуса человек, кого мы могли бы, не теряя лица, дезавуировать, если дела пойдут неважно. — Понимаю вашу дилемму, — сказала тихо Джесси, а себе сказала еще тише: «Вижу я и свою дилемму. Он впервые назвал меня миссис Фремонт: у нее есть муж по имени капитан Фремонт, который в этот самый момент спускается с гор Сьерры в долину Сакраменто с хорошо натренированной группой. Капитан Фремонт — неофициальный представитель Соединенных Штатов, не правительства и не армии, а лишь научного Топографического корпуса. Его ранг и его репутация позволят ему в случае необходимости получить поддержку в Калифорнии, а как „неофициальный“ представитель правительства он может быть без хлопот дезавуирован». Вслух она произнесла: — Некоторое время назад вы мне сказали: «Мы понимаем друг друга». Я ответила «да», но, видимо, не так поняла вас. Теперь полагаю, что понимаю. Что конкретно вы ждете от меня? Джордж Банкрофт вскочил со стула и начал энергично ходить по комнате; он брал в руки разные предметы и клал их обратно, передвигал легкую мебель, поднимал и опускал жалюзи. Наблюдая за ним с чувством забавы и одновременно страха, Джесси налила себе чаю и подумала: «Я прикоснулась к больному месту. Он не может сказать, что хотел бы от меня. Он подошел к кульминации и не знает, куда идти дальше. Но я могу пересидеть его, если даже он разрушит всю комнату». Через несколько минут он подошел к ней и плюхнулся в стоявшее рядом кресло. — Попытаюсь, если смогу, объяснить вам, какой человек нам нужен в Калифорнии: он должен быть прагматиком, готовым действовать по собственной инициативе, без приказов, внешний мир даже может назвать его авантюристом. У него должна быть горячая голова, он импульсивен, энергичен. Он не должен бояться столкнуться с неудачей, грубостью и международным осуждением. — Иными словами, — прошептала Джесси, — он должен уметь быстро нажимать на спусковой крючок и иметь крепкое сердце. — Да, миссис Фремонт, намного более крепкое сердце, чем вы способны себе представить. Я был бы готов взять на себя ответственность за провоцирование войны, но ведь я министр военно-морского флота. Человек, который вызовет войну с Мексикой из-за Калифорнии или захватит ее без войны, не может ожидать ни поддержки, ни полномочий. Нам придется держать в кармане заранее подписанный приказ о его отставке, чтобы мы могли опубликовать его, если сочтем, что того требуют обстоятельства. Если возникнет необходимость у правительства Соединенных Штатов спасти свое лицо, он будет сурово наказан. Пресса растопчет его репутацию. Он будет полностью дискредитирован. Если бы он был военно-морским офицером, то я как министр военно-морского флота предал бы его военно-полевому суду. Ему перестанут доверять, предоставлять ответственные должности, его жизнь и карьера могут быть погублены. — Я в состоянии понять это, — медленно сказала Джесси. — Трагично, что у нас нет такого человека в Калифорнии. Но даже если бы имели, я не могу послать ему письменный приказ или полномочия, и никто другой в правительстве этого не сделает. Если в будущем он сочтет необходимым оправдать себя и попытаться представить свидетельства, например сослаться на этот разговор, то я буду вынужден отрицать, что он вообще имел место. Ибо очевидно, что его вообще не было, миссис Фремонт, я просто пришел к вам и снял тяжесть с сердца. Он тепло улыбнулся: — А теперь я пожелаю вам доброй ночи. Вы были так добры выслушать мою затяжную болтовню. Откровенно говоря, я ревновал вас к секретарю Бьюкенену, а сейчас вроде бы сравнял счет. Говоря о секретаре Бьюкенене, едва ли следует подчеркивать, что он не согласится со сказанным мною сегодня вечером. Государственный секретарь — человек щепетильный, таким он и должен быть. Министр военно-морского флота — человек действия, даже если он был в прошлом историком. Спокойной ночи, миссис Фремонт, меня не нужно провожать. Джесси пролежала в шезлонге несколько часов, размышляя над заявлением секретаря Банкрофта. Хотя он ни разу не упомянул капитана Фремонта, было очевидным, что он все время имел в виду его. На огромной территории Калифорнии не было другого офицера, и любой военно-морской офицер мог своими действиями бросить тень на правительство. Секретарь Банкрофт хотел, чтобы капитан Фремонт захватил Калифорнию для Соединенных Штатов. Но он не даст ему полномочий, он уйдет в кусты, если захват не удастся, он станет отрицать, что когда-либо подсказывал такой план капитану Фремонту. Его описание характера человека, нужного в Калифорнии, хотя и не было окрашено похвалой, но — она была вынуждена признать — было довольно точным описанием ее мужа: импульсивный, быстрый на действие, как она сама, с налетом авантюризма, больше думающий о сегодняшней работе, чем о завтрашних последствиях. Пойдет ли на такой страшный риск капитан Фремонт? Поставит ли он под угрозу свою карьеру и будущее? Согласится ли он с возможностью того, что правительство объявит его бессовестным авантюристом и прогонит со службы? Сделает ли он годы научной подготовки, свое искусство исследователя и топографа предметом игры при первом же повороте колеса фортуны? Не менее важным, понимала Джесси, был вопрос, может ли она позволить ему оказаться перед угрозой таких осложнений. Что будет с ним, если ему придется с позором покинуть армию, не имея никого, кто поддерживал бы его или находился рядом, а все его заслуги окажутся перечеркнутыми? Что произойдет с характером, состоянием духа, с гордостью Джона Фремонта, если весь мир сочтет его недостойным уважения, отвергнутым правительством? Сможет ли он вынести такой удар? Не сломится ли он под таким бременем в условиях, когда его и так гложет неопределенность, когда ему приходится выставлять себя более великим, чем другие, чтобы с ними сравняться? Не сломает ли его такая судьба? Сможет ли он прожить жизнь, довольствуясь сознанием, что он оказал услугу своему правительству, — услугу, к которой его подталкивали, хотя об этом будут знать лишь президент, министр военно-морского флота и его жена? Сердце Джесси учащенно билось. А что будет с их совместной жизнью, их любовью, их браком? Она не была в состоянии ответить сама себе, как ее муж выдержит последствия провала, но она твердо знала, что ничто не помешает ему принять участие в игре. Его не пугало слово «авантюрист», мысль о неуспехе просто не возникнет в его голове; когда подойдет время захвата Калифорнии, он поведет своих людей к победе и установит свой контроль над побежденным штатом. Он захочет рискнуть. Она сама не только желала, но и страстно стремилась к этому. История идет вперед, и ей хотелось, чтобы Джон сыграл в ней приметную роль. Здесь его шанс, вернее, их шанс, ибо ее честолюбие сливалось с честолюбием мужа._/15/_
Джесси размышляла, чего добиваются от нее. Что она должна предпринять после намеков секретаря Банкрофта? Сомнения были недолгими. На следующее утро в дом Бентонов пришел лейтенант-моряк Арчибальд Г. Джиллеспай и объявил, что выезжает в Калифорнию на военном корабле «Сайян». Он везет депеши от президента, государственного департамента и министра военно-морского флота. Он полагает, что капитан Фремонт будет в Монтерее или около этого города в то время, когда он как посыльный достигнет Тихоокеанского побережья. Не желает ли миссис Фремонт послать письмо капитану Фремонту? Он заверяет ее, что письмо будет доставлено в полной сохранности. Она отыскала отца и быстро изложила суть случившегося, не повторяя слов секретаря Банкрофта. Считает ли он, что капитан Фремонт поступит правильно, если применит силу против мексиканской армии и калифорнийцев? Убежден ли он, что такие действия отвечают интересам Соединенных Штатов? Стоит ли ей посоветовать мужу принять участие в этой игре? Она нетерпеливо ждала, пока Том обдумывал сказанное. Когда он заговорил, в его голосе сознательно исчезли всякие эмоции. — Наш народ двигался от Атлантического побережья на Запад, все время на Запад, — сказал он. — Это движение станет в сотню раз более сильным и быстрым в ближайшие несколько лет благодаря экспедициям капитана Фремонта, его докладам и картам. Ничто не может остановить поток иммиграции на богатые и свободные земли. Наш народ заселит их в ближайшие несколько лет, и случившееся в Техасе повторится на Западе спонтанно, без какой-либо помощи и даже поощрения со стороны нашего правительства. — Весьма интересные общие сентенции, папа, — заметила она. — Моя дорогая, — сказал нежно сенатор Бентон. — Я жажду проинструктировать капитана Фремонта, как приступить к завоеванию Калифорнии. Но и я должен быть осторожным. Ты понимаешь, что это повлечет, быть может, еще год разлуки… — Я понимаю, — твердо ответила она. Итак, она должна дать Джону сигнал к действию. Все, что он говорил ей перед отъездом, подсказывало, что он готов пойти на риск. Они согласились с тем, что главная цель экспедиции — быть под рукой для установления контроля над Калифорнией в случае войны. Они даже согласовали код доверительных сообщений. Причин для изменения настроений не было. Джесси села за стол отца, погладила оперенный конец ручки, провела рукой по прохладной стопке бумаги. Ради кого она пишет? Ради Джона, больше всех желавшего завоевания Калифорнии, несмотря на сопряженный с этим риск? Ради Тома, ибо это реализует амбиции всей его жизни? Ради себя, поскольку она была честолюбивой женщиной и хотела благодаря мужу добиться власти, престижа, известности? Разделить их интересы было невозможно, но, когда, глядя на бумагу, лежащую перед ней, она представила смуглое лицо Джона и его жадные глаза, она поняла, что делает это ради мужа. Как любящей женщине ей хотелось просить его приехать домой, ведь он выполнил доверенную ему работу, может вернуться к составлению карт, к написанию третьего доклада, который распахнет дверь в Калифорнию. Но как жена она не будет верна брачному соглашению, не оказав помощи в раскрытии его полного потенциала. Как всегда, когда она собирала все свои силы, жена взяла верх над женщиной. Супружество более важно, чем мимолетное счастье. Она писала большую часть ночи, рассказывая мужу истории о Лили и семье, о предстоящем браке Элизы, об организованных ею обедах, о политических дискуссиях — обо всем, что хотел бы слышать муж, находившийся полгода вдали от дома. Она писала о своей любви к нему, о том, как ей не хватает его, как смело ведет она себя, уверенная, что он хорошо выполнит свою работу. Используя их код для изложения текущих событий, она описала картину состояния отношений между Америкой и Мексикой, тщательно ограничиваясь фактами, ибо обещала секретарю Бьюкенену, что не раскроет ничего доверительного, что могло бы подтолкнуть ее мужа к действиям. Затем она написала, что, когда подойдет время, он должен действовать, не чувствуя себя связанным отсутствием официальных полномочий. Она не объяснила, почему нужно действовать так, как два года назад, послав с Де Розье команду: «Не откладывай ни на день. Доверься мне и выступай немедленно». Она знала, что ответ мужа будет эквивалентом его фразы: «Я верю и выступаю». Ранним утром пришел лейтенант Джиллеспай за письмом и заверил ее, что расскажет капитану Фремонту, что все хорошо в его семье. Она смотрела ему вслед, пока он не повернул на углу Си-стрит и не исчез на Пенсильвания-авеню. Теперь она знала: жребий брошен, и в ближайшие дни капитана Фремонта вовлекут в действия с далеко идущими последствиями. Рождество прошло тихо. Она поставила елку для Лили в верхней гостиной. Когда обрушивалась усталость и появлялось неопределенное беспокойство, она смотрелась в зеркало, чтобы увидеть пятно короля Георга, но не находила следов и благодаря этому понимала, что ее нервы в порядке.До нее дошли новости неожиданные и динамичные. Раскрыв утренний выпуск газеты «Юнион», она узнала, что капитан Фремонт выступил против мексиканской армии. Мексиканцы с подозрением относились к нему и его группе в шестьдесят человек, но все же дали временное разрешение оставаться в Калифорнии. К концу февраля капитан Фремонт снял свой лагерь и двинулся не в Орегон, на американскую территорию, как обещал, а на юг, в глубь Мексики. Через пару дней в лагерь капитана Фремонта влетел мексиканский кавалерийский офицер с депешей от генерала Кастро, приказывавшего группе немедленно покинуть Калифорнию; генерал предупреждал, что если группа не послушается, то будет арестована и насильственно выдворена мексиканской армией. Капитан Фремонт знал, что право было на стороне мексиканцев, что именно он нарушил их границу. Однако он провел там несколько месяцев, завязал дружбу с американцами, осевшими в Калифорнии, и собрал сведения о мексиканской армии. Он пришел к заключению, что если подчиниться приказу генерала Кастро и поспешно уйти под угрозой высылки, то можно потерять уважение и доверие американцев, поселившихся в Калифорнии, их положение резко ухудшится. Капитан Фремонт решил, что наступил исторический момент. Он отвел свою группу в укрепленное место на пике над долиной Санта-Клара и там поднял первый американский флаг над Калифорнией. Три дня он и его люди стояли, готовые защищать форт и свое достоинство. В газете «Юнион» Джесси прочитала письмо своего мужа консулу Ларкину:
«С Соколиного пика, с высоты, на которой мы окопались, можно видеть в бинокль смотр войск у Сент-Джонса. Я написал бы подробно, если бы не боялся перехвата письма. Мы никому не причинили вреда, и, если нас окружат и нападут на нас, мы, как один, умрем под флагом нашей страны».Джесси почувствовала нервные спазмы в желудке, когда к вечеру второго дня прочитала, что отряд мексиканской кавалерии приблизился на сотню ярдов к форту и американцы, ожидавшие в чащобе с пальцами на спусковых крючках, были готовы произвести первый залп в мексиканской войне. Однако мексиканская кавалерия воздержалась от атаки. К концу третьего дня убежденный, что мексиканцы не нападут, и уверенный в своем авторитете среди американских поселенцев капитан Фремонт отвел свою группу и не спеша двинулся в сторону Орегона. На следующее утро, войдя в кабинет Бьюкенена, она заметила, что тот выглядит встревоженным. — Мы не должны были разрешать капитану Фремонту идти к Тихоокеанскому побережью в такое неспокойное время, — сказал он. — Он совершил то, что равнозначно объявлению войны Мексике. Он действовал вопреки всем законным международным правилам. Если его поведение спровоцирует войну с Мексикой, на него ляжет вся ответственность, у него не было ни приказов, ни полномочий… он поставил государственный департамент в неприятное, сложное положение. Джесси вздрогнула. Она смогла только тихо прошептать: — Разве президент Полк не приказал генералу Закарию Тейлору войти в оспариваемую территорию вокруг Техаса, и он сейчас всего в нескольких милях от Рио Гранде? — Да, но… — Я сама переводила для вас депешу, в которой говорилось, что мексиканцы сочтут такой шаг объявлением войны. Действие президента с большею вероятностью вызовет войну с Мексикой, чем сопротивление капитана Фремонта в Калифорнии тому, что он назвал оскорбительным приказом. — Не прерогатива капитана Фремонта решать, когда оскорблены Соединенные Штаты. Это прерогатива государственного департамента! — Он тут же остановился, его круглые, кукольные глаза смягчились. — Сожалею, дорогая Джесси: я не собирался наказывать вас за поведение вашего мужа. Я понимаю, вы не отвечаете за его поступки. Я полагаю, вы простите меня, если скажу, что расстроен, что я на грани отставки. Я вижу приближающуюся войну, все вокруг меня стараются изо всех сил вызвать войну с Мексикой, в то время как я знаю, насколько это отвратительно, ведь война станет первым черным пятном в американской истории. Спасибо вам за визит. Я свяжусь с вами через несколько дней. Джесси отправилась в бюро Банкрофта. Там она почувствовала совсем иную атмосферу, поскольку Банкрофт был доволен развитием событий. — Да, да, я читал статью в «Юнион»! — воскликнул он. — Я рад, что капитан Фремонт оказал противодействие. Оно было преждевременно, было нескромно, и, уверяю вас, у меня не хватило бы отваги действовать так, как он, не имея в кармане правительственного приказа. Ваш муж — импульсивный человек, миссис Фремонт, возможно, даже сверхимпульсивный, но я восхищаюсь этим его качеством. Его трехдневный бунт подскажет мексиканцам, что мы вовсе не из робких. — Считаете ли вы, что действия капитана Фремонта спровоцируют войну? — Нет, война начнется из-за Техаса, и я один из тех, кто должен взять на себя ответственность за это. Если вы хотите знать, что думает администрация о калифорнийском эпизоде, то меня только что информировали: президент Полк присвоил вашему мужу ранг полковника. К ней стали чаще поступать новости с Запада. Она следила изо дня в день, как проходило завоевание Калифорнии, сопоставляя сообщения американских и мексиканских газет, доверительные депеши секретарю Бьюкенену и информацию, которую получал сенатор Бентон как председатель сенатского комитета по военным делам. Благодаря тому что у нее был доступ к этим источникам информации и она получала большую часть такой информации раньше других, Джесси понимала, что стоит ближе других к конфликту в Калифорнии. Это давало ей ощущение близости к мужу. Подталкиваемые действовавшим за сценой полковником Фремонтом, американцы, проживавшие в Калифорнии, восстали и объявили 14 июня 1846 года Калифорнию самостоятельной республикой, на флаге которой был изображен медведь. Когда поселенцы дали мексиканцам первый бой у Сан-Рафаэля, полковник Фремонт взял на себя командование, предварительно написав и послав сенатору Бентону прошение об отставке из армии для публикации на тот случай, если его действия поставят правительство в затруднительное положение. 4 июля он взял Сан-Франциско, образовал Калифорнийский батальон из трехсот человек и, узнав, что за два месяца до этого Мексике объявлена война, что в Техасе и в Мексике идут бои, захватил всю Центральную Калифорнию. 10 июля коммодор военно-морского флота Соединенных Штатов Слоат оккупировал Монтерей, а полковник Фремонт ввел в этот порт свой батальон. Коммодор Стоктон, сменивший нерешительного коммодора Слоата, принял присягу Фремонта и его солдат и перевез их на корабле «Сайян» в Сан-Диего. Из Сан-Диего полковник Фремонт двинулся на север, к Лос-Анджелесу, где, по сообщениям, окопалась мексиканская дивизия. Фремонт соединился с коммодором Стоктоном около Сан-Педро. 13 августа без единого выстрела они оккупировали Лос-Анджелес, так и не встретив мексиканской армии. Стоктон послал Фремонта на север, чтобы набрать еще один батальон и поставить под свой контроль Северную Калифорнию. Во время отсутствия Фремонта мексиканская армия нанесла поражение небольшому американскому гарнизону и вновь захватила Лос-Анджелес. Прошло несколько трудных недель, в течение которых американцы продолжали терпеть поражения в Южной Калифорнии, но Джесси ободрял тот факт, что Джон сумел организовать стойкий отряд, выступивший на юг, а их старый друг полковник, а ныне бригадный генерал Стефан Уоттс Кирни вышел из Санта-Фе с тремястами добровольцами в направлении Южной Калифорнии. К 9 января 1847 года американцы вновь взяли Лос-Анджелес. Полковник Фремонт принял капитуляцию мексиканского генерала Пико, предоставив ему почетные условия, и война в Калифорнии закончилась. Обрадованная тем, что муж в безопасности, Джесси получила еще одно радостное сообщение — коммодор Стоктон назначил полковника Фремонта первым гражданским губернатором Калифорнии. В прессе появились известия о великодушии и эффективности его правления, и повсюду с энтузиазмом говорили о хорошо работающем молодом полковнике. На основании заметок и рисунков, присланных Джоном после того, как он достиг Калифорнии, картограф Прейсс начертил превосходную карту сравнительно безопасного пути в Калифорнию, проложенного Фремонтом. Представляя карту сенату, Бентон хвалил полковника Фремонта, и Джесси, сидевшая на своем обычном месте на галерее, была горда за мужа. В середине февраля, примерно через двадцать один месяц после того, как Джон уехал из Вашингтона, Джесси написала письмо кузине Саре Брант. В письме она описывала различные уловки и способы, которыми она пользовалась, чтобы скоротать время не падая духом, она описала также странное состояние полужизни, когда не слышен голос любимого, не касается его рука, нет выражения понимания в его глазах. Она закончила письмо на радостной ноте, говоря о будущем:
«Я считаю, что почет, каким пользуется полковник Фремонт, является почетом, основанным на большой работе, проделанной им, на его выдающейся храбрости, и это все же сравнительно скромная награда за его неоценимый научный вклад в интересах страны. Трудно в самом деле, дорогая кузина, выразить мое личное счастье. Его тепло и свет вытеснили холодные и темные предчувствия из моего сердца. Мое счастье придает мне новые силы и терпение».Ровно через неделю, когда она работала за письменным столом в своей гостиной, Джошиим ввел посыльного из государственного департамента с пакетом писем на испанском языке. — Если вы вернетесь в пять часов пополудни, — сказала она посыльному, — я подготовлю материал для вас. Она просматривала длинное письмо из Монтерея, касавшееся в основном вопроса о выделении земельных участков, и вдруг от неожиданности вытянулась в кресле. В письме говорилось о конфликте, возникшем между коммодором военно-морского флота Стоктоном и армейским генералом Кирни по поводу командования и контроля в Калифорнии. Письмо заканчивалось фразой, которую вписал автор как малозначащую:
«Полковник Фремонт снят с поста коменданта Калифорнии».
_/16/_
Джесси ждала с нетерпением прихода сенатора Бентона, появившегося в четыре часа. Она ожидала, что после прочтения перевода он будет не менее ее ошарашен. Вместо этого она увидела, что ее отец покраснел и его глаза стали водянистыми. Испугавшись, она подумала: «Он знает об этом, в таком случае положение даже хуже, чем сообщается в депеше». Спустя минуту он сказал: — Я слышал об этом в Сент-Луисе в прошлом месяце. — Почему не сказал мне? — Я думал, что неприятности уладятся сами собой, Джесси, надеялся, что это всего лишь преходящая ссора между генералом Кирни и коммодором Стоктоном. — Они уладились? — Нет. Она принялась нервно ходить по комнате: — Но что же все-таки произошло? Согласно сообщениям, Джон хорошо работает как губернатор. Почему вдруг им стали недовольны? — Это не вопрос его работы: твой муж вовлечен в конфликт между армией и флотом относительно власти в Калифорнии. Коммодор Стоктон получил приказ взять и удержать Калифорнию и учредить гражданскую администрацию. После капитуляции мексиканцев коммодор Стоктон назначил полковника Фремонта губернатором. Но генерал Кирни получил приказ Вашингтона принять губернаторство над Калифорнией, если он овладеет страной. — Но разве приказы коммодора Стоктона не имеют силы, поскольку ко времени подхода генерала Кирни бои практически прекратились? — Кирни провел одно сражение, которое к тому же проиграл. Однако проблема вращается вокруг вопроса: кто получил последний приказ из Вашингтона — Кирни или Стоктон? — Кто же? — У нас нет уверенности. Во всяком случае генерал Кирни потребовал, чтобы полковник Фремонт признал именно его главнокомандующим в Калифорнии. Джон и его солдаты находились на службе у Стоктона как часть военно-морских сил, и на этом основании он отклонил признание власти Кирни. Кирни перенес затем свою штаб-квартиру в Монтерей, где основал гражданское правительство, и заявил, что полковник Фремонт низложен как губернатор и лишен власти. — Почему президент Полк не может положить конец этой сваре? — спросила она с тяжелым сердцем. — Армия и флот принадлежат одному и тому же правительству, не так ли? Поведение отца вновь стало уклончивым. Он был откровенен с дочерью так много лет, что переход к другим отношениям показался ему трудным. — Я уже говорил с президентом. — Да? — Он хочет, чтобы в Калифорнии сами уладили спор между собой. — Думаешь, они уладят? — В споре нет ничего такого, что нельзя уладить. Ее покой был нарушен, и Джесси с нетерпением ждала известий, как ее муж справляется с конфликтом. Временно ее отвлекла от этих забот свадьба Элизы. Элиза так много помогала ей в ее сердечных делах, что Джесси сочла своим долгом обеспечить красивую церемонию свадьбы для своей старшей сестры в гостиной дома Бентонов. Элиза хотела, чтобы церемония была тихой, но, прежде чем был закрыт обязательный список гостей, Джесси увидела, что необходимо пригласить около двухсот человек. Обед после церемонии был прекрасным: Джесси попыталась повторить чудесный свадебный обед, поданный в Черри-Гроув. Волнения, связанные с подготовкой свадьбы, посещениями портнихи, организацией церемонии и обеда, отвлекли ее почти на три недели. К концу дня свадьбы она так измоталась, что сразу же провалилась в глубокий сон. Джесси проводила сестру и нового зятя в поездку в Нью-Йорк, затем попрощалась с отцом, выезжавшим в Сент-Луис по политическим делам. У входной двери он сказал ей: — Мужайся и думай о своем здоровье. — Я стараюсь, отец, но это блуждание в потемках выводит меня из себя. Если бы только я знала, что там происходит… Томас Бентон любил поговорку: «Хорошее лежит, а худое далеко бежит». Джесси не пришлось долго ждать: тишь, некоторое время окружавшая события в Калифорнии, нарушилась. Ее кузина Сара прислала ей анонимное письмо, опубликованное в газете «Рипабликэн», выходившей в Сент-Луисе. Письмо, нещадно поносившее полковника Фремонта за роль в завоевании Калифорнии, ставило под сомнение мотивы и характер этой акции, его поведение, обвиняло его в диктаторских замашках, сознательном неподчинении, узурпации власти и в поведении, подрывающем доброе имя армии. Вот на что намекал Джордж Банкрофт: армия ввязалась в процесс дезавуирования полковника Фремонта! Джон успешно провел войну и завоевал Центральную Калифорнию… не имея на то полномочий. На следующий день подобная же вырезка из нью-йоркской газеты «Курьер энд икуайрер» была прислана одним из друзей. Потом практически абсолютно идентичная статья поступила из новоорлеанской газеты «Пикайюн», и Джесси стало ясно, что все эти наветы написаны одной и той же рукой. Теперь она знала, что конфликт не был улажен в Калифорнии, что положение ухудшается. Она села писать письмо отцу, пересказывая написанное в статьях, когда Мейли громко постучала в дверь гостиной и сообщила: — Мисс Джесси, от полковника пришел пакет. Не вставая из-за стола, она протянула руку за письмом, вскрыла конверт и погрузилась в чтение, прежде чем Мейли успела уйти. Приложенное послание к президенту Полку упало на пол, когда она пробегала глазами первые фразы, говорившие о любви. Ее глаза жадно искали объяснения мужем причин его неприятностей, его уверений, что все кончится хорошо. Джон предупреждал ее быть готовой к жестким нападкам восточных газет, ибо посыльный генерала Кирни лейтенант Эмори выехал в Вашингтон, и в Калифорнии ходят слухи, что он направлен с целью низложить Джона. Джесси углубилась в описание положения в Калифорнии до появления на сцене генерала Кирни. Пока продолжались бои с мексиканцами, генерал Кирни признавал коммодора Стоктона командующим всеми американскими силами в Калифорнии. Однако после того, как на ранчо Кахуэнга Джон подписал мирный договор с генералом Пико и коммодор Стоктон назначил его губернатором Калифорнии, генерал Кирни разместил свою штаб-квартиру на Плаза в Лос-Анджелесе и объявил себя командующим всеми американскими силами в Калифорнии; последовавшая за этим сцена была горестной и злобной. Кирни приказал коммодору Стоктону и Джону сложить их полномочия, не отдавать больше приказов и не делать назначений без его разрешения. Коммодор Стоктон отказался признать власть генерала Кирни; Джон также отказался сложить свои полномочия. На следующее утро он явился в штаб-квартиру генерала Кирни и заявил ему, что, до тех пор пока армия и военно-морской флот не уладят осложнения, возникшие между ними в Калифорнии, и не будет установлена по указанию из Вашингтона высшая власть, он будет продолжать подчиняться коммодору Стоктону и сохранит свой пост губернатора Калифорнии. Генерал Кирни двинул свои войска к Монтерею. Джон все еще оставался губернатором в Южной Калифорнии, но никто не мог поддержать его власть. Она не сомкнула глаз всю ночь, читая и перечитывая при свечах письмо Джона, запоминая наизусть его слова о любви. Она старалась найти наилучшие возможности для встречи с президентом Полком, быть может, от него она сумеет получить письменное разрешение полковнику Фремонту оставаться губернатором Калифорнии. До часу дня посетителей в Белый дом не пускали, поэтому у Джесси было более чем достаточно времени для самого изысканного туалета. Она выбрала зеленое кашемировое платье, долго расчесывала волосы и укладывала их, зеленую шляпку она надела слегка набекрень, как было тогда модно. Президент Полк принял ее точно в час дня, заверив, что рад ее видеть. Он вскрыл конверт депеши полковника Фремонта и, вытащив ее, быстро прочитал. Когда Джесси заметила, что он оторвал глаза от текста, она встревоженно спросила: — Господин президент, разве полковник Фремонт предлагает неразумный курс при сложившихся обстоятельствах? У Джесси не было и тени сомнения, что он тут же ответит: «Совершенно разумный, миссис Фремонт, я направлю депешу, которая разъяснит положение и сохранит полковника Фремонта на посту гражданского губернатора». Но президент Полк не произнес ни слова. Он опустился в кресло, вновь взглянув на письмо, а затем посмотрел на Джесси отсутствующим взглядом: — К настоящему моменту, быть может, недоразумение улажено, мисс Джесси. В этих условиях нет нужды принимать чью-либо сторону. Она поняла, что президент закончил беседу. Ее охватило чувство опустошенности, уступившее место успокоению. — Господин президент, я не ожидаю, что вы займете сторону против генерала Кирни. Я прошу лишь ваших заверений, что полковник Фремонт не станет жертвой конфликта между армией и флотом. Генерал Кирни угрожает отстранить его от командования Калифорнийским батальоном. — Мисс Джесси, я думаю, что мы можем сделать это, чтобы успокоить вас, — медленно ответил президент. — Я пошлю депешу, дающую полковнику Фремонту право оставаться на службе в Калифорнии или же примкнуть к своему первоначальному полку в Мексике, если он предпочтет это. — Спасибо, господин президент. Это честно и справедливо. Президент Полк слегка улыбнулся при мысли о Джесси, уверяющей президента Соединенных Штатов, что он поступает честно и справедливо. Потом он пожал ей руку, передал наилучшие пожелания ее отцу и проводил до двери приемной._/17/_
Теперь ей оставалось одно: сидеть и ждать. Через несколько дней из Сент-Луиса вернулся отец и предложил ей погулять вдоль Потомака. — Огорчен, что вынужден сообщить тебе это, Джесси, но лучше всего это может сделать отец. События в Калифорнии приняли крайне неприятный оборот. Джесси застыла на месте. Она повернулась, посмотрела в лицо отцу, который возвышался над ней словно глыба. Даже охваченная тревогой, она успела заметить, как он постарел: его поредевшие волосы поседели, глаза выдавали усталость и скорбь, новые морщины на переносице собрались в тугие складки. — Генерал Кирни приказал Джону привезти все его архивы из Лос-Анджелеса в Монтерей. Полковник Фремонт совершил бешеный рывок на лошади в Монтерей, где разыгралась крайне неприятная сцена. Генерал Кирни показал последний приказ, передававший командование ему, и полковник Фремонт вернулся в Лос-Анджелес в сопровождении нескольких офицеров Кирни, враждебно настроенных к твоему мужу. Посыпались ругань и взаимные обвинения, и наконец… — Что? Один уголок рта Тома Бентона опустился, как всегда было с ним в минуты глубоких переживаний. — Полковник Фремонт освобожден от командования. Ему дан приказ вернуться в Вашингтон. Легкая улыбка озарила ее измученное лицо. — Итак, он возвращается! По крайней мере я увижу его. Мы сможем разрешить все это вместе. Отец взял ее под руку, и они направились вдоль берега. Джесси старалась увидеть выражение его глаз, но он повернулся так, что это оказалось невозможным. — …Ты не понимаешь, моя дорогая. Полковник Фремонт… возвращается в Вашингтон… под арестом. Джесси постаралась как можно быстрее вернуться домой. Она отказалась от обеда, закрылась в спальне и неподвижно лежала в постели. Джон возвращается домой под арестом! После всех его свершений, после всех прекрасных прогнозов на будущее его волокут через всю страну как заключенного, с позором! Джордж Банкрофт намекал, что, если захват Калифорнии окажется успешным, все сделанное ее мужем будет забыто. Калифорния в руках американцев, с Мексикой официально ведется война, и никакого международного скандала не получилось. Почему же тогда его наказывают, хотя наказание, как говорили, может быть лишь в случае неудачи и возникновения осложнений для правительства? Она принялась кататься по постели, не могла лежать спокойно, и ее движения словно повторяли извивы ее рассудка, пытавшегося найти выход из ловушки, в которой оказался Джон. «Почему Джон поссорился с генералом Кирни? Не потому ли, что начал войну в Калифорнии без полномочий? Или же в конфликте больше личного?» Она натянула покрывало на голову и разрыдалась, дав выход чувству тревоги и опасения, накопившемуся за прошедшие месяцы, в течение которых она удерживала контроль над собой благодаря железной самодисциплине. Вдруг она почувствовала, как кто-то поднял ее с закутанной головой, и она увидела себя на коленях отца. — Ну-ка, выпей, — сказал он. — Это теплое молоко с ромом. Знаешь, который час, дитя? Два часа ночи. Я спустился на кухню и подогрел молоко, выпей. Оно поможет тебе заснуть. — Могу ли я спросить, что ты делал до двух часов ночи? — Можешь. Я писал суровое письмо президенту Полку, суммируя дело и требуя расследования. Заверяю тебя, не следует тревожиться, Джесси. Мы вытащим на свет все факты, и, когда мы сделаем это, полковник Фремонт будет оправдан. — Спасибо, отец. Теплое молоко и ром навевают сон. Думаю, что теперь успокоюсь. Недели до приезда Джона в Вашингтон прошли словно в тумане. Джесси не впадала в отчаяние, но и не питала радужных надежд. Она понимала, что ее и мужа ждут тяжелые времена и что им не удастся выйти из конфликта без ущерба, без ран, что предстоящие месяцы подвергнут суровому испытанию их веру друг в друга. К концу августа долгое ожидание закончилось. Джесси сидела в арке окна гостиной, выходившего на Си-стрит, и вдруг увидела, как двухколесный экипаж повернул с Пенсильвания-авеню и направился к дому Бентонов. Из экипажа выпрыгнул молодой мужчина в выцветшей синей военной форме. Он повернулся к кучеру и сказал ему что-то относительно багажа. Это дало Джесси время пробежать зал, распахнуть дверь и приветствовать мужа после двух лет и трех месяцев его отсутствия. Не стыдясь, она повисла на нем, осыпав его бородку слезами, страстно целуя его. Но даже в первый безмолвный момент радости она заметила, что муж безучастен. Она взяла его за руку и провела в гостиную, потом встала, уставившись на него. Ее сердце дрогнуло: перед ней была оболочка человека, отправленного ею в экспедицию с такими большими надеждами два года назад. И дело не только в том, что он отощал до предела, а его волосы стали длинными и неухоженными, — у него были чужие глаза безнадежно больного человека. Джон Фремонт, посланный ею в третью экспедицию, был очаровательный мужчина, ловкий и гордый, знавший свой мир и не только любивший его, но и руководивший им. Поседевшее, с впалыми щеками существо неуклюже стояло перед ней, казалось, что его руки вывихнуты в суставах, торс изогнулся под уродливым углом, ноги утонули в вылинявших штанах, черты лица исказились. Не верилось, что некогда это был человек с несгибаемой волей, преодолевший заснеженные горы Сьерры, где другой не выжил бы, за что его так уважали Кит Карсон и жители пограничной Америки. Стоявший ныне перед ней человек не был лидером, не был сильным; это был глубоко раненный в самое уязвимое место человек, растерянный, напуганный, несобранный и вялый. Его кожа, его манеры, весь его облик были лишены красок. Джесси вспомнила тот вечер, когда Джон Фремонт мучительно рассказывал любимой женщине о факте своего незаконного рождения. Тогда он был так же неуклюж и не собран. Она могла сказать, глядя на угловатые линии его тела, что он чувствует себя униженным, потерпевшим поражение, более того, злобно и горько пристыженным. Джесси принесла ему напиток, провела руками по его длинным лохматым волосам, расправила завитки на черной бородке, легко касаясь кончиками пальцев. Она поцеловала его бледные губы, а затем положила свою голову на его плечо и застыла в такой позе. Она не показала ему своей тревоги, а сочла своей задачей сделать так, чтобы он вновь стал самим собой, вновь обрел отвагу и уверенность. Это был тот момент в их супружеской жизни, когда требуются чуткость и нежность. Если она преуспеет сейчас, она сможет работать рядом с ним до конца жизни. Что произойдет позже, не имеет большого значения: он должен вновь стать цельным и здоровым. Если она сделает это, то они смогут побороть свои трудности. Она почувствовала, что его тревожила мысль, как она примет его. Он боялся, что она станет порицать и осуждать его за несдержанность, ошибки, глупость. Она понимала, что это было бы для него самым тяжелым ударом, и его замкнутость, его отказ подойти к ней убедили ее, что он уже воздвиг между нею и собой защитную стену цинизма и безразличия. Он молчал, не ласкал ее, не сказал, как счастлив видеть ее, как сильно любит ее. Он был слишком несчастен, чтобы думать о таких вещах. — Почему генерал Кирни поступил так с нами? — спросила она. — В чем здесь смысл? Джон не ответил на ее вопрос, но стал несвязно говорить: — …Отказался разрешить мне присоединиться к моему полку в Мексике… не дал мне возможности получить мои заметки и дневники в Сан-Франциско… мои научные инструменты и образцы, которые я собирал два года… у него были планы арестовать меня на шесть месяцев, но он даже не предупредил меня за пять минут… тащил меня за собой через горы Сьерры и Скалистые горы как порабощенного индейца или как обычного преступника… наговорил гадостей… унизил меня перед моими же людьми… лишил меня привилегий моего ранга… — Но теперь, когда ты вернулся в Вашингтон, что собирается делать генерал Кирни? Джон вскочил ивоинственно вскинул голову. — Военно-полевой суд. — Военно-полевой суд? Но по какому обвинению? — Мятеж! У Джесси перехватило дыхание. Память отбросила ее к сцене с полковником Кирни четыре года назад. Недаром говорится: у всякой старухи свои прорухи. Этот военно-полевой суд является логическим завершением длинной цепи событий, развернувшихся с того судьбоносного момента в Сент-Луисе, когда она вскрыла приказ военного департамента и спрятала его в своей корзинке для шитья.Книга третья ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ СУД
_/1/_
Джесси не хотела, чтобы кто-нибудь видел ее мужа в таком состоянии, однако мест, где они могли бы уединиться и где не узнали бы полковника Фремонта, было немного. Она вспомнила о поместье Фрэнсиса Престона Блэра Силвер-Спринг, за пределами округа Колумбия, но ей не хотелось ехать туда, если там будет находиться семья Блэр. Пока Джон отдыхал, она послала Джошиима верхом на коне в Силвер-Спринг с запиской. Гонец вернулся в тот же день к вечеру с письмом от Блэра, извещающим, что по счастливому стечению обстоятельств он и его семья уезжают на следующий день в Сент-Луис и он будет рад, если Джесси проведет в Силвер-Спринг столько времени, сколько ей нужно. Теперь перед ней возникла более сложная задача: убедить мужа, что по меньшей мере на короткое время он должен уйти с арены, не торопить схватку. По его нервному жесту и интонации ей показалось, что он рвется в бой. Она знала его достаточно хорошо и понимала, что у него мало шансов на успех, если он ввяжется в драку сейчас. После спокойного обеда в своей комнате она выждала подходящий момент и сказала: — Дорогой, как учит хорошее наставление о супружеской жизни, когда муж и жена были в разлуке двадцать семь месяцев, они имеют право на медовый месяц. Джон не проявил интереса к ее намекам. Сурово взглянув на нее, он сказал вполголоса: — Медовый месяц! В такое время? Как ты могла подумать так, Джесси… Нам надо обсудить целое судебное дело… — Я собираюсь работать с тобой, Джон, но, разумеется, не сразу. Разве у любви нет своих прав? — Есть время для любви, и есть время для… — Разве ты не имеешь права отдохнуть пару недель, после того как два с половиной года тащил такой воз? Даже правительство при всем своем упрямстве не станет упрекать тебя. Ты так устал и измучен, любимый, всего две недели отдыха, и ты почувствуешь себя другим человеком. — Я не хочу чувствовать себя другим человеком, меня удовлетворяет то, что есть. Кроме того, я не устал и не измучен, просто я решился… Она подперла голову руками: — Очень хорошо, если хочешь знать правду — измучилась я. Я уверенно держалась, когда ты возвращался из других экспедиций. Я не плакала тебе в жилетку и не сетовала на свои страдания и усталость. Теперь же… — Нет, ты всегда была отважной. — Но сейчас я не чувствую былой отваги. Я измотана долгими месяцами ожидания. Боже праведный, если я не проведу несколько дней наедине с тобой, я просто не смогу выдержать длительное испытание. Я знаю, это моя слабость, и не должна добавлять к твоему бремени свое… Его лицо просветлело. — Ну что ты предлагаешь? Куда мы поедем? — Фрэнсис Престон Блэр предложил нам убежище в Силвер-Спринг. Мы не скажем никому, куда едем, будем жить там в полном уединении и так восстановим нашу близость. Поскольку Джошиим отвозил накануне записку в Силвер-Спринг, он отвез их на следующее утро туда, получив предупреждение держать язык за зубами. Дорога шла между рядами высоких елей, каштанов и дубов, затем за каменным мостом переходила в подъездную дорожку к широкой веранде просторного дома. Слуга, который внес в дом багаж и разместил в удобном помещении для гостей семейство Фремонт, заверил, что никто не нарушит их уединения. Джесси не стала ждать, пока распакуют багаж, и предложила Джону прогуляться по поместью. Фрэнсис Престон Блэр поддержал Ван-Бюрена на президентских выборах. Приехав в 1836 году в Вашингтон с семьей, где было три сына и дочь, он основал газету «Глоб», которая стала одной из влиятельнейших газет страны. Он быстро разбогател на доходах от газеты и контрактов с правительством на публикацию печатных материалов. За счет первых прибылей он приобрел поросший лесом участок Силвер-Спринг. Джесси и ее муж прошли мимо летнего домика под названием «Акорн» и огородов, повернули на Тропу влюбленных, которая шла параллельно ручью почти до Потомака, а потом вошли в лес, защищавший от знойного августовского солнца. Они расслабились в тенистой прохладе леса, гуляли почти три часа, часто останавливались, отдыхая в укромных беседках и гротах, которые Фрэнсис Блэр соорудил вдоль многочисленных дорожек, посыпанных гравием. Не желая думать о неприятном, пока она не добьется поправки мужа и восстановления былого чувства уверенности, она все же не могла избавиться от гнетущей ее мысли. Военный департамент вынес решение, что суд состоится в крепости Монро, на острове у побережья Виргинии. В таком случае с Джоном почти прекратится связь: будет сложно найти адвоката, который смог бы работать в изоляции на острове несколько месяцев; по всей вероятности, процесс сделают закрытым и репортеров не пустят в крепость; Фремонты не смогут представить свое дело общественному мнению. Том Бентон старался изо всех сил, чтобы суд перенесли в Вашингтон. Будет еще время сказать мужу о крепости Монро, куда не пустят даже ее, если усилия сенатора окажутся тщетными. Когда Джошиим привез ей письмо от отца, она жадно пробежала его глазами, но не нашла и намека на то, что суд перенесен в Вашингтон.«Я полностью просмотрел все дело, дело Кирни, а также ваше и облегченно вздохнул. Твой муж будет оправдан и возведен на пьедестал, а его хулители покроют себя стыдом и позором. Процесс, через который прошел полковник, горек, но потом появятся светлые стороны. Вы оба поймете истину, сказанную лордом Пальмерстоном Ван-Бюрену, когда тот был отвергнут сенатом: „Преимущество общественного деятеля в том, что в течение своей жизни он может подвергнуться оскорблению“».Они жили в полном уединении, и все же Джесси заметила, что красоты Силвер-Спринг, атмосфера покоя и умиротворения не трогают Джона. В нем кипели страсти, и он не осознавал, где находится. Она разговаривала с ним спокойно, пытаясь проанализировать не столько само дело и неприятности в Калифорнии, сколько отношение к этому. Чтобы работать с ним, ей нужно было знать его мысли. Его мучило чувство унижения, но над всем этим, как она заметила, доминировала мысль, что его преследуют. — Они никогда не хотели меня, — бубнил он. — Меня все время преследовала эта вест-пойнтская клика. Они ждали удобного случая и нанесли удар. Они позволили мне дойти до определенного предела, и только до него, а затем сколотили заговор против меня. Я тебе говорил еще до свадьбы, что они не оставят меня в покое. В Калифорнии я подписал бумаги на приобретение лошадей и запасов более чем на полмиллиона долларов. А генерал Кирни высмеивал людей, доверявших моей подписи, говорил им, что мои расписки ничего не стоят. Это заговор с целью помешать мне вернуться в Калифорнию. Нам никогда не придется жить на красивом ранчо Санта-Круз, которое я купил на наши сбережения. В то время как он перечислял обвинения, выдвигавшиеся против него, она постепенно осознала, что его больше волнуют оскорбления, допущенные в отношении него, чем основа конфликта в Калифорнии. Когда она увидела, насколько болезненно воспринимает он случившееся, она встревожилась: «Что они с ним сделали? Как я могу спасти его от них и от него самого? Как я могу помочь ему восстановить здоровье, чтобы, невзирая на исход военно-полевого суда, он стойко и мужественно принял это решение?» Она подумала, что все происходящее в супружеской жизни, и хорошее и плохое, зримо заявляет о себе при ухаживании. В браке нет неожиданностей, в нем проявляется то, что лишь туманно проглядывает в ходе знакомства. Если бы она проанализировала известные ей факты еще в то время, она смогла бы предсказать характер не только своего счастья, но и своих неприятностей. Она с научной точки зрения подошла к решению задачи поставить на ноги своего мужа. Она выходила замуж с намерением стать истинной женой, а не калифом на час. Она не считала себя поклонницей любительских талантов. По ее убеждению, истинная жена должна стремиться, как любой профессионал в искусстве и науке, к высокому мастерству. До сих пор ее задача была сравнительно простой: поддерживать себя, пока муж находится в своих длительных поездках; защищать его интересы в Вашингтоне в его отсутствие; помогать составлять доклады, которые так важны для распространения информации о его исследованиях и о Западе. Ныне же опасность состояла в том, что он мог поддаться чувству неуверенности, которое таилось в его сознании под влиянием факта его незаконного рождения. Джесси долгими бессонными ночами думала над тем, как получить от него информацию о случившемся, не вызывая вспышки гнева и чувства горечи. Это были разрушительные для ее нервной системы дни, ибо нельзя было допустить ни случайного слова, ни спонтанного жеста. Приходилось обдумывать каждый шаг, чтобы он вписывался в общую схему, любой срыв грозил разрушить результаты многочасовой работы. От нее требовалось искусство владеть ситуацией, а ведь такое искусство необходимо женам во всем мире, чтобы помочь своим мужьям. Задача казалась трудной, изнурительной, но она внушала себе, что ей должен придать силы разумный эгоизм. Все случившееся с Джоном должно неизбежно произойти и с ней. Когда два человека вступают в брак, они приобретают новое качество, порожденное их супружеством. Ни один из них не может сделать ошибочный шаг, не нанеся ущерба тому новому, целому, которое рождается от соединения их характеров до того, как появится ребенок от плотского единения. Было еще преждевременно размышлять о фактах. Она следовала за Джоном чувствами, соглашалась с его позицией, принимала то, что он говорил, за истину, задавала только такие вопросы, ответы на которые ведут к закреплению его позиции, не занималась анализом, раскрывающим вероятную перспективу. Она считала своей задачей добиться не снятия обвинений, а такого настроя у Джона, чтобы он положительно выглядел во время процесса и наилучшим образом предстал перед публикой. Для себя она еще не решила, верить ли только мужу или же, сохраняя симпатию к нему, быть готовой к выработке собственного мнения. Что сделано в Калифорнии, то сделано. Действия там можно истолковать по-разному, но изменить их уже нельзя. В данный момент лучшее, что она может сделать, — это поступать как жена, максимально заботящаяся о муже: она может по-своему повлиять на исход суда, помогая ему восстановить свою уравновешенность, укрепляя его выдержку, побуждая его к уважительному, вдумчивому ведению процесса. Позже, возможно, она может сыграть роль стратега, способного определить, как представить наилучшим образом дело своего клиента. Сочувствуя любимому мужчине, она не видела для себя иного пути. Стараясь восстановить его доброе самочувствие, она прибегала к разного рода уловкам и коварству, свойственным женскому сердцу. Когда они ездили по лесу на прекрасных конях Фрэнсиса Блэра, она предлагала поехать наперегонки и восхищалась его красивой посадкой. Сидя перед камином, где плясали яркие языки пламени, она вспоминала часы и эпизоды, доставившие ему наибольшую радость в годы их совместной жизни. Стараясь разбудить его гордость за сделанное им, она показала коллекцию почестей, присланных ему в его отсутствие: медаль основателей Национального географического общества Лондона, золотую медаль от барона Гумбольдта, дарованную прусским правительством за его вклад в науку. Она читала ему статьи из журналов «Сезерн литерари мессенджер», «Электрик ревью» и «Демократик ревью», где утверждалось, что имя Фремонта стало бессмертным, а его достижения — крупнее, чем достижения Льюиса и Кларка, что он должен получить, как получили они, большие земельные участки и двойную оплату. Она листала страницы своей записной книжки, где были вклеены вырезки из газет и журналов Британии и Европы, сообщавших о его свершениях. Она соглашалась с его доводами, даже когда не могла уследить за ходом его мыслей, разыгрывала роль соблазнительницы, надевая самые красивые наряды, пользуясь самыми изысканными духами, бесстыдно побуждая его к плотской любви, которая всегда была такой сильной и притягательной между ними. Иногда ей казалось, что она делает успехи: в его высказываниях мелькал юмор, но успехи были слабыми, и очень скоро он возвращался на круги своя: переоценивал свое значение, утверждал, будто все его поступки правильны, что в трудных условиях он не сделал ни одной ошибки; у него пропадали симпатия и терпимость в отношении своих противников, и одновременно он обвинял их в отсутствии симпатии и терпимости к себе самому, отказывался признать свою порывистость, раздражительность, когда наталкивался на ограничения, свою склонность действовать на свой страх и риск. Когда все показалось безнадежным, — несмотря на ее тонкую игру, он так и не усвоил, каким должен быть правильный подход, — Джесси разыграла мелодраматическую сцену, безутешно рыдая, показывая себя слабой и напуганной. Ей не пришлось паясничать, ибо в глубине души она действительно чувствовала себя слабой и напуганной. Наконец-то пристыженный, понявший, каким мучениям он ее подвергает, Джон обнял ее и поцелуями высушил слезы. — Не плачь, родная, — прошептал он, — не так все плохо. Мы выкарабкаемся, я добьюсь победы, не тревожься об этом. Однажды вечером к концу второй недели, когда оставалось всего несколько часов пребывания на их счастливом острове в океане неприятностей, они оседлали лошадей и поехали в Академию мисс Инглиш. Светила полная луна, заливая окружающий ландшафт серебристо-белым светом. Они привязали лошадей к шелковице и стояли, держась за руки, всматриваясь в окно комнаты, где когда-то жила Джесси. — Помнишь, как ты спрятал свое первое письмо в корзину для белья? — Помню. — Что бы ты сделал, если бы мамми не пришла в нужный момент с чистым бельем? — Я завернул бы в письмо камешек и бросил в твое окно. Я был безответственным молодым человеком, мисс Джесси! Я обречен преследовать тебя и бросать камни в твое окно до моих восьмидесяти лет. — Как мило. Подумай о том, что я достаточно ловка, чтобы не терять приобретенного. Можешь ли ты влезть на шелковицу, не порвав свои красивые бриджи? Не дожидаясь ответа, она подтянулась за сук и быстро взобралась по знакомым ветвям, уселась на их сплетение, где она и Джон впервые говорили как влюбленные. Через мгновение она заметила голову в ветвях. Лунный свет посеребрил его волосы. Она живо представила, каким он будет через тридцать лет, когда волосы и борода станут совсем седыми. Он подтянулся и сел рядом с ней. Она заговорила, стараясь, чтобы он вспомнил прошлое: — Сегодня утром я получила восхитительно приятную новость, лейтенант Фремонт: моя подруга Гарриет Уильямс выходит замуж за графа Бодиско. Придете ли вы на свадьбу? — Но у меня нет приглашения. — Когда я обнаружила в бельевой корзине вашу записку, я как раз писала Гарриет, Я попрошу ее, чтобы граф прислал вам приглашение. Любите ли вы танцевать, лейтенант Фремонт? Он обнял ее, приподнял и притянул к себе так, что ее щека прижалась к его и их губы соприкоснулись. — Ах, Джесси, — прошептал он, — хороший брак — это действительно чудо.
_/2/_
В день ожидавшегося возвращения отца из Сент-Луиса Джесси надела новое домашнее платье с небольшим кружевным воротником и спустилась в нижнюю гостиную. Шел час за часом, а сенатор Бентон не появлялся. Наконец она увидела его большую фигуру. Он шагал по Си-стрит от Пенсильвания-авеню быстро и уверенно. По его манерам она могла сказать, что он возвращался с хорошими известиями. Первое, что он сказал, по-медвежьи прижав ее к себе: — Я был в военном департаменте. Суд перенесен в Арсенал в Вашингтоне. Я доказал им, в каком гнусном виде предстанет перед общественностью правительство, протащившее человека от Тихого до Атлантического океана ради закрытого процесса. Теперь я смогу сам присутствовать на суде. Она облегченно вздохнула и, поцеловав отца в щеку, заметила, что ему следует побриться, а затем сказала: — Пока хорошо. Теперь нужно сделать еще одно дело. — Какое? — Совсем отменить военно-полевой суд. Полковник Фремонт действовал на основании секретных приказов президента Полка. По какой другой причине Монтгомери, капитан парохода «Портсмут», предоставил бы ему деньги, снаряжение, медикаменты для боевых действий в Калифорнии, а консул Ларкин и Лейдесдорф помогли в организации кампании? Если президент не может предать огласке свои секретные приказы, пусть он скажет всем заинтересованным: что было, то быльем поросло. — Нет, нет, Джесси! — выкрикнул Том Бентон. — Слишком поздно пытаться замять дело. Слишком много офицеров генерала Кирни выступили в газетах со статьями, нападающими на Джона. Если мы отзовем дело, всякий скажет, что мы виноваты. Нам нужен этот военно-полевой суд. Это лучший способ доказать невиновность полковника и оправдать его в публичном процессе здесь, в Вашингтоне. Мы используем суд как открытый форум и расскажем всему миру, что он сделал. Ты увидишь, Джесси, что в результате процесса он станет еще более известен. Администрация поддержит нас… — Даже если ему суждено выиграть, — спокойно ответила она, — я все же не думаю, что разумно участвовать в процессе. Отец, не сходишь ли ты к президенту Полку и не попросишь ли его отменить суд? Отец долго и пристально смотрел на нее, затем сказал: — Я не могу этого сделать, Джесси, но если так хочет твой муж — это другое дело. Из услышанного от полковника Фремонта я не думаю, что что-то может удержать его от открытого разбора дела. — Может быть, я смогу убедить его, — ответила она. — Разве нет никого, кто мог бы вмешаться и отменить военно-полевой суд, не потеряв при этом лица? — Есть, генерал Кирни. Он — единственный. Если он отзовет свои обвинения… — В таком случае извини меня, отец, я немедленно переоденусь и поеду к нему. Кто-то должен положить конец этой ужасной ссоре. Джесси пошла в контору, которую занимал генерал Кирни в военном департаменте во время своих наездов в Вашингтон. Ее настроение было таким же подавленным и серым, как грязновато-серое кубическое здание, куда она вошла. Первый же взгляд на генерала, на его болезненное, постаревшее лицо убедил ее, что и он остро переживает. Генерал встал со стула словно деревянный, не показывая на своем изможденном лице с маленькими мутными глазами даже признаков того, что узнает ее. Она закрыла за собой дверь и прислонилась к ручке, за которую все еще держалась. — Генерал Кирни, независимо от того, что случилось и еще может случиться, я хочу, чтобы вы знали: я глубоко сожалею по поводу всего этого. Он не ответил. Она понимала, что он хотел бы знать ее намерения и не сделает первого шага, пока не уверен, каким он должен быть. — Были допущены ошибки, — напряженно продолжала она. — Я пришла к вам просить не умножать их и не превращать в нашу общую беду. После мучительной паузы он сказал: — В таком случае вы видите, что полковник Фремонт серьезно ошибался. — Не исключаю этого, генерал. В жизни не делает ошибок тот, кто ничего не делает. — Должен ли я понимать это так, что полковник Фремонт готов публично принести извинения? Джесси вздрогнула. Она неуверенно подошла к жесткому деревянному стулу и присела на его краешек. — Не знаю, генерал Кирни, я пришла к вам, не поставив его в известность. — Зачем же вы тогда пришли? — Просить вас прекратить этот конфликт. Кроме бед для всех нас, он ничего другого не принесет. — Для меня не будет бед, мисс Джесси. Я командующий, приказы которого были нарушены. Ваш муж создал для меня неслыханные трудности в Калифорнии. Теперь его очередь страдать. Она поднялась с края стула, подошла ближе к генералу: — Он уже страдал, больше, чем вы можете себе представить. Этот военно-полевой суд будет для него трагедией, но он будет также трагедией для вас и каждого, имеющего к нему отношение. — В этом вы ошибаетесь. Мне нечего скрывать, ничто не сможет опорочить меня. — Простите меня, генерал, что дерзнула возразить вам. Я понимаю характер обвинений, которые будут брошены вами против моего мужа и моим мужем против вас. Несмотря на искренность тона Джесси, генерал Кирни оскорбился: — Если вы так уверены, что он прав, то зачем же явились ко мне? — Потому что убеждена, что в подобном деле, даже если все могут быть правы и никто не прав, все только потеряют и никто не выиграет. — Видели ли вы дело полковника Фремонта? Знаете ли вы, что мы можем буквально раздавить его? Или же вы слушали только версию вашего мужа? — Я выслушала версию моего мужа. У меня предубеждение в его пользу, но это предубеждение не ослепляет меня. Я знаю, насколько вы правы и, простите меня, насколько не правы, нет, не не правы, а нетерпимы. Я также знаю, как был не прав полковник Фремонт, нет, не не прав, а поспешен и импульсивен. Но он молодой человек, вы годились бы ему в отцы. Сенатор Бентон и я ожидали таких действий с вашей стороны. — Мои обязательства перед армией превыше всего, миссис Фремонт. У нас нет фаворитов, и мы не позволяем вмешательство во имя дружбы. — Но, разумеется, вы преувеличиваете роль полковника Фремонта и его поступков. — Я знаю, что ваш отец негодует на меня, мисс Джесси, и, пожалуйста, верьте мне, что я любил вас почти как свою дочь. Я глубоко огорчен, что причинил вам такую боль. Но полковник Фремонт оскорбил меня в присутствии других офицеров. Он отказался выполнять мои приказы и ссорился с моими представителями. Бунт — это настрой ума полковника Фремонта. Если я позволю этому бунтарству остаться безнаказанным, то подорву свою собственную позицию в такой степени, что никогда не смогу командовать. Я должен наказать такое поведение ради себя самого и моей долгой карьеры. Нельзя допустить, чтобы полковнику Фремонту безнаказанно сошел этот второй бунт, поскольку он станет прецедентом, подрывающим моральный дух армии… — Второй бунт? А какой был первым?.. — Когда он отплыл от причала Коу, получив приказ вернуться в Вашингтон. Джесси побледнела, ей стало дурно. — Но это сделала я, генерал Кирни. Мой муж не знал, что был отправлен приказ, он узнал только после возвращения, когда я ему рассказала. — Простите меня за грубость, — ответил генерал Кирни с прямолинейной откровенностью, подобной песчаной буре в пустыне, — но я вам не верю. Убежден, что он получил приказ и выдумал вместе с вами, как избежать последствий приказа. Она снова села на стул: — Как вы можете говорить мне такое после сорока лет дружбы с семьей Бентон, ведь вы меня знали со дня рождения? — Именно потому я и говорю это. Бентоны были всегда страстными борцами, ставящими дело, цель выше правды. Я знаю, что вы станете лгать, Джесси, защищая мужа. Я знаю, что вы пойдете на все, чтобы защитить его. Я не порицаю, когда говорю, что вы лжете; это своего рода комплимент: каждая жена должна лгать, защищая мужа. Но это не причина, чтобы я обманывался. Ваш муж — законченный бунтарь. Чем быстрее мы выставим его из армии, тем лучше. — Ну, хорошо, — сказала Джесси с оттенком металла в голосе, который она даже не заметила. — Я глупая, а мой муж — законченный бунтарь. Но даже в таком случае должен ли весь мир слышать наши обвинения и контробвинения? Это нанесет ущерб администрации президента, навредит нашему правительству, очернит нашу армию. — Я буду настаивать на военно-полевом суде, — хрипло ответил генерал, — потому, что никому не позволю поступить так со мной в конце моей карьеры. — Тогда я отвечу вам равноценной правдой: вы сами не должны наносить удар самому себе в конце вашей карьеры! Горечь процесса, обвинения создадут вокруг вас врагов и умалят ваши деяния для своей страны. — Я рискну, — ответил он. — Я буду считать, что не выполнил свой долг, если не возбужу дело. Наступила неловкая тишина. Наконец Джесси взмолилась: — Почему вы должны мстить ему из-за меня? Я ответственна за то, что полковник Фремонт вышел в поход с вашей пушкой вопреки приказу. Если бы не эта неприятность, вы никогда не подумали бы о нем как о бунтаре. Вы были бы более терпимы и добры к нему в Калифорнии, простили бы ему поспешность и скрыли бы его ослушание. Но из-за того, что сделала я в Сент-Луисе, вы склонны считать его мятежником. Я одна ответственна за состояние вашего мышления. И если моего мужа уволят из армии с позором, то по моей вине. Сделаете ли вы меня ответственной за подрыв карьеры собственного мужа? Я не могу поверить, что вы можете это сделать. Представьте ваш доклад военному департаменту, пусть военный департамент примет дисциплинарные меры, какие считает нужными, но не превращайте это в публичный скандал. Дайте мне время урезонить полковника Фремонта, и я обещаю, что рано или поздно он осознает свои ошибки и придет к вам с извинениями. Генерал Кирни отвернулся от Джесси и уставился на пустую серую стену. Когда он повернулся вновь, его глаза были такими же пустыми и серыми, как стена, которую он разглядывал. — Я приказал полковнику Фремонту явиться в Монтерей и привезти его архивы. Это после четырех месяцев, когда он продолжал командовать в Южной Калифорнии вопреки моим прямым и четким приказам. Он приехал в мою штаб-квартиру в Монтерей неряшливый и нечесаный после четырехсотмильной скачки на коне и в нарушение моего приказа не привез свои записи. Со мной был полковник Мэзон. Ваш муж потребовал, чтобы я отпустил полковника Мэзона и чтобы мы говорили с глазу на глаз. Когда я отказался, он закричал: «Вы привезли его шпионить за мной?» Верьте мне, миссис Фремонт, я не знаю ничего, подобного этой сцене, во всей истории армии. Позже, когда я послал полковника Мэзона в Лос-Анджелес, чтобы он принял командование от полковника Фремонта, ваш муж имел наглость вызвать своего командующего на дуэль! Он вел себя настолько вызывающе и высокомерно, что отказался возвратить мне две гаубицы, которые я перетащил из Санта-Фе через пустыню и которые мексиканцы передали ему при своей капитуляции. Это беспорядок, миссис Фремонт. Можете ли вы понять это? Что мне оставалось делать, как не посадить его под арест? Джесси вонзила свои ногти в ладонь. Теперь оба бунта семейства Фремонт сосредоточены вокруг гаубиц. По критической позиции генерала Кирни и тону его голоса было очевидно, что в конфликте с полковником Фремонтом его больше всего задел отказ последнего вернуть пушки. — Он переутомился, пока шло завоевание Калифорнии. Если бы он был нездоров, то при вашей поддержке он получил бы наилучшую медицинскую помощь, вы ухаживали бы за ним сами. Но он устал рассудком, а для такого рода недуга у вас нет ни понимания, ни сочувствия. Она встала со стула, теребя в руках перчатки: — Генерал Кирни, почему вы холодны и бессердечны? Почему вам хочется уничтожить полковника Фремонта и меня? Почему вы хотите помешать экспансии на Запад, навредить моему отцу? Вы не сможете причинить вред людям, которых вы любили, не уродуя при этом самого себя. — Если бы я боялся смертельно опасных сражений, мисс Джесси, я никогда не стал бы солдатом. — Но это бесконечно хуже, чем смерть. Та самая грязь, которую вы выльете на моего мужа, измажет и вас. — Моя совесть не позволяет мне уклониться от этого сражения, как не позволяла уклоняться от сражений против англичан, мексиканцев и индейцев. Речь идет о фундаментальных вопросах, имеющих большее значение, чем какое-либо лицо или группа лиц. До свидания, миссис Фремонт. Выйдя из конторы генерала Кирни, Джесси медленно побрела по улицам Вашингтона. Спустя час она пришла к военно-морской верфи и присела на деревянные ступени барака, чтобы освободить свою голову от мыслей. Потом собралась с силами и устало добрела до дома и попросила Мейли приготовить теплую ванну. Сидя в большом железном тазу, подтянув колени к подбородку, она в покое и тишине попыталась разобраться в событиях утра. Да, Джон переступил дозволенное, его поведение в отношении генерала Кирни недопустимо, но она не будет ворошить прошлое. Себе она сказала: «Живя в безопасности и комфорте в вашингтонском доме, обладая способностью быть мудрой задним умом, я могла бы с легким сердцем сказать, что ему следовало вести себя так и так. Но в пылу волнений, с еще не ясным будущим, вынужденный принимать мгновенные решения на месте, он мог вообразить, что в данный особый момент действует правильно, сообразуясь с обстоятельствами. Достаточно легко прийти к правильному суждению, когда все факты налицо, но солдат не философ, а человек действия. Я не собираюсь быть ослепленно любящей женой и, разумеется, не стану с олимпийским спокойствием решать, что нужно было сделать по-иному или лучше». Пар от горячей воды окутал ее теплым туманом. И она подумала: «У нас обоих в крови бунтарство. Я восстала против директора школы, оспаривала выбор королевы майского бала, увела своих подруг в общежитие, не позволив им участвовать в праздновании. Спустя семь лет я восстала против военного департамента. Мой муж не подчинился дисциплине и был отчислен из школы потому, что, как юный романтик, он предпочитал бродить с возлюбленной по холмам. Через двенадцать лет и он восстал против военного департамента. Мы так схожи друг с другом, что вместе умножаем наши слабости. Ему следовало бы выбрать в жены женщину другого склада, такую, которая не вмешивалась бы… была бы более уравновешенной…» Думая о своей вине, она теряла способность оценить степень вины мужа. Джесси вспомнила слова отца: «Небольшой бунт заходит далеко». Да, слишком частое проявление бунтарства может разрушить не только американскую армию, но и американскую форму правления, которая опирается на согласие управляемых и требует от них абсолютного послушания. Вице-адмирал Нельсон поступил разумно, поднеся подзорную трубу к своей пустой глазнице, когда его недалекий командующий отдал глупый, равнозначный катастрофе приказ, но что произойдет, если каждый из тридцати миллионов американцев возомнит себя лордом Нельсоном и станет делать вид, будто не видит приказов Вашингтона? Правительство, основанное на сотрудничестве, может пережить ошибки и промахи своих членов при тех или иных обстоятельствах, но не выдержит постоянного ослушания. Правительство — это родитель, а отдельное дело, подлежащее решению, — ребенок. Потерю одного ребенка плодовитые родители могут легко возместить, но, когда ребенок уничтожает родителей, гибнет вся семья. Так она прониклась пониманием, что ее бунтарство имело целью подкрепить все, что сделал Джон, собирая научные данные, прокладывая пути на Запад. Однако Джон не был незаменимым, ведь и другие могли собрать эти данные. Исторические силы, орудием которых он был, так или иначе подвели бы к открытию Запада. Она выступила за мужа, за его работу, но когда удар наносится за кого-то, то он должен быть нанесен одновременно и по кому-то, этой жертвой и стала американская форма правления, во славу которой ее бабушка Макдоуэлл всю жизнь носила шрам на лбу._/3/_
Вечером Элиза и Уильям Карей Джонс пришли на обед. По отдельным высказываниям Элизы Джесси знала, что у них сложилась счастливая совместная жизнь. И однако, ничто вроде бы не указывало, что их жизнь изменилась. Во время обеда Джесси удавалось обходить стороной разговоры на тему суда. Но когда кончился обед и они перешли в гостиную для кофе, Том Бентон позволил себе дать юридический анализ действий полковника Фремонта в Калифорнии, сопровождавшийся его тирадами против генерала Кирни. Джесси поняла, что ее интересует лицо Уильяма. Он редко показывал, что думает, но она чувствовала, что он не одобряет слова ее отца. Она была так поглощена собственными неприятностями, что почти не уделяла внимания своему зятю, но поймала себя на том, что внимательно изучает его. Он был высоким, гибким, с холодными зелеными глазами, курносый, с копной светлых волос и аскетическим, лишенным бороды лицом. Говорил он тихо и сдержанно, и Джесси восхищалась его спокойным, неспешным, внешне лишенным эмоций характером. Сама она была не способна стать столь бесстрастной, но понимала преимущества этого. Позиция Уильяма Джонса в связи с осложнениями, возникшими в семье, не была еще ясной: она еще не обсуждала с ним дела, а он не торопился высказать свое мнение. Она понимала, что его мнение может быть ценным в их деле не только потому, что он сохранит спокойствие и логику в противовес импульсивным выходкам мужа и отца, но и потому, что он знал международное право. Для Джона Фремонта и Тома Бентона конфликт носит личный характер, но в зале суда вопросы решаются в соответствии с нормами права. Ее муж не юрист, а отец не занимается юридической практикой в течение двадцати лет. Под вечер, когда Элиза поднялась к матери, Джесси улучила момент, чтобы поговорить с зятем. Она не знала, способен ли он на откровенный разговор, поскольку как член семьи он не выказывал привязанности к кому-либо, кроме Элизы. Он мог быть совершенно не заинтересован в конфликте. — Прости меня, если я попытаюсь узнать твое мнение, — сказала она, — но, когда отец говорил о деле, мне казалось, что где-то в глубине твоего сознания таилось несогласие. После некоторого неопределенного, но не лишенного дружелюбия молчания он ответил: — Существует старинная поговорка, что в судебных делах никто не выигрывает, кроме адвокатов. — А в данном случае даже адвокаты не выиграют! Я чувствую, что полковник Фремонт действовал правильно и его поведение объясняется сложными обстоятельствами. Однако должна сказать, что у меня разрывается сердце при мысли о публичной перебранке. — Согласен с тобой, Джесси. Выступления будут выдержаны в духе мести и озлобления, и это останется в истории. — Но ты не видишь способа не допустить судебного процесса? Мне уже отказали и отец, и генерал Кирни. Уильям Джонс посмотрел в другой угол комнаты, где Джон и Том, сидя рядом, тихо беседовали. — Боюсь, что мы должны провести процесс, Джесси. — Мы? — Да, я хочу предложить свои услуги. Не думаю, чтобы я мог оказать большую помощь, но был бы счастлив и почел бы за честь, если бы мне позволили выступить в качестве соадвоката. Нарастание ее чувств было прервано деловым тоном, каким зять сделал свое предложение, а ведь оно означало месяцы напряженной работы и забвение собственной практики. Она даже несколько опешила, увидев, что он готов пойти на значительную жертву с такой небрежной манерой, с какой предлагают принести чашку кофе. — Это крайне любезно с твоей стороны, — тихо сказала она. — Мой муж и отец, да и я сама настолько эмоциональны, что можем сорваться в любой момент. Ты сможешь нас сдерживать? Если ты сохранишь спокойствие и логику, у нас всегда будет надежная юридическая основа. Пожалуйста, не рассыпайся в комплиментах, что страдаешь одинаковыми с нами пороками. — Я буду таким, как есть, Джесси, — заметил он. — Я не могу быть иным. Сенатор Бентон добился от военного департамента второй, и последней, уступки — суд был отложен еще на месяц, чтобы полковник Фремонт мог пригласить своих свидетелей из пограничных районов. Джесси с интересом наблюдала, что еще до начала суда появились признаки того, какой будет расстановка сил: их друзья из армии, многие годы посещавшие дом Бентонов, держались в стороне; офицеры флота, с которыми Бентоны имели слабые контакты, напротив, проявляли дружелюбие, приходили при первой же возможности, заверяли полковника Фремонта, что он был абсолютно прав, сотрудничая с командованием флота в Калифорнии. Когда Джесси пришла в военный департамент за копиями документов, нужных для защиты, ее приняли вежливо, но равнодушно и помощи не оказали. В конторе военно-морского секретаря все было иначе: сотрудники помогли ей не только отыскать документы, но и снять копии. Большой неудачей было то, что секретарь военно-морского флота Банкрофт уехал за границу в качестве посланника при британском дворе. Джорджу Банкрофту следовало бы оставаться в Вашингтоне и выступить в защиту Фремонта, хотя Джесси понимала, что он может сделать немногое. Он предупреждал ее, что Джону придется в Калифорнии действовать на свой страх и риск и он, Банкрофт, будет вынужден опровергать, будто поощрял антимексиканскую кампанию, и уж во всяком случае армия будет яростно отрицать, что приказ министра военно-морского флота оправдывает действия армейского офицера. Библиотека в доме Бентонов превратилась в рабочую комнату. Джесси и ее отец работали за своими обычными столами перед камином, тогда как муж и зять разложили свои бумаги на столе для географических карт. Адвокат проводил дни, детально изучая все записи военно-полевых судов, состоявшихся в Америке ранее. Джесси часами сидела в библиотеке конгресса, выписывая нужные сведения; ее мысли возвращались к тому времени, когда она «паслась» там по воле отца, заседавшего в сенате. Наиболее важная часть работы выполнялась вечером, когда они собирались в библиотеке, сообщая друг другу о своих находках. Джон отрабатывал тот факт, что между январем и маем 1847 года коммодор Стоктон был законно действующим командующим в Калифорнии. В центре внимания Тома Бентона стоял вопрос о законности завоевания Калифорнии и управления ею. Уильям Джонс сконцентрировался на процедуре ведения суда и на вопросе о доказательствах. Джесси писала письма свидетелям и снимала копии с приказов, которые включались в рабочее резюме, совмещавшее трезвый юридический подход зятя со вспыльчивыми обличениями отцом генерала Кирни и подобранных им свидетелей. Одновременно она старалась поддерживать и укреплять веру и стойкость мужа, заботясь о том, чтобы в целом их позиция стала безупречной. В день начала процесса, 2 ноября 1847 года, Джесси проснулась рано и сразу же побежала к окну, чтобы посмотреть, какая погода. Солнце взошло яркое, но не знойное; воздух был по-осеннему свеж. Она почти не спала накануне, но за легким завтраком уверяла мужа, будто спала сном праведника. Она крепко обняла его и, поцеловав, сказала: — Все будет в порядке. — У меня нет и тени сомнения, — ответил он, но она не могла не заметить его тревогу. Мужчины выехали рано в просторной карете Хасслера, и по пути к ним присоединились свидетели защиты. Суд открывался в полдень. Джесси села перед туалетным столиком, думая о том, что после всех приготовлений нужно выглядеть серьезной и уверенной в себе. Надлежало замаскировать следы прежних волнений: синеватые круги под глазами, зеленоватый оттенок кожи на висках и пятно под губой. Она промыла глаза теплой, а затем холодной водой, долго массировала лицо, желая придать ему свежесть, тщательно расчесала волосы. В половине одиннадцатого надела теплое бордового цвета платье, туфли и шляпку. Погруженная в свои мысли, она все же услышала легкий стук в дверь, и в комнату вошла Элиза в черном платье. Джесси некоторое время молча смотрела на сестру. — Элиза, дорогая, это не повод для траура. — Значит, ты не одобряешь мое черное платье? — Нет, пожалуйста, надень свое новое платье, цвета морской волны. Чуть позже одиннадцати прибыла карета генерала Дикса с его дочерьми, которые вызвались доставить сестер Бентон в Арсенал. Они проехали по Си-стрит к Пенсильвания-авеню, а затем повернули налево. Поскольку в этот час в Вашингтоне наносились визиты, улицы были полны экипажей: одни направлялись в сторону Арсенала, другие — к домам друзей. Джесси заметила нескольких знакомых семьи Бентон, прогуливавшихся по улице, и отвечала на их поклоны наигранной улыбкой, руками же, которых не было видно снаружи, она цеплялась за Элизу. — Твои пальцы холодны как лед и дрожат, Джесси. Сейчас повернем к Арсеналу, надень перчатки. Арсенал представлял собой огромное несуразное деревянное здание, покрашенное блеклой краской горчичного цвета. Выходя из кареты, Джесси увидела большую толпу зевак, собравшихся по обе стороны у входа. Когда она спустилась на землю, послышались приглушенные голоса, и, как она почувствовала, в них звучала симпатия. Как и дружественный тон печати в последние дни, это убедило ее, что сочувствие публики на стороне полковника Фремонта. Зал суда был не очень большой, с высоким потолком в виде купола и окнами, расположенными вверху. В зале имелись места лишь для двухсот посетителей, и охранники уже закрыли двери, потому что все места были заняты. Сжимая руку Элизы, Джесси, к которой были устремлены все взоры, прошла по центральному проходу. Она села в первом ряду зрителей непосредственно перед оградой, за которой с левой стороны за длинным столом из красного дерева расположились ее муж, отец и зять, а на противоположной стороне — прокурор и его помощники. Поскольку суд проводился без присяжных заседателей, на левой стороне было поставлено подобие ограды, за которой сидели Кит Карсон, Александр Годей и большое число членов калифорнийского батальона Джона и его помощники по Калифорнии, явившиеся в качестве свидетелей. За оградой напротив рядом с прокурором за своим командующим генералом Стефаном Уоттсом Кирни сидели, словно аршин проглотив, армейские офицеры. В первом ряду, где сидела Джесси, разместилась шеренга репортеров, они должны были освещать то, что газета «Юнион» окрестила «наиболее драматическим военным судом после суда над генералом Уилкинсоном тридцать лет назад». Ее воодушевила доброжелательность присутствующих в зале. Затем гуськом вошли в зал тринадцать судей разных рангов — генералы, полковники, майоры и капитаны в мундирах с золотой окантовкой. Они расселись на высокой судейской скамье, протянувшейся почти во всю ширину зала. Заседание суда было объявлено открытым, выполнены положенные формальности, и в притихшем зале началось чтение обвинительного заключения против ее мужа. Пробил критический час в их жизни._/4/_
Джесси встревоженно наблюдала за мужем, когда его спрашивали, не возражает ли он против состава суда. До начала процесса она убедила его купить новый мундир, и он показался ей, как всегда, подтянутым и красивым: его глаза сверкали, а выразительное лицо было более повзрослевшим из-за седины в волосах и морщин на лице. Но более важным было то, что он, как она заметила, собрался внутренне и былготов выдержать долгое испытание. Согласно правилам военно-полевого суда, адвокаты защиты не имели права выступать в суде. Они могли разрабатывать юридические вопросы, но в суде мог выступать лишь полковник Фремонт. Только он мог зачитывать заявления, подготовленные в итоге напряженной ночной работы, только он мог подвергнуть перекрестному допросу свидетелей, опротестовать действия судей. Это создавало большие трудности, ведь обвиняемому приходилось говорить о мало знакомых ему юридических вопросах и появляться в зале суда с бесстрастием адвоката, который может добиваться лишь одного решения. Она наблюдала, как встал ее муж и ясным энергичным голосом зачитал бумагу, составленную ими вместе минувшей ночью:«Господин председатель, выдвигая простую просьбу разрешить мне пользоваться советами в данном деле, я хочу заявить, что в мои намерения не входит защита, построенная на какой-либо юридической или технической зацепке, я желаю иметь дружественную помощь лишь в выявлении самих достоинств дела. Учитывая это, не стану выдвигать возражения относительно соответствия или законности любого вопроса, предложенного обвинителями или судом, равным образом любого вопроса, имеющего целью вскрыть мои мотивы посредством как слов, так и действий, и достоверности любого письменного или печатного свидетельства, которое, на мой взгляд, является аутентичным. Таким образом я надеюсь содействовать ходу суда и дать ему возможность поскорее приступить к иным обязанностям. Я называю в качестве разрешенных мне советников сопровождающих меня двух друзей — Томаса Гарта Бентона и Уильяма Карея Джонса».Джесси одобрительно кивнула Джону, когда он, повернувшись к ней вполоборота, садился на скамью. Но ее сердце дрогнуло, когда прокурор встал и начал предъявлять обвинения, зачитав при этом письмо полковника Фремонта генералу Кирни.
«Бригадному генералу С. У. Кирни, армия Соединенных Штатов. Сэр! Имел честь вчера вечером получить Ваше письмо, где мне предложили отложить исполнение приказов, полученных мною в качестве военного коменданта этой территории от коммодора Стоктона, губернатора и главнокомандующего в Калифорнии. Я воспользовался ранними утренними часами, чтобы составить ответ, какой возможен, учитывая краткость времени, отведенного на размышления. С начала июля прошлого года коммодор Стоктон в качестве контролирующего страну осуществлял функции военного коменданта и гражданского губернатора; вскоре я получил от него полномочия военного коменданта, обязанности которого немедленно стал выполнять и выполняю до сего времени. По прибытии в это место три-четыре дня назад я обнаружил, что коммодор Стоктон все еще выполняет функции гражданского и военного губернатора при очевидном уважении его положения со стороны всех офицеров, включая Вас, какое он установил в июле прошлого года. Я узнал также из разговора с Вами, что во время марша от Сан-Диего сюда Вы приняли и выполняли обязанности, означавшие с Вашей стороны признание коммодора Стоктона как старшего. Поэтому с величайшим уважением к Вашим профессиональным и личным достоинствам я вынужден сказать, что, пока Вы и коммодор Стоктон не отрегулируете между собой вопрос о ранге, в чем, на мой взгляд, и скрываются трудности, я должен докладывать и получать приказы, как прежде, от коммодора. С высочайшим уважением остаюсь Вашим покорным слугой Джон Ч. Фремонт, полк. США, военный комендант территории Калифорнии».При всей простоте и уважительном тоне письма Джесси мгновенно почувствовала, что именно здесь кроется суть дела, представляемого армией, здесь центр, вокруг которого развернутся споры: суд решит, кто был законным командующим Калифорнии! Если им был коммодор Стоктон, тогда полковник Фремонт невиновен. Если же командующим был генерал Кирни, тогда Джон повинен в невыполнении приказа своего начальника. Все множество слов, которые изрекут в этом зале, многие с яростью, с разгоряченной кровью, будет вращаться вокруг этой единственной точки. Прокурор приступил к предъявлению полковнику Фремонту обвинений в бунтарском поведении, насчитав при этом двадцать два проявления бунта, невыполнения приказов и нарушения военной дисциплины. Целых четыре часа она выслушивала нагромождение обвинений против ее мужа, пока оно не стало самым крупным со времен суда над Аароном Берром за предательство. Из слов прокурора Джесси поняла, что на протяжении трех предстоящих месяцев в зале суда будут несчетное число раз повторяться обвинения и контробвинения. Прокурор утверждал, что ее муж повинен в нарушении слова, данного мексиканским властям; в грубом обращении с местными калифорнийцами, что настраивало их против американского правительства; в конфискации лошадей и провизии у местного населения с оплатой никчемными расписками; во вторжении в страну под предлогом научных исследований с хорошо вооруженными войсками; в мятеже с оружием в руках против этой страны под тем предлогом, что ему приказано покинуть ее пределы; в подстрекательстве американских поселенцев к бунту против мексиканских губернаторов; в развязывании войны против Калифорнии посредством вооруженных вылазок; в присвоении полноты власти над Северной Калифорнией; в получении провианта и боеприпасов с американских военных кораблей в гавани Сан-Франциско без письменного разрешения; в предъявлении мексиканцам мирных условий без ведома старших по команде. Джона обвиняли также в том, что он отказался вернуть две гаубицы, утерянные генералом Кирни, продолжал набирать солдат в Калифорнийский батальон после приказа генерала прекратить вербовку; пытался предложить генералу Кирни сделку относительно губернаторства в Калифорнии; выступил против него, когда его требования были отклонены; инструктировал гражданских служащих в Калифорнии, склоняя их к невыполнению приказов генерала Кирни. Он оскорбил генерала Кирни на глазах офицера штаба, незаконно покупал запасы для своих войск после того, как был смещен с поста генералом Кирни, незаконно осуществлял гражданское управление и провозгласил себя губернатором. К перерыву заседания суда в четыре часа дня Джесси была измотана и отупела от страха. Каким образом они смогут опровергнуть кучу обвинений? Что им удастся сделать в последующие дни, чтобы разбить чудовищные обвинения, реабилитировать Джона в глазах нации? Официальный Вашингтон подозревал, что у полковника Фремонта были секретные приказы. Однако их невозможно представить в суд и предать огласке для оправдания, ведь они посылались ему тайным путем с лейтенантом Джиллеспаем. Суд будет лишь барахтаться в скучно-надоедливой мешанине: армия, пытаясь осудить полковника Фремонта якобы за бунт против генерала Кирни, в действительности хотела наказать его за то, что он выдал армию Соединенных Штатов как орудие захвата. Поскольку в своих усилиях обелить армию в глазах истории невозможно отдать под суд ни секретаря Банкрофта, ни военно-морской флот Соединенных Штатов, ни президента, ни тех членов кабинета, которые подталкивали к упреждающему захвату Калифорнии, армия направила весь свой гнев против полковника Фремонта, состряпав дело, какое она была в состоянии предъявить, чтобы осудить его на основании обвинений, которые можно было без опаски предать гласности. Джесси не прикоснулась к обеду. Она заметила, что лишь Элиза и ее муж ели поданное им. После того как ей удалось выпить чашку горячего черного кофе, она нарушила тишину, спросив: — Почему осуждают человека до суда? Почему действует практика создания чудовищной завесы обвинений, прежде чем нам дадут возможность выступить в защиту? — Не тревожься о защите, — гремел Том Бентон, сердито отодвинув от себя тарелку. — Если ты думаешь, что список их выдумок против нас ужасающий, подожди, ты увидишь, как мы с ним разделаемся. Джесси повернула свое встревоженное лицо к Уильяму Джонсу, расправлявшемуся с остатками запеченного бекона и сладкого картофеля. Он ел не прерываясь; когда его тарелка оказалась пустой, он тщательно вытер уголки рта салфеткой, отодвинул стул от стола и, положив одно тощее колено на другое, спокойно сказал: — Это и есть надлежащая процедура. Мы не можем начать защиту, пока не изложено дело против нас. Более того, с их точки зрения, все двадцать два определения поданы правильно. Если мы примем посылку, что полковник Фремонт был обязан подчиниться приказу генерала Кирни от 17 января, то тогда любой шаг, сделанный им в течение последующих девяноста дней, был незаконным. — Но он не был обязан подчиняться генералу Кирни! — крикнула Джесси, ее чувства, как и желудок, подступили к горлу. — Коммодор Стоктон отказался разрешить ему выйти из команды флота. — Да, так, — сказал вполголоса Джонс. — Я просто представляю дело с точки зрения противной стороны. Теперь же посмотрим с нашей точки зрения: если полковник прав, подчиняясь приказам коммодора Стоктона по той причине, что принес присягу флоту, то тогда все сделанное им между 17 января и 8 мая, когда ему разрешили увидеть новые и окончательные приказы генералу Кирни из Вашингтона, не только правильно и законно, но и необходимо для выполнения обязанностей в качестве губернатора. Он совершил бы проступок, делая меньше положенного. Такова наша сторона дела. Мы должны представить ее суду. В то время как Джесси пыталась успокоить свои чувства второй чашкой кофе, Том Бентон тяжело поднялся со стула и прогремел: — Если дело обернется худо, то кого осуждает армия? Разумеется, не полковника Фремонта! Она осуждает военно-морской флот, нанося удар по армейскому офицеру. — Они не осудят нас! — крикнула Джесси. — Каждое из обвинений в этом чудовищном списке касается событий, происшедших до того, как Кирни получил окончательный приказ из Вашингтона в мае… Уильям Джонс, раскурив сигару, поднялся из-за стола и подошел к ней. — Полегче. Мы можем вести дело, опираясь только на факты, а не на наши предположения относительно того, что за ними скрывается. Я верю в наше дело. Джесси посмотрела на него со слезами благодарности. — Разумеется, мы верим в наше дело, — повторил Том Бентон. — Но мы должны добиться того, чтобы и мир смотрел на дело нашими глазами. Пошли, нужно работать. Мы не сможем убедить других, убеждая лишь самих себя. — Пожалуйста, не торопись, отец, — умоляла Элиза. — Не сразу после обеда. Пойдемте на час в гостиную, и я вам сыграю. Джесси, было бы хорошо, если бы ты спела несколько песен. — Элиза права, — заявил ее муж, — мы все должны часок отдохнуть и поговорить на другие темы. Джесси заметила, что Джон и ее отец недовольны таким хладнокровием, им хотелось подняться наверх и немедленно сесть за работу не потому, что не хватало времени и они не успели бы все сделать, а потому, что этого требовал их беспокойный характер — он требовал, чтобы обвинения были опровергнуты сразу же. Тем не менее Джесси понимала, что сестра права, и она направилась по коридору в гостиную, крепко взяв мужа под руку. В восемь часов они поднялись в библиотеку и приступили к работе. Деревянный стол для географических карт, всегда стоявший около книжных шкафов, был передвинут в центр, и на обоих концах его поставлены лампы. Они разложили на столе заметки прошедшего заседания, документы, которыми располагал Джон, и копии официальных бумаг, собранные в течение дня. Джесси и Джон сидели по одну сторону, Том Бентон и Уильям Джонс — напротив них. В полночь они завершили составление документа, доказывающего несостоятельность каждого из пунктов обвинения, предъявленного Джону прокурором. Теперь вдруг они почувствовали голод. — Мы даже не поужинали! — воскликнула Джесси. — Во всяком случае ничего не перекусили! Я помню лишь тот чудесный шоколадный кекс. Пойдемте пошарим на кухне, там оставался бекон, а я сварю свежий кофе. — Я чувствую себя намного лучше, — объявил отец. — Ощущаю себя карающим ангелом, разрушающим силы зла. Джесси жадно посмотрела на мужа, ожидая, что у него, как и у всех, поднялось настроение. — Мы изложили наше дело, — удовлетворенно сказал он, — и изложили здорово. — Потише, — предостерег Уильям Джонс, закуривая вторую сигару за вечер, когда наступил момент передышки. — Мы должны остерегаться как чрезмерного оптимизма, так и чрезмерного пессимизма. — Ой, хватит, Уильям! — выкрикнула Джесси, озадаченная тем, что впервые назвала зятя по имени. — Уже полночь, мы устали, проголодались и счастливы. Перестанем осторожничать хоть несколько минут, будем уверенными. Поговорим о шеренге в обшитых золотом мундирах, что восседает на той скамье. Видел ли ты когда-либо так много ослепительных персонажей? Они выглядят так, словно решают вопросы стратегии Ландис Лейн[7] или Ватерлоо.[8] — Нет, — добродушно запротестовал отец, — не будем предвзятыми к суду. Думаю, что мы добьемся справедливости. — Я уверена в этом! — крикнула Джесси, чувствуя себя беззаботной впервые за много дней. — Мы можем также взять добрый ломоть ветчины. Гляньте, Мейли запасла изрядно. Джон, займись кофе. Уильям, вот ломтик французского хлеба. Отец, а как насчет глотка бренди, чтобы отметить успешный конец первого дня работы? Том Бентон пришел с бутылкой бренди. Когда рюмки были наполнены, он поднял свою и произнес: — За нас. — Да, за нас, — прошептала Джесси. Подойдя к мужу, она поцеловала его и сказала: — И за тебя, мой дорогой.
_/5/_
Последующие дни были скверными: генерал Кирни, лейтенант Эмори и полковник Кук подходили к стойке и старательно громоздили обвинения против полковника Фремонта. Для Джесси было ясно, что ее муж своеволен, однако процесс экзекуции человека на публике казался ей гнусным. По мере развития процесса становилось все более очевидным, как нарастали трудности мужа. Шаги, которые он предпринимал на протяжении трех месяцев, вытекали из его исходного решения завоевать Калифорнию для Соединенных Штатов и управлять ею в качестве губернатора. Рассматриваемые как таковые, без раскрытия подспудных мотивов, его действия выглядели поспешными, плохо продуманными, жесткими и задиристыми. Любой прочитавший в газете набор обвинений, предъявленных генералом Кирни, лейтенантом Эмори или полковником Куком, признал бы не задумываясь вину полковника Фремонта. Но когда на сцене появлялась исходная посылка, действия Фремонта выстраивались в логически строгий ряд. Вникнувший в ход событий мог увидеть, что шаги полковника Фремонта были последовательными. Беспристрастно оценивая генерала Кирни, Джесси поняла, что к нему применима та же мерка. Любой ознакомившийся с обвинениями, высказанными за день в его адрес, вынес бы ему суровое порицание: генерал проявил себя властным, надменным. Он вошел в Калифорнию, неосторожно и необдуманно отослав назад две трети мормонского батальона, потерпел поражение у Сан-Паскуаля, две его гаубицы были захвачены мексиканцами, от разгрома его спас коммодор Стоктон; генерал Кирни играл второстепенную роль в сражениях с мексиканцами в Калифорнии; он знал, что коммодор Стоктон получил приказ Вашингтона учредить гражданское правление и что он назначил полковника Фремонта губернатором; несмотря на это, Кирни вел себя как фельдфебель, напрочь отрицая заслуги коммодора, роль Фремонта в почти бескровном завоевании территории и его успешное гражданское правление, решив, что только он — единственный командующий. Однако его расчет строился на том, что именно он получил последний приказ из Вашингтона управлять Калифорнией, а, отказываясь признать его власть, полковник Фремонт повел себя как бунтарь. Джесси старательно изучала лица судей, пытаясь понять их реакцию. Она бросала беглые взгляды на зрителей, заполнявших каждый день зал, чтобы понаблюдать за драматическим конфликтом между двумя знаменитыми личностями. Она проглатывала газеты, вырезала доброжелательные статьи и показывала их мужу, осуждающие его она уничтожала, прежде чем они могли попасть ему на глаза. Утром на двенадцатый день процесса прокурор вызвал к стойке генерала Кирни. Джесси смотрела на его обветренное, болезненное лицо. Ей казалось, что он плохо выглядит, и на миг она почувствовала симпатию к этому стареющему воину, который, не преуспев на поле боя, предпочел сражаться в военно-полевом суде. Ее симпатия улетучилась, когда он обвинил полковника Фремонта в уничтожении важных бумаг. Джесси увидела, как ее муж вскочил, протестуя всем своим существом. Генерал Кирни просил извинить его, сказав, что он не имел намерения использовать слово «уничтожил», но так говорил прокурор. Генерал Кирни рассказал, как он провел свои войска более тысячи миль по пустыне в окружении враждебных индейцев, испытывая голод и жажду, какую важную роль он сыграл в покорении Калифорнии. Джесси вытащила из ручной сумочки карандаш и бумагу и принялась набрасывать вопросы. После обеда она обнаружила, что ее муж, отец и зять занимались тем же самым. Четыре часа они сидели в библиотеке, готовя перекрестный допрос, который раскроет более правдивую картину. В эту ночь, когда они легли спать, она сказала мужу: — Впервые после начала суда я могу с облегчением заснуть, ибо думаю, что генерал Кирни разоблачил себя. Джесси нашла, что огорчения и любовь не ладят между собой: с того времени, как они оставили Силвер-Спринг и занялись подготовкой к процессу, она и Джон вели себя не как муж и жена и даже не как влюбленные, а как деловые партнеры, озабоченные трудностями, угрожающими их союзу. В эту ночь восстановленной уверенности они вновь стали любовниками. На следующее утро посвежевшие, с просветленными глазами они вышли из дома на полчаса раньше и прошлись к Арсеналу, вдыхая прохладный и бодрящий воздух. Под широким навесом у входа стояли несколько человек, кто-то из них сказал дружеским тоном: — Удачи вам, полковник. Не бойтесь их, миссис Фремонт, они не смогут навредить вам. В это утро газета «Юнион» сообщила, что полковник Фремонт подвергнется перекрестному допросу генерала Кирни. На суде будет рассмотрен целый период истории Калифорнии, сотни людей дадут показания, и будут предъявлены тысячи документов, и каждый в Вашингтоне знал, что наступает критический момент процесса. Джесси и Джон вошли в зал суда за полчаса до начала, все места были уже заняты. В зале стоял гул голосов, и на них бросали мимолетные взгляды, когда они шли по проходу. Они действительно выглядели необычайно красивой парой: двадцатитрехлетняя Джесси в рединготе цвета морской волны, в коричневой бархатной шляпке, гармонирующей с цветом ее волос; колючий зимний ветер покрыл краской ее нежные щеки, ее глаза сверкали уверенностью, которую подпитали замечания сидящих в зале, ее губы были яркими; рядом с ней шел тридцатичетырехлетний муж, крепко поддерживая ее под руку; его темные волосы слегка нависали надо лбом и волнами ниспадали назад, он выглядел старше и представительнее по той причине, что не сбрил бороду, которую отрастил во время третьей экспедиции и пребывания в Калифорнии; он шел прямо и гордо, его фигура в парадном мундире излучала большую жизненную силу. На какое-то время он сел рядом с Джесси и тихо, чтобы никто не слышал, сказал ей на ухо: — После сегодняшнего дня тебе не будет стыдно носить имя миссис Фремонт. Оно будет отмщено. — О, дорогой, — прошептала она, — ничто из случившегося не заставит меня стыдиться моего имени. Я ношу его как почетную медаль, которой наградил тебя барон Гумбольдт. — Признаюсь, я ожидал от тебя таких слов, — ответил он с грустной улыбкой. Когда он приподнялся со скамьи, она схватила его за руку и сказала с мольбой: — Будь внимательнее, дорогой. Пусть генерал Кирни делает ошибки, пусть у него будут горечь, грубость и обида. Вчера был его день, сегодня — твой, ты можешь позволить себе вести себя по-рыцарски. Он коснулся ее руки. — Доверься мне, — ответил он. — Сегодня утром мой меч так отточен, что генерал не почувствует, как ему перережут глотку. Это был не тот ответ, который она надеялась услышать, но ей пришлось довольствоваться им. Открылось заседание суда. Генерал Кирни принес присягу, и Джон встал, взглянул на бумагу, лежавшую перед ним, затем обратился к своему командующему. Джесси почувствовала облегчение, услышав спокойный голос мужа и увидев его любезные манеры. Она была само напряжение. Воздух в зале был все еще прохладным, и она закуталась в свой редингот. В момент, когда Джон начал говорить, ее напряжение спало и ей стало теплее. Она уселась поудобнее, вслушиваясь в перекрестный допрос, который, как ей казалось, должен был показать невиновность ее мужа. — Генерал Кирни, не посещал ли вашу штаб-квартиру в Лос-Анджелесе 13 января калифорнийский государственный секретарь Уильям Рассел и не сообщил ли он вам, что я послал его из Кахуэнга, где я только что принял капитуляцию мексиканской армии? — Да, посещал. — Не сказал ли мистер Рассел вам, что он был направлен с целью удостовериться, кто является главнокомандующим в Лос-Анджелесе, и, выяснив это, доложить о капитуляции мексиканской армии и условиях перемирия, предъявленных мною мексиканцам? — Мистер Рассел приехал в мою штаб-квартиру 13 января. — Не спросил ли вас мистер Рассел, что ваш приезд в страну имеет целью сменить коммодора Стоктона, который ранее признавался главнокомандующим? — Он поставил такой вопрос. — Сказали ли вы ему, что коммодор Стоктон все еще главнокомандующий, и не предложили ли ему сделать доклад коммодору? - Да. — И это имело место ровно за четыре дня до того, как вы приказали мне не подчиняться коммодору Стоктону и в дальнейшем выполнять ваши приказы? — Да. — Получили ли вы между 14 и 17 января какой-либо приказ Вашингтона, изменявший ваш статус? — В этот период ко мне не поступали никакие депеши. Аудитория, как один человек, вздохнула, раздались разрозненные аплодисменты. Джесси благодарно повернулась на своей скамье; она поняла, что зрители оценили искреннее желание ее мужа разобраться, кто же был действительным главнокомандующим, и почувствовали, что генерал Кирни запутался. Прокурор угрожал очистить зал, но Джон попросил, чтобы вместо генерала Кирни к стойке вышел Уильям У. Рассел. Рассел показал, что он был майором Калифорнийского батальона, принимал участие в принятии капитуляции мексиканцев в Кахуэнга и получил от полковника Фремонта указание поехать в Лос-Анджелес с целью выяснить, кто является главнокомандующим. — Мистер Рассел, когда вы говорили с генералом Кирни в штаб-квартире до вашего доклада коммодору Стоктону, упоминалось ли мое имя? — Упоминалось. Генерал Кирни выразил большое удовлетворение тем, что полковник Фремонт находится в стране, и говорил о его выдающихся качествах на посту губернатора, о знании им испанского языка и обычаев местного населения. Он сказал мне, что намерен назначить полковника Фремонта губернатором Калифорнии, если инструкции военного министра будут признаны в Калифорнии. — После этого вы представили мой доклад коммодору Стоктону? — Да, сэр. Я узнал от коммодора, что его положение как главнокомандующего никоим образом не изменилось в связи с приездом генерала Кирни в страну. — Вернулись ли вы после этого в Калифорнийский батальон? — Вернулся. Я встретил полковника Фремонта во главе его батальона утром 14 января примерно в пяти милях от Лос-Анджелеса. Я доложил ему о длительном разговоре с генералом Кирни и коммодором Стоктоном, касавшемся их соответственного статуса; сказал, что я был обрадован, поняв, что генерал Кирни более близкий его друг, чем Стоктон, но на основании слов самого Кирни был вынужден, к сожалению, выразить свое личное мнение о необходимости подчиняться коммодору Стоктону как главнокомандующему; что я нашел Стоктона исполняющим функции главнокомандующего, с чем согласился, пусть даже косвенным образом, сам Кирни. — Мистер Рассел, подчинение Стоктону в условиях, когда он и генерал Кирни претендовали на верховную власть, обеспечивало ли какие-либо личные или иные преимущества полковнику Фремонту? — Думаю, что нет. Было известно, что у генерала Кирни есть деньги и он ожидает вскоре прибытия войск. Кроме того, о нем говорили как о близком друге семьи полковника Фремонта. Я убежден, что полковник Фремонт избрал подчинение коммодору Стоктону только по соображениям долга. В зале вновь зашумели. Джесси чувствовала, что ее настроение поднимается. Джон попросил генерала Кирни занять место за стойкой. — Генерал Кирни, четырьмя днями позже, когда вы приказали мне прекратить службу под началом коммодора Стоктона и подчиниться вам, не информировал ли я вас, что коммодор Стоктон отказался аннулировать мое назначение во флоте и что он будет считать меня бунтовщиком, если я перестану признавать его главнокомандующим? — Как главнокомандующий в Калифорнии, я не связан заявлениями коммодора Стоктона. — Но вы знали, что он угрожал использовать своих моряков и морскую пехоту, чтобы не допустить роспуска Калифорнийского батальона? — Я не был убежден, что коммодор Стоктон бросит своих матросов против Калифорнийского батальона. — Сообщили ли вы коммодору Стоктону, что он больше не главнокомандующий в Калифорнии, что таковым стали вы? — Я уведомил об этом коммодора. — И он не отказался передать командование? — Он отказался признать мое верховенство. — Поскольку я был назначен губернатором Калифорнии и был следующим по рангу после вас и коммодора офицером, не пытались ли вы использовать меня для урегулирования вашего конфликта с коммодором Стоктоном? Военный прокурор отклонил этот вопрос. Джон повернулся, долго смотрел на свою жену, затем подошел ближе к барьеру: — Когда я послал первое вежливое письмо, в котором отказывался принять решение до того, как будет улажен вопрос о рангах, не сказали ли вы, что человек, доставивший вам письмо, вам незнаком? — Не помню, что так сказал. — Тогда позвольте зачитать это из вашего собственного показания. Зачитав соответствующую выдержку из показаний генерала Кирни, Джон продолжал: — Это письмо было принесено вам в вашу штаб-квартиру Кристофером Карсоном. Разве вы не провели много недель в пути с Китом Карсоном как проводником? — Мистер Карсон служил нашим проводником. — Тогда как вы могли не узнать его через несколько недель, когда он принес письмо? — С человеком, принесшим письмо, я не был знаком. Джон Фремонт вызвал к стойке Кита Карсона. Джесси обменялась с ним мимолетной улыбкой, когда он шел по центральному проходу. После того как Карсон принес присягу, Джон спросил: — Приняли ли вы от меня 17 января 1847 года письмо к генералу Кирни, в котором говорилось, что, пока генерал Кирни и коммодор Стоктон не уладят между собой вопрос о ранге, в чем и состояла, по моему мнению, причина возникших трудностей, я должен докладывать и получать приказы, как и ранее, от коммодора? — Я доставил это письмо генералу Кирни. — Узнал ли он вас? — Узнал ли меня? — спросил ошеломленный Карсон. — Знал ли он, что вы — Кристофер Карсон? — Мы вместе прошли по тропе. Как он мог не узнать меня? — Спасибо, мистер Карсон. Я хотел бы вновь пригласить к барьеру генерала Кирни. — Генерал Кирни, разве вы не информировали офицеров вашего штаба немедленно после моего отказа 17 января, что намерены арестовать меня? — Я мог упомянуть об этом. — Когда вы уведомили меня, что меня должны арестовать? Не было ли это 16 августа, через шесть месяцев, когда мы дошли до форта Ливенуорт? — Вас арестовали в форте Ливенуорт. — Дали ли вы мне какую-либо возможность собрать материалы для защиты в Калифорнии? Имел ли я возможность информировать моих свидетелей, что они потребуются мне в Вашингтоне в военно-полевом суде? — Вы были уведомлены в надлежащее время о вашем аресте в форте Ливенуорт. — Когда вы приказали мне вернуться в Вашингтон, не отказали ли вы мне в праве поехать в Сан-Франциско и собрать мои дневники, рисунки, карты и образцы третьей экспедиции? — Это государственная собственность, которую нельзя доверить офицеру, нарушившему свой долг. — Разве вы не отказали в разрешении перебросить мой батальон в Мексику для службы под началом генерала Тейлора, несмотря на то что генерал Скотт просил вас предоставить такую привилегию? — Мне ничего не известно о таком совете со стороны генерала Скотта. — Когда я попросил разрешения возвратиться по новой дороге, чтобы закончить составление карт для Топографического корпуса, разве вы не обязали меня шагать за вашей армией под охраной мормонского батальона? — Вы шагали за мормонским батальоном. — Последний вопрос, генерал Кирни. Разве вы не пытались воспрепятствовать лейтенанту Джиллеспаю и гардемаринам Билю и Маклейну выехать из Калифорнии, хотя их давно ждали в Вашингтоне? — У меня нет власти над морскими офицерами. — Но разве вы не посещали коммодора Шубрика и не просили его, чтобы этим людям не был разрешен переход по суше? — Я информировал коммодора Шубрика, что не считаю лейтенанта Джиллеспая ответственным человеком, который может свободно разгуливать по Калифорнии. Пробило четыре часа. Суд прервал свою работу до следующего дня. Джесси сидела счастливая, благодушно ожидая, когда мужчины соберут свои бумаги и пойдут вместе с нею к экипажу. Она чувствовала: процесс позади, каждому ясно, что генерал Кирни безосновательно изменил позицию, решил принять на себя командование, известив до этого всех, что командующим был коммодор Стоктон; что Джон мог вполне не осознать такое изменение, поскольку не было приказов; он был прав, отказываясь решать, кто из старших офицеров был главнокомандующим в Калифорнии. Мотивы и поведение генерала Кирни предстали в худом свете, он явно превысил свою власть в Калифорнии, а на суде продемонстрировал мстительность к низшему по чину офицеру, подорвавшему его показания. Рано утром, работая в архивах военного департамента, она увидела первоначальный доклад, который генерал Стефан Уоттс Кирни представил в порядке обвинения против полковника Джона Фремонта. Оцепенев, она поняла, что в докладе были вовсе не те обвинения, которые были оглашены в суде, что окончательный список был составлен военным департаментом. Все стало ясным._/6/_
Уверенность, не покидавшая Джесси накануне, испарилась. Процесс вовсе не окончился, их уверенность оказалась обманом. Поскольку военный департамент расширил список обвинений, подобрал состав судей и вел процесс в соответствии с собственными потребностями, что бы ни говорил Джон, это ни в коей мере не изменило бы приговор. Он был предрешен. Она не сказала никому о своем открытии, а сделала веселый вид и даже пыталась шутить в карете, когда за ней заехал отец. Ощущение надвигающегося несчастья усилилось у нее в течение дня, когда она увидела, что судьи настойчиво выносят решения, направленные против мужа: они отказали в показаниях коммодору Стоктону на том основании, что он был командующим в Калифорнии; отклонили принятие в качестве доказательства докладов секретаря военно-морского флота и секретаря собственного армейского ведомства, в которых восхвалялись действия Джона по завоеванию Калифорнии; отказались вызвать к барьеру лейтенанта Эмори и полковника Кука для показаний, являются ли они авторами анонимных писем, появившихся в печати накануне процесса; более того, суд отказал Джону в его желании представить материал, доказывавший, что генерал Кирни использовал свое влияние, чтобы задержать на Тихоокеанском побережье всех военно-морских офицеров, сочувствующих ответчику; отказался принимать любой материал, который мог подорвать веру к генералу Кирни как свидетелю. Суд, который до этого момента протекал спокойно, вылился в нескончаемую череду пререканий. То и дело предлагалось освободить зал, Джесси и зрители были вынуждены ожидать подолгу в вестибюле, а вернувшись в зал, услышать: — Суд не может подвергнуть расследованию отказ генерала Кирни предоставить полковнику Фремонту… суд не может расследовать приказ, данный полковнику Фремонту в форте Ливенуорт… суд прочитал представленные документы и находит, что они не имеют отношения к разбираемому делу… суд решает, что возражения полковника Фремонта относительно курса, которому нужно следовать, не могут быть приняты… Проработав пять часов с Джоном, отцом и зятем над бумагой, доказывающей, что некоторые доводы могут быть приняты, она лежала, не смыкая глаз до рассвета, затем выехала в военный и военно-морской департаменты за документами, подкрепляющими их доводы, чтобы потом услышать заявления суда, что их материал отклоняется как не имеющий отношения к делу и неприемлемый, выходила из зала суда, когда его отлучали от публики, стояла на сквозняке в фойе, ожидая, когда откроют двери, чтобы выслушать новое направленное против них решение. Она больше не могла уверять мужа, что все кончится хорошо, и Джон продолжать такую игру также не мог. Лишь Уильям Карей Джонс настаивал, что они имеют дело с непредвзятым судом, хотя судьи почти ни разу не согласились с его толкованием закона о доказательствах. Они работали очень много, мало спали, мало ели, поддерживая силы черным кофе. По мере углубления чувства опустошенности и несправедливости их нервы стали сдавать. Джесси похудела, ее вес не достигал и пятидесяти килограммов. Она боялась за мужа, заметив провалившиеся глаза преследуемого и гонимого человека. Это было плохо тем, что наносило ущерб делу. Пытаясь успокоить его, она ссылалась на нравственность судей, хотя знала, что через час решение суда опровергнет ее уверения и они возмутятся, узнав, что вопросы прокурора к генералу Кирни написаны собственноручно генералом. Отец был настолько разгневан, что даже в годы наиболее жестоких схваток Джесси не видела его таким. Нападки на зятя превратили его в обиженного защитника. По меньшей мере половина суждений отца отвергалась по той причине, что он пускался в нелогичные раздраженные рассуждения. Около отца сидел Уильям Карей Джонс, с холодными зелеными глазами, с невыразительным бледным лицом и гладкими волосами. От него веяло холодом, способным остудить пыл любого человека, и он старался умерить чувства Тома Бентона чисто юридическими доводами. Джесси часто вспоминала, как он проявил лояльность к семье, предложив свои услуги, в противном случае он мог показаться незаинтересованным в деле и бесполезным советником. Однако, наблюдая, как готовились резюме и аргументы, позволяющие Джону не только на суде, но и в печати выглядеть наилучшим образом, Джесси поняла, что проницательный ум Уильяма Джонса был их самым большим достоянием. Она присматривалась к мужу, находившемуся под грузом обвинений против него, понимавшему, какой урон его репутации ежедневно наносят его враги, и одновременно убежденному в своей правоте и осознающему, что мотивы генерала Кирни продиктованы местью за ущемленное достоинство, а мотивы таких людей, как Эмори и Кук, вызваны завистью и ревностью, мотивы военного департамента — желанием доказать свое превосходство над военно-морским флотом. Угнетало не столько нервное напряжение и постоянная работа, сколько чувство, что бьешься головой о каменную стену. Казалось, суд слышит те же самые слова защиты, что Джесси, зрители и репортеры, однако судьи словно были глухими. Газеты раздражались но поводу хода процесса и в редакционных статьях открыто ставили вопрос: «Почему требуется больше времени уладить междоусобицу, чем одержать победу в войне против Мексики?» Томас Гарт Бентон, самый старый и наиболее мудрый, сломался первый от напряжения. Вскоре после открытия очередного заседания суда в начале декабря генерал Кирни тяжело встал со своего места и заявил: — Я считаю себя обязанным ради достоинства суда заявить, что, когда отвечаю на вопросы суда, старший советник обвиняемого Томас Бентон из Миссури, сидящий на своем месте, корчит гримасы, чтобы, как мне представляется, обидеть, оскорбить и запугать меня. В зале раздался вздох. Щеки Джесси запылали от смущения. Зрители вертели головами, стараясь разглядеть сенатора Бентона. Сквозь шепот в зале Джесси услышала замечание председателя суда, что он не заметил гримас, но с сожалением услышал это. После этого он зачитал статью 76 Положений о военно-полевом суде, запрещающую использовать угрожающие слова, знаки и жесты в присутствии суда. Когда председатель закончил чтение, наступила выжидательная тишина. Все глаза вновь устремились к сенатору Бентону. Он медленно встал, его лицо стало кирпично-красным, и свирепо закричал: — Генерал Кирни пялил глаза на полковника Фремонта, смотрел оскорбительно и враждебно на него. Прокурор наводящими вопросами склонял генерала Кирни отказаться от показаний, которые он ранее дал под присягой. Член суда встал и сказал: — Господин председатель, замечания, ставящие под сомнение добропорядочность нашего процесса, на мой взгляд, недопустимы… Том Бентон загремел: — Когда генерал Кирни пялил глаза на полковника Фремонта, я решил, что, если он попытается вновь смотреть свысока на обвиняемого, я сделаю то же самое в отношении генерала. Я сделал это сегодня, и сегодняшний взгляд был ответом на его поведение на прошлом заседании. Я посмотрел сегодня на генерала Кирни, когда он пялился на полковника Фремонта, и я смотрел на него, пока он не опустил глаза долу! Когда Джесси пришла домой, выслушав порицание суда в адрес отца, она упала в большое кожаное кресло и горько заплакала. Это был удар, которого она не ожидала. Так или иначе, они пережили бы позор, павший на голову мужа за его бунтарское поведение, но чтобы ее отец мог так забыться… подставить себя под порицание… это ранило ее сердце и вызвало чувство вины. Из-за нее он нанес ущерб своему имени и карьере, которой всегда дорожил._/7/_
В начале декабря, просыпаясь три дня подряд с чувством тошноты, она поняла, что беременна. С пониманием этого пришло смешанное чувство радости и опасения. Впервые после рождения Лили она вновь беременна, теперь у нее не было и тени сомнения, что на этот раз родится сын. Она знала, как будет рад муж появлению мальчика, сколько будет гордости и прежних амбиций. Она была счастлива, думая об этом, но вместе с тем была и другая мысль: если мужа осудят и отстранят от службы, он может пасть духом, не будет знать, что делать, тогда их радость по поводу рождения ребенка будет омрачена этим несчастьем. Когда Джесси убедилась в своей беременности, то приняла два решения: она не скажет об этом никому до окончания суда; они должны победить. Она будет работать ради этого до изнеможения — сдаваться нельзя. Из нынешней путаницы словопрений и сомнительных документов нужно извлечь на свет то, что убедительно говорит о заслугах мужа. Ее сын не должен войти в мир, где его отца считают изгоем. Он должен войти в мир, где чтут имя Фремонтов. Она пошла к комнате матери и, занятая собственными мыслями, забыла постучать в дверь. Элиза сидела в кресле матери; она расслышала часть фразы и прочитала на лицах выражение вины. Джесси закрыла дверь и, продолжая сжимать в кулаке кнопку двери, прильнула к ней. При виде матери и сестры, обсуждающих ее проблемы, физическая боль вытеснилась иной болью. Женщины неловко молчали какой-то момент, а Джесси размышляла, о чем они могли говорить. Осуждали ли ее мужа? Критиковали ли ее за участие в этой драме? Стыдились ли скандала, недовольные тем, что их имена были втянуты в грязные сплетни? Джесси отошла от двери и направилась к матери и сестре. Ее напряженный вид заставил их взглянуть на нее, и она, посмотрев в их нежные и заботливые глаза, поняла, что только в мучительно-тяжких условиях могла она подозревать мать и сестру в нелояльности. Они жалели свою Джесси, и только, жалели из-за неприятностей, выпавших на ее долю. Ей могло причудиться, будто они сожалеют, что она вышла замуж за общественного деятеля, сама позволила вовлечь себя в сомнительные действия, жалели за обрушившееся на нее несчастье. Она знала, что ее мать вспоминает сцену на пароходе и в карете на пути в Черри-Гроув, когда она советовала дочери не ставить свою счастливую и спокойную жизнь под угрозу конфликта; вспоминает, как упорствовала Джесси, считая, что ее мать не права, стараясь уклониться от важных жизненных проблем. Вероятно, ее мать думала, что теперь-то Джесси поняла, какую страшную ошибку совершила, и жалеет, что не прислушивалась к советам старших. Ничего подобного Джесси не думала. Она не сожалела о своем замужестве и о случившемся, включая события, приведшие к военно-полевому суду. Она не боялась жизни, не боялась смелых и мужественных действий, даже нынешнего суда и его последствий. Выдержав худшее, связанное с ее соучастием, она обрела право голоса. Ей хотелось крикнуть матери, что она не изменила свой взгляд и продолжает верить в жизнь, где есть действия и конфликты, работа рядом с мужем, сколько бы грязи ни налипало при этом на подол юбки. Джесси не нуждалась в их жалости, она ее не терпела. Они не понимали, что жалеют ее за страдания, к которым она равнодушна. Если часть ее долга — находиться под ослепляющим светом гласности, переносить хвалу и хулу публики, видеть, как имя ее и мужа смешивают с грязью, то это всего лишь цена, какую она должна заплатить за выполнение важной работы. Нет, ей не нужна их жалость, она направлена не по адресу. Пусть они жалеют слабых и уклончивых, не способных выдержать опустошающее действие конфликта и выйти из него со спокойным сердцем и крепкой верой в свою судьбу. Джесси забыла, зачем она вошла в комнату. Она улыбнулась со слегка излишней бодростью, поцеловала мать и сестру и вышла из комнаты. В ночь на 18 декабря Джесси, Джон, Том Бентон и Уильям Джонс работали до рассвета, составляя список предвзятых действий суда, суммируя и анализируя каждое отрицательное решение и показывая, как в аналогичных случаях выносились решения, выгодные генералу Кирни. В шесть часов утра они закончили работу, после чего она выпила чашку кофе, выкупалась, и ее отвезли в военный департамент, где она должна была выписать ряд параграфов, необходимых для резюме. Работа продолжалась почти до полудня, и у нее не осталось времени, чтобы освежиться и даже перекусить. Она спешила в Арсенал с необходимым мужу материалом. Она не могла видеть ясно Джона, когда он встал и приступил к изложению резюме. Ей былонепонятно, произошло ли это по той причине, что осунувшееся лицо мужа было окутано дымкой отчаяния, или же помешал шум в ее голове. Полковник Фремонт смог произнести лишь первые слова, как военный прокурор поставил под вопрос их уместность и потребовал очистить зал. Она вышла в холодный вестибюль, где сквозь окна и щели под дверями гуляли сквозняки. Она постояла на месте, сколько смогла выдержать, а затем принялась ходить взад-вперед, чтобы согреться. К трем часам она уже не могла стоять на ногах и попросила знакомого отвезти ее домой. Дома она сразу же легла в постель. Перед ее глазами все качалось, тело горело, словно внутри пылал огонь, в ушах слышались глухие удары, а рот, казалось, был забит ватой. Словно сквозь туман она слышала успокаивающие слова мужа. Но одно слово врача она отчетливо услышала, прежде чем потерять сознание: — Воспаление легких. Ее сестра Элиза вернулась в дом, чтобы вести хозяйство. Элиза не умела красиво говорить, но, когда речь шла о делах, никто не мог с ней соперничать. Она поддерживала нужную температуру в комнате Джесси, а это было непросто в промозглый декабрь. У постели Джесси и днем и ночью всегда был кто-то — сама Элиза, Мейли или медицинская сестра. Вкусная и здоровая пища всегда стояла на теплой жаровне. Миссис Бентон, два месяца до этого прикованная к постели, заставила Мейли одевать ее каждое утро и, несмотря на то что левая половина ее лица и тела все еще была полупарализована, проводила многие часы около дочери, держа ее за руку и рассказывая веселые истории из ее детства. Сильнее всех переживал неурядицы жены Джон, считавший, что это он навлек на нее болезнь. Джесси видела, что он винит во всем себя, хотя и пытался скрыть это за беззаботной улыбкой, когда входил в ее комнату. Один лишь Том Бентон, казалось, не тревожился. У Джесси воспаление легких? У многих воспаление легких! Если он смог сам преодолеть туберкулез, унесший других членов его семьи, то можно ли сомневаться, что Джесси очень быстро избавится от такой хвори, как воспаление легких? Джесси и не помышляла о том, что ее жизнь в опасности, все ее ночные кошмары вращались вокруг мужа и суда. Четыре дня она чувствовала себя прескверно. На пятый день в три часа утра наступил перелом. К полудню к ней вернулись силы, и она стала требовать, чтобы ей ежедневно сообщали о ходе процесса. Ей было приятно, когда муж и отец рассказывали о нем с иронией и уверяли ее, что все идет хорошо. Они не знали, что она подкупила Джошиима и тот в полдень, когда мужчины уходили из дома, приносил ей свежие газеты «Юнион» и «Нэшнл интеллидженсер», благодаря чему она постоянно следила за процессом. Ей не доставляло удовольствия читать отчеты из зала суда, содержавшие неприятные вещи, но тревога, порождаемая неопределенностью, была еще хуже. Рождество и Новый год она провела в постели, обложенная подушками. Отец поставил ей в углу комнаты рождественскую елку, а врач разрешил раздать семейные подарки на ее глазах в рождественское утро. Джон словно сошел с ума: он растрачивал их последние быстро таявшие сбережения на щедрые подарки для нее, начиная с жемчужных серег и кончая шелковым домашним халатом ультрамаринового цвета, который она поспешила снять по той причине, что он придавал ее лицу зеленоватый оттенок. К концу третьей недели она встала с постели и попыталась сделать несколько шагов по комнате, но ноги подкашивались, как после рождения Лили. Тяжело опираясь на руку мужа, она волочила ноги по мягкому ворсистому ковру, мечтая о том, чтобы простоять час или два, но уже через пять минут была рада вернуться в постель. Каждый день она съедала все, что приносила Мейли, желая скорее поправиться, прибавить в весе и возобновить работу с мужчинами. На третьей неделе января она уже была в состоянии провести целый день на ногах. Она всячески старалась скрыть от врача свою беременность, а он в свою очередь подчинился ее молчаливому желанию держать этот факт в тайне еще некоторое время. Слушание затянулось на три месяца, истощив терпение нации. В последние дни января появились признаки, что дело идет к концу. Джон не разрешил ей присутствовать на последних заседаниях, но мужчины не смогли убедить ее не участвовать в написании заключительного выступления. Это сводящее все воедино заявление оказалось наилучшим плодом их сотрудничества, каждый из четырех внес свою долю в анализ событий. Документ начинался с описания приезда Джона в Калифорнию; упоминал об амуниции, провианте, денежных средствах и медикаментах, предоставленных ему военно-морским флотом, чтобы помочь в завоевании; излагал историю войны с Мексикой и капитуляцию мексиканцев в Калифорнии; в нем говорилось о событиях, которые привели к конфликту. Показания и представленные за три месяца документы были тщательно изучены, расхождения и неточности выявлены. На первый взгляд Джесси питала уверенность, что, хотя суд может вынести приговор — «виновен» по двум второстепенным пунктам обвинения о невыполнении приказов и поведении, нарушившем военную дисциплину, для обвинения в бунте нет оснований. На следующее утро никто не работал. Семья собралась на поздний завтрак: Джесси и Джон, Элиза и ее муж, Томас и Элизабет Бентон, ее младшие сестра и брат. Они шутили по поводу взбитых яиц и кофейного кекса, не спеша оделись и вместе отправились в зал суда за несколько минут до полудня. Джесси гордилась Джоном, когда он встал и хорошо модулированным голосом зачитал свое заключительное заявление. Ее уверенность возрастала по мере того, как он читал пункт за пунктом, выстраивая убедительную аргументацию оправдания. В четыре часа, когда подошло время прервать заседание, суд разрешил ему продолжить представление своего дела, и он говорил еще час, при этом его голос становился все более гортанным и все более твердым. В конце его выступления она сидела затаив дыхание, в то время как он завершил красноречивое обращение, которое, как и доклады о двух первых экспедициях, было плодом их сотрудничества: — Мои действия в Калифорнии были порождены высокими мотивами и желанием оказать пользу обществу. Мои научные работы сделали кое-что, чтобы открыть Калифорнию моим соотечественникам. Целью моих военных операций было завоевание без капли крови, мое гражданское управление было нацелено на общественное благо. Я предлагал здесь сопоставить Калифорнию во время моего правления в качестве губернатора с наиболее благополучными штатами Соединенных Штатов. Я предотвратил гражданскую войну против коммодора Стоктона, отказавшись присоединиться к генералу Кирни, намеревавшемуся выступить против него, и выразил готовность выйти в отставку из армии. И теперь я готов выслушать решение суда. Присутствовавшие в зале зааплодировали. Даже шеренга судей казалась удовлетворенной, словно они верили, что услышанное ими достойно отражало сложное дело. Джесси расслабилась. Волнения остались позади, они оправдали себя самым лучшим образом. Она уже поднималась вместе с частью присутствующих, когда твердым тоном и с глубокой горечью ее муж воскликнул: — Господин председатель, я не могу окончить дело без последнего заявления! «Боже мой, — подумала Джесси, — что произошло? Что он собирается делать?» — Несомненно, осложнения в Калифорнии должны быть расследованы, — громко сказал Джон, — но как? Путем преследования не подчиненного, а главных виновников; путем преследования не того, кто предотвратил гражданскую войну, а того, кто был готов разжечь ее. Если я виновен в том, что принял пост губернатора от коммодора Стоктона, то тогда он повинен в том, что возложил на меня этот пост; и в любом случае, было ли это преступно или нет, правительство, знавшее о его намерении назначить меня и не запретившее назначение, потеряло право преследовать нас! Я считаю трудности в Калифорнии комедией трех ошибок: во-первых, неправильных приказов, отправленных отсюда; затем несправедливых претензий генерала Кирни, в-третьих, действий правительства, поддержавшего эти претензии. И последнюю ошибку я считаю самой большой. Окончив говорить, Джон неловко стоял около своего стола. У Джесси словно оборвалось сердце. Она вскочила и, ослепленная слезами, устремилась по центральному проходу. Вся их хорошая работа растоптана. Неуверенность, спрятанная глубоко в сердце Джона Чарлза Фремонта, предала его._/8/_
Когда она добралась домой, ее целый час тошнило, но она смогла выдавить из себя лишь комок желчи. Она чуть не упала на колени, если бы не крепкие руки Мейли, державшие ее за талию. Мейли помогла ей пройти в спальню и уложила в постель. Джесси делала вид, что спит, когда несколько часов спустя в комнату вошел ее муж. Даже с закрытыми глазами она могла представить себе его лицо — помрачневшее, искаженное стыдом из-за срыва на заседании суда. Однако она знала, что он готов скорее умереть, чем признаться, что поступил неправильно и навредил сам себе. Она тихо лежала, когда он скользнул под одеяло и лег рядом с ней. Ей хотелось повернуться к нему, обнять, успокоить его, удалить поцелуями невыплаканные слезы, разгладить морщины, избороздившие его лицо. Она не осмелилась, боясь, что не выдержит сама, расплачется, показав тем самым всю трагичность его ошибки, ведь он противопоставил себя членам суда и в последний момент предстал перед нацией заносчивым и наглым человеком. Выстроив блестящую защиту и доказав, что он правильно действовал в Калифорнии, он в последнюю минуту продемонстрировал тот самый характер и образ действия, которые за истекшие три месяца стремились выставить напоказ генерал Кирни и военный департамент. Она не разлюбила его из-за этой вспышки; она любила его, скорее как любит мать заблудшего непослушного ребенка. Не могла она и показать, что горюет за него и хотела бы пригреть на своей груди его непутевую голову. Надо дать поработать времени и встретить с открытым забралом последствия и не навредить их отношениям, показав мужу, что она жалеет его. Хотя он не шевелился и лежал рядом как каменный, она чувствовала, что он не спит, и понимала, какие он испытывал муки, мысленно воспроизводя случившееся в зале суда. Она делала вид, что спит, — лучше, чтобы их разделяла эта холодная тишина. Наконец она услышала долгожданное ритмичное дыхание. Некоторое время она спокойно лежала, потом встала, надела стеганый халат и тапочки, спустилась в кухню, где сварила чашку крепкого кофе, а затем поднялась в библиотеку отца. Она участвовала в написании оправдательных документов, теперь она должна написать обвинительный документ, вновь просмотреть свидетельства против ее мужа. Составив список показаний, изложив их черным по белому, она подготовила себя к тому, чтобы примириться с приговором военно-полевого суда, начать жизнь с новой отправной точки. Она боялась за Джона, сможет ли он вынести приговор о виновности по всем пунктам обвинения, не будет ли его реакция настолько сильной, что навредит ему еще больше. Ради их обоих она должна быть готова к самому худшему. В камине еще тлели угли. Джесси подбросила щепу, а затем целое полено и, стоя у огня, растирала свои бледные тонкие пальцы. Когда пальцы согрелись, она села в старое кресло, придвинула пюпитр и стала быстро писать. Было нетрудно составить внушительное дело против полковника Фремонта, поскольку обвинения звучали в ее ушах целых три месяца. Она припомнила двадцать два пункта предъявленного обвинения, начиная с трехдневного пребывания на Соколином пике, помощи американцам в Мексике, восставшим под «флагом медведя», участия в захвате Калифорнии, принятия капитуляции мексиканцев, не имея на то соответствующих полномочий, вплоть до обвинения, согласно которому Джон отказался сдать командование армейскому офицеру, присланному военным департаментом. Когда Джон Ч. Фремонт превратил свою экспедиционную группу в Калифорнийский батальон, один из членов экспедиции отказался участвовать в войне. Джон посадил его на ночь в темницу в форте Саттер. К утру узник изменил мнение и присоединился к Калифорнийскому батальону. Этот единственный акт насилия был самым мрачным деянием в калифорнийской эпопее: Джон Фремонт требовал абсолютного послушания и железной дисциплины. Разве он не рассказывал ей, как обеспечивал такую дисциплину в своих трех экспедициях? Разве он не посадил одного из своих сотрудников в тюрьму за отказ подчиниться приказу? Почему же он сам не проявил беспрекословного подчинения и железной дисциплины к старшему офицеру? Если дисциплина столь императивна по отношению к лицам, стоящим ниже по рангу, то разве она не столь же важна в отношении старших? И если он применил насилие по отношению к члену своей исследовательской экспедиции, то почему генерал Кирни не вправе сделать то же самое по отношению к полковнику Фремонту? Она могла ответить на эти вопросы, лишь сделав вывод: Джон знал, что его назначение коммодором Стоктоном на пост гражданского губернатора означало произвольную передачу под его начало новой территории, ведь флот не правит на земле; коммодор Стоктон уйдет в море, а Джон Фремонт будет отвечать за все. При назначении, сделанном генералом Кирни, он всегда останется подчиненным. Генерал Кирни назначит настоящих армейских офицеров, а не топографического инженера. После того как Джон проделал изначальную работу, сыграл самую важную роль в завоевании Калифорнии, ему предложат упаковать свои карты и дневники и вернуться в Топографическую контору в Вашингтон, завершив тем самым свою карьеру. Он может сделать доклад о третьей экспедиции, составить новую карту, но затем, что дальше? Ощутив себя на исторической сцене в роли вершителя судеб, ему может показаться слишком мелкой должность топографа и изготовителя карт. Отныне он — покоритель новых территорий, губернатор новых штатов. Все это будет потеряно, если он признает старшинство генерала Кирни над коммодором Стоктоном. Джесси положила ручку, подошла к камину и подбросила еще одно полено. Ночные часы были на исходе, и она чувствовала себя потерянной, ибо в груде подробностей скрывалась наиболее важная человеческая проблема, остававшаяся в тени: Джон был человеком армии, был им всегда, он достиг своего положения, завоевал почести и выполнил свою работу как армейский человек. Армия финансировала его экспедиции, создала ему уважение и славу. Он мог считать себя военно-морским офицером, когда рядом не было старшего офицера армии, но, как только на сцене появился старший армейский офицер, не могло быть сомнений относительно обязательств Джона; при всех обстоятельствах не было альтернативы, не было выбора. Когда генерал Кирни приказал ему, у него имелся один возможный ответ: — Да, сэр. Если бы Джон ответил именно так, то не было бы неприятностей, не было бы и военно-полевого суда. Она осознала, что с такой очевидной точки зрения процедура военно-полевого суда была непредвзятой. Джон не отдал предпочтения армии, не поставил ее выше всего, и в частности выше себя. Теперь ей стало ясно, почему выпускники Вест-Пойнта не любят офицеров-добровольцев: у Джона не было того, чем обладает кадровый военный, — чувства дисциплины, готовности независимо от характера работы, от назначения, завоеванного на месте, уступить старшему, прибывшему занять пост… даже если подчиненный офицер считает себя более квалифицированным, чем офицер, посланный сменить его. Все офицеры армии испытали нечто подобное, но они подчинялись в силу своей традиции. Джон не был настоящим военным, он был топографом и инженером. Да и она сама не принимала железную дисциплину армии как обязательную для мужа. Почему отец не осудил ее за бунтарство, когда она послала курьера, чтобы ее муж не выезжал в Вашингтон? Почему он позволил ей послать сигнал Джону ввязаться в еще один бунт? «Потому что мы упрямцы! Потому что нами руководят чувства, и мы уверены в наших выдающихся способностях и не можем уступить, пожертвовать в пользу правительства нашей гордостью и индивидуальностью. Мы в равной мере повинны — я сама, отец и муж, но более всех я, ибо у меня не было смягчающих обстоятельств». Она возвратилась к своему пюпитру и продолжала писать. Когда она закончила, на востоке заалела заря. Идя по длинному коридору, она заметила свет, пробивавшийся в щель под дверью в комнате Джонса. Она осторожно постучала. Через несколько минут в дверях показался зять в голубой фланелевой пижаме, облегавшей его хрупкий скелет, держа перо в правой руке, его пальцы были измазаны чернилами. — Ты не спишь, Уильям? — спросила она. — Нет, я… я записываю соображения. Она увидела его стол, заваленный листками бумаги, и спросила, может ли она посмотреть написанное им. Он ответил согласием, и она проскользнула в комнату. Элиза спала, отвернувшись от света. Бросив взгляд на рукопись, она поняла, что он писал о процессе, но не могла с ходу сообразить, в чем суть дела. Она спросила шепотом: — Зачем ты написал весь этот материал? — Хороший юрист не должен быть захвачен врасплох, — ответил он, не повышая голоса. — Он должен знать все, что противная сторона может привести в оправдание своего утверждения. Джесси тускло улыбнулась и протянула ему пачку своих бумаг. Он прочитал две страницы, а затем удивленно взглянул на нее: — Мы делаем одно и то же дело. — Ты знаешь старую поговорку относительно великих умов, — прошептала она, стараясь рассмешить его, — не сравним ли мы наш список обвинений? — Пойдем в библиотеку, не станем мешать Элизе. Он уселся в глубокое кресло отца перед камином и принялся внимательно читать написанное ею. — Да, — согласился он, покачав головой, — назначение полковника Фремонта в военно-морском флоте автоматически прекратилось, когда генерал Кирни принял на себя командование. — Каковы наши шансы сегодня в зале суда? Он встал, положил бумаги на стол для географических карт, прошелся по комнате, запахивая халат вокруг своей высокой тощей фигуры. — Легче, Уильям, легче, — прошептала она. — Я готова выслушать худшее. Он постарался представить дело в возможно лучшем свете, подчеркивая, что ни президент, ни кабинет, ни большинство в сенате не желают осуждения. Он говорил о непреходящей, блестящей заслуге мужа. Не убежденная в этом, Джесси ответила так тихо, что он почти не услышал: — Уильям, ты не веришь собственным доводам. Если бы дело не касалось твоего свояка, ты не выступил бы в нем. Ты чувствуешь, что суд вынесет приговор — «виновен». Он отрицал, а она не стала давить на него. Джесси поцеловала зятя в щеку, поблагодарила за все сделанное. В этот момент внутри нее зашевелился ребенок, казалось, что ее сердце и желудок перевернулись, она начала дрожать. — Каким бы ни был закон, я не могу согласиться с ним. Я его жена и знаю, как он будет страдать, если суд объявит его виновным. Я знаю, как это поломает его жизнь. Я хочу, чтобы у моих детей был отец, которому сопутствует удача и который может гордо держать голову. Уильям, я несу ответственность за все. Я подтолкнула его к первому бунту, к действиям в Калифорнии, это и вселило в него мысль, что можно ослушаться генерала Кирни. Если бы я могла взять всю вину на себя! Уильям Джонс обнял свою невестку и спокойно сказал: — Пойдем, дорогая Джесси, ты перетрудилась, тебе не следовало бы работать всю ночь. Ты должна теперь соснуть. Ты должна быть крепкой и отдохнувшей перед явкой в суд. Он провел Джесси по длинному коридору в ее комнату и около двери похлопал по плечу своими костлявыми пальцами. Измочаленная Джесси вползла в постель и провалилась в тяжелый сон._/9/_
Принеся горячий завтрак, Мейли разбудила ее в десять часов. Джесси слышала, как потоки дождя хлестали по окнам. День выдался сумрачным, давящим. Она надела вязаное платье со свободными рукавами поверх белой блузки, а на плечи накинула новый коричневый плащ, застегнув его спереди камеей. Взглянув в зеркало, она поняла, что ее одежда слишком мрачна, словно в ожидании худшего, поэтому она пошла к своему туалетному столику, покопалась в верхнем ящичке и надела ярко-зеленые бусы. И хотя украшение выглядело неуместным, оно согревало ей душу. Она поискала мужчин: все они сидели порознь: отец — в своем кресле в библиотеке перед потухшим камином, свояк — в своей спальне с «Республикой» Платона в руках, муж — на диване в эркере окна. Она поцеловала его в щеку и сказала: — Мы готовы, пойдем. Она с благодарностью взяла его протянутую руку, и он повел ее к экипажу. Зал суда был забит посетителями, пришедшими выслушать приговор. Вошли судьи и заняли свои места на подиуме. После, как ей показалось, нескончаемой тишины, когда ее сердце громко стучало, а ребенок внутри нее не переставал шевелиться, бригадный генерал Джордж М. Брук встал, разгладил бумагу, лежавшую перед ним, и начал читать:«По первому пункту первого обвинения — виновен. По второму пункту первого обвинения — виновен. По третьему пункту первого обвинения — виновен».Она холодела по мере того, как он зачитывал все одиннадцать пунктов первого обвинения с заключением — «виновен». Он продолжал читать бесстрастным тоном:
«По первому пункту второго обвинения — виновен. По второму пункту второго обвинения — виновен» — и повторил семь раз: «Виновен».Все еще продолжая говорить в гробовой тишине зала, он повторял:
«По первому пункту третьего обвинения — виновен. По второму пункту третьего обвинения — виновен».Затем наступил сжимающий душу момент: военный прокурор встал перед генералом Бруком и заявил: — Суд считает полковника Фремонта виновным в бунте, неподчинении законному командованию старшего офицера, в поведении, наносящем ущерб доброму порядку и военной дисциплине. Посему суд приговаривает вышеупомянутого полковника Джона Чарлза Фремонта к отчислению со службы из полка конных стрелков армии Соединенных Штатов. Никто не роптал и не шевелился. Джесси не осмеливалась посмотреть на мужа и отца. Каждый сидел поодаль, переживая свои горькие, как полынь, мысли. Затем снова встал генерал Брук и сказал уже менее суровым тоном: — После тщательного рассмотрения большинство судей желают сделать заключительное заявление:
«В обстоятельствах, в каких оказался полковник Фремонт между двумя старшими по званию офицерами, каждый из которых претендовал на положение главнокомандующего в Калифорнии, — в обстоятельствах, какие по своему характеру могли сбить с толку и посеять сомнения у офицеров, обладающих большим опытом, чем обвиняемый, и принимая во внимание важные профессиональные услуги, оказанные им до свершения актов, за которые он судим, нижеподписавшиеся члены суда со всем уважением рекомендуют полковника Фремонта на снисходительное рассмотрение президента Соединенных Штатов».Когда они добрались до дома, Джон сказал: — Лучше сразу ложись, Джесси. Надеюсь, приговор не поверг тебя в шок. Она была удивлена, обнаружив, что чувствует себя лучше, чем несколько дней назад. Прошло время тревожного ожидания, — время, когда судьба висела на волоске и не оставалось ничего, кроме мучительной неопределенности. Теперь она знала худшее, его нужно было перенести спокойно и уверенно. Она заложила основу для такой позиции в ночь накануне, составив обвинительный список против своего мужа. Наступило время для спокойствия и силы. Мужу она ответила: — Спасибо, дорогой, я чувствую себя хорошо. Тринадцать судей не сказали ничего, что обидело бы меня. Решение было принято еще до начала процесса. Любые присяжные в гражданском суде оправдали бы тебя. Я не могу считать себя ущемленной из-за того, что военный департамент решил поставить на место военно-морской флот. Как сказали судьи в смелом замечании, ты стал жертвой конфликта власти. Еще до начала суда я считала, что ты действовал правильно, а сейчас еще более убеждена в этом. Если моя оценка что-нибудь значит для тебя, мой дорогой, то скажу: я снимаю с тебя все обвинения и говорю: «Хорошо сработано». — Это много значит для меня, — ответил Джон, не глядя на нее. — Твоя вера в меня и есть та самая нерушимая скала. — Отлично, в таком случае пойдем к обеду, я страшно проголодалась. Мне кажется, что я многие недели плотно не ела. Позже в этот вечер она нашла отца в библиотеке. Она закрыла за собой дверь и заперла ее на замок. Отец буквально кипел от ярости. — Очень хорошо, — сказала Джесси тихим голосом. — Приговор вынесен. Мы ничего не сможем сделать с военно-полевым судом. Забудь о нем. В настоящее время важен вопрос: что сделает президент Полк? — Он отменит решение суда, — проворчал Том Бентон. — Ты уверен в этом? — Пусть он задумается! — выпалил отец. — Ведь я могу свалить его администрацию. Он знает, что он сам и его кабинет ответственны за сумятицу в Калифорнии. Они переиграли сами себя, им хотелось получить кредит за приобретение Калифорнии, чураясь при этом ответственности словно скарлатины. Они сторонились конфликта между армией и флотом таким же образом. Если президент Полк не отменит приговор, я организую сенатское расследование, которое выведет всех на чистую воду. Джесси почувствовала, что к ней вернулись прежние страхи. Почему мужчины пытаются прикрыть неприятности еще большими неприятностями? Почему они не могут понять, что, чем глубже втягиваешься в разоблачения, тем сложнее вытащить себя из болота? Она не хотела новых расследований, новых обвинений и судов, ущемления чувств и подорванных репутаций. Ей нужны только мир и возвращение к работе. Она хотела, чтобы скорее затянулись раны мужа, а их могло залечить только время. Ей нужны были нежные слова и спокойные рассуждения, а не угрозы и ярость. — Я хочу одного, отец, — сказала она. — Я хочу, чтобы президент Полк смягчил приговор. Ее отец почувствовал дрожь в ее голосе. Он протянул к ней свои руки, и она села к нему на колени, уткнувшись лицом в плечо. — Огорчен, дорогая девочка, — нежно сказал он. — Очень огорчен. Но не слишком горюй по поводу суда, большинство газет протестуют против приговора, называя его не иначе как междепартаментской разборкой. Не поднимая головы, Джесси спросила приглушенным голосом: — Смягчит ли приговор президент Полк? — Да. В этом я уверен. Рекомендация суда о снисхождении делает смягчение неизбежным. Именно с этой целью она и предложена судьями, ведь это способ сказать Джону, что все прощено и он может вернуться домой. Она подняла голову и со всем чувством, на какое была способна, сказала: — Он не должен уходить со службы. Он был в армии десять лет. Это единственная жизнь, какую он знает и любит. Он так гордится Топографическим корпусом, у него столько задумок относительно экспедиций и задач, поставленных Николлетом и Хасслером. Если ему придется снять мундир, лишиться звания и работы, он уподобится человеку, у которого отрубили руки… — Знаю, знаю, — сочувственно прервал ее отец. — Мы не можем позволить ему уйти из армии. Такой удар сделает его инвалидом. Я пойду завтра к президенту Полку, хотя в этом нет необходимости. Никто не хочет увольнять полковника Фремонта со службы. — Если президент Полк прикажет отложить в сторону приговор, я не стану сожалеть о том, что произошло, или даже осуждать суд. Мы начнем сызнова. Я разговаривала с его коллегами в Топографическом корпусе, они хотят, чтобы он вернулся к ним и продолжил свою работу. Мы добьемся, чтобы его послали в новую экспедицию, быть может, он снимет карту юго-западного прохода к Лос-Анджелесу. К моменту его возвращения все будет забыто. Возбужденная, она встала, подошла к длинному грубому столу и принялась листать атласы, не всматриваясь в страницы. Отец подошел к ней: — Все, что ты говорила, Джесси, справедливо и разумно. Ничего больше не бойся. Через несколько дней твой муж вернется на работу в Топографический корпус, чтобы составить планы своей третьей экспедиции. Джесси повернулась, ощущая новый прилив сил: — Так и должно быть, отец. Он немедленно должен вернуться к работе. Я убеждена, что, углубившись в свои карты и отчеты, он забудет о плохом. В конце концов он нашел новый путь в Калифорнию, который заменит тропу Орегон. Тысячи людей в стране ждут его карт и его доклада. И он должен сделать это для своего полного оправдания перед народом, который поддерживает полковника Фремонта. Но он должен вернуться к работе, он должен опубликовать результаты своей третьей экспедиции.
_/10/_
Следующие два дня в ожидании решения президента Полка Джесси провела в смене надежд и тревоги. Она знала: когда ее отец говорил громко, шумел, он мог ошибаться в своих суждениях, но он спокойно уверял ее, что президент смягчит приговор. Она твердо верила в это, но не сказала ни слова Джону. Она не знала, что он думает, ибо Джон мало разговаривал, надолго исчезал из дома, а когда возвращался, его ботинки и брюки были забрызганы грязью. Она знала, что он возлагал большие надежды на президента Полка, ведь разве не он послал с лейтенантом Джиллеспаем секретный приказ завоевать Калифорнию? Разве не он был тайным агентом Полка, главнокомандующего, а следовательно, старше генерала Кирни и коммодора Стоктона? Президент Полк не допустит его ниспровержения. Он поддержит полковника Фремонта, отменит и отвергнет все обвинения, похвалит за работу в Калифорнии и прикажет ему принять саблю. Джесси поняла по отдельным фразам, которые бросал муж, что он ждет этого. В полдень на третий день, когда они собирались на ланч, хотя аппетита не было, из военного департамента прибыл курьер. Джон вскочил из-за стола, побежал в прихожую, раскрыл письмо. Джесси подошла к нему, и они вдвоем прочитали строчки, прыгавшие перед их глазами:«Прочитав отчет, я не удовлетворился тем, что приведенные в данном случае факты составляют военное преступление — „бунт“. Я считаю, что второе и третье обвинения подтверждены доказательствами, и убеждение, основанное на этих обвинениях, обеспечивает приговор суда. Тем самым приговор суда одобряется, но, учитывая особые обстоятельства дела и прежнюю ценную и достойную службу полковника Фремонта и вышеуказанную рекомендацию большинства членов суда, наказание увольнением со службы отменяется. Соответственно полковник Фремонт освобождается от ареста, ему возвращается сабля, и он должен явиться по месту службы. Джеймс К. Полк. Вашингтон, 14 февраля 1848 года».Облегчение и радость охватили ее. Президент Полк оправдал ее мнение, мнение прессы и народа, объявив ее мужа невиновным в бунте! Не имело значения, что он поддержал заключение суда о том, что Джон нарушил дисциплину. Было важно то, что президент похвалил ее мужа, отметив его ценную и достойную службу. Он отменил увольнение и приказал полковнику Фремонту взять саблю и явиться по месту службы. Она обняла Джона за шею и крикнула: — Ой, как я счастлива, я знала, что все кончится хорошо. Президент оправдал тебя и похвалил перед лицом всей страны! Джон вырвался из ее объятий, посмотрел на нее колючим взглядом и, бросив смятое письмо президента, выскочил из прихожей. «Что я сделала? — оцепенев, спрашивала она себя. — Почему он так себя повел?» Через некоторое время она пошла за ним в их спальню. Он стоял у окна спиной к ней, согбенный, выражая всем своим видом гнев и болезненное унижение. — Джон, — нежно сказала она, — я огорчена, если обидела тебя. Я была счастлива и горда, что президент похвалил твою работу в Калифорнии. Мне казалось, что, хваля тебя, он косвенным образом сказал нации, что этого суда не должно было быть. Она почувствовала, что он еще больше ожесточился. Не зажигая огня и боясь еще больше обозлить его, она погрузилась в кресло, помолчала некоторое время, а затем продолжала: — Ты видишь, дорогой, я была немного эгоистичной в этом деле: я понимала, что частично они судят тебя за мой акт два года назад в Сент-Луисе, когда аннулировала приказ о вызове тебя в Вашингтон и послала тебе первые тайные указания действовать в Калифорнии. Если бы президент обвинил тебя в бунте, то он осудил бы и меня. Но президент сказал, что мы не виновны в бунте. Если он не желает разоблачить сам себя, сказать миру, что с твоей помощью осуществил восстание в Калифорнии, тогда мы должны страдать молча. Это часть обязательств, какие мы согласились выполнить, когда я предложила тебе идти вперед смело и быстро. Кто в стране в состоянии оправдать тебя, если не главное исполнительное лицо? Президент публично заявил, каким ценным ты был, и, приказав тебе вернуться на службу, он говорит стране, что ты незаменим. Джон быстро повернулся, его глаза сверкали, а кожа казалась позеленевшей под бородой. — Я не приму эту милостыню, — сказал он ледяным голосом. — Он знает, что я невиновен, все члены этого предвзятого суда знали о моей невиновности, но пошли против меня, оклеветав мой характер и умалив мой вклад. Потом они бросили мне обглоданную кость, ожидая, что я стану плясать перед ними на задних лапах. Президент Полк поступил как трус, он закрепил несправедливость, допущенную судом. Почему он не осмелился объявить, что я не виноват?.. — Он объявил, дорогой, объявил, — настаивала Джесси, стараясь утешить его. — Разве ты не видишь, он сказал суду, что нет оснований считать тебя виновным в мятеже? — Почему тогда он не аннулировал два других обвинения? Почему он принял полумеру?.. Она прервала его спокойно, чтобы не раздражать: — Неразумно сильно ущемлять военный департамент, Джон. Ты должен быть терпимым, ты должен понимать, что президент не может полностью дезавуировать армию. Это вызвало бы плохие настроения, конфликт внутри правительства… — Вижу! Лучше совершить еще одну несправедливость, объявить невиновного виноватым, нежели вызвать неудовольствие… — Это идет дальше, дорогой Джон. Каждый день президенту приходится тысячи раз идти на компромиссы. В этом деле он должен удовлетворить тебя, армию и флот. Я считаю, что он пошел навстречу главным образом тебе, ему еще придется пострадать… Он сделал несколько шагов к ней, спрашивая: — В таком случае ты одобряешь это решение? Ты одобряешь его заявление, обвиняющее меня в том, что я не подчинился старшим офицерам, держал себя предосудительно по отношению к порядку и военной дисциплине? Никогда не думал, что доживу до дня, когда моя жена… Сердце Джесси сжалось, она вскочила, подошла к нему и обняла за шею. — Нет, нет! Я лишь говорю, что это подачка, брошенная президентом армии. — И все же ты одобряешь подтверждение президентом осуждения, — бросил он ей. — Какое печальное положение вещей: ты говоришь, что я невиновен, и вместе с тем одобряешь приговор! Действительно, Джесси, я удивлен! Ты занимаешь противную мне сторону. — Пожалуйста, не говори так. Разве ты не можешь быть достаточно щедрым, чтобы принять компромисс? Тогда дело будет улажено к удовлетворению всех… — К удовлетворению всех! — выкрикнул он с иронией. — К моему удовлетворению? После того как я завоевал им новую территорию, меня судили как преступника, суд признал меня виновным, президент поддержал приговор, а моя жена заявляет мне, что все это к моему удовлетворению! Джесси, что с тобой случилось? Как ты можешь говорить мне такое? Она поняла, что неразумно продолжать спор. Она согласилась с тем, что президент Полк не выполнил свой долг. Поскольку ее возражения лишь раздражали его, она поняла, что лучше с помощью согласия, с помощью любви постепенно смягчить его гнев, притупить его возмущение и дать времени поработать. Она не должна создавать впечатления, будто и она против него, поддерживает заговор его противников. Всего несколько дней назад он ей сказал, что ее вера в него — нерушимая скала. Правильно или нет, но она не должна допустить, чтобы вера в ее лояльность рассыпалась. В дверь постучали. Джесси позвала: — Войдите. Ее отец вошел в комнату. В его руке было письмо президента, он разгладил бумагу, прочитал послание и пришел поздравить Джона с исходом дела. — Я говорил тебе, что президент Полк встанет на сторону полковника Фремонта! — довольный, крикнул он своей дочери. Он подошел с протянутой рукой к зятю. — Ой, Джон, — добродушно сказал он, — я счастлив, что все наши тревоги позади. Приятно будет видеть тебя в мундире и с саблей. Я знаю, как ты жаждешь вернуться к работе… — Я не вернусь к работе, — резко сказал Джон. Рука Тома Бентона повисла, а его большое грубоватое лицо выразило удивление. — Не вернешься… — Нет. Я ухожу из армии. Том прищурился, но и это не помогло ему понять смысл происходящего. Он повернулся к дочери, спрашивая: — Что это значит, Джесси? Она была глубоко убеждена, что Джон не должен уходить в отставку, ведь выход в отставку, по ее мнению, означал бы в известной мере признание вины, но главное, ее пугала мысль о том, что он откажется от работы, к которой подготовил себя, которую любил всем сердцем. Что он будет делать? После своих экспедиций и походов на протяжении ряда лет может ли он стать правительственным чиновником, работать в мастерской? На какое дело может направить свои помыслы человек с его подготовкой? Он может получить работу учителя, но он человек действия, а не теоретик и не классная дама, он зачахнет в такой атмосфере. Ее не беспокоили заработки — это не имело значения. Ее тревожило, как ее муж сможет обрести новое место в мире, которое позволит ему считать себя ценным, ходить с поднятой головой, сохранять боевой дух, быть личностью и лидером среди людей. Он сознательно и с радостью выбрал свою роль, подготовил себя к ней, как это сделал и ее отец, и она знала, что Томас Гарт Бентон сломается, если перестанет быть сенатором от Миссури. Она не должна допустить, чтобы ее муж ушел из армии! Однако он глубоко убежден, что она согласится с ним и поддержит его мнение: годы их счастливого супружества, полное доверие и близость во всех начинаниях исключали мысль, что она не одобрит его решения. Она оказалась перед болезненной дилеммой, перед мучительной альтернативой: либо позволить Джону поломать так хорошо начавшуюся карьеру, либо своими руками сломать их счастливый брак. Она отчетливо осознавала, что их браку будет нанесен непоправимый удар, если она подвергнет сомнению решение Джона. Прежде чем принять предложение Джона о браке, она выговорила себе право сотрудничать с мужем в его работе, и он предоставил ей такое право. Уход в отставку означал трагическую ошибку: такой шаг без ее согласия был бы произволом с его стороны. Но в брачном договоре было еще одно положение: она обещала холить его и здорового, и больного, в довольстве и в беде, идти с ним туда, куда он пойдет. Эта клятва не оставляла простора для нерешительности: она не могла рассечь ткань их супружеской жизни. Его карьера может измениться с ходом времени, возможны взлеты и падения, успехи и провалы. Но брачные отношения более хрупкие, они больше нуждаются в защите: они не должны испытывать отчаяния, приходить в упадок, изменяться. Она думала: «В нашем супружестве нет и не может быть неприятных или болезненных воспоминаний. Супружество — это самое важное, что делает жизнь прекрасной и стоящей, несмотря на все трудности и осложнения. Если я поддержу наш брак, я сохраню все; если я преуспею не в этом, а в чем-то другом, я обречена на поражение в своей жизни». Она подошла к мужу, взяла его за руку и прижалась к его плечу. — Очень просто, отец, — сказала она спокойным, почти небрежным тоном. — Джон уходит в отставку из армии. — Но почему? — загремел Том Бентон. — Он прощен! Его похвалили! Все ждут, что он вернется назад… — Я не возвращусь в армию, которая осмелилась обвинить меня по двадцати двум пунктам и у которой не хватило духа и товарищеской доброй воли признать, что я доказал свою невиновность по меньшей мере по одному пункту. — Конечно, конечно, — гудел Том, — это была жалкая сцена. Но семь судей подписали заключение с просьбой к президенту смягчить приговор. Джон взял экземпляр документа, лежавшего на его столе, повернул первую страницу и пальцем указал на параграф на второй странице. — Читали ли вы это? — хрипло спросил он. — Вы действительно советуете мне вернуться в армию, которая говорит: «Суд не нашел ничего противоречивого в приказах и инструкциях правительства; ничего, ставящего под сомнение показания прокуратуры; словом, ничего, что квалифицировалось бы в юридическом смысле как сопротивление властям, за которое был осужден обвиняемый…»? Единственный способ, которым я могу выразить полный протест, — это уйти в отставку. Понимая тяжелые последствия, но не представляя себе, что делать, Том Бентон повернулся к дочери в расчете на ее помощь. — Что ты скажешь на все это, Джесси? — спросил он. На долю секунды Джесси показалось, что у нее перехватило дух. Ее муж обижен позицией отца; его гордость так сильно ущемлена, что есть опасность срыва. Он никогда не оправится, если все будут против него. Понимая, что ее отец абсолютно прав, а муж абсолютно не прав, она все же решила встать на сторону мужа, на сторону человека, который никогда не чувствовал себя уверенно в мире. Она должна поддержать его решение и, что более важно, каждым словом и жестом показать свое согласие с ним. Она взяла себя в руки, глубоко вздохнула и ответила твердым голосом: — Я согласна с Джоном. Казалось, что лицо ее отца осунулось. — Ты согласна! Но, Джесси, это невоз… Всего два дня назад… — Два дня назад я не знала, что президент Полк не отменит все обвинения. — Но разве ты не понимаешь… — Я сознаю, что допущена несправедливость в отношении моего мужа. Его право — выразить самый суровый протест. Вся помпезность и надутость Тома Бентона испарились; затуманенному взору Джесси показалось, что ее отец почувствовал себя в ловушке. Он крикнул в отчаянии: — Я думал, что научил тебя мужской логике! Я полагал, что ты можешь мыслить как мужчина! А ты рассуждаешь как женщина! Джесси жалостливо улыбнулась и ответила: — Да, отец, совсем как женщина. Ее голос как бы подвел черту, и Том Бентон не решился настаивать на своем. Она чувствовала себя несчастной: ведь стараясь скрыть истину за своими мотивами, она обижает его. Но ее первый долг — защитить мужа; в супружестве нет ни правого, ни неправого, логичного или бессмысленного, причинного или беспричинного; есть только натура мужчины, с которой надо работать, его таланты и пределы, его чувства, характер, личность: именно они, и только они, определяют егоповедение. Супружество — это скала, все остальное лишь пена, разбивающаяся о скалу.
_/11/_
Она пошла с ним на рынок, чтобы выбрать лучшую ткань для костюма. Но у Джесси защемило сердце, когда она впервые увидела мужа в гражданской одежде. За восемь лет их совместной жизни она видела Джона только в красивой военной форме, которую он с гордостью носил. Его темный костюм был хорошо сшит, прекрасно на нем сидел, но он чувствовал себя в нем неловко. Он, сохранявший природную грацию в простом армейском синем мундире, теперь каждым резким движением выдавал возмущение тем, что его положение принижено. Хотя его заметки, дневники и рисунки все еще оставались в Сан-Франциско, Джесси была убеждена, что они должны написать доклад о его третьей экспедиции. Даже если не получится ничего путного, процесс творчества — лучшее лекарство для него. Было трудно склонить его к работе, но существовали веские причины, побуждавшие Джесси добиться появления третьего доклада: зарплату, никогда не бывавшую большой, теперь он не получал вовсе. Впервые в жизни она ощутила потребность в деньгах: при скромном окладе мужа они не тратили много средств на свое содержание в доме Бентонов и смогли сэкономить три тысячи долларов, которые Джон передал американскому консулу Ларкину в Монтерее, чтобы приобрести в горах Санта-Круз ранчо с видом на Тихий океан. Они мечтали уехать из Вашингтона в Калифорнию, построить на ранчо дом, образовать небольшую общину под именем Фремонтвилл. Но для дорогостоящего переезда в Калифорнию у них не было денег, не говоря уже о постройке дома, если они смогли бы добраться до ранчо. И самое серьезное — у них не было средств, чтобы купить лошадей, сельскохозяйственный инвентарь, скот и продовольствие, оплатить наемный труд. Том Бентон предложил им ссуду. Еще до начала судебного процесса к Джесси пришла Гарриет Бодиско и принесла шкатулку с бриллиантами и сапфирами, предложив продать драгоценности, а деньги использовать для их нужд. Друзья, в том числе и Джеймс Бьюкенен, были готовы ссудить им все необходимое. Ее не пугала нехватка денег, но она осознавала, как сильно будет страдать муж, если к другим осложнениям добавятся долги. Доклад об экспедиции обеспечивал выход из трудного положения. Она вернет мужа к работе, поможет избавиться от самоедства. Его публикации принесут им некоторую сумму, достаточную, чтобы добраться до Калифорнии и начать работу на ранчо. Если книга окажется интересной, то, Джесси была уверена, газеты и журналы купят их рассказы. Она вела себя, исходя из предположения, что так или иначе он напишет третий доклад, но будет сопротивляться, и подготовилась к борьбе против его пораженческой позиции. Это была долгая, медленная битва за успех, и она не торопила события. Хорошая жена должна уметь обеспечивать умиротворение дома: когда муж находится на вершине, ее обязанность — охладить его «я», придать его достижениям правильную перспективу, удержать от самовлюбленности. Эта задача сравнительно проста для женщины, наделенной тонкой интуицией и юмором; более сложна задача для жены, когда муж обескуражен, несчастлив, не собран, не имеет работы, цели. Именно в таком случае жена должна создать здоровую среду для мужа, обеспечить надлежащее настроение, высвободить все лучшее, что есть в нем, подкрепить его уверенность, выдвинув на передний план его таланты и достижения. Быть хорошей женой, вероятно, наиболее труднодостижимое в деяниях человеческих. Через несколько недель, в начале марта, она поняла, что почти убедила его, требовался лишь последний толчок. В эту ночь она призналась мужу, что беременна и на сей раз абсолютно уверена, что появится долгожданный сын, и ей хотелось бы завершить доклад до появления на свет Джона-младшего. Она решила, что ко времени рождения ребенка, где-то в конце июля, доклад должен быть закончен и опубликован, а ее муж вновь восстановлен в своих правах. Теперь, больше чем когда-либо, она была благодарна годам интенсивной подготовки, полученной от отца. Она работала упорно, но не за один присест. Она не чувствовала себя столь же хорошо, как при первой беременности, — прошла молодость и здоровье было подточено. Но больше всего ее тревожил муж. Хотя ей удалось возродить его энергию и здоровье и побудить начать работу, он отказывался посещать обеды и приемы, совершал долгие прогулки пешком и на лошади только после наступления сумерек, уложив ее в постель. Когда они собирались за обеденным столом, он выглядел несчастным и скованным. Лишь однажды она не пожалела об этом — когда прервалась сессия сената и ее отец вернулся в Сент-Луис. Она думала, что работа и ее компания помогут мужу постепенно возвратиться к жизни, к способности смотреть людям в глаза. Однако никто, кроме нее, не знал, сколь медленен этот процесс. Как-то однажды он ворвался в комнату, где она сидела за пюпитром, переписывая раздел, содержащий географические описания, обнял ее с прежней горячностью и воскликнул: — Дорогая, послушай! Твой отец обеспечил мне еще одну экспедицию! Она вопросительно изогнула брови, всматриваясь в его сияющее порозовевшее лицо, к которому вернулся прежний вид, а его глаза горели. — Еще экспедиция, — медленно сказала она. — Но каким образом?.. — Несколько его друзей в Сент-Луисе хотят построить железную дорогу к Тихоокеанскому побережью. У них есть деньги и поддержка, им требуется южный путь, чтобы поезда могли ходить зимой. — Они нанимают тебя, чтобы ты нашел железнодорожный переезд! — воскликнула Джесси. — Разумеется! К кому же еще они могут обратиться для поиска нового перевала? Он оттолкнул ее пюпитр, тот упал на красный ковер, и бумаги разлетелись. Он встал перед ней на колени, обняв ее под мышками своими сильными руками, и сказал громким голосом, какого она не слышала со времени его третьей экспедиции три года назад: — Они намерены финансировать экспедицию так, как это требуется мне. И готовы заплатить мне частично акциями железной дороги. Она одобрительно поцеловала его. — Вот видишь, — сказала Джесси громко, — ты становишься железнодорожным магнатом! После того как найдешь новый перевал, будешь работать инженером, прокладывать весь путь для железной дороги, как ты помогал капитану Уильямсу до приезда в Вашингтон. — Да благословит Господь твоего отца! — воскликнул Джон. «Аминь, — сказала Джесси сама себе, — он спас нам жизнь». Вслух она добавила: — Позволь мне взглянуть на письмо. Когда ты должен поехать? Ты будешь покупать оборудование в Нью-Йорке или в Сент-Луисе? Как скоро?.. — Не торопись, не торопись, — весело смеялся он. — Подробности будут согласованы позже. Но сейчас, и письмо подтвердит это, все улажено. Ах, Джесси, меня так осчастливил этот шанс… Джесси прильнула щекой к мягкой стороне его бороды. — Мы должны поторопиться и завершить наш доклад, — прокомментировала она. — Его следует сдать в типографию до твоего отъезда в Сент-Луис. И, в то время как ты будешь организовывать свою экспедицию и выйдешь в поход к побережью в четвертый раз, страна будет читать о твоем пути в Калифорнию… Смотри, я лью слезы на твою милую бороду. Я так счастлива за нас. И особенно за твоего сына, если он родится; первое, что он увидит — это отца, собирающегося в поход. Джон провел рукой по длинным волосам Джесси: — Я так счастлив, что готов принять вторую дочь и любить ее. — Ты говоришь как отец, — поддразнивая, ответила Джесси, — две дочери — это корона в каждом доме. Но ты поклянешься? — Как генерал Скотт, — поморщился он. — Я думал, что ты жаждешь продолжить работу. Давай будем действовать, соберем вместе эти бумаги. Думаю, что смогу продиктовать хороший материал: моя голова словно в огне, я вспоминаю целые отрывки, записанные мною в дневник. Он стал прежним Джоном. Они энергично работали, довольные тем, как воспоминания обретают хорошую форму, ободренные начатыми рано приготовлениями с целью собрать товарищей из первых трех экспедиций. В течение последних двух недель мая она много переписывала сама, придавая материалу лучшую литературную форму. Был найден издатель, уверенный в успешной продаже. Однажды вечером в конце мая после необычно долгого рабочего дня Джесси была близка к тому, чтобы закончить последние страницы, но потом отложила работу и сказала мужу, лежавшему перед камином: — Джон, ты обещал, что больше не будет разлук. Ребенок должен родиться в конце июля. Ты не предполагаешь выехать в экспедицию до конца сентября. К этому времени я достаточно окрепну. Не возьмешь ли меня с собой? Мне всегда хотелось пересечь всю страну. Он повернулся, подпер свою голову рукой и смотрел на нее с восхищением. — В тебе много мужества, Джесси. Ты сидишь здесь, нося в своем чреве ребенка, и заявляешь, что всего лишь через несколько недель после родов хочешь перейти Скалистые горы зимой. Нет, дорогая, не в это время. — Но я не могу выносить мысль о разлуке… Он вскочил на ноги, поднял ее из кресла и посадил к себе на колени. — Ты права, Джесси, не будет долгой разлуки: ты поедешь со мной в индейскую резервацию Делавэра на Миссури. Это мой последний трамплин. В то время как я буду пересекать континент, ты возвратишься в Нью-Йорк и сядешь на судно, огибающее мыс Горн. К тому времени, когда я доберусь до Сан-Франциско, ты уже будешь там с двумя детьми. Мы отправимся на наше ранчо, построим дом и уже не будем разлучаться. Джесси, прижавшись головой к его груди, чувствовала себя в безопасности. Она утомилась от работы в течение дня и от ощущения тяжести внизу живота. — Полагаю, что ты прав, — сказала она. — Мальчик будет еще слишком мал, чтобы проплыть с кормилицей вокруг мыса Горн. Переезд займет не так много времени, и я счастлива при мысли о нашем новом доме. А сейчас посади меня обратно в кресло, чтобы я могла закончить последние страницы. Я хочу, чтобы ты был здесь, когда я напишу слово «конец». Он посадил ее в кресло, поправил пюпитр, затем подошел к столу с географическими картами. Через минуту-две она крикнула ему: — Не передвигай лампу! Мне темно писать. Он быстро повернулся: — Что ты сказала, Джесси? — Я сказала: не двигай лампу, становится темно. Ой, Джон, скорее, я падаю в обморок… Он уложил ее в постель, затем вызвал доктора, который прописал ей постельный режим на шесть-семь недель, до рождения ребенка. На следующий день она почувствовала себя лучше, но решила последовать совету врача. Ей нужно отдохнуть и подготовиться к предстоящему испытанию. Доклад пошел в печать, и в июне сенат заказал двадцать тысяч экземпляров карт Калифорнии, выполненных Джоном. Карта была встречена аплодисментами по всей стране. Этот триумф в сочетании с подготовкой к четвертой экспедиции восстановил его самочувствие. Все плохое осталось позади, они выжили и устремились вперед. Итак, Джесси спокойно лежала в своей голубой спальне с распахнутыми в сад окнами. Ее навещали друзья, они одаривали ее конфетами и рассказывали о новостях. На рассвете 24 июля 1848 года родился сын. Джесси потребовалось почти семь лет, чтобы выполнить одно из самых сокровенных желаний мужа. Если ожидание оказалось столь долгим, то выбор момента, чтобы осчастливить мужа наследником, был оптимальным. Покраснев от гордости, она сказала мужу, появившемуся в дверях: — Тебе не нужно вывешивать над моей кроватью флаг. У тебя есть сын. Мы назовем его твоим именем — Джон Чарлз Фремонт. Он приласкал ее с любовью и благодарностью, затем поцеловал ее ладони. — Не Джон Чарлз Фремонт, — сказал он, великодушный в своей радости, — а Бентон Фремонт, по имени твоего отца. Он так много сделал для нас. Я хочу, чтобы мой сын носил его имя._/12/_
К концу сентября она почувствовала себя достаточно крепкой, чтобы поехать в Сент-Луис. Они путешествовали всей семьей. Лили, которой исполнилось почти шесть лет, была спокойным, деловым ребенком, без порывистости своих родителей, она больше была похожа на свою бабушку и тетушку Элизу. Они старались оградить Лили от волнений, связанных с судебным процессом, но она, казалось, понимала, что происходит, и Джесси заметила, что их дочь, с простецким лицом и сдержанными манерами, в тяжелые дни заботилась о них. Лили вроде бы радовалась появлению ребенка, проявляла больше привязанности к малышу, чем к матери или отцу. Она суетилась около ребенка, старалась всячески помочь ему. Иногда Джесси позволяла ей выбрать одежду или пеленки, и она делала это с важным видом. — Когда он подрастет, чтобы я могла играть с ним, мама? — спрашивала она. — Скоро, — отвечала Джесси с довольной улыбкой. — Но как скоро? Когда мы приедем в Сент-Луис? Ты разрешишь мне одевать его? Джесси сама ухаживала за ребенком. Еще трудно было сказать, что из него получится, но порой ее невольно тревожила его вялость. Он неохотно брал грудь и плохо сосал. Он родился с локонами темных волос, начинавшимися выше ушей и уходившими назад, к шее. Чертами лица он был похож на отца, даже кожа была смуглой. Она самозабвенно любила его. Первый этап поездки в дилижансе и в поезде был приятным: стояла ранняя осень, листва подернулась позолотой, и на полях дозревал урожай. Они стояли на носу небольшого речного судна «Саратога», плывшего вниз по Огайо. Джесси держала ребенка на руках, а Лили уцепилась за ее юбку. Рождение двух детей не испортило фигуру Джесси, она оставалась по-девичьи гибкой; ее глаза приобрели более глубокий карий цвет и стали более теплыми, ибо она познала природу боли; ее лицо вновь светилось счастьем, а гладкая кожа излучала здоровье. У Джона появились усы, хотя он до отъезда из Вашингтона подрезал бородку, и гражданская одежда придавала ему довольно фамильярный вид. Словно молния Джесси пронзила мысль, что теперь они почти в том же положении, что и Мэри Олгуд, та самая молодая мать, с которой она встретилась на окраине Сент-Луиса и которая приглашала ее поехать вместе в Орегон. Настал черед Фремонтов отправиться на Запад и вновь обрести свободу. Ее голова шла кругом от мысли, как высоко они взлетели всего за несколько лет и как стремительно свалились вниз за еще более короткий период. Возвращение домой, в Сент-Луис, было особенно приятным. Все принимали их с добрым сердцем. Галереи вокруг внутреннего дворика были еще теплыми и благоухали акацией. Она была счастлива войти в медленную мирную жизнь Миссурийского речного порта, работать не спеша и ухаживать за своим сыном, в то время как Джон торопился на встречи, закупал снаряжение и беседовал с французскими путешественниками, желавшими его сопровождать. Его тревожило то, что он смог найти лишь немногих участников своих походов. Остальные рассыпались по Тихоокеанскому побережью и по Юго-Западу. Ему приходилось принимать новых и неопытных людей. Ее отец был восхищен своим первым внуком, особенно потому, что его назвали Бентоном. Джесси казалось, что ему хочется ласкать ребенка. Она сообщила, что в октябре отправится в индейскую резервацию Делавэра. Была найдена опытная и надежная нянька, и поэтому Джесси смогла провести несколько последних дней, помогая Джону и готовя свои туалеты. За два дня до отъезда Джона разбудили на заре, он оделся и поспешил на встречу с партией пограничных охотников. Джесси дремала, когда вбежала нянька с криком. — Миссис Фремонт, — рыдала она, — скорее! Мы не можем разбудить ребенка. Выпрыгнув из постели, Джесси побежала в детскую. Лили, все еще в ночной рубашке, стояла над детской кроваткой и отчаянно терла ручки крошки Бентона. — Мама! — крикнула она. — Братик не просыпается. Мы его качали, качали, а он не просыпается. Джесси бросила быстрый взгляд на сына, на его пурпурное лицо. Она послала за врачом, затем подняла мальчика из колыбели, завернула его в одеяло, внесла в свою комнату и положила рядом с собой на постели, прижав к своей груди; ее глаза были открыты, но ничего не видели, а на сердце лег тяжелый камень. Она не знала, сколько времени прошло. Наконец пришел их семейный врач, обслуживавший ребенка со времени их приезда в Сент-Луис. Он нежно взял малыша у Джесси, развернул одеяло и быстро осмотрел тело. Через несколько минут он сказал: — Я страшно огорчен, миссис Фремонт. Ребенок умер. Я все время опасался, что у него больное сердце. Он, видимо, таким родился. Уши Джесси не слышали слов, а ум не понимал их смысла. Она прижимала ребенка к себе, его маленькая головка лежала на ее плече, и своей щекой она касалась его щеки. — Ребенок мертв, мисс Джесси, — повторил доктор. — Позвольте мне взять его. Она не двигалась. Через несколько секунд она посмотрела на врача с кривой улыбкой и бесчувственно сказала: — Он так мало у нас был. Пожалуйста, уйдите все. Мы подождем, пока приедет муж. Джесси оставалась одна, все еще прижимая к груди ребенка. Через некоторое время Джон поднялся по лестнице и вошел в комнату. Она заметила его острый заботливый взгляд, его желание знать, как она воспринимает потерю. Он наклонился над ее белым как мел лицом. Она была благодарна ему, что он молчал, а потом — благодарна за то, что заговорил. Его голос звучал сочувственно: — Я не пытаюсь утешить тебя, Джесси. — Нет, не нужно. — Мальчик ушел из жизни. Мы должны смириться с этим. Это тяжело, но вдвоем мы выдержим. — Ты можешь теперь взять его, — прошептала она. Джон поднял легкое тельце мертвого сына, посмотрел в последний раз на лицо мальчика, затем прикрыл его голову одеялом, вышел за дверь и отдал тело няне. Он быстро вернулся к жене, поднял ее и перенес в глубокое кресло у окна, прикрыв ее ноги одеялом. Она прижалась к нему так же тесно, как минуту назад держала своего сына. — Ты можешь теперь поплакать, дорогая, — сказал он. И слезы пришли. Все слезы, какие накопились у нее с того времени, когда ее муж был доставлен как арестант из Калифорнии; все слезы, какие она не выплакала во время процесса, в ходе которого противники мужа истязали его, стремились втоптать в грязь его гордость; все слезы, какие она сдерживала, когда суд объявил ее мужа злоумышленником, нарушившим присягу; все слезы, какие она подавила, сочтя необходимым встать на сторону мужа против отца, помогая ему уйти в отставку и порушить карьеру; все слезы, какие увлажнили ее глаза, когда она впервые увидела мужа в гражданской одежде и в полной мере осознала, насколько он ущемлен и унижен. Все это как-то отошло на второй план после рождения сына. Эта большая удача заслонила все, что они пережили; у нее не было ненависти к генералу Стефану Уоттсу Кирни, к судьям трибунала. Чувство благодарности позволило простить их всех, не таить обиду. С каждым шагом теперь возвращалась былая горечь. Если бы не генерал Кирни, то не было бы ареста, не рушилась бы карьера мужа в Калифорнии, не было бы военно-полевого суда. Возвращение мужа в Вашингтон вылилось бы в торжество, она могла бы спокойно выносить крепкого ребенка. Противники мужа подорвали и ее силы, заставляли переносить нескончаемые мучения, и, по мере того как таяли ее силы, подрывались и силы ее ребенка. Больное сердце? Ничего удивительного! Как могла она выносить нормального, здорового ребенка в те несчастные месяцы? Теперь она никогда не простит врагов своего мужа: они отняли у них сына. Лили отправили к Брантам, чтобы она не видела сцены семейного горя. Когда ее привезли обратно, Джесси попросила девочку подняться в ее комнату. Лили чувствовала себя скованно. Джесси взяла девочку к себе на колени: — Должна сказать тебе… о… мальчике. Ты видишь, Лили… он… — Я знаю, — прервала Лили, — он никогда не вырастет, чтобы поиграть со мной. Вечером накануне отъезда в индейскую резервацию, в то время как она вяло жевала еду, принесенную ей на подносе, Джон сказал: — Дорогая, было бы лучше, если бы ты осталась. Здесь за тобой присмотрят отец, хороший врач и сестра. В резервации условия такие примитивные… — Пожалуйста, — умоляла Джесси, — не оставляй меня здесь! Я больна не телом, а душой. Я чувствую себя лучше, когда ты рядом. — В резервации одиноко. Там только одна белая пара. Я не смогу быть с тобой в течение дня. Я должен работать с людьми. Она нежно вложила свою ладонь в его: — Для меня достаточно знать, что ты рядом. С тобой мне не нужны ни врачи, ни сестры. Пожалуйста, разреши мне поехать. Мне нужно быть рядом с тобой в предстоящие недели. Он сжал ей руку, успокаивая ее: — Хорошо. Я возьму тебя при одном условии: съешь свой обед. Ты сильно похудела, и я опасаюсь за тебя. Она взяла вилку с картофелем, которую он поднес к ее губам: — Не бойся за меня, Джон. Со мной будет все в порядке. У нас будут еще сыновья. Мне поможет пребывание с тобой в резервации. Когда подойдет время отъезда, я вернусь в Нью-Йорк и сяду на судно, огибающее мыс Горн._/13/_
К вечеру второго дня они добрались до индейской резервации. На вырубке стояли несколько вигвамов индейской колонии и две бревенчатые хижины: одну занимали майор Каммингс и его жена, другая предназначалась для странствующих звероловов, проводников и армейских офицеров. Майор Каммингс и его жена были простыми, добрыми людьми, для которых гостеприимство — первый закон границы. Они не знали об утрате, выпавшей на долю Джесси. Когда стали видны хижины, Джесси попросила мужа вообще не упоминать о мальчике. Чета Каммингс прожила тридцать лет в этом пограничном пункте, на самом краю нехоженых прерий. Миссис Каммингс было около пятидесяти, и она обладала независимостью и деловитостью, присущей женам, готовым идти за своими мужьями хоть на край света. Она отвела Джесси однокомнатную хижину с утрамбованным земляным полом и открытым очагом для обогрева и приготовления пищи. В хижине стояли рубленый стол, стулья и единственная в резервации кровать, изготовленная в Сент-Луисе и доставленная оттуда на вьючных лошадях. Джесси не хотела показаться миссис Каммингс неблагодарной. Джон вставал ежедневно на рассвете и шел в лагерь к своим коллегам. В первой половине дня Джесси проходила пешком милю или около этого, усаживалась в тени деревьев и наблюдала, как ведется подготовка фургонов, животных, снаряжения, научных инструментов и продовольствия. Ей нравилось смотреть на то, как ее муж управляет своими работниками, контролирует детали подготовки, заботясь о максимальной безопасности. В такие моменты он выглядел лучшим образом: отдавал приказы негромким вежливым тоном, что мгновенно вызывало уважение и внимание людей. Он спокойно ходил по лагерю, в его глазах был яркий блеск, когда он говорил слова одобрения здесь, указывал на ошибку или недосмотр там; благодаря своему опыту и умению он действовал легко: от него исходило чувство уверенности, он был рад выполнять любимую задачу. Все это нравилось Джесси, и она была благодарна отцу за то, что он дал Джону этот шанс, благодарна за то, что Том Бентон вложил несколько тысяч долларов в предприятие, которое вряд ли сулит ему доход. Она возвращалась в резервацию в полдень. Джон приезжал на лошади около четырех часов дня, выпивал чашку горячего чая и просто говорил обо всем, что случилось в течение дня, или же обсуждал планы строительства дома в Калифорнии с окнами, выходящими на просторы Тихого океана, школы в бревенчатой хижине и церкви, похожей на ту, что соорудила полвека назад бабушка Бентон в Бентонвилле. Ночи вроде бы должны были быть спокойными, ведь рядом был муж, обнимавший ее во сне, но образы, разгонявшиеся днем ярким солнцем, возвращались во тьме. По ночам, свернув в клубочек похудевшее тело, она не могла заснуть, ее бедный мозг возвращал ей облик сына, ей казалось, что он сосет ее грудь; она вновь переживала первые часы радости, осознав, что подарила мужу сына — продолжателя рода. В такие моменты она понимала, что нет горя, сравнимого с тем, какое принесла смерть сына. Проваливаясь в тревожный сон, она пробуждалась от коротких приглушенных стонов, нарушавших ночную тишину: в быстротечной смертельной борьбе за стенами хижины нападавший убивал кого-то. Она никому не говорила об этих ужасавших ее звуках, и только на четвертый день она случайно узнала их причину. Выйдя рано утром вместе с Джоном, она увидела, что обычно спокойный майор Каммингс вне себя от ярости. — Эта проклятая волчица зарезала еще одну нашу овцу! — кричал он. — Там их, видимо, целый выводок, и волчица тащит овец, чтобы накормить волчат. Мы так напряженно и долго работали, чтобы вырастить ярок. Без мяса мы зиму не проживем. Ночи и дни быстро сменяли друг друга, и вот пробил час расставания. Участники экспедиции Джона вышли на десять миль вперед к прериям, лошади были откормлены в преддверии голодных месяцев в снежных горах. Они должны были разбить лагерь на рассвете следующего дня. Уходя из хижины, Джон крикнул, что вернется в четыре часа, к чаю. В полдень майор Каммингс постучал к ней в дверь. — Пойдемте со мной, миссис Фремонт, — позвал он с выражением решительности на обветренном лице. — Я докажу старинную поговорку, что долг платежом красен. Не понимая, что он имеет в виду или что он хочет от нее, Джесси подумала: она должна пойти с ним — таков закон вежливости. У майора было две лошади в небольшом загоне между хижинами. Майор подсадил Джесси в седло, и они поехали на запад по узкому ущелью. Он соскочил с коня, помог Джесси слезть с лошади, взял ее за руку и повел так быстро, что без его поддержки она упала бы. Тропа резко повернула, и впереди Джесси увидела купу дубов. — Подождите здесь, миссис Фремонт, — сказал майор, — вы сейчас все увидите. Она наблюдала за тем, как он тихонько подошел к дубам, вытащил свой револьвер и быстро выстрелил пять раз. Когда затихло эхо выстрелов, она услышала смертельные стоны, схожие с теми, что прерывали ее сон в хижине. Майор Каммингс вышел на тропу довольный. — С истреблением овец покончено, — сказал он с чувством мрачного удовлетворения. — Я застрелил всех пятерых волчат. В висках у Джесси застучало. Убийство и смерть, смерть и убийство. Только это и есть в мире. Каждый и все убивают. Люди убивают друг друга, животные убивают друг друга, люди и животные убивают друг друга. Смерть, кровопролитие и бедствия. Она прошептала: — Майор, я плохо себя чувствую. Посадите меня на вашу лошадь и придержите меня, иначе я упаду. Встревоженный, хотя и не понимающий, в чем дело, майор Каммингс поднял ее к себе на лошадь и быстро доставил в резервацию. Он позвал жену, она уложила Джесси в постель и предложила ей чашку крепкого кофе. Джесси поблагодарила женщину и сказала, что постарается заснуть. Она лежала в постели, чувствуя себя крайне больной, такого состояния она не испытывала даже в те часы, когда держала в своих руках умершего сына. Что оставалось, если не смерть, неотвратимая и бессмысленная смерть? Что другое есть в жизни, если не отвратительное и бессмысленное разрушение надежд, планов и идеалов? Она ничего не имела против кого-либо или чего-либо: волки должны резать овец, чтобы жить; люди должны истреблять волков, чтобы жить. Но должен ли человек убивать людей, чтобы жить? Должны ли они убивать друг друга, чтобы оставаться живыми? Должен ли Кирни убить ее ребенка, чтобы выжить? Неужели этот мир — не что иное, как клетка с рычащими зверями, где собака пожирает собаку, и только это делает выживание возможным? Если каждый и каждое должны убивать, чтобы жить, то стоит ли того жизнь? Джесси не считала майора Каммингса виновным в том, что она пережила. Она не считала его даже ответственным за страдания волчицы, когда та вернется к логовищу и найдет мертвых волчат. Майор Каммингс никоим образом не знал, какое впечатление это произведет на нее, равным образом он не знал, как воспримет убийство мать-волчица. А если бы и знал, мог бы он воздержаться от истребления? Мог ли он позволить, чтобы волчица лишила его мяса, нужного ему и семье в снежную зиму? В годы своего детства и вплоть до недавнего времени она верила, что живет в хорошем, красивом мире, где сохранились идеалы и доброта, где каждый может выбрать свой образ жизни, где ум, воспитание и прилежание ведут к успехам, где можно верить, что живешь в упорядоченной Вселенной. Каким сентиментальным ребенком была она, слепым, глупым и сбитым с толку идиотом! Она думала, что может определить распорядок своих дней. Она думала, что понимает смысл своей работы и в состоянии контролировать события и обстоятельства. Она не прислушивалась к советам, мнениям и наставлениям старших и более мудрых людей. Она знала сама, что ей нужно, как этого добиться, что она сделает со своей жизнью, тогда придут успехи и вознаграждения. А теперь мечты уступили место реальности. Что же есть в мире, кроме жадности, драчливости, страсти к уничтожению? Раньше Джесси думала, что сердце ее окончательно разбито, теперь она понимала, что оно лишь в межумочном состоянии, переживает своего рода лунатический приступ горя от постигшей ее утраты. Она всегда осознавала, что время залечит ее горестные раны, что к ней вернутся силы, что она в состоянии продолжить род, может зачать и родить новых сыновей. Она знала, что выживет. Теперь же она почувствовала, что шансов на выживание нет, теперь ее сердце, ее сознание, ее дух были сломлены нескончаемой, бессмысленной и жестокой трагедией человечества. Она поняла, что горько заблуждалась, а ее мать была права. Всего несколько месяцев назад, увидев выражение жалости в глазах матери, она с ходу отвергла ее, не нуждаясь в жалости и думая, что мать не понимает, какой стойкостью обладает ее дочь против изменчивой фортуны. Ее рассудок восстановил слово в слово все, что сказала ей мать на пути в Черри-Гроув перед ее свадьбой: — Мне нравится молодой человек, Джесси, но пойми меня правильно, он как твой отец! Он будет всегда стремиться пробиваться наверх, используя большую дубинку, совсем как Том Бентон, и поэтому вокруг него всегда и повсюду будут враги с кинжалами и клеветой, готовые при первой возможности нанести удар. Ты не будешь знать ни тишины, ни покоя, Джесси. Вы будете жить в обстановке конфликтов и разногласий, борьба проникнет в саму пищу за вашим обеденным столом, отравит молоко, каким вы будете вскармливать своих детей. Это плохо для женщины, Джесси. Это все в ней убивает, уничтожает тот самый внутренний дух, который должен вселять в нее чувство покоя и безопасности, чтобы жить счастливо и растить детей. Работа мужчины не имеет значения: ведь это раболепный труд, который следует выполнить как можно быстрее, чтобы заработать на жизнь, и, когда он приходит домой, его обязанность — стереть следы такого труда, как стирают грязь с ботинок. Моя бедная девочка, как мне тебя жалко! Как много горя и страданий ты готова принять! Положение женщины действительно определено природой: управлять домом, растить детей, содержать в порядке дом, холить детей и мужа. Она не должна переступать эту границу, она не должна выходить на арену конфликта, настаивать на праве работать и сражаться бок о бок с мужем, переносить удары, опустошенность и разочарования, свойственные конфликтному миру мужа. Итак, она была не права: ей следовало бы выйти замуж за кого-то вроде кузена Престона Джонса, несмотря на то что была восхищена Джоном и любила его; она должна была вдуматься в слова матери об агрессивном и невоздержанном самце и осознать, учитывая его откровенно задиристую натуру, что будут осложнения, будут волнения, глубокие и критические, и они поставят под угрозу все — не только их здоровье и положение, но и само их существование. Это уже стоило жизни их сыну. Теперь речь идет о ее собственной судьбе. Она понимала, что в ней нет больше сил вновь поверить, надеяться на упорядоченное и безмятежное существование. Ей было всего двадцать четыре года, но она вынесла целый век страданий, ее сердце постарело и усохло в груди. Эта грудь также умерла, в ней высохло молоко. Бабушка Макдоуэлл сказала ей в последний раз в Черри-Гроув: — После того как ты выйдешь замуж за своего молодого человека, у тебя будут свои битвы, будут шрамы, но ты будешь носить их так, как носила моя мать, словно медали за храбрость. Бабушка Макдоуэлл переоценила ее, как переоценивала и себя. Она не может более выдерживать сражения, носить на себе шрамы. Во всем этом она винила только себя. Она была агрессивной женщиной, упрямой и решительной. Она вздумала изменить положение жены, сделать из себя нечто большее, чем домоправительница и продолжательница рода. Она думала укрепить дух мужа и содействовать успехам мира за счет использования выдержки и рассудка, дарованных Богом ее полу. И теперь за семь лет она сознательно и слепо уничтожила все это: своего сына, себя, своего мужа. Ибо как может Джон выжить с омертвевшей женщиной под боком, с женщиной, любовь которой к нему вытравлена из ее сердца человеческой жестокостью? У нее не было жалости к малютке — он умер и навсегда ушел; она чувствовала жалость к живущим, к тем, кто будет глубоко опечален ее смертью: к мужу, дочери, отцу, матери. Если бы она не работала так упорно во время суда, не посещала ежедневно заседания, не подвергала себя эмоциональным испытаниям, стуже и перегрузке, она не навредила бы своему ребенку. Она убила своего сына столь же сознательно, как майор Каммингс убил волчат. Ее муж должен ненавидеть ее за это. «Он меня ненавидит, — думала она, — но он слишком добрый, чтобы показать мне это. И разве он не должен меня ненавидеть, ведь я разрушила его карьеру, я ответственна за его неприятности, я подстрекала его к бунту? Я хотела быть хорошей женой и старалась стать ею; теперь я понимаю, что наилучшая жена — в наименьшей мере жена. Нельзя смешивать мужской и женский миры; если бы я не вмешивалась в дела мужа, то не было бы сумятицы. Если бы я проявила ответственность по отношению к ребенку, которого носила в чреве своем; если бы я твердила себе: я беременна и не должна подвергать себя волнениям… Если бы… Ах да, — думала она с ужасающей отчетливостью, — если бы только. Всего несколько слов, а каковы их последствия! На этом длинном пути они привели меня к нынешнему страшному моменту. Несколько часов назад я сказала, что нет более глубокого горя, чем смерть сына. И в этом я заблуждалась: еще большим горем является осознание близкого конца любви и супружества с мужчиной, который был воплощением мечты. Я не могу поехать в Калифорнию встретить его, я не выдержу путешествия, я не смогу повторить все сначала. Меня сломит мысль о повторении ошибок, что все начатое придет к тому же несчастному концу. Я не подхожу для Джона. Я убила свою любовь к нему, потому что убила внутри себя все, способное чувствовать. Что даст ему жизнь с лишенной сил женщиной? Не лучше ли дать ему возможность уехать в Калифорнию и без меня построить новую жизнь? Я могу ему лишь навредить. Но могу ли я нарушить мою клятву, позволить ему приехать на место и там узнать, что я никогда не приеду? Он сказал, что моя вера в него есть скала; когда эта скала рассыплется, что будет с ним? Боже мой, — шептала она, — что я должна делать?» Завывание волчицы, оплакивавшей своих волчат, доходило до стен хижины, постепенно приближаясь и приближаясь, так что Джесси почувствовала: оно уже в самой хижине. Молодые собаки, ютившиеся в закутке между двумя хижинами, подвывали от страха, и ветер прерий своим свистом в углах строений усиливал тревожное чувство. Джесси поднялась с постели и принялась ходить сначала вдоль, затем поперек хижины, натыкаясь на стол, стулья, кровать, горькие слезы болезненно застревали в горле. Перед ее мысленным взором возникла фигура отца в библиотеке, затемненной опущенными шторами. Он молча плакал, потому что жену свалил паралич. Она ясно слышала его слова, прорывавшиеся в паузах между воем волчицы: — Джесси, ты не понимаешь, что такое быть не в состоянии дать отпор. Это все равно что получить удар в темноте: ты не знаешь, кто твой противник, не знаешь, куда повернуться, что сказать или сделать. Я никогда не чувствовал себя беспомощным, но теперь… Теперь ей нанесли такой удар; она чувствовала себя беспомощной, потому что не могла ответить. Кто был противником? Джесси услышала голоса, и среди них — голос мужа. Она поспешно налила воды из глиняного кувшина в эмалированный таз, ополоснула покрасневшие глаза, прополоскала рот и вымыла лицо. Ее родимое пятно под губой припухло, покраснело и пульсировало. Она вытерла руки и лицо полотенцем, причесала волосы, прислушиваясь к быстрым шагам Джона, приближавшегося к хижине. Она поворошила угли в камине, подбросила хворосту и подвесила чайный котелок. Это были ее последние часы с мужем. Джесси осознавала, что в качестве последнего акта доброты она должна скрыть от него свои переживания. Она не должна ослабить его в канун экспедиции, поскольку эта экспедиция наиболее важная из всех, ибо ему, более чем когда-либо, необходим успех именно сейчас, когда он дискредитирован, стал человеком, лишенным профессии. Она должна придать ему силы и отвагу идти вперед, добиться успеха и восстановить свое славное имя. По выражению его лица она поняла, что он догадался о ее переживаниях. Ей стало легче, когда выяснилось, что он неправильно угадал источник ее переживаний. Он поцеловал ее в щеку, прошептав: — Храбрись, маленькая леди. Это будет самая короткая разлука из всех. Через два, самое большее через три месяца мы будем вместе в Сан-Франциско. Я покажу тебе прекрасный пролив из Тихого океана в залив Сан-Франциско. Мы займемся приобретением строительного леса и мебели для нашего дома с окнами на океан. Джесси улыбнулась, а затем с нарочитой веселостью воскликнула: — Ты пришел раньше, чем я ожидала! Я выгляжу ужасно. Дай мне несколько минут. Она отошла в угол хижины за камином, достала из своей сумочки румяна и подкрасила щеки, потом распустила волосы, расчесала их, выровняла пробор и заколола пряди на затылке. Она удивилась тому, как легко можно все разыграть, ведь когда все потеряно, то и нечего терять; когда исчезли чувства, какое имеет значение, наиграны они или нет? Она подошла к мужу и спросила: — Вот, разве так не лучше? — Намного лучше, — согласился он. — Я хотел, чтобы в моей памяти ты осталась красивой и спокойной. А теперь, где чашка обещанного чая, в случае если приду рано? Она подала ему чашку горячего крепкого чая, расспрашивая о последних приготовлениях к выходу экспедиции. Майор Каммингс и его жена пригласили их на прощальный обед в поселке. Миссис Каммингс поставила на стол остатки фарфоровой посуды, сохранившейся после ее тридцатилетнего проживания в глуши. Она поджарила курицу и украсила грубый стол цветными свечами. Майор торжественно принес одну из немногих оставшихся у него бутылок вина. Джесси говорила о том, о чем ранее не помышляла, и тут же забывала сказанное. Однако время тянулось мучительно медленно, и к семи часам она поблагодарила чету Каммингс за их гостеприимство и пошла с мужем в свою хижину. Это был их последний час вместе. Она молила, чтобы хватило сил вынести этот час. Но когда Джон обнял ее, сел рядом с ней на край постели, сказал, как он будет тосковать по ней, думать о ней день и ночь, пока они не встретятся в Сан-Франциско, на нее вновь нахлынули мрачные, печальные мысли о смерти. Она побледнела и оцепенела. Какая-то часть ее существа сохраняла сознание: она, продолжая казаться доброй и делая вид, что между ними ничего не произошло, отдалась любви, столь важной для пар, коим суждено долгое расставание. И тут она допустила слабинку, притворство не помогло. Ее губы оказались сухими и бескровными, а тело таким же сухим и бескровным. Она понимала, что смерть не может создать жизнь, даже в движении; любовь может проникать, любовь может задавать ритм, но в случае смерти мозг, сердце, пульс и матка закрыты; жизнь не может войти в мертвое. Она лежала на кровати молча, с закрытыми глазами. Он пытался заговорить с ней, утешить по поводу утраты ребенка, смягчить предстоящие трудности и долгую разлуку, воодушевить ее своим энтузиазмом по поводу строительства новой жизни в Калифорнии, говорил о том, какую жизнь они там построят, каких сыновей сотворят. Она слышала звук его голоса, но не внимала его словам — ее покинули силы. Она была подобна выжатому лимону. Это была величайшая из ее неудач: она должна была послать этого бедного мужчину в неприступные снега Скалистых гор, на тяготы, лишения и постоянно нависающую угрозу смерти, послать с тяжелым сердцем, отягощенным опасностью поражения еще до начала пути. Она почувствовала его поцелуй на своей щеке, слышала, как он прошептал прощальные слова, сумела слегка приподняться, погладить его шелковистую бороду, пожелать ему доброго пути. Но она не запомнила, как он ушел, закрыв за собой дверь. Джесси лежала в полуоцепенении, когда услышала, как ее позвала несколько раз миссис Каммингс. Она встала, набросила на плечи плотную шаль и открыла дверь. Рядом с миссис Каммингс стоял армейский сержант, лицо которого было покрыто потом и пылью, а мундир помят и пропотел. Тупо уставившись на него, она услышала слова миссис Каммингс: — Это сержант О’Лири, он приехал с посланием из Сент-Луиса. Сержант шагнул вперед, открыл висевшую на плече сумку и вручил Джесси запечатанное письмо. — Это от генерала Кирни, — сказал он, — мне было приказано доставить его как можно быстрее. Джесси вскрыла конверт, но в темноте не могла ничего прочитать. Она попросила сержанта войти в дом. Потом подошла к очагу и при свете угасающего огня прочитала:«Дорогая мисс Джесси! Вы были правы, мы не можем уничтожить наших друзей, не уничтожая самих себя. Весь процесс был страшной ошибкой. Будьте добры приехать с этим посыльным. Я хочу просить Вашего прощения за тот вред, что причинил Вам и Вашей семье. Если не сможете приехать, не соблаговолите ли прислать послание, прощающее меня? Ваш старый и преданный друг Стефан Уоттс Кирни».Джесси перечитала записку от первой до последней строки, так и не поняв ее смысла. Зачем генерал Кирни сделал это? И почему он не сделал этого до ее отъезда из Сент-Луиса? Он был все время в казармах Джефферсона, но не прислал ни словечка, даже когда умер ее сын. Почему теперь? Она повернулась к армейскому офицеру, стоявшему навытяжку с фуражкой, зажатой в руке. — Почему вы так торопились? — спросила она. — Почему так спешит генерал Кирни? Сержант стер пыль со своей нижней губы большим пальцем левой руки: — Генерал умирает, мэм. Врач говорит, что ему осталось жить всего лишь несколько часов. Генерал приказал, чтобы я привез вас. Он сказал, что перед смертью должен увидеть вас. Джесси стояла молча, опустив руку с письмом. «Если бы этослучилось раньше, — думала она, — то я почувствовала бы, что в мире осталось немного порядочности. Сейчас же — слишком поздно. Стефан Кирни напуган. Он не хочет умирать с нечистой совестью. Сломив моего мужа и убив моего сына, он хочет получить легкое и дешевое прощение». Она сказала сержанту: — Я не могу поехать с вами. Скажите генералу Кирни, что это невозможно. — Я не знаю, что написано в послании, мэм, — ответил он, — но генерал сказал, что, если я не могу привезти вас, я должен привезти ответ. — Ответа не будет. Сержант переминался с ноги на ногу. — Пожалуйста, — сказал он. — Я много лет при генерале. Я сражался вместе с ним против индейцев, я был с ним на марше в Калифорнию. Я был его посыльным, и он был моим другом. Он очень несчастен, мэм, он сказал: «Попроси ее сказать всего несколько слов, О’Лири. Попроси ее сказать, что она меня прощает». Джесси оставалась ледяной и неприступной. — Скажите генералу, что я не могу простить его. Скажите, что между нами пролегла могила. Сержант открыл рот, чтобы что-то сказать, но страдание в ее глазах его остановило. Он медленно подтянулся, затем отдал честь и вышел из хижины. Джесси застыла на месте, в голове было темно, как в беззвездную ночь. Через некоторое время она подбросила дров в очаг, подтянула конец тяжелой скамьи к огню и села, упершись худыми локтями в свои бедра и обхватив лицо руками. Она закрыла глаза и старалась отогнать от себя воспоминания. Она сидела в этой позе, шли минуты, часы, тянувшиеся бесконечной туманной чередой. Джесси очнулась, услышав звуки быстрого галопа всадника. Частые звуки копыт донеслись до ее двери и резко оборвались. Послышался удар по земле, а затем дверь хижины распахнулась. Джесси взглянула и увидела Джона, растрепанного, встревоженного. Он захлопнул за собой дверь, бросился к ней, крепко обнял ее: — Джесси, я не могу уехать. Не могу бросить тебя в таком состоянии. Я понимаю, как тебе больно, я нужен тебе. Я не поеду. Я отказался от экспедиции. Я назначу во главе ее кого-нибудь другого. Они выезжают на заре. Давай сложим вещи. Мы поедем в Сент-Луис, а потом в Нью-Йорк. Я обещал тебе больше никогда не разлучаться, и мы не станем разлучаться. Он говорил хриплым голосом. Не веря глазам своим, она уставилась на него. С его стороны это была жертва, которой никто не просил и не ожидал от него, жертва, вновь оставлявшая его без ветрил и будущего. Для человека с обостренной гордостью было бы легче покончить с жизнью, чем отказаться от шанса восстановить свой статус. По искаженным чертам его лица она могла догадаться о той внутренней борьбе, какую он перенес, чтобы достичь такой самоотверженности. Его любовь к ней взяла верх: ради того, чтобы избавить ее от дальнейших страданий, он был готов смириться с презрением, вызванным тем, что он оказался слабым. Он понимал, что не может ни объяснить, ни оправдать себя, что его ущемленная гордость будет страдать. Он был готов принять такое мучение ради нее. В ее измученном теле и нервах пробудились чувства. — Ты отказываешься от… экспедиции… когда она так много значит для тебя? — Она для меня ничего не значит! — закричал он. — Для меня значишь только ты. Ты — моя любовь и жизнь. Я не могу оставить тебя. — Но ведь ставка так велика, — прошептала она. — Если ты преуспеешь, то у тебя будет целая жизнь впереди. Без нее у тебя не будет ничего… Он погладил своими пальцами ее лицо нежно, умоляюще: — Как ты ошибаешься, Джесси! У меня есть ты! Ты — мое будущее, ты — все, что мне нужно и в чем я нуждаюсь. С тобой я вновь встану на ноги. Наша любовь важнее любой экспедиции и любого шанса на успех. Разве ты не понимаешь этого, дорогая? Не понимаешь, что мы всегда должны быть рядом, всегда бок о бок? Она взяла его грязную руку и поцеловала теплую ладонь. Если Джон готов принести ей такую жертву, тогда ее любовь и супружество не были напрасными. — Ты сделаешь это для меня? — настаивала она. — Ты откажешься от единственного, что вернуло бы тебя к жизни? Ты позволишь кому-то другому вести твою группу, найти новый перевал и наметить железнодорожную линию? Ты откажешься от всего, на что возлагал надежды, только потому, что я несчастна и нуждаюсь в тебе? На его лице появилось оскорбленное выражение. — Разумеется, Джесси! Как ты могла сомневаться? Неужели моя любовь оказалась такой пустой? Неужели ты думаешь, что нет такой жертвы, на которую я не пошел бы ради тебя? Ох, Джесси, как ты на самом деле мало знаешь меня! Как мало ты осознала, что я люблю тебя и что наш брак значил для меня. Джесси заплакала, она чувствовала, как по ее щекам потекли теплые слезы. И эти горячие слезы, подобно потоку силы, вливали в нее тепло, отвагу и надежду. Она соскользнула со скамьи на пол, к нему. Ее руки крепко обвили его шею, а рот прижался к его губам. Настоящая любовь никогда не умирает; она преодолевает все препятствия, она неразрушима; все остальное распадается: надежды, планы, мечты, иллюзии, амбиции и успехи, доброта, добрая воля и даже утешительное милосердие. И все же можно продолжать держаться потому, что выживает величайшая сила из всех. Так часто казалось, что она совсем износилась, стала хилой, потеряла форму, и тем не менее есть чудо из чудес: любовь выжила, смогла победить смерть, добиться вечного возрождения. — Да, Джон, — прошептала она ему на ухо. — Я поняла. Все хорошо. Я также люблю тебя больше, чем прежде. Ты можешь теперь ехать, ты можешь быть счастлив и не тревожиться за меня. Я быстро поправлюсь. Через два дня я буду в Сент-Луисе, затем поеду в Нью-Йорк и сяду на первое судно, отправляющееся в Калифорнию. Да, мой дорогой, я приеду в Сан-Франциско раньше тебя, буду ждать твоего приезда столь же нетерпеливо, как любая женщина ждет свою любовь. Еще час до рассвета. Ты сможешь добраться до лагеря вовремя, чтобы отдать команду выступить. До свидания, да хранит тебя Бог. Она стояла в дверях, наблюдая, как ее муж растворился в ночной темноте. Когда совсем заглох стук копыт, она вернулась в хижину и принялась укладывать свои мешки. С первыми лучами солнца она оседлала лошадь и направилась на Восток, навстречу восходящему солнцу, начав свое долгое путешествие в Сан-Франциско.
Книга четвертая ОСВЯЩЕНИЕ ДОМАШНЕГО ОЧАГА
_/1/_
В середине марта, когда Джесси и Лили вступили на палубу парохода «Панама», дул ледяной ветер, и деревянный настил пристани был скользким. Том Бентон вызвался сопроводить их до Нью-Йорка. Он принес в их каюту свежие книги, фрукты и цветы. Они не грустили при расставании, деловито устраивались в каюте, распаковывая чемоданы и стараясь придать ей домашний вид. Они перебрасывались быстрыми замечаниями о том, что скоро Калифорния станет штатом, о шансах Джона стать первым сенатором, о том, что там много золота и как скоро золотая лихорадка приведет к заселению территории. Но вот истекло время для отвлеченных разговоров, отец и дочь обнялись, прошептав слова прощания. Она стояла у поручней в то время, как прозвучала команда, зашумела лебедка, поднимавшая трап. Судно медленно отошло от пристани и двинулось в залив. Когда в темноте пристань исчезла, Джесси спустилась в каюту. Под потолком на крючке раскачивались две керосиновые лампы. Лили лежала на койке с открытыми глазами. — Ты еще не спишь, деточка? — спросила Джесси. — Нет, мама, мне страшно. Ляг со мной. — Лягу, дорогая, сейчас разденусь. Потребовалась всего минута, чтобы сбросить одежду и накинуть теплую фланелевую ночную рубашку. За двумя квадратными иллюминаторами бушевал шторм, но, невзирая на это, пароход шел вперед. Джесси легла на койку с Лили; они утешали друг друга в темноте беседой о приятной перспективе. Джесси старалась передать девочке собственное волнение и нетерпение доплыть быстрее до Калифорнии. Первые три дня стояла штормовая погода. На четвертый день рано утром Джесси оделась и вышла на палубу, судно приближалось к побережью Флориды, ярко светило солнце, а океан был гладок словно зеркало. Капитан парохода «Панама» Шенк заверил сенатора Бентона, что сделает все, чтобы его дочь чувствовала себя комфортно. Она села на палубе в плетеный шезлонг, подставив лицо солнцу, а Лили пошла посмотреть, как моряки красят оснастку парохода. Солнце успокаивало; успокаивали и тишина, голубое небо, чайки, прилетавшие с побережья Флориды и с Багамских островов. Днем, когда становилось жарко, она дремала, когда же при закате небо окрашивалось в цвет черешни и индиго, Джесси прогуливалась час по палубе, накапливая силы для трудных дней путешествия через Панаму. Джесси планировала обогнуть мыс Горн на пароходе «Фредония», отплывавшем в январе, но ее отец настоял, чтобы она подольше отдохнула перед путешествием. Он говорил, что Джон не сможет попасть в Калифорнию раньше марта и лучше, чтобы он приехал первым и подготовил им место. Кроме того, он советовал подождать несколько месяцев, учитывая, что правительство учреждает новую судоходную линию, и было бы лучше сесть на ее пароход. К началу 1848 года до Вашингтона дошли слухи, что в Калифорнии обнаружено золото, но поначалу на Востоке не поверили в них. В декабре 1848 года президенту Полку доставили чайник, наполненный золотыми самородками. Это первое конкретное свидетельство о наличии золота разожгло аппетиты жадных до наживы авантюристов, мечтавших побыстрее попасть в Калифорнию любыми путями. Большинство людей на Востоке не сочли чайник с самородками доказательством находки месторождений золота, но правительство все же воспользовалось фактом наличия золота на Западе в качестве дополнительного довода в пользу установления регулярного пароходного сообщения с Калифорнией. Пароход «Калифорния» был послан вокруг мыса Горн для регулярных рейсов вдоль западного побережья между Сан-Франциско и Панама-Сити. Пароход «Панама» отплыл из Нью-Йорка 13 марта 1849 года в Чагрес — порт на Атлантическом побережье Панамы. Джесси, Лили и другие пассажиры должны были пересечь перешеек по только что проложенной дороге и сесть на пароход «Калифорния», который прибудет из Сан-Франциско. По вечерам Джесси читала купленные ею в Вашингтоне книги по сельскому хозяйству, готовя себя к роли жены фермера. Она не думала, что Джон станет фермером, для этого у него не было ни опыта, ни способностей; однако важно было основать постоянную обитель в Калифорнии. Когда Элизабет Бентон узнала о планах дочери поставить бревенчатую хижину в горах Санта-Круз около Сан-Франциско, она взяла Джесси за руку и прошептала: — Помни, что ты была рождена на земле, которая никогда не покупалась и не продавалась, она была дарована отцу моего деда за военную службу. Не только твой дом, но и слуги, и капиталы должны наследоваться, Джесси. «Боги медленно освящают новый домашний очаг». Ты не такая сильная, чтобы вынести тяготы глуши вроде калифорнийской. Пусть Джон завершит экспедицию по прокладке железной дороги, вернется в Вашингтон и наладит свою жизнь в столице. Ты будешь здесь более счастлива. Восемь лет назад, во время поездки в Черри-Гроув, предупреждения матери казались семнадцатилетней Джесси не имеющими значения. Но Джесси стала иной, более мудрой, пережив многое из худшего, что предрекала мать. — Кто-то должен заложить первый камень домашнего очага, мама, — ответила она, — ибо в противном случае наследовать будет нечего. Джон в конечном счете найдет для себя более интересную область деятельности, чем сельское хозяйство, но первое, что следует сделать, — это заложить дом. Если ее мать права, говоря, что боги медленно освящают новый домашний очаг, тем больше причин поторопиться с его установлением. К концу двухнедельного плавания Джесси, впервые увидев пальмы и тропическую растительность Чагреса, огорчилась, узнав, что расстается с капитаном Шенком, который олицетворял для нее последнюю связь с домом. Она проснулась, когда было еще темно, оделась при свечах в подготовленное с вечера платье. Держа Лили за руку, она поднялась на палубу в то самое время, когда можно наблюдать стремительный восход тропического солнца, ощутить наступление дня в шуме прибоя на пляже Чагреса. Она впервые увидела тропики: на расстоянии они казались весьма приветливыми, с пальмовыми зарослями на песчаном побережье и густыми зелеными рощами вдоль реки. Капитан Шенк шагнул ей навстречу, и Джесси улыбнулась ему. — Итак, мой капитан, путешествие завершилось, — сказала она, — вы сделали его приятным для меня и моей дочурки. Капитан Шенк не ответил на ее улыбку. Он сказал встревоженно: — В таком случае позвольте мне оказать последнюю услугу сенатору Бентону и полковнику Фремонту. Не пытайтесь пересечь Панаму. В стране лихорадка Чагреса. Люди мрут в лодках и на пеших переходах. Еда прескверная, вода заражена. Этот путь не следовало бы открывать. Ощутив препятствие, отодвигавшее ее встречу с Джоном, она вдруг вспомнила сцену в индейской резервации Делавэра, когда была так близка к потере своей любви, своего мужа, всего того, что составляло смысл ее жизни. Отныне она дорожила всем этим вдвойне, оказавшись перед опасностью их потерять. Любая мысль, что ей не удастся присоединиться к мужу в Сан-Франциско, восстанавливала в ее памяти те полные отчаяния часы, которые она провела в хижине майора Каммингса. — Уверена, что выдержу переход, капитан, — убежденно ответила она. Судно качало на волнах, и ей не терпелось сойти на берег. Она вернулась в свою каюту за пальто и сумочкой. Дверь оставалась распахнутой, и она услышала тяжелую мужскую поступь. Незнакомый голос кричал: — Я не возьму на себя ответственность за переход какой-то изнеженной леди через Панаму! Ей не понравится, что индейцы ходят без одежды, с ней обязательно будут неприятности, она просто не выдержит! Ей не приходилось слышать термин «изнеженная леди» с момента окончания Академии мисс Инглиш. Поправив шляпку и решительным жестом пригладив длинную темную юбку, она перешагнула порог и столкнулась с незнакомцем. Мужчина посмотрел на ее худенькое лицо, хрупкую фигурку, горящие карие глаза и произнес, заикаясь: — Вы вовсе не изнеженная леди, а просто бедная худенькая женщина! Джесси отдала Лили моряку, который спустился с ней по веревочной лестнице и посадил на посыльное судно, стоявшее у борта парохода. Джесси сумела справиться с болтавшейся из стороны в сторону лестницей и втиснулась в лодку. Суденышко отплыло к берегу._/2/_
На берегу она чуть не задохнулась от запаха тухлой рыбы, чая и корицы. Но она чувствовала себя как дома в толпе людей, собравшихся на берегу и готовых начать переход через перешеек, ведь эта толпа напомнила ей первые дни Сент-Луиса: мягкая испанская речь перемежалась с французским жаргоном, диалектами индейцев и негров, бранью американцев и англичан, спешивших договориться о транспорте. Джесси подумала с улыбкой, что для путешествия по миру Сент-Луис был идеальной тренировочной площадкой. С группой достаточно благоразумных американцев, заранее условившихся о перевозке, Джесси, Лили и их багаж проплыли первые восемь миль по реке Чагрес в лодках с глубокой осадкой. Через два часа после прибытия парохода они уже были в пути. Берега реки были низкими и поросшими тропической растительностью. Из густой зелени торчали белые и алые цветы. К полудню лодка с барахлившим двигателем преодолела восемь миль и причалила к берегу. Там не было ни пищи, ни брезента, чтобы укрыться от палящего зноя, ни воды, которую можно было бы пить без опаски. Не было возможности даже помыться, хотя солнце болезненно иссушало кожу. Джесси и Лили высадились из лодки, и местный перевозчик объяснил им знаками, что они должны пересесть в узкий челнок, привязанный к толстым свисавшим сучьям. Челноками управляли обнаженные негры и индейцы. Джесси чувствовала, как Лили цепляется за ее руку. — Не бойся их, — успокоила она дочь, — они смеются и кричат, потому что взволнованы. По мелководью мы проедем всего три дня, а затем двинемся по суше. На лужайке появился мужчина в форме. Он подошел к Джесси и сказал: — Я капитан Такер. Я получил уведомление о вашем приезде. Моя компания подготовила лодку для вас и вашей дочери. Сожалею, что не смогу сопровождать вас. Вы единственная женщина на борту, но туземная команда надежна, они часто возят мою жену в штаб-квартиру компании. — Значит, нам не придется плыть в этих челноках? — спросила Джесси, почувствовав, как дрогнуло ее сердце при виде туземцев. Капитан Такер рассмеялся: — Не осуждаю вас, что вы пришли в ужас. Думаю, мы сможем обеспечить вам удобства. Компания содержит палаточные лагеря на определенных расстояниях по реке, и через посыльных я известил о вашем приезде. Садитесь в лодку, не теряйте времени, если хотите попасть в первый лагерь до сумерек. Джесси сердечно поблагодарила капитана. Под ритмичное пение негры с Ямайки отталкивались шестами, преодолевая сильное течение. Иногда лодка плыла посреди реки, где солнце словно огнем обжигало кожу, но чаще команда держалась ближе к берегу и медленно плыла под защитой свисавших к воде деревьев и вьющихся растений. Когда тропические заросли преграждали путь, Джесси и ее дочь выходили на берег, а лодочники прыгали в воду и прорубали проход длинными мачете. После этого они возвращались за Джесси и проталкивали или протягивали челнок через расчищенный участок, а их пение сливалось с криками тропических птиц. Первая высадка произошла, когда солнце было еще ярким. На небольшой лужайке стояла палатка компании с деревянным полом. Джесси удивлялась, почему они остановились так рано, но вскоре нашла ответ: ночь опустилась словно стремительно падающая звезда. Туземцы разожгли костер у входа в палатку для защиты от зверей и болезнетворной росы. Затем они принесли приготовленную ими пищу, но Джесси не притронулась к ней; она вместе с Лили съела печенье и яблоки, захваченные с парохода. После того как уснула девочка, Джесси легла на узкую железную койку, вслушиваясь в беспорядочный гул тропиков. Сон не шел, Джесси была настроена иронично: ее муж проложил и занес на карты больше троп через континент, чем любой другой из живущих американцев, а она лишена права проехать по одной из них и ввергнута в этот туземный кошмар. Она работала над тремя докладами мужа, наблюдала, как дополнялись и уточнялись карты Джона, проявляла интерес к каждой миле местности, ибо мечтала однажды проехать по этим дорогам. Она готовилась к этому несколько лет, ее не страшили трудности, поездки в крытом фургоне по равнинам, через заснеженные горные перевалы, встречи с враждебно настроенными индейцами, пересечение высохших пустынь — все эти образы и сопутствующие им тяготы были с детства частью ее мышления. Здесь же она оказалась в глубине страны и в гуще непредвиденных трудностей, к каким не была готова. На сей раз она совершала свое первое в жизни путешествие без мужа или друга по стране настолько фантастической, что даже испанские исследователи не смогли ее надлежащим образом описать. Это была земля, куда не ступала нога знакомого ей человека. Быть может, в тысячный раз она вспоминала Мэри Олгуд, сидевшую около своего выкрашенного в синий цвет делавэрского фургона, направлявшегося по Орегонской тропе. Если бы глаза Джона видели эту страну, его карандаш сделал бы ее зарисовку, тогда Джесси чувствовала бы себя как дома. На следующее утро они отплыли на заре, преодолевая бурное течение. Джесси рассказывала Лили истории, как первые люди, вторгшиеся в Перу, сплавляли именно по этой реке свою добычу к Атлантическому океану, а затем в Испанию. Берега реки были усеяны белыми и алыми цветами. Туземцы прыгали в воду, чтобы охладиться или найти пищу на берегу, а Джесси и Лили изнывали от зноя, голода, жажды и других жизненных потребностей. Ночи были сырыми от испарений. Стоны, возвещавшие о внезапной смерти в джунглях, придавали путешествию мрачную окраску. Джесси была благодарна за палатки с деревянными полами и за койки, без них, ей казалось, нельзя было бы продолжить поездку. Она сочувствовала лишениям мужа в походах, но теперь она поняла, что ее переживания были чисто умозрительными: ее муж страдал от холода, а она — от зноя, ему бывало трудно из-за нехватки растительности, на нее же давил избыток растительности. Но теперь, сама испытав дорожные муки, она представляла в полной мере страдания, переживавшиеся Джоном Фремонтом. На четвертый день утром они достигли Горгоны — небольшого поселения, где кончался их путь по реке и начинался переход через горы. Было только восемь часов утра, а солнце уже вызывало резь в глазах. У причала их ожидал алькад, пригласивший к себе на завтрак. Его дом стоял на сваях, кровлей служили пальмовые листья, а стены были плетеными. Едва успели они сесть за стол из раттана, как два боя внесли два больших блюда и сняли с них крышки. Джесси вскрикнула от ужаса: на большом блюде лежало нечто, напоминавшее ребенка. — Специально для почетных гостей, — сказал алькад, сверкнув глазами и потирая нетерпеливо руки. — Запеченная обезьяна и вареная игуана. Джесси казалось, что ее желудок медленно подступает к горлу. Бросив беглый взгляд на лицо Лили, она поняла, что ребенок не будет есть обезьяну. Но им нужно было восстановить свои силы для тяжелого трехдневного перехода через горы. Она вспомнила, как Джон предпочел голодные спазмы и слабость и отказался есть мясо любимой собаки экспедиции, которую пришлось зарезать. Она решила, что ее муж более привередлив, чем она. Дочери она прошептала: — Помнишь, что любил говорить Сэм Уэллер: «Пирог с телятиной хорош, если знаешь, что он сделан не из котят». Они обе съели немного обезьяньего мяса, но отведать игуану было уже выше их сил. После этого алькад отвел их на лужайку, откуда начиналась вьючная дорога на Панаму. Часть багажа Джесси взвалила на мула, а остальной багаж на вола, который должен был возглавить процессию. Джесси сказала главному вьючному: — Пожалуйста, посадите мою дочь на мула, который пойдет впереди меня, и проследите, чтобы такой порядок сохранялся. — Мул там и останется, — рассмеялся тот. — Иначе быть не может. Караван состоял из пятидесяти мулов, полудюжины волов, путешествующих вместе с погонщиками было тридцать человек. Туземный вожак издал резкий клич, повторенный другими погонщиками, и мулы тронулись с места. Тропа шла по горам, поднималась и вновь спускалась в долины на всем переходе в двадцать одну милю до Панама-Сити. Дорога для мулов была вырублена в склоне горы, и ее ширина редко превышала четыре фута, а под ней на глубине тысячи футов взору открывались джунгли. Вдоль тропы росли манговые деревья и ольха, а над ними возвышались пальмы. Несмотря на яркое тропическое солнце, под зеленым навесом было сумеречно. Джесси посматривала вверх, чтобы увидеть освещенные солнцем верхушки деревьев, но через несколько шагов вновь наступала зеленая темнота с неожиданным потоком дождя через густую листву. На тропе не было мостов, и мулы перепрыгивали узкие ручьи; некоторые путешественники при этом падали в воду. Она радовалась тому, что сама и Лили были опытными наездницами, и, наблюдая за гибкой фигуркой дочери, гордилась тем, как она выдерживает путешествие, перепады температуры, необычные сцены, долгие часы переходов, муки голода, зной и другие неудобства. Первую ночь они спали в палатке с деревянным полом, а на вторую им досталась лишь грязная индейская халупа. Джесси достала из своего багажа два одеяла, завернула Лили в одно, а сама завернулась в другое и заснула сном смертельно уставшего человека, забывшего о ящерицах, змеях и сотне насекомых, ползавших по ним ночью. Восход солнца был изумительным: с вершины горы она смотрела вниз на море цветов, а за ним под ее ногами простирался Тихий океан, увиденный ею таким, каким его увидел Бельбоа с этого самого пика. Она так хотела, чтобы Том Бентон был рядом с нею и также увидел Тихий океан. На шестой день за несколько часов до захода солнца они достигли Панама-Сити. Дорога вышла из гор на некотором расстоянии от окруженного стеной города. Когда она увидела крышу древнего собора и шпиль, инкрустированный перламутром, то подумала, что у нее началась малярия. Там, где обрывалась дорога, путешественников ожидали носильщики-индейцы. Один из них посадил к себе на спину Джесси, а другой — Лили, и они перенесли их по мелководью залива и по песчаному рифу к входу в Панама-Сити. Джесси шагала по старинной мостовой, прошла городские ворота, вступила в город, окруженный стеной, с его потрепанными погодой старыми домами. Широкие балконы выступали так далеко вперед, что почти соприкасались над узкими переулками. По улицам семенили ослики с грузом каких-то листьев и кувшинами с водой; смуглые индианки были поголовно в белых одеждах. Она ожидала увидеть сонливый маленький испанский городок с немногочисленным населением, не спеша бродящим по улицам, но обнаружила подлинный бедлам: в городе застряли американцы, несколько сот их расположились лагерем на склоне горы над городом, другие же толкались на улицах. Она остановилась на соборной площади, ожидая носильщиков-индейцев, которые несли ее багаж. Прежде чем заняться поиском гостиницы, она поинтересовалась у группы американцев, одежда которых была ей знакома по Сент-Луису: — Почему здесь так много мужчин? Тощий седой мужчина в кожаной куртке и в штанах из оленьей кожи вышел вперед и сказал: — Разве вы не слышали новость, мэм, пароход не плывет в Панаму. Пораженная, представив себе, что она и Лили могут надолго застрять в Панаме, она лишь раскрыла рот: — Пароход не придет? Но почему? Что вы имеете в виду? Молодой человек в черном деловом костюме, вовсе не уместном в тропиках, ответил: — Знаете ли вы, что случилось в Калифорнии, мэм? Экипажи всех пароходов сбежали на золотые прииски. Пароход «Калифорния» должен был прибыть месяц назад, но так и не появился. Она с тревогой всматривалась в лица, а потом спросила: — Сбежали со всех судов? Наступила тишина, мужчины смотрели друг на друга. Затем все сразу вдруг заговорили: — Да, мэм! Слухи оказались верными! Золота на миллионы долларов! В горах его гребут мешками! Богатеют за одну ночь! Мы гнием здесь, в Панама-Сити, а по всей Калифорнии — золотые россыпи на миллионы долларов, они ждут, чтобы ими занялись. Подтверждение наличия золота в Калифорнии почти ничего не значило для Джесси помимо опасения, что она с Лили застрянет в Панама-Сити. Она спросила седовласого мужчину, заговорившего первым, известно ли что-либо ему о гостиницах в Панаме. Он уверил ее, что они кишат паразитами, да притом нет свободных номеров. Наступала ночь, когда она заметила шедшую ей навстречу беловолосую испанку в черной мантилье в сопровождении нескольких местных боев. Она подошла к Джесси и сказала: — Я мадам Арс, кузина американского посланника из Новой Гренады генерала Геррана. Он написал мне о вашем приезде и сообщил, что провел в вашем доме в Вашингтоне много счастливых часов. Теперь моя очередь оказать гостеприимство. Будьте добры, пойдемте со мной, мадам Фремонт. Джесси последовала за мадам Арс через площадь к большому зданию с высокими потолками и окнами размером с целые ворота. Когда ее ввели в спальню, она увидела шезлонг, обтянутый синим камчатым полотном, два гамака и хрустальную люстру с восковыми свечами. Мадам Арс предоставила Джесси в качестве служанки мягко ступавшую и звонко смеявшуюся девушку по имени Канделария. Радость Джесси, что она нашла приют, была безмерно велика, и она прошептала Лили: — Теперь я понимаю, как чувствовал себя твой отец, когда нашел перевал через Сьерру. Дом мадам Арс был тропическим вариантом дома Тома Бентона над Миссисипи. Внутренний дворик был вымощен плитками красного цвета. Джесси вышла на широкую галерею, опоясывающую дом, откуда открывался вид на собор. Через некоторое время постучали в дверь, и Канделария спросила, не хочет ли Джесси выкупаться перед обедом. Джесси позвала Лили, и они отправились в баньку, схожую с душем отца на Си-стрит в Вашингтоне. На высоком карнизе стояли маленькие и большие сосуды с водой. Три усмехавшиеся девушки облили их сначала водой из маленьких кувшинов, а когда они привыкли к холодной воде, то последовала очередь больших. Летели дни, прошла неделя, две недели, три. Джесси проводила много часов с мадам Арс в тенистом садике, беседуя по-испански, что доставляло удовольствие им обеим, гуляла по укреплениям старого города при закате солнца и наблюдала за приливом, пенившимся на рифах. Вечерами Джесси бродила по соборной площади, разговаривала с мужчинами, с которыми познакомилась еще на пароходе, и с теми, с кем беседовала в первый час пребывания в Панаме. Они все более отчаивались с каждым днем. В городе провиант невозможно было купить, и застрявшие питались солониной, которую привезли с собой. Смерть от болезней была обычным явлением в лагерях, рассыпанных по склону горы. Прошел месяц, а пароход все еще не прибыл, и не было известно, придет ли он. Люди боялись, что умрут в Панаме, не имея возможности выбраться отсюда. О Джесси хорошо заботились, но она чувствовала себя неважно. От Джона, с тех пор как они расстались в индейской резервации Делавэра, не было вестей, хотя прошло уже пять месяцев. Если все хорошо, тогда ее муж и его группа должны быть уже в Сан-Франциско. Он ждет ее, всматриваясь в океан, не идет ли пароход. Он тревожится, не возникли ли у нее затруднения, не слишком ли она слаба и смогла ли выдержать тяготы Панамы, где сильные мужчины подхватывают болезни, за несколько часов уносящие в могилу. Джесси знала, как щемит сердце за любимых, она испытывала это на протяжении ряда лет и не хотела, чтобы ее муж пережил такую же медленную пытку. Однако ей ничего не оставалось, как сидеть и ждать, проявляя терпение._/3/_
Дождливый сезон обрушился подобно удару грома, залив улицы небольшого городка. Дом мадам Арс отсырел, полы, потолки стали влажными, сквозь стены проступала вода, а за пределами дома воздух был насыщен нездоровыми испарениями. Из-за простуды у Джесси начался мучительный кашель. Мадам Арс настаивала на том, чтобы она не вставала с постели, а Канделария поддерживала камин зажженным, тщетно пытаясь просушить стены. Джесси лежала в гамаке; в ее сновидениях перемежались гротескные сцены с вопящими обнаженными дикарями, приплясывающими вокруг нее, обзывающими ее избалованной леди; такие галлюцинации сменялись картинами покрытых снегом гор Сьерры, где замерзшие люди падали ниц в снежные заносы. Миновал еще месяц, и однажды ночью ее сновидения прервал гул пушки, подсказавший ей, что приплыл американский корабль. Она бросилась на балкон и увидела дикую сцену. В сиянии полной луны тропы, ведущие с холмов в город, заполнили поющие и кричащие американцы, плакавшие от радости. Индейцы также пробудились, и они пели и танцевали в знак сочувствия. На балконах домов виднелись фигуры в ночной одежде, наблюдавшие за происходящим. Прежде чем она успела вернуться в комнату, чтобы одеться и начать складывать вещи, раздался новый выстрел: второй американский корабль бросил якорь в гавани. Джесси поспешно одела Лили, затем оделась сама, вышла на балкон, чтобы посмотреть на корабли при свете наступающего дня. Она увидела мужчину в мундире моряка Соединенных Штатив, спешившего через площадь. Она бросилась вниз по лестнице во внутренний дворик, пробежала по красным плиткам и распахнула тяжелую дверь. С радостным криком Джесси схватила руку лейтенанта Фитцхью Биля — друга полковника Фремонта в Калифорнии; он сражался с ним бок о бок, выступал в его защиту в военно-полевом суде и посещал их в доме Бентона в Вашингтоне. — Ох, миссис Фремонт! — воскликнул он. — Я догадывался, что вы застряли здесь, дожидаясь парохода «Калифорния». Я только что добрался до этого парохода с депешами военно-морского флота и образцами золотого песка. — У вас нет новостей от полковника Фремонта? — Нет. Она провела его в садик, затем рассказала о своей поездке, в то время как он осторожно пил горячий напиток. У голубоглазого блондина примерно тридцати лет было длинное, как говорят англичане, лошадиное лицо. Ему нравилось преодолевать опасности, быть в движении и наслаждаться постоянно меняющейся панорамой. Убежденный холостяк, он вышел в море, когда ему было двенадцать лет. Близкие друзья называли его «Билем с твердой рукой и блуждающими ножками». Джесси видела, что он чувствует себя не в своей тарелке и должен ей сказать что-то. Он попросил разрешения закурить сигару, уставился на горевшую спичку, прежде чем начал говорить: — Я должен поспешить в Чагрес и передать мои документы на ближайшее судно, отплывающее в Нью-Йорк. Мне предоставлены все возможности пересечь Панаму без помех и как можно быстрее. Миссис Фремонт, вы выглядите больной, я не думаю, что вам следует подвергать себя новым испытаниям. Я призываю вас вернуться в Чагрес со мной. Там будет скорый пароход в Нью-Йорк, и я договорюсь, чтобы о вас позаботились. Ее мысли путались, и она спросила: — Почему я должна возвращаться в Нью-Йорк, когда есть судно, которое может доставить меня в Сан-Франциско? — Миссис Фремонт, Сан-Франциско охвачен безумием. Первые поселенцы бросились искать золотые прииски. Новые обезумели из-за желания вырваться из города и найти свои золотые миллионы. Гостиницы грязные, холодные, переполненные. Невозможно получить помощь от кого-либо, кроме индейцев и китайцев. Любой вам скажет, что одна минута его работы стоит пятьдесят долларов. Сан-Франциско — это не город, даже не деревня, это поселок бредовых маньяков, ютящихся в лачугах и наспех сколоченных бараках и ожидающих момента, когда они смогут сбежать на золотые прииски. Там нет воды, нет пищи, нет медицинского оборудования. Улицы непроходимы из-за потоков грязи. Я сам видел, как люди пытались вымостить их кипами хлопка и мешками с мукой. Нет строительного леса, кирпича, тесаного камня, из которого вы с полковником могли бы построить дом. Трущобы заражены малярией и холерой, и смертность ужасная. Миссис Фремонт, я прошу вас не рисковать, оставаясь одной в безумном поселке, там всего горстка белых женщин. Наблюдая, как молодой лейтенант попыхивает сигарой, Джесси почувствовала, что ее сердце сжимает знакомый парализующий страх. — Пожалуйста, расскажите мне, лейтенант Биль, все новости, — попросила она. — Вы сказали, что не получали известий от полковника Фремонта. Лейтенант вынул сигару изо рта: — Да, так, я не получал сведений от него. Но я слышал о нем. Были осложнения, миссис Фремонт. Экспедиция вашего мужа не перешла Скалистые горы. Торговцы мехами и индейцы предупреждали не предпринимать такой попытки, говорили ему, что снег и холод никогда не были столь сильными, что невозможно пересечь Скалистые горы там, где он хотел. Но полковник Фремонт настаивал. Он утверждал, что на тридцать восьмой параллели должен быть перевал… и он вошел в наиболее непроходимую часть Скалистых гор во время самой суровой зимы, какую помнят жители этих мест. С похолодевшей душой, словно она сама оказалась в студеных Скалистых горах, Джесси спросила: — Мой муж, уцелел он? После едва заметной паузы лейтенант Биль ответил: — Мы не знаем. Полковник нанял проводника Билла Уильямса. Тот хотел пройти южным путем, но ваш муж счел, что это подмена цели экспедиции, что он обязан найти центральный перевал для железной дороги. Полковник и Уильямс поссорились, они не нашли перевала. Они все больше углублялись в снежные завалы до тех пор, пока уже нельзя было двигаться дальше. Потом они повернули назад… потеряли мулов и свои запасы… Люди начали умирать… — Но мой муж? Что стало с полковником Фремонтом? Опустив очи долу, лейтенант Биль повторил: — Мы не знаем, миссис Джесси. — Какая-то часть группы выбралась. Иначе бы мы ничего не знали. — Полковник послал в Нью-Мексико за помощью группу, в которую вошли Уильямс, Брэкенридж, Кинг и Крейцфелд. Кинг умер от голода, но Уильямс, Брэкенридж и Крейцфелд достигли цели. От них мы узнали о беде, случившейся с экспедицией. Теребя свой кружевной носовой платок напряженными пальцами, Джесси воскликнула: — Если эта группа пробилась, то тогда можно было послать провиант! Остальные люди должны были уцелеть? Лейтенант Биль слегка покачал головой: — Тройка, добравшаяся до поселка, еле стояла на ногах. Они были не в силах доставить обратно помощь, а в поселении не было никого, кто мог бы пойти в горы. Посыльный отправился в Таос к Киту Карсону, но тому нужно было время, чтобы организовать помощь и доставить ее в Скалистые горы. Оставшаяся часть экспедиции могла рассчитывать лишь на собственные ресурсы. — И после этого не было известий о полковнике Фремонте? — Никаких. — Он был жив, когда группу Уильямса послали за помощью? — Группу послал полковник. — В каком состоянии он был тогда? — У него была обморожена нога. — Не приходили ли известия от оставшихся в горах? — Нет. Уильямс говорит, что они могли продержаться лишь несколько дней… Джесси взволнованно ходила по дворику. — Мой муж не мог погибнуть в снегу! Он преодолевал большие трудности, когда переходил Сьерру в 1844 году. Если Уильямс смог выбраться с группой, посланной за помощью, то и полковник Фремонт мог вывести остальную часть экспедиции. Ни снег, ни горы не в состоянии сломить его. Нет в мире человека, более приспособленного к выживанию… Лейтенант Биль обнял ее за талию. — С экспедицией покончено, мисс Джесси, оборудование брошено, никто не преодолел горы и не прошел в Калифорнию. Выжившие вернулись на Восток, в Сент-Луис. Если полковник Фремонт выбрался из Скалистых гор, то теперь он должен быть в Сент-Луисе. Я условился обо всем с целью отвезти вас обратно через Панаму. В Чагресе стоит сухогруз, он не отправится, пока мы не прибудем туда. Мисс Джесси, я хочу, чтобы вы упаковали ваши вещи и вернулись со мной. Я посажу вас на судно, отплывающее в Нью-Йорк. Побледнев и кашляя, она твердо смотрела на лейтенанта Биля. — Вы думаете, что мой муж умер? Лейтенант не отвечал. — Нет, не бойтесь за меня. Я уже переживала такое ранее. Скажите мне, есть ли, по вашему мнению, шанс, что мой муж жив? В то время как у лейтенанта Биля не хватило духа для ответа, она сказала: — Ладно, вы полагаете, что он погиб. Лейтенант взял ее за руку: — Пожалуйста, приготовьтесь поехать со мной в Чагрес. Вы окажетесь в Нью-Йорке примерно в то же время, что ваш муж в Сент-Луисе. Через несколько недель вы встретитесь. Хотя лейтенант утверждал, что ей следует вернуться, поскольку ее муж возвращается на Восток, она понимала, что его действительным мотивом было желание предотвратить ее отъезд в Сан-Франциско, где она хотела встретить мужчину, погребенного в ледниках Скалистых гор. — Благодарю вас за вашу доброту, лейтенант. Я понимаю, как близко к сердцу вы приняли мои интересы. Но вы ошибаетесь. Сейчас полковник Фремонт должен быть уже в Сан-Франциско. Он ждет, а я обещала, что встречу его там. Он поклонился, сказав: — Пожалуйста, обдумайте то, что я сказал, мисс Джесси. После того как он ушел, она села в кресло-качалку. Итак, четвертая экспедиция закончилась провалом! Сама она не так уж печалилась по поводу неудачи: люди столкнулись с непреодолимым препятствием, вот и все. Они сделали все, что могли, но этого оказалось недостаточно, чтобы преодолеть непроходимые Скалистые горы. Но как это воспримет Джон: как потерю денег, вложенных его сторонниками в Сент-Луисе, как потерю возможности восстановить свою славу исследователя и следопыта? Не воспримет ли он это как свою личную слабость, свой личный провал, не будет ли считать себя ущемленным? Не станет ли он бояться критики и обвинений за гибель людей под его руководством? Не помешает ли это ему взяться за новое дело? К тому же перед ее глазами маячил призрак гибели мужа. Она могла верить ему не больше, чем в прошлый раз, но ее пугала возможность того, что Джон мог быть серьезно ранен. Билл Уильямс сообщил, что у него сильно обморожена нога. Мулы либо замерзли, либо забиты на мясо. Он мог спуститься со Скалистых гор только пешком, ведь члены его группы слишком ослабели, чтобы нести его. И что, если он не мог ступать на обмороженную ногу? Он не сильнее природы, и переход им Сьерры еще не означает, что он бессмертен. Она не допускала и мысли, что ее любимый погиб, но, возможно, у него не было средств пробиться в Калифорнию. Он возвратился в Сент-Луис или Вашингтон, чтобы восстановить свое здоровье. Какой же смысл ей ехать в Сан-Франциско, в эту грязную дыру, охваченную истерией золотой лихорадки, где у нее нет ни друзей, ни родственников, где она будет одна с дочерью, не имея места, куда пойти, ни работы, ни мужа, который встретил бы ее? Джесси так соскучилась по дому, что по ее щекам непроизвольно потекли слезы. Не будут ли ее порицать, если она позволит убедить себя, что нет смысла ехать в Сан-Франциско? Верно, она обещала встретить там мужа, но если он не в состоянии добраться до Сан-Франциско, если он сейчас на пути в Сент-Луис, какой смысл ей ехать туда? Зачем рваться в такое трудное путешествие? У них нет никакой возможности связаться друг с другом, сообщить, следует ли ей вновь отправиться в Панаму, либо Джон приедет к ней летом по суше. В лучшем случае ее ждут сумятица, душевные страдания и новые месяцы разлуки. Джесси поднялась с кресла и вышла на балкон. На свежем воздухе она почувствовала себя бодрее. Соборная площадь опустела, и, глядя на шпиль собора, блиставшего восточной роскошью, она чувствовала себя отчаянно одинокой, ей так захотелось, чтобы ее обняли руки мужа, и она знала, что не может вернуться в Нью-Йорк. Ведь она не сказала: «Я встречу тебя в Сан-Франциско, если позволят обстоятельства», или «При условии, что буду уверена в твоем пребывании там, чтобы встретить меня», или «Если доберусь туда». Она обещала безусловно, а обещания должны выполняться, какими бы они ни были — трудными или легкими. Если она выполнит это обещание при таких почти невероятных обстоятельствах, тогда не только Джон будет знать, что она всегда выполняет обещания, но и она сама будет знать, что умеет их сдержать._/4/_
Джесси закончила укладывать вещи. Мадам Арс пришла в ее спальню, довольная тем, что наконец-то Джесси приедет в собственную страну и окажется среди своих людей. Джесси обняла пожилую женщину и нежно прошептала: — Если бы не вы, я скончалась бы здесь. Чем могу я отплатить за вашу доброту? Мадам Арс ответила с улыбкой: — В испанском языкенет слова «отплатить». Они все еще бормотали любезные слова друг другу, когда с улицы послышался шум. Из Чагреса прибыла новая группа американцев. С этой группой был доставлен тщательно охранявшийся почтовый мешок Соединенных Штатов, предназначенный для Сан-Франциско. Часть почты, несомненно, адресовалась американцам, застрявшим в Панама-Сити на несколько месяцев. Отвечавший за доставку почты передал мешок американскому представителю в Панама-Сити — американскому консулу, который был обязан отправить почтовый мешок с первым судном в Сан-Франциско. Когда американцы узнали, что прибыла почта, они ворвались в консульство, требуя, чтобы консул открыл мешок. Джесси бросилась через двор и присоединилась к возбужденной группе перед зданием консульства. Консул твердил: — Я не хочу нарушать правила. Мешок запечатан. Его нельзя открывать до прибытия в Сан-Франциско. Разве вы не видите пометку: «Место назначения — Сан-Франциско»? Я не уполномочен… Американцы не намеревались ждать несколько недель писем от своих родных, пока запечатанный мешок будет плыть вместе с ними до Сан-Франциско. — Мы возьмем на себя ответственность! — кричали они. — Мы подпишем петицию! Каждый из нас распишется за письма! Если Джон спустился с гор живым, то в этом мешке будет письмо от него. Джесси была уверена, что в мешке есть такое письмо, и она была полна решимости получить его. Она протиснулась через толпу. Мужчины кричали: — Вот миссис Фремонт! Она хочет получить сообщения от полковника. Вскройте этот окаянный мешок и дайте нам нашу почту! Консул посмотрел в последний раз на лица мужчин, затем взглянул в глаза Джесси и быстро проговорил: — Хорошо, но я не возьму на себя ответственность. Я не вскрою мешок. Выбирайте комитет, и пусть комитет возьмет ответственность на себя. Мешок был вскрыт до того, как консул сказал последнее слово. Кто-то крикнул: «Вам, миссис Фремонт!» Сквозь слезы Джесси увидела адресованный ей толстый конверт из Таоса, надписанный рукой ее мужа, и другой — от отца из Вашингтона. Она спотыкаясь пробежала площадь, вбежала наверх, вскрыла конверт Джона и прочитала:«Таос, Нью-Мехико 27 января, 1849 год Моя дорогая женушка! Пишу тебе из дома нашего доброго друга Кита Карсона. Сегодня утром мне принесли чашку шоколада прямо в кровать. Смакуя эту роскошь, я наслаждался, представляя себе твою благодарность за заботу Кита обо мне. Если бы ты увидела, как он старается ублажить меня…»Дальше она не могла читать: слезы падали на знакомое и такое дорогое чистописание. Он в безопасности! Он не погиб в снегах! Если бы она поддалась собственной слабости, уступила настояниям лейтенанта Биля, то разминулась бы с этим почтовым мешком по пути в Горгону и не знала бы до Нью-Йорка, жив ли муж. Джесси вытянулась на шезлонге, спрятав лицо в его чехол; она не могла ни думать, ни читать, чувствуя лишь всепоглощающее облегчение: он в безопасности. Спустя некоторое время она вновь взялась за письмо. К нему были приложены десять листов рукописи. Джон составил ее в виде дневника, явно желая, чтобы его записи явились для нее докладом о болезненных и трагических событиях четвертой экспедиции. Кровь отливала от лица Джесси по мере чтения: одиннадцать человек из тридцати трех погибли, умерли от стужи и голода или умопомешательства в походе. Те же, кому удалось спастись, превратились в бледные тени, а половина лишилась рассудка от мук и страданий. Каждый в группе осуждал, критиковал и возненавидел других. Джон осуждал Уильямса за трагедию, Уильямс осуждал Джона за вмешательство, за выбор непроходимой дороги. Джона осуждали за то, что он приказал спасать багаж, вместо того чтобы спасаться самим, а это привело к потере, возможно, девяти жизней. Уильямса, вышедшего с группой за помощью, обвиняли в каннибализме. Уильямс и его спутники осуждались за то, что, выйдя из гор, не вернулись назад, чтобы спасти оставшихся. Джон спасся благодаря тому, что встретил сына индейского вождя, с которым подружился за год до этого. Он добрался до дома Кита Карсона, еле волоча обмороженную ногу, страшный, как огородное пугало, больной телом и с отчаянием в душе. И все же, несмотря на эти бедствия, он заканчивал письмо на радостной ноте, утверждая, что экспедиция была удачной: он многое узнал о горном районе, был убежден, что рядом может быть найден перевал для железной дороги и когда-нибудь при более благоприятных условиях он найдет его.
«Когда я думаю о тебе, тепло согревает мое сердце, омоложает его как хорошее лекарство, и я забываю о боли и уповаю на будущее. Мы, дорогая женушка, еще насладимся вместе покоем и счастьем, а они для меня теперь почти равнозначны. Я частенько рисую себе приятные картинки счастливого дома, который у нас будет, и особенно часто и с огромным удовольствием я вижу нашу библиотеку, с ярким огнем в камине в дождливый бурный день, при светлой погоде — большие окна, выходящие на море. Все это врезалось в мое сознание».Она была права, восторженно подумала Джесси. Она осталась верна своему обещанию, и они встретятся в Сан-Франциско! Но когда? Он написал письмо, находясь в постели, не способный двигаться. В Калифорнию невозможно попасть иначе как пешком или верхом на лошади, а он не может предпринять опасное путешествие нездоровым. Сколько времени потребуется для поправки? Вероятно, месяцы. Возможно, он никогда не поправится! Она знала мужчин пограничных районов, обмороженные ноги которых пришлось ампутировать. Если нога Джона не поправится, ему потребуется медицинская помощь. Если ее невозможно обеспечить в Таосе, Кит Карсон должен будет отвезти его в госпиталь в Сент-Луисе. Да, она встретит мужа в Сан-Франциско, но когда? Джесси вскрыла конверт от отца. Он писал о плохих известиях относительно экспедиции и приложил свою статью, написанную для восточных штатов. Он сообщил ей о болезни ее мужа, находящегося в Таосе, описал состояние его ноги. Он был полностью уверен, что Джон не сможет сделать переход в Калифорнию, не поставив под угрозу свою жизнь. Отец писал дочери, что посылает депеши в Таос, требуя, чтобы Джон вернулся в Сент-Луис так быстро, как позволит его здоровье, и что он с такой же настойчивостью требует, чтобы его дочь вернулась в Нью-Йорк, оттуда она сможет выехать в Сент-Луис для встречи с мужем. Джесси отложила в сторону письмо и уставилась в высокий потолок спальни мадам Арс. Да, ее отец требовал, чтобы Джон вернулся в Сент-Луис, как лейтенант Биль советовал ей возвратиться в Нью-Йорк. Какой бы надломленной она ни была, она отказалась повернуть назад. Как бы ни был болен Джон, он не отступит назад. Матрос с парохода «Панама» постучал в дверь мадам Арс и сообщил ей, что капитан приглашает миссис Фремонт с дочерью подняться на борт. Два парня-индейца подтащили к берегу ее багаж. На небольшой лодке их подвезли к борту судна, а затем подняли лебедкой на палубу в неком подобии деревянного корыта. Ее приветствовал капитан Шенк. После высадки Джесси в Чагресе «Панама» вернулась в Нью-Йорк, а теперь совершила плавание вокруг мыса Горн с пассажирами, направлявшимися в Калифорнию. Глядя на сотни американцев, сгрудившихся на каждом свободном клочке, Джесси спросила: — Где мы все устроимся? — Не знаю, мадам Фремонт, — ответил с застенчивой улыбкой капитан. — Но мы не осмеливаемся отказать кому-либо, пока остается место хотя бы стоять. Через несколько часов «Панама» и «Калифорния» отчалили в Сан-Франциско. Судно Джесси, каюты которого были рассчитаны на восемь — десять пассажиров, взяло на борт четыреста человек. Свободных кают не было, но капитан Шенк поставил под балкой, поддерживавшей мачту, две железные койки и прикрыл пространство большим американским флагом. Все были так рады отплытию в Сан-Франциско, что никто не жаловался, на палубе импровизировались театральные постановки, Джесси и пассажиры обменивались имевшимися у них книгами, читая вслух под ясным солнцем мексиканского побережья. Джесси была рада встрече с несколькими компанейскими американками; заводилой среди них была миссис Матильда Грей, моложавая, но в душе покровительственная, плывшая в Сан-Франциско к мужу, а также миссис Уильям Гвин, одна из наиболее известных в Луизиане своим гостеприимством. Ее муж Уильям Мак Гвин обладал могучей, как у льва, головой, венчающей прекрасную высокую фигуру, у него был голос профессионального оратора и облик политика. Отец Гвина сражался бок о бок с Томом Бентоном в войне 1812 года, и с тех пор семьи дружили. В беседах с Джесси Гвин был предельно откровенным. У него был большой политический опыт благодаря тому, что он представлял Миссисипи в конгрессе. — Я оставил самую выгодную политическую работу в Соединенных Штатах, чтобы переехать в Калифорнию, — сказал он. — Через год я вернусь в Вашингтон как первый сенатор нового штата. Джесси была озадачена, словно кто-то прочитал ее мысли вслух на публичном собрании. — Вы вроде бы уверены в этом, мистер Гвин. — Я не единственный, — прогудел Гвин. — Перед отъездом из Вашингтона я сказал Стефану Дугласу, что в это примерно время в следующем году я попрошу его представить мои верительные грамоты сенату. Дуглас воскликнул: «Да благословит вас Господь, верю, что вы представите!». Про себя Джесси подумала: «Могу поверить в это, но от штата выбирают лишь двух сенаторов. А сколько мужчин направляются в Калифорнию с такими же амбициями!» Когда судно прибыло в Сан-Диего, она отдала Лили на попечение миссис Грей, а сама закрылась в каюте другой женщины, боясь известий, какие могут поступить, и не желая, чтобы видели ее реакцию. Сквозь шум и крики пассажиров, сходивших на берег в Сан-Диего, она услышала, что кто-то бежит, а затем раздался стук в дверь каюты, и мужской голос выкрикнул: — Миссис Фремонт, полковник здоров, он едет в Сан-Франциско встретить вас! Он не потерял ногу, всего лишь обморозил. Джесси отперла каюту и распахнула дверь. — Вы уверены? — спросила она. — Да, мэм! Он был здесь несколько дней назад. Последние два дня пребывания в море пролетели быстро в ожидании встречи с мужем. Утром 4 июня «Панама» повернула на восток, к берегу. Когда судно миновало пролив Золотые Ворота и вошло в залив с его песчаными пляжами с южной стороны и скалистыми выступами и островами с северной, Джесси показалось, что эта изогнутая береговая линия Калифорнии вовсе не залив, а скорее канал, ведущий в плодоносящую матку залива, в которую вливается семя людей, машин, инструментов и идей для рождения новой цивилизации. В заливе стояло на якоре множество судов, их деревянные мачты создавали впечатление зимнего, лишенного листвы сада, на некоторых судах не было видно людей. Джесси разглядела небольшую площадь, над которой развевался флаг Калифорнийской республики, а вокруг площади — несколько деревянных строений. Вплотную к площади на склоне холмов были рассыпаны некрашеные хижины, халупы и палатки рудокопов. «Панама» отметила свое прибытие в залив Сан-Франциско залпом. Опустился тяжелый якорь, и Джесси увидела, что к судну направилось несколько весельных лодок, чтобы забрать пассажиров. Вновь она и Лили спустились по веревочной лестнице и в лодке приплыли к берегу. Поскольку причала для лодок не было, моряки перенесли их на руках по мелководью. На берегу сгрудились сотни людей, приветствуя вновь прибывших. Из-за холодного воздуха и тумана у Джесси снова начался кашель. Она была рада тому, что путешествие завершилось, ей нужен был уютный собственный дом, покровительство мужа, чтобы восстановить силы после трудных месяцев. Но, неуверенно постояв у линии прилива, а затем пройдя между рядами бородатых мужчин в красных рубахах, она так и не увидела Джона. У нее опять сжалось сердце. Он не приехал в Сан-Франциско. Она вновь одинока. Возможно, он вообще не добрался до Калифорнии и сообщения в Сан-Диего были вызваны желанием доброхотов подбодрить ее. Джесси стояла, держа за руку Лили, у площади Портсмут, когда к ней подошла миссис Грей. — Не волнуйтесь, дорогая, — сказала она, — полковник задержался на день или два. Вот мой муж. Гарри, поздоровайся с миссис Фремонт. Позвольте пригласить вас в Паркер-хауз. Благодарная за внимание, Джесси в сопровождении мистера и миссис Грей прошла в комнату для гостей Паркер-хауз, где был растоплен камин. Вместе с четой Грей Лили пошла на прогулку и осмотрела небольшую деревушку рудокопов. Тем временем Джесси хорошо поспала, но уже в сумерках ее разбудил гул мужских голосов. Выглянув в окно, она увидела, что рядом игорный дом «Эльдорадо» и там возникла ссора. Джесси опять легла в постель, но через несколько минут к ней зашла с Лили миссис Грей, принеся на подносе еду. Джесси лежала в постели пять дней. Кашель, начавшийся в Панаме, усилился. Из разговоров, подслушанных у окна, и информации, полученной от немногих посетителей, она узнала, что Сан-Франциско почти опустел: его жители, потратив имевшиеся у них средства, приобрели провиант и орудия рудокопов и отправились на золотые прииски. Нормальная жизнь замерла, если не считать ограниченной торговли и игорных домов, где проводили ночь, чтобы не мерзнуть на улицах. Общества как такового практически не было. Джесси думала, какое наслаждение получил бы ее отец от такой дикости, и стыдилась, что она не во всем дочь своего отца. Она опять похудела, припухлость под губой все время пульсировала. Несколько человек в городе, знавших полковника Фремонта из Вашингтона и слышавших о его экспедициях, приносили ей продукты и дрова для камина. Они уверяли, что ее муж появится с минуты на минуту, но дни шли, и она понимала, что, хотя переход от Сан-Диего верхом долог и труден в плохую погоду, у Джона было вполне достаточно времени добраться до Сан-Франциско. Шли затяжные проливные дожди, превратившие площадь Портсмут в болото. Ночи были промозглыми, дувший с залива ветер проникал через щели стен и оконных рам наспех построенного здания. Сырые дрова чадили, дым ел глаза, Джесси и Лили прижимались друг к другу, взаимно согреваясь, и говорили утешительные слова. Эта холодная, пустая комната стала ее первым домом и первым домашним очагом в Калифорнии. Джесси задавалась вопросом: неужели бабушка Бентон с ее детьми жила в таких же условиях, приехав в Теннесси, вынесла такие же страдания, какие сейчас гложут ее, Джесси, сердце? Если бы она могла спать на твердой земле ранчо Санта-Круз, где ее собственная земля, даже простой костер показался бы настоящим домашним очагом в сравнении с этим чадящим камином, отравляющим легкие, пусть даже обогревающим тело. На десятый день в сумерках, когда она сидела перед огнем, обхватив похудевшими руками колени, она услышала голоса мужчин за окном. Кто-то крикнул: — Ваша жена дома, полковник! Джесси поднялась с кресла, чтобы открыть дверь. Но, прежде чем она успела сделать это, дверь распахнулась, и Джон схватил ее, сильно прижав к себе. Ни у одного из них не нашлось слов. Он провел ее к шезлонгу, подбросил дров в камин, а затем сел на полу у ее ног, держа ее руки в своих и глядя с обожанием на ее лицо. — Ты болела, ты еще больна, дорогая. — Нет… Открылась дверь, и вошла Лили. Джон обнял дочь, а потом посадил ее к себе на колени. Лили вполне серьезно сказала: — Ты не приехал. Мама почти умерла. Леди, которая живет внизу, говорит, что мама умрет. Он поднялся на ноги около Джесси, обнял ее за талию и смотрел ей прямо в лицо. Его глаза были темными, в них был упрек самому себе. Она погладила его длинные поседевшие волосы, а затем прикоснулась своей щекой к его щеке: — В своей невинности Лили частично права. Быть в разлуке с тобой подобно смерти. Лишь с тобой я живу по-настоящему и чувствую себя хорошо.
_/5/_
На следующий день утром Джесси пристроила зеркальце к спинке стула и села перед ним, расчесывая волосы и массируя лицо впервые за несколько прошедших месяцев. Джон принес ей завтрак — горячий кофе и хлеб, а сам отправился в контору американского консула, чтобы получить купчую на ранчо в Санта-Круз, которую должен был оставить консул Ларкин из Монтерея. Через несколько часов Джесси услышала его шаги в прихожей. Ее ухо уловило: что-то случилось, его поступь выдавала, что у него какие-то неприятности. В последний момент она успела прикрепить небольшой бант с лентой на свою прическу и посмотреть в зеркало. Джесси постаралась улыбнуться: — Джон, в чем дело? Он минуту молчал, потом сказал: — Ларкин не купил ранчо. Она ждала, что он продолжит, когда же он замолчал, она спросила: — Не купил?.. Но в его распоряжении был целый год. — Он купил, — простонал Джон, — но не прекрасное ранчо с красивыми виноградниками и садами, о чем я его просил. Он использовал наши три тысячи долларов и купил дикий участок где-то в горах под названием Марипоза. Джон достал из внутреннего кармана пиджака официально выглядевший документ и с раздражением бросил его на кровать. — Марипоза, — повторил он, — в нескольких милях отсюда, в сотне миль от океана или от ближайшего поселка, высоко в горах, не поддающийся обработке, захваченный индейцами, так что мы не сможем развернуть там ранчо по откорму скота… Джесси взяла документ с кровати, расправила его и бросила на текст взгляд, не вникнув в него. — Но что это означает? — спросила она. — Ты не просил Ларкина купить Марипозу. Ты просил его купить ранчо Санта-Круз. Может быть, он перепутал твой заказ? — Нет, нет! Когда я вручал ему три тысячи долларов, я дал письменные указания. Он посетил вместе со мной участок. Ошибки никак не могло быть. Джон вскочил со стула и стал ходить по маленькой комнате. — Я найму лошадь и съезжу в Монтерей. — Ранчо Санта-Круз все еще доступно? — спросила Джесси. — Его никто не купил? Джон опустил глаза: — Наш консул думает, что землю уже продали. Он слышал… Джесси, до меня дошло! Должно быть, Ларкин купил эту землю для себя! — Но если это так, Джон, мы можем предъявить ему иск — это же обман. — Но каким образом? Это не Соединенные Штаты. Это республика Калифорния. Здесь нет судов, нет законов, судей, полиции. Тут действует право границы. Каждый действует на свой страх и риск… Она спросила проницательно: — А кто был хозяином Марипозы? Не владел ли ею Ларкин или же купил ее у кого-то? Джон взял из ее рук купчую, посмотрел на документ и ответил: — Согласно бумаге, Ларкин купил Марипозу у бывшего губернатора Калифорнии Альворадо, который получил эту землю в дар от Испании. Это огромный участок, с горами и долинами, холодный зимой, там никто не может жить. Какая польза от участка земли, если он никому не нужен? Джесси прикоснулась своей рукой к его плечу: — Мне не хотелось бы опять оставаться одной, но ты несомненно должен увидеться с Ларкиным. Мы должны получить либо нашу землю, либо наши три тысячи долларов! Они всегда намеревались сделать так, чтобы Джон сыграл свою роль в превращении Калифорнии в штат. Но как он мог добиться этого, если вдруг они оказались без недвижимой собственности, если у него нет средств к существованию и поста, способного быть опорой? Она не хотела, чтобы он был известен в качестве бывшего исследователя, это было бы вдвойне неуместным после провала четвертой экспедиции. Чтобы обладать полновесной ролью в образовании штата, быть выбранным в сенаторы, Джон должен быть важным лицом в Калифорнии, формирующейся в штат. Но чем ему следует заняться? Ведь именно сейчас проходят выборы в Конституционное собрание. Уильям Гвин сделал заявку уже в тот момент, когда сошел на берег. Джону надо действовать быстро, если он хочет, чтобы его послали делегатом в Монтерей. Джесси проснулась ночью от звона у окон гостиницы и увидела небо, объятое пламенем. Полыхал склад, где находились ее чемоданы и тяжелые ящики. Склад горел всю ночь, и всю ночь Джесси сидела у окна и наблюдала за тем, как превращалось в пепел ее последнее имущество: одежда, постельное белье, одеяла, книги, домашнее серебро, украшения, красивые и знакомые вещи, привезенные ею для дома в Калифорнии. Поначалу они потеряли ранчо Санта-Круз, а теперь от всего ее имущества остались небольшие чемоданы в номере гостиницы. К счастью, у нее сохранилась шкатулка с деньгами: золотые монеты были последней связующей нитью с семьей, последней опорой. Когда и они исчезнут, Джесси и Джон станут подлинными переселенцами, начинающими с нуля, как все вокруг. Через пять дней вернулся Джон и рассказал ей о своей беседе с Ларкиным. — Что-то странное во всей этой сделке, — сказал он озадаченно. — Томас Ларкин всегда был честным, прямолинейным купцом-янки, которому можно было доверять. Теперь же он отвечал уклончиво… — Но он признал, что взял три тысячи долларов, что ты поручал ему купить ранчо Санта-Круз? — Да, все это он признал, но привел сотню странных доводов в оправдание содеянного: дескать, до него дошли сведения, будто земля Санта-Круз плохая; он не знал, что я хочу стать фермером; у него появился шанс купить Марипозу у Альворадо; он подумал, что я предпочту жить в горах, поскольку люблю их; он полагал, что я скорее всего займусь разведением скота; он считал, что имеет право на собственное мнение относительно моих интересов. — Сколько он заплатил за Марипозу? — Те же самые три тысячи долларов. — Ты сказал ему, что мы хотим получить либо нашу землю, либо наши деньги? — Да, он сказал, что это невозможно, поскольку я назначил его своим агентом, предоставив свободу действий, и поэтому должен примириться с результатами. Он огорчен, что я недоволен, но… Они молча сидели в захудалой маленькой комнате, думая о будущем. Джесси знала, что Джон огорчен главным образом потерей прекрасного ранчо и возможности зарабатывать на жизнь обработкой земли. Для нее удар был иным и более коварным по характеру: у нее отняли возможность создать свой очаг. Быть может, боги не только медлили с освящением нового очага, но и не хотели его создания. Если бы консул Ларкин купил не Марипозу, а другой участок, пусть даже хуже ранчо Санта-Круз, она не чувствовала бы себя так плохо: у нее сохранялся бы шанс основать свой дом. Но Марипоза — это дикий, промерзший горный участок, захваченный враждебно настроенными индейцами, там невозможно поселиться. Что им делать? Джон не из тех, кто хватается за кирку, промывочный таз и мчится на золотые прииски, в Сан-Франциско нет также такого бизнеса, к которому он мог бы подключиться. Возможно, со временем он получит правительственное назначение, но его придется ждать месяцы. Джесси привезла с собой тысячу долларов золотыми монетами, ссуженных отцом для покупки строительного леса и оборудования фермы, но ее муж занял в Таосе вдвое большую сумму, чтобы вывести остатки своей группы в Калифорнию. — Что, по-твоему, мы должны делать? — спрашивала она, свернувшись клубочком на постели. Джон лег поперек кровати, нежно проводя своей рукой по ее осунувшимся щекам. — Сожалею, Джон, но твоя жена снова похожа на тощую кошку. — Признаюсь, я надеялся увидеть пышечку. — Потерпи, дорогой. — Ты спрашиваешь, с чего начать, — посетовал он. — Мы должны избавиться от твоей простуды и подкормить тебя. Я собираюсь показать тебе красоты Калифорнии: все, что ты видела до сих пор, — это грязная дыра, но на полуострове к югу — ослепительное солнце, волнистые холмы и чарующие глаз долины. Я отвезу тебя туда, где тепло и прекрасный ландшафт. Она пододвинулась ближе к нему и прошептала: — Спасибо, дорогой. Но не следует ли использовать этот месяц для кампании? Избранные делегаты должны собраться в Монтерее в сентябре и принять конституцию. Джон умел соединить твердость с нежностью: — Моя первая задача — поправить твое здоровье. Ты важнее политики для меня. Кроме того, я не… специалист по кампаниям. Большинство в штате знают меня или знают обо мне. Я мало что могу сказать неизвестного для них. Она вспомнила весенний вечер в летнем домике на Си-стрит, когда Том Бентон догадался, что его дочь влюбилась в лейтенанта Фремонта. Тогда Джон говорил: «Я не очень-то интересуюсь политикой». — Но ты, бесспорно, хотел бы участвовать в конституционном конвенте? — Не в роли делегата. Как друг и советник делегатов, как влиятельная фигура за сценой. В таком качестве, думаю, я могу сделать больше. Она не поняла, каким образом он может сделать больше, но сочла за лучшее не оказывать на него давления. Вместо этого она закрыла глаза и попыталась мысленно представить себе месяц отдыха бок о бок с мужем в тепле и в окружении природных красот. В поездке по полуострову к ним присоединился Грегорио, индейский парень, вынесший вместе с Джоном самые тяжелые испытания стужей и голодом и сопровождавший его из Таоса, а также старина Найт, участвовавший в ранних экспедициях Джона, — один из наиболее опытных пограничных жителей Запада. На следующее утро Джон рано ушел из дома, сказав ей, чтобы она через час ждала его у входа в Паркер-хауз. Джесси надела черное шелковое платье и шелковый капор такого же цвета. Она не считала такой костюм подходящим для лагерных стоянок, но он был единственным уцелевшим. Через час она и Лили спустились к входу в Паркер-хауз. Вскоре ее муж пересек площадь Портсмут в легком шестиместном экипаже, первом такого типа из увиденных ею в Калифорнии. Джон осадил лошадей, спрыгнул с сиденья и помог жене подняться в новенький экипаж с мягкими кожаными сиденьями и с ящиками для дорожных вещей и пищи. — Где ты отыскал эту прелесть в Сан-Франциско? — спросила с волнением Джесси, поглаживая мягкую обивку. — Я заказал его для тебя в Нью-Джерси до моего отъезда. Экипаж два месяца простоял здесь в сарае. У него плавный ход, как у лодки, и посмотри: сиденья превращаются в спальное место. Ты можешь спать с таким же комфортом, как дома. Для Лили хватит места в этом отсеке, чтобы свободно вытянуться. — Ой, дорогой, — прошептала она, — это наша первая удача в Калифорнии. — За углом тебя ждет еще одна удача, которая боится подойти к тебе, но я убедил, что ты простила его. Джесси увидела устремившегося к ней лейтенанта Биля с застенчивой улыбкой на узком лице. Он обратился к ней: — Мадам Фремонт! Я дурак! Я не достоин вашего прощения! Если бы вы последовали моему несчастному совету, то были бы на Востоке, а ваш муж здесь. Когда я думаю, как настойчиво старался убедить вас… — Такие вещи понимает лишь женщина, лейтенант, — весело ответила она. — Нечего прощать, я была так тронута вашей заботой обо мне в Панаме. — В таком случае, почему бы не взять его с нами на пикник? — спросил Джон. — Он готовит превосходный бульон, когда не кладет в него слишком много перца. И он тот самый, кто выпрашивал, занимал и даже угнал этих красивых белых лошадей. Они поехали по дороге на юг полуострова, оставив за спиной туман и холод Сан-Франциско, и уже через пару часов оказались под теплыми светлыми лучами солнца. По склонам холмов мягко спускались поля созревшего овса, в тени деревьев паслись стада. Ландшафт напоминал парк: миля за милей тянулись роскошные, усеянные цветами луга вперемежку с величественными деревьями. Когда похолодало, Джон набросил на ее плечи свою выцветшую синюю армейскую шинель. В полдень у ручья они разбили лагерь. В то время как Джесси и Лили освежились, умывшись холодной водой из ручья, мужчины отправились на поиски ранчо по соседству. Они возвратились, привезя полбарана и початки кукурузы; добытое было обжарено и сварено на открытом огне. Джесси и Лили уселись у костра на сафьяновых сиденьях из экипажа и ели мясо, поджаренное на длинных самодельных деревянных шампурах. Джон захватил с собой кларет и чай, а для Лили коробку французских конфет. Под сгущавшейся синью безоблачного неба приятно тянуло теплым ветерком. Ужин закончился к наступлению сумерек. В костер подбросили дров, и мужчины начали рассказывать о других лагерях на границах Южной Америки, Востока и Американского континента. Грегорио поведал о своем детстве в индейском племени. Биль пересказал морские истории и несколько шуток, рассмешивших Джесси. Высокий и узловатый, как горная сосна, возраст которой трудно определить, старина Найт, с длинной белой бородой, словно пересаженной с его сверкающей лысой головы, рассказал о тех днях, когда граница проходила всего в сотне миль к западу от Вашингтона. Постепенно смеркалось, пламя костра ярко высвечивало в темноте деревья и кусты у ручья, потом замерцали звезды, и перед глазами Джесси открылась чудесная картина. «Это мой первый очаг, — сказала она сама себе, — как раз такой, какой мы должны иметь в новой стране. Пусть во всех моих очагах будет такая же безмятежная жизнь». К девяти часам она и Лили удобно устроились в экипаже. Мужчины привязали свои гамаки к деревьям и заснули. Джесси слышала, как потрескивали дрова в костре, как лошади мирно жевали овес, слышала она и приглушенный вой койота, не осмеливавшегося приблизиться и утащить на ужин кость. Джон разбудил Джесси на заре чашкой горячего чая, а потом из пары одеял устроил для нее на берегу ручья укрытие для туалета. Она вытащила свой жестяной тазик, полотенце, французское мыло и одеколон, умыла Лили и не спеша помылась сама. Мог найтись лекарь, который сказал бы ей, что купание на заре в холодном ручье опасно; сорок лет назад такое говорилось ее отцу. Когда она оделась и вернулась к костру, экипаж был готов к отъезду, большая часть вещей уложена. После чашки чая и пары горячих булочек, испеченных стариной Найтом, она обратилась к Джону: — Какова же моя доля обязанностей? — Кушать с отменным аппетитом, быть счастливой. — И только это, никакой работы? — Никакой, — отвечали мужчины. — Отдыхайте. К тому же в походах от женщин толку мало. Ярко светило солнце, когда они выехали в направлении Сан-Хосе. Дорог не было, но прочный экипаж мог двигаться куда угодно, лишь бы проходили колеса, и они проезжали плодородные долины, взбирались на холмы, откуда открывался вид на океан, на крутых спусках мужчины удерживали экипаж с помощью лассо. Найт и Грегорио шагали впереди двух вьючных мулов, нагруженных вьюками с одеждой, бутылками, банками с продовольствием, гамаками, сковородками и кастрюлями. Джон и Биль по очереди правили лошадьми. В полдень они останавливались для ланча и отдыха. В котелок клали испанский лук, сладкий красный перец и то, что удавалось мужчинам подстрелить утром. Они обшаривали окрестности в поисках яиц и фруктов. Когда Джесси пробуждалась от дремы после полуденной жары, группа трогалась с места и продолжала путь до очередной лагерной стоянки. Первую неделю Джесси продолжала кашлять, она начала принимать солнечные ванны во время остановок в полдень, и к концу второй недели боль в груди ослабла. И так она проводила исцелявшие ее дни, не думая о времени, возвращая себе с каждым часом радость жизни. Порой в долинах, укрывшихся за прибрежным хребтом, воздух становился знойным, а ветерок с моря был мягким и прохладным. Приезжая в какую-нибудь деревню, они отдавали в стирку свое белье индианкам, иногда останавливались на ранчо калифорнийцев, и Джесси убедилась в лживости утверждения генерала Кирни, будто ее муж плохо обращался с местным населением. Калифорнийцы приветствовали путешественников, устраивали в их честь празднества, а Джесси беседовала с женщинами и об одежде, и о детях. Им удалось принять участие в трехдневной брачной церемонии, в параде среди толпы красочно одетых жителей. Экипаж Джесси вызывал большой интерес у калифорнийцев, пользовавшихся лишь массивными, запряженными волами телегами на деревянных колесах. В последний вечер июля они разбили лагерь в горах Санта-Круз, откуда открывался вид на море, недалеко от ранчо, которое должно было стать их домом, как вдруг посыпал дождь. Джон сказал: — Думаю, что каникулы кончились, мадам. Теперь мы должны решить, где осядем. Джесси неохотно вздохнула: — Это был чудесный месяц. Но я готова поставить наш дом. Где он будет? Как далеко мы от Марипозы? — По-моему, на расстоянии около двухсот миль. — Не трудно ли увидеть нашу землю? Она меня интересует. — Это долгое путешествие верхом через горные хребты и броды. — По какой дороге поедем? Скажи мне, как туда добраться? Его глаза загорелись при мысли о путешествии. — Мы поедем по долине Сан-Иокина, а потом прямо в горы Сьерры. — Проедем ли мы через золотые прииски? — Да, мы проедем по золотоносным землям. Они взглянули друг на друга, на их лицах появилось выражение изумления. — Боже всевышний, Джесси, — прошептал Джон, — я никогда не думал об этом прежде. Мы владеем самым большим участком гористой местности в Калифорнии. Люди намывают целые состояния золота всего лишь в сотне миль от нас… С круглыми от удивления глазами она также сказала шепотом: — Дорогой, возможно ли это? Есть ли золото в Марипозе? Он резко вскочил: — Это тот же самый горный хребет, там такие же скалистые образования, те же самые залежи минералов. Там такие же горные ручьи, несущие золотой песок. Теплая улыбка медленно озарила ее лицо, она произнесла: — Не отправиться ли нам завтра утром в Сан-Франциско? Не купить ли кирки, лопаты и не включиться ли в погоню за золотом? — Ты понимаешь, что это риск, — сказал Джон. — Как только мы займем Марипозу даже ради поисков золота, мы тем самым примем по закону землю. Мы никогда не сможем получить от Ларкина наши три тысячи долларов. — Мы в любом случае не вернем их. — Сколько наличными осталось от отцовской тысячи долларов? — Около пятисот. — Почему тогда не вложить оставшиеся средства в действительную игру? — Каким образом? — На пути из Таоса я встретил индейцев племени соноранс из Мексики, направлявшихся на золотые прииски. Я проехал вместе с ними несколько дней. Затем встретил их вновь в Монтерее. Они были изнурены длинным переходом и собирались отдохнуть, прежде чем отправиться в горы. Думаю, что смогу заключить с ними сделку: если я снабжу их продовольствием и инструментами и предложу половину золота, намытого в Марипозе, они добудут для нас богатство. Если же в Марипозе не окажется золота, тогда мы банкроты. — Я не боюсь, Джон. Кроме того, думаю, неразумно приезжать в Калифорнию в момент невиданной в мире золотой лихорадки и не принять в ней участия. Я сама хотела бы побродить в горном ручье с тазиком в руках и попробовать набрать золотого песка… Развеселившийся Джон усмехнулся: — В тебе заговорил дух корысти, Джесси; позволь мне быть хранителем богатств в нашей семье, тебе это не подходит. Я приведу соноранс в Марипозу. Когда мы вернемся, ты будешь супругой богача. — Я еще не избалованная вашингтонская леди, — парировала Джесси._/6/_
В следующий полдень они добрались до плато над Монтереем. Под ними среди сосен приютилась небольшая деревня, а еще ниже — скалистый берег изогнутого полумесяцем залива. Джесси стояла среди сосен, глядя на белые пятна чаек под яркими солнечными лучами. Она сказала мужу: — Почему бы не основать постоянный лагерь здесь, где так красиво? Здесь теплее и спокойнее, чем в Сан-Франциско. — Да, думаю, ты будешь более счастлива в Монтерее. Схожу в город и посмотрю, смогу ли отыскать дом. Не прошло и часа, и она увидела его: он поднимался от деревни по узкой тропке. — Свободных домов нет, — объявил он, — но я нашел две удобные комнаты в доме жены мексиканского генерала Кастро, изгнанного в Мехико-Сити после нашей победы. Она не питает ненависти к нам. Нам будет там хорошо. Джон помог Джесси сесть в экипаж, который проехал по извилистой дороге в деревню. Дом мадам Кастро некогда принадлежал бывшему мексиканскому губернатору: окна огромного бального зала выходили на залив, к главному зданию были пристроены два саманных крыла, и соединившая их саманная стена замыкала ограду внутреннего сада. Крыша была крыта грубой красной черепицей, полы выложены красными гладкими плитками, у стены сада и вдоль дорожек высажена гвоздика. Торговец мукой снимал бальный зал, служивший складом. Хозяйка ввела Джесси в боковую пристройку, здесь были две комнаты с высокими потолками, саманные стены побелены известью. В комнатах не было мебели; стояла лишь дровяная печь в небольшой прихожей. Джесси поблагодарила мадам Кастро, которая выделила ей две койки, пару стульев, несколько горшков и сковородок, тарелок, блюдец. Оставив Джесси осматривать новый дом и подумать, как его обставить, Джон отправился на поиски знакомых ему соноранс и возвратился к ланчу. — Мексиканцы согласились на мое предложение, — возбужденно сказал он. — Я должен немедленно выехать с ними в Сан-Франциско. Увидев ее огорченной, он тут же добавил: — Я вернусь через пару недель, как только будут новости. — Хорошо, — ответила Джесси, — поскольку ты едешь в Сан-Франциско, истрать часть наших средств на покупку мебели, постельного белья, посуды, серебра. Я впервые стану хозяйкой и боюсь, что не справлюсь с этой ролью, имея всего несколько взятых взаймы тарелок. Я дам тебе список, и ты купи материалы, чтобы я могла сшить платья для Лили и себя. Наши износились до дыр. Джон уехал во второй половине дня, заверив ее, что с первым же судном, прибывшим в Монтерей, ей доставят все необходимое, чтобы она чувствовала себя свободно в доме мадам Кастро. Джесси была рада, когда Грегорио выразил желание остаться в роли слуги. Джесси приступила к обязанностям домашней хозяйки, но золотоискатели скупили в окрестности вчистую цыплят, яйца, мясо, овощи, фрукты, консервы, муку и зерно. Она смогла найти лишь немного риса и бобов, муки и сахара. Она никогда не готовила что-либо, кроме кофе, а теперь ей пришлось кормить себя, Лили и Грегорио, имея скудный набор продуктов. Иногда, возвращаясь с прогулки по окрестным холмам вместе с Лили, она находила Грегорио сидящим на корточках перед огнем, с широкой лентой вокруг талии и с шелковым носовым платком на черных волосах, готовящим гизадо — тушеную смесь из дичи, белок, сушеного красного перца и риса. Грегорио любил роль слуги; начав службу у миссионеров, он выработал свое понимание, что может и что не должен делать мужчина: он был готов разжечь огонь в камине, но не считал своим долгом колоть дрова, это работа сквау, и поэтому Джесси приходилось самой заниматься дровами. Мужчины охотятся на дичь, но они не стоят за плитой, это работа сквау, и поэтому Джесси готовила еду. — Хорошо, что Грегорио так цветист, — смеялась она в разговоре с Лили, — с красной повязкой на упрямых индейских волосах, ведь от него мало пользы. Я и ты скорее готовим для него, чем он для нас. — Когда он подстреливает перепелку или куропатку, — ответила Лили, — он поджаривает их на открытом огне и приносит нам на палочке. — Да, — согласилась Джесси с кривой усмешкой, — будь то в три часа дня или в три часа утра! Мы должны есть, несмотря на то, голодны мы или нет. Сомневаюсь, сумею ли я когда-либо научить его занятной американской привычке готовить пищу и потреблять ее в обеденное время? — Я этого не думаю, — откровенно ответила Лили. — Видишь, мама, у индейцев никогда не было часов, и они не знали, что такое обеденное время. Они едят, когда голодны или когда подстрелят дичь. Через две недели из Сан-Франциско прибыло судно, и матросы доставили ящики к дому Кастро. Собрав все вместе, Джесси обнаружила, что муж прислал ей две просторные кровати в новоанглийском стиле, достаточное количество простыней и одеял, плетеные истиндские кресла, красивый инкрустированный стол из тикового дерева, китайские коврики для пола, ткань для занавесей, китайский сатин и французскую ткань для штор, два изящных английских фаянсовых тазика для умывания, красочные бамбуковые шезлонги и стулья с подушками, обтянутыми французской и китайской тканью; две большие медвежьи шкуры на пол у камина; оловянные подсвечники и высокие белые спермацетовые свечи, при свете которых она и ее отец провели много часов в их библиотеке в Вашингтоне. Тщательно завернутой, как главная ценность посылки, она нашла книгу «Арабские ночи» в переводе Лейна — единственную книгу, какую она здесь имела. С помощью мадам Кастро и Грегорио, выполнявшего самую тяжелую работу, Джесси повесила привлекательные белые занавески на окна, разложила коврики, установила кровати в задней комнате, а в жилой — тиковый стол и плетеные кресла. После того как комнаты стали выглядеть уютными и домашними, она попросила Грегорио принести последнюю большую посылку и вскрыть ее перед огнем. Какой-то момент ей казалось, что она видит сон, ибо кто-то продал ее мужу как «очень подходящую для зимней женской одежды» грубую шерстяную ткань, толстый миткаль и хлопчатобумажный сатин ярких расцветок. После первого шока она рассмеялась. — Поделом мне, — сказала она Лили, — поручать мужчине покупать ткань для женской одежды. Ладно, мы используем ее наилучшим образом. Займемся зимним гардеробом. Джесси аккуратно распорола одну из оставшихся батистовых комбинаций, сделав из нее выкройку, а также вспомнила о своем подержанном черном шелковом платье, сохранившемся от вашингтонского гардероба. Так же поступила она и в отношении Лили; разложив патронки на полу жилой комнаты, она скопировала их на новые, удивительно неподатливые ткани. Она накалывала выкройку на ткань, измеряла, перемеряла саму себя и Лили, прежде чем осмеливалась взять ножницы. Она похудела с тех пор, когда пошила черное шелковое платье, и уже первая примерка показала, что платье слишком широко. Она рассказала дочери историю старой леди в Сент-Луисе, которая никогда не вязала чулки по форме ноги, а делала их совершенно прямыми до пятки, заявляя: «Плоха та нога, которая не может придать форму своим чулкам». Она создала гардероб Лили и свой, превратив все это в игру, в которой исполняла роль модной портнихи миссис Эббот из Лондона, а Лили — ее богатой и требовательной клиентки. Игра добавила остроты в ее жизнь, поскольку Джон забрал почти все их сбережения в Сан-Франциско, чтобы снарядить соноранс, а Джесси тратила последние доллары, покупая еду. Их мебель, усмехалась она, осматриваясь вокруг, куплена в кредит. В отсутствие мужа Лили стала ее товаркой. Она брала с собой дочь в долгие прогулки по поросшим соснами холмам над заливом, несколько часов в день отводилось обучению ее математике, географии и истории, она старалась привить семилетней девочке ощущение ее участия в общей семейной жизни, позволяя ей выполнять работу по дому. Разлуки с мужем заставляли ее уделять больше внимания дочери, они сближали Джесси и Лили в те периоды,когда тоска по мужу вызывала упадок духа. Лили была наблюдательной, отмечая, как менялась мать, когда отец был дома: она становилась более веселой, более энергичной и сообразительной. Джесси мучили угрызения совести, и она удваивала проявление любви к Лили, но, когда уезжал Джон, пропадала внутренняя теплота, и для ее дочери оставалась внешняя оболочка женщины, желающей, чтобы быстрее пролетели дни до возвращения мужа. Ее озадачивал формирующийся характер Лили: она обнаружила, что по какому-то странному капризу судьбы ее дочь лишена воображения; исключением было лишь понимание страданий матери в отсутствие мужа. Она понимала: ребенку не может нравиться, что отец занимает главное место в любви и интересах матери, однако когда одиночество особенно угнетало Джесси, то именно Лили брала на себя роль утешителя, гладила ее волосы так, как гладил Джон, повторяла нежные слова, как говорил отец. Она никак не могла разобраться, на кого была похожа Лили — на нее или на Джона. Лили была во многом схожа со своей теткой Элизой: громоздкая и неуклюжая, с простыми чертами лица, педантичная, практичная, что было не свойственно ни Джесси, ни Джону. Однажды Джесси заметила мужу, что Лили — демон обнаженной правды: дочь частенько разрушала романтические мечтания своих родителей. Были моменты, когда Джесси была этому благодарна, ибо семейство Фремонт лишилось простора романтических мечтаний, и наличие в нем трезвой критики могло стать благословением. Примерно через месяц после отъезда Джона в Сан-Франциско она шила во второй половине дня перед камином в жилой комнате, а Грегорио и Лили, сидя на корточках, жарили куропатку, вдруг дверь распахнулась, и в комнату ворвался Джон, его лицо и одежда были грязны от долгой поездки, но глаза сверкали. Он остановился около нее, прежде чем она успела встать, и положил к ее ногам тяжелый мешок. Она не открывала мешок, а лишь смотрела на мужа. Он торопливо развязал веревки, стягивавшие горловину, запустил в мешок свою правую руку и, схватив левой рукой ее ладонь, медленно высыпал в нее светлый песок. — Золото! — воскликнула она. — Да, дорогая, золото. Знаешь, сколько золота в этом мешке? Сто фунтов! Это почти двадцать пять тысяч долларов! Он отошел от нее и подбежал к двери, крикнув через плечо: — Стой на месте, не двигайся. Через минуту он вернулся с тяжелым мешком в каждой руке, их вес был намного больше того, что он мог носить в обычных условиях. Он опустил мешки перед ней, развязал веревки и вытащил по горсти золота из каждого. — Каждый ручей окантован золотом. За три недели соноранс намыли золота на семьдесят пять тысяч долларов! Джесси было трудно понять такой поворот событий. У нее оставалось всего несколько долларов на провиант, а тут вдруг у ее ног мешки с золотым песком! Когда к ней вернулся дар речи, она, не веря глазам своим и запинаясь, сказала: — Это… все… наше? — Нет, только половина. Ты помнишь, я обещал соноранс половину золота, что они намоют. Но там золота на миллионы долларов. Это самое богатое месторождение, найденное к настоящему времени в Калифорнии. Но и это не самое главное: я думаю, что через нашу Марипозу проходит материнская жила. — Материнская жила, — не понимая смысла, повторила она, все еще не придя в себя. — Да. Проходя по нашему участку, я заметил геологические формации, которые, на мой взгляд, предсказывали наличие ценных минералов. Потом я нашел большой кусок золотосодержащего кварца. Ты понимаешь, что это значит, Джесси? Все золото, что мы намыли из рек, берет начало в скалистых формациях кварца. Тысяча людей, собравшихся на берегах рек Марипозы, может выбрать все золото, что несла с гор столетиями вода. Накопившиеся отложения могут истощиться в течение нескольких месяцев. Но если там первоначальные месторождения, тогда глубоколежащие жилы золотоносного кварца могут проходить через весь горный хребет. В таком случае в Марипозе золота на многие миллионы долларов. Джесси не знала, смеяться или плакать. Три мешка с золотым песком и кусок кварца с проблесками золота в нем сомнению не подлежали. Деньги никогда не играли важной роли в ее жизни, и она никогда не гналась за ними. Оказавшись в незнакомой стране, лишившись своего ранчо, сделав долги на несколько тысяч долларов, не имея средств на жизнь, она сочла, что на ее стороне само Провидение. Золотой песок, ласкавший ее пальцы, когда она опустила руку в горловину мешка, был скорее символом счастья, чем богатства, ибо он значил так много для ее мужа. Преуспевающий, достигший вершины своих возможностей и окруженный похвалой, Джон оставался скромным, сдержанным, нетребовательным, душевным, щедрым, любящим. Он был рожден для успеха, и, чем больше был успех, тем ярче казался блеск Джона Фремонта. Но он не мог переносить провала или поражения, которые усиливали в нем худшее, делая его подозрительным, мстительным, нетерпимым, злобным, мелкодушным. Именно поэтому таким ударом явились для нее известия, полученные в Панаме, о крахе четвертой экспедиции, именно поэтому потеря ранчо Санта-Круз огорчила ее, хотя она никогда не верила, что он станет фермером; она опасалась озлобления мужа, возникновения у него представления, что его преследуют, плетут заговор против него. Теперь он станет богатым. Это успех, который поймут все и никто не сможет оспаривать. Важнее богатства явится признание того, что он стал баловнем богов. Ведь он нашел золото на собственной земле, золото, не только то, что было вымыто водой, но и в первозданном виде. Она понимала, что, когда известие об этом открытии дойдет до Востока, оно затмит критику по поводу его неудачи найти перевал для железнодорожной линии, сберечь жизни членов экспедиции и вывести их в безопасное место. Известие, что Джон Фремонт обнаружил часть материнской жилы в своем поместье Марипоза, облетит Восток, вызовет такую же бурную реакцию, как любой из докладов о трех первых экспедициях, и расширит поток переселенцев в Калифорнию! Она благодарила Бога за то, что ее муж вновь стал на ноги._/7/_
На следующее утро, когда Джон поторопился уехать на рудник, все походило на фантастический сон. Время от времени Джесси подходила к мешкам и погружала пальцы в блестящий песок, стараясь убедить себя, что это не грезы. И все же наличие золота в доме отнюдь не изменило материальное положение, поскольку не появилась лучшая еда, в Монтерее не осталось мужчин, которых можно было бы нанять для работы, — все ринулись на золотые прииски, а индианки не привыкли работать. Однажды в ее дверь постучал рослый техасец, которого сопровождала крепкая молодая мулатка. — Я прослышал, что вам нужна служанка, миссис Фремонт, — сказал он. — Я хочу продать вам эту рабыню. Я ухожу на прииск, и она мне не нужна больше. Я предложу сходную цену. — Позволите ли вы ей работать по найму? — Нет, мэм, — ответил техасец, — я хочу продать ее и избавиться от нее навсегда. — Я не куплю ее, — твердо ответила Джесси. — Но почему, мэм? Я ведь не назвал цены. Я готов получить деньги от полковника в любое время. — Благодарю вас за вашу доброту, сэр, — ответила она, — но вы не поняли меня. Я не приемлю покупку и продажу людей. — Почему вам не хочется жить с удобствами? — спросил техасец. — Все покупают и продают негров. — Полковник Фремонт и я не занимаемся этим. Мы против рабства. В нашем доме всегда были цветные, но они были свободными. Они могли уйти по своему желанию. Джесси сама мыла полы, передвигая мешки с золотом. Помимо грациозных испанских соседок, с которыми она иногда проводила время, Джесси познакомилась с женами офицеров армии Соединенных Штатов, переехавшими в Монтерей, убегая от дороговизны в Сан-Франциско. Сюда приехали генералы Джеймс Бентон Райли и П. Т. Смит со своими женами и молодой Уильям Т. Шерман, чахоточный кашель которого не мешал ему быть носителем забавных историй. В августе Монтерей превратился в оживленный деловой город, в первую столицу штата; в него съезжались делегаты для образования правительства и разработки конституции. Колтон-Холл, использовавшийся преподобным Сэмюэлом Уайли как школьное помещение, избрали под зал конвента. Здание гостиницы для делегатов было заложено, но отъезд квалифицированных рабочих на прииски привел к тому, что на строительстве работали всего несколько плотников. 1 сентября в Монтерей стали прибывать делегаты. В основном это были грубоватые жители пограничных районов, все с оружием. Некоторые из них были знакомы Джесси по Вашингтону и Сент-Луису, с большинством других Джон познакомился во время своего первого пребывания в Калифорнии. Почти двухметровый Роберт Семпл, сыгравший важную роль в образовании «Республики медвежьего флага», был избран председателем; Уильям Мэрси, сын военного министра, назначен секретарем; странствующий журналист Росс Браун вел стенографические записи; англичанин Хартнелл выполнял роль переводчика для калифорнийцев. На съезде были первые поселенцы, профессиональные политики, англичане, ирландцы, французы, испанцы — иными словами, Америка в миниатюре. За два дня до открытия конвента владелец гостиницы, потеряв все надежды закончить строительство в срок, заявил: — Стоит хорошая погода, делегаты могут завернуться в пончо и спать под соснами. В городе не было ресторана; кое-кто привез с собой запасы еды в седельных сумках, а другие, как говорится, остались на бобах. Джесси понимала гостеприимство как естественный закон и после полудня держала дом открытым. Она не могла предложить изысканное меню, но наловчилась готовить рисовый пудинг, а делегаты умели хорошо пользоваться ружьями и удочками. Приходя на обед, лишь немногие не приносили дичи или рыбы. Джесси и Грегорио поставили длинный дощатый стол в саду. Вокруг него каждый полдень собирались десять — пятнадцать делегатов поговорить о политике и обсудить вопросы, стоящие перед конвентом. Из тридцати шести американских делегатов двадцать два приехали с Севера и лишь четырнадцать — с Юга. Разгорелся жаркий спор о рабстве. В Монтерее находились еще три американские женщины: миссис Ларкин, миссис Райли и миссис Смит; приятные и радушные, они внесли свою лепту в прием делегатов. Однако в силу того, что Джесси и Джон дружили с тридцатью из тридцати шести делегатов, их дом превратился в неофициальный зал конвента, где обсуждались многие вопросы. Долгие наблюдения за борьбой политических взглядов научили Джесси поддерживать атмосферу, при которой эти идеи могут быть доведены до их логического выражения. Две занимаемые ею комнаты были небольшими, мебель — случайной и неумело подобранной, стол в саду сколочен из плохо оструганных деревянных планок, но ее радушие, ее восторг, вызванный участием в создании нового штата, сохраняли румянец на ее щеках, блеск ее глаз, ее живость и приветливость. Глядя на грубый широкий стол, покрытый неотбеленным миткалем, простроченным красными нитками, на собранное по случаю столовое серебро и разномастные китайские и мексиканские тарелки, на небритых, грубо одетых жителей границы, уплетающих рыбу, которую они сами же поймали в заливе Монтерей, а она поджарила на углях, на большие плошки с рисовой кашей в центре стола, которой завершалась трапеза, ее ум возвращался к полированным столам красного дерева в столовой Бентона в Вашингтоне, с камчатыми скатертями, сверкающим серебром, хрустальными вазами с фруктами и сладостями, к Джошааму и Джошииму, неслышно ступавшим, подавая кровавый бифштекс, пресноводную черепаху, поджаренную утку и индюшку, мясной пирог и пирог с ливером. При всей нелепости меблировки двух комнат в доме мадам Кастро они в конце концов нравились Джесси. Мужчинам, которые большую часть года спали на земле, в импровизированных хибарках, палатках, на неухоженных постоялых дворах, комнаты Джесси казались по-домашнему уютными. В одно из воскресений, вечером, когда испортилась погода и пришлось обедать внутри дома, Уильям Гвин, Джон Саттер, Роберт Семпл и Генри Галлек осмотрели комнаты, а потом Семпл сказал: — Миссис Фремонт, мы говорим между собой: как удивительно, что вы создали такой комфорт в столь странном месте, как Монтерей. Джесси бросила критический взгляд, пытаясь посмотреть на комнату чужими глазами. На полу лежали шкуры гризли, стеклянные глаза медведей отражали пламя камина; окна завешены элегантной китайской парчой, саманные стены неряшливо побелены известью, китайскую мебель из раттана дополняли подушки, покрытые изысканным французским шелком. Единственным украшением стены служила цветная репродукция — изображение святого Франциска, а на китайском столике из тика красовался бронзовый Будда и рядом с ним — экземпляр лондонского «Панча» двухлетней давности и ее корзиночка с шитьем, та самая, в которой она прятала письмо полковника Аберта. Она приняла позу профессионального лектора, подняла руку вверх, призывая к тишине, и объявила торжественным тоном, напоминавшим тон ее отца: — Джентльмены, при первом взгляде вы можете подумать, что эта комната нелепа, но после внимательного ее изучения я нашла, что она верна стилю первопроходческого периода конца сороковых годов; отвечает вкусам лиц, пришедших со всего мира и охраняемых калифорнийскими гризли. Джесси была разочарована, что ее мужа не было дома и он не мог участвовать в приеме гостей, дискуссиях, формулировании политической платформы. Она считала, что Джону следовало быть членом конвента, что он должен поговорить с каждым делегатом, помочь определить официальную политику штата. Но по всей Центральной Калифорнии распространились слухи о потрясающих открытиях в Марипозе, и уже несколько тысяч золотоискателей действовали на землях, принадлежащих Фремонту. Право на землю не обеспечивало им исключительных прав на минералы. Любой имел право мыть золото на реках Марипозы. Джон считал, что он должен быть в этот ответственный момент с соноранс, помогая им найти лучший горный поток для работы, выбрать золотые самородки и песок до того, как явятся другие золотоискатели. Джесси не считала столь уж необходимым извлекать все, вплоть до последней песчинки. Ведь они приехали в Калифорнию не для того, чтобы стать золотодобытчиками или богачами. Они приехали с целью войти в местную политику, и нужно ли в таком случае поддаваться тому, чтобы случайное обнаружение золота в Марипозе поломало их планы и отстранило Джона от конвента, призванного составить конституцию Калифорнии? Она высказала все это мужу, но он заявил: поскольку он не делегат, для него нет надлежащего места. Большинство делегатов знают его позицию еще со времени первых встреч, и никто не может порицать его за добычу золота, пока светит яркое солнце. Позже, когда он заложит свою охраняемую законом кварцевую шахту, их собственность будет обеспечена и ему не придется промывать золото по ручьям. Печально, что конвент и золотая лихорадка Марипозы совпали по времени, но он считает, что должен добыть для семьи как можно больше золота, а Джесси может действовать в качестве его представителя в Монтерее, как она делала в Вашингтоне. Однажды вечером делегат Липпенкотт из Филадельфии привел на обед пятнадцать делегатов. Они стали свидетелями того, как, стоя над печкой, Джесси готовит еду, накрывает сшитой из миткаля скатертью дощатый стол, с помощью Грегорио обслуживает двадцать четыре человека. Они видели, как она, сидя во главе стола, энергично вела политическую дискуссию, да так, что беседу поддерживали все участники застолья; они замечали и то, что она собрала грязную посуду, вымыла ее, а Уильям Шерман, преподобный Уайли и Роберт Семпл, стоя рядом с ней, вытирали чистую посуду и при этом живо обменивались мнениями. Когда уборка была завершена, они собрались в жилой комнате, и несколько жилистых жителей пограничных районов устроились на полу перед камином. Один из них спросил: — Миссис Фремонт, мы слышали, что вам предложили купить молодую рабыню для работ по дому, а вы отказались. Верно? — Совершенно верно, — ответила Джесси. — Ни мистер Фремонт, ни я не согласны с покупкой и продажей людей. Я никогда не соглашусь использовать раба или владеть рабом. — Даже если это будет означать, что до конца своих дней вы будете мыть полы и посуду? — Даже если, — ответила Джесси со спокойной улыбкой. — Женщины в Сан-Франциско плачут из-за того, что трудно купить раба, но если вы, изысканная вашингтонская леди, можете обходиться без них, то и этим женщинам незачем иметь рабов. Мы обойдемся без рабского труда. «Аллилуйя! — подумала Джесси. — Наконец-то титул „изысканная леди“ свершает что-то доброе». Вслух она сказала: — Полковник Фремонт назвал Калифорнию американской Италией. Разве она не идеальное место для небольших домов и хорошо обработанных участков? Если мы не будем использовать здесь рабский труд, то появится состоятельный, крепкий средний класс, и никаких бедняков. — Чувства-то красивые, — ответил Уильям Стюарт, лидер сторонников рабства, — но аристократия всегда будет держать рабов. — А как насчет того, чтобы вы примкнули к аристократии эмансипаторов, мистер Стюарт? — парировала Джесси. — Мой отец освободил всех своих рабов в Сент-Луисе перед отъездом в Вашингтон двадцать пять лет назад. — Но кто в таком случае будет выполнять тяжелую и грязную работу? — Вы, — вспыхнула Джесси, — и я! Я воспитываю ребенка в Калифорнии, а вскоре и вы, мужчины, либо привезете своих жен, либо женитесь здесь и создадите семьи. Для ребенка вовсе негоже видеть в свободной стране скованных цепью рабов, бредущих по улице, или наблюдать, как гоняются за беглым рабом и заковывают его в железо. Разве для этого мы основываем новый штат? Если так, то лучше вернуться на Восток и оставить в покое эту прекрасную страну. Накануне открытия конвента из Марипозы приехал Джон. Он не мог быть сторонним наблюдателем. В этот вечер чета Фремонт устроила прием; пришли все американцы, собравшиеся в Монтерее, даже консул Ларкин, державший себя робко, но явно желавший восстановить прежнюю дружбу. На следующий день открылся конвент. Джесси и Джон сидели за грубой деревянной оградой, стоявшей посреди зала от стены до стены. Используя в качестве образца конституции Нью-Йорка и Айовы, делегаты в напряженной дискуссии, которая, по мнению Джесси, велась на высоком интеллектуальном и деловом уровне, быстро продвинулись в согласовании положений конституции Калифорнии. Она вспомнила рассказы отца о конституционном конвенте Миссури, видя, что многое повторилось на здешнем конвенте. Благодаря своей внушительной фигуре, массивной голове и ораторскому таланту на конвенте доминировал Уильям Гвин. Порядочный человек, честный по своим взглядам, он был опытным тактиком в парламентской процедуре. Джесси заметила, что делегаты не только восхищались им, но и доверяли его мнению. С каждым днем Гвин все больше и больше брал под свой контроль ход дискуссии, и Джесси убеждалась в том, что его бахвальство в Вашингтоне станет реальностью и он будет выбран законодательным собранием одним из двух первых калифорнийских сенаторов. Остается, таким образом, одно место. Кому оно достанется? Ее мужу, спокойно сидевшему рядом с ней и по каким-то известным только ему причинам никогда не встающему, чтобы потребовать слова, довольствующемуся тем, что оказывает влияние дома, за обеденным столом, в спокойной дружеской беседе? Уже через неделю после открытия конвента стало ясно, что Калифорния будет свободным штатом, Джону уже не надо было сдерживать себя. Он поехал на юг, намереваясь купить несколько больших ранчо по разведению скота. Он был в восторге, когда впервые увидел их во время завоевания Калифорнии. Потом он вернулся в Сан-Франциско, чтобы вложить некоторую часть своих быстро растущих золотых накоплений в земельные участки, находившиеся примерно в миле к западу от площади Портсмут. Он сообщил, что приедет не скоро, поскольку соноранс собираются выехать домой на Рождество, и полагал, что ему следует оставаться в Марипозе возможно дольше. Грегорио ушел в горы, чтобы быть рядом с Джоном. Джесси и Лили остались дома одни. С отъездом последних делегатов Монтерей затих и опустел._/8/_
В октябре под порывами ветра с Тихого океана по окнам хлестал проливной дождь. Улицы залила жидкая грязь, какая была памятна Джесси в первые дни ее пребывания в Вашингтоне. Взаимные визиты стали редкими. Из большого окна, выходившего на залив, были видны опустевший пляж и мокрые скалы. «Около моря, — думала Джесси, — человек не одинок. Однако и около моря, как, впрочем, и около чего-нибудь другого, радость возрастает в сотни раз, когда рядом любимый, разделяющий эту радость». После ужина Лили надевала ночную рубашку и ложилась на медвежью шкуру перед камином, где горели, потрескивая, сосновые дрова и плясало причудливое пламя. Дни и ночи казались нескончаемыми, поскольку работы было мало, а библиотека Джесси состояла всего из одной книги, попавшей в руки Джона в Сан-Франциско при покупке мебели. Каждое воскресенье вечером она читала Лили главу из «Арабских сказок». Лили называла это воскресным десертом, и Джесси старалась растянуть удовольствие. К счастью, арендовавший бальный зал торговец мукой нашел пять переплетенных томов лондонского «Таймса» и несколько томов «Мерчантс мэгэзин» и отдал их Джесси. У нее не было большого интереса к торговле, но, не имея ничего лучшего для чтения, она была вынуждена читать то, что оказалось под рукой, и в конце концов у нее появился интерес: ведь любитель книг схож с ценителем женщин — он предпочитает интересную книгу плохой, но возьмет и плохую, если нет иной. Затем генерал Райли отыскал томик стихов лорда Байрона, и эти стихи доставили ей много приятных часов в холодную и дождливую ночь, когда она сидела перед пылающим камином, а в комнату глухо долетал шум волн, разбивавшихся о скалы. Раз в неделю или через неделю приезжал либо Грегорио, либо соноранс-доверенный с новыми мешками золотого песка, который она складывала в чемоданы и ящики под кроватями. Однажды в ноябре у нее находилась с визитом жена генерала Райли, и в это время появился Грегорио с двумя тяжелыми кожаными мешками. Миссис Райли, с девятнадцати лет следовавшая за армией и жившая на скудном армейском довольствии, сказала: — Я действительно должна поздравить вас с вашим растущим богатством. Добросердечное замечание, высказанное без зависти, высветило для Джесси ее одиночество. Она вовсе не радовалась разлуке с мужем из-за денег, они и без того разлучались слишком часто и надолго. Ей вовсе не улыбалось сидеть в двух комнатах, за стенами которых льет дождь, занимаясь только приготовлением еды для себя и ребенка. Между тем проходили недели и месяцы, а она не играла никакой роли, не выполняла никакой работы. Джон был вынужден проводить значительную часть времени в Марипозе, которую считал слишком удаленной и слишком опасной для семьи и строительства дома. Что же тогда ей делать? Сидеть здесь, в обители мадам Кастро, пока накапливается богатство? С какой целью? Она требовала от жизни лишь нескольких простых вещей: компании и любви мужа, выполнения рядом с ним важной работы, сыновей, которые носили бы его имя. Повернувшись к миссис Райли, она прошептала: — Золото еще не цель, правда? Оно не может само утешить или прибавить ума. Я просто истосковалась по хорошей книге. Я отдала бы все кожаные мешки ради того, чтобы около меня был мой муж. Мучительно тянулись долгие зимние месяцы, а Джону удалось вырваться домой лишь на пару дней, и у Джесси возникло ощущение, что сложившееся положение равнозначно его выезду в экспедицию. Она подсчитала по памяти, что со времени своей свадьбы она оставалась одна более половины времени, страдая, тревожась за мужа и его благополучие. Ей не казалось, что деньги, сколь бы большой ни была их сумма, могут повлиять на ее чувства; для нее смысл жизни оставался бы тем же, если бы Джон зарабатывал всего несколько долларов. К концу ноября она получила по почте длинный конверт, адресованный полковнику Джону Ч. Фремонту, в нем был вопросник, касавшийся политических взглядов мужа. Комитет, приславший письмо, заверял полковника Фремонта, что если его ответы удовлетворят членов комитета, то в таком случае его кандидатура встретит поддержку на выборах на пост сенатора Соединенных Штатов. Она наняла индейца поехать в Марипозу, чтобы вызвать Джона, поскольку требовался незамедлительный ответ и оба письма предполагалось опубликовать в калифорнийских газетах. Джесси сняла с письма копию и отправила ее с посыльным, чтобы Джон мог сформулировать свои ответы еще на пути домой. Он прибыл к концу четвертого дня усталый и измученный. В районе Марипозы скопилось около трех тысяч золотоискателей. Индейцы соноранс подсчитали, что у них теперь достаточно денег до конца дней своих в Мексике, и прекратили работу. В Марипозе ни за какие деньги не найдешь рабочих рук, которые заменили бы индейцев. Джесси поняла, что ее муж менее, чем когда-либо, заинтересован в политике. Она согрела воду, чтобы он мог помыться после дороги, они сели пить чай с печеньем. — Ты видишь, — сказала Джесси, — я лучший провидец, чем повар. Я предсказала, когда ты уходил во вторую экспедицию пять лет назад, что станешь одним из первых сенаторов от Калифорнии. Как показалось ей, Джон не был доволен всплеском ее уверенности. Его глаза могли как бы всматриваться и в себя, и вовне, и она заметила, что уже несколько дней Джон ищет ответа, к чему лежит у него душа. — Если меня выберут, Джесси, — сказал он, — что будем делать с Марипозой и нашими шахтами? Очень скоро все золото будет вымыто. Мы должны купить машины, доставить компетентных рудокопов и вскрыть в горах жилу золотоносного кварца. Если мы не начнем такую работу в ближайшее время, ее начнут другие, и мы потеряем право на владение. По существующему закону мы не обладаем правом на минералы даже на нашей земле, пока не установим постоянное оборудование для горных работ. Если меня выберут и мы уедем в Вашингтон, то как знать, когда мы вернемся? Наши мечты о богатстве испарятся, богатство достанется другим. Джесси не считала это серьезной проблемой. Даже после выдачи индейцам соноранс половины золотого песка им останется около двухсот тысяч долларов. Это такие большие деньги, что их хватит на всю жизнь. К чему им миллионы, особенно если придется ради них уступить место в сенате Соединенных Штатов? Она считала неразумным спорить с мужем на эту тему. Это может выглядеть как попытка навязать ему ее собственные ценности, склонить его к мысли, что коль скоро он член семьи Бентон, то быть сенатором Соединенных Штатов — самое важное в мире, и поэтому Джон Чарлз Фремонт, ранее не стремившийся в сенат, должен отказаться от открывшейся для него возможности стать одним из самых богатых и наиболее влиятельных людей в мире. — Я не хочу давить на тебя слишком сильно, — сказала она. — Я всегда мечтала видеть тебя в сенате, но ты не должен подстраиваться под мои амбиции. В конце концов работу будешь выполнять ты, и только ты должен решать. Если ты хочешь попасть в сенат, мы должны написать самое убедительное изложение твоей политической философии, на какое только способны. Если же ты предпочитаешь остаться здесь и развернуть горные работы, тогда мы должны забыть о Вашингтоне. Лили и я переедем с тобой в Марипозу и построим там наш дом. Ты говорил, что нужны рабочие руки для шахт. Лучший способ привлечь их — основать жизнеспособную общину, с удобными хижинами, лавкой и школой для детей. — Да, альтернатива именно в этом. — В таком случае весь вопрос в ценностях. Что для тебя важнее? Он длительное время молчал, упершись подбородком в грудь, ушел в себя и не замечал напряженного выражения надежды на лице жены. — Я хотел бы испробовать и то и другое, — наконец сказал он, — думаю, что нам удастся. Я приму участие в выборах, и, если меня выберут, мы немедленно отправимся в Вашингтон. Когда наше судно прибудет в Нью-Йорк, я закуплю горное оборудование и пошлю его сюда. Я также попытаюсь нанять горных инженеров и отправить сюда для установки оборудования. По окончании сессии конгресса мы вернемся в Калифорнию и останемся там, как позволит время, чтобы понаблюдать за работами и ввести в действие систему. Он с надеждой взглянул на нее: — Как ты думаешь, Джесси, справимся ли мы, или я слишком честолюбив? — Попытаемся, дорогой. Можем ли мы начать работать сейчас над ответом на это письмо? — Нет, я слишком устал. Я хочу выспаться. Затем, в горах трудно следить за бегом времени, но, как мне кажется, прошел месяц с тех пор, как я обнял свою жену в последний раз. — Всего месяц? — прошептала она. — А я сказала бы: год. Весь следующий день они занимались составлением его демократической концепции свободного штата и ответов на вопросы, касающиеся Калифорнии. Завершив эту работу, он отправился на шахты, пообещав вернуться к Рождеству. Опять Джесси осталась одна в своих комнатах с окнами, выходящими на Тихий океан. Рождество приближалось медленно; стояла сумрачная, ветреная погода, и ни Джесси, ни Лили не осмеливались выходить на улицу. Джесси зажигала полдюжины свечей в оловянных подсвечниках, которые Джон прислал из Сан-Франциско вместе с мебелью, и рассматривала картинки в иллюстрированной лондонской «Таймс». За два дня до праздника, когда она занималась таким делом, дверь ее комнаты вдруг распахнулась, в комнату брызнул дождь, и дверь тут же захлопнулась. Джесси рывком повернулась от огня и увидела Джона, прислонившегося к мокрой двери, запыхавшегося. Его сомбреро, лицо, туземный жакет были мокрыми, вода стекала с его высоких сапог, образуя лужицы на полу. — Джесси, я не мог ждать. Я приехал из Сан-Хосе, чтобы приветствовать первую леди-сенаторшу из Калифорнии. Она крикнула со своего места: — Джон, тебя избрали! — При первом же голосовании, — радовался он. — Я получил двадцать четыре голоса из тридцати шести. Уильям Гвин был выбран при третьей баллотировке. Мы отплываем в Нью-Йорк в Новый год. Она вскочила с кресла, подбежала к нему, бросилась в его объятия и радостно поцеловала. — Ты намокнешь, — смеялся он. — Я просто здесь, чтобы не натащить в комнату воды. — Сбрось с себя одежду прямо у двери и иди к камину, согрейся у огня. Я сбегаю за сухой одеждой. Ты, наверное, устал. Ведь до Сан-Хосе семьдесят миль. После радостного ужина с хлебом, кофе, холодной говядиной и бутылкой шампанского в ознаменование победы они растянулись на теплой медвежьей шкуре, упершись в нее локтями; плясавшее в камине пламя освещало их возбужденные лица. — Мой дорогой, — шептала она, — каким счастливым будет для меня день, когда я увижу тебя в сенате! Я займу то же самое место на галерее посетителей, куда меня впервые посадил отец, чтобы послушать его выступление, а мне было тогда всего восемь лет. — Для меня счастливый день будет тогда, — присоединился к ней муж, — когда увижу, как Мейли подает тебе утром чай в постель. Позже в мерцании тлевших в камине углей они уснули на шкуре. На рассвете после чашки горячего кофе Джесси обняла мужа, и он снова уехал в Сан-Хосе. В приподнятом настроении она послала Грегорио срубить вечнозеленое дерево на холмах над заливом и поставить его в жилой комнате. Не имея рождественских украшений, она перебрала свое имущество и нашла немного оловянной фольги, скатала из нее мягкие шарики и подвязала их к концам веток. Оловянные подсвечники она закрепила на более толстых сучках, а затем вставила в подсвечники красные и желтые свечи. Открыв для ланча банку сардин, она попросила Грегорио вырезать из жести различные фигурки, сделать в них отверстия. Потом попросила его собрать обрезки металла около строящегося отеля, который был подведен под крышу. Грегорио сделал из этого металла звезды и полумесяцы, а Джесси покрасила их синей и красной краской, перед тем как повесить на дерево. Джон вернулся в канун Рождества с подарками для всех: для дочери он привез прекрасную куклу из Китая, для Джесси — мягкую красную кашемировую шаль и первую коробку изготовленных в Калифорнии конфет. Полная хлопот неделя между Рождеством и Новым годом была волнующей. Джон искал агентов для работы на шахтах. Из Марипозы пришли индейцы саноранс и забрали свою половину золота. Джесси занялась упаковкой имущества, нужно было сдать на хранение мебель, которая потребуется для дома в Марипозе, когда они вернутся туда и построят его. Она прошлась в последний раз по комнатам, вспомнила с горечью, каким неясным было будущее, когда они приехали сюда пять месяцев назад. Пароход «Орегон» вошел в гавань Монтерея в ночь на Новый год, сделав залп из орудий, чтобы известить пассажиров на берегу. Под проливным, невиданной силы дождем они добрались в сопровождении Грегорио и другого индейского боя, которые несли их багаж, до береговой линии по улицам, превратившимся в грязевые потоки. Джон посадил Джесси в весельную лодку, Грегорио нес Лили. Два индейских парня везли их в лодке под дождем в кромешной тьме. — Не плачь так горько, Грегорио, — пошутила Джесси, — ты зальешь лодку. Обещаю, скоро вернемся. Вновь взобралась она по веревочной лестнице, раскачиваясь из стороны в сторону под порывами ветра с дождем. Пароход «Орегон» причалил в Мазатлане пополнить запасы угля. Консул Паррот, сражавшийся бок о бок с полковником Фремонтом и Калифорнийским батальоном, поднялся на борт и пригласил их в свой мексиканский дом на обед. У побережья Мексики стояла теплая погода, и Джесси сочла, что ее одежда для Монтерея слишком тяжела. Роясь в своих мешках, она нашла подходящий для ее шерстяной юбки белый жакет со сборками. Вечером, ко времени возвращения на судно, похолодало. Джесси слишком поздно поняла, что допустила серьезную ошибку: возобновился кашель, приковавший ее к постели на весь остальной путь до Панамы. Джон также лежал на спине, вытянувшись, его левую сторону и обмороженную ногу сковал ревматизм. Их обоих сняли с судна на носилках, бледная от тревоги Лили наблюдала за ними. Вновь на помощь Джесси пришла мадам Арс. Она взяла семейство Фремонт в свой дом и разместила в той же самой спальне, которую занимала Джесси восемь месяцев назад. Мадам Арс и ее прислуга уделяли все свое время уходу за больной парой, скрывая от них тот факт, что и Лили слегла, заразившись местной малярией, и была не в лучшем состоянии, чем ее родители. Они намеревались сесть на судно, отплывающее от Чагреса через пять дней после высадки в Панама-Сити. Но эти планы поломались: они пролежали целый месяц в гамаках в доме мадам Арс. К концу месяца Джон смог, прихрамывая, ходить по комнате, а температура у Джесси приближалась к нормальной. Джон Л. Стефанс, строивший Панамскую железную дорогу, регулярно во второй половине дня навещал их, бормоча: — Я пришел, чтобы забрать от вас мой озноб. Когда оставалось совсем немного дней, чтобы успеть попасть на очередной пароход, отплывавший в Нью-Йорк, Джесси доказывала, что она вполне окрепла для поездки. Джон, хромая, выбрался из комнаты и пошел на военный корабль Соединенных Штатов, стоявший в гавани. Вернувшись, он сообщил: — Мы можем выйти утром. Мне дали корабельный гамак, мы сделаем навес для защиты от солнца и найдем индейцев-носильщиков, они перенесут тебя через перешеек. На следующее утро Джон Стефанс привел четырех лучших индейцев-носильщиков. Джесси уложили в морской гамак. Мадам Арс подложила ей под голову красивую шелковую подушку, обшитую кружевами, и набила пришитые к гамаку карманы носовыми платками и флаконами с одеколоном. Джон и Лили ехали на мулах. Лили поправлялась, но во время малярии пришлось обрить ее голову, лицо девочки оставалось напряженным и бледным. Джесси была поражена, увидев дочь, но вялая Лили заверила ее, что чувствует себя хорошо и вполне способна проехать на муле до Горгоны. Когда индейские носильщики проходили по улицам Панамы, местные жители выходили из домов, глазея на странный кортеж. В течение двух дней и ночей пешего пути и двух дней плавания в лодке по реке Чагрес Джесси регулярно принимала хинин и пила кофе и почувствовала облегчение, увидев мачты парохода. Очутившись в каюте, она села на край койки, погладила лоб мужа и откинула его волосы назад. Затем она легла рядом с ним на койке и привлекла Лили в свои объятия. Она лежала не двигаясь, одной рукой обнимая мужа, другой — дочь; в койке было тесно, но это не тревожило Джесси, ее переполняло счастье быть вместе с ними. С пристани в Нью-Йорке они поехали прямо в Ирвинг-хауз. Управляющий сказал, что им дадут номер, только что освобожденный Дженни Линк. Пройдя в гостиную, они встали посредине комнаты перед высоким французским зеркалом, в котором Джесси разглядывала свою семью. Вначале она посмотрела на Лили; та старательно ела все две недели, проведенные на судне, располнела, ее щеки налились. Шерстяное платье стало слишком тесным и, казалось, вот-вот лопнет спереди и сзади, оно стало также слишком коротким и не закрывало штанишки из неотбеленного миткаля. На ней были индейские тапки из оленьей кожи — подарок Грегорио, ее шляпу сдуло за борт, и она прикрыла свою бритую голову черным шелковым платком, делавшим ее похожей на детей иммигрантов из Европы. В середине стоял ее муж: в горняцких сапогах до колен, в калифорнийских панталонах горняка, куртке из оленьей кожи, рубашке с открытым воротом. Он повязал свою шею платком, неухоженную бородку расчерчивали седые прядки, а волосы отросли и стали такими же длинными, как после экспедиции. Потом она взглянула на собственное отражение: ее истощенная, бледная кожа имела желтоватый, желтушный оттенок, усиленный плохо сидевшей коричневой блузкой. Темная мятая юбка, сшитая ею из перелицованной дорожной одежды, спускалась до щиколоток, и из-под нее выглядывали побуревшие сатиновые туфли — единственные, какие у нее остались. Повязанная китайским шелковым шарфом шляпка из итальянской соломки контрастировала с коричневой блузкой и синей юбкой. Про себя она прошептала: «Леди-сенаторша с Золотого Запада. Посмотрела бы на меня мисс Инглиш!» Она год находилась в отъезде: шесть месяцев провела в Калифорнии, остальные — в путешествиях. Она не построила дом, не обосновалась прочно в стране; она не принадлежала ей, но хотела принадлежать. В глубине рассудка она осознавала, что причина ее неудачи в том, что, несмотря на ее всегдашние амбиции сторонника завоевания Запада, она отправилась в Калифорнию без чистосердечного желания навсегда осесть и строить там свою жизнь. Она поехала в надежде вскоре вернуться в Вашингтон с мужем-сенатором. В известном смысле она проявила нелояльность к новой земле, быть может, именно поэтому боги отказались освятить ее домашний очаг. Если бы она хотела основать домашний очаг в Калифорнии, то тогда ею руководила бы мысль остаться там навсегда, проявить лояльность и преданность, быть готовой к трудностям. Вопреки неважному виду всех трех стоявших перед зеркалом она поняла, что хочет возвратиться в Калифорнию. Быть может, в следующий раз она станет частью страны, сроднится с ее жизнью._/9/_
Они провели два дня, привыкая к тому, что под ногами твердая земля. Они купили свежую одежду, готовясь к поездке на поезде в Вашингтон. Джесси послала отцу телеграмму, извещая о благополучном прибытии в Нью-Йорк. Ее передали по проводам, прокладки которых Сэмюэл Морзе добивался от конгресса целых пять лет. В эти годы он часто навещал Бентонов, чтобы доказать выгодность телеграфа. На станции их встретил Том Бентон, постаревший и изнуренный, но счастливый приветствовать их с возвращением. Джесси впервые находилась в разлуке с семьей, и ей показалось, что за год произошли большие, чем можно было ожидать, перемены: ее сестры выросли и превратились в молодых леди; Рэндолф вымахал в высокого, приятного парня с тонкими чертами лица, унаследованными от матери; мать еще более похудела, а глубокие морщины на лице отца говорили, как тяжело бремя, лежащее на его плечах. Джесси бродила по дому, наслаждаясь запахом герани в гостиной, с удовольствием бросая взгляд на обеденный стол, застеленный камчатой скатертью, и на расставленную к обеду серебряную посуду. Она прошлась по библиотеке, прикасаясь к кожаным переплетам книг, к поручням кресел, к своему пюпитру у камина. Пришли друзья, они приветствовали их и поздравляли Джона с избранием. Джеймс Бьюкенен устроил в их честь официальный обед. Джесси заказала по этому случаю парчовое платье с кружевной отделкой. Усевшись за стол, за которым собрались друзья — служащие кабинета, конгрессмены, офицеры армии и флота, послы и иные представители вашингтонского общества, Джесси и Джон многозначительно посмотрели друг на друга; они не забыли, как отнесся к ним Вашингтон при их отъезде: их посетили лишь немногие — армейские офицеры не хотели якшаться с осужденным сослуживцем, чиновники кабинета держались в стороне, боясь поставить в сложное положение администрацию, конгрессмены не желали стать на ту или другую сторону. Ныне же они стали баловнями вашингтонского общества, разбогатевшими благодаря сказочному калифорнийскому золоту, а Джон получил пост сенатора от первого штата на Дальнем Западе. Взглянув на мужа, Джесси отметила, что на нем хорошо сидит новый вечерний костюм, но он похудел, седина и обветренное лицо старят его. Глядя на свою жену, Джон видел в ее облике женщину двадцати шести лет, с горящими карими глазами, каштановыми волосами, слегка поредевшими со времени их первой встречи, но с красивой, отливающей блеском плотной прической; ее кожа была по-детски чиста вопреки пережитому в Панаме и Калифорнии, а покатые белые плечи в сочетании с вечерним платьем из темно-голубой парчи ласкали глаз. Одновременно Джесси и Джон вспомнили тот момент в Ирвинг-хауз, когда они увидели в зеркале себя в помятых, плохо подогнанных костюмах. Джесси радовалась тому, что вернулась в изысканное общество. Она весело смеялась, слегка опьянев скорее от беседы, чем от множества тостов за Калифорнию и ее прием в Союз как штата. Глаза Джона также сверкали; он говорил о строительстве железной дороги в Калифорнию, о богатствах и красоте этого штата. Однако чаще Джесси и Джон искали глазами друг друга: им не верилось, что они вновь в Вашингтоне, где с ними ничего плохого словно и не было. Джеймс Бьюкенен наклонился и прошептал ей: — Мисс Джесси, не думаю, что вам следует флиртовать с собственным мужем, сидя рядом со мной. — Флиртовать? — Я назвал бы это так, — ответил он, — мысленное подмигивание, беглый взгляд, мимолетная улыбка… Яподозреваю, что ваш муж вас любит. — Необоснованная гипотеза, — рассмеялась Джесси. — Он ошеломлен и не верит глазам своим, увидев меня в вечернем платье после неотбеленного миткаля и черной шерсти. Прошла неделя приемов, обедов, развлечений, и они засели за работу. За закрытыми дверями библиотеки Томас Гарт Бентон признался дочери, что его положение в сенате под угрозой. Его длительное сопротивление расширению рабства сплотило сторонников рабства в Миссури, и после тридцати лет службы стало очевидным, что у них появился шанс провалить его на предстоящих выборах. Центр борьбы по вопросу о рабстве переместился сейчас в Калифорнию: поскольку калифорнийское законодательное собрание решило, что Калифорния — свободный штат, сторонники рабства в конгрессе полны решимости не допустить Калифорнию в Союз. Таким образом, Том Бентон оказался перед болезненной дилеммой: тридцать лет он готовил почву, чтобы включить Тихоокеанское побережье в Соединенные Штаты. Он неизменно возражал против расширения рабства за пределы южных штатов, но, если теперь он поведет борьбу за прием Калифорнии как свободного штата, его противники используют это в качестве предлога, чтобы выставить его из сената Соединенных Штатов. Джон был избран сенатором от Калифорнии, но Калифорния еще не была штатом, и поэтому он не мог выполнять свои обязанности. Официально он мало что мог сделать, чтобы ускорить прием Калифорнии в Союз, но неофициально чета Фремонт выступала послом доброй воли и носителем информации о топографии, климате, общей характеристике территории. Дом Бентонов на Си-стрит посетили многие представители официального Вашингтона. Те из них, кто был скептически настроен по поводу освоения отдаленной земли, уходили к концу вечера, заразившись так или иначе энтузиазмом Фремонтов. Ни Джесси, ни Джон не ожидали серьезной борьбы вокруг приема Калифорнии: какой смысл вести войну на территории, направить туда тысячи поселенцев, а затем отказаться включить ее в государство? Тем не менее проходили недели и месяцы, приятная весна сменилась знойным летом, жгучее лето — ранней осенью, а фракция сторонников рабства продолжала маневры с целью добиться все больших уступок в свою пользу в обмен на принятие Калифорнии. В свободное время Джон занялся закупкой горного оборудования, которое отправил в Сан-Франциско. После третьей закупки, за которую он выложил значительную сумму наличными, он сообщил Джесси, что намерен капитализировать Марипозу, объявить о сдаче внаем некоторых шахт и продаже акций. Это обеспечит капитал для постройки плотин, дорог и приобретения иного дорогостоящего оборудования, столь необходимого для крупных горных работ. Эта идея расстроила Джесси, поскольку она означала вхождение в бизнес — появятся держатели акций, управляющие и правление, к которому постепенно перейдет контроль. Джон станет ответственным за слишком большое число людей. Она спросила мужа, не лучше ли вести работы в малом масштабе и оставаться хозяевами шахт. Он ответил смеясь: — Джесси, похоже, что ты не хочешь, чтобы мы извлекли как можно больше золота из Марипозы. Ты не любишь деньги? — Да. Я люблю деньги, — воскликнула она, — но, подобно всякому другому пороку, не надо слишком увлекаться! Кроме того, я думаю, у тебя более важное предназначение, чем копить деньги. Рассказывала ли я тебе, что говорил Николлет о деньгах? Жадность к деньгам, сказал он, — это бедственный период, как отрочество, которое мы должны пройти до достижения зрелости. Я хотела бы получить от Марипозы скромное количество золота, Джон, достаточное, чтобы купить тебе свободу и иметь возможность финансировать работу по твоему вкусу: новые экспедиции, прокладку железной дороги в Калифорнию, строительство сухопутной дороги на Запад. Я не думаю, что золото Марипозы должно стать самоцелью, оно должно быть средством, помогающим добиться успехов в жизни и работе. Неужели я говорю как школьный учитель, читающий мораль? — Ты говоришь как школьный учитель… и говоришь разумно. Однако нельзя противоречить судьбе. Боги вложили в мои руки золотоносную жилу, не разработать ее до конца, отказаться извлечь золота на миллионы долларов из кварцевых жил — это равноценно отказу от дара богов. — Да, — задумчиво согласилась она, — я понимаю твою точку зрения. Но не приходило ли тебе в голову, что боги могут оценить и сдержанность? Может быть, лучшая часть добродетели в том, чтобы не набрасываться с жадностью на их дары? Когда сторонники рабства в Монтерее убеждали тебя, что ты можешь стать самым богатым в мире, если используешь рабский труд на шахтах, ты сказал, что это была бы слишком высокая цена за богатство. Если так, то разве не слишком дорого посвятить свою собственную жизнь одной лишь добыче золота? Я предпочла бы видеть тебя свободным рабочим, чем закованным в цепи владельцем шахты. Джон не согласился с ней, и в итоге английский агент по имени Гофман получил право сдать в аренду шахты «Аве Мария», «Западная Марипоза» и «Восточная Марипоза». После подписания соглашения Гофман сел на первый отплывавший в Англию пароход, чтобы учредить акционерные компании, доход от которых требовался Джону для превращения этих шахт в основные добывающие предприятия. Спустя несколько недель Джесси узнала, что ее муж договаривается со вторым агентом — Томасом Сарджентом о передаче ему права сдать в аренду половину обширного участка Марипозы. Сарджент также собирался в Англию для размещения там акций компании. Ей не хотелось вмешиваться в деловые договоренности своего мужа, и она успокоилась, узнав об одобрительном высказывании отца о Сардженте и передаче ему прав на аренду. Утром 10 сентября 1850 года, в день представления Джона Чарлза Фремонта сенату Соединенных Штатов, Джесси встала рано, не спеша приняла ванну, намазала кремом лицо, потом села перед туалетным столиком и занялась своей прической. Когда же она попыталась подняться, чтобы надеть платье, то почувствовала тошноту, подобную той, которая была у нее, когда она вынашивала сына. Она весело рассмеялась при мысли, что Калифорния — плодородная страна, но Вашингтон лучше подходит для зачатия! Вместе с мужем и отцом она поехала в сенат; по дороге они веселились словно дети, глупые шутки вызывали взрывы смеха. И все же за смехом скрывались тревожные опасения: Том Бентон знал, что Юг обозлен и напуган, быстро теряет выдержку, и эта сессия вполне может стать для сенатора последней. Он мечтал умереть за пюпитром сенатора во время яростных дебатов. Если его отстранят теперь и он станет первой жертвой конфликта между Севером и Югом, ему тем не менее приятно сознавать, что его место займет муж его дочери, а Калифорния с 1840 по 1870 год будет считаться границей свободы и столицей Запада, как считался штат Миссури на протяжении тридцати лет, с 1820 по 1850 год, когда он был сенатором. Джесси заняла привычное место в первом ряду галереи посетителей напротив отца, близкое к верхней части полога, прикрывающего кресло спикера. Внизу размещались сенаторы от тридцати одного штата в своих длинных узких черных брюках со штрипками, в черных сюртуках с длинными фалдами и широкими бортами, в белых сорочках с бабочкой. Джесси считала, что ее муж — самый молодой и самый красивый из сенаторов. Она переполнилась гордостью, когда он приносил присягу в качестве сенатора Соединенных Штатов. Три оставшиеся недели сессии сената она упорно работала секретарем Джона, используя весь свой опыт путешественницы, домашней хозяйки и матери. Однако Джону не требовалось большой помощи; она поразилась, с какой ясностью и проницательностью действует его рассудок. Не будучи юристом, он продиктовал законопроекты о распространении судебной системы Соединенных Штатов на Калифорнию, о даровании общественных земель для образования и строительства университетов, приютов для глухонемых, слепых и умалишенных, о регистрации прав на землю, на поселение, на закладку шахт, о разработке системы почтовых маршрутов и национальных дорог в Калифорнии. Она поняла, что Калифорния обрела хорошего представителя. Его восемнадцать законопроектов, направленных на облегчение миграции населения на Запад и на внутреннее развитие Калифорнии, были приняты сенатом. В конце сессии даже те южане, которые настойчиво выступали против принятия Калифорнии, — Барнуэлл, Дэвис, Кэльхун, Клей — поздравили сенатора Фремонта с его законодательной инициативой. Беременность Джесси протекала хорошо, она чувствовала себя здоровой, счастливой, уверенной в будущем. Она не ограничивала себя, совершала длительные прогулки, часто танцевала на балах. В день роспуска сената на каникулы она спросила: — Когда Гвин возвращается в Калифорнию для переизбрания? После некоторого колебания Джон ответил: — Он не едет. По крайней мере не сейчас… Она моргнула, не поняв: — Он не едет для перевыборов? Но это не похоже на Гвина. Он сам сказал мне, что намерен оставаться сенатором от Калифорнии. — Да, это правильно. Но ты знаешь, Джесси, у нас есть два срока: долгий и краткий. — Ты выбран на долгий срок. У тебя еще пять лет… Джон покачал головой: — Никто из нас не избирался на длительный срок. Я понимаю, ты все время думала, Джесси, что я выбран на длительный срок, и была так рада, что мне не хотелось тебя огорчать. Ее щеки вспыхнули. — Но почему я должна была огорчаться? Ты получил подавляющее число голосов. Значит, именно тебя хотят видеть в сенате, а это дает тебе право на шестилетний срок. — В избирательном законе не говорится об этом. Гвин и я должны тянуть жребий. Ей отказала выдержка: — Это нелепо, Джон, втягиваться в игру по поводу места в сенате. Почему не побороться за свои права? Я не понимаю тебя, ведь это не в твоем характере. Две трети голосов, отданных за тебя в Калифорнии, означают, что длительный срок — твой. У Гвина нет реальных интересов в Калифорнии: он поехал туда как политический авантюрист, решивший извлечь из пирога призовую сливу! Что он знает о Калифорнии? Какую роль он сыграл, чтобы сделать Калифорнию американским штатом, помимо того что пытался склонить депутатов конвента в пользу рабства? Твои экспедиции и доклады привлекли в Калифорнию половину семей, ныне живущих там. Ты сыграл решающую роль в завоевании штата, не допустил его захвата англичанами. Ты знаешь каждую долину, каждый горный хребет. Ты знаешь тамошний народ, его нужды, они доверили тебе совершить для них важные дела здесь, в Вашингтоне… Выплеснув свой гнев, она опустилась в кресло: — Извини, что накричала на тебя, но ведь нелепо для первого гражданина Калифорнии вступать в игру из-за места сенатора с политическим авантюристом. В этом нет ни толка, ни смысла. Он сел рядом с ней и своей рукой смахнул набежавшие на ее глаза слезы. — Я ничего не могу поделать, Джесси. То, что ты предлагаешь, вызовет скандал. Люди начнут говорить, что это новый бунт Джона Фремонта против установившихся традиций. Ты видишь, нет закона, который был бы на моей стороне; всегда существовало джентльменское соглашение, что два сенатора, выбранные от нового штата, должны тянуть жребий, кому какой срок выпадет. Ссылка Джона на новый бунт Фремонта успокоила ее. — Твоя позиция против рабства породила в Вашингтоне влиятельных врагов, настроенных против тебя, — сетовала она, — но к концу шестилетнего срока ты помиришься с ними. Ты сделал так много доброго для Калифорнии, что тебя будут переизбирать вновь и вновь все тридцать лет, как отца от Миссури. Но если ты вернешься сейчас, после трех недель пребывания в сенате, сторонники рабства разорвут тебя в клочки. В темных глазах Джона сквозило выражение боли. — Мы должны уповать на шанс вытянуть свой жребий. Пожелай мне удачи, дорогая. Мне достанется длительный срок. Она грустно улыбнулась, поцеловала его в уголок рта. — Конечно, тебе должно повезти, — сказала она. На следующий день Джону не было нужды открывать рот. Возвращаясь домой, он нес на лице вежливую, но отчужденную маску — он вытянул краткий срок. Надежда на тридцатилетнее пребывание в сенате рассеялась после трех недель! Новый каприз фортуны: они находились на низшей точке, колесо повернулось, они нашли золото, были избраны, с триумфом вернулись в Вашингтон. Новый поворот: тысячи золотоискателей наводнили их земли, они были вынуждены войти в компании и уступить контроль над своей собственностью; карьера сенатора завершилась, не успев начаться._/10/_
Джесси иногда сопровождала Джона в его поездках в Нью-Йорк, где он закупал горное оборудование, необходимое для прокладки штолен в Марипозе. Он решил провести Новый год в Вашингтоне, а 2 января 1851 года отплыть из Нью-Йорка. Она долго обсуждала сама с собой, сопоставляя различные стороны проблемы: она — на шестом месяце беременности, хотя волнение на море не представляло большой опасности, но переход Панамского перешейка создавал таковую. Потеряв сына, они вдвойне дорожили зревшим в чреве ребенком; и в то же время ей казалась невыносимой мысль о новой длительной разлуке с мужем. Она понимала, что за ней будут внимательно ухаживать при переходе к Панаме, ведь Джон будет рядом. В ее сердце не было и тени страха: не часто выпадает возможность показать качества жены первопроходца, намерение создать дом и свой очаг в Калифорнии. Она бросала вызов, более существенный и важный, чем ее первая поездка, когда она ехала одна: довезти в своем лоне новое пограничное поколение, родить своего ребенка в нарождающейся общине. — Я уеду ненадолго, Джесси, — уверял Джон, — на срок, достаточный, чтобы выставить свою кандидатуру для перевыборов и проследить за установкой горных машин. К июлю я вернусь в Вашингтон. — Ты имеешь в виду, что мы вернемся к июлю в Вашингтон, — спокойно ответила она. — Я еду с тобой. В его глазах мелькнул страх. — Но ты не можешь… Мы не можем рисковать ребенком. Трудности перехода через Панаму… Она решительно встала перед ним, откинув голову назад вдохновенным движением. — Нам нечего бояться, — заявила она. — Я никогда не чувствовала себя такой сильной и полностью уверена, что ношу здорового ребенка. Если ты едешь в Калифорнию, то ребенок и я едем с тобой. Твой сын родится в Калифорнии. — Но, Джесси, — протестовал он, — зимой океан беспокойный. Тебе придется ехать по тропе Горгоны на муле… — Нет, нет, — крикнула она, — я проследую по тропе в моем паланкине! Прошлый раз переход был удобным. Я узнала многое о Панаме, я заберу свой чайный прибор, необходимые в походе консервы. Этот переход будет более быстрым — через перешеек прошло множество американцев. Пожалуйста, не будем спорить. Я уверена всем сердцем: это лучшее для нашего ребенка. 3 января они отплыли в направлении Чагреса. Несколько первых дней стояла штормовая погода, и Джесси отсыпалась в своей каюте. Лили составляла на палубе компанию отцу. В Чагресе была построена небольшая пристань, и поэтому в гавани не нужно было перебираться с судна на сушу в лодке. Джон заблаговременно выслал деньги и инструкции, и их ожидала лодка для переезда от Чагреса до Горгоны. Джесси покачало немного в крытом гамаке на горной дороге, но трудности были детской забавой и ничуть не беспокоили. В Сан-Франциско они прибыли в начале апреля. Высадившись на широкий деревянный пирс и впервые увидев город, она радовалась своему решению: город расширился, вырос словно по мановению волшебной палочки; появилось много домов, сотни рабочих пилили и сколачивали доски, были проложены деревянные тротуары, а Маркет-стрит превратилась в респектабельный район с гостиницами и деловыми фирмами. Она хотела, чтобы ее ребенок родился не в гостинице, а в своем доме, около домашнего очага, поэтому они немедля занялись поисками продающегося дома. Единственный продававшийся в тот момент дом представлял уродливую рамную конструкцию на Стоктон-стрит с видом на площадь Портсмут. Внутри отсутствовали всякие украшения, стены были голыми, но комнаты — просторными, а мебель — удобной. Они купили дом и въехали в него. Утром 15 апреля Джесси родила сына, и они назвали его Джоном Чарлзом. Грегорио немедля присоединился к семье Фремонт. Когда детская няня объявила, что уйдет к концу первой недели, Грегорио рассмеялся: — У моей мамы было десять детей, и я помог вырастить семерых. Я умею все делать. После того как уйдет няня, я буду ухаживать за Чарли. Джесси оставалась в постели, а Джон обходил Сан-Франциско, нанимая механиков для шахт, покупая запасы, проверяя дома и лавки, построенные на земле, которую он скупил перед отъездом в Вашингтон. Члены комитета австралийцев, образовавших колонию на землях Фремонта, посетили дом и вручили Джесси петицию с просьбой разрешить им купить эти земли, чтобы они чувствовали себя постоянными жителями. В тот же вечер она просила Джона продать австралийцам собственность, подчеркивая, что эти люди страстно хотят иметь свой домашний очаг. Ребенку было пятнадцать дней от роду, она качала его в самодельной люльке, как вдруг услышала встревоженные крики внизу. Вскоре она почувствовала запах дыма. Позвав Грегорио, она спросила, что происходит. — На южной стороне площади пожар. — Он идет к нам? Грегорио подошел к окну спальни и ответил: — Не могу сказать, куда продвигается пожар, но ветер дует на нас. В этот момент ворвался Джон с одеялами и гамаком. — Тревожиться не надо, — уверенно сказал он, — но мы должны быть начеку. Дома ниже нас загораются. Если огонь поднимется еще выше, то Грегорио и я отнесем тебя и ребенка к Рашен-Хилл. Песчаные дюны остановят огонь. Я уже отправил наше серебро и бумаги. — Мне доводилось жить в гамаках, — спокойно ответила она, — предупреди меня за две минуты, чтобы подготовить Чарли. К наступлению ночи полыхал весь город, воздух был насыщен дымом и пеплом. Лежа в постели, Джесси видела, что ночное небо становится все более багровым. На холме собрались друзья, помогавшие Джону вешать мокрые простыни и ковры на стены дома, гасившие долетавшие искры. Она слышала внизу крики людей, боровшихся с огнем. По ярким отблескам пламени и растущей жаре она могла судить, что пожар продолжает ползти вверх по холму. Огонь распространялся по дощатым тротуарам, и потрескивание горящих деревянных строений смешивалось со звуками пожарных колоколов и криками людей, метавшихся по улицам, спасая свое имущество. В полночь направление ветра резко изменилось. Огонь вновь устремился через площадь на юг. Их дом уцелел. На следующее утро, опираясь на руку мужа, Джесси обошла вокруг дома, оценивая ущерб. Ниже холма большая часть города превратилась в груду золы. На ее собственном доме вздулась краска, но других повреждений не было. Только придя в дом и вновь забравшись в постель, она осознала, что ее спокойствие в предшествовавшую ночь было тем же видом защиты, какая помогла ей быть готовой к переходу по Панамскому перешейку. К концу месяца, когда она восстановила свои силы, прибыло оборудование для шахт. Джон выехал в Марипозу проследить за его установкой. Он выдвинул свою кандидатуру на перевыборах, однако не вел кампании в свою пользу. Джесси удивлялась, почему ее муж не стремится получить политический пост с той же энергией, с какой хочет сделать себя процветающим инженером. Избирательная кампания требовала, чтобы кандидат выступал перед публикой, объезжая штат, беседовал с различными группами, регулярно печатался в газетах, относился к политике как к бизнесу или профессии и отдавал ей все силы ради достижения желаемого результата, но Джон не участвовал в самой избирательной кампании. В Монтерее он спокойно говорил жене: — Каждый в этом штате знает меня и отдает себе отчет, хочет он или нет, чтобы я стал сенатором. Пожатие нескольких тысяч рук не изменит результатов голосования. Если большинство населения этого штата за рабство, тогда я потерплю поражение. Если же большинство за свободу, тогда меня вновь пошлют в сенат. Никто не изменит мнения сторонника рабства, выступив перед ним, и, кроме того, я плохой оратор. Джесси уважала его сдержанность, его нежелание сражаться за место в сенате. Тем не менее она желала отыскать способ развернуть кампанию в его пользу. Она была бы готова запрячь карету и начать объезд штата, выступать в любом поселке или деревне, оспаривая доводы сторонников рабства. Но увы, она ничего не могла сделать: жена не может вести кампанию за мужа и, уж конечно, не может заставить мужчину ввязаться в публичные дебаты, если он не склонен к этому. И вновь ее озадачил загадочный характер мужа. Почему в определенных обстоятельствах он присваивает себе больше власти и авторитета, чем положено, а в других — он скромен, уступчив, отказывается от решающей роли вопреки всеобщим ожиданиям? Быть может, он ведет себя так потому, что военно-полевой суд объявил его узурпатором, человеком, одержимым личной властью и славой, а он хочет доказать, что это не так? Или же такие особенности его характера являются следствием противоречий, порождаемых его рассудком: когда речь идет о политике, его рассудок диктует одно сочетание позиций, когда же дело касается войны с армией — другое, и притом весьма отличное? Лишь она одна знала, как много вариантов решений мог предложить его ум и насколько они различны. Джесси вспомнила первые дни медового месяца, когда она смутно догадывалась, что для того, чтобы понять своего партнера, раскрыть тайны его характера, неизвестные ему самому, потребуется вся жизнь. Тогда она сказала себе: «Я не хочу поверхностного мужчину. Мне нужен волнующий поиск, требующий приложить усилия, чтобы понять, а что будет дальше, и совместить фрагменты в целостную картину. Каким великим будет тот час через десять, через пятьдесят лет, когда я наконец пойму Джона!» Она замужем уже десять лет, она поняла многие мотивы поведения мужа, но должна признаться себе, что все еще не ближе к пониманию его характера, чем в день свадьбы. Сан-Франциско рос с поразительной быстротой. Джесси нравилось посещать деловой квартал, где она покупала редкие предметы искусства и мебель, привезенные с Дальнего Востока, вина и сладости — из Парижа, шерстяные ткани — из Англии. Во время одной из таких вылазок она приобрела два понравившихся ей набора лиловых занавесей. Перехваченные розовыми лентами, они украсили гостиную и столовую. В Сан-Франциско появились процветающая газета и театр. Тысячи людей прибывали в город по суше и на судах, приходивших из Австралии и с Дальнего Востока. Это была смешанная публика: вместе с фермерами и поселенцами из восточных штатов, благоразумными бизнесменами и золотоискателями прибыло значительное число английских преступников, освобожденных из Ботани-Бей в Австралии, приехали также члены разнузданной «гард мобиль», высланные из Парижа ради безопасности Франции; наезжали распоясавшиеся профессиональные авантюристы и игроки, воры, вымогатели, мошенники, убийцы из всех уголков Америки, рвавшиеся в эту сказочно богатую и притягательную пограничную территорию. Несмотря на то что в Вашингтоне были приняты законопроекты сенатора Фремонта об учреждении судов и правовой структуры, их механизм в Сан-Франциско все еще не действовал. Повсюду господствовало насилие, вооруженные воровские банды бродили ночью по улицам, грабя и стреляя. Поджигались дома и деловые конторы тех, кто пытался сопротивляться; с наступлением темноты женщины не осмеливались выходить из дома; собственность не была защищена от грабежа. Почтенные торговцы и поселенцы в Сан-Франциско начали организовываться с целью окоротить преступные элементы, которые, как утверждалось, подожгли город. Комитет граждан, назвавший себя комитетом «бдящих», предупредил, что установит свой закон и накажет злоумышленников; в результате в городе началась гражданская война. В теплый полдень, когда Джесси сидела в садике, откуда открывался вид на залив, через забор кто-то бросил рукописную листовку. Она прочла:«Если жители Сан-Франциско осуществят свои угрожающие намерения, мы сожжем город. Мы заставим страдать за ваши действия ваших жен и детей».Джесси знала, как быстро распространяется пожар в открытом для ветров городе, и боялась, что ее собственный деревянный дом может быть охвачен пламенем, прежде чем она сможет увести своих детей в безопасное место. С этого момента она не спала по ночам, а читала, писала письма отцу и мужу, то и дело бросая взгляд на окна, выходившие на три стороны. Утром, после того как Грегорио и его кузина, нанятая няней для Чарли, вставали, она закрывала ставни в своей комнате и спала до полудня. Однажды в воскресенье, когда Грегорио и его кузина ушли в церковь и колокола начали отбивать десять часов, то есть время, когда летний ветер обдувал Сан-Франциско, она заметила, что в жилой части города ниже ее дома сразу в нескольких местах появилось пламя. Она взяла Чарли, еще не одетого и мокрого после купания, завернула его в свою юбку. Вошла Лили, в руках она держала двух своих любимцев — цыплят и спросила: — Мама, ты можешь найти мне ленты, чтобы связать им ноги? — Ступай вверх, на холм, к дому миссис Фуржанд на Клей-стрит, и оставайся там, пока я не приду за тобой. Прибежал лейтенант Биль без фуражки, его лицо было темным от сажи. Он вывел Джесси из дома в тапочках и халате и провел ее по крутому склону холма к дому миссис Фуржанд. В этом безопасном месте собралось много женщин и детей. Лили бросилась в объятия матери, а лейтенант Биль разрядил обстановку, сказав: — Посмотрите, ребенок все еще спит на моем плече. Джесси прошла в комнату, из окна которой был виден горящий город. Перед окном стояла на коленях француженка, истерически хохотавшая при виде пламени, охватившего ее дом. Через несколько минут она повернулась к Джесси и, узнав ее, закричала: — Мадам Фремонт! Ваш дом будет следующим. Сюда, займите мое место. С него лучше всего будет видно, как сгорит ваш дом! Сердобольные женщины увели потерявшую рассудок. Джесси долго стояла у окна, ее сердце сжалось, когда она увидела, что ее дом, место рождения Чарли, вспыхнул словно сухой трут, его сразу же охватило пламя со всех сторон. Через час не осталось ничего, кроме закопченной кирпичной трубы, которая, как указующий перст, обвиняла небо. К вечеру большая часть Сан-Франциско снова сгорела до основания. Лейтенант Биль вернулся в дом миссис Фуржанд и сообщил: — У меня есть место, где вы и дети сможете отдохнуть сегодня ночью. Там, понятно, не очень комфортно, но есть хотя бы еда и одеяла. Идемте, представим, что вновь разбили лагерь на полуострове Монтерея. В эту ночь она лежала на койке в палатке, установленной на песчаных дюнах, ребенок спал, положив ей голову на плечо. А Лили со своими двумя цыплятами с перевязанными голубыми лентами ногами спала на матрасе на полу. Джесси всю ночь дрожала, оплакивая потерю своего первого собственного дома. С горечью она вспоминала: «Боги не спешат освятить новый домашний очаг». В ее ушах стоял звон колоколов пожарников; сомкнув воспаленные глаза, она продолжала видеть горящий город, вспыхивали один за другим дома, пока весь мир не показался ей охваченным пламенем. На следующее утро пришел лейтенант Биль и сообщил, что он и Грегорио работали всю ночь в бывшем армейском бараке, находившемся в нескольких милях в дюнах, почистили его и привели в такое состояние, что в нем можно жить, пока не будет построен новый дом. Возчиков нанять было невозможно, и ей пришлось идти по песку в промокших, облепленных грязью тапочках и халате, полы которого обтрепались. Добравшись до барака, она обнаружила найденную мужчинами свежую одежду, несколько книг, свечи и ящики с провиантом. Когда уснули дети, Джесси всю долгую ночь читала при свечах книгу Дональда Митчелла «Мечты холостяка». Она была слишком возбуждена и не могла спать, в отчаянии даже думала о том, что было неразумно поселиться в такой дикой общине. Ребенок проснулся на рассвете и потребовал, чтобы ему дали поесть. Девушка-индианка пришла с сообщением: — Грегорио нашел белую козу, у которой много молока… Джесси улыбнулась и поблагодарила ее, но девушка не уходила. — К вам пришли несколько человек, — произнесла она. — Пожалуйста, поговорите с ними. Джесси вымыла руки и лицо, причесалась и оделась. Она прошла в переднюю комнату барака и открыла дверь. Перед ней стояли австралиец средних лет и его жена. Джесси узнала в них представителей арендаторов, просивших, чтобы им продали землю, принадлежавшую Фремонтам. За ними она увидела процессию людей, тянувшуюся через дюны, каждый из них нес сверток или тюк, а некоторые тянули тележки. — Что это? — изумилась она. — Дело вот в чем, миссис Фремонт, — ответил австралиец, — когда в воскресенье утром начался пожар, мы решили, что ветер принесет его к вашему дому. Мы все бросились к вам посмотреть, сможем ли спасти дом. Но вы и малыши уже ушли. — Увидев, что не сможем спасти ваш дом, мадам Фремонт, — вмешалась жена австралийца, — мы сделали другое: спасли все, что было в доме. Она повернулась и указала на процессию людей. — Мы вынесли всю вашу одежду, мебель, зеркала, фарфор, серебро и стекло, коврики и ваши книги, мадам Фремонт, вы потеряли лишь здание, больше ничего. Джесси видела, как арендаторы подходят один за другим к переднему крыльцу и кладут на пол ее ценные вещи: украшения и личные предметы, тарелки и флаконы с духами, одежду и постельное белье, детскую одежду и игрушки, привезенные из Вашингтона, продовольствие и ящики с вином, даже лиловые занавески, перехваченные розовыми лентами. Австралийцы внесли в барак мебель, поставили в задней комнате кровати, втащили в переднюю комнату книжный шкаф и расставили на его полках книги, прикрепили занавески к окнам, повесили картины на стены, а на пол положили коврики. В течение часа барак на песчаных дюнах преобразился в домашнее хозяйство Фремонтов. Затем предводитель принес в красном шелковом платке тяжелый сверток. — Мы знаем, что полковника нет дома, — сказал он, — и, поскольку в доме малое дитя, мы подумали, что деньги пригодятся. Это аванс за три месяца. Он развязал платок и высыпал на стол кучу монет. Взволнованная Джесси не смогла сдержать слезы. Она пожала каждому руку, душевно выражая свою благодарность. Прошло несколько дней. В окружении спасенных вещей она чувствовала себя уютно, но ей очень хотелось иметь около себя мужа. В Марипозу не ходила регулярная почта, а посылать за ним нарочного она не хотела. Оставалось просто ждать, пока он узнает о новом пожаре, уничтожившем город. Спустя почти неделю, сидя на крыльце под теплым июньским солнцем, она увидела знакомую фигуру, пробирающуюся через дюны. Она вскочила и побежала по песчаным наносам ему навстречу. Когда она смогла освободиться из его объятий, то спросила: — Как ты узнал, где нас искать? — Я прибыл ночным пароходом из Стоктона, — ответил он. — От площади я вбежал на холм, к месту, где стоял наш дом. Там не осталось ничего, кроме трубы, освещенной солнцем. Я спросил прохожего, знает ли он, где находитесь вы, и тот ответил: «Около церкви Грейс». Я осмотрел окрестности с приступка церкви и увидел этот маленький дом с лиловыми занавесками на окнах. Узрев розовые ленты, убедился, что ты там. В этот полдень Джесси послала за австралийскими съемщиками. Джон старательно писал за своим столом. Он сердечно поблагодарил пришедших, а затем взял в руки пачку бумаг: — Вот ваши купчие. Теперь вы владеете землей. Наступило молчание, мужчины ознакомились с купчими. Представитель австралийцев произнес: — Полковник Фремонт, это лучше, чем мы ожидали. Мы можем заплатить немного больше. — Вы уже заплатили это «немного больше», — ответил он. — Удачи вам, да благословит вас Бог. Каждый пожал ему руку и в свою очередь поблагодарил. После их ухода Джесси торжественно поцеловала мужа и сказала: — Благодарю тебя, дорогой. Это был специальный подарок для меня. В этот вечер во время прогулки по холмам над городом, восстававшим из пепла, Джон рассказал ей о своих неприятностях в Марипозе: о серьезных спорах с рудокопами, утверждавшими, будто они заложили свои шахты до его приезда, а он сознательно так обозначил границы своей земли, чтобы были затронуты их участки. Они отказались оставить свои шахты и угрожали войной, если кто-нибудь попытается выставить их. Оборудование, приобретенное им в Нью-Йорке, оказалось дорогостоящим и неэффективным — из кварца извлекалась лишь небольшая часть заключенного в нем золота. Нанятые им горные инженеры, проезд которых до Калифорнии он оплатил, ушли от него, сделав собственные заявки. Для эксплуатации шахты требовались плотины, дороги, дробильные установки, но из Англии деньги не поступали, более того, в Лондоне возникли осложнения с компаниями, учрежденными для аренды участков в Марипозе. Его первый агент Гофман оказался честным и порядочным человеком, а Сарджент — мошенником. Используя лондонскую прессу, он предложил продажу акций на условиях, которые осложнили положение Гофмана; банки и вкладчики, заинтересовавшиеся вначале арендой участков в Марипозе, отозвали свои предложения, а Сарджент распространял акции на основе, которая грозила лишить Фремонтов всех их владений. Но это было еще не все. Индейцы, ладившие доселе с белыми, встали на тропу войны, так как рудокопы лишили их охотничьих угодий, перебили и съели крупную дичь и так далеко оттеснили племена в горы, что теперь они не могли обеспечить себе пропитание. Племена собрались на общий совет и решили убить и съесть весь скот белых, а затем изгнать их из района. Начались перестрелки и убийства; горные работы в Марипозе пришлось остановить. Комиссары Соединенных Штатов вели переговоры с индейцами, пытались оттеснить их с золотоносных территорий в новые охотничьи земли. Индейцы согласились на переход при условии, что их обеспечат мясом на время, необходимое для перемещения племени и освобождения новых земель. За небольшое поголовье скота была затребована такая цена, что комиссия оказалась не в состоянии обеспечить выполнение договоренности. Индейцы готовились вести открытую войну с целью выгнать белых с золотоносных земель. — А как с твоим скотом, Джон? У тебя достаточное поголовье, чтобы обеспечить их потребности? — Да. Но у комиссии нет средств для оплаты! Я готов предоставить скот в кредит, но ты знаешь, как выходило неладно, когда я тратил деньги, желая помочь правительству. Мои расписки, подтверждающие получение провианта на полмиллиона долларов во время завоевания Калифорнии, так и не были оплачены… — Но если ты сделаешь комиссии предложение в духе доброй воли, — сказала Джесси, — а она даст расписку о его принятии? — Но когда мы получим причитающиеся нам деньги? Комиссия вернется в Вашингтон лишь через год. К тому же, если департамент внутренних дел откажется поверить, что индейцы в отчаянном положении и готовы к набегам, он может дезавуировать собственную комиссию, как дезавуировали меня. Никто не может предъявить иск федеральному правительству, и я вновь окажусь в неловком положении, обращаясь к конгрессу с просьбой об оплате поставок скота. Я не только рискую никогда не получить свои деньги и многие недели ходить с протянутой рукой, но и не желаю предстать перед американским народом как лицо, пытающееся заработать на правительстве. — Тогда не гонись за деньгами, — спокойно ответила Джесси. — Ступай в комиссию и предложи им сделку, которая лишь покроет твои расходы. Это сохранит правительственные доходы и предотвратит войну с индейцами. Пока ты располагаешь поголовьем скота, ты можешь отделаться меньшим. — Нет, сенатор Бентон, не могу. Черт возьми, это значит, что я не буду на шахтах целый месяц и тогда, вероятно, не верну свои деньги. Но я не могу пойти на меньшее. Следующим утром он отправился к комиссару Барбуру и сделал ему предложение. Барбур ответил: — Ваше предложение — самое экономное и наилучшее, какое исходило когда-либо от уважаемого человека. Я принимаю его. Джон рассказал Джесси о разговоре. Она смотрела, как он вновь садился в седло для поездки в Южную Калифорнию, чтобы лично отогнать скот.
_/11/_
Сентябрь был приятным. Туман рассеялся, светило яркое, теплое солнце. Каждый день Джесси бродила по холмам и песчаным дюнам с Лили и малышкой Чарли, которого на индейский манер носили либо Грегорио, либо его кузина. Бухта и пролив сверкали под лучами осеннего солнца. Дети росли крепкими и розовощекими. Джесси говорила с Джоном об их доме: стоит ли им купить, пусть даже за непомерную цену, одну из сохранившихся резиденций либо поставить новый собственный дом на их участке на Стоктон-стрит, может быть, купить ферму на полуострове, где потеплее. У Джона не было уверенности, и он не проявил интереса ни к одному из ее соображений. Равным образом ей не удалось узнать о его планах на будущее; он говорил о возвращении в Вашингтон для проведения через конгресс некоторых законов по горным работам, о поездке в Нью-Йорк с целью разработки и постройки более современного дробильного оборудования, о путешествии в Лондон для решения финансовых вопросов, о переезде всей семьи в Марипозу. Пока его мысли не устоялись, она не считала возможным принять то или иное решение и оставалась в небольшом бараке в дюнах. Прошлую зиму она провела в доме мадам Кастро, наблюдая за дождем, приходившим со стороны моря. Ноябрьский дождь в Сан-Франциско зависел от капризов ветра, и она вновь оказалась затворницей в двух комнатах. Выборы сенатора пришли и прошли, а Джон не произнес в этой кампании ни единого слова и пальцем не шевельнул ради своего переизбрания. Организованные группы били в барабаны, поднимая шум в пользу своих кандидатов. Растущая фракция сторонников рабства понимала его политическое влияние, его друзья и сторонники были разбросаны по стране, поглощенные собственными делами. Она ничего не могла сделать в его отсутствие, а он, очевидно, не был заинтересован в результатах, и ей оставалось лишь сидеть и наблюдать, как муж терпит поражение. Она накопила опыт в области истории и литературы об исследованиях, но исследовательская работа отпала. Она прочитала книги по сельскому хозяйству, готовя себя к роли жены фермера, но фермы не получилось. Она надеялась быть женой сенатора и обладала и опытом, и характером для этого, но и место в сенате от них ускользнуло. Она не могла участвовать в добыче золота, да, откровенно, ее это мало интересовало. Ее память возвратилась, как часто бывало в прошлом, к разговору с Мэри Олгуд на окраине Сент-Луиса. Удел Мэри был трудным: она должна была пересечь равнины в своем крытом фургоне, поднять целину в Орегоне, жить, работая. И все же Джесси часто завидовала Мэри: она вольна поехать в Орегон в крытом фургоне рядом со своим мужем; она может шагать по заросшему полю, вспахивая принадлежащие ей акры; она ограждена от публичного осуждения и осложнений, которые возникают, когда рушатся амбиции. Джесси понимала, что по каждому пункту свет сказал бы, что ей повезло больше: ее муж был известным исследователем, чьи карты использовала чета Олгуд при переходе через равнины, но, будучи его женой, она была вынуждена выдерживать бесконечные месяцы одиночества и тревоги за безопасность мужа; у нее было в тысячу раз больше денег, чем когда-либо будет иметь Мэри Олгуд, всю жизнь проведшая в изнурительном труде, и ее, Джесси, деньги требовали многомесячных разлук с мужем. Казалось, что она Джону больше не нужна. Случайное обнаружение золота в Марипозе, изолировавшее его от всякой творческой работы, лишило ее возможности сотрудничать с ним. Ей казалось, что ее ждет судьба матери: хозяйка большого дома, воспитывающая детей, принимающая гостей, поджидающая мужа, и ничего более. В сотый раз она желала, чтобы Ларкин сохранил за собой Марипозу, а им отдал во владение ранчо Санта-Круз со старыми виноградниками, мирным садом и видом на ласковое море. Она помнила, что сказал ей Николлет: «Любой случай или негодяй может отобрать ваши деньги, — и обычно так и бывает, — но никто не может лишить вас умения выполнить хорошо работу. Самое прекрасное и наиболее надежное имущество во всем мире — это хорошее мастерство». По мере того как они накапливали золото, их брак, та сущность, которая возникает в результате союза, выродилась в рутину. Эта сущность — не больше суммы их двух и даже нечто меньшее. Она сидела в заброшенном бараке на песчаных дюнах с двумя детьми, в грустном одиночестве, в то время как ее муж месяцами был вдали, извлекая богатства из земли. Их супружество могло бы быть прекрасным, озаренным постоянным внутренним светом, если бы они разлучались ради высокой цели, такой, как экспедиция. Быть географически на расстоянии еще не означает принижения супружеской жизни. А вот расхождения в конечных желаниях, в понимании жизненных ценностей могут так подорвать брак, что третья сущность, созданная встречей двух умов и двух сердец, погибнет. Повторялись ее страдания в индейской резервации Делавэра, но они могли явиться более глубокой трагедией: либо оба партнера должны умереть, надоесть друг другу, либо выхолостить идеалы своих взаимоотношений, стать безразличными, разочарованными. Но даже если такое произойдет, один из партнеров может поддерживать брак нежностью, симпатией и терпением: супружество сохранит свою основную силу, возвратится к полнокровной жизни. Не надо думать о разрушении и поражении, нужно простить грехи, иметь железную, нерушимую волю к поддержанию взаимоотношений, ибо супружество, как человеческая жизнь, должно выдерживать все виды превратностей; слабый смертный, ненадежные взаимоотношения валятся с ног при первом неблагоприятном ветре; стойкое супружество выдерживает все бури. Но если супружество умерло? Если оно постепенно потеряло смысл, тогда конец всему. Джесси понимала, что ее беды пришли не по чьей-то вине, они скорее результат случайных обстоятельств. Однако нельзя позволить, чтобы случайные обстоятельства брали верх, ибо тогда жизнь станет подверженной порывам всех ветров. Ей не нужны были эти золотоносные шахты, она не жаждала этого богатства, золото пришло к ним в руки по иронии судьбы. Джон был прав, говоря, что, если судьба вложила в руки состояние, нужно быть дураком, чтобы не взять его. Быть может, они оказались большими дураками, взяв его? Она понимала, что не может навязать Джону свои соображения, это означало бы, что он должен принять ее стандарты. Он должен прийти к подобному мнению сам, понять, что за золото, которое даютшахты, приходится платить издержками в товариществе, любви и достижениях. Она не сомневалась, что когда-нибудь он придет к такому заключению, но когда? Как много миль они должны пройти, прежде чем их тропы вновь сойдутся в том партнерстве, которое существовало в первые годы их супружества? Вновь она столкнулась с загадочным характером мужа: как могло случиться, что человек, столь равнодушный к деньгам и их соблазну, работавший много лет в области, не сулившей ничего, кроме скромного армейского довольствия, вдруг отдал свою энергию деланию денег? Как можно проникнуть в душу другого человека? В эти длинные и беспокойные дни ее светом в оконце была любовь к маленькому Чарли, вобравшая в себя и любовь к Бентону, умершему первенцу, и глубокую благодарность Всемогущему за сохранившуюся способность рожать здоровых детей. Она сама купала мальчика, кормила утром и вечером, чтобы он рос под ее сенью, знал каждое ее движение. Чарли любил смеяться, и Джесси проводила много часов, играя с ним, стараясь рассмешить его. Перед Рождеством она обошла с Лили соседские холмы в поисках рождественского дерева. Из оловянной фольги она сделала украшения. Днем приходили друзья с подарками и праздничными поздравлениями: некоторые делегаты конвента Монтерея, помнившие ее гостеприимство; армейские офицеры с женами, кому она доставила с Востока письма от родных; австралийцы, которым она продала землю за малую цену; их старые друзья Биль и Найт, для которых она и ее дети были почти собственной семьей, давнишние знакомые из Сент-Луиса и Вашингтона, приходившие в их дом на Стоктон-стрит прямо из порта, дабы уведомить о своем прибытии в Калифорнию; рудокопы, получившие согласие на заявку; торговцы, поставлявшие им товар; сын вождя индейского племени, на выручку которому пришел Джон, передав ему свой скот; негритянская семья Саундерс, избавленная от рабства благодаря тому, что Джон взял с собой в Марипозу главу семьи и помог ему намыть золота на тысячу семьсот долларов, достаточных для выкупа на свободу. С наступлением сумерек все гости ушли праздновать Рождество к себе или к друзьям. Джесси осталась одна с двумя детьми, Грегорио и его кузина поехали на праздники на Юг. Накормив и уложив спать Лили и Чарли, она села в кресло-качалку около рождественского дерева, скучая по мужу, родителям и Элизе, молодым сестрам и брату, друзьям и родственникам, собравшимся в уютных, ярко освещенных комнатах в доме на Си-стрит. Она предалась размышлениям о прошедших годах и о том, что предстоит переезжать. В маленьком бараке с двумя комнатами не было очага, не было камина, однако сентиментальное настроение, навеянное Рождеством, наводило на мысль, что семейный очаг не только печь или камин — им может быть огонь, зажженный в сердцах других людей, доброта, услуга, счастье, сотворенное мужчиной и женщиной вдали от дома. Прошло полтора года, как они впервые прибыли в Калифорнию; она была чуть ли не первой женщиной, пересекшей Панамский перешеек, ее дом в Монтерее был одним из первых американских; своим отказом купить или иметь рабов она сыграла небольшую, но существенную роль в том, что Калифорния стала свободным штатом; открытием золота в Марипозе и привозом оборудования для горных работ они ускорили миграцию в Калифорнию из восточных штатов, повысили покупательную способность нового штата; готовность Джона обеспечить мясом индейцев позволила сохранить мир в горнодобывающих районах; его широкая программа в сенате приблизила Калифорнию к Соединенным Штатам; своим возвращением в Калифорнию, своим желанием остаться в Сан-Франциско после пожаров и разрушений они помогли вселить уверенность, что этот пограничный район выживет и станет обитаемым; беременная, она преодолела трудный переход по морю и Панаме, родила сына в примитивных условиях Сан-Франциско, создав тем самым дом из плоти и крови, а не из дерева и стекла. Сделано немного, понимала Джесси, и не все, что она намечала. Однако минуло шестьдесят лет с тех пор, как бабушка Бентон отправилась в пограничный район Теннесси. Времена изменились, этот новый пограничный район не похож на любой другой, какой знала страна, каждый имел свое значение, отвечающее требованиям времени. Если она не смогла повторить деяния бабушки Бентон, то, видимо, не совсем по своей вине; она сделала максимум того, что могла, приложила большие усилия. Ей исполнилось всего двадцать семь лет, однако она чувствовала себя так, словно прожила долго, как бабушка Бентон или бабушка Макдоуэлл. Джесси взглянула на часы: был уже час ночи. Она решила, что дождется наступления рождественского дня, а потом ляжет в холодную одинокую постель. Но усталость оказалась сильнее воли, ее голова упала на грудь, и через несколько минут она заснула. Ей снилось, что она слышит шум копыт по песку дюн, седок соскакивает с лошади и бежит по настилу крыльца. Эта сцена сновидения напомнила тот момент в индейской резервации Делавэра, когда Джон возвратился именно так, принеся ей свою жертву, вселяя в нее новую отвагу и стремление к новой жизни. Ей показалось, что дверь распахнулась, что на пол упали тяжелые мешки, что она в объятиях мужа, покрывающего поцелуями ее лицо, что она уже не в кресле, а на коленях Джона, обнимающего ее, ее голова на его плече, ее губы на его губах, и наконец она поняла, что это не сон. — Дорогой, — прошептала она, — ты приехал на Рождество? — Неужто ты сомневалась? Ты здорова? Как дети? Он слушал внимательно, его темные глаза вглядывались в ее лицо, когда она рассказывала о своей жизни, повела его в спальню и показала, как хорошо выглядят сын и дочь. Потом он принес два мешка и при свечах показал ей подарки, которые удалось купить во время поездки домой. — Это не так уж много, — сказал он, — большинство лавок было закрыто. Но как тебе нравится поездка в Париж в качестве рождественского подарка? — Превосходно, — весело ответила она, — дадим Чарли возможность увидеть человечка на Луне. Джон усмехнулся, вытащил из кармана бумажник, открыл ярко раскрашенный конверт и извлек из него два билета; он указал пальцем на несколько строчек, а она глазам своим не верила. — Прочитайте их, мисс Джесси. Мы проведем целый год в Европе. Потом она прочла:«От Сан-Франциско в Чагрес. От Чагреса прямо в Ливерпуль. От Фольстона в Булонь, Франция».По ее щекам побежали слезы, Джон вытер их своей рукой. Мысли Джесси вернулись на полных десять лет назад, к дождливому полудню, когда они сидели с бабушкой Макдоуэлл перед окном в рабочей комнате Хасслера, наблюдая за похоронной процессией президента Гаррисона, и пылкий темноглазый молодой человек за чайным столиком напротив нее сказал: — Я буду любить тебя всегда, Джесси, в этом ты можешь быть уверена. Я могу делать ошибки, я могу подвести тебя в другом, я могу в чем-то не оправдать твоих ожиданий, но я буду всегда любить тебя. Как верно, что супружество требует скорее терпения, чем логики, и не должно нарушаться при каждом непредвиденном повороте колеса фортуны, а следует дать времени возможность сделать прочным его фундамент. — Ты можешь оставить шахты? — спросила она. — Шахты разлучали нас слишком долго. Давай используем наши время и деньги вместе, пока они у нас есть, до того, как я докажу, что Николлет был прав относительно дурака и его возможностей. Это будут твои первые каникулы за десять лет. Первые с того времени, когда ты сказала судьбоносные слова: «Куда ты пойдешь, туда пойду и я». Ты помнишь, Джесси?
Книга пятая ПЕРВАЯ ЛЕДИ
_/1/_
Они пересекли Атлантику на пароходе «Африка» с боковыми гребными колесами, принадлежащем компании «Кунард». Джесси была единственной женщиной на борту, и капитан выделил ей в качестве каюты женскую гостиную. Из двух составленных кушеток соорудили просторную кровать для нее и Чарли. В дождливую штормовую погоду Джесси и Джон отдыхали или читали. В хорошую погоду они привязывали маленького Чарли длинной лентой к столбу в центре каюты, и, хотя Лили утверждала, будто ребенок столько же времени стоял на голове, сколько на ногах, он совсем не жаловался. Когда они прибыли в Лондон, все было готово для их размещения в гостинице, на окнах висели пестрые занавески, а в камине пылали дрова. Американский посланник в Англии Эббот Лоуренс дружил с Томом Бентоном долгие годы, и поэтому чета Фремонт была взята под официальную опеку. Джесси дважды оказывалась во власти тех, кого англичане именовали «законодателями туалета». С нее сняли мерку и выведали, какие цвета она предпочитает. Для каждого публичного приема ей доставляли новый наряд. Она же часто вспоминала Монтерей, где носила укороченную выгоревшую юбку, удобную для езды на лошади, и блузку из неотбеленного миткаля. Она испытывала приятную истому в постели в гостинице «Кларендон», в утреннем фиолетовом халате ожидая завтрак и вспоминая раннее утро в двухкомнатном бараке на дюнах Сан-Франциско, варку на печке овсяной каши для детей. В первый вечер в Лондоне она и Джон обедали в Лайон-хауз, городской резиденции герцога Нортумберлендского. Здесь Джесси встретила леди Бульвер, с которой познакомилась еще в Вашингтоне, где ее муж был посланником при правительстве Соединенных Штатов. Леди Бульвер подвела Джесси и Джона к пожилому мужчине, который, погрузившись в свои мысли, отрешенно ходил взад-вперед по роскошно обставленной комнате. Она прошептала: — Это мой дядя, герцог Веллингтон, — а затем, отчетливо произнося каждое слово, представила герцогу чету Фремонт. «Железный герцог» механически поклонился и собирался возобновить хождение, но в его глазах мелькнула какая-то искорка. — Припоминаю, — сказал он, — Фремонт — великий американский путешественник. Он пожал руку Джона. Позже Джесси сказала мужу: — Ты пожал руку судьбы Наполеона. Друзья Джесси считали, что не выполнят своего долга, если, неважно в какой день, у нее окажется пять минут, свободных от посещения мероприятий в ее честь. Когда Джесси сказала маркизе Уэлсли, родом из семьи Катон в Мэриленде, что хотела бы посетить Вестминстерское аббатство, та ответила: — Монументы живут вечно, люди же уходят в мир иной. Джесси представила себе, как наслаждалась бы ее мать жизнью в Лондоне — столице, откуда берут начало традиции и идеалы Черри-Гроув. Если бы Элизабет Макдоуэлл вышла замуж за члена английского парламента, а не американского конгресса, она оказалась бы в собственной среде и была бы счастлива. Вместо того чтобы находиться в этом очаге достопочтенных традиций, она попала в неухоженную, грубую столицу и не смогла создать собственную традицию. Но через несколько дней она мысленно обратилась к отцу, когда в оперном театре ее представили англичанке из высокопоставленной семьи как «миссис Фремонт из Северной Америки». — Из Северной Америки! — воскликнула почтенная дама, рассматривая Джесси через лорнет. — Я думала, что все североамериканцы — индейцы! Джесси рассмеялась в душе, подумав: «Слава Богу, что здесь нет Тома Бентона. Услышав такое замечание, он объявил бы войну всей Британской империи». В день Пасхи она стояла перед зеркалом в своем номере в отеле «Кларендон» в Лондоне, разглядывая себя в вечернем платье. Кружевное платье украшали искусственные густо-красные и белые розы. Ее каштановые волосы были собраны в высокую прическу, а карие глаза взволнованно сверкали. Она взяла в руки букет роз и повернулась к Джону, который, сидя в кресле, наблюдал за ритуалом подготовки жены к торжественному приему. — Не подведу ли я Калифорнию? — спросила она. — Ты больше представляешь ее в неотбеленном миткале. — Я не стараюсь быть туземкой, дорогой, я пытаюсь быть красивой и элегантно одетой. — Покажи мне книксен, которому тебя целую неделю учила жена посла Лоуренса. — Дело в том, что мой отец чувствовал отвращение к леди, кланяющейся, как мужчина, или сгибающейся подобострастно, как слуга. Раздался стук в дверь. — Это, вероятно, мой экипаж! — воскликнула Джесси. — Сожалею, что ты не невеста и не леди, чтобы тебя представили королеве. Во всяком случае встречусь с тобой в четыре часа у герцогини Бэдфорд за чаем. Через несколько минут ее карета въехала во двор Букингемского дворца. Ее провели в комнату, где собирались жены дипломатов. Миссис Лоуренс приехала раньше, чтобы занять для нее место около окна и лучше видеть приезд королевы. Карета королевы, приезжавшей во дворец для приема по случаю Пасхи, была запряжена белыми лошадьми. Открылись двери в тронный зал. Миссис Лоуренс присела, сделав книксен, а затем представила Джесси, которая постаралась не кланяться, подобно мужчине, и не сгибаться, как слуга. После этого их представили принцу Альберту и королеве-матери, а затем они заняли отведенное им место и в течение двух часов наблюдали за процессией почтенных английских леди, выражавших преданность королеве, целовавших руку, а затем отходивших, не поворачиваясь спиной. Джесси поразил контраст между этой сценой и положением первой леди в Соединенных Штатах, получающей на четыре года право жить в Белом доме, вечно нуждающемся в ремонте, и лишь иногда удостаивающейся уважения со стороны избирателей. После чая у герцогини Бэдфорд Джесси и Джон пошли к сэру Родерику Мерчисону, президенту Королевского географического общества, дававшему обед в честь коллег Джона, получивших медали. Этот вечер показался ей самым приятным в Лондоне: здесь Джон оказался, так сказать, среди своих обветренных путешественников и исследователей. Все они с большим интересом прочитали три доклада и изучили карты Фремонта, в свою очередь послали ему описание своих путешествий. Это были настоящие друзья и братья, связанные нерушимыми узами общих интересов. Джесси с радостью наблюдала за своим мужем; здесь Джон выглядел изумительно: его глаза сверкали, он беспечно и уверенно разговаривал как человек, знающий свое ремесло. Более, чем когда-либо, Джесси почувствовала, какой потерей для него был отход от своего призвания, что он должен вернуться к нему и его талант не должен быть растрачен даром. Однажды в апрельский вечер, когда они садились в карету, чтобы отправиться на обед в их честь, четыре полицейских с Боу-стрит окружили их и сообщили Джону, что он арестован. — Арестован? — удивился он. — За что? Коротышка, представившийся клерком из конторы адвоката, грубо закричал: — Скоро узнаешь! Ну, ребята, тащите его в тюрьму, бравый полковник скоро узнает, что счета надо оплачивать. Скорее удивленная, чем встревоженная, Джесси спросила: — Джон, ты знаешь, в чем дело? — Вероятно, дело Марипозы. Сарджент продал акции. Я не смог его найти. — Но ты не отвечаешь за Сарджента… — Пошли, полковник, — сказал один из полицейских. Когда группа шла по улице, Джесси крикнула: — Не беспокойся, дорогой. Я тут же отправлюсь к мистеру Лоуренсу, он вызволит тебя. Добравшись до дома министра, она узнала, что он уже уехал на обед в честь четы Фремонт. Вновь ей пришлось сесть в карету. Хозяева ждали Фремонтов. Джесси объяснила, чем вызвана задержка. Эббот Лоуренс извинился перед гостями и поехал с ней на Боу-стрит. Штаб-квартира полиции выглядела отвратительно, но еще менее приятными были слова дежурного офицера: он сообщил, что выкуп за полковника Фремонта назначен весьма высокий и он не может освободить его, не получив наличными. Джесси возвратилась с мистером Лоуренсом, но у гостей, приглашенных на обед, не оказалось суммы, достаточной для освобождения Джона. Обед закончился в полночь; она представляла себе, как недоумевает Джон, почему он все еще сидит в тюрьме на Боу-стрит, когда многие банкиры и государственные деятели Лондона присутствуют на обеде в его честь. Чета Лоуренс отвезла ее в гостиницу «Кларендон», где, проведя бессонную ночь в чуждом ей номере отеля, Джесси нашла, что пребывание мужа в тюрьме не лишает возможности серьезно подумать. Ее возили утром по лондонским паркам, угощали ланчами и чаем, а Джон тем временем пытался разобраться в путанице, созданной конфликтующими и порой мошенническими компаниями, торговавшими акциями Марипозы на лондонском рынке. Из его нежелания разговаривать о том, как идет размещение акций на Лондонской бирже ценных бумаг, у нее сложилось впечатление, что он спешит уладить дело, не выяснив всех деталей. Марипоза была богатым прииском, который мог бы дать намного больше золота, если бы не нараставшие осложнения, и Джесси все более убеждалась, что им следовало бы либо вести ограниченную разработку золота, либо продать свои права. Американские суды еще не утвердили приобретения, осуществленные на основании мексиканских дарственных грамот, и их права на Марипозу в любой момент могут быть оспорены. Ее муж не годился в бизнесмены: у него не было способностей к этому. Сомнительно, чтобы Джон, обладая талантами исследователя, был и одаренным бизнесменом. У нее также не было склонности заниматься бизнесом. Впрочем, никто в их семье не питал интереса к торговым делам. Она была благодарна средствам, полученным за счет Марипозы, но опасалась, как бы это богатство не вызвало негативных последствий, не толкнуло их жизнь в неправильную колею. Шахты Марипозы обеспечивали им значительные суммы, но с точки зрения права положение было настолько непрочным, что могло рухнуть в любой момент, и они окажутся на мели, да еще со множеством различных тяжб. На следующее утро, когда пригласивший их накануне на обед хозяин внес залог и доставил Джона в отель «Кларендон», она узнала, что ее мужа задержали не по поводу Марипозы, а из-за четырех чеков на общую сумму девятнадцать тысяч долларов, подписанных им во время кампании по завоеванию Калифорнии. Государственный секретарь Бьюкенен не пожелал признать эти чеки действительными, ведь такой шаг с его стороны могли расценить как свидетельство того, что за завоеванием стоит официальный Вашингтон. Внесенные в конгресс законопроекты об оплате этих чеков не были приняты, и некий калифорниец по имени Хаттмэн предъявил иск Джону в Англии, надеясь на компенсацию за счет личных фондов Фремонта. Джесси не считала, что ее рассуждения прошлой ночью по поводу Марипозы потеряли свое значение. Она была убеждена, что сохранение путаницы в финансовых делах может быть чревато серьезными неприятностями. Джон согласился с тем, что поиски инвесторов в Англии зашли в тупик. В десять часов он направился к банкирам, чтобы расторгнуть все контракты по финансированию Марипозы. У Джесси отлегло на душе, но ее по-прежнему беспокоила мысль, что британские инвесторы, зачастую вдовы и пенсионеры, потеряли свои деньги, приобретя необеспеченные акции. Если объявятся жертвы закулисных махинаций Сарджента, она готова возместить их потери, ибо некоторые из них, несомненно, положились на добропорядочность самого имени Джона Фремонта. Но если объявить об этом, то претендентов окажется целая лавина, и многие из них отнюдь не с честными намерениями, к тому же такой шаг с ее стороны могут понять как признание ответственности ее мужа за действия Сарджента. Джесси пожала плечами от отвращения и отчаяния. В конце апреля, когда она проходила мимо конторки портье в гостинице «Кларендон», клерк вручил ей письмо отца. Отец писал о ее брате Рэндолфе, который произнес речь в память Кошута, положительно принятую в Сент-Луисе. Потом она вдруг прочла: «…холера… вызвала у него воспаление мочевого пузыря… потерял сознание на второй день, умер, не осознав своих мучений… такой молодой… мы едва успели сблизиться друг с другом…» Подобно отцу, она совсем недавно прониклась чувством дружбы к младшему брату. Джесси всплакнула: воспоминания о Рэндолфе причиняли боль. Она не прилагала больших усилий сблизиться с парнем; в ее жизни доминировали взаимоотношения с отцом и мужем. У нее не было времени, чувств и даже заинтересованности в отношении других. Лишь мать проявила к брату так нужную ему доброту. Джесси понимала, что нужно ценить каждый момент в супружеской жизни; завтра любовь и доброта могут опоздать, отношения должны быть постоянно близкими, но она не придерживалась этой простой истины в отношениях с братом и матерью. Она была хорошей дочерью для отца, хорошей женой, а была ли она хорошей матерью? Или же были часы и даже годы, когда она была невнимательна к Лили и Чарли, как к своему брату Рэндолфу? Она никогда сознательно не говорила: «Я не ставлю моего мужа выше своих детей», но такой вывод сделан давно. Как бы она ни любила своих детей, они стояли после мужа на втором месте. До появления детей она отдавала Джону всю свою любовь, ему же будет принадлежать ее любовь, когда дети отделятся и пойдут своим собственным путем. Она не могла скрыть такую особенность своего характера от себя, не было возможности утаить ее и от детей. Когда во второй половине дня Джон возвратился в номер и увидел ее покрасневшие глаза, он взял со столика письмо и быстро пробежал его. Закрыв жалюзи от полуденного солнца, намочил полотенце холодной водой и положил на ее воспаленное лицо. Через несколько часов она спросила: — Ты уладил свои дела, и мы можем уехать из Лондона? Можем ли мы переехать в Париж? В этой светской карусели мы не найдем покоя. — Через день-два мы сможем уехать, — ответил Джон. — Я положил в Англии конец всем спекуляциям на Марипозе. Отныне выпуском акций будет заниматься банк в Сан-Франциско. Мне удалось также перенести иск Хаттмэна в США. В Париже на Елисейских полях они нашли небольшой симпатичный особняк в итальянском стиле, с внутренним двориком и большим садом, спускавшимся к Сене, с видом на купол Дворца Инвалидов на противоположном берегу реки. Они поселились в особняке на четырнадцать месяцев, и это время было наиболее спокойным в их бурной супружеской жизни. Как только они прибыли в Париж, Джесси обнаружила, что ждет ребенка. Она думала о том, как приятно провести время, наслаждаясь тихой красотой виллы. Ею овладела лень, а Джон держал себя в форме, занимаясь фехтованием. Иногда по его просьбе учитель приходил к нему домой, и Джесси могла наблюдать за его успехами. Присутствуя на уроках фехтования, она вспоминала, как Байорд Тейлор из Монтерея описал Джона в нью-йоркской газете «Геральд»:«Я не встречал ни у какого мужчины столь прекрасные сочетания легкости, активности, силы и физической выносливости».Джон посещал школу, в которой преподавал его любимый Николлет, изучая астрономию, математику, а также работы французских геологов по добыче кварца. Джесси и Джон прекрасно говорили по-французски и поэтому чувствовали себя в Париже как дома. Раз в неделю они проезжали через парк Сен-Клу в Версаль, проводили там день, прогуливаясь по парку и галереям, и возвращались домой к вечеру на следующий день. В теплые часы после полудня они спускались из собственного сада к Сене, где лежали на берегу с открытыми, но не читаемыми книгами, наблюдая за небольшими парусными лодками на реке. Вечерами устраивали превосходные обеды, затем наступал час пребывания на балконе, на теплом воздухе почти без ветра. Она радовалась тому, что муж рядом с ней, более того, принадлежит ей. В начале осени они купили билеты для поездки по Европе, уложили свои вещи и собирались выехать, но в последний момент решили, что было бы безумием тратить силы на путешествие, ведь они провели так много времени в поездках. Насладившись жизнью в Лондоне, они мало выходили в свет до наступления зимнего сезона. Потом зачастили во Французский театр, слушали Рашель в Итальянской опере. В Париж приехала на театральный сезон леди Бульвер и представила Фремонтов дипломатическому корпусу. Их пригласили в Сен-Клу на чай с танцами, который давал принц-президент; провели насыщенный впечатлениями день, наблюдая, как Луи Наполеон въехал в Париж, чтобы короноваться императором, а с балкона своего дома видели свадебную процессию императора и императрицы, прошествовавшую от Тюильри к Елисейским полям. Граф из охраны, принадлежавший к семье Бонапартов, воспылал теплыми чувствами к Джесси; после прогулки в Булонском лесу он приезжал к одиннадцати часам и рассказывал очередной эпизод из французской истории. Салон Фремонтов приобрел известность без каких-либо усилий со стороны Джесси. Прошла зима. Ребенок должен был появиться на свет через неделю или две, но Джесси все же решила устроить прием в честь сорокалетия мужа. Джона тревожила эта дата: он говорил ей, что хорош исследователь, когда он молодой. Она полагала, что лучший способ склонить его к проведению приема по случаю дня рождения — это пригласить друзей, с которыми они познакомились за время пребывания во Франции: ученых, исследователей. Через несколько дней после успешного приема родилась вторая дочь — Анна. Принимавший роды врач заверил Джесси, что ребенок крепкий и здоровый; граф из охраны назвал дочку «маленькой парижанкой». По настоянию Джона она не торопясь восстанавливала свои силы, они оба считали, что каникулы близки к завершению и подошло время вернуться в Соединенные Штаты. Могучий стимул к возвращению дало письмо Тома Бентона, извещавшего, что правительство организует три экспедиции для поиска перевалов в Скалистых горах, которые не удалось обнаружить четвертой экспедиции Джона. Ее отец сообщал, что, по мнению ряда ведущих газет, полковник Фремонт как самый опытный следопыт должен возглавить экспедицию. В зимние месяцы отдыха многократно и подолгу Джесси беседовала с мужем. Они были едины во мнении, что, обучившись в Париже горному делу, Джон знает теперь, как заложить кварцевые шахты в Марипозе, сулящие богатство, но погоня за золотом не самоцель, а лишь средство. Джесси упорно настаивала, что их капитал должен использоваться в целях продолжения его исследований, составления карт и написания книг о неосвоенных землях и границах. — Это все верно, — задумчиво отвечал он, — но нельзя исследовать пустоту. В исследовании, как и в любви, нужны поиск и желание. Нужно выждать, когда появятся обстоятельства, делающие исследования необходимыми. Я не могу просто сказать: «Хочу исследовать Центральную Америку» или «Исследую Канаду». Такой подход никогда не принесет ценных результатов. — Твоя область — западная часть Соединенных Штатов, — отвечала Джесси. — Никто не связан так тесно с ней, как ты. Там нужно сделать еще многое. — Да, но вначале должна быть конкретная цель. Как после военно-полевого суда письмо Тома Бентона из Сент-Луиса о предполагаемой четвертой экспедиции вернуло ее мужа к жизни, так и это новое письмо переключило их внимание на карьеру Джона. — Я вернусь в Америку на ближайшем пароходе! — воскликнул Джон. — Я выжидал, чтобы приобрести новейшее научное оборудование здесь, в Париже. Ты можешь закрыть дом когда захочешь и затем приехать с детьми. Давшийся ей с таким трудом период спокойствия между штормами окончился. — Да, ты должен как можно быстрее вернуться в Вашингтон, — согласилась Джесси. — Там нужна твоя помощь в организации экспедиций. Тебе потребуется время для выбора маршрута и набора группы.
_/2/_
Когда Джесси добралась в конце июля до Си-стрит, она узнала что официальный Вашингтон постарался отстранить Джона. Военный министр Джефферсон Дэвис решил, что первая трансконтинентальная железная дорога пройдет по южному маршруту, в то время как Джон высказывался в пользу центральной дороги. Военное ведомство, до этого времени направлявшее все экспедиции, желало, чтобы экспедициями руководили молодые инженеры Топографического департамента. Джесси сняла скромно меблированное бунгало по соседству с домом отца, удобно устроила свою семью, а затем занялась вопросом, возникшим ввиду отклонения кандидатуры Джона как руководителя экспедиции. Примириться с таким остракизмом означало бы признать, что он не нужен, что его дни как первопроходца позади. Она видела, как он набрасывал схематичные карты и отмечал, где найдет перевал, который не сумел отыскать в 1849 году, видела, как уезжал из Парижа страшно озабоченный и трясущийся над только что приобретенными инструментами как над самым ценным имуществом. Впервые она узнала о желании мужа направить богатство Марипозы на осуществление творческого проекта: проложив маршрут через Скалистые горы, использовать золото для прокладки железнодорожной линии, которая превратит в реальность мечту ее отца. Джесси почувствовала облегчение, обнаружив, что ее муж не раздражен, а скорее опечален. — Я мог бы организовать мою собственную экспедицию, — сказал он. — Прёсс и Керн пойдут со мной. Но трудно перестроиться… Я грезил армейской экспедицией… Я даже надеялся, что они восстановят мои обязанности… Он неловко закончил фразу, стараясь по выражению ее лица понять, удивлена она или огорчена. Но она всегда знала, как страстно он хотел, чтобы армия приняла его в свое лоно, знала, что никогда не успокоится, пока не увидит его вновь в армейской форме, на службе, там, где он начал свою профессиональную деятельность. — Когда президент Полк присвоил тебе ранг подполковника, я предсказывала, что в сорок лет ты станешь генералом. Мое расписание нарушилось, но, когда сложатся нужные обстоятельства, армия призовет тебя опять на службу. Тем временем ты ведь не собираешься отказываться от планов пятой экспедиции? Перевал так нужен для железной дороги, ты найдешь его и нанесешь на карту. — Ты имеешь в виду, что мы сами должны финансировать экспедицию? — А как можно лучше использовать наши деньги? Ты уже потратил несколько тысяч долларов на научное оборудование и, уж конечно, не рассчитываешь получить возмещение от правительства? Джон сделал гримасу, а Джесси продолжала: — Хорошо, давай используем наши ресурсы, соберем людей и купим провиант. Если ты найдешь перевал, страна захочет помочь тебе в финансировании твоей железной дороги. Если же не найдешь, тогда мы не потеряем ничего, кроме какой-то части золота. У нас останется возможность вернуться и построить хижину в Марипозе. От Парижа до Фремонтвилла далеко. Или ты уже не хочешь основывать Фремонтвилл? Сверкнув глазами, он сказал: — Он будет главной станцией на нашей железной дороге. Я проложу ее около твоей парадной двери. На следующее утро они сообщили отцу о своем намерении финансировать независимую экспедицию. Том одобрительно кивнул, выписал чек в качестве своего вклада и послал письма своим друзьям в Сент-Луис. С обратной почтой пришло множество скромных чеков, их сумма не снимала финансового бремени с Фремонтов, но сам жест доброй воли и доверия со стороны тех, кто понес убытки от четвертой экспедиции, оказался достаточным: Джон получил необходимый стимул для работы с прежним энтузиазмом. Как всегда, Джесси было приятно находиться в Вашингтоне, несмотря на случившиеся неприятности. Она испытывала удовольствие от общества своих сестер. Сара переехала с мужем в Бостон, а Элиза и Сюзи все еще оставались в Вашингтоне. Первая беременность Элизы не только укрепила ее здоровье, каким она прежде не отличалась, но и придала полноту ее высокой угловатой фигуре и крупному лицу, она обрела некоторую привлекательность. Она и Уильям Карей Джонс построили добротный кирпичный дом на Эч-стрит, в нескольких кварталах от дома Бентонов. Ободренная приливом энергии, Элиза занялась изучением права, чтобы лучше разбираться в делах мужа. Джесси и Элиза часто встречались за ланчем либо в доме Элизы, либо у Джесси; это был час доброго общения, ибо брак, дети и серьезная заинтересованность в карьере мужа создавали много общего между ними. Однако наиболее приятными были часы, проведенные с Сюзи, младшей сестрой, которой исполнилось двадцать лет. Сюзи перестала терзать фортепьяно и теперь терзала взамен сердца молодых людей Вашингтона. Она унаследовала от матери тонкие черты и красивый цвет лица, лучистые голубые глаза. Когда Джесси видела в последний раз Сюзи два с половиной года назад, это была визгливо смеявшаяся, худая, с длинными руками и ногами девица. Теперь же она стала такой красавицей, какой была в молодости Элизабет Макдоуэлл, веселым существом, околдовывающим кавалеров. Она была в центре светской жизни молодежи Вашингтона и сводила с ума полдюжины ухажеров, не желая принять серьезного решения, ведь так приятно кружить голову мужчинам. Джесси была на девять лет старше Сюзи, но по темпераменту она чувствовала себя достаточно пожилой, чтобы играть роль матери. Сюзи рассказывала ей о своих романтических увлечениях, о музыке, танцах, театре, о нравившихся молодых людях. Когда она задерживалась на поздних вечеринках, то приходила ночевать к Джесси, чтобы не тревожить родителей. Джесси была на похоронах графа Бодиско и сопроводила Гарриет в ее дом в Джорджтауне. Гарриет исполнилось двадцать восемь лет, она расцвела, ее розовые щеки располнели, высокая грудь налилась. — Джесси, — сказала она с нежным изумлением в глазах, — русские — удивительные люди. За несколько дней до смерти граф показал мне завещание. Он отписал мне все свое имущество с условием, что я выйду замуж за молодого человека, который доставит мне то удовольствие, какое, по его словам, я доставляла ему в течение двенадцати лет нашего супружества! Наступила жара. Джесси разместила троих своих детей на защищенной сеткой веранде, выходившей в сад и самой прохладной в доме. Казалось, Лили и Чарли вовсе не страдали от зноя. На заднем дворе они открывали кран гидранта и весь день не просыхали, утверждая, будто садовый разбрызгиватель — это парижский фонтан. Но пятимесячная Анна чувствовала себя неважно. Она отказывалась от еды, по ночам ее мучил кашель. Джесси провела много тревожных ночных часов, напевая колыбельные песни и раскачивая детскую кроватку. В Вашингтоне вспыхнула эпидемия. За два дня от колик умерли четыре ребенка. 10 июля утром заболела Анна. Вновь Джесси послала Джошаама в Силвер-Спринг, чтобы спросить Фрэнсиса Блэра, не может ли она уединиться у них. Блэр приехал в своей коляске, посадил в нее Джесси с ребенком и доставил в поместье. Джон приехал к обеду; к этому времени сердечная боль у Джесси ослабела, ребенку стало вроде бы лучше. На следующее утро, когда Джесси держала Анну на руках, а врач уверял ее, что ребенок будет хорошо расти в Силвер-Спринг, Джесси вдруг почувствовала спазм тельца ребенка. Анна не шевелилась, дочь умерла. Слишком ошеломленная неожиданным ударом, чтобы почувствовать боль, Джесси всматривалась в лицо ребенка. Год их пребывания в Париже ушел в прошлое. Она потеряла маленького Бентона потому, что была измотана и измучена военно-полевым судом, но ведь «маленькую парижанку» она выносила, будучи спокойной и здоровой. Она была беременна Чарли, пересекая Панаму, родила его без надлежащего медицинского ухода в Сан-Франциско. Однако у Чарли энергия и здоровье бьют ключом, а крошка Анна ушла. Как понять жизнь, найти в ней здравый смысл? Перед тем как она вновь обрела способность плакать, одна мысль словно острый нож поразила сознание Джесси: она родила четверых, и двое умерли; потеряна половина жизни, половина того, что она старалась сделать, трагически оборвалась и исчезла. Так же было и с Джоном: он был в четырех экспедициях, первые две завершились блестящим успехом, последние две принесли неудачи, конфликты и смерть. Когда врач взял тельце ребенка из ее рук, Джесси вспомнила смерть своего первого сына в Сент-Луисе. Тогда врач пытался взять малютку Бентона, а она не отдавала его, она больше горевала за себя и за мужа, чем за ребенка. А ведь Анна была такой милой и хрупкой, с такой обезоруживающей улыбкой; Джесси так хотела, чтобы она выросла очаровательной девочкой. Горе за судьбу ребенка глубоко запало в ее душу. Она все еще сидела неподвижно в кресле, с сухими глазами, окаменевшая и холодная, когда к ней приблизился Джон. Он положил ей на колени свою голову и заплакал. «Маленькая парижанка» так много значила для него, и он не был в силах сдержать свое горе. Джесси подумала: «Когда умер маленький Бентон и моя боль была непереносимой, он утешал меня, был спокоен и решителен. Теперь моя очередь утешить его: я не должна плакать, таить горечь, я должна помочь мужу. Когда один из нас слаб, другой должен быть сильным. Когда один болен, другой должен быть здоровым. Когда один убит горем, другой должен сохранять спокойствие и поддерживать надежду. Никто не может быть постоянно сильным, здоровым, отважным; роли должны меняться, здоровье и отвага, бодрость и возрождение должны восполнять друг друга. Совместная жизнь не означает, что каждый из партнеров всегда крепок, и двое вместе не обязательно вдвое мудрее и решительнее; но с помощью любви, нежности, симпатии и даже жалости можно выработать единое представление о смысле жизни и идти по ней долгие годы рука об руку. Это и есть сотрудничество, это и есть супружество». Джесси подняла его голову со своих колен, крепко сжала ладонями и поцелуем осушила слезы._/3/_
Прошло всего несколько дней после отъезда Джона и его группы из Сент-Луиса, как Джесси получила телеграмму, что он не может ковылять на левой ноге и вынужден вернуться в Сент-Луис для лечения. Она села на ближайший поезд, отправлявшийся в Сент-Луис, вспоминая о первой десять лет назад двухнедельной поездке с Джоном на дилижансах, гребных лодках и пароходах. Теперь же для переезда потребовалось всего трое суток. Джон сидел в их прежней комнате в доме Бентонов, окна которой выходили в сад с грушами. — Военный департамент был прав, отстраняя меня, — проворчал Джон, увидев Джесси. — Они понимали, что я никогда не смогу перетащить эту окаянную ногу через Скалистые горы. Джесси стояла в дверях, отметив для себя, как проступают тонкие черты его лица даже сквозь темную бороду. — Ты повредил эту ногу не в танцах на вашингтонских приемах, — парировала она, — ты стал жертвой болезни потому, что пытался наметить железнодорожную линию через Скалистые горы глубокой зимой. Если ты не можешь идти, то не ходи, но не считай свою болезнь проклятием, относись к ней, как сказала бы бабушка Макдоуэлл, как к медали, дарованной за отвагу под огнем. Ее язвительный тон имел благое действие. Он подбежал и обнял ее. — Сожалею, дорогая, что обругал тебя. Дело в том, что я рассердился и огорчен этим. После года почивания в Париже на кружевах и пуховиках я не могу назвать мокрое седло удобной подушкой. Он держал ее на расстоянии руки, смотря прямо в глаза. — Прости меня, Джесси, за эгоизм — я говорил только о себе. Ты выглядишь усталой. — Да, я устала, — призналась она. — Но не по этой причине бледная. Я начала мою пятую экспедицию почти в тот же момент, что и ты. — Она резко откинула голову назад. — Как и ты, я обнаружила, что тяжело спать на влажном седле после мягкой подушки. Было легко носить Анну потому, что Чарли был таким крепким и здоровым. Теперь… Он притянул ее к себе и, обхватив руками, раскачивал из стороны в сторону. — Я боюсь, — призналась она, — но не слишком. Мне везет с нечетными цифрами. Мой первый и третий ребенок сильные, как тигры; второй и четвертый были слабыми и умерли. На этот раз я имею право на здорового ребенка. — Когда ожидаются роды? — Примерно в середине мая. — Хорошо. Я присоединюсь к моей группе в Салин-Форк на реке Канзас. К февралю я буду по ту сторону Скалистых гор. Оттуда мы проследуем к Сан-Франциско, и я вернусь через Панаму. Я буду в Вашингтоне к началу мая. Первое утро после возвращения в Вашингтон началось с раннего завтрака, а затем Джесси отправилась в дом на Си-стрит. В половине седьмого она была уже в библиотеке. Там еще не погасли огни, она видела косматую голову отца, склонившегося над бумагами на письменном столе, спермацетовые свечи напомнили ей то самое утро двенадцать лет назад, когда она была беременна первым ребенком, ее муж ушел в первую экспедицию, и она пришла к Тому Бентону помочь ему в работе. Теперь же она хотела помочь своему семидесятидвухлетнему отцу написать мемуары «Тридцать лет в сенате Соединенных Штатов». Импульсивно она подошла к нему, склонившись над его плечом, и поцеловала в щеку. — Приятно оказаться снова здесь с тобой, папа, — нежно сказала она, — сидеть над бумагами в этой прекрасной библиотеке, где я работала так много лет. Том Бентон приподнялся и похлопал руку Джесси, лежавшую на его плече. — Ты не можешь себе представить, Джесси, как мне не хватало тебя. Без тебя этот дом пуст. Мне так часто нужна была твоя помощь, что я звал тебя… Но у тебя собственная жизнь, собственная работа. Я хочу, чтобы ты знала, как я горд тем, что сделали вы с Джоном. — Очень многим мы обязаны тебе, твоей подготовке и помощи. Думаю, что нам не следует более расставаться. Мы должны оставаться вместе и решать наши проблемы сообща. Если Джон и я вновь поедем в Калифорнию, ты должен поехать с нами. Как ты полюбишь Запад, папа! Он более богат и красочен, чем ты думаешь. Глаза Тома блестели от возбуждения. — Да, Джесси, — воскликнул он, — в следующий раз ты возьмешь меня с собой в Калифорнию! Я мечтаю об этом уже год. Это последняя авантюра, в которой я хотел бы принять участие перед смертью. Осенью к ней часто приходила почта от Джона: он продвигался по хорошо освоенной дороге, а ведь некогда она отмечала на карте его переходы по глухомани; дюжина лет миграции на Запад привела к появлению сотни деревень, ферм, фортов и движению фургонов в двух направлениях. В новом году, когда она не получала писем несколько месяцев, она почувствовала гнетущее состояние. Однажды в полдень в начале февраля, сидя в жилой комнате арендованного ею коттеджа с Лили и Чарли, игравшими у ее ног, она вдруг почувствовала, что голодна, а ведь за минуту до этого она была сыта. Ощущение голода было крайне острым, словно она голодала несколько дней, и ее неопределенные страхи обрели конкретную форму: Джон голодает, последние запасы давно исчерпаны, последние животные забиты и съедены; все вокруг покрыто снегом, и не осталось даже высохшей корки. В этот вечер она не прикоснулась к пище. Отец спросил ее, в чем дело, и она ответила: — Джон голодает. Я не могу есть, когда его мучает голод. — Ты мне не говорила, что получила известие от Джона! — Я не получала известия. Я просто знаю, что он голоден. Немного поразмыслив. Том Бентон пришел к выводу, что дочь страдает некой формой депрессии. Он счел за лучшее признать ее болезненное состояние, чем оспаривать ее утверждения. — Возможно, верно, что Джон голодает, — вежливо согласился он, — в экспедициях частенько не хватает продовольствия. Но не стоит беспокоиться. Онвсегда находил выход из положения. Джесси сидела молча, склонив голову, аппетит у нее совершенно пропал. На второй день, когда она не взяла в рот ничего, кроме воды, Том Бентон рассердился: — Это самая вопиющая глупость, какую я знаю. Даже если Джон голодает, у него нет возможности сообщить об этом тебе. Но если бы у него нашлись возможности, он не использовал бы их. Поэтому и я не позволю тебе поставить под угрозу здоровье ребенка, которого ты носишь. — Ты прав, отец, — прошептала она. Через два дня, 6 февраля 1854 года, она сидела с распущенными волосами, в халате перед камином. Положив руки на колени, она пыталась в рисунках пляшущего пламени разглядеть подлинную картину того, что испытывает в данный момент ее муж. Хлопнула наружная дверь, и затем она услышала звонкий смех на лестнице. Это пришли со свадьбы генерала Джессепа ее сестра Сюзи и одна из кузин Бентонов, чтобы переночевать у нее. Она радушно приняла молодых девушек и просила их не стесняться, устроиться перед огнем после поездки по холодным, заледеневшим улицам. Они сбросили бальные платья, накинули на себя свободные шерстяные халаты и уселись у ее ног, рассказывая о свадьбе и попивая горячий чай. Дрова в камине догорали. Джесси сказала: — Я схожу за дровами. Она пошла в столовую, где стоял ящик для дров. Джесси наклонилась над ящиком, и вдруг ей послышался голос Джона, прошептавший: — Джесси. Полусогнувшись в темноте, она стояла неподвижно, даже не дышала, сердцем своим почувствовав облегчение: ее муж в безопасности. Джесси выпрямилась и принесла дрова в жилую комнату. Сюзи, стоявшая спиной к огню, перехватила взгляд Джесси, перешагнувшей порог. — Ой, Джесси, дорогая, что произошло? Твои глаза сверкают, словно ты получила изумительные известия. — Да, получила, — торжественно ответила Джесси, — Джон в безопасности. Том Бентон, приехавший поздним утром на следующий день, неодобрительно качал головой: — Утверждение, что Джон голодает, — твои фантазии. Мне это не нравится, Джесси. Это опасная игра, более опасная, чем то, с чем может столкнуться Джон в походе. — Не бойся, — нежно ответила она. — Я теперь счастлива и знаю: Джон в безопасности. Можешь более не беспокоиться за меня, ты убедишься в этом. — Дареному коню в зубы не смотрят, — сказал он вполголоса, — Я не люблю мистику, но если она помогает восстановить твой аппетит, я готов ее принять. Джесси была верна своим словам: освободившись от тревоги за мужа, она не заметила, как пролетели недели. К концу марта она получила письмо из Парована, в штате Юта, привезенное старшиной мормонов, приехавшим по делу в Вашингтон. Раскрыв конверт и разгладив бумагу, она увидела почти в каждой строке одно и то же слово — «голод». Даже не прочитав приветствия: «Дорогая жена», она уже высмотрела слово «голод» и на одном дыхании прочитала:«Запасы продовольствия неуклонно таяли. Не было возможности пополнить их за счет дичи, на уме была лишь еда. Почти пятьдесят дней мы существовали за счет наших лошадей, пока не была забита последняя. Через три дня, когда я карабкался в гору, голод свалил меня, и я почти упал. Я не сказал никому, как я себя чувствую, а лишь объявил, что здесь прекрасное место, чтобы разбить лагерь, что мы и сделали. На следующее утро я смог продолжить поход. Я созвал всех членов экспедиции и сказал им, что небольшая группа в моей последней экспедиции была виновна в том, что съела одного из своих, и закричал: „Если мы умрем от голода, то умрем как мужчины!“ К вечеру следующего дня мы встретили группу индейцев племени ют, один из них помнил меня по походу в этих местах еще в 1844 году. Они дали нам собаку…»Окончив чтение письма, она, обессилев, прислонилась к краю камина. Ее память обратилась к другому году и к другому дому. Она, мысленно увидела себя в доме Бентонов в Сент-Луисе в своей кровати под балдахином, когда все вокруг думали, что Джон погиб. Она припомнила, как однажды череда страхов, мучивших ее, разомкнулась, она уснула глубоким, спокойным сном, а проснулась уже беззаботной, осознающей, что ее муж в безопасности. Джесси посетила дом отца и с радостью сообщила ему, что с экспедицией Джона все в порядке. Она не упомянула слово «голод». Весна пришла в Вашингтон в самом начале марта. Том Бентон, чувствуя усталость после интенсивной работы зимой, удалился в Силвер-Спринг на кратковременный отдых. Джесси собиралась провести эти дни в доме на Си-стрит и побыть со своей матерью. Она принесла Элизабет в первый вечер поднос с едой: теплое молоко и кусочек поджаренного тоста с маслом. По возвращении из Парижа Джесси поняла, что мать сильно сдала. Однако и при каждодневном ее посещении можно было заметить небольшие изменения. Глаза матери ввалились, лицо стало бледным. Последние несколько лет Элизабет Макдоуэлл оставалась в живых только потому, что не знала способа умереть до того, как придет ее время. Джесси вытерла руки матери теплым полотенцем и слегка причесала ее. Через некоторое время Элизабет произнесла: — Джесси, помоги мне… из… постели. Джесси накинула халат на плечи матери и надела ей на ноги теплые тапочки. Она поддерживала Элизабет за талию, когда та засеменила по коридору в библиотеку. Джесси все время сопровождала мать, обходившую комнату. Элизабет притронулась рукой к письменному столу Тома, погладила книги на полках, шахматную доску на столике у окна. Когда мать повернулась к двери, Джесси заметила слезы в ее глазах. Спускаясь по лестнице, она чуть ли не несла мать. Собрав все силы, миссис Бентон переходила из комнаты в комнату, рассматривала портреты своих родителей в гостиной, прикоснулась к клавишам фортепьяно Элизы и Сюзи, затем прошла через прихожую в столовую, где, опершись на стол, долго смотрела на собственный портрет, написанный Сэмюэлом Морзе, занимавшимся одно время живописью. Она присела в большое кресло Тома Бентона в конце стола. В быстро сгущавшихся сумерках две женщины смотрели друг на друга над полированной поверхностью столешницы из красного дерева. Наблюдая за лицом матери, Джесси заметила, что ее глаза просветлели, на щеках появился румянец. — Я была здесь так счастлива… но этот дом никогда не был моим… некоторым образом… он твой дом. Ты выросла здесь… здесь твои корни. Ты любила этот дом. Этот дом станет твоим… каким был для меня дом в Черри-Гроув. Твой отец завещал его тебе… это будет твой наследственный дом… для твоих детей. Я счастлива… он будет у тебя, Джесси, у тебя и твоей семьи… …Отец говорил, что ты сделала этот дом маленьким Белым домом Вашингтона. Многие годы все важные лица, приезжавшие в столицу, сидели за этим столом и наслаждались твоим гостеприимством. Ты принимала Эндрю Джэксона и Рейчэл, когда они впервые приехали в Вашингтон и никто не хотел иметь с ними дела из-за ее развода с мужем. Элизабет слегка улыбнулась. Джесси знала, что ее мать также была своеобразной мученицей супружества. Она говорила: «Я не могу терпеть такой образ жизни, поэтому потихоньку удалюсь, но никогда не обижу своего мужа, заявив ему, что эта жизнь была не для меня и я совершила фатальную ошибку, выйдя за него замуж». Если она не была достаточно сильной, чтобы противостоять жизни, расходившейся с ее вкусами, то по меньшей мере была достаточно сильной, чтобы скрыть от мужа, что убивает ее. Элизабет Бентон также имела свое родимое пятно. Другая бы женщина бросила мужа, вернулась в Черри-Гроув, отказалась от брака как ошибки. Элизабет Макдоуэлл Бентон заплатила своей жизнью за ошибку, и никто, кроме одной дочери, не знал об этом. Между ними существовала пропасть, пропасть различных характеров, ценностей, восприятия, но теперь Джесси чувствовала, что она, как никогда, близка к Элизабет. Она догадалась, что отвага подобно одиночеству имеет много сторон, что все, на что она способна, не потребует большего мужества, чем то, какое проявила Элизабет с ее очаровательным и нежным восприятием. В эту ночь ее мать ушла из жизни так тихо и незаметно, что Джесси почти не увидела перехода от жизни к смерти. Казалось, что глаза матери закрылись чуть плотнее, лицо стало чуть бледнее, а ее хрупкая, костлявая рука — чуть холоднее. Подняв жалюзи и впустив первые лучи зари, Джесси увидела, что Божий суд Элизабет Макдоуэлл Бентон уже позади. Спустя несколько недель она сидела за ланчем со своими детьми, когда вбежал Джошиим с перепуганными глазами и, задыхаясь, прокричал: — Мисс Джесси, скорей, скорей — дом горит! Она побежала по улицам Вашингтона; уже за несколько кварталов она увидела бушевавшее пламя. Она повернула на Си-стрит, и ее ноги стали ватными. Перед домом Бентонов собралась толпа. Пожарные поливали дом из шлангов, пытаясь сбить пламя. Она закрыла глаза и сквозь сомкнутые веки увидела два великих пожара в Сан-Франциско, которые приписывала беззаконию, царившему в тамошней общине. Судорожно дыша, она стояла на одной ноге, с поникшими плечами, стараясь отдышаться и наблюдая за тем, как превращается в прах ее дом, с которым связано столько воспоминаний и надежд. Такое, следовательно, было ее наследство: построенный дом, устроенная жизнь, и вдруг ничего, кроме обгоревшей трубы, одиноко смотрящей в небо. Карета ее отца выехала с Пенсильвания-авеню. Они стояли обнявшись, и Том шептал: — И что же с моей рукописью «Тридцать лет в сенате»? Она сгорела. Толпа стала еще плотнее. Прозвучали слова сочувствия. Джесси услышала, как кто-то сказал, будто сенат прервал заседание, узнав о пожаре. Потом она увидела, как многие сенаторы, с которыми Том Бентон провел свои рабочие годы, выражали свое сочувствие, предлагали ему гостеприимство в своих домах, глядя, как обрушилась крыша дома Бентона и огонь кольцом охватил все стены. Она попросила кого-то помочь довести отца до ее собственного дома. Там Том Бентон рухнул в глубокое кресло, его голова поникла на грудь, он словно лишился жизни. Через некоторое время раздался стук в дверь. Мейли объявила, что приехал президент Франклин Пирс.[9] Пирс занимал в течение двадцати лет кресло конгрессмена от Нью-Гемпшира, а затем недобрая судьба привела его на пост, для которого у него не было ни талантов, ни желания. Пирс был добрым человеком, понимавшим цену страдания: его жена лишилась рассудка после смерти их сына, и Белый дом не доставлял ему счастья. Он подошел к Тому Бентону, тяжело опустил свою руку ему на плечо и сказал: — Сенатор, вам просто не повезло. Я ехал, когда мне сообщили о случившемся. Я поспешил сюда, задержавшись в Белом доме только для того, чтобы отдать команду. Вы найдете все готовым для вас — библиотеку и спальню по соседству. Вы должны оставаться там, пока не будет отстроен ваш дом. Джесси вспомнила, что отец говорил о президенте: — У Пирса неладно с головой, а сердце у него доброе. Они были тронуты вниманием президента, но, выражая свою благодарность, они знали, что Том не переедет в Белый дом, ведь это также траур. Верный данному обещанию, Джон вернулся в Вашингтон к середине мая. Обмениваясь торопливыми рассказами обо всем, что произошло за семь месяцев разлуки, Джесси нерешительно поведала мужу, как она узнала, что он голодает, и сама не могла есть, как он прошептал ей, что у него все в порядке. Ранее они не говорили о таких вещах; она чувствовала себя неловко, боясь, что он высмеет ее и даже упрекнет в том, что она поддалась оккультизму. Вместо этого он посмотрел на нее вопрошающими глазами и спросил: — Ты случайно не помнишь, когда это было? — Да, помню. Это было 6 февраля. Джон подошел к своему водонепроницаемому походному мешку и вытащил из него свой дневник. Перелистывая его, он нашел запись от 6 февраля. — В этот вечер мы добрались до Парована, — сказал он неестественно приглушенным голосом. — Мы так ослабли, что едва тащились по тропе. Но мормоны разобрали нас по одному, по два в свои дома, накормили и ухаживали за нами до отправки. Он на минуту смолк, читая свои заметки, а потом вновь взглянул на нее: — В какое время ночи тебе послышалось, будто я разговариваю с тобой? — Девочки вернулись домой со свадьбы около часа ночи. Они надели халаты и устроились у камина. Почти через час я наклонилась перед тем ящиком… — Послушай запись в дневнике, — сказал он. — После того как добрые мормоны накормили меня и провели в мою комнату, я тут же сел и написал: «Если бы я мог сказать Джесси, что теперь в безопасности, сказать ей, как я счастлив, что мы все спасены». — В какое время ты сделал эту запись? — У меня помечено: в одиннадцать тридцать. — Тогда твое послание дошло до меня за два с половиной часа. Нет оснований жаловаться: даже телеграф Сэмюэла Морзе не передал бы быстрее. Джон погладил ее щеки: — Ты хорошая жена, но плохой астроном. Время в Юте отстает от вашингтонского на два с половиной часа. Послание к тебе, занесенное в мой дневник, было передано быстрее и точнее, чем с помощью изобретения Сэмюэла Морзе.
_/4/_
Через два дня она родила мальчика. Они назвали его Фрэнком. Родители были счастливы по поводу рождения сына и открытия перевала в центральной части Скалистых гор, через который Джон мечтал проложить железную дорогу. Вместе они составили краткий доклад о переходе через перевал, сопроводив его картой, показывающей предполагаемую железнодорожную линию в Калифорнию. Теперь им приходилось уделять много времени вопросам бизнеса: банк «Пальмер, Кук энд компани» в Сан-Франциско успешно разместил основные акции, и Джон привез банковские чеки, рассчитывая использовать их для того, чтобы поправить свои дела в Вашингтоне. Представители от Калифорнии провели наконец через конгресс законопроект, предусматривающий выплату Фремонтам ста восьмидесяти долларов, израсходованных ими на покупку рогатого скота для индейцев. Хаттмэн выиграл дело, которое Джон перевел из Лондона, но конгресс проголосовал в пользу требования оплатить основной капитал и проценты; таким образом, им не пришлось покрывать судебные издержки в сумме сорока трех тысяч долларов за счет личных фондов. Успех Хаттмэна побудил и других в Калифорнии, имевших на руках расписки Джона времен завоевания, предъявить свои иски. Джон жаловался Джесси, что с каждым часом дела запутываются: правительство отказалось возместить семьсот тысяч долларов по его распискам, но явно готово оплачивать выигранные дела и все судебные издержки по этим распискам… после того как он потратил месяцы, защищая иски, теперь наделяют богатством судебных крючкотворов! Находясь в Калифорнии, Джон узнал, что несколько лучших мест, которые он отметил кольями для кварцевых шахт, захвачены поселенцами, и выдворить их из Марипозы можно лишь силой. Значительная часть его деятельности в Вашингтоне имела отношение к департаменту внутренних дел, при посредстве которого он пытался провести законы, защищающие права на разработку залежей минералов в условиях, еще не подтвержденных дарственными на земли Калифорнии. Он не добился успеха, и с каждым пароходом, приходившим в Нью-Йорк, поступали тревожные известия от компании «Пальмер, Кук» и от его управляющего в Марипозе, что если не принять меры, то поселенцы захватят все шахты. Джесси неохотно согласилась, что ему следует совершить еще одну поездку в Калифорнию. После этого он вернется на Восток и приступит к деятельности в пользу прокладки центральной железнодорожной линии, на строительство которой, как они полагали, конгресс выделит фонды. После того как все их дела на Востоке будут улажены, семья переедет в Марипозу. Джесси не хотела оставлять отца одного. Жена Тома Бентона умерла, работа в сенате закончилась, дом сгорел, а вместе с ним его рукопись и бумаги; сын погиб, три дочери были заняты заботой о своих собственных семьях. В доме на Си-стрит у него была своя работа, свои книги, свои корни, своя крыша, друзья, посещавшие его; он мог принимать гостей, быть хозяином дома, человеком, имеющим место в мире. Пожар все это круто изменил: все его имущество превратилось в дым, и, хотя Джесси создала ему все удобства, в своем сознании он считал себя отверженным. Она страдала за него: он прожил слишком долгую жизнь, и все, чем он жил, ушло от него — все, кроме проблемы рабства. Джесси поощряла его начать восстанавливать книгу не только потому, что она нуждалась в его записях, но и потому, что работа отвлекала бы его от мрачных мыслей. Оказав ему помощь в сборе среди друзей по сенату ряда документов и в написании первых глав, она пробудила энергию отца, и он с головой ушел в работу. Обретя новый взлет умственной энергии и отвагу, «старый носорог» доказал, что по праву получил такую кличку, ибо в семьдесят два года не только приступил к восстановлению книги, но и ринулся в последнюю великую борьбу: не допустить, чтобы вопрос о рабстве расколол Союз. Джесси не стояла в стороне от разразившейся бури по поводу рабства. Она и ее муж заняли определенную позицию: распространение рабства должно быть запрещено. Вашингтон стал пробным полем битвы: северяне и южане пытались использовать федеральное правительство в качестве инструмента для защиты собственных интересов и взглядов. Дискуссии в конгрессе вышли за рамки приличия: они велись яростно и ожесточенно, переходя в драки. Атмосфера была отравлена смертельным вирусом; закон о беглых рабах[10] возмутил население Севера, а билль Канзас — Небраска,[11] открывший для рабства новые территории, ранее недоступные для него по Миссурийскому компромиссу 1820 года,[12] вызвал гражданскую войну в Канзасе. Казалось, во всей обширной американской панораме есть только вопрос о рабстве. Этот вопрос делал друзей врагами, разрушал семейные узы, вторгался в политику, экономику, религию и идеологию. Самые давние друзья, близкие в течение полувека к семьям Бентон и Макдоуэлл, их больше не навещали, отказывались принимать у себя Фремонтов, поносили за глаза и публично. От друзей и родственников на Юге, с которыми у них были тесные связи, приходили озлобленные письма. Согбенный, лишь с несколькими седыми прядями, едва прикрывавшими его большую голову, Том Бентон все же нашел в себе силы выехать с лекциями, желая предупредить общественность о намерении Юга насильственно отделиться от Союза и призвать умеренно мыслящих во всех уголках страны пробудиться перед лицом надвигающейся опасности, совместно действовать, дабы предотвратить раскол. Джесси не осознавала, каким южным по духу городом был Вашингтон; несмотря на то что в нем были представлены все штаты США, именно сторонники рабства господствовали в городе, определяя его атмосферу, строй его жизни, его мышление, даже его прессу. Воздух дышал ненавистью, в нем висела брань и угроза насилия; не было ни одного защищенного от них дома; как бы мирно ни начинались дискуссии, они заканчивались взаимными обвинениями и кровавыми потасовками. После одной особенно грубой вспышки Джесси решила поговорить с мужем: — Джон, есть ли какая-нибудь особая причина оставаться в Вашингтоне? Есть ли у тебя важные дела, которые делают необходимым наше пребывание в столице? — Напротив, Джесси, — ответил он, — мне кажется, что здесь занимаются не бизнесом, а драками по поводу рабства. — Тогда следует переехать в другое место? В северный город, где люди думают, как мы? Я не сетую на судьбу, но ни стены спальни, ни стены коттеджа не ограждают нас от этих ссор. — Ты полагаешь, что я не тревожусь по этому поводу, Джесси? — ответил он. — В Вашингтоне нет такого места, где не возникало бы ссоры. Я всегда любил этот город, но теперь мне в нем неуютно. — Нас мало что держит здесь: город сильно изменился, наш дом сгорел, многие наши бывшие друзья ненавидят нас теперь… — Когда, по-твоему, мы могли бы тронуться и куда бы ты хотела уехать? — Я хотела бы уехать завтра и жить в Нью-Йорке. Это наиболее космополитический из всех наших городов, там нас будут окружать люди нашего склада ума, и по крайней мере мы избавимся от личных неприятностей этого противостояния. Джесси удивилась, как мало у них вещей. Потребовалось всего два дня, чтобы все упаковать и отправить в Нью-Йорк. Они сняли дом на Девятой-стрит около Пятой-авеню. Это был трехэтажный дом с гостиной, окна которой выходили на улицу, а с другой стороны к ней примыкала просторная столовая. От прихожей вверх к трем спальням вела довольно узкая лестница. Джесси считала, что ей повезло: мебель была светлой и легкой, а стены украшали картины на морские темы. Лили посещала государственную школу по соседству. Чарли, которому исполнилось четыре года, был отдан в детский сад. Мейли поехала с ними якобы готовить еду для Джесси и Джона, а на самом деле из-за маленького Фрэнка, которого страстно любила. Джошаам присоединился к семейству, его брат-двойняшка остался с Элизой и Томом Бентоном в Вашингтоне. Подобно тому как любовь к Чарли усиливалась любовью к ушедшему маленькому Бентону, Джесси обнаружила, что ее любовь к крепышу Фрэнку с карими глазами удваивалась той любовью, которая предназначалась «маленькой парижанке». Джесси показалось вопреки ее ожиданиям, что Нью-Йорк вовсе не такой уж мирный город, но во всяком случае обстановку создавали люди, с которыми она была согласна. Позднее, весной 1855 года, она арендовала коттедж в Сиасконсете, Нантакет, для того чтобы пережить летнюю жару в городе. Джон уехал в Марипозу, уверенный, что вернется к сентябрю. Ее отец принял приглашение провести с тремя внучатами несколько месяцев в коттедже на морском побережье. В полдень они сидели на пляже, а вечерами работали вместе над текстом «Тридцати лет». Но Джесси обнаружила, что самым оживленным было время около четырех часов, когда Мейли подавала чай на веранду, откуда виднелась дорога. Том получал ведущие газеты Нью-Йорка, Бостона, Вашингтона, Сент-Луиса и Чарлстона, их доставляли в коттедж. Он внимательно следил за взлетом новой республиканской партии, возникшей год назад в Висконсине и распространившейся по стране как степной пожар, вбирая в себя бывших вигов, чья партия распалась, а также большую часть северных демократов, которые возмущались тем, как Франклин Пирс превратил демократическую партию в защитницу интересов южных рабовладельцев. — Почему тебя так раздражают республиканцы, отец? — спросила Джесси. — Наше правительство построено на двухпартийной основе, и всем известно, что виги полностью дезорганизованы. — Конечно, конечно, — гудел Том, чей голос вопреки возрасту не ослаб. — Нам нужна партия, но она должна быть национальной по характеру, а не географической, фракционной. Республиканцы станут сугубо северной партией, убежденной партией противников рабства… — Странно слышать такое от убежденного противника рабства, как ты, папа. — …что столкнет Север и Юг лоб в лоб. Как только раскол станет политическим, а также географическим, ничто не предотвратит гражданскую войну. Джесси налила отцу третью чашку, но чай остыл, и Том, сделав всего лишь один глоток, поставил чашку на место. Джесси тщательно подумала, прежде чем начать говорить: — Войну вызовет вопрос о рабстве, папа, а не образование новой партии. — Опять согласен с тобой, Джесси, но, ты знаешь, я всю жизнь надеялся уладить вопрос о рабстве без насилия и кровопролития. Республиканцы так обострят вопрос, что, если они выиграют выборы 1856 года, Юг отколется от Союза. Он поднялся, ощутив прохладу после захода солнца, и направился к своей комнате, склонив голову на грудь. Подойдя к двери, он повернулся и отрешенно сказал: — Ой, Джесси, наступают тяжелые времена. Я надеюсь лишь на то, что республиканская партия умрет так же быстро, как родилась. — Откровенно говоря, отец, — сказала вдруг Джесси, — я не согласна с твоими рассуждениями. Ты прекрасно знаешь, что в демократической партии правят бал южные политики. Они никогда не выдвинут того, кто был бы против рабства, или того, кто не станет бороться за расширение рабства. — В таком случае мы, убежденные демократы, должны восстановить наш контроль над партией. Мы не должны сжигать амбар только ради того, чтобы избавиться от крыс. Джесси улыбнулась, подумав, насколько тонка политическая фраза. — Не думаю, чтобы республиканцы выступали в роли поджигателей амбаров, отец; если они выдвинут действительного борца против рабства, то, я думаю, Джон проголосует за него. В августе нанес визит С. Н. Карвальо с подарком для Джесси — экземпляром только что отпечатанной книги о его походе с пятой экспедицией полковника Фремонта. Карвальо, первый фотограф, сопровождавший трансконтинентальную экспедицию, сделал много великолепных, выразительных снимков. Он принял приглашение на ланч, после которого разговор перешел на политику. — Разве вы не знаете, миссис Фремонт, — спросил Карвальо, — что члены пятой экспедиции уже выбрали своего кандидата в президенты? — Действительно, кто же этот несчастный? — Полковник Фремонт. — Полковник Фремонт?! — воскликнула она в изумлении. — Как же это случилось? — Очень просто. Мы встали лагерем в Салин-Форке на реке Канзас, ожидая полковника, который должен был присоединиться к нам, подлечив свою ногу в Сент-Луисе. Как-то вечером, поедая вокруг костра бифштексы из бизонов, мы задались вопросом, кто должен стать следующим президентом, и мне вдруг пришла в голову мысль: полковник Фремонт! И я тут же его и предложил. Заинтересовавшись, Джесси спросила: — И как было принято предложение? — Аплодисментами! Каждый в лагере считал его своим фаворитом. В этот вечер она допоздна читала книгу Карвальо, и ее глубоко тронуло высказанное в ней уважение к Джону:«При всех превратностях, страданиях и волнениях в походе, когда раскрывается подлинный характер человека, полковник Фремонт никогда не забывал, что он — джентльмен; без ругани, без возмущения… спокойно и сдержанно он отдавал приказы, и они неукоснительно выполнялись. Ему всегда оказывалось величайшее уважение и почет, хотя он никогда этого сам не требовал. Его сдержанное, образцовое поведение побуждало нас к такому же уважению, с каким относились к нам, и нам доставляло удовольствие отвечать взаимностью».В начале сентября Том Бентон возвратился в Вашингтон на открывавшиеся в столице гастроли Национального театра. Через десять дней Джесси получила от Джона телеграмму, уведомлявшую о том, что он благополучно вернулся в Нью-Йорк и задержится там только по самым неотложным делам. Спустя четыре месяца после отъезда мужа в Калифорнию она увидела его торопливо шагающим по дороге. Она сидела на передней веранде с детьми за чаем. Джон остановился на минуту, словно хотел получше разглядеть сцену, а затем поспешил к ней. С нижних ступенек он сказал: — На вас так приятно смотреть; мне захотелось полюбоваться этой картиной, чтобы навсегда ее запомнить. Лили и Чарли выскочили из кресел и бросились навстречу ему. Джесси заметила, что в его поведении было что-то необычное, нечто, примешивавшееся к его радости и волнению по случаю возвращения домой, в семью. В глазах сверкала искорка, а губы выдавали желание рассмеяться. Довольный, он, усевшись в кресло, отвечал на торопливые вопросы детей и перемежал рассказ о поездке с описанием положения дел в Марипозе. Было почти пять часов дня, когда они закончили чаепитие. Лили и Чарли убежали на лужайку, обращенную к океану, поиграть в песке. Слова, которых Джесси ждала почти час, наконец сорвались с его губ: — Не накинешь ли шаль, чтобы пройтись со мной по пляжу? Мы могли бы прогуляться к маяку.
_/5/_
Они покинули дом через заднюю дверь. Сначала шли по сухому песку, но идти было неудобно, потом спустились к линии прибоя и зашагали по плотному песку, намоченному откатившимся приливом. Их головы не были прикрыты, и морской бриз раздувал их волосы. Джесси ласково взяла его руку, прижалась к нему; она чувствовала, что его голова полна мыслей, но не торопила его высказать их. Дорога вдоль пляжа делала резкий поворот, и теперь солнце стало бить им прямо в лицо. Он выбрал этот момент, чтобы начать разговор. — Джесси, — прошептал он, — мне предложили выставить свою кандидатуру на пост президента. Она остановилась, тут же почувствовав через подошвы туфель сырой холод песка. — Именно это сказал Карвальо! — Карвальо? — Да, он был здесь на днях и принес экземпляр своей книги. Он рассказал мне, что члены твоей экспедиции выдвинули твою кандидатуру во время лагерной стоянки на реке Канзас. — Это второе выдвижение, более официальное. Я только что вернулся с совещания в гостинице «Сент-Николас», в котором участвовали признанные лидеры демократической партии. Они настойчиво просили меня согласиться на выдвижение моей кандидатуры, уверяли, что мы можем выиграть выборы. Импульсивно она обняла мужа за шею. Когда же освободила его, ее глаза блестели от радости и благодарности. — Хотела бы ты стать первой леди, Джесси? — нежно спросил он. — Ты была бы самой очаровательной хозяйкой Белого дома со времени Долли Медисон. — Конечно, меня восхищает такая возможность! — воскликнула она. — Какая бы женщина отказалась? Я даже осмелюсь думать, что смогу успешно сыграть роль хозяйки. Я наблюдала за тем, как Белый дом превратился из промозглого, сырого домика на болоте, когда президент был вынужден сам оплачивать отопление и свет, в прекрасный особняк, каким мы видим его сегодня. Во время восьмилетнего пребывания в нем Джэксона[13] мы проводили там семейные обеды и, играя, бегали по комнатам. Когда был избран Ван-Бюрен,[14] я регулярно ходила на приемы по случаю дня рождения его сына и на первые организованные им танцы. Нэнси Полк была моей подружкой все годы пребывания ее мужа на посту сенатора, а когда она переехала в Белый дом, мы посещали ее, как если бы она оставалась в своем доме. Джон взглянул на ее оживленное лицо, а затем сказал: — Нам не везло с первыми леди: бедную Рейчэл Джэксон свела в могилу клеветническая кампания, развернутая Генри Клеем в 1828 году. Она так и не стала хозяйкой Белого дома. Миссис Ван-Бюрен была настолько сухой и церемонной, что Белый дом перестал быть «домом народа», как называл его Джэксон. Нэнси Полк была приятной первой леди, а бедная жена Франклина Пирса была душевнобольной и никогда никого не принимала. Самое время для нас иметь первую леди, которая могла бы выполнять работу Энн Ройяль. Ты сделала бы многое для женщин страны, Джесси: могла бы бороться за их права, оказала бы помощь в их развитии, претворила бы в жизнь современные идеи о месте женщины в обществе. — Спасибо, Джон, за твое желание обрисовать мою роль, но комитет выдвинул не меня, а тебя. Из тебя выйдет превосходный президент. Я предвижу в этой стране наступление несравненной эры созидания. Я вижу железные дороги, продвигающиеся к западному побережью, национальные дороги, новые города, поднимающиеся там, где некогда разжигались лагерные костры. Солнце зашло. Быстро сгущались сумерки. Впереди регулярно вспыхивал вращающийся луч маяка, возвышавшегося в конце мыса. — Да, это чудесно, — согласился он. — Но это повлечет издержки. — Издержки? — Она ускорила шаг, словно желала ускорить темп их беседы. — Что они требуют от тебя? — Одобрить закон о беглых рабах. Работать в пользу расширения закона Канзас — Небраска. Она сникла и еле волочила ноги по мокрому песку. — Ох, — прошептала она, — мы должны одобрить рабство! Мы должны действовать в пользу распространения рабства на ныне свободные штаты и территории! — Виги вымирают; республиканцы слишком молоды, и их опасно принимать в расчет; кандидат демократов, несомненно, выиграет. Но ни один кандидат не может быть выдвинут демократической партией, если он не поддерживает рабство. Совсем стемнело. Ветер с моря стал холодным. Джесси запахнула поплотнее свое пальто. — Как случилось, что выбрали тебя, Джон? Демократы-южане знают, что ты сторонник свободы, что ты боролся за принятие Калифорнии как свободного штата. Почему они остановили свой выбор на тебе для защиты интересов рабовладельцев? — Очевидно, потому, что идеологически и географически я для них хороший компромисс. Ты и я родились на Юге, у нас сильные связи с ним. Нас также знают на Западе. Сторонники свободных земель и многие виги будут голосовать за меня, потому что им известно мое содействие в приеме Калифорнии в Союз как свободного штата; они предполагают, что я буду выступать за свободу на новых территориях. В то же самое время, если я публично признаю закон о беглых рабах и закон Канзас — Небраска, тогда сторонникам рабства не придется опасаться меня, ибо тем самым я возьму на себя обязательство защищать их интересы. — Иными словами, голосуя за тебя, та и другая фракции будут голосовать за взаимоисключающие надежды. — Верно. Они дошли до скалистой части мыса, вскарабкались вверх по неровным, шероховатым камням и сели отдохнуть у основания башни маяка. Внизу, в воде под их ногами, лежали обломки разбившегося судна, а над их головами вращался луч, предупреждая моряков. Они сидели на двух плоских камнях, прижавшись друг к другу, — две небольшие спокойные фигуры, сливавшиеся с сумерками на фоне скал. Она ждала, что муж откроет ей свое решение, но он молчал. — Что ты думаешь об этом, Джон? — спросила она. — Ведь на твои плечи ляжет бремя вероятной гражданской войны. Он повернулся и, застенчиво улыбаясь, сказал: — Хочу, чтобы ты стала первой леди. Хочу видеть тебя в роли хозяйки Белого дома, к которой тебя готовила вся жизнь. Сегодня в Америке нет женщины, более подходящей к такой славной работе, чем ты. Он взял ее руку и приложил к своей щеке. — Ты, Джесси, пережила многое со мной. Ты пережила муки разума и плоти. Я вовлек тебя в ссоры и скандалы, таскал через пограничные зоны с их заразными болезнями. Ты всегда была рядом со мной, даже когда я был не прав. Да, моя дорогая, я давно знал, что ошибался, уйдя в отставку из армии после военно-полевого суда. Теперь, когда появилась возможность стать президентом, я признаюсь тебе, каким тупоголовым я был, как мной овладела ложная гордость. Но ты не противилась мне, не заставляла действовать наперекор моему желанию, хотя то, что ты предлагала, было правильным, и ты предвидела, что предстоит нам в случае моей отставки. Потеря первого сына — на моей совести. Я знаю, что ты пережила в Сан-Франциско в месяцы одиночества, когда я бросил тебя в песчаных дюнах, стараясь добыть в Марипозе как можно больше золота, чтобы обеспечить себе благополучие на остаток жизни, — благополучие, которое конфликтовало с расчетами и надеждами, руководившими нами в рабочей комнате Хасслера. Я знаю, что последние несколько лет я отдавал время и энергию делу, которое, по твоему мнению, было бессмысленным. Но ты проявила терпение, ты была рядом со мной, когда я тратил задешево наши годы и наши мечты… — Потому что я всегда была уверена, что однажды… — Может ли это стать той возможностью, на которую ты надеялась, Джесси? Я могу стать президентом Соединенных Штатов, а ты — первой леди. Я обязан тебе всем, что ты пережила со мной, я в долгу перед тобой за твою любовь. Я не обеспечил тебе постоянного дома, Белый дом может стать твоим домом. Я не обеспечил тебе то место в обществе, какое ты заслуживаешь, с твоим приходом в Белый дом мир поймет, что ты подлинная первая леди нашего времени. Она молча стояла некоторое время, глубоко дыша, ощущая неизмеримое чувство, наблюдая за тем, как медленно обмахивавший горизонт луч маяка вырывал из мглы одну за другой темные волны. — Чтобы видеть меня первой леди, — сказала она почти хрипло, — ты будешь вынужден действовать вопреки принципам, которым был верен всю жизнь, не так ли? Разве ты можешь подписать указы о том, чтобы сбежавшие рабы возвращались закованными в цепи? Разве ты позволишь, чтобы рабство было распространено на свободный Канзас и на тысячи миль свободной территории между Канзасом и Южной Калифорнией? Он промолчал. — Джон, — воскликнула она, — я хочу быть женой президента! Оглядываясь на прошлое, скажу, что всегда хотела этого. Может быть, найдется выход из положения, ведь если тебя не выдвинут, то предложат какого-то откровенного сторонника рабства, не так ли? Разумеется, лучше иметь в Белом доме сторонника свободы, даже если он пошел на какие-то уступки, чем сторонника рабства, который будет делать все, чтобы расширить территории, где существует рабство. — В твоих рассуждениях есть логика. — Мы знаем, как ожесточены Север и Юг, Джон, как они точат зубы друг против друга, и, может быть, только способный к компромиссу кандидат спасет страну от гражданской войны. Возможно, это можешь сделать ты, у тебя есть друзья на Юге, на Севере и Западе, ты сможешь утихомирить противников, удержать Север и Юг от смертельной схватки. Отец говорит, что в Канзасе и других штатах Среднего Запада и Юго-Запада хлопок не вызреет и южане, привезшие рабов, вынуждены отсылать их обратно. Что же касается закона о беглых рабах, то каналы их переправки становятся столь эффективными, и Юг вскоре признает, что слишком трудно и накладно возвращать бежавших. Демократы выбрали тебя в качестве компромиссной фигуры — может, и тебе следует пойти на компромисс, Джон, и провести следующие четыре года в Белом доме и тем самым сохранить мир в стране? — Ты хорошо аргументируешь, Джесси, — нежно сказал он, — я могу пойти на такой компромисс. Но сможешь ли ты смириться с такой позицией? Сможешь ли ты ее оправдать? Твой отец скажет, что это разумно. Но согласишься ли ты с ним? Или же ты говоришь так, чтобы облегчить компромисс для меня? Она повернулась к нему, даже в сумерках они отчетливо видели лица друг друга. Должна ли она ради него пожертвовать собственными чувствами, выдержать бурю критики и оскорблений, которую обрушат на нее бывшие друзья? Не найдется ли чего-либо, оправдывающего в глазах женщин компромисс? Она всегда стремилась помочь мужу раскрыть свои творческие возможности, а где наилучшим образом он может сделать это, как не на посту президента Соединенных Штатов, уважаемого Севером и Югом, способного залечить раны страны, повести ее к миру и дружбе? Как любящая жена она должна помочь мужу завоевать самое высокое положение в стране, достичь самой высокой цели. Но как жена, стремящаяся к супружеству, которое переживет даже ее смерть, продолжится в их детях и внуках, не должна ли она помочь мужу реализовать свой высший духовный потенциал? Должно ли супружество быть беспредельно оппортунистическим, ползущим на коленях по камням, древесным обломкам, отмершим идеям, отпавшим друзьям? Или же супружество — жгучее пламя, выжигающее в муже и жене лишнее, ненужное и оставляющее лишь чистое и прекрасное? — Я пошла бы на компромисс, Джон, если ты готов пойти на него. Я не стану скрывать, что хотела бы видеть тебя в роли президента Соединенных Штатов… — Ты сама мыла полы и посуду в Монтерее, не желая купить рабыню… — Ты отказался купить рабов для работы на шахтах, хотя мог бы стать миллионером, купив их, и обеспечил бы благополучие, так нужное тебе в те дни в Монтерее; когда делегаты обсуждали за нашим обеденным столом вопрос о рабстве, я склонила присутствовавших в пользу свободы, задав вопрос: хотели бы они, чтобы их дети видели, как ведут закованными в цепи беглых рабов? Можем ли мы в 1856 году поддерживать закон о рабстве, если в 1850 году поддерживали свободу? Они молча сидели в темноте. Она понимала, как много значит для него пост президента, ибо в таком случае последний превратился бы в первого, незаконнорожденный взошел бы на трон короля. Для него отказаться от такой возможности в тысячу раз труднее, чем для любого другого человека. Но и цена, какую ему придется заплатить, чтобы стать президентом, критически высока: ведь за одобрение закона о беглых рабах и закона Канзас — Небраска аболиционисты и все противники рабства станут презирать его как продавшегося перебежчика независимо от цены. Демократы будут презирать его как слабака, оппортуниста, готового им служить. Она хотела быть первой леди, но еще больше хотела оставаться верной основным принципам и убеждениям, которые определяли их жизнь. Она чувствовала, что Джон совершит страшную ошибку, дав согласие на выдвижение своей кандидатуры на таких условиях. И все же если он настроился стать президентом, то как она может помешать его планам? Ведь он сказал, что желает видеть ее первой леди и готов заплатить любую цену, чтобы сделать ее хозяйкой Белого дома. Но ей претило, чтобы он заплатил такую цену. Она понимала, что, поддержав его, когда он принял решение уйти в отставку из армии, она обязана и сейчас поддержать его, если он хочет отключиться от борьбы против рабства. Она решительно повернулась к нему и сказала: — Давай будем откровенными. У тебя было немало времени поразмыслить обо всем. Я одобрю любое твое решение. Но ты не должен возлагать на меня такое бремя. Именно ты должен решить — быть тебе президентом или же отказаться от такой возможности. — Очень хорошо, Джесси, ты требуешь категорического ответа, и я дам тебе его. Во время поездки по железной дороге я неоднократно задавался вопросом: чего стоит человек? Подошел ли я к такому переломному моменту? На какое-то время он уставился на море, потом сказал ей: — Перед нами ясный выбор: либо мы — как этот маяк, посылающий призывы свободы всем находящимся в море, либо мы отдаем наши идеи на волю скал вроде лежащего под нашими ногами разбитого остова корабля. — Тогда ты готов отказаться от возможности? — У меня не было никакого сомнения. Я был бы готов принять предложение ради тебя, дорогая, а сам его не желал. — Джон, — прошептала она, — знаешь, о чем я думаю? О твоей второй экспедиции, когда ты попал в ловушку в горах Сьерры и тебя ожидала смерть. Однако у тебя нашлись и сила, и мужество пробиться там, где слабые погибли бы. Сегодняшний наш переход был более сложным для тебя, но ты его одолел и проложил новую тропу. Если бы ты захотел заплатить за должность президента, то я пошла бы на компромисс; но, мой дорогой, ты стал более ценным для меня и моей страны, ты сделал нечто большее для дела свободы, чем за четыре года пребывания в Белом доме. Я горжусь тобой и очень люблю тебя. Теперь я готова вернуться в две комнаты мадам Кастро в Монтерее или в барак на песчаных дюнах около Сан-Франциско. Я могу быть счастливой и довольной. Ей было холодно, и ноги затекли от неудобного сидения на камнях. Джон помог ей пройти по камням к песчаному пляжу. Они медленно шли домой по мягкому песку, молча, не прикасаясь друг к другу, но в полном согласии. Уже передсамым домом он остановился и обнял ее. — Председатель демократов в гостинице «Сент-Николас» сказал, что ни одна женщина не откажется от того, чтобы ее муж занял пост президента. Именно поэтому я не хотел отказать тебе в такой возможности. Но он ошибался, он не знал мою Джесси._/6/_
1 октября они возвратились в Нью-Йорк, в свой дом на Девятой-стрит. Прохладный воздух взбадривал, но еще более возбуждала сама обстановка. Джесси с большим интересом наблюдала за массовыми митингами против рабства, и в особенности за неожиданно быстрым ростом республиканской партии во всех уголках Севера и Запада, а также за все большим переходом прессы на ее сторону. Лидеры республиканской партии понимали, что в избирательной кампании 1856 года они не смогут выбрать платформу или идею. Они должны найти человека, личность. Партия была молодой, нужен был молодой кандидат; они впервые вышли на политическую арену, им нужен был свежий для национальной политики кандидат, они представляли партию, прокладывающую через политические джунгли новые пути; следовательно, требовался кандидат, умеющий прокладывать тропы. Платформа республиканцев основывалась на романтическом представлении всеобщей свободы, ей нужна была романтическая личность; борьба за свободу должна быть героической, она требовала героической фигуры; республиканская партия росла быстро, но еще не пользовалась широкой известностью и поэтому нуждалась в общеизвестной фигуре; и наконец, выборы сулили стать зародышем географической и идеологической войны, и требовался человек неукротимой отваги, чей дух и воля к победе не будут сломлены в самых, казалось бы, безнадежных условиях. Ни Джон, ни Джесси не разглашали, что отклоняют предложение демократов выдвинуть Джона как кандидата от их партии, и тем не менее в политические круги проникли сведения об этом, и их шаг был расценен как верность принципам. Джон был молод, ему исполнилось всего сорок три года. Он был свежей фигурой в национальной политике; он не успел еще накопить откровенных противников, его авторитет не был подмочен многими годами политических ссор. Вся нация знала его как первопроходца, восхищалась им как человеком небывалой отваги, романтической фигурой. Однако эти вроде бы очевидные достоинства остались в тени, если бы демократы не предложили ему выдвинуть свою кандидатуру. Поступив таким образом, демократы вызвали у четы Фремонт чувство сопротивления: если демократы столь уверены, что Джон Фремонт может выиграть, то почему он не может выиграть как кандидат от республиканцев? Намек, что Джон может быть выдвинут от республиканцев, был сделан, когда группа приверженцев партии — Фрэнсис Блэр, его сын Фрэнк, Натаниэль Бэнкс, сенатор Генри Уилсон от Массачусетса, Джозеф Пальмер, глава фирмы «Пальмер, Кук энд компани», и сенатор Джон Хейл от Нью-Гемпшира посетили дом на Девятой-стрит. Принимая гостей в шелковом платье фиолетового цвета с мягким воротником, Джесси предложила чай и кексы с корицей. Выступая в роли неофициальной делегации, гости просили Джона не увозить семью в Калифорнию, а остаться в Нью-Йорке для встреч с республиканскими лидерами различных штатов, активно объезжавшими страну в связи с возникновением нового радикального движения. Когда мужчины завершили дискуссию, оставив после себя в гостиной Фремонтов сизый дым от сигар, Джесси спросила: — Могут ли выиграть республиканцы? — Несколько дней назад я так не думал. Но если энтузиазм этих людей отражает чувства Севера и Запада, то тогда они располагают такой возможностью. — Готов ли ты принять их предложение стать кандидатом, если даже у них нет шанса? — Не думаю, что мы вправе требовать гарантий успеха. Если это — наша борьба, тогда мы должны в ней участвовать. Важно начать сражение. Если даже республиканцы проиграют в 1856 году, то это может быть на деле их победой; они укрепят свою партию и заложат прочную основу для победы в 1860 году. Не нужно подходить к отдельному сражению как к самоцели, его надо рассматривать в рамках развития всей кампании. Иногда проигранные в начале кампании сражения являются именно теми, которые подготовили конечную победу. Наш отказ ввязаться в борьбу, когда в прошлом месяце демократы предлагали выдвинуть мою кандидатуру, поставил нас ныне в стратегическое положение. — Отец всегда говорил: должность должна искать человека, а не человек — должность. Поскольку предлагают твою кандидатуру, ты можешь принять предложение не кривя душой, с полным доверием. Твое имя поможет росту партии. Если кто-то и может обеспечить победу республиканцам, так это ты. В спокойные времена агитация начиналась за пару месяцев до партийных съездов. Но обстановка была накалена, и к ноябрю 1855 года, за целый год до выборов, газеты запестрели сообщениями о политических маневрах и вероятных кандидатах. Джесси подписалась на газеты всех основных городов Севера и Запада. Сообщения этих газет позволили ей убедить мужа в том, что мысль о его лидирующей роли в республиканской партии распространяется с быстротой степного пожара. Упоминались и другие кандидаты: ветераны вроде Уильяма Сьюарда, Сэльмона Чейза, судьи Джона Маклина, которые длительное время настойчиво выступали против рабства, но именно эти обстоятельства обернулись против них — у них было слишком много противников, и их могли во многом обвинить. На декабрьском заседании Национального комитета республиканцев, состоявшемся в Силвер-Спринг, Фрэнсис Престон Блэр и такие влиятельные в национальном масштабе фигуры, как Чарлз Самнер, Престон Кинг, Натаниэль Бэнкс, Сэльмон Чейз, доктор Бейли, и многие другие пришли к согласию, что Джон Фремонт — единственный человек, способный обеспечить победу республиканской партии. Фрэнсис Блэр заявил, что готов взять на себя ответственность за проведение кампании, если будет выдвинута кандидатура Джона. Его энергичный сын Фрэнк поклялся, что наберет группу ораторов, которые сделают имя Джона известным в каждом поселке в Америке. К концу года дом Фремонтов на Девятой-стрит стал полуофициальной штаб-квартирой республиканцев в Нью-Йорк-Сити. Не проходило дня, чтобы в доме не присутствовали десять — двенадцать гостей на ланче, чае или обеде. Наблюдая, как Джошаам прилаживает козлы и доски к столу, стараясь сделать его побольше, Джесси вспомнила лучшие годы в доме Бентонов, когда за длинным обеденным столом из красного дерева оживленно обсуждались вопросы политики. Она вновь оказалась в столь близкой ее душе среде, когда кругом все бурлит. Джесси старалась, чтобы ее тринадцатилетняя дочь была в курсе происходящего и получила те же навыки, какие она сама обрела в Вашингтоне. Джошаам давал Лили самые маленькие порции, ибо дочь, подобно матери, не могла есть, ведь жаркие споры отвлекали от пирога с мясом или курятиной. После того как уходил последний гость, Джесси и Лили шли на кухню, подогревали еду, оставленную им Мейли, и возвращались к вопросам, которые дискутировались в течение вечера. В конце первой недели марта после ряда конфиденциальных встреч Джон заверил ее: у него практически нет сомнений, что будет выдвинута его кандидатура. Джесси задумалась над проблемой, которую до этого обходила: Том Бентон отрабатывал запасную позицию против республиканской партии, о чем он сказал ей еще прошлым летом в Сиасконсете. Что он скажет теперь, узнав, что его зять возглавит новую партию? Разумеется, положение будет выглядеть иначе; побудит ли его это изменить точку зрения? Она одна поехала в Вашингтон известить отца. Элиза удобно разместила его, соединив спальню и кабинет, где он находился среди книг и бумаг, полученных от прежних коллег. Тому Бентону исполнилось семьдесят четыре года. Он сохранил присущие ему силу духа и воли, но здоровье, подорванное в двадцать лет туберкулезом, начало сдавать. Радость на лице Тома Бентона при виде Джесси осложнила ее задачу. Она закрыла за собой дверь библиотеки и без лишних слов напрямик заявила: — Отец, Джона заверили, что республиканцы выдвинут его кандидатуру на пост президента. Он стиснул зубы, и его лицо застыло в маске упрямства, памятной ей с тех пор, когда он вложил все свои силы в борьбу против Биддла и Банка Соединенных Штатов.[15] Он подошел к кожаному креслу, купленному для него Элизой, тяжело опустился в него и прикрыл глаза большой ладонью левой руки, на которой с недавних пор появились коричневые пятна. — Ты не рад, отец? — неуверенно спросила она. — Ты ведь был так горд, когда Джон отклонил предложение демократов о выдвижении его кандидатуры. Почему же ты не гордишься тем, что его выбирает партия свободы? Том Бентон устало уронил свою руку на колени; в то время как дочь и отец смотрели прямо в глаза друг другу, перед их мысленным взором прошли картины их совместной работы. — Я горд тем, что Джон стал выдающимся человеком своего времени, — хрипло сказал Том. — Но ему не следует соглашаться на выдвижение его кандидатуры республиканцами. Это даже хуже, чем принять предложение демократов. У нее хватило силы лишь спросить: — Но почему, папа? Ведь в стране нет никого, кто бы более решительно выступал против распространения рабства, чем ты. Республиканцы не допустят распространения рабства. — Если бы они занимались только этим, то я поддержал бы их всеми силами. Но они — чисто географическая партия, Джесси, они расколют страну надвое. — Республиканская партия — географическая, потому что рабовладельческие штаты не присоединяются к ней. Они останутся с демократической партией. Новая Англия, Восток, Средний Запад, Запад настроены против рабства, они будут голосовать за Джона и республиканскую партию. — Если они так проголосуют, то тогда они отдадут свои голоса не Джону, а гражданской войне. Запомни мои слова: если Джон примет от республиканцев выдвижение и будет избран, то на него ляжет ответственность за кровопролитие в стране. Я знаю, что ни он, ни ты этого не хотите. Если ты решила стать первой леди любой ценой, тогда лучше примите выдвижение кандидатуры демократами: вам придется одобрить рабство, может быть, даже пойти на некоторое его распространение, но вы не спровоцируете в таком случае откола Юга. Послышался стук в дверь. Вошел Джошиим, он принес кофе, пшеничные лепешки и ежевичный джем, который, как ему было известно, любила Джесси. Она пожала руку долговязому негру, довольная тем, что вновь увидела его. — Нам не хватает вас, мисс Джесси, в Вашингтоне, — сказал он, широко улыбаясь. — Когда вы вернетесь сюда? — Примерно четвертого марта, — ответила она, с ласковой улыбкой посмотрев на отца. — Вы снимете здесь дом, мисс Джесси? — Я понимаю, что сдается Белый дом, Джошиим. Но, как полагает отец, мне не следует снимать его; он говорит, что в дождливый сезон на кухне скапливается вода, находящиеся там задыхаются от миазмов. Выпучив от удивления глаза, Джошиим пробормотал: — Почему, мисс Джесси? В кухне Белого дома нет воды со времени отъезда президента Джэксона, и все болота осушены много лет назад. Если у вас будет шанс въехать в Белый дом, то ничего не бойтесь: мама Мейли, Джошаам и я будем содержать его теплым и сухим. Том Бентон махнул рукой, дав понять, чтобы слуга ушел. — Ты права, Джесси, — резко сказал он. — Белый дом наполнится миазмами, если хозяйничать там будут республиканцы. Я самым решительным образом советую тебе не допускать, чтобы Джон принял выдвижение его кандидатуры. — А если он примет? — Тогда я выступлю против его избрания. Я объеду всю страну, предупреждая народ, что нельзя допускать в Белый дом партию раскольников. Ее охватил страх. — Значит, ты начнешь кампанию против собственного зятя? — Я буду обязан действовать так. Будет нелегко, Джесси, но в моей жизни было мало легкого. Она взяла чашку кофе, подошла к окну и уставилась в него, ей виделись не дома напротив, а лицо мужа. Она думала о том, как сказать ему, что ее отец отрекся от него. Она проглотила горячий черный кофе, размышляя об изменившихся обстоятельствах. «Когда Джон подал в отставку из армии, отец ожидал, что я поддержу его, он имел все права на это, но я не оказала такой поддержки. Теперь же, когда я вправе ожидать от него помощи, он отказывает в ней. Восемь лет назад у меня были свои причины; сейчас у отца свои; как печально, когда дочь и отец противостоят друг другу». Она подошла к креслу отца и ласковым жестом пригладила оставшиеся пряди его седых волос. — Оценит ли это страна как политический жест, папа, или же сочтет личным отречением Тома Бентона от своего зятя? — Я давно отказался от тщетных попыток заранее определить, что подумают люди. — Не будет ли права публика, заявляя: «Если тесть против него, то как можно ожидать, что за него будут чужие люди?» — Откровенно говоря, я не знаю, — вяло ответил он. — У Джона нет политического опыта помимо трех недель пребывания в сенате; он имеет лишь подготовку; было бы непомерным риском вводить в Белый дом человека, столь несведущего в политических делах. Я верю в его честность, я знаю его работоспособность и убежден, что сегодня в Америке нет более отважного человека. Я не знаю, станет ли он хорошим президентом в эти смутные времена всеобщего ожесточения. Но даже если бы знал, то и тогда не стал бы голосовать за него или кого-либо другого, пусть гениально подходящего для поста президента, выдвинутого от партии раскола. Если Джон дал бы согласие на выдвижение от демократов, то тогда бы я вел кампанию в его пользу. — Понимаю, ты вел бы кампанию за него в том случае, если бы он принял программу, в которую никто из нас не верит! Ты поддержал бы человека, продавшего себя ради высокого поста. — Дорогая, — сказал ей отец, пожав плечами, — идеализм твоего мужа мне не подходит. Я забочусь о мире в стране, о том, чтобы Север и Юг жили в дружбе и был сохранен Союз. Если Джона изберут как демократа, тогда не будет угрозы гражданской войны. Если же его выберут как республиканца… Она зашла за кресло отца, обняла его за шею и прижалась щекой к его седым волосам на виске. — Отец, ты всегда говорил, что мы должны быть вместе при всех обстоятельствах. Пожалуйста, не бросай меня сейчас. Ухом он уловил что-то в ее голосе. Он протянул руку и притянул ее к себе. Потом стал пристально вглядываться в ее глаза, пытаясь понять, что в них скрыто. — Я понимаю, что ты делаешь все это не ради себя, — сказал он ласково. — Если бы ты хотела стать первой леди, ты убедила бы Джона принять предложение демократов. Тогда почему же ты действуешь таким образом? Что в твоем положении выходит за рамки политики? Ты должна быть откровенной, Джесси. На миг на ее глаза набежали слезы, а голова поникла. Затем она сказала: — Я думала, что никогда никому не скажу об этом, но теперь я поняла, что должна сказать. Видишь ли, отец, Джон не совсем… как другие мужчины. У него есть душевная рана. Из-за этой раны он иногда делает то, что ты не в состоянии понять, а я соглашаюсь с его суждением даже вопреки твоим более весомым соображениям… — …Как в то время, когда ты позволила ему уйти из армии? — Да. Мать Джона в семнадцать лет вышла замуж за мужчину старше шестидесяти… После двенадцати лет несчастливой жизни она встретила отца Джона — Шарля Фремона и сбежала с ним. Она рассказала Джону, что брачная церемония состоялась, но ее муж не смог получить развод от законодательного собрания Виргинии, и, таким образом, брак Фремона в любом случае незаконен. Джон был… незаконнорожденным. Ошарашенный Том уставился на дочь. — Незаконнорожденный, — прошептал он. — Ну, я не представлял себе… Джесси, как давно ты знаешь об этом? — Джон сказал это, когда мы еще были свободны. Он думал, что я расторгну помолвку. — Боже милостивый, — прошептал он про себя. — Почему это держалось в секрете от меня все эти годы? Почему мне никто не сказал? — Потому что боялись за последствия. — Знает еще кто-нибудь? Насколько широко распространены сведения? — Это хорошо известно на Юге, — откровенно ответила она. — Скрыть невозможно… Теперь ты понимаешь, отец, почему я не хочу ранить его. Другой человек счел бы это чисто политическим вопросом; Джон не может принять за личное; это может повредить вашим отношениям. Том принялся ходить взад-вперед по небольшой, заставленной книгами комнате. — В таком случае я еще больше прав, Джесси! — воскликнул он. — Ты не должна позволить Джону поставить себя под удар. Эта кампания будет самой ожесточенной и грубой с того времени, как Эндрю Джэксон побил Генри Клея в 1828 году. Когда люди находятся на грани гражданской войны, они не думают о личных чувствах. О том, что он незаконнорожденный, будут шуметь по всей стране; возникнет страшный скандал. Подумай, какая клевета и грязь польются. — Джон поймет, почему демократы поливают его грязью. Он в состоянии встать над всем этим, осознавая, какую цель преследует такой шум. Но он любит тебя, и ты любишь его; если ты отречешься от него, он не сможет понять этого. — Джесси, если ты готова оказаться в гуще скандала, то подумай о своих детях. Разве ты хочешь, чтобы они ожили, неся на своих плечах бремя ваших политических амбиций? — Я знаю, что ты любишь Лили, Чарли и Фрэнка. Если ты боишься, как бы возможные обвинения не повредили их положению в мире, тогда поддержи Джона в борьбе, помоги ему войти в Белый дом. Детям президента не придется тревожиться за свое положение в обществе. Том Бентон тяжело опустился в кресло. Джесси поняла, что воспользовалась недозволенным приемом. После паузы он опустил руку, которой прикрывал глаза; она увидела, что он плачет тем особым образом, каким плачут старики, не проливая слез. — Джесси, дорогая, — сказал он, — ничто, помимо смерти твоей матери и твоего брата, не ранило меня так глубоко, как услышанное сейчас: но я все же должен выступить против тебя. Мне осталось немного жить, и я не могу уйти в могилу с чувством, что повинен в разжигании гражданской войны. Ты поставила меня перед трудным выбором: быть лояльным либо к семье, либо к стране. Это тяжелое, болезненное решение для каждого человека, особенно для меня, всей душой любящего тебя. Так же глубоко, как я люблю тебя, любил я мое место в сенате Соединенных Штатов. Мне не нужно говорить тебе, что это было стержнем моей жизни, смыслом моего существования. Однако я от него отказался ради приема Калифорнии как свободного штата. Я могу сломиться, Джесси, я сейчас почти на изломе, но останусь верным себе. Я хочу видеть тебя в Белом доме; какой радостью и утешением для моих последних лет было бы видеть мою маленькую Джесси первой леди. Трудно сдаваться, возможно, даже труднее, чем четыре года назад, когда я отказался от моего пюпитра в сенате. Но я не могу одобрить избрание Джона как республиканца, даже если оно приведет тебя в Белый дом, ибо я знаю, что это вызовет развал Союза. Пожалуйста, прости меня, дорогая. Я старый и упрямый человек и должен придерживаться своих убеждений. Не проси меня поступать иначе. Когда она возвратилась в Нью-Йорк и рассказала мужу о решении отца, Джон мягко сказал: — Твой отец так много боролся за меня, что имеет право провести одну битву против меня. Печально, что он выбрал этот особый момент и этот вопрос, но Том Бентон всегда сам выбирал, когда и по какому вопросу дать бой. Они были довольны, когда при семнадцатой баллотировке демократы выдвинули Джеймса Бьюкенена: он был северянином, никогда не имел рабов, никогда публично не поддерживал рабства, имел прекрасный опыт работы в федеральном правительстве; никто не знал лучше, чем Джесси, его щепетильности в вопросах этики. Они пришли к согласию, что демократы сделали хороший выбор, ибо, как опытный дипломат, прирожденный сторонник компромиссов, Бьюкенен приложит все силы, чтобы отыскать новые действенные средства для умиротворения горячих голов обеих сторон. Джесси поехала в Филадельфию на съезд республиканцев одна. Джон считал, что потенциальному кандидату не следует появляться среди делегатов. Она приехала поездом в полдень 16 июня и на следующее утро к одиннадцати часам вошла в зал Музыкального фонда. Заняв место в первом ряду галереи для посетителей, Джесси поразилась мессианскому характеру собрания: оно не было обычным, заранее подготовленным партийным съездом, где все предрешено. Тысяча делегатов, толпившихся в зале Музыкального фонда, была охвачена религиозным пылом; в их глазах светился дух поборников свободы. Это была разноликая толпа, одетая как попало — от полосатых брюк северян до штанов из оленьей кожи жителей Запада. Джесси не верилось, что в таком собрании может существовать общая единая идея. Однако, когда Дэвид Уилмор поднялся на трибуну и огласил основные пункты республиканской платформы: противодействие распространению рабства, отказ конгрессу в полномочиях узаконивать рабство на новых территориях, сохранение Миссурийского компромисса, прием Канзаса как свободного штата, — все делегаты встали, выражая поддержку права на свободу для всех жителей Америки. Наблюдая за торопливо писавшими репортерами, желавшими донести известия о революционном съезде до сведения страны, Джесси вспоминала корреспондентов на военно-полевом суде, старавшихся информировать нацию о ходе суда над Джоном. Она узнала некоторых из них — тогда они выполняли задание Вашингтона, а теперь должны рассказать нации о выборе молодых, энергичных, прогрессивных республиканцев. Она ожидала, что кандидатура Джона будет единодушно принята при первой баллотировке; однако он получил 359, а судья Маклин из Огайо — 196 голосов. Ее поразила сила, проявленная Маклином; на какой-то момент она потеряла уверенность. Но Дэвид Уилмор, завоевавший авторитет на съезде благодаря тому, что представил республиканскую платформу, поднялся и мощным голосом призвал проголосовать единодушно за Джона Фремонта. Последовало вавилонское столпотворение, почти заглушившее подсчет голосов, но по пометкам в блокноте, который держала на коленях, она подсчитала: ее муж имеет уже 529 голосов и становится первым кандидатом в президенты от новой партии. Загремел оркестр; перекрывая его, тысяча делегатов и посетители на галерее оглушительно кричали поздравления. Шум достиг своего апогея, когда над платформой поднялось полотнище с надписью:«СВОБОДА СЛОВА, СВОБОДА ПЕЧАТИ, СВОБОДНАЯ ЗЕМЛЯ, СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ, ФРЕМОНТ И ПОБЕДА!»Среди возбужденных людей, бросавших в воздух шляпы, газеты, она молча сидела на стуле, а по ее щекам текли слезы. Она не считала такое поведение достойным, но ее счастье в этот момент имело малое отношение к политике, выборам или даже к такому вопросу, как рабство и нерушимость Союза. Если окружающая ее тысяча фанатиков усматривала в выдвижении Джона Фремонта конец рабства в Соединенных Штатах, то Джесси Фремонт чувствовала себя лишь как женщина и жена. Признание ее мужа выдающейся фигурой в Соединенных Штатах оправдывало не только ее исходную веру в него, но и смысл их брака. За пятнадцать лет он вырос из малоприметного второго лейтенанта Топографического корпуса в лидера важнейшего со времен революции движения в Америке. Его известность, успех явились результатом их сотрудничества, они были символом разумности их супружества. Верность друг другу вдохновила их на добрую работу, помогла выжить в трудных условиях, побуждала двигаться вперед. Наблюдая, как делегаты радостно маршируют, распевая: «Свобода слова, свобода печати, свободная земля, свободные люди, Фремонт и победа!» — она поняла, что милостью Божьей она добилась большего, чем то, о чем мечтала. Всего год назад они уехали из Вашингтона, считая, что навсегда расстались с ним. Теперь же они возвращаются под звуки оркестров и с развевающимися знаменами; очаг, который она не смогла создать в Монтерее или на песчаных дюнах, будет триумфально зажжен в Белом доме.
_/7/_
Ей было интересно, какую кампанию намерен провести Джон: будет ли он произносить речи только в основных городах или же потратит месяцы в долгих поездках по стране, стараясь установить личные контакты с возможно большим числом людей? Возвратившись домой, она рассказала во всех деталях о съезде своей семье. В ответ на ее вопрос, каковы его планы, он сказал: — У меня нет планов. — Разве ты не намереваешься… — Мне нечего сказать людям, чего бы они не знали, Джесси. Я против распространения рабства. Эти слова выражают содержание всей кампании. Народ знает меня, знает, что я думаю, что отстаиваю. Я не могу ничего более сказать, что просветило бы людей или дало бы им больше оснований голосовать за меня. — Калифорния! — воскликнула Джесси. — Ты говорил то же самое, когда добивался места в сенате. — Разве? — Я полагаю, что и в первый раз ты думал так же, если повторяешь это через шесть лет. — Я не гонюсь за постом, Джесси; должность ищет меня. Разве в таком случае я обязан ездить по стране, раздавать обещания, возбуждать публику? Я не могу ничего им обещать и, уж конечно, не могу обманывать. Те, кто хочет проголосовать за меня, так и проголосуют; другие не захотят. — Хорошо, — неохотно согласилась она. — Если ты настроен таким образом вести кампанию… — Теперь, после твоего вопроса, могу сказать: я не хочу быть эмоционально вовлеченным в кампанию. Не думаю, чтобы такая вовлеченность входила в обязанности кандидата. Считаю, что он должен держать себя спокойно и с достоинством. — Если ты сможешь так действовать, то ты — чудо, — ответила Джесси смеясь. — Как я могу тебе помочь? — Действуй как мой помощник, точно так же, как действовала в то время, когда я готовил экспедиции и находился в походе. Будь моим поверенным в делах перед публикой. Давай интервью газетчикам, когда они станут приходить, помогай мне писать нужные статьи, отвечай на политическую почту… я буду работать совместно с республиканским бюро по выработке стратегии, но не стану появляться на публике. Я не хочу ввязываться в тысячи споров и ссор, вбирать в себя истерию массовых митингов. Думаю, что смогу внести самый большой вклад, стараясь умерить чувства, ведь почти все другие будут жаждать крови. Фрэнсис Блэр, выступавший в качестве председателя кампании республиканцев, уступил настояниям Джесси и переселился в свободную спальню в их доме. Шестидесятипятилетний Блэр был совершенно лысым, если не считать полоски черных и седых волос сзади и по бокам, около ушей. У него были густые, нависающие над глазами брови, с годами его губы и щеки обвисли, но он оставался задирой, ловким стратегом и отчаянным бойцом. Он играл важную роль в кампании по выборам президента с тех пор, как помог ввести Ван-Бюрена в Белый дом в 1836 году. Его часто называли «делателем» президентов; на сей раз он сказал Джону и Джесси, что намерен оправдать это название. Его младший сын Фрэнк, занимавшийся юриспруденцией в Сент-Луисе в качестве протеже Тома Бентона, стал странствующим председателем собраний. Фрэнк был высоким, тощим, темпераментным, ловким, с черным чубом и с усами, свисавшими по обе стороны подбородка. Том Бентон частенько говорил, что Фрэнк Блэр подобен его сыну: он был фанатически лоялен и ничего не боялся. Он боролся против рабства с тех пор, как научился говорить, и, подобно своему отцу и брату Монтгомери, писал, читал лекции и пропагандировал освоение Запада. Он входил в состав законодательного собрания Миссури последние четыре года как демократ, выступающий за свободные территории, и настойчиво действовал в пользу создания в Миссури отделения республиканской партии. Одно время Том Бентон надеялся, что Джесси выйдет замуж за Фрэнка Блэра, но в момент встречи Джесси с Джоном Фремонтом Фрэнку было всего восемнадцать лет. Джесси нравилась работа помощника, она была к ней готова. Она то и дело консультировалась с Джоном, делая мало существенного по собственной инициативе, но неся вместе с тем основное бремя работы. Со всей страны поступала почта, люди хотели знать мнение Джона по самым различным вопросам. На каждое письмо требовался честный ответ, ибо, отправленный в Мичиган, Кентукки или Калифорнию, он будет известен каждому в радиусе двадцати миль и вызовет бесчисленные дискуссии. Редакторы газет обращались к Джону Фремонту со списком вопросов, провоцируя его на ответы. Нужно было составить прямое, откровенное, продуманное заявление, которое надлежало опубликовать в печати в течение недели, чтобы были удовлетворены читатели и никто не мог сказать, что кандидат Фремонт боится или не способен ответить на поставленные вопросы. Наиболее приятная часть работы состояла в ежедневных интервью с репортерами-женщинами, последовательницами Энн Ройяль. Они занимали твердые позиции в американской журналистике, вели интенсивную кампанию за права женщин и за их участие в выборах. Хотя эти леди помещали свои заметки в женских журналах и на страницах газет, отведенных женщинам, Джесси понимала значение их статей: немногие мужчины решатся голосовать за кандидата, который не нравится женщинам. Она поощряла женщин-репортеров приходить на чай и за любимым набором чая с сассафрасом, кексами, бисквитами и ежевичным джемом отвечала на вопросы о жизни в Калифорнии, поездках через Панамский перешеек, совместной работе с сенатором Бентоном от Миссури, пребывании в Европе, о том, как она представляет себе семейную жизнь в Белом доме. По большей части встречи за чаем были приятными, но случались и осложнения. Недоброжелательные посетители кривились по поводу того, что она подавала чай по английскому обычаю, носила свободные шелковые домашние платья вместо облегающих, что ей помогали двое цветных. В таких случаях она переводила разговор на другие темы, рассказывая, как готовила еду в камине в Монтерее и вместе с Лили носила сшитые ими самими неотбеленные миткалевые платья. Ее письменный стол был завален документами и памфлетами, свидетельствовавшими о размахе республиканского движения. Биографии Джона, написанные для избирательной кампании Джоном Биглоу, Горасом Грили и Чарлзом Эпхэмом, распродавались десятками тысяч и перепечатывались в республиканских газетах. Литографированные плакаты с его загорелым, серьезным, внимательным лицом украшали окна домов и лавок на Севере и Западе. Северные и западные газеты печатали восторженные описания экспедиций Фремонта, рассказывали о его качествах лидера, помещали отзывы людей, переносивших вместе с ним тяготы в походах. Повсюду о нем говорили как об отважном, со стойким характером, умеющем руководить и в то же время учиться и мыслить. Английские и европейские ученые высоко оценивали его достижения; ректоры университетов, поэты, священники включились в борьбу за «свободу слова, печати, земли, людей, за Фремонта и победу!». Каждый день приносил и приятные вести, и разочарования: Миллард Филмор и его сторонники свободной земли, образовавшие третью партию, воспользовались материалом республиканцев в целях пропаганды своей партии. Уильям Дейтон, выдвинутый кандидатом на пост вице-президента вопреки намерениям Джона, палец о палец не ударил в интересах кампании. Сыновья Даниэля Уэбстера и Генри Клей выступили против Джона Фремонта, опасаясь откола Юга. Влиятельные лидеры вигов, такие, как Руфус Коейт и Калеб Кашинг, развернули активную деятельность среди вигов, призывая голосовать за ненавистных демократов на том основании, что Бентон прав, предупреждая избирателей Миссури, что Юг никогда не примет Фремонта и республиканскую платформу. Но в тот же день почта доставила стихи Джона Уитьера, гласившие:_/8/_
В Вашингтоне они заняли, как и в доме Бентонов, заднюю спальню с окнами, выходившими в маленький садик, и здесь временами урывали часок покоя и уединения. Переднюю комнату на втором этаже Джон отвел под свой кабинет. Трижды в неделю приходил фехтовальщик; книги и мебель сдвигались в одну сторону. Занимаясь фехтованием с инструктором, Джон поддерживал себя в хорошей физической форме. Он не тратил дни и недели на произнесение речей, а занимался изучением обширной библиотеки об американской системе правления; в ней были книги по конституционным полномочиям трех ветвей власти, отчеты о революции и последующих конвентах, книги по истории, написанные Джорджем Банкрофтом, биографии людей, сыгравших ключевую роль в формировании правительства. Он сказал Джесси, что ему необходимо изучить эти вопросы как противовес большому опыту Бьюкенена. По вечерам, когда не было гостей, в центре стола после ужина ставилась большая лампа, и при ее свете Джон и Лили изучали свои книги. Джон писал на полях заметки, а Джесси составляла отчеты на личные письма и готовила сообщения для газет; ее перо часами скрипело, опускалось в чернильницу механическим движением, наполняя текстом целые стопки писчей бумаги. С течением времени движение республиканцев набирало силу. Авраам Линкольн расхваливал Джона перед десятью тысячами энтузиастов в Принстоне и перед тридцатью тысячами на ярмарке в Альтоне. В демонстрациях принимали участие двадцать пять тысяч человек в Массилоне, тридцать тысяч — в Каламазу, тридцать тысяч — в Белойте. Нью-йоркский табернакл — цирк-шапито — потрясали речи Уильяма Куллена Брайянта, Карла Шурца, Чарлза Дана, Гораса Грили, Ганнибала Гэмлина, Франца Зигеля. Гигантские массовые митинги в каждом городе шумно одобряли лозунг «Свободная речь, свободная пресса, свободная земля, свободные люди, Фремонт и победа!». Факельные процессии рассеивали ночную тьму, люди надевали водонепроницаемые шляпы и дождевые накидки для защиты от стекавшего с фонарей парафина. Оркестры и военные парады вытягивались на целые мили, почти сто тысяч человек маршировали в парадной процессии в Индианаполисе в честь Фремонта, где темп задавали пятьдесят оркестров. Сотни ораторов объезжали страну, многие никогда ранее не выступали в такой роли, да и не станут выступать в дальнейшем. Пробные голосования подтвердили правоту Фрэнсиса Блэра: при наличии надлежащего человека во главе движения республиканцы смогут завоевать всю нацию. Но, видя усиление позиций республиканцев, южные демократы впадали в отчаяние. Джесси становилось дурно от чудовищных личных нападок. Джона называли заядлым пьяницей, валявшимся в сточных канавах в стельку пьяным. Утверждалось, что он не только владел, но и торговал рабами ради личной прибыли и у него была интимная связь с домашней прислугой, что он стал миллионером в период завоевания Калифорнии, скупая землю, лошадей и рогатый скот и расплачиваясь правительственными расписками, что с помощью своего агента Сарджента он обокрал английскую публику, тайком работал с компанией «Пальмер, Кук энд компани», с сан-францисскими банкирами, продавая американцам обесцененные горнорудные акции. Ярость нападок возрастала день ото дня. Казалось, что в словаре не осталось ни одного грязного слова, которое не было бы брошено в лицо ее мужу. Его называли бандитом, конокрадом, совратителем невинных испанских красавиц, хвастуном, обманщиком, лицемером. Весь материал военно-полевого суда, представленный генералом Кирни, полковником Куком и лейтенантом Эмори, был вырван из контекста и распространен по стране в анонимно печатавшихся брошюрах. Если свести воедино все обвинения, то у выслушавшего их не осталось бы сомнения, что более низкого и низменного человека, чем Джон Фремонт, на земле вообще не существовало. Пятнадцать лет назад во время поездки в Черри-Гроув ее мать сказала, как противно жить в обстановке публичной клеветы. Джесси уверила ее, что такая практика — безболезненная часть политической игры, она не может причинить настоящего вреда. Теперь же, когда ее муж подвергся более суровому истязанию, чем то, какое пришлосьвыдержать ее отцу, она поняла, насколько права была ее мать. Постепенно она осознала, что одно из величайших достижений демократической формы правления — свобода печати вошла в колею, которая ведет к уничтожению демократии, поскольку она унижает достоинство народных выборов. Печати дали по ошибке не то имя; эти скандальные листки — вовсе не газеты, они — оборотни, фабриканты политической лжи. Они меньше думают о событиях, чем поджигатель думает о поджигаемом доме; сообщения о событиях можно выбросить в мусорную корзину, если они мешают делу, которое отстаивает газета; новости можно исказить и извратить ради того, чтобы какая-то политическая партия или особая группа сохраняла в своих руках власть. Она знала, что республиканская печать была тоже плохой: она не клеветала на личный характер Бьюкенена, но возбуждала ненависть и толкала к насилию Север и Запад. Она поставила такой вопрос перед Фрэнсисом Блэром, заметив, что, хотя ликвидация свободы печати уничтожила бы демократию, печать прилагает все силы, чтобы так или иначе уничтожить демократию. Блэр, основавший одну из первых газет в стране, спокойно ответил: — Очень немногие из наших газет, Джесси, были учреждены, чтобы распространять новости. Они были созданы, чтобы подкрепить политическую партию или политического кандидата, и никогда не меняли своего характера. Когда-нибудь, если выборы станут спокойными и более цивилизованными, газеты ограничатся передачей новостей и не станут подогревать истерию избирателей. Сейчас же главная задача — любой ценой добиться победы. — Да, — с горечью согласилась она, подвинув к нему пачку газетных вырезок. — Любой ценой… за счет нации. В конце сентября был нанесен самый изощренный удар: Джона Фремонта объявили католиком. Партия «ничего не знающих» (нативисты), или антикатолическая партия, была влиятельной в течение ряда лет; антикатолицизм был одним из наиболее спорных политических вопросов в жизни страны, отравлявших атмосферу не менее сильно, чем вопрос о рабстве. Теперь избирательную кампанию попытались осложнить зарождающейся трагедией религиозной нетерпимости, обвинив Джона Фремонта, что он — католик. Если это раз и навсегда установлено, то все обвинения против католиков, циркулировавшие последние двадцать лет подпольно, могут быть раскрыты и сделаны публичными. Если Джон Фремонт — эмиссар папы, введен в Белый дом и католицизм станет господствовать в американской жизни, то все протестанты будут истреблены огнем и мечом. Соединенные Штаты станут католической страной, а папа перенесет Ватикан в Вашингтон. Утверждалось, будто отец Джона был французским католиком, а Джон жил в монастыре в Балтиморе и во время первой экспедиции высек крест на Скале независимости. В подкрепление обвинения публиковались документы, подтверждающие церемонию бракосочетания Джона Фремонта и Джесси Бентон, осуществленную католическим священником. На таком факте, не представляющем реальной истины, демократы пытались построить здание ненависти к католикам по всей стране. Джесси чувствовала себя неловко: это была ее вина, если бы она захотела получить согласие родителей, тогда бы их сочетал браком пресвитерианский или епископальный священник, и потенциально наиболее опасный вопрос религиозной нетерпимости никогда бы не возник. Скрыть эти проблемы от Джона было невозможно, поскольку в дом Фремонтов прибыл важный республиканский комитет, чтобы выяснить обстоятельства. Фрэнсис Блэр сказал: — Джон, мы знаем, что ты принадлежишь к епископальной церкви. Но обвинения, что ты католик, стоят многих голосов. Тебе нужно опубликовать опровержение; мы должны доказать, что ты всегда был в епископальной церкви. Джесси наблюдала за мужем, сидевшим в кресле перед окном, выходившим на улицу. С тех пор, когда она успокоила его по поводу нападок на его отца, он сохранял спокойствие и достоинство, встречал всех вежливо, не произнес и не написал ни одного раздраженного или обидного слова. Он посмотрел в лицо каждому члену комитета, а затем решительно сказал: — Нет, джентльмены, я не стану опровергать. Все заговорили одновременно: — Никакого опровержения? Но вы должны! Молчание — знак согласия. Люди подумают… Вы подтвердите свою вину… — Все, что вы говорите, правильно, — ответил он. — Они наносят нам большой ущерб. Но если я встречу нападение, пытаясь его опровергнуть, то тем самым соглашусь с тем, что религия является политическим вопросом в стране и люди вправе ссориться из-за нее и отказывать в занятии поста по религиозным мотивам. Если я публично выступлю с отрицанием, что я не католик, то это будет означать, что я отвергаю католиков, соглашусь с тем, что католик не может стать президентом страны, что я мирюсь со злобной клеветой, которую о них распространяют. Я не стану благословлять кампанию против католиков, приняв в ней участие. В этой стране существует веротерпимость. Религия человека — его частное дело. Моя религия есть моя, и я не стану говорить о ней публично. Джон говорил мягко, и его голос звучал искренне. Наступила пауза, в ходе которой члены комитета изучали пол, свои ботинки, стены и потолок. Наконец поднялся Джеймс Гордон Беннет из нью-йоркской газеты «Геральд» и воскликнул: — Следуйте этим убеждениям, полковник, я вас поддержу. Другие члены комитета согласились с решением, некоторые с опаской, другие с гордостью за своего кандидата. Джесси казалось, что в этот момент ее муж достиг величия, равнозначного тому, какое дал ему отказ принять предложение демократов выдвинуть его кандидатуру. Отказавшись допустить, чтобы католицизм стал предметом спора в избирательной кампании, он еще раз подтвердил для Джесси свою философию «благородство обязывает». Месяцы ее вдумчивой работы дали свой эффект. Журналы и газеты помещали статьи положительного характера о ней; по стране распространялись сведения о ее вежливости и гостеприимстве. Ее провозглашали самой подходящей со времени Долли Медисон первой леди Белого дома; ходили рассказы о ее интеллекте и честности в сотрудничестве с мужем. В результате республиканский список изменился с ФРЕМОНТ И ДЕФТОН на ФРЕМОНТ И ДЖЕССИ. К октябрю республиканцы гордились Джесси в той же мере, как они гордились Джоном, и кандидат в вице-президенты отошел на второй план. Впервые в американской истории политическая партия хвалила жену кандидата, давая понять избирателям значимость первой леди для благосостояния народа. Холостое положение кандидата демократов начали представлять как недостаток; эту идею по сути дела поддержал Джеймс Бьюкенен, неожиданно навестив дом на Девятой-стрит. Было одиннадцать часов утра, и дом был пуст, если не считать слуг. До того как она успела выразить свое удивление по поводу визита, Джесси заметила, как постарел и обрюзг Джеймс Бьюкенен, словно он чувствовал себя несчастным от мысли, что его могут выбрать. Белый пушок, покрывавший его нижнюю губу, казалось, распространился по всему лицу, оставив живыми лишь круглые светлые глаза. — Ой, мистер Бьюкенен! — воскликнула она. — Как чудесно увидеть вас в разгар битвы! — Ох, хорошо, Джесси, — прошепелявил Бьюкенен, — мы ведь так мало можем сделать, чтобы ослабить драку. Джон и я — всего невинные зрители… Во время моей поездки в Нью-Йорк у меня оказался свободный часок, и я пришел сказать вам, что вы должны стать первой леди. Изумленная Джесси рассмеялась: — Значит ли это, что вы намерены голосовать за нас, мистер Бьюкенен? — В той же мере, в какой я считаю, что Джон не должен быть президентом, — ответил он, подморгнув. — Меня так и подмывает проголосовать за него, с тем чтобы ввести вас в Белый дом. — Это, мистер Бьюкенен, самый приятный комплимент, полученный мною. После вашей доброты я буду огорчена, если вы потерпите поражение. Бьюкенен сел в кресло у окна, на которое ему указала Джесси. — Вы не можете побить меня, Джесси, потому что слишком многие в стране знают, что избрание республиканца принесет гражданскую войну. Вы помните, как я старался добиться мира с Англией в споре о канадской границе, а сейчас всеми силами стараюсь удержать нас от войны с Мексикой… — …В то время как мистер Фремонт и я всемерно старались втянуть страну в войну. Джеймс Бьюкенен улыбнулся: — Именно так. Американский народ понимает, что я не стану особым украшением Белого дома,[16] осознает, что я не могу взять с собой мисс Джесси, но он верит, что я буду стремиться к миру любой ценой. Пожалуйста, поверьте мне, мисс Джесси, любая цена — это хорошая цена, когда речь идет о мире. Именно поэтому я не могу голосовать за Джона при всем моем желании увидеть вас первой леди: он прибегнет к силе, чтобы сдержать Юг, а это почти немедленно ускорит войну. — Вы слишком хороший кандидат для вашей партии, мистер Бьюкенен, точно так же как у вас есть соблазн проголосовать за меня, мое восхищение вами станет склонять меня проголосовать за вас. При отдаленной возможности, что вы возьмете верх над Джоном, — продолжала она, — ваша племянница станет очаровательной хозяйкой в Белом доме. Бьюкенен встал, взял свою шляпу и направился к парадной двери. — Верно, мисс Джесси, — сказал он, — но Белому дому требуется нечто большее, чем очаровательная хозяйка. Следующий раз, когда я стану бороться за пост президента, я хотел бы, чтобы вы были моим партнером в избирательной кампании. Мои комплименты вашему милому мужу. Несмотря на напряженную работу, волнение и воздействие обстановки, она выкраивала время для личной жизни. Ее положение было схоже с тем, когда она оказалась в гуще американо-мексиканских отношений и к ней поступал материал из всех источников, превращая ее в некое подобие главного редактора грядущей войны. В столовой на Девятой-стрит, превращенной в рабочую комнату, она действовала в качестве главного редактора кампании, сюда стекалась вся информация, и отсюда исходила основная масса статей и решений. По мере того как кампания набирала темп, Джон начал выступать с короткими приветственными речами перед толпой, ежедневно собиравшейся около их дома в пять часов вечера. Он сам написал много важных писем и принялся просматривать вместе с ней газетные статьи. Когда люди перед домом Фремонтов, прослушав речь Джона, начинали кричать: «Фремонт и Джесси!» — она чувствовала себя неловко: ведь он мог подумать, что это результат ее подстрекательства, и начать подозревать, что ей не нравится вторая роль и она хочет быть равной с кандидатом в президенты. Она начала припрятывать статьи, посвященные ей, проявляла максимум такта во всех своих интервью, записках и статьях, стараясь принизить свое участие в жизни мужа, показать, что ее роль была всегда вспомогательной. Когда Джон сделал ей предложение в доме Хасслера, она обещала: — Я никогда не поставлю тебя в неловкое положение, я не хочу славы или хвалы, я никогда не стану расхаживать по улице с папкой дел в руках, чтобы, завидя меня, друзья устремлялись в боковые улочки. Она почувствовала облегчение, узнав, что никто не знает о ее сотрудничестве в работе над тремя докладами Фремонта, о ее роли в подготовке защиты в военно-полевом суде или о ее политических собраниях в Монтерее, когда Джон находился в Марипозе. Один такой намек, и демократическая печать подняла бы шум, что Джоном Фремонтом руководит жена; она тревожилась, какой вред их сотрудничеству могут нанести подобные слухи. Прогуливаясь однажды утром по Бродвею, она услышала, как группа молодых парней громко распевала:_/9/_
При возраставшем энтузиазме республиканцев, постоянном увеличении численности партии и быстроте, с которой она поглощала части бывшей партии вигов, становилось очевидным, что у Джона Фремонта превосходная возможность стать пятнадцатым президентом Соединенных Штатов. Партия свободной земли была небольшим облачком на горизонте, которое могло отобрать некоторые голоса сторонников свободы у Фремонта, но Миллард Филмор не казался сильным кандидатом, и республиканцы не тревожились. Ободренная Джесси не смогла удержаться от планов переустройства некоторых частей Белого дома, в особенности устаревших спален, сумрачной семейной столовой и детской, не слышавшей детского смеха уже много-много лет. Она решила восстановить неофициальные порядки режима Эндрю Джэксона: она откажется от формальных очередей при приеме и чопорных обедов, на которые могут приходить только приглашенные; цепочку леди в обязательных длинных платьях, присутствующих на приемах, заменят открытые двери. Обеды будут проводиться по-семейному; их друзья смогут приходить в любой вечер; а проезжающие через Вашингтон могут не стесняясь приходить в Белый дом. Обеденный стол в Белом доме станет неким подобием обеденного стола Бентонов, только с большим числом гостей, за столом будут обсуждаться все вопросы национальной политики. Она вспомнила, как впервые увидела Белый дом — ее привел туда перед большим приемом и ужином отец. В каминах ярко горел огонь, мерцали восковые свечи, залы были украшены камелиями и ветками лавра. В государственной столовой подковообразный стол, по центру которого стояли вазы с ягодами, конфетами, орехами и фруктами, ломился от изысканных блюд, изготовленных французским шеф-поваром, а на обоих концах размещалось любимое воскресное блюдо отца — замороженные лососи в мясном холодце. Она вернет прежние порядки в Белый дом. Каждый американец должен чувствовать, что это его второй дом. Кампания была чревата тысячью осложнений, но к октябрю стало ясно, что ее исход решит фундаментальный вопрос: вызовет ли избрание Джона Фремонта выход из Союза? С сотни трибун в Миссури Том Бентон провозглашал, что Юг немедленно отколется, если будет избран «черный республиканец». Избиратели Севера стали задаваться вопросом: «Какой смысл избирать Джона Фремонта, если это вызовет гражданскую войну?» В день выборов заря была светлой и ясной. Семья Фремонт поднялась рано, надела свои лучшие наряды, и Джесси вместе с Лили и Чарли проводили Джона к избирательной урне. Потом они пошли в штаб-квартиру кампании на Бродвее, куда к полудню стала стекаться по телеграфным линиям Сэмюэла Морзе информация о результатах голосования. К обеду стало ясно, что Джон получил большинство голосов в Нью-Йорке, Огайо, Мичигане, Висконсине, Айове, Коннектикуте, Мэне, Массачусетсе, Нью-Гемпшире, Род-Айленде. Его позиции слабели в Пенсильвании, Иллинойсе и Индиане, а ведь Блэр и Фремонт считали, что эти три штата перейдут к республиканцам. Наиболее сильным ударом для Джесси явилось то, что Миссури поддался доводам Тома Бентона и проголосовал за демократов. Маленький Чарли и Джон отдали должное обеду, принесенному на подносах, а Джесси и Лили не смогли и куска проглотить: было ясно, что Миллард Филмор и его партия свободной земли оттягивают достаточно голосов республиканцев, чтобы склонить сомневающиеся штаты в пользу демократов. В переживаниях этого дня Джесси ощущала и признательность, и разочарование. Она была признательна добровольцам, участвовавшим в кампании, в своем большинстве это были молодые и лояльные делу свободы люди: они не желали признавать поражение до самого последнего момента и отважно повторяли: «Нас могут побить на сей раз, но мы выберем Джона Фремонта в 1860 году». Она понимала разочарование таких людей, как Дана и Грили, пришедших вечером пожать им руку и сказать, что они прекрасно вели борьбу; сдержанная, без эмоций реакция Джона на поступавшие свидетельства поражения притупляла огорчение тем фактом, что они отстали от Бьюкенена почти на полмиллиона голосов. Они оставались в штаб-квартире до рассвета, пожимая руку уходившим участникам организации кампании, а затем по-научному анализируя результаты выборов с Фрэнсисом и Фрэнком Блэрами: Филмор и его сторонники свободной земли оттянули восемьсот тысяч голосов, которые достались бы республиканцам, не будь Север расколот. Триста тысяч вигов голосовали не за Фремонта и партию, более близко выражавшую их убеждения, а за Бьюкенена, стараясь не допустить раскола. Джесси подумала: «Если бы только эти виги и северные демократы, верившие в дело республиканцев, не испугались опасности сецессии Юга, Джон был бы избран. Если бы республиканцы избрали председателя Пенсильвании своим кандидатом на пост вице-президента, он мог бы нанести поражение Бьюкенену в его собственном штате. Если бы Том Бентон не выступил против своего зятя; если бы новая партия имела средства для проведения кампании, сопоставимые с ее молодым энтузиазмом; если бы…» — Да, — прошептала она, когда первые лучи солнца проникли в выстуженную и опустевшую штаб-квартиру, — если бы… Они побрели домой по пустынным улицам. Джесси и ее дочь отправились на кухню, чтобы приготовить яичницу с ветчиной. Она подала завтрак в столовую на стол, который почти пять месяцев был завален избирательными материалами. В середине еды Фрэнсис Блэр не выдержал: в его тарелку закапали слезы. — Простите старика, — сказал он, — но я не могу сдержать свое разочарование. Я был так уверен, что мы создаем новую политическую партию, нового президента и новую эру. Теперь, когда все позади, видно, что мы ничего не свершили… ничего… Мы также участвовали в гонке! Расстроенная этим срывом, Лили начала хныкать: — Я замышляла провести следующие четыре года в Белом доме. Я организовала бы множество чудесных вечеринок, и все мальчики и девочки в Вашингтоне стали бы моими друзьями… — А я даже перестроила Белый дом, — сказала Джесси с горькой улыбкой, — оклеила новыми французскими обоями приемный зал. Я провела ужин-буфет для тысячи гостей. Лили, прекрати хныкать. Надень пальто и погуляй по Вашингтон-сквер, пока не возьмешь себя в руки. Если ты не можешь выдержать более сильные разочарования, тогда ты будешь несчастной полжизни. Лили надела пальто и вышла через парадную дверь. Фрэнсис Блэр извинился и пошел в свою спальню. Аппетит пропал, Джесси и Джон смотрели друг на друга через стол. — Как ты думаешь, не отдохнуть ли нам? — спросила она. — Да, должны попытаться. Они устало поплелись наверх, в свою спальню. Джесси откинула тканевое покрывало. Они не стали раздеваться, а сбросили верхнюю тяжелую одежду и надели халаты. Они слишком устали, чтобы разговаривать и заснуть: они лежали рядом не двигаясь, и каждый думал о своем. Впервые с тех пор, как пять лет назад она провела одинокие и бессмысленные месяцы в песчаных дюнах Сан-Франциско, ее охватило уныние. Она всегда верила в свои и Джона возможности, но теперь вынуждена признать, что для карьеры лучше всего подходит красочный французский термин «упущенная возможность»: они столько раз почти достигали превосходных результатов, но ничто не доводилось до логического конца. Они взбирались наверх в стольких многообещающих циклах, подходили к вершине, чтобы тут же соскользнуть вниз. Они не достигли ничего стабильного, что вело бы прямиком к дальнейшим достижениям. Чем они займутся и что сделают? Сумеют ли они справиться с очередной ожидающей их ролью? Или же снова подберутся к высокой вершине и снова упадут и окажутся за бортом? Она понимала, что это несправедливо: Джон сделал много как исследователь, сыграл решающую роль в освоении Запада, успешно проявил себя в качестве завоевателя, гражданского губернатора, сенатора, кандидата в президенты. Но во всех этих ролях его успех был мимолетным, роли менялись так быстро, что шла кругом голова! Почему так происходит с ее мужем? Почему так происходит с ней? А как это влияет на их брак? Она так часто размышляла над загадкой Джона Фремонта, но теперь увидела, что действительную загадку задает их брак. Она удивилась тому, что, какими бы ни были трудности или острота кризиса, ни один из них в личных отношениях не подвел другого и этот добропорядочный и счастливый брак переживает неудачу почти при каждом изменении мирской карьеры. Почему такое хорошее супружество не ведет к таким же успехам? Неужели в одном из них есть нечто, исключающее другого? Или же способности мужчины и женщины жить в любви и гармонии являются теми атрибутами, которые заранее исключают мирской успех? Они терпели поражения по весомым, иногда даже героическим причинам, но всегда в конце их подстерегал неуспех. Так ли это? Может быть, ей просто кажется, что цель важнее средств? В действительности Джон прекрасно преуспел как кандидат в президенты. Он остался верен лучшим чертам своего характера и наиболее достойным традициям американской государственности. Лишь она и муж ведают об этом; остальные граждане будут верить, будто они провалились; но с каких пор их единая точка зрения стала для них недостаточной? Разве они не были готовы принять осуждение и остракизм, решаясь на завоевание Калифорнии? Хотя завоевание произошло не совсем в такой форме, какую они предполагали, они не страдали от того, что были лишены возможности раскрыть закулисную деятельность. На этот раз действовали по собственному, скрытому от других убеждению: отказались принять предложение демократов о выдвижении кандидатуры, отказались вести кампанию грязными методами, отказались допустить в кампанию тему религиозной нетерпимости. Они не могли выйти на публику и крикнуть: «Мы настаивали на победе в идеальной обстановке!» Нет, они не могли выставлять напоказ свои добродетели. Они проиграли, и это был конец. Но они сами как муж и жена знали, что, заплатив затребованное с них, они стали бы президентом и первой леди. Взаимное доверие — добро для супружества: оно придает ему вес и широту. Джон поднялся с постели и пошел в свой кабинет. Она слышала, как он листает книги, передвигает мебель. Она встала, подошла к двери и увидела, что он стоит среди бумаг и заметок и смотрит на них с выражением пресытившегося. Он поднял взор и, не двигаясь, — лишь его темные впалые глаза казались живыми, — сказал через плечо: — Ты можешь хранить тайну? — Теперь, когда нет репортеров, осмелюсь сказать: могу. — В таком случае должен сознаться, что я глубоко сожалею о том, что упорно старался быть благородным. Мне не следовало бы отклонять предложение демократов о выдвижении моей кандидатуры! Или же, приняв выдвижение от республиканцев, вести яростную кампанию, угрожать гражданской войной, если меня не изберут, допустить включение в кампанию вопроса о религии. Вчера перед нашим домом стояли тысячи; сегодня мы одиноки, нет даже ни одного репортера, чтобы выяснить, как чувствует себя проигравший. Говорю тебе, Джесси, мы были идиотами! Нам следовало бы вести игру по правилам политики! Эти правила были выработаны много лет назад. Если бы мы были разумными и деловыми, то сегодня утром ты могла бы пойти по магазинам и купить фиолетовые занавеси с розовыми шнурами для Белого дома, а ты беседуешь с мужем в скучной комнате, предаваясь ненужным воспоминаниям. Пережив собственные сожаления, Джесси была в состоянии понять сетования мужа. — Ты вправе сожалеть о случившемся, Джон, — сочувственно сказала она, — излишний идеализм подобен слишком жирному пирожному: он оставляет приторно-сладкий вкус во рту. Но ты не мог поступить иначе, мой дорогой, и я горжусь тобой. Я предпочитаю находиться здесь с тобой, отдаваясь работе и воспоминаниям, которые кажутся теперь бесполезными, а не покупать фиолетовые занавески ценою унижения. Ты помнишь, что сказал мне в тот вечер, когда мы узнали, что ты можешь быть выдвинут кандидатом от республиканцев: иногда проигранная битва ведет к выигрышу всей кампании. Ты и республиканская партия потерпели поражение в первых национальных выборах, но вы вели себя так хорошо, что это неизбежно приведет вас к победе. Возможно, твоя победа будет в 1860 году; возможно, она придет при другом республиканце; но, кто бы ни выиграл, он будет во многом обязан тебе. Ты честно принес республиканской партии почти полтора миллиона голосов, это сделало республиканцев второй постоянной партией. Ты не опорочил достоинство выборного процесса в год крови и страстей, когда так легко воспламенить своих сторонников. Таков твой вклад, дорогой, и он столь же важен, как тот, что сможет сделать Джеймс Бьюкенен в Белом доме. Они стояли, глядя друг на друга, в сумеречной комнате, в стороне от внешнего мира, две одинокие фигуры, отвергнутые, но не осужденные; всё и ничего не потерявшие, заплатившие огромную цену, но обладавшие теперь большим, чем то, с чего начали. Несколько часов назад они были наиболее видными лицами своей страны; сегодня они чувствовали себя наименее важными, и им оставалось лишь зализывать свои раны. Она не помнила, кто сделал первое движение, было ли сказано что-либо, как они приблизились друг к другу; произошло все так, как было при их первом объятии в прихожей ее дома в Вашингтоне: они вдруг необъяснимым образом слились друг с другом. В этот момент любые слова, даже самые нежные, были бы лживыми. Но этот поцелуй не мог солгать, он сказал им обоим, что между ними нет пропасти и несчастья и, что бы ни произошло, так и будет, пока они любят и действуют вместе. Переполненная сердечными чувствами, она прошептала: — Писатели утверждают, что любовь может быть лишь между молодыми, что радость и очарование романтической любви кончаются у алтаря. Как они слепы! Высшая романтика — в супружестве; самые прекрасные истории о любви пишутся после свадьбы, а не до нее.Книга шестая ГЕНЕРАЛ ДЖЕССИ
_/1/_
Участок площадью двенадцать акров, в центре которого находился их коттедж, был похож на парк. Несколько лет назад управляющий огородил его забором и украсил посадками светлого дуба и живописного кустарника калифорнийских гор. В одиннадцати милях от дома располагалась деревня рудокопов Беар-Валли, но Фремонтвилл во многом обеспечивал себя сам. Мясо, овощи, яйца и молоко доставлялись из Сан-Франциско; горняки питались в основном консервами и рисом. Джесси перевезла для двух комнат мебель, хранившуюся у мадам Кастро в Монтерее. Она скучала без вида на море, но горы, покрытые ковром золотистых маков, компенсировали это. Поднявшись на горный хребет, они могли любоваться широкой панорамой: рекой Сан Иякин, обрамленной зеленым поясом деревьев, металлическим отблеском равнинных рек Станислаус и Туолумне. Джесси, Джон и трое их детей проехали восемьдесят миль от Стоктона в открытом экипаже и обосновались в Марипозе. Они нашли на своей огороженной территории несколько небольших деревянных построек; сарай был превращен в склад, а пристройка — в кухню. Джесси побелила снаружи свою хижину, а внутренние стены зашила досками. Когда из Монтерея прибыла мебель, она повесила белые кружевные занавески на окна, застелила пол китайскими циновками, в спальне поставила высокую кровать с балдахином, изготовленную в Новой Англии, в жилой комнате перед камином положила медвежью шкуру, расставила там плетеные кресла и кушетки из бамбука, обтянутые китайским сатином. Лили занялась устройством загона для цыплят, гусей и уток. Они предоставили соседу-итальянцу, разбившему огород, возможность пользоваться водой, вытекавшей из шахт Джона; в знак признательности он делился с ними своим щедрым урожаем. Почтовый пароход приходил в Сан-Франциско через каждые две недели, а фургон доставлял почту в деревню Беар-Валли. Выезжая верхом в деревню, Лили возвращалась с сумками, наполненными письмами, книгами и связками журналов, консервами, свежими продуктами и сладостями из Сан-Франциско. Беар-Валли были типичной для Сьерры деревней рудокопов, со скоплением салунов и лавок на обоих концах разбитой грязной дороги. Хижины горняков беспорядочно стояли на холмах, спускавшихся к дороге. Там жили несколько уважаемых семейств родственников с молодыми женами и детьми, но значительную часть населения деревни составляли авантюристы. Они зарабатывали на жизнь перепродажей заявок и в этих целях образовали так называемую лигу «Горнитас». На шахтах Джона работали около сорока человек. На шахте «Принстон» он установил дробильную и паровую мельницу, что позволило ему извлекать из тонны породы на семьдесят долларов золота. Шахты «Пайн-Три» и «Жозефина» были оборудованы штольнями и приносили около семидесяти тысяч долларов в год дохода; шахта «Марипоза» была самой доходной. Большинство рабочих Джона имели хижины в Беар-Валли и недалеко от дома Фремонтов. Там были корнуэльские семьи, которые он направил в Марипозу, когда находился в Англии, некоторое число южан и разного рода временщики, работавшие неделю или месяц, а затем бесследно исчезавшие. Джесси стремилась познакомиться с соседями; ее склад, в котором она хранила продовольствие, привезенное на фургоне из Стоктона, превратился в источник пропитания для всего района в чрезвычайных обстоятельствах. Ее самое вызвали как-то в качестве врача, когда у ребенка Кэльхунов, проглотившего кусок солонины, начался приступ. Их бывший управляющий оставил ей несколько книг с воспоминаниями о французской революции и иллюстрированное собрание сочинений Шекспира. В ожидании прибытия ящиков с купленными ею книгами для обучения своего потомства Джесси пользовалась текстами, находящимися под рукой. — Это будет нерегулярный курс, — сказала она Джону, — но для их голов хороша любая учеба. Трое ее ребят стали ядром своеобразной школы, ибо полдюжины жен рудокопов Джона, а также другие соседи приводили к ней своих детей. Так наконец был заложен Фремонтвилл. В поселке были и лавка, и школа. Они поставили хижины для работавших у них рудокопов — так начала складываться община. Не было пока церкви; Джесси всегда думала о бревенчатой церкви, но они так и не собрались ее построить. Ее сильно огорчало то, что с ней не было отца. Том Бентон более года собирался приехать к ним, но каждый раз в последний момент просил прощения: на Востоке еще так много работы, он хотел бы закончить второй том своего «Тридцатилетнего обзора», не может отвлечься от борьбы против попыток развалить Союз. Он обещал приехать позже, когда завершит второй том и закончит серию лекций. Она пыталась убедить его, что он уже проделал работу нескольких человек, что год пребывания на чистом воздухе Запада возродит его силы. Она не верила его доводам, которыми он оправдывал свое нежелание тронуться с места. С каждой почтой, уходившей на Восток, она писала ему пространные письма, рассказывающие об их жизни в горах. Том Бентон неизменно посылал ей несколько пакетов новостей, а также новые книги, выпущенные на Атлантическом побережье. Лили, высокая крепкая девица в свои пятнадцать лет, любила бродить по горам. Отец подарил ей лошадь бронзовой окраски с серебристыми гривой и хвостом, которую она назвала Чиката. Большую часть дня, когда Джесси не занималась с ней историей, поэзией и чтением, она ездила по горам и долинам Сьерры, привозя домой охапки полевых цветов. Она с отцом часто посещала различные шахты, стоя в дверях и наблюдая, как из тиглей льется расплавленное золото. Джесси повезло нанять для услуг ирландку по имени Роза, которую они быстро окрестили Ирландской Розой, и неуклюжего, замкнутого горца Исаака, наполовину индейца, наполовину негра, чтобы ухаживать за лошадьми, убирать участок и управлять каретой. Исаак был низкого роста, молчаливый и недоверчивый. Ни Джесси, ни Джон не могли понять, почему он захотел работать у них, но потом они нашли ответ, видя, какой любовью Исаак окружил Чарли и трехлетнего Фрэнка, обучая их верховой езде и обращению с ружьями. В горах Сьерры было полно индейских поселений; то и дело происходили стычки между бродячими золотоискателями и индейскими племенами. Однако Джон умел строить отношения с индейцами: его разведчики из Делавэра сопровождали его в четырех экспедициях; поставки скота пять лет назад индейцам Сьерры уберегли их от голода и таким образом вызвали их признательность Джону; он следил за тем, чтобы они имели доступ к родникам и не было помех их поселениям. Возвращаясь в свои лагеря после сбора ягод и хвороста, индианки болтали под высокой сосной, стоявшей перед фасадом коттеджа Джесси. Любимой закуской индианок были ломтики турнепса с нутряным салом между двумя кусками хлеба. Ирландская Роза угощала этими ломтиками их, а Чарли и Фрэнк играли с индейскими детишками, пока сквау поглощали еду. Возвращаясь с охоты, индейцы делились мясом. Джесси поинтересовалась тем, как индейцы называют ее дом. Они ответили: «Белый дом». Стоя под сосной с группой сквау, за спиной которых были привязаны плетеные корзинки с младенцами, Джесси повернулась и взглянула на свою двухкомнатную хижину, побеленную снаружи. «Она, понятно, отличается от того, другого Белого дома», — подумала она. В этот вечер она сказала мужу, какого названия удостоился их дом. Джон ответил: — Здешние горцы называют его так. — В шутку? — Не думаю. Просто в Сьерре такая окраска редка. — Ты не сожалеешь, Джон? — мягко спросила она. — Мы принимали бы послов вместо индейских сквау… — Я не сторонник оплакивать золотую руду, ускользнувшую из-за оползня, — ответил он. — Это и произошло с нами. Хотя он старательно скрывал от нее свои проблемы, она знала, что у него более чем достаточно оснований для тревоги. Согласно решению, принятому Калифорнийским судом, любой может войти и занять любую шахту, несмотря на то что за пять минут до этого она была занята и в нее были вложены тысячи долларов. Джон вложил в шахту «Пайн-Три» почти тридцать тысяч долларов, и все они были потрачены впустую. Его охранники были подкуплены лигой «Горнитас», которая и заняла шахту, когда рудокопы отдыхали дома. Приехав на следующее утро, Джон узнал, что он потерял эту шахту: не представлялось никакой возможности возвратить тридцать тысяч долларов, вложенных им, или предъявить право на часть золота, добывавшегося с помощью его оборудования. Вернувшись в Марипозу после двухлетнего отсутствия, Джесси и Джон узнали, что шахты задолжали почти полмиллиона долларов. Поначалу она не могла понять, как могли шахты столько задолжать, добывая много золота. Джон уверял ее, что дело поставлено надежно, потому что полмиллиона долларов представляют вложения в машины, дробильни, мельницы, плавильни, дороги, которые многократно затем окупятся. После того как муж взял на себя управление, она подумала, что долги будут оплачены. Но они продолжали расти. Джон был хорошим инженером, и у него был смелый ум: он построил большую плотину на реке Мерсед, она была, возможно, первой плотиной в Калифорнии, привез сотни китайских кули из Сан-Франциско, чтобы проложить в горах железную дорогу для доставки руды к городским плавильням, смонтировал на мельнице Бентона новые дробильни. Все это стоило огромных денег, но он был уверен, что в следующем году будут работать около ста таких дробилок, и они будут получать около тысячи долларов в неделю и легко оплатят все свои обязательства. Несмотря на все его уверения, Джесси знала, что он тревожится. Джон вставал до рассвета и уезжал на шахты, а возвращался в сумерках. Каждую неделю он посещал Стоктон, Сакраменто или Сан-Франциско, где встречался с адвокатами, покупал новое оборудование, нанимал честных рудокопов. Он мечтал о поездке в Нью-Йорк, в Европу за более эффективным оборудованием, о новом размещении займа, приглашении новых корнуэльских горняков. Она знала, что кое-что из этого было на самом деле нужно, но многое вызывалось его желанием быть в движении. Ни один из его планов постройки железной дороги на Запад не осуществится. Теперь он всего лишь золотодобытчик. Мужчина не всегда хозяин своей судьбы, бывают и трудные времена, когда человек в состоянии осуществить лишь самое незначительное. Для нее самой основание Фремонтвилла запоздало почти на десять лет; оно произошло в то время, когда она предпочла бы жить в Нью-Йорке или Сан-Франциско. Годы, прошедшие после ее первого приезда в Сан-Франциско на борту парохода «Панама», изменили во многом ее представления. Она избавилась от наивности. То, что в двадцать пять лет казалось забавным приключением, в тридцать три требовало осознанных усилий. После того как всего один шаг отделял ее от положения первой леди Соединенных Штатов, не так-то просто взять на себя роль первой леди Фремонтвилла. По ее замыслу поселок на Марипозе стал приятным для ее мужа и детей, а также соседей, но для Джесси Бентон Фремонт амбиции первопроходца осуществились слишком поздно, чтобы она могла ими насладиться. Они приехали в Марипозу весной, в самое красивое время в горах Сьерры, когда воздух кристально чист и напоен ароматами сосны, дуба и душистых кустарников. Хотя Джон часто отсутствовал, она не чувствовала себя одинокой, поскольку между Сент-Луисом и Сан-Франциско действовала дорожная линия с дилижансами, и поездка занимала всего три недели; в Фремонтвилл часто наведывались посетители. Их старые друзья из Сан-Франциско, включая Фитцхью Биля и старого Найта, приезжали на охоту и геологическую разведку. Английская семья, с которой они познакомились в Лондоне, послала к ним своего семнадцатилетнего сына Дугласа, долговязого блондина: он слишком усердно учился, и поэтому пребывание на свежем воздухе было ему необходимо. Ричард Генри Дана, посетивший Калифорнию на десять лет раньше Джона, автор книги «Два года перед мачтой», обеспечившей ему широкую популярность, превратил свой приезд в увеселительный визит. Потом наступило лето. Весь день на Беар-Валли лился поток солнечных лучей, окрестные горы поглощали жару, и она обрушивалась на коттедж Фремонтов. Пыль затрудняла дыхание; почва была настолько раскалена, что детям пришлось сшить для собак кожаные чулочки и таким образом уберечь их лапы от волдырей. Однажды рано утром ее разбудил стук в дверь. Мужской голос позвал: — Полковник, лига «Горнитас» захватила «Блэк-Дрифт». Когда Джон поспешно выскочил из постели, она спросила: — Что это означает? — Работает лишь шахта, — ответил он. Некоторое время она продолжала лежать, наслаждаясь предрассветной прохладой. Когда она встала, жгучее солнце уже поднялось над горизонтом. Она позавтракала вместе с Лили и Дугласом, а потом час читала текст о французской революции. Обычно Исаак забирал Чарли и Фрэнка в свободное время в сарай, потому что там было прохладнее, но сегодня он не выпустил их из коттеджа. Джесси заметила, что ни Лили, ни Дуглас не проявили интереса к занятиям. Не потребовалось много времени, чтобы понять, что ночной посетитель принес плохие известия. Она спросила Исаака, что произошло, и он ей сказал откровенно, что лига «Горнитас» пытается захватить шахту «Блэк-Дрифт». Шесть корнуэльских рабочих Джона работали в шахте, что не было известно лиге. Поскольку захватчики не могли сразу захватить шахту, они решили взять рабочих измором. Если им удастся изгнать горняков из шахты «Блэк-Дрифт», то через несколько недель они завладеют всеми шахтамиМарипозы. Мальчики влезли на дуб, откуда могли осмотреть местность за паровой мельницей и желтую дорогу, казавшуюся блестящей под знойным солнцем. Джесси заняла свое обычное место у окна передней комнаты. Мальчики заметили силуэт всадника на фоне темно-красного заката. — Едет отец! — закричал Чарли. — Проникли они в «Блэк-Дрифт»? — с ходу спросила Джесси. — Нет, — ответил Джон, отстегивая кобуру с револьвером, — и не проникнут. Им не удастся запугать шестерку корнуэльцев. — Джон, мы должны направить послание губернатору. — Их вооруженные люди блокировали все проходы и дороги. Я пытался сегодня днем отправить трех курьеров, и в каждого из них стреляли. В эту ночь они спали мало, предпочитая обсудить в прохладе возможные пути ликвидации этой чумы в горнодобывающем районе. Джон поклялся, что, как только избавится от банды «Горнитас», поедет в Сан-Франциско и обяжет своих адвокатов подать жалобу по поводу закона о захвате. В четыре часа утра он поехал на шахту «Блэк-Дрифт». Джесси встала на рассвете и обнаружила, что исчезла Лили. Никто не знал, куда она ушла. Вернувшийся через час Дуглас сказал им, что Лили поехала к губернатору. Она поднялась в горы по высохшему руслу ручья и через заросли манзанитных кустарников, укрывавших лошадь, добралась до перевала и уже находится по другую сторону, ускользнув таким образом от лазутчиков «Горнитас». От гордости за отвагу дочери щеки Джесси покрылись румянцем. Незадолго до полудня пришла из своей хижины, расположенной примерно в миле от дома Джесси, жена прораба шахты «Блэк-Дрифт» миссис Катон. В ее руке была корзина с едой. — Я несу завтрак Катону в шахту, миссис Фремонт. — Лига «Горнитас» не пропустит вас. — Под одеждой я спрятала револьверы Катона, — мрачно ответила женщина. — Если бы надеть нечто похожее на ваши парижские кринолины, я пронесла бы целый арсенал. Джесси не смогла разубедить миссис Катон и поэтому решила пойти с ней. Миссис Катон вытащила из-под платья револьвер и положила его, прикрыв салфеткой, в корзину с едой. Они прошли две мили по узкой дорожке к шахте «Блэк-Дрифт». Когда они подошли к месту, где дорожка делала крутой поворот, миссис Катон сказала: — Подождите здесь, миссис Фремонт, тут лига не увидит вас. Джесси спряталась за скалой и наблюдала, как женщина направилась ко входу в шахту. Члены лиги перегородили ей дорогу. Миссис Катон запустила руку в корзину, вытащила револьвер и крикнула: — Хотите, чтобы вас застрелила женщина? Дайте мне принести еду Катону. Вы ссоритесь с полковником из-за шахт и земель и деритесь с ним. Я же бедная женщина, у меня есть только мой муж и пятеро детей, для которых он работает. Я защищаю Катона. Она направляла свой револьвер то на одного, то на другого, те отступили и освободили проход в шахту. Спустя некоторое время она вновь появилась у входа в туннель. — Они не осмеливаются стрелять в женщину, — сказала она, подойдя к Джесси. — Я положила в корзину достаточно пищи для шестерых. После полудня вернулся домой Джон, и Джесси рассказала ему о подвиге Лили, а также о миссис Катон. — Она была прекрасна, Джон, — образ стойкой женщины, полной решимости накормить своего мужа или умереть! Не знаю, где она набралась такой отваги. — Каждый из нас по-своему проявляет отвагу, — сказал Джон, слегка улыбнувшись, — посмотри на Лили. Думаю, мы их побили, Джесси. Жарища у входа в штольню иссушает их энтузиазм. Если мы сможем еще день их не допустить… На следующий день рано утром Джесси получила записку такого содержания:«Решено в таверне Бейтса, что миссис Фремонт дается двадцать четыре часа, чтобы выехать из дома. Эскорт проведет вас через горы вниз, на равнину. Вы можете забрать детей и одежду, вам не причинят вреда. Если не уедете через двадцать четыре часа, дом будет сожжен и вам придется отвечать за последствия. Мы убьем полковника. Подписал за всех присутствующих Деннис О’Брайян, президент».Она думала быстро: «Если мужики в таверне Бейтса начнут пить, они не дадут нам двадцатичетырехчасовой пощады, а сожгут наш дом, как дважды сжигали Сан-Франциско». Она надела самое красивое платье из парижского батиста, с яркими лентами и потребовала, чтобы Исаак отвез ее к таверне Бейтса в Беар-Валли. Несколько участников лиги «Горнитас» бездельничали на передней веранде. Исаак направил экипаж к ступенькам веранды. Джесси поднялась и холодно посмотрела на мужчин. Через минуту она произнесла внушительным тоном Тома Бентона: — Белый дом и земля, на которой он стоит, наши. Мы намерены оставаться здесь. Если вы сожжете дом, мы поставим палатки. Если вы убьете полковника, вы должны убить также меня и моих троих детей. Вы — банда мелкотравчатых трусов! Если бы среди вас был настоящий мужчина, то он отправился бы на поиски собственного золота, а не пытался украсть у других. С добрым днем вас всех. С этими словами она опустилась на сиденье экипажа, крикнув тем же тоном, каким кричала в Вашингтоне, Париже и Лондоне: — Домой, Исаак! Вернувшись в полдень домой и узнав о ее поступке, Джон прошептал ей на ухо: — Я же бедная женщина, у меня есть только мой муж и пятеро детей, для которых он работает. Я защищаю Катона. К этому времени они серьезно встревожились из-за Лили, ведь если ей удалось прорваться, она должна уже быть дома. Через час мальчики, находившиеся на своем наблюдательном посту на дубе, закричали: — Вон она едет. Лили устала, но была спокойна. Она не могла понять, почему из-за нее столько шума и почему мама плачет, почувствовав облегчение. Она доехала по крутому спуску до реки, скрываясь за гранитными валунами, затем, ориентируясь по звездам, достигла парома, где встретила старого приятеля Джона. Он тотчас же отправился в Стоктон, чтобы поднять тревогу. Всю ночь Джесси слышала звуки выстрелов, отдававшиеся эхом в горах, и галоп лошадиных подков, но никто не приближался к «Белому дому». К полудню прибыла сотня Култервиллской гвардии, и она рассыпалась по горам. Перед наступлением ночи под руководством начальника полиции пришли пятьсот человек из Стоктона с оружием и боеприпасами, навьюченными на мулов. Войска разбили лагерь на двенадцати акрах, окружавших «Белый дом», и к следующему дню лига «Горнитас» исчезла из гор Сьерры. К вечеру этого дня Джесси приняла делегацию женщин, живших в горах между «Белым домом» и Беар-Валли. Она предложила им остаться на чай. Женщины выглядели красиво в синих шерстяных платьях с широкими вязаными воротниками и в шляпах, разукрашенных цветами и лентами. Кладовка, опустошенная гвардейцами Култервилла, подверглась еще одному обыску в поисках печенья и китайского чая. Одна из женщин заявила: — Если бы вы покинули коттедж, миссис Фремонт, наши холмы сочились бы кровью. Вторая женщина, молодая, с золотыми волосами, напоминавшая Джесси Мэри Олгуд, воскликнула с энтузиазмом: — Мы должны отметить поражение лиги «Горнитас» настоящим балом с отпечатанными приглашениями, созданием комитета по проведению бала и танцами в зале Старых приятелей! Неделю спустя Джесси, Джон и Лили поехали в Беар-Валли на первую официальную вечеринку в горах Сьерры. Женщины были взволнованы, их лица сияли, мужчины нарядились в лучшие воскресные костюмы. За бальным залом была комната с двумя кроватями, на которые уложили полдюжины грудничков, нуждавшихся во внимании своих мам. Зал был украшен ветками местных вечнозеленых растений и хорошо освещался свечами. Скрипач и гитарист сидели спиной друг к другу в центре зала. Джесси протанцевала два танца с Джоном, а затем любовалась своей дочерью, ставшей королевой бала, так как в горах распространился слух о подвиге Лили. Она вспомнила, что ей было всего на год больше, чем Лили, когда на свадьбе Гарриет Бодиско она танцевала с молодым лейтенантом Фремонтом. К концу вечеринки разрумянившаяся Лили подошла к ней и призналась, что получила предложение. Джесси была ошеломлена, она все еще считала Лили ребенком. Впервые за шестнадцать лет она поняла, почему ее отец столь отчаянно боролся против ее поспешного брака с лейтенантом Фремонтом, когда ей было всего семнадцать. «Бедный отец, — размышляла она. — Я, несомненно, поставила его в трудное положение. Но при всем этом я была права. Если Лили найдет замечательного молодого человека в этих горах, я не встану на ее пути».
_/2/_
После того как в горах Сьерры воцарился мир, Джесси задалась вопросом, не следует ли построить более удобный дом. — Знаешь, Джон, — сказала она, — ты можешь точно рассчитать водоизмещение военного корабля, но невозможно определить размещение двух мальчиков. Джон рассмеялся в ответ на шутку: — Ты увидишь, что здесь нелегко заниматься строительством. Требуется перевозить материалы из Сан-Франциско и Стоктона. — Я не собираюсь воздвигать двухэтажный кирпичный дом. — Тогда действуй, но не трать больше пяти тысяч долларов. Только такие средства мы можем сейчас израсходовать. Я должен поехать в Сан-Франциско; нужно ли заказать что-то там и привезти с собой? — Нет, — ответила она, загадочно улыбнувшись. — Я могу достать все здесь. Ты, конечно, вернешься к Рождеству? — Разумеется. Как только уехал муж, Джесси занялась строительством своего нового дома. Она приказала срубить несколько сосен и сделать из них катки. Пять отдельно стоявших зданий на двенадцати акрах, включая сарай, кладовку, кухню, контору и коттедж, были подняты на катки плотником из Мэна и его тремя сыновьями, помогавшими Джону при постройке мельниц и плотин. Упряжки волов подтянули строения к «Белому дому», где они были соединены между собой. Она пустила слух в Беар-Валли, что хочет закончить строительство своего дома за две недели, к Рождеству. Все окрестные мужчины и их жены, пережившие тревожные времена, отложили в сторону свои дела и пришли ей на помощь. Плотники связали вместе шесть строений и построили широкую веранду по всему фронтону дома, который был обшит свежими досками. Крышу покрыли новой черепицей, а опытный печник сложил за три дня новый камин в «Белом доме». Джесси объехала все окрестности в поисках оконных рам, и ей удалось в конечном счете придать дому вид времен королевы Анны; из окон открывалась изумительная панорама Беар-Валли. К концу первой недели были завершены трудоемкие работы. Оставалась еще неделя, чтобы провести внутреннюю отделку. Ни в каком другом месте она не могла найти более роскошную мебель, чем в Беар-Валли, ибо удача приходила к рудокопам внезапно; приплывшее в руки богатство они так же быстро тратили, приобретая самое роскошное. В грубых, некрашеных лавках Беар-Валли она обнаружила французские обои, столь же красивые, как в Париже, самые дорогие ковры и коврики из стран Востока и Европы, рулоны китайского шелка для занавесей. Она купила циновки для широкой веранды, плетеную мебель и гамаки, а затем закрыла веранду зелеными жалюзи. На окна она повесила тяжелые шерстяные гардины, их можно было закрывать на ночь, создавая чувство уединения у сидящих возле камина или же читающих при свечах. Один из шахтеров работал одно время художником сцены в театре Сент-Чарлз в Нью-Орлеане. Он обязался поклеить обои. Гостиная была оклеена обоями кремового цвета с золотом и темно-красными полосами, а спальня Джесси — бледно-голубыми с белыми розами. Столовая превратилась в официальную комнату дома, ее оклеили обоями под дуб и орех, что придало ей вид величественного аристократического дома на Востоке. Рабочие, сшивавшие мешки для породы, извлекавшейся из шахт, пришли со своими инструментами и стачали половички. В Стоктоне обнаружилось старое фортепьяно, и оно было доставлено упряжкой из двадцати мулов. Джесси отыскала струны в одной из лавок Беар-Валли и позвала кузнеца, виргинского негра Мануэля, который натянул новые струны под руководством Джесси, нажимавшей на клавиши. К концу десятого дня кладка камина высохла, и она могла разжечь огонь в очаге. Тяга была превосходная. На двенадцатый день маляры завершили покраску внешних панелей в белый цвет — она не хотела отказаться от названия, какое дом Фремонтов получил в горной округе. Чарли и Фрэнк с Исааком отправились искать хорошую елку. Джесси обрезала ее и установила в столовой. Вместе с Лили они обмазали шишки клеем и обернули позолоченной бумагой. Елку поставили около камина, а на ее верхушке пристроили золотую звезду. Кондитер из Вены, недавно открывший свою лавку в Беар-Валли, изготовил для нее свечи из пчелиного воска, украсив их сусальным золотом. Заранее, за несколько месяцев, она заказала рождественские сладости, фрукты, книжки с картинками, игрушки и различные игры, а также недорогие раскрашенные украшения для индейцев. Подарки были разложены под елкой. Мальчики развесили венки из горной ели и боярышника, который заменил омелу. В канун Рождества густой туман окутал горы перед закатом солнца, из-за которого, как опасалась Джесси, может задержаться Джон. Лили и Дуглас отправились верхом на лошадях с факелами встречать его. В сумерках Джесси увидела факелы, приближавшиеся к дому. Она поставила дополнительные свечи на окна. Когда Джон соскочил с коня и через широкую веранду вошел в дом, которого две недели назад не было и в помине, он оторопел. Она провела его по комнатам, рассказывая, как были поклеены обои, как кузнец помогал настроить фортепьяно, а сшиватели мешков уложили ковры. В конце обхода она торжественно воскликнула: — И все это стоило мне одну пятую суммы, которую, как ты говорил, я могла потратить! Она пригласила всех принимавших участие в перестройке дома на рождественскую елку. Гости приехали верхом, в колясках и фургонах, и их круг вовсе не ограничивался теми, кто перевозил строения, красил и оборудовал дом. Жены и матери, жившие в горах Сьерры почти десять лет и не видевшие эти годы рождественской елки, пришли с мужьями и детьми и просили хотя бы разок поглядеть на украшенное дерево. Прибыли члены комитета Беар-Валли со своими мужьями, заодно прихватив тех, кто присутствовал на балу. Пришли рудокопы, работавшие на шахтах Фремонта, холостяки группками, женатые с семьями. Пришли и индианки с грудничками; их было невозможно убедить войти вовнутрь, они уселись рядком и заглядывали в освещенные окна. В сумерках Джесси решила подсчитать число пришедших; оказалось, что в дом набилось около сотни друзей и соседей. Многим потребовалось несколько часов, чтобы добраться до «Белого дома», и они не ели с утра. Ирландская Роза была на высоте: она пустила по кругу блюда с холодным мясом, крутыми яйцами, булочками и кексами; даже Исаак расчувствовался и позволил себе выпить стакан вина. Джесси подарила бусы и ожерелья индианкам, игрушки детям горняков. В семь часов, когда все сгрудились в гостиной и соседних комнатах, Джесси зажгла свечи. Наступила тишина. Многие прослезились. Старик из Мэна, которого Джесси называла Криссом Кринглом, встал перед деревом на колени и в страстной молитве принес благодарение Всевышнему. Один за другим горняки, их жены и дети опускались на колени и присоединялись к молитве. Джесси и Джон встали на колени рядом с Лили, а сыновья преклонили колени перед ними. Молитва старика подошла к концу, и в наступившей тишине Джон прошептал жене: — Ты говорила мне, что создание Фремонтвилла завершится, когда у нас будет церковь. Здесь и есть твоя церковь._/3/_
Мальчики играли в снежки и приходили домой возбужденные, розовощекие. Давняя подружка из Нью-Йорка, Ханна Кирстен, посещавшая своего брата в Сан-Франциско, приехала на месяц к Джесси в Марипозу. Молодая и всегда веселая Ханна обладала музыкальным талантом. «Белый дом» звенел: она пела и прекрасно играла на фортепьяно. Однажды, когда Джесси и Ханна сидели на веранде, обращенной в сторону спуска в Беар-Валли, они увидели на небольшой лошадке фигуру, странно двигавшуюся по дороге; она раскачивалась из стороны в сторону, а ее ноги почти касались земли. — Боже мой! — воскликнула Джесси. — Это же Горас Грили! Основатель нью-йоркской «Трибюн» Горас Грили был долговязым угловатым мужчиной; его голова, торс и конечности казались несовместимыми и словно выпестованными разными родителями, а затем по недоразумению скрепленными. У него была круглая голова с выпуклым лбом, его лицо обрамляли длинные волосы. Одна штанина была втиснута в сапог, а другая вывернута поверх сапога. На нем был тонкий галстук, оказавшийся на плече, белый льняной костюм, высокая белая шляпа. После трехнедельной поездки в дилижансе, остановок в пограничных хижинах и на постоялых дворах Горас Грили был, как и Джон, ошеломлен домом Джесси. В этот вечер, сидя за обеденным столом в гостиной, оклеенной обоями под дуб и орех, он похвалил Джесси за ее умение организовывать дело. — У вас талант исполнителя, Джесси, — сказал он не без доли зависти, — у моей жены он начисто отсутствует. Наша прислуга входит через парадную дверь, а уходит через заднюю. Вот уже много лет у меня по сути дела нет дома. Моя жена не заботится о еде, комнаты по беспорядку и небрежности похожи на логово кабана. Я не могу привести к себе друзей. Когда она злится на меня, она может схватить рукопись, над которой я работаю, и бросить ее в огонь. Ну хорошо, я люблю свою Мэри, вот только был бы у нее талант исполнителя… Джесси и Джон мало говорили о национальной политике после приезда в Марипозу: у Джона не было желания вновь включиться в избирательную кампанию. Грили, поездка которого диктовалась желанием прощупать политические настроения, сделал блестящий анализ обостряющейся борьбы между Севером и Югом. Он был зол на президента Джеймса Бьюкенена, говоря о том вреде, который может причинить «хороший человек, честный человек, готовый пойти ради мира на компромисс любой ценой», ибо Бьюкенен позволяет Югу вооружиться, забрать северные склады вооружений, открыто говорить о мятеже и одновременно с этим мешает Северу готовиться к войне, объявляя, что это, дескать, может подтолкнуть Юг к мятежу. Грили настаивал на том, что если бы Джон был выбран, то он остудил бы разговоры о восстании, вооружив Север, укрепив национальные форты и гарнизоны на Юге, лишив Юг возможности готовиться к конфликту. Джесси спросила: — Можем ли мы использовать силу, чтобы удержать Юг в Союзе? — Да, — ответил Джон. — Точно так же, как мы используем силу, чтобы удержать от убийства или, что более подходит, от самоубийства. Через несколько дней после отъезда Грили Джесси получила от Элизы письмо, сообщавшее о смерти отца в Вашингтоне. Она не была готова к такому удару: хотя Том Бентон слабел, он все еще выглядел крепким год назад, когда она оставила его. Этой весной он обещал приехать в Калифорнию. Возвратившийся с шахты Джон объяснил, что Том Бентон умер от рака и что отец знал о своей болезни, прощаясь с ней год назад. По этой причине он не поехал с ними в Калифорнию. — Твой отец заставил меня поклясться, что я сохраню в тайне его болезнь. Он сказал, что не хочет, чтобы ты горевала или тревожилась по поводу его возможной смерти. Теперь ты знаешь, как тяжело ему было отпускать тебя… На следующий день после нашего отъезда он слег и больше не вставал с постели. Сквозь слезы Джесси сказала: — Он хотел умереть, держась за мою руку. Он сказал мне это после смерти матери. И все же он разрешил мне уехать, зная, что больше не увидит меня… К июлю летняя жара вновь опалила Беар-Валли; воздух был неподвижен, а ночи недостаточно длинны, чтобы горячий воздух поднялся из долины. Джон часто выезжал в Сан-Франциско. В середине июля он предложил ей поехать с ним, поскольку в городе было прохладно. Они переплыли на пароме реки Туолумне и Станислаус, а затем отправились из Стоктона ночным пароходным рейсом, погрузив на борт свою карету и лошадей. Утром Джон провез ее вдоль пролива Золотые Ворота, остановив лошадей на мысе, вдававшемся в залив напротив острова Алькатраз. Среди зарослей горного лавра и карликовых деревьев, искривленных ветром с океана, гордо высился дом. Стоя у края утеса перед раскрывавшейся картиной пролива и залива, за которыми простирались голубые воды Тихого океана, Джесси не удержалась и воскликнула: — Какое божественное место! Чье оно? — Твое. У нее перехватило дыхание. — Я купил дом и двенадцать акров земли у сан-францисского банкира за сорок две тысячи долларов. Мы всегда говорили, что наш калифорнийский дом должен выходить окнами на Тихий океан. Тебе он нравится? Это место называется Блэк-Пойнт. Мы сможем проводить здесь столько времени, сколько захотим, и выезжать в «Белый дом» весной и осенью. Я его купил на твое имя, Джесси. Дом будет всегда принадлежать тебе и детям. Задыхаясь от счастья и возбуждения, она спросила: — Можно заглянуть внутрь коттеджа? Дом был простой, прочно построенный. Проходя по пустым комнатам, она восклицала: — Мы выстроим со стороны моря стеклянную веранду: она прикроет нас от ветра, и мы сможем спокойно наблюдать за кораблями в любое время года. На краю утеса поставим летний домик для теплой погоды. Мы доставим сюда краску и обои, и через несколько недель ты не узнаешь его. В течение месяца она с необычайным усердием переделывала и обставляла дом; с трех сторон он был окружен стеклянной верандой, где были размещены шезлонги и письменные столики; вдвое расширена гостиная, одну ее стену занял камин, выложенный из местного камня. Были проложены дорожки, обсаженные розами и фуксиями, а Джон тем временем выстроил конюшню и сарай для карет. Она понимала, что нерасчетливо покупать новую мебель, ковры, драпировки, когда у нее столько прекрасных вещей в «Белом доме», но им придется проводить многие месяцы на шахтах, и ей не хотелось нарушать заведенный там порядок. Когда детские спальни были оклеены обоями и устланы коврами, она отправила послание в Марипозу. Ирландская Роза и Исаак благополучно доставили двух мальчиков и Лили. Прошло девять лет с тех пор, как она спускалась по веревочной лестнице с борта парохода «Панама», а затем ее несли на руках по мелководью. Тогда лишь несколько грубых зданий окружали площадь Портсмут; ныне же Сан-Франциско стал городом, с рядами хорошо построенных домов, с процветающей деловой частью и небольшими фабриками на окраинах. Гавань была забита судами, прибывшими из стран Востока, а дилижансы и конные повозки доставляли переселенцев и почту через горы и равнины за тринадцать дней из Нью-Йорка и за десять — из Сент-Луиса. Телеграф Сэмюэла Морзе был протянут до Сан-Франциско; по Маркет-стрит ходил городской локомотив, к Гарнизонной площади людей доставляли омнибусы, а в деловой части города работала конка. Был основан литературный журнал «Голден эра» в противовес бостонскому «Атлантик монсли». Лучшие актеры включали Сан-Франциско в свои турне; полный сезон работал оперный театр. Джесси любовалась Сан-Франциско: город был молодым и полным сил, он как бы каждый день вновь рождался. Ее большая гостиная и остекленная веранда с видом на пролив, океан и залив превратились в первый литературный и политический салон Сан-Франциско. После смерти отца у нее не было желания вернуться на Восток. Детям нравился Блэк-Пойнт, они нашли друзей среди поселенцев у пролива и целыми часами бродили по дюнам и пляжу. В туманную погоду низким дружественным тоном гудел колокол, луч, обмахивающий горизонт, напоминал ей маяк у Сиасконсета. Ей исполнилось тридцать четыре года, молодость прошла, но зрелость придала ей свою особую красоту. Ее карие глаза, казалось, потемнели и стали более сочувственными; очертания губ скорее говорили о желании понять, чем о решимости. В проборе показались первые седые волосы. Удлиненный овал лица слегка округлился. Произошли перемены и в ее характере: он стал более ровным и спокойным. Она была готова выждать, дать судьбе возможность пройти свою половину пути. Она примирилась с тем фактом, что их профессиональная карьера, подобно супружеству, обладает своим ритмом: то движется медленно, погружаясь в болото мелкой деятельности, то рвется вперед, к важным свершениям. У нее пропало желание все время рваться вперед; надо уметь восстановить силы, оценить сделанное, подумать о перспективе. Однако, мужая, она не чувствовала себя старше по сравнению с тем днем, когда отправилась в дом миссис Криттенден получить благословение. Внешние аспекты ее жизни могли немного выветриться, кое-где разойтись по швам, но чудо ее супружества не увядало. Даже по прошествии семнадцати лет семейной жизни ее по-прежнему волновало физическое присутствие Джона. Прикосновение его руки, его поцелуй, его объятия были столь же магически радостны и приятны, как в те первые недели их медового месяца в доме на Си-стрит. В Марипозе она была вынуждена пользоваться двуспальной кроватью, изготовленной в Новой Англии и хранившейся все эти годы в Монтерее. Теперь же в Сан-Франциско она купила большую кровать из дерева черешни, похожую на ту, которая у них была в Сент-Луисе, и на этой кровати в прохладные ночи они вслушивались в звуки колокола, подающего сигналы судам в тумане, в мягкий накат волн к подножию скалы, размышляли о своих планах. После почти двадцати лет супружества, пяти беременностей ее чувства к мужу оставались такими же сильными, как в первые дни. До встречи с Джоном она полагала, что брак — это бремя, которое несет женщина, чтобы рожать детей и ублажать мужа. Респектабельная жена и думать не может о каких-либо свершениях. С момента встречи с Фремонтом Джесси осознала, что это ложь; это оказалось ложью в восторженные дни медового месяца; и сегодня, более чем когда-либо, это ложь. Летят годы, стареет мир, но доброе супружество не увядает. И сейчас, в утро нового 1857 года, она лежала рядом с мужем, прислушиваясь к его ровному дыханию, размышляя над загадкой Джона Фремонта, которую она так и не разгадала: она ощущала его одиночество, стремление к чему-то неизвестному — последний скрытый бастион самообороны. Его жизнь скатилась с возвышенных высот к обыденной рутине; его рассудок мечтал о беспокойной экспедиции, но его походы ограничивались Марипозой, Словно сквозь туман она замечала его стремление к свершениям, величайшему моменту в его жизни, когда он совершил невозможное и перевалил через горы Сьерры. В ее любви соединились жалость и сочувствие к мучившему его неистребимому желанию, которое влекло его вперед и лишало дома с негасимым огнем. Как бы ни складывалась судьба Джона, он не может обрести покой: всю свою жизнь он будет добиваться признания своих заслуг, будет гоним призраками, жертвой которых стал его не уверенный в себе ум. Самой себе она признавалась, что в будущем обязательно что-нибудь случится: маловероятно, чтобы они спокойно провели остаток жизни; такое не отвечало ни их характеру, ни особенностям времени. Даже здесь, в ее милом и уединенном доме, отдаленном на несколько тысяч миль от эпицентра спора о рабстве, они оказались втянутыми в борьбу, целью которой было отделение Калифорнии от Союза в случае сецессии. Их соратником в борьбе против возраставшего числа сторонников рабства в Калифорнии был преподобный Томас Старр Кинг. Бывший священник церкви Холлис-стрит в Бостоне, Кинг приехал в Сан-Франциско и стал пастором Объединенной церкви Христа. Страстный борец за свободу, он обладал обширными знаниями и был способен заговорить аудиторию; он был сравнительно молод, худощав, с гладким подбородком и рыжими волосами, свисавшими на плечи, с открытым, вызывающим уважение лицом и большими горящими глазами. Джесси и Кинг подружились. Между ними было много общего: любовь к свободе, книгам и писанию, волнующему развитию идей. Они расходились в одном — в отношении к Сан-Франциско. Кинг как ребенок недоумевал, почему в пограничных районах, где дома, казалось, разбежались врассыпную вверх и вниз по склонам, отсутствует гармония. Удивлялся он и множеству китайцев на улицах. Однажды в воскресенье он пожаловался, что у него нет возможности завершить свою работу, поскольку в Сан-Франциско считают, что можно постучать к нему в дверь и всю остальную часть дня провести в дискуссии о политике или религии. — Я даже не могу выкроить достаточно времени и уединиться, чтобы написать свои проповеди, миссис Фремонт. Мне ничего не остается, как взять карандаш и бумагу и спрятаться в дюнах. — А почему бы вам не воспользоваться летним домиком, который мы построили на скале? — спросила Джесси. — Ведь никто не узнает, что вы там работаете. Он охотно согласился. Каждый день после полудня он приезжал со своими бумагами, усаживался в беседке, читал, изучал и писал статьи, публиковавшиеся в журналах «Транскрипт» и «Атлантик мансли». К вечеру он поднимался по тропе, его светлые волосы трепал ветер, а худое тело раскачивалось в такт шагам. За чаем он читал Джесси проповеди, статьи и написанные им рассказы, интересовался ее мнением, взволнованно защищал написанное, а на следующий день включал в свой текст многие ее соображения. Однажды он походя упомянул Брет Гарта. — Брет Гарт, — прошептала Джесси. — Не его ли истории я читала в журнале «Голден эра»? — Да, он наборщик в журнале «Голден эра». Он пишет свои рассказы в наборном цехе не карандашом, а сразу же их набирая. — Подумать только: какой талант надо иметь, чтобы с ходу набирать рассказы! Я хотела бы встретиться с ним. Не приведете ли вы его к нам? Кинг нерешительно сказал: — Он очень робкий… он никуда не ходит… особенно если присутствуют леди. Кроме того, он беден: он получает лишь нищенскую зарплату наборщика; его костюм потерт до дыр. — Хорошо, — ответила она, — если он слишком горд, чтобы прийти ко мне, то я не такая гордая и пойду к нему. Нам нужны молодые энергичные писатели, которые могут хорошо представить читателям Запад. На следующий день Джесси пошла в контору журнала «Голден эра» и спросила, может ли побеседовать с мистером Брет Гартом. Через десять минут к ней спустился молодой человек лет двадцати четырех, среднего роста, худощавый, с черными усами и густыми темными волосами, зачесанными на левую сторону. У него была смуглая кожа, один глаз казался больше другого; он производил впечатление живого молодого человека, желающего понравиться, но не знающего, как добиться этого. — Простите меня за назойливость, но мне рассказал о вас преподобный Томас Кинг, и я прочитала несколько ваших рассказов в журнале «Голден эра». Мне они очень понравились, особенно тот, главным героем которого выступает лицо, схожее со старым содержателем постоялого двора — знакомым полковника Фремонта в Туолумне, добрым душой, но с безобразной внешностью. Брет Гарт почувствовал себя раскованнее. — Не придете ли к нам в воскресенье на обед? Будут только друзья. В воскресенье он появился в длинной черной поддевке, широких серых брюках, в рубашке с низким воротником и красивом сером платке на шее. «Он потратил свой последний доллар на новую одежду, — подумала Джесси, — но это пойдет ему на пользу — он будет лучше себя чувствовать». Она провела его на застекленную веранду. О своих произведениях он ничего не говорил. Однако к вечеру, после того как Джон рассказал ему о лиге «Горнитас», молодой Гарт стал более общительным. Казалось, он с радостью принял предложение Джона прийти на обед в следующее воскресенье. На неделе она получила записку от Брет Гарта с просьбой, не может ли он прийти на час раньше, чтобы обсудить рассказ. Она гуляла с ним вдоль скалистого берега, а внизу серебрилась вода, отражая солнечные лучи. Он говорил о нравах рудокопов, она — об опыте, обретенном ее мужем. Он пришел неожиданно в четверг, чтобы прочитать ей новый рассказ, и попросил ее сделать замечания. Когда она кончила говорить, он сидел, уставившись на ковер. — Знаете, миссис Фремонт, — сказал он, — это первая конструктивная критика из всего того, что я слышал. Я рад, что могу обсудить мои рассказы, относиться к своим героям как к живым, менять и исправлять их характеры. С этого момента Брет Гарт приходил на обед каждое воскресенье, читал написанное им за неделю. Рассказы казались ей подражательными, но интересными, и раз от разу они становились все интереснее. Она вместе с Томасом Кингом переслала его рассказы на Восток редакторам газет и журналов со своими рекомендациями. В дождливый полдень, когда часть приглашенных на обед запаздывала, Джесси сказала: — Вы так мало рассказали о себе, мистер Гарт. Откуда вы приехали? Что привело вас в Сан-Франциско? Наступила неловкая пауза, прежде чем Гарт начал рассказывать срывающимся голосом, как его овдовевшая мать приехала в Калифорнию, чтобы выйти замуж за полковника Уильямса в Окленде; как он восемнадцатилетним юношей последовал за ней, работал в аптеке, занимался частным репетиторством, был курьером, затем учителем в маленьком городке и выпускал газеты в лагере рудокопов. Сейчас ему уже двадцать четыре года, он хотел бы заниматься литературой, но не представляет, как сможет зарабатывать на жизнь и вместе с тем иметь достаточно свободного времени для сочинения своих рассказов. — Что означает имя Гарт? — спросила Джесси. — Мы знали Гартов в Лондоне, но вы не похожи на англичанина, скорее на человека романской расы, быть может, на испанца. Его кожа приняла более смуглый оттенок, чем раньше. — …Гарт — это не мое настоящее имя; такое звучание фамилия получила случайно, из-за ошибки печатника, а у меня не хватило смелости исправить. Видите ли, миссис Фремонт… мой дед — еврей, торговец в Нью-Йорке. Я никогда не скрывал, что я еврей, но ошибка печатника позволила мне получить работу в журнале «Голден эра»… и опубликовать мои рассказы. Он наклонился к ней, добавив: — Миссис Фремонт, вам трудно понять, что значит принадлежать к меньшинству, быть презираемым не потому, что вы хуже, а потому, что вы другой. Сердце Джесси сжалось от боли за молодого человека. — Дорогой мистер Гарт, с первой встречи с мистером Фремонтом я познала, что каждый составляет свое собственное меньшинство, мы все принадлежим кому-либо, и каждая человеческая душа — одинокий странник. — Но как вы можете знать это? — воскликнул Гарт. — Вы, принадлежащая к одной из самых знатных семей в Америке? Она рассказала ему историю своей матери, которая вела трагически-одинокую жизнь, сообщила о своем муже, который поведал ей о своих страхах из-за ненадежности своего положения; наконец, рассказала кое-что о себе, как часто она оказывалась одинокой, пытаясь следовать философии Энн Ройяль. — Я ободрен тем, что вы мне сообщили, миссис Фремонт, и я вам благодарен, — сказал Гарт. — Если мне приходится страдать от нетерпимости, то я вижу, что и другие страдают. — Продолжайте писать ваши рассказы, мистер Гарт, — призывала она, — совершенствуйте ваше мастерство, сделайте наш Запад известным всему миру. Он ответил нерешительно: — Это совсем не просто. Работа наборщика оставляет мне мало времени для творчества. Я согласился работать в одной из газет Орегона — там больше платят… Чарли и Фрэнк поступили в школу. В дополнение к урокам в школе Джесси преподавала литературу и поэзию для окрестных детей в своей гостиной три раза в неделю. Лили не интересовалась поэзией, ее не волновали ни театр, ни опера, но в семнадцать лет она стала прибирать к рукам ведение домашнего хозяйства. Ей нравилось ходить по лавкам, оплачивать счета и вести учет расходов. Она старалась завоевать доверие Джона относительно шахт и дел в Марипозе, понять, что там происходит, и однажды заявила, что если бы была мужчиной, то стала бы горным инженером и управляла бы Марипозой вместо отца. В то время как Лили настойчиво стремилась стать деловым партнером отца, его положение и поведение становились все более непонятными Джесси. Ей было известно, что они получали изрядную прибыль благодаря возросшей стоимости их недвижимости в Сан-Франциско и скотоводческих ранчо в Южной Калифорнии; она также знала, что за неделю шахты добывают золотого песка почти на двадцать тысяч долларов. Она была поэтому удивлена, когда Джон сказал ей, что вынужден продать половину участка Марипозы. В ответ на ее недоуменные вопросы он сказал, что за Марипозой числится долг в один миллион двести тысяч долларов, который невозможно покрыть за счет текущих доходов. Он объяснил ей, что с его плеч свалится бремя, если продаст половину участка и выплатит долги; Джесси согласилась с ним. Он полагал, что наилучшим решением было бы размещение акций во Франции, высказал намерение после президентских выборов в ноябре поехать туда с семьей, а потом совершить тур по Европе, как они и планировали во время беременности Джесси. Чета Фремонт сыграла решающую роль в избрании Авраама Линкольна. Джесси и Джон ни разу не встречались с ним, но следили с большим интересом за его дебатами со Стефаном Дугласом по вопросу о рабстве и считали, что доводы Линкольна более весомы. Время между выдвижением кандидатуры Линкольна и самими выборами Джесси использовала для написания статей в калифорнийские газеты, проводила в своем доме собрания для сплочения республиканского клуба, организовала массовые встречи и парады и иногда выступала вместе с Томасом Кингом перед тысячной аудиторией. Джон не появлялся на публике, а сосредоточился на борьбе против заговора, имевшего целью выход Калифорнии из Союза в случае избрания Линкольна. После окончательного подсчета голосов Джесси убедилась, что Аврааму Линкольну больше повезло, чем им четыре года назад. Демократы Дуглас и Брекингридж раскололи свою партию пополам, как случилось с республиканцами в 1856 году. Если бы в выборах участвовал единственный кандидат от демократов, то Линкольна наверняка ждал бы провал. У Джона были лучшие результаты против Бьюкенена, чем у Линкольна против Дугласа и Брекингриджа. «Как капризна судьба, — думала она, — одного она привела в Белый дом в Вашингтоне, а другого — в „Белый дом“ в Беар-Валли, в Калифорнии». Избирательная кампания осталась позади, из Вашингтона прибыл преданный Союзу генерал, чтобы командовать усиленными федеральными гарнизонами, Калифорния была в безопасности. Джон завершил подготовку их поездки. Были приобретены билеты на пароход, планировалось оставить детей у Элизы и Сюзи. Все было готово к поездке деловой и в то же время увеселительной. Джесси с нетерпением ждала дней, когда она будет одна с мужем. За три дня до отплытия она срочно поехала в компанию «Пальмер, Кук энд К°». Ее всегда пугали крутые холмы Сан-Франциско, и она выбирала более спокойные маршруты. В этот день она приказала Исааку поехать кратчайшим путем. Исааку доводилось спускаться с лошадьми и каретой и по более крутым спускам гор Сьерры, но у него не было опыта езды по мощеным улицам. На середине склона холма Рашен-Хилл одна из лошадей упала на колени, и карета перевернулась. Джесси была выброшена из экипажа. Придя в себя в своей постели в собственном доме, она узнала, что сломала левую руку. Джон был готов отменить поездку до ее выздоровления, но Джесси знала, что деловые планы предусматривали немедленные переговоры и если их отложить, то можно проиграть. — Поезжай, Джон, — просила она. — Сделай свое дело и поскорее возвращайся. Он ждал два дня, прежде чем принял решение. В последний момент, поддавшись ее уговорам, он спешно сложил свои чемоданы и отплыл в Панаму. Лили была превосходной няней; она была так довольна тем, что не нужно уезжать из Сан-Франциско, что порой Джесси думала, будто ее дочь считала инцидент с каретой делом святого Провидения. Скучая по мужу, Джесси проводила дни, довольная возможностью прочитать книги, принять друзей, полюбоваться на океан. Когда Фитцхью Биль был назначен генеральным наблюдателем Земельного управления, она убедила его определить Брет Гарта клерком с окладом сто долларов в месяц. Биль не был в восторге от мысли, что писатель использует Земельное управление как синекуру, но Джесси заверила его, что Гарт будет сполна выполнять свою работу и у него останутся время и энергия для написания рассказов. Благодарный Брет Гарт воскликнул: — Если бы меня забросили на пустынный остров, то я должен был бы ожидать дикаря с вашей запиской, сообщающей, что по вашей просьбе меня назначили губернатором острова с окладом две тысячи четыреста долларов! Она получила письмо от Джона, он информировал ее, что провел час с Авраамом Линкольном в Астор-хауз в Нью-Йорке. Линкольн питал большие надежды, что все разногласия могут быть улажены без войны, но Джон доверительно писал жене: «При поджигательской деятельности прессы и подстрекательских разговорах на каждом углу я убежден, что начало войны совсем близко». Он предложил свои услуги Линкольну, избранному президентом, и тот заверил его, что в случае возникновения войны Джон получит важный командный пост. При вынужденном безделье у Джесси было достаточно времени обдумать: почему Джон не мог продать половину территории Марипозы прямо здесь, в Сан-Франциско, или в Сент-Луисе, Вашингтоне или Нью-Йорке? Почему он должен выезжать в такое отдаленное место для продажи акций? Почему именно во Францию? Не потому ли, что поездка туда долгая и его больше увлекало само путешествие, чем пункт назначения? До конца марта она не получала от него известий, затем пришла записка, уведомлявшая ее, что французы так напуганы надвигающейся войной в Соединенных Штатах, что нет возможности продать половину территорий Марипозы. Он не знает, как ему поступить, но через несколько дней напишет и сообщит о своем решении. Последние события развивались так стремительно, что ей было трудно следить за их последовательностью. 12 апреля 1861 года был обстрелян форт Самтер. Президент Линкольн немедленно призвал добровольцев. От генерального почтмейстера Монтгомери Блэра она узнала, что Джон Фремонт получил звание генерал-майора и стал одним из четырех генералов регулярной армии. Его штаб-квартира размещалась в Сент-Луисе, под его началом находились не только штаты Иллинойс и Миссури, но и все штаты и территории между рекой Миссисипи и Скалистыми горами, т. е. то обширное пространство, которое Джон Фремонт первым нанес на карту и открыл для организованного заселения. Пресса и публика встретили сообщение с восторгом, ибо никто другой в Америке не знал эту местность так хорошо и подробно, как генерал Фремонт. В порыве нахлынувшей радости она поняла, что Джон вновь наденет форму, которую он так любил. Он прожил двенадцать лет как гражданское лицо, и теперь, когда все осталось позади, она могла признать, насколько неопределенными были эти годы. Трагично, но гражданскаявойна помогла осуществлению ее предсказания, что Джон станет генералом, а когда окончится война, он останется в армии, возможно, будет командовать прямо здесь, в Сан-Франциско. На удивление быстро она получила письмо от мужа: Джон сообщал, что в той мере, в какой позволяют его собственный кредит и поддержка посла Адамса, он спешно закупает оружие в Англии, вырывая его из рук богатых агентов Конфедерации. Он приказал Джесси закрыть дом и отправиться на Восток. Преодолев первый шок, она поняла, что ее удовлетворенность пребыванием в Сан-Франциско и домом в Блэк-Пойнте сложилась благодаря тому, что она пережила период покоя между бурями, ей хотелось, чтобы этот период продолжался чуть дольше, прежде чем они вновь столкнутся с неизвестным. Теперь, когда пришло время действовать, она была готова и желала сбросить мантию жены золотоискателя, перейти в мир, где доллары, финансовые отчеты, акции не имеют первостепенного значения, где у Джона появится возможность проделать волнующую и важную работу. Желая уехать, она обнаружила, что в душу ее дочери глубоко запала привязанность к Блэк-Пойнту и Сан-Франциско. Когда она сказала ей, что они должны закрыть дом и выехать на Восток, флегматичная Лили яростно возмутилась. — Я не хочу уезжать из Сан-Франциско! — кричала она. — Блэк-Пойнт — это мой дом, я люблю его. Мне надоело странствовать по миру, не иметь права осесть где-либо, не иметь собственного желания. Это неприлично — переезжать с места на место, не иметь своего дома. Ты и отец уже немолодые, и самое время вам осесть где-то и, как все, стать нормальными людьми. Джесси успокоила дочь, сдала дом в аренду Фитцхью Билю, сложила свои сундуки и чемоданы. Друзья проводили их на пристань. Пароход поднял якоря и осторожно прошел по проливу в океан. Джесси стояла на палубе с Лили и мальчиками, наблюдая за тем, как исчезают вдали Блэк-Пойнт и их дом. Помрачневшие мальчики смотрели, широко раскрыв глаза. Лили безудержно разрыдалась и сбежала в каюту, заперев ее на ключ. Джесси стояла на палубе, пока пароход не взял курс на юг. Она с грустью покидала свой дом, но это чувство смягчалось сознанием того, что вскоре она будет призвана сыграть свою роль в борьбе за свободу и Союз._/4/_
Джесси оставила детей в Бостоне на попечении своей сестры Сюзи и провела с Джоном три недели в Нью-Йорке, занимаясь покупкой оружия и оснащения для рекрутов Запада. В нестерпимо жаркое летнее утро они прибыли в Сент-Луис. Фрэнсис Блэр, выполнявший поручения Джона, его сыновья Монтгомери и Фрэнк советовали ей не ехать в расколотый войной Сент-Луис, а основать свою штаб-квартиру в Вашингтоне, где она могла бы выполнять роль связного своего мужа. Предпочитая обосноваться рядом с мужем, она видела смысл и в предложении Фрэнсиса Блэра. Решение вопроса она оставила на усмотрение Джона. — Поедешь со мной, — ответил он. — На меня свалится огромный груз работы, значительную ее часть я должен буду перепоручить людям, с которыми раньше не встречался и ничего не знаю об их способностях и лояльности. Я хочу, чтобы ты взяла на себя доверительные вопросы. Любому другому человеку я был бы вынужден диктовать тысячи писем, приказов и протоколов. После двадцати лет работы с тобой мне достаточно дать тебе саму идею того, о чем я хочу сказать. Должен ли я отдаляться от тебя лишь потому, что ты моя жена, в тот самый момент, когда твоя помощь неоценима? — Прекрасные слова, генерал, — ответила она с теплой улыбкой, зная, как он счастлив носить форму с двумя звездочками на погонах. Ее приезд в Сент-Луис всегда был радостным возвращением домой. Но утром 25 июля 1861 года она увидела, что все лавки и ставни домов закрыты, на улицах — лишь отдельные прохожие. В каждом доме музыкальный инструмент был обменен на мушкет, никто не знал, кто друг, а кто враг. Сент-Луис был так называемым пограничным городом — наполовину северным, наполовину южным. Вербовка в армию Конфедерации шла открыто. Только что Север проиграл сражение у Булл-Ран, над Вашингтоном нависла угроза захвата южанами, моральное состояние Союза было невообразимо низким. Конфедерация утверждала, что закончит войну в несколько месяцев. В то время как Джон отправился в Джефферсоновские казармы, откуда он получил от генерала Кирни гаубицу для своей второй экспедиции, Джесси решила проблему размещения штаб-квартиры генерального штаба. Она пошла не раздумывая в дом своей кузины Сары Брант, в трехэтажное здание с мраморным фасадом и с семнадцатью беспорядочно встроенными комнатами. Большая часть членов семьи либо умерли, либо уехали. Сара жила в одиночестве. Джесси застала ее в тот момент, когда она складывала в мешки на хранение свое движимое имущество. Она приветствовала Джесси, но под влиянием тревоги была излишне откровенна в своих чувствах: она уверена, что Миссури, имея губернатора и законодательное собрание, симпатизирующих Конфедерации, отколется от Союза и Сент-Луис будет захвачен мятежниками. Джесси быстро осмотрела дом и предложила Саре шесть тысяч долларов в год, если в доме расположатся генерал Фремонт и его штаб. Сара отклонила предложение на том основании, что армия испортит дом, но Джесси заверила кузину, что она будет лично следить за состоянием помещений и арендная плата покроет все расходы по ремонту. К полудню, когда Джон вернулся из Джефферсоновских казарм, Сара Брант была уже в пути на Север, а Джесси наблюдала за тем, как выносят мебель Брантов с нижних этажей дома. Получив под свое начало группу солдат, она оборудовала типографию, телеграфную контору и резервный арсенал в подвале здания, а также комнату для корреспондентов газет. В прихожей первого этажа разместилась приемная. В просторных гостиной и столовой были поставлены столы для младших офицеров, которые должны были принимать сотни посетителей. Большую спальню на втором этаже она превратила в рабочую комнату Джона. Две соседние спальни были освобождены от мебели, и там на козлах были установлены столы для карт и диаграмм. Затем она поставила три письменных стола в проходе второго этажа: один для себя в нише около двери Джона и два других для адъютантов Джона — Хауорда и Уильяма Доршмейера. На третьем этаже имелось немало небольших, с подслеповатыми окнами комнат для гувернанток, репетиторов и счетоводов семьи Брант. Для себя Джесси выбрала самую маленькую комнату. По соседству разместились Джон и лейтенанты Хауорд и Доршмейер. Первым прибыл на совещание молодой Фрэнк, полный желания помочь Союзу установить контроль над Миссури. С тех пор как Фрэнк провел избирательную кампанию в пользу Джона, он добился значительных успехов. Избранный в конгресс от Миссури, он показал себя одним из наиболее разумных и напористых молодых законодателей. Его авторитет в глазах Севера особенно возрос в связи с его смелой и почти фанатической деятельностью в последние, трудные месяцы. Фрэнк помогал формировать отряды национальных гвардейцев на базе республиканских клубов бдительности, требуя от военного департамента передать верные войска под командование капитана Натаниэла Лайона, сплачивая вместе с Лайоном четыре полка лояльных добровольцев Миссури. Джесси была одна в кабинете Джона, склеивая региональные карты, когда караульный ввел Фрэнка. Фрэнк одобрил ее выбор генеральной штаб-квартиры. В ответ она поблагодарила его за содействие семьи Блэр в назначении Джона командующим на Западе. — Выбор естественно пал на него, — быстро ответил Фрэнк. — Знание им Запада, населения и территории, тот факт, что жители знают и уважают его, — большое преимущество для Союза. Но я должен быть откровенным с тобой, Джесси. Я пытался добиться назначения для Натаниэла Лайона, потому что верю в него как в наиболее перспективного генерала из всех союзных. Однако я быстро осознал, что отец и брат Монтгомери были правы: место генерала Лайона не в штаб-квартире, а на поле боя; генерал Фремонт больше подходит на пост командующего. В комнату вошел Джон, мужчины крепко пожали друг другу руки, а затем занялись обсуждением стратегии, работая над картами, разложенными на грубом дощатом столе. Джесси внимательно выслушала просьбу Фрэнка, чтобы Джон немедленно направил подкрепление генералу Лайону, и информацию Джона о том, что он получил приказы президента Линкольна и военного министра Камерона использовать все войска для удержания Каиро. Джон переключил разговор со стратегии на снабжение, требуя от Фрэнка направить в Сент-Луис лучших, достойных доверия снабженцев. На второй день пребывания в Сент-Луисе Джесси проснулась на рассвете и отправилась в Джефферсоновские казармы, где находились больные малярией и раненые. Федеральная санитарная комиссия еще не была сформирована, не действовала на западных территориях. Идя по длинному проходу казармы, она обратила внимание, что на окнах нет занавесок, которые защищали бы больных от жгучего солнца, мало санитарок, нет столов и медицинского оборудования. Около больных и умирающих стояли кружки с черным кофе и солонина, но большинство были так слабы, что не могли поднести напиток и еду ко рту. Испытывая ужас от увиденного, она возвратилась в Сент-Луис и обошла лавки, стуча кулаком в закрытые двери так, что ее руки покрылись синяками. Она требовала, просила, умоляла послать еду парням в госпиталь. Сторонники Союза охотно соглашались; симпатизирующие Конфедерации не хотели ничего давать. Джесси крикнула одному из лавочников, которого знала много лет: — Если вы хотите выйти из Союза, то это ваше личное дело, но вы не можете оплатить это за счет жизни парня, который посещал вашу лавку еще мальчишкой. Раненый солдат перестает быть янки или мятежником, он просто больной, который без вашей помощи умрет! — Хорошо, — ответил лавочник, — я дам вам то, что вы просите. Но запомните: я делаю это для дочери сенатора Бентона, а не для жены генерала Фремонта. К полудню она набрала занавесей, подушек, матрасов, одеял, посуды, столов, мыла, дезинфицирующих средств, красок. Она ехала в первом фургоне, полная решимости превратить в этот же день уродливые казармы в больницу. Не имея полномочий командовать возчиками или их помощниками, она тем не менее заставила их работать, металась по зданию словно одержимая, наблюдая одновременно за множеством дел: мытьем полов, покраской стен, установкой жалюзи, застилкой постелей чистым бельем, размещением столов для еды и лекарств. Поначалу солдаты возражали: они опасались подцепить болезнь в госпитале. — Почему она командует нами? — слышала Джесси, как проворчал один солдат. — Кто она такая в конце концов? — Она — генерал Джесси. — Хорошо… чувство мне подсказывает, что следует делать то, что говорит генерал Джесси. После легкого ужина, когда повеяло вечерней прохладой, Джесси и Джон отправились в его кабинет, зажгли лампы и принялись за работу. Через несколько часов Джесси стали понятны планы Джона, она была поражена смелостью его замыслов. Он основал депо Союза, связавшее все окрестные железнодорожные линии, что позволило сэкономить время при переброске войск в город и из города. Он приказал переоборудовать пять речных пароходов в мониторы[18] и поручил армейским инженерам обшить их броней. По его приказу были возведены укрепления вокруг Сент-Луиса, что высвободило сорок тысяч солдат для участия в боях, введено военное положение в городе и тем самым положен конец вербовке солдат агентами Конфедерации. Завербованные на девяносто дней службы в армии добровольцы угрожали уходом ввиду неуплаты им жалованья. Тогда он взял под свой контроль сто пятьдесят тысяч долларов, которые отказывался выдать квартирмейстер, и принял на службу иностранных офицеров, оказавшихся в Сент-Луисе, обязав их подготовить полки для боевых операций. Джон разработал планы кампании, имевшие целью очистить от мятежников Миссисипи на всем протяжении до Нового Орлеана. В час ночи Джон лег спать, попросив Джесси закончить составление приказов к пяти часам, когда он проснется. Ей было приятно работать в прохладной ночной тишине; не было слышно ни звука, кроме размеренных шагов часового. К четырем часам утра она закончила работу над приказами, пошла в свою комнату под навесом крыши и достала свои простые платья. Ложась на узкую койку, она вспомнила чудесные дни беспечной молодости, когда она только что вышла замуж и работала с мужем над докладами о его первых экспедициях._/5/_
Через неделю после прибытия Джона появились первые результаты: Сент-Луис определился как город на стороне Союза, вокруг него быстро возводились укрепления, интенданты Фрэнка Блэра начали поставлять провиант и одежду, в войсках воцарился дух веры и надежды, офицеры изучали книги по военному искусству, иностранные офицеры, в частности Загоний, подготовили несколько рот на надлежащем боевом уровне, было закончено оборудование пяти мониторов. Но Джесси положение все еще казалось отчаянным: генерал Лайон каждый день слал телеграммы с просьбой о помощи. Генерал Престисс умолял прислать свежие подкрепления в Каиро. Военный департамент в Вашингтоне не только не предоставил денег, оружия и солдат, но и настаивал на том, чтобы генерал Фремонт послал подготовленные им отряды на защиту столицы. Ни одна партия оружия, закупленного Джоном еще во Франции и Англии, не была ему доставлена. 1 августа генерал Фремонт отправился со своей флотилией вниз по реке для обороны Каиро от войск конфедератов под командованием Попа, наступавших с юга. На следующий день в Сент-Луис прибыла Доротея Дикс. Все последующие дни Джесси работала с союзным суперинтендантом сестер милосердия, заключая контракты с женщинами города и окрестностей на обслуживание госпиталей. На исходе пятого дня она получила телеграмму от Джона. Он сообщал, что отогнал генерала Попа от Каиро, высвободил ослабевшие войска генерала Престисса и принял раненых на борт. Джесси передала сообщение в печать; истосковавшийся по победам Север приветствовал флотилию генерала Фремонта и освобождение Каиро. Но когда Джон возвратился в Сент-Луис, у нее не было возможности лично поздравить его, поскольку Фрэнк Блэр с нетерпением ждал его уже несколько часов, держа в руках жалостливую телеграмму от генерала Натаниэла Лайона, который отступил под ударами конфедератов и умолял Джона прислать подкрепления. Фрэнк был рад успехам флотилии, но его огорчало тяжелое положение генерала Лайона. Он понимал, что у него самого рыльце в пушку, ибо обещал своему другу-генералу, что коль скоро командует Фремонт, то вскоре появятся хорошо подготовленные войска. Джон внимательно выслушал настойчивую просьбу Фрэнка, просмотрел последние доклады, лежавшие на столе, и наконец сказал: — Фрэнк, я немедленно пошлю указания генералу Лайону. Мне ясно, что мы должны делать, и я уверен, что он выполнит это умело и успешно. — Спасибо! — сердечно воскликнул Фрэнк. — Я знал, что ты не подведешь меня. Когда Фрэнк Блэр ушел, Джесси пробормотала: — Не понимаю, какое подкрепление ты можешь послать Лайону? У тебя ведь нет войск. — Верно. Я не могу послать ему подкрепления. Поэтому прикажу ему продолжать отступать. Это растянет линии снабжения мятежников и сделает их более уязвимыми. Отсрочка даст мне время для подготовки необходимых войск; может быть, гвардию Загонии… Когда я прикажу Лайону наступать, у него будет необходимая армия, он нанесет поражение мятежникам и выгонит их из Миссури. У Джесси сразу же возникли опасения. Фрэнк почувствует, что он обманут, и озлобится, сочтя обещание Джона фальшивым. Она собиралась сказать об этом, но затем решила, что ей не следует оспаривать решение мужа. Объем ее работы возрастал с каждым днем; Сент-Луис стал одним из наиболее оживленных военных центров в Америке. Как бы часто Джон ни приказывал ей написать письмо или телеграфировать президенту Линкольну, военному министру Камерону, генеральному почтмейстеру Монтгомери Блэру прислать «незамедлительно и скорейшим образом деньги и оружие», лучшее, что было получено от Монтгомери, сводилось к ответу: «Нахожу невозможным привлечь внимание здешних властей к Миссури и положению на Западе. Делайте что возможно и берите на себя всю ответственность за оборону и защиту людей, над которыми вы специально поставлены». Джон был предоставлен самому себе, он был вынужден собирать провиант и оружие в своем округе, зачислять на службу мужчин из соседних территорий, вооружать их, тренировать для участия в войне. По мнению Джесси, это было невыполнимой задачей, и ее как неофициального начальника штаба по снабжению тревожило то, что солдаты генерала Лайона не получали денег, плохо питались, не имели необходимых одежды, палаток, оружия и лошадей. Ежедневно в штаб-квартиру генерала приходили сотни людей, все они стремились урвать свое: контракты, звания, информацию, покровительство. К своему ужасу, Джесси узнала, что каждое сказанное Джоном слово, решение или действие одновременно с положительными результатами порождает врагов. Когда она ввела охрану, чтобы сдержать толпы визитеров, ежедневно осаждавших Джона, она услышала сетования, что генерал Джесси ведет себя слишком властно и не подпускает к себе людей; в то же время Джон просил ее любой ценой не мешать ему в рабочие часы. Затем Джесси и Джон обнаружили, что многие поставщики, рекомендованные Фрэнком Блэром, обжуливают солдат Союза: ружья дают осечку, гнилые армейские фургоны разваливаются на дорогах, подошвы солдатских ботинок, скроенные из бумаги, выдерживают лишь неделю носки, некоторые виды консервов отравлены, поставленные армии лошади начинают хромать через несколько дней, хотя они крайне необходимы. Они потеряли доверие к друзьям Фрэнка и передали контракты своим собственным друзьям на Западе, которых знали как честных людей. Те, которым было отказано в аудиенции, становились их личными врагами. Лишившиеся контрактов жители Миссури, едва успев выйти из кабинета Джона, ввязывались в кампанию за его устранение. Джесси обвиняли в том, что она сняла дом Бранта за непомерно высокую цену, ведет беспутную роскошную жизнь, пользуясь прекрасной мебелью, серебром и постельным бельем. Когда Джон, опираясь на гвардию Загонии, показал воинственным миссурийцам, что у него есть хорошо организованная боевая сила, пополз слух, что он действует как европейский монарх. Однако эти неприятности показались мелкими по сравнению с первым серьезным ударом. Генерал Лайон, опасаясь, что его оказавшаяся в трудном положении армия будет дезорганизована и уничтожена при отступлении, предпринял героическую атаку против превосходящих сил Маккуллока у Уилсон-Крик. Его войска потерпели поражение. Генерал Лайон был ранен в грудь и скончался. Штаб-квартира была ошеломлена известием; во время войны люди умирают в сражениях, но Джон отдал приказ генералу Лайону не вступать в бой. Союзу нужны были генералы, особенно генералы, обладающие таким же опытом, как Лайон. Союзу нужны были победы, а не поражения. И теперь Джон будет отвечать за новую серьезную военную неудачу. Когда прошел первый шок, Джесси спросила: — Может быть, генерал Лайон не получил твоего приказа? — Он получил его, — спокойно ответил Джон. — Но он думал, что я заблуждаюсь. Он считал, что нельзя сдавать конфедератам эту часть Миссури; он полагал, что, сидя здесь, в штаб-квартире, я не учитываю всех факторов. — Но на войне вправе ли любой офицер принимать свое собственное решение? Разве он не обязан выполнять приказы ради осуществления общего плана? — Ты и я не имеем права ставить так вопрос, Джесси, — уныло сказал Джон. — Помнишь историю с лордом Нельсоном и его слепым глазом? С нашей точки зрения, здесь, в штаб-квартире, где разрабатывается общая стратегия, Лайон ошибался; с его точки зрения, требование отступить с поля боя было ошибочным; генерал Лайон полагал, что он прав, не выполняя приказа. Не будем больше говорить об этом. — Но по меньшей мере страна не станет обвинять тебя в смерти Лайона. Ты же приказал ему отступать. — Никто не захочет знать об этом. — Что ты имеешь в виду? — Лайон умер как герой. Ничего не должно быть сказано или сделано, что умаляло бы его героизм. — Но ты знаешь, что скажут пресса, военный департамент… — Ничто не должно умалять героическую смерть генерала Лайона. Джесси покинула кабинет мужа, чтобы подготовить веранду для прощания с покойным, вывесить флаги и поставить цветы. Она распорядилась поставить деревянный гроб с телом Лайона в центре комнаты и накрыла его полковыми знаменами. На следующий день в пять часов утра, когда она и Джон, сидевший за своим письменным столом, пили кофе, ординарец объявил, что внизу дожидается Фрэнк Блэр. Джесси и Джон быстро спустились на веранду. Вошел Фрэнк с бледным от горя лицом. Он подошел к гробу и долго стоял, смотря в лицо своему другу. После паузы он посмотрел вверх, увидел цветы и флаги и сказал Джесси: — Спасибо за такое внимание к моему другу. Джесси промолчала. Она стояла, не вымолвив ни слова, в то время как Фрэнк и Джон смотрели друг на друга. — Он был хорошим генералом и другом, — тихо прошептал Фрэнк. — Трагедия в том, что он умер, так и не получив возможности принять участие в главной кампании. В его голосе не было упрека, звучало лишь горе. Джон сказал: — Сожалею, Фрэнк. Я сделал что мог, но было так мало времени… — Это не твоя вина, Джон. Я лишь хочу сказать, что в конечном счете было бы лучше потерять Каиро, чем Лайона. Мы можем вновь занять Каиро, но мы не найдем другого генерала Лайона. Джон положил свою руку на плечо Фрэнка: — Я знаю, что ты потерял одного из самых дорогих тебе друзей, Фрэнк, но и я потерял самого способного офицера. Нам его будет не хватать, но ты увидишь: его героическая смерть встряхнет и объединит Север. Фрэнк ничего не ответил. Джон извинился и пошел в свой кабинет. Фрэнк последний раз взглянул на лицо друга, потом, склонив голову, вышел с веранды. Через два дня после полудня он приехал с другом, которого представил как изготовителя одежды, уверяя Джона, что его продукция добротная, и после таких заверений вытащил из кармана контракт, положив бумагу ему на стол для подписи. Джона уже несколько раз порицали за то, что он подписывал контракты, не читая и не уяснив себе их содержания. Однажды он объяснил Джесси, что может либо читать юридические контракты, либо вести войну, но делать и то и другое одновременно он не в состоянии. В то время как он смотрел на плотно исписанные листы, Джесси спокойно спросила: — Какое количество имеется в виду, Фрэнк? — Сорок тысяч. Все еще пытаясь прочитать контракт, Джон удивился: — Сорок тысяч? Да во всем Миссури не наберется и десяти тысяч солдат! Лицо Фрэнка покраснело. — Конечно, — холодно заметил он, — если ты предпочитаешь давать контракты своим калифорнийским друзьям… Ныне только им разрешается снабжать армию. Все в Миссури, воевавшие до того, как ты появился здесь, теперь недостойны получать контракты! — Ой, Фрэнк! — взмолилась Джесси. — Джон ничего подобного не говорил. Он лишь сказал, что количество слишком велико… — Составь контракт на десять тысяч, Фрэнк, — сказал Джон, — столько нам потребуется в данный момент, и мне придется немало потрудиться, чтобы наскрести денег даже для такого количества. Джон встал, извинился, сославшись на срочные дела, и вышел из кабинета. Претендент на контракт вышел вслед за ним. Джесси посмотрела в лицо Фрэнку, чтобы убедиться, не смягчил ли его предложенный компромисс, но молодой человек выпалил яростную тираду, повторив все обвинения, какие раздавались в адрес Джона со времени их приезда в Сент-Луис. Сдерживая себя, она ответила: — Фрэнк, ты прекрасно знаешь, почему он вынужден поступать так. Ты и Джон не должны ссориться: вам предстоит сделать важные дела вместе. — Так не думает высокий и могущественный генерал! — кричал Фрэнк. — Он думает, что я ему больше не нужен, после того как я обеспечил ему его пост. Он хочет освободиться от меня и всех моих друзей, которые месяцами боролись, чтобы удержать Миссури в рамках Союза. Когда он избавится от нас, не останется никого, способного оспаривать его власть. Тогда он сможет проводить военные парады и красоваться в городе в своих европейских мундирах… Опечаленная Джесси ответила: — Ты говоришь сгоряча, Фрэнк. Ты не сказал бы этого, если бы не гибель Натаниэля Лайона. Ты не должен допустить, чтобы смерть Лайона затмила твой рассудок. — Смерть Лайона! — воскликнул Фрэнк. — Ты хочешь сказать: убийство Лайона! У твоего мужа было достаточно солдат и оружия, он мог в любой момент послать подкрепления Лайону, если бы захотел, но он боялся Лайона, боялся, что Лайон добьется блестящей победы, и тогда прощай командование Джона Фремонта! В ответ на эти чудовищные обвинения Джесси смогла лишь воскликнуть: — Фрэнк, ты не должен говорить такие ужасные вещи! Ты причинишь всем страшный вред. Я запрещаю тебе распространять такие слухи. — Запрещаешь, — фыркнул Фрэнк с искаженным от ярости лицом. — Генерал Джесси запрещает! Разве ты не понимаешь, в какое посмешище ты превращаешь себя? Разве тебе не известно, что все недовольны твоим вмешательством и хотят, чтобы ты отправилась домой и не влезала в войну между мужчинами? Разве ты не понимаешь, каким смешным ты выставляешь мужа, когда люди говорят, что в семье ты носишь звезды на плечах, а муж исполняет приказы? Она с трудом выдавила: — Пожалуйста, убирайся. Ты все сказал. Фрэнк Блэр ответил: — Почти все, но не совсем. До приезда Джона я был политическим лидером штата. Но твой муж решил, что Миссури слишком мал для двух командующих, что одного из нас надо убрать. Таким должен стать я, полагал он, но ошибся. Он будет изгнан отсюда, и именно я осуществлю эту операцию. Джесси вышла из кабинета и медленно поднялась по узкой лестнице в свою спальню. Через крохотное оконце она смотрела на крыши Сент-Луиса, ничего не видя, остро переживая тяжелый момент. Совершила ли она ошибку, поехав с Джоном в Сент-Луис? Прав ли Фрэнк Блэр, обвиняя ее в том, что она сделала посмешищем себя и своего мужа в глазах общества? Не переоценивала ли она свои заслуги и не нанесла ли больше вреда, чем пользы, своим присутствием здесь? Как Джон станет реагировать на обвинение, будто не он, а она носит на плечах звезды? Впервые она поняла, что на войне не бывает быстрого и легкого успеха. Прежде чем придет победа, будет еще немало поражений, возникнут страшные раздоры; все втянутые в борьбу будут страдать, вести две войны вместо одной. Если она сейчас вернется домой, откажется от работы и ответственности, тогда, что бы ни случилось на войне и в Западном регионе, это не будет ее ошибкой и не расшатает ее брака с Джоном. Однажды она поняла, что самая хорошая жена та, которая меньше всего выступает как жена. Здесь же она вмешалась в дела, не входящие в круг деятельности женщины. Она почувствовала по выпадам Фрэнка, какая интенсивная кампания развернулась против нее, и понимала, что, работая в обстановке неразберихи, неизбежно допускала промахи и ошибки. А что, если их последствия серьезны? Не повредят ли они ее мужу, его положению, его статусу, его командованию? Не обратит ли он это против нее, не подвергнет ли это испытанию их супружество? Однажды она почти погубила его своим вмешательством. Она знала, что склонна действовать импульсивно, может оказывать влияние на других, питает неприязнь к власти и ограничениям. Не сделала ли она что-нибудь, могущее вновь привести к отставке Джона, к военно-полевому суду? Теперь они старше и не в состоянии пережить те неприятности, какие смогли пережить в молодом возрасте. Не разумнее ли уехать, быть может, в Вашингтон, как первоначально рекомендовал Фрэнсис Блэр, и позволить мужу вести войну без нее? Ей и в голову не приходило, что ее сотрудничество с Джоном коснется и сотрудничества в ведении войны. Но именно это и произошло. Сейчас, когда она попыталась увидеть вещи в том свете, как их представлял Фрэнк Блэр, она поняла, что не может бросить свою работу, что война требует ее сотрудничества с Джоном. Джесси отдавала себе отчет в том, что может страдать, серьезно страдать, так, как страдала после завоевания Калифорнии. Она могла бы возвратиться в Нью-Йорк или в Сиасконсет, но Джон сказал, что она нужна ему. Она подумала: «Если я рассуждаю правильно и моя работа разумна, если она помогает выиграть сражения и покончить с войной, то кто потом скажет, что работа была бесполезной и сомнительной лишь по той причине, что ее выполняла женщина, а не мужчина, что ее истоки крылись в супружеских отношениях, а не в отношениях между офицером и подчиненным?» Как же она может в такой ситуации сбежать? Она жила по-настоящему во времена кризиса и напряженных усилий. Ради этого она пользовалась месяцами тишины и покоя в Марипозе и в доме в Блэк-Пойнте, когда отдыхала и накапливала силы. Джесси подошла к шифоньерке и взглянула на себя в зеркало. Она увидела не нежное знакомое лицо, а жесткое, решительное; вся красота и мягкость исчезли. Под левым уголком рта уже появилось пятно. Ее лицо стало маской, свойственной солдату, а ее грубое повседневное черное платье могло сойти за униформу. Решительным жестом она поправила свои волосы, отвела ногой полу юбки назад и вышла из комнаты для встречи с генералом Фремонтом._/6/_
У Джона было мало времени заниматься чем-либо, кроме военной стратегии и политики; ей приходилось самой доделывать то, что по какой-то причине не было сделано в штаб-квартире. Горас Грили ее похвалил однажды, сказав, что она — жена-исполнитель. В сложившейся обстановке штаб-квартира оказалась сродни обычному дому, а планы военного снабжения и различные мелкие детали были близки к тем, какие необходимо учитывать, чтобы домашнее и семейное хозяйство велось успешно. Она руководствовалась единственным желанием помочь мужу и гордилась тем, как он вселял в войска боевой дух и готовил солдат к сражениям, восхищалась его выдержкой и терпением, когда Вашингтон наложил руку на закупленное им в Европе оружие и отказался передать хотя бы часть его Западному командованию, когда генерал Мейгс отменил его заказ на приобретение лошадей в Канаде, не сочтя нужным даже сообщить о своем решении. Своим придирчивым глазом она видела, что он не теряет присутствия духа в окружающем его хаосе. Дни тревоги и разочарований сменяли друг друга, именно на Западный департамент выпали наихудшие беды. Партизаны-южане опустошали Миссури, сжигая фермы и дома, стараясь вытеснить из штата сторонников Союза. Они действовали небольшими бандами, наносившими удары столь неожиданно и причинявшими ущерб по ночам столь стремительно, что последствия их вылазок были равноценны действиям армии. Джон посылал вооруженные отряды против партизан, но их невозможно было найти, не говоря уже о том, чтобы пресечь их диверсии. Но он понял одно: банды состояли из плантаторов, которые могли покинуть свои дома, потому что на месте оставались рабы-негры, выполнявшие работу на плантациях. Обдумывая эту проблему в жаркие дни августа, он поделился своими соображениями с Джесси: — Имеется единственная возможность разгромить партизан, но она требует решительного шага… — Какого? — Я могу освободить рабов на территории, находящейся под моим контролем. — Освобождение! Но, Джон, есть ли у тебя такие полномочия? Есть ли у тебя право? — Ты задаешь двойной вопрос, Джесси. Как военный командующий я обладаю властью; что же касается морального права, то этот вопрос каждый должен решить сам за себя. Если я издам прокламацию об освобождении рабов, чьи хозяева воюют против нас, то она достигнет двух важных целей: вынудит партизан — владельцев плантаций возвратиться домой, чтобы спасти свою собственность и не потерять рабов. Если же они продолжат борьбу, то тогда тысячи негров перейдут на сторону сил Союза. — Это изменит характер войны! — воскликнула Джесси. — До сих пор мы сражались за то, чтобы не допустить откола Юга от Союза; слишком много людей на Севере думают, что мы должны отпустить южан, что они — единственный источник осложнений. Но прокламация превратит войну в поход за свободу. Он устало прикрыл глаза руками. — Я не знаю, — пробормотал он. — Когда я думаю об освобождении с военной точки зрения, то все выглядит ясно и логично, когда же начинаю думать о политических последствиях… я не политик, Джесси; все, что хочу сделать, — это разбить в Западном округе сторонников раскола. Чем ближе я подхожу к целям войны, тем меньше понимаю, за что борется Север. Наказать Юг за обстрел форта Самтер? Загнать южан обратно в Союз? Или же отменить рабство, чтобы нация могла думать о чем-то ином? — Каждая группа в стране имеет свои особые причины в зависимости от того, где живут люди и во что они веруют. — И могу ли я спросить, почему вы участвуете в войне, миссис Фремонт? — Могу ответить просто и прямо: чтобы отменить рабство. Подойдя к мужу, она спросила: — Не думаешь ли ты, что нам следует обсудить это с Фрэнком Блэром? Он поймет политические последствия… — Нет, нет! — взорвался Джон. — Этот вопрос надо решить, исходя из военной необходимости, а не по политическим мотивам. Фрэнк начнет говорить о воздействии на сомнительные пограничные штаты, не побудит ли это некоторых из них переметнуться на сторону Конфедерации, как будет реагировать официальный Вашингтон. Мне хотелось, чтобы это был локальный военный ход, применимый только к Миссури. Его эффективность будет определяться неожиданностью, Фрэнк разошлет сообщение в газеты, и они опубликуют его на следующий же день. Пока они обдумывали сказанное, в комнате наступила тишина. Джесси поймала себя на том, что изучает своего мужа. Он больше не расчесывал волосы на прямой пробор, а коротко их стриг, хотя они все еще оставались слегка курчавыми. Шевелюра и бородка поседели, лоб казался более высоким из-за того, что линия волос отступила назад, выражение лица было сильным и уверенным по сравнению с тем, какое было во время первых экспедиций: глаза казались более крупными, более вдумчивыми, готовыми к действию. Осознававший, что на его плечах сверкают две звезды генерал-майора, он создавал впечатление сильного, активного человека, который способен добиться победы. Почувствовав, что она пытливо рассматривает его, Джон тихо спросил: — Что скажет начальник штаба? Одобряет ли он? Джесси с вызовом приподняла голову: — Да, генерал, всем сердцем одобряю: это убедит Юг, что мы не шутим, и удержит многих рабовладельцев от участия в войне против нас. На рассвете следующего дня ее разбудил громкий стук в дверь. Она поднялась и услышала голос ординарца: — Миссис Фремонт, генерал просит вас незамедлительно прийти в его кабинет. Она быстро оделась и спустилась в кабинет Джона на втором этаже. Джесси не сказала ни слова, но даже беглый взгляд убедил ее в том, что он почти не спал в эту ночь. — Джесси, я решил, что нельзя терять времени. Мы должны очистить Миссури от партизан. Этот приказ решит дело. Он взял плотно исписанный лист бумаги, дал его жене и попросил прочитать текст вслух. Она прочитала:«С целью покончить с беспорядками, упрочить общественный мир и обеспечить безопасность и защиту личности и собственности лояльных граждан настоящим объявляю и распространяю военное положение на весь штат Миссури. Собственность, недвижимая и личная, всех в штате Миссури, кто поднимет оружие против Соединенных Штатов или кто примет доказанное активное участие в действиях врагов, будет объявлена конфискованной для использования в общественных целях, а принадлежащие им рабы, если таковые имеются, настоящим объявляются свободными».Окончив чтение, Джесси с трудом перевела дух. Джон с твердостью в голосе сказал: — Настало время решительных действий. Мне даны полномочия покончить с мятежом на территории, находящейся под моим контролем, и я доведу до сознания каждого мятежника, выступающего против Союза, что его ждет кара. Джесси положила приказ на стол, взволнованно сказав: — Это наиболее важный документ, изданный за время войны. Предоставление свободы рабам мятежников лишит Юг возможности продолжать боевые действия. Джон попросил Джесси переписать приказ, чтобы его мог прочитать наборщик, а затем отправил документ в типографию. Джесси стояла рядом с Джоном, когда он читал оттиски. Затем она отвезла экземпляр приказа в редакцию сент-луисской газеты «Демократ» и отправилась в помещение, где собирались корреспонденты, чтобы дать репортерам полную информацию. Ни она, ни Джон не ожидали такого энтузиазма и почти истерического восхваления, с каким была встречена на Севере прокламация об освобождении. По улицам Новой Англии маршировали с песнями ликующие толпы. Молодые люди, которых сдерживало непонимание целей войны, переполнили вербовочные пункты. Некий член конгресса объявил, что прокламация «подняла и объединила народ лояльных штатов сильнее всех других событий войны». Крупные газеты Севера, включая нью-йоркскую «Геральд» и чикагскую «Таймс», симпатизировавшую Югу, присоединили свой голос к восхвалению прокламации. Ее текст с редакционными комментариями появился на первых страницах нью-йоркских газет «Таймс» и «Трибюн», вашингтонской «Нэшнл интеллидженсер», бостонской «Пост» и чикагской «Трибюн». Журнал «Харперс уикли» расценил прокламацию «началом конца», и такая оценка разделялась большинством в лояльных штатах. На Среднем Западе люди кричали: «Наконец-то мы знаем, за что боремся, и теперь мы быстро покончим с войной!» Сидя в подвале, в телеграфной комнате, отбирая сотни поздравительных посланий, Джесси обнаружила среди них телеграмму военного министра Камерона. Она бросилась к Джону, поскольку эта телеграмма представляла официальное одобрение администрацией его действий. Утром 1 сентября в штаб-квартиру приехал Фрэнк Блэр. Джон вежливо принял его, а Джесси лишь бросила на Фрэнка мимолетный проницательный взгляд. Она и Джон старались не ставить его больше в неловкое положение и передали контракты по поставкам нескольким более или менее надежным друзьям Фрэнка. Но разрыв между ними углублялся главным образом из-за полномочий. Хотя и не было публичных ссор, разговоры о расхождениях поднимались в печати все чаще. Газета «Демократ», в прошлом превозносившая Фрэнка Блэра как спасителя Миссури, теперь расхваливала Джона за его умелую и быструю организацию своего департамента. Она рекомендовала Блэру отправиться в Вашингтон и оставить Запад в руках более талантливого генерала Фремонта. Обозленный Фрэнк перешел в яростное контрнаступление. В выходившей в Сент-Луисе газете «Ивнинг ньюс» он поместил оскорбительные статьи, обвиняя генерала Фремонта в том, что он не довел до конца приготовления, так тщательно начатые Блэром и Лайоном. На сей раз он бичевал Джона за узурпацию его, Блэра, полномочий, за сделанный генералом шаг, ставящий президента Линкольна, администрацию и дело северян в сложное положение. — Этот шаг осуществлен за моей спиной! — возмущенно кричал он. — Вы не имели права делать его, не уведомив меня и не получив моего согласия. Здесь я политический руководитель, и я отвечаю за Миссури. Наша политическая борьба так же важна, как военные операции! Если бы проконсультировались со мной, то я доказал бы вам ваше безрассудство. Джесси не рассказала мужу о своей ссоре с Фрэнком и была этому рада: Джону будет легче сдерживаться. Джон заявил, что не обязан консультироваться с Фрэнком или получать его согласие на военные действия, и Джесси успокоилась, поскольку он говорил не только вежливым, но и дружеским тоном. — В таком случае вы не признаете моей власти в Миссури? — спросил Фрэнк. — Нет, — ответил Джон. — Я признаю ваше политическое руководство. Но я военный руководитель, и прокламация об освобождении является военной акцией. Возмущенный Фрэнк наклонился над столом Джона и сказал хриплым, убежденным тоном: — Я глубоко ошибся в оценке ваших способностей. Вы выпустили прокламацию об освобождении не в военных, а в политических целях, чтобы восстановить доверие Севера к себе, которое вы утеряли, не послав подкрепления Лайону. Вы не справились с ролью командующего и запутали все дела. Я собираюсь признать, что допустил ошибку, рекомендовав вас, и направлю просьбу президенту Линкольну о вашем отзыве. Произнеся эти слова, он вылетел из кабинета. Джесси побежала за ним, догнала его на большой лестнице, ведущей в фойе. — Фрэнк, — сказала она тихо, чтобы не могли услышать офицеры внизу, — понимаете ли вы, что обвиняете Джона как шарлатана, который выпустил прокламацию, чтобы получить политическую поддержку любой ценой? Я понимаю, что вы не думаете так о Джоне, но если вы бросаете обвинения, то последствия будут печальными. Ради нашей дружбы, дружбы между нашими семьями не будем рвать отношения. Если вы сомневаетесь в разумности и эффективности прокламации, — а это ваше право, — пожалуйста, вернитесь и скажите Джону, что не считаете его политическим авантюристом, ставящим под угрозу дело Союза и исход войны ради своих корыстных целей. Сверкнув глазами и сжавшись всем телом, Фрэнк ответил: — Именно это я имею в виду. Именно таков Джон Фремонт. Он потерпел провал и ослабил нашу позицию на Западе. Теперь же он использует самое опасное оружие, какое у него имеется, чтобы выбраться из хаоса. Но ему это не удастся, Джесси. Я добьюсь его осуждения перед всем миром как никудышного деятеля. Ее внутренняя тревога и робость исчезли. Она потеряла надежду на примирение. Так же зло, как и Фрэнк, она сказала: — Что ж, Фрэнк, хорошо, если вы намерены объявить нам войну, мы будем рассматривать вас как мятежника, пойманного с оружием в руках. Если хотите, чтобы мы стали вашими врагами, мы ими станем! Стычка с Фрэнком была предупреждением: их путь не будет усеян розами, на что можно было надеяться по взрыву энтузиазма. Но Джесси и Джон были ошарашены, когда через шесть дней после опубликования прокламации об освобождении специальный курьер доставил письмо от президента Линкольна с просьбой к генералу Фремонту отозвать прокламацию. Они почувствовали себя неважно. — Почему же президент Линкольн поступает таким образом, — спросила Джесси, — если Север так сердечно одобрил прокламацию? — Фрэнсис и Монтгомери Блэр проникли к нему; Линкольн пишет, что прокламация встревожит друзей Союза в южных штатах и подорвет наши перспективы в Кентукки… — И тебе дан приказ отозвать прокламацию об освобождении! — Да. Но предлагается, чтобы я сделал это своей собственной властью, так что это не будет выглядеть, будто я получил выговор. — Что ты намерен делать? Ведь всего за шесть дней мы добились важного прогресса в борьбе против партизан… — Я должен либо признать, что был не прав… либо отклонить предложение президента. — Почему бы не написать ему письмо, объяснить причины твоего шага и то положительное, к чему он уже привел? — Во-первых, я должен продиктовать мой официальный ответ и отдать его курьеру. Я не собираюсь принимать предложение Линкольна. Если он хочет аннулировать освобождение, он должен сделать это своим собственным распоряжением. Однако я надеюсь личным примером убедить его в сохранении прокламации. Он встал из-за письменного стола и принялся ходить по комнате. — Если бы я мог поговорить с Линкольном, то показал бы ему благородный характер нашей акции. Письма — в лучшем случае вещи холодные; Линкольн может оказаться слишком занятым или загруженным, чтобы тщательно вчитаться в наше письмо, у него под рукой не будет никого, кто может разъяснить и ответить на вопросы. Я хотел бы поехать в Вашингтон и объяснить ему положение, но не могу покинуть это место. — Нет ли кого-нибудь в твоем штабе, кому ты мог бы поручить это? — Да, есть. — Кто? — Ты. Ты была моим представителем в Вашингтоне в те годы, когда я отсутствовал. Ты должна вновь выполнить эту работу. Просьба была неожиданной, однако она ни на минуту не сомневалась, что будет принята в Белом доме в качестве лица, уполномоченного говорить от имени мужа. В прошлом президенты всегда принимали ее в таком качестве; несомненно, Линкольн будет еще более дружественным, поскольку он вел активную кампанию за Фремонта и Джесси в 1856 году, а они помогли ему завоевать Калифорнию на выборах 1860 года. Джон подошел к окну, открыл зеленые жалюзи и стоял, глядя на ярко освещенную улицу внизу. Она заметила, каким строгим и четким стал его профиль, какой седой — его аккуратная небольшая бородка. Он повернулся к ней, его глаза были серьезными, вдумчивыми. — Мы должны добраться до президента Линкольна с нашим личным письмом первыми и с твоим истолкованием и объяснением всего дела. Это самое главное, Джесси, ты понимаешь? Ты должна увидеть его с неофициальным письмом до того, как он получит мой официальный ответ и напишет приказ, отменяющий прокламацию. Разница в несколько минут в ту или другую сторону может решить все дело. Курьер поедет тем же поездом… — Доверься мне, — ответила Джесси. — Я знаю кратчайшую дорогу в Белый дом из любого пункта в Вашингтоне. Так было с письмом полковника Аберта: если бы я ждала следующего утра или даже вечера, второй экземпляр письма был бы доставлен тебе почтовым катером до того, как Де Розье доскакал до тебя. Отчаяние вдруг навалилось на нее, когда она осознала сказанное. Она быстро прошептала: — Джон, не сожалел ли ты о моем решении, принятом в тот момент? Если бы я не предотвратила выполнение того приказа, то не было бы военно-полевого суда. — Не было бы второй и третьей экспедиций, — ответил он сухим тоном, без улыбки. — У нас отняли бы самую большую возможность, и мы не внесли бы наш самый важный вклад. Я не жалею ни о чем, что было в те годы, Джесси, за исключением моей личной ссоры с генералом Кирни. Я не говорю, что поступил неправильно, но хотел бы избежать этой ссоры. — Я никогда не рассказывала тебе, — шепотом сказала она, — что после того, как ты выехал из делавэрской индейской резервации, ко мне прибыл адъютант генерала Кирни и передал просьбу генерала приехать к нему и простить его, прежде чем он умрет. Я отправила курьера назад с посланием, что не могу простить, что нас разделяет могила. Генерал Кирни умер на следующий день. Я была не права, Джон, я должна была простить его… Воспоминания об индейской резервации Делавэра, о потере первого сына и трагедии, которая чуть было не разрушила их супружество, нахлынули на них обоих. Они стояли тихо в душной пустой комнате, вновь переживая боль того трудного времени и вместе с тем радуясь, что оно не оставило незаживающих ран, что у них есть другие сыновья, что Джон генерал, как она и предсказывала. На миг они освободились от бремени ответственности, от тягот, оказались вне времени, места и обстановки и стали просто мужем и женой, для которых главной опорой, никогда их не подводившей, оставалась любовь. В этот короткий миг, забыв о войне, о пламени, опалившем страну, они слились в объятии. Джесси поблагодарила Джона за доверие, сказала ему, что отправится ночным поездом и постарается достойным образом представить его в Вашингтоне. Полушутя Джон ответил: — Уверен, ваша операция будет успешной, генерал Джесси. Она покраснела, ибо думала, что Джону неведома эта кличка. Коснувшись ее плеча, он сказал: — Я хотел бы получить информацию о твоем интервью как можно скорее. Но не посылай ее обычным телеграфом, ведь группа Блэра, несомненно, имеет своих осведомителей здесь, в штаб-квартире. Возьми с собой шифровальный код и посылай сообщения на имя лейтенанта Хауорда, подписываясь именем его невесты. Джесси взяла книгу для шифровок: — Сразу же после первой встречи с президентом я пошлю телеграмму. Сделаю все возможное, чтобы известие было добрым.
_/7/_
В шесть часов вечера она выехала из депо Союза. Поезд был набит солдатами, гражданскими лицами, едущими по личным и правительственным делам, и миссурийскими семьями, бегущими на север от партизан. Хотя война длилась всего пять месяцев, подвижной состав был в плохом состоянии из-за того, что в каждую поездку людей набивалось в три раза больше нормы. Была теплая сентябрьская ночь, и к моменту отхода поезда все проходы и площадки были забиты женщинами, сидевшими на узлах и чемоданах, и стоявшими мужчинами. За ночь она не сомкнула глаз: духота, стук колес, толчки и раскачивание вагона на расшатанных рельсах не давали заснуть. Зная, что в пути трудно найти еду, она завернула съестное в клеенку. Нельзя было умыться или сменить одежду, туалеты были перегружены и быстро выходили из строя. Она проводила время как могла; дремала, когда усталость брала верх, затем просыпалась оцепеневшая и с ломотой в теле от жесткой скамьи. Поезд прибыл в Вашингтон на следующий день к восьми часам вечера. Ее встретил старый друг из Нью-Йорка, судья Коул, участвовавший с ними в избирательной кампании 1856 года. Он пригнал на станцию экипаж и зарезервировал для Джесси номер в отеле «Виллард». За два часа до прибытия поезда в столицу она почувствовала, что ее покидают силы, но решила не поддаваться усталости, а сделать то, что тысячу раз обдумывала за пятьдесят часов пути, ведь она так близка к выполнению порученной задачи. Когда они прибыли в отель и Джесси вымыла руки и лицо, она сказала судье Коулу: — Я должна послать записку президенту Линкольну с просьбой о немедленной встрече. — А вы не собираетесь посетить Белый дом сегодня вечером? — Напротив, собираюсь. Я должна немедленно встретиться с президентом. Он спокойно предложил: — Не лучше ли отдохнуть, поспать ночь? Ведь путь был тяжелый. Утром вы почувствуете себя лучше, сможете переодеться… — Нет-нет, — прервала она, — завтра утром может быть слишком поздно. Судья Коул уставился на нее: — На правах старого друга могу ли спросить: почему? Что вы можете сделать сегодня в таком измученном состоянии, ведь это же самое можно успешнее сделать завтра утром? — В моем поезде ехал курьер с депешей к президенту. Моя задача — попасть к президенту прежде, чем он примет решение на основе этой депеши. — Мистер Линкольн может не получить вашей записки сегодня вечером. Он завален делами; возможно, он вызовет вас завтра утром. — Я попрошу его принять меня немедленно, — ответила Джесси, — если до него дойдет моя записка, то я думаю, что он тут же удовлетворит мою просьбу. — Делайте, как считаете нужным, миссис Фремонт, — ответил сухим тоном судья. — Я подыщу надежного посыльного, пока вы напишете записку. Джесси показалось, что посыльный летел на крыльях — так быстро он вернулся и принес карточку. Она гласила: «А. Линкольн. Сейчас». Перед выходом из номера гостиницы Джесси посмотрела на себя в зеркало. Она увидела, что запылившиеся за время поездки волосы старили ее, ее белый воротничок был более грязным, чем остальная часть платья, и потерял свой первоначальный белый цвет. Ее мысленный взгляд подменил образ в зеркале другим: она стоит перед зеркалом в гостинице «Кларендон» в Лондоне, в вечернем платье, ее волосы заплетены косичками на польский манер, лицо раскраснелось от возбуждения, вызванного церемонией представления королеве в день Пасхи. Неясно, где-то в недрах ума она понимала, что неопрятная одежда и усталый вид не свидетельствуют о хорошем вкусе или хороших манерах, но, конечно, добрый и простецкий Авраам Линкольн не сочтет это за оскорбление, как не счел бы за оскорбление появление перед ним солдата-посыльного с депешами прямо с фронта. Она попросила судью Коула сопровождать ее на встрече и пошла кратчайшей дорогой от отеля к Белому дому. Входя через парадную дверь, она сказала сама себе: «Всю свою жизнь я чувствовала себя как дома в особняке президента, но именно сейчас важно, чтобы меня хорошо приняли». Их ввели в красную гостиную. Служитель сказал им, что скоро придет президент. Ожидая прихода президента Линкольна, она стояла, поскольку не хотела, чтобы он застал ее сидящей. Минуты бежали в муках ожидания и усталости; ей казалось, что прошло много времени, прежде чем открылась дальняя дверь и в ее проеме на фоне более ярких керосиновых ламп столовой показался Авраам Линкольн. Задержавшись, чтобы закрыть за собой дверь столовой, он медленно направился навстречу Джесси; в этот момент она увидела, что дверь вновь слегка приоткрылась и за ней мелькнула фигура Мэри Тодд Линкольн. Джесси внимательно всматривалась в лицо президента, желая понять, какая беседа ее ожидает. Выражение лица Линкольна не говорило ни о чем. Он молчал и лишь слегка поклонился. Поблагодарив президента за то, что он принял ее, Джесси представила судью Коула как члена ассоциации нью-йоркских адвокатов. Президент Линкольн ничего не сказал, и выражение его лица оставалось неизменным. Расстроенная холодным приемом, Джесси открыла сумочку, вытащила запечатанное письмо Джона и сказала: — Генерал Фремонт просил меня вручить вам это письмо, мистер президент. Генерал считает вопрос настолько важным, что послал меня, чтобы я пояснила и дала дополнительную информацию. Президент Линкольн протянул руку за письмом. Вскрыв конверт, он подошел поближе к свечам; Джесси с тревогой подумала, что президента уже настроили против Джона: «Он прислушивается к словам наших врагов. Именно поэтому он так холодно принял меня, так небрежен в отношении меня. Почему он не предложил мне сесть, хотя мой вид говорит о том, что я устала? Линкольн уже принял решение вылить на меня холодный душ и займет позицию против Джона. Я должна сделать все возможное, чтобы изменить его мнение. Я не должна казаться нервной и переутомленной. Я должна сесть, чтобы скрыть свои чувства, даже если президент не предложит мне стула». Судья Коул тихонько удалился в синюю гостиную, и Джесси видела, что он ходит взад-вперед за открытой дверью. Какое-то время она наблюдала за президентом, читавшим стоя у светильника длинное письмо, затем подвинула к себе стул и села. Закончив чтение письма, Линкольн подошел к Джесси, выдвинул из ряда около стены стул и сел напротив нее. Длинная рука, державшая письмо, казалось, была готова положить его на красный ковер. — Миссис Фремонт, — сказал он, — я написал генералу, и он знает, что нужно делать. — Мистер Линкольн, могу ли я спросить, аннулировали ли вы прокламацию об освобождении? — Да, я только что написал проект приказа. С него снимут копии и пошлют завтра утром. — Мистер президент, — выкрикнула она. — До отправки вашего послания, когда будет уже поздно, позвольте мне нарисовать вам полную картину происходящего в Миссури, позвольте показать вам, каким образом прокламация генерала об освобождении реально поможет выиграть войну. Заметив, что президент поморщился, она заговорила еще быстрее: — Именно поэтому я приехала, мистер президент; генерал Фремонт полагал, что будет лучше, если я смогу все объяснить. Генерал считает, что он находится в невыгодном положении, поскольку против него выступают люди, которым вы доверяете. — Кого вы имеете в виду, — спросил президент Линкольн, — какие лица иных взглядов? Джесси поняла, что получила отпор. Она сказала: — Генерал убежден, что победа силой оружия потребует длительных и дорогостоящих усилий, нужны и другие средства, чтобы обрести поддержку Запада. Ведь идея иногда столь же эффективна, как ружье: если мы убедим Юг в том, что каждый мятежник потеряет рабов, то лидеры сецессионистов столкнутся с раздорами в собственных рядах, а это серьезно помешает им вербовать солдат и сражаться… — Вы настоящий женский политик, — заметил президент. Джесси отшатнулась, словно ее ударили. Несколько секунд она молча сидела перед президентом, ей казалось, что он не услышал ее слов, просто отверг ее рассуждения на том основании, что она женщина. Как сказал ей генерал Кирни, женщинам нечего делать в мужском мире; они только создают неразбериху. И теперь Авраам Линкольн, который так энергично вел избирательную кампанию за ФРЕМОНТА И ДЖЕССИ, человек, у которого были все основания считаться другом и поклонником, смотрит на нее свысока, называя «женским политиком». Выражение ее глаз показало, что она обижена, лицо Линкольна смягчилось, и он сказал твердо, но с большей мягкостью в голосе: — Генералу не следовало бы делать этого; он никогда бы так не поступил, если бы посоветовался с Фрэнком Блэром. Я послал Фрэнка, чтобы он советовал ему и держал меня в курсе дела о действительном положении вещей и о том, как развиваются события. — Но, мистер президент, вы дали генералу карт-бланш в Западном регионе. Вы разрешили ему делать то, что он считает необходимым для победы. — Военной победы, миссис Фремонт. — Президент перешел на тон, который она могла оценить как сердитый. — Генералу не следовало ни в коей мере втягивать негров в войну! Это война во имя великой национальной цели. Негры не имеют с войной ничего общего. — Генерал Фремонт обладает сильным влиянием, и у него есть последователи в Миссури; если он решился провести в жизнь приказ об освобождении, он может сделать это… Линкольн поморщился и сказал: — Миссис Фремонт, у нас в союзной армии нет независимых командиров, все они под началом военного департамента. Она понимала, что время интервью ограничено, и поэтому обратилась к другому аспекту проблемы. — Мы не знали, что Фрэнк Блэр представляет вас, — сказала она. — Он не выступал в этом качестве прямо. Нас заверяли, что генерал Фремонт — единственный командующий в своем регионе. — Не делалось ничего, что могло бы ограничить или ущемить авторитет генерала. Ссоры очень вредят нашему делу, миссис Фремонт, они недопустимы. Он поднялся. Джесси смотрела на него снизу вверх. Она понимала, что ей предлагают уйти, когда она не выполнила и части задачи, ради которой послана. Президент так и не сослался на длинное письмо Джона и не попросил дополнительной информации. Очевидно, он уже составил свое представление о генерале Фремонте и прокламации об освобождении. Она должна сделать последнюю попытку разубедить его. Джесси встала и принялась быстро говорить. Она сделала обзор истории Западного командования, беспорядка, который царил там до прихода Джона, его деятельности по обороне Сент-Луиса, подготовке войск, покупке снаряжения за собственный счет, когда Вашингтон отказался выделить средства, рассказала о том, как он спас Каиро, вселил уверенность в солдат. Она описала действия партизан, множество взаимосвязанных проблем и показала, что прокламация об освобождении поможет решить многие из них. Она выделила тезис, в котором была глубоко убеждена: Север ведет войну не ради обороны или в отместку за обстрел фронта Самтер и не войну с целью вернуть Юг в Союз. Это война за ликвидацию рабства; если с ним не будет покончено и даже если удастся удержать Юг в составе Союза, война будет вспыхивать вновь и вновь. Она думала и говорила крайне быстро и исключительно точно, но в то же время ее память фиксировала все внешние моменты: жена президента Линкольна подслушивала у двери в столовую; судья Коул прислушивался у двери в синюю гостиную; Авраам Линкольн возвышался над ней, мрачный, смущенный, желавший остановить ее, но не знавший как. Она не помнила, как долго говорила — десять, быть может, пятнадцать минут, она даже не помнила всего того, что сказала, ибо ее ум работал в бешеном темпе, желая использовать последние ценные секунды, чтобы предотвратить отход президента от ее мужа. Она целиком представила внушительное описание сделанного Джоном Фремонтом, прося президента не прислушиваться к противникам Джона, не лишать его доверия, не подрывать его положения, осуждая перед всей нацией как порывистого и упрямого человека, когда в его руках оказывается власть. Но вдруг ее голос пресекся посреди фразы: она поняла, что Линкольн обижен тем, что она пришла в Белый дом в грязном платье, с волосами, пропитанными сажей и дорожной пылью; не ушла, когда он дал понять, что пора уходить, что она вмешалась в мужской мир, пыталась навязать ему свое мнение, в то время как решение о любом серьезном шаге входит в его, и только его, компетенцию. Наступила неловкая тишина; она и президент стояли, глядя друг на друга. Затем тоном, таким мягким, что она не была уверена, слышит ли он ее, она поблагодарила за любезный прием. Он промолчал. — Когда я могу получить ответ на письмо генерала Фремонта? — спросила она. — У меня куча дел. Возможно, завтра или на следующий день. — Спасибо, мистер президент, я приду за письмом. — Нет. Я пошлю вам его завтра или послезавтра. Где вы остановились? — В гостинице «Виллард», мистер президент. Буду ждать вашего ответа. Спокойной ночи, сэр, и еще раз спасибо. Когда они возвращались в гостиницу, судья Коул сказал: — Миссис Фремонт, генерала отстранят от участия в войне; здесь есть группировка, которая занимается делами Севера, и она настроена против генерала. Слишком подавленная и упавшая духом, Джесси перед входом в отель пожелала судье спокойной ночи, пошла в свой номер и написала шифрованное сообщение Джону. Она изложила общую картину случившегося, но воздержалась от крайнего пессимизма, сообщив, что останется в Вашингтоне до завершения миссии. Почти валясь с ног от усталости, она сбросила грязную одежду и плюхнулась в постель. В глубине души Джесси чувствовала, что действовала плохо, вела себя неправильно, оттолкнула от себя президента, и нет надежды склонить его в свою пользу. Она хотела быть сильной женой, а теперь с запозданием поняла правоту генерала Кирни, Фрэнка Блэра и президента Линкольна: жена, в наименьшей мере старающаяся ею быть, — лучшая жена._/8/_
Она спала долго и проснулась лишь после восьми часов на следующее утро, приняла горячую ванну, тщательно вымыла волосы, и ей стало легче в чистом белье и свежем платье. Едва она успела завершить свой туалет, как в дверь постучал Фрэнсис Блэр. Прошло пять лет с тех пор, как он вел избирательную кампанию за Фремонта; исчез даже венчик волос на его лысой голове, и его глаза казались наполовину закрытыми. Они обнялись как люди, ценящие прошлое, но готовые бороться за будущее. — Ну и ну, — сказал Фрэнсис Блэр, — кто мог ожидать от тебя такой прыти: приехать в Вашингтон и сказать президенту, что он ошибается? Какой смысл противопоставлять себя мистеру Линкольну? — Я не противопоставляла себя. Напротив, президент был груб и холоден по отношению ко мне. Он был настроен против меня до моего прихода и даже не проявил обычной вежливости. — Разве ты не понимаешь, под каким невыносимым давлением работает президент? — воскликнул Блэр. — Ты не имеешь права говорить с ним воинственным тоном; ни один мужчина не решился бы действовать так. Если ты хочешь играть в мужские игры, тебе не следует пользоваться преимуществами женщины и нарушать правила игры. Серьезно встревоженная, она спросила слабым голосом: — Почему вы обвиняете меня в этом? — Потому что, по словам президента, ты так яростно навалилась на него, и ему не оставалось ничего, как использовать весь свой такт, чтобы избежать ссоры. Он также сказал о твоем намеке, что если генерал Фремонт решит, то может настоять на своем. Джесси была ошеломлена последним обвинением. Она даже присела на краешек стула, у нее подгибались ноги. — Оспорить решение президента! Но я такого не говорила… Что побудило мистера Линкольна думать так? — Разве ты не сказала президенту, что, если генерал Фремонт полон решимости провести в жизнь свой приказ об освобождении, он сможет сделать это без… С упавшим сердцем Джесси воскликнула: — Вот почему мистер Линкольн сказал, что он сделает с командующими, проявляющими непослушание! Но я не имела это в виду, я не говорила, что Джон может восстать против президента! Я лишь имела в виду, что мистеру Линкольну не нужно тревожиться по поводу успехов Джона с эмансипацией в Миссури. — Зачем ты вообще приехала в Вашингтон? Почему вы не дали возможности Фрэнку уладить дела в Сент-Луисе, а Монтгомери — здесь, в столице? Почему вы поссорились с Фрэнком, пытаясь вытеснить его из политической жизни Миссури? Собрав все силы, Джесси ответила: — Мы сделали все возможное, чтобы не ссориться с Фрэнком. Мы пытались всеми возможными путями умилостивить его. Но с момента смерти Натаниэля Лайона он, видимо, потерял доверие к нам. — Фрэнк утверждает иное. Он писал мне, что старался избежать ссоры с вами, а вы хотели ссоры в качестве предлога, чтобы избавиться от него. — Нет, нет и нет! Это неверно, мистер Блэр, вы знаете, что мы всегда любили Фрэнка. — До вашего отъезда в Сент-Луис я просил вас приехать в Вашингтон, я показал бы вам, как можно помочь мужу здесь, говорил вам, что женщине не следует быть с армией. Если бы вы оставались в Вашингтоне, вы имели бы все, что вам нужно. Но вы пренебрегли моими советами, и в данный момент, когда вам не следовало вообще появляться, вы предстали перед президентом в неряшливом виде… — У меня были основания пойти к президенту при первой представившейся возможности, а мое белье и одежда еще не были доставлены с железнодорожной станции. Мы знали, что Фрэнк направил президенту злое письмо с обвинениями против Джона. Не так ли? — Фрэнк написал мистеру Линкольну, — признался Блэр, — но это не было раздраженное письмо. В нем просто рассматривалось положение на Западе. — …И потребовал отзыва Джона? — Президент намерен дать Джону все возможности; он верит в побуждения и честность Джона, но не верит ему как военному руководителю. В конце концов Джон — топограф, а не военный. Именно поэтому президент направил Монтгомери и генерала Мейгса обследовать Западное командование. Джесси обозлилась на Блэра: — За шесть недель командования Джон добился чуда в Миссури. Покажите мне генерала Союза, который добился большего! Солдаты Джона сражаются каждый день, сражаются без провианта, без амуниции, без артиллерии… — Вы вредите Джону. Вы слышали разговоры о генерале Джесси? — А слышали ли вы, чтобы такой термин употребляли с пренебрежением? Блэр перешел на более мягкий тон: — Не то чтобы злая критика, на самом деле Доротея Дикс хвалила вас за работу с больными. Но само употребление термина несет в себе порицание. Разве вы не понимаете, насколько нелеп этот термин? Вы что, амазонка, руководитель женской армии, если вас именуют генералом Джесси? С каких это пор женщины стали генералами? Это дурной вкус, Джесси; это постановка себя на место, не принадлежащее женщине, даже если она хорошо выполняет работу. — Это чистейшее словоблудие, мистер Блэр. Пять лет назад вы хвалили меня за участие в избирательной кампании, за то, что я заинтересовала американских женщин политикой, помогла привлечь их голоса. Когда женщина служит вашим целям, вы одобряете ее деятельность; когда же сделанное ею, как кажется вам, вступает в противоречие с вашими интересами, тогда вы хватаетесь за вопрос пола. Это несостоятельно, мистер Блэр, а несостоятельность приписывается женщинам. Фрэнсис Блэр взял с шифоньерки свою шляпу, затем положил руку на ее плечо: — Джесси, я слишком стар, чтобы ссориться с детьми, которым я помог вырасти. Ты знаешь, как я люблю Фрэнка, ты знаешь о моих честолюбивых планах в отношении него. Именно поэтому я так огорчен ссорой между вами. Но, что бы ни случилось, мы не должны перестать любить друг друга — на этом настаивал бы Том Бентон, Джесси. Она поцеловала его в морщинистую щеку. Блэр вышел, закрыв за собой дверь. Джесси подумала, как похожи эта встреча с Фрэнсисом Блэром и встреча с генералом Кирни по поводу гаубицы. Она вспомнила о печальных последствиях ее диспута с Кирни, и у нее возникли опасения, как бы схожесть не проявилась и в остальном. Она отсчитывала часы в ожидании письма президента Линкольна, не очень-то надеясь, что письмо будет дружеским и обнадеживающим. Проходя мимо небольшого зеркала, она с удивлением заметила, что на ее волосах все еще видна дорожная пыль. Она подошла ближе к зеркалу и внимательно вгляделась. «Это вовсе не пыль, — прошептала она почти слышно. — Мои волосы поседели. Видимо, это произошло вчера вечером». На ее глаза набежали слезы; чувствуя, что если не отвлечется, то может сойти с ума от тревоги, она надела шляпку и вышла из гостиницы. Она не знала, куда идет, но вскоре повернула на Си-стрит. Она стояла перед незастроенным участком Бентонов, все еще принадлежащим семье. Дымовая кирпичная труба была разобрана, участок зарос сорняками. Глядя на него, она подумала, как одиноко стало ей в Вашингтоне и каким неприветливым стал город. Элиза уехала с мужем по военным делам. Две младшие сестры жили в другом месте, большая группа кузин и друзей, южан, уехала домой с ненавистью к имени Фремонт. В прошлом она знала каждый дом, каждую постройку, каждую лужайку и каждый ручей, почти каждое лицо, встречавшееся на улицах столицы, теперь же она не знала никого. Город вырос за ее спиной и помимо нее, она не нужна здесь и впервые стала нежеланным гостем в Белом доме. Несмотря на боль в сердце и тревогу, у нее родилось чувство: если бы здесь был ее отец, если бы только сенатор Томас Гарт Бентон от Миссури взял ее за руку и поднялся с нею по ступеням Белого дома, все прошло бы хорошо. Но Том Бентон прожил свою жизнь, провел свою кампанию и теперь ушел в мир иной; ей самой придется вести свои сражения. Она вспомнила слова, написанные Томасом Старром Кингом другу о ней: «Джесси Фремонт — пушка, способная запугать целый кабинет: она — „Мерримак“ женского пола, полностью обшитый броней и несущий подлинный бентоновский огонь». Теперь же уставшая, отчаявшаяся, взволнованная затянувшимся молчанием президента, болезненно пульсирующим родимым пятном, не зная, что делать, куда пойти, она уже не чувствовала себя «Мерримаком» женского пола; огонь был довольно существенно ослаблен в итоге встречи с Линкольном и Блэром. У нее было единственное желание: сбежать быстро и подальше от конфликтных сцен в Вашингтоне и Сент-Луисе, вернуться в свой коттедж в Блэк-Пойнте с видом на Сан-Францисский залив и пролив, где она может слышать, как на ветру трепещут паруса при входе в порт. Рано утром на следующий день, после бессонной ночи, она написала письмо мистеру Линкольну.«Президенту Соединенных Штатов Вчера мистер Блэр сказал мне, что пять дней назад было получено письмо от его сына Фрэнка Блэра, и оно было доставлено Вам его сыном Монтгомери Блэром, почтмейстером; письмо содержало некоторые замечания относительно генерала Фремонта и его военного командования в Западном регионе. Мистер Блэр также сказал мне, что на основе этого письма Вы направили почтмейстера Блэра и генерала Мейгса в Сент-Луис, чтобы провести инспекцию региона и доложить Вам. От имени и как представляющая генерала Фремонта должна просить предоставить мне копии этого письма и другие сообщения, если таковые имеются, которые, по Вашему суждению, сделали необходимой инспекцию. Имею честь оставаться глубоко уважающая Вас Джесси Бентон Фремонт».К полудню она получила ответ от президента.
«Миссис генерал Фремонт Уважаемая мадам! Я подготовил ответ на письмо, доставленное Вами от генерала Фремонта вчера, и, поскольку не имел известий от Вас в течение дня, послал ему ответ по почте. Я не считаю себя вправе передать вам копии писем, полученных мною, без согласия написавших их. Не было какого-либо давления на мое суждение, направленного против чести и честности генерала Фремонта, и я протестую против утверждений, будто враждебно действовал против него. Ваш покорный слуга А. Линкольн».Понимая, что ей больше нечего делать в Вашингтоне, она села на ночной поезд, отправлявшийся в Сент-Луис. На следующее утро, когда поезд отходил от Харрисбурга, сидевший напротив нее джентльмен встал, вежливо поклонился и сказал: — Мадам Фремонт, я хочу задать вам вопрос; мы с женой хотели бы услышать ваш ответ. Верно ли, что президент намерен отказаться от использования эмансипации в качестве оружия в этой войне? — Верно. Жена джентльмена всплеснула руками и крикнула: — Ой, мой, мой сын! Мой сын! Я охотно отдала его! Я отдала его Господу Богу, но теперь не вижу чего ради. По возвращении в Сент-Луис она узнала, что Джон добился стратегического успеха: две недели назад он назначил Улисса С. Гранта бригадным генералом и поставил его во главе юго-восточной части Миссури и Южного Иллинойса со штаб-квартирой в Каиро. Генерал Грант действовал стремительно и решительно, вступил в Палука, опередив генерала Конфедерации Полка и обеспечив тем самым свободу прохода федеральных войск вниз по Миссисипи для подготовки основной кампании. Грант просидел в конторе генерала Макклеллана четыре дня в надежде получить назначение, но на него не обращали внимания. А Джон тут же взял его, как он объяснил Джесси, «за свойства, которых я не встречал у кого-либо другого: генерал Грант обладает собачьим упрямством и железной волей». Она была полна решимости забыть несчастный эпизод в Вашингтоне, уверенная, что вскоре Джон получит возможность развернуть полномасштабную кампанию. Когда президент Линкольн отменил прокламацию Джона об освобождении, реакция печати и общественности была столь же очевидной, как при известии о прокламации. Приток добровольцев сократился, люди стали проявлять безразличие к войне, возмущение в таких штатах, как Индиана и Иллинойс, было настолько болезненным, что военные усилия потерпели заметный ущерб. Она обнаружила, что стало труднее добиваться прогресса в снабжении армии. Фрэнк Блэр получил полный отчет о ее встречах в Вашингтоне с Линкольном и отцом и был, как никогда, полон решимости выжить Джона с его поста. Он сплачивал недовольных в Миссури, вел кампанию против Джона в газете «Ирвинг ньюс», старался внушить жителям Запада мысль, что поскольку генерал Фремонт вскоре будет смещен, то мало смысла помогать ему в осуществлении его предложений или исполнять его приказы. Выдержка Джона начала медленно сдавать перед этой кампанией Фрэнка. — Теперь я понимаю, что имел в виду генерал Уинфилд Скотт, — прокомментировал Джон, — когда он жаловался, говоря о мексиканской войне, что «мексиканцы стреляют ему в лицо, а в спину — из Вашингтона». Джесси уже не могла хладнокровно думать о молодых членах семейства Блэр. — Разве поведение Фрэнка не есть предательство? — спрашивала она. — Если он делает все, что в его силах, чтобы помешать формированию и снабжению армии, то он фактически оказывает помощь врагу, не так ли? Если ты обнаружишь кого-либо, кто оказывает помощь врагу, то ты положишь конец его деятельности. Почему же в таком случае ты не останавливаешь Фрэнка? — Потому что не знаю, что с ним делать. Через несколько дней кампания Блэра по отстранению генерала Фремонта развернулась в открытую и выплеснулась на страницы как северных газет, так и местной западной печати. Результаты были почти катастрофическими для деятельности Джона. Муж и жена вновь совещались, сидя в пустой передней конторке, где на картах, повешенных на стене, плясал огонь керосиновых ламп, и мрачно и напряженно глядя друг на друга. Лицо Джона помрачнело, в глазах было озлобление. Он пробормотал: — Самое простое решение — пристрелить его; второе решение — бросить в тюрьму. — Ты не можешь пристрелить его, — холодно ответила она, — но, разумеется, можешь посадить его под замок. Это была бы самая большая услуга делу северян. — Его место в тюрьме, но… — Тогда посади его туда! Ты надеешься через неделю или две выступить для боя на Юге. Ты не получишь возможности снарядить армию, если он останется на свободе и будет выступать против тебя. Посади его под замок, по крайней мере до твоей победы на Юге. — Да, — ответил Джон. — Я так и сделаю. Он написал приказ об аресте Блэра, вызвал гвардию и послал отряд в его дом. В этот вечер они сидели допоздна, составляя официальное обвинение. На следующий день Джесси стало известно, что страна пришла в ужас, узнав об аресте, поскольку для Севера это означало раскол, разброд, ослабление сил Союза. От Монтгомери Блэра пришло письмо, гласившее:
«Я пришлю письмо Фрэнка. Оно вовсе не враждебное, освободите его. Это время не для междоусобной борьбы, а для борьбы против врагов страны».Возмущение северной прессы потрясло ее; она сожалела о своих действиях не потому, что Фрэнк не заслужил заточения в Джефферсоновских казармах, а потому, что Джону и без этого приходилось вести большое число войн. Она считала это своей ошибкой. Вместо того чтобы успокоить Джона в условиях бушующего кругом неистовства, она предала его, усугубила его слабость, вызвала его гнев, посоветовав поспешные действия. Дважды в течение одной недели она допустила серьезные ошибки в оценках и в такте. Вместо того чтобы оказать помощь мужу, она навредила ему: она слышала, как один разъяренный офицер выкрикнул по поводу отныне позорно известного дела Блэра: — Это творение рук генерала Джесси! Ее муж не упрекал ее по поводу фиаско в Вашингтоне; он уверял ее, что она сделала максимум возможного. Но поощрить его на арест Фрэнка Блэра — непростительная ошибка. Джесси уединилась в своей спальне, чтобы обдумать случившееся. Она тяжело опустилась на свою армейскую койку, соображая: не означают ли два отвратительных промаха, что она исчерпала свою полезность? Не будет ли для нее самым лучшим сейчас уехать и оставить Джона одного, предоставив ему возможность вести свою войну? Было бы лучше, если бы она приняла первый озлобленный вывод Фрэнка Блэра, что она вредит мужу и делает его посмешищем? Но ведь сколько мелких забот она сняла с плеч Джона за прошедшие два месяца, сколько эшелонов с необходимыми вещами достигли районов сражений, как много раненых было отправлено в организованные ею госпитали, однако могут ли все эти достижения компенсировать ее излишнее рвение? Она вышла на маленький балкон и стояла там, глядя на улицу и наблюдая за движением гвардии Загония в сторону плаца. Она не только не могла не признать, как подвела своего мужа, но и не должна была демонстрировать на публике, насколько ошибался генерал Фремонт, беря с собой на войну свою жену. Нет. Она должна стоять на своем, продолжать свою работу, выжидая случая искупить свои просчеты.
_/9/_
Первое, что сделала Джесси, — попросила Джона освободить Фрэнка, но Блэр отказался от освобождения, потребовал открытого суда и отправил в военный департамент официальные обвинения в адрес генерала Фремонта. Однако заточение Фрэнка в тюрьму начало приносить благотворные результаты. Генеральный штаб более охотно стал сотрудничать, снабжение и оснащение поступали быстрее, поднялся боевой дух войска. Ей стало легче дышать, когда полковник Джеймс А. Мюллиган, преследуемый превосходящими силами Конфедерации под командованием генерала Прайса, принял решение занять позиции у Лексингтона, спешно соорудил фортификации и направил срочную телеграмму генералу Фремонту с просьбой о подкреплении. Хотя газеты утверждали, будто у Джона сорок тысяч обученных солдат, Джесси знала, что в его распоряжении всего-навсего семь тысяч человек, включая гвардию штата, что было едва-едва достаточно для обороны Сент-Луиса. Вместе с тем она понимала, что, если полковник Мюллиган потерпит поражение, этот последний удар может стать решающим для отстранения Джона от командования. Когда она пришла в его кабинет, стремясь побудить его отправить полковнику Мюллигану всех имеющихся солдат, Джон протянул ей две телеграммы. Первая, от военного министра Камерона, гласила:«ПРЕЗИДЕНТ ПРИКАЗАЛ ОТПРАВИТЬ СЮДА БЕЗ МАЛЕЙШЕЙ ЗАДЕРЖКИ 5000 ХОРОШО ВООРУЖЕННЫХ ПЕХОТИНЦЕВ».Вторая телеграмма была от генерала Уинфилда Скотта:
«ОТПРАВЬТЕ 5000 ПЕХОТИНЦЕВ ОТ ВАШЕГО ДЕПАРТАМЕНТА БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ. ТАК ПРИКАЗЫВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ».— Не можешь ли ты уговорить их? — спросила Джесси. — Не можешь ли послать им телеграмму, что ты нуждаешься в людях для подкрепления полковника Мюллигана? Впервые за много лет она увидела в его глазах слезы. — Нет, — сказал он, — это было бы нарушением субординации, в которой меня уже несправедливо обвиняли. Столица снова в опасности и должна быть спасена, даже если Миссури падет и я принесу себя в жертву. Через три дня полковник Мюллиган потерпел сокрушительное поражение, самое крупное, какое знало Западное командование. В плен попали три тысячи пятьсот человек, южане захватили большое количество боеприпасов и склады. Север был в трауре, поскольку Миссури считался лояльным штатом под контролем генерала Фремонта, и все-таки Север и здесь потерпел неудачу. Джесси была вынуждена доложить мужу, что главным мотивом жалоб в северной прессе было утверждение, будто генерал Фремонт неизменно проигрывает сражения и все еще должен одержать свою первую крупную военную победу. Многие газеты призывали найти нового генерала, способного добиваться успехов. — Это значит, что ты должен ускорить осуществление своих планов, Джон, — сказала она. — Ты должен нанести удар до завершения приготовлений. Никто никогда не достигнет совершенства в этой войне: сражения будут вестись без достаточного количества людей, ружей, амуниции. Их нужно выигрывать такими качествами, как отвага и смелость. — …Которые имеются в равной мере и у южан. Я надеялся подождать, пока у нас будет превосходящее количество ружей, поскольку Север явно обладает большими промышленными ресурсами. Но если Север изголодался по победам, нуждается в них ради подъема морального духа, тогда я должен добиться победы любой ценой. Через несколько дней он выступил во главе своих войск. Джесси осталась на месте в качестве офицера связи по снабжению. Посыльные доставляли нескончаемый поток обращений, оповещая, в чем нуждается Джон:
«Скажи санитарной комиссии, что весь хирургический департамент здесь в очень плохом состоянии, и это меня весьма тревожит… Наши трудности вызываются нехваткой транспортных средств; попроси капитана Маккивера сделать все, что в силах человека, чтобы достать фургоны, мулов, упряжь и возчиков… Нам нужны сабли и ружья; высылай их, как только сможешь… Поторопи отправку батареи Констейбла, если есть возможность заполучить ее, и тысячи переделанных австрийских мушкетов, которые весьма подойдут, если мы получим их незамедлительно… Нам требуются все имеющиеся револьверы… Поторопи гвардейцев и обеспечь реквизицию одежды для них… Пусть капитан Маккивер пошлет ко мне полк Фитца Уоррена полностью, если возможно… Немедленно отправьте полк полковника Крафтс-Райта…»В Сент-Луисе остались всего несколько офицеров, в основном больные. Джесси не имела полномочий подписывать приказы о реквизиции товаров; половину своего времени она тратила на то, чтобы найти оружие и снаряжение, вторая половина уходила на поиск офицеров для подписания приказов о реквизиции, дабы придать им законность. Она работала с нагрузкой, превышающей ее силы и способности; она понимала, какое давление оказывается на Джона и как опасно его положение. Она не упускала ни малейшей возможности, чтобы послать ему слово поощрения: писала, как предано ему население Сент-Луиса, как оно уверено в его победе, с каким уважением к нему относится Горас Грили, выраженным на страницах нью-йоркской «Трибюн», что сказал в палате некий конгрессмен об энергии и решимости генерала Фремонта. Она писала свои письма в радостном, уверенном, любящем тоне и всегда получала в ответ: «Я читал твою записку и проникался ее добрым, ярким оптимизмом». 29 сентября она получила телеграмму, сообщающую ей, что, поскольку он задержится на несколько дней в Джефферсон-Сити, ей следует немедленно выехать в этот лагерь. Она понимала, что в Джефферсон-Сити нет какой-то особой работы для нее, он просто хотел перед сражением увидеть ее еще раз — телеграмма была жестом любви и привязанности. Джон встретил ее на железнодорожной станции. Пять дней она наблюдала за тем, как он приводит армию в полную боевую готовность. Не хватало еще многого: некоторые офицеры не привели свои отряды из других частей Миссури; невозможно было обеспечивать приток в лагерь фургонов со снабжением. И тем не менее она видела, что все эти трудности не остановили Джона и его людей: они жили в открытом поле в добром здравии, добрые духом, жаждали битвы, которая покажет армию Запада как одну из великих боевых сил нации. За день до выхода из лагеря на Юг для преследования сил генерала Конфедерации Прайса прибыл без предупреждения военный министр Камерон. С давних пор он был поклонником четы Фремонт, вел в пользу Джона избирательную кампанию 1856 года и поддержал прокламацию об освобождении до того, как Линкольн настроил администрацию против нее. Саймон Камерон был высоким, худощавым, с приветливыми серыми глазами, высокимлбом, роскошной шевелюрой. Как всегда, он был по-юношески порывист. В молодости он был редактором газеты, соединял журналистскую работу с политикой, обрел состояние на государственном печатном деле, затем занялся строительством железных дорог и банковским бизнесом. Добившись огромного успеха в роли бизнесмена и политического руководителя в Пенсильвании, он пытался в 1860 году стать кандидатом в президенты от республиканцев, но затем снял свою кандидатуру в пользу Авраама Линкольна, после того как сторонники Линкольна обещали ему пост военного министра. Он раздавал военные контракты только своим друзьям и закрывал глаза на обман ими армии Союза, что вызвало лавину критики, и Линкольн уже подумывал направить его в Европу и таким образом избавиться от него. Камерон сказал откровенно, в духе своей непосредственности: — Генерал, я позволил себе осмотреть ваш лагерь. Нашел сумятицу: организация рот неважная, солдаты нуждаются в одежде… — Нам нужно многое, министр Камерон, — ответил Джон. — Два месяца мы настойчиво просим Вашингтон помочь нам, но до сих пор не получили ничего. Возможно, униформы не блещут, но сердца и руки солдат к бою готовы. — Пожалуйста, поймите меня, генерал! — воскликнул Камерон. — Не я решил провести обследование. Президент Линкольн приказал мне провести обследование, генерал. — Беседовали ли вы с Блэром в Сент-Луисе? — Да, миссис Фремонт, я выслушал Фрэнка Блэра о положении дел в округе. Наступило неловкое молчание; Джесси пришлось прикусить язык, чтобы удержаться от ответа; но за прошедшие месяцы она получила горький урок и поэтому промолчала, ожидая, что заговорит Джон. Молчание прервал министр Камерон. — В моем кармане приказ об отзыве, подписанный президентом Линкольном. Он просил меня принять решение на месте: если я найду, что вы не готовы начать долгожданную кампанию, то должен буду освободить вас от командования. Джесси восхитили вежливые манеры Джона. — Министр Камерон, — сказал он, — не будем терять время на обсуждение Фрэнка Блэра и его обвинений, высказанных в мой адрес в Сент-Луисе. Могу ли я показать вам наши планы наступления? Мы готовы нанести удар. Через тридцать — шестьдесят дней мы прогоним конфедератов из Миссури, и наша флотилия канонерок очистит Миссисипи на всем протяжении до Нового Орлеана. Джон принялся в деталях объяснять свой план кампании. Джесси следила за министром Камероном; с облегчением она увидела, как сходило с его лица мрачное выражение и появлялся интерес к быстрым маневрам, которые Джон объяснял на картах. Солнце опустилось за холмами на западе, и в палатку вползли длинные тени. Вошел офицер, отдал честь и сказал: — Войска построены для вечерней службы, сэр. Джон поднял голову от карты: — Мистер секретарь, не окажете ли нам честь своим присутствием на службе? Министр Камерон кивнул, взял Джесси под руку и вышел из палатки на плац. Гвардия Загония в темно-синей форме стояла перед знаменосцем по команде «смирно», а войска плотным каре окружали плац. Оркестр заиграл гимн «Старая сотня», и несколько тысяч молодых солдат пропели слова простой молитвы. Перед глазами Джесси предстала красивая и волнующая картина: солдаты стояли с обнаженными головами на фоне заходящего солнца, а капеллан благословлял их. Потом она услышала дробь барабанов, отправлявшую роты в свои лагеря; сумерки опустились на плац, и на склонах холмов запылали костры, послышалось пение солдат. Джесси, Джон и министр Камерон стояли молча на опустевшем плацу, Джон наконец произнес: — Вы видели армию Запада; вы могли заметить, что в их сердцах нет смятения. Они готовы и жаждут сражаться за Союз. Министр Камерон повернулся к Джесси: — Признаюсь, миссис Фремонт была права в своих выводах. После встречи с Фрэнком Блэром в Сент-Луисе я решил дать ход приказу президента о снятии Джона с поста. Но теперь мое мнение изменилось: я видел ваши планы, меня поразила ваша энергия; поскольку мне приходилось видеть объединенные группы людей, рвущихся в бой, то армия, получившая сегодня благословение к бою, готова. Я не дам хода приказу об отзыве до моего возвращения в Вашингтон; это даст мне шанс, генерал, осуществить вашу надежду разбить врага. — Каким временем я располагаю? — Сколько мне удастся выкроить. Наносите быстрый и сильный удар. Ничто не должно вас остановить. Мы изголодались по победе, моральное состояние Севера пошатнулось. Число желающих вступить в армию сокращается, администрация теряет доверие и поддержку народа, Англия и Европа ожидают нашего поражения и собираются поддержать Конфедерацию. Если вы принесете нам победу сейчас, любой ценой, вы спасете дело Союза. Глаза Джона вспыхнули, он сказал: — У вас будет победа. — Поверьте мне, генерал Фремонт, сам бы я не ставил вам ограничений в сроках, но ваши враги в Вашингтоне осаждают мистера Линкольна, не дают ему покоя, стремясь вынудить его… Я смогу сдерживать их лишь несколько недель. Если вы не успеете к этому времени, то, поймите, вам придется уступить место другому офицеру. — Если мне не удастся, — мрачно ответил Джон, — я немедленно подам в отставку. На следующее утро Джесси возвратилась в генеральную штаб-квартиру в Сент-Луисе. По картам в последующие дни она следила за тем, как, преследуя врага, ее муж углубляется на Юг: Типто, Варшава, Озейдж-Ривер. Отступая, генерал Прайс оставлял выжженную землю. Джон сообщил ей шифром, что враг не сможет отступить далее Спрингфилда; он был уверен, что сможет перехватить его там и разбить. Затем 26 октября пришло известие, поразившее ее и всю нацию: гвардия Загония численностью всего сто пятьдесят человек атаковала и разбила в Спрингфилде гарнизон генерала Прайса в две тысячи человек. Эта героическая атака опрокинула продолжавшиеся месяцы обвинения против Джона и гвардии Загония: они, дескать, принаряженные автократы, годные лишь на то, чтобы служить почетной охраной генерала. Это было первое хорошее известие, попавшее за многие недели в руки Джесси, и она благословила упорных, отважных солдат, добившихся победы. На следующий день, хотя пресса продолжала петь хвалу действиям гвардии, ей доставили из Вашингтона секретное послание. Время Джона истекло: президент Линкольн отозвал его. В Сент-Луис уже послан с курьером официальный приказ генералу Хантеру. Генерал Хантер должен заменить генерала Фремонта, взять на себя командование его армией. После всех трудов Джона и его планов накануне главного наступления его сняли с командования, подтверждая тем самым, что обвинения в его адрес справедливы. Джесси выпрямилась в своем кресле: генерал Хантер здесь, в Сент-Луисе. Курьеру президента Линкольна потребуется два дня, чтобы добраться до Сент-Луиса поездом. Полученное ею по телеграфу сообщение дало ей лишний день. А что, если она обгонит генерала Хантера на пути к лагерю, привезет Джону сообщение, которое побудит его к наступлению и обеспечит такую решающую победу, что не будет дан ход приказу об отзыве? Она ждала подобную возможность, шанс оказать Джону услугу такого значения, что она компенсирует ее неудачи с Авраамом Линкольном и Фрэнком Блэром.
_/10/_
Джесси подошла к висевшей на стене карте Миссури. Джон стоит лагерем к югу от Спрингфилда, следовательно, на расстоянии двухсот пятидесяти миль отсюда. Через два часа отходит поезд в Ролла. Ролла расположена на полпути к Спрингфилду; там она сможет нанять скорый экипаж, а если не удастся, то верховую лошадь. Это позволит ей опередить генерала Хантера на несколько часов. Она быстро сложила необходимые предметы туалета в небольшую ручную сумку и к четырем часам была в поезде, отошедшем от станции Юнион. Вагоны были забиты солдатами, полотно дороги было плохим, и через каждые несколько миль поезд останавливался по непонятным для пассажиров причинам. Она ехала всю ночь в темном, холодном вагоне, раздражаясь по поводу того, что поезд то и дело останавливается среди темных прерий. Она сидела, закрыв глаза, а ее мысли вращались с бешеной скоростью. Вспоминая сделанное ими с первого дня прибытия в Сент-Луис, она думала о том, что они могли бы сделать в будущем в случае успешного прорыва Джона на Юг. Она вновь пережила муки, подобные тем, какие претерпела, когда ожидала возвращения брата Де Розье с пристани с сообщением от Джона, что он вышел в поход со второй экспедицией, прежде чем к нему поступил приказ полковника Аберта об отзыве. Тогда ей было девятнадцать лет, теперь — тридцать восемь; тогда она противостояла полковнику Стефану Уоттсу Кирни; сегодня она противостоит Аврааму Линкольну. Она понимала, что ее встреча с президентом серьезно навредила ей, что ближайшие друзья Линкольна публично называют ее мегерой, настырной, считают ее опасной женщиной из-за ее фанатичной преданности мужу. А разве есть другой вид преданности? Если бы она не была страстно настроена в пользу мужа, то какой женой она была бы, какой была бы их супружеская жизнь? Если жена не хочет пуститься ночью в путь ради спасения мужа, даже зная, какие могут последовать за этим осложнения, то является ли она верной женой? В шесть часов утра она выпила чашку кофе и съела булочку на станции Ролла, затем нашла платную конюшню, арендовала экипаж и пару лошадей. Кучер был в летах и не привык спешить, но что-то в ее поведении убедило его, что она торопится. В долгие утренние часы она тряслась по дорогам для дилижансов. В полдень они сменили лошадей на постоялом дворе, где она смогла купить теплую еду; через час они снова были в пути. Кучер знал дорогу, но в сумерках недалеко от Лебанона одно колесо попало в глубокую канаву, сломалось, и экипаж свалился набок. Джесси выбралась без царапин, но не смогла убедить кучера достать новый экипаж или починить колесо. Оставив свой чемодан, она быстро прошла семь миль до Лебанона. Джесси не спала почти двое суток, ее протрясло дорогой, к тому же она упала из коляски на землю и почти лишилась сил, но душевная воля влекла ее вперед. Она надеялась найти в Лебаноне новую карету. Уже стемнело, когда она добралась до городской площади. Дома в городе закрывались на ночь. Джесси поняла, что почти невозможно в такой час найти верховую лошадь; одновременно она почувствовала, что окончательно вымоталась и не сможет проехать без отдыха остающиеся пятьдесят миль до лагеря Джона. В одном углу площади стояли и беседовали три человека; она подошла к ним и спросила, как пройти к постоялому двору. Пожилой мужчина внимательно оглядел ее, затем предложил следовать за ним. Он сопроводил ее вверх по холму к большому дому, открыл дверь и пригласил войти. Его жена и дочь провели ее в большую семейную комнату; по их лицам, скрипкам и гитарам, по большой стопке музыкальных книг, по гладко причесанным светлым волосам Джесси поняла, что это кусочек Германии, перенесенный на почву Миссури. Она объяснила, что ей нужна комната, чтобы отдохнуть несколько часов, и какой-нибудь транспорт, чтобы добраться до Спрингфилда. Хозяйка дома показала небольшую комнату-спальню. Джесси спала, пока не услышала шум поднимающейся по холму повозки. Она быстро оделась, узнала, что пробило уже четыре часа утра и что ее хозяйка смогла нанять лишь тягловую лошадь и деревенскую повозку. Младший сын хозяев вызвался быть кучером, но повозка двигалась так медленно, что при первой же возможности она наняла верховую лошадь у придорожного фермера. Джесси добралась до лагеря Джона ночью. Часовой быстро отвел ее в палатку генерала, перед которой горел костер. Открыв полог и войдя внутрь, она увидела Джона, склонившегося над картами, разложенными на длинном дощатом столе. Он выпрямился и встревоженно засыпал ее вопросами: почему она приехала, как добралась, что случилось? К ней вернулся дар речи лишь после того, как она вымыла холодной водой лицо и руки и отдышалась. — Джон, — сказала она, — президент Линкольн отзывает тебя. Генерал Хантер едет сюда, чтобы взять на себя командование. На его лице появилась маска вежливой отчужденности, когда он задал вопрос: — Скоро ли приедет генерал Хантер? — Не знаю. Я всю дорогу опасалась, что опоздаю, что он появится здесь до меня. — Мы атакуем на заре, — быстро сказал он. — Все планы готовы. Мятежники решили расположиться у Уилсон-Крик. Через несколько часов наступит кульминация нашей работы на протяжении месяца… и отмщение за смерть Натаниэля Лайона. — Генерал Хантер, может быть, находится на расстоянии часа-двух пути. — Я усилю охрану. Он вызвал офицера, отдал приказ, чтобы через линии не пропускали никого ни под каким предлогом. После ухода офицера Джон сказал: — Подойди сюда и сядь со мной за стол. Она молча сидела, пока он излагал, показывая пальцами на карте, свой замысел, с помощью которого намерен разбить армию генерала Прайса и оттеснить ее. Она слышала не многое из сказанного им. Она знала, что он поведет свои войска в бой, что случившееся с Натаниэлем Лайоном у Уилсон-Крик может случиться и с Джоном Фремонтом, что многие солдаты могут погибнуть. Он может оказаться одним из них. Через некоторое время Джон понял, что она не слушает. Он увидел выражение тревоги в ее глазах, затем отодвинул в сторону свои бумаги и карты, взял ее руки в свои: — Ты не считаешь меня соломенным генералом? — Я просто думаю: несколько дней назад исполнилась двадцатая годовщина нашей свадьбы. Ты был в лагере около Озейдж-Ривера. Ни ты, ни я не подумали об этом. Мы были слишком заняты и обеспокоены. Итак, дорогой, это некое подобие нашего праздника. Джон приложил ее ладонь к своей щеке, сказав при этом: — Мы отметим завтра, когда закончится сражение и мы добьемся победы. Ты мне принесла настоящий подарок к годовщине, Джесси: шанс сделать добро, прежде чем станет поздно. Ты всегда давала мне шанс сделать добро, и всегда в самые критические моменты вроде нынешнего. Они сидели в прохладной тишине палатки у грубого стола. Память возвращала их к прошедшим двадцати годам, каждый понимал, что это свидание может оказаться последним. В палатке витали невысказанные мысли, воспоминания о счастливых годах, об испытаниях и трудностях, через которые они прошли. Медленно, почти с трудом Джесси сказала: — Легко говорить о любви в обычные времена, зная, что кризис далеко. Но сейчас, когда твоя жизнь в опасности и мы стоим перед возможной разлукой, я полна благодарности за наши двадцать лет товарищества, мне почти нечего сказать тебе, кроме того, что я говорила тебе много раз до этого: я люблю тебя, любила тебя с того момента, когда ты вышел из-за отцовского кресла в Академии мисс Инглиш и взял меня за руку, ты для меня — вся жизнь, и ты сделал мою жизнь красивой и счастливой. Он стоял неподвижно и смотрел на нее. — В тот дождливый полдень, когда мы сидели за чайным столиком у пылающего камина, я обещал тебе, что буду всегда любить тебя. Именно эта любовь поддерживала мои стремления отвечать твоим надеждам. Я не знаю, что произойдет завтра, Джесси, на войне не бывает уверенности. Может произойти что-то непредвиденное, что помешает нашей действительной победе. Но на заре я отправлюсь на поле боя с надеждой, что должен выиграть… Раздался сильный стук по наружному столбу, поддерживавшему палатку. Курьер отогнул полог и вошел, на его лице были полосы там, где пот смыл дорожную пыль. Он отдал честь и спросил: — Генерал Фремонт? Затем оторвал подкладку сюртука, извлек вшитый под нее пакет и протянул его Джону. Джон бросил бумагу на стол и вскрикнул: — Сэр, как вы прошли через мои линии? — Мне было приказано генералом Хантером передать вам это послание, сэр. Он вновь отдал честь и исчез._/11/_
Джесси тревожно всматривалась в лицо мужа в то время, как он посмотрел вначале на адрес, а затем на подпись внизу страницы. После этого он протянул ей депешу. Она прочитала приказ, подписанный президентом Линкольном, освобождающий генерала Фремонта от командования. Они просидели некоторое время в горьком молчании, а затем Джон сказал: — На заре атака не состоится. Все запланированное должно быть отброшено. Сколько сейчас времени? — Почти полночь. — Разве ты не командуешь здесь до прибытия генерала Хантера? — Технически, да. Командую. — В таком случае, если генерал Хантер не приедет к заре, разве ты обязан отменить свои приказы армии? Все готово для великой победы. Армия Запада имеет право доказать, что она может сражаться и сыграть свою роль в войне. Ты, Джон, также имеешь это право. Если бы этого посыльного не пропустили до утра через линии… Казавшийся ниже ростом и приунывший, он мог лишь сказать: — Ты права, Джесси, атака должна состояться. Этот приказ будет стоить Северу потери важной победы. Завтра исполнится сто дней, как мы приехали в Сент-Луис; все, что мы делали с тех пор, каждый наш шаг был направлен к нынешнему моменту. Будет печально для дела Севера отбросить такую возможность… — Тогда ты атакуешь? — Нет, я не могу. Любой другой офицер мог бы, должен был бы. С моим прошлым я не могу. — Но почему, Джон? — Я не могу совершить мятеж. Бег ее мыслей оборвался; вот здесь скрывается враг, их неизменный спутник, одно слово во всем мире, которое парализует их рассудок и отвагу, — символ их несчастья. Она быстро подошла к мужу. Они не должны спасовать перед мучительными тенями прошлого. Она осознавала огорчение, приуготовленное для него, если его сместят сейчас, в тот самый момент кульминации; если она сможет убедить его взять решительный, смелый курс, то ее миссия будет выполнена. После великой победы Джона она с достоинством сойдет со сцены, вернется на Север к своим делам, ибо ее миссия завершится. Джон пойдет вперед, к более крупным победам. Она твердо посмотрела в лицо мужа: — Это ты и сказал мне, когда я просила тебя послать войска на подкрепление полковника Мюллигана, вместо того чтобы направить пять тысяч человек в Вашингтон и дать возможность генералу Макклеллану проводить парады на Пенсильвания-авеню. Все достигнутое тобою, Джон, пришло благодаря самостоятельным действиям, а не слепому повиновению. Мы боимся слова, а не действия, ибо это проклятое слово «мятеж» преследует наши мечты. Когда тебе потребовались деньги, чтобы дать солдатам, которые были готовы уйти к концу девяностодневного срока службы, ты забрал необходимые деньги у квартирмейстера. Это было незаконно, но даже президент одобрил твой шаг. Быть может, незаконно начинать сражение на рассвете, но победоносное завершение никогда не будет сочтено мятежным. Он в отчаянии покачал головой: — Ох, Джесси, у армии цепкая память: если я начну атаку утром, а врага не окажется на месте и он уклонится от боя или же будет стоять на месте и примет бой, а мы не добьемся выдающейся победы, поднимутся страшные крики и вопли. Снова закричат о «Фремонте-мятежнике», о человеке, отказывающемся считаться с властью, подрывающем армейскую дисциплину, бросающем в бой солдат не ради Союза, а с целью спасти свое командование и свое назначение. — Министр Камерон говорил тебе, как крайне нужна победа, он приказал тебе добиться ее любой ценой… — Мистер Линкольн — главнокомандующий. Его приказ об отзыве перекрывает указания Камерона. — Джон, ты когда-либо жалел, что я перечеркнула приказ полковника Аберта и послала тебе весточку, отправившую тебя во вторую экспедицию? — Нет, Джесси, результат оправдал этот шаг. — Тогда почему эти же соображения не сохраняют свою силу и сейчас? Ты подошел к критическому моменту, критическому часу, ради которого работал сто дней. Решающая победа рядом. Сможет ли генерал Хантер осуществить твои планы? — Он захочет разработать собственные планы и собственную кампанию. Наш поход будет перечеркнут. — Победа не может быть незаконной, незаконно лишь поражение. Разве осуществленные тобою приготовления не обязывают тебя начать сражение утром? Ты никогда не отказывался от последствий смелого, независимого шага. Что это — страх перед еще одним полевым судом? Мы выдержали один такой суд, выдюжим и другой. Он присел в конце длинного дощатого стола, закрыл лицо руками. — Я не могу сделать этого, Джесси, — прошептал он. — Твой отец однажды заметил, что небольшой мятеж — порой гений демократии. Я уже пользовался таким гением. В этом отношении был прав генерал Кирни. Упорный мятеж более опасен, чем любые благоприятные результаты, принесенные им. Я не могу превратить себя в закоренелого мятежника. Джесси не имела права давить на него дальше. Сама она не боялась последствий: какое название ни дали бы потом, она атаковала бы на рассвете. Она видела, как необученные рекруты превращались в прекрасно организованных боевых солдат, знала, ценой каких усилий Джон собрал достаточно ружей и артиллерии, чтобы сделать возможным это наступление. Подобно Наполеону, они потратили сто дней для большой кампании. Но теперь все осталось позади, их усилия были напрасны, для них не найдется больше места в борьбе за дело свободы, к которой они так долго готовились и принесли так много жертв. Джесси понимала, что если утренняя атака провалится, Джон и Джесси Фремонт станут «закоренелым бунтарем и женским политиком». Она удивлялась, почему ей, однажды поверившей генералу Кирни, что нельзя восставать против собственного правительства, вновь хочется встать на этот тернистый путь. Издали послышались голоса; они становились все громче и, казалось, приближались с разных сторон. Джесси и Джон вышли из палатки, желая узнать причину шума. Сообщение о смещении Джона стало известно в офицерской столовой, и офицеры пришли, чтобы удостовериться. Они стояли полукругом перед палаткой в шесть рядов. Послышалась вторая волна звуков возбужденных голосов, топот ног, и на плацу показались бегущие солдаты, и в слабом свете луны Джесси почудилось, что тысячи заполнили плац и последние ряды скрывались в темноте. Один из офицеров громко спросил: — Верно ли, генерал Фремонт, что вас сняли с поста? — Да, — ответил спокойно он, — это верно. — Через минуту он продолжил: — Мы выросли вместе как армия. Мне знаком отважный, самоотверженный дух, который привел вас к делу защиты страны. Продолжайте, как начали, и окажите моему преемнику такой же сердечный и полный энтузиазма прием, какой вы оказывали мне. Солдаты, сожалею, что покидаю вас. Резкие крики протеста раздались в передних рядах офицеров. Джесси слышала слившуюся волну протеста солдат, выкрикивавших различные слова, означавшие одно и то же. Она слышала, как офицеры угрожали подать в отставку, солдаты требовали, чтобы Джон продолжал командовать, клялись, что не станут сражаться под чьим бы то ни было иным началом, что бросят ружья, что имеют право сражаться, как давно уже планировали и как им было обещано. Постепенно солдаты успокоились. Все смотрели на Джона, ожидая его ответа. Он сказал, что никто не может опротестовать действия президента и первая обязанность солдата — исполнять приказы, что он больше не командует ими, что они сражаются не ради какого-то офицера, а за великое дело Союза. Джон просил солдат вернуться на свои места. Никто не сдвинулся с места; они ждали иного ответа, а этот их не удовлетворял. Он повернулся и посмотрел на жену. Молчание не могло скрыть напряжения. Она видела, что внутри него идет трудная борьба. Она молчала. Теперь дело за Джоном, стоящим перед армией, созданной им самим, ему принимать окончательное решение. Он повернулся лицом к офицерам и солдатам: — Готовьтесь к наступлению! Раздался стихийный радостный крик; офицеры и солдаты немедленно разошлись с криками и песнями, полные энтузиазма. Джесси вошла в палатку и села за длинный дощатый стол. Через несколько минут появился Джон и сел на скамью рядом с ней. Они сидели плечом к плечу, два товарища ста дней. Они были втянуты в водоворот суматохи и хаоса, работали как одержимые, отдали лучшие порывы своих сердец и ума делу, которое любили так много лет. Конечно, Джон и Джесси допускали ошибки: они пытались вести войну, может быть, не такую уж дешевую в долларах, но с наименьшими людскими потерями. Их обманывали, обводили вокруг пальца, грабили — но всегда северяне, обогащавшиеся на военных контрактах. Вместе с дерзостью Джона в области военной стратегии чета Фремонт пыталась применить такой же фактор в сфере политических маневров, но президент Линкольн не хотел освобождать рабов, и, таким образом, их самостоятельное действие было истолковано как поспешность, неуправляемое стремление превысить свои полномочия. Они продолжали думать, что были правы в вопросе об освобождении негров, что ради этого ведется война и рабы будут освобождены до ее завершения, и их утешало то, что половина северян поддерживала их в таких убеждениях. Но вот всего через сто дней их отвергли, от них отказались. Еще два или три часа, и они нанесут удар, не имея законного права на него, но в силу своего характера и сущности самого дела, как это было во время второй экспедиции и завоевания Калифорнии. И вновь тишина вокруг них и их решимость были нарушены: вдали застучали подковы лошадей, их шум приближался с каждой минутой. Джесси и Джон сидели со сжатыми руками, глядя в темноте друг на друга; лошади подскакали к самой палатке. Всадники быстро спрыгнули с коней. Сапоги застучали по небольшому деревянному настилу перед палаткой. Джесси и Джон поднялись, когда в палатку вошел генерал Хантер, высказавший комплименты генералу Фремонту и принявший командование армией Запада. Их поезд должен был прибыть в Сент-Луис в девять часов утра, но добрался до города лишь в девять вечера. Когда они подъехали к дому Бранта, то обнаружили, что улица и все свободные участки вокруг дома запружены женщинами и детьми, молодыми парнями и стариками, собравшимися с раннего утра. Выходя из кареты, они услышали крики и приветствия. Толпа расступилась, открыв им проход, и Джесси увидела, что над входом висят гирлянды, а ступени лестницы засыпаны цветами. Жены и дети их солдат в Спрингфилде заговаривали с ними, старались подбодрить, выражали свое уважение и любовь. Одна пожилая женщина решительно сказала, обращаясь к ним: — Не обращайте внимания, генерал Фремонт и Джесси, мы с вами в час опалы. Джон встал в проеме двери лицом к толпе, пытаясь сказать слова благодарности. Джесси не хотела, чтобы эти добрые люди видели ее слезы; она вошла в дом и сразу же поднялась в свою крошечную спальню, где с балкона можно было наблюдать, что происходит внизу. Джесси увидела, как расступилась толпа на боковой улице и проехала группа всадников с факелами. Это были гвардейцы Загония, многие из них с повязками, в мундирах со следами пуль. Они остановились перед домом Бранта, повернулись лицом к нему, обнажили сабли и отдали последний салют своему командующему. Это было так трогательно, что по щекам Джесси побежали слезы: эти офицеры гвардии Загония были уволены со службы вместе с Джоном, их назначения аннулированы; раненые и погибшие были отвергнуты, те, кто так отважно сражался у Спрингфилда, погибли напрасно. На нее обрушилось чувство, схожее с тем, какое испытала она в индейской резервации Делавэра. Она села на край своей железной кровати и закрыла лицо ладонями. Джесси понимала, что едва начавшаяся война для них кончилась. Им остаются расследования и суды, обвинения и претензии, горечь поражения и отчаяния. Однако с неожиданно промелькнувшей ясностью она увидела, что все это верно для каждого, вовлеченного в эту страшную войну. Лишь немногие добьются чего-то большего, чем поражение, отчаяние и смерть. Она услышала последний взрыв приветствий толпы внизу; слышала, как развернулись лошади и зацокали по булыжной мостовой; как расходился народ и наступала ночная тишина, слышала, как устало муж поднимался по лестнице. Что им делать теперь? Куда повернуться? Как они встретят грядущее? Она встала, молча переживая щемящую боль в сердце, ей было трудно дышать. Вспомнила то, что было двадцать лет назад: она была беременна своим первым ребенком, и в это самое утро Джон уезжал в свою первую большую экспедицию на Запад. Ей пришлось провести без него шесть месяцев. Она пришла в ранние часы в библиотеку отца помочь ему в работе. Они сделали то, что намечали, и отец уехал в сенат. Как и сейчас, сумеречный свет раннего утра навеял ей гнетущее чувство одиночества. Потом она заметила, что отец оставил на ее столе записку с цитатой из Марка Аврелия: «Не тревожься о будущем, ибо когда подойдешь к нему, то появятся те же ведущие тебя мотивы, которые оберегают тебя в настоящее время». Она услышала, как Джон поднимается по последним ступеням. Она отвернулась от окна и с легкой улыбкой быстро прошла к двери, чтобы открыть ее мужу.Книга седьмая И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ БУДЕТ ПРАЗДНИК
_/1/_
Когда становилось невмоготу переносить муки войны, когда вокруг нее витала смерть бывших боевых товарищей, сыновей близких знакомых и казалось, что нация уничтожит себя, она пыталась укрыться в маленьком коттедже в Блэк-Пойнте, простом и чистом, где ветер и дождь Запада освежали и оживляли все окружающее. У нее были три союзника-энтузиаста — Лили, Чарли и Фрэнк, которых еще сильнее, чем ее, тянуло в Сан-Франциско. Тем не менее она понимала, что они не могут отправиться домой: им придется оправдываться перед комитетом конгресса; после оправдания Джон может быть назначен на новый военный или гражданский пост, который позволит ему приложить свои таланты и опыт в интересах прекращения военных действий. Джесси попыталась арендовать меблированный дом в Нью-Йорке, но в город, загруженный военными заказами, приехали тысячи людей с Севера. Она не нашла подходящего жилья и, чтобы вызволить членов семьи из отелей и собрать их под родной крышей, купила меблированный дом на Девятнадцатой-стрит. Джон перенес свои документы в небольшой кабинет на нижнем этаже, где проводил дни, готовясь к своей защите в комитете конгресса. В утренние часы Джесси помогала ему, подбирая необходимые документы и составляя соответствующие резюме. Они работали упорно и последовательно, редко касаясь в своих беседах других вопросов. Но Джона часто вызывали в Вашингтон, запрашивая у него дополнительную информацию, и в результате у Джесси появилась возможность посвятить часть времени выполнению задачи, которая волновала ее больше всего. Больные и раненые солдаты армий Союза съезжались в большие города в надежде на хороший уход. Санитарная комиссия делала все, что могла, но как в тот первый день в Джефферсоновских казармах, где она увидела смертельно больных солдат с кружками кофе и ломтями соленой свинины, положенными на их грудь, так и теперь не хватало госпиталей и коек, нужного числа врачей, медицинских сестер, лекарств и санитарных средств. У правительства находились деньги на оружие, которое калечило людей, но редко отыскивались средства на лекарства, чтобы поставить их на ноги. Устроив семью в доме на Девятнадцатой-стрит и зачислив детей в школы, Джесси всю вторую половину дня занималась сбором средств. К старым друзьям она подходила с лаской; от других старалась получить деньги иным, доступным ей путем: убеждая, льстя, пристыжая, как это делала она в Сент-Луисе, или же убеждая не видевших войны и никогда не закрывавших глаза умершему солдату и не понимавших величие его долга и ценность вклада помогающих раненым. Помимо сбора средств она выступила инициатором движения по снабжению госпиталей книгами и журналами, призывала женщин ежедневно навещать больных и писать письма под диктовку раненых; украшать палаты, принося выращенные дома цветы. День, принесший миг счастья потерпевшему бедствие и приблизивший его хотя бы на один шаг к исцелению, она считала прекрасно проведенным днем. Почти из каждого штата Севера и Запада поступали письма от матерей, благодаривших ее за внимание к умиравшим сыновьям; от жен и сестер, чей муж или брат вернулся домой благодаря ее усилиям, обеспечившим хороший медицинский уход; от мужчин, вернувшихся в строй и не забывших бесед с ней, ее содействия в отыскании специалиста, сумевшего вылечить руку или глаз. Она приняла близко к сердцу отчаянное положение раненых офицеров бывшей гвардии Загония, обнищавших, лишенных права на лечение за счет правительства. Условия, в которых жили их семьи, были просто невыносимыми. По мнению Джесси, они заслужили не только право на госпитализацию и финансовую помощь для лечения, но и глубокое уважение за отважные действия в ходе войны. Однажды ее осенило, как можно добиться признания их заслуг: она поехала в Бостон, встретилась с руководством издательства «Тикнор энд Филдс» и сказала, что готова написать книгу «История гвардии». Хозяин фирмы Тикнор выдал ей аванс в шестьсот долларов, которые она тут же отдала на оплату ухода за пострадавшими офицерами. Выбрав столовую своего дома как рабочее место, она отнесла туда сообщения о гвардии, когда та находилась на пути в Спрингфилд, и записи Джона о ее формировании. Джесси работала одиннадцать дней с семи часов утра до обеда, когда нужно было освободить стол. Издательство «Тикнор энд Филдс» без промедления отпечатало «Историю гвардии». Книга молниеносно разошлась среди читателей на Севере, жаждавших рассказов о героизме и победе. Джесси получила за книгу несколько тысяч долларов и отдала их в фонд помощи офицерам Загония. Не вызывавшая споров благотворительная деятельность оказалась полезной и для нее самой. Ведь на политическом фронте она не имела благоприятных возможностей. Ее репутация была подорвана и находилась на низком уровне, была несравнимой с той, в 1856 году, когда почти половина нации восхваляла «Фремонта и Джесси». По стране ползли слухи о ее беседе с президентом Линкольном в невыгодном для Джесси свете. Люди судачили о том, что она предстала перед президентом грязная и неопрятная и будто бы Линкольн потом рассказывал: «Она набросилась на меня так яростно, что я был вынужден приложить весь такт, чтобы избежать ссоры». Утверждали также, будто она воинственно заявила Фрэнку Блэру, что имеет такое же право принимать участие в войне, как любой мужчина. Армия осуждала ее за «узурпацию» поста начальника штаба. Все подобные слухи передавались из уст в уста, обрастая новыми подробностями: искаженными и даже сознательно извращенными; ее иногда шокировало до глубины души стремление недругов представить ее честолюбивой, настырной, властной, тщеславной и не осознающей своего места женщиной. Для нее теперь было куда приятнее войти в палату больницы с подарками для страдающих парней, чем оказаться втянутой в тяжбу между военной и политической властями. Весной Джесси и Джон отправились в Вашингтон, где должны были присутствовать на официальных слушаниях в совместной комиссии верхней и нижней палат конгресса. Вновь, как в военно-полевом суде десять лет назад, над их репутацией и личным положением нависла угроза. Однако слушания — не судебный процесс: их проводят гражданские лица, призванные составить свое мнение насчет боевой стратегии, которую из-за недостатка времени не смог осуществить генерал Фремонт. Будет также разбираться поведение генерала Джесси, хотя она не обладала официальным положением, коего могла лишиться; результатом слушания могло стать осуждение ее пребывания и деятельности в Сент-Луисе, что отразилось бы и на оценке деятельности мужа. Не ощущая неловкости и не беспокоясь по поводу частого переноса слушаний, Джесси, напротив, прилагала все усилия, чтобы оттянуть их начало. Справедливо, что Джон вынужденно бездействовал, он жаждал поспорить со своими противниками в военном департаменте, но здравый смысл подсказывал ей, что с каждым проходящим днем они приближаются к отмщению; провалы и неудачи преследовали различные департаменты и командующих, и ее муж уже не был самым важным из смещенных генералов. Разве президент Линкольн не снял генерала Джорджа Б. Макклеллана с поста командующего Потомакской армией по той причине, что он оказался неспособным отдать приказ, который ввел бы в действие его прекрасно обученные и снаряженные войска? Север начинал понимать, что нельзя вести войну без обученных солдат, без ружей и артиллерии, провианта и одежды, и она чувствовала, что общественность вновь начинает питать симпатии к генералу Фремонту, что окружавшая ее неприязнь, когда они прибыли в Нью-Йорк, рассеивается, теперь косо смотрят на других командующих Союза, терпевших поражения. Джесси и Джон жили в доме Элизы и Уильяма Карея Джонса во время слушаний в конгрессе. Хотя никто открыто не вспоминал тяжелые дни военно-полевого суда, память о них давила грузом, когда Джон просил Уильяма Карея Джонса высказать свои соображения относительно надлежащей процедуры в Комитете по ведению войны. В конце марта под прохладным весенним солнцем Джесси, Элиза и Джон прошли вдоль Пенсильвания-авеню, остановившись на минуту у входа в зал комитета, на ступенях здания конгресса. У Джесси отлегло от сердца, когда она увидела членов комиссии по расследованию, занявших свои места за длинным столом. Это были люди, сочувствовавшие Фремонту: Бэн Уэйд из Огайо, Захариа Чандлер из Мичигана, Джон Ковод из Пенсильвании и Джордж У. Джулиан из Индианы. Просмотрев наиболее важные северные газеты, она убедилась, что те полностью воспроизводят обвинения генерального прокурора. Но эти обвинения ослаблены редакционными комментариями, описывавшими хаос, с которым столкнулась чета Фремонт в июле, и подчеркивавшими, насколько больше, чем другие, они сделали в условиях немыслимых трудностей. Джон спокойно предстал перед комиссией. При чтении заранее подготовленных им документов его голос звучал ровно и уверенно. Джесси не пыталась вслушиваться в его доводы: она читала документ несчетное число раз. Ей вспомнился военно-полевой суд четырнадцать лет назад. Сейчас был также военно-полевой суд, но в более вежливой форме: какой смысл судить человека, если он уже публично осужден и наказан? Военно-полевой суд положил конец карьере Джона в Топографическом корпусе, опустил занавес над первой половиной его профессиональной жизни. Не является ли заседание этого комитета последним актом их драмы? Не разрушит ли это слушание вторую часть карьеры и не отправит ли их в тринадцатилетний или двадцатитрехлетний период блуждания? Джесси вывело из размышлений упоминание ее имени и сведений, включенных мужем в изложение без ее ведома: о ее услугах в Сент-Луисе; подписанные под присягой показания офицеров генерального штаба о ее упорстве в поисках провианта; отзыв Доротеи Дикс, благодарившей за открытие госпиталя в Джефферсоновских казармах; показания санитарной комиссии, хвалившей за вербовку медицинских сестер и сбор оборудования. Он говорил о том, что послал ее в Вашингтон, поручил пойти немедля с железнодорожной станции в Белый дом, обязал не уходить, пока президент Линкольн не получит полного представления о положении дел в Западном округе. Она была благодарна и тронута, когда Джон принес свои извинения президенту и заверил, что его жена питает к нему и его должности большое уважение, и если были сказаны неподходящие слова, то это явилось следствием огромного напряжения и усталости, в чем повинен лишь он, генерал Фремонт. Комиссии потребовалось два с половиной дня, чтобы заслушать все дело, и еще два с половиной дня на обсуждение и принятие решения. Генералы Фремонт и Джесси не только были оправданы, но и была дана высокая оценка их действиям по ведению войны. Было сказано об их ошибках и неудачах, но это объяснялось желанием сделать за несколько месяцев то, на что потребовался бы целый год тщательной подготовки. Действия Джона по созданию флотилии канонерок, закреплению Сент-Луиса в Союзе, борьбе против партизан, назначению генерала Гранта, повышению боевого духа армии Запада, преследованию генерала Прайса, готового перед лицом неминуемого поражения противостоять превосходящим силам генерала Фремонта около Спрингфилда на рассвете того дня, когда генерал Хантер взял на себя командование, получили одобрение. Газеты Востока и Запада давали почти единодушную оценку решению комиссии: они соглашались с ее заявлением, что командование Джона Фремонта западными территориями отличалось «искренностью, способностью и бесспорной преданностью Союзу». На большом митинге в Институте Купера некоторые наиболее популярные лидеры Севера — Чарлз Самнер, Шуйлер Колфакс, Дэвид Дадли Филд, Чарлз Кинг, Уильям Эвартс высказались в поддержку прокламации Джона об освобождении рабов. Генри Уорд Бичер пригласил чету Фремонт утром в одно из воскресений в свою Плимутскую церковь и в проповеди противопоставил Джона Даниэлю Уэбстеру,[19] сказав, что Уэбстер умер и будет забыт, ибо пошел на компромисс с рабством, а имя Джона Фремонта будет жить и его будут помнить, когда Соединенные Штаты станут нацией свободных людей. Из Цинциннати, Эндовера, Галлиполиса и сельских районов Айовы поступали сообщения, что семьи, чьи сыновья участвуют в боях, выражали признательность Джону Фремонту за его прокламацию об освобождении рабов, которая могла ускорить окончание войны, и что снятие Джона с поста подорвало доверие народа к правительству. Она была рада оправданию, но ощущала лишь чувство облегчения и благодарности, ибо будущее еще ничего не обещало. Слова доверия не могли вернуть те часы перед рассветом 3 ноября, когда Джон и его армия были готовы принести Северу первую крупную победу. Оправдав Джона Фремонта, комиссия возродила веру страны в него, но на сцену вышли и заняли его место более молодые, более свежие и полные энтузиазма, готовые к бою, полные уверенности в своих силах, ведь они еще не испытали тягот войны. У них была возможность внести собственный вклад в дело Союза, а они, чета Фремонт, не преуспели по не зависящим от них причинам._/2/_
Годы войны были для Джесси особыми: она постоянно ощущала нервное напряжение, близость к надлому, чувствовала, получив известие о новом сражении, что настоящая жизнь не в ненавистной реальности, а в страстно желаемом отдаленном будущем. 1863 год начался с того, что она искренне поверила: с его окончанием кончится и война; в день Нового года Авраам Линкольн провозгласил прокламацию об освобождении рабов. Всего пятнадцать месяцев назад он кричал на нее: «Генерал не должен был втягивать негров в войну! Негры не имеют к ней никакого отношения!» Ныне же принятие президентом Линкольном эмансипации политически оправдало Джона в дополнение к оправданию конгресса в военном отношении. Ее сотрудничество с санитарной комиссией почти завершилось,поскольку появилось достаточно санитаров и госпиталей, страна осознала необходимость выделения фондов для раненых солдат. Подобно тому как в тот неудачливый вечер в Вашингтоне, стоя перед заросшим сорняками участком Бентонов, она мечтала вернуться в Блэк-Пойнт, отойти от противоборства и драк, разрывавших душу, ее мысли все чаще возвращались к застекленной веранде, позволявшей видеть суда, проходившие пролив Золотые Ворота, дюны, по которым она ездила верхом со своими детьми, залив, по которому плавала с ними в лодке. Она стремилась к уединению, семейному покою, литературным дискуссиям с Томасом Старром Кингом и Брет Гартом, к атмосфере жизни в пограничных районах, где люди заняты урожаем и строительством и не склонны поэтому участвовать в личной вражде и политических интригах. Удивляясь самой себе, она обнаружила, что мечтает о приятной и размеренной жизни. Ее не влекли напыщенные традиции Черри-Гроув, но благополучие и уравновешенность Блэк-Пойнта отвечали ее темпераменту и обеспечивали прекрасное укрытие от противоборства, о котором мечтала много лет Элизабет Макдоуэлл Бентон. — Я знаю, как страстно ты стремишься вернуться домой, Джесси, — сказал сочувственно Джон, — но мне нечего делать в Сан-Франциско. — …Даже с твоими планами трансконтинентальной железной дороги? — Все железнодорожные проекты начинаются здесь, на Востоке. Я нащупываю свой путь; перспективы кажутся хорошими… Терпение, моя дорогая, и присутствие духа, — прошептал он, целуя ее в щеку. — Через несколько лет у тебя будет личный железнодорожный вагон, и ты сможешь путешествовать каждый месяц между твоими домами в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Она ответила поцелуем, воскликнув: — Разумеется! Я гоняюсь за радугой через весь континент. Дом там, где твоя работа! Может ли кто знать это лучше меня? — Она задумалась и замолчала. — Ведь именно в эти месяцы Блэк-Пойнт так красив; я хорошо его помню, словно была там вчера. Когда ты построишь железную дорогу, мы поедем домой. Оказавшись в неопределенном положении, без увлекательного дела, но страстно желая скорейшего прекращения войны, она продолжала переписку с Томасом Старром Кингом, обмениваясь с ним информацией о положении на Востоке в ответ на сообщения Кинга о настроениях и обстановке в Сан-Франциско. Ей удалось пристроить одну из поэм Брет Гарта в журнал «Атлантик мансли». Джон и она сблизились и стали доверенными лицами поэта Джона Гринлифа Уитьера, чьи стихи избирательной кампании — «Вставай, Фремонт, и веди; время должно иметь своего человека», а после смещения Джона — «Твоя ошибка была, Фремонт, смельчака актом, а не скользкого государственного мужа тактом» — обеспечили моральную поддержку сторонникам Фремонта. Джон дорожил дружбой с Уитьером из-за, как он открылся Джесси, духовной чистоты поэта. Поняв, как много полезного способен Уитьер внушить ее мужу, Джесси часто приглашала поэта, и он останавливался в их доме на несколько дней. Однажды она и Джон провели в Эймсбери у Уитьера уик-энд среди его книг и цветочных посадок. Затем война нанесла новый неожиданный удар: Джесси получила от военного департамента телеграмму, извещавшую, что правительство взяло под свой контроль Блэк-Пойнт и на месте ее дома будет построен форт. Перечитав телеграмму несколько раз, она так и не смогла понять ее смысл. Зачем правительству нужен Блэк-Пойнт? Этот крошечный участок земли? Правительство не может отобрать семейный дом. Ведь он — частная собственность! Но когда она показала телеграмму мужу, тот заикаясь объяснил ей, что она ошибается: правительство может конфисковать любую собственность в целях национальной безопасности. Блэк-Пойнт находится на расстоянии мили от Алькатраза; при размещении пушек в этих двух точках ни один вражеский корабль не сможет войти в залив Сан-Франциско. Это несправедливо, разрушает их планы возвращения в Блэк-Пойнт, но он понимает доводы военного департамента. Нет, они ничего не могут сделать, лишь потребовать и ждать возмещения правительством стоимости земли. Со слезами на глазах Джесси спросила: — А что будет с нашим домом? Им ведь не нужен наш коттедж. — Он слишком велик, чтобы перенести его на другое место, а военный департамент спешит. Дом будет снесен, чтобы освободить место для размещения пушек. — Снесен! — воскликнула она с душевной болью. — Почему они имеют право разрушать нашу собственность и наши жизни? Почему вправе унизить нас в Сент-Луисе и отозвать тебя с поста командующего лишь для того, чтобы комитет по расследованию, а теперь и президент Линкольн признали, что ты был во всем прав? Откуда у них власть снести наш дом в Блэк-Пойнте, а затем через год или два с извинениями признать свою ошибку? Разве мы не люди, с душой и чувствами? Разве мы лишены всех прав? Разве у нас нет средств защититься?.. — Не могу ответить на твои вопросы, дорогая, — мрачно сказал он, — ведь «их» на деле нет. Сегодня они — военный департамент, лишающий нас дома; вчера — Блэры и Линкольны, отстранившие нас от командования; еще ранее ими были продажность прессы и клевета политической партии, лишившие нас поста президента и Белого дома; до этого — небрежность в избирательном законе, не обеспечивавшая наиболее желаемому населением сенатору длительного срока пребывания на посту, что лишило нас места в сенате; еще раньше выступали генерал Кирни, полковник Кук и лейтенант Эмори. Ты видишь, дорогая, «их» нет: с каждым поворотом фортуны — новые личности, причины, силы. — Тогда выходит, что мы не можем ничего сделать, не можем протестовать?.. — Ничего. Телеграмма от военного департамента не испрашивает твоего разрешения на взятие им Блэк-Пойнта, ее смысл — сообщить тебе, что они уже захватили участок. Теперь слушай меня, дорогая, нет, нет, не отворачивайся. Позволь мне видеть твое лицо. Да, я понимаю твое нежелание, чтобы я видел твои покрасневшие глаза. Мне даже нравится видеть тебя такой красивой в слезах, ибо ты плачешь, потому что мы правы. Я понимаю, что Сан-Франциско и коттедж в Блэк-Пойнте были для тебя пристанищем, способным успокоить твои волнения. Мы просто должны найти другое, равноценное место… Она мрачно покачала головой: — Это был наш первый дом и очаг, если хочешь, образ жизни и традиция, наше последнее прибежище. Его у нас украли. Она ошибалась: у нее могли украсть и другие, более серьезные пристанища рассудка и убежденности. Первым сигналом было сообщение о смерти в Сан-Франциско достопочтенного Кинга, вызванной перегрузкой и истощением, его приверженностью делу Союза. Вслед за этим последовал другой удар — в Вашингтоне умерла Элиза от болезни, преследовавшей ее с молодости. Уильям Джонс находился в Калифорнии с военной миссией, поэтому Джесси выехала в Вашингтон на похороны старшей сестры на могильном участке Бентонов у ног матери и отца. Горюя по поводу ранней смерти Элизы — ведь ей был всего сорок один год, — Джесси сетовала по поводу того, как быстро исчезает семья Бентон. Ей самой было всего тридцать девять лет, а она уже потеряла мать, отца, брата и сестру. «Смерть, должно быть, питает ко мне дружеские чувства, — думала она, — и редко отступает от меня». В июньский полдень 1863 года она сидела у окна дома на Девятнадцатой-стрит и увидела, как, радостно улыбаясь, Джон вбежал по ступеням крыльца. Он гордо протянул ей номер нью-йоркской газеты «Трибюн» и указал пальцем на объявление, гласившее об образовании его партнерства с уважаемым патроном Сэмюэлом Галлетом и избрании президентом планируемой железной дороги, которая будет проложена через штат Канзас. Она хотела продолжить чтение статьи об открытии генералом Фремонтом конторы на Бивер-стрит, но Джону не терпелось показать ей и другое. Он отобрал у нее газету, развернул листы и указал на рекламное объявление, предлагающее делать заявки на поставку нескольких тысяч тонн железнодорожных рельсов в Канзас-Сити, на пристань Коу, откуда отправлялась его первая экспедиция. Несмотря на охватившее ее волнение, она заметила схему, приложенную к объявлению, и увидела, что намеченная железнодорожная линия проложена близко к первоначальной тропе, по которой двигался Джон по равнине и через горы, а основные станции намечены в городах там, где были стоянки его экспедиции. Они во многом жили надеждами проложить свою железную дорогу, но до сего момента были лишь одни разочарования. Удары сыпались со всех сторон: в силу обстоятельств они не заботились о Марипозе, и участок был продан, Джон перестал быть собственником, правда, за ним оставались права на три восьмых дохода; федеральное правительство не проявило интереса к строительству железных дорог и не оказало помощи; противники в Вашингтоне, в особенности члены семьи Блэр, всячески мешали Джону добиться сотрудничества с администрацией. Он жаловался Джесси: — Я явная персона нон грата в столице; можно подумать, будто я огнедышащий демократ, выступающий против республиканцев на выборах. Я не могу проложить железную дорогу, не получив прав на полосу отчуждения. Как сказал бы Том Бентон: вы не можете получить такое право в конгрессе, не будучи политиком-мастером в тактике. — Богу известно, что мы по горло сыты политикой, — сочувствовала она. Но все же трудные дни оказались позади: Джон вновь крепко встал обеими ногами на главный путь, ведущий к осуществлению амбиций семьи. Его глаза сверкали, и, казалось, возродилось его самолюбие благодаря тому, что появился новый проект. Газеты давали поражавшие сознание описания его планов железной дороги в Калифорнию; страна осознала необходимость таких дорог, и даже сопротивляющийся конгресс приходил к пониманию, что и он должен сыграть какую-то роль в экспансии на Запад. Заняв позицию смелого, энергичного строителя железных дорог, претворяющего в жизнь мечту об экспансии на Запад, Джон быстро восстановил благорасположение к себе, добился уважения, каким пользовался в прошлом. Вновь перед ними открылась возможность начать новую жизнь и выполнять ценную работу; все прошлое забудется. Впервые с момента, когда восемнадцать месяцев назад в освещенной лампой палатке под Спрингфилдом генерал Хантер принял у них командование, она ощутила, что их ждет личное счастье и благосостояние._/3/_
Джесси дала понять мужу, что она порвала с политикой, но вскоре поняла, что политика ее не отторгла. Она не ездила больше в Вашингтон, но многие представители официального Вашингтона посещали ее дом в Нью-Йорке. Как-то за обеденным столом Ричард Генри Дана[20] сказал, что в Вашингтоне почти не осталось людей, лояльных к президенту, и убеждение в некомпетентности Линкольна настолько широко распространено, что, созови сегодня конвент, и его кандидатура не встретила бы поддержки. Лишь два члена тридцать седьмого конгресса поддерживают Линкольна, и никто в Вашингтоне, кроме окружения Линкольна, не желает выдвижения его кандидатуры. Уильям П. Фессенден[21] писал в своем письме: «Никогда такой набор шаркающих бездарностей не оказывался в одном правительстве; мы поверили расщепителю жердей, мы его и получили». Сенатор Шерман из Огайо обвинял Линкольна в создании военного хаоса. Поговаривали о движении в Нью-Йорке с целью заставить президента подать в отставку, поскольку он «переменчив, беззаботен и абсолютно некомпетентен». Длительное время Джесси считала политическую перепалку одной из форм ведения войны, но во второй половине 1863 года была вынуждена сообщить мужу, что критики Линкольна действуют не впустую: они хотят, чтобы генерал Джон Фремонт заменил Авраама Линкольна. Они посетили Институт Купера, где Уинделл Филипс[22] заявил в своей речи перед аудиторией, состоявшей из сторонников отмены рабства, что мир не может быть восстановлен до тех пор, пока генерал Фремонт не встанет у руля. Она показала мужу вырезки из бостонской газеты «Пайонир», писавшей, что он — непременный кандидат на пост президента в 1864 году, и поддержавшие эту мысль редакционные статьи немецких газет, таких, как спрингфилдская «Штате Анцайгер» и миссисипская «Блэттер», развернувших кампанию за избрание Фремонта президентом. Клубы сторонников Фремонта образовались в Иллинойсе, Огайо, Висконсине и Нью-Йорке. К концу года по мере падения доверия к президенту Линкольну вера в способности и достоинства Джона Фремонта стала возрастать и достигла того уровня, который обеспечил выдвижение его кандидатуры в 1856 году. Джесси не знала, огорчаться или радоваться по поводу такого развития событий. Сожалея, что критика в адрес президента мешает военным усилиям, она в то же время вспоминала унижение, какому подвергла ее мужа эта администрация. Было бы чудесно, если бы Джон заменил Линкольна в качестве кандидата от республиканцев и был избран президентом на волне общественной поддержки, но противно вновь пережить кампанию по выборам президента, оскорбления и злобу, которые омрачали их жизнь в 1856 году! Но если Джесси была не уверена, то, как она убедилась вскоре, такой неуверенности не было у мужа: он хотел выдвижения своей кандидатуры, был готов участвовать в выборах и добиваться поста президента. Пережитые им оскорбления и несправедливости могут быть сметены одним ударом: он станет главнокомандующим. Он прогонит своих противников, корыстных людей, блокировавших ему въезд в Вашингтон; он поведет войну эффективно и решительно, быстро закончит ее, а затем направит все усилия на восстановление Юга. Обо всем этом — о своих тайных надеждах, об отмщении и вознаграждении, о всех мыслях, какие мужчина может доверить только жене, — он рассказал ей. Поняв глубину его убеждений, его страстное желание стать президентом, более сильное, чем в 1856 году, она отбросила все свои сомнения. — Очевидно, тебя могут выдвинуть демократы, если пожелаешь, — комментировала она, протянув ему пачку вырезок. В прошлом году Нью-Йорк выбрал губернатора-демократа Горацио Сеймура, и семь северных штатов перешли на сторону демократов в конгрессе. Если настроения избирателей будут в ноябре 1864 года теми же, что и сегодня, ты сможешь победить Линкольна. — Нет, — твердо ответил Джон, — мы не можем вредить партии, которую помогали создать. Я никогда не буду перевертышем. Если война продолжится и следующей весной и мне предложат выдвинуть свою кандидатуру от собственной партии… Внимательно изучив прессу за первые месяцы 1864 года, она заверила мужа, что ширятся выступления общественности в пользу его кандидатуры. На Севере и Западе во всех городах действовали клубы в поддержку Фремонта. Была даже учреждена газета «Нью нейшн», пропагандировавшая выдвижение его кандидатуры. 31 мая в Кливленде состоялся встретивший одобрение сторонников Фремонта съезд радикальных республиканцев. Джесси поехала в Кливленд, как она ездила за восемь лет до этого в Филадельфию, и узнала, что четыреста делегатов представляли практически все северные штаты. Участники съезда осуждали президента Линкольна за ограничение свободы печати и слова, за аннулирование Хабеас Корпус,[23] за его уступчивость Югу и, самое главное, за неспособность покончить с конфликтом. Сидя сжавшись в последних рядах зала, убежденная в том, что Джону не следует иметь дело с этими обозленными раскольниками, она услышала предложение выдвинуть кандидатуру ее мужа на пост президента. Возвращаясь домой со съезда в Филадельфии в 1856 году, она гордилась мужем, сейчас же ей было не по себе. Еще за день до возвращения в свой дом на Девятнадцатой-стрит она узнала, что выдвижение радикальными республиканцами кандидатуры Джона превратилось в серьезную угрозу для администрации Линкольна и против президента куется грозное оружие. Те органы республиканской прессы, которые прохладно относились к Линкольну, осмелели, поняв, что их кандидат оказался под угрозой. Кливлендская газета «Геральд» заявила, что кливлендский съезд был созван «лукавыми политиками из Нью-Йорка, зарвавшимися трусливыми немцами из Сент-Луиса, аболиционистами, личными друзьями Фремонта и теми, кто спекулирует на его имени». Джесси беспокоило и то, что выдвижение кандидатуры Джона импонировало южанам, видевшим в этом признак раскола в рядах республиканцев; нью-йоркская «Таймс» и другие газеты, стоявшие на позиции защиты Союза, писали о необходимости переизбрать Линкольна, поскольку его поражение явилось бы по сути дела признанием того факта, что его не следовало вообще избирать. Джесси понимала, что кампания 1864 года будет более ожесточенной, чем кампания 1856 года, ибо, видя последствия войны, повсеместные смерть и разрушения, избиратели и пресса взбеленятся, пустятся на крайние оскорбления и клевету. Лишь немногие ведущие республиканцы считали, что Линкольн сможет победить кандидата демократов генерала Джорджа Б. Макклеллана; руководители избирательной кампании Линкольна потеряли все надежды, да и сам Линкольн смирился с грядущим поражением. Именно тогда сторонники администрации начали запускать пробные шары в доме Фремонта, убеждая Джона выйти из игры, предлагая ему важный военный пост, устранение его противников. Джесси видела, что ее муж непреклонен: он не снимет своей кандидатуры, не пойдет на сделку. Сотню раз он говорил ей, что уверен в своей победе. Она понимала, что у него были все основания распрощаться с идеализмом и согласиться с тем, что цель оправдывает средства. Однако и она сама оказалась в таком же сложном положении, как в 1856 году, когда Джон сказал ей о выдвижении его кандидатуры демократами: она хотела стать первой леди, но не ценой одобрения рабства; теперь же больше, чем когда-либо, ей хотелось попасть в Белый дом. Но если есть риск подорвать республиканскую партию, посадить демократа в кресло президента, кончить войну умиротворением, оставляющим незыблемым рабство, не слишком ли это дорогая цена за успех? В 1856 году они одержали в пользу идеализма две победы; она считает, что они должны выиграть еще одну. В начале сентября Джесси поехала в Эймсбери для встречи с Джоном Уитьером. В свои пятьдесят семь лет стройный, с темными проницательными глазами Уитьер стал в физическом и моральном смысле жертвой толпы, преследовавшей его за фанатическую верность делу отмены рабства. Его поэзия была пронизана глубоким религиозным убеждением, но это не мешало ему использовать свой практический опыт политического агитатора и основателя республиканской партии. По мнению Джесси, человек, редактировавший газеты, выступавшие против рабства в сороковые годы, опубликовавший в 1846 году проникновенные стихи «Голоса свободы», мог дать ей разумные советы. Холостой Уитьер жил в одиночестве в небольшом, увитом плющом домике, он непрестанно работал, насколько позволяло ему слабое здоровье, с тремя музами своей жизни: поэзией, политикой и свободой. — Я приехала узнать: что вы думаете о политическом положении, мистер Уитьер? — спросила она. — Мне известно, как страстно вы поддерживали генерала Фремонта. Уитьер задумался на минуту, убирая стопки старых газет и журналов с целью освободить для Джесси место на плетеном кресле перед камином. Налив две рюмки шерри и усевшись у ее ног на подушечку, он ответил: — Я все еще поддерживаю генерала, но считаю, что выдвижение его кандидатуры от третьей партии будет роковой ошибкой. — Почему вы так думаете? — Потому что единственным следствием явится избрание генерала Макклеллана и компромисс с Югом; мятеж не будет подавлен, рабство останется неприкосновенным, и тысячи жертв окажутся напрасными. — Мой муж думает, что сможет выиграть… Уитьер энергично покачал головой. Он встал и посмотрел на нее добрым взглядом. — Нет, увы, дорогая миссис Фремонт, поверьте мне. Я первый отстаивал бы его кандидатуру, если бы считал, что у него есть шанс. Но такого шанса нет. Если генерал будет настаивать на выдвижении своей кандидатуры, то он поможет Макклеллану нанести поражение республиканцам, и публика истолкует, что он руководствовался личной злобой против Линкольна и желанием отомстить. Для страны последствия будут ужасными. У президента Линкольна столько обязательств в отношении войны, борьбы за Союз и за свободу, что мы не можем менять коней на переправе. Я очень хорошо знаю, как глубоко верит генерал Фремонт в дело Союза и свободы и как много он страдал во имя этого. Он должен принести еще одну жертву — отозвать свою кандидатуру и помочь Линкольну в переизбрании. — Это горькая пилюля. — Ему приходилось и ранее их глотать. Вы пришли ко мне за откровенным мнением: народ хочет переизбрания Линкольна. — Вы уверены, что генерал Макклеллан не выиграет? — Не выиграет, если генерал Фремонт снимет свою кандидатуру. Джесси разгладила складки своего длинного бархатного платья, затем отбросила прядь волос, упавшую на лоб: — Спасибо, мистер Уитьер, за вашу откровенность. Вы вооружили меня средством убедить генерала Фремонта отозвать свою кандидатуру. Глаза пожилого мужчины выразили признательность. — Вы окажете нашей стране большую услугу, миссис Фремонт. Она возвратилась в Нью-Йорк. Когда она рассказала Джону о беседе с Джоном Гринлифом Уитьером, он мрачно спросил: — Итак, вы оба убеждены, что у меня нет шансов? — …У тебя великий шанс: ты можешь доказать свою веру в республиканскую партию, отказавшись помочь ее поражению; ты можешь доказать, что ты всегда стоял за Союз. — Но разве ты не видишь, — воскликнул Джон, — что, снимая свою кандидатуру сейчас, я поддерживаю человека, сместившего меня с поста командующего, отстранявшего меня от поста в армии и правительстве? Ты просишь меня подставить другую щеку! Она мысленно поискала более убедительный довод: — Разве не ты учил меня, что сражение, проигранное в начале, может обеспечить выигрыш всей кампании в конце? Ты проиграл битву за Белый дом в 1856 году, но помог создать республиканскую партию. Ты потерял сто дней в Миссури, но внес свой вклад в военную победу. Отозвав свою кандидатуру и оказав помощь Линкольну ради его победы, ты проигрываешь еще одно сражение, но упоминание о твоей кандидатуре уже привело к важным результатам: Линкольн вынужден занять более сильную позицию против рабства; он предложил Монтгомери Блэру выйти в отставку и вышвырнул южных умиротворителей из своего кабинета; республиканская платформа практически скопирована с платформы, которую ты одобрил, принимая выдвижение твоей кандидатуры радикалами. Джесси налила себе стакан воды из графина, стоявшего сбоку на столе, и продолжала излагать свое мнение низким и звучным голосом: — Я верю, Джон, что, отказавшись принять выдвижение своей кандидатуры демократами, ты помог появлению республиканской партии, и это было куда более важным, чем все сделанное Джеймсом Бьюкененом в Белом доме с 1856 по 1860 год. Твоя прокламация об освобождении рабов породила такое общественное движение в пользу эмансипации, что Линкольн был вынужден в прошлом году пойти на такой же шаг; твое нынешнее требование о свободе для всех негров и более энергичном ведении войны приведет и к тому, и к другому. Ты добился замечательных результатов, мой дорогой, и они могут оказаться более важными по сравнению с тем, что свершит Линкольн в Вашингтоне следующие четыре года. Быть может, твоя роль в жизни, Джон, заключается в том, чтобы проигрывать начальные битвы и закладывать основу для конечного триумфа твоего дела. Несколько минут Джон хранил враждебное молчание. Затем он положил свои руки на ее плечи и слегка потряс ее. С грубостью, маскировавшей любовь, он проворчал: — Теперь, когда ты представила меня таким героем, могу ли я отказаться снять свою кандидатуру? Возьми карандаш и бумагу, мы напишем заявление для печати, объявляющее о снятии моей кандидатуры._/4/_
Генералы Грант, Шерман и Шеридан обеспечили в конце концов триумфальные победы Союза; президент Линкольн был переизбран. В начале весны 1865 года генералы Конфедерации Ли и Джонстон сдались Гранту, и с войной было покончено. Теперь, когда исчезли препятствия, мешавшие строительству железных дорог, Джесси стала сторонницей вложения средств семьи — около двухсот тысяч долларов — в строительство железных дорог Канзас — Пасифик и Миссури — Пасифик. Нацеливаясь на дорогую ему Калифорнию, Джон продал имевшиеся у него акции двух частично проложенных железнодорожных линий и приобрел акции намеченной к строительству линии Мемфис — Эль-Пасо, которая получила от законодательного собрания Техаса около восемнадцати миллионов акров отчужденной земли. Затем он купил землю для конечной станции в Сан-Диего и составил планы железной дороги Сан-Диего — Форт-Юма. Джесси доставляло большое наслаждение наблюдать за активными действиями мужа: смело и решительно он отстаивал планы прокладки железных дорог через Скалистые горы. В пятьдесят два года борода и шевелюра Джона стали седыми, но он по-прежнему производил приятное впечатление, как накануне их свадьбы, когда мистер Криттенден назвал его «самым красивым офицером, когда-либо маршировавшим по улицам Вашингтона». Если четыре года войны были напряженными, то годы с 1865-го по 1870-й — спокойными и казались Джесси самым чудесным периодом в ее жизни. Решив, что подходит старость, она наслаждалась мирной жизнью, старалась сделать свой дом приятным для семьи и друзей. Она думала о том, как была бы довольна мать, увидев ее живущей во многом в духе Черри-Гроув, ставшей наконец «прекрасной леди», какой ее так старалась сделать мисс Инглиш. Она грустила о потере Блэк-Пойнта, и Джон настаивал, что наряду с городским домом им следует иметь поместье, где они могли бы наслаждаться природой, которая их так очаровывала в Сан-Франциско. Правительство еще не возместило сорок две тысячи долларов за собственность, отобранную у них в Сан-Франциско, но, став миллионерами, Джесси и Джон Фремонт не считали это трагедией. Они купили превосходное поместье и особняк из серого камня над Гудзоном, в местечке Покахо. В отделанной красным деревом библиотеке, окна которой выходили на изумительный по красоте Таптан-Зее, Джесси разместила библиотеку, купленную у Гумбольдтов после смерти барона. Здесь она собрала также коллекцию Джона по военному искусству и политике и все книги, которые она любила и пронесла через всю жизнь, начиная с первых томов Одюбона, прочитанных ею в библиотеке конгресса, до последних художественных произведений, печатавшихся в Бостоне и Нью-Йорке. Столовая, окна которой выходили в сад с цветочными клумбами и в которой Джесси подавала превосходные блюда, какие мог придумать ее повар-француз, всегда была полна гостей. В просторной жилой комнате напротив библиотеки всегда звучали музыка, смех троих детей и их приятелей. В поместье имелись прекрасные верховые лошади и парусная лодка для Чарли, ставшего уже парнем с темными глазами отца и черными волосами на прямой пробор. Чарли исполнилось восемнадцать лет, и он мечтал стать адмиралом: осенью собирался поступать в военно-морскую академию в Аннаполисе. У пятнадцатилетнего Фрэнка, унаследовавшего от матери теплые карие глаза, узкое лицо и каштановые волосы, было фортепьяно, на котором мальчик часто играл по утрам. Она старалась воспитать своих детей общительными и не навязывала им того, что их не интересовало. Она как бы говорила: «Вот мир; берите у него все, что хотите. Мое дело — открыть перед вами двери. Позже вы сами решите, какие идеи и виды искусства вы отвергнете, а какие станут вашими друзьями на всю жизнь». Ее постоянно озадачивало различие между ее тремя детьми, резкий контраст не только между Лили и ее братьями, но и между самими мальчиками. Искренний, с открытым лицом Чарли был счастлив только тогда, когда находился около воды, он читал книги только о путешествиях и науке. Фрэнк был молчалив и задумчив, его не интересовала жизнь за стенами дома, до сумерек он держал себя вяло, а когда они наступали, проводил время за чтением романов и стихов, игрой на фортепьяно. Ей казалось странным, что мальчики были лишены честолюбия. Все выглядело определенным и ясным. Они знали весь свет, и, казалось, весь свет знал и любил их. Джон и Джесси ездили в Европу, и она была представлена датской королеве Луизе, и они подружились с Хансом Кристианом Андерсеном. Ее салон, где доминировала внушавшая уважение, спокойная личность мужа, не только привлекал самые изысканные умы и таланты страны, но и служил для многих европейских друзей парадным входом в Америку. Джесси не жадничала и прослыла меценаткой, она внесла, в частности, значительные средства в фонд помощи раненым солдатам. В 1868 году оплатила учебу тринадцати молодых людей в колледже — девяти парней и четырех девушек. К ней приходили за помощью ученые, изобретатели, исследователи, писатели, художники — все, кому по тем или иным причинам нужны были деньги. Она внесла вклады в фонды университетов, симфонических концертов, собраний искусства. Она не подсчитывала, сколько отдала, ибо знала, что Джон не пытается установить размер их доходов; денег поступало много, и не было смысла терять время на бухгалтерские подсчеты. Что касается их самих, то она и Джон жили скромно: носили простую одежду, и их потребности были ограниченными; Джесси не носила мехов и драгоценностей. Помимо поездок за рубеж они тратили деньги на содержание двух домов и на приемы друзей. Тридцать лет супружества углубили, а не истощили их взаимные чувства друг к другу. В трудные, несчастливые военные годы они познали, что неприятности, осложнения — плохие друзья; ныне же, в приятной атмосфере созидательных лет, когда их последние честолюбивые намерения были близки к осуществлению, между ними вновь вспыхнула плотская любовь. Джон пригласил художника Фаньяни написать портрет жены. Когда художник позволил ей взглянуть на полотно, она увидела то, о чем лишь смутно догадывалась. Она располнела, ее изящные плечи округлились, налились, грудь стала более высокой. Свои поседевшие волосы она расчесывала на прямой пробор, но если раньше она туго укладывала их, то теперь они свободно спускались на плечи. Ее глаза казались более крупными, чем в молодости, более темными, мягкими, приветливыми. Ее длинный римский нос стал вроде бы покороче и поизящнее. На портрете она выглядела немолодой женщиной, матроной; наиболее активная часть жизни осталась позади, а впереди были долгие годы наслаждения спокойной жизнью человека в летах. Глядя на себя в отображении художника Фаньяни, она подумала о странных законах перспективы. Стоя на вершине холма над долиной, можно видеть во всех подробностях передний план — первые несколько миль ранчо, садов, домов, пашни; но дальше ландшафт сливался, его детали скрывались за дымкой. По-другому вела себя память: в ее сознании четко прорисовывались ранние годы брака: она могла вспомнить каждый час, боль одиночества, разочарования и неудачи, каждый крошечный успех. Но более близкие к настоящим годы, все дальше отстоящие от молодости, от свежести начала, словно скрываются за дымкой. Она не могла вспомнить и мысленно представить события этих лет: они сливались воедино так плотно и безраздельно, что пропадало различие во времени. Месяцы, годы летели так быстро, что не было возможности их подсчитать, не говоря уже о том, чтобы удержать. Джесси надеялась, что сможет жить безмятежной жизнью, тратить деньги на благие цели, а тем временем Джон будет помогать прокладывать трансконтинентальную железную дорогу. Однако в глубине души затаилось опасение, что такое не может длиться бесконечно. Она предчувствовала, что впереди их ждут новые бури. Иногда у нее возникала мысль, что не следовало бы так щедро расходовать деньги, а лучше сохранить какую-то часть, вложить их в землю, акции или же отдать на хранение в банк. И в то же время она считала, что ничего это не дает: когда меняются обстоятельства, все тысячи, какие она сейчас тратит, также будут потеряны вместе со всем остальным капиталом. Лучше использовать деньги, заставить их служить великим целям. Самым счастливым в эти светлые годы был день, когда она поехала вместе с Джоном в Сент-Луис на открытие памятника сенатору Томасу Гарту Бентону. Сорок тысяч зрителей, пожелавших присутствовать на церемонии, заполнили Лафайетт-парк. У пьедестала выстроились школьники в белых костюмах, оркестр исполнял марши, и ехавший в западном направлении поезд остановился и своими свистками приветствовал церемонию. Джесси потянула за веревку, и с бронзовой статуи слетело белое полотно, обнажив фигуру Старого Римлянина, смотрящего на Запад, его слегка хрипловатый голос, казалось, произнес слова, вырезанные на камне: «Здесь Восток. Отсюда идет дорога в Индию». По приказу министра обороны был произведен салют из тридцати пушек — по числу лет службы в сенате. В то время как официальные деятели Миссури произносили речи о жизни и работе Томаса Гарта Бентона, о том, что он сделал для образования и свободы, Джесси повернулась к своему мужу и со слезами на глазах прошептала: — Как обидно, что отец не может быть здесь, на открытии. Он бы получил такое удовольствие. Одна из ее тревог была связана с Лили. Ее дочери исполнилось двадцать шесть лет; насколько знала Джесси, девушка ни разу не влюбилась в кого-либо. У нее было множество друзей, она нравилась многим, ездила верхом, занималась охотой и рыбной ловлей, плавала под парусами и работала в компании с молодыми сыновьями друзей и соседей в Покахо и Нью-Йорке. Однако она редко принимала приглашения на вечеринки с участием молодых парней, не увлекалась танцами, предпочитала свой семейный круг. Джесси не знала, влюбился ли в ее дочь какой-либо молодой человек, поскольку Лили избегала говорить на эту тему. Неоднократно Джесси пыталась завязать с ней подобную беседу. Однако смогла лишь узнать, что Лили не сохнет по поводу неразделенной любви и пришла к выводу, что она вообще не собирается влюбляться! До этого момента Джесси думала, что, возможно, запаздывает половая зрелость дочери или же она, подобно своей тетке Элизе, выжидает, когда появится надежный мужчина. Теперь же она увидела, что Лили не верит в романтические представления о мужчинах, и, если бы появился надежный мужчина, Лили либо вымотала бы его поездками верхом в долине Гудзона, либо втянула бы в кампанию по сбору средств для новой клиники и отбила бы у него желание к браку. Джесси не переносила неопределенности и поэтому решила всерьез поговорить с Лили. Потребовались большие усилия, ибо Лили не проявляла интереса к такому разговору или уклонялась от него. В зимний вечер Джесси поймала ее в отделанной красным деревом библиотеке, вошла и заперла за собой дверь. Стоя спиной к камину, она вглядывалась в высокий лоб дочери, тяжелые скулы, в смелый рисунок лица. — Лили, — сказала она, — прости, что я вмешиваюсь туда, куда не просят, но я серьезно тревожусь за тебя. — Почему, мама? — спросила Лили. — Здоровье у меня отменное, я съедаю в день три прекрасных блюда, гуляю в любую погоду. — Думаю, что ты понимаешь меня, — ласково ответила Джесси. — Я говорю не о физическом самочувствии, не касаюсь состояния твоего здоровья. Без искры эмоций в глазах Лили ответила: — Я совершенно счастлива. Вы совершенно счастливы… Джесси пододвинула небольшой деревянный стул поближе к дочери. Более твердым тоном она сказала: — Нет, моя дорогая, я не полностью счастлива, потому что вижу, как проходят годы, а я нахожу, что ты все дальше и дальше отходишь от самой важной вещи в жизни женщины — от брака. — Почему это самое важное, мама? — спросила Лили с той же твердостью. — Потому что ты так считаешь? Разве не могут быть разные мнения на этот счет? Джесси покачала несколько раз головой, словно не веря ушам своим: — Разве мне… О чем ты говоришь, дитя? Что остается в жизни женщины, если у нее нет мужа, детей и очага? — Много, много, дорогая мама. Ты полагаешь, что незамужняя женщина — трагическая и бесполезная фигура, но такое представление устарело. Одному Господу Богу известно, сколько женщин были принуждены к нежелательному для них браку. Есть много молодых женщин, которые не хотят выходить замуж и желают вести иной образ жизни… — Жизнь старой девы? — спросила в ужасе Джесси. — Не придавай такого мрачного значения слову, дорогая. Разве ты не видишь, что мое сердце переполнено любовью к тебе, отцу, мальчикам, что там нет места еще для кого-либо? — Тогда, полагаю, в твоих же интересах, — заплакала Джесси, — чтобы твой отец и я сложили твои вещи и выставили тебя из дома. Мы никогда не простим себе, что ты нас так сильно любила… Лили поднялась из своего глубокого кресла и стала ходить по комнате, энергично беря в руки предметы и снова ставя их на место; мысленно Джесси вернулась назад, вспомнив встречи с Джорджем Банкрофтом в ее гостиной в доме Бентонов. Лили подошла к матери и посмотрела на нее сверху уверенно, без тени страха. — Хорошо, мама, поговорим откровенно. Я никогда не выйду замуж по той причине, что мне не по душе сама идея брачной жизни. Ошеломленная Джесси смогла лишь прошептать: — Не по душе?.. Но почему? Ведь ненормально питать отвращение к браку. Откуда у тебя могли появиться такие мысли, ведь ты выросла в семье, где отец и мать любили друг друга все эти годы, вместе страдали и боролись и каждый сделал так много для нашей супружеской жизни? — Именно это я и имею в виду, — сказала обыденным тоном Лили. Джесси холодно спросила: — Что ты пытаешься мне внушить, Лили? — Я пытаюсь сказать тебе, дорогая мама, и, видимо, ты не успокоишься, пока я не скажу: двадцать лет я наблюдала, что сделал брак с тобой и отцом. Я видела, как ваше стремление к этому браку заставляло вас страдать. Я была слишком маленькой, чтобы понимать значение военно-полевого суда, но тогда мне было шесть лет, и я видела ваши муки. Я не хочу переживать такие же муки и даже подвергать себя такой возможности. Многие годы в Монтерее и на песчаных дюнах Сан-Франциско я наблюдала, как ты ходила по дому словно пришибленное существо, потому что рядом с тобой не было мужа. В те годы, когда отец уезжал в свои экспедиции, ты не жила, а существовала; когда ты получила сообщение, что он умер, я видела, как ты была близка к смерти, и ты умерла бы, окажись сообщение верным. Я не хочу переносить такие удары. Я не хочу, чтобы мое счастье и моя жизнь вообще зависели от кого-либо. Я знаю, что ты пережила в годы Гражданской войны, после того как отца сняли с командования; я знаю, как много злых языков было в этой стране и как они обзывали вас за то, что ты осмелилась противостоять президенту Линкольну, защищая своего мужа. Я не хочу сражаться с людьми, не хочу вырасти злой, вести войны и ломать собственный характер ради мужчины. Я хочу стоять на своих ногах, быть единственной в моем собственном теле и рассудке. Для тебя и отца ваша любовь и супружество были великими и прекрасными событиями. Но такой образ жизни не для меня. Она немного помолчала, а затем спокойно сказала: — Быть может, если бы я выросла, наблюдая более безмятежный и посредственный брак, я приняла бы саму мысль о нем. Острота моей реакции прямо пропорциональна интенсивности ваших взаимоотношений. Верь мне, дорогая, и оставь меня в покое: я не выйду замуж. В комнате воцарилось долгое молчание, были слышны лишь порывы дождя, хлеставшего в окна библиотеки. Джесси не пыталась скрыть или сдержать слезы, катившиеся по ее щекам. В этом была неудача ее супружества — оно породило антипатию у дочери. Цикл завершился. Ее собственная философия супружества была реакцией на концепцию ее матери о «наименьшем супружестве», о невмешательстве в дела мужа, а теперь, спустя двадцать восемь лет, когда настали новые времена и выросло новое поколение, она столкнулась с еще более острой реакцией дочери. Джесси понимала, что она не может ничего сделать. Время даст свое решение. Быть может, обстоятельства изменят настроения Лили; но в любом случае ее дочь имеет право на собственный образ жизни, свободный от вмешательства и указаний матери, точно так же как она сама настаивала перед Элизабет Макдоуэлл Бентон, что, как бы та ни была права, она вольна выйти замуж за лейтенанта Джона Ч. Фремонта и взять в свои руки свою судьбу. Джесси встала, поцеловала Лили в лоб и сказала: — В начале нашей беседы я просила тебя простить меня за вмешательство, но это был жест. Теперь, в конце нашего разговора, я настойчиво прошу тебя простить меня за вмешательство в твою личную жизнь и в твои убеждения. Я никогда больше не коснусь этого вопроса. Считаю, что ты ошибаешься, но это лишь мое право. Иди своим путем, моя дорогая; твой отец и я желаем тебе лишь одного: будь счастлива. Я не буду больше пытаться влиять на тебя и навязывать мое понимание счастья. Спокойной ночи, Лили._/5/_
Несмотря на то что Джон не посвящал ее в сложности финансирования железнодорожного строительства, она знала, что выпуск акций на сумму десять миллионов долларов расходился хорошо, обеспечивая деньги для закупки локомотивов, прокладки многомильного полотна в Техас и посылки в Нью-Мексико топографов для поиска удобного перевала через Скалистые горы. Однако деньги от американских инвесторов поступали медленно, что не отвечало его целям, и весной 1869 года он доверительно сказал Джесси, что наконец-то намеревается осуществить свои планы десятилетней давности: вместо продажи акций Марипозы, чему помешала в последний момент Гражданская война в Соединенных Штатах, он намерен поставить на продажу во Франции акции своей железной дороги Мемфис — Эль-Пасо. На этот раз за его идею ухватились, и было продано акций более чем на пять миллионов долларов французским капиталовкладчикам, многие из них покупали ценные бумаги благодаря вере в генерала Фремонта. Пятилетний период спокойствия и процветания подходил к концу. Она начала замечать, что ее муж все больше волнуется, отсутствует дольше обычного, возвращаясь, выглядит нервным и расстроенным. Постепенно она поняла характер трудностей: палата представителей наделила его железную дорогу правом прохода по территориям, но сенат отклонил законопроект, а без отчуждения земель невозможно было соединить восточную и западную части дороги. Стоимость выравнивания насыпи для укладки рельсов оказалась повсюду выше сметной; его инженеры столкнулись с невиданными трудностями в горах из-за оползней, промоин, крутизны подъемов; к местам строительства невозможно было подвезти материалы из-за половодья, и суда, доставлявшие железнодорожное оборудование, застряли. Ни в одном месте стоимость прокладки железной дороги через дикие и неосвоенные территории не оказалась легче или дешевле, чем предполагалось, зачастую в три-четыре раза превышаласмету. Что касается финансовых неприятностей, слишком большой процент был взят с французских капиталовкладчиков парижскими банками в оплату размещения займа; баланс был обеспечен не наличными средствами, а оборудованием и подвижным составом. Когда это оборудование прибыло из Франции в Соединенные Штаты, на месте не оказалось готового полотна, чтобы его использовать. Но самым серьезным ударом, нанесенным в конце 1869 года, было то, что повторяло по существу дело Сарджента в Лондоне. Джон действовал через французского генерального консула в Нью-Йорке, который рекомендовал его французским финансистам и инженерам. Однако когда акции поступили на Парижскую биржу, то на них было указано, что они гарантируются правительством Соединенных Штатов. Когда Джон раскрыл французской публике действительное положение, покупка его акций прекратилась и началась серия гражданских и уголовных процессов. Генерала Джона Ч. Фремонта обвиняли в Париже как участника обмана. Сенатор Говард от Мичигана, добившийся отклонения законопроекта о предоставлении права прокладки дороги через территории, воспользовался скандалом во Франции, чтобы блокировать дальнейшие попытки Джона заручиться сотрудничеством федеральных властей. После трехнедельной поездки по делам, во время которой она получала от него лишь краткие, наспех написанные записки, он приехал в Покахо как-то вечером бледный и больной. У Джесси дрогнуло сердце при виде его. Она приготовила ему ванну, достала чистый костюм, а затем принесла в библиотеку поднос с едой. Джон плюхнулся в глубокое кожаное кресло у окна, выходившего на Гудзон. Джесси присела на подлокотник кресла и положила руку на плечо Джона. Когда наконец он собрался с силами для разговора, по его хриплому, неестественному голосу она поняла, какую большую неприятность он пережил. — Все пропало, Джесси, мы вылетели в трубу. Я исчерпал до конца наши фонды три недели назад… Я неистово метался, чтобы найти деньги… Мне дали небольшое продление срока… Теперь же все кончено… Я не смог выплатить. Владельцы закладных взяли под свой контроль нашу железную дорогу. Джесси, мы отданы на милость судебного исполнителя. Она колебалась некоторое время и хотела, чтобы ее голос звучал спокойно: она озабочена прежде всего тем, чтобы удостовериться, что их потери ограничиваются долларами и рельсами. — Но как могут взять твою железную дорогу, Джон? Она ведь твоя? В ее строительство вложены твои деньги и способности… Пять лет твоей жизни… Тысячи твоих долларов… Смотря рассеянно на реку, он ответил: — Все это пропало, смыто наводнениями и промоинами, крутыми подъемами и твердыми скалами; я получил инструменты, оборудование и рельсы у промышленников в кредит; все это подлежит оплате. Если я не смогу выдать наличными, я должен отдать им железную дорогу. — Но ведь они не имеют права на большее, чем ты должен им? После того как будет оплачен долг, остальное должно принадлежать тебе. Джон устало покачал головой, словно пытаясь изгнать из головы чувство опустошенности: — Ничего не останется, Джесси. К настоящему времени проложена лишь четверть магистрали, и она бесполезна — невозможно заработать, пока линия полностью не построена. — Он посмотрел на нее, его глаза выглядели темными, больными. — Понимаешь, Джесси, нас раздавили! Я потерял не только собственность, но и контроль над дорогой. По мере того как он сбивчиво выкладывал историю обмана и вероломства, которые были основной причиной осложнений, в ее уме медленно складывалась картина финансовых интриг, которые развернулись вокруг делового аспекта его предприятия. Вновь, как в тот вечер в отеле «Кларендон», когда Джон попал в тюрьму, она поняла, что никто из них не обладает способностью к бизнесу, что они слишком доверчивы и честны и поэтому не могут понять, как деньги могут побудить старых компаньонов ко лжи и обману, к нечистоплотным действиям за спиной. Джон, инженер и провидец, обладал редким сочетанием талантов, позволивших ему отыскать и положить на карты дороги к Западу. Но может ли он одновременно быть ловким и проницательным бизнесменом? Она была убеждена, что ее муж сделал все, что мог. Она была также уверена, что не в силах изменить положение дел, даже если бы была так же близка к нынешнему бизнесу, как к его первым экспедициям. В дни военно-полевого суда она считала неприличным строить задним числом различные догадки относительно мужа — Джон должен нести тяжкое бремя первопроходца. То, что он делал, казалось в тот момент необходимым и правильным, и она соглашалась с такой оценкой. Если кто-то затем выиграл от свершений человека, то честная игра состоит в том, чтобы спокойно принять результаты ранее принятых решений. В этом суть партнерства, которое не может сохраниться на иной основе. Джесси поцеловала его в щеку у рта: — Ты столкнулся с трудностями и осложнениями, которые невозможно было предвидеть. Кто знает лучше тебя, что первопроходец, обладающий отвагой для преодоления препятствий в любой области, никогда не пожинает результатов своих трудов? Пусть у них будет эта железная дорога; ты спланируешь новую; в другой раз мы получим помощь от правительства… — Люди говорят, что трансконтинентальная дорога — это неосуществимая мечта, — резко вмешался он, — что мысль о ней следует отбросить. — …Мы используем оставшуюся часть имущества, чтобы все начать снова. Ты не должен впадать в отчаяние при первой неудаче. Он пристально смотрел на нее. — Имущество? — мрачно сказал он. — Какое имущество? — Наша доля в Марипозе. Наши земли и ранчо в Калифорнии. Дом в Нью-Йорке… Судорога пробежала по лицу Джона, когда он говорил рублеными фразами: — …Ты не поняла. Я взял кредит на полную стоимость Марипозы… Ее нет… Мы лишились приисков, а также нашей собственности в Калифорнии… Я заложил все, чтобы достроить железную дорогу. Охваченная ужасом, она могла лишь воскликнуть: — Но наши дома, Джон, ты не заложил дом в Нью-Йорке? В Покахо? — …Нью-йоркский дом — да, но не Покахо; этот дом выписан на твое имя. Все в нем принадлежит тебе. Слава Богу, я не мог заложить его; у нас есть наш дом, и больше ничего-ничего, дорогая, ни цента. Он встал, прошел в дальний угол библиотеки и остановился около книг барона Гумбольдта. За последние шесть месяцев он постарел на десять лет; Джесси приходилось видеть его сердитым, огорченным, недовольным, мстительным, отчаянно борющимся, но никогда ранее она не видела его таким подавленным, как сейчас, согбенным, его белые волосы на склоненной голове резко выделялись на фоне темных кожаных переплетов. Что касается ее самой, то у нее на момент стало тяжело на душе, но она не была подавлена или сломлена развитием событий. Разве Джон не был покорителем и губернатором Калифорнии, а затем его провезли через континент как преступника; разве он не был важным первопроходцем Америки, составителем карт и открывателем Запада, а затем подвергся военно-полевому суду и был с позором удален из армии; разве он не был знаменосцем нового политического движения, а потом потерпел поражение и был забыт; разве он не был командующим армией Запада, а потом был смещен без возможности доказать свое истинное значение? В течение пяти лет они входили в число самых богатых людей мира, внесли самый большой вклад в экспансию на Запад со времени открытия Орегонской тропы; ныне же они остались без копейки, их железная дорога обанкротилась, идея трансконтинентальной железной дороги сочтена неосуществимой. Все, к чему бы ни прикасались, они доводили почти до конца, а затем чья-то рука, судьбы или человека, отбрасывала их в сторону. Их проекты продолжали развиваться; их идеи созревали и процветали; их достижения становились частью главного потока американской жизни; но они сами, пионеры, лишались участия и вознаграждения. Что ж, если такая жизнь продиктована судьбой, то они мало что могут сделать и должны смириться с этим. Ее не страшило создавшееся положение, хотя она была обязана дать образование двум сыновьям. Не волновала ее и перспектива вернуться к суровой жизни: ее нисколько не смущало приготовление еды и уборка в комнатах мадам Кастро в Монтерее и на песчаных дюнах Сан-Франциско, если рядом с ней муж. Она может вернуться к такой жизни или начать иную, ожидающую ее; неприятности и разочарования не подорвали ее волю, ведь Джесси Бентон Фремонт похожа на крепко сколоченный корабль, которому нипочем штормовая погода. У нее одна проблема — сохранить здоровье мужа, спокойствие его ума, примирить его с потерями, помочь приспособиться, спланировать с ним новые направления, новую деятельность, новое начало. Разумеется, в пятьдесят семь лет он еще не выдохся. Шесть месяцев назад он был в расцвете сил; сегодня он опечален, огорчен. Завтра он отдохнет, восстановит свои силы и уверенность, а послезавтра они начнут сначала._/6/ _
Джесси уволила всех слуг и служанок, оставив одну горничную. Лили помогала по хозяйству, молодой Фрэнк ухаживал за садом. Она держала в одном из банков Нью-Йорка некоторое количество акций и облигаций, полученных в подарок от Джона. Эти ценные бумаги были проданы, а деньги пущены на текущие расходы. Бывшую библиотеку барона Гумбольдта продали за значительную сумму; их лошади, экипажи и парусная лодка Чарли принесли достаточную сумму, чтобы оплатить самые горящие долги. Часть большого дома была закрыта; они перестали принимать гостей, кроме самых близких друзей вроде Ханны Кирстен. Джесси непрестанно трудилась с отчаянием, ранее ей неведомым, посылая письма и петиции, чтобы побудить конгресс возвратить им сорок две тысячи долларов за конфискованный Блэк-Пойнт, добиться для Джона места в правительственном аппарате, которое обеспечило бы скромный достаток. С течением времени его горечь притупилась, он смог на какое-то время найти для себя занятие, выправляя запутанную отчетность железной дороги Мемфис — Эль-Пасо, но не было настоящей работы и подходящих должностей. Она видела, как раздражает его безделье, казалось, что внутри него что-то отмерло, и, несмотря на все усилия, она не смогла зажечь в нем внутренний огонь. Годы, когда она не считала деньги, и золото Марипозы подорвали ее умение быть бережливой. Ее беспокоило то, что приходившие счета были все еще большими, хотя жили они вроде скромно. Не говоря своей семье, она взяла значительный заем в банке под залог Покахо, полагая, что деньги позволят прожить месяцы, необходимые, чтобы Джон начал новый бизнес или получил правительственное назначение. Ее задумка оказалась наполовину успешной, но возник вопрос об оплате личной расписки Джона, о которой он забыл при крахе; он так расстраивался, что не может оплатить ее, что Джесси отдала ему полученный ею заем, слукавив, будто деньги лежали в ее сейфе в расчете на подобный случай. У них не было денег на самое необходимое. Именно в этот момент проявила характер Лили: она решила продать картины и предметы искусства и собрать деньги у тех, кто был им должен. Она взяла на себя ведение банковских счетов, покупала припасы, оплачивала счета, решала, какую часть участка следует обрабатывать, а какую — оставить неосвоенной. Джесси была признательна дочери за то, что та сняла бремя с ее плеч, — это высвободило ее время и энергию для Джона. Они совершали длительные прогулки вдоль реки; проводили зимние вечера в библиотеке перед пылающим камином; строили планы вернуться в Сан-Франциско, как только конгресс оплатит Блэк-Пойнт, и построить небольшой коттедж с видом на пролив. Она старалась подбодрить его, передавая известия от друзей в Вашингтоне, которые были убеждены, что законопроект о Блэк-Пойнте будет принят, уверяли ее, что в генерале Фремонте крайне нуждаются на таком-то посту или на такой-то должности на Западе, что вот-вот последует назначение от президента Гранта или военного департамента. Однако ровным счетом ничего не происходило: конгресс не собирался платить за Блэк-Пойнт, президент Грант игнорировал просьбы об оказании помощи своему бывшему командующему. Вдвоем Джесси и Лили совершили чудо, сохраняя Покахо почти два года. Между женщинами существовало молчаливое согласие не говорить Джону, что было продано и насколько бедственным было их положение. Но наступил момент, когда Лили призналась матери, что денег больше нет и нет вещей, которые можно продать, и что для покупки еды и содержания Чарли в Аннаполисе и Фрэнка в Вест-Пойнте они должны пойти на новый заем под залог Покахо. Они понимали, что это начало конца, поскольку не было возможности оплатить проценты по первому займу; если они не справятся с новой задолженностью, то потеряют Покахо и останутся без крыши над головой. — Не думаю, что мы должны действовать таким образом, мама, — сказала Лили. — Отец будет в отчаянии, если мы потеряем дом. У меня есть шанс, но я не уверена, что ты одобришь… — Что ты предлагаешь, Лили? — Я найду работу в Нью-Йорке. Ныне много девушек уходят в бизнес, чего не было в прошлом. Ты знаешь, что с бизнесом у меня получается, во всяком случае так говорит отец. Так почему же я не могу найти работу в какой-нибудь конторе? Что-то, мелькнувшее в глазах матери, остановило ее. — Ты добрая и смелая, Лили, — прошептала Джесси. — Но разве ты не видишь, что мы не можем этого сделать из-за отца? Пока мы живем тихо здесь, в Покахо, мир ничего не знает о состоянии наших дел. Но стоит тебе поступить на работу, и весь мир узнает, что мы в отчаянном положении и находимся на содержании дочери. Я хотела бы взять работу рядом с тобой, в той же конторе, но ты знаешь, как горд наш отец; он воспримет это как свидетельство провала. Мы должны избавить его от такого унижения. Дай мне еще немного времени: что-нибудь произойдет — назначение, деньги за Блэк-Пойнт… — Понимаю, мама, — сурово ответила Лили. Итак, они взяли новый заем под ипотеку Покахо. Зимой 1873 года неожиданно возникли большие расходы: выплыли новые долгосрочные долги, о которых не знали Джесси и Лили, но которые, как сказал Джон, необходимо покрыть. Стараясь выиграть время, сохранить рушившиеся надежды, они все больше и больше увязали в невыплате процентов по займам, и наконец к концу 1873 года банк лишил их права выкупа заклада и забрал дом. Не жалея имущества, но с почти разбитым сердцем из-за того, как это подействовало на ее бледного и седого мужа, Джесси уложила пожитки, и они переехали в Нью-Йорк. На имевшиеся доллары они арендовали небольшой уродливый дом на Восьмой-стрит, с облезшей краской на фасаде, грязный и изношенный внутри. Четыре дня Джесси и Лили работали неистово, занимаясь покраской и приведением дома в порядок; в это время Джон находился у одного из друзей. Когда он появился дома, то ранее захламленные и темные комнаты были очищены. За аренду дома они заплатили за два месяца вперед. У Джесси оставались деньги, достаточные для покупки продовольствия приблизительно на такой же срок. Она удвоила усилия, составляя письма конгрессменам, старым друзьям в армии и правительстве, выдвигая новые планы и схемы, чтобы добиться для Джона хотя бы маловидного поста, помочь провести через конгресс законопроект о возмещении за Блэк-Пойнт. Несколько раз казалось, что она близка к успеху: кандидатуру Джона предлагали на пост губернатора различных территорий, комиссара по делам индейцев в одном из западных районов, сборщика или комиссара Земельного управления в Сан-Франциско. Палата представителей провела законопроект, выделявший средства для компенсации за конфискацию Блэк-Пойнта, но в последний момент его отклонил сенат. Истекали два месяца. Джесси была в растерянности. Только однажды в прошлом ей приходилось думать о деньгах — после военно-полевого суда, когда они заняли у Тома Бентона, чтобы начать строительство дома в Калифорнии. Джесси знала, что, если обратиться к своим сестрам и ко многим друзьям, ей дадут деньги. Но сможет ли она вернуть их? Она была способна дарить, но не обладала талантом просить дар в ответ. Она предпочла бы умереть в своем жалком, тесном домике на Восьмой-стрит, умереть тихо и почетно, чем идти и протягивать руку за милостыней. Вскоре после ланча Лили стала исчезать и возвращаться в пять часов с грязными руками. Джесси поинтересовалась, не работает ли она где-нибудь, и удовлетворилась отрицательным ответом Лили. Через пару недель, когда Лили принесла в дом старую пишущую машинку, за которой просиживала несколько часов каждое утро, Джесси поняла, что ее дочь посещает школу секретарей. Она гордилась, как Лили деловым образом готовила себя к любым случайностям судьбы. К концу второго месяца она поняла, что им предстоит покинуть даже это запущенное убежище. Куда податься? Что сказать о положении Джону? Каким образом скрыть от мира тот факт, что генерал Джон Ч. Фремонт погряз в нужде? В Монтерее она отчаивалась, что их разделяет накопление золота; теперь их разделяло отсутствие золота. Как всегда, она нашла путь. Ханна Кирстен приглашала посетить ее дом в штате Нью-Йорк. Джона давно приглашал один из офицеров Западного командования приехать на Стетен-Айленд и поговорить о старых армейских делах. Лили всегда готова принять ее тетушка Сюзи в Бостоне. Когда они сидели за скромной трапезой в темной столовой, Джесси набралась смелости и сказала: — Джон, почему бы нам не принять эти приглашения? Ханна останавливалась у нас много раз и хочет, чтобы я посетила ее. Ты помнишь, сколько раз полковник Уодсворт просил тебя навестить его? Я думаю, что тебе было бы неплохо побыть среди старых армейских друзей. Разве тебе не доставило бы это удовольствия? Джон отодвинул тарелку и взял ее за руку. — Не думай, что я не знаю, как ты стараешься, дорогая Джесси, или как ты разрываешься на части. Я мало говорил… а что я мог сказать? Я привел вас в такое бедственное состояние, я один… и я не вижу путей выхода… возможной помощи… Она быстро встала, подошла к нему и поцеловала его веки. — Послушай, дорогой! — воскликнула она. — Это всего на несколько недель, потом мы снова будем вместе. Придет назначение. Хорошие времена вернутся, ты увидишь. Разве они не возвращались? Подумай, как часто мы опускались на дно и вновь поднимались. Мы так много получили от мира, Джон, так много счастья и успехов. Конечно, они закалили нас для трудных времен! Он сидел, обхватив руками свою склоненную голову, потеряв дар речи. На следующее утро в самые ранние часы они спустились по трем некрашеным ступеням своего дома, у каждого в руках был чемоданчик. Внизу они молча посмотрели друг на друга. Джесси казалось, что ничто пережитое ею раньше, даже смерть младшего Бентона, не было столь мучительным, как этот момент расставания. Сейчас ее муж нуждался в ней больше, чем когда-либо, однако из всех миллионов долларов, извлеченных ими из Марипозы, она не могла наскрести сумму, чтобы остаться рядом с мужем, когда он подавлен, болен и выглядит стариком, страдая так, как может страдать отчаянно гордый человек. Они были в разлуке в двадцатую годовщину их свадьбы потому, что Джон стоял во главе армии, преследовавшей генерала Прайса, а она работала в штаб-квартире в Сент-Луисе. Через несколько дней они могли бы отпраздновать тридцать вторую годовщину, но они вновь будут врозь. — Мой дорогой, — нежно прошептала она, — я как раз вспоминаю, что мы сказали друг другу в ту ночь в палатке около Спрингфилда. Легко говорить о любви в хорошие времена, в чудесные годы, какие были у нас в Марипозе, Блэк-Пойнте и Покахо. Но теперь, когда нам предстоит разлука, я не нахожу ничего лучшего, как сказать тебе, что люблю тебя, дорогой; я любила тебя каждый час, каждый день и в добрые и в плохие времена. Ты всегда делал мою жизнь счастливой и красивой; она красива и сегодня, потому что я люблю тебя, а ты любишь меня. Будь великодушным, думай обо мне каждый момент, пиши мне каждый день; мы найдем выход, Джон, мы ведь всегда его находили, верно? Ранним утром улицы были пустынны, а воздух недвижим. За закрытыми дверями и зашторенными окнами еще спали люди. Они были одни, две небольшие фигурки, старые, с седыми волосами, одинокие во Вселенной. Затем вдруг они слились в объятиях друг друга, уста к устам — две крошечные фигурки, превратившиеся в одну большую, великую — в символ любви нерушимой, бессмертной._/7/_
Джесси прожила у Ханны Кирстен два месяца, немного гуляла в полдень вдоль реки, слушала игру Ханны на фортепьяно и ее пение. Она надеялась, что отдых и избавление от забот помогут отыскать свежие мысли и энергию, которые позволят ей найти какое-то решение ее проблем. Однако по истечении двух месяцев она была дальше, чем когда-либо, от понимания того, что следует делать, а проходившие часы несли с собой только тьму. Крепко сколоченный корабль, который плавал лучше всех в штормовую погоду, потерял компас и руль, дрейфовал, подвергаясь ударам вздымающихся волн. Джону было неплохо у его друга на Стетен-Айленд, но как гость он становился все более беспокойным. Много раз она возвращалась к мысли, каким бессмысленным и несправедливым был общественный порядок, если человек вроде Джона Фремонта, достигший шестидесяти лет, сделавший так много для развития своей страны, обнищал, не получил компенсации за отобранное у него имущество, даже незначительного правительственного поста и пенсии от военного департамента, которому он служил столько лет. Она понимала: незаинтересованная сторона могла с полным на то основанием сказать, что все это произошло по их собственной вине — они извлекли миллионы долларов из Марипозы, входили в число могущественных и богатых мира сего, но оказались недальновидными. Они позволили деньгам проскользнуть сквозь пальцы и не обеспечили себя на случай старости и поворотов судьбы. Какой смысл говорить, что если бы они довольствовались жизнью за счет прибыли от Марипозы, то их деньги были бы в сохранности? Какой смысл говорить, что их богатство было вложено в смелую и крайне необходимую идею трансконтинентальной железной дороги, где оно и исчезло, как исчезли и исчезнут многие другие состояния, образуя насыпь, на которую в конечном счете лягут рельсы трансконтинентальной дороги? Какой смысл рекламировать десятки тысяч долларов, которые они вложили в общественные фонды, добрые движения и дела, дали отдельным лицам, чтобы вызволить их из трудного положения или помочь добиться успеха? Какой толк кричать в муках: если бы мы могли вернуть себе десятую часть отданного нами и отобранного у нас, мы могли бы прожить остаток нашей жизни достойно, в комфорте и самоуважении? Уставшая, обескураженная, ослабевшая духом и телом, она задумывалась над тем, что с ними будет, если она останется такой же опустошенной. Она помнила наставление отца: не надо тревожиться о будущем, ибо если оно придет, то его можно встретить с таким же разумным решением, какое принималось в прошлом. Это наставление было верным на протяжении тридцати двух лет супружества, ныне же ее способности бороться с невзгодами исчерпались. Она не представляла, как долго пребывала бы в такой тупой апатии, не будь телеграммы из Стетен-Айленда, в которой сообщалось, что Джон заболел. Немедля она вспомнила, как сама перенесла пневмонию во время военно-полевого суда и насколько опасна эта болезнь. Не имея на руках железнодорожного билета, денег, не имея каких-либо планов — ничего, кроме убеждения, что должна без промедления добраться до мужа, она принялась складывать свои платья в чемодан. Ханна Кирстен не принадлежала к кругу тех, кто утешает лишь на словах: через несколько минут Джесси уже сидела в карете Кирстенов. Вскоре она и Ханна были в доме полковника Уодсворта у изголовья постели Джона. Врач Стетен-Айленда объяснил, что состояние ее мужа тяжелое, что его следует как можно скорее перевезти на зиму в более мягкий климат, в место типа Нассау, где он сможет восстановить свои силы. Стоя у постели Джона, глядя на его осунувшееся, бледное лицо, она думала, как найти выход из положения. Точное понимание того, что она может и должна делать, пришло мгновенно, оставалось только действовать. Она сказала Ханне, что должна тотчас же выехать в Нью-Йорк. Через несколько минут Ханна посадила ее на паром, уверив, что останется в Стетен-Айленде и будет ухаживать за Джоном до ее возвращения. Она обещала также каждое утро и вечер посылать телеграммы Джесси в Астор-хауз. Паром, на котором плыла Джесси, прибыл в Нью-Йорк в семь часов холодным зимним вечером. Экипаж провез ее до Астор-хауз по засыпанным мокрым снегом улицам. Она не стала ужинать, а, едва войдя в номер, разделась, вытянулась на постели и тут же провалилась в глубокий сон. Она проснулась в семь часов утра, вымылась, намазала кремом лицо и тщательно причесала волосы, затем вызвала экономку и попросила отгладить ее единственное розовое шелковое платье. В девять часов утра она позавтракала в ресторане Астор-хауз и поехала в редакцию нью-йоркского журнала «Леджер». Ей пришлось прождать всего минуту после предъявления своей визитной карточки. Роберт Боннер, рыжебородый ирландец, владевший журналом «Леджер», вышел из своего кабинета, широко улыбнулся, пожимая руку, а затем провел ее в отделанный деревянными панелями кабинет с большим письменным столом, беспорядочно заваленным рукописями и набором дурно пахнущих трубок. У Боннера было две страсти: скаковые лошади и броская реклама; он и Лили часто скакали на лошадях Фремонта по холмам над Гудзоном. С уверенностью в голосе Джесси сказала: — Мистер Боннер, думаю, что некоторые из моих ранних очерков, написанных вместе с Джоном, и некоторые мои путешествия могут стать предметом превосходных статей для ваших читателей. Боннер энергично одобрил эту мысль кивком головы: — Действительно, они явятся таковыми, миссис Фремонт. Что конкретно вы имеете в виду? — Ну, рассказы о моей первой поездке через Панаму, когда только что была открыта дорога и сотни американцев застряли в Панама-Сити; истории, почерпнутые из нашей жизни в Монтерее, когда Калифорния стала штатом; большие пожары и действия «бдящих» в Сан-Франциско; рассказы о том, как нас осаждала лига «Горнитас» в горах Сьерры. Или же мои воспоминания о Белом доме, семейной жизни первых президентов и первых леди. — Это кажется увлекательным, миссис Фремонт. Неожиданно она спросила: — Сколько вы платите за каждый рассказ? Мистер Боннер был несколько ошеломлен таким быстрым переходом беседы в коммерческое русло: — Ну… ох… мы можем платить по сотне долларов за рассказ, миссис Фремонт, но всегда при условии, что материал хороший. — Разумеется, — согласилась Джесси, вставая. — Рассказы будут исключительно хорошими. Спасибо, мистер Боннер, и до свидания. На обратном пути Джесси зашла в писчебумажный магазин, где купила карандаши, ластики, ручки, чернила и несколько пачек бумаги. К тому моменту, когда она вошла в свою комнату, она подсчитала, что пароходные билеты в Нассау, гостиница там, а также медицинский уход обойдутся примерно в тысячу долларов. Чтобы получить такие деньги, она должна написать десять рассказов. Было около двенадцати часов, когда она сняла шляпку и пальто и разложила на столе купленный ею в писчебумажном магазине материал. К шести часам у нее была готова и переписана статья «Панама». Проголодавшаяся, она вспомнила, что ничего не ела после утреннего завтрака, и заказала в номер легкий ужин, затем час отдохнула. Около восьми часов вечера она села за письменный стол и приступила к работе над второй статьей. Она быстро вошла в колею, и изложение шло гладко. К двум часам ночи рассказ о лиге «Горнитас» «Осаждение» был завершен и аккуратно переписан. Она поспала от двух тридцати до пяти тридцати. К моменту, когда она заказала завтрак, у нее был уже приблизительный план третьего рассказа. От Ханны пришла телеграмма с сообщением, что Джон поправляется. В этот день к часу ночи она добавила три рассказа к двум написанным в предыдущий день. На третий день она написала еще три рассказа, и общее их число достигло восьми. В прошлую ночь она спала всего три часа, поэтому проспала в эту с часа ночи до шести утра. Она проснулась с мыслью: «Еще два рассказа, и я буду иметь нужную мне тысячу долларов». Успокаивающая телеграмма от Ханны ободрила ее и добавила энергии. С наступлением ночи у нее было готово десять рассказов, и она вдруг подумала: «Я не должна останавливаться; тысячи долларов может не хватить, нужно иметь про запас. Если я напишу еще…» Одиннадцатый рассказ продвигался с трудом не из-за недостатка воли, а потому, что накопленный материал стал истощаться, и ей становилось все труднее изыскивать интересные темы. Наконец она решила остановиться на теме «Семейная жизнь в Белом доме» и быстро, почти на одном дыхании написала статью, закончив ее в полночь. Не раздеваясь, она вытянулась на постели, чтобы отдохнуть несколько минут, а когда проснулась, было уже утро. Вновь она приняла ванну, причесала волосы, надела розовое шелковое платье и поехала в редакцию «Леджера». Мистер Боннер был несколько удивлен ее визитом. Когда она развязала пачку, которую держала под мышкой, со словами; «Я закончила одиннадцать рассказов», он вытаращил от удивления глаза: — Одиннадцать расс… Ну, миссис Фремонт, я полагал, что вам потребуются недели, даже месяцы для их написания. Впервые осознав, что у редактора есть все основания удивляться ее образу действий, Джесси спросила встревоженно: — Конечно, это не меняет нашей договоренности? Вы увидите, что рассказы хорошо написаны… они касаются ранней границы и периода первопроходцев… Боннер хихикнул, отвечая ей: — Я поражен вашей продуктивностью. Я намеренно запугиваю своих авторов, чтобы выколотить из них хотя бы один рассказ за пять дней, а тут одиннадцать рассказов. — В таком случае могу ли я сразу получить деньги, мистер Боннер? Сто долларов за рассказ, в целом одиннадцать сотен. Боннер раскрыл от удивления рот. — Одиннадцать сотен долларов, — пробормотал он. — Это куча денег. — Но и куча рассказов. — Вы не возражаете, если я прочитаю их? — Разумеется, нет, читайте. У редактора не было намерения читать рукописи в присутствии автора, который следил бы за каждым его выражением, но он вздохнул и взял первый рассказ. Пробежав быстро пять статей, он делал карандашные поправки, раскуривая походя наполовину выкуренные трубки и время от времени крякая от удовольствия. В конце пятой рукописи он взглянул на Джесси и сказал: — Да, сделано хорошо; нашим подписчикам понравится. Предположим, я дам вам сейчас чек на пятьсот долларов, а остальную сумму, когда прочитаю оставшиеся рассказы? — Прекрасно, — ответила она. — Это позволит мне вывезти генерала Фремонта в Нассау. У него пневмония. Роберт Боннер встал, попросил бухгалтера выдать чек Джесси, сказал ей, что уверен — генерал поправится, и предположил, что после возвращения она посетит его, чтобы условиться относительно новых рассказов. Быстрым шагом дойдя до пароходной компании, Джесси приобрела билеты до Нассау, а затем села на паром, отплывавший к Стетен-Айленду._/8/_
Теплое солнце Нассау исцелило Джона. Джесси была счастлива вновь быть рядом с мужем и почти уверовала в то, что болезнь была как бы специально выдумана, чтобы вновь свести их вместе. Думая о двух наполненных страхом месяцах у Ханны, она могла лишь представить себе, что была так же больна, как Джон, и теперь поправлялась от своей умственной и духовной пневмонии. Она понимала, что нашла возможность зарабатывать на жизнь: когда прошла усталость четырехдневных напряженных усилий, она задумала сотни рассказов. Она вновь выразила мысленно благодарность Тому Бентону за спасение их жизней. Она была благодарна ему за обучение начиная с того времени, когда ей было всего двенадцать лет, умению писать и редактировать, но никогда не могла себе представить, что однажды ей придется использовать это благоприобретенное мастерство для обеспечения средств на жизнь. Ныне же это не только помогло ей спасти мужа, но и открыло возможность жить вместе с ним долгие годы. Множество раз на дню она благословляла память отца и мужа, позволившего ей сотрудничать в составлении его докладов об экспедициях, за его готовность дать ей возможность приобрести профессию, которая спасла их двоих. Они лениво бродили по белому пляжу, собирали ракушки и вспоминали другие дни и другие пляжи: Сиасконсет, где они отклонили предложение демократов выдвинуть кандидатуру Джона на пост президента, Блэк-Пойнт, где они прогуливались по песчаному грунту у подножия утеса, на котором стоял их коттедж, и любовались, как в Тихий океан садится солнце. Эти добрые воспоминания были такими же целебными, как чистый воздух и яркое солнце, и вскоре они стали выплывать на небольшой лодке днем на рыбную ловлю. Джесси вновь пополнела, ее щеки обрели прежний цвет, а глаза заблестели. Именно тогда у нее хватило смелости заговорить с ним о будущем. — Джон, когда я вспоминаю прошлое, то мне представляется, что наши лучшие часы и самое доброе из памятного связаны с работой, которую мы выполняли вместе. Он лениво потянулся на подушках, уложенных на днище лодки, поправил зонтик так, чтобы лучи солнца не падали на его лицо, а затем медленно ответил: — Да, месяцы, когда мы сотрудничали в составлении докладов… кампания 1856 года… сто дней в Миссури… они рисуются в моей памяти, как высокие пики Скалистых гор. — В таком случае, как только ты окрепнешь, почему бы нам не продолжить сотрудничество? Редактор хочет получить больше рассказов, а мы хорошо пишем вместе — по меньшей мере ты всегда так говорил. У тебя было достаточно приключений и опыта, их хватит на сотни книг, которые, как я всегда думала, ты должен написать… — Я не писатель, Джесси. Разве ты забыла о кровотечении в доме на Си-стрит? — И я не писатель! Но вместе мы всегда успешно работали. Ты поставляешь материал, а я составляю рассказы. Разве такое распределение несправедливо? Весной они вернулись в Нью-Йорк. Джесси нашла скромный коттедж на Стетен-Айленде около моря и попросила Лили вернуться к ним. Серия статей в «Леджере» была хорошо принята читателями. Роберт Боннер предложил Джесси написать новые рассказы. — Только не зараз одиннадцать, дорогая миссис Фремонт, прошу вас! Поскольку она могла писать быстрее, чем «Леджер» публиковать, она посетила редакторов журналов «Харперс», «Сенчури» и «Уайд эуэйк». Они видели рассказы в «Леджере» и поэтому охотно соглашались на сотрудничество. Летние и осенние месяцы прошли быстро и счастливо, семейная троица работала сообща. Джон составлял заметки о тропах и горах, о своих первых экспедициях, обеспечивавшие Джесси фактический материал. Она писала свои рассказы карандашом. Сделанный ею набросок Лили перепечатывала на пишущей машинке. Жили они скромно, но были глубоко счастливы, поскольку каждый был занят своим делом; Чарли успешно осуществил свое первое плавание, а у Фрэнка хорошо шла учеба в Вест-Пойнте. Лили взяла на себя управление домом и семейными средствами, Джесси освободилась от дел, которые ее мало интересовали, и могла писать три-четыре часа утром, а в полдень совершать с Джоном длительные прогулки по острову, наблюдать за движением судов в нью-йоркской гавани, подобно тому как они это делали со своей застекленной веранды в Блэк-Пойнте. Наконец в 1878 году президент Хейс[24] назначил Джона губернатором территории Аризоны с окладом две тысячи долларов в год. Сердце Джесси ликовало, ибо назначение означало, что Джон вновь служит стране, он вновь обрел положение и становится активным. Они пересекли континент и приехали в Сан-Франциско за семь дней, воспользовавшись железной дорогой, проложенной на пепле исходных планов Джона Фремонта. Прошло семнадцать лет с тех пор, как она отплывала от Золотых Ворот, чтобы присоединиться к мужу, назначенному генерал-майором Западного командования. Сан-Франциско превратился в большой процветающий город; почти ничего не осталось от того, что напоминало бы Джесси тот городишко, который она впервые увидела, спускаясь в 1849 году с борта парохода «Панама». Зная, что их дом на Блэк-Пойнте снесен, она отклонила предложение Джона поехать туда. Они задержались в Сан-Франциско лишь на срок, необходимый, чтобы восстановить свои права на принадлежавшие им земельные участки, потом сели на поезд, отправлявшийся в Лос-Анджелес. Джон настаивал на том, чтобы проехать к Форт-Хилл, где он мог показать Джесси укрепления и остатки батареи, которые он возвел для обороны Лос-Анджелеса в 1847 году. Поезд доставил их из Лос-Анджелеса в Юма, где их ожидали армейские повозки, каждая с упряжкой в шесть мулов. Джесси, Джон и Лили поехали в первой повозке, пересекли реку Джила, где вода доходила до середины колес, и встали в первую ночь лагерем на берегу реки Колорадо. Это напомнило Джесси ее прежние дни пребывания в Калифорнии; ей лишь захотелось увидеть Биля и старину Найта скачущими по пустыне. Джесси и Лили отправились на поиски жилья в Прескотте и сняли дом, построенный из сосновых и можжевеловых досок и обтянутый внутри хлопчатобумажным полотном. Дерево было источено паразитами, и женщины сняли полотно, отскоблили доски и обработали их горячим щелоком. Лили следила за тем, чтобы в доме всегда были полевые цветы во влажное время года, желтые и темно-красные цветы кактусов в сухой сезон. Каждую пятницу Джесси преподавала историю детям в школе. Она гордилась тем, как Прескотт становится довольно крупным поселением по мере строительства церквей, больниц и оштукатуренных домов. Поселок выглядел грубоватым, его деревянные тротуары порой разрушались песчаными бурями, а глинобитные дома размывали ливни; это был только что родившийся городок в дикой стране, находящейся в процессе превращения из территории в штат. Но разве вся ее жизнь и жизнь ее семьи не проходила в подобном окружении? Разве не таким был их образ жизни в молодых городах — Сент-Луисе, Вашингтоне, Монтерее, Сан-Франциско, Марипозе и теперь в Прескотте? Обязанности Джона были простыми, они сводились к поддержанию скорее доброй воли, чем законности и порядка. К сожалению, аренда дома достигала девяноста долларов в месяц, на повара-китайца, рекомендованного симпатичной тетушкой в Лос-Анджелесе, уходило еще сорок долларов в месяц, а пища стоила в три раза дороже, чем в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Джесси продолжала заниматься писательской работой, ведь оклад Джона в две тысячи долларов в год с трудом покрывал расходы на питание и аренду дома. Они не могли держать верховых лошадей, поскольку цена сена достигала пятидесяти долларов за тонну, но армейский пост позволял губернатору пользоваться его конюшней. Джон и Лили проводили дни в седле, разъезжая по пустыне. Джесси с трудом переносила большую высоту. Ей было трудно работать, часто не хватало воздуха, и, возвращаясь с прогулки, она сразу же ложилась. Она не говорила своим, что в этой новой стране ее сердце и легкие ведут себя странно и вялость, мешающая писать, вызвана чем-то иным, а не леностью и довольством. Она держалась целый год, полная решимости не сдаваться и не тревожить семью. Но однажды, вернувшись после прогулки верхом, Джон и Лили нашли ее в обмороке на полу. Приведя ее в сознание, они потребовали рассказать, что случилось, и она не могла более скрывать свое плохое самочувствие. Джон немедленно объявил, что уйдет в отставку с поста губернатора и отвезет ее назад, на Стетен-Айленд. Джесси посмотрела на загорелое лицо мужа, излучавшее крепкое здоровье. Она не могла позволить ему вернуться к ненавистному безделью и безвестности. В этот вечер она пришла к компромиссу: она возвратится на Восток; Лили останется в Прескотте, чтобы составить компанию отцу. Джон и Лили приедут на Восток для отдыха, а она посетит их в Прескотте при более благоприятной погоде. Ни муж, ни дочь не хотели, чтобы она уезжала, но она убедила их, что это лучший выход из положения. Так Джесси виделась в последний раз с мужем и дочерью перед разлукой, длившейся целых три года, поскольку у них не было денег для поездок. Джесси жила в одиночестве в коттедже, который они ранее снимали на Стетен-Айленде, писала рассказы и очерки; они были сведены в книги под названием «Очерки Дальнего Запада», «Год американского путешествия», «Рассказы о воле и пути», «Воспоминания о моем времени». Ее произведения расходились сравнительно хорошо; доходы не гарантировали ее будущее, но позволяли оплатить расходы на Стетен-Айленде и ежемесячно посылать несколько долларов Лили для ведения домашнего хозяйства в Прескотте. Она вела экономную жизнь, носила старые платья, редко выезжала в Нью-Йорк, избегала светских встреч. Время от времени ее навещал Чарли, возвращаясь из плавания, и Фрэнк, ставший младшим лейтенантом в армии. Ханна Кирстен и другие ее старые друзья приезжали на несколько дней составить ей компанию. И все же она была одинока. Она вспоминала слова Лили, сказанные в их библиотеке в Покахо, что, когда нет дома мужа, мать ползает, как подбитое существо. Мысленно она вновь и вновь возвращалась к тем годам, когда Джон уезжал с экспедицией и она жила без него полгода, год, два года. Подводя итог своим воспоминаниям, она поняла, что половину жизни провела в разлуке с мужем. Разлука была необходимой иногда ради карьеры, иногда из-за бродяжнического характера Джона, а ей совсем не нужной. Находиться в разлуке с мужем половину жизни — значит жить в супружестве лишь наполовину; а теперь было уже поздно наверстать потерянные годы, восстановить в супружестве то, что было растрачено. Она так много испытала, постарела и поэтому думала, что боль притупится, но этого не случилось. Вновь и вновь она думала о возвращении в Аризону: лучше быть больной рядом с Джоном, чем здоровой, но духовно полумертвой без него. В другие моменты у нее возникала мысль просить Джона вернуться на Стетен-Айленд, но, вспомнив, как он счастлив в положении губернатора, понимала, что не может делать этого. Ей, одинокой, было особенно горько, когда подошло ее пятидесятивосьмилетие. По этому случаю у нее появились сентиментальные воспоминания о том, как Джон сопротивлялся празднованию своего сорокалетия в Париже, полагая, что для исследователя и следопыта это фатальная веха. Ей потребовалось на восемнадцать лет больше, чтобы подойти к таким же мыслям; ведь ранее она чувствовала себя постаревшей лишь несколько раз: в индейской резервации Делавэра, на песчаных дюнах Сан-Франциско, в Сент-Луисе после того, как передала командование генералу Хантеру, в течение двух месяцев жизни у Ханны Кирстен. Но теперь, вступая в свойпятьдесят девятый год, пребывая в унынии в своем маленьком коттедже, поседевшая, хотя ее брови оставались густыми и темными, с более округлым, чем в молодости, лицом и глазами, цвет которых стал темнее, с поджатым ртом, она поняла по всем этим признакам, что она уже старая. Весной 1883 года она получила от Джона телеграмму, в которой он сообщал, что подал в отставку и возвращается на Стетен-Айленд, чтобы быть рядом с ней. Ее глаза заблестели от счастья, но тут же возникла тревога по поводу их финансового положения. Она была не в состоянии писать так регулярно, как писала в предшествовавшие годы: большая часть накопленного была исчерпана, и редакторы частенько отвергали ее рассказы. Она сказала себе, что возвращение мужа вернет ей силы и воодушевит ее и они как-нибудь выкарабкаются. Когда появился Джон, он показался ей таким же молодым и красивым, каким она знала его в молодости. В его голове роились деловые замыслы: разработка шахт в Аризоне, прокладка коротких железнодорожных линий, чтобы заменить дилижансы, ирригация Империал-Валли в Калифорнии. Несколько недель он провел в Нью-Йорке, пытаясь осуществить свои замыслы, но восточные финансовые магнаты не проявили интереса: у них не было желания начинать первопроходческие мероприятия с семидесятилетним человеком; через несколько месяцев его энтузиазм угас. Следующие несколько лет они прожили в особо стесненном финансовом положении. В их скромном коттедже осталось мало того, что напоминало о былом величии: всего несколько ценных книг, одна или две картины, сувениры от ранних экспедиций и президентской кампании 1856 года, от Ста дней. Джесси не всегда понимала, как удается Лили наскрести денег, чтобы обеспечить повседневные нужды. Джесси иногда подозревала, что ее дочь берет для перепечатки работу на стороне. Они сидели перед камином в жилой комнате, читая «Личные воспоминания» Улисса Гранта, как вдруг Джесси воскликнула: — Знаешь, Джон, воспоминания Гранта популярны; распродано много экземпляров. Почему бы тебе не написать свои воспоминания? Если бы ты смог написать полную историю своих экспедиций и всего, что ты сделал с 1840 года, то какая замечательная работа получилась бы! Глаза Джона сверкнули, но он промолчал. — Кто, кроме тебя, может собрать все бесчисленные фрагменты и рассказать полную правду, как сделал отец в своей книге «Тридцать лет в сенате Соединенных Штатов»? — Да, мне это нравится, — медленно ответил Джон, — ты думаешь, найдем мы издателя? — Уверена, можем найти. Я завтра отправлюсь в Нью-Йорк и договорюсь. — Нам нужно переехать в Вашингтон, ты понимаешь. Все документы там, в библиотеке конгресса. — Мы это устроим. Ты взбодришься от переезда в Вашингтон. Это поможет тебе написать книгу. На следующее утро она обнаружила, что издателей идея не воодушевила. Они говорили, что хотели бы видеть готовую рукопись, и отказывались выдать аванс для написания книги. Фирма «Белфорд энд Кларк» проявила больше энтузиазма. Отказываясь выдать аванс, она была готова подписать щедрый контракт и опубликовать рукопись немедленно после ее завершения. Джесси почувствовала облегчение, что может сообщить эту приятную новость мужу. Но как смогут они прожить в Вашингтоне год, необходимый для написания книги? Стоя на носу парома Стетен-Айленда, она осознала, что ответ зависит от нее. Вновь она должна найти выход. Перед ее мысленным взором возникла картина: она в библиотеке дома на Си-стрит в то утро, когда ее муж выехал в первую экспедицию. Том Бентон говорит: — Никто еще не изложил полную историю исследования Америки… Думаю, что наш народ получил бы удовольствие от такой истории, Джесси. Она была беременна Лили, когда отец довел эту идею до ее сознания; с тех пор прошло сорок четыре года, но никто так и не написал полную историю исследования Запада. Вот она, готовая, отвечающая ее целям идея! Джесси рассказала Джону о контракте, постаралась представить в лучшем виде тот обескураживающий факт, что никто не захотел выдать аванс под авторские права, а потом села зарабатывать деньги, необходимые для проживания в Вашингтоне в течение года. Она сделала несколько неудачных заходов, но через неделю писала уже легко и регулярно, работая над двадцатью статьями об исследовании Америки и жизни исследователей. Четыре статьи нью-йоркские редакторы отвергли. Остальные шестнадцать купили. Получив нужные деньги, она перевезла семью в Вашингтон, где сняла на Дюпон-Серкл дом, окна которого выходили на зеленый участок Британской миссии. Переднюю комнату на втором этаже она превратила в рабочий кабинет, где около окна, выходившего на восток, поставила письменный стол Джона, по другую сторону — обтянутый зеленой кожей стол для себя. Лили разместила свою пишущую машинку в нише. Джесси нравилось вновь работать сообща с Джоном. Они вставали в семь часов утра, пили чай с булочкой, затем писали до полудня, прерываясь для легкой закуски, возвращались на рабочее место в час и работали без перерыва до шести часов вечера. По просьбе Джона она написала краткую биографию отца, призванную служить введением, но основной текст она записывала под диктовку Джона, делая пометки относительно материала, который следовало бы включить. Лили брала написанное ею и перепечатывала на машинке. Корреспондент вашингтонской газеты «Стар» сообщал в газете:«Генералу Фремонту уже семьдесят четыре года, а выглядит он на шестьдесят. Его волосы, короткая бородка и усы — белые, но его карие глаза — ясные и блестящие, как звезды, и цвет его лица смуглый, здоровый, как у ребенка».Год прошел быстро и счастливо, они с удовольствием совершали путешествие в свое славное прошлое. Настоящее для них почти не существовало. Они не могли привыкнуть к изменениям в Вашингтоне. То, что Том Бентон считал вонючей грязной дырой в 1820 году, в 1886-м стало мировой столицей с тысячами красивых домов, парков, правительственных зданий. Практически все дорогие им памятные вехи исчезли: дом Бентонов, дом Хасслера с обсерваторией, стекольный завод; были застроены поля, по которым они бродили в дни перед свадьбой. Ушли в мир иной многие друзья — коллеги Тома Бентона в сенате. Они хотели издать книгу в двух томах. Издатели поручили своим агентам заняться подпиской, но лишь немногие покупатели были готовы расстаться с двенадцатью долларами до публикации. Джесси была уверена, что, когда книга выйдет и в печати появятся положительные отзывы, она будет хорошо продаваться. Книга вышла, но раскупалась плохо. Джесси старалась докопаться до причин: почему? Она понимала, что книга слишком дорогая, что значительная часть материала уже опубликована в их прежних докладах и широко известна, что издатели — новички в этом деле и не отличаются проницательностью; но все эти причины не давали удовлетворительного ответа, почему читатели не покупают «Мемуары» Джона Фремонта. Где-то в тайниках ума она догадывалась, что книга не удалась потому, что история обошла стороной Джона Фремонта, он жил вне своего времени, как было и с ее отцом; новый молодой мир интересуется другими людьми и вещами. За год настойчивой работы они не получили ровно ничего; издатели понесли убытки, выпустив громоздкую иллюстрированную книгу, и Джесси слишком поздно узнала, что контракт не предусматривает выплаты гонорара, пока издатель не покрыл свои расходы. Весь год она наблюдала, с какой радостью работает Джон, давая блестящий анализ исторических сил. В свои семьдесят четыре года он был таким же молодым и полным энергии как и в тридцать четыре. Теперь, не получив и доллара за свои длительные труды и лишившись возможности написать второй том, Джон заболел. Когда врачи сказали ей, что она должна немедленно отвезти его в страну с более мягким и теплым климатом, перед ней встала та же проблема, что тринадцать лет назад. Но теперь уже не было возможности быстро заработать деньги, чтобы вывезти его в Нассау. Она вынуждена была пойти на то, чего ранее чета Фремонт не делала: она посетила Коллинса П. Хантингтона, находившегося в Вашингтоне по делам своей Южно-Тихоокеанской железной дороги. Когда она рассказала Хантингтону об обстоятельствах, он тут же сказал: — Вы должны поехать в Калифорнию. Вам следовало бы предоставить мой персональный вагон, но он уже арендован. Я приду сегодня вечером с железнодорожными билетами и необходимыми письмами, чтобы обеспечить вам приятное путешествие. Вечером Джесси провела Коллинса Хантингтона в спальню, где лежал Джон. Узнав о цели визита, Джон разволновался. — Ты не имела права поступать так, Джесси, — сказал он со слезами на глазах. — Мы не можем заплатить мистеру Хантингтону… Хантингтон тихо сказал: — Генерал, разве вы забыли, что наша железная дорога проходит по пеплу ваших лагерных костров и поднимается по склонам, которые вы преодолевали на мулах? Я думаю, что мы ваши должники.
_/9/_
Джесси сняла на Оук-стрит в Лос-Анджелесе увитый виноградными лозами дом из красного дерева, который стоял в центре широкого лужка с цветущими кустами. Здесь под теплым калифорнийским солнцем Джон поправил свое здоровье. Они жили тихо, редко выходили за пределы своего участка, принимали старых друзей, приходивших каждый полдень на чай. Джесси перестала писать, понимая, что изложила все свои истории. Но когда молодые историки вроде Джозиа Ройса обрушивались на Джона, обзывая его политическим авантюристом в Калифорнии, не имевшим секретных приказов, обычным разметчиком троп, не проводившим никаких исследований, она писала страстные статьи с опровержениями, которые публиковались в таких журналах, как «Сенчури». Эти статьи принесли немного денег. Теперь каждый из сыновей присылал ежемесячно чек на небольшую сумму, и они жили со скромными удобствами. Она никогда не прекращала усилий провести через конгресс законопроект о выплате компенсации за реквизированный Блэк-Пойнт; и здесь, в мягком тепле Южной Калифорнии, она начала свою последнюю кампанию: добиться включения Джона в число пенсионеров, служивших в армии. Ее новые усилия казались более обещающими, чем когда-либо прежде: через палату представителей прошел законопроект о возвращении им покупной цены Блэк-Пойнта, предложение дать Джону пенсию генерал-майора было встречено благоприятно. Джон становился все более взвинченным. Он разрабатывал планы, которые хотел обсудить со своими бывшими деловыми партнерами в Нью-Йорке; его присутствие в Вашингтоне будет полезным для включения его в список пенсионеров и проведения законопроекта о Блэк-Пойнте через сенат. Зимой 1889 года Джесси нехотя согласилась, что ему следует поехать на Восток. Она наблюдала, как слабеют его силы, ибо хотя в возрасте семидесяти семи лет его ум казался таким же активным, каким был всегда, она знала, что физические силы стали его покидать. Ей было нелегко выпустить его из-под своего хозяйского контроля, без резковатой, но эффективной опеки Лили, но держать вопреки его воле, когда он так нуждается в движении, значило бы нанести ему более тяжелый удар, чем разлука. Он намечал уехать на два месяца; у Джесси не было денег, чтобы сопровождать его. Она спокойно сидела в маленьком коттедже, ожидая почтальона, спускавшегося по Оук-стрит с кожаной сумкой на боку, в которой он приносил ежедневный пакет новостей от Джона. Он остановился в дешевом пансионате в неухоженной части города, вместо того, чтобы снять номер в Астор-хауз или поселиться у кого-либо из друзей, чувствовал себя хорошо, был возбужден и активен. Наконец в апреле она получила письмо, сообщающее, что конгресс даровал ему пожизненную пенсию в размере шести тысяч долларов в год, «принимая во внимание услуги нашей стране, оказанные Джоном Ч. Фремонтом, администратором и солдатом». Джесси прижала письмо к себе, вновь и вновь перечитывала его. За долгие годы это была самая добрая новость. Правительство признало наконец, что оно в долгу перед Джоном Фремонтом. Теперь они смогут провести оставшиеся годы в мире и довольстве, избавленные от финансовых забот. Из письма Джона она поняла, как много это значило для него, как он был доволен тем, что его заслуги получили признание, что национальная печать единодушно похвалила законопроект. Он намерен завершить некоторые дела, затем вернуться в Лос-Анджелес к своей Джесси, и они уже никогда больше не расстанутся. Однако проходили недели, а Джон все не возвращался. Не желая торопить его, коль скоро он считает нужным завершить свои дела в Нью-Йорке, она все больше волновалась. Вдруг в жаркое удушливое июльское утро она получила телеграмму от Чарли, находившегося в Вашингтоне в отпуске. В телеграмме говорилось: «ОТЕЦ БОЛЕН». Она сидела в кресле-качалке под дубом на переднем дворике неподвижно, почти не дыша. Мучила мысль, что он свалился больной в неуютной спальне незнакомого меблированного дома, без жены, которая позаботилась бы о нем, без выращенной им семьи, без немногих любимых сувениров своей жизни. Через три часа, в тот самый момент, когда колокола соседней церкви стали отбивать полдень, от Чарли пришла вторая телеграмма. В ней было сказано: «ОТЕЦ УМЕР». Спустя некоторое время она медленно вошла в дом и села за свой письменный стол в углу небольшой комнаты, где висел портрет генерала Джона Ч. Фремонта, написанный во время Ста дней. На боковой стене над креслом находился ее портрет, написанный маслом вскоре после свадьбы. Она села, всматриваясь в оба портрета, не способная понять, почему Джон Фремонт умер в возрасте семидесяти восьми лет, а она все еще жива. У нее щемило сердце, потому что он умер вдали от нее, один, без последнего утешения ее рук. Наступила ночь, когда несколько утихло отупляющее чувство горя и она поняла, что происшедшее не случайно: именно так хотел умереть Джон Фремонт, в одиночестве, ведь он был всегда одинок, этот скромный, сдержанный невысокий мужчина, который сорок пять лет искал в ослепляющем снегопаде гор Сьерры не нанесенный на карты перевал. В эти последние недели он понимал, что умрет; сколь бы сильно ни любил он ее пятьдесят лет, он хотел умереть в одиночестве в жалкой постели пансионата, умереть в тех же условиях, в каких был рожден, — отверженным, незаконным… И теперь наконец-то она поняла, что никогда не выполнит задачу, которую поставила перед собой в свои семнадцать лет. Выйдя замуж полстолетия назад, она так и не разгадала загадку Джона Фремонта. В своей любви, в своей преданности она, возможно, подошла ближе, чем любая другая женщина, к разгадке, и все же так много нераскрытого уйдет с ним в могилу. Она подумала, что это и есть неудавшаяся часть ее замужества. Теперь она осознала: никто не может полностью понять душу другого человека. Однако важно не полное и окончательное раскрытие, а поиск, вечно присутствующее и любящее желание понять. В конечном счете это и есть любовь, если смотреть на нее с высоты прожитого вместе полстолетия: вначале приятный роман, затем физическая близость, честолюбие и совместная работа, создание семьи и очага, свершение добрых и разнообразных дел, зрелое партнерство в успехе, провалах и трудностях. Да, любовь незримо меняется с течением времени, но самое прекрасное из всех человеческих свершений, имеющих самое глубокое значение, есть поиск взаимопонимания, стремление понять своего партнера. Это и есть супружество. Последовавшие дни были тяжелыми. Не было возможности доставить тело Джона в Калифорнию для захоронения, не могла она вовремя добраться до Нью-Йорка, чтобы присутствовать при похоронах. Она тихо сидела в кресле в углу комнаты, перечитывая последние любовные послания мужа к ней в то время, когда сын хоронил его на холме над Гудзоном и Покахо. Она чувствовала, как Лили старается защитить ее, скрывая свое горе, не навязываясь и в то же время постоянно готовая утешить и помочь, когда нужно. Она не проливала слез, ибо ни о чем не сожалела. Не было ничего такого, в чем можно было бы упрекнуть себя или сделать по-иному. Она отдала Джону Фремонту всю свою любовь и делала это всю жизнь; она может теперь жить спокойно, пока не наступит и ее смертный час. Их совместная жизнь прошла так быстро, что некогда было остановиться, подумать о случившемся. Теперь у нее есть такая возможность. Она была рада тому, что может мысленно обозреть всю прошедшую жизнь, лучше понять ее теперь, когда у нее есть для этого время. Она прожила с Джоном бурную жизнь; теперь она сможет вновь пережить ее спокойно, наслаждаясь лучшим, что в ней было. Она взяла письмо, которое Чарли написал Лили, рассказывая сестре, насколько безболезненными были последние часы отца и как должны они быть благодарны тому, что его последние месяцы были для него счастливыми. Затем в конце письма она заметила нечто, привлекшее ее внимание:«Не осмеливаюсь думать, как повлияет это на мать. А когда думаю, то прихожу к мысли, не будет ли самое страшное самым добрым. Ведь они жили один в другом, и поэтому сомневаюсь, чтобы сохранялся смысл жизни для другого оставшегося».«Нет, Чарли, — подумала она, — ты заблуждаешься. Я не буду несчастной. Твой отец спасен. Для него нет больше ни нищеты, ни неопределенности, ни унижения, ни разочарования или перемены фортуны. Ох, Чарли, мы жили так долго вместе — целых полстолетия; мы были так близки, и ничто, разумеется, не может теперь разделить нас, даже смерть. Ты думаешь, что, покинув меня, твой отец оставил меня в одиночестве? Как я могу быть одинокой, Чарли, я, которая работала, любила, страдала и радовалась с ним все эти годы? Ты слишком молод, чтобы понимать значение памяти, мой сын; память сильнее, чем живая плоть. Твой отец умер, но не во мне; пока я остаюсь на земле, он никогда не умрет. Он будет всегда со мной таким же надежным и живым, каким сидел рядом со мной на первом музыкальном вечере в Академии мисс Инглиш или держал меня в своих руках на свадьбе Гарриет Бодиско; каким он был со мной рядом во время долгих тяжелых месяцев, находясь в дальних экспедициях. Верно, тогда я страдала, ибо была слишком молодой, не могла знать, какой долгой и прекрасной будет наша совместная жизнь; я обладала величайшим счастьем, какое может выпасть на долю женщины: я всегда и неизменно любила своего мужа, мой муж любил меня и наше супружество оставалось прочным и красивым. Разве, Чарли, такое может быть отобрано у женщины, которой шестьдесят шесть лет? Думаешь ли ты, что независимо от того, как долго я проживу, у меня будет достаточно времени, чтобы вновь мысленно пережить все наши чудесные совместные годы? Моя работа не закончена, Чарли; недруги уже вьются над достижениями твоего отца, выжидая момента для атаки. Но пока я живу, Чарли, — и это продлится еще долго, — твой отец не останется без защиты. Я боролась за него, пока он был жив, и буду бороться за него в тысячу раз сильнее теперь. Не горюй обо мне, Чарли, больше, чем ты горевал об отце, который прожил долгую прекрасную жизнь. Я знаю, что делать со своими днями: хорошее супружество никогда не кончается; оно будет служить мне так же прекрасно, как служило пятьдесят лет, до моего смертного дня».
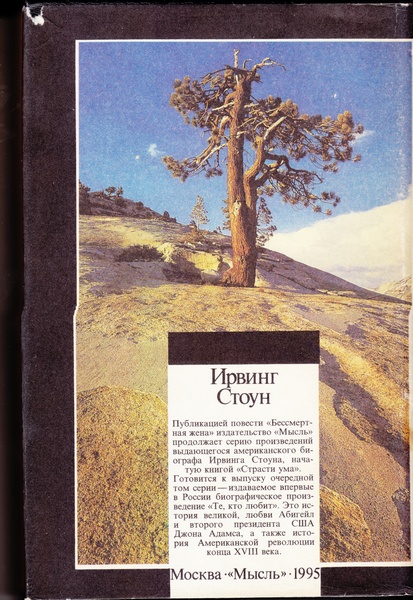
Ирвинг Стоун Первая леди, или Рейчэл и Эндрю Джэксон

Эндрю Джэксон (1767–1845) — одна из ярких личностей в истории США. Сын бедного иммигранта из Ирландии, он стал богатым плантатором в Теннесси и видным политическим и государственным деятелем. Слава и признание пришли к нему во время войны 1812–1814 годов между Англией и США, и в 1829 году он был избран президентом США, пробыв на этом посту два срока. Темпераментный, страстно влюбленный, одержимый мыслями о будущем и верой в успех — таким предстает перед читателем образ этого неординарного человека, выросшего на исторической почве Америки конца XVIII — начала XIX века. Необычайно драматичной была его личная жизнь. Она-то и послужила сюжетной канвой книги «Первая леди». Его любовная связь с Рейчэл Робардс в условиях тогдашней пуританской Америки носила скандальный характер… О том, какие сложнейшие испытания предстояло пережить Эндрю и Рейчэл в борьбе за свое счастье, Ирвинг Стоун повествует ярко, сильно и страстно.
Предисловие
«Биографическая повесть, — говорил американский писатель Ирвинг Стоун в лекции, прочитанной в Оксфордском университете, — детище не только своих родителей — биографии и повести, но и в не меньшей мере своей бабки — истории». Эта мысль как нельзя лучше подходит для повести о национальном герое Соединенных Штатов — генерале и президенте Эндрю Джэксоне и его горячо любимой жене Рейчэл (в девичестве Донельсон), жизненные пути которых причудливо переплелись в один из наиболее сложных периодов становления американского общества. Вторую четверть XIX века, и прежде всего годы президентства Эндрю Джэксона и его преемника Ван Бюрена, принято считать со времени опубликования известной книги французского историка и социолога Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке» эпохой равенства. Часто пишут также об «эре простого человека», но наиболее распространенным, в известной мере общепринятым названием в американской историографии остается до сих пор термин «джэксоновская демократия». В это время в стране происходили глубокие и разноплановые перемены. К тринадцати штатам, объединившимся в 1787 году в федеральный союз, присоединились еще одиннадцать, причем территории двух из них — Луизианы и Миссури — простирались на запад от Миссисипи. Если в 1800 году в Соединенных Штатах насчитывалось всего пять миллионов жителей, то в 1831-м их число перевалило за тринадцать миллионов, при этом треть населения проживала уже западнее Аппалачских гор. Люди, жившие на этих землях, обладали суровыми качествами первопроходцев. Они были горды и самоуверенны, не признавали над собой никаких повелителей. Условности вызывали у них пренебрежение, изысканность и утонченность они воспринимали как признаки слабости. Являясь убежденными сторонниками демократии, они считали ее необходимой не столько в политической жизни, сколько в общественных отношениях. В этой среде выросли Рейчэл и Эндрю Джэксон, она оказала огромное, если не решающее, влияние на формирование их характеров и взглядов. Обладавшая чувственной красотой, жизнерадостностью, быстро принимавшая решения Рейчэл унаследовала от отца отвагу и стремление настоять на своем, и это привело ее к конфликту с ханжеством, порожденным — все еще сильным на Американском континенте и до сих пор — пуританизмом первых переселенцев с Британских островов. Ее любви к Эндрю Джэксону пришлось выдержать испытания, которым далеко не всякий мог противостоять. И эти испытания были вызваны не мелочами, — как и в любой жизни, в их жизни они тоже были, — а главным образом тем, что их страна, Америка, переживала трудный переходный период становления новых общественных отношений. В конечном счете Рейчэл стала жертвой гонений, когда к сплетням мещан и осуждению лицемеров за ее развод с первым мужем добавились происки политических противников Эндрю Джэксона, придавшие нечистоплотный характер кампании по выборам президента в 1828 году. Американская историография относит Эндрю Джэксона к числу если не великих, то во всяком случае весьма колоритных президентов, оставивших глубокий след в истории страны. В зависимости от взглядов авторов он изображался по-разному: и как неотесанный житель лесной глуши Запада, и как непримиримый борец против англичан и индейцев, и как трудолюбивый фермер, рачительный хозяин, и как владелец обширных плантаций и аристократ, и как коварный политик, способный действовать за спиной своих противников, и как азартный игрок, и как покровитель женщин и их защитник. Его считали либо твердым, независимым американцем, добившимся успеха исключительно благодаря собственным усилиям, либо отъявленным демагогом с отвратительными манерами. Читатель этого увлекательного повествования сможет сам убедиться в сложности и противоречивости внутреннего мира Эндрю Джэксона. Ему был присущ страстный национализм, отличавший большинство американцев его поколения. Именно он побудил Джэксона заняться изучением военного дела и добиваться участия в войне 1812–1814 годов против Англии, которую не только Джэксон, но и некоторые другие американские политические и государственные деятели считали второй Войной за независимость. В ходе войны Джэксон, обороняя от британской экспедиционной армии Новый Орлеан, продемонстрировал незаурядные качества военного организатора, полководца и тактика. Британской тактике плотно сомкнутых рядов он противопоставил шквальный огонь метких стрелков, отточивших свое искусство на обычной в те годы для американцев охоте. В итоге британские войска под Новым Орлеаном были наголову разбиты. Сражение под Новым Орлеаном не решало исхода войны — еще до него в Генте был заключен мирный договор, но сообщение о нем не успело вовремя дойти до воюющих сторон. Однако победа, одержанная Джэксоном, имела большое моральное значение для американцев, которые до этого проигрывали одно сражение за другим. Она же сделала Эндрю Джэксона национальным героем и расчистила ему путь в Белый дом. Ирвинг Стоун заканчивает свое повествование церемонией инаугурации президента Джэксона и сценой официального приема в Белом доме после этой церемонии, когда толпа «простых людей» смела охрану и прорвалась в правительственный особняк. Сцена эта несет в себе совершенно очевидную смысловую нагрузку: она призвана проиллюстрировать, что новый президент опирается на поддержку довольно широких слоев населения — плантаторов, фермеров, новых групп поднимающейся буржуазии, в известной мере и наемных рабочих. Писатель Эдгар По, поэт и философ Ралф Эмерсон именовали поэтому джэксоновскую демократию «мобократией» — преклонением перед толпой. Близость к «толпе», а вернее, умение понимать сложившуюся в стране обстановку, позволила Джэксону пробыть на посту президента два срока (1829–1837 гг.). Восемь лет — срок немалый. Как же сложилась его судьба? Какую политику он проводил? Чтобы ответить на эти вопросы и удовлетворить интересы любознательного читателя, мы сочли необходимым дать в конце книги раздел «Вместо эпилога» с краткой исторической справкой о президенте Эндрю Джэксоне.Книга первая
/1/
Они выехали из тенистого леса и неожиданно оказались под жарким сентябрьским солнцем. У подножия холма лошади остановились попить воды из мелкой протоки. — Не хотела бы ты немного отдохнуть, Рейчэл, и освежиться? До заката мы будем дома. — Я предпочла бы поторопиться, Сэмюэл, если и ты этого желаешь. Казалось, он почувствовал облегчение. Почему ее родной брат так холоден с ней? Какими бы серьезными ни были обвинения, она надеялась на поддержку семьи. Они пересекли низину и по тропе поднялись на заросший деревьями холм. Она на минуту остановилась, подставляя лицо освежающему прохладному ветерку, овевавшему ее густые темные волосы. Впервые за четыре дня после того, как они выехали из Харродсбурга, она почувствовала, что способна ясно мыслить. «Странно, — думала она, — в ту долгую неделю, в течение которой послание мужа достигло Кумберленда и брат приехал за мной, я чувствовала себя слишком несчастной и тревожилась только о себе. Но как только мы отправились домой, я стала думать о Сэмюэле и о том, как тяжело воспринял он мое несчастье. Если я предстану перед матерью, братьями и сестрами с таким же печальным видом, с каким встретила Сэмюэля, то все станут чувствовать себя несчастными. Я должна обдумать это, прийти к некоему взаимопониманию сама с собой, прежде чем мы доберемся до дома. Действительно ли я повинна в плохом поведении? Если виновата, то каким образом? Если же не виновата, то почему со мной случилось такое? Я должна докопаться до корня, как бы горько это ни было». Она искоса взглянула на брата, перемена ее настроения передалась ему. В ее седельной сумке лежало зеркало, но сейчас оно не требовалось: она и Сэмюэл, на год моложе ее, походили друг на друга словно близнецы. Она видела его теплые карие глаза, восприимчивые к боли и обиде, его робкую осторожную улыбку, тонкие дугообразные брови, мелкие, безупречной белизны зубы, спускающиеся на уши густые темные волосы, туго стянутые на затылке ремешком; вся его фигура, склонная к полноте, казалась беззащитной перед миром. Он не осуждал ее; его смущение и обеспокоенность просто отражали ее собственные чувства. Она не видела семью уже три года, но у нее не возникло вопроса, кто из ее семерых братьев предпримет опасную поездку, чтобы сопроводить ее домой. Рейчэл и Сэмюэл были самыми молодыми и веселыми в семье Донельсон. Когда отец находился дома, он учил ее читать и писать, когда же уезжал в объезд или для заключения договора с индейцами, то она и Сэмюэл учились вместе по рукописной, переплетенной в кожу книге по арифметике, из которой узнали о десятичных дробях и правиле деления на три. Сэмюэл хорошо разбирался в книгах, и их отец, человек глубоко религиозный, надеялся, что наконец-то у него появился сын, который пойдет по стопам прадеда — священника, основавшего первую в Америку пресвитерианскую церковь. — Почему он так поступил с тобой, Рейчэл? — спросил Сэмюэл, осмелившийся наконец заговорить о невзгодах, обрушившихся на них. — В чем состояла его провокация? — Провокация? Ну, письмо, посланное из Виргинии в Крэб-Орчард для тайной передачи мне. Льюис перехватил его. — А что было в этом письме? — Я никогда не видела его. По утверждению Льюиса, в нем предлагалось, чтобы я сбежала с Пейтоном Шортом на испанскую территорию, а также лежала кредитная расписка на покупку необходимого мне для поездки в Новый Орлеан. Сэмюэл изумленно посмотрел на нее: — Когда началась вся эта глупость? На ее глаза набежали слезы. Она сказала сама себе: «Сэмюэл прав, быть может, если я смогу докопаться до истоков наших бед… когда они возникли?» Вероятно, на встрече в Бардстауне по случаю закладки дома, куда взял ее с собой Льюис, где он вдруг разъярился из-за того, что она смеялась от всей души, слушая рассказ одного из друзей, забавного парня, старавшегося говорить прямо в ухо слушателю. Льюис подошел к ней, бесцеремонно схватил за руку и увел с вечеринки. До свадьбы муж говорил ей, что ему нравится ее искрометное доброе настроение, то, как она входит в комнату, где много скучных, несчастных людей, как ее теплота и благосклонность оживляют их. Почему же тогда он ополчился на нее? Она сердито покачала головой, недовольная собой за то, что не может сделать взвешенного вывода. Но кто мог в двадцать один год требовать от нее быть логичной и строго мыслить? Прошло не так уж много времени после того, как она поспешно ушла с вечеринки в Бардстауне, и Льюис Робардс принялся обвинять ее в том, что она слишком дружна с молодыми парнями-соседями и с теми, кто часто посещает дом Робардсов. Не слишком ли тепло улыбалась она, приветствуя того-то? Ее муж недвусмысленно заявлял об этом позже, вечером. Не излишне ли танцевала она на вечеринке по случаю первой годовщины своей свадьбы? Лицо Льюиса покраснело от ярости, когда он запер дверь спальни и обрушился на нее с обвинениями. Не слишком ли сочувственно слушала она рассказ нового знакомого о трудностях, с которыми он столкнулся, приспосабливаясь к тяжелой пограничной жизни в Кентукки? Ей был интересен этот парень, ведь он прибыл из мест, находившихся в нескольких милях от старого дома Донельсонов в Виргинии. После каждой ссоры она не могла заснуть и убеждала себя: «Если Льюису не нравится мое дружественное расположение к людям, я должна быть более сдержанной. Если он не хочет, чтобы я танцевала или пела, я буду вести себя тихо». Несколько дней она помнила о своем решении, затем забывалась и становилась сама собой: веселилась со старыми друзьями, рассказывала истории и смеялась… и Льюису нравились шутки, и он ласково обнимал ее. Спустя день или неделю он прицеплялся к какому-нибудь невинному инциденту и устраивал ей на публике унизительную сцену. Но настоящие трудности, как ей помнилось, начались после набегов индейцев вокруг Харродсбурга с полудюжиной убийств. Мать Льюиса, управлявшая плантацией после смерти мужа, решила, что лучше нанять несколько молодых парней, набивших руку на обороне блокгауза. Первым пансионером был полный юрист из Виргинии, с цветущим лицом и звучным голосом. Пейтон Шорт любил поговорить с кем угодно, и он выбрал Рейчэл объектом своих монологов. Он не казался ей умным, но она понимала, что даже случайные разговоры сглаживали его одиночество. Теплыми летними вечерами семейство Робардс, отныне включавшее брата Льюиса, Джорджа, и его жену, усаживалось на террасе. Пейтон Шорт обычно умудрялся подвинуть свой стул поближе к стулу Рейчэл и рассказывал ей о событиях дня. Льюис насторожился: — Рейчэл, не могла бы ты избегать его? Он так назойливо… навязывается. — Да, я постараюсь. Однако она обнаружила, что Шорт не тот человек, от которого можно легко отделаться. Однажды вечером Льюис вернулся из поселка рабов и нашел их сидящими наедине на темной террасе. Ее свекровь пошла в дом, и Рейчэл искала возможность прервать беседу. Обвинив Рейчэл в том, что она вела интимный разговор, Льюис направился к своей матери и потребовал выгнать Пейтона Шорта. Миссис Робардс отказалась слушать сына, назвав это «явной глупостью». Льюис не обладал скромностью, и поэтому все в округе знали, что он ревнует свою жену к Пейтону Шорту. В доме было напряженно до прихода Джона Овертона, дальнего родственника семейства Робардс, обаятельного, невысокого ростом, со светлыми волосами и бледной кожей, склонного к суховатому юмору. Некоторое время он был своего рода болеутоляющим средством во взбудораженной семье. Затем в ревности Льюиса появился для Рейчэл новый элемент. Теперь его вспышки не были связаны с происходящим. Самые сильные его нападки случались, когда она в течение многих дней не обменялась и десятью словами с Пейтоном Шортом. Однажды Шорт остановил ее и, увидев покрасневшие от слез глаза, сказал: — Вы никогда не будете счастливы с человеком вроде Льюиса Робардса. Он не любит вас, и у него нет гордости, чтобы защитить вас. Но не все мужчины такие дураки, миссис Робардс. Она не поняла смысла сказанного им да и, откровенно говоря, не прислушивалась. Но через несколько недель Пейтон Шорт уехал домой в Виргинию, а после его отъезда Льюис обрушился на нее, тыча скомканным письмом Пейтона Шорта ей в лицо. Она натянула поводья лошади, чувствуя тошноту, будто она оказалась в своей комнате в доме семейства Робардс, когда ждала одно из двух вероятных известий: сообщения из Виргинии, что ее муж убит на дуэли с Шортом, или уведомления, что ее семья получила письмо мужа с требованием прислать кого-либо, кто заберет ее. Рейчэл решила не вмешиваться; она останется нежеланной в доме, где от нее отвернулся муж, или же приедет один из братьев и заберет ее, увезет… навстречу чему?/2/
Сэмюэл помог ей соскочить с лошади. Она села у большого дерева, прислонив свою голову к стволу. Присев перед ней на корточки, брат вытер пот с ее лба своим неотбеленным хлопчатобумажным платком. — Тебе плохо, Рейчэл? — Дай мне несколько минут отдохнуть, Сэмюэл. — Чем я могу тебе помочь? Может быть, глоток воды? — Все будет в порядке. Они находились всего в нескольких милях от блокгауза Донельсонов. Она поняла, почему Сэмюэл не смог задать ей вопрос или высказать сочувствие. В их районе никогда не было известно о разводах мужа и жены. На границе, где отношения основывались на доверии, где мужчины месяцами были по необходимости в отлучке и где семейное гостеприимство зачастую помогало выжить переселенцам, двигавшимся на Запад по тропам, Рейчэл была бы сочтена недостойной подобного доверия. Каждый в Кумберленде будет знать, что ее отвергли. Насколько она навредила своей семье? Каким будет ее положение среди друзей и соседей? Не станет ли она изгоем? Рейчэл не могла видеть отражение такого рода мыслей в глазах Сэмюэля, когда он наклонился к ней и откинул ее волосы со лба. Она просто не могла приехать домой в таком состоянии. Между тем оставалось всего несколько миль до спуска в долину Кумберленда. Часто за прошедшие четыре дня в своем воображении она мысленно прослеживала путь к существу проблемы, но каждый раз это существо ускользало от нее. Сколь бы сурово она ни осуждала себя за смех по поводу пустых шуток Пейтона Шорта, она все же не находила в своем поведении ничего, что логически вело бы к ее нынешнему трудному положению. Казалось, случившееся с ней пришло как бы извне, и она сама не имела отношения к этому. Хорошо, если первопричина не в ней самой, то в чем же? Разумеется, в Пейтоне Шорте, в том, что он написал такое глупое письмо. Но разве до приезда к ним Шорта не возникали время от времени ссоры? Мучительно напрягая свой рассудок, она вспомнила вспышки ревности у мужа, когда в семье не было посторонних, а Льюис цеплялся за старые обвинения. Она удивлялась, почему он возвращается к уже давно забытым инцидентам. Однажды она специально спросила его об этом. Он не ответил. По крупицам стало складываться целое, отдельные действия и объяснения, скрытые в них недомолвки. Одной из особенностей поведения мужа были ночные отлучки под разными предлогами. Однако все время у нее были слабые подозрения в отношении молодой красивой мулатки — служанки, появившейся в доме за год до их свадьбы. Временами Рейчэл замечала мимолетную улыбку на лице девушки, улавливая что-то странное, когда Льюис приказывал, а девушка безропотно повиновалась. Рейчэл вдруг поняла еще не очевидную для нее правду. Не здесь ли скрывались причины поведения Льюиса? В ее памяти ожила сцена в спальне, когда Льюис кричал: — Я написал письмо твоей матери, чтобы кто-нибудь забрал тебя отсюда! А я уезжаю сегодня в Виргинию, чтобы убить Пейтона Шорта! Миссис Робардс обняла Рейчэл и, злобно посмотрев на сына, сказала, что он совсем рехнулся. Старшая сестра Льюиса подтвердила, что Рейчэл относилась к Пейтону Шорту не более чем с вежливым гостеприимством. Ее муж Джек Джуитт пытался успокоить Льюиса, внушая ему, что во всем штате Кентукки он единственный простак, способный поверить, будто Рейчэл Донельсон-Робардс повинна в какой-то тайной связи. Джон Овертон робко сказал: — Льюис, я мог бы написать тебе сегодня письмо с приглашением участвовать вместе со мной в краже лошадей и убийстве, но оно вряд ли сделает тебя конокрадом и убийцей. Но не кто иной, как миссис Джордж Робардс, заявила ледяным тоном Льюису: — Все это из-за твоего неприличного поведения. Рейчэл встала, неверным шагом подошла к лошадям, утолявшим жажду, и остановилась, положив руку на седло. Кулак другой руки крепко сжался в момент, когда ее пронзила мысль, ранее не связывавшаяся с прошлым, — ведь муж покидал ее, иногда даже ночью, уходя в поселок рабов. Когда же возвращался оттуда, то обвинял ее в прегрешении против любви и брака… перенося на жену свое собственное предательство. Отпустив седло, Рейчэл стояла, склонив голову. Через некоторое время наступило чувство облегчения. Если она не может жить с мужем, то по меньшей мере может жить сама по себе, смотреть в лицо членам семьи, соседям, друзьям. Ее муж жестоко обидел ее, но она не станет бередить свою боль, она не потеряла своего достоинства. Она расстегнула седельную сумку, достала из нее свой несессер и вытряхнула его содержимое на траву — овальное зеркальце, гребень и щетку в серебряной окантовке, кусок душистого мыла из Ричмонда, чистое жесткое полотенце. Посмотрев на свое коричневое платье из смеси льна и шерсти, она заметила, что оно запачкалось во время поездки. Рейчэл извлекла из седельной сумки чистое голубое льняное платье, сняла с себя помятую одежду и встала на колени у ручья в белой нижней юбке. Она была небольшого роста, узкокостная, с покатыми плечами и твердыми грушевидными грудками, ее бедра были изящно очерчены, а талия — тонка и сжата, словно оставляла пространство для необычно длинных красивых ног. Рейчэл умыла лицо, шею и руки, не жалея воды, ополоснула плечи, затем вытащила небольшие гребешки, скреплявшие ее длинные темные кудрявые волосы, и промыла их холодной водой. Стянув волосы на затылке и завязав их белой лентой, она уселась на берегу ручья под теплым полуденным солнцем, рассматривая себя в зеркале. Ее огромные карие глаза, широко расставленные и обрамленные тонкими темными изогнутыми бровями, отдохнули от печальных дней, стали мягкими и ясными. Некогда сурово стянутые в нитку губы вновь приобрели пухлость и яркую краску. На щеках цвета слоновой кости появился легкий румянец. Ее обычно круглое лицо теперь слегка осунулось. «Я становлюсь собой, — подумала она. — Мне всего двадцать один год. Для меня, разумеется, жизнь не кончилась?» Она надела льняное платье с просторной юбкой и широким белым воротником, похожим на шарф. После этого она позвала брата, он взял у нее мыло и тоже умылся возле ручья. — Можно ехать, Сэмюэл. Я чувствую себя намного лучше. Я действительно хочу увидеть маму и всю семью. Ты не рассказал мне о Френч-Лике. Много ли там новых поселенцев? Он помог ей сесть в седло, взобрался сам на своего коня, и они поскакали вниз по тропе. Лошади чувствовали их изменившееся настроение и желание приехать скорее домой. Она повернулась, посмотрела на брата и увидела улыбку на его лице. — Ты не узнаешь старых мест, Рейчэл. Изменилось даже название. Теперь это Нашвилл. Там около сорока новых домов, две таверны, лавка и здание суда. Ты возвращаешься в довольно большой город./3/
Рейчэл была поражена, узнав, что в Кумберленде ее мать знали как вдову Донельсон. Радость их встречи была омрачена тем, что полковник Донельсон погиб в экспедиции после их последней встречи, а теперь младшая дочь вдовы Донельсон, носящая то же самое имя — Рейчэл, попала в беду. Спустя три года со времени их последней встречи Рейчэл нашла, что облик матери мало изменился: такого же роста, как Рейчэл, может быть, более склонная к полноте, жгучая брюнетка, ее кожа, за исключением тонких морщин, расходящихся от больших карих глаз, такая же мягкая на ощупь, памятная ей по годам детства. Исчез лишь теплый яркий свет, ранее излучавшийся глазами матери. Семья Рейчэл Стокли поселилась в Виргинии еще до 1609 года в числе первоначальных членов Виргинской компании. Семья принадлежала к крупнымземле- и рабовладельцам, и, когда семнадцатилетняя Рейчэл Стокли вышла замуж за девятнадцатилетнего Джона Донельсона и уехала с ним на западную границу Виргинии, она взяла с собой солидное приданое, приличное образование и семейную традицию. Все эти качества пригодились ей при расчистке целины, воспитании одиннадцати детей, основании процветающей плантации и управлении ею, тогда как ее муж прослужил три срока в Виргинском законодательном собрании. — Рейчэл, может быть, ты все еще не хочешь говорить об этом? Они сидели в большой комнате с овальными окнами, и солнце озаряло их лица, так похожие по цвету и рисунку костей, к тому же они были обе одинаково несчастны. В другом углу комнаты зашумели колесики высоких напольных часов, а затем зазвучали металлические удары. — Мне все это кажется таким странным. Я помню Льюиса веселым, беспечным молодым человеком. — Да, мы все так думали. — Рейчэл говорила неторопливо мягким, грудным голосом, словно исходившим из глубины тела. Она и ее мать сохранили тональность музыкального виргинского говора. Послышались знакомые шаги. Рейчэл часто слышала, что она самая красивая девушка в семействе Донельсон, но, взглянув на сестру Джейн, она поняла, что та настоящая красотка: с гибкой фигурой и внушительным ростом, где-то между высокой тощей Катериной и приземистой, коренастой Мэри, с пушистыми светлыми волосами, которые светились в затемненной комнате, со светло-зелеными глазами, холодными и оценивающими, с быстрым на ответ языком, трезвомыслящая, но и не зловредная. Джейн не выходила замуж до двадцати шести лет. На границе такой возраст считался средним, но она настаивала, что ее мужем должен быть видный человек… или вообще никакого. Она безжалостно отвергла всех молодых поклонников и выжидала, пока не нашла полковника Роберта Хейса в Нашвилле, и сразу же решила, что именно он и есть тот мужчина, который ей нужен. Миссис Донельсон смотрела, как Рейчэл и Джейн тепло приветствовали друг друга, ведь эти ее две младшие дочери выросли, как близкие подруги. Рейчэл знала, что Джейн не замедлит встретиться с ней. Когда их мать кто-то позвал и она вышла из комнаты, Джейн спросила: — Рейчэл, в чем дело? Рейчэл на минуту заколебалась: чувство гордости мешало ей открыться, хотя она и Джейн поверяли друг другу все. Затем она откровенно рассказала Джейн о сцене ревности, учиненной Льюисом, о том, как это изумило и огорчило ее. Она описала унизительные сцены, устраивавшиеся Льюисом на вечеринках и танцах, и наконец пересказала обвинение, которое бросил ей в лицо Льюис в спальне в последний раз, когда она его видела. Джейн слушала внимательно, не спуская с сестры глаз. — Его мать сказала, что он рехнулся. Его сестра и ее муж, Джек Джуитт, считают, что я не сделала ничего плохого, и они ему так прямо и сказали. Но он никого не слушал. Его невестка даже обвинила его… Ой, Джейн, речь идет о рабыне… Самообладание покинуло ее, и она прижалась к плечу Джейн, пытаясь найти утешение в ее объятиях. — Сэмюэл говорит мне, что Уильям против меня? — О да. Осторожный Уильям был разъярен и выступал против поездки Сэмюэля за тобой. — Рассудительный тон Джейн действовал освежающе, ее голос был на целую октаву выше голоса Рейчэл. — Он сказал соседям, что ты приехала погостить и вернешься в Харродсбург в следующем месяце. Джонни также возмущен оскорблением семьи. — Это больше чем унижение, Джейн, или даже то, что Уильям называет оскорблением, ведь меня выставили из дома мужа. Хуже не бывает, если учесть, что такое не случалось ни с кем из знакомых. Но что сулит будущее? Даже вдова в лучшем положении, ведь ее положение ясно. Должна ли я оставаться на всю жизнь миссис Льюис Робардс и не увидеть вновь своего мужа? Джейн, я намерена быть сильной… но мой муж не хочет меня видеть в своем доме, мой брат не хочет видеть меня здесь… — Рейчэл, зачем ты вообще вышла замуж за Льюиса? Она освободилась из объятий сестры, ее мягкие карие глаза смотрели в упор в бесстрастные зеленые глаза сестры. — Он тебе никогда… не нравился? — О, капитан Робардс, он был лучше всех выглядевшим молодым человеком, сопровождавшим тебя на вечеринки и танцы. Он одевался лучше всех в округе и, казалось, был самым интересным. Солдаты, которыми он командовал во время войны, разумеется, боготворили его… — …но на тебя он не произвел впечатления? — Нет, потому что я всегда замечала в нем внутреннюю… тревогу. Он взял меня, ты помнишь, на несколько вечеринок, когда ты была еще подростком. Быть может, у него и был твердый характер, но я его не обнаружила. Я так и не поняла, что он хочет и во что верит… — Все еще… трудно определить, — тихо признала Рейчэл. — Льюис — слабак, — вынесла приговор Джейн, — а ты — сильная, потому что уверена в себе. Ты умная, а рассудок Льюиса менее глубокий. Короче говоря, Рейчэл, ты могла бы выйти замуж за более солидного мужчину. — Я люблю его, Джейн. Джейн тщательно подбирала слова, прежде чем задать самый важный вопрос: — И как быть дальше, Рейчэл? Ты все еще любишь Льюиса? Или же ты предпочитаешь скрывать свои чувства? Продолжает ли она любить Льюиса? Он — причина ее невзгод и утраты многих романтических иллюзий. Ныне же, после трех лет замужества, она увидела своего мужа в том свете, в каком Джейн распознала его с самого начала. Его несобранность, нежелание освободить мать от управления процветающей плантацией Робардсов, заняться делом, требующим постоянного внимания, его неспособность верить в себя… или в нее. — Если бы у нас были дети… — решительно ответила она. — Быть может, нам нужны дети, чтобы он осел на одном месте и у него возникло чувство постоянства. Поместье вдовы Донельсон находилось в десяти милях к северу от Нашвилла, около пересечения дорог Кентукки и Кумберленда. На следующее утро, желая развлечь Рейчэл, Сэмюэл предложил ей поехать в город Нашвилл. Когда семейство Донельсон выехало из Кумберленда в страшное лето 1780 года, на месте города на утесе над рекой стояло единственное укрепление — огороженный блокгауз. Первую остановку они сделали у лавки Ларднера Кларка. Это была двойная бревенчатая хижина, обмазанная глиной, освещавшаяся светом, проникавшим через открытую дверь, и сальной лампой, висевшей на задней стене. По обеим сторонам стояли грубо сколоченные прилавки: на левом лежали одежда и домашняя утварь — сковородки, миски, свечи, на правом — сахар, соль, пряности, виски, копченое мясо, а на полках задней стены — топоры, ботала для скота, сельскохозяйственные орудия, ружья, порох, дробь. В лавке находились три семьи, когда в нее вошли Рейчэл и Сэмюэл. Первым их заметил Джон Рейнсис, поселившийся в Кумберленде в одно время с Донельсонами. Он и его жена тепло приветствовали Рейчэл, выразили свое удовольствие вновь встретиться с ней и пожелали счастливого пребывания дома. Второй парой были недавние знакомые Сэмюэля. Когда он представил им свою сестру, молодая жена сказала: — Вы вскоре посетите нас, когда устроитесь? Сэм, приведи ее к нам поскорее, ведь там, где мы живем, так мало молодежи. Рейчэл пожала руку молодой женщине. Затем она заметила, что из глубины лавки на нее уставилась пара глаз. «Ну конечно, это Марта Динсмор из Харродсбурга». Рейчэл хотела подойти к миссис Динсмор, но даже в полумраке она разглядела неприязненное лицо женщины. Рейчэл остановилась. Миссис Динсмор поспешно удалилась, сделав вид, будто не узнает ее, и взмахнув своей широкой юбкой так, словно хотела отогнать от себя грех. Кровь прилила к лицу Рейчэл. Ей почудилось, что миссис Динсмор сказала: — Нет дыма без огня. «Я на самом деле слышала такие слова, — спрашивала себя Рейчэл, — или же мне так показалось?» Каким образом могли дойти так быстро слухи? Ее отец обычно говорил: «Плохие вести распространяются быстро, у них много помощников». Если Марта Динсмор знает и может вести себя таким образом, то найдутся ее последователи. Она почувствовала, что Сэмюэл схватил ее за руку: — Рейчэл, ты позеленела! Не обращай внимания на таких пройдох. Всегда найдутся люди, для которых удовольствие видеть плохое в других. — Больше не подставлю себя. Не выйду из дома, пока все не кончится… все не пройдет./4/
Рейчэл вышла на утоптанный двор, окруженный высокой сплошной оградой, защищавшей просторный двухэтажный главный дом, большой сарай и шесть построек поменьше, которые служили кухней, молочной, кладовкой, коптильней, помещением для гостей, кузней и скорняцкой. Было 1 марта — с момента ее возвращения в семью Донельсон прошло уже пять месяцев. Небо было пронзительно-синим, ярко светило солнце, но в воздухе чувствовалась прохлада. Она пошла на кухню, где на вертеле жарились оленина, медвежатина и мясо бизона, а также подвешенные над жаровней дикие индейки, гуси; пироги, начиненные мясом голубей, стояли в противнях на углях вместе с кукурузными лепешками. Предстояло два дня рождения — старшего брата, Александра, которому стукнуло сорок лет, и младшего, Сэмюэля, которому исполнилось двадцать. Этот день был всегда самым веселым в семье Донельсон: в Виргинии на празднества приглашалась вся округа. Рейчэл — единственная из четырех дочерей — осталась жить в доме. Вдова Донельсон передала ей все управление домашним хозяйством под предлогом, что зимой хочет отдохнуть. Рейчэл была благодарна тому, что время было заполнено работой: она следила за варкой мыла и изготовлением свечей, за расчесыванием шерсти и ее прядением, за набивкой новых подушек и матрацев. Она стояла в проеме двери кухни, наблюдая за Молл, полногрудой седоватой негритянкой в платье из парусины, которая помогла вырастить ее и была завещана ей отцом вместе с мужем Молл — Джорджем. В доме Рейчэл заметила своего брата Уильяма, управлявшего плантацией. Он пил пунш вместе с преподобным Крайгхэдом, обедавшим в Рождество у Донельсонов и объезжавшим округу с таким расчетом, чтобы 1 марта вновь оказаться в Нашвилле. Ширококостный медлительный Уильям так и не примирился с тем, что Рейчэл живет отдельно от мужа. В противоположном углу, настраивая струны, сидел Джеймс Гэмбл, переезжавший с места на место — от Бледсоу к Итонам, от них к Фриленду, а затем к Донельсонам. Он любовно носил свою скрипку в мягком замшевом чехле и говорил всем: — Я люблю ее, но никогда не сжимаю слишком крепко, чтобы не переломить ее талию или не испортить звучание. Он не брал деньги за игру на скрипке. Он и его жена, как он называл скрипку, развлекали на свадьбах, крестинах, праздниках, днях рождения, спуске бревен на воду, закладке дома, его приглашали даже облегчить страдания больных и раненых. Рейчэл вошла в кухню, где Молл собирала ложкой соус и поливала им индюшек. — Достаточно ли мяса, Молл? Похоже, что я пригласила всех жителей долины Кумберленд. — И самое время, миз Рейчэл. — Молл говорила тихо, чтобы не слышали Уильям и преподобный Крайгхэд. — Вам не к чему прятаться дома всю зиму, как вы сделали… ни разу не потанцевали и не были на вечеринках… Рейчэл окинула взглядом кухню, в которой можно было приготовить еду на целую сотню людей. Восточную стену почти полностью занимал огромный каменный очаг, вверху во всю длину протянулись жерди с подвешенными к ним сушеными яблоками, перцем, нарезанными тыквами. На отдельной, главной жерди висели любимая чугунная сковорода матери весом чуть ли не сорок фунтов, приспособление для вращения вертелов, медные сковородки поменьше размером и надраенные до блеска медные котлы. У очага стоял котел для варки картофеля, таз для крашения тканей и голландская печушка. — Я не была одинока, — прошептала она, — имея десять братьев и сестер. И мне в самом деле не хотелось видеть… чужих. Молл тщательно отмерила порцию дорогого кофе для котелка воды, висевшего на крюке над огнем, затем повернулась к Рейчэл, посмотрев на нее проницательным взглядом. Они были друзьями и доверяли друг другу. — Вы не сделали ничего, миз Рейчэл. Если вы уже не замужем, тогда я увижу уйму молодых парней, которые придут сюда на сборы милиции и для уплаты налогов, и среди них будет много, кого вы смогли бы выбрать в мужья. Как долго вы будете прятаться, скрывать свое красивое лицо в доме, даже отказываться от приглашения на ужин у миз Джейн? Как долго вы будете вести себя как узница? Рейчэл подошла к открытой двери кухни и встала в ее проеме, рассматривая большое и процветающее поместье Донельсонов, защищенное высоким забором. Она окинула взглядом молодые посадки яблонь и груш, сделанные ее братьями, посмотрела на вспаханные поля, которые будут засеяны кукурузой, хлопком, пшеницей, индиго и табаком. За полями виднелись пастбища, где мирно паслись стадо в тридцать молочных коров и более двадцати лошадей. За исключением высокого, заостренного кверху частокола, окружавшего жилую площадку, их новый дом во всем остальном выглядел как виргинская плантация, которую они были вынуждены продать в 1779 году, когда ей было двенадцать лет и ее отец понес убытки из-за неудачи с железоделательным заводом, первым в этой части страны. Вот тогда вся семья отправилась на плоскодонной барке «Адвенчер» вниз по Хольстону и Теннесси, затем вверх по рекам Огайо и Кумберленд в путешествие протяженностью две тысячи миль через дикую местность и по неизведанным водам. Перед ее мысленным взором проплыли картины того, как они жили в палатках на южном берегу реки Стоун, валили лес, распахивали луга, сеяли хлопок, производили топографическую съемку земельных участков для каждого сына и объединялись с немногочисленными соседями в отражении налетов индейцев. Она помнила болезненные переживания ее отца, когда их посадки вымокли и им пришлось искать убежища у Манскеров, проводя время не столько в работе на полях, сколько в отражении набегов индейцев. Осенью, когда Джон Донельсон понял, что не сможет обосновать свое право на землю, Донельсоны предпочли перебраться через Кентуккскую дорогу в Харродсбург и осели на пять лет, до брака Рейчэл с Льюисом Робардсом, а затем вернулись во Френч-Лик полные решимости, что на сей раз их не выставят. И теперь, всего за три года, они основали самую процветающую плантацию в долине Кумберленд. Какая жалость, что ее отец не дожил и не смог увидеть это, ибо поселение в Кумберленде было его последней самой большой мечтой в жизни. Люди говорили, что неудача с железоделательным заводом послужила всего лишь предлогом для старого полковника Донельсона, подверженного страсти переезда на новые земли. Полковник был убит на Кентуккской дороге при возвращении из деловой поездки в Виргинию через несколько дней после посещения Рейчэл в Харродсбурге. Он всегда говорил: — Нет такого индейца, который мог бы убить меня. Более сорока лет он вроде бы оправдывал такое утверждение, проезжая целинные места, проводя обследования и ведя переговоры с индейцами от имени правительства Виргинии. Он был убит недалеко от Нашвилла, и при этом был прострелен его чемоданчик. Семья Донельсон считала, что отца убили его спутники, чуждые люди в пограничном районе. Рейчэл покачала головой, словно желая отогнать эти воспоминания, а потом направилась к главному дому. Вдруг она остановилась, увидев фигуру в проеме двери гостевой хижины. Человек, стоявший спиной к ней, повернулся, и она удивленно воскликнула: — Так это же Джон Овертон! В ее голове мелькнула мысль: «Он приехал от семьи Робардс. У него есть новости для меня… возможно, письмо». Она стремительно пересекла двор и поздоровалась с ним. Джон Овертон был невысоким, угловатым, нервозным мужчиной, и, хотя ему было всего двадцать три года, почти бесцветные волосы едва прикрывали его череп. Его худой подбородок выступал вперед, нос был тонким и обращенным вниз, бескровные губы слились в одну ленточку, его глаза были такого водянистого цвета, что порой казались просто несуществующими, и вглядывавшийся в него как будто бы видел тыльную часть его черепа. Но, поговорив с ним пять минут, Рейчэл забывала о его уродстве, в конце десятой минуты она не считала его посредственностью, а через час верила в то, что он — прекрасное человеческое существо. За внешне прозрачными глазами Овертона скрывался отличный ум — быстрый, глубокий, дисциплинированный, логичный, склонный к юмору и в то же время к суровой честности его шотландских предков. В своем внутреннем мире, где он жил, дышал и боролся, он был большим человеком, и только на первый взгляд можно было обмануться его малоприятной оболочкой. — Рад видеть тебя вновь, Рейчэл. Как хорошо ты выглядишь! — И ты, Джон. — Она на момент заколебалась. — Ты приехал в наши места по делам? — Нет. Я решил поселиться в Нашвилле и открыть здесь юридическую контору. Поэтому я отправился прямо к Донельсонам и спросил твою маму, может ли она приютить меня. Кровь прилила к лицу Рейчэл. Приезд Овертона к Донельсонам был с его стороны публичной демонстрацией доверия к ней. Он был свидетелем эпизода, связанного с Пейтоном Шортом, рисковал нарваться на гнев Льюиса, когда возражал ему. Человек строгих моральных правил, Джон Овертон никогда не появился бы здесь, если бы считал, что задета честь его родственников, и постарался бы иметь как можно меньше общего с кланом Донельсон. Разумеется, даже если бы он подозревал, что Рейчэл допустила проступок, то не проявил бы нескромность и не стал бы способствовать распространению слухов. Она была глубоко благодарна ему. — Я счастлива, что ты станешь членом нашей семьи, Джон. И я знаю, что ты будешь прекрасным юристом. У тебя есть и темперамент для этого. Он сжал губы, взвешивая в уме, будет ли он прекрасным юристом. Овертон был книголюбом, его страстью было право, история его формирования, философия права, логика и структура. — Все, что я знаю, Рейчэл, это мой большой интерес к вопросам права, но достаточно ли одной любви… — Любви достаточно почти для всего, Джон… Она смолкла. Они молча смотрели друг на друга, вспомнив о Льюисе Робардсе. За пять месяцев, истекших с момента ее возвращения в Нашвилл, она не получила ни строчки от мужа, не поступило известий и о результате его дуэли с Пейтоном Шортом. Сдержанность Овертона навела ее на мысль, что она права, предположив, что он привез новости из Харродсбурга. Однако она чувствовала, что он никогда не упомянет имя Льюиса Робардса без ее согласия на этот счет. Некоторое время Рейчэл молча смотрела на него. Хорошие или плохие новости у него? И какие известия считать хорошими, а какие — плохими, если она сама не знает, чего ждать от будущего? Выражение лица Джона Овертона ничего не говорило. А она знала, что сама не хочет, да и не может выслушать сейчас новости. Может быть, после праздника. — Я должна закончить обход, — вдруг сказала она. — Еще раз, Джон, от всего сердца добро пожаловать!/5/
Наступила ночь. Укутав заснувших детей, гости разошлись. Члены ее семьи разбрелись по спальням, ощущая усталость от затянувшегося на весь день праздника. В ее ушах все еще стоял звон счастливых голосов, пения, радостного смеха, веселья. В большой комнате воцарилось спокойствие, погасли последние свечи, были задуты лампы, камин, в котором загасли угли, медленно охлаждался; лишь напольные часы, пожужжав колесиками, мерно отбили двенадцать ударов. Она стояла около смотрового окна, затем, сдвинув деревянную задвижку, распахнула тяжелые ставни, посмотрела на одинокую звезду в ночном мартовском небе. Она попыталась согреться, укутавшись поплотнее в желтое шерстяное платье, скрестив руки на груди и затянув потуже длинные рукава. Рейчэл чувствовала, как впиваются в тело белые костяные пуговицы. Сердцу в груди было так же холодно, как той одинокой звезде в прохладном небе. Ей было одиноко и тоскливо; семья Донельсон делала все возможное, чтобы она чувствовала, что ее принимают радушно. Однако, стоя у окна и дрожа всем телом, она понимала, что не только нежеланна, но и отвергнута. В течение прошедших месяцев она эмоционально гнала от себя любые серьезные мысли о муже, но, пока рядом находится Джон Овертон, она должна попытаться определить свое отношение к Льюису. Если она услышит новости от Овертона, то будет готова к ним, будет знать, как к ним отнестись. Она любила Льюиса Робардса; он казался ей самым красивым, самым романтичным из всех, кого она встречала, одним из самых видных в Кентукки героев войны. Он ухаживал за ней порывисто и страстно. Она любила его в течение первого года их супружеской жизни. А теперь? Любит ли она его? Думает ли о нем неприязненно? Или же жалеет его, считая больным? Ведь именно так объясняла его вспышки сама мать. Миссис Робардс однажды сказала: — Это война испортила Льюиса. В те годы, когда шли сражения, он был счастлив; тогда жизнь была для него большим приключением. Ему по вкусу были трудности, опасности, нравилось командовать солдатами, его возбуждали усиленные марши, стремительные атаки. Он жил в тяжелых условиях, ярко, броско, каждую минуту. Но когда война кончилась… когда он вернулся домой к… бездействию… к заботам о весеннем севе… он почувствовал, что позади осталась лучшая часть жизни. Ему все надоело, он стал угрюмым, раздражительным. Именно поэтому, Рейчэл, я благодарю Бога, что появилась ты; я была уверена, что с тобой он обретет новую жизнь и новое счастье. Да, она огорчалась за Льюиса, как огорчаются за ребенка, спотыкающегося в темноте и причиняющего себе боль. Будь он с ней сейчас в комнате, она прижала бы его голову к своей груди И молилась за него, за его изломанную, несчастную жизнь. Она прошептала почти вслух в темной комнате, глядя на мерцающую звезду: — Все мои мечты, планы и надежды связаны с моим замужеством. Без него я ничто, у меня нет места, очага, будущего. Я женщина, от которой отказались. Я хочу, чтобы вернулся муж, и хочу, чтобы был мой домашний очаг…Рейчэл смотрела, как восходит солнце. Когда оно поднялось над горизонтом, Рейчэл услышала первый шум в доме, она прошла через двор, чтобы поговорить с Джоном Овертоном. В этом году весна наступила рано. Жонкили покрыли плотным ковром склоны, спускавшиеся к реке, вода которой просветлела после весеннего разлива; смолкнувшие на зиму кардиналы громко пели в желтоватой листве высоких тополей. Пытаясь успокоить биение сердца, она считала воробьев, дятлов, других птиц, порхавших с ветки на ветку. Она слышала, как на краю свежевспаханного поля старый перепел зазывал перепелку. Первые фиалки проклюнулись сквозь раннюю траву, а молодые посадки персиковых деревьев на другой стороне реки покрылись ранними розовыми цветами. Она чувствовала, что к ней вернулось спокойствие. — Джон, мне кажется, что Льюис просил тебя передать мне послание. Я ценю, что ты ничего не сказал, пока я не была к этому готова… Овертон слегка поклонился, достал из внутреннего кармана пиджака очки в серебряной оправе и нацепил их на нос. На миг Рейчэл подумала, что он собирается прочесть какую-то бумагу, затем вспомнила, что Джон надевал их не для того, чтобы более отчетливо видеть, а скорее для того, чтобы скрыть свои мысли. — Рейчэл, Льюис полностью снял все свои обвинения. Я слышал, как он говорил друзьям в Харродсбурге, что вел себя как слепой идиот. Из ее груди вырвался шелестящий выдох, словно воздух застрял внутри нее с того самого дня, когда муж написал Донельсонам, чтобы приехали и забрали ее. — Твой муж уверял меня, что сожалеет о разрыве между вами. Он сказал мне, что убедился в необоснованности своих подозрений, что любит тебя и хотел бы вновь жить с тобой. Он просил меня приложить все усилия, чтобы восстановить согласие. — Ты не представляешь, Джон, как я рада слышать это. А дуэль с Пейтоном Шортом? Никто из них не ранен? Поток новостей неожиданно пресекся. Она увидела, что Джон слегка поджал челюсть, словно пытался стиснуть зубы. — Не было ничего серьезного. Вновь наступило молчание. Рейчэл догадалась, что ей следует сделать иной заход, ведь есть нечто неприятное, о чем не хотел говорить Овертон. — Пожалуйста, продолжай, Джон, — мягко произнесла она. — Я сказал Льюису, что постараюсь восстановить согласие при условии, что он перестанет ревновать и будет бережно относиться к тебе, как другие мужья относятся к своим женам. Я бы не хотел повторения прошлого, Рейчэл. Его сочувствие разрушило ее выдержку. — Ой, Джон, я чувствую себя такой… униженной. — Льюис говорит, что, если ты вернешься к нему, он никогда не причинит тебе горя. Она пыталась разобраться в своих смешанных чувствах, не последним для нее было и оправдание в глазах людей. Теперь, когда муж заявил о доверии к ней, разумеется, она вернется к нему, ибо разве она желала разрыва? Но будет ли она в безопасности в Харродсбурге, где Льюис унижал ее, устраивая бурные сцены? Может ли она возвратиться в дом Робардсов, где будет торчать на глазах та молодая девушка-рабыня? И затем, к чему может привести неупорядоченная для них обоих жизнь, когда Льюис не желает или не способен отвечать за управление плантацией, проводит дни на охоте или же бездельничает? Не к тому ли же самому несчастью, которое она уже испытала? Она смотрела в сторону, размышляя; Джон Овертон не тревожил ее ни словами, ни мыслями. Рейчэл повернулась к нему. Она была откровенна в своем поведении, в ее действиях не было ничего усложняющего или уклончивого. Она смотрела людям прямо в глаза с момента встречи и продолжала поддерживать такой прямой контакт на протяжении всей беседы, ибо в ее мыслях редко бывало что-то грубое, скрытное или осуждающее. У нее не было внутренней защитной вуали, чтобы прикрыть глаза и то, что в них отражается. — Джон, мое самое большое желание — быть с мужем. Но я убеждена, что наши проблемы делают невозможной нашу счастливую жизнь в доме Робардсов. Мой отец завещал нам благодатный участок земли в нескольких милях от этого дома, целую квадратную милю, которую можно превратить в хорошую плантацию. Будь добр, напиши Льюису, скажи ему, что я разделяю его чувства, но считаю, что у нас будет значительно больше шансов на успех, если он приедет сюда, в Нашвилл, где мы построим дом на нашей земле и начнем новую жизнь.
/6/
Рейчэл услышала стук дверного молотка, поначалу вежливый, затем настойчивый. Но на стук никто не ответил, и она вышла из своей спальни на втором этаже, спустилась по простой деревянной лестнице. Открыв дверь, она увидела высокого молодого человека с копной рыжеватых волос. Очевидно, недоверчивость вошла в его плоть и кровь, ибо, стоя вполоборота, он смотрел на массивные ворота, закрывшиеся за ним. Она была рада, что он обратил внимание на ворота, поскольку это дало ей возможность разглядеть это странное создание в плохо сшитом костюме из домотканой шерсти. Он показался ей самым высоким человеком, какого она когда-либо видела, более ста восьмидесяти сантиметров, подумала она, и тощим при его росте. Его затылок казался непропорционально массивным по сравнению с тонкими чертами лица, какие она видела в профиль, с высоким лбом и узкой переносицей. Впрочем, все в нем было слегка непропорциональным: невероятно длинное лицо, длинная шея, казавшаяся слишком хрупкой, чтобы держать такую тяжелую голову; длинный торс и неуклюжие руки и ноги. Он выглядел как юноша, фигура которого вытянулась до крайних пределов и требует теперь наполнения, на что уйдет целых десять лет. И тем не менее, несмотря на видимую физическую незрелость, он держал себя уверенно, и его поза выражала мощь, словно его несуразное тело с трудом удерживало внутри себя свою силу. Мужчина, почувствовав ее присутствие, резко повернулся. Она смотрела в огромные искрящиеся голубые глаза — таких она еще не видела, — волнующие и проницательные. Он был выше ее почти на три головы, и вместе с тем в нем не было ничего давящего. Она скорее чувствовала излучаемое им тепло и обнаружила, к своему изумлению, что она и молодой незнакомец приветливо улыбаются друг другу. — Пожалуйста, извините мое вторжение, мадам. Я Эндрю Джэксон из Нашвилла, друг Джона Овертона. — Конечно, мистер Джэксон. Мы наслышаны о ваших подвигах со времени вашего приезда сюда. Я — миссис Льюис Робардс. Он медленно поклонился в пояс, принимая представление. И все в нем — не только вежливые жесты, но и наклон его большой головы, очертание чувственных, слегка влажных губ, улыбка блестящих голубых глаз — говорило о врожденном благородстве. Она заметила на левой стороне его лба шрам от удара саблей, идущий от шевелюры к густым бровям. — Вы дочь вдовы Донельсон из Кентукки? Рейчэл почувствовала, что покраснела. Слышал ли он о ее неприятностях? — Я пришел в надежде на вашу благосклонность, миссис Робардс. Со времени моего приезда в Нашвилл в прошлом ноябре я жил в гостиницах. Джон Овертон рассказал мне, что в хижине, которую он занимает, есть комната. Как вы думаете, не согласится ли ваша мать принять меня? Я первоклассный стрелок и набил руку в сражениях с индейцами. «Он покраснел, как школьник, — подумала она. — Но в таком случае он, конечно, юноша, ему не более двадцати лет?» — Я почту за большую честь иметь возможность присоединиться к этой семье, — слышала она его слова. — Ох, миссис Робардс, если бы вы знали, как я устал от хвастовства, выпивок и жирной пищи в Рэд-Хейфере! — Ну, мистер Джэксон, мы, разумеется, рады получить посильную защиту. Наш сосед капитан Хантер был убит индейцами племени крик, а когда наши поселенцы преследовали индейцев, они убили майора Киркпатрика. Рейчэл некоторое время колебалась, затем добавила: — Но я здесь не хозяйка. Моя мама и брат Уильям уехали в Нашвилл на целый день. Она увидела, что он повернулся и с грустью посмотрел на седельные мешки на своей лошади, где находилось его имущество. Он был отважным человеком с четким представлением о независимости и, как она почувствовала, несколько одиноким. — Вы сказали, что Джон Овертон готов жить в хижине с вами? — О да, мы только что образовали партнерскую компанию, адвокатскую, как, я догадываюсь, вы назовете ее. Я длинный ростом, он же длинный в знании законов. Он сказал, что сможет содержать контору прямо здесь. — Но разве вы не приписаны к суду? Как официальное лицо?.. — Действительно, я и есть официальное лицо, мадам. Судья Макнейри и я, мы привезли суд из Северной Каролины. Я наделен титулом прокурора. Правда, этот титул означает, что я гоняюсь за преступниками там и тогда, где и когда их найду. В остальное время я веду себя, как другие адвокаты, выискивая клиентов. И опять странная комбинация силы — правонарушитель будет пойман и наказан — тон его голоса не оставлял сомнений — и в то же время скромности — молодой юрист ожидает с надеждой клиентов. Рейчэл была уверена, что ее мать и Уильям приветливо примут этого молодого человека. Ведь несколько раз они намеревались принять кого-то, кто жил бы в хижине с Овертоном. Но у нее не было права на согласие. Не могла она и отказать ему. — В любом случае вы можете поужинать с нами, мистер Джэксон. Семья охотно встретится с вами. — Спасибо, миссис Робардс, откровенно говоря, я надеялся, что вы пригласите меня. — Почему бы не вытащить ваши вещи из седельных сумок и не перенести их на время в хижину? Ведь вы могли бы выпустить вашего коня на выпас. Он поступил так, как она сказала. Рейчэл проследовала с ним по двору, когда он тащил на своих тощих плечах набитые мешки, а под мышками удерживал по ружью. Она распахнула двери хижины. В бревенчатом доме размером четыре на шесть метров, с небольшой спальной комнатой стояли двухспальная кровать, этажерка, кувшин с водой и тазик для умывания лица и рук. Передняя комната, размером четыре на три метра, имела два окна и камин, над которым Овертон пристроил полку с книгами по юриспруденции. В комнате стояли тяжелый стол орехового дерева, два стула, сделанные из гикори, грубо сколоченный шкаф, где Овертон хранил свой второй костюм и рубашки. К стене были прибиты оленьи рога, служившие вешалкой для ружья, пары пистолетов и нескольких рожков с порохом, а также железная лампа с китовым жиром. Эндрю Джэксон стоял в центре комнаты, его густая рыжеватая шевелюра всего на дюйм не доставала до поперечной балки, поддерживавшей крышу. Он посмотрел на сложенный из булыжников камин, на книги Овертона, на пистолеты и пороховые рожки и в завершение осмотра — на цветастые хлопчатобумажные занавески на окнах. — Это самая красивая хижина, в какой мне довелось побывать, — мягко сказал он. — Вы не суеверны, миссис Робардс? Я суеверен. Например, я люблю начинать новое дело во вторник, как сегодня, и никогда не начинаю что-либо в пятницу. — Такое у вас случайно не от ирландцев? Он поморщился, потирая веснушки, усыпавшие верхнюю половину его щек. Была какая-то открытость, невинность в его улыбке, напоминавшей улыбку Рейчэл и свидетельствовавшей о том, что перед ней человек, которому нечего скрывать, да и не в его характере вообще скрывать что-либо. У него был крупный рот с крепкими, плотными зубами. — Моя мама всегда говорила, что у меня две вещи, которые выдают принадлежность к Каррикфергусам,[1] — лицо и характер. Он присел на корточки около своих мешков, вытащил полдюжины книг, включая «Конспекты законов» Мэттью Бэкона, коробку боеприпасов, чай, табак и соль, два одеяла и одежду, которую он повесил в шкаф. — Я распаковал свое скромное имущество. Если же ваша мать и брат скажут «нет», я спокойно вернусь сюда, возьму свои вещи и уложу в седельные мешки. Рейчэл следила за его быстрыми, неловкими движениями, в которых было какое-то непостижимое очарование, и она отдавала себе отчет в том, что слегка улыбается если не открыто, то мысленно, внутри себя. В этот момент молодой человек повернулся, поднялся и стоял, возвышаясь над ней. Молча они смотрели друг на друга точно так же, как в первый момент в дверях дома Донельсонов./7/
Она отказывалась от приглашений соседей на вечеринки и встречи, даже если они устраивались в домах старых друзей, опасаясь, что люди рассудят неправильно, увидев ее танцующей и веселящейся. Она не хотела, чтобы кто-то думал, будто она издевается над своим мужем или не понимает последствий своего положения. Но хорошие вести, привезенные Джоном, разнеслись в долине Кумберленда, и этому помогли ее братья, рассказавшие окрестным жителям о предстоящем приезде Льюиса Робардса и о публичном признании им своей вины. Теперь она вновь почувствовала себя свободной и счастливой. Воскресенье было днем встречи членов клана Донельсон. Во главе стола с массивной выскобленной добела столешницей восседала миссис Донельсон, а с другой стороны — старшая сестра Рейчэл, Мэри, толстушка с полными щеками, веселая, домовитая хозяйка и к тому же прекрасная кулинарка. Ее двенадцать детей появлялись на свет так же регулярно, как устроены перекладины лестницы на сеновале, а первый ребенок был почти того же возраста, что и Рейчэл. Рядом с Мэри сидел ее муж Джон Кэффрей, мечтавший пристроить к дому комнаты или соорудить новые хижины для пополнявшегося потомства. Но Мэри сопротивлялась, заявляя, что хочет видеть своих детей около себя. По другую сторону стола, напротив Джона Кэффрея, сидела другая сестра Рейчэл, Катерина, высокая, жилистая, седая, постоянно покрикивавшая на своих девятерых детишек, но всегда молчавшая на семейных сборищах. Рядом с ней пристроился ее муж Томас Хатчингс, спокойный, симпатичный мужчина. По правую руку от матери сидел Джон-младший. Он не был старшим среди сыновей миссис Донельсон. Старший по рождению, Александр, убежденный холостяк, с острыми пожелтевшими зубами и по природе бродяжка, охотно уступил старшинство в семье Джонни: тот носил имя отца и поэтому считался номинальным главой семьи. Напротив Джонни располагался Александр, рядом с ним — осторожный Уильям и дальше — Сэмюэл. Традиционно место Рейчэл было рядом с Сэмюэлем. По другую сторону стола от нее сидели Роберт и Джейн Хейс, а рядом с Джейн — Стокли, в свое время семейный юрист и политик. Джон Овертон был рядом с Рейчэл, а напротив, около Стокли, разместился Эндрю Джэксон. Два последних места в конце стола занимали Левен, все еще незрелый парень, хотя и двумя годами старше Рейчэл, и Северн, болезненный, с впалыми щеками и сильным кашлем. Рейчэл заметила, что Джейн пристально рассматривает Эндрю Джэксона. На следующее утро открывалась весенняя сессия суда округа Дэвидсон, и Сэмюэл, очарованный двумя молодыми постояльцами, засыпал их вопросами относительно права. До приезда к Донельсонам Эндрю Джэксон объезжал округ Самнер и мог рассказать забавные судебные истории: например, о Джошуа Болдуине, осужденном присяжными за то, что сменил свое имя на Джошуа Кэмпбелл; об Уильяме Пиллоузе, признанном виновным в том, что он откусил верхнюю часть уха у Абрама Дентона; о Джоне Ирвине, который, согласно приговору, должен был публично заявить, что «мошеннический и скандальный отчет, состряпанный и распространенный мною относительно мисс Полли Макфадин, лишен оснований и лжив, и я не имею ни права, ни повода, ни причин верить ему». В течение тех месяцев, когда Рейчэл была дома, Сэмюэл безвольно колебался, не зная, хочет ли он стать учителем, проповедником или же, возможно, землемером. После вхождения в семейный круг юристов у него появился новый интерес в жизни. Чтобы стимулировать его заинтересованность, Рейчэл также принялась задавать вопросы о судебной процедуре. Джон Овертон сказал: — Сэмюэл, я понял со слов твоей матери, что ты утром выезжаешь в Нашвилл, чтобы сделать покупки у Ларднера Кларка. Мистер Джэксон и я должны выступить по интересным делам. Почему бы тебе не сопроводить мать и сестру на заседание суда, чтобы посмотреть и послушать? — Не расстроится ли судья Макнейри при виде посетительниц? — спросила Рейчэл. — Может быть, — ответил Овертон, — но будет приятно удивлен. Кроме того, мой партнер — должностное лицо в суде, и я уверен, он будет рад вступиться за вас. На следующее утро Рейчэл и ее мать надели строгие черные шерстяные платья, более всего подходящие для десятимильной поездки в город по пыльной дороге. В лавке мистера Кларка они купили головку сахара, свежие специи для дома и рулон неотбеленного миткаля. Несколько женщин приветствовали Рейчэл, обнимали ее, восторгаясь тем, как она выглядит. После этого они прошли по изрытой колеями улице к месту перед зданием суда, где к столбам и коновязям было приторочено много лошадей. Здание суда, сложенное из обтесанных бревен, было обмазано глиной, похожей на известку. Террасу с южной стороны здания длиною шесть метров забили мужчины, проехавшие много миль, чтобы присутствовать при разборе тяжб. На них были штаны из оленьей кожи, кожаные чулки, на ногах — мокасины из кожи бизона, длинные охотничьи рубахи из оленьей кожи с неровной бахромой. Рейчэл заметила среди них несколько друзей, поклонилась им, обменявшись приветствиями. Сэмюэл взял женщин под руки. Когда они подошли к открытой двери, Рейчэл отшатнулась, инстинктивно вздрогнув от отвращения: внутри была ужасающая грязь, на полу комки глины, все было покрыто пылью, в углах ошметки разжеванного табака, двери перекошены, ставни окон провисли, помещение буквально вопило о запущенности. В дальнем углу небольшой комнаты стоял длинный стол, за которым сидел молодой человек лет двадцати шести — судья Джон Макнейри, первый судья, назначенный законодательным собранием Северной Каролины в этот Западный район. В комнате стояло несколько грубых скамей для зрителей и судебного присутствия; эти люди, разинув рты, смотрели на двух леди, появившихся в дверях. — Думаю, что нам лучше уйти, — сказала Рейчэл, почувствовав себя неловко. В этот момент с противоположной стороны комнаты подошли Джэксон и Овертон, они обсуждали с судьей Макнейри повестку дня заседания. Судья и они были единственными мужчинами, одетыми в нормальные костюмы и белые рубашки. — Пожалуйста, сюда, позвольте мне разместить вас удобно, — сказал Джэксон. Он ровно поставил скамью, энергично вытер ее большим цветным платком. Сэмюэл сел на скамью, его глаза сверкали, а руки были зажаты между коленями. Ни Рейчэл, ни ее мать не тронулись с места. Рейчэл окинула взглядом помещение суда. Наконец она повернулась к двум мужчинам и сказала: — Вчера, когда вы обсуждали право, я заметила для себя, с каким уважением относитесь вы к своей профессии. Потом я пришла в… извините меня… свинарник. Как вы можете здесь работать? Как вы можете поддерживать свое достоинство? Как можно уважать здесь закон, юристов или любое решение, вынесенное судьей? Мужчины молча посмотрели друг на друга. — Миссис Робардс совершенно права, — сказал Джэксон, словно впервые заметив окружающую грязь. — Почему мы сами не подумали об этом? — Я сам всего лишь свежеиспеченный адвокат, Рейчэл, — сказал Овертон. — Но наш друг мистер Джэксон — окружной прокурор. Все, что он скажет, суд воспримет как совет. С выжидающим взглядом Рейчэл повернулась к Джэксону, но он пожал плечами, усмехнувшись. — Мистер Овертон, — заявил он, — в таком случае я назначаю вас специальным советником города Нашвилла, отстаивающим интересы запущенного здания суда. Серебряные очки Джона скользнули вверх, затем вниз по переносице, словно он колебался в выборе решения. Через минуту он торжественно шагнул в главный проход между неровно стоявшими скамьями. — Ваша честь, согласно правилам справедливости, — говорил он медленно, четко произнося каждое слово, — любой истец должен приходить в суд в чистой рубашке. Дабы избежать оскорбления его величества закона, судейских горностаев и чьей-либо непорочности, я призываю, будь то истец или адвокат, а тем более члены этого почтенного суда, придерживаться чистых помыслов и приходить в свежем исподнем в этот свинарник. Рейчэл смутилась, ведь она использовала образное выражение для личного, а не гласного потребления. Судья Макнейри осмотрел судебный зал слева направо, затем произнес, растягивая слова: — Советник прав. Дэвид Хэй здесь? Мистер Хэй, отныне я приказываю вам отремонтировать судебное помещение, исправить двери, закрепить три ставня на окнах, починить скамьи. Каждый день, когда проходит заседание суда, вы должны проверить, что помещение выметено, полы помыты и пыль стерта; вознаграждение будет выдаваться после завершения сессии суда. Она заметила, что Джэксон и Джон выразительно подмигнули друг другу. Она и ее мать сели рядом с Сэмюэлем, подавившим усмешку. В этот момент в судейскую ворвался разъяренный Хью Макгари: — Эндрю, ты мне не нужен в деле против Каспера Мэнскера. Янамерен убить его прямо здесь, в здании суда, и завладеть тем рабом. Мы подписали соглашение, потом он ушел и умышленно потерял документ о продаже. Джэксон встал, положил свои длинные пальцы на плечо Макгари и сказал успокаивающим тоном: — Ну, Хью, я думаю, что все это можно уладить мирно. Каспер Мэнскер — один из старейших здешних поселенцев, и все знают, что его слово дороже бушеля соли. Голос за спиной Рейчэл произнес: — Кто-то спрашивает меня? — Да, Хью Макгари и я искали вас, мистер Мэнскер, — скороговоркой ответил Джэксон. — Мой клиент и я полагаем, что следовало бы найти дружественный компромисс. Пойдемте погреемся на солнышке на южной веранде, джентльмены, там мы сможем уладить дело без суда. Рейчэл увидела, что Джэксон взял под руки старину Мэнскера и Макгари и вывел их не столько с помощью физической силы, сколько усилием воли из зала суда. — Он вовсе не такой, как о нем говорят, — заметила миссис Донельсон. — Он очень вежлив. — Что вам рассказывали о нем, мама? — спросила Рейчэл. — Ну, рассказывали о хулигане в округе Самнер, который умышленно наступил ему на ногу на площади поселка, а затем вернулся и наступил второй раз, чтобы тем самым показать мистеру Джэксону, что он действовал преднамеренно. — И что же сделал наш миролюбивый мистер Джэксон? — Ну, он выдернул кол из ограды и огрел того парня. Они услышали громкий стук копыт и крики целой банды. Повернув голову, Рейчэл увидела группу мужчин в грязных кожаных куртках, вооруженных ружьями, нечесаных, с мрачными лицами. Она наблюдала, как они спрыгнули с лошадей, а некоторые старались затеять ссору с мужчинами, стоявшими на террасе. Сэмюэл спросил, нельзя ли что-либо предпринять. Она не заметила, как Эндрю Джэксон вернулся в помещение суда. — Если несколько минут назад я как официальное судебное лицо, — ответил медленно Эндрю, — шутил по поводу назначения Джона специальным советником по уборке помещения, то, догадываюсь, я все еще являюсь окружным прокурором, когда в поле зрения появляется Спилл Симберлин, обвиненный в грабеже, нарушении спокойствия, в нападениях и неуважении суда. Из стопки бумаг, которые он держал в левой руке, Эндрю извлек судебное решение и зачитал громким голосом: — Первое дело, которое рассмотрит суд, — штат против Спилла Симберлина. Рейчэл встала, чтобы посмотреть через открытую дверь на стоявшую за ней толпу. Спилл Симберлин поднял свое ружье, которое он держал под мышкой, подошел вплотную к Джэксону, почти касаясь носом лица молодого человека: — На всей границе нет такого окаянного суда, который осмелился бы судить меня. — Так не говорят о собственных судах, Спилл, — ответил Джэксон. — Право существует, чтобы защищать и наказывать тебя. Если ты поступил неправильно, тогда, несмотря ни на что, ты будешь наказан. — И кто собирается меня наказать, ты, тощий сопляк? Наступила пауза, во время которой Рейчэл видела, как напрягаются мускулы на лице Джэксона. Он повернулся, отошел к своим седельным сумкам, вытащил из них два пистолета и покрутил их в своих ладонях. Он приблизился к Спиллу Симберлину, целясь пистолетом в его голову. Рейчэл похолодела. Симберлину стоило лишь немного поднять ружье. Когда Эндрю подошел на расстояние менее метра к Симберлину, он сказал, чтобы было слышно на всей главной улице Нашвилла: — Предстань перед судом, и пусть его честь вынесет приговор, иначе я размозжу твои жалкие мозги. Наступила тягостная тишина. Если Симберлин был готов действовать, то следовало бы ожидать выстрела. Но его плечи опустились. Послышался гул оживленных голосов. Рейчэл повернулась к своей матери: — Мистер Джэксон действительно застрелил бы его? — Мистер Симберлин, видимо, думал так, — ответила миссис Донельсон с улыбкой. Судья Макнейри постучал молотком. — Между прочим, мама, — спросила Рейчэл, — ты все еще считаешь твоего нового постояльца мирным человеком? После объявленного перерыва они покинули помещение суда. Джэксон и Рейчэл шагали нога в ногу. — Вы не испугались? — поинтересовалась она. — Симберлин мог убить вас. — О, я блефовал, — самодовольно ответил он. — Кроме того, я люблю сталкиваться с опасностью./8/
Вечером за ужином, когда гроза порывами обрушивалась на крышу дома, они долго сидели за столом. Отблеск горевших в камине сосновых дров и хвороста играл бликами на их лицах. Миссис Донельсон спросила: — У вас нет собственной семьи на Западе, мистер Джэксон? — Нет, миссис Донельсон, я сирота. С четырнадцати лет. Мой отец умер за несколько дней до моего рождения, надорвавшись поднимая бревно в нашем местечке Уоксхауз. У меня было два брата; старший, Хью, погиб в сражении у Стоно-Ферри. Моя мать отыскала моего младшего брата, Роберта, и меня в британской военной тюрьме в Кэмпдене, но раненый Роберт умер через два дня от заражения и оспы. Он вдруг смолк, его длинное выразительное лицо потеряло свою бледность, покраснело, и на лбу четко проступил шрам, похожий по очертанию на восточную саблю. — Когда я излечился от оспы и моя мать узнала, что два моих двоюродных брата, Джозеф и Уильям Крауфорд, захвачены британцами и больные лежат в тюремном корабле около Чарлстона, она собрала все имевшиеся у нее лекарства и отправилась в путь с двумя женщинами. Не знаю, как долго находилась она в этой темнице, пытаясь вылечить парней, но сама подхватила на корабле лихорадку и не смогла уехать дальше чем на пару миль от Чарлстона. Я даже не знаю, где она похоронена. Она лежит в безымянной могиле где-то на равнине. Я неоднократно искал, но никто, видимо, не знает. Его голос утих, огромная голова склонилась, тяжелые веки закрылись. Рейчэл никогда раньше не слышала, чтобы он говорил таким образом. Впервые она почувствовала нежность в мужчине и его неодолимую тягу к любви. Когда он поднял голову и взглянул на нее, в его глазах блестели слезы. — Именно поэтому, миссис Донельсон, я думаю, что самое великое, что может иметь мужчина, — это семья, и, чем она больше, тем лучше. — Хотела бы, чтобы у меня была еще одна дочь для вас. — Поскольку у Донельсонов нет больше свободных девушек, — сказала Рейчэл, — когда мой муж и я поселимся в нашем новом доме, то обследуем всю округу и устроим серию восхитительных приемов. Если, конечно, вас не ждут девушки в Джонсборо или в Солсбери. Он посмотрел на нее с другой стороны камина и ответил задиристым тоном: — О, разумеется, мадам, дюжины их, целый список присяжных. — Назовите их имена. — Имена? О да. — Он провел своими тонкими пальцами по волосам, вытянув несколько рыжеватых прядей на лоб. — Посмотрим, там, в Уоксхаузе, была… была, ну, конечно, Сюзан Смарт, которая говорила мне, что у меня приятные глаза и что я хожу, наклоняясь вперед. Затем в Солсбери была Нэнси Джаррет. Приятная девушка Нэнси. Скакала на лошадях, словно мартовский ветер. Но ее мать не одобрила выбор, заявив, что я слишком много пью и играю в азартные игры. — И такое с вами было? — Ох, видимо, было. В годы учебы я был диким парнем. Но что можно делать, если таверны были единственным местом, где мог жить человек? Когда мне было шестнадцать лет, мой дед оставил мне в наследство триста фунтов стерлингов, я отправился в Чарлстон и проиграл эти деньги на скачках так быстро, что у меня до сих пор голова идет кругом. Но с тех пор как я примкнул к семейству Донельсон, я стал серьезным, ответственным гражданином. Я больше не играю и не стану играть… пока не создам на границе самую лучшую конюшню скаковых лошадей. Но настоящее представление о характере Джэксона семья Донельсон получила от Джона Овертона. Джон спокойно заметил: — Он выше всех, кого я когда-либо знал. Вы, конечно, заметили шрам на его голове? Все кивнули головой в знак согласия. — В 1781 году Эндрю и двое его братьев сражались под командованием своего дяди майора Крауфорда против британских драгун, вторгшихся в Уоксхауз. Драгуны атаковали наших в местной церкви и подожгли ее. Эндрю и его молодой двоюродный брат Томас Крауфорд сумели бежать, но их перехватили и Крауфорда взяли в плен. На следующее утро, когда Эндрю добрался до дома Крауфордов, чтобы рассказать о случившемся с их сыном, отряд драгун захватил врасплох семью. Британский офицер приказал Эндрю почистить его высокие сапоги, запачканные грязью. Тогда Эндрю было всего четырнадцать лет и его рост едва доходил до средней пуговицы красного мундира офицера, но он крикнул: «Сэр, я военнопленный и требую к себе подобающего обращения!» — Я слышу тон, каким это было сказано, — прокомментировал Сэмюэл. — Командующий офицер взмахнул саблей и опустил ее на голову Эндрю. Тот поднял руки, и они были рассечены до кости. Так он спас свою жизнь, но конец сабли порезал ему лоб. Наступила тишина, семь братьев обратились к собственным воспоминаниям, ибо все они участвовали в Войне за независимость. — И что сделал мистер Джэксон? — спросила Рейчэл; ее вопрос вызвал легкий смешок, поскольку тон ее голоса как-то подразумевал, что Эндрю Джэксон овладел положением и отомстил за себя. — То, что вы ожидали. Британский офицер приказал провести его отряд к дому боевика Уоксхауза по имени Томпсон. Эндрю не пошел по прямому пути, а повел британцев по петлявшей тропе, по открытому полю. Томпсон заметил отряд, когда тот был еще за полмили, и сбежал. Так или иначе, это не понравилось английскому офицеру, как не понравился отказ Эндрю почистить его сапоги. Он заставил Эндрю прошагать сорок миль к британской военной тюрьме в Кэмпдене, не разрешив ему даже утолить жажду. Рейчэл смотрела на огонь, заметив для себя, что и ей не помешала бы такая выдержка./9/
Был прекрасный майский полдень, цвели боярышник и форзиция, поздно прилетевшие городские ласточки и корольки щебетали в гуще деревьев, воздух был напоен ароматом жимолости. На тропе Рейчэл заметила караван торговцев, с ними, ведя трех тяжело нагруженных вьючных лошадей, ехал Льюис Робардс. Она следила за ним через смотровое окно большой комнаты. Он легко, почти надменно сидел на коне, хотя выглядел потолстевшим и более постаревшим, чем можно было бы ожидать по истекшему времени. Несколько недель после получения его письма, в котором он сообщал, что будет счастлив свернуть свои дела в Харродсбурге и переехать на жительство в Кумберленд, она ждала его приезда к ней. Она поспешила к двери встретить его. В набитых корзинах на вьючных лошадях Льюиса были не его личные вещи, а дорогие и тщательно выбранные подарки для каждого члена семьи Донельсон. Он привез кольцо с сапфиром Рейчэл, французское туалетное зеркало ее матери, компас в шкатулке Александру, набор инструментов Уильяму, одно из новых ружей Юмана Джону-младшему, полное собрание сочинений Шекспира Сэмюэлю, бумажник Стокли, который считался казначеем клана, охотничий нож Левену, иллюстрированную Библию Северну, а Джону Овертону в знак признательности за примирение собрание книг по юриспруденции в кожаном переплете с вытисненным на закладке его именем. Все тепло приветствовали Льюиса, кроме Сэмюэля: он не мог забыть заплаканное лицо сестры, когда восемь месяцев назад забирал ее из дома Робардсов. С ходом времени Рейчэл с мучительной тревогой все более проникалась пониманием того, что ее муж не уверен в себе. После ужина мужчины заговорили о ценах на землю, о трудностях получения права на участки в глубинных районах. — Говоря о правовых документах, — сказал Овертон, — я перепроверил ваши права, Льюис, на Кловер-Боттом. Рейчэл просила меня посмотреть, правильны и законны ли записи. Они правильны и законны. — Спасибо, Джон, но меня тревожат не столько вопросы права на землю, сколько набеги индейцев. Ведь это все еще довольно дикая страна, не так ли? Уильям мрачно ответил: — Да, за прошлый месяц было несколько нападений такого рода. Были убиты миссис Харгарт и двое ее детей. — В таком случае было бы небезопасным подвергать Рейчэл такой угрозе, верно? Наступило неловкое молчание. Рейчэл задрожала, почувствовав, как на нее навалились старые опасения. Однако она знала, что ее братья не считают Льюиса трусом. Тишина наступила потому, что никто из мужчин не мог сказать другому, как далеко намерен он углубиться в индейские земли или какую позицию займет в отношении постоянной угрозы нападения, ведь все они жили на границе, подвергались нападениям и сражались с индейцами. Она знала, о чем думают ее братья: если никто не отодвинет вглубь границу, рискуя подвергнуться нападению индейцев, тогда эта земля всегда будет малонаселенной и небезопасной. — Позвольте мне высказать мое мнение, капитан Робардс, — услышала она голос Эндрю Джэксона. — Я всегда считал, что индейцы никогда не нападают там, где мужчина быстро берется за ружье. Ваше присутствие будет той защитой, в какой нуждается миссис Робардс. Льюис покраснел от комплимента. Рейчэл почувствовала, что ее встревоженность отступила. Теперь она сидела спокойно, а Льюис рассказывал об инаугурации президента Джорджа Вашингтона 30 апреля 1789 года в Нью-Йорке.[2] Это доставило особое удовлетворение Донельсонам, поскольку Вашингтон был их другом в Виргинии. — После того как мистер Вашингтон принял присягу, верховный судья Нью-Йорка воскликнул: «Да здравствует Джордж Вашингтон, президент Соединенных Штатов!» — и толпа загремела в ответ: «Да здравствует Джордж Вашингтон, президент Соединенных Штатов!» — Это мне напоминает «Да здравствует король!», — проворчал Джэксон. — Мы новая страна и имеем новое правительство с новым избранным главным исполнителем. Почему у нас нет собственных слов? Никто не принял это ворчание всерьез, и они спрашивали друг друга, не принесет ли им учреждение нового правительства оплачиваемую милицию и постоянную защиту против индейцев, чем не хотел заниматься их родной штат Северная Каролина, поскольку было очевидно, что население Кумберленда вскоре образует собственный штат. Они говорили о том, что следовало бы подтолкнуть Северную Каролину уступить территорию федеральному правительству, чтобы Кумберленд мог утвердить себя как территория, ибо есть острая нужда в дорогах, в почтовой службе и торговых путях для притока товаров с Востока. Были трудности и с решением вопроса, какие деньги станут законным средством платежа. Английский фунт стерлингов все еще принимали, но он почти исчез из обращения. Золотые испанские флорины, поступавшие по Тропе Натчез из Нового Орлеана, считались надежными, но все же была насущная необходимость в стандартных деньгах, чтобы платить людям за услуги твердой валютой, а не товарами. — Я занимаюсь здесь, в Нашвилле, правом уже полгода, — сказал Джэксон, — и если свести воедино все квадратные мили земельных участков, что я получил в оплату, то образуется целая округа. Если же мои труды не оплачивают земельными участками, то взамен дают шкурки норок, льняную ткань, ржаное виски, сало, пчелиный воск, копченый бекон, персиковое бренди, меха бобров, выдр, енотов и лисиц. Мне впору открывать лавку. Рейчэл была удивлена, обнаружив, какой чудесный фон для размышлений возникает при серьезном обсуждении мужчинами текущих проблем, как странно ясно и отчетливо их понимать и впитывать сказанное ими и в то же время шаг за шагом развивать собственные мысли. Ее муж был привязан к Джону Овертону, в доме Робардсов они были друзьями даже после того, как Овертон выступил в ее защиту. Эндрю Джэксон и ее муж заложили хорошее начало, и комплимент Джэксона был таким, какой Льюис будет долго помнить. Так или иначе, они будут жить здесь рядом, пока не будут готовы новый дом и плантация Робардсов. Она приняла решение отказаться от добрых контактов с молодыми юристами, которыми она наслаждалась прошедшие месяцы. Жизнь каждого должна проходить в пределах собственных границ, и если характер ее мужа воздвигнет вокруг нее ограду, тогда она попытается жить счастливо и обеспеченно внутри этой ограды./10/
В течение последующих недель Рейчэл и Льюис выезжали на свои земли, обследовали их с целью расчистки, засадки, разбивки садов и выбора места для постройки дома. С семьей они встречались только за обедом. Она приветствовала Джона Овертона и Эндрю Джэксона на ходу, когда сталкивалась с ними, и тотчас возвращалась к своим делам. Однажды в полдень, выйдя из молочной, где готовилась пахта для отбеливания льняной пряжи, она проходила по двору, когда туда въехал на лошади Эндрю Джэксон. Она не поняла, как ему это удалось, но не успела она сделать и трех шагов, как он оказался впереди нее, его худые плечи наклонились к ней, а глазами он искал ее глаза. — Миссис Робардс, я сказал или сделал что-то оскорбившее вас? Если так, то уверяю, я не имел такого в виду. Вы знаете, что я питаю к вам глубочайшее… Она поспешила заверить его: — Нет, нет, вы ничего не сделали, мистер Джэксон. Просто… после возвращения мужа я так занята… Подняв голову, она увидела в его глазах выражение, схожее с тем, что было у Молл в тот день, когда она сказала Рейчэл, что та живет затворницей. Джэксон быстро затушевал свои чувства, сказав: — Пожалуйста, простите меня, что я вызвал у вас замешательство, миссис Робардс, — и тут же отошел от нее. За обедом она уже не прислушивалась к дискуссиям по вопросам права, хотя юридическая фирма Овертона и Джэксона превратила хижину Донельсонов в самую активную юридическую контору к западу от Голубого хребта. Проблемы Сэмюэля были разрешены: теперь он изучал право в хижине для гостей, куда перетащил все, кроме кровати. Когда подошло время официального утверждения завещания полковника Донельсона, то совершенно естественно этим занялся Джон Овертон. Когда Стокли потребовались деньги для нового делового предприятия и за обеденным столом он упомянул об этом, то Эндрю Джэксон сделал дружеский жест, вызвавшись предоставить ему заем. Когда Овертон и Джэксон отправлялись на выездные сессии суда и им платили натурой за их услуги — шерстяными тканями, льняным полотном, сахаром и табаком домашнего производства, они привозили эти товары Донельсонам и сдавали в семейную кладовку. Между семью братьями, каждый из которых был занят своей деятельностью, неизбежно возникали постоянные дискуссии, осуществлялся обмен советами и складывались совместные предприятия с участием и двух оплачивавших свое пребывание постояльцев. Воздерживался один лишь Льюис. Он был столь же умен и образован, как и все остальные, но не был заинтересован в развитии Нашвилла, его не трогали планы клана Донельсон по освоению пограничного района и накоплению денег. Через два месяца после приезда к Донельсонам он заявил Рейчэл, что принял решение не вспахивать земли в Кловер-Боттом. — Но, Льюис, ты ведь обещал в письме… — Зачем мне еще одна плантация? — спросил он. — У меня уже есть одна в Харродсбурге. — Ты на самом деле не хочешь начать строить, как делают все, свою собственную жизнь? — Я стал бы, если был бы должен, но не вижу смысла заниматься такой работой, когда уже имею то, для создания чего здесь потребуется десять лет. — Что же в таком случае ты собираешься делать? — Почему я должен что-то делать? Тебе нравится этот дом, не так ли? Тебе здесь удобно. А я занимаюсь охотой. К тому же я выгодно обменял несколько земельных участков в Нашвилле. По-твоему, важнее, чтобы я разъезжал и болтал, как те два бродячих законника, к которым ты так привязана? Рейчэл отпрянула. — Сожалею, Льюис, но я не хотела ущемить твои чувства. — Почему они не переезжают в Нашвилл и не открывают там свою контору? Вряд ли им удобно каждый день проезжать десять миль в город и обратно. — Но они оба одиноки, Льюис, и им приятно здесь, с нами. Его лицо стало мрачным, вначале показалось, что он сдержится, но соблазн был слишком велик. — И ты счастлива с ними. Рейчэл глубоко вздохнула. Это было так болезненно знакомо. — Ох, Льюис, начнем строить хижину в Кловер-Боттом. — Итак, теперь ты хочешь убежать? — С каждым словом он повышал голос. — Ну что ж, я не намерен позволить Эндрю Джэксону выставить меня отсюда. Рейчэл была шокирована. В дверь постучали. Это была миссис Донельсон. — Льюис, постыдись! — воскликнула она, входя в комнату. — Ты кричишь так громко, что все внизу слышат тебя. Льюис выскочил из дома, оседлал одну из своих лошадей и стремглав вылетел за ворота. Несколькими часами позже он вернулся с виноватым видом. Он спросил: — Ты простила меня? Рейчэл ответила: — Да, конечно. Чтобы избежать дальнейших неприятностей, она перестала обедать в столовой со всей семьей. Мир был недолгим — две-три недели. Затем в полдень, когда она вместе с матерью и Молл готовила овощное рагу, в кухню ворвался Льюис с криком: — Я не могу больше терпеть его здесь! Убери отсюда этого парня, или же я выгоню его сам! Заикаясь, Рейчэл смогла лишь произнести: — …Какого парня… о ком ты говоришь? Он подождал, пока Молл вышла неспешными шагами, неохотно. — Ты прекрасно понимаешь, о ком я говорю. Об Эндрю Джэксоне. Он оскорбил меня. Если бы это был мой дом, я просто пристрелил бы его! — Мистер Джэксон! Но каким образом? Мистер Джэксон восхищается тобой, он не оскорблял… — Он восхищается моей женой, а не мною. Он старается выставить меня в смешном виде, чтобы отобрать тебя у меня. Она присела на бревенчатую скамью около выскобленного рабочего стола Молл. Рейчэл расслышала лишь обрывки вопросов своей матери и громких ответов Льюиса. Очевидно, Эндрю сделал какое-то замечание по поводу уклоняющихся от обработки земли, а Льюис принял это замечание на свой счет. Она не заметила, как ушел Льюис, но когда отвела взор от очага, то увидела в дверях Джона Овертона. Был теплый солнечный день, рукава его рубашки были закатаны, а пальцы измазаны чернилами. Она почувствовала себя так, словно ее выставили напоказ, у нее было единственное средство скрыть свои чувства — удалиться в свою комнату и захлопнуть дверь. Многие умеют маскировать свои эмоции, если бы и она могла… — Прости меня за вмешательство, но я слышал… шум. Льюис опять принялся за свое? Миссис Донельсон кивнула с мрачной безнадежностью, а затем вышла из кухни. Рейчэл заговорила: — Джон, я должна просить тебя сделать что-то неприятное. — Ты хочешь, чтобы мы уехали? — Нет… не ты… только мистер Джэксон. — Мы уедем оба, Рейчэл. Он вытянул руку на столе и положил ее на ладонь Рейчэл с подогнутым большим пальцем. — Но мне не хотелось бы делать этого. Льюис Робардс — вероятно, единственный человек на границе, который не понимает, какие последствия будет иметь оскорбление Эндрю Джэксона, его несправедливое обвинение. Он принялся ходить взад и вперед по кухне. Никогда раньше Рейчэл не видела его таким рассерженным, его серые глаза стали холодными, как мрамор. — В следующем месяце Эндрю и я поедем на выездную сессию суда. Никому не покажется странным в Нашвилле, если мы не вернемся к Донельсонам. Но если мы неожиданно уедем, то люди обязательно спросят: почему? Я попрошу Льюиса потерпеть до нашего отъезда на следующую сессию суда в Джонсборо. Потребовалось всего несколько минут, чтобы подняться в спальню четы Робардс. — Джон, я всегда доверял тебе, — крикнул Льюис, — а сейчас ты действуешь против меня! — Как твой родственник, — прервал его Овертон, — я считаю своим долгом огреть тебя дубиной по башке. Но как твой адвокат дам тебе совет. — Мне не нужны твои советы, — выпалил Робардс. — Льюис, когда я уехал из твоего дома в Нашвилл, я согласился быть твоим эмиссаром, полагая, что ты получил урок. А сейчас ты ведешь себя опять не по-мужски. Когда ты успокоишься, то осознаешь, что между твоей женой и Эндрю Джэксоном не было ничего неподобающего. Я ел вместе с этим человеком за одним столом, мы проводили ночи вместе, работали, путешествовали, я был около него все время, я знаю его характер. Если ты выставишь его отсюда, тебе придется вновь искать выход, как это ты сделал в Харродсбурге, извиняться и объяснять, что все дело в твоем необузданном воображении. — Ты вправе истолковывать таким образом, — ответил Льюис сухим, грубым тоном. — Я склонен думать, что в конце концов, возможно, я был прав в отношении Пейтона Шорта. Ошеломленная Рейчэл, почувствовав дурноту, присела на стул. — Прости меня, Рейчэл, — сказал Джон, — за все случившееся. Я давил на тебя, чтобы ты позволила мужу вернуться, я послал сюда Эндрю Джэксона. Мое вмешательство сегодня побудило Льюиса вспомнить старые раны и вновь оскорбить тебя. Я расскажу Эндрю сегодня вечером, и завтра утром мы уедем. Сон был неспокойным. Когда она окончательно проснулась, ярко сияло солнце. Она раздвинула занавески и увидела, что Джон Овертон стоит между своей лошадью и лошадью Джэксона с притороченными седельными сумками. Ее взгляд устремился на забор сада, и она заметила там мужа и Эндрю Джэксона. Льюис поднял кулак, словно собираясь ударить Джэксона, тот сделал несколько шагов назад. Ее муж опустил руку. Эндрю Джэксон повернулся и пошел к своей лошади. Он и Джон поднялись в седла и выехали за ворота. Она поспешно оделась, ополоснула лицо холодной водой из тазика и выбежала во двор. — Твой рыцарь мистер Джэксон… — фыркнул Льюис. — Он сказал, что извиняется, если чем-либо оскорбил меня, но не может уехать, не сказав мне, что ты не сделала ничего, что оправдывало бы мой гнев. Он трус, Рейчэл, я хотел поколотить его, но он уклонился от драки. Рейчэл повернулась и пошла к дому. Эндрю Джэксон понимал, что если бы он и Льюис Робардс катались по земле подобно паре пьяных забияк, то весь Нашвилл знал бы об этом уже к вечеру. Мистер Джэксон предоставил ей защиту, какой не позаботился предоставить муж. В поместье Донельсонов воцарилась тишина, но она была обманчивой. По молчаливому согласию Донельсоны, жившие поодаль, — Джейн и Роберт Хейс, Катерина и Томас Хатчингс, Мэри и Джон Кэффрей, Джонни и его жена Мэри — держались в стороне от родительского блокгауза. Александр, Левен и Стокли, даже Уильям избегали Льюиса. Сэмюэл кипел от негодования. — Как ты могла выставить Джона и Эндрю из нашего дома? — спрашивал он мать. — Если бы был жив отец, он никогда не позволил бы. Мать и сын повернулись и посмотрели на Рейчэл. Сэмюэл неловко извинился: — Прости, Рейчэл, я не хотел углублять твое несчастье. Она знала, что ей следует сделать. — Ты действительно прав, Сэмюэл. Льюис и я докучаем здесь всем. Я не могу позволить, чтобы семья не чувствовала себя дома. Мы начнем строить нашу хижину в Кловер-Боттом. После нескольких дней, проведенных в спорах с Льюисом, Рейчэл твердо заявила: — Льюис, я не могу больше чувствовать себя здесь спокойно. Я замужняя женщина и должна иметь собственную крышу. Нам помогут расчистить площадку и построить хижину. — Я не нуждаюсь в благотворительности, — ответил он. — У меня есть средства, чтобы построить дом. Я найму рабочих. Я оплачу услуги и никому не буду должен. Он купил в Нашвилле двух рослых негров и нанял городского плотника, который следил за тем, чтобы хижина была построена по планам Рейчэл. После того как они устроились в своем доме, он приказал рабам спилить деревья по широкому кругу около хижины для защиты от индейцев, затем разбил на участки поля и склоны, чтобы выяснить, какие из них лучше всего подойдут для посевов. В то время как Рейчэл обставляла дом, Льюис охотился, отливал пули, расчищал заросли. Когда пришла зима и стало рано темнеть, он проводил долгую вторую половину дня у огня, поглядывая на языки пламени. В конце концов их обстреляли. Льюис положил кучку пуль под каждым окном, не спал по ночам, сидя с заряженными ружьями, похудел и стал раздражительным. Во время первого большого снегопада он простудился и свалился в лихорадке. Рейчэл послала за Сэмюэлем, который приехал к расчищенному месту, завернул Льюиса в медвежью шкуру и отвез в дом Донельсонов. День нового, 1790 года выдался прозрачным и ясным. Семья собралась за обедом из жареной дикой индейки и молочного поросенка. Льюис быстро поправлялся, но предпочитал оставаться в постели. Рейчэл чувствовала, что день его полного выздоровления будет тяжким для них обоих. Поначалу она думала, что его летаргия была частью процесса выздоровления, теперь же догадывалась, что Льюис пал духом. В начале апреля он сообщил ей, что должен вернуться в Харродсбург. Ее озадачил небрежный тон, каким это было сказано, и подбор слов. — Ты должен ехать, Льюис? Что-то не в порядке? — …Ну, мать чувствует себя неважно… есть также некоторые вопросы, которые надлежит уладить: нужно продать часть рабов, есть хорошие предложения относительно наших окраинных земель, которые мы еще не обрабатывали… Семья приняла спокойно заявление Льюиса. Молл постирала его белье и аккуратно сложила в седельную сумку. Джордж почистил лошадей Льюиса и перековал их. Рейчэл проследила за подготовкой провианта в дорогу. Утром в день его отъезда Рейчэл и миссис Донельсон позавтракали вместе с Льюисом и проводили до ворот, где его ждал старый друг Томас Кратчер, сопровождающий его в Харродсбург. Льюис поцеловал обеих женщин в щеки, поблагодарил за гостеприимство и тронулся в путь. Рейчэл стояла у ворот, тяжело прислонясь к столбу. Хотя это было куда менее неприятным, чем быть выставленной из дома мужа, улыбка Льюиса и прощальный поцелуй не могли скрыть от нее того факта, что она вновь оказалась в межеумочном состоянии — замужняя и незамужняя. В Харродсбурге поведение ее мужа убеждало в том, что супружество закончилось. Сколь бы болезненным ни был этот факт, он был все же определенным, его можно было понять и как-то пережить. Сможет ли она выдержать эту новую пустоту, будучи не в состоянии ни предсказать, ни контролировать будущее?/11/
Прошло две недели, и Донельсонов посетил Джон Овертон. Два юриста вновь участвовали в апрельской сессии суда в Нашвилле и были сразу приглашены на обед в воскресенье. Джону удалось улучить несколько минут для беседы наедине с Рейчэл. — Рейчэл, ты знаешь планы Льюиса? — Нет. — Тогда я лучше скажу тебе, что слышал. Во вторую ночь Льюис и Кратчер разбили лагерь в Барренсе, и ночью от лагеря отбилась лошадь Льюиса. На следующий день в подавленном состоянии из-за потери Кратчер пытался приободрить его, сказав, что кто-нибудь из охотников найдет лошадь и отведет ее в Нашвилл, где Льюис сможет потребовать ее возвращения. Льюис сказал, будь он проклят, если вновь появится в Кумберленде, что он ненавидит долину, людей и тамошнюю жизнь. Кратчер убежден, что он не намерен вернуться в Нашвилл. Она поблагодарила Джона и ускользнула в свою комнату. Рассказ Овертона не шокировал ее, он лишь подтвердил ее подозрения. В дверь постучали. Это была Молл, сообщившая, что обед на столе. Рейчэл ополоснула глаза холодной водой и, улыбаясь через силу, спустилась в столовую. За столом шли оживленные разговоры в связи с тем, что Кумберленд добился независимости от Северной Каролины и стал территорией федерального правительства. Рейчэл сидела между Сэмюэлем и Александром, лениво отметив, что мать застелила стол лучшей льняной скатертью и приказала положить по этому случаю салфетки. Некоторое время оловянные тарелки оставались пустыми. Рейчэл окинула взглядом большой стол и беседующих гостей: лишь Эндрю Джэксон казался скованным, молчаливым. Затем ее брат Джон прочитал молитву, и лучшие слуги Джордж и Бенджамен вошли из кухни с огромными блюдами жареного мяса и свежих овощей. Она попросила Сэмюэля налить ей молока из большого кувшина, стоявшего на середине стола. Прохладное молоко успокоило ее нервы. Она услышала, как ее мать, сидевшая во главе стола, спросила: — Джон, как ты и мистер Джэксон ладите с семьей Мэнскер? — Ну, семья Мэнскер очень любезна с нами, но у нас нет помещения для конторы, и поэтому мы решаем правовые вопросы за застеленной кроватью. — Меня это не беспокоит, — сказал Джэксон. — Я могу вести вопросы права хоть на сеновале. Но пища неважно приготовлена. Джон и я не спим, мечтая о воскресном обеде вроде этого. — После вашего отъезда у нас нет постояльцев в вашей хижине, — откровенно заметил Уильям. — Не хотели бы вы вернуться в вашу старую контору? — На мой взгляд, это прекрасная идея, — сказал Стокли. — Я все еще должен Эндрю деньги и полагаю, что он должен быть рядом, чтобы защитить свои капиталовложения. — А я мог бы продолжить учебу! — воскликнул Сэмюэл. — Эндрю и я не желали бы ничего лучшего, — проговорил Овертон. — Но… разумно ли это? — Что касается меня, — спокойно ответила миссис Донельсон, — могу откровенно сказать, что я была против вашего отъезда. Однако вопрос о том, разумно или неразумно, в данном случае зависит от Рейчэл. Все глаза уставились на нее. Она подумала с внутренней гримасой, что за истекшие годы ей следовало бы научиться думать на публике. Но она не тянула с ответом и не колебалась. Разве есть причина, чтобы около двадцати Донельсонов контролировались одним отсутствующим и враждебно настроенным Робардсом? Она повернулась к двум юристам, сидевшим на другом конце стола: — Я не вижу причины, почему бы вам не вернуться. Переезжайте в вашу хижину, джентльмены. Рады видеть вас здесь. После обеда часть присутствующих вышла в сад полюбоваться на распустившиеся цветы персиковых деревьев. Они успели сделать всего несколько шагов за забор, когда Эндрю Джэксон присоединился к ней и пошел рядом в ногу. — Я хочу поблагодарить вас за доброе приглашение, миссис Робардс, но не могу вернуться сюда. Я не встречал еще ни одной молодой женщины, чья дружба имела бы для меня столь большое значение. Именно поэтому я так огорчен, что причинил вам неприятности. — Вы не причинили мне неприятностей, мистер Джэксон. Вы просто были втянуты в них, как и я. — Знали бы вы, чего я себя лишаю! — воскликнул он. Затем, понизив голос, он продолжал спокойнее: — Я буду работать с Джоном в хижине, но какое-то время жить у Мэнскеров. Я считаю, что должен поступить так, чтобы защитить вас, миссис Робардс. Рейчэл повернула к нему свое серьезное лицо: — Не думаю, что вам следует тревожиться за Льюиса Робардса. Он внимательно посмотрел на нее озадаченный, его губы слегка приоткрылись. «Как странно, — подумала она, — можно в течение двух месяцев изо дня в день видеть лицо человека, как это делала она год назад, и не замечать его деталей до момента кризиса, когда под влиянием эмоций обостряется острота видения». У него не было симметрии в лице: высокий выпуклый лоб не был широким, правый глаз несколько крупнее и более глубоко посажен, чем левый, левая сторона губ кажется более полной, чем правая, и его длинный торчащий нос пересечен шрамом от правого глаза к левому уголку рта. Все эти черты она увидела ярко и выпукло, конечно, они не придавали его лицу красоты, но тогда почему же оно кажется самым привлекательным, какое когда-либо встречалось ей? Она перестала задавать себе вопросы, когда он заговорил: — Я не понимаю. — Не думаю, что он когда-нибудь вернется в Нашвилл. Это была самая красивая весна, какую помнили за прошедшие десять лет, с момента заселения Кумберленда. Расцвела магнолия, и в воздухе уже ощущался запах сирени. На заросших папоротником зеленых склонах холмов низкорослые деревья были усыпаны белыми и розовыми цветами. Стволы деревьев были переплетены диким виноградом, карабкавшимся вверх. Пастельно-зеленая трава уже поднялась по пояс, пышные кусты желтого жасмина распространяли вокруг себя летний аромат. Рейчэл обнаружила, что к ней возвращается естественная жизнерадостность и огромная потребность быть веселой, петь и шутить, быть счастливой уже потому, что ей двадцать два года и она переживает прекрасную весну. Она начала посещать танцы у соседей; по воскресеньям Донельсоны и их друзья наполняли закусками корзинки для пикника и ехали вдоль реки, отыскивая тихие мелкие места, где течение сдерживалось извилистым руслом и можно было спокойно бродить в прохладной воде. Однажды она присоединилась к Джону и Эндрю и к миловидной дочери поселенца, только что приехавшего в Нашвилл. Они гуляли по дороге вдоль реки, и теплое солнце ласкало их лица. Ей нравилось ходить пешком, у нее была неторопливая походка, и она легко перемещалась в пространстве своим компактным грациозным телом. Ее голова сидела немного низковато на плечах, создавая впечатление полной легкости, и ее длинные стройные ноги успевали за быстрыми шагами Эндрю. Джон и миловидная блондинка шли впереди. Рейчэл и Эндрю рассуждали о том, что им хотелось бы получить от жизни. Рейчэл было не трудно сказать, хотя и трудно достичь: ей нужен муж, с которым она могла бы жить в мире и любви, дети, дом здесь, на утесе, над медленно текущей зеленой рекой Кумберленд. Оказалось, что у мистера Джэксона нет желания стать великим юристом. — Я не обладаю подобно Джону талантом в области права, — сказал он. — О, я работаю достаточно хорошо, но право — это не то, чем я хотел бы заниматься всю жизнь, это область, доступная лишь для молодых людей с характером. Я хотел бы быть плантатором. Именно этого желал мой отец в Уоксхаузе. Я хотел бы засадить сотни акров и смотреть, как растет здоровый и обильный урожай под солнцем. И я хотел бы выращивать чистокровных лошадей. — Но право — это открытая дверь в политику, — возразила Рейчэл. — Стокли говорит, что через несколько лет мы станем штатом. Хотелось бы тебе стать конгрессменом или, быть может, губернатором? — Нет, — поспешно ответил он. — У меня нет политических амбиций. Я даже приглядел хорошенькое местечко около Натчеза на испанской территории, когда ездил туда по делам в прошлом году. — Он повернулся и, глядя ей прямо в глаза, сказал: — А теперь я хочу жить здесь, в Кумберленде. Из Харродсбурга прибыла группа торговцев. Они передали миссис Льюис Робардс пачку писем. Рейчэл устроилась в большом кресле под окном и разложила письма по датам, указанным в первых строчках. Затем быстро прочла их, почти не думая и ничего не чувствуя, а потом вернулась к началу, взвешивая каждую строчку. Во-первых, Льюис уверял ее, что, находясь дома, он полностью восстановил свою энергию; что болезнь его матери ослабила ее и он взял на себя управление плантацией; что он нанял двух солдат, воевавших вместе с ним во время войны, для работы на плантации и ее обороны; что он продал часть рабов, мужчин и женщин. Он извинялся за причиненные ей волнения, уверял, что любит ее, и спрашивал, не вернется ли она в Харродсбург как можно скорее. Она погрузилась в размышления: как умно и тщательно согласованы письма в расчете рассеять ее страхи. Вопрос о молодой рабыне никогда ими не обсуждался, однако он явно понимал, что она знает об их отношениях, и заверял, что девушка была продана. Он также доводил до ее сознания мысль, что коль скоро новые нанятые служащие — обученные солдаты, то не будет постояльцев, которые могли бы возбудить его ревность. Наконец, он давал понять, что взял на себя управление плантацией и поэтому будет вести себя ответственно. В дни, когда она была полна решимости не возвращаться в Харродсбург, Рейчэл не могла себе представить, что муж прибегнет к таким доводам. Она была рада, что Льюис все еще любит ее, признательна ему за его желание перестроить свою жизнь так, чтобы у них появилась возможность жить по-доброму вместе. Она не знала, насколько велика такая возможность. Ей минуло восемнадцать лет, и она не могла уже жить во власти грез. Она была счастлива в последние месяцы, но что случится с ней в дальнейшем, когда она останется женщиной без определенного статуса или положения? Есть ли возможность иметь собственный дом, детей? Она обязана сделать еще одну попытку./12/
Рейчэл упаковала свое имущество и ждала сообщения о партии торговцев, которые направятся по Кентуккской тропе к Харродсбургу. Клан Донельсон был в сборе, чтобы проститься с ней, но отпускал ее неохотно. Во второй половине дня, когда июньское солнце освещало беспорядочно выстроенное каменное здание, она добралась до дома Робардсов. Рейчэл ожидала, что Льюис встретит ее на станции Кроу, что стоит на ответвлении Кентуккской дороги, но его там не было. Руководитель торговой группы настоял на том, что проводит ее до дома в Харродсбурге, но и тут не было признаков желания встретить ее. Она привязала свою лошадь к коновязи, поднялась по четырем широким бревенчатым ступеням и постучала молотком в дверь. Ее провели в библиотеку, дверь закрылась за ней. Там сидел Льюис, раскинувшись в кресле, в пропитанной потом рубашке и в мятых шерстяных штанах, вытянув ноги в сапогах, а на сиденье лежал смятый нанковый сюртук. Его глаза блуждали, а лицо покраснело от выпитого алкоголя. Она стояла, прижавшись к двери спиной и изумленно уставясь на мужа. Он не попытался даже встать. — Тебе не потребовалось много времени, так ведь? — Много времени?.. Пять дней вместо четырех, с нами путешествовала больная женщина. — Едва я скрылся из глаз, как ты снова пригласила его в блокгауз. Все ее ожидания рассыпались при виде блуждающих глаз мужа. Теперь испарилась и надежда. — Льюис, что ты говоришь? — Не изображай из себя невинность. — Не возражаешь, если я сяду? — Мой друг приехал из Нашвилла и рассказал мне, что Эндрю Джэксон снова живет в вашем доме. — Мистер Джэксон не живет в нашем доме, Льюис. Мы приглашали его, но он отказался. — Отказался? Почему же он там каждый день? — Джон живет у нас снова, но мистер Джэксон появляется лишь тогда, когда свободен. Он сказал, что лучше ему не жить у нас, поскольку ты просил его однажды выехать. Льюис с трудом поднялся из кресла и стоял, приблизив свое лицо вплотную к ее. — Тогда ты признаешь, что пригласила его? — Это не вопрос приглашения, Льюис. Мама и мальчики хотели видеть его. В конце концов это их дом и он как бы член нашей семьи. — Да, — ответил Льюис, зло посмотрев на нее, — интимный член. У нее было слишком тяжело на сердце, чтобы подумать о последствиях сказанного мужем, но она поняла, что он впервые обвинил ее в измене. Она наклонила голову от стыда за себя и Льюиса. Затем повернулась, вышла в холл и по лестнице поднялась в спальню свекрови. Бросив беглый взгляд на истощенное лицо на подушке, обрамленное ночным чепчиком, она поняла, что миссис Робардс серьезно больна. Она подошла к своей свекрови и поцеловала ее. Миссис Робардс прикоснулась руками к лицу Рейчэл. Ночная рубашка с длинными рукавами, завязаннымилентами у запястья, скрывала ее худобу, но ее голос оставался звучным: — Рейчэл, дорогая, я ничего бы так не хотела, как того, чтобы ты стала хозяйкой дома. — Да, милая, я знаю. — Льюис был хорошим мальчиком, мы его беззаветно любили, мой муж и я… но у тебя здесь жизнь не сложится… — Ты не должна переутомлять себя. Я останусь и помогу ухаживать за тобой… — Нет, Рейчэл, — прервала свекровь. — Мы должны вернуть тебя домой… немедленно. Она закрыла на мгновение глаза, а затем прошептала: — Он обещал мне, что продаст ту девушку, но вчера вернул ее. Он ничего не делает, только пьет и буйствует. Я боюсь за него. Немедленно напиши своим. Я прослежу за тем, чтобы письмо было отправлено с первой группой, выезжающей в Нашвилл. Ты можешь оставаться вон в той маленькой комнате. В течение долгих теплых дней Рейчэл ухаживала за миссис Робардс, кормила ее по предписанию врача куриным супом, поила отваром из целебных трав и дикого имбиря. Она видела Льюиса только в отдалении, когда сидела у окна в своей маленькой комнате. Он либо уезжал в Харродсбург, либо возвращался поздно ночью, осев мешком в седле. Ее надежды на супружескую жизнь рассеялись, как дым. Она мало спала, да и то урывками — по часу, по два, в середине ночи вставала, открывала ставни и смотрела на фосфорический свет луны. В ночной тиши она имела возможность обдумать свою прошлую жизнь. В каком-то смысле она обретет свободу, избавится от боли, унижения, от иллюзорных надежд. Впереди еще годы и годы, но у нее не было ни воли, ни желания взглянуть им в лицо. Она будет жить изо дня в день, пытаясь найти в каждом моменте задачу, образ, который согреет ее и придаст смысл существованию. Вдруг она прищурилась, ей привиделась фигура всадника, легко сидевшего в седле, несмотря на быструю рысь… но ведь он похож на Эндрю Джэксона! Она высунулась из окна, рассматривая приближавшуюся фигуру. Ее письмо, извещавшее семью, что она навсегда расстается с Льюисом, было отправлено из Харродсбурга десять дней назад. Она ожидала, что за ней приедет кто-нибудь, и, конечно, это будет Александр, Сэмюэл или Стокли. Льюис же воспримет это как личное оскорбление, как унижение, сознательно устроенное семьей Донельсон. «Как они могли пойти на это, — спрашивала она себя вновь и вновь, — ведь у меня столько братьев?» Но это был все-таки Эндрю, в этом уже не было сомнений. Он был в плотно облегающих штанах из оленьей кожи и кожаной охотничьей куртке. Быстрым движением он соскользнул с коня, когда тот едва успел остановиться у входа в дом. Эндрю постучал в дверь кулаком, и звук был такой, словно стучало ее сердце. Рейчэл не распаковывала привезенные ею вещи, за исключением самых необходимых. Она быстро прошла в комнату свекрови, чтобы попрощаться с ней, сказать ей, что приехал мистер Джэксон, который сопроводит ее до дома, и что она намерена уехать до того, как появится Льюис, поскольку опасается публичной ссоры и, хуже того, еще одной дуэли. — Ты не должна бояться этого, дорогая, — ответила свекровь. В ее голосе было нечто, подбодрившее Рейчэл и успокоившее ее нервозность. Скорее тон, чем слова, напомнил ей сцену с Джоном Овертоном, когда она спросила его о дуэли Льюиса с Пейтоном Шортом, а он уклонился от ответа. Она спросила испытующе: — Но ведь Льюис сражался на дуэли с Пейтоном Шортом? Миссис Робардс слегка повернула голову на подушке. Она была гордой женщиной, всю свою жизнь высоко ставившей честь. В этот болезненный момент она не могла видеть ни Рейчэл, ни себя. — Матери грустно рассказывать такое о своем сыне. Но ты вправе знать. — Она вновь повернула голову, и ее глаза встретились с глазами Рейчэл. — Когда Льюис нашел Пейтона Шорта в Ричмонде, Шорт спросил Льюиса, настаивает ли он на дуэли или же удовольствуется денежной договоренностью. — Денежной… Но за что? — За ущерб, нанесенный чувствам Льюиса тем письмом. Льюис ответил, что предпочтет договоренность. Мистер Шорт выплатил ему тысячу долларов фунтами стерлингов в таверне Голта. Рейчэл почувствовала, как вспыхнуло ее лицо. Как может столь ревнивый мужчина, прогоняющий от себя жену, принять деньги от другого мужчины? Глаза миссис Робардс были полны слез. Рейчэл крепко поцеловала в щеку свою свекровь и выбежала из комнаты. Значит, именно это возмутило Джона, и он скрывал случившееся от нее. По той же причине осторожный Уильям перестал возражать против ее пребывания в доме Донельсонов. Видимо, вся ее семья знала и просто хотела избавить ее от дальнейшего унижения. Но какая разница, если бы она даже знала? Давало бы это ей повод для развода? Что она могла еще сделать, как не послать за мужем? Вместе с этой новостью была забыта тревога по поводу того, что за ней приехал Эндрю Джэксон. К моменту, когда она вступила на порог парадного входа, ее гнедая кобыла была оседлана и выведена из стойла к дому. Она и Джэксон обменялись приветственными взглядами. Лишь после того, как они проехали несколько миль к Кентуккской дороге, он первый обратился к ней: — Поедем ли мы прямо на Нашвилл или дождемся следующей группы? В последние несколько недель вдоль дороги отмечалась активность индейцев. — А как вы приехали? — В одиночку. — Тогда и мы так поедем. По-видимому, он ожидал такого ответа и не высказал каких-либо замечаний. — Кроме того, мне хотелось бы как можно быстрее удалиться от Харродсбурга. Льюис скоро вернется и, я уверена, станет преследовать нас. — Преследовать? — Он повернул лошадь так, чтобы посмотреть ей в лицо. — С какой целью? Мы поняли из вашего письма… — Он станет преследовать не из-за меня, он погонится за вами. Вот почему я должна была написать домой… Незадолго до заката солнца они добрались до Борс-Хэда, где съели превосходный ужин: свежий хлеб и масло, фрикасе из цыплят, яблочный пирог и кофе. Рейчэл расположилась в отдельной комнате со свечой на ночном столике, свежими миткалевыми простынями, огромным перьевым матрасом и одеялом из гусиного пуха. Эндрю спал на последней имевшейся постели с двумя другими мужчинами. Она была уверена, что не сомкнет глаз из-за волнений прошедшего дня. Но стоило ей положить голову на подушку, как все оборвалось, и она услышала голос Джэксона, возвещавший, что скоро взойдет солнце и надо быстрее одеваться. Она надела светло-голубое летнее ситцевое платье с просторной юбкой, удобной для езды амазонкой, и с короткими рукавами, чтобы было не жарко. Это было ее самое строгое платье, без воротника, но с высокой линией шеи. Она надела мокасины, короткий плащ из замши и вышла из комнаты с первыми сероватыми лучами зари. Внизу уже был готов горячий завтрак. Когда верхняя кромка солнца показалась над горизонтом, они были уже в пути. Лошади хорошо отдохнули, и они успешно продвигались вперед по открытым лугам с подсыхающей на траве росой. Путники остановились, когда солнце уже стояло над головой и стало жарко. Умыли лицо и руки в прохладном ручье, напоили лошадей, достали хлеб и сыр из седельных мешков и перекусили. К полудню лошади устали, и Рейчэл впервые осознала, как насторожен Джэксон: все его тело напряжено, и он всматривался в каждое дерево и куст, когда они проезжали кедровую рощицу. Неожиданно он остановил своего коня: — Ты стреляешь метко? — Иногда. — Тогда возьми этот пистолет. Группа индейцев, не могу сказать сколько, возможно три или четыре, едет параллельным с нами курсом через лес. Они только что выехали впереди нас, чтобы добраться вон до той возвышенности. Ты видишь упавшее дерево в двадцати ярдах по эту сторону открытого места? — Да. — Я собираюсь съехать с дороги как раз за этим бревном. Он пустил коня умеренным шагом. Она ехала сзади него. Когда он объезжал огромное кедровое бревно, то пришпорил коня и рванулся в лес. Она скакала за ним изо всех сил. Он выстрелил из ружья, а затем крикнул ей: — Пришпорь коня! Через мгновение они проскочили опушку и вновь оказались на дороге. — Я промахнулся, — сказал он, — но цель достигнута. Теперь они оставят нас в покое. Он повернулся к ней: — Ты испугалась? — Нет, я ничего не видела. Но мне было интересно наблюдать за тобой. Если бы я была индейцем, то была бы уверена, что за тобой следует целый полк милиции. — Это лучшая тактика, — ответил он довольный. — Она позволяет почти каждый раз остаться невредимым. Она рассмеялась вместе с ним при слове «почти», и смех снял существовавшую между ними напряженность./13/
В эту ночь они остановились в хижине семьи, которая прошла по Дикой тропе с Даниэлем Буном в 1776 году. Это была однокомнатная бревенчатая хижина с чердаком, перегороженным под спальни. Дети вбегали и выбегали через открытую дверь, по утоптанному дворику бегали куры и собаки, свиньи сгрудились около кормушек. Ужин, разложенный на огромном пне во дворе, состоял из холодной жареной свинины, молока и кукурузных лепешек. Рейчэл ночевала вместе с дочерьми хозяев внизу, а Эндрю поднялся по грубой лестнице на чердак, где завернулся в одеяло, подушкой служила охапка соломы. В середине ночи Рейчэл разбудил кашель детей. Она взяла огромную шкуру медведя, расстелила на полу вместо матраца и проспала спокойно оставшуюся часть ночи. На третий день опасность встречи с индейцами миновала, так же как и угроза, что Льюис Робардс настигнет их. Они перестали погонять лошадей и ехали бок о бок. День был мягким и теплым, они прислушивались к звукам окружавшей их вольной жизни, получали наслаждение от покоя и чувства дружбы. — Ты не боишься дикой природы, верно? — спросил он. — Я выросла в ней. Все Донельсоны выросли такими. Знаешь, мы совершили поездку с отцом на «Адвенчере». — Я забыл. Тебе тогда было немного лет? — Всего двенадцать. Но было много детей и меньшего возраста. Один даже родился во время поездки. Поездка на «Адвенчере» была самой поразительной из когда-либо предпринимавшихся на западной границе. — Отец и парни построили «Адвенчер» на реке Холстон, выше форта Патрик-Генри. Корпус судна был сколочен из обтесанных бревен и укреплен против ружейного огня, над значительной частью корпуса была сооружена крыша, установлены койки и каменный очаг для приготовления пищи. Судно было спущено на воду 1 ноября 1779 года. В путь вышли около тридцати лодок, в основном плоскодонных, и несколько пирог. Помнится, путешествие начали около двухсот человек, на нашем судне было больше пятидесяти. Партнер Донельсона по путешествию полковник Джеймс Робертсон отправился раньше с лучшими бойцами для защиты от нападения индейцев, с главами семейств и значительным стадом домашнего скота, чтобы пройти еще неизведанными тропами через Кумберлендский проход и Кентуккскую дорогу. Полковнику Донельсону предстояло доставить женщин и детей и около тридцати дееспособных мужчин, призванных управлять лодками и оборонять их в более длительном, но сравнительно менее опасном путешествии по реке, используя плоскодонки для доставки домашней утвари, продовольственных запасов, сельскохозяйственного инвентаря, семян, инструментов, рабов и строительных материалов. — Отец и полковник Робертсон намеревались основать новую колонию, быть может, целый новый штат… вроде Виргинии. Однако истина в том, что отец был охвачен «лихорадкой целинных земель». Я все еще помню его возбужденный голос, когда он рассказывал о холмистых зеленых долинах и широких реках, текущих по ним, которых никогда не видел белый человек, не говоря уже о поселении там. Они выехали из форта Патрик-Генри за три дня до Рождества, но за первый день прошли всего три мили к устью Риди-Крик по той причине, что реку сковало льдом. — Два месяца мы были вынуждены жить на лодках и в палатках под снегом. В конце февраля вновь пустились в путь, но буквально через несколько часов «Адвенчер» сел на мель на перекате Пур-Валли. Сели на мель и две другие лодки. В конце концов нам пришлось выпрыгнуть в ледяную воду, неся в руках продовольствие и инструменты, чтобы разгрузить лодки. Мама доверила мне самое ценное из нашего имущества — семейное серебро с монограммами. В то время как Рейчэл рассказывала, солнце высвечивало в ее глазах карие искорки, а на ее губах мелькала ностальгическая улыбка. Джэксон обратил внимание на то, как ее руки играли с поводьями, и восхищался, как свободно она сидела в седле. Все первые дни марта, когда «Адвенчер» плыл по большой долине Теннесси, стояла дождливая, ветреная погода. Открытая саванна вблизи реки поросла осокой, среди которой возвышались невысокие деревья и прятались заросли вереска и куманики. Вдали сквозь завесу дождя виднелись высокие горные хребты, оставшиеся позади. — Едва ли проходил час без какого-либо инцидента при нашем движении. Лодка мистера Генри перевернулась, опрокинутая сильным течением. Мы все должны были остановиться, чтобы спасти детей и вытащить из воды плавающие предметы, когда течение проносило их мимо нас. Проходя устье Клинча, они оказались на территории враждебно настроенных индейцев. Было еще очень холодно. Полковник Донельсон завел лодки в устье южной Чикамуга-Крик, где располагалась одна из стоянок Драггинг-Каное, здесь миссис Эфраим Пейтон и родила ребенка. На следующий день флотилия прошла рукавом мимо стоянок Чикамуга. Лодки были обстреляны, и на Мокасин-Бенд из засады был убит мистер Пейн. — Большинство неприятностей и трудностей были развлечением для нас, детей. Потом случилась подлинная трагедия: на плоскодонке Томаса Стюарта вспыхнула оспа, и отец приказал плывшим на этой лодке держаться на расстоянии. Индейцы захватили лодку и убили всех двадцать восемь человек. Мы слышали их крики, но не могли ничем им помочь. Когда флотилия «Адвенчера» подошла к устью Сук, то на каменистых тропах вдоль реки виднелись группы индейских воинов. Парни стояли с ружьями, нацеленными на берег, в то время как старшие проводили лодки через водовороты и бурное течение в узком проходе. Рейчэл выстрелила столько же раз, сколько любой из юношей, но не уверена, попала ли она в кого-либо. — Некоторые мужчины на лодке Абеля Гоуэра были ранены. Молодая Нэнси Гоуэр, она была моего возраста, схватила руль и правила лодкой, пока мужчины наводили порядок. Когда флотилия снова пустилась в плавание, миссис Гоуэр увидела, что юбка Нэнси запачкана кровью. Ей прострелили бедро, а она никому не сказала. Я всегда восхищалась этой девушкой. Нежную улыбку Джэксона скрыли сумерки. Они ехали молча несколько минут, деревья и опускавшийся вечер возводили вокруг них подобие стены. — Индейцы продолжали беспокоить «Адвенчер», пока судно не вышло из узкой реки и не вошло в Грейт-Бенд-Теннесси. Спутники думали, что они потеряли Джонатана Дженнингса и его лодку, а она налетела на риф и подверглась наглому обстрелу индейцев. Хуже всего было миссис Пейтон, которая должна была помочь разгрузить лодку и снять ее с рифа и потеряла в суматохе своего только что родившегося ребенка. Мама практически несла миссис Пейтон на своих руках остальную часть путешествия. Наконец наступила весна. За неделю они проплыли двести пятьдесят миль до слияния рек Теннесси и Огайо. Погода стояла прекрасная, и начала появляться молодая зелень в защищенных зарослями тростника и явором местах на берегу реки. Они провели лодки против быстрого течения полноводной реки Огайо, которая еще не была исследована и нанесена на карту. Провиант кончился, большинство мужчин были ранены или больны, и семьи приуныли, не имея представления, сколько миль нужно еще проплыть до места назначения. — Мой отец держал большую часть флотилии благодаря одной силе воли, заставляя поднимать паруса, когда дул ветер, охотиться на бизонов и диких лебедей для пропитания. В конце апреля, когда мы достигли Френч-Лика и блокгаузов, построенных полковником Робертсоном, мы потеряли тридцать три человека. Отец хотел сам основать свой дом. Он поднялся еще на восемь миль по долине Кумберленда и еще на пару миль по реке Стоун к Кловер-Боттом. Я полагала, что мать сыта по горло пустынными землями, но она не возражала, говоря, что на реке Стоун земли побогаче. Наша первая стоянка состояла из палаток. Мы посеяли хлопок и кукурузу, но все пошло прахом: река разлилась, и наш урожай вымок; не проходило и дня без нападения индейцев; пришлось заключать еще один договор с индейцами, прежде чем мы смогли утвердить наше право на землю. Вот по этой дороге отец был вынужден вывезти нас в Харродсбург. Потребовалось четыре года, чтобы он вернулся во Френч-Лик… столько же потребовалось мне… Она вдруг замолчала. Хранил молчание и Джэксон. Он пришпорил коня, выехав вперед. Она думала: «Мы, Донельсоны, сталкивались и ранее с трудностями, со многими трудностями, но всегда умудрялись выжить». Отец имел обыкновение говорить: — Если не можешь решить проблему, ее нужно пережить. Но те прошлые трудности в молодости было легко переносить потому, что они все были вместе. Новые же трудности касались только ее. Быть может, это отражает повзросление: ваши неприятности принадлежат только вам одним, и их нужно преодолеть самому. Она была довольна, что рассказала историю «Адвенчера», — мысли о прошлом укрепили ее для предстоящего./14/
Джэксон привез ей приглашение остановиться в блокгаузе ее сестры Джейн и полковника Роберта Хейса в Хэйсборо — общине поместий, основанных Робертом, его родителями и братьями. Их плантация находилась в не столь освоенном районе, как дом ее матери. Там росли виноград, вишни, а в лесу можно было собирать ежевику. Рейчэл была довольна, что приехала сюда, а не в дом Донельсонов. Бесцеремонные манеры Джейн произведут исцеляющий эффект на нее. Мистер Джэксон привез Рейчэл к Джейн, отмахнулся от их попыток поблагодарить его и тут же уехал в Нашвилл. Неприкосновенность убежища Рейчэл просуществовала недолго: через два дня Льюис Робардс смог добраться до плантации Хейса. Он шел легкой походкой, любезно болтая с Джейн. — К тебе гость, Рейчэл, — позвала Джейн, словно из Нашвилла приехал какой-то знакомый. Веки Джейн были слегка приподняты над ее кумберлендскими зелеными глазами, это был сигнал: я буду рядом. Она выглядела необычно любезной. Рейчэл подумала: «Мне бы ее хладнокровие и выдержку». — Не намерена ли ты приветствовать своего мужа, проехавшего более двухсот миль, чтобы увидеть тебя? Льюис говорил низким, чарующим голосом. Он остановился где-то в пути, помылся, побрился и переоделся в вельветовый костюм модного покроя («Излишне тепловатый для начала июля», — лениво подумала она), в безупречно белую шелковую рубашку и начищенные черные сапоги. — Такое приветствие, на какое я рассчитывала, когда приехала в Харродсбург? — Я вел себя плохо, Рейчэл. Я был возмущен услышанными мною историями. — Какой мужчина верит каждой случайной истории, которую нашептывают сплетники о его жене? — Мужчина, подобный мне, полагаю, глуповатый и истеричный. — А ты, кстати, не упустил из виду, что привез меня сюда Эндрю Джэксон? — в лоб спросила Рейчэл. — Разумеется, нет, — ответил он. — Если твоей матери более удобно послать Джэксона, то тогда нет причины, чтобы он не приехал. Он импульсивно двинулся к ней с самой нежной улыбкой на лице: — Я верю тебе, я люблю тебя и хочу, чтобы ты вернулась со мной. Мы поедем завтра утром. — Нет, Льюис. — Нет? Но я больше не питаю подозрений. Прошлое больше не повторится, дорогая. Даю честное слово. — Ты нарушал свое слово много раз. — Но есть же способ убедить тебя… — Бесполезно. Он пристально уставился на нее, словно пытался найти объяснение, которого не было в ее словах: — Бесполезно? — Я больше не люблю тебя. — Это неправда! — Я не таю против тебя зла, Льюис, но у меня не осталось добрых чувств к тебе, совсем не осталось. В таких условиях я не могу больше жить с тобой. Льстивые манеры исчезли. — Не верю тебе! Впрочем, это не имеет никакого значения. Ты моя жена и должна делать то, что я скажу. Мы вернемся в Харродсбург утром. Он повысил голос. Она ответила с твердостью, какой он никогда не слышал: — Льюис, я не намерена больше видеть тебя. Сомнения в окончательности ее высказывания не могло быть. Он стоял перед ней, подняв к ее лицу сжатые кулаки. — Значит, это правильно. — Что правильно, Льюис? — Мое подозрение относительно тебя и Эндрю Джэксона! Тот факт, что он приехал за тобой в Харродсбург, ставит точки над «i»! — Но только что, несколько минут назад, ты сказал, что нет ничего плохого в том, что мистер Джэксон приехал за мной. — Это было сказано до того, как я понял. — Понял что? — Что ты любишь Эндрю Джэксона. Она никогда до этого не осознавала, что всего несколько слов подобны физическому предмету: занозе под ногтем, колу из забора, упавшему на голову… или острому ножу, пронзившему глубоко грудь. Любит ли она Эндрю Джэксона? Перед ее мысленным взором промелькнули сотни картин: Эндрю, стоящий в проеме двери в первый день его приезда, высокий и тощий, как жердь, выглядевший одиноким и заброшенным, словно у него не было дома; Эндрю в судебной комнате лицом к лицу с задирой и его ружьем с вызовом в глазах: «Стреляй!»; Эндрю, танцующий на вечеринке, неутомимый, как ветряная мельница, и к тому же похожий на нее; Эндрю, отказывающийся чистить сапоги британского офицера; Эндрю, едущий по тропе из Харродсбурга, напряженно всматривающийся в обе стороны дороги. Он — мужчина из всех мужчин, она поняла это, бесстрашный вожак, подобно ее отцу, сильный, надежный, полный энергии и честолюбия и в то же время нежный и симпатичный. Но что касается любви… Как она могла любить кого-либо, когда она так пострадала от любви? Она повернулась спиной к Робардсу: — Пожалуйста, уходи теперь, Льюис. — Ты моя жена, и я намерен оставаться здесь до тех пор, как ты будешь готова вернуться в Харродсбург. Полковник Хейс не выставит меня. В этом Льюис был прав — полковник Хейс отказал ей в просьбе предложить Льюису уехать: — Я не могу сделать этого, дорогая. Он все еще член нашего семейства, и я не хочу, чтобы говорили, будто я негостеприимен. Она поняла, что ставит в трудное положение своего зятя: — Прости меня, Роберт, ты прав. Будь добр, отвези меня домой к маме. — Нет, Рейчэл, я думаю, что это было бы так же неправильно, как выгонять Льюиса. Если ты приняла окончательное решение, тогда через несколько дней Льюис потеряет надежду и уедет по собственному желанию. Тем временем ты в полной безопасности у нас. Следующие несколько дней она провела в доме с Джейн, занимаясь прядением и вышиванием, а вечерами выходила под густые дубы, чтобы глотнуть свежего воздуха. — Меня смущает ваш завтрашний поход за ягодами, — сказала она своей сестре, когда они сидели перед большим туалетным столом Джейн, расчесывая перед сном волосы. — Ты всегда любила есть ягоды прямо с куста, ягоды, опаленные солнцем. Но утром приехала их мать, затянутая в корсет, в легком хлопчатобумажном желтом платье и в белом льняном чепчике. Левен привез ее прямо после церковной службы. Рейчэл осталась в прохладном бревенчатом доме, чтобы рассказать, что произошло в Харродсбурге. — Тогда это действительно конец, — сказала миссис Донельсон, глубоко вздохнув. — Но как ты думаешь освободиться от Льюиса? — Я свободна от него. В моем сознании, это я имею в виду, здесь и заложено главное. Он никогда не сделает мне больно. — Да, дорогая, но жизнь состоит не только из того, чтобы не чувствовать боли. Они услышали стук копыт. Рейчэл подошла к окну, отодвинула занавеску из яркого индийского ситца, прикрывавшую обязательные на каждом окне ставни, и увидела, как Роберт Хейс с необычной поспешностью соскочил с коня и бросил поводья слуге. Он бегом ворвался в дом. Приехавший с ним Сэмюэл остался во дворе и вытирал лоб большим миткалевым платком. Полковник Хейс был необычно бледен. — То, что ты предлагала, Рейчэл, было бы меньшим из двух зол. — Опять Льюис. Что он натворил? — Сделал мерзкие замечания в твой адрес… и Эндрю Джэксона достаточно громко, чтобы все слышали. У меня лопнуло терпение. Он должен убраться отсюда до вечера. Миссис Донельсон прошла мимо своей дочери и зятя и взглянула во двор через переднюю дверь дома. — Если его не похоронят в зарослях ежевики… — вмешалась она с мрачной улыбкой. — Эндрю отправится искать его, он сейчас говорит с Сэмюэлем. Льюис уехал до наступления ночи, покинув возмущенную округу. Рейчэл восстановила происшедшее по искаженным и противоречивым слухам. Молодая девушка, занимавшаяся сбором ягод, рассказала, что Эндрю Джэксон сказал Льюису: — Если ты когда-либо свяжешь мое имя с именем миссис Робардс таким образом, то я отрежу твои уши, у меня уже чешутся руки! Один из наиболее взволнованных парней сообщил, что Льюис отправился в ближайший суд, добился ручательства против Эндрю и подписал его у двух депутатов. Согласно другой версии, Льюис укрылся в зарослях тростника, а Джэксон преследовал его. После ссоры она не видела Эндрю Джэксона, но знала, что в любом случае он откажется обсуждать с ней случившееся. Она осознала, что все это превратилось в отвратительный фарс. Однако тупой, нетактичный Левен глубоко расстроил ее. Он поймал ее, когда она была во дворе под дубом: — У меня есть предупреждение тебе от твоего мужа. Он сказал: «Вы можете передать Рейчэл от моего имени, что я буду ее преследовать». Можно ли вообразить себе человека, готового умереть ради того, чтобы досаждать своей жене? «Он думал не об этом, — сказала сама себе Рейчэл. — Он имел в виду, что я не увижу конца неприятностям»./15/
Она жила, как перелетная птица, у которой подрезаны крылья, без постоянного убежища, сновала между сестрами и братьями, сидела с их детьми; новорожденным она помогала войти в мир и заботилась об их матерях до их полной поправки. Дети с нетерпением ожидали ее приезда и говорили о тетушке Рейчэл много и часто, что семья стала называть ее именно так, словно установив для нее тем самым особое положение — тетушка Рейчэл. Когда дети болели, она ухаживала за ними, сидя у кровати день и ночь. Если у них случались неприятности и нужно было кому-то излить душу, то она оказывала и такую услугу. Если кто-то из мужчин должен был отлучиться от семьи, она переезжала к сестре или же к невестке или золовке ради компании и лучшей защиты. — Ты теперь вроде объездчика, — поддразнил ее Овертон в сырой день в середине ноября, когда он и Эндрю Джэксон забрали ее у брата Джона и перевозили в дом матери, — как Эндрю и я. — Объездная тетя, — сказала она со смехом. Ее щеки раскраснелись от мороза, хотя ей было тепло под отороченным мехом капором и в сапожках, а также в толстом шерстяном платье под горло. Овертон счел такой титул забавным, Джэксон был иного мнения: — Извиняюсь, но мне не нравится такая кличка — Тетушка Рейчэл. Она подходит для леди среднего возраста. Они добрались до блокгауза миссис Донельсон к заходу солнца. Джэксон все еще жил у Мэнскеров, но его пригласили остаться на ужин. Они, сняв тяжелые шубы, шерстяные шапки и шарфы, пошли в главный дом. — Полагаю, глупо, что вы не переехали сюда совсем, мистер Джэксон, — сказала Рейчэл, когда они стояли у камина, отогревая замерзшие руки. — Я нахожусь здесь не более одного дня в неделю, если мое пребывание вас смущает. — Не намерен давать кому-либо шанс для сплетен. — Его голос звучал решительно. — Мы все еще живем под мрачной тенью Льюиса Робардса, — ответила она с ноткой грусти. В течение осени от Льюиса не пришло ни единого слова, доходили лишь косвенные сообщения, являвшиеся следствием неосторожных разговоров в Харродсбурге. Поначалу угрозы не волновали ее: он заявлял о своих легальных правах, что приедет в Нашвилл и потребует выдать ее. Однажды она застала Овертона одного в конторе. — Я знаю, что он может сделать это, Джон, — сказала она, — но я чувствовала бы себя намного лучше, если бы полностью освободилась. Есть ли возможность получить развод через суд? Овертон, составлявший резюме множества записок, отодвинул бумаги и чугунную чернильницу к другому краю стола, снял с полки толстые сборники и принялся листать страницы с пометками, сделанными им в ожидании такого неизбежного вопроса. — Практически нет, Рейчэл. Наше право заимствовано из английских законов, и даже в Лондоне, чтобы получить легальный развод, его нужно провести через парламент. Каждый штат устанавливает свои собственные законы о разводе. Если бы ты и Льюис сочетались браком в Пенсильвании, тогда он мог бы, вероятно, добиться развода. Штат Нью-Йорк не допускает судебного решения о разводе, а в Виргинии законодательное собрание должно выносить по каждому делу о разводе отдельное решение. Насколько я знаю, в этой стране женщина не в состоянии получить развод. Для нее вообще немыслимо попасть в суд, разве что зрительницей. — Значит, мне некуда пойти, я ничего не могу сделать, чтобы получить уверенность, что Льюис не имеет права беспокоить меня? Овертон встал, положил полено в небольшой камин и смотрел, как огонь распространяется по отслоившейся коре. — Ну, есть один возможный путь: ты смогла бы получить развод на испанской территории, скажем в Новом Орлеане или Натчезе. Но развод не будет считаться законным здесь. Если ты вновь выйдешь замуж, то будешь считаться виноватой в двоемужестве. А если заимеешь детей… Надежда сошла с ее лица: — Понимаю. — Однако, если ты останешься на испанской территории и вновь выйдешь замуж там, любой второй брак может быть сочтен законным. Незадолго до Дня Благодарения Рейчэл получила письмо, сообщавшее ей, что Льюис явно убедил часть населения Харродсбурга, будто семейство Донельсон удерживает его жену против ее воли и что он сколотил банду своих сторонников для налета на Кумберленд с целью ее насильственного захвата. Это известие поступило к Рейчэл в ветреное осеннее утро, когда она была дома с матерью и готовила пирожки и конфеты к Дню Благодарения. Сэмюэл отправился в хижину для гостей и вызвал Джона и Эндрю. Каждый из трех мужчин прочитал по очереди письмо. — Сможет ли он на деле осуществить такое? — спросила она, не обращаясь непосредственно к кому-либо. — Он может попытаться. — Что вы имеете в виду под этим, мистер Джэксон? — Он может приехать с вооруженными людьми и начать стрельбу, но не сможет захватить вас, если только не захватит врасплох и без защиты… — Но такая возможность всегда присутствует? — Шансы всегда есть. — Мужчины в Нашвилле могут стрелять так же быстро, как и в Харродсбурге, — сказал с горечью Сэмюэл. На ее глазах выступили слезы: — Я должна уехать, далеко уехать. — Но куда ты поехала бы, Рейчэл? — спросила ее мать. — Неважно куда, мама, лишь бы было много тысяч миль между мной и Льюисом Робардсом. — Полковник Старк скоро выезжает в Натчез, — сообщил Александр, входя в комнату. — Я видел, что он снаряжает свою лодку. Может быть, он заберет с собой Рейчэл? Она могла бы остановиться там в семье Тома или Абнера Грина. — Да, они бы тебя приняли там, — сказала с возбужденным облегчением миссис Донельсон. — Парни семейства Грин приглашали нас приехать к ним и посмотреть, какое прекрасное поместье они там основали. — Это весьма опасное путешествие, — заметил Джэксон, — почти две тысячи миль по рекам Кумберленд, Огайо и Миссисипи, через территории, заселенные враждебно настроенными индейцами. — Это не будет опаснее нашего плавания на «Адвенчере», — сказала Рейчэл. — Тогда вы располагали хорошей защитой, ваш отец был великим руководителем экспедиций. Полковник Старк — пожилой человек. И если не будет опытных бойцов с индейцами… Она стояла, упершись носками своих туфель в пол и откинув плечи назад, каждая черта ее лица и каждая линия тела выражали непоколебимую решимость. — Я еду! Она и Сэмюэл отыскали полковника Старка на пристани. Он курил видавшую виды старую трубку и, надвинув на голову шапку из шкуры енота, следил за погрузкой на лодку бочек с солью, тюков хлопка и бочонков с виски. Лодка представляла собой сооружение шириной шесть метров, длиной — тридцать метров, с широким днищем, на две трети закрытое крышей, тщательно пригнанные борта имели вырезы для окон. Старк оторвался на момент от своего занятия, выколотил пепел из трубки. Вода реки была мутной, но быстрое течение гнало по поверхности белые барашки. Рядом грузились две другие лодки как часть флотилии. — Итак, мисс Рейчэл, вы знаете, что я сделаю для вас все, что могу. Но я просто не могу принять на себя ответственность. — Почему нет, полковник Старк? Вы же берете с собой жену? — Мы уже рисковали своими жизнями, переезжая на новые места. Но если что-то случится с вами… — Полковник, мы принимаем на себя всю ответственность, — сказал Сэмюэл. — Рейчэл должна уехать. — Скажу вам, что я сделаю, мисс Рейчэл. В этом городе есть молодой парень, настоящий охотник на индейцев. Я был с ним, когда мы в прошлом году снимали осаду поместья Робертсонов. Он чувствует индейцев за сотню миль при неблагоприятном ветре. Я имею в виду Эндрю Джэксона, понятно? В голосе старого полковника не было ничего, кроме восхищения молодым Джэксоном. — Но, полковник, это исключается! Я не могу просить мистера Джэксона совершить такую поездку. — Почему? — Ну, по сотне причин: он занимается юридической практикой, он должностное лицо в суде. Джон Овертон утверждает, что мистер Джэксон должен выступить по пятидесяти делам, которые будут рассматриваться в суде здесь, в Нашвилле, в течение ближайших нескольких месяцев. — Он молодой, у него еще будет тысяча судебных дел. — Нет, полковник, я просто не могу просить его. Так или иначе, я продам свое имущество и найму пару хороших милиционеров. — Лучше спросите Эндрю Джэксона, мисс Рейчэл. Он может быть страшно оскорблен, если вы не дадите ему шанса. Через два дня после того, как она осведомилась о возможности нанять двух стрелков для поездки под началом полковника Старка, Рейчэл вернулась в порт. Она была удивлена радушной улыбкой, с какой ее встретил Старк. — Все улажено, мисс Рейчэл, вы можете ехать, и моя жена рада быть вместе с вами. — Значит, вы изменили ваше мнение?.. — Я слишком стар, чтобы менять свое мнение, мисс Рейчэл. Когда вы ушли, я просто пошел в здание суда и высказал предложение Эндрю Джэксону. — Вы не сделали этого! — Конечно, сделал. Сказал ему, что не возьму вас, если он не поедет с нами. Он был здорово расстроен. Сказал, что ему нужно два дня, чтобы обдумать это. Час тому назад он сказал мне, что едет, и спрашивал, когда мы отчалим. Она задавала себе вопрос: наступит ли время, когда она почувствует единое, общее представление по поводу того, что происходит с ней? Она была рада, что Эндрю Джэксон поедет с ними, она была тронута таким свидетельством их дружбы, но какие обязательства по отношению друг к другу они тем самым принимают? И что скажут в Нашвилле? Вернувшись домой во второй половине дня, она пошла сразу же в хижину, где размещалась юридическая контора. Джон Овертон был один, занятый изучением пачки документов. День был сумрачный, скучный, серый, и он зажег не только свечи на своем рабочем столе, но и лампу, висевшую на стене. — Джон, ты знаешь, что сделал Эндрю Джэксон? — Да, он передал мне все дела, а сам уезжает с полковником Старком в Натчез. — Я пришла сказать тебе, что я не могу согласиться с этим, но по твоему тону чувствую, что ты одобряешь его. — Да, я должен сказать, что одобряю. Два дня и две ночи Эндрю расхаживал по этой хижине, уткнув свой длинный подбородок в костлявую грудь. Я наконец спросил его: «Какой червь тебя гложет?» Он сказал мне, что он самый несчастный человек, что считает тебя самой прекрасной женщиной, какую когда-либо встречал, и что в последние два года он невольно был причиной твоих бед. Он считает, что должен вывезти тебя в полной безопасности из Нашвилла, устроить тебя у друзей в Натчезе, а затем сделать все возможное, что может и должен. Она крикнула возмущенным тоном: — Будь добр, скажи своему партнеру-юристу, что у него нет передо мной каких-либо дальнейших обязательств! Я нанимаю пару милиционеров. К тому же семья не одобрит его поездку. — Думаю, что одобрит. — Что придает тебе такую уверенность, Джон? — То, я думаю, что твоя мать, Сэмюэл и Джейн отныне убеждены, что ты и Эндрю принадлежите друг другу. Она опустилась на бревенчатую скамью для клиентов и подумала о том времени, когда пять месяцев назад Льюис Робардс обвинил ее в том, что она любит Эндрю Джэксона. Тогда это было неправдой. Но теперь, когда она порвала свои отношения с Льюисом… да, теперь это было правдой. Она любит Эндрю Джэксона. Она понимала это уже некоторое время, но не было случая взглянуть правде в глаза. Любит ли он ее? Они никогда не говорили о любви и своих личных отношениях, в ее странном положении этот вопрос был нежелательным для обсуждения. Но теперь по меньшей мере не было более необходимости скрывать его от себя: она любит Эндрю Джэксона всем сердцем. Она посмотрела на Джона, удивляясь, как много она может сказать ему. Если Эндрю не разделяет ее любви, тогда она не должна ставить его в трудное положение выражением этой любви. Джон стоял спиной к ней, словно желая предоставить ей возможность подумать наедине. Теперь он повернулся, чувствуя, что она готова продолжить разговор. — Не бойся, моя дорогая Рейчэл, — мягко сказал он, — не сомневайся. Эндрю также любит тебя. Он сказал мне об этом. Между ними возникла долгая, но ласковая пауза, столь отличная от враждебных и насыщенных ненавистью пауз, которые она познала за последние несколько лет. Она почувствовала себя опустошенной и ослабевшей перед открывшимся ей. Бессознательно она откинула свой длинный темный плащ, волочившийся по полу, и пробежала пальцами по темно-красной вельветовой юбке. Волосы на голове словно стянулись, сдерживая ее мысли. Она развязала темно-красные ленты, скреплявшие густые темные кудри, почувствовала тут же облегчение и обрела способность говорить. — В таком случае, Джон, тем больше оснований для того, чтобы он не сопровождал меня в этой поездке. — Я бы сказал: тем больше оснований, чтобы он сопровождал. Каждый мужчина имеет право защищать любимую женщину. — Ты не расскажешь ему, о чем мы говорили здесь? — Нет, Рейчэл, я не стал бы говорить тебе о его чувствах, если бы не счел это нужным для твоего будущего благополучия. Это секрет, который вы будете долго хранить друг от друга. В таком случае вы сможете совершить длительное путешествие вместе, как друзья, не компрометирующие доброе имя и положение друг друга. Не в вашем характере позволить Льюису Робардсу выглядеть так, словно он прав в своих обвинениях!/16/
Утро 20 января 1791 года было холодным, а небо затянуло свинцовыми тучами. Сэмюэл повез ее к пристани с двумя тяжелыми дорожными мешками, притороченными к седлу вьючной лошади. В одном была шерстяная одежда для путешествия по реке, в другом — ее легкие летние платья и белье. Она подобрала юбку, идя по грязному берегу, а затем спустилась по дощатым сходням на угловатое судно, сколоченное из сырого леса, срубленного невдалеке и связанного деревянными клиньями. Некоторое время она стояла, не решаясь войти, затем Эндрю, низко сгибаясь, вышел из кабины. Впервые после их поездки домой из Харродсбурга прошлым летом она видела его в тяжелой куртке из оленьей кожи и таких же штанах. Он мимолетно приветствовал ее ласковой улыбкой, заверив Сэмюэля, что проследит за ней, а затем, когда она поцеловала брата на прощание, он поднял ее мешки и провел на нос судна. Рейчэл перешагнула через порог и оказалась в передней части кабины, где миссис Старк в огромном кожаном фартуке, надетом поверх хлопчатобумажного платья, командовала парой слуг, готовивших полуденный обед. Она повернулась к Рейчэл и широко раскрыла руки, приветствуя ее. Миссис Старк была крупной женщиной с бесформенной талией. Шумная и энергичная, она двигалась с удивительной быстротой в паре растоптанных мокасин. Самой большой ее потребностью, как убедилась в последующие недели Рейчэл, было желание поговорить. — Ну вот; приветствую тебя, Рейчэл. Полковник таскал меня вверх и вниз по рекам и тропам так часто в нашей жизни, что, где бы я ни приземлилась, даже на плоскодонке, я развешиваю свои горшки и сковородки и делаю вид, будто я дома. Она взяла Рейчэл за руку, провела ее через среднее помещение плоскодонки, в котором размещались тюки хлопка, бочки с солью и солониной оленя, бизона, свинины, которые нужно было прикрыть от непогоды, в третью часть кабины, где размещались спальни. Там находилось две койки, прикрепленные ремнями к бревенчатой стене. Плотный занавес из шкуры бизона был прибит к стропилу, он закрывал вход в спальное отделение. — Мы будем жить здесь, дитя; мы будем хорошо укрыты от чужих глаз. Рано утром в тумане и под сильным дождем они отчалили от пристани Нашвилла, за ними последовали еще две плоскодонки; Рейчэл оставалась в своем небольшом помещении. Через маленькое оконце в корпусе она могла видеть, что собралась целая группа попрощаться со Старками. Она не пыталась скрыть свой отъезд в Натчез; да это было бы так же невозможно, как и скрыть причины ее отъезда. Было холодно и дождливо всю неделю. Рейчэл редко выходила из каюты, она читала, шила, помогала миссис Старк сделать пару хитроумных постельных покрывал. Помимо четы Старк и Эндрю на борту плоскодонки плыли пять торговцев, подменявших друг друга при отталкивании шестами, чтобы лодка не коснулась берега и не налетела на валун. Полковник Старк управлял лодкой преимущественно сам, налегая на рукоять направляющего весла. Еда была простой: зажаренное седло оленя или бизона, кукурузный хлеб, тушеные овощи и сушеные фрукты. Мужчинам полагался добрый глоток виски после длительного пребывания на холодном ветру. Питались они в две смены, Рейчэл садилась за стол вместе с миссис Старк, полковником и одним или двумя торговцами. На это время Эндрю заменял полковника Старка у рулевого весла. За столом было мало разговоров: затянутое небо и пронизывающий холод не располагали к общению. В течение первых недель они причаливали у различных поселений и у форта Мосак, продавая поселенцам столь необходимые соль, кофе и сахар из Питтсбурга и принимая взамен меха, которые будут проданы ниже по реке. Чета Старк и торговцы с трех лодок выходили на берег, чтобыпередать письма и обменяться новостями с населением форта. Рейчэл и Эндрю сидели за выскобленным столом перед очагом с пылающими поленьями. Его рыжеватые волосы плотно прилегали к голове под давлением тяжелой теплой меховой шапки. В свободное время он изучал свои заметки и книги по праву, взятые у Джона Овертона. Эндрю Джэксон, которого она знала как человека с бурной энергией, излучающего внутреннюю силу, со сверкающими глазами, глубоко эмоционального, вроде бы остался в Нашвилле; необщительный молодой человек, сидевший напротив, надев очки в серебряной оправе, вполне превратился бы в Джона Овертона. Эти периоды спокойствия, близкие к одиночеству, были единственными, когда они оказывались вместе.Потребовалось десять дней на плавание по рекам Кумберленд и Огайо. На одиннадцатый день утром она проснулась и обнаружила, что их крошечная флотилия уже прошла несколько миль по Миссисипи. Над головой сверкало яркое солнце. Проходили дни, лодка быстро плыла по вздувшейся реке, воздух становился все теплее, она видела, как когда-то с палубы «Адвенчера», весеннюю траву, цветущие кусты на берегах, подсказывавшие им, что они плывут к югу, в лучезарную весну. На следующий день в полдень, когда полковник Старк спустился к обеду, Рейчэл поднялась на корму лодки и встала рядом с Эндрю. Он был в чистой замшевой куртке, открытой у ворота, и солнце освещало его узкое лицо и шею. Она убрала тяжелые шерстяные зимние вещи и надела желтое льняное платье, достаточно легкое для предстоящих теплых дней и в то же время прочное и удобное для жизни на лодке. Ветер развевал ее волосы и ласкал кожу через открытый воротник. — У меня такое ощущение, будто я умерла, — прошептала она, — и тут же возродилась. Его руки обхватили рулевое весло, когда он поворачивал лодку, чтобы обойти плывшее бревно. Она видела, как мускулы его рук и плеч плавно работали под мягкой курткой. Он не был грубо вылепленным, не был даже сильным мужчиной, поскольку на костях было не так уж много мяса. — Не умерла, — ответил он, — а всего лишь спала, вроде платанов, стоявших голыми, а сейчас обрастающих листвой. Казалось, что река обрывается впереди, но это был всего лишь крутой поворот. Когда они прошли это место, он вновь обратился к ней: — Я думаю, Рейчэл, тебе понравится юг. Там воздух теплый и ароматный, земля плодородная, вся округа кажется дружественной и мягкой. Натчез — небольшой городок, всего около двадцати или тридцати домов, но довольно много американцев разбили плантации вниз и вверх по реке. Леса огромные, состоящие из капка, ивы, гигантских дубов. Небо над рекой при заходе солнца пунцовое или цвета индиго. Там много цапель и пеликанов, а в лесах полно ланей. На них дважды нападали индейцы: однажды — с высокого утеса, когда они подошли слишком близко к берегу, в другой раз — с заросшего, выглядевшего совершенно невинным острова, когда они приблизились к нему. На лодке осталось немало пулевых отметин, но лишь один человек пострадал от отлетевшей рикошетом пули. Затем в конце февраля они отделились от двух других лодок и причалили к пустынной пристани у подножия густого леса. Эндрю обратил внимание полковника Старка на то, что платаны растут слишком близко к берегу и берег искривлен, образует закрытые лагуны, что создает индейцам возможность окружить лодку с трех сторон и подвергнуть ее экипаж убийственному перекрестному огню. Однако полковник не хотел рисковать и плыть по неизведанному течению в кромешной темноте. Эндрю сошел на берег с самым молодым из торговцев. Полковник Старк пытался убедить его не делать этого: — Я хочу, чтобы все мужчины оставались на борту, с тем чтобы мы располагали наибольшей боевой силой. — Вам нужно получить заблаговременное предупреждение, полковник, и единственная возможность получить его — это позволить нам сойти на берег. Он почистил свое ружье, наполнил патронташ, выбрал надежный кремень и позвал своего товарища, который отливал пули, и двое мужчин неслышно сошли на берег по старым бревнам, приказав одному из торговцев не спать и стоять с топором в руке у причального каната, который он должен перерубить при звуке первого выстрела. Рейчэл проводила Эндрю до края балюстрады. — Но как ты вернешься на борт, если мы порубим этот канат? — спросила она. — Поток вынесет нас в реку. — Об этом не беспокойся, — прошептал он. — Оставайся под прикрытием. Она следила за ним, пока его фигура не растворилась во мгле, затем вернулась в кабину, освободила ремни койки и легла на нее, не раздеваясь. Через некоторое время вошла миссис Старк, разделась, опустила свою койку на чурбаки, аккуратно сложила постельное покрывало. Потом она скользнула под одеяло и начала рассказывать спокойно и приятно о других поездках, других тревогах. Рейчэл слушала одним ухом, другое было настроено на шум за бортом. Но даже так она слышала все сказанное миссис Старк, даже отвечала ей и рассказывала собственные истории. Аллигатор, лежавший на берегу по соседству, время от времени ревел и рыкал. Вдруг, не закончив фразы, миссис Старк провалилась в сон. Рейчэл встала без шума и вышла на палубу; небо было темным, не видно было даже следа луны. Охранник спал. Она стояла, вглядываясь в темноту. Ночные звуки затихли, лишь слышались выкрики болотных птиц. Затем она увидела вспышку на берегу, за которой последовал ружейный огонь. Уснувший торговец тотчас же проснулся. Он схватил топор, но Рейчэл была настороже и перехватила его руку: — Не трогай каната… — Но Джэксон приказал… — Меня не волнует, какие приказы он отдал. Дай мне топор. Я разрублю канат в тот момент, когда оба мужчины будут на борту, но не раньше. Он уставился на нее, чувствуя металл в ее голосе, пожал плечами, отдал ей топор и взял свое ружье. Послышалось еще два выстрела, затем она увидела, как Эндрю и его компаньон быстро прошли по сходням на борт. Она нанесла быстрый удар топором. Плоскодонка поплыла по течению. Она и Эндрю стояли на носу лодки, наблюдая за течением, а полковник Старк управлял со всем старанием. Она слышала, как Эндрю подавил смешок. — Скажи шутку, — обратилась она к нему. — Мне хочется посмеяться. Не повернув головы, он ответил: — Итак, ты не позволила им разрубить канат, не правда ли? Разве ты не знала, что вас могли убить? — Мне нравится сталкиваться с опасностью, — сказала она, подражая его тону. — Я могла бы задать такой же вопрос. — Схватки с индейцами — большая часть работы выездного адвоката, чем само ведение дел в суде. — Даже если это так, то как могли бы мы бросить вас на берегу и удрать? — Судя по свидетельству перед этим судьей, я бы сказал, что не могли бы. Он обнял ее за плечи, медленным движением притянул к себе, удерживая жилистыми пальцами и крепко прижимая плечо к своему, выражая тем самым свои чувства. Затем, прежде чем она поняла происшедшее, он удалился.
/17/
Дом Томаса Марстона Грина в Спрингфилде был самым шикарным из когда-либо виденных Рейчэл. Он оживил в памяти рассказы ее отца о поместье Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноне. Это было солидное кирпичное здание с шестью величественными колоннами перед фасадом, стоящими на солидных прямоугольных блоках, просторные тенистые галереи были увиты вьющимися растениями, создававшими прохладу. Напоминавшая кружева деревянная балюстрада защищала портик на втором этаже. Все было выкрашено мягкой белой краской, кроме зеленых ставень, прикрывавших высокие узкие окна. Приемные комнаты имели высокие потолки с резными карнизами, перекладины над каминами были также ручной работы, широкий проход, освещавшийся хрустальными канделябрами, вел в комнаты из уютной прихожей, обшитой деревянными панелями. Дом был построен на возвышении над болотами, хорошо продувался ветром и был окружен рядом могучих дубов. Семейство Грин быстро собрало всех соседей-американцев на торжественный обед. Когда Рейчэл увидела бирюзовое длинное платье и сатиновые туфельки, которые собиралась надеть молодая жена Тома Грина, она поняла, что в ее чемоданах нет ничего сравнимого. Миссис Грин дала ей надеть отделанное кружевами светло-синее сатиновое платье с деликатной кружевной накидкой. Потребовалась лишь незначительная подгонка, чтобы платье хорошо сидело на Рейчэл. Войдя в столовую под руку со старым полковником Томасом Грином, она восхитилась светом сотен свечей в канделябрах и их отражением на серебряной посуде, хрустальных кубках и полированном дереве. — Вы перенесли сюда, на Юг, самое лучшее из Виргинии! — воскликнула она. Старый полковник был польщен. Он повернулся к Эндрю, который шел вслед за ними, его темный нашвиллский костюм подчеркивался тонкой белой рубашкой с кружевным жабо и кружевными манжетами, что в целом придавало ему столь же элегантный вид, как приодевшимся по случаю обеда тщеславным мужчинам. — Каждый человек берет с собой свой дом независимо от того, как далеко он уезжает. Не так ли, Джэксон? Конечно, здесь мы имеем кое-что дополнительное — москитов, аллигаторов, болота, жару, но мы воспринимаем плохое вместе с хорошим. Полковник Томас Грин был другом ее отца в Виргинии. Он был крепко скроенным мужчиной лет семидесяти, с роскошной копной седых волос, оттенявшей его загорелое лицо. Неоспоримый лидер американской колонии в Луизиане, он перенес много невзгод, стараясь отделить этот район от испанских владений, основать новый округ по имени Бурбон и присоединить его к штату Джорджия. Законодательное собрание Джорджии разрешило Грину действовать, но замысел сорвался, и Томас Грин попал в тюрьму в Новом Орлеане. Его жена умерла от полученного ею шока. Испанцы простили его после этой трагедии, но он был обязан передать всю свою собственность своим молодым сыновьям — не только эту плантацию в Спрингфилде, но также и Вилла-Гайозо, в восьми милях к югу на Соуолс-Крик, которую он купил ранее у испанского губернатора Натчеза и где теперь жил его второй сын, Абнер. — Плохо, что твой отец не дожил до того, чтобы увидеть Спрингфилд, Рейчэл, — сказал старый полковник. — Он переехал бы сюда и построил такой же дом. Рейчэл знала, что ее отец глубоко любил Кумберленд и ничто не заставило бы его вновь переезжать. Но она не сочла нужным сказать это полковнику Грину. Его сын Том, сидевший во главе длинного стола из красного дерева, сказал: — Поскольку мы не можем иметь здесь полковника Донельсона, быть может, его дочь будет вместо него? Как, Рейчэл? Молодая жена Тома Грина кивнула в знак согласия: — Каждый раз, когда к нам присоединяется еще одна американская семья, мы считаем это еще одной победой. Старший Грин поднял кубок с испанской мадерой, повернувшись к Эндрю, который провел несколько судебных дел в Нашвилле, касавшихся семейства Грин. Слуги внесли бутылки легкого вина из прохладных подвалов и серебряные вазы с апельсинами, бананами, дынями и виноградом. — На этот раз ты остаешься, Джэксон? В Байю-Пьер у тебя хороший участок земли, и ты можешь заиметь еще больше, если согласишься оплатить топографическую съемку. Мы хотели бы, чтобы ты был с нами, когда мы поднимем новое восстание против испанцев. Мужчины пустились в дискуссию, сравнивая тяготы испанского и английского правлений. Семейство Грин ненавидело испанцев столь же яростно, как Эндрю — англичан, в итоге спор зашел в тупик: сколько потребуется лет, чтобы убедить правительство в Филадельфии, что Луизиана — естественное и неотъемлемое продолжение материка, что Соединенные Штаты должны приобрести Луизиану, чтобы обеспечить свободное плавание по Миссисипи и держать открытыми порты Натчез и Новый Орлеан, что потребовалось бы всего несколько сот мужчин с ружьями, чтобы прогнать навсегда испанцев. Разумеется, Испания отстоит еще дальше, чем Англия, и у нее меньше дел на этом Американском континенте. Рейчэл была обеспокоена предложением семейства Грин, чтобы она и Эндрю остались в Натчезе и основали еще одну американскую семью. Насколько далеко зашли они в своих предложениях? Они не задавали вопросов, относились к ним, как к гостям, приехавшим одновременно, но из разных мест. Однако любовь трудно скрывать; посадите влюбленных мужчину и женщину в просторную комнату, подобную этой, или среди большого скопления гостей; посадите их на противоположных концах стола, и тем не менее все поймут, в чем дело. Она редко виделась с Эндрю, поскольку он провел несколько дней в Натчезе, в тридцати милях от Спрингфилда вниз по реке, где улаживал споры между клиентами, нанявшими его полтора года назад, и принимал заявки на ведение дел от людей, оставивших земли и другие деловые возможности, когда они спустились вниз по Миссисипи. После того мгновения на носу лодки в укромном месте на темной ночной реке они не обменялись ни интимным словом, ни жестом. Затем в раннее воскресное утро, напоенное ароматом трав, они проехали две мили к Байю-Пьер, чтобы осмотреть принадлежавший Эндрю участок земли на возвышенности над рекой. Рейчэл надела розовое батистовое платье поверх нескольких тоже розовых нижних юбок, прихваченное широкой бархатной лентой на талии, такая же лента украшала ее широкополую шляпку. Рассматривая себя в зеркале на туалетном столике, она решила, что начинает вновь выглядеть хорошо. Бедный Эндрю, всю свою жизнь он будет вынужден носить на лице шрам от сабли офицера; как хорошо, что внутренние шрамы невидимы, когда смотришься в зеркало, а если они невидимы, их можно забыть, и, быть может, они совсем исчезнут. Они добрались до небольшой бревенчатой хижины, которую построил Эндрю, и увидели сделанную им разметку беговой дорожки. Они стояли перед дверью маленького дома, глядя на медленное течение широкой реки и на обширные сосновые и дубовые леса, уходившие к горизонту и сливавшиеся с пастельным небом. Это было прекрасное место, слишком красивое и по этой причине вызывавшее в ней ностальгию. — Ты, вероятно, скоро поедешь обратно, Эндрю? — Да. 12 апреля в Нашвилле открывается весенняя сессия суда. — Сколько времени потребуется тебе, чтобы доехать до Тропы Чикасо? — Полтора года назад потребовалось около двадцати дней. Группа лодочников поплывет обратно в середине недели. Я отправлюсь с ними. Я прихвачу партию импортного шелка и сатина, кое-какие испанские специи, сигары. Его голос затих, он стоял, глядя некоторое время на реку. Ветра не было, и солнце бликами играло на воде, вдали звучали призывные крики диких птиц. Когда он повернулся к ней, его глаза открыто выражали любовь к ней. Он развязал ленты шляпки, снял ее и погладил волосы своей рукой. — Рейчэл, я вовсе не должен возвращаться. Мы можем оба остаться здесь. — Но как, Эндрю? — Я расспрашивал в Натчезе, ты можешь получить развод здесь, у испанских властей. Он будет легальным. — Не совсем легальным; это будет всего лишь обходом закона, как это называет Джон. Ты присягнул правительству Соединенных Штатов, когда власти назначили тебя прокурором территории; я не могу позволить тебе нарушить свое слово. И у тебя самая большая юридическая практика, даже Джон так говорит. — Возможно, я не смогу быть адвокатом. Я не смогу занимать официальный пост, и я должен буду стать испанским подданным, но я смогу и здесь успешно работать. — В его голосе прозвучало легкое раздражение. — Оглянись кругом. Разве это не доказательство — вся плантация Байю-Пьер отграничена? — Он торопился, не желая дать ей времени для ответа: — Главный дом должен быть поставлен на краю возвышенности; отсюда поперек я поставлю конюшни. Земля хороша для хлопка, табака, индиго. Здесь можно делать деньги, огромные деньги. В один из дней наша плантация станет столь же процветающей, как спрингфилдская. Она скользнула в его объятия, прижалась к нему. — Да, ты можешь все это сделать. Ты можешь сделать это где угодно — в Нашвилле, Натчезе, даже на Луне. Но, дорогой, как ты можешь быть счастливым, став подданным Испании? У тебя не будет здесь ни голоса, ни права голосовать. Ты независимый человек… — Это ненадолго, эта страна станет американской. Я не прочь помочь парням Грина ввести ее в Союз. Я могу вернуться в Нашвилл, закончить свои дела, продать земли, а все движимое имущество привезти на лодке. — Нет, Эндрю, я не могу взять на себя такую ответственность. Если ты почувствуешь себя здесь несчастным или если что-то у нас не получится… ты можешь проснуться одним утром и обнаружить, что зря растратил свою жизнь в Луизиане. О, ты никогда не упрекнешь меня, ты постараешься скрыть свои чувства даже от самого себя, но я не могу возложить такое бремя на наше супружество. Наша любовь правдива и хороша, наш брак должен быть правдив и хорош с самого начала. Его глаза, обычно такие ясные и проницательные, стали смущенными и обиженными. — Но что нам делать? — выкрикнул он, словно силой своего голоса мог разнести окружившую их стену. — Мы в ловушке. Мы беспомощны. В руках Робардса все оружие. — Нет, Эндрю, это неверно. У него пустые руки. У нас единственное оружие, имеющее цену, — любовь. — Рейчэл, милая. Я не ветреный человек. Я никогда ранее не любил и вновь не полюблю. Лишь тебя. Всегда тебя. — Спасибо, дорогой. Он обнял ее и поцеловал в губы. — Нам нужно верить в чудо, — прошептал он. Она взяла его лицо в свои руки и поцеловала его в щеки. — Я верю в чудо, Эндрю. Тот факт, что мы нашли друг друга, что стоим здесь вместе, что ты обнимаешь меня, что я могу поцеловать тебя, — все это и есть доказательство, что чудо может совершиться./18/
После шести недель пребывания у полковника и четы Грин ее пригласили посетить поместье Вилла-Гайозо, окруженное огромными дубами, обросшими серым мхом. Миссис Абнер Грин была тридцатилетней женщиной, вежливой, но требовательной хозяйкой. Ее доброта вскоре дала Рейчэл понять, что она должна жить здесь не как гостья, а скорее как член семьи, со своими дневными обязанностями, участвовать в прядении, вышивании, обучении прислуги изготовлению цветных свечей и душистого мыла, рецепт которого ей дала ее мать. От Эндрю не было известий, не было известий и от семейства Донельсон. Движение на юг по Тропе Натчез было практически неизвестно, а с наступлением лета плавание по Миссисипи прекратилось. Проходили недели, и она чувствовала, что к ней в полной мере возвратились сила, чувство благополучия и радость жизни. Журчание фонтана, замкнутый дворик, затененный диким виноградом, чириканье крохотных птиц, терпкий запах магнолий, яркие краски окружающей природы — ей нужны были именно они, доставляли огромное удовольствие. И по мере того как медленно, лениво текли жаркие летние дни, ее глаза становились блестящими, искрящимися, а походка энергичной. — Дорогая моя, ты прекрасна, — заметила миссис Грин, когда они сидели в широкой галерее под крышей. Рейчэл тихонько напевала, играя на клавикордах. Выстраданное ею по вине Льюиса Робардса и ее разочарование, вызванное неприятностями прошедших лет, были устранены месяцами мирной жизни, покоя, который так сильно овладел ею, что, казалось, она могла бы провести здесь остаток своей жизни. Спустя два месяца она сидела у окна своей спальни с кружкой молока, принесенной от ручья, в котором все лето держались в прохладе молочные продукты, и любовалась рыжеватым закатом солнца. Она услышала стук копыт, долетавший с главной дороги. Всадники приезжали и уезжали целый день, и она выслушала за последний час шум копыт, вероятно, полудюжины конников. Но был лишь один всадник, который ездил, изменяя ритм лошади под свою стать, и независимо от скорости и темпа двигался так, как двигался Эндрю Джэксон в пространстве — головой вперед, напоминая циклон, у которого всегда точное направление. Она подобрала юбки белого накрахмаленного хлопчатобумажного платья и побежала вниз по винтовой лестнице. В дверях стоял Эндрю, разгоряченный, взлохмаченный, в помятой замшевой куртке, в сапогах, побелевших от пыли, и с трехнедельной бородкой. Подходя к нему, чтобы поприветствовать, она увидела, что случилось нечто решительное, такое, что может изменить их жизнь. Она провела его в сумрачную, отделанную дубом библиотеку, узкие окна которой выходили в источающий аромат тропический сад, решив для себя не думать, не чувствовать или даже не бояться до тех пор, пока он не сообщит ей цель своего визита. Он закрыл дверь за собой. Они встретились в середине комнаты. Она почувствовала его губы, сухие и потрескавшиеся от долгой поездки. Он крепко прижимал ее несколько минут, затем выпалил: — Есть новости… — О… Льюисе. — Да. Он развелся с тобой. Она вздохнула, почувствовала острую боль в груди. — Развелся со мной? Но как? — С помощью законодательного собрания Виргинии. Он убедил своего зятя Джека Джуитта внести в собрание законопроект. Собрание приняло его. Ее глаза расширились, и на губах сам по себе складывался вопрос. Он говорил быстро: — Ты свободна теперь, моя дорогая. Мы можем жениться, как только ты будешь готова. Это не увело ее в сторону: — Законодательное собрание Виргинии дало ему развод? Но на каком основании? — … Ну… оставление семьи. Она смотрела на него, будучи не в состоянии вздохнуть. — И что еще, Эндрю? Ведь законы Виргинии не разрешают развод только на основании оставления семьи. — Так гласит законопроект. «Как неумело он лжет», — подумала она. А вслух сказала: — Выложи мне остальное. Я должна знать. — …Прелюбодеяние. У нее было такое чувство, словно ее ударили по лицу. Во рту появился вкус крови: непроизвольно она прикусила губу. Ее голос был так слаб, что ей казалось, будто слова застревают в ее горле: — Прелюбодеяние! Но с кем?.. Он обнял ее своими длинными руками и крепко держал, словно боясь, что она упадет. — Со мной. — …С тобой… но когда?.. — Когда мы… «бежали»… так сказано в законопроекте. Из дома Робардсов. — Бежали? Но тебя послала семья. Льюис знал это. Когда он приехал к моей сестре Джейн и пытался убедить меня вернуться к ним домой, он говорил, что в твоем приезде за мной нет ничего плохого. Он никогда бы не поехал звать меня, если бы хотя бы на миг подумал… Она расплакалась, слезы были горячими, а Эндрю гладил ее волосы, целовал в висок, старался успокоить ее. Через некоторое время она взглянула на него, ее глаза все еще были полны слез, по щекам пролегли мокрые дорожки. — Я ожидала, что он убьет меня. Случившееся хуже. — Только в том смысле, что допущена еще одна несправедливость. Но посмотрим с нашей точки зрения: он мог держать нас вдали друг от друга многие годы; мы могли бы оказаться не в состоянии сочетаться браком или познать взаимную любовь. Разве, дорогая, ты не видишь, что это конец нашим мучениям? Горький конец, согласен с тобой, но он означает, что мы можем жить вместе. Мы можем иметь свой дом, детей и никогда больше не расставаться. У нее так сжалось сердце, что, казалось, оно вот-вот разорвется. — Как мог Джек Джуитт поступить так со мной? Он был моим другом. Он боролся за меня, когда Льюис устроил скандал по поводу Пейтона Шорта. Он верил мне все прошлые годы, полагался на меня, но теперь он убежден… — Я не думаю, что Джек потерял веру в тебя. Возможно, он внес законопроект, зная, что это единственный путь к тому, чтобы ты освободилась. Это могло быть актом доброты… — Заклеймить меня как совершившую прелюбодеяние! Он опустил глаза, будучи не в силах выдержать ее жгучее возмущение. — Понимали ли они, в чем меня обвиняли? Означает ли обвинение в прелюбодеянии то же самое для мужчины, что и для женщины? Не может означать, иначе бы они не сидели так спокойно в своих креслах и не голосовали бы… не дав мне даже шанса появиться перед ними и защитить себя, проголосовали за обвинение меня в самом вульгарном грехе! Каким большинством они решили, что я лгунья, обманщица, мошенница?.. Он положил свои пальцы осторожно на ее губы. — В том, в чем они обвинили тебя, они обвинили и меня. Мы оба замешаны… как и во всем том, что с нами случится. Ее гнев утих, она сидела в кресле обмякнув, с поникшей головой, не в силах взглянуть на него, перед ней был лишь натертый воском, полированный мраморный пол. Через мгновение она прошептала: — Половина этих мужчин знала меня с детства. Отец заседал с ними в палате Бургесс;[3] они приходили как гости в наш дом, видели, как я расту. Они знали, что Донельсоны никогда… не падут низко… И Джон Овертон, что он думает об этом? — Когда я услышал, что законодательное собрание даровало Робардсу такой развод, я хотел пойти и застрелить его. Я должен был сделать это, но Джон остановил меня. Он сказал: «Посмотрим на дело спокойно, как должны смотреть юристы. Развод на условиях Робардса — последний шаг его падения. Тем не менее он открывает глухо перегороженные двери к вашему будущему. Теперь ты и Рейчэл можете вступить в брак. Мы все хотели бы, чтобы этот брак был заключен в других обстоятельствах. Но они таковы и являются обстоятельствами, навязанными Провидением. Забудь о плохой их стороне и думай лишь о том, что ты и Рейчэл можете начать совместную жизнь». Она глубоко вздохнула. — Джон прав, он всегда прав. — Она поколебалась момент. — А как ты узнал обо всем этом? — Первой узнала твоя семья. Возможно, полдюжины человек принесли новость из Ричмонда. — Было ли это опубликовано в газетах? — Нет, думаю, что нет. Известие пришло в Кумберленд обычным путем, передаваясь из уст в уста. — Тогда все… в Нашвилле… знают?.. Теперь была его очередь разозлиться. Жесткость его голоса заставила ее поднять голову. — Каждый знает, что Робардс получил развод. Но нет ни единой души в долине Кумберленда, которая считала бы тебя виновной в ином, кроме замужества с потерявшим от ревности рассудок человеком. Все знают также, что я направился сюда ради нашей свадьбы. У нас будет чудесный дом и прекрасная совместная жизнь, Рейчэл, и это последнее, что мы услышим об этом окаянном деле. Ни один из наших друзей и соседей не поверит, что мы виноваты в вероломстве. И если кто-то из наших врагов поднимет голос, чтобы бросить нам обвинение или опорочить твое имя, я знаю, как с ним разделаться. Она встала, подошла к окну и уставилась в темноту сада, слушая журчание фонтана и кваканье лягушек в тихом вечернем воздухе. Эндрю подошел к канделябру над камином и зажег единственную свечу. — Наша свадьба даст им больше пищи для сплетен, — прошептала Рейчэл. — Могут счесть, будто Льюис был в конечном счете прав и законодательное собрание Виргинии поступило правильно, предоставив ему развод. Она прислонила свою горячую щеку к темной дубовой панели оконной рамы. Она не слышала, как он подошел к ней, резко повернул ее и притянул к своим плечам: — Все это не имеет отношения к нам! Мы не можем допустить, чтобы такой образ мыслей удерживал нас от любви. — Он ослабил свои руки на ее плечах и стоял неподвижно с бледным лицом. — Ты любишь меня? Она увидела, что он страдает не меньше ее. В своем сострадании она подняла свое лицо к нему и поцеловала его. — Да, Эндрю. Я всегда буду любить тебя. — Тогда это все, что нам нужно. Мы можем жить в мире с самими собой. Наша любовь будет крепостью, которую не сможет разрушить извне никакая враждебность или грубость. — Да, дорогой, ты прав. — Мы проведем наш медовый месяц в моей хижине в Байю-Пьер. Она так красива, возвышается над рекой. Том Грин обеспечит все, что нам потребуется, и мы сможем быть там в полном одиночестве, таком, какое больше не выпадет когда-либо в жизни. — Дай мне несколько дней. Я хочу иметь подвенечное платье, с тем чтобы ты гордился мной и думал, что я красива. Они молча стояли в комнате, крепко обнявшись. «С нами всегда будет любовь, — думала она. — Она согреет нашу жизнь и проведет через все трудности. Но, Эндрю, самый дорогой для меня, ты ошибаешься, говоря, что наши неприятности уже позади».Книга вторая
/1/
Они провели в безделье два месяца в тишине Байю-Пьер, где с огромных дубов свисает серый мох, а воздух насыщен ароматами. Затем они отправились в путь по опасной тысячемильной Тропе Натчез и 1 октября прибыли в Нашвилл, в поместье Донельсонов. На следующее утро Эндрю уехал вместе с Джоном Овертоном в город, чтобы взять в аренду для своей адвокатской конторы недавно построенный дом напротив здания суда. Прощаясь, Эндрю поцеловал Рейчэл с особой нежностью: — Мы впервые расстаемся за три месяца. — Он повернулся к Овертону, ожидавшему его с лукавой улыбкой на лице: — Джон, мы ищем участок для дома. Нет ли у тебя подходящего места, которое ты продал бы нам? — Возьми любой из моих участков в качестве свадебного подарка, но все наши участки — на неосвоенных землях, и, наверное, там полно индейских вигвамов. В полдень пять женщин семейства Донельсон собрались в большой комнате за чашкой кофе. — Слава Богу, последняя из моих дочерей удачно вышла замуж, — заметила миссис Донельсон, облегченно вздохнув, и ее дочери рассмеялись. — Временами мне кажется, что по твоей задумке мистер Джэксон вызволил меня из Харродсбурга, — ответила Рейчэл, покраснев. — И я не удивлюсь, если ты подбросила полковнику Старку мысль о том, чтобы мистер Джэксон поехал в Натчез. — Не стану ни подтверждать, ни отрицать, — поджала губы ее мать, — скажу лишь: хорошо то, что хорошо кончается. Пухленькая, романтично настроенная Мэри попросила: — Расскажи нам о свадьбе и медовом месяце, Рейчэл. Там, в Луизиане, хорошо? Рейчэл некоторое время сидела тихо, положив руки на подол темно-синего платья из испанского шелка, которое купил ей Эндрю в Натчезе. Ее глаза блестели. — Церемония проходила в гостиной Тома Грина, украшенной массивной хрустальной люстрой с сотней горящих свечей. Я помню, что время от времени, поглядывая на нее, я молила: «Милый Боженька, не дай упасть люстре, я только собираюсь быть счастливой». — Не стоило беспокоиться, — деловито прокомментировала Джейн, — Эндрю поймал бы ее прежде, чем она ударила бы тебя. Рейчэл кивнула головой: — Ты права, Джейн. Я должна была все эти годы ждать Эндрю Джэксона, как ты ждала Роберта Хейса. — Какой глупый разговор о прошлом, — сухо заметила миссис Донельсон. — Лучше поблагодарите Всевышнего, а не сожалейте о прошлом. — Кончайте спорить! — воскликнула Мэри. — Я хочу послушать о свадебном приеме и как выглядит Байю-Пьер. — Словно рай. Воздух там мягкий, его хочется схватить в горсть, словно шелк, и сшить из этого воздушного шелка платье. Мы танцевали котильон несколько часов, а затем Эндрю и я ускользнули и поехали в Байю-Пьер. Было полнолуние, и Миссисипи так сверкала, что в ее отблеске, казалось, можно было различить каждую капельку воды. Ночи там такие же мягкие и теплые, как дни… — Должно быть, это прекрасное место для влюбленных, — мечтательно прервала Мэри рассказ Рейчэл. — Любое место хорошо для влюбленных, — оборвала ее Катерина; в свои тридцать лет она с трудом переносила наивный романтизм сестры. — Ты права, Кати, — ответила Рейчэл, — любовь красит место. У нее своя листва, свои тропы и дома, даже свое собственное солнце, луна, звезды. Вчера Нашвилл показался мне таким же красивым, как Натчез; воздух был ароматным, а солнце — теплым. — Я слышала, что у вас были трудности на Тропе, — сказала Джейн, поместье которой в Хэйсборо стало перевалочным пунктом пограничных новостей. — Кто это были — индейцы или банды белых бездельников? — Ни то, ни другое. Эндрю обладает умением отгонять неприятности. Он пристально всматривается в лес и тропы, словно посылая сигнал: «Держись-ка подальше, мы готовы дать отпор». Единственная ссора была с Хью Макгари. — Огорчена этой вестью, — сказала миссис Донельсон. — Рейчэл, ты помнишь день, когда мы впервые увидели Эндрю в суде? Тогда он уговаривал Хью мирно уладить дело с Каспером Мэнскером. — Эндрю говорит, что Хью никогда не простит ему прошлого. Это был единственный случай, когда он рекомендовал кончить дело компромиссом, а не дракой, и посмотрите, чем все закончилось. — Перестань темнить, — проворчала Джейн, — расскажи точно, что произошло. — Хорошо. Когда мы собирались переправиться через реку Теннесси, Эндрю и Хью пришли к выводу, что в эту ночь нападут индейцы. Хью выбрал место для стоянки, утверждая, что было бы лучше окопаться и ответить на первые индейские выстрелы залповым огнем. Эндрю ответил, что не хочет, чтобы его подстрелили, как подсадную утку; он предпочитает продолжать движение в сумерках. Хью настаивал, что в таком случае мы станем удобной целью. Эндрю отвечал, что индейцы никогда не нападают на группу, двигающуюся на полной скорости. Мужчины решили идти дальше под покровом темноты и оставить позади себя, как приманку, горящие костры. Мы ехали всю ночь, и нападения не было. Это доказало правоту Эндрю, хотя, разумеется, Хью мог бы отбить индейцев одним залпом… или же они вообще не посмели бы напасть. Так или иначе, с этого момента участники группы советовались с Эндрю. Хью это не нравилось. Последние две недели путешествия он не обменялся с нами ни единым словом. Когда мы расставались в Нашвилле, он ушел не попрощавшись. — Эндрю известно, что семейство Макгари вернулось в Уоксхауз, не так ли? — спросила миссис Донельсон. — Да, они ведь родственники — брат Хью, Мартин, женат на кузине Эндрю. Я делала все возможное, чтобы избежать ссоры, даже высказала мысль, что Хью, вероятно, был прав. Эндрю сказал: «Возможно, он прав, но я не хотел рисковать даже одним шансом из тысячи, чтобы английская пуля, выпущенная индейцем, поразила тебя». — Семейство Макгари из тех, кто не прощает, — сказала миссис Донельсон. — Мой муж может постоять за себя, — ответила Рейчэл. Она впервые произнесла слова «мой муж», говоря об Эндрю Джэксоне. В гостиной дома Донельсонов и в окружении сестер эти слова прозвучали внушительно. Спустя всего несколько дней после их возвращения в Нашвилл она столкнулась с необычайно возбужденным Эндрю. — Рейчэл, угадай, что случилось? — Ты назначен губернатором территории! — Забирай выше. Я выбран попечителем Академии Дэвидсона. Она звонко чмокнула его: — Поздравляю, дорогой. Касаясь своими губами его губ, она почувствовала облегчение. Она не ведала точно, что ее беспокоит, но подспудно ее тревожила мысль, как примут ее брак в Нашвилле, ведь ее развод был первым в долине Кумберленда. В законодательном собрании Виргинии ее обвинили в бегстве с Эндрю Джэксоном. Об этом знал весь Нашвилл. Своим браком они, очевидно, подтвердили справедливость решения законодательного собрания. Она не удивилась бы, если бы кое-кому ее действия не понравились. Несколько ночей на Тропе Натчез она не могла заснуть, размышляя, не обернутся ли против них поспешная поездка Эндрю в Натчез и их скоропалительный брак. Теперь, едва они успели возвратиться в Нашвилл, генерал Джеймс Робертсон, вместе с ее отцом участвовавший в закладке Нашвилла, глава Академии Дэвидсона, единственный священник в общине преподобный Томас Крайгхэд, владелец лавки Ларднер Кларк, герой революционной войны и заместитель губернатора территории генерал Даниэль Смит, Антони Бледсоу, брат Исаака Бледсоу, который вместе с Каспером Мэнскером первым исследовал в 1771 году долину Кумберленда… самые влиятельные люди территории своим жестом предотвратили возможную критику и дали понять, что Эндрю Джэксон принадлежит к их кругу. Рейчэл полагала, что удовлетворенность ее мужа и ее самой имеет одну и ту же основу. К ее изумлению, его восторг был вызван иными причинами. — Прости меня, если я втайне рад, дорогая, но этот пост — самый последний, на какой я мог рассчитывать. Один из руководителей Академии! Ты знаешь, сколько я на самом деле учился? Месяц или два в Королевском музее в Шарлотте. О, несколько лет я посещал старую сельскую школу в Уоксхаузе. Это была однокомнатная хижина, поставленная вместо фундамента на пнях деревьев на заброшенном поле. Собственно говоря, я научился писать, когда мне было уже шестнадцать лет. Все, что я знаю, я почерпнул из немногих книг, которые попали мне в руки. Но Академию Дэвидсона я намерен сделать одной из лучших школ по эту сторону Голубых гор. Тогда наши детишки смогут получить настоящее образование. — Аминь, — произнесла Рейчэл. В следующее воскресенье они посетили брата Рейчэл Джонни, чтобы посмотреть на новую дочь, которую тоже назвали Рейчэл. Она родилась, когда старшая тезка была в Натчезе. Джонни исполнилось тридцать шесть, у него были зеленые глаза, как у Джейн, пушистые светлые волосы и худое лицо. Он женился на Мэри Пурнелл, когда той было всего шестнадцать лет, и отправился с ней в плавание на «Адвенчере», которое и было сочтено свадебным путешествием. Их первый ребенок родился в открытом поле в Кловер-Боттом в 1780 году, но не пережил тягот первого тяжелого поселения. У маленькой Рейчэл, которой исполнилось четыре месяца, было три брата и сестра, все здоровые и подвижные. Джонни владел тремястами пятьюдесятью акрами земли в излучине Джонс — на плодородном полуострове, окруженном с трех сторон тихой рекой Кумберленд, напротив поместья вдовы Донельсон. Постоянная опасность и угроза смерти во время плавания на «Адвенчере» произвели противоположное воздействие на Джонни и на Мэри. Из Джонни они сделали бродягу, человека, которому нравилось осваивать новые земли, расчищать их, возводить дом, воспитывать детей, а затем переезжать на новый участок. Мэри ненавидела не только смену мест, но и сами переезды. После смерти первенца она поклялась Богу, что если Он даст ей детей и они останутся живы, то она всегда будет благодарить Его. В доме господствовал экзальтированно-религиозный дух; когда Мэри удавалось урвать несколько минут от своих домашних дел, она шла в часовенку, построенную для нее Джонни, становилась на колени и набожно исполняла свою клятву перед Господом. Обед был плотным и шумным, поскольку за обеденным столом сидели дети. Джонни уловил на лице Эндрю насмешливое выражение. — Они вечно болтают, задираются, ссорятся, Эндрю. Но подождем, когда ты заведешь пятерку своих, тогда их голоса будут звучать, как божественный хор. — Заведу вдвое больше твоей пятерки, — ответил Эндрю, — и шума в сотню раз больше. После обеда Рейчэл, Эндрю и Джонни прогулялись вдоль реки. В лесах буйствовали краски октября: красные, красновато-коричневые и пунцовые, светло-зеленые переходили в густо-зеленые. Шагая по полю, они пытались подсчитать различные виды деревьев и кустарников: береза, клен, гикори, ясень, вяз, шелковица, грецкий орех, камедное дерево, боярышник, тополь, кедр, платан… — Через пару лет у тебя будет отличная плантация, Джонни. — Нет, Эндрю. Рейчэл остановилась, схватив брата за руку: — Джонни, ты не собираешься… — Да, собираюсь. Я даю объявление о продаже. — Разве земля плохая? — спросил Эндрю. — С участком все в порядке. Дело во мне. Я хочу переехать. Я знаю место в трех милях отсюда, побольше. Оно может стать более процветающим. Нет причины, почему бы человеку не стремиться к лучшему. — Ну, Джонни, не пускай мне пыль в глаза, — сказала Рейчэл. — Ты не думаешь о движении к лучшему, тебе нравится само движение. Джонни усмехнулся. Они шли молча, пока не подошли к реке, затем спустились по тропе. В этом месте река была неширокой, но глубокой, переливаясь цветами нефрита. Эндрю заговорил первым: — Сколько ты просишь за участок? — Сто фунтов. Знаешь кого-либо, кто может заинтересоваться? — Возможно. Однако я не хочу испытывать терпение Мэри. Как только получишь предложение, извести меня. Я прослежу, не дадут ли мои клиенты большей цены. — Ты знаешь, что мне нравится в этом месте? — прошептала Рейчэл, когда они шли к своим лошадям. — Что? — Это почти остров, окруженный с трех сторон рекой. Если построить хороший, крепкий забор сзади… По выражению его лица она поняла, что он с ней согласен. Он обнял ее за талию. — Здесь может быть наш первый дом, — мягко сказал он. Окинув взглядом весь участок, он добавил: — Не кажется ли тебе, что он слишком обособлен, Рейчэл? Я должен уезжать надолго, в объезд в Джонсборо и в округ Самнер. Племя крик все еще совершает набеги на такие изолированные места. — Разумеется, ты не посоветуешь жене Эндрю Джэксона праздновать труса при виде всего нескольких индейцев./2/
Любовь не только привязана к месту, но у нее и свой календарь. Ей был не нужен тот, что Эндрю держал в своей конторе в Нашвилле. Каждое пробуждение четко запечатлевалось в сознании Рейчэл, каждый взгляд, мысль, чувство фиксировались в ее рассудке, но как бы ни были наполнены дни, они летели так быстро, что невозможно было их удержать. Да, любовь создавала также и погоду. Была глубокая зима, на земле лежал снег, деревья сбросили листву, низкое небо цвета закопченных чугунков, изготовлявшихся по заказу хозяек новым кузнецом, мастерская которого размещалась в конце городской площади, навевало тоску. Но счастье не позволяло ей осознавать, что пришла зима: снег казался ей теплым, тяжелые тучи — блестящими, резкий ветер — ласковым и бодрящим. Обрушивался, разумеется, и ураган, но таким ураганом был ее муж. Они получили во владение участок Джонни лишь весной, но Эндрю уже строил хлев для скота, пристраивал небольшую кухню к основной комнате, где Молл могла бы проводить часть времени с ней, закладывал хижины для негров, воздвигал прочный забор по задней линии участка, сжигал тростник и прошлогоднюю траву, вырубал мелкую поросль, подрезал кору больших деревьев, чтобы затем вырубить их и очистить место для пашни. Одновременно он совершал судебные объезды, сотни миль по неосвоенным землям, проводил слушания в Джонсборо, Галлатине и Кларксвилле как прокурор территории, а затем как гражданский адвокат, ведущий дела клиентов своего района. Любовь семьи Донельсон к Эндрю скрепляла ее, сводила вместе при первой возможности одиннадцать братьев и сестер. Роберт Хейс стал его партнером по земельным сделкам. Сэмюэл изучал под его началом книги по юриспруденции и надеялся на партнерство в адвокатской практике. Стокли продавал товары, получаемые Эндрю в оплату за адвокатские услуги. Члены семьи развлекались вместе в снежные зимние вечера около пылающего камина, созывая шутейный суд. Рейчэл, Джонни, Уильям, Северн и миссис Донельсон были зрителями, а судьи Джэксон и Хейс назначали новичка Сэмюэля лордом — Главным Шутником и Петушком Северной Америки. Однажды Рейчэл услышала поговорку: «Чтобы понятьчеловечество, нужно изучить мужчину». Разве в таком случае справедливо, что муж есть поле изучения для жены? В Нашвилле находились люди, утверждавшие, будто Эндрю Джэксон — человек, склонный к ссорам, что у него импульсивный характер. Но могло ли быть такое, если он так нежен с ней? Иногда он приходил домой злой или сердитый и рассказывал ей о том, что сотворил какой-нибудь негодяй. Он повышал голос, кровь приливала к белому шраму на лбу, он ходил взад-вперед по комнате, словно это было здание суда и он осуждал правонарушителя. Но стоило ей сказать пару утешающих слов, положить свой смиряющий палец на рукав его сюртука, и он словно остепенялся, тряс головой, говоря: — За свою жизнь я встречу тысячи таких. Как глупо принимать все это всерьез. Спасибо, что ты позволила мне разрядиться. Она догадывалась, что ее муж страдает излишней чувствительностью. Постепенно она поняла почему. Он мужал так быстро, что не всегда был в состоянии контролировать свою неуклюжую фигуру, и соседские дети называли его увальнем. В десять лет он пытался отогнать пятнадцатилетних и шестнадцатилетних парней, но у него не было нужной физической выдержки, чтобы сравняться с ними. Его рот был слишком крупным на его лице, желание выразить свои мысли — более сильным, чем способность контролировать слюни, накапливавшиеся в уголках рта. Но если кто-то из друзей посмеивался над ним или упоминал слово «слюнтяй», он ввязывался в драку. Один из молодых людей, выросших с ним в Уоксхаузе, сказал Рейчэл: — Я мог бы свалить Эндрю в трех случаях из четырех на землю, но он всегда поднимется на ноги. Однажды его однокашники тайком забили порохом чуть ли не весь ствол и дали Эндрю выстрелить, чтобы посмотреть, как отдача опрокинет его. Отдача была сильной и отбросила молодого Эндрю на несколько футов. Но удовольствие шутников было более чем кратким, ибо он вскочил на ноги и закричал: — Клянусь Богом, если кто-то засмеется, я убью его! Никто в этом не сомневался. Мать Эндрю хотела сделать его проповедником, поскольку он был самым начитанным из трех ее сыновей, научился читать в возрасте пяти лет. К тому же доктор Ричардсон из Уоксхаузской церкви, к которому питала особые чувства мать Эндрю, оказался в состоянии приобрести процветающую плантацию, двухэтажный особняк и самую хорошую библиотеку в приграничном районе. Эндрю был принят на роль чтеца в Уоксхауз, где большая часть мужчин и женщин не могла ни читать, ни писать. Когда из Чарлстона или Филадельфии прибывала недельная пачка газет, — а это случалось раз в месяц, — община собиралась в доме его дяди — сквайра Роберта Крауфорда послушать последние новости. Эндрю читал размеренно примерно сорока слушателям своим резким, пронзительным голосом; он никогда не прерывался и не переходил на хрип, упрямо продвигаясь по выделенным ему для чтения статьям, не останавливаясь, чтобы исправить произношение слов. Да, было что-то пленительное в озаряемом теплым, ярким светом любви стремлении изучать и постепенно познавать человека. Однако, когда она думала о его эмоциональном, взрывном характере и об их полном неприятностей прошлом, она дрожала за него… и за себя. 1 мая они переехали в Поплар-Гроув. Принадлежавшие им девять негров жили в хорошо обмазанных хижинах, скот размещался в добротном хлеву, а поля были засеяны табаком и кукурузой. Рейчэл привезла из дома секретер орехового дерева, завещанный ей отцом, мать выделила ей щедрую долю домашнего серебра, которое было доставлено еще на «Адвенчере», и обещала отдать ей большие часы. Ее сестры и невестки пряли и шили большую часть зимы и подарили ей лоскутные одеяла, набитые пухом, подушки, матрасы, коврики, скатерти и салфетки, покрывала, полосатые и однотонные хлопчатобумажные ткани, постельный тик, мягкую и гибкую замшу и рулоны отбеленного и неотбеленного миткаля. Эндрю попросил Ларднера Кларка заказать в Филадельфии самую большую кровать с балдахином, какую только можно найти. Кровать заняла всю бывшую молельню Мэри Донельсон. Рейчэл и Эндрю, держась за руки, стояли в центре хижины, которую Молл и Джордж отмыли со щелоком. — Это наш первый дом, — сказала выразительно Рейчэл, — я люблю его. — Часть обмазки отскочила, — заметил Эндрю. — Утром я ее поправлю. И затем, внутри мало света; видимо, Мэри уговорила Джона оставить маленькими окна. Они вышли из дома и прошли до границы своего участка, «начинающегося у сахарного дерева, красного дуба и вяза на берегу реки, отсюда тропа поворачивает на север под углом шестьдесят градусов…». Они прислушивались к пению кардиналов, скворцов, щебетанию воробьиных стай, крикам красноголовых дятлов, перепелов. На скале над рекой они насчитали множество цветов и растений: нарциссы, боярышник столь же золотой, как форзиции, магнолии, сирень, плакучие ивы, дикий лавр, фиалки. Эндрю описал ей расположение полей: здесь будет посеян хлопок, там — кукуруза, здесь — табак, а там — индиго. Тот участок мы отведем под сад, там оставим земли для выпаса скота, а здесь поставим загон для лошадей и жеребят. — Мы как можно скорее сделаем участок доходным, — сказал он. — Затем, когда будем готовы, продадим его за хорошую цену. — О, дорогой, не стоит переезжать так быстро. Мы даже не провели здесь своей первой ночи. — Но это наш не последний дом, Рейчэл, — запротестовал он. — Это лишь ступень нашего движения вверх. — Куда еще наверх от счастья? — спросила она. — Пока мы любим друг друга, не важно, где мы находимся. Он поцеловал ее страстные губы. — Ты сентиментальна, и я люблю тебя за это, но нет причины, почему мы не можем любить друг друга столь же сильно в большом доме и на большой плантации, как здесь, в этой довольно грубо построенной Джонни хижине. Видишь ли, моя дорогая, я честолюбив: хочу иметь много земли, мили и мили земли, огромные стада рогатого скота и лошадей, вырастить зерно на продажу. Я хочу, чтобы мы жили в достатке. — Я хочу одного — быть уверенной в нашей любви. Сказала ли она это слишком тихо? Или же он не расслышал? Возможно, не услышал, ибо его глаза ничего не выражали, а губы были сжаты. — Я хочу, чтобы мы были богаты, очень богаты. Я никогда не хотел видеть отвратительное лицо бедности. Она нежно взяла его ладонь в свою, подумав: «Я была не права, когда вообразила, будто невидимые шрамы исчезают, иногда они остаются на всю жизнь». — Мы никогда не станем бедными, мой дорогой, — уверила она его. — Да и как это может быть с нашей энергией и талантами? Но я не побоюсь спать на соломенном тюфяке перед камином и есть мясо прямо с вертела. Я не цепляюсь за вещи, они приходят и так же быстро уходят. — Это верно, — сказал он с явным нетерпением, — но я обещаю тебе, что у тебя будет все самое лучшее… что бы ни произошло, потому что ты вышла замуж за Эндрю Джэксона — горячую голову./3/
Рейчэл запоминала времена года не столько благодаря изменению погоды или листвы, сколько благодаря тому факту, что в январе, апреле, июле и октябре Эндрю присутствовал на сессиях суда в Нашвилле. Когда он уезжал на сессии в Джонсборо, Галлатин и Кларксвилл, один из ее братьев-холостяков приезжал в поместье. Ее часто посещали сестры с детьми. Джейн, чье поместье в Хэйсборо почти примыкало к Поплар-Гроув, бывала здесь один полный день в неделю. Джейн, наблюдая, как ее младшая сестра ведет домашнее хозяйство на обеспеченной всем плантации, спросила: — Ты теперь счастлива, Рейчэл? — Да, полностью… вернее, буду, когда появятся дети. — Нет никакой надежды? — …Никакой. Есть ли на этот случай специальная молитва? — Нет, насколько я знаю. К некоторым женщинам беременность приходит слишком быстро, а к другим — слишком медленно, но мы, Донельсоны, все получили свою долю. — Я помню об этом. Время быстро летело. Минул полный год со времени ее брака с Эндрю. Они сидели на террасе, смотрели на луну, которая своим движением закрыла звезды. После переезда в Поплар-Гроув Эндрю пристрастился курить трубку. Он медленно выкурил набитую трубку, выколотил о каблук серый пепел и повернулся к ней с усмешкой в глазах: — Хорошо, моя дорогая. Я принес тебе первый подарок к юбилею. Твой муж стал прокурором. — Ты имеешь в виду кем-то вроде Макнейри? — Не совсем. Я просто теперь юрист милиции[4] нашего округа. В прошлом году я послал губернатору Блаунту план организации нашей милицейской системы. План ему понравился, и он переслал его военному министру. Догадываюсь, что именно поэтому они дали мне такое назначение. Во всяком случае теперь я капитан. — Могу ли я поцеловать вас, капитан Джэксон? — Принимаю поцелуй, спасибо, мэм, но забудьте про титул. Никто не станет называть меня капитаном только потому, что я составил тексты, несколько полномочий или контрактов. Я стану пользоваться титулом капитана, когда заработаю его, сражаясь с индейцами и англичанами. Поскольку половину времени Эндрю отсутствовал, ей пришлось взять на себя управление плантацией. В июне нужно было пропахать кукурузу, убрать лен, связать его в снопы и поставить на сушку, посеять коноплю. В июле надлежало убрать пшеницу, скосить тимофеевку, высадить турнепс. Август был лучшим месяцем для консервирования фруктов и овощей, а также для расчистки новых участков земли. В начале осени следовало отремонтировать все постройки и обмазать их глиной в преддверии надвигающейся зимы; скот должен быть забит и мясо подготовлено к хранению; из сала, запасенного в течение лета, надо изготовить свечи. Ее мать набила руку в этих делах и старательно обучила каждую из четырех дочерей. Перед рассветом подгребались угли в кухонном очаге и разжигался сильный огонь, нагревавший большие чугунные котлы, висевшие на перекладине. Расплавленное сало дважды кипятилось и сливалось в горшки, наполовину погруженные в кипящую воду. На подставки клались две жерди, связанные между собой наподобие лестницы почти полуметровыми стержнями. Такое устройство применялось в семействе Донельсон с того времени, когда Рейчэл была еще ребенком. К каждому стержню подвешивалось восемь свечных фитилей из дважды скрученных нитей. Стержни через равные промежутки времени опускались вниз так, чтобы фитили окунались в расплавленное сало, затем салу давали застыть, и такая процедура продолжалась до тех пор, пока свечи обретут нужную толщину. Для Рейчэл это всегда было волнующей операцией. Она собирала всех, чтобы поддерживать огонь, наливать сало в горшки, раскладывать на полу кусочки древесной коры, дабы салом не испачкать тщательно вымытый пол. По окончании процедуры свечи складывались в ящики и плотно закрывались, чтобы они не оплыли и не потеряли цвета. Присутствие Молл доставляло ей удовольствие. Никто не знал, сколько ей лет, этого не знала и сама Молл. Ее чистая кожа шоколадного цвета была гладкой, красочно контрастировала с ее седыми волосами. Она была неутомима в работе, постоянно напевая церковные мелодии. Она знала десятки таких мелодий, но не помнила ни одной полной строки песен. Молл была неисчерпаемым источником информации, поскольку она, как и Рейчэл, прошла обучение у миссис Донельсон. Теперь Рейчэл пришлось впервые выполнять обязанности хозяйки плантации. От нее порой ускользали некоторые мелкие детали: рецепт изготовления красной краски; момент, когда щелок становится достаточно крепким для варки мыла; надлежащее сочетание древесины и температуры при копчении мяса; как изготавливать свечи из лаврового дерева, которые горят медленнее и ароматизируют воздух. С каждым днем она все больше любила Эндрю, ей не верилось, что могут появиться еще более глубокие чувства в радости любить и быть любимой. И все же каждый следующий день был несравненно более насыщенным, делая любовь еще более полной и возвышенной: ведь каждое новое утро обещало еще один день чудесных воспоминаний, питавших новые чувства. Эндрю и Джон Овертон вернулись из осенней поездки на выездные сессии судов в полдень в конце декабря, когда слой выпавшего снега поднялся до порога. Они веселились, разгружая навьюченных лошадей. — Мне, видимо, придется открыть лавку, — сказал Эндрю. — Посмотри, что мы привезли: мешки с солью, ботала для коров, топоры, головки сахара, упряжь, седла, кукурузную муку, шкуры медведя и бобров, пчелиный воск, копченую свинину и оленину, два ружья с рожками, полными пороха, свинец для пуль и рулон яркого ситца для Молл. Мне заплатили также одной коровой, двумя лошадьми, пятью свиньями и восьмью овцами. Я сохранил лошадей, а коров и овец обменял на земельные участки. Однако самым важным подарком оказалась брошь из жемчуга для нее, привезенная в знак возвращения домой. В этот вечер Рейчэл нарядилась к обеду, расчесала волосы и уложила их в высокую прическу. Она надела красное шерстяное платье с длинными рукавами, воротник платья красиво обрамлял ее загоревшую шею, а глубокий вырез обеспечил прекрасный фон для новой брошки и серебряной цепочки. Эндрю сказал ей, что она прекрасна. Во время обеда они держались за руки, спрятанные под столом. — Когда я вижу вас вдвоем, — сказал Джон, — мне немножко горько, что я все еще холостяк. — Но, Джон, почему ты должен оставаться холостяком? В Кумберленде много красивых девушек, ищущих мужа. Джон поднял руки к лицу, как бы защищаясь. Через минуту он сказал без всяких эмоций, словно говорил о каком-то правовом вопросе: — Какая женщина могла бы полюбить меня, Рейчэл, такого невзрачного? Она встала и положила свою руку на его плечо. — Джон Овертон, как вы можете быть столь добрым к другим и таким жестоким к себе? Однажды какая-нибудь женщина посмотрит в ваши мягкие, симпатичные глаза и решит, что вы прекрасны… Джон и Эндрю удивленно посмотрели друг на друга, а затем рассмеялись от всей души. — Ох, Рейчэл, даже моя мама не думала, что я прекрасен… — Ну, я также некрасив, — сказал продолжавший смеяться Эндрю, — у меня, как у лошади, длинное лицо. — О, Эндрю, прекрати. Наши лица такие, какими их создал Господь Бог. Женщина любит человека не за количество волос на его голове или за форму носа. Она любит мужчину за его внутренние качества: силу или, быть может… честность. Юридическая практика Эндрю Джэксона и Джона Овертона расширялась так быстро, что к апрельской сессии суда 1793 года в Нашвилле накопилось сто пятьдесят пять дел. Эндрю получил семьдесят два, а на долю Джона выпала значительная часть оставшихся. — Рейчэл, почему бы нам не соорудить гостевую хижину для Джона? Мы могли бы оборудовать ее как вторую контору с соответствующим набором справочников о законах, и я смог бы чаще оставаться дома. — Хорошо. Я построю ее весной, в твое отсутствие. Рейчэл и семейство Донельсон немедленно приступили к работе по сколачиванию рамы кровати, стола и стульев. Рейчэл внесла и свой вклад. Она соткала покрывало для кровати из окрашенной индиго туго пряденной шерсти со сложным рисунком, известным под именем фантазии холостяка. Она попросила брата Сэмюэля остаться в ее доме на два месяца, пока мужчины будут в отъезде. Сэмюэл тотчас же согласился: — Прекрасная возможность для меня. Все книги по юриспруденции будут в моем распоряжении. Через неделю после отъезда Эндрю начались набеги индейцев, такие интенсивные, каких не помнила Рейчэл. Сын полковника Бледсоу и его друг были убиты на противоположном берегу реки, у Нашвилла, а 17 февраля подвергся обстрелу другой сын Бледсоу, которого индейцы преследовали вплоть до его блокгауза. Пять дней спустя были сняты скальпы у двух сыновей полковника Саундерса. Через два дня брат Роберта капитан Сэмюэл Хейс был убит около входной двери нового дома Джона Донельсона. Генерал Робертсон приказал, чтобы каждый дом, каждое укрепление и каждая группа людей, работающих на расчистке земли, были день и ночь начеку. Перед Рейчэл встала дилемма: или переехать в дом матери и оставить своих работников на милость индейцев, или забрать негров с собой, но тогда индейцы сожгут всю плантацию дотла. — Я не хочу, чтобы мой муж приехал домой на пепелище, — заявила Рейчэл. — Конечно, — сказал Сэмюэл, — но ты не можешь допустить и того, чтобы он приехал к оскальпированной жене. Может быть, мать даст нам Александра и Левена в качестве ночных стражей. Эндрю и Джон вернулись домой 9 апреля, в тот день был убит работавший в поле полковник Исаак Бледсоу. Увидев Рейчэл живой и здоровой, Эндрю дал волю своим чувствам в яростных обвинениях всех индейцев. Когда наконец он замолк, Джон сказал сухо, юридическим тоном: — Разумеется, ты признаешь, что и у индейцев есть претензии к нам? — Конечно, претензии на бочонок виски от англичан и на ящик ружей от испанцев. Джон возразил: — Каламбуром не отделаешься, — и добавил: — Как бы плохо ни вели себя племена крик и чироки, они не могут поставить нам свечку. История нашей страны рассказывает о том, как белый человек углублялся в земли индейцев, как истреблял их дичь, как рубил леса и распахивал поля. Мы подкупали индейцев, растлевали их и нарушали практически все соглашения. Рейчэл почувствовала, что у Эндрю ком подступил к горлу. Он вскочил со стула и закричал: — Боже мой, Джон, не позволю, чтобы ты защищал индейцев в моем доме! Более того, мне известно, что федеральное правительство выразило пожелание, чтобы в этом году каждый американец отпраздновал 4 июля. Чему же будет посвящен этот праздник? — Независимости, — ответил Джон, — тому, за что ты получил шрам, помнишь? — Какая независимость? — воинственно кричал Эндрю. — Разве мы участвуем в голосовании? Разве мы представлены в конгрессе? Разве правительство построило для нас дороги, наладило почтовую службу или обеспечило войсками, чтобы охранять границу? В этом был весь характер Эндрю, о чем она уже слышала. Она подошла к Эндрю, положила свою руку на его. Он на мгновение посмотрел на нее, а затем тяжело опустился на стул, потирая тыльной стороной руки свои глаза. — Я думаю, что это хорошая мысль, — сказала Рейчэл. — Мы можем устроить здесь большой прием. Я сама никогда не устраивала приемов. К тому же самое время отметить вторую годовщину нашей свадьбы. Мы можем дать обед на открытом воздухе 4 июля, а потом, если кто-то не хочет праздновать этот день по политическим мотивам, отметить наш юбилей.Более сотни взрослых и бессчетное количество детей явились на их прием по случаю 4 июля. Утро выдалось прохладное, и они отправились в лес собирать ягоды, а когда солнце раскалило воздух, молодежь принялась плескаться в реке. На гладкой площадке под тенью дуба мужчины оживленно спорили, подливая холодную родниковую воду в виски. Другая группа мужчин отправилась в загон, где устроили скачки на солидное денежное пари. На северной, тенистой стороне дома три скрипача во главе с Джеймсом Гамблом без устали играли для танцующих. Рейчэл переходила от группы к группе, чтобы убедиться, что каждый доволен едой, напитками, компанией и развлечениями. Время от времени она шла посмотреть на Эндрю, чтобы обменяться улыбкой и парой слов о том, как чувствуют себя гости. Джон Рейнс уселся под тенью навеса над дверью и собрал вокруг себя слушателей. В прошлом году он вырастил хороший урожай табака, построил плоскодонку и отвез свой груз в Новый Орлеан, где цены на табак были высокими. Однако испанцы конфисковали не только его табак, но и бревна, из которых он соорудил лодку, и ему пришлось добираться с пустыми руками пешком по Тропе Натчез. — Иногда мне приходит на ум: зачем мы остаемся здесь вообще, друзья? Конечно, эти деятели из Новой Англии в напудренных париках не хотят, чтобы мы стали частью Соединенных Штатов. Наше правительство отдало Миссисипи под контроль испанцев. Оглядевшись вокруг, Рейчэл отметила про себя, что почти каждый из присутствующих мужчин сражался против англичан. Эндрю обратился к ним со словами: — Наш конгресс утверждает, что мы слишком молоды и слишком слабы, чтобы ссориться с испанцами, и что устье Миссисипи не так важно, поэтому он отдал Испании контроль над навигацией по Миссисипи на двадцать лет. Англичане все еще оккупируют форты на северо-западе — Детройт и Мауми, которые они обещали десять лет назад освободить. Но выдворило ли их наше правительство? Нет, мы ведь слишком молоды и слишком слабы. Мы видим, как англичане подстрекают индейцев против поселенцев и направляют их на тропу войны против нас. Мы намерены вести войну за независимость вновь и вновь, но в следующий раз, Боже мой, мы не отступим. Джон Овертон вздохнул, затем сказал: — Ну, Эндрю, ребенок должен поползать, прежде чем встать на ноги. Если бы Испания начала войну с нами из-за Луизианы, то наше правительство пало бы. Потребуются годы, чтобы мы стали достаточно сильными и прогнали англичан из северных фортов. Мы не можем рисковать ссорой с каждой нацией, готовой подраться с нами. — Неудивительно, что все презирают нас, — проворчал Эндрю. Когда жгучее июльское солнце зашло за западную линию горизонта, гости начали собираться домой. — Удалась ли моя вечеринка? — спросила Рейчэл, когда они остались вдвоем. — Люди так раздражаются, когда их вовлекают в политику. Эндрю был удивлен: — Почему, дорогая, все чудесно провели время! Политические споры по сути дела одно из блюд. Рейчэл вопросительно посмотрела на мужа. Может быть, так и есть, но ей нравилось другое: нравилось, когда ее называли миссис Джэксон, мэм; нравилось, когда называли по имени, для нее оно имело солидность, выражало отношение гостей к браку с Джэксоном, к джэксоновской любви, к джэксоновскому дому.
/4/
Был скучный серый день, тучи висели низко, словно бревенчатый потолок над головой, как вдруг она услышала тяжелый стук копыт. Возможно ли это, но по рыси лошади она узнала, что не все благополучно со всадником. Одна тревожная мысль сменяла другую: он заболел, ранен, неудача в суде… Последние два месяца с момента его отъезда были тяжелыми: девять детишек Катерины, съевшие несвежее мясо, серьезно захворали, и Рейчэл провела с ними две недели, пока не поставила их на ноги. Ее сестра Мэри слегла с невралгией, и Рейчэл пришлось взять в свои руки управление ее выводком из двенадцати человек. Всего два дня назад поместье Джейн подверглось нападению индейцев, и два охранника были убиты. И теперь Эндрю… Она медленно встала со стула, открыла дверь и вышла во двор. Один внимательный взгляд на лицо мужа, и она инстинктивно почувствовала что-то неладное, касающееся их — Рейчэл и Эндрю Джэксон. Он спрыгнул с лошади не улыбаясь, не сказал ей ни слова и не поцеловал, лишь прикоснулся своей щекой к ее щеке, спрятав глаза. Его щетина поцарапала ей кожу; когда она повернула лицо так, чтобы прикоснуться своими губами к его губам, она почувствовала твердость его губ, не желавших поцелуя. Они прошли в дом. Большая комната выглядела уютно, в камине потрескивали дрова, настенные лампы горели в честь его приезда. Он плюхнулся в кресло около камина, а она пошла мимо большой дымовой трубы в кухню и быстро вернулась с чашкой горячего кофе. Когда он выпил почти все содержимое чашки и его щеки покраснели, она села у его ног. — Что за неприятности, мой дорогой? Он уставился на нее на минуту совершенно безучастно, словно случившееся с ним было кошмаром на дороге и никак не связано с их домом, где ярко пылал камин и лампы освещали комнату. Он пытался найти слова, обрести дыхание, набрать силы. — …Это… что ты можешь ожидать, — Робардс. — Льюис? Но каким образом? — Он… сделал что-то. — Но что он мог сделать? Мы в безопасности, мы женаты… Она внезапно умолкла, ее тело стало деревянным. Возможно ли это?.. Эндрю покачал головой? Или же как-то странно моргнул, или проглотил комок в горле? — Эндрю, ты что пытаешься сказать, что мы не?.. — Нет, нет! Он встал с кресла и опустился на колени перед ней, его длинные руки страстно обхватили ее, неподвижно сидевшую на жестком коврике. — Мы женаты. Мы всегда были женаты. Мы всегда будем. Хриплым голосом она сказала: — Льюис пытается чинить неприятности? Он оспаривает нашу свадьбу в Натчезе?.. — Нет. — …Все говорят, что она была законной, единственный способ для нас сочетаться браком имелся только там. — Не то. Как хотелось бы, чтобы было так. Он поднялся, неуклюже, как слепой, прошелся по комнате, затем вернулся к ней. Слова хлынули потоком: — Он только сейчас начинает судебное дело о разводе! Сообщение, что он получил развод от законодательного собрания Виргинии, было неправильным. Собрание отказало ему в обращении. Когда я ехал по Тропе, чтобы привезти тебе эту новость в июле 1791 года, и мы поженились… Она откинулась назад, глядя на него полными страха глазами: — Я все еще замужем за Льюисом Робардсом? У нее закружилась голова. Эндрю поймал ее, его пальцы впились в ее плечо. — Я убью каждого, кто осмелится задать вопрос… Она не разбирала его слов, до нее доходил лишь тон его голоса. Она подумала: «Наконец-то Льюис Робардс добился своего. Он сделал меня прелюбодейкой». Когда она вошла в столовую Донельсонов и увидела все семейство на своих ритуальных местах за длинным столом, в ее сознании запечатлелось выражение каждого лица: еще один кризис в семействе Донельсон. Во главе стола сидела мать, выражение ее лица как бы говорило: мне это причинило боль, но я все еще думаю, что Эндрю Джэксон стоит любой цены. Место отца занимал Джонни, его взгляд говорил о том, что в данный момент он скорее обеспокоен ущербом, нанесенным имени Донельсонов, чем тем, что может произойти с браком Джэксона. Напротив сидел Александр, не питавший интереса к женщинам, к любви или браку, выражение его лица вопрошало: чего вы можете ожидать, если у вас хватило глупости жениться? На втором месте восседал осторожный Уильям, огорченный свалившимися на его сестру неприятностями, но помнивший о том, что он советовал ей оставаться с Льюисом Робардсом. Рядом с Уильямом был Сэмюэл, его обычно гладкое лицо было покрыто пятнами, а мягкие карие глаза сверкали гневом. Он был точным ее портретом, если бы она взглянула на себя в зеркало. Обычно ее место было рядом с местом Сэмюэля. Она села в кресло. Рядом с ней расположился Эндрю. Посмотрев через стол, она заметила, что рядом с Александром сидит Джейн, которая даже сейчас вспоминает с отвращением сцену, устроенную Льюисом в доме Хейсов. Рядом с Джейн был Стокли, бывший юрист, усердно старающийся разобраться в юридических последствиях дела, причиняющего страдания сестре. Осматривая свою сторону стола, она увидела, как полковник Роберт Хейс протянул руку и пожал в знак поддержки руку Эндрю. Это был самый блестящий человек за столом, по-настоящему хороший и внимательный, боец, второе лицо в командовании милицией под началом генерала Робертсона и в то же время человек такого высокого достоинства, что не стал бы оправдывать кого-либо, нарушившего его нормы. Рядом с Робертом Хейсом находился ее брат Северн со впавшими щеками, который редко являлся на семейные совещания, а напротив него — Левен, не обладавший ни опытом, ни осознанием ответственности. Его озадаченный взгляд как бы спрашивал: из-за чего вы все так расстроены? В конце стола на ее стороне сидели два зятя: муж Мэри Джон Кэффрей и муж Катерины Томас Хатчингс. Они сочувственно кивали ей, но выражение их лиц давало понять: это дело Донельсонов, мы рады сделать что-то, как-то помочь, но пока помолчим. В конце стола, напротив матери и Джонни, находились две ее сестры — Мэри и Катерина. Мэри, еще больше располневшая и довольная приездом дюжины ее детей, и Катерина, ставшая еще более жилистой, сидели молча на совете Донельсонов. Рейчэл чувствовала, что кого-то не хватает, хотя все ее братья и сестры, а также их жены и мужья были на месте. Затем открылась дверь и вошел Джон Овертон, с полей его шляпы стекала вода. Он снял промокшие сапоги и сел рядом с Левеном. Теперь все были в сборе, можно было начать совет.Первым заговорил Стокли: — Во имя всего святого, Эндрю, что случилось? Мы не можем себе представить. Эндрю кивнул в сторону Джона Овертона: — Думаю, пусть расскажет Джон. Он первый узнал об этом. Глаза всех собравшихся за длинным столом устремились на Овертона. Когда он начал говорить, то казалось, будто он кладет слово за словом в чашу посреди стола, а остальные могут выбирать их по своему вкусу. — Когда я и Эндрю поехали в Джонсборо, я узнал, что вопрос о разводе должен был слушаться в суде четвертой сессии Харродсбурга. Все спокойно сидели. Затем Стокли спросил: — Каково положение дел с разводом, дарованным законодательным собранием Виргинии? Джон Овертон посмотрел на Эндрю. Тот кивнул Джону, сделав знак, чтобы он продолжал. — Мы были неправильно информированы. Законодательное собрание отклонило петицию Робардса о разводе. То, что они приняли, называется разрешением, позволявшим Робардсу обратиться по своему делу к судье и жюри. — Но он не сделал этого в то время? — сурово спросила миссис Донельсон. — Нет, он ждал до апреля этого года. Суд не стал слушать его дело и отложил до нынешнего сентября. Роберт Хейс наклонился над столом, сложив руки и выдвинув их вперед. Его дисциплинированный ум требовал выяснения сути дела. — Как мы могли поверить, что развод состоялся весной 1791 года? Кто распространил это сообщение? — Я слышал такое сообщение из трех-четырех источников, — сказал Джонни, — от людей, приехавших из Харродсбурга и Ричмонда. — Мы приняли слухи за правду, — горько ответил Эндрю. — В сообщении было больше сути, чем в слухах, Эндрю, — сказал Овертон. — Когда ты был в Натчезе, я несколько дней находился в семье Робардс. В этой семье считали, что Льюис и Рейчэл развелись. Миссис Робардс сказала мне, что счастлива по поводу освобождения Рейчэл. Это были первые слова, которые Рейчэл полностью расслышала. Она взглянула на Джона, моргнув ресницами, словно ожидая дополнительных разъяснений. — Миссис Робардс сказала, что мы разведены? — Да, это сказала и ее дочь, жена Джека Джуитта. — Они не стали бы… искажать, — глухо сказала Рейчэл. — Они всегда хорошо ко мне относились. — Робардс обманул и их! — воскликнул Сэмюэл. — Ну, Сэм, это слишком грубо, — сказал Роберт Хейс. Он опустил руку в карман пиджака, достал письмо и положил его на стол. — Через месяц или два после так называемого развода я получил это письмо от Робардса, в котором он просил меня продать его землю и послать ему половину наследства Рейчэл, полученного от ее отца. Роберт пододвинул письмо на середину стола и указал на фразу:
«Полагаюсь на вас и мистера Овертона, что в мое отсутствие не будут ущемлены мои интересы. При первой возможности напишите, разделено ли имущество, чтобы я мог воспользоваться своими правами. Если есть возможность продать мою землю, будьте добры, известите меня».Разум Рейчэл не воспринимал слова, которые били по нему, как капли дождя по ставням. Она вновь вспоминала свою свадьбу под массивной люстрой в Спрингфилде, счастливые недели медового месяца в Байю-Пьер. Если бы они остались на испанской территории, то их не коснулись бы нынешние неприятности? Но это означало бы предательство по отношению к тому счастью, которым она и Эндрю наслаждались прошедшие два года. В ее голове вопил агонизирующий голос: «Почему? Почему такое случилось со мной? Какой грех я совершила, чтобы такое тавро навсегда оказалось выжженным на моей плоти? Я была девушкой, когда встретила Льюиса Робардса. Я никогда не причиняла ему вреда умышленно. Если бы я поступила плохо, то тогда я могла бы понять и свои страдания и принять наказание. Но за что, Боже мой, в чем я виновата? За что меня наказывают?» Она слышала спокойный голос Джона Овертона, слышала с пугающей отчетливостью каждый даже слабый звук в комнате, дыхание и шепот семнадцати человек за столом. — Роберт прав в отношении письма, — прокомментировал Овертон, — поскольку Льюис просил свою часть земли, которой он владел здесь, и свою половину наследства Рейчэл от отца, все это говорит о том, что он считал себя уже разведенным. — Но как все это могло случиться? Рейчэл не следила за сидящими вокруг стола и не увидела, кто с неприкрытой болью выкрикнул эти слова. А увидев, что все повернулись в ее сторону и с жалостью смотрят на нее, она поняла, что это был ее собственный голос, ее собственная боль. Она почувствовала, что Эндрю взял ее руку в свою. Все ждали, что он заговорит, но он не мог. Трудное объяснение взял на себя Овертон: — Возможно, потому, что вопрос о разводе… такой новый. Петиция Льюиса о разводе — всего вторая, поступившая в законодательное собрание Виргинии. Когда собрание приняло разрешающий акт, я думаю, что никто, кроме нескольких юристов, не знал, что это означает на самом деле; все остальные, по-видимому, предположили, что этот законопроект дарует развод, а не право пойти в суд и доказать обвинение. — И теперь дело будет слушаться в Харродсбурге? — мучительно выпалила Рейчэл. Наступило молчание, но его нарушил Эндрю, заговорив хриплым от самоосуждения голосом: — …Виноват я. И не кто иной. Я юрист. Или же думают, что юрист. Какое право я имел принять на веру сообщение о разводе, сколько бы людей ни повторяли его? Мой первый долг перед Рейчэл, перед вами всеми состоял в том, чтобы достать экземпляр виргинского акта. Я не должен был ехать в Натчез без него. — Ну, Эндрю, никто не требует от тебя самобичевания, — сказал Стокли. — Я тоже был юристом, и мне в голову не пришло, что что-то неправильно. Поездка в Ричмонд потребовала бы нескольких месяцев… — …И мы первые сказали тебе, что развод дарован, — вмешалась миссис Донельсон, — мы услышали об этом, когда ты был в пути по Тропе после того, как вместе с полковником Старком доставил Рейчэл в Натчез. — Минутку, — сказал, как обычно лениво, Александр. — Я вспоминаю. В ту весну 1791 года я находился некоторое время в доме генерала Смита. Однажды он показал мне ричмондскую газету и сказал, что прочел в ней извещение о разводе четы Робардс. Но по тому, как Эндрю сжал челюсти, Рейчэл поняла, что никто не убедит его отказаться от самообвинения. — Я вернулся сюда в апреле и не уезжал до второй половины июля. Я мог бы направить посыльного в Ричмонд и достать копию. Я мог бы поехать сам в промежутке между сессиями, если бы позаботился взять достаточно лошадей для подмены и поторопился… Я виноват, это самая что ни на есть глупость и беспечность. Если бы я обслуживал своих клиентов так же плохо, как свою жену, то они не позволили бы мне заниматься правом. Джейн Хейс внимательно слушала. — Не думаю, что эти заупокойные молитвы и копание в душе помогут нам. — Ее тягучий голос остудил эмоции собравшихся. — Ты сказал, Джон, что Робардс просил провести слушание дела о разводе в апреле этого года. Как случилось, что никто из нас не слышал об этом, когда так часто ездят между нашим пунктом и Харродсбургом? И почему Робардс вновь поднимает вопрос? Ответил Овертон: — В начале этого года Льюис Робардс встретил женщину по имени Ханна Уинн. Решив жениться на ней, он пошел в суд за разводом. — Тогда он все время знал, что он не разведен! — вновь взорвался Сэмюэл. — Два года он позволял Рейчэл жить… впутывать себя… — Не знаю, Сэм. Будем считать, что Робардс заблуждался. Допустим, что когда он пошел за разрешением на новый брак, то обнаружил, что не может получить его… потому что не разведен. Или же предположим, что его будущий тесть настаивал на тщательном подборе документов. По положениям акта законодательного собрания Виргинии Робардс был обязан в течение восьми недель помещать извещения в кентуккской газете, с тем чтобы ответчик, в данном случае Рейчэл, мог узнать о предстоящем суде и подготовить свою защиту. — Мы получили все газеты из Кентукки, — сказал Уильям. — Но такого извещения не нашли. Никто в Кумберленде не говорил нам, что видел такое извещение. — Да, — согласился Овертон, — извещение не публиковалось в газетах. Я проверял это в Харродсбурге. — На каком основании он будет требовать развода? — упорствовала Джейн. — На основании шантажа! — Это был Эндрю, хотевший уйти от прямого ответа, его лицо пылало. — В своем обращении к законодательному собранию он утверждал, что Рейчэл сбежала со мной из его дома в июле 1790 года и что после этого мы жили вместе. Он лгал и делал это сознательно, ведь он преследовал нас до вашего дома и просил Рейчэл вернуться к нему. — Это была моя вина! — воскликнул Сэмюэл. — Я раз ездил за Рейчэл, нужно было поехать и во второй раз. — Да, — мрачно согласился Северн. — Многие из нас могли бы поехать. Но, видимо, были причины оставаться дома. — Если и нужно кого-либо винить из здешних, то я готова принять вину на себя, — объявила миссис Донельсон. — Эндрю для меня, как один из сыновей. Мы не знали, что Льюис ополчился на него. Не было разумных оснований, чтобы Эндрю не ездил туда. — Мы можем защитить… — закричал Стокли, но Джон сделал знак рукой, чтобы прервать его. — Нет необходимости. Робардс не строит больше свои планы на обвинениях, связанных с поездкой в Харродсбург. Обращение о разводе гласит, что Робардс представит свидетельство того, что Рейчэл и Эндрю жили как супруги годом позднее, во время поездки по Тропе Натчез в сентябре 1791 года. — Но это было уже после нашей свадьбы! — выкрикнула с ужасом Рейчэл. — Он не может сделать этого! — воскликнул Стокли. — Ты прав, Стокли. Его первоначальное обращение в законодательное собрание Виргинии строилось на том, что Рейчэл сбежала с Эндрю из его дома в июле 1790 года, и на этом основании собрание разрешило начать дело о разводе. Он должен доказать свое обвинение. Он также не опубликовал в кентуккской газете необходимое извещение обвиняемому. Мы можем пойти в суд в Харродсбурге и доказать, что развод строится на шантаже. Но чем эффективнее мы защитим себя в Харродсбурге… тем более основательно перечеркнем брак Рейчэл и Эндрю. За столом раздался общий вздох изумления. — Нам придется стоять в стороне от этого дела, — отрезала Джейн. Рейчэл закрыла лицо руками, ее тело конвульсивно содрогалось. Но чем, кроме слез, может отреагировать человек, попавший в ловушку, подобную той, в какую попала она? Если она не защитит себя в Харродсбурге, не явится в суд и не докажет свою невиновность, то разве это не станет вечным и неоспоримым свидетельством признания ее вины? Эндрю вскочил со скамьи и вышел под дождь. Рейчэл подняла голову, посмотрела вслед ему и сказала: — Нет брака. Он был незаконным. Он незаконен сейчас, он не станет законным даже после развода с Льюисом. Джонни спросил Овертона: — Протоколы в Харродсбурге хранятся постоянно? — Постоянно. — Остаются навсегда или же выбрасываются, скажем, по истечении судебного года? — Протоколы никогда не выбрасываются. — Всегда можно сжечь дотла здание суда, — сухо заметил Александр. — Но это абсолютно несправедливо! — выкрикнул Сэмюэл. Он повернулся к сестре, его глаза сверкали. — Рейчэл, мы должны пойти в суд и защитить тебя. Мы можем доказать, что Робардс занимается шантажом и обманом. Присяжные оправдают тебя. Мы отомстим. Наступила тяжелая тишина, отягощенная отчаянием. Из кухни пришла Мэри с кувшинами кофе и молока, за ней — две служанки с едой. Мэри не принимала обычно участия в дискуссии, но всегда держала наготове съестное, утверждая: — Даже самое плохое выглядит куда лучше, если в желудке есть что-то теплое. Миссис Донельсон передала Рейчэл чашку кофе. Рейчэл пила медленно, жидкость обжигала горло. Джон Овертон повернулся к ней, в его глазах светилось искреннее сочувствие. — Мы не должны защищать тебя от обвинений в суде Харродсбурга, Рейчэл. Если Льюис не сможет получить развод, чтобы жениться на своей мисс Уинн… тогда ты не сможешь выйти замуж за Эндрю!
/5/
Мгла стала непроницаемой, а дождь еще более зачастил, когда они расходились по домам. Молл, ожидавшая в маленькой кухне, напоила их горячим пуншем против простуды, а затем удалилась в свою хижину. Овертон попрощался, пошел к двери, но потом заколебался. — Быть может, стоит отыскать более положительную сторону в нашем ребусе, — откровенно предложил он. — Предположим, Льюис Робардс не захотел бы жениться на Ханне Уинн. Тогда могло пройти пять или десять лет, прежде чем обнаружилось, что развода в действительности не было. Вот в таком случае могли бы возникнуть действительно серьезные последствия. — Ты имеешь в виду… если бы он стал добиваться развода… после рождения детей? — Да, Рейчэл. Он слегка повернул голову в сторону Эндрю: — Я думаю, Льюис захочет, чтобы разбор дела прошел тихо. Неоспариваемый развод займет всего несколько часов. Роберт Хейс и я подпишем ваше обязательство о браке для новой церемонии. Эта церемония также может быть короткой и спокойной. — Словно мы стыдимся, не так ли? — вмешался Эндрю. — Джон пытается помочь нам. — Мы женаты. — Эндрю сжал челюсти. — Мы женаты с августа 1791 года. — Никто из вас не рассказал мне о деталях вашей свадьбы в Натчезе, — сказал Овертон не без твердости. — Если бы законодательное собрание Виргинии даровало развод в 1791 году, то не пришлось бы оспаривать церемонию на испанской территории. Но сейчас мы в замазке… Рейчэл тупо уставилась на него. Она видела, что Эндрю яростно сжимает и разжимает кулаки. Он — боец: ударить, когда он считает себя правым, было для него столь же естественным, как дышать, но как может он втянуть ее в драку? Каким бы тихим ни был суд, вся округа будет снова судачить, перемывать историю, украшая ее новыми смачными подробностями. Овертон положил свою руку на плечо Эндрю: — Эндрю, у тебя нет выбора. Ты должен получить нашвиллскую лицензию на брак и жениться по американским законам. Рейчэл стояла перед ним с мольбой в глазах: — Джон прав. Мы должны вновь пройти брачную церемонию. Эндрю отошел от нее, приблизился к очагу и встал, раздраженно глядя на огонь, со сжатыми за спиной руками, он стучал ими себя по позвоночнику, чеканя: — Вы оба не правы. Глубоко не правы. Вы не понимаете, что это будет означать… мы публично признаем, что не были женаты эти два года. Мы признаем себя виновными в том, что будет предъявлено нам в суде в Харродсбурге, дадим возможность любому врагу или негодяю постоянно обливать нас грязью. — Он шагнул к двери. — Спокойной ночи, Джон. Когда Джон ушел, Эндрю смотрел некоторое время во мрак ночи, потом повернулся к Рейчэл. Злоба сошла с его лица, ее местозаняла ущемленная гордость. — В наших глазах мы женаты, мы женаты и в глазах семьи и друзей. Мнения других не в счет. Мы должны твердо стоять на своем: когда первая церемония законна и достаточна, бесполезно проходить вторую. И теперь по выражению его лица она поняла, почему он так настойчив: он берет на себя всю ответственность за то, что позволил, чтобы ее имя попало в публичный суд в Харродсбурге, где ее бывшие друзья и родственники услышат, как будут поносить ее, что она страдает сейчас и будет страдать в будущем, а ведь их обоих должны были бы осудить за прелюбодеяние. И, поняв это, она знала теперь, как успокоить мужа и добиться его согласия. Она стояла спиной к огню, чтобы согреться и набраться сил. Эндрю задержался у двери, стараясь не смотреть ей в глаза и не показать свои собственные ущемленные чувства и угрызения совести. Она терпеливо ждала, когда он подойдет к ней. Он обнял ее, и если раньше в этот день он почувствовал на своих губах соль ее слез, то теперь она почувствовала на своей щеке его слезы. В его осознававшем свое поражение теле она ощутила страх перед судилищем, отчаяние перед невозможностью оспорить обвинения, чудовищность того, что они будут вынуждены признать, и одновременно полное отсутствие шанса выбрать иной путь. — Нам достаточно сделать самую малость, чтобы остановить Робардса. Суды не любят давать разводы. Малейший намек с нашей стороны на нарушения, и дело будет сорвано… У нас все права и есть оружие, чтобы защитить себя, и все же мы вынуждены предоставить ему возможность выступать в роли пострадавшей стороны, поливать нас грязью, как ему захочется, а мы не сможем произнести ни слова в нашу защиту. Ты понимаешь, как тяжело мне принять все это? — Да, мой дорогой, так же тяжело, как было тяжело услышать новости, которые ты привез мне на Вилла-Гайозо. Ты успокоил меня тогда и утешил своей любовью, убедил меня, что наконец-то мы свободны любить и вступить в брак. Нам пришлось заплатить горькую цену за свободу, Эндрю, но ты прав: нет ничего дороже нашей совместной жизни. Итак, теперь моя очередь сказать тебе: не нужно плакать, метаться и защищаться. Не о несправедливости, а о двух годах чудесного счастья и о всех грядущих годах счастья должны мы думать. Она коснулась указательным пальцем его губ, когда он собирался возразить, затем, отведя палец, поцеловала Эндрю: — Сделай это для меня, дорогой. Даже если ты и прав, а я не права, даже если тебе это претит, сделай ради меня, потому что я так хочу, мне это поможет. Сделай потому, что ты меня любишь и потому… когда появятся наши дети… не должно возникать вопроса, никто не должен навредить им по той причине, что до их рождения мы не сделали нужного шага. — Да, Рейчэл, я сделаю это для тебя. Я сделаю все, что хочешь… непременно.Книга третья
/1/
Жалостливое блеяние перешло в стон. Они ускорили шаги, наклоняя тело вперед навстречу ветру, бросавшему на землю большие хлопья снега. — Как она выскочила из хлева? — Рейчэл повернулась лицом к Эндрю, чтобы ветер не относил в сторону ее слова. — Не знаю. Джордж и я закрыли все надежно, когда вчера начался снегопад. Над головой маячили голые ветки тополя. Под деревом на примятом снегу они нашли одну из своих овец, облизывавшую только что родившегося ягненка. Когда Рейчэл и Эндрю подошли к овце, она была совсем слабой и начала коченеть. Эндрю опустился на колени и осмотрел животных. — Малыш еще жив? — Она опустилась на землю около него, сдвинув назад шерстяной капюшон, чтобы лучше видеть. — Едва-едва. — Отнесем поскорее в дом. Эндрю снял длинное кожаное пальто, надетое поверх куртки из оленьей кожи, расстелил его на снегу и положил ягненка в тепло. Он посмотрел на овцу. — Мне жалко терять ее, она — упрямая ренегатка — вырвалась с пастбища для случки, а потом сбежала из хлева, чтобы объягниться. — Не такова ли участь всех ренегатов? Эндрю встал, держа ягненка в руках: — Только тех, кто не планирует свой бунт на подходящее время. Рейчэл побежала впереди, оставляя за собой на снегу след кожаных сапожек. Она крикнула Молл, чтобы та принесла теплого молока и расстелила шерстяное одеяло перед пылающим камином. Молл быстро пришла с кувшином молока. — Может быть, капнуть немного виски? — спросил Эндрю. Он стряхнул снег со своей охотничьей куртки, наследив на полу. — Да, в тебя. Будь добра, Молл, налей мистеру Джэксону горячего пунша. Они сидели молча: Эндрю — в своем большом кресле, подставив подошвы своих сапог к огню, отхлебывая свой напиток, она — у края очага, ее капюшон был откинут в сторону, а широкая юбка смялась под ней. Все ее внимание было сосредоточено на том, чтобы влить теплое молоко в рот ягненка. Она поймала пытливый взгляд Эндрю и мягко сказала: — Всякая жизнь ценна, даже этого случайного ягненка, который не существовал для нас всего несколько минут назад. Эндрю раскуривал свою трубку, а Рейчэл гладила курчавую белую шерсть ягненка. Когда трубка Эндрю наполовину выгорела, он спокойно сказал: — Рейчэл, я собираюсь открыть лавку. Она с удивлением посмотрела на него: — Лавку? Ты имеешь в виду такую же, как у Ларднера Кларка?.. — Да, только здесь, на нашем участке. Даже в скверную погоду в последние недели почти целая сотня семей проехала через Кумберленд в своих фургонах, и многие из них осели на пути. Они нуждаются в продуктах питания. Она даже не пыталась скрыть свое удивление: — Почему же так, Эндрю? Ты — прокурор территории, самый преуспевающий молодой адвокат… — Потому, что мне нужны наличные деньги! — Его голос звучал громче обычного, поскольку он редко прерывал кого-либо. — Как адвокат я все еще получаю оплату участками земли и скотом. А люди, покупающие в лавке товары, платят наличными, причем в три раза дороже, чем я могу их купить в Филадельфии. Ягненок зашевелился, Рейчэл осторожно подвинула его так, чтобы он мог положить свою голову между ее грудями. — Эндрю, когда мы узнаем, что он выживет? — Он будет жить, если к полуночи встанет на ноги. Итак, что я хочу сделать — это собрать документы на все наши земельные участки — Джон поедет с нами в Филадельфию, — продать их за наличные, а на вырученные средства закупить запасы для лавки. Затем, когда получим реальный доход от лавки, сможем купить еще большие участки земли… — …Чтобы продать в Филадельфии? — Да, земельные компании купят все приобретенное нами. — И так пойдет по кругу? — Как солнце. Посмотри на своего брата Стокли — он скупил сотни тысяч акров. Рейчэл, здесь будет крупнейший торговый центр Запада, место скопления товаров, поступающих из Филадельфии и из верховьев Миссисипи к Новому Орлеану. Человек, основавший здесь торговый пункт, станет самым богатым на границе. — Мне трудно представить тебя торговцем, Эндрю. Есть ли у тебя та особая проницательность, которая помогла Ларднеру Кларку стать удачливым торговцем? Она заметила, что у ягненка при рождении видны лишь нижние зубы, а его глаза — голубоватого цвета под почти закрытыми веками. — Рано или поздно ты будешь получать столько же денег за свою юридическую практику. Он нетерпеливо заерзал в кресле, поменяв положение ног, обутых в сапоги: — Дело не в том, что мне надоело заниматься правом, но мне кажется, что все судебные дела на один манер: спорные права на землю, споры относительно продажи товаров, кто начал ссору, а кто кончил ее. Я никогда не скрывал от тебя, что для меня право было лишь средством… Из кухни торопливо вышла Молл в сером хлопчатобумажном платье и черном фартуке; ей хотелось узнать, как чувствует себя ягненок. Эндрю подошел к окну, любуясь падающим снегом. Его рыжие волосы блестели, отражая свет камина. Было около четырех часов дня, а за окном уже сгустилась мгла. — Я все подсчитал. Джон и я имеем вместе около пятидесяти тысяч акров, на мое имя записано около тридцати тысяч. Их цена — десять центов за акр. В Филадельфии я смогу получить за акр примерно доллар. Поездка займет до двух месяцев. На полпути есть дешевая хижина, я могу купить ее за полцены. Две-три поездки в Филадельфию, и потом мы сможем открыть лавки в долине Кумберленда и торговые отделения в Натчезе и Новом Орлеане. Он шагал по главной комнате взад и вперед, из трубки вылетали россыпи искр, способных пробудить ягненка к жизни. — Но как же быть с делами, которые ты ведешь, и с работой прокурора? — Джон завершит дела во время объезда, Сэм в состоянии вести всю переписку в конторе. Что же касается прокурорства, то, ты знаешь, суд не платил мне пять лет, еще с тех пор, как мы стали территорией. Полагаю, что я могу стать должником на одну четверть сессии… «Странный человек, — подумала она, — у него жажда к приобретению земли, и вместе с тем он может работать пять долгих лет, не получая за это ни цента и храня при этом молчание». — Это дело нескольких лет, Рейчэл, после этого мы можем стать владельцами большой плантации, о которой я всегда мечтал. Я хочу иметь для тебя самое лучшее в Кумберленде… самое лучшее во всем мире. Тогда мы окажемся на самой вершине. Никто не сможет взобраться выше и напасть на нас. Она наклонила голову, и ее подбородок коснулся мягкой шерсти на голове ягненка. В течение года с того момента, как они повторно сочетались браком, Рейчэл понимала, что он загорелся решимостью обладать… богатством, властью. «Чем выше он взбирается, — думала она, — тем прочнее ему кажется его положение». Для нее же самой требовалось уединение, ибо ей было важно жить, не попадая в фокус чужих глаз, не становясь объектом подслушивания и притчей во языцех. Она хотела не то чтобы замкнуться, а чтобы никто не врывался в ее мир без ее согласия. Это желание было намного сильнее, чем тяга к пище, воде, сну и даже смеху. Они были счастливы в Поплар-Гроув, пока… не пришли те известия из Харродсбурга. В течение первых двух лет Эндрю был доволен: земля хорошо плодоносила, они жили в достатке за счет того, что она давала, во всяком случае не лучше и не хуже, чем двадцать соседей в округе. Люди все еще называли их участок поместьем Джона Донельсона, и это давало дополнительную защиту от сплетен… а тем временем люди забудут, она и Эндрю упрочат свое положение. Однако то, что создавало ей уют и защиту, раздражало Эндрю и становилось все более неприемлемым для него. «Странно, — думала она, — но необходимость пройти вторую церемонию не повлияла ни на кого, кроме Эндрю и меня. Мысль об этом будет все время возбуждать его. Если я буду стараться поступать так, чтобы он казался неприметным, какой хотела бы быть я, это убьет его». Она подняла голову. Ее голос звучал звонко. — Уверена, дело с лавкой пойдет успешно, Эндрю; я буду тебе всячески помогать. Она почувствовала слабое движение у себя на груди. Ягненок поднял голову, задергал тонкими ножками. — Посмотри, дорогой, у него открылись глаза. Ягненок проблеял, и его тельце затряслось. — Теперь, дорогая, ты можешь поставить его на ноги, — сказал Эндрю. — Он хочет бегать. Она осторожно опустила ягненка на пол около своей юбки. Некоторое время он стоял неуверенно, покачиваясь на слабых ножках, огляделся вокруг и отпрянул в испуге от огня. Потом побежал в другой конец хижины и снова к ногам Рейчэл./2/
Рейчэл редко покидала Поплар-Гроув, и то лишь для коротких поездок в Нашвилл. У нее развилось шестое чувство, и с первого взгляда она могла сказать, занимает ли мысли людей ее история настолько сильно, что это видно по их глазам. Ее страшили косые взгляды, глухие пересуды, пересказы случившегося и всякое иное вмешательство в ее личную жизнь. Она избегала встреч с незнакомыми, даже если это происходило дома у ее сестер и она знала, что эти люди были друзьями семьи. Она утеряла способность уверенно смотреть в глаза другим, даже при малейшем намеке на любопытство или сомнение она отводила взор со смущением и болью. Чувство полной безопасности появлялось у нее лишь дома, на своем участке. Она с радостью принимала гостей у себя, ибо понимала: тот, кто способен отважиться на длительную поездку, не может не быть другом без камня за пазухой, радушным и искренним. Ведь только доброжелательные люди готовы сесть за ваш стол, верно? Ей нужно было сохранять спокойствие, несмотря на то что от Эндрю приходили огорчительные известия. Из-за депрессии, охватившей Восток, договоренности, согласованные перепиской, сорвались ко времени приезда Эндрю в Филадельфию. Он был вынужден снизить цену за акр земли с одного доллара до двадцати центов, и тем не менее покупателей не было. К концу третьей недели разочарований он писал:«Трудности, каких я ранее не испытывал, поставили меня в самое скверное положение, в каком может оказаться человек. Я не займусь таким бизнесом вновь ни за какие деньги…»Сэмюэл и Джон Овертон часто наведывались в Поплар-Гроув к ней на ужин. Недавно Джон переехал в собственную хижину, которую он назвал Травелерс-Рест (Отдых путешественника), находившуюся в пяти милях к югу от Нашвилла. Он прочитал письмо Эндрю без очков, потом надел очки, чтобы лучше увидеть то, над чем следует подумать. — Я говорил ему, что мы должны придерживать нашу землю и продавать ее участок за участком новым поселенцам, — сказал Джон. — Но он так торопился поехать в Филадельфию… В отсутствие мужа она жила в подвешенном состоянии, стараясь заполнить каждый час бесконечными заботами: занималась шитьем детского белья для нового потомства, которого ждали Джонни и Мэри, вязанием зимних носков из грубой шерсти, шитьем одежды для себя на случай выездов на лошади и тонкой льняной рубашки для Эндрю, отделанной плиссировкой на груди… она берегла свои чувства до его возвращения. Экспедиция Никаджака отогнала враждебные индейские племена, и впервые после приезда в Кумберленд она могла обходить поля, не опасаясь нападения, могла сажать розы и овощи за домом. Ее любимец — ягненок всегда был около нее. В первый солнечный день апреля она приказала рабам вспахать и засеять поле. Перешагивая через борозды в своих высоких сапожках и тяжелой юбке из грубой хлопчатобумажной ткани, она следила за их работой. Широкая шляпа защищала ее лицо от жгучих лучей жаркого солнца. К середине мая в бороздах проклюнулись молодые поросли, а овцы, коровы и лошади дали новый приплод. Урожай обещал быть хорошим, живности было вполне достаточно, чтобы сделать запасы мяса, сала, шерсти и кожи. Она чувствовала себя помолодевшей, полной жизненных сил и готовой стать матерью: по ночам ее лоно жаждало мужа и ребенка, которого она хотела бы выносить. Она ожидала, что Эндрю приедет недовольный и расстроенный. Но то, каким она его увидела, выходя из хлева в жаркий, обжигающий июньский день, превзошло все самые неприятные предположения. Он сидел понурый в седле на лошади, остановившейся перед хижиной. Это был совсем другой человек, а не тот, что уехал три с половиной месяца назад, полный надежд. Его глаза ввалились в глазницы, щеки впали и посерели, измятая коричневая одежда висела на исхудавшем теле, как на огородном чучеле. Рейчэл отвела его в дом, позаботилась, чтобы он как следует вымылся горячей водой с мылом, затем натянула на него чистую белую льняную ночную рубаху и уложила в постель. Эндрю немного поел, пожал ей руку, а затем провалился от усталости в сон. Она закрыла ставни медвежьей шкурой, надежно защищавшей от солнечного света, и тихо затворила дверь. Когда он проснулся, он тотчас же позвал ее. — Сейчас я сильнее тебя, — решительно ответила она. Рейчэл стояла, уперев руки в бока, на ней был запачканный соком ягод фартук, ее карие глаза светились счастьем, что он наконец дома. — Тебе придется побыть в постели несколько дней. Когда они совершили вдвоем первую прогулку по полям к реке, Эндрю был доволен увиденным: — Ты великолепная хозяйка, дорогая, ты сделала работу лучше меня. Они спустились к воде. Рейчэл сняла мокасины и побродила вдоль берега, подняв юбку выше колен. Эндрю поймал пескаря и рассказал, что произошло в Филадельфии. Он собирался уже покинуть город, не продав ни клочка земли, и, следовательно, без товаров для лавки, которую хотел открыть. И тут накануне поражения ему удалось продать участки бывшему нашвиллскому адвокату Дэвиду Аллисону, приехавшему на Восток и разбогатевшему на перепродаже западных земель. — Единственное осложнение заключалось в том, что я должен был получить личную расписку у Аллисона. Мы пошли в компанию Микера и Кохрана, где я приобрел товаров на четыре тысячи восемьсот долларов, потом Аллисон повел меня в фирму Эванса и компании, где мне продали товаров на тысячу шестьсот долларов в счет того, что был должен мне Аллисон. Самое большое его возбуждение, как оказалось, было связано с тем, что на пути из Филадельфии он набрал пачку книг — произведения графа Мориса де Сакса[5] «Мемуары о военном искусстве», Фредерика Уильяма фон Штейбена «Правила порядка и дисциплины войск Соединенных Штатов» и книгу Вергетиуса «О короле войны», считавшуюся своего рода военной библией. — Между прочим, любимая, я не говорил тебе, — сказал он вполголоса, — что намерен стать генерал-майором нашей милиции. Она откинула назад голову, рассмеялась от всей души, вытащила заколки из своих темных волос, рассыпавшихся по ее плечам. Она обняла его за шею и, притянув к себе, поцеловала. — Что? Твой смех — неверие? — Нет, генерал Джэксон, это выражение радости. Теперь я знаю, что тебе вновь хорошо.
/3/
4 июля до наступления жары они проехали верхом до старой бревенчатой хижины, которую Эндрю купил как помещение для лавки. Внутри было сумрачно, крохотные оконца едва пропускали свет, стены были закопчены, повсюду висела паутина, все было покрыто пылью и пеплом. Стены были забрызганы салом, стекавшим со свечей. Рейчэл скорчила гримасу: — Я приглашу сегодня в полдень Джорджа с ведром щелока, а также попрошу прорезать более широкие окна. Кстати, кто будет продавать твои товары? Разумеется, ты не собираешься стоять за этим прилавком? — Для меня нет проблемы. Мне нравится, когда товар и деньги меняют владельцев. Но я должен в сентябре поехать на окружную сессию суда, и, если, по подсчетам губернатора Блаунта, население превысит шестьдесят тысяч, мы проведем конституционный конвент[6] и преобразуемся в штат. Она услышала нотку желания в его голосе. — Видимо, мы думаем получить голоса шестидесяти тысяч человек? И даже, очевидно, больше, если есть желание участвовать в съезде. Я не знала, что у тебя появился интерес к политике. — Отвечая на ваши вопросы, мадам, в обратной последовательности, скажу: утверждение независимого статуса этой территории — вовсе не политика, мы должны стать штатом, чтобы получить представительство в конгрессе. Если бы вы видели набобов в Филадельфии в шелковых зеленых бриджах и напудренных париках… для меня трудно понять, почему эти аристократы порвали с Англией, когда всю свою жизнь они подражают во всем британцам. — Но, Эндрю… Он улыбнулся: — Хорошо. Сегодня я не стану сражаться с ними. Отвечая на твои другие вопросы, скажу, что надеюсь быть выбранным в конвент. Губернатор Блаунт сказал мне в Ноксвилле, что включит мое имя в список. У меня много идей относительно того, как устроить новый штат… Что касается населения… — он усмехнулся, — то на этой территории нет такого гражданина-злоумышленника, который не был бы готов проголосовать по меньшей мере три раза. 1 августа Сэмюэл, доставивший товары Эндрю на плоскодонке из Лаймстауна, Кентукки, прибыл в Нашвилл. Потребовалось несколько дней, чтобы разложить товары по полкам: гвозди, топоры, кухонную утварь, рулоны нанки, полосатого ситца, несколько рулонов сатина и кружев, туфли, шляпы, писчебумажные товары, перец, табак. Через три недели они нанесли визит в поместье Джона Овертона Травелерс-Рест и осмотрели посаженный им молодой яблоневый и абрикосовый сад. Затем прибыл Сэмюэл с письмом для Эндрю, которое было доставлено с попутчиком из Филадельфии. Оно было с пометкой: «Важное». Послание было коротким, но по тому, как отливала кровь от лица Эндрю, Рейчэл поняла, что письмо может иметь большие последствия. Он поднял глаза и на мгновение непроизвольно открыл рот: — Это от Микера и Кохрана из Филадельфии. Дэвид Аллисон попал в беду. Его расписки… «срок которых истекает, оплачиваются нерегулярно или вообще не оплачиваются. Пользуемся представившейся возможностью известить вас, что у нас мало или вообще нет надежд на выплату с его стороны, и мы должны получить деньги от вас по истечении срока векселя». Она стояла на тропинке сада, вслушиваясь одновременно в тихую беседу трех мужчин и в то, что звучало внутри ее головы. Эндрю задолжал Микеру и Кохрану четыре тысячи восемьсот долларов, половину которых он должен выплатить 1 декабря. Смогут ли они продать достаточно скота, чтобы получить наличные? — Я так или иначе найду покупателей, — заявил мрачно Эндрю. — Ты не сможешь, во всей Кумберлендской долине нет такой наличности, — сказал Джон. — Я виноват во всем, Джон. Обещаю, что ты не потерпишь убытка. Рейчэл видела, что Джон Овертон тщательно обдумывает обещание. — То, что нам удастся получить от Аллисона, мы разделим пополам. Деньги могут задушить дружбу быстрее, чем медведь гризли. Рейчэл была огорчена не потерей денег, которые можно вновь набрать, а переживаниями Эндрю. Это было ударом для его гордости: его обвели вокруг пальца, его мнение оказалось ошибочным, его оборотный капитал испарился. Он был не из тех людей, кто сожалеет о содеянном, но куда он направит свои усилия, чтобы достигнуть того уровня богатства, который, казалось, был его первейшей целью?По извилистой тропе они приехали к вершине холма Хантерз-Хилл, самого высокого в окрестностях, возвышающегося над реками Кумберленд и Стоун. Примерно в полдень они добрались до вершины. Эндрю разложил одеяло с подветренной стороны. Они слышали, как шуршали над ними сдуваемые ветром последние осенние листья. — Надо было бы взять ягненка с собой, — сказала Рейчэл. — Он попрыгал бы здесь с удовольствием. — Ты готова прыгать каждый раз, когда выводишь его из дома. Видимо, забываешь, что ягненок стал уже овцой. Однажды он перепрыгнет забор и присоединится к своему брату. — Ты мог бы составить шутку, заменив несколько букв, чтобы получился баран. После завтрака они растянулись на одеяле, ее голова удобно лежала на его плече. Он запахнул концы одеяла для тепла и заговорил в легком, шутливом тоне: — Я привез тебя сюда под ложным предлогом. Я не рвался на пикник, которым увлек тебя. — Ох! — У меня есть что рассказать тебе, и, надеюсь, ты почувствуешь себя на вершине мира, услышав мое сообщение. — Если ты на вершине мира… — Спасибо. — Он смолк, а затем сказал: — Я продал лавку. — За достаточно большую сумму, чтобы покрыть счет от Микера и Кохрана? — Нет. Здесь ни у кого нет такой наличности, чтобы купить. Элия Робертсон платит мне тридцатью тремя тысячами акров земли, по четверти доллара за акр. Филадельфийцы предоставляют мне время для продажи. Мы неплохо выйдем из положения, когда я продам землю. Мне не нравится провал, как любому другому. Но я многому научился и не повторю сделанных ошибок… Он лежал спокойно, посмотрел на нее, откинул волосы с ее лба и провел пальцем по дуге ее бровей. Затем сказал: — Вчера губернатор Блаунт прислал мне сообщение, что подсчет населения закончен. Он хочет, чтобы я помог составить новую конституцию… Она подумала: «Ради этого он привез меня сюда». — Хорошо. Ты поможешь основать штат, о котором мечтал отец, когда перевез нас в Кумберленд. Мне хотелось бы видеть тебя на съезде выступающим перед всеми… — Тогда заметано. Ты поедешь со мной. Она поднялась с одеяла, прошлась немного, вглядываясь вниз, — на дым, поднимавшийся от горевшего хвороста, на заборы и рощи, на ручьи и деревья, освещенные солнцем. — О, я не имела в виду лицезреть тебя в натуре. Я понимала так, что прочитаю отчет в газете «Интеллидженсер» и представлю себе, как ты стоишь на трибуне. Она не слышала, как он подошел к ней сзади. — Превосходный вид, не правда ли? — спросил он. — Самый красивый из тех, что мне доводилось видеть. — Ты можешь чувствовать себя счастливой здесь? — Жить выше всей той… борьбы… что идет там, внизу. — Этими своими словами ты сняла камень с моей груди. Она быстро повернулась: — Эндрю, что это значит? — Моя дорогая, ты провела пикник на собственном участке. Я купил Хантерз-Хилл. — Но как ты сумел? Нас ведь обобрали… — Я намерен построить тебе самый лучший дом во всем новом штате, Рейчэл. Это будет первый в долине Кумберленда дом из бруса. В Филадельфии я купил гвозди и стекло и запрятал их. Подождем, пока ты не увидишь мебель: прекрасные диваны, столы из орехового дерева, французские обои… — На какие средства, дорогой? Мы только что потерпели крах со своим первым предприятием. Ты говоришь, что новая земля стоит двадцать пять центов за акр, но ты можешь получить всего лишь десять или пять центов. Взволнованный, он возвышался над ней, как стройный кипарис: — Ну, дорогая, настало время осмелиться поднять себя наверх, и именно в момент неудачи, когда люди думают, что ты скатываешься вниз. В таких условиях мы сами и только сами можем изменить тенденцию! Нужно найти самую высокую вершину на местности, взобраться на нее и объявить ее своей. Тогда люди будут смотреть на тебя на вершине Хантерз-Хилл в превосходном доме снизу вверх. Рейчэл, весь мир придет к твоим дверям… Она взяла его руку: — Что бы ты ни захотел, Эндрю, я знаю, ты можешь сделать.
/4/
За день до отъезда на конституционный конвент в Ноксвилл Эндрю сказал, что публикует извещение, объявляющее о продаже поместья Поплар-Гроув. — Ой, Эндрю, разве мы должны продавать поместье? Эти слова вырвались у нее невольно. Они прожили в Поплар-Гроув почти четыре года, и женщина не расстается так легко, как мужчина, с домом и счастливыми воспоминаниями. Она тихо добавила: — Не могли бы мы просто отдать дом в аренду, например, Сэмюэлю? Он вот-вот сделает предложение Полли Смит. — Нам нужны наличные средства, чтобы нарезать брусья на лесопилке, оплатить труд, а там не принимают расписок. Эндрю наставлял ее, как получше представить поместье. Первые одна-две семьи возможных покупателей не вызвали каких-либо осложнений, их привели друзья, и встречу можно было воспринять, как светский визит. Но к середине января к дому стали подъезжать совершенно незнакомые люди в фургонах, с большеглазыми детьми, пытливо выглядывавшими из-за брезента, а их отцы спрашивали, восседая на передней скамье фургона: — Вы миз Джэксон, мэм? Говорят, что этот дом продается. Мы ищем сейчас такого рода место. После таких разговоров Рейчэл сложила свои вещи и перебралась в дом матери. — Разве вы хотите, чтобы поместье плохо выглядело, миз Рейчэл? — спросила Молл. — Джордж и я, мы можем свалить всю мебель в кучу… — Но как мы сможем сделать эту плодородную землю и тучных животных плохими? — ядовито спросил Джордж. К своему удивлению, Рейчэл рассмеялась впервые за много дней. Когда она переехала в поместье Донельсонов, то почувствовала себя лучше, поскольку там всегда бурлила жизнь. Медлительный в разговоре, осторожный Уильям влюбился в молодую Чэрити Дикинсон и ухаживал за ней, неожиданно усвоив порывистые движения и скороговорку семнадцатилетнего парня. Еще не действовала регулярная почтовая служба, которая связывала бы с Ноксвиллем, но постоянный поток путешественников приносил каждый день известия. Эндрю и судья Макнейри были выбраны делегатами, призванными помочь в разработке управления, и Эндрю работал по четырнадцать часов в сутки, составляя то, что он называл джефферсоновской конституцией:[7] две палаты в законодательном собрании вместо одной; право всех мужчин принимать участие в голосовании после проживания на территории штата в течение шести месяцев; право быть выбранным в законодательное собрание дает владение двумя сотнями акров земли. Рейчэл прочитала газетный отчет о речи Эндрю, когда было внесено предложение назвать новый штат именем Джорджа Вашингтона или Бенджамина Франклина:«Джорджия была названа по имени короля, две Каролины, Виргиния и Мэриленд — по имени королев, Пенсильвания — по имени колониального владельца, Дэлавэр — по имени лорда и Нью-Йорк — по имени королевского герцога. После достижения независимости нет оснований заимствовать у Англии все для нашей географии. Мы должны принять для нашего нового штата индейское название „великой извивающейся реки“ — Теннесси: у этого слова сладкий привкус, напоминающий горячую кукурузную лепешку с медом».Она возвратилась в Поплар-Гроув за день до приезда Эндрю. — Я вижу, что ты измотала себя, стараясь продать Поплар-Гроув до моего приезда, — заметил он. — Надеюсь, что это поместье ненавистно всем. — Тщетная надежда. Я нашел покупателя, это твой брат Александр. Я встретился с ним в Ноксвилле. Он платит пятьсот тридцать фунтов… наличными; этого достаточно, чтобы заказать брусья и купить другие предметы, за которые требуют деньги на бочку, и начать строительство в Хантерз-Хилл. Провести с ними вечер приехал Джон Овертон. — Должен ли я называть тебя теперь конгрессменом? — спросил он. — Конгрессменом! У меня нет интереса к политике. — Тогда ты должен отложить военные книги в сторону, генерал, потому что, очевидно, не интересуешься также и милицией. Эта вооруженная сила испарится, если конгресс не оплатит тысячу долларов, потраченных на экспедицию Никаджака. Эндрю покачал в отчаянии головой: — Ну, вот отменное поручение! Военный департамент запретил нам принимать участие в этой экспедиции против индейцев. Генерал Робертсон был вынужден подать в отставку из-за своего спора с военным министром Пикерингом по поводу проведенных нами сражений. Федеральное правительство объявило всю экспедицию незаконной, пустой, ничтожной… а теперь все хотят, чтобы я выбил от конгресса оплату этой экспедиции! Рейчэл убедилась, что предсказания Эндрю относительно Хантерз-Хилл оказались здравыми. Едва Эндрю начал строительство дома, как оно привлекло визитеров со всего Кумберленда, и люди заговорили о его выдающихся достижениях. Он ответил на такую похвалу скупкой земельных участков в масштабах, превосходивших все прежнее. Каждый день он приносил домой документ, подтверждавший право на землю: 11 марта — на тысячу акров за двести пятьдесят долларов; 18 апреля — еще пять тысяч акров за четыреста долларов; 19 апреля — участок за двадцать центов за акр; 9 мая — три отдельные покупки — две тысячи пятьсот акров за две тысячи долларов, три тысячи акров за три тысячи долларов, тысяча акров за одну тысячу долларов; 14 мая — пять тысяч акров… Подсчитав по записям, она обнаружила, что он купил около двадцати шести тысяч акров и израсходовал шестнадцать тысяч долларов… а все оплачивалось личными расписками. Иногда он продавал землю; в своем сейфе Рейчэл хранила расписки примерно дюжины жителей Кумберленда. Кредит каждого человека хорош в той мере, в какой хороша его репутация, но стоит человеку или репутации упасть, и вся структура развалится. Рейчэл была убеждена, что все это — азартная игра скорее ради забавы и удовольствия, чем ради выгоды. Но мысль о забаве и удовольствии исчезла, когда она узнала, что Эндрю обдумывает вопрос о приобретении участка, на котором она жила с Льюисом Робардсом. Этот участок, бывший частью Кловер-Боттом, Льюис продал мистеру Шэннону, а тот теперь предложил его Эндрю. Она была поражена, насколько ей хочется владеть вновь этой землей. — Поля ни при чем… и они плодородны, — сказал Джон Овертон (в последний момент Эндрю, чувствуя, что он не в состоянии произнести имя Робардса, попросил Джона обсудить вопрос о покупке с Рейчэл). — Участок примыкает к Хантерз-Хилл. Он ничем не будет выделяться среди других. — Ты считаешь, что я должна одобрить покупку? — спросила она, с таким напряжением проглотив комок, застрявший в горле, что звук нарушил установившуюся на момент тишину. — Нет… Но вопрос можно поставить, не так ли? — Понимаю. — Она моргнула несколько раз, словно на ресницы попала паутина. — Хорошо, я поборю это чувство. Мы пропашем борозды от Хантерз-Хилл до реки. Как только распространился слух, что семья Джэксон купила бывший участок Робардса, добавив его к своим владениям, в долине Кумберленда начались споры. Рейчэл не ожидала, что покупка может вызвать такую реакцию: люди занимали противоположные позиции и своими разговорами сделали достоянием новых поселенцев сплетни о деле Робардса — Джэксона. Она уверила себя, что ей удалось замкнуться, держаться в стороне, ныне же вновь она оказалась в центре дискуссии, ее прошлое было вновь извлечено на божий свет, и к тому же в искаженном виде. Насколько она могла выяснить, половина людей осуждала Джэксона за неудачное решение: участок может принести лишь неприятности; другая половина осуждала их за дурной вкус, за желание показать миру, что они взяли верх над Льюисом Робардсом и тем самым символически унизили его. Но она не представляла, сколь остры споры, пока не узнала, что Джон Овертон, ненавидевший любую форму физического насилия, оказался вовлеченным в драку в Нашвилле и ему подбили глаз. Когда он пришел к Джэксонам по срочной просьбе Рейчэл, веко правого глаза все еще носило на себе следы удара, а переносица побаливала даже от очков. — Впервые в своей жизни я пытался сбить с ног человека, — скромно признался он. — Разумеется, я допустил огромный промах. — Не знаю, должна ли я испытывать стыд или гордиться тобой. — Затем, потеряв чувство юмора, она крикнула: — Ой, Джон, как долго будет все это продолжаться? Прошло пять лет со времени нашей первой свадьбы с Эндрю и три года со времени… этого развода. — Не знаю, — мрачно ответил он. — Я думал, что уже прошло столько времени и Эндрю стал таким важным лицом в штате, что дело должно быть давно забыто. — Но его никогда не забудут, разве не так? Они переехали в Хантерз-Хилл к концу мая во вторник. Именно в этот день недели Эндрю любил начинать новые предприятия. Рейчэл дом показался огромным. Гостиная и столовая располагались по обе стороны прихожей, а кухня Молл — налево от въездных ворот во дворик. Гостиная была обставлена мебелью, отобранной Эндрю в Филадельфии, — диван и обитые камчатным полотном с цветным орнаментом стулья, на полу лежал персидский ковер XVI века. Эндрю купил его на аукционе при распродаже одного поместья. За двумя комнатами по фасаду находились совершенно пустая музыкальная комната и кабинет Эндрю, в который он поставил, священнодействуя, широкий письменный стол из орехового дерева, а потом навесил книжные полки на стену с камином. Он отвел четыре больших выдвижных ящика для своих бумаг, а Рейчэл выделил восемь ящичков с бронзовыми ручками для семейных счетов и бухгалтерского учета. На втором этаже располагались четыре спальни как раз над четырьмя комнатами. Но только их спальня была обставлена мебелью, включая кровать с четырьмя колонками, привезенной из Поплар-Гроув. Наполовину обставленные комнаты создавали чувство пустоты. Если небольшие хижины в Поплар-Гроув казались ей родными, защищали ее, то огромные просторы Хантерз-Хилл, напротив, открывали ее со всех сторон. Ее муж считал, что высокое расположение Хантерз-Хилл обеспечивает господство и силу, она же чувствовала, что это делает их более уязвимыми. Это лето Эндрю провел в поле, выращивая первый скромный урожай. 30 июля законодательное собрание Теннесси проголосовало за выплату ему задолженности — пятилетней заработной платы прокурора. Эти деньги он потратил на постройку дороги вверх на холм к входной двери, в то время как Рейчэл наблюдала за строительством молочной хижины, коптильни, склада, конюшни и бревенчатых хижин для негритянских семейств. — Наши неприятности кончаются, — заявил он удовлетворенно. — Кажется, могу вернуться в Филадельфию. Рейчэл была ненавистна сама мысль о новой разлуке, но она не выдала своих чувств: — Ты на самом деле хочешь стать нашим первым конгрессменом, не так ли? — Я могу сделать много, — парировал он. — Джон был прав относительно денег на экспедицию Никаджака. Если мне удастся добиться от конгресса выделения соответствующего фонда… и если я смогу получить от Аллисона мои собственные деньги, их хватит, чтобы купить товары для новой лавки… Она посмотрела на него со страхом в глазах: — Эндрю, ты станешь самым занятым представителем в Филадельфии.
/5/
«Чем могла бы заполнить бездетная женщина комнаты такого большого дома?» — спрашивала Рейчэл самое себя. Это был первый год со времени их брака, когда в Рождественские праздники она и Эндрю оказались порознь, поскольку он был избран в конгресс и уехал в ноябре в Филадельфию. Желая оживить дом голосами, смехом, приятными воспоминаниями, она устроила предрождественский семейный обед, пригласив Мэри и Джона Кэффрей с их выводком — дюжиной детишек; Катерину и Томаса Хатчингс с девятью отпрысками; Джейн и Роберта Хейс с четырьмя детьми; Джона и Мэри с их восьмеркой, причем последнему исполнился всего месяц; Стокли, Левена и Александра, а также Северна, все еще ходивших в холостяках; только что сочетавшихся браком Уильяма и Чэрити; Сэмюэля и Полли Смит; Джона Овертона и его мать. По сути дела это была вечеринка главным образом для детей, и поэтому Рейчэл не пожалела кристаллического сахара. Два огромных стола были заставлены тарелками с засахаренными и маринованными фруктами, солеными орешками, мармеладом, медом и желе, яблочным муссом и различными пирогами с грушевой и айвовой начинкой. Для каждой племянницы и племянника были приготовлены подарки: ленты, конфеты, перчатки, тряпичные куклы, инструменты для вышивки — для девочек, ножи, охотничьи подсумки, мокасины, охотничьи рубашки — для мальчиков. Каждый ребенок подбегал к тетушке Рейчэл, чтобы поцеловать ее. При виде детей, которых она тоже хотела подарить миру, она прослезилась от обиды. Когда семьи укутали своих малышей, посадили в коляски и подвязали к седлам иногда так, что за седлом отца висела целая четверка, она вновь осталась одна. Она лежала с открытыми глазами на кровати с пологами, опущенными со всех четырех сторон и создававшими ей теплое, уютное гнездышко. Погода была промозглой, а ветер пронизывающим, он дул во все щели дома, даже через закрытую дверь ее спальни и, казалось, через одеяло. Уставшая после большого приема гостей, в подавленном настроении она прислушивалась, как под ударами ветра потрескивает дом, и раздумывала о том, что ее ждет в предстоящем месяце. Все законы логики и необходимость вынуждали ее согласиться с тем, что Эндрю должен поехать на Восток, на заседания конгресса, но в ледяной до дрожи одинокой ночи она понимала, что, чем больше из старых дел ему удастся уладить, тем свободнее он станет для новых начинаний. Все его сбережения, накопленные за восемь лет, развеялись как дым, когда обесценились бумаги Дэвида Аллисона; все его усилия и доходы от лавки были сведены к нулю, когда он оказался вынужденным поспешно продать ее; и только сегодня она узнала, что документ Блаунта, в обмен на который он выторговал тридцать три тысячи акров земли, практически потерял свою цену по той причине, что Банк Англии приостановил выплаты и вверг тем самым Восток в панику. Из письма Эндрю она не могла понять, что больше обозлило его — потеря денег или же тот факт, что Америка все еще под контролем Банка Англии. В канун Рождества она думала: «Вот он находится на чужом постоялом дворе или в пансионате, их разделяют тысячи миль и недели трудного путешествия… и ради чего?» Заря еще не занялась, через окна проникал лишь сероватый свет. Она выбралась из постели, подошла к шкафу и взяла голубой шелковый халат, купленный для нее Эндрю в Натчезе. На ощупь шелк был ледяным. Она прошла по коридору к боковой двери и остановилась около нее. На востоке заалела заря, и она увидела, что внизу река покрылась льдом, впервые с того времени, когда Донельсоны отправились на Запад на «Адвенчере». Она прошла в кухню, где Джордж оставил в очаге горящие угли. Рейчэл вскипятила воду в чугунке для кофе и выпила горячий напиток. Тепло сняло напряжение. Она вернулась в спальню, нырнула в постель и сразу же заснула. Ее разбудил шум около дома. Через заиндевевшее окно она увидела, что все население Хантерз-Хилл собралось вокруг лакированной черной кареты с красными колесами, запряженной парой серых лошадей. Рейчэл быстро оделась и спустилась к парадной двери. Идя к карете, она увидела, что в ней никого нет, а потом ей бросилась в глаза блестящая красная монограмма «Р. Дж.» на дверце экипажа. Джордж открыл дверцу и с поклоном пригласил Рейчэл подняться внутрь. Она поставила ногу на небольшую железную опору, и Джордж захлопнул за ней дверцу. Только теперь Рейчэл догадалась, что Эндрю заказал карету для нее и сделал так, чтобы карету пригнали в день Рождества. Она вспомнила, как он нуждался в наличных средствах накануне отъезда в Филадельфию, как он манипулировал земельными участками и ценными бумагами, и все же в рождественский день он думал только о ней. На глаза набежали слезы. Она сидела, ощущая тепло и уверенность, словно он сидел рядом с ней, крепко обнимая ее за плечи. Как могла она допустить слабость — пока она любит своего мужа, а он любит ее, они неразлучны. Любовь — это прочный мост, пересекающий скованную льдом реку и остановившееся время. Она позволяет мужчине и женщине шагать рука об руку и по залитому солнцем полю, если даже их разделяют тысячи миль, и по заснеженному полю под свинцовым небом. В своем очередном письме Эндрю рассказал, что, едва прибыв в Филадельфию, он заказал у портного сюртук с фалдами и бриджи:«Они были довольно хорошо подогнаны, и я полагал, что выгляжу красивым. Но когда я пришел в конгресс, чтобы принести присягу, то оказалось, что я единственный, у кого фалды были связаны кожей угря. По выражению лиц элегантных набобов я мог понять, что они сочли меня неуклюжим персонажем с манерами неотесанного лесника».Она представила себе, какое раздражение вызвало это у него, ибо его манеры были неподдельно вежливыми. Вспоминая друзей отца из виргинского Бургесса, она была убеждена, что манерыЭндрю были столь же джентльменские, как и у тех друзей. К тому же его первый шаг в конгрессе вызвал антагонизм не только у значительной части законодателей, но и у жителей Теннесси. Об этом она узнала, когда в воскресенье поехала к матери на обед: входя в большую комнату, она успела услышать несколько фраз, повисших в воздухе, подобно шерстинкам неоконченного вязания. Она сказала безразличным тоном: — Очень хорошо, мой муж сделал что-то не по вашему вкусу? Оставим это в стороне и не станем портить воскресный обед мамы. — Не оставим, — возразила Джейн. — Ведь ты не отвечаешь за политические взгляды своего мужа. — Дорогая Джейн, я получу газеты завтра. Сэмюэл поднял голову: — Ты помнишь прощальную речь президента Вашингтона[8] в конгрессе? Палата подготовила в ответ пространный панегирик. Эндрю проголосовал против него, заявив, что предлагается бездумное одобрение, а между тем некоторые акты Вашингтона подлежат критике… Она окинула взором комнату: — Есть ли у кого-нибудь письмо? Роберт Хейс вытащил из кармана бумагу и прочитал:
«…Ежедневно газета сообщает о том, что англичане каждый день захватывают наши суда, оказывают давление на наших моряков, обращаются с ними жестоко и грубо, но из речи президента вытекает, будто англичане не наносят нам ущерба».— Полагаю, что он вправе так сильно ненавидеть Англию, когда он здесь, дома, — прокомментировал Уильям, — но он не имеет права представлять дело так, будто все в Теннесси думают подобным же образом. Если он не проявит осторожность, то впутает нас в войну с англичанами. Джейн взяла письмо из рук мужа и протянула его Рейчэл, сказав: — Последний абзац — для тебя. Глаза Рейчэл быстро пробежали по заключительным строчкам письма:
«Я прошу оказать внимание моей дорогой крошке Рейчэл и утешить ее в мое отсутствие. Если ей нужно что-либо, то по возможности обеспечь ей, и я тут же возмещу».Она улыбнулась и вернула письмо.
Во второй половине января морозы усилились, и однажды утром, выйдя на улицу, она увидела, что почва замерзла и ее цветы и молодые саженцы вымерзли. Молл не появилась к завтраку. Рейчэл понимала, что Молл чувствует себя очень плохо и поэтому осталась в своей хижине. Джордж был также болен. Рейчэл положила руку на лоб Молл: — У тебя жар. Молл приподнялась в постели, ее зубы стучали: — Сэмпсон и Сильви также лежат в постели, и Винни, и Джеймс, и их Орейндж. Наверное, это инфлюэнца. Рейчэл обошла быстро хижины. Свирепствовала эпидемия гриппа. Среди взрослых болезни избежала всего одна семья и племянница Молл — Митти. Рейчэл послала их в главный дом за одеялами, заставила наносить дров в хижины и сложить их около очагов, а затем направила одного молодого парня в Нашвилл за доктором. Сама же пошла в кухню, приготовила отвар из трав и корня просвирника, который ее мать использовала как лекарство против гриппа. Она и Митти обошли хижины с теплым напитком, заставляя больных выпить его. Следующую неделю она день и ночь ухаживала за больными. Она всегда уважала Эндрю за его отношение к «черной семье». Она ни разу не видела, чтобы он не разрешил негру навестить друзей, он не ограничивал их в продовольствии и топливе, отказывался разделять семьи, предоставил им собственные кухни. — Я не могу быть столь же беспечной, как ты, Эндрю, — заявила она однажды мужу. — Ты ответствен только перед собой, но, когда ты уезжаешь и даешь мне задание, я отвечаю перед тобой. — Я думаю, что они понимают это, — ответил Эндрю, — во всяком случае они делают больше для тебя, чем для меня. Едва она успела освободиться от ночных обходов своих больных, как ночью ее разбудило фырканье лошади, натуженно поднимавшейся по дороге, и стук в дверь. Рейчэл открыла окно и спросила: — Кто там? — Миссис Джэксон, мэм, прошу прощения, что разбудил вас в столь поздний час, это Тим Бентли, ваш сосед из Уиллоу-Спринг. — Что я могу сделать для вас, мистер Бентли? Что случилось? Мужчина кричал в окно, от волнения путая слова: — Эго жена, Сара, и ребенок… Я имею в виду ребенка, он никак не вылезает. Боюсь, Сара помрет, мэм, ребенок и она, оба… — Обойдите дом кругом и разбудите Джорджа, попросите оседлать для меня коня. Через несколько минут она сбежала вниз. В тусклом свете фонаря на веранде она увидела лицо Тима Бентли. Ему было всего двадцать лет, но цвет его лица был болезненным, он щурился, а от нижней губы его подбородок резко сходил на нет. Она приказала Джорджу оседлать вторую лошадь и привезти в дом Бентли мыло, одеяла, простыни, полотенца, свечи и еду. Даже в тусклом свете можно было распознать жалкое состояние хижины Бентли. Бревна были уложены настолько неровно, что один край крыши начал провисать, в щелях пола была видна сырая земля, одно из окон было заклеено коричневой бумагой, пропитанной медвежьим жиром. Над огнем висели всего два котелка, около очага стоял небольшой стол… и в углу деревянная кровать, на которой лежала молодая женщина, закрытая рваным одеялом. Единственное, что было приготовлено для новорожденного, — это грубая люлька, в которой лежала льняная крестильная рубашонка, явно привезенная с Востока. Рейчэл произнесла: — Здравствуйте, миссис Бентли. Я ваша соседка, миссис Джэксон, мой дом на верху холма. Я останусь с вами, пока не родится ребенок. Почему вы не позвали кого-нибудь раньше? — Мы надеялись, что сами справимся. Но это длится так долго… и так больно… Когда я услышала ваших лошадей, мне стало легче. — Она поколебалась некоторое время. — Вы та самая миссис Джэксон, мэм? — Какая та самая? — Та, о которой так много говорят. Но вы вовсе не выглядите такой. Та миссис Джэксон не пришла бы помочь. Рейчэл провела рукой по волосам женщины, как бы успокаивая ее: — Я очень хочу помочь вам. Я сама не имела счастья родить ребенка, но мои сестры рожали, и много, и я им помогала. Успокойтесь, все будет в порядке… Во время разговора Рейчэл слегка приподняла одеяло. Потом посмотрела вниз и увидела, что показалась нога ребенка. Она поняла, что плод идет неправильно — не головой вперед, как при нормальных родах. Неправильное положение плода было и у ее сестры Мэри при рождении первого ребенка. Мэри помогала опытная повитуха-француженка, обслуживавшая беременных в их округе, ведь врачи-мужчины никогда не принимали роды у женщин. Рейчэл живо вспомнила те роды и объяснения повитухи, сказавшей, что такие случаи редки и что многие дети при таких родах умирают. Она разговаривала с роженицей, стараясь казаться спокойнее, чем чувствовала себя на самом деле: — Ребенок показался, Сара. Не пройдет и часа, и он будет у тебя на руках. Она вытерла лицо женщины влажной тканью. Она то и дело приподнимала одеяло, видела, что вышла вторая нога, немного позже — ягодицы и ноги полностью. Она вспомнила слова повитухи: в такой момент лучше не помогать ребенку. Она приказала Тиму Бентли разжечь посильнее огонь, и в хижине стало теплее. Когда приехал Джордж с припасами, она вымыла горячей водой с мылом руки, поставила таз с водой рядом с постелью. Она вытащила старое одеяло из-под миссис Бентли и заменила его чистой простыней, положила в люльку стеганое одеяло, привезенное Джорджем. Когда она еще раз подняла покрывало, наружу уже вышли бедра ребенка. — Ты хорошо работаешь. После глубокого вздоха миссис Бентли ответила: — Да, действительно так. После следующей схватки появилась пуповина ребенка. Рейчэл напряглась. Миссис Бентли ухватилась руками за перекладины кровати, прилагая большие усилия, и ребенок вышел по плечи. Вспоминая, как действовала повитуха, Рейчэл освободила руки, взяла ребенка за ноги и держала так, что тельце было перпендикулярно постели и под прямым углом по отношению к матери. Затем свободной рукой она надавила на нижнюю часть живота матери. Прошла минута, потом две. Ничего не происходило. Скоро давление на пуповину прекратит доступ крови к ребенку. Рейчэл сжала руку в кулак и всем своим весом надавила на живот миссис Бентли. В этот момент мать закричала… и ребенок родился. Это была девочка. Рейчэл перевязала пуповину в двух местах и перерезала ее между завязками. Затем она сильно шлепнула по ягодицам ребенка, он заплакал. Рейчэл обмыла ребенка, туго перебинтовала его живот, чтобы уберечь пупок, надела на девочку крестильную рубашонку и положила в люльку около огня. Прошло около двадцати минут. Она обмыла миссис Бентли теплой водой, надела на нее одну из своих белых новых рубашек, прикрыла одеялом, привезенным из Хантерз-Хилл, дала ей чашку кофе и яблочный пирог, испеченный Молл. Она вернулась к себе домой лишь через сорок часов, после того, как устроила Митти в хижине Бентли. Рейчэл прошла в гостиную, села в кресло перед потухшим камином. Она чувствовала, что ей холодно, она окоченела и устала, но не хотела поддаваться такому чувству. Она не смогла сама родить ребенка, но без ее помощи тот ребенок умер бы. Это ведь также способ сотворить жизнь. Она как бы вновь ощущала ребенка в своих руках, его кровь, текущую по жилам вместе с ее кровью, согревавшей ребенка, отгонявшую тупую боль, возникшую внутри нее, когда она услышала: — Вы та самая миссис Джэксон?
/6/
Затяжная и суровая зима быстро сменилась теплой погодой. Над головой сверкало солнце, и склоны холмов зазеленели. На орешнике появились нежные листочки, раскрылись бутоны жимолости и других кустарников, пеликаны пролетали длинными вереницами и садились на реку в низу холма. Эндрю как-то сказал: — Моя мечта — стать джентльменом-плантатором. У Хантерз-Хилл были все данные для того, чтобы стать богатым хозяйством: чернозем покоился на известняке, и при разумном его возделывании не потребуется много времени для прокладки беговой дорожки и начала выездки чистопородных лошадей. Тогда Эндрю не пришлось бы уезжать за пятьдесят, а то и за сто миль каждый раз, когда приходило известие, что где-то там состоятся соревнования породистых лошадей. Именно в этот момент у нее возник первый интерес к Хантерз-Хилл. Рабы прилежно работали, расчищая новые поля, урожай в этом году обещал быть отменным. Даже ее страхи относительно земли, ранее принадлежавшей Робардсу, исчезли. Участок оказался хорошим и прекрасно вписывался в закладку большой плантации, возможно самой крупной и многообещающей в Кумберленде. Если это — все, что требуется, чтобы успешно удерживать Эндрю дома, тогда она должна позаботиться об энергичной распашке и посадках. Рейчэл работала в поле в хлопчатобумажном платье с короткими рукавами и широкой юбкой, а ее волосы были защищены соломенной шляпой с широкими полями, когда Джон Овертон принес ей новость: Эндрю убедил конгресс пересмотреть решение военного департамента, узаконить экспедицию Никаджака и выплатить каждый доллар, вложенный в эту экспедицию Севьером и остальными милиционерами. — Наконец-то, — воскликнула она, вогнав глубоко в мягкую землю каблуки своих туфель, — появилось нечто доброе в Филадельфии! Во время одного из посещений хижины Бентли Рейчэл принесла для Сары зеленый чай, сахар и имбирь, а для ребенка — легкую ткань. В ходе беседы она узнала, что Сара училась три года в Балтиморе как помощница швеи. Поскольку было очевидно, что Тиму трудно прокормить свою семью, Сара стала приходить раз в неделю в Хантерз-Хилл вместе с ребенком и заниматься шитьем занавесок для спален из материала, сотканного Рейчэл. Рейчэл познакомила Сару с Джейн, которая время от времени заказывала ей сшить что-либо, а также рекомендовала в свою очередь подруге в Нашвилле, и та была довольна тем, как Сара справляется с новыми модными заказами. Все земли Хантерз-Хилл были уже засеяны, когда 1 апреля Эндрю вернулся домой. Ему не доставило удовольствие участие в сессии конгресса, но, насколько могла заметить Рейчэл, он был скорее озадачен, чем расстроен. — Я не чувствую себя на своем месте в Филадельфии, Рейчэл. Федералистские набобы, на мой взгляд, никогда не перестанут сожалеть, что допустили нас в союз в качестве штата. Палата буквально набита ими, и там столько болтунов. Она подходит для людей, которые любят работать среди больших сборищ, уговаривать, спорить и идти на сговор. Я не гожусь для этого. Я люблю работать в одиночку. Между нами говоря, мне хотелось бы освоить одно дело… — Скажем, милицию штата? Он усмехнулся: — Да, милицию. В Филадельфии я собрал библиотечку книг по военным вопросам. Теперь, дорогая, я сниму с твоих плеч заботу о плантации. По тому, как она выглядит, мы разбогатеем к ноябрю. — Ну, не разбогатеем, — сказала она улыбаясь, — но, думаю, будем добротно питаться. Он обнял ее за талию, которая была такой же тонкой, как в день их первой встречи, посмотрел ей в лицо. Несмотря на широкие поля шляпы, ее кожа так сильно загорела, что почти сравнялась с цветом ее карих глаз. — Мне нравится, когда ты шутишь, — сказал он. — И твой муж останется дома с тобой навсегда. Я освободился от всех обязательств. Никакой политики, никаких выездных сессий, никаких лавок, никаких долгов. Отныне я становлюсь домоседом. Дом, такой безлюдный в прошедшие месяцы, теперь был полон посетителей, съезжавшихся со всего штата. Сюда приходили не только пехотинцы, которым давно должны были выплатить их содержание, но и молодые офицеры, получившие компенсацию за деньги, потраченные ими на боеприпасы и снаряжение. Они выражали свою признательность и оставались для серьезной дискуссии о том, что нужно сделать, чтобы воссоздать войска штата. Рейчэл никогда не ездила с Эндрю на выездные сессии и ничего не знала о взаимоотношениях между этими людьми и ее мужем. Ныне же она поняла, что они видят в его лице руководителя. Многие приезжали с женами — как друзья, энтузиасты, сторонники, лояльные в каждом слове и каждом жесте. Рейчэл принимала их всех; всегда были в достатке еда, напитки и внимание. Когда спальни в основном доме были переполнены, то можно было воспользоваться гостевой хижиной, а для одиноких мужчин ставились раскладушки в кабинете Эндрю. Незнакомцы, приходившие всего на час, неуверенные в себе, по сердечному приему догадывались, что могут оставаться столько, сколько требуется. Они не знали одного — что ею двигало чувство благодарности: ведь наконец-то появился круг друзей, в которых она могла не сомневаться, друзей, которые будут ее стойкими защитниками. Для них она была просто миссис Джэксон, мэм, а не «та миссис Джэксон». Эндрю привез домой «Записки» Цезаря[9] в своей седельной сумке. Он читал книгу по вечерам при свете свечи. Теперь прибыли ящики с его книгами: по военному строительству, военной дисциплине, фортификации. Но исследования, доставлявшие ему наибольшее удовольствие, относились к Революционной войне: «История американской революции» Дэвида Рамсея, «Краткая история войны в Америке» Джозефа Галлоуэя. Эти книги он читал с таким проникновением и жадностью, что это озадачивало ее. Ее муж был человеком с мягкой душой. Почему же в таком случае он так заинтересовался искусством организованного разрушения? Ведь война — это взаимное убийство, она ненавидела каждый ее аспект. Сбиваясь от волнения, она пыталась излить ему свои чувства. — Но, моя дорогая, ты знаешь, что я не драчун по природе. — В его голосе звучала нотка обиды. — Я не стану делать первого шага и подстрекать к войне против Англии и Испании. Но если бы ты побывала некоторое время в конгрессе, то увидела бы, насколько близки мы к ней… Он мерил шагами комнату и, сделав широкий жест рукой, словно обхватывавший книги по военному делу, расставленные в ней, сказал: — Хороший генерал не теряет в бою людей. Он так тщательно планирует и готовит свои операции, что разбивает армию противника несколькими стремительными ударами. Но если командующий не имеет опыта, глуп, без пользы бросает людей в бой, то тогда он истребляет не только собственные войска, но и войска противника. Только сильный, добротно оснащенный и подготовленный может сдерживать войну, а если окажется втянутым в нее, покончит с ней быстро и без больших потерь. Слабого пинает и на слабого нападает любой проходящий задира. — Звучит очень разумно и человечно. Но ты не против, если я буду просто молиться за мир… наряду с другими моими молитвами?.. — Она расплакалась. — Ой, милый, как бы я хотела иметь ребенка! Он обнял ее: — Дорогая, Бог знает, что дать, в чем отказать. — Где-то в глубине моего сознания я назначила себе срок до моего тридцатилетия… — …А это завтра, тринадцатое июня! — Он освободил ее из своих объятий, подошел к двери и позвал Джорджа. — Ты подожди здесь и не выходи, даже если услышишь шум в зале. Рейчэл сидела в рабочем кресле Эндрю, положив руки на колени, она слышала его приказы вполголоса, скрип пола под ногами. После довольно затянувшегося постукивания молотков он вернулся в комнату без пиджака, с грязной полосой на лбу; его рубашка была порвана у локтя. — Эндрю, ради Бога, что с тобой произошло? — Идем, но закрой глаза. — Он провел ее через зал, затем выпустил ее руку. — Теперь ты можешь открыть глаза. Посреди ранее пустой музыкальной комнаты стояло на резных ножках блестящее черное фортепиано, меньшее по размерам и более угловатое, чем те, что она видела ранее. Она подошла к инструменту, пробежала пальцами по клавишам. — О, Эндрю, оно прекрасно! Мы не смогли забрать наше из Виргинии — оно заняло бы всю каюту «Адвенчера». Она сыграла несколько мелодий. За спиной послышались странные звуки. Она повернулась в изумлении: — Да это же флейта! Ты никогда не говорил, что умеешь играть на флейте. Он опустил руки, восхищенно глядя на флейту из эбена. — Я не мог сказать. В пансионате миссис Харди жил мужчина, который каждый вечер практиковался в гостиной. Он предложил научить меня, я подумал о том, как будет приятно, если мы сможем играть дуэтом. Она соскочила с маленького стула и стремительно бросилась ему на шею: — Эндрю Джэксон, ты самое удивительное и невероятное создание Бога! А я самая счастливая из жен.Она никогда раньше не замечала, с какой радостью он находился дома и работал на своей собственной земле, и к тому же так эффективно. Наблюдая за тем, как он управлял большой плантацией, она утвердилась во мнении, что он — первоклассный фермер, она же — консерватор, не желающий экспериментировать. Вновь и вновь ее поражала открытость ума Эндрю. Прочитав о каком-то новом инструменте, об улучшенных семенах, он немедленно выписывал их. Если он узнавал о скотоводе, вырастившем элитный скот, то начинал ставить опыты, чтобы улучшить собственное стадо. Он говорил, что большинство фермеров работают, полагаясь на интуицию, и это хорошо, если интуиция верная; но земледелие может стать наукой, если человек постарается стать специалистом в этом деле. Ранними вечерами после ужина Рейчэл медленно играла для него гаммы, а он повторял их на флейте, после этого они пытались исполнять выученные вместе пьесы — «В пределах мили» и «Как заря в бессолнечном убежище». После этого они уединялись в его кабинете, где он читал книги по военным вопросам, составлял собственные карты сражений по книге «Искусство войны» Шевалье де ла Вальера. Она тихо сидела рядом, читала Новый завет или один из томиков Вергилия, подаренный Сэмюэлем в день ее рождения… Они поздно ложились спать, однако часто она, просыпаясь с первыми лучами солнца, обнаруживала, что Эндрю уже давно на ногах и при свете свечи читает за маленьким мозаичным столиком около окна. — Эндрю, почему встаешь среди ночи? Ты должен спать до утра. — Спать? Это пустая потеря времени, когда человек счастлив, как я, и заинтересован во многом. — Он шагал между окном и кроватью. — Неудача с той, первой лавкой вызвана тем, что она была слишком мала для самофинансирования, она не достигла бы такого состояния, даже если бы бумаги Аллисона не обесценились. В его голосе зазвучало волнение, когда он встал и посмотрел на нее: — …Этой осенью я хочу основать торговый центр на Стоун-Ривер. Я построю пристани, и лодки смогут привозить все нужное. Мы можем иметь собственный паром. Нам нет нужды иметь дело с отдельными потребителями, мы сделаем подлинный торговый центр между Филадельфией и Новым Орлеаном. Мы доставим наше зерно тем, кто предложит самую высокую цену на Севере и на Юге, и взамен получим от них то, что требуется нам здесь, в Кумберленде. Мы построим здесь завод по курению виски и свою лесопилку… Она молчала. Чем больше он построит, чем больше будет занят… тем прочнее удержится дома.
/7/
Из окна своей спальни она видела поднимающуюся по дороге карету с двумя женщинами. Когда карета остановилась у парадной двери, Рейчэл узнала женщин. Это были миссис Сомерсет Фарисс, председатель только что учрежденного Культурного клуба Нашвилла, и мисс Дейзи Дэзон, секретарь клуба. Клуб состоял исключительно из жительниц Нашвилла. Рейчэл узнала об этой организации от Джейн, которая прокомментировала: — Они забаллотировали Гильду Хинстон потому, что она не принадлежит к старым семьям. Почему они начинают с демонстрации своего снобизма? Почему бы им не развиваться культурно с течением времени? Рейчэл мельком взглянула на себя в зеркало, поправила сбившиеся волосы, пригладила воротничок платья и спустилась по лестнице. Миссис Фарисс, состоящая в браке с богатым третьим сыном английского пэра, претендовала на роль культурного вожака Нашвилла. Она окончила одну из лучших женских академий в Бостоне и все еще говорила с безупречно сохранившимся акцентом, свойственным жителям Новой Англии, при изложении своего мнения относительно всего неотесанного и провинциального в пограничном районе. Это была крупная женщина с огромным бюстом, одевавшаяся, однако, весьма скромно. Ее компаньонка Дейзи Дэзон, привлекательная гибкая женщина тридцати пяти лет, принадлежала к одному из наиболее уважаемых семейств Кумберленда. Не лишенная очарования и таланта, обычно приятная и обходительная, она могла в разговоре выпалить фразу с такой откровенной грубостью, что все присутствовавшие бывали буквально сражены. Вот уже в течение двадцати лет по этой причине она теряла вероятных мужей. Женщины приняли с сердечной признательностью предложение Рейчэл выпить холодный напиток. Вслед за этим миссис Фарисс занялась осмотром дома. — Какое интересное пианино. Это новое пианино Зумпа, изготовленное в Лондоне? А это двойной дамаст из Белфаста, судя по тому, как выпуклы рисунки цветов? Но может быть, вы хотели бы знать, зачем мы приехали? — Считаю, что это очень любезно с вашей стороны, — сказала Рейчэл, тщательно выговаривая слова. Действительно, чего хотят от нее эти леди? — Миссис Джэксон, — сказала миссис Фарисс, — я полагаю, что городское общество должно объединить свои силы с сельским обществом. Работая вместе, мы сможем преодолеть примитивизм нашей лесной глуши и сделать так, что общественная и культурная жизнь нашей общины сравняется с лучшими образцами восточных городов. Мы хотим, чтобы вы присоединились к нашему Культурному клубу и каждый вторник приходили на наши собрания. Каждую неделю будет новое мероприятие: литературное чтение, музыкальная встреча, вдохновляющая беседа… Среди наших членов — их уже тридцать — собрались сливки общества, заверяю вас. Рейчэл побледнела при мысли, что ей надо войти в комнату с тридцатью незнакомыми женщинами. — Но я не выхожу из дома… я вовсе не светская женщина. — Приходите, миссис Джэксон, вы слишком скромничаете, — сказала мисс Дэзон, окидывая взором большую, тщательно обставленную гостиную. — Мы слышали об обедах, которые вы устраивали здесь, в Хантерз-Хилл, для молодых офицеров милиции и политических друзей мистера Джэксона из Филадельфии… — Нет, нет, — прервала ее Рейчэл, — люди просто приходят, вот и все. Мы принимаем каждого приходящего. — Ну, я знаю, что вы хотите присоединиться к Культурному клубу, — твердо заявила миссис Фарисс, вставая с дивана. — Жена нашего конгрессмена имеет обязательства перед обществом. После того как женщины попрощались, сказав ей, что ждут ее на чай в доме миссис Питер Хюджен в следующий вторник, Рейчэл прошла по коридору в кабинет Эндрю. Сидя за письменным столом, заваленным книгами и бумагами Эндрю, она представила себе своего отца за таким же столом в виргинском доме пишущим письма, рисующим карты. Она почувствовала придающее уверенность присутствие обоих мужчин, и у нее потеплело на душе. Было любезно со стороны миссис Фарисс и мисс Дэзон предложить ей присоединиться к Культурному клубу, и, хотя приглашение прозвучало как приказ, все же оно было актом ее принятия в общество. Во вторник утром она встала рано и занялась новым костюмом, который хотела надеть на встречу, — своей городской одеждой, как она назвала ее накануне вечером, когда показала Эндрю мягкую саржевую юбку коричневого цвета и меховую накидку. Цвет соответствовал ее глазам и загару, а покрой придавал ей особую солидность. Юбку следовало несколько укоротить, но Сара справится с этим. Рейчэл задумалась над вопросом, так ли требовательны прочие женщины, готовясь к встрече с другими, и не могла вспомнить, чтобы раньше была когда-либо столь придирчивой к своему виду. Сара появилась, когда Рейчэл завтракала, и тут же скрылась в швейной комнате. Когда Рейчэл пришла туда, то заметила, что глаза молодой женщины были покрасневшими, а веки — влажными и припухшими. Новая юбка лежала на ее коленях, но она даже не делала вид, будто шьет. Рейчэл посмотрела на нее, потом положила руку на плечо Сары: — Что случилось, Сара? Ты заболела? — Нет, я не больна, миссис Джэксон, мэм, если не считать моего сердца. Я не могу подшить вашу юбку сегодня потому, что не хочу, чтобы вы пошли на эту встречу. Вы им просто не нужны. Вчера весь день я шила в доме миссис Фарисс. Там было около десяти леди, и они ужасно ссорились из-за вас. Рейчэл взяла юбку у Сары и дала молодой женщине свой льняной носовой платок. — О, миссис Джэксон, вы были так добры, пришли помочь мне, даже не зная меня, вы спасли моего ребенка и нашли мне работу. Вы позаботились о миссис Круднер и ее детях, когда они болели, а она всего лишь бедная вдова. Мы любим вас здесь, в нашей округе, вы не принадлежите им… горожанам. Они говорят, что вы плохая женщина. Кровь отлила от лица Рейчэл, кончики пальцев стали холодными как лед. — Продолжай, Сара. — Марта Динсмор говорила, что знала вас, когда ваш муж выгнал вас за плохое поведение из Кентукки к вашей матери. Миссис Куинси сказала, что слышала все о вас в Харродсбурге и о суде, обвинившем вас в плохом… о вашем разводе… и что она выйдет из клуба, позволившего вам стать его членом. Рейчэл оцепенела и не могла сесть в кресло, стоявшее рядом, хотя чувствовала слабость в ногах. На момент голос Сары словно ушел вдаль, ей пришлось напряженно прислушиваться к каждому слову. — Две леди сказали, что если случай именно такой, то они не хотят иметь ничего общего с вами, и что ни одна разведенная леди не может считаться порядочной, и они поражены тем, что миссис Фарисс предложила вам прийти. Миссис Фарисс сказала, что, по мнению ее мужа, мистер Джэксон станет однажды очень важным человеком в Теннесси, может быть, даже губернатором, и что на Востоке, откуда она приехала, считается важным для клуба иметь в своих рядах жен политиков, и что вся ваша мебель доставлена из Филадельфии, и ваш большой дом подходит для больших балов… Когда в четыре часа я уходила от миссис Фарисс, они все еще спорили и ссорились… О, миссис Джэксон, мэм, вы не можете пойти на эту встречу с леди, которые считают вас грешницей. Она посмотрела на Рейчэл с мольбой в глазах. Рейчэл хотелось успокоить ее, но какой смысл объяснять этому ребенку, что она была уже замужем за мистером Джэксоном, когда путешествовала по Тропе Натчез вместе с Хью Макгари? Какой смысл объяснять, что она и мистер Джэксон были женаты два полных года, прежде чем узнали, что Льюис Робардс на самом деле не разводился с ней, и что она не могла явиться в суд Харродсбурга, чтобы защитить себя? Из окна спальни Рейчэл увидела, что Джордж выводит коляску к подъезду. Он несколько часов протирал и полировал ее. Она подняла Сару со стула: — Ступай домой, Сара. Сегодня шить не будем. Когда спустишься, скажи Джорджу, что мне карета не нужна. Она взяла недошитую юбку, сложила ее и убрала в большой кедровый шкаф. Потом пошла в спальню и дернула за шнур, чтобы вызвать Молл. Быть может, горячий кофе согреет ее, снимет озноб./8/
Всегда существовала вероятность того, что в любой момент Эндрю может изменить свое мнение и вернуться в конгресс. Однако единственное в политике, что интересовало его в то лето, были осложнения у его друга и спонсора сенатора Блаунта, которого изгнали из сената за то, что он плел с англичанами заговор с целью выдворить испанцев из Луизианы и Флориды. Эндрю отклонил просьбы друзей и политических сторонников Блаунта, прибывших из Ноксвилла с сообщением, что он единодушно избран в качестве кандидата, призванного завершить оставшийся срок пребывания сенатора Блаунта в должности. Урожай был почти убран; семьдесят шесть бушелей кукурузы, собранных с акра, были самым высоким достижением в долине. Конъюнктура на рынке была благоприятной, и зерно удалось продать по высокой цене. Эндрю стал проявлять беспокойство. Она разгадала симптомы. Есть свое время возделывать поля, выращивать и снимать урожай; есть время для дома и очага, но приходит также время выйти в мир людей, бороться за то, во что веришь. Это было заложено в его характере с самого начала. Когда делегация Блаунта просила его пересмотреть вопрос о должности сенатора, она заметила, что он держит это предложение в своем кармане, то и дело вынимает документ, чтобы еще раз обдумать его характер и направленность. — На деле, это не такая уж плохая идея, как показалось поначалу, — заметил он зондирующе. — Думаю, что сенат может мне больше понравиться, чем палата представителей. Я мог бы организовать новую конференцию по делам индейцев и вернуть земли, которые мы потеряли по договору Хольстона. Кроме того, если мы поедем в Филадельфию, в сенат, то сможем купить товары для нашей новой лавки… Опасение, что ей придется оставаться одной в Хантерз-Хилл надолго, переросло почти в панику при мысли о встрече с филадельфийским обществом. — …Нет, я не могу… я должна остаться здесь и управлять… — Теперь, после такого хорошего сезона, Рейчэл, мы можем позволить себе нанять управляющего. Почему ты не хочешь поехать и посмотреть на мир? — В его голосе прозвучала нотка беспокойства. — Ты счастлива, когда к тебе приходят люди? Она плакала молча: «Все приходящие сюда к нам — на нашей стороне, они приняли обязательства, они верят мне. Но когда я должна встречаться с незнакомыми, меня это пугает, я замыкаюсь в себе. Нет, Эндрю, я не поеду с тобой».Эндрю отправился в сенат в пятницу под проливным дождем, сетуя, что это плохой день для начала путешествия, но, поскольку он должен быть в Филадельфии 13 ноября, он не мог дальше откладывать. Дождь лил еще несколько дней, а когда прекратился, небо по-прежнему было свинцовым, а виды на будущее — гнетущими. Она думала, что неудача поджидает в самое неприятное время года. Может быть, неприятность в том, что она одна? Разумеется, она не забудет чудесные весенние и летние дни с Эндрю, когда они объезжали поля под ярким солнцем или же теплыми вечерами сидели на террасе, любуясь в свете полнолуния видами окрестности. Нет, она не станет изменять прошлому. Но срок службы в сенате, вероятно, продлится до начала следующего лета, это означает, что Эндрю не будет семь-восемь месяцев. Ей хотелось бы уснуть и не пробуждаться до следующей весны подобно медведю гризли. Потом она вспомнила, что ее отец не одобрил бы такие мысли, ибо полковник Донельсон считал грехом тратить зря дни короткой жизни, дарованной Богом. Через несколько дней ее посетила Джейн и прочитала Рейчэл отрывок из письма Эндрю Роберту Хейсу:
«Прошу тебя, постарайся развеселить миссис Джэксон и не давай ей тосковать. Я оставил ее заплаканной, и это повергло меня в горе, причинив мне больше боли, чем что-либо иное в жизни, но я верю, что она скоро преодолеет грустное настроение и снова воспрянет духом. Если я узнаю об этом, то буду доволен».— Я не меланхолик, — протестовала Рейчэл. — Мне просто плохо. После ухода Джейн она легла в постель, долго и глубоко спала. Проснувшись, Рейчэл почувствовала, что во рту сухо, губы пересохли, жар не мог быть теплом комнаты в такой промозглый осенний день. — Вы здоровы, миз Рейчэл? — спросила взволнованно Молл. — Я принесу кофе. Всегда, когда она оставалась одна, к ней возвращалось отчаяние, вызванное бездетностью. Женщины рожают детей и после тридцати лет, но эти дети, как правило, продолжение длинной цепочки. Ее цепочка, казалось, оборвалась не начавшись. Почему? Все ее сестры и жены ее братьев имели детей. Даже Льюис Робардс и его жена Ханна имели сына. Одна она не выносила ребенка, не познала его любви и дружбы. Она опустила пологи кровати. Ее рассудок вернулся к первым дням жизни с Эндрю в поместье Донельсонов. Он тогда сказал: — Самое величайшее, что может иметь человек, — это, по моему мнению, семья. Как многого лишает она своего мужа, оставаясь бездетной! Прошлым летом он сказал ей: — Дорогая, Бог знает, что дать и в чем отказать. Но ведь она знает, что он вовсе не религиозен, не преклоняется перед помыслами Бога. Он сказал эту фразу, чтобы утешить ее. Лавки, которые он открывал, политика, которой, по его утверждению, он не интересуется, различные дела в Филадельфии, не являются ли они подменой, подлинного желания? Если бы в Хантерз-Хилл была дюжина малышей, то уезжал ли бы он отсюда? Это она виновата, что он не может обеспечить продолжение своего рода. Существовала ли другая, более серьезная неудача? Стала ли она иной женщиной, чем та, в которую влюбился Эндрю? С того момента, когда она услышала известие о разводе Льюиса Робардса в Харродсбурге и узнала, что попала в безвыходную ловушку, ее веселый, теплый, открытый характер изменился, был подменен образом женщины, едущей в одиночку ночью на лошади через поля, чтобы посетить больного. Неотвратимая озабоченность побудила ее замкнуться в себе, приглушить огонь ее открытой, радостной непосредственности и искать глаза людей, чтобы понять, считают ли они ее виноватой или невинной. Полюбил бы ее Эндрю, если бы в момент их встречи она была такой? Она похудела и побледнела, потеряла желание отличать серую мглу ночи от серой темноты дня. Лишь Джейн знала, что она больна, и помогала ей, подыскивая доводы, чтобы объяснить Донельсонам, почему Рейчэл не приходит на воскресные обеды. Рейчэл не помнила, как долго она пролежала в постели, мучая себя упреками, считая себя жертвой искаженных и злокозненных слухов, но всему приходит конец. Однажды утром она проснулась и увидела, что теплое ноябрьское солнце заливает светом ее спальню. Она пошарила у изголовья, желая найти шнур, и ее поразила худоба ее руки. Когда вбежала Молл, ей удалось изобразить на лице улыбку. Молл резко остановилась, всплеснула руками, прижала их к своей могучей груди и воскликнула: — Слава Богу, миз Рейчэл ожила! — Молл, я очень хочу есть… впервые с того момента, как узнала, что мистер Джэксон уезжает в сенат. Джейн вошла в тот самый миг, когда она сидела в большом тазу и обливала себя теплой водой. — Как говорит Молл, слава Богу. Некоторое время я думала, что ты отрешилась от всех удовольствий плоти. Рейчэл посмотрела на себя и огорченно покачала головой: — Такое впечатление, что у меня почти не осталось плоти. — Молл нарастит мясо на твои кости. Меня беспокоит то, что ты ослабела духом. — Он почти исчез, моя дорогая. Но думаю, что теперь со мной будет все в порядке. Я сделала большое открытие. — Хорошо, оставлю тебя с твоим открытием. Подставь свое отощавшее личико под солнце. — О, Джейн, я не стала уродливой? — Нет, дорогая, ты не можешь стать уродливой. У тебя есть внутренний свет, он излучает тепло и блеск и будет хранить тебя красивой всю жизнь. Молл помогла одеться, накинула на нее теплый шерстяной плащ и красное вязаное покрывало. Рейчэл уселась на веранде, подставила свое лицо лучам солнца, думая о том, что не шутила с Джейн, когда сказала сестре об открытии. Она полагала, что ее любовь к Эндрю была такой большой и полной, какая только может выпасть на долю женщины. Теперь же она осознала, что обманывала его и себя, придерживая, припрятывая любовь и привязанность, сохраняя их для детей. Теперь будет иначе. Не будет надуманных ограничений, никаких тайников. Ее любовь станет еще сильнее. Она никогда не будет вновь одинокой или несчастной. Важно познать всю полноту припасенной любви и довериться ей. Она сможет спокойно взирать на бег времени, понять свою ответственность и выполнить свой долг. Она не только уцелеет, но и будет счастлива. Ее отец был прав: дни, дарованные каждому, ценны, и их немного. Она не заботилась о своем внешнем виде с тех пор, как они переехали в Хантерз-Хилл. Ей приходилось работать в поле при сильном ветре, под дождем, под жгучим солнцем. По ночам ее будили соседи, и она выходила из дома и в снег, и в слякоть, высиживала до утра в тесных хижинах, возвращалась домой уже после восхода солнца и приступала, не отдохнув, к дневной работе. Эндрю говорил ей о ее красоте, о бархатистости глаз, мягкости кожи, богатстве длинных темных волос, гибкости фигуры. Не постарела ли она к тридцати годам? Не растеряла ли былую привлекательность? В этот полдень она надела свой самый красивый зимний костюм, а поверх него — стеганый капот, и Джордж отвез ее в Нашвилл. Как на главной улице, так и вдоль реки появились новые дома. На городской площади она увидела методистскую церковь — первую настоящую церковь в Нашвилле. Снаружи здание суда выглядело точно так же, как в то время, когда она, ее мать и Сэмюэл посетили суд, чтобы послушать, как Эндрю и Джон ведут свои дела. Рейчэл направилась в лавку Ларднера Кларка и купила там новые щетки для волос, крем для кожи, французский одеколон и нежно пахнущую пудру для лица. Затем с некоторым чувством стеснения она выбрала небольшую баночку румян, задаваясь вопросом, осмелится ли она когда-либо ими воспользоваться. Она вспомнила рассказ Эндрю о законе, принятом в Пенсильвании, согласно которому брак может быть аннулирован, если доказано, что во время ухаживаний жена «обманула и сбила с толку» своего будущего мужа с помощью косметики. Но в законе не было ничего такого, что запрещало бы замужней женщине удерживать мужа с помощью небольшой уловки! Рейчэл приказала Джорджу отнести покупки в карету, а затем галопом возвратилась в Хантерз-Хилл. Она уселась перед зеркалом на туалетном столике и увидела в нем свое отражение. «Мои волосы надо расчесывать утром и вечером, — подумала она, — мыть жидким мылом, как это делает Джейн». Она разглядела морщинки, появившиеся около глаз. Но ее кожа была упругой, губы — пухлыми и ярко-красными. Ее лицо похудело, слегка выпирали скулы, подтянулся подбородок. Рейчэл чувствовала себя помолодевшей, совсем девушкой, ожидающей возвращения возлюбленного.
/9/
В ту зиму 1797 года, когда Эндрю был в отъезде, лишь немногие визитеры посещали Хантерз-Хилл. Для соседей, убедившихся, что она готова прийти на помощь независимо от характера болезни или беды, она стала Тетушкой Джэксон. Соседи брали у нее взаймы лошадь для вспашки, топор, семена для посева, мясо и другой провиант. В районе нескольких миль не осталось хижины, в которой бы она не ухаживала за больными, не утешала пострадавших, не помогала хоронить умерших. Ее часто видели на фоне полей и лесов на лошади верхом, когда она, узнав, что кто-то заболел в Кумберленде, развозила лекарства. Она ехала туда, куда ее звали, не спрашивая, о ком идет речь или в чем дело, не осуждая никого и не требуя возмещения. Согласно письмам Эндрю, сенаторы мало что делали, помимо того что, сидя в своих больших красных креслах, наблюдали через свои подзорные трубы за войной между Англией и Францией. Он заказал себе красивый коричневый костюм с бархатным воротником и жилетом, подстриг волосы, снял номер в удобном постоялом дворе, где присутствовал на обеде, организованном бывшим сенатором Аароном Берром. Помимо ходатайства повысить оклад Джону Овертону, назначенному инспектором государственного дохода, а также усилий по продвижению Роберта Хейса на пост судебного исполнителя, его единственным важным занятием было убедить сенат, что конференция по договору с индейцами должна быть проведена в Теннесси. К концу января, когда обе палаты и президент Адамс[10] согласились на договор с индейцами, признаки его возросшей активности начали умножаться. Он прислал домой размеры и план лавки, которую он хотел, чтобы она построила, и приобрел на шесть тысяч долларов товаров для будущего торгового центра. Ей пришлось выяснить, кто из ее молодых племянников готов принять участие в бизнесе. Сын ее сестры Катерины Джон Хатчингс, вежливый парень двадцати двух лет, с удовольствием ухватился за предложение. В одну из мягких весенних ночей она сладко спала и вдруг, раскрыв глаза, увидела стоящего у постели Эндрю. Он выехал из Филадельфии 12 апреля и сопровождал приобретенный им товар до водопада на Огайо, проехав последние сто восемьдесят миль за три дня и три ночи. Он валился с ног от усталости. — Дождь и мокрый снег преследовали меня целую неделю. Моя первая лошадь захромала, а вторая заболела и пала. Некоторые хижины, где я останавливался на ночь, были самыми бедными из виденных мною. В одной из них щели в бревенчатом полу были такими широкими, что, проснувшись, я обнаружил в постели змею. — Поделом тебе. Оставайся дома, с женой. В награду она получила его улыбку. Рейчэл надела халат и подошла к зеркалу, чтобы расчесать волосы. Посмотрев в зеркало повыше, она увидела, что Эндрю встал на колени сзади нее и рассматривает свое отображение. — Ты отправила меня чистым, толстым, ухоженным, но посмотри, каким я вернулся к тебе. В свои тридцать лет я выгляжу вдвое старше. На скулы можно навесить по ружью, глаза так ушли в глазницы, словно готовы вывалиться наружу с другой стороны. Хорошо, что ты вышла замуж за меня не ради моей красоты. Рейчэл повернулась, взяла в свои руки его обросшее щетиной лицо и ответила ласковым голосом: — Ой, именно поэтому и вышла. И ты никогда неказался мне таким хорошим, как в этот самый момент. Эндрю обнял ее и поцеловал. — О, Эндрю, — прошептала она, прижимаясь к его щеке, — сохранить любовь среди жизненных невзгод… — …Все равно что сохранить жизнь в ходе войны. У Рейчэл сложилось впечатление, что Эндрю уехал из Филадельфии потому, что был объявлен перерыв в сессии сената. Но через несколько дней она узнала, что сессия сената продолжается. Она пришла к нему в кабинет в тот момент, когда он писал на имя губернатора Севьера прошение о своей отставке. — Я просто должен был убежать оттуда. Когда станут известны результаты индейской конференции и люди узнают, какие земли возвращены Теннесси, они не станут обижаться на мою отставку. Именно для этого я ездил туда и вернулся, когда работа была завершена. Он развернул небывалую активность. Новая лавка процветала. Получив наличными первые прибыли, он построил причал и плоскодонку, служившую паромом. Он работал с управляющим на полях от зари до полудня, купил хлопкоочистительную машину, которую приметил в Филадельфии, и ездил по округе, объясняя плантаторам, как эффективно работает эта машина, предлагая очищать их хлопок за определенный процент. Он не приобрел еще, как хотел, первую чистокровную лошадь, но каждый раз, когда посещал округ Самнер, добирался до ипподрома Хартсвилла и присутствовал на скачках. В Филадельфии Эндрю приобрел большую юридическую библиотеку и вновь стал выезжать в Нашвилл, чтобы вести несколько дел, которые просили взять его прежние клиенты. — Я рада, что ты снова увлекся правом, Эндрю, — заметила она. — Я никогда не могла понять, почему ты хотел его бросить. — Юрист никогда не расстается с правом. Часы с ним стали еще более приятными для Рейчэл, чем когда-либо. Нужно, чтобы так было и дальше. Иногда, наблюдая, как Эндрю выполняет работу нескольких человек, она понимала, что он больше чем ее ребенок — целый выводок детей и что требуется вся ее сила и преданность, чтобы сохранять его счастье и работоспособность. Однажды осенним вечером из конторы в Нашвилле вместе с Эндрю приехал Джон Овертон. Входя в дом, мужчины были увлечены беседой. — В чем дело, Эндрю? — Да открывается вакансия в верховный суд штата. Законодательное собрание должно выбрать нового судью в декабре. Мистер Блаунт, генерал Робертсон, губернатор Севьер думают, что следует выставить мою кандидатуру. — Я с ними согласна! — от души воскликнула Рейчэл. — Расскажи мне подробнее. — Назначение на срок в шесть лет, оплата — шестьсот долларов в год… наличными. Это независимое учреждение, стоящее вне политических фракций и споров. Я должен буду совершать объезды, как делал, будучи прокурором, но смогу вместе с тем управлять плантацией и лавкой… Рейчэл откинула волосы со лба назад и широко улыбнулась. «Это хорошо, — подумала она. — Это надежно. Судьи выше… сплетен, никто не осмелится перечить судье… или его жене…»/10/
Рейчэл не стала ждать, пока законодательное собрание выберет Эндрю, а принялась прясть, красить и ткать льняное полотно. Перспектива шести лет жизни без перемен и с постоянной должностью мужа побуждала ее шутить с легким сердцем, когда она набросила черную ткань на плечи Эндрю. — Судя по количеству ткани, необходимой, чтобы облачить тебя, — поддразнила она, — ты станешь очень крупным судьей. Без шуток. — По карману ли нам эта драпировка, — спросил он, в то время как она накидывала на него ткань, — при окладе всего шестьсот долларов в год? — Ты знаешь, что мне нравится больше всего в этой работе? То, что я буду знать, что ждет меня завтра. Не кажется ли тебе это скучным? — Я составлю тебе график на каждый день в году. Раздрапируйте теперь меня, леди, у меня куча дел. У него всегда была куча дел. Он не любил праздности: построил винокуренный завод, купил недвижимость в Галлатине и Лебаноне и строил там хижины под отделения лавки. Из Филадельфии прибыла хлопкоочистительная машина, хлопок стал поступать по реке на плоскодонках к их причалу, а также по суше в длинных фургонах. После того как плантаторы доставили свой хлопок и закупили припасы, Эндрю пригласил их в Хантерз-Хилл выпить и закусить. Она обнаружила, что если она накроет стол на двадцать человек — на такое число всегда готовили стол ее родители, — она допустит лишь небольшую ошибку в ту или другую сторону. Эндрю нравился этим людям, и они верили ему. Подобно тому как его успех в конгрессе относительно экспедиции Никаджака превратил Эндрю в кумира молодых милиционеров, установка хлопкоочистительной машины и успешная торговля хлопком сделали его лидером в бизнесе. Эндрю был официально избран в верховный суд 20 декабря 1798 года. Джон Овертон заглядывал часто, чтобы обсудить предстоящие дела и порассуждать относительно законов. — Ну, Джон, ты знаешь, что у меня нет способностей к абстрактному мышлению. Предоставь мне набор фактов, разделяющих спорщиков, и я найду справедливое решение. — Но такое решение должно вытекать из универсальных принципов права. — Так и будет, Джон, когда ты сидишь на судейском месте. Что касается меня, то я все еще пытаюсь найти справедливость между двумя сторонами. В этом для меня суть права. Джон ходил по кабинету, лениво рассматривая стопку книг, сложенную на боковом столике. — Почему открыты книги по военным вопросам? — спросил он. — Я думал, что ты читаешь Блэкстона. Рейчэл также заметила, что Эндрю вновь принялся изучать военную науку. У него было глубоко укоренившееся уважение к праву и к положению судьи, но, когда она видела его сверкающие глаза при чтении книг по военным вопросам, его напрягшееся над письменным столом тело, каждая частица которого вибрировала жизнью, она не могла не осознать, что это и есть та область, которая его более всего привлекает. — Эндрю, убеждена, что ты хотел бы стать профессиональным солдатом. Я имею в виду — кадровым офицером федеральной армии. — Какой армии? — фыркнул он. — У нас нет такой! Конгресс, президент да избиратели боятся постоянной армии… потому что в Европе армии всегда использовались против народа. — Этого приходится бояться, Эндрю. Даже мистер Джефферсон против. — Да, там, где правительства подчиняются монархам. Мы же могли бы использовать нашу армию для собственной обороны. Ведь в действительности Англия вовсе не оставила в покое нашу страну. Однажды она вернется с войсками… это так же верно, как то, что мы сидим здесь вместе. При взгляде на карты с нарисованными им пехотинцами, пушками и конницей казалось, будто он занимается игрой. Но выражение каждой линии его подтянутой фигуры отражало такую страсть, что в конце концов и она прониклась его убежденностью. Доктор Хеннинг прислал записку с сообщением, что ее мать слегла с воспалением легких. Рейчэл немедля отправилась ухаживать за ней, и, как только миссис Донельсон достаточно поправилась, чтобы отправиться в путь, Эндрю перевез ее в Хантерз-Хилл. Рейчэл считала, что в свои семьдесят шесть лет ее мать остается красивой, морщины у глаз стали глубже, но в волосах не было и следа седины. Эндрю суетился около нее, повторяя: — Теперь вы останетесь у нас навсегда. — Ты очень добрый, Эндрю. Но полковник Донельсон и я вместе построили наше поместье, и, когда подойдет моя очередь, я хочу умереть дома и там же быть похороненной. Миссис Донельсон с одобрением наблюдала за тем, как ведет хозяйство Рейчэл. — Ты похожа на меня, Рейчэл… — …А Эндрю напоминает тебе отца? — Да, деятельность здесь уже не удовлетворяет его, подобно тому как наша плантация в Виргинии не была достаточно большой, чтобы удержать отца. Но именно такое упрямство идти вперед побудило меня влюбиться в него… и всегда поддерживало мою любовь. Рейчэл наклонилась вперед, локти ее рук, касавшихся лица, упирались в колени. — Одно время я молилась: «Боже милостивый, сделай моего мужа счастливым дома, с тем чтобы ему хотелось оставаться со мной». — А сейчас? — Теперь я молюсь: «Боже милостивый, дай ему задачу и миссию, которые были бы достаточно большими и достойными его способностей и энергии». Вопреки ее ожиданиям, что выборы Эндрю на пост судьи оградят их личную жизнь от низменных слухов, она обнаружила, что именно эти выборы сделали и его объектом унизительных пересудов. Итак, следующие десять лет им придется жить в отравленной атмосфере слухов: они будут влиять и воздействовать на оценку каждого их шага, каждой мысли. Как легко распространяются слухи, как легко они воспринимаются и становятся полуправдой! Даже счастливые дни коротких передышек, когда не было нападок, оказывались периодами накопления и отыскания сплетен для очередной осады. Как безошибочно пущенный кем-то слушок, основанный на сомнительном факте, удаляет из него всякую суть, извращает и искажает, готовя смертельный удар. Несмотря на то что Эндрю заслужил похвалу всего штата, избавив его от слабых и коррумпированных шерифов, упрочив авторитет местных служащих суда и утвердив неколебимое уважение к судейству, в Нашвилле нашлись такие — прежде всего многие женщины из Культурного клуба, — которые лезли из кожи вон и старались доказать, будто миссис Джэксон — женщина из глухомани, способная иметь дело лишь с бедными и неграмотными переселенцами, а мистер Джэксон не обладает достоинством и манерами настоящего судьи. Они напоминали критические замечания Эндрю в адрес Джорджа Вашингтона, и в частности избрали Эндрю мальчиком для битья в своих панегириках по усопшему Вашингтону. Эндрю обвиняли в том, что он представлял в палате скорее милицию, чем штат Теннесси, что, оставив пост сенатора, он не завершил свою работу. Повторялись рассказы о его ссорах: о ссоре с судьей Макнейри, вызванной тем, что брат Макнейри распространял необоснованные утверждения, ссора эта была улажена Эндрю и его старым другом; о ссоре с сенатором Коком, утверждавшим, будто Эндрю был нелегально назначен губернатором Севьером на его, Кока, место в сенате, эта ссора почти привела к дуэли; о ссоре трехлетней давности с губернатором Севьером, когда выбирался первый генерал-майор милиции Теннесси, и Эндрю удалось сорвать маневры губернатора, стремившегося присвоить себе право назначать людей по своему выбору. Ссорившиеся обзывали друг друга, но затем оба извинились и восстановили прежнюю дружбу. Рейчэл казалось, что Джон Овертон и Сэмюэл посмотрели на нее несколько странно, когда она попросила их не обсуждать россказни с Эндрю. Несколькими неделями позже она узнала, что ее муж также старается развеять кампанию сплетен, направленную против нее. Услышав разговор такого толка вблизи своей лавки, Эндрю попросил одного приятеля установить источник и выяснить, не кухня ли Бетси Харбин — центр такой активности? Приятель был вынужден сообщить запиской:«Я не могу узнать, говорила ли Бетси что-либо оскорбительное о миссис Джэксон».После этого Эндрю поинтересовался, не является ли носителем сплетен миссис Болл. Проводивший расследование ответил:
«Клянусь вам, что миссис Болл ни прямо, ни косвенно не говорила такого, что может подорвать репутацию миссис Джэксон».Рейчэл потрясла мысль, что Эндрю тратит время и энергию на борьбу против кухонных сплетен. Вопрос о неутихающих пересудах об их прошлом никогда ими не обсуждался: слишком болезненным он был для них. Каждый нес свой крест и делал вид, что ничего не знает о происходящем. Она подкараулила мужа в его кабинете: — Эндрю, я не могу позволить тебе тратить время и энергию на пресечение слухов. Это многоголовая гидра. Соединенные армии мира не смогут остановить болтливых женщин. — Но почему они хотят навредить нам? — Это моя вина. Я не подчинилась требованию миссис Фарисс о присоединении к ее группе. Я намерена стать членом Культурного клуба, посещать их встречи и устраивать им приемы здесь… Это заявление стоило ей огромных сил. Она искала утешения в его объятиях. Он сел на угол письменного стола и крепко прижал ее к себе: — Рейчэл, не делай ошибки. Если они смогут победить тебя такими методами, то ты не только станешь их рабом, но и окажешься жертвой любой ничтожной личности, прибегающей к клевете ради своих выгод. Мы не совершили преступления, мы не нарушили ни одной заповеди, мы не оскорбили ни одного мужчину и ни одну женщину и помогли многим. Мы должны быть стойкими внутри себя. Ее удивил суровый тон его голоса. — Я хочу одного, Эндрю: чтобы люди прекратили пересуды о нас. — У нас есть верные и любящие друзья по всему Теннесси. В Ноксвилле и Джонсборо меня неоднократно спрашивали: «Почему бы вам не взять с собой миссис Джэксон при следующем приезде?» Клянусь Всевышним, Рейчэл, ты поедешь со мной! Это была ее первая поездка с Эндрю с тех пор, как они прошли по Тропе Натчез. Для такого выхода в свет ей потребовались дорожные платья, длинные платья для встречи за чаем с дамами Ноксвилла и для посещения судов; плащи и шали, туфли и перчатки, шляпы и гребни из слоновой кости. Она сама сшила себе платья, отделку пришлось купить в Нашвилле в лавках Татума и Кларка. Она осмотрела рулоны хлопчатобумажной ткани и более плотной льняной ткани, хранившиеся в швейной комнате на полках, затем прикинула, сколько кружев, бархата и тонкого батиста потребуется ей для трехмесячной поездки. Рано утром приходила Сара Бентли и принималась за шитье. Рейчэл посматривала через ее плечо на размеры: вне всякого сомнения, объезжая культивируемые поля, она прибавила пару дюймов к окружности своих бедер. Она наполнила свои шляпные коробки и два видавших виды сундука Эндрю, а потом послала к Джейн еще за одним. Ее надушенный носовой платок превратился в мятый комочек к тому моменту, когда их карета спустилась к подножию холма Хантерз-Хилл. В Ноксвилле губернатор Севьер устроил для них официальный банкет, на который были приглашены члены правительства штата. Семья Блаунт устроила превосходный бал. Уильям Блаунт, бывший сенатор, умер несколько месяцев назад, но Уилли, его единокровный брат, был так же предан. Эндрю. В Хартсвилле они были почетными гостями на открытии сезона скачек. Рейчэл не вела подсчета, сколько семейств приняла она в Хантерз-Хилл, но в каждом пункте по маршруту объезда их ожидал праздничный прием. Ее страхи утихли, к ней возвратились жизнерадостность и веселость в окружении старых друзей. И так было с раннего утра и до позднего вечера, когда ей и Эндрю удавалось сбежать к себе. Лежа рядом с мужем, она закрывала глаза и думала о том, какую радующую глаз картину она увезет в Хантерз-Хилл: Эндрю — председатель суда в Ноксвилле, красивый в своей черной мантии, его высокая тонкая фигура возвышается в зале суда, его лицо серьезно, глаза — суровы, служащие, адвокаты, клиенты смотрят на него с уважением. Она знала, что он всегда держал на маленьком столе, скрытом от публики, но в пределах его досягаемости, пару пистолетов, поскольку в судах, особенно в поселках, близких к границе с индейцами, случались перебранки и драки. Ее поражало, как растет штат Теннесси. Когда полковник Донельсон завершил путешествие на «Адвенчере» и семья разбила палатки на Кловер-Боттом, его группа вместе с группой полковника Робертсона насчитывала около двухсот человек. Ныне же в штате проживало более ста тысяч человек, а переселенцы все прибывали и прибывали так стремительно, что временами карета Джэксонов не могла двигаться по главной дороге, загроможденной фургонами иммигрантов. Глухие места, через которые она и Эндрю пробирались, завершая поездку по Тропе Натчез, были усеяны процветающими поселениями. Тропа превратилась в сносную дорогу, и по обе ее стороны Рейчэл видела хижины, сараи, поля, засеянные кукурузой, хлопком и табаком. Там, где она и Эндрю спали на земле, готовили пищу на костре, теперь стояли удобные постоялые дворы, окружные управления, здания суда, церкви. Действовала почтовая служба, и Рейчэл могла посылать письма своей матери и Джейн. От Джейн она узнала, что сообщения о балах и банкетах в ее честь заставили ее недругов приумолкнуть.
/11/
Хантерз-Хилл и лавки продолжали приносить прибыль. — Это хорошо, — ворчал Эндрю. — Я работаю на округу, на территорию, на штат и государство вот уже двенадцать лет и тем не менее должен сам зарабатывать деньги на расходы. Когда работаешь на правительство, то не разбогатеешь. — Ты вроде бы и не должен, Эндрю. Генералы также не становятся богачами. Но ведь твоим именем назван новый район — округ Джэксон. Их спокойствие часто нарушали внешние события. У Джона Овертона соперник увел девушку, за которой Джон ухаживал. Стокли, который сорвал около двухсот тысяч долларов в гигантской земельной спекуляции, был осужден вместе со своим тестем штатом Северная Каролина за мошенничество с земельными участками, хотя губернатор Севьер отказался удовлетворить требование о выдаче Стокли. В июне сгорел винокуренный завод Джэксона и погибло триста галлонов виски, а также вышли из строя перегонные кубы, крышки и запорные устройства которых расплавились. К концу лета умерла миссис Донельсон, и ее похоронили, как она и просила, на ее собственной плантации. Северн, самый болезненный член семьи, вскоре женился на Элизабет Рукер, которая была моложе его на девятнадцать лет. На рубеже столетий почти каждый в Теннесси голосовал за республиканцев — за Томаса Джефферсона и Аарона Берра, они оба нравились западным штатам. Когда по техническим причинам Берр получил такое же число голосов выборщиков, как Джефферсон, выборы были перенесены в палату представителей, где потерпевшие поражение и недовольные федералисты, ненавидевшие Джефферсона за его революционность, делали все, чтобы сорвать выборы и посадить Берра в кресло президента. Аарон Берр пользовался любовью жителей Теннесси, будучи одним из лидеров борьбы за допуск штата в Союз, но даже они удивлялись, почему Берр не поднялся на трибуну в палате и не сделал заявление, что он баллотировался на пост вице-президента; это было бы честным поступком, и сразу кончились бы парализовавшие страну споры. Они приобрели нового друга — Джона Коффи, капитана милиции и единственного человека, который, по оценкам Рейчэл, был значительно крупнее Эндрю в физическом смысле. Эндрю обладал решительностью волевого и смелого человека, а Коффи был добродушно силен. Крепко скроенный, он был мягким, как барашек, которого она выкормила в Поплар-Гроув, и одновременно такой большой, что заполнял любую комнату, в которую входил. Эндрю спрашивал: — Джакс, я стараюсь говорить по большей части правду, но мне кажется, что иногда делаю промашку. Как тебе удается все время попадать в яблочко? Лицо Коффи было полным и круглым, а кожа загорелой. Он жил на открытом воздухе, работая землемером, и плавал на собственной плоскодонке, развозя по соседним поселкам бочонки с солью. — Я недостаточно умен, чтобы разбираться в различных видах правды, — ответил он. — Они все выглядят для меня одинаково. Эндрю вновь погрузился в политическую борьбу, разыгравшуюся в штате. Губернатор Джон Севьер отслужил в своей должности три срока подряд и должен был в соответствии с конституцией выйти в отставку хотя бы на один срок. До этого момента политику в Теннесси контролировали на дружеской основе семейство Блаунт и Севьер. Теперь же фракция Блаунта, к которой принадлежал Эндрю, решила образовать собственную партию и выбрать собственного губернатора. В начале года на собрании в доме Блаунтов был выбран друг и коллега Эндрю — судья Арчибальд Роан. Эндрю сопротивлялся значительному давлению, оказывавшемуся на него, вновь выставить свою кандидатуру в конгресс. — Я не хочу уезжать из штата, — признался он Рейчэл. — Генерал-майор Конуэй болен, я думаю, что через год милиции потребуется новый командующий… Генерал-майор Конуэй скончался. Были объявлены выборы нового командующего. Джон Севьер тут же выдвинул свою кандидатуру; столь же быстро группа милиционеров предложила кандидатуру Эндрю. Зная, как страстно Эндрю желал получить эту должность, Рейчэл полагала, что он выйдет в отставку с поста судьи и начнет кампанию. Вместо этого он сказал ей: — Я всегда считал, что пост ищет человека, а не наоборот. Я не говорю, что человек не вправе стремиться занять пост, подготовить себя к нему и даже оповестить людей, что он овладел мастерством… — Тогда ты действительно веришь, что у тебя есть шанс? — Да, и хороший шанс. Семнадцать офицеров милиции отдали свои голоса Севьеру, семнадцать — Эндрю Джэксону. Согласно конституции штата, решающий голос был за вновь избранным губернатором Роаном. Бывший губернатор Севьер, огорошенный ровным счетом, направил Эндрю записку с просьбой снять свою кандидатуру. Эндрю ответил, что он не станет подводить поддерживающих его и, по его мнению, надлежащим образом установленная власть должна принять решение. Глубоко обозленный Севьер заявил: — Что такого сделал этот рыжий выскочка, что давало бы ему право стать главнокомандующим Теннесси? Весь его военный опыт и служба сводятся к тому, что во главе пятнадцати или двадцати человек он действовал против дюжины индейцев. Его друзья утверждают, что он имеет репутацию бойца. Бойца против кого? Губернатор Роан отдал решающий голос за Эндрю. Эндрю ликовал. Рейчэл заметила: — А я думала, что ты всего лишь мальчик, гоняющийся за солнечным зайчиком. Эндрю рассмеялся: — Я не позволю никому называть меня генералом, пока не выиграю сражения. Однако во время болезни Конуэя дисциплина милиции ослабла, и моя первая задача — восстановить ее боевой дух. Штат Теннесси должен знать, что он получил нового командующего. Я не успокоюсь до тех пор, пока милиция не станет первоклассной боевой силой. Рейчэл чувствовала, что он воодушевлен. И все же, может ли человек заседать в верховном суде и одновременно быть генерал-майором милиции?Для своего первого общего смотра в мае в Нашвилле Эндрю сшил форму, первую в своей жизни: высокий воротник, почти до ушей, длинный двубортный сюртук с двумя рядами пуговиц, шитые золотой тесьмой эполеты, перекинутая через плечо яркая лента. Он пытался уговорить Рейчэл поехать с ним на смотр — крупное событие года для Нашвилла. Все офицеры облачились в красочную амуницию, солдаты надели охотничьи рубахи с бахромой; лучшие стрелки штата должны были принять участие в стрелковых соревнованиях. Во многих отношениях смотр был фактически окружной ярмаркой, на которую приезжали торговцы-разносчики, фермеры с лошадьми, коровами и свиньями на продажу, хозяйки, рассчитывавшие заработать на фруктовых консервах, пирожники, расхваливавшие свои имбирные пирожки, горшечники и кузнецы, выставлявшие свой товар. Эндрю должен был обеспечить осмотр пехотинцев, чтобы удостовериться, что каждый офицер вооружен саблей, а у каждого солдата имеется либо мушкет с патронташем на девять зарядов, либо ружье, рожок с порохом, подсумок, запасной кремень, шомпол и щетка. Что касается конных, то следовало проверить посадку солдата в седле, само седло, упряжь, пистолет, палаш и ножны, ботинки, шпоры, патронташ и заряды. Милиционеры не получали довольствия и должны были сами обеспечить себе лошадей, форму, ружья и боеприпасы. Эндрю был полон решимости выколотить фонды у законодательного собрания и улучшить положение милиционеров. Он выбрал для смотра самую резвую лошадь, но плохое известие дошло до Хантерз-Хилл быстрее, чем возвратился генерал. Его привез капитан Джон Коффи; его обычно приветливое лицо было мрачным, когда он рассказывал: — Причина, почему я здесь, в том, что боюсь, как бы мистер Джэксон не наделал чего-либо впопыхах. Вы должны успокоить его. На смотре был молодой парень, Чарлз Дикинсон, друг Севьера. Утверждают, что он самый блестящий молодой адвокат в Нашвилле. Его подготовил Джон Маршалл. Дикинсон стоял с приятелями, когда генерал приехал на плац. Кто-то спросил: — Какой великий военный подвиг совершил мистер Джэксон, который давал бы ему право на такой высокий ранг и такую шикарную форму? Под влиянием выпитого виски Дикинсон ответил достаточно громко, чтобы вокруг услышали: — Ну, джентльмены, он совершил самый смелый подвиг. Он отобрал жену у другого мужчины! Рейчэл тяжело оперлась на камин, она дрожала. — Дикинсон имеет репутацию самого меткого стрелка в долине Кумберленда, мэм, — продолжал Коффи. — Эндрю — превосходный командующий, но я могу обойти его в точности стрельбы в десять раз. Не допускайте, чтобы он вызвал Дикинсона на дуэль. Если будет стрельба, я предпочел бы быть по другую сторону. Рейчэл поблагодарила Джакса за его готовность сражаться за нее, затем поднялась в свою комнату и бросилась ниц на кровать. Она хотела выиграть время, чтобы успокоилось учащенно бившееся сердце до того, как она встретится с мужем. Она не могла поверить, что джентльмен способен отпустить такую грубую шутку лишь потому, что Эндрю побил его приятеля на выборах. Коффи признался, что Дикинсон выпил, и это несколько умаляло его вину. Но как же засела в его уме их история, если она могла столь спонтанно сорваться с его языка! Она подумала: «Эндрю и я женаты уже полных десять лет. Неужели они никогда не забудут? Замечание Чарлза Дикинсона будет повторяться по всему Теннесси, в каждом доме, лавке и таверне…» Ее имя — зацепка для праздных разговоров. Вдруг она присела на кровать: ведь Эндрю скачет сюда, в Хантерз-Хилл. Ее голова просветлела: каким бы гнусным ни было замечание Дикинсона, его суть состояла в том, что Эндрю отвоевал ее у мужа. Она убедит Эндрю, чтобы он признал свою победу и не раздувал дело. Он не должен забывать сказанное, но и не должен предоставлять сплетникам дополнительные поводы для раздувания скандала. Эндрю нехотя согласился с ней.
/12/
Рейчэл сидела за столом из орехового дерева перед раскрытой бухгалтерской книгой. Эндрю тихо подошел к ней, наклонился и поцеловал ее в макушку. — Нам повезло, что твой отец научил тебя вести расчеты в этой математической книге. Теперь Хантерз-Хилл финансирует все остальные виды нашей деятельности. Она повернулась, почувствовав серьезную нотку в его голосе, плохо замаскированную поддразниванием. — У меня возникли проблемы в лавке, — признался он. — Джон Хатчингс — хороший клерк, но у меня столько дел, и управление легло на его плечи… а он еще слишком зелен. У него возникли также значительные неурядицы с Томасом Уотсоном, которого он нанял вести крупные операции с хлопком и от которого он не смог добиться отчетности. Неприятный инцидент на смотре стал началом ряда осложнений. То, что казалось дружеским расхождением с бывшим губернатором Севьером, приобретало характер политической борьбы до победного конца. После нескольких лет, в течение которых мнение Эндрю как судьи принималось с доверием, два новых вердикта вызвали поток проклятий на его голову. Первым было дело, рассматривавшееся им вместе с двумя другими судьями на выездной сессии апелляционного суда. Это дело вел он сам при судье Макнейри в качестве прокурора. Ныне же как член апелляционного суда он пересмотрел свое решение, и его обвинили в непоследовательности, изменчивости, ненадежности. — Я не вижу, чтобы у меня был большой выбор, — увещевал он Рейчэл, когда они сидели за ужином, пробегая критические статьи ноксвиллских газет. — Я мог бы согласиться с моим решением десятилетней давности, и меня назвали бы последовательным. Но я должен был принять решение в соответствии с тем, что считаю законным и отвечающим сегодняшнему дню. Вскоре последовал новый взрыв. Обнаружив, что петиционер был одним из тех, с кем он находился в натянутых отношениях, Эндрю пригласил адвоката петиционера и просил его потребовать отложить дело, с тем чтобы его рассматривал другой судья. Эндрю немедленно объявили не способным решить вопрос на законных основаниях. То, что эти нападки носили политический характер, мало успокаивало ее. Джон Севьер, ныне имевший право вновь выставить свою кандидатуру на пост губернатора, так и сделал. Губернатор Роан поступил таким же образом. Севьер и его политические последователи выпустили залп, обвиняя Роана, Джэксона и их сторонников в лицемерии. Эндрю утверждал, что Севьер больше не подходит для губернатора: — Я могу доказать, что он глубоко замешан в мошенничестве с земельными участками в Глазго. Я намерен разоблачить его, показав, как менялись цены и фальсифицировались даты. Ну, они украли почти шестую часть земель штата Теннесси. Рейчэл была шокирована: разве это не то же самое дело, в которое был вовлечен несколько лет назад Стокли? — Эндрю, не обвинят ли тебя люди, что ты делаешь это ради политических целей, чтобы побить Севьера на выборах? Не может ли губернатор Роан быть переизбран без такого разоблачения? — Нет, Севьер слишком хороший актер. Он подавит штат, шагая с саблей на боку, и вновь переживет тридцать сражений, что он выиграл во время Войны за независимость. «И он выиграет, — подумала Рейчэл. — Его группа вновь вернется к власти, а группа Эндрю будет изгнана. Если Эндрю хочет удержаться в суде, то и это ему не удастся». Но она была не готова к шуму, возникшему в связи с обвинительным письмом Эндрю, которое опубликовала теннессийская «Газетт» 27 июля 1803 года. Каждый в штате либо сам читал это письмо, либо ему прочитали, и все жадно обсуждали обвинения, выдвинутые Эндрю, и оправдания Севьера, опубликованные в той же «Газетт» 8 августа. Эндрю уехал из Хантерз-Хилл на сессию суда в Джонсборо, по дороге заболел, и понос так его измотал, что он с трудом мог держаться в седле. Едва он добрался до постоялого двора, как появилась толпа сторонников Севьера, угрожавших вымазать его дегтем и вывалять в перьях. Эндрю вышел навстречу с двумя пистолетами наизготове. Толпа поняла, что он выстрелит, и разбежалась. Спор уже шел не между двумя губернаторами. Люди спрашивали: — Вы за кого, за Севьера или за Джэксона? Через несколько недель они выбрали Севьера большинством в одну треть голосов. — Кому было хуже, по-твоему, — спросила Джейн Рейчэл, — христианам, которых в Колизее пожирали львы, или их сторонникам на трибунах, видевшим это? — Сторонникам, — ответила Джейн, — они просыпались на следующее утро и вспоминали увиденное накануне. «Я в еще худшем положении, — думала Рейчэл, — у меня такое, словно я нахожусь в катакомбах в ожидании своей очереди…» 1 октября 1803 года, после того как прекратилось заседание суда, Эндрю вышел через парадную дверь здания суда в Ноксвилле. На верхней ступеньке портика стоял Джон Севьер и ниже его — группа людей. Прежде чем Эндрю успел удалиться, он услышал слова Севьера: — Судья Джэксон — оставленный всеми негодяй, человек, которого народ сделал судьей и тем самым придал ему незаслуженный статус джентльмена. — Он потряс саблей в ножнах и продолжал: — Я завоевал независимость для этого штата, я прогнал индейцев, я образовал ваше первое правительство… Эндрю подошел к нему и встал лицом к лицу с пятидесятивосьмилетним Севьером: — Я не оспариваю ваши прошлые заслуги перед штатом Теннесси, губернатор. Но на том же самом основании я считаю, что также выполнил свои обязанности перед обществом и во многом получил одобрение моих сограждан. — Выполнил? — закричал Севьер громовым голосом, который был слышен на другом конце площади. — Я не знаю иной большой услуги, оказанной вами округе, кроме поездки в Натчез с женой другого мужчины! В глазах Эндрю вспыхнула ярость: — Боже мой! Ты осмелился упомянуть ее неприкосновенное имя? Севьер вытащил из ножен саблю. Эндрю замахнулся своей тяжелой тростью. В толпе раздались выстрелы, и один зевака был ранен. Вмешались друзья, растащив Эндрю и Севьера в разные стороны. Эндрю тут же вызвал Севьера на дуэль. Замечание, брошенное Чарлзом Дикинсоном, было сказано безответственным молодым человеком, к тому же выпившим, а позднее отрицавшим свои слова. Но оскорбление, сделанное губернатором Севьером на публике, не может быть опровергнуто или отозвано. Ни бег времени, ни длительность службы Эндрю, ни годы напряженной работы Рейчэл, скромной жизни и доброты к соседям не имели значения: проступок, совершенный в молодые годы, теперь невозможно смыть. Ведь губернатор Севьер обвинил их в распутстве, в предумышленном прелюбодеянии… Джон Севьер был хорошо известен в Теннесси, имел большое влияние, как губернатор он являлся первым гражданином штата. Если уж он счел возможным обрушить на нее клевету, то какой смысл кому-либо хранить молчание о Рейчэл и Эндрю Джэксон? Ее личная жизнь превратилась в политическое оружие. Когда острая боль притупилась и лишь пульсировала, ее мысли вернулись к Ноксвиллу и к Эндрю. Запрещение дуэли в Теннесси не остановит его: противники могут встретиться по ту сторону границы, на индейской территории. Губернатор штата и член верховного суда дерутся на дуэли за границей, — какой же будет скандал! Путешественники и друзья, приезжавшие из Ноксвилла, привозили известия. Севьер игнорировал первый вызов Эндрю, сообщив своим друзьям, что его возраст и наличие большой семьи лишают его необходимости удовлетворить требование Эндрю. Когда друзья Эндрю посоветовали ему отказаться от дуэли из-за уважения к мантии судьи, он заявил, что готов немедленно подать в отставку. Когда Севьер не ответил на его вызов, Эндрю поместил заявление в «Газетт»:«Всем, увидевшим эти строки, привет. Да знайте, что я, Эндрю Джэксон, говорю, публикую и объявляю всем, что его превосходительство Джон Севьер, генерал-капитан и главнокомандующий сухопутными и водными силами штата Теннесси, — низкопробный трус и подлец. Он может гнусно оскорблять, но не обладает смелостью взглянуть в лицо. Эндрю Джэксон».Эндрю вместе с секундантом выехал в Саутвест-Пойнт, на границе с племенем чироки. Пять дней он ждал приезда Севьера… и пять дней Рейчэл выполняла обычную ежедневную работу; опасаясь известий и в то же время не веря, что двое мужчин серьезно навредят друг другу. Ведь они слишком долго дружили, чтобы стрелять на поражение. Было много дуэлей, но лишь немногие имели серьезные последствия, в худшем случае дело кончалось раной в ноге. Противники стреляли в воздух, и их гнев улетал вслед за пулей. Наконец пришло известие. В тот самый момент, когда Эндрю уезжал из Саутвест-Пойнта, приехал Севьер со своей группой. Во время сутолоки Эндрю вытащил свой пистолет, то же сделал Севьер, и они поливали друг друга обвинениями. Члены обеих групп тоже ругались, затем вожаки обеих групп еще раз обругали друг друга и вложили в кобуру свое оружие. Это было завершением дуэли, но не соперничества. 5 ноября губернатор Севьер провел через законодательное собрание два законопроекта, первый из которых разделял милицию Теннесси на два района, в новом районе назначался второй генерал-майор, имеющий равный статус с генералом Джэксоном. На следующее утро губернатор Севьер назначил бывшего сенатора Уильяма Кока главой восточного отделения милиции и послал его в Натчез с пятьюстами милиционерами, чтобы гарантировать, что Испания не вмешается в передачу Луизианы Соединенным Штатам. После напряженной подготовки своих войск и приведения их в боевую готовность генерал-майор Джэксон был оставлен дома, а люди его, западного отделения лишены возможности проявить себя в выполнении задачи, к которой они готовились. Когда Рейчэл вошла в кабинет Эндрю, она застала его в кресле; его тело обмякло, руки висели безжизненно чуть ли не до пола, лицо было серым, а обычно ясные решительные глаза подернулись каким-то странным туманом. Она видела его при всех невзгодах, неприятностях и бедах, но никогда он не был столь поверженным. Ее расстраивало то, что у него не нашлось слов, а главное, что он не мог их высказать. Севьер добился полной победы, Эндрю потерпел полное поражение… а с ним и она.
/13/
В день нового, 1804 года они сидели в одиночестве перед камином с тлевшими под золой углями. Не требовалось сложной двойной бухгалтерии, чтобы ясно представить, чем завершился их год в Хантерз-Хилл. Они пошли на предоставление значительных кредитов в своих лавках, но попытки получить с клиентов долги оказались тщетными. Шкуры и меха, соль и пшеница, табак и другие товары поставлялись вслепую, и Эндрю не знал заранее их цены, а когда товары достигали Нового Орлеана или Филадельфии, то продавались за ту цену, какую можно было получить. Хлопок в долине Кумберленда не уродился; в долине уже работало двадцать хлопкоочистительных машин, и Эндрю получал лишь небольшие заказы на очистку хлопка и на продажу. Кроме того, ему пришлось предъявить иск к своему бывшему партнеру Томасу Уотсону. Его личные счета скапливались в Новом Орлеане и Филадельфии, и задержка с их оплатой вела к росту процентов. Он должен был также выплатить наличными тысячу долларов, ссуженную ему в Ритсбурге. — Ничего не поделаешь, Рейчэл, я просто должен отказаться от судейства и посвятить все свое время упорядочению наших финансовых дел. Деньги, деньги, деньги! Чем глубже мы влезаем в бизнес, чем больше наши запасы, сделки и продажа, тем хуже наше положение. — Ох, эти муки обогащения, — шутя ответила она, но это не рассеяло дурного настроения Эндрю. Хотя он все еще сохранял титул генерал-майора, его команда по сути дела исчезла. Многие офицеры обвиняли его в том, что их отстранили от экспедиции. Было также очевидно, что он растерял свой престиж в результате ссор, касавшихся только его. Тот факт, что он ввязался в ссору лишь после того, как его жену публично оклеветали, отступал на задний план в последующей неразберихе. Когда началось расследование его обвинений против Севьера, их права на значительную часть собственных земельных участков, особенно тех, которые находились на индейской территории, также были поставлены под сомнение. Все их земельные участки вокруг Нашвилла стоили теперь больше, чем во время их приобретения, и он получил бы существенный доход и успокоил бы своих наиболее настойчивых кредиторов; но ни у кого не было достаточных наличных сумм, и он смог получить лишь личные векселя. — Кажется, положение безнадежно, — уныло признался он. — Нам придется начинать сначала. Она была убита, узнав через несколько недель, что «начинать сначала» означало отъезд из Теннесси. — Думаю, что мы достаточно долго жили в долине Кумберленда, Рейчэл. — Но куда мы поедем? — Теперь, когда Луизиана[11] передана нам, президент Джефферсон должен назначить губернатора. Наши конгрессмены в Вашингтоне на моей стороне, они считают, что я обладаю нужной квалификацией: у меня есть юридическая подготовка, чтобы помочь в составлении и введении законов, военный опыт для организации милиции. Это исключительная возможность. Испания раздражена передачей Луизианы и ввяжется в драку, если сможет. Англия все еще охотится за нашими судами и захватывает моряков. Если будет война, то Англия постарается ввести свои войска через Луизиану, а также через район Северных озер… «Какое странное решение наших проблем, — думала Рейчэл. — Томас Грин еще давно предлагал нам остаться в Натчезе. Скольких волнений мы избежали бы, какой приятной могла бы быть там жизнь». — …Губернатору обеспечивается все: дом, прислуга, кареты, военный аппарат и заработная плата наличными. — Он подошел к ней и обнял, его голос был тихим, ласковым. — Я помню, как тебе нравились красивые дома Натчеза. Мы встретимся с новыми людьми, завяжем новую дружбу. Для военного там уйма возможностей, мы заставим Севьера взять назад свои слова. До этого момента она не понимала отчетливо, почему он хочет уехать из штата. Он хотел навсегда избавиться от бесконечных пересудов, оскорблений, наносившихся их любви и браку. И не потому, что он потерпел поражение или у него не было стойкости противостоять; все это осталось, и в избытке. Он просто выводил свою жену из-под огня. Она стиснула его лицо своими руками, прижала свои губы к его губам и почувствовала крепость костей его головы. — Ты будешь первой леди территории, — прошептал он. — Помнишь, что я сказал тебе в Поплар-Гроув? Мы доберемся до вершины, и тогда никто не будет выше нас и не сможет напасть. В течение февраля из Вашингтона не приходило известий о назначении. Груз железа, заказанного в Питсбурге, который составлял, по расчетам, половину груза, был отправлен отдельно, что, естественно, означало вздорожание доставки вдвое. Когда этот груз прибыл в Нашвилл, Эндрю пытался собрать нужную сумму — триста семьдесят пять долларов, но не преуспел в этом. Джон Коффи высыпал на обеденный стол небольшую кучку английских, испанских и американских монет — явно свои сбережения. К этому добавились несколько долларов, которые предложил Джон Овертон. — Подумай, Рейчэл, мы владеем плантацией, стоящей десять тысяч долларов. У нас на складах товаров на несколько тысяч долларов, а другие товары, на тысячи долларов, уже отправлены на север и юг. Общая сумма земельных участков, записанных на наше имя, должна достигать сотни тысяч долларов… и все же после недели попыток найти триста семьдесят пять долларов наличными я не могу собрать такую ничтожную сумму. — Разве ты не можешь продать железо и использовать часть оплаты для покрытия расходов по перевозке? — Уже пытался. Все, что удалось, — это двести долларов, которые мне задолжали как судье. К концу февраля, пытаясь возместить потери одним смелым шагом, он послал Джона Коффи на север Иллинойса, где были открыты залежи каменной соли, и поручил ему предложить пятнадцать тысяч долларов, в крайнем случае тридцать тысяч, за залежи… личными обязательствами. Рейчэл была удручена шагом Эндрю, хотя Джакс принял поручение без тени сомнения. Как мог Эндрю брать обязательства на пятнадцать — тридцать тысяч долларов, не будучи в состоянии собрать триста семьдесят пять долларов, чтобы покрыть расходы по доставке? В течение следующих недель ее изумление возросло. К этому времени Эндрю уехал в Вашингтон, направляясь в Филадельфию. Военный министр по-приятельски принял его, доверительно сообщив, что военному департаменту потребуется в ближайшие шесть недель два судна для перевозки войск по Миссисипи. Министру нужны были также цепи для паромов на реке Теннесси. Может ли Эндрю поставить такие цепи? Джон Коффи привез письмо в Хантерз-Хилл, и Рейчэл прочитала его много, много раз, качая головой в изумлении. — Фантастический мужчина мой муж. Военномуминистерству нужны суда? Он их построит. Министерству нужны цепи? Он их сделает. Я уверена, у него в карманах нет и десяти долларов, да и в наших сейфах нет десяти долларов. Что это — чудовищное безумие или восхитительная мудрость? Что ты думаешь, Джакс? — Видимо, мудрость, миссис Джэксон, — ответил Коффи, расплывшись в улыбке. — Потому что, когда мистер Джэксон приказал мне починить лодку, наскочившую на камни у Спринг-Бенч, и вторую подготовить к плаванию через шесть недель, он, видимо, предвидел, что я смогу это сделать. Когда время поджимает, деньги не помогают, а даже мешают. — Разумеется, если Эндрю предоставит лодки, то военный министр погрузит войска на них и обяжет его командовать экспедицией. — Не могу сказать, миссис Джэксон, может быть, и так. Она не знала, в какой день Эндрю получил известие, но из филадельфийских газет ей стало известно, что президент Джефферсон назначил Уильяма С. Клэрборна губернатором Луизианы. Планы Эндрю сбежать, построить для них новую жизнь, воссоздать свой престиж рухнули в очередной политической комбинации. Джэксоны были вынуждены остаться дома и бороться со своими трудностями как могли./14/
Эндрю добрался до Хантерз-Хилл 19 июня. Они оба знали, что должны продать все, чем владели, за любую цену, какую им предложат. Эндрю посмотрел с любовью на пианино и ореховый письменный стол. — Мы сохраним их для нашего нового дома, — сказала она. — Для какого нового дома? — Куда мы поедем. А куда мы поедем? — Не знаю. Из двух путей, открытых нам, есть, к примеру, Эрмитаж. Прямо через реку. — На что он похож? — Ну, это прекрасный участок, холмистый, со многими родниками. Там прекрасные деревья, одно расчищенное поле. Я купил этот участок у брата Роберта Хейса. Сделка еще не оформлена. — А дом? Есть ли там дом, Эндрю? — Нет, есть старый блокгауз, превращенный в лавку. Его не использовали долгие годы. И рядом пара хижин. — Можем ли мы посмотреть на него? Он провел пятерней по своим волосам, затем по лицу и закрыл руками лицо. — Я не могу перевезти тебя туда. Это… унижает мою гордость. Грубая, полуразвалившаяся хижина на полудиком участке земли, словно мы… нищие поселенцы. Как низко я уронил тебя! Она стояла перед ним, ее ноги твердо уперлись в пол, а в глазах сверкала решимость. Низким певучим тоном она объявила: — Эндрю, прикажи Джорджу оседлать лошадей. После того как они пересекли Стоун-Ривер и проехали две мили, а затем вышли на тропу, огибавшую выжженный солнцем луг, Эндрю сказал, что они — на участке Эрмитаж. Они провели своих коней через тенистые заросли американского орешника и скоро вышли к журчавшему роднику, из которого вытекал ручей в соседний лес. Неподалеку в тени деревьев стояли четыре бревенчатые хижины. Здесь они сошли с лошадей. Рейчэл задержалась на некоторое время у бывшего торгового форта. Он стоял на этом месте уже несколько лет, но построившие его были мастерами своего дела: бревна были подогнаны друг к другу, а связки ровно вырублены. Почти двухэтажное квадратное здание выглядело прочным, гордым и независимым. — Можно войти внутрь, дорогой? Эндрю приподнял тяжелую кожаную петлю, служившую замком, и открыл дверь для Рейчэл. Она вошла внутрь, через открытую дверь и ее плечо в здание заглянуло и солнце. Деревянный пол размером семь метров на восемь был чистым, словно кто-то подмел его накануне. Брусья были уложены с искусством мастера, время отполировало их до блеска, и отбрасываемые ими солнечные лучи освещали массивные балки над головой. Известь, которой были заделаны щели между бревнами, приобрела цвет теплого серебра. Рейчэл подошла к камину, сложенному из булыжников. Камни камина были подобраны с большим вкусом, и их цвет гармонировал со всей комнатой. Камин был огромным — в холодные дни в него вместилась бы целая вязанка хвороста. Рейчэл стояла перед камином, покоренная его красотой. — Эндрю, здесь великолепно. — Это всего лишь бревенчатая хижина, как все другие… — О нет, мой дорогой, этот дом не похож на другие. А название Эрмитаж означает… убежище?Книга четвертая
/1/
В один из дней последней недели августа 1804 года они осторожно проехали по извилистой дороге к подножию холма. Эндрю правил первым фургоном, Рейчэл устроилась в карете, нагруженной их личными вещами, серебром, платьями, постельным бельем. Вслед за ними следовали Молл, Джордж и другие негритянские семьи; в их фургонах находились посуда, кухонная утварь, сельскохозяйственный инвентарь и другое имущество. Позади тащился скот. Хантерз-Хилл был продан вместе с мебелью, кроме кровати, на которой они спали со времени возвращения из Байю-Пьер, пианино, купленного Эндрю для нее в Филадельфии, напольных часов и письменного стола, доставшихся ей от родителей, книжных шкафов и книг из кабинета Эндрю. В полдень Рейчэл стояла в середине большой комнаты, заставленной мебелью, упакованной в одеяла, и осматривала свою новую обитель. Рядом стояли Эндрю, Сэмюэл, Джон Овертон и Джон Коффи, готовые расставить мебель так, как она скажет. После того как мужчины подняли тяжелую кровать наверх, в спальню, она попросила их поставить к правой стене обтянутый сатином диван, привезенный из Филадельфии, а напротив дивана — три кресла красного дерева. Так образовалась гостиная. Около задней стены большой комнаты она решила поставить пианино, музыкальную стойку Эндрю с его флейтой; так возникла музыкальная комната. Вдоль той же стены, но чуть подальше от гостиной, нашлось место для письменного стола Эндрю и шкафов с его книгами. В углу около дивана встали напольные часы из столовой Донельсонов. Перед камином оставили пространство для обеденного стола и стульев, которые предстояло приобрести. Рейчэл не стала вешать занавески на окна, потому что Эндрю обещал сделать их в три раза больше. Молл и Джордж развесили блестящую медную посуду и чугунки на крюках около камина и занялись приготовлением первого обеда в Эрмитаже. — Какой сегодня день? — спросила Рейчэл. — Я хочу отметить его в моем календаре. Двадцать пятое августа? Сэмюэл, да ведь это день рождения твоего четырехлетнего Энди. Ну-ка отправляйся домой, забери Полли с малышами, и мы отпразднуем наш переезд и день рождения Энди. Сэмюэл был в восторге. Он тотчас же поехал за семьей и возвратился с женой и детьми до наступления сумерек. Он был женат уже восемь лет, и за это время золотоволосая Полли с правильными чертами лица и приветливыми голубыми глазами стала еще краше и веселее. Рейчэл обложила Энди подушками, усадив его в торце самодельного стола, сооруженного из досок. Мальчуган настолько походил на отца, Сэмюэля, и на нее, Рейчэл, что казался почти слепком с них: гладкая кожа оливкового цвета, круглое лицо со слегка припухлым подбородком, ласковые выразительные карие глаза и густая темная шевелюра, ниспадавшая на плечи. Рейчэл удалось отыскать кое-что в подарок мальчику, а Эндрю открыл бутылку лучшего французского вина из своих запасов, и все выпили за здоровье и благополучие малыша и за счастливую жизнь в новом доме. Последствия неудач для Джэксонов, от которых отвернулась фортуна, отставка Эндрю с поста судьи и его отход от политики сказались немедленно: друзья были огорошены их невзгодами, враги — довольны, что одержали верх. После того как посудачили на тему «А знаете, Джэксоны вынуждены продать Хантерз-Хилл и перебраться в заброшенную лавку в Эрмитаже?», интерес к Джэксонам пропал. Для Рейчэл это была благодать, божий дар. Она инстинктивно чувствовала, как много сплетничают о них. После переезда в Эрмитаж атмосфера казалась ей доброй и приятной. Расходы и потребности Эндрю и Рейчэл в Эрмитаже были сведены к минимуму. Продать Хантерз-Хилл оказалось довольно сложным делом из-за повсеместной нехватки наличности. Старый знакомый Эндрю, полковник Уорд, ссудил ему пять тысяч долларов в виргинской валюте, что и позволило выплатить наиболее неотложные долги. Эндрю стал беспечным, часто улыбался, был хорошо настроен и внутренне спокоен. Он избегал встреч с наиболее яростными членами клики Севьера в Нашвилле, в частности с молодым Чарлзом Дикинсоном, но возобновил дружбу со многими приятелями, которые отшатнулись от него из-за последних ссор. Ему доставляло особое удовольствие перестраивать Эрмитаж в соответствии со вкусами Рейчэл: он расширил окна в основном доме и в хижинах, предназначенных для гостей, вырыл колодец и соорудил маслобойню. В конце дня, закончив полевые работы или посадку в саду персиковых деревьев и яблонь или даже работу над документами в конторке-хижине, которую он построил для себя недалеко от дома, Эндрю подходил к двери, вызывал Рейчэл, и они совершали прогулки по принадлежащему им холмистому участку, останавливаясь, чтобы осмотреть деревья и луга, и спускались к ручью, вытекающему из щедрого родника. Иногда утром в красочную осень или в необычайно теплую зиму они седлали лошадей и выезжали в Нашвилл. Вечером усаживались перед камином, читали, обедали с Джоном Овертоном в Травелерз-Рест или же развлекали друг друга, исполняя дуэтом музыкальные пьесы. Рейчэл казалось, что десять тяжелых лет свалилось с плеч Эндрю. И когда ему подвернулась возможность купить породистую лошадь, длительное время восхищавшую его, — Индейскую Королеву, с которой он выиграл первый забег, получив в качестве приза сто долларов, к Эндрю вновь вернулась молодость: он выглядел двадцатидвухлетним парнем, каким она запомнила его, когда он стоял на пороге дома Донельсонов, спрашивая, примут ли его. — С Индейской Королевой я создам конюшню, — сказал он Рейчэл. — Из бревен или же из чистокровок? — Из того и из другого. Я уже выбрал подходящее место, там будет хороший выпас и много воды. Между прочим, я прослышал, что у братьев Андерсен не хватает средств закончить строительство беговой дорожки в Кловер-Боттом. Они стояли на холме участка Эрмитаж, который возвышался над небольшой группой принадлежавших им хижин. Она уловила возбуждение в его голосе. — А у нас есть средства? — Ты толкаешь меня на покупку? Ты считаешься скупым членом нашей семьи. — Я консервативна, когда речь идет о накоплении денег. Что же касается удовольствий, я столь же радикальна, как каждый подписавший Декларацию независимости. Первым было твое заявление, что хочешь иметь чистокровных лошадей и собственную беговую дорожку. Думаю, что следует стараться получить то, что нам хотелось иметь с самого начала, а не подбирать все, что попадается по пути и что нам вовсе не нужно. Он прижал ее к себе и быстро поцеловал, довольный тем, что она одобрила его желание. Страстная любовь между ними вновь расцвела благодаря тому, что они оказались изолированными от окружающих и постоянно находились вместе. У Рейчэл было такое ощущение, словно они только что сочетались браком и приехали в свой первый дом сюда, в Эрмитаж. Как-то незаметно для себя она добавила бант к вырезу платья и украшения для прически, сделала дополнительную вышивку на ночном чепчике. Однажды Эндрю подошел к стене, отделявшей их спальню от небольшой комнатушки, и, постучав по ней, сказал: — Я могу разобрать стену, если тебе хочется расширить спальню. Она вдруг поняла, почему ей дорога эта соседняя комнатка. Она отличалась крепким здоровьем, ей было тридцать семь лет, и только вчера она слышала, что кузина Томаса Хатчингса родила первого ребенка в возрасте тридцати девяти лет. Надежда, которая вроде бы исчезла, никогда не умрет. — Можем мы не трогать ее… хотя бы некоторое время? — Конечно, я просто хотел сделать тебе приятное. В начале марта, когда она работала перед домом, обрабатывая землю в саду, о разбивке которого думала еще зимой, она увидела спускающийся по дороге грубо сколоченный фургон в сопровождении нескольких всадников. В последних рядах она узнала Джона Коффи, обмякшего в седле, с опущенной головой. Он резко остановил коня, спрыгнул с него и быстро спросил: — Где мистер Джэксон? — В своей конторке. Что случилось, Джакс? — Позвольте мне пройти к мистеру Джэксону. Размашистыми шагами он быстро пересек двор и направился к хижине Эндрю. Остальные всадники не слезали с лошадей и избегали встречаться глазами с Рейчэл. Эндрю выбежал из своей хижины, схватил Рейчэл за руку и провел ее в дом. — Дорогая, это… Сэмюэл. Она заикаясь спросила: — Сэм… Сэмюэл… но что?.. Умоляюще Эндрю взглянул на Коффи. Крупный мужчина постарался как можно мягче сказать: — Мой друг объездчик… нашел его… в нескольких милях от дороги. Мы не знаем, как долго он пролежал там… и что случилось. — Но он не… Джакс, Сэмюэл не умер! — Боюсь, что умер. Застрелен. Мы не знаем, как и почему. Он был мертв уже целые сутки. Эндрю поднял ее, упавшую в обморок, на диван и закрыл теплым стеганым одеялом. Сэмюэл, ее самый близкий и дорогой брат. Она знала, что из всех ее семи братьев именно Сэмюэл совершил длительную поездку в Харродсбург ради нее. Перед ее мысленным взором всплывал теплый взгляд его карих глаз, когда он сопровождал ее по Кентуккской дороге домой. Он был так счастлив со своей Полли и тремя чудесными малышами, так рад тому, что начал изучать право! Сэмюэля похоронили на следующий день рядом с его матерью, так и не узнав, кто застрелил его и почему он оказался на такой отдаленной тропе. Он умер подобно своему отцу. Полли вернулась в дом родителей, но спросила Рейчэл, не возьмет ли она Энди в Эрмитаж. Маленькая комната по соседству с их спальней была быстро подготовлена для Энди. Он был резвым мальчиком, легко переходил на смех и так же легко — на слезы, обворожительно улыбался и обладал живым умом. С его приходом дом Джэксонов наполнился шумом и игрой, а сердце Рейчэл — любовью, которую она искала. Вечером она и Эндрю относили Энди наверх, желали ему доброй ночи и смотрели, как он мгновенно проваливается в сон подобно камню, брошенному в пруд. — Комната теперь занята, — нежно сказала она, — занята ребенком. Но не таким образом, каким я хотела бы или ожидала. После паузы она спросила: — Эндрю, не думаешь ли ты, что мы могли бы оставить у себя Энди… воспитать его как собственного сына? Эндрю обнял ее за плечи: — Я очень хотел бы. Мы поговорим с Полли./2/
Эндрю приобрел две трети акций ипподрома Андерсена. Коффи, ставший партнером торгового дома Джэксона — Хатчингса в Кловер-Боттом, подал заявку на оставшуюся треть. Эндрю прыгал от восторга: — Мы построим таверну и конюшни для фермеров и торговцев, которые будут приезжать на скачки. А когда мы овладеем искусством выездки самых рысистых коней, станем делать деньги на игре. На красивом лугу рядом с холмом, где могли стоять зрители и наблюдать за скачками, немедленно возобновилась работа. Каждое утро после завтрака Рейчэл и Энди шли к загону посмотреть, как Эндрю тренирует Индейскую Королеву. В полдень они отправлялись верхом в Кловер-Боттом — мальчик ехал на белом пони, — где Эндрю занимался постройкой таверны и натаскиванием молодого жокея Билли Филипса. Конюшня Эндрю уже пополнилась новыми жеребятами и резвыми кобылицами. Было уже объявлено, что весенние скачки состоятся в Хартсвилле, но Эндрю решил к осени открыть ипподром в Кловер-Боттом. В конце апреля Индейская Королева должна была состязаться с призовым мерином Грейхаундом. Эндрю поставил тысячу долларов в банкнотах на Индейскую Королеву. Они выехали в Хартсвилл заблаговременно: на поездку в упряжке на дистанцию в тридцать миль требовалось не менее девяти часов, даже если пересечь реку у Грендерсонвилла на пароме Хаббарда Саундерса. Дорога пролегала по пастбищам, по полям зерновых, пересекала мелкие ручьи с каменистым руслом и прозрачной водой, а затем поднималась по травянистому склону. Когда карета Джэксонов подъехала к ипподрому, там уже собралась большая толпа. Рейчэл поставила все имевшиеся у нее деньги на Индейскую Королеву, а потом предложила владельцу Грейхаунда Лазарусу Коттону пари: она ставит на кон пару своих перчаток против его трости. Их заезд не считался важным в этот день. Таким был более поздний забег, когда Грейхаунд должен был скакать против Тракстона, одной из наиболее известных лошадей Виргинии. И все же участие Джэксона вызвало интерес. Увидев свою сравнительно небольшую кобылу и сопоставив ее с Грейхаундом, Рейчэл вдруг засомневалась: — Ты уверен, что Индейская Королева сможет выиграть? — Не беспокойся, — сказал Эндрю. — Все, что увидит Грейхаунд, это пыль от ее задних копыт. Но как раз пыль пришлось на первом круге глотать Индейской Королеве, и если на втором она уже не глотала ее, то по простой причине: пыль успевала осесть. — Думай об удовольствии, которое мы получили, тренируя ее, — сказала Рейчэл, успокаивая явно разочарованного мужа. — Это стоит каждого потерянного нами цента. Это был победный день для Грейхаунда: большой мерин так же легко обошел Тракстона, как и Индейскую Королеву. Сквозь шум она услышала, как Эндрю прошептал ей на ухо: — Пойдем в конюшню. Тракстон был крупным гнедым жеребцом с белыми бабками. Эндрю поднял руки и медленно опустил голову лошади на свое плечо. — Это самая выдающаяся лошадь, какую я когда-либо видел на скачках. Он должен был выиграть у Грейхаунда. — Почему же не выиграл? — Плохая выездка. Если бы я мог взять его в Эрмитаж на месяц, он обошел бы Грейхаунда на десять корпусов. — Но, Эндрю, это же не наша лошадь… — Не готовы ли вы, миссис Джэксон, заключить небольшое пари? К нам направляется владелец. Доводилось ли тебе видеть более удрученного человека? Мистер Верелл неохотно подошел к лошади: — Я все, что имел, поставил на него и такую сумму, какую не смогу оплатить. Они заберут Тракстона за долги в тысячу двести долларов. — Я делаю вам справедливое предложение, мистер Верелл: я выплачу этот долг и добавлю трех меринов стоимостью свыше трехсот долларов. Если в этом году Тракстон выиграет скачку, я передам вам в награду двух меринов. — Это действительно справедливое предложение, мистер Джэксон. Я согласен. Глаза Эндрю сверкали от возбуждения. Рейчэл видела, как он кивнул головой, принимая быстрое решение. Он повернулся к толпе, собравшейся около стойла Грейхаунда: — Мистер Коттон, я только что купил Тракстона. Ставлю пять тысяч долларов на пари, что он побьет вашего Грейхаунда ровно через месяц на тех же скачках. Рейчэл вздохнула: пять тысяч долларов! Векселями, разумеется, как при земельных сделках. Но даже в таком случае — все равно это куча денег. Она услышала, как мистер Коттон сказал: — Условлено! Двенадцатого июня, здесь. Ставка — пять тысяч! Последовавший за этим месяц был самым бурным из когда-либо пережитых. На грядках Эрмитажа нужно было много вспахать и посеять, но лучшую часть времени они проводили, занимаясь выездкой Тракстона на беговой дорожке Кловер-Боттом. Лошадь была сильной и резвой, но не очень выносливой. — Это потому, что с конем обращались слишком деликатно, — объяснил Эндрю. — С ним мало работали из-за опасения истощить. Мы его подтянем, это должна быть лошадь с бойцовским характером. Рейчэл повернулась к Энди, стоявшему рядом. — Тракстон еще не знает, — сказала она, — но твой дядя Эндрю только что записал его в милицию. К концу мая Эндрю поехал в Нашвилл, где он председательствовал на обеде в честь вице-президента Соединенных Штатов Аарона Берра,[12] срок пребывания которого на этом посту недавно истек. Затем он собирался привезти его в Эрмитаж. Эндрю поехал на своей лучшей лошади и взял с собой для полковника Берра молочно-белую кобылу. Рейчэл занялась подготовкой своей самой просторной гостевой хижины: вместе с молодым Митти она заменила свечи и мыло, разложила на столе свежие номера газет, понимая, что полковник Берр — самый важный гость в Нашвилле. Ее не покидало тревожное ощущение, что если полковник Берр поедет из Нашвилла сразу же в безлюдный Эрмитаж, то их уединенный мир будет нарушен. Возвратись в основной дом, она остановилась и осмотрела длинный, гладко отполированный стол из черешневого дерева и дюжину стульев с изогнутыми спинками, которые были доставлены сюда несколько дней назад. А что, если в следующее воскресенье она даст обед в честь полковника Берра и пригласит некоторых друзей Эндрю и нескольких менее оголтелых сторонников Севьера? Было бы неплохо в числе гостей позвать мистера и миссис Сомерсет Фарисс и мисс Дейзи Дэзон. После полудня она и Энди отправились собирать цветущие кустарники и фиалки для хижины. Когда они прогуливались среди цветов, она подумала о странной карьере мужчины — их гостя. Полковник Берр был находчивым командиром во время Революционной войны. Эндрю не тревожил тот факт, что Берра выдворили из штаба генерала Вашингтона и он часто вступал в конфликт со старшими офицерами. Это был блестящий процветающий адвокат в Нью-Йорке, затем сенатор Соединенных Штатов в то время, когда Эндрю служил в палате представителей, там они и познакомились. Будучи сравнительно неизвестным, он выступал вторым лицом в избирательной кампании Томаса Джефферсона в 1800 году и повредил своей политической карьере, позволив палате представителей спорить и голосовать по вопросу, кто должен стать президентом. В прошлом июле он убил на дуэли в Уихокене первого казначея Александра Гамильтона,[13] за что был осужден судом штата Нью-Джерси и поэтому бежал на Юг. Однако в начале года он возвратился в Вашингтон, чтобы дослужить до конца свой срок председателя сената. В дни, предшествовавшие его приезду, в Нашвилле только и говорили: — Что нужно Аарону Берру в Нашвилле? Эндрю и полковник подъехали к дому в сумерках. Рейчэл была удивлена, увидев, что Берр невысок ростом и худ. Тем не менее он поразил ее своей почти военной выправкой и умением держать себя на публике. Он показался ей красивым: драматически изогнутые брови, вбирающие в себя его темные глаза, чувственный рот и овальное лицо с тонкими чертами, словно выточенное из слоновой кости. Его баки были запорошены сединой, и поэтому он выглядел старше своих сорока девяти лет. Она с первого взгляда была очарована приятным теплым тембром его голоса. И все же она заметила в момент их встречи некую нотку горечи в его словах. Восход солнца в воскресенье обещал теплую и ясную погоду, но к часу дня, когда стали съезжаться гости, освежающий ветерок принялся раскачивать ветви деревьев. Официанты в кипенно-белой одежде прохаживались с подносами между гостями, предлагая дамам шерри, мужчины же толпились около стойки Эндрю с напитками и сразу же углубились в споры о политике. Рейчэл была в розовом батистовом платье, ее глаза сверкали от возбуждения: миссис Фарисс и Дейзи Дэзон сочли ее приглашение важным и явились на прием. Они облачились в шелк и кружева, увенчали свои головы широкими шляпами и все время обмахивались веерами. Рейчэл провела немало часов, составляя меню, а потом поняла, что все это глупо: она предложит простое, но щедрое гостеприимство, как было в Поплар-Гроув, и оно по сути дела мало изменялось независимо от того, принимала ли она гостей в однокомнатной бревенчатой хижине или в роскошном особняке. Она следила за полковником Берром с благодарностью хозяйки, понимавшей, что ее почетный гость своим магнетизмом увлек всех собравшихся. Джон Овертон подошел к Рейчэл и тихо сказал: — У полковника редкий, необычайно гибкий ум, какой я когда-либо встречал. Полковник Берр в свою очередь сделал комплимент судье Овертону по поводу его решений, заметив, что тем самым он закладывает кодификацию законов в Теннесси. Полковник Берр говорил предельно ясно по каждому вопросу, его голос увлекал каждого, попадавшего в его ауру, как красивая женщина привлекает ароматом тонких духов. Джейн Хейс подморгнула Рейчэл с другого конца стола, когда Роберт Хейс охотно принял предложение полковника Берра забрать его семнадцатилетнего сына Стокли в Новый Орлеан и там обучить его праву. Щеки Дейзи Дэзон порозовели. Однако под очарованием и блеском Аарона Берра Рейчэл увидела… возможно ли такое?.. смерть? Видимо, потому, что кровь Александра Гамильтона еще не высохла на его руках? Старый генерал Робертсон, с явной неохотой принявший ее приглашение, высказался в таком духе. Наиболее важная часть беседы полковника Берра с Эндрю касалась испанцев во Флориде и Техасе. Эндрю и его гость пришли к согласию, что испанцев надо выдворить. Рейчэл предположила, что именно это сулит будущее полковнику Берру: он направляется на юг, чтобы обследовать положение во Флориде и подготовить почву для ее оккупации американцами. Однако во время его беседы со многими за обеденным столом ее мысли спутались. Мистеру Фариссу, заинтересованному в новых поселениях на юге, полковник сказал, что цель его поездки — завербовать поселенцев для колонии на реке Уачито в Луизиане; брату Джона Овертона Томасу, недавно обосновавшемуся в Кумберленде, он намекнул, что одна из задач его поездки — подготовить вторжение в Техас; издателю нашвиллской газеты «Беспристрастный обзор» Томасу Эйстину он дал понять, что выполняет неофициальное поручение правительства Соединенных Штатов по подготовке установления власти губернатора в Луизиане. Эндрю был вполне удовлетворен и особенно польщен, когда полковник Берр заверил его, что поданные за столом вина были так же прекрасны, как и те, что он сам подавал гостям. Для Рейчэл день завершился успешно по той причине, что леди из Культурного клуба были очарованы полковником. «Какой простой и легкий путь, — подумала она. — Почему я не воспользовалась им раньше?»/3/
В жаркое утро в середине июня джэксоновский караван направился к ипподрому в Хартсвилле. Рейчэл взяла с собой красивую тринадцатилетнюю племянницу Рейчэл Хейс и племянника Сэнди Донельсона. Энди сидел на коленях Джона Коффи; в дюжине других экипажей располагались их друзья-соседи, сделавшие ставку на Тракстона, и их приглашение на скачки было своего рода компенсацией. Когда они добрались до ипподрома, заполненного тысячами зрителей, она узнала, что только их группа верит в Тракстона. Эндрю все больше впадал в азарт, он поставил на кон полторы тысячи долларов, гарантированных его земельными участками и даже… одеждой. Когда жена одного из сторонников Грейхаунда сказала Рейчэл: «Мне говорили, мистер Джэксон так измочалил Тракстона, что бедная лошадь не дотянет до финиша», Рейчэл потеряла терпение и ответила: — Я ставлю на пари мою карету и упряжку лошадей против ваших, миссис Стайгривс, и полагаю, что вашими советниками были плохие специалисты в конном деле. Наконец Тракстон и Грейхаунд были выведены к стартовой линии. Лицо Эндрю, обрамленное густыми рыжими волосами, побледнело, а глаза стали более глубокого синего цвета, какой она когда-либо замечала. — У меня был короткий разговор с Тракстоном. — И что ты услышал из уст лошади? — Он сказал, что не нужно беспокоиться по поводу его излишней тренировки. — Думаю, что именно мы были чрезмерно тренированны. Если мы проиграем, то придется возвращаться домой пешком. — В одном исподнем белье, — согласился он. — Но если мы выиграем, я верну себе все наследство деда, потерянное в Чарлстоне. — Эндрю, я счастлива. — Она положила руки на колени и внимательно посмотрела на него из-под полей защитной шляпки, придававшей теплоту ее коже оливкового цвета. — Я люблю выигрывать — это приятнее, но если проиграем, то ничего важного не произойдет. Толпа вдруг замолкла, и стартер дал сигнал. Грейхаунд вырвался вперед, задав бешеный темп, хотя и с таким отрывом, какой можно было ожидать после первого участка пробега. Рейчэл повернулась к Эндрю: в ее глазах застыл вопрос. Эндрю, сидевший напряженно, но спокойно, сказал: — Мы условились, что Грейхаунд задаст темп. Подожди, пока они пойдут на второй круг. Лошади вышли на прямой участок по другую сторону от зрителей. Казалось, Тракстон буквально парил в воздухе, его подковы чертили дрожащую белую полосу на фоне ландшафта. Он пересек финишную черту, опередив Грейхаунда на двадцать корпусов. — Жалко, что скачка не продолжалась три круга, — злорадствовал Эндрю, — ведь в таком случае наша перетренированная кляча обошла бы Грейхаунда на целый круг. Рейчэл импульсивно заметила: — Эндрю, будь великодушным в победе. — О, я буду милостив, — крикнул он, — я даже намерен дать Лазарусу Коттону возможность возместить потерю денег, продав мне Грейхаунда! Пойдем в конюшню. Сейчас за лошадь потребуют не так уж много. За Грейхаунда они заплатили всего лишь часть выигрыша. Рейчэл возвратила миссис Стайгривс ее карету и лошадей за скромную сумму, чтобы у той не оставалось горького чувства. Когда они подсчитали все свои выигрыши, то общая сумма оказалась достаточной для уплаты еще некоторых долгов в Филадельфии. Рейчэл сочла иронией судьбы, что после стольких лет напряженной работы и прозябания под бременем долгов их уединение от общества принесло им процветание. Эндрю запланировал поездку по штату, чтобы добавить к своей конюшне еще дюжину лошадей. Капитан Джозеф Эрвин, владевший двумя наиболее резвыми рысаками на Западе — Таннером и Плейбоем, известил, что выставит Таннера против любого коня на открывшихся в Кловер-Боттом скачках, и предложил пари на сумму пять тысяч долларов. Эндрю принял вызов, сделав ставку на Грейхаунда. Рейчэл узнала об этом с сожалением, ибо капитан Эрвин был тестем Чарлза Дикинсона, вложившего половину суммы в пари. После летней тренировки Грейхаунд опередил в трех забегах по одной миле. Это был день триумфа для Джэксонов: они владели не только наиболее резвыми конями в Теннесси, но и лучшей беговой дорожкой. К вящему облегчению Рейчэл, капитан Эрвин принял поражение как джентльмен, выплатив пять тысяч долларов. А Эндрю, таверна которого была полна народу за несколько дней до скачек, поставил бесплатный сидр и имбирные пряники. Капитан Эрвин попросил лишь об одном: Эндрю предоставит ему возможность реванша в конце ноября, на этот раз с Плейбоем. Ставка составляла две тысячи долларов и восемьсот долларов штрафных в случае отказа от состязания. Эндрю согласился выставить на скачки Тракстона. Чарлз Дикинсон вновь взял на себя половину ставки тестя и был также наполовину владельцем Плейбоя. Когда подошло время поставить на стартовую линию Тракстона и Плейбоя, капитан Эрвин сообщил, что Плейбой захромал и что он выплатит восемьсот долларов штрафа. Рейчэл ожидала в карете, в то время как Эндрю пошел в конюшню, чтобы получить штрафные деньги. Прошло достаточно много времени, прежде чем он вернулся с покрасневшим от ярости лицом. — Ну, Эндрю, что произошло? — Нечто странное; капитан слишком почтенный человек, чтобы поступить таким образом предумышленно… — Что он сделал? — Ну, ты знаешь, мы договорились о списке бумаг для оплаты, все бумаги должны были оплачиваться при предъявлении. Однако капитан Эрвин предложил мне бумаги, которые не будут оплачены ранее следующего января. Я сказал ему, что должен получить половину штрафа в надлежащих бумагах, поскольку я согласился дать такую сумму тренеру, уезжающему в Нашвилл… — Но ты все мирно уладил? — Ее голос звучал встревоженно. — Ты и капитан Эрвин знали друг друга столько лет. Эндрю колебался какое-то время, затем обратился к кучеру. Они отправились домой. — Вмешался Чарлз Дикинсон и предложил свои бумаги на сумму четыреста долларов. Через два дня после разговора о штрафе в Эрмитаж приехал Томас Овертон. Они слышали, что он мчался с бешеной скоростью курьера, и вышли ему навстречу из строения над ключом, где держали дозревавшие сыры. — Почему он всегда так отчаянно спешит? — спросила Рейчэл. — Это его способ создавать волнение. Томас был прямой противоположностью своего младшего брата, Джона: краснолицый, коренастый, волосатый, с торчащими рыжими бровями и бородой, начинавшейся почти от глаз, и густой шапкой ржаво-рыжих волос. Он был ценным офицером во времена революции и генералом милиции Северной Каролины. Отважный боец, он становился беспокойным и несчастным, когда не было повода для драки. Чете Джэксон было трудно понять, как он мог быть кровным братом Джона. — Это также всегда удивляло Томаса, — как-то сказал им Джон задумчиво, — но на деле ответ прост: вырастая под его сенью, я выработал в себе органическую неприязнь к громким голосам и задиристости. Томас буквально вылетел из седла на землю. — К чему такая спешка? — спросил, усмехаясь, Эндрю. — Поторопись! Я и так запоздал на два дня. Два дня назад на ипподроме Джон дал мне записку для тебя. Скачки не состоялись, а я болтался около таверны… Думаю, что там крутился и Дикинсон. Он ведь болтун, когда переберет виски… Рейчэл присела на край пресса для отжимания сыров и задумалась. Опять начинается. В первый раз он обрушился на нас потому, что мы выиграли выборы в милицию; теперь же его задела наша победа на скачках. — Касалось ли это штрафа? — спросил Эндрю. — Нет, это о том, что якобы сказала миссис Джэксон на скачках. Рейчэл подскочила: — О том, что я сказала? Но я никогда даже не смотрела на мистера Дикинсона… — Это произошло, когда капитан Эрвин заявил, что Плейбой не может скакать. Кажется, вы повернулись к племяннику Сэнди Донельсону и сказали: «Ну и хорошо, ведь Тракстон обошел бы Плейбоя на такую дистанцию, что Плейбой потерял бы его из виду». Рейчэл смотрела на Томаса с испугом. Он продолжал: — Один из друзей мистера Дикинсона услышал ваши слова и повторил их ему. Дикинсон завопил: «Да, на такую дистанцию, на какую оторвалась миссис Джэксон от своего первого мужа, убегая с генералом». Прошу прощения, миссис Джэксон, мэм… Рейчэл была поражена тем, как точно она угадала, что может случиться. Она посмотрела на Эндрю с отчаянием во взгляде: — Ой, Эндрю, на сей раз я виновата. Зачем я сделала такое задиристое замечание? Я опростоволосилась. Я нанесла удар по мистеру Дикинсону своим хвастовством, а теперь он отвечает мне ударом. — Отвечать ударом в порядке вещей, но только острой саблей, честным оружием. — Очевидно, мистер Дикинсон ведет против нас войну, — беспомощно сказала Рейчэл. — Но, Эндрю, я не могу понять: чем мы его задели? Почему он так нас ненавидит? — Ты к этому не имеешь отношения. Вызвано все это его амбициями: он хочет стать политическим лидером Нашвилла и считает, что я стою на его пути. — Но ведь ты больше не занимаешься политикой, Эндрю. Он презрительно пожал плечами: — Верно. Но у меня есть друзья… и влияние. Дикинсон считает, что я не гожусь для Теннесси, что я неотесан, представляю собой невежественную деревенщину, которая еще годилась во времена набегов индейцев, когда долина Кумберленда была дикой, что штат выше меня и вообще людей моего склада, и нас следует отстранить, чтобы Теннесси уважали в Вашингтоне. — Он на самом деле говорил о тебе в таком духе? — недоверчиво спросила она. — Да. — И ты не дал ему отпора? — Нет, он обладает правом противостоять мне в политике. Она сплела свои пальцы с его пальцами: — Горжусь тобой, Эндрю. — Ну, а я не горжусь собой. Я сохранял мир, но единственным результатом этого, как кажется, явилось то, что мистер Дикинсон начинает считать меня трусом. Если бы я пресек его болтовню раньше, он не осмелился бы говорить о нашей женитьбе. Хотелось бы знать, сколько лет жизни он сам себе отмерил? Тембр голоса Эндрю совершенно изменился. Она взглянула на его лицо: оно потемнело, губы вытянуты в ниточку, а зубы стиснуты. — Эндрю, ты не станешь с ним драться? Он разгладил на ее лбу морщины, выдававшие ее тревогу. — Нет. Сегодня же я схожу к капитану Эрвину и попрошу его использовать свое влияние, чтобы приструнить зятя. Я скажу капитану, что не хочу ссориться с Дикинсоном и что он должен прекратить искать повод для ссоры со мной. Она взяла его руку и прижала к своей щеке. Эндрю и Рейчэл встали рано утром и подготовились к встрече — капитан Эрвин обещал привезти с собой в это утро в Эрмитаж своего зятя. Рейчэл подумала: «Как странно, что именно теперь она встретится впервые с Чарлзом Дикинсоном, как могло случиться, что человек стал ее смертельным врагом, даже не видя ее?» — Я возлагаю большие надежды на эту встречу, — призналась она Эндрю. — Я всегда думала, что людям трудно ненавидеть друг друга, если они встретились хотя бы раз и пожали друг другу руки. Друзья Рейчэл и члены ее семьи не раз рассказывали ей о Чарлзе Дикинсоне. Дикинсон был одним из наиболее красивых мужчин в долине Кумберленда: у него были тонкие черты лица и широко расставленные большие глаза. Ему было всего двадцать семь лет, и держался он надменно; даже в этот ранний час он был в безупречном костюме из синей нанки, в рубашке из ирландского льняного полотна, его голову украшала широкополая шляпа. Рассказывали, что он изрядно выпивает, но этого не было заметно по его гладкой светлой коже. С первого взгляда Рейчэл стало ясно, что мистер Дикинсон возненавидел каждый шаг на пути к Эрмитажу, но было ясно и другое: он вынужден слушаться своего тестя — человечка в два раза ниже его и вдвое старше по возрасту, с пучком седых волос, торчавших вертикально почти в центре его головы, и моргающими глазами, глубоко посаженными за выпуклыми костями надбровий. Капитан Эрвин обменялся рукопожатием с Рейчэл, а потом повернулся к зятю и сказал: — Могу ли я представить мистера Чарлза Дикинсона? Мистер Дикинсон низко поклонился, не глядя на нее. Она хотела тепло его приветствовать, но нарочито церемонный поклон сделал это невозможным. — Не хотите ли присесть, джентльмены? — спросила она. — Не желаете ли выпить с дороги? Дикинсон пристроился на краешке дивана и сидел, словно аршин проглотил. Он взял чашку у Молли, поднес к своим губам, но, не отпив и глотка, поставил ее на столик около себя. — Мистер и миссис Джэксон обвиняют меня в том, что я позволил себе замечание личного порядка в ваш адрес. Я не думаю, что сделал такое замечание, поскольку ничего такого не помню. Однако я выпил в этот день… Капитан Эрвин настаивает на том, что я должен извиниться перед вами, даже если не помню, что нанес оскорбление. Приношу свои извинения. Дикинсон откровенно давал понять, что приносит свои извинения с единственной целью — ублажить своего тестя. Эндрю стоял перед камином, расставив ноги, пронзительные голубые глаза следили за каждым движением в комнате. Рейчэл ждала, что он скажет что-то, но, очевидно, он полагал, что от него ничего не ждут. Нарушив болезненное молчание, она сказала: — Спасибо, мистер Дикинсон, мистер Джэксон и я искренне надеемся, что можем стать друзьями. Мистер Дикинсон встал, приблизился к Эндрю и сказал ледяным тоном: — Мистер Джэксон, я хочу далее заявить, что если я и сделал оскорбительное замечание, то меня спровоцировали на это. — Каким образом, сэр? — Меня информировали, что вы обвинили капитана Эрвина и меня в надувательстве в связи со штрафом. — Это не соответствует истине, мистер Дикинсон. Я знаю капитана Эрвина много лет и считаю его одним из самых честных людей. Я думаю, недоразумение возникло, когда капитан Эрвин счел, что имеет право оплатить штраф любыми документами, тогда как я, как победитель, полагал, что вправе выбирать бумаги. Что же касается вас, вы оплатили мне надлежащими бумагами. Рейчэл почувствовала, что у нее внутри похолодело, словно температура в комнате упала сразу на двадцать градусов. Было ясно видно, что объяснения Эндрю не успокоили Дикинсона ни в малейшей степени. — Я получил информацию о вашем заявлении из достоверного источника. — В таком случае ваш осведомитель — откровенный лжец. Кто он? — Томас Суонн, мой друг и адвокат в Нашвилле. — Очень хорошо, вызовем его. — Этого я не могу сделать. Ведь мистер Суонн может подумать, будто я перекладываю бремя со своих на его плечи. Капитан Эрвин подошел к зятю: — Мистер и миссис Джэксон приняли твое извинение, несмотря на то что ты сказал, будто не помнишь о твоем замечании. Мистер Джэксон объяснил нам сейчас, что он говорил о различных бумагах, которые я предложил в оплату, а не о твоих и что он вовсе не думает, что расхождение в документах было предумышленным. Я считаю, что это равнозначно тому извинению, которое ты принес Джэксонам, и я принимаю их извинение. Это обязывает тебя поступить таким же образом. Он повернулся к Рейчэл, взял ее руку и улыбнулся самым дружественным образом: — Моя жена и дочь ждут нас дома. Когда они уехали, Рейчэл спросила: — А кто такой этот Томас Суонн? — Один из подлипал Дикинсона. Он считает, что если будет подыгрывать клиентуре Дикинсона, то получит от них адвокатский, а может быть, даже политический пост. — Ну что ж, я рада, что спор улажен./4/
Она недооценивала убойную силу неприятностей. Через два дня Эндрю получил письмо от Томаса Суонна, уведомляющее его, что, по сообщению мистера Дикинсона, мистер Джэксон назвал его, мистера Суонна, окаянным лжецом. Рейчэл прочитала вслух:«Это выражение своей резкостью глубоко затронуло мои чувства. Такой язык мне чужд, и ни один человек, знающий мой характер, не осмелится говорить на нем в отношении меня, и я вынужден в силу необходимости взять его на заметку. Остаюсь, сэр, вашим покорным слугой. Томас Суонн».— Мистер Дикинсон не должен был бы пойти с доносом к Томасу Суонну, — мягко сказала Рейчэл. Эндрю разозлился и на этот раз решил не уступать: — Я давно подозревал, что он не хочет прекращения ссоры. Он хочет продолжать и углублять ее. Я отвечу мистеру Суонну через день-два. Рейчэл не видела письма, которое Эндрю послал Томасу Суонну, но догадывалась, что оно било рикошетом по Дикинсону. Когда она узнала, что Чарлз Дикинсон отплыл на плоскодонке в Натчез, Рейчэл почувствовала облегчение. Однако на следующий день они получили письмо, явно написанное перед отъездом. Последний абзац письма уколол ее, как острый нож:
«Что касается слова „трус“, то, я полагаю, оно применимо к вам больше, чем к кому-либо, и был бы весьма рад, если представится возможность, узнать, каким образом поднесете успокаивающее средство, и надеюсь, что в обмен получите мой весьма скромный Катартик. К вашим услугам Чарлз Дикинсон».Рейчэл старалась расшифровать слова «успокаивающее средство» и «Катартик», и на ум ей приходило одно: этислова есть синонимы слова «боеприпасы». Она надеялась, что мистер Дикинсон проведет много приятных дней в Натчезе, достаточно много, чтобы утихла эта неприятная, опасная перебранка. Однако она не утихла. Эндрю не посвящал ее более в подробности, и ей приходилось собирать факты по отрывочным сообщениям из различных источников. В отсутствие Чарлза Дикинсона огонь раздувал Томас Суонн. Он «требовал удовлетворения, которое имеет право получить джентльмен». Эндрю ответил, что если Суонн вызывает его, то тогда он вынужден наподдать ему тростью. На следующий день Суонн вызвал Эндрю на дуэль, после чего Эндрю вернулся в таверну Уинна и ударил Суонна тростью по плечу. Ее утешением в эти холодные месяцы стал шестилетний Энди. Погода была слишком промозглой, чтобы отправлять его каждый день в школу, поэтому она сама начала заниматься с малышом, обучая его по той самой конторской книге и другим книгам, по которым ее отец занимался с ней и Сэмюэлем. Каждый день они совершали короткие прогулки; деревья уже сбросили листву, земля набухла от дождя. Природа отдыхала. Она откровенно думала, что спор с Суонном возник по причине зимы, когда нет большой работы, отнимающей все время. Она молила Бога, чтобы весна наступила как можно раньше, тогда солнце станет теплее, земля высохнет, и мужчины смогут направить свою энергию на выполнение неотложных задач. В этот момент вмешался генерал Джеймс Робертсон, основатель первого поселения в Кумберленде. Это был крепко скроенный мужчина, имевший обыкновение стоять со слегка наклоненной вперед головой. Его седые волосы были плотно уложены и подстрижены челкой. Он отличался выдержкой, вдумчивостью, смотрел прямо в глаза. Его некогда светлая кожа потемнела и покраснела под местным солнцем. Он протежировал Эндрю, поддерживал его в делах милиции и помогал Блаунту продвинуть его в политике. — Эндрю, я следил за твоей перебранкой с этим молодым Томом Суонном. Я приехал к тебе, чтобы попросить: не дерись на дуэли. — Но именно Суонн напрашивается на дуэль, генерал. — Сынок, твоя отвага и репутация не нуждаются в дуэли. Если ты проиграешь ее, то пострадает твоя семья. Если ты победишь, это будет пиррова победа. Дуэли не должно быть, Эндрю, она ничем не лучше убийства. — Бывают случаи, когда дуэль оправданна. — Нет, мой мальчик. — Руки генерала слегка дрожали, поэтому он положил их на стол перед собой. — Ты не можешь отнять жизнь у смертного. Если ты убьешь молодого Суонна, то будешь страдать всю жизнь… как Аарон Берр. Тебе известно, что он был осужден за убийство? — Его никогда не предадут суду. Но так или иначе, я даю слово: ни при каких обстоятельствах не стану сражаться на дуэли с этой марионеткой, Томасом Суонном. Во время этого обмена репликами Рейчэл молчала, признательная старому человеку, совершившему долгую поездку, чтобы защитить ее, ибо она понимала, что он думал о большем, чем о физическом состоянии Эндрю. В начале февраля спор вышел за рамки получастной, устной ссоры и вылился на страницы печати. Томас Суонн опубликовал пространный выпад против Эндрю в нашвиллской газете «Импаршиал ревью». Эндрю выступил с еще более пространной публикацией в свою защиту, подкрепленной показаниями друзей, так или иначе присутствовавших при споре. Родственник миссис Дикинсон Джон Эрвин поместил в газете третье заявление, призывавшее читателей воздержаться от вынесения суждений до возвращения мистера Дикинсона и изложения им сути дела. Единственный, кому доставляло удовольствие продолжение спора, был Томас Эйстин, владелец «Импаршиал ревью»: он получал за каждую публикацию по обычному коммерческому тарифу. Наконец пришла весна. Солнце высушило землю, плуги вспахали пашню, мужчины вернулись к работе… Эндрю возвратился в Кловер-Боттом, чтобы натаскивать Тракстона к большой скачке против Плейбоя. И Рейчэл подозревала, что все отложили в сторону споры по поводу уплаты штрафных, спрятав свои чувства до апрельского состязания. Пари были исключительно крупными. В день скачек Тракстон — Плейбой утро было туманным, но серая мгла на улице не шла ни в какое сравнение с плохим настроением Эндрю. За два дня до скачек Тракстон повредил бедро, и опухоль не поддавалась ни массажу, ни мазям. Они выехали рано в направлении Кловер-Боттом. Толпа зрителей была уже непомерно большой. — Я никогда не видел такого скопления людей, — заметил Эндрю. — Думаю, как раздосадовал бы их, отменив скачки. — Но, Эндрю, если у Тракстона вспухло бедро?.. Он выставил свой упрямый подбородок: — Не думаю, что распухшее бедро помешает Тракстону выиграть. Мужчины, помогавшие готовить лошадь к состязаниям и поставившие на нее большие суммы, — Джон Коффи, Джон Верелл, Сэм Прайор — все заговорили в один голос: Тракстон должен выложиться полностью, чтобы побить Плейбоя, даже если тот находится в хорошей форме. — Я никогда не видел лошади, так страждущей победы, — сказал Эндрю. — Джентльмены, я охотно принимаю любую часть ваших обязательств по ставкам. Две лошади были подведены к стартовой линии. Прозвучал сигнал, и кони рванулись вперед. Тракстон слегка опередил противника. Зрители замолкли, следя за тем, как двое прекрасных животных кружили по лугу. Когда скачка вышла на прямую, Тракстон ринулся вперед. Большой жеребец Джэксонов легко выиграл первый забег, но он сильно хромал. Одна из подков расшаталась. Сторонники капитана Эрвина кричали, что скачки закончились. — Мы запоздали признать штраф, Эндрю? — спросила Рейчэл. — Да, мы должны либо пробежать второй круг, либо отказаться и оплатить полную стоимость наших ставок. Про себя она думала: «Мы можем потерять наши деньги, но это не так уж плохо: первое выступление Тракстона удовлетворило Эндрю, а если капитан Эрвин и Чарлз Дикинсон вернут свои деньги, то смогут также утверждать, будто они победили». Но она не учла настроения своего мужа. — Тракстон готов участвовать в соревновании. Если он может побить Плейбоя с одной больной ногой… то сделает это и с двумя. И Тракстон сделал это, обойдя Плейбоя на целых шестьдесят метров под нежданным частым дождем, пробежав две мили за четыре минуты без двух секунд. Эндрю и его друзья выиграли десять тысяч долларов. Капитан Эрвин и его сторонники были разорены. Это было самое унизительное поражение в истории западных скачек. Сердце Рейчэл учащенно билось, когда они покидали ипподром.
/5/
Если Эндрю испытывал отчаяние после перемен в его карьере и продажи Хантерз-Хилл, то теперь его сожаления полностью исчезли благодаря успехам со скаковыми лошадьми, принесшими ему славу лучшего конезаводчика Теннесси. Капитан Эрвин выплатил свой долг, поздравив Эндрю с тем, что он сумел привить своему рысаку бойцовский дух. Шумным выступлениям Суонна был положен конец властями штата в Ноксвилле: очевидно, они пригрозили отобрать у него лицензию адвоката. В этом акте Рейчэл усмотрела влияние генерала Робертсона. До них доходили сведения, будто во время плавания по Миссисипи Чарлз Дикинсон усиленно тренировался в стрельбе из пистолета. Но Рейчэл сочла это сплетнями. В конце мая вечером Эндрю вернулся из лавки домой расстроенным. Вскоре после захода солнца в Эрмитаж приехал Томас Овертон. Рейчэл, работавшая в своей спальне за небольшим ткацким станком, услышала голоса мужчин, разговаривавших внизу: высокий, раздраженный голос Овертона и низкий, вибрирующий голос Эндрю. Примерно через двадцать минут он поднялся наверх и сказал, что должен поехать в город по срочному делу, а вернется домой вечером следующего дня. Она старалась по выражению его лица понять, что случилось, но он, погруженный в свои мысли, поцеловал ее и вышел из комнаты. Наступивший день пролетел быстро, ее одолели домашние хлопоты: варка фруктового варенья на десерт, чистка громоздкого зимнего постельного белья и укладка на хранение на летнее время, шитье легкого костюма для Энди. Сосед, вернувшийся из Нашвилла, доставил послание: Эндрю не сможет вернуться в этот вечер. На следующее утро Джордж принес ей экземпляр газеты «Импаршиал ревью». В газете была опубликована статья Чарлза Дикинсона, а она не знала о его возвращении в Нашвилл. Она бегло пробежала первую часть статьи, представлявшую собой пространное описание ссоры из-за уплаты штрафа, и задержалась на пассаже:«Генерал Джэксон заявляет, что мистер Суонн действовал в роли марионетки и лживого лакея, ничего не стоящего человека, пьяницы, подлеца, негодяя и т. п. Если Эндрю адресует эти эпитеты мне, то я объявляю его (несмотря на то что он является генерал-майором милиции) ничего не значащим человеком — негодяем, трусом и слюнтяем, который под надуманными и уклончивыми предлогами избегает сатисфакции, какую он обязан дать оскорбленному им джентльмену. Это мешает мне навестить его в той манере, в какой бы мне хотелось, ибо я глубоко убежден: он слишком большой трус, чтобы применить одно из тех успокаивающих средств, какие он обещал мне в своем письме мистеру Суонну».Она неподвижно сидела на жестком стуле, будучи не в силах даже думать, пока не услышала звук подков лошади Эндрю, пересекавшей поле. Она подбежала к открытой двери, прикрывая рукой глаза от полуденного солнца. Он соскочил с лошади во дворе, заключил Рейчэл в свои объятия и, взглянув на газету, которую она все еще держала в руке, прошептал: — Плохие известия распространяются быстро, у них много помощников. Он провел ее в дом. Молл готовила ужин. Она взглянула на Рейчэл и молча вышла. — Вот почему ты уехал в Нашвилл вечером в четверг — ты прослышал, что вернулся Чарлз Дикинсон. — Я поехал прочитать статью, прежде чем Эйстин наберет ее. Ну… я ее увидел. — Эндрю, ты вызвал его на дуэль! Он взял ее руку в свою: — Я должен был сделать это. Я хотел, чтобы все это дело было улажено сегодня утром… прежде чем ты могла бы узнать… но секундант Дикинсона выдвинул кучу отговорок. — Ты будешь драться с ним на дуэли? — в оцепенении спросила она. — Когда… и где? — Через неделю, в Кентукки, у Гаррисон-Милл. Воздух в комнате словно застыл. Она почувствовала что-то на своей щеке, прикоснулась пальцами и обнаружила слезы. Он поедет по Кентуккской дороге, той самой, по которой он доставил ее пятнадцать лет назад от Робардсов, когда кончилась ее старая жизнь… и началась новая. Как тесно связаны между собой эти два путешествия и как невозможно уберечься от прошлого! — Дорогой, ты не позволишь этому безумному мальчишке сломать нашу жизнь? Он отошел от нее: — У меня нет выбора. — Это будет дуэль, не похожая на другие, верно? Вы оба будете стрелять… — Да. Она почувствовала, что вот-вот упадет в обморок. Эндрю принес ей кувшин холодной воды. Она сделала глоток, затем посмотрела на него и крикнула: — Боже милостивый, почему ты должен делать это? Разве ты больше не любишь меня и не думаешь, что будет со мной, если готов рисковать жизнью без цели и смысла? Он взял кувшин с водой из ее рук, намочил свои пальцы и провел ими по ее лбу. — Я люблю тебя, моя дорогая. И буду любить до самого смертного часа. — Если он убьет тебя, Эндрю? У меня ничего не останется, чтобы любить… или жить… Он подошел к буфету, отколол кусок от сахарной головы и растворил его в виски, потом залпом выпил смесь. Когда он повернулся к ней, его лицо было бледным. — Если я проигнорирую эти оскорбления, люди начнут плевать мне вслед, когда я буду на Маркет-стрит. Мое имя станет предметом насмешек. Я стану посмешищем для всего Теннесси. — Драться на дуэли — это дикость. Каждый уважающий закон будет уважать тебя за отказ от дуэли. В этой самой комнате генерал Робертсон сказал тебе, что твоя смелость и репутация не требуют такого мщения. Он сказал, что если ты проиграешь, то будет страдать твоя семья, если же выиграешь, то это будет пиррова победа… Она видела, что он словно слепой подошел к большому креслу и плюхнулся в него, закрыв лицо руками. — Ой, Рейчэл, я старался так много сделать и потерпел неудачу во многих начинаниях. Меня поддерживало одно — чувство чести, и именно им я живу. Отними его, и я буду схож с палаткой, у которой подрубили топором главную опору. Я никогда не убегал от чего-либо и не уклонялся от выполнения своих обязательств. Заставь меня поступить однажды таким образом, и я буду уничтожен. Что же тебе тогда останется? Я перестану быть мужчиной. — Потребуется намного больше смелости, чтобы проигнорировать то задиристое письмо и встречаться лицом к лицу с людьми на Маркет-стрит, чем стоять у Гаррисон-Милл против почти чужого человека, когда вы оба полны решимости убить друг друга. — Быть может, это именно так, но я не обладаю такой смелостью. Если бы Дикинсон прислал свое письмо частным путем, то я, возможно, отыскал бы способ ответить ему аналогичным образом. Но теперь нет ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка, которые не читали бы это письмо. Я все еще генерал-майор милиции, и сотни милиционеров прочитают это письмо и тотчас поймут, что я обязан сражаться с Дикинсоном. Если я откажусь, то не только лично я стану объектом бесчестья, им станет вся милиция. Если ее руководитель — трус, то тогда и они все трусы. Я должен либо драться на дуэли, либо подать в отставку. Я должен либо драться, либо отказаться от скачек. Я должен либо драться, либо продать нашу лавку, таверну и даже дом, да, наш дом. Либо я сражаюсь, либо теряю все. Она выждала момент, а затем спокойно спросила: — Эндрю, ты сражаешься с Чарлзом Дикинсоном на дуэли из-за спорных бумаг по оплате штрафа… или же из-за отвратительных слухов, какие он распространяет о нас и нашем браке? — Как я могу сказать? Если бы Чарлз Дикинсон не питал ко мне такой ненависти, то он не стал бы нападать и на тебя. В равной мере если бы я был в состоянии вытерпеть его клевету, то ссора из-за штрафных бумаг не зашла бы так далеко. — Но если ты понимаешь это, то и другие поймут. Они станут говорить, что дуэль была вызвана мною. — Нет способа пресечь грязные пересуды, пока мы позволяем этому человеку чернить нас. Я должен раз и навсегда заткнуть ему рот. — Это будет для нас обоих концом… и таким страшным концом нашей любви, нашей надежды. — Нет, это будет хорошим концом: мы продолжим борьбу за нашу любовь. Но если мы позволим, чтобы все это продолжалось, то мы будем умирать каждый час и каждый день нашей жизни, умирать от подлых слухов и злокозненных обвинений. — Эндрю ходил по комнате. — Дикинсон хочет стать великим мужем Теннесси. При каждом повороте он видит, что я принижаю его. — Эндрю не смог удержаться от кривой ухмылки. — Даже его великий Плейбой был унижен и опозорен нашим Тракстоном. Она подошла к Эндрю, взяла его за руки: — Он — лучший стрелок в этой части страны. Он может трижды попасть в подброшенную монету, прежде чем она упадет на землю, он может попасть в струну на расстоянии двадцати метров. — Он приложил большие усилия, чтобы распространить такие басни. — Тогда… он… может промахнуться? — Не совсем. Но обещаю тебе: я не промахнусь. — Ой, Эндрю, я не хочу, чтобы ты был виновен в убийстве другого человека. Подумай о его жене… и об их сынишке. Он стоял некоторое время, уставясь на нее, потом повернулся, подошел к двери и позвал: — Молл, будь добра, подавай обед. И попроси Джорджа принести из холодной кладовки бутылку вина. Она ожидала, что в дни перед отъездом в Гаррисон-Милл он изменит распорядок своего дня, займется приготовлениями, составит инструкции, выправит бумаги, подведет баланс расходов. Но он не сделал ничего такого. Он по-прежнему работал в поле, по утрам уходил в конюшню в Кловер-Боттом, увлекаясь выездкой лошадей, вечерами они сидели у камина, читая или же беседуя с друзьями, приходившими на ужин. Эндрю не обмолвился и словом о предстоящей дуэли. Он должен был выехать в пять часов утра в четверг. Накануне они рано легли спать. Эндрю провалился в глубокий сон. Рейчэл не сомкнула глаз. Перед ее мысленным взором промелькнули все счастливые дни, пережитые ими, успехи и неудачи, каким изумительным был Эндрю — его нежная мягкая любовь в Байю-Пьер и в Поплар-Гроув; большой дом, построенный им в Хантерз-Хилл, чтобы превратить ее в великую леди Теннесси; карета, заказанная им для нее в Рождество, когда у них было так плохо со средствами; подарки, которые он привозил ей из Филадельфии, несмотря на трудности и неприятности. Эндрю проснулся в четыре часа утра. Они позавтракали вместе. Она хотела сказать ему многое: как сильно она его любит, какими чудесными были дни их совместной жизни и как дорога ей их взаимная любовь. И тем не менее она поняла, что не может произнести ни слова, не должна ни одним жестом выдать свой страх, что может больше не увидеть его. Вместо этого, когда настало время расставания и они страстно обняли друг друга, она сказала: — Не торопись, отдохни после ланча и будь осторожен… Он улыбнулся с грустью и ответил: — Буду осторожным. — Приезжай домой побыстрее. Я буду ждать тебя. Приготовлю виски и горячий ужин. На восточной кромке неба появились первые лучи солнца. Она стояла в дверях, когда он ехал по полю. Затем повернулась и вошла в дом. Внутри было темно и тихо.
/6/
Рейчэл занималась обычными домашними делами со странным чувством подвешенности во времени и пространстве, словно она стояла над миром и наблюдала за женщиной по имени Рейчэл Джэксон, которая отчаянно старается заполнить свободное время физической деятельностью, отвлекающей от мыслей. В полдень приехала с небольшой сумкой Джейн. Джейн ничего не спросила о дуэли и об отсутствии Эндрю, она просто пришла, как это делала всегда, когда у Рейчэл возникали неприятности. Чета Хейс также переживала невзгоды, как знала об этом Рейчэл. Были осложнения с некоторыми инвестициями Роберта, и ему пришлось пожертвовать большей частью своих земельных участков. Поговаривали, что Хейсы могут потерять свою плантацию. В эту ночь Джейн спала с ней в одной комнате. Несколько раз Рейчэл преследовали кошмары, и она сотрясалась от подавленных выкриков. Она чувствовала объятия Джейн, старавшейся успокоить ее. При первых проблесках солнца Рейчэл посмотрела на сестру и увидела, что та спит. Рейчэл осторожно поднялась с постели, оделась и вышла из дома. Было уже тепло, но, пройдя мимо колодца и углубившись в лес, она почувствовала, что воздух недвижим и все еще прохладен. Рейчэл бродила долго, отгоняя от себя мысль, что, когда пробьет семь часов, произойдет обмен выстрелами, но она почувствует сердцем, если случится что-либо серьезное с Эндрю. Лес стоял как стена, через его гущу не могут проникнуть ни человеческий глаз, ни человеческий голос, и это защищало ее одиночество, возможность быть наедине с собой. Было сумеречно, но деревья казались друзьями, словно они понимали, что ей нужна защита от жестокого и хаотичного мира. Она шагала по мягкой, покрытой мхом земле, не прилагая усилий, словно плыла по тихой теплой воде в период созревания, когда еще не нужно думать и бороться. Солнце поднялось довольно высоко, освещая верхушки деревьев. Она осмотрелась и через некоторое время вышла на тропу, ведущую к поместью. Было десять часов утра, когда она добралась до дома. Джейн сидела на ступеньках и вязала, а у ее ног играл Энди. Она посмотрела вверх, быстро оценила выражение лица Рейчэл, затем сказала: — А я было подумала, что ты ушла в Гаррисон-Милл сражаться на дуэли за него. — Нет известий, Джейн? — Нет, да и как они могут быть? Пройдет еще несколько часов, прежде чем Эндрю прискачет домой, как бы быстро он ни мчался. — Джейн встала, взяла сестру под руку. — Тебе нужно отдохнуть. Ведь ты провела столько бессонных ночей. — Думаю, я могла бы соснуть… часок или два. Она положила голову на подушку, вспомнила, как один приятель Эндрю, знавший его с детских лет, сказал ей: «Я могу в трех случаях из четырех свалить Эндрю, но он никогда не опрокидывается», и провалилась в бездонную дрему. Рейчэл пробудилась во второй половине дня. Она слышала, как внизу напевала Молл, а Джейн читала вслух Энди. Она налила холодной воды в тазик на туалетном столике, быстро умылась, расчесала волосы и надела белое льняное платье, на которое приколола жемчужную брошку — первый подарок Эндрю. Спускаясь по лестнице, Рейчэл услышала шум приближающихся лошадей, а подойдя к двери, увидела Эндрю, едущего по тропе в сопровождении Томаса Овертона и доктора Мея — нашвиллского хирурга. Она была рядом с Эндрю, когда он осторожно слезал с лошади. — Слава Богу, дорогой! С тобой все в порядке? — Ой, он проколол меня. — А мистер Дикинсон? Как он? — Ну, я точно не знаю. Я попал в него. Послал доктора Мея для оказания помощи, но помощь была отклонена. Мужчины последовали за Рейчэл в дом и наверх, в спальню, где они помогли Эндрю снять сюртук и рубашку. Его грудь была перевязана, и кровь просочилась через бинт. — Я пытался убедить мистера Джэксона остаться в таверне Дэвида Миллера на Ред-Ривер на пару дней, чтобы подлечить рану, — сказал доктор Мей, — но он настоял на том, чтобы вернуться домой и показать вам, что остался жив. — Насколько серьезна рана? — Она болезненная, но неопасная — пуля сломала ребро, а может быть, и два, повредив переднюю, соединяющую ребра кость. Рейчэл села рядом с ним и держала его руку, в то время как хирург почистил рану и вновь ее забинтовал. Эндрю сжал губы и, превозмогая боль, рассказал ей: — Мистер Дикинсон не хвастался. Он прекрасно прицелился. Он стрелял точно туда, где, по его представлению, находилось сердце. Но ты знаешь, насколько широк мне синий сюртук. Стоя в пол-оборота, как положено, я почувствовал, что ветер раздул сюртук на моей груди. Никогда не думал, что худоба принесет мне удачу, но именно она спасла мою жизнь… пуля прошла мимо всего на полдюйма. Доктор Мей вытащил из своего кармана носовой платок и вытер пот с лица Эндрю. — Сейчас, я думаю, нам всем не повредит доброе крепкое виски. Мистер Джэксон получит свою порцию в постели. — Всего одно слово, джентльмены, прежде чем вы уйдете, — сказал Эндрю, опираясь на локоть. — Когда сообщите об этой ране в Нашвилле, будьте добры употребить мои слова: «Мистера Джэксона проткнули, больше ничего». Мужчины согласились, затем сопроводили Рейчэл вниз. Томас Овертон быстро проглотил две порции виски и затем рассказал о дуэли: — Во время нашей поездки к Ред-Ривер генерал и я обсудили, как следует драться на дуэли. Как вы знаете, пистолеты надо держать дулом вниз до подачи сигнала, после этого каждый стреляет, как считает нужным. Едва ли возможно, что оба пистолета могут выстрелить одновременно, поэтому более проворный может закончить дуэль одним выстрелом. Должны ли мы попытаться быть первыми или же дать возможность быть первым Дикинсону? Мы согласились, что Дикинсону нужно демонстративно дать возможность выстрелить первым… — …Пожалуйста, мистер Овертон… — Я рассказываю так быстро, как могу, миссис Джэксон. Когда я дал команду «Огонь!», Дикинсон молниеносно поднял свой пистолет и выстрелил. Я увидел, как от груди сюртука генерала отлетел клубок пыли. Потом он поднял левую руку и прижал ее к груди. Дикинсон сделал шаг или два назад и бросил неуверенным тоном: «Боже мой, неужели я промахнулся?» Я крикнул: «На место, сэр…» — Мистер Овертон, будьте добры… — Генерал прицелился в мистера Дикинсона и нажал на спусковой крючок. Оружие не щелкнуло и не выстрелило, курок остановился на полпути. Генерал оттянул курок назад, вновь прицелился и выстрелил. Он попал в цель. Это станет концом заносчивого мистера Дикинсона, бросившего вызов людям, которых он рассчитывал убить на расстоянии двадцати четырех шагов. Рейчэл поднялась наверх к Эндрю с подносом, на котором стоял его ужин. Она обложила Эндрю подушками, а когда он почувствовал боль в руке, накормила его. Вскоре он спокойно уснул. Когда Роберт Хейс пришел за Джейн, Овертон и доктор Мей ушли вместе с ними. Рейчэл разделась и осторожно легла в постель, не желая разбудить Эндрю. Ее сон был беспокойным, она знала, что не успокоится, пока не получит утешительных новостей относительно Дикинсона. Она никогда не питала к нему ненависти, она лишь считала его нападки на беззащитную женщину бестактными. Если мистер Дикинсон смертельно ранен, то ее ответственность будет такой же, как ответственность Эндрю. Она не хотела, чтобы кто-то был убит из-за нее. Новости из Нашвилла поступили достаточно быстро. На следующее утро, когда Эндрю еще спал, Молл тихо позвала ее вниз, к лестнице. Рейчэл, накинув на плечи халат и надев тапочки, спустилась к ожидавшему внизу милиционеру. Он просил разрешить ему встретиться с генералом Джэксоном. Она настойчиво доказывала, что Эндрю нельзя тревожить, тогда офицер сказал: — Меня послали, чтобы сказать генералу, что Чарлз Дикинсон умер в девять часов вчера вечером. Рейчэл ухватилась за стул, чтобы не упасть. Когда милиционер ушел, она опустилась на колени: — Ой, Боже, пожалей бедную жену, будь милостив к ребенку на ее руках. Затем из глубины ее рассудка выплыли произнесенные шепотом слова: «И пожалей и нас».Книга пятая
/1/
Рейчэл размышляла по поводу смерти Чарлза Дикинсона. Она с тревогой наблюдала, как огорченные жители долины Кумберленда поменяли местами роли дуэлянтов: каким-то образом Эндрю Джэксон превратился в непобедимого стрелка, безжалостно убившего более молодого и менее опытного противника. В письме капитана Эрвина, опубликованном в «Импаршиал ревыо», утверждалось, что, хотя Эндрю технически действовал в рамках своих прав, он, нажимая второй раз на спусковой крючок, тем не менее по сути дела нарушил неписаный закон дуэли. Это утверждение было воспринято с доверием в Нашвилле, и его честь, ради которой он рисковал жизнью, была серьезно подмочена. Среди женщин миссис Сомерсет Фарисс, кузина Чарлза Дикинсона, обвинила Рейчэл в том, что из-за двух нападок на нее мистера Дикинсона она подстрекала мистера Джэксона к дуэли, и намекала, что кровь Чарлза Дикинсона на руках Рейчэл Джэксон. Когда нашвиллцы явились на похороны Дикинсона, страсти настолько накалились, что состоялся массовый митинг протеста. Рейчэл уже не приходилось накрывать стол на двадцать персон — они ели в одиночестве. Даже те друзья, которые считали дуэль неизбежной, были расстроены смертью молодого Дикинсона. Их стремление сторониться Эрмитажа выражало их недовольство. Рейчэл понимала это: разве она сама не испытывала неприязненные чувства, представляя себе свежую кровь на руках Аарона Берра? Осознание этого усиливало ее отчаяние, по мере того как клиенты Эндрю, его помощники, его старые друзья в Нашвилле, толпа поклонников на беговой дорожке и люди, приезжавшие со всего штата за советом для заключения земельной сделки, обмена лошадей, рассеивались подобно утреннему морозцу. Его друзья, контролировавшие политику в Теннесси, также отшатнулись от него, не искали больше его советов и поддержки. Умерев, Чарлз Дикинсон подорвал политическую позицию Эндрю и его влияние намного сильнее, чем он мог бы это сделать, оставаясь живым. Лишь молодые помощники Эндрю из милиции Западного Теннесси оставались лояльными, приезжали в Эрмитаж для тренировки лошадей и выпивки, рассуждали о кампании, посредством которой они могли бы выдворить испанцев из Флориды. Дуэль была для них делом чести, необходимостью, и они, нисколько не сомневаясь, подводили под ней черту. Эндрю разрешили встать с постели после ланча. Но он был вынужден провести вторую половину дня, откинувшись на красном диване, чтобы его сломанные ребра срослись. Рейчэл перевязывала рану, но она не заживала так быстро, как предсказывал хирург. Томас Овертон и доктор Мей сдержали свое обещание и не сказали никому, что пуля Дикинсона прошла около сердца Эндрю на расстоянии не более дюйма. Рейчэл умоляла: — Эндрю, ты должен позволить доктору Мею дать точное описание твоей раны. Многие люди, обозленные на тебя, думая, что ты отделался царапиной, почувствуют себя по-другому, узнав, как близок был Дикинсон к тому, чтобы убить тебя. — Куда и насколько серьезно поразил меня Дикинсон — это мое личное дело, — отрывисто ответил он, — мне нет нужды исповедоваться перед людьми с короткой памятью, настроенными против меня. — Будь великодушен, Эндрю, дай им возможность спасти свое лицо. Быть может, это позволит семье Дикинсона почувствовать себя хоть чуточку лучше. От боли Эндрю скривил рот, когда он приподнялся и сел. — Он не был великодушным к тебе — нанес публичный удар. Он не был великодушным ко мне — поехал на место дуэли, абсолютно уверенный, что я оттуда живым не уеду. Он делал ставки в Нашвилле, что убьет меня первым выстрелом. — Да, Эндрю, я знаю все это. Но атмосфера вокруг нас так пропитана ненавистью и пересудами… старыми сплетнями… о Льюисе, о наших двух первых совместных годах, и как я не смогла защититься в Харродсбурге, и решение присяжных против нас… Она почувствовала руку Эндрю в своей, его лицо было бледным и изнуренным. — Дорогая, ты должна верить мне. Я сделал то, что должен был сделать. Я бы не мог больше жить с тобой или просить тебя по-прежнему любить меня, если бы позволил Чарлзу Дикинсону продолжать унижать нас. Отмщение было необходимо. Она коснулась ладонями его щек и поцеловала обескровленные губы Эндрю. — Хорошо, Эндрю, что бы мы ни делали, мы делаем вместе, и как бы тебе ни приходилось страдать, мы будем выносить вместе. — Она колебалась некоторое время, говорить ли, а потом быстро добавила: — На митинге была принята петиция, чтобы издатель Эйстин отпечатал следующий выпуск «Импаршиал ревью» в траурной рамке, как знак уважения к памяти и сожаления по поводу преждевременной кончины мистера Чарлза Дикинсона… — Выпуск с траурной каймой, — прервал он хрипло, — то есть с официальной черной повязкой. По какому праву? Если бы я мог поехать в город… Она поднялась, подошла к окну и стала спиной к Эндрю, словно поправляя занавески. — Почему бы не написать письмо протеста? Эйстин отдает номер в печать завтра. Я доставлю письмо к нему утром. На следующее утро Рейчэл ожидала в приемной редакции газеты, пока из наборной не вышел молодой блондин в черном фартуке, прикрывавшем его брюки. Его пальцы потемнели от литер, которые он набирал. Она вручила ему письмо Эндрю. Он прочитал его, склонившись над конторкой и покачивая головой в ритм с чтением. — Ну, миссис Джэксон, вы понимаете, что наша газета не может занять чью-либо сторону. Мы всемерно стараемся придерживаться нашего названия — «Импаршиал ревью». Глаза Рейчэл вспыхнули: — Ваше «Ревью» больше отвечало бы титулу «Импаршиал», если бы вы никогда не помещали письма Томаса Суонна, Эрвинсов, мистера Дикинсона, мистера Макнейри или генерала Джэксона. Издатель непроизвольно открыл измазанный чернилами рот, его нижняя челюсть отвисла. — Но, миссис Джэксон, когда джентльмен вручает нам заявление и заранее оплачивает его, у нас нет оснований ему отказать. Не можем мы отказать и семидесяти трем выдающимся гражданам в праве оплатить черную кайму одного из выпусков газеты. Рейчэл вообще не любила разные выверты и уклонения, а этот молодой газетчик явно лукавил. — Полагаю, что вы перечислите имена всех семидесяти трех, оплативших черную рамку? — …Ну… нет, об этом не было договоренности. — Тогда, будьте добры, наденьте пальто, обойдите семьдесят трех заказчиков и скажите им, что генерал Джэксон настаивает на публикации их имен. Мы не можем допустить, чтобы «Импаршиал ревью» занимала одностороннюю позицию, не так ли? Лицо Эйстина вспыхнуло: — Это необычно, мэм, но я сделаю то, что вы сказали. Мы стараемся удовлетворить каждого. Двадцать шесть скорбевших отозвали свои имена, остальные стояли на своем. Чтобы подчеркнуть свою беспристрастность, Эйстин поместил бесплатно письмо Эндрю. Из-за черной каймы усилились раздоры, а поездка Рейчэл в город дала дополнительное оружие тем, кто обвинял ее в соучастии. Насколько осталось в ее памяти, это было самое жаркое лето. Коровы задыхались от зноя и старались укрыться под деревьями, а свиньи искали прохладу в пруду. Глинистая почва на дорогах превратилась в летучую серую пыль. Доктор Мей запретил Эндрю заниматься выездкой лошадей к осенним состязаниям. Эндрю отозвал все свои заявки. Отзыв был излишним, ибо Нашвиллский клуб жокеев объявил, что зрители не станут посещать скаковую дорожку Эндрю Джэксона. Все скачки переносятся в Хартсвилл. Несмотря на настойчивые усилия Рейчэл восстановить здоровье Эндрю, он оставался худым, истощенным. В осенние дни она обходила поля, наблюдая за уборкой урожая. Земля была подобна раскаленному котлу, и пыль забивала рот и нос. Возвратившись с полей, Рейчэл шла в хижину над родником, где Молл заранее заполняла тазы прохладной водой. Сбросив запыленное платье и капор, Рейчэл купалась и мыла волосы. Расчесав их, она закрепляла прическу золотым гребешком, подаренным ей Эндрю. После этого она надевала белое или светло-желтое платье без воротничка, с короткими рукавами и отправлялась в главный дом, чтобы выпить перед обедом с Эндрю стакан холодного вина. По вечерам они садились под деревьями и веерами отгоняли назойливую мошкару. Судья Овертон посещал их так часто, как позволяли его многочисленные обязанности. Джон Коффи приезжал, чтобы провести вместе уик-энд. Из семейства Донельсон они виделись с Джейн, приезжавшей в полдень со своей дочерью Рейчэл, а Мэри и Катерина наведывались обычно по воскресеньям, привозя с собой целую стайку детей. Уильям осудил дуэль, Джонни молча дал понять, что недоволен новыми осложнениями, которые создали для клана действия Эндрю. Александр и Левен были либо слишком индифферентными, либо слишком ленивыми, чтобы приехать или же прислать свое сочувствие. Лишь Северн, с которым ни она, ни Эндрю не поддерживали близких отношений, почувствовал, что они страдают от изоляции. Он купил участок земли, непосредственно примыкавший к Эрмитажу, и настаивал на том, чтобы Джэксоны почаще навещали его. Как только доктор сказал Эндрю, что он может ездить в карете, Эндрю отправился в свою лавку в Кловер-Боттом. После трех поездок он перестал ездить туда, и Рейчэл не нужно было спрашивать почему. Она и так поняла, что лавка пустовала. Ей удалось также скрыть от мужа, что полковник Уорд не выполнил своих обязательств по выплате второй половины суммы за Хантерз-Хилл. К обрушившимся на них проблемам добавилось и то, что их последняя флотилия из семи лодок, нагруженных продуктами для Нового Орлеана, попала в шторм. Три лодки потонули, а оставшиеся были повреждены и по этой причине приплыли с запозданием; в итоге продажа на рынке не возместила даже расходов. Рейчэл философски приняла все эти финансовые потери. Она была убеждена, что они — неизбежная часть их образа жизни. Но в долгие бессонные ночи она вновь и вновь шептала про себя: — Ох, Эндрю, если бы ты направил свой пистолет вверх и выстрелил в небо, каким великим человеком ты бы стал! Ты вышел бы из дуэли милостивым победителем, слишком щедрым, чтобы требовать свой фунт мяса! Однако в те несколько секунд, что прошли между осечкой и новым взводом курка для выстрела, Эндрю знал, что он серьезно ранен. Мог раненый, возможно умирающий, человек пожалеть своего противника, полного мрачной решимости уничтожить его? И кто дал ей право судить? Она, погнавшаяся за любовью, поспешила вступить во второй брак, зная, что совершает неслыханное дело, что развод неизвестен в Теннесси и в пограничных территориях, что Льюис Робардс не позволит ей стать совершенно свободной… что стигма навсегда превратит ее в источник спора и вражды./2/
Однажды ночью в конце сентября они услышали стук копыт по тропе. Эндрю вылез из постели, подошел к большому окну, которое оставалось открытым, и воскликнул: — Да это полковник Берр! Эндрю надел халат и тапочки. Рейчэл поднялась и села на кровати. — Эндрю, могу ли я спуститься вниз с тобой? — спросила она. Он взглянул на нее: ее косы были туго закручены на голове, а глаза сверкали от такого неожиданного визита. — Иди впереди, — сказал он с улыбкой, — если полковник считает себя с нами на такой дружеской ноге, что врывается к нам так поздно ночью, то это значит, что мы можем принять его по-семейному. Лицо полковника Берра расплылось в любезной улыбке, когда они открыли перед ним дверь. — Как приятно вновь увидеть вас и генерала, миссис Джэксон. Я ждал этого случая много дней. Только этим я могу объяснить мою бесцеремонность в столь поздний час. — Да ну, полковник, я был бы крайне огорчен, если бы вы не ворвались, — прогудел Эндрю. Рейчэл подобрала полы своего широкого фланелевого халата и прошла в хижину около родника, где хранились ее припасы. Она взяла холодных жареных цыплят, булку хлеба, испеченную Молл, охлажденное сливочное масло и бутылку белого вина. Она застала мужа и полковника, когда они углубились в обсуждение планов военных действий против Испании. Рейчэл давно не видела Эндрю таким оживленным. Только теперь она поняла, в каком сонливом состоянии он был все лето, как ему хотелось находиться в гуще происходившего в Теннесси. Расстилая скатерть на столе и ставя тарелки и бокалы, она прислушивалась к сообщению полковника Берра, что вооруженные силы Испании, действующие на американской территории, заточили в тюрьму пять граждан Соединенных Штатов и сорвали американский флаг, поднятый над дружественным индейским племенем. — Боже Всевышний! — воскликнул Эндрю. — Кажется, пришло наше время! — Я купил полосу земли площадью двести тысяч акров в Уошито, — продолжал Берр, — и несколько сотен молодых бойцов обязались поселиться там со мной. Когда начнется война с Испанией, у нас будет самодеятельная армия, готовая двинуться на Техас и Мексику. — Все в Нашвилле с удовольствием услышат ваши сообщения, полковник, — страстно сказал Эндрю. Он повернулся к Рейчэл: — Моя дорогая, я хотел бы, чтобы ты пригласила на обед всех тех, кто был на нашем первом обеде в честь полковника Берра. Рейчэл отшатнулась, когда оба мужчины посмотрели на нее. Придет ли хотя бы один из приглашенных? Осмелится ли она просить чету Фарисс, Дейзи Дэзон и ее отца, других, оплативших траурную кайму в газете? Должна ли она рисковать нарваться на их отказ воспользоваться возможностью устранить ров холодности и враждебности, разделивший их после дуэли? Ей может помочь Джон Овертон — он тесно связан с Нашвиллем. Она должна прежде всего поговорить с ним. Джон был одним из управляющих Нашвиллской ассамблеи танцев, чей первый бал должен был состояться вечером в субботу в новой гостинице «Тальбот». Рейчэл спросила, не захочет ли Ассамблея пригласить полковника Берра в качестве почетного гостя. Джон подумал над предложением, решил, что оно поднимет значение бала, и послал извещения всем спонсорам Ассамблеи. В следующий полдень он нанес ответный визит. — Кажется, я действовал без моей обычной адвокатской осмотрительности, приглашая полковника Берра на встречу в субботу вечером. — Были возражения? — Да. В мою контору пришли несколько человек, заявивших, что мы не должны оказывать честь полковнику Берру. Кажется, полковника обвиняют в сомнительной деятельности. — Какой? — настороженно спросила она. — Так, прокурор Соединенных Штатов во Франкфорте мистер Дэвис вызывает полковника в федеральный суд по обвинению в том, что он собирается нанести ущерб державе, с которой Соединенные Штаты находятся в состоянии мира. — О, ты имеешь в виду подготовку к войне с Испанией? Эндрю одобряет это… — Другие сомнительные действия: в Каннонсбурге, штат Огайо, Берр сказал полковнику Моргану, что Союз не проживет долго — нерешительность и глупость федерального правительства велики, и через четыре-пять лет штаты разойдутся и что с двумя сотнями бойцов он может сбросить в Потомак конгресс с президентом во главе. — Но ведь это предательство! — Она была буквально ошарашена. — Есть ли доказательства для таких обвинений? — Доказательств нет. Все опирается на слухи… Во всяком случае мы достигли рабочего компромисса: полковник Берр получит входной билет, но не будет нашим почетным гостем… И конечно, на балу будешь ты и Эндрю. Полковник Берр уехал в Нашвилл в пятницу и остановился в гостинице «Тальбот». Эндрю надел форму генерала милиции, а Рейчэл решила не привлекать к себе внимания. Она сочла, что лучше выглядеть скромно, и надела простое темное платье. Джон встретил их при входе. Повернувшись к Рейчэл, он сказал с грустной улыбкой: — Как распорядитель бала, мадам, могу ли я иметь честь ввести вас в зал? Она покраснела от удовольствия — таким способом Джон показал враждебно настроенному обществу, какова его позиция. Почти пятнадцать лет назад он дал понять окружающим, что верит в ее невиновность, приехав из Харродсбурга в блокгауз Донельсонов и попросив принять его постояльцем. Сколько раз за прошедшие годы он возобновлял знаки своего доверия! Она почувствовала себя неловко лишь в тот момент, когда Эндрю вошел в зал вместе с полковником Берром и начал представлять его членам Ассамблеи. К ее облегчению, их приняли сердечно, поскольку в Нашвилле попытки Берра развязать войну против Испании воспринимались положительно. Полковник крепко пожимал всем руки и радушно улыбался. Рейчэл не спускала с Эндрю глаз: как приятно видеть, что он беседует и смеется с друзьями, которых не видел со времени дуэли. Она заметила, что капитан Эрвин и его семья, а также клан друзей и родственников Дикинсона не присутствовали на балу. В начале ноября Эндрю получил от Берра пакет с гремя тысячами долларов в кентуккских банкнотах, к которым прилагалось письмо с просьбой построить и оснастить пять плоскодонок. С тем же посыльным Берр просил Эндрю составить список людей, которых он мог бы рекомендовать военному департаменту для назначения на офицерские должности. Эндрю передал деньги Джаксу, отдав распоряжение начать строительство лодок, а потом присоединился к генералу Робертсону в составлении списка дееспособных солдат. Через несколько дней в дверь постучал подтянутый молодой человек, он снял военную фуражку и представился капитаном Фортом, другом полковника Берра. Ему предложили переночевать. После обеда, когда перед камином двое мужчин курили трубки и Рейчэл сидела невдалеке на диване, занимаясь вязанием шапки для Энди,разговор принял странный оборот. Хотя Эндрю сидел неподвижно, она почувствовала, что его спина напряглась и он углубился в созерцание тлевшего в трубке табака. — Такое сепаратистское движение — самое лучшее, что может быть, — вкрадчиво убеждал капитан Форт. — Оно станет для западных штатов центром притяжения, обеспечит им столицу и руководителей новой нации. Рейчэл знала, что твердое спокойствие — присущая Эндрю черта в момент кризиса. — И где же будет эта новая столица? — В Новом Орлеане. Мы захватим порт, а потом двинемся на покорение Мексики. К завоеванной стране мы присоединим западную часть Союза. — И каким же образом все это осуществится? — Эндрю несколько повысил голос, но капитан был слишком увлечен и не заметил этого. — С помощью федеральных войск с генералом Уилкинсоном во главе. Эндрю выколотил пепел из трубки в камин, выпрямился и, уставившись на Форта, спросил: — Полковник Берр участвует в этом плане? — Моя информация основывается на сведениях старшего офицера, который знаком с полковником Берром. Генерал Уилкинсон — один из наших лидеров. У Рейчэл и Эндрю в один и тот же миг рассеялись все сомнения. Выражение лица Эндрю выдавало его чувства. Но, собрав всю свою волю, он держал себя под контролем, правда, распрощался с капитаном Фортом сухим тоном. Когда тот удалился, Эндрю закрыл дверь и задвинул засов. Он дрожал. — Боже мой, неужели Берр действительно изменник? — Сядь, дорогой, а то оступишься в огонь. Скажи мне, план оторвать Запад от Востока на самом деле представляет государственную измену, или же это просто безумие экзальтированного ума? — Я дал ему военные списки! Джакс строит ему лодки и закупает провиант! Он повернулся и, высоко подняв брови, спросил: — Понимаешь, чем это может кончиться, если подтвердится? — Не совсем… — Аарон Берр поставит меня в положение, когда и я могу быть обвинен в измене! Курьер из Франкфорта привез известие, что Аарон Берр вызван в федеральный суд. В это же утро пришло письмо от Берра. Эндрю зачитал его вслух:«Мой дорогой генерал! Клянусь всеми святыми, я никогда не вынашивал взглядов, направленных против Соединенных Штатов или враждебных им, и если кто-либо обвинит меня в намерении развалить Союз, то он должен с этого же момента обвинить меня в безумстве».— Я так и поступлю, — непреклонно заявил Эндрю. — Если он вновь появится в Эрмитаже, я дам ему от ворот поворот. Сразу же после освобождения судом во Франкфорте за недостатком улик и свидетелей Берр приехал в Эрмитаж. Его лицо расплылось в теплой, чарующей улыбке. Рейчэл решительно перегородила собой вход в дом. — Сожалею, полковник Берр, но генерала Джэксона нет дома. — Огорчен, что не застал его. Позвольте подождать его возвращения? — Генерал уехал в округ Самнер. — В таком случае не соблаговолите ли дать информацию о пяти заказанных мною лодках и провианте, который должны были на них погрузить? — Не могу дать вам никакой информации. Она заметила, что Берр вздрогнул, и почувствовала себя неловко: впервые она отказала человеку в гостеприимстве. — Если вас тревожат абсурдные обвинения, миссис Джэксон, то, полагаю, мне следует вам сказать: суд Кентукки полностью оправдал меня. — Полковник Берр, я ничего не могу сделать. Нельзя ли вам предложить таверну в Кловер-Боттом? Уверена, там вам будет удобно. Берр вытянулся в струнку, церемонно поклонился, повернулся на каблуках, взобрался на коня и отправился прочь. Рейчэл следила за ним, пока он не скрылся из виду. Возвратившись домой, Эндрю вызвал Джона Коффи и Томаса Овертона, и они вместе отправились в таверну Кловер-Боттом для окончательных расчетов с Берром. Остались неизрасходованными около двух тысяч долларов в кентуккских банкнотах. Эндрю вернулся через несколько часов, плюхнулся в кресло и бросил пачку бумаг на стол. Рейчэл увидела сомнение и нерешительность в его глазах и спросила: — Что произошло, Эндрю? Он разгладил рукой бумаги и сказал с улыбкой, которая выражала и опасение, и удивление: — Откровенно говоря, не понимаю. Он почти убедил меня, что обвинения против него — просто глупость. Ты знаешь, что у него на руках? Бланк с полномочиями, подписанный президентом Джефферсоном. — Эндрю рассматривал, глядя поверх своих колен, рисунок ковра. — Если бы губернатор Севьер дал мне такой бланк для милиции, я мог бы возвести любого офицера в любой ранг. Но что означает этот бланк, полученный от президента Джефферсона? Не значит ли, что Берр может присвоить себе звание генерала? — Ты видел подпись президента? — Только мельком… Во всяком случае мы вернули ему деньги и сказали, что он может забрать две готовые лодки. Не знаю, как далеко он сможет заплыть на них без провианта. Я не удивлюсь, если Стокли Хейс через неделю вернется домой. — Джейн и Роберт, разумеется, не позволят Стокли поехать с ним после всего случившегося. — Для Роберта это вопрос чести. Он дал Берру слово, что Стокли поедет. Если бы он был моим парнем, то я не выпустил бы его из дома. Но не думаю, что поход вниз по Миссисипи таит какую-то опасность. Я посоветовал Стокли отделиться от флотилии, если он заметит что-нибудь подозрительное. Берр отправился в плавание с двумя лодками утром 22 декабря. Через пять дней как взорвавшаяся бомба прозвучала прокламация президента Джефферсона, доставленная в Нашвилл с задержкой. Население предупреждалось, что раскрыт заговор против Испании, и все военные и гражданские официальные лица были обязаны задерживать заговорщиков. Все в Нашвилле, читая между строк, понимали, что речь идет о сепаратистском движении. Слухи долетали до Эрмитажа быстрее пуха, влекомого буйным ветром. Армия вторжения Берра сосредоточивается в районе слияния рек Кумберленд и Огайо; у Берра сотня лодок и тысяча человек под ружьем, а также большие запасы оружия и боеприпасов на острове Бленнерхассет. Рейчэл беспокоилась за Стокли Хейса, Эндрю тревожился по поводу измены генерала Уилкинсона в Новом Орлеане, а в Нашвилле волновались из-за Эндрю Джэксона. В Эрмитаж приехал генерал Робертсон с сообщением, что родичи Дикинсона написали письмо губернатору Севьеру с требованием снять Эндрю с поста генерала милиции под тем предлогом, что во время кризиса любой причастный к делу офицер должен подлежать военно-полевому суду. Когда на городской площади сжигали чучело Аарона Берра, то оно скорее походило на долговязого Эндрю Джэксона, чем на коротышку Берра. Рейчэл спрашивала себя, почему некоторые мужчины и женщины всю жизнь выступают подстрекателями бури, тогда как другие живут сравнительно спокойно. Затем пришло известие, что мятеж провалился. Генерал Уинчестер сообщил генералу Джэксону, что, когда Берр отплыл от устья Кумберленда, у него было всего одиннадцать лодок и сто десять соучастников. Капитан Биссель передал из форта Массак, что полковник Берр не имел на своих лодках ничего, что не предназначалось бы для рынка. Разведчик Эндрю прислал весть, что у Берра не было оружия. Берр сдался властям около Натчеза и был отправлен в качестве пленного на север.
/3/
Рейчэл и Эндрю возвращались с охоты ранней весной с Энди, который ехал на Индейской Королеве, гордый тем, что именно к его седлу была привязана туша оленя. Подъезжая к дому, Рейчэл увидела, что под деревом их ожидает Полли. По выражению ее лица Рейчэл поняла, что ее невестка должна принять решение, которое ей не совсем по душе. Не пришла ли она забрать Энди? Есть ли для этого причина? Мальчик буквально расцвел, научился ездить верхом и стрелять. По отзывам наставника, которого они наняли для него, он преуспевал в чтении книг. Причина быстро выяснилась. — Рейчэл, я намерена выйти замуж за полковника Саундерса, — объявила Полли. — Так советует мне папа, он думает, что это лучший выход для меня и детей. Рейчэл стояла, низко склонив голову. Каким пустым станет дом без Энди! Несмотря на все треволнения со времени дуэли, она занималась работой по дому и ложилась спать, неизменно ощущая, что в соседней комнате находится мальчик. Сколько раз своим озорством или своими требованиями помогал он им избавиться от отчаяния. Она уже содрогалась при мысли, что следующей осенью он пойдет в школу и она останется одна в будние дни недели. Она посмотрела на Энди, думая над тем, как приспособится он к пожилому полковнику Саундерсу, богатому, но скучному человеку по кличке Сухой Джонни. Ответ пришел за два дня до церемонии венчания. В Эрмитаж приехали Полли и Энди. Мальчик легко спрыгнул с Индейской Королевы и побежал навстречу Рейчэл. Полли устало слезла с коня. — Ничего не получается… потому что никто из них не хочет, чтобы получалось. Энди ведет себя очень плохо. Он устраивает различные неприятности, например отрезал шпоры у седла полковника. Полковник отшлепал его — он просто не смог сдержаться. Полли смотрела на своего сына, который повис на шее у Рейчэл, а та гладила его по голове. Полли покорно улыбнулась: — Я знаю, его шалости вызваны желанием вернуться сюда. Он любит вас обоих. — Мы также любим его. — Да, вы его любите, поэтому, я полагаю, его пребывание здесь устроит всех. Я хочу, чтобы Энди был счастлив, но хочу, чтобы и полковник был счастлив. Итак, он ваш… растите его… содержите до тех пор, пока он вам нужен. Щеки Полли побледнели, она не двигалась. Рейчэл подошла к молодой женщине, обняла ее. Полли зарыдала: — Когда придет время… если он станет мне нужен… захочу его… Рейчэл быстро ответила: — Он всегда останется твоим сыном, Полли. Мы не собираемся усыновлять его. Мы вырастим его, воспитаем, будем любить… как сына Сэмюэля. В начале мая, когда они занимались посадкой кукурузы на вновь расчищенном и вспаханном поле, из федерального суда в Ричмонде пришла повестка с вызовом в суд. Эндрю должен был предстать перед судом и дать показания на процессе Соединенных Штатов против Берра. Эндрю тут же послал за Джоном Овертоном, он был весьма расстроен: — Меня назвали предателем, что может быть более пятнающим честь на нашем языке! Рейчэл взяла в руки повестку. Она решительно покачала головой, словно говорила: позор! — Эндрю, тебя лишь просят приехать в Ричмонд помочь процессу и осуждению Аарона Берра… если он виновен. Джон приехал по просьбе Эндрю. Эндрю пододвинул два кресла к камину. Гость вытянул ноги к тлевшим углям. — Понимаю, что время неудачное, чтобы уезжать отсюда, — начал Джон. — Я также опасаюсь, что суд может затянуться надолго. Нет закона, который обязывал бы тебя поехать в Ричмонд. Но, откровенно говоря, стоит ли тебе игнорировать вызов? В конце концов ты был судьей и должен помочь федеральному суду в Ричмонде. — Если бы началась война с Испанией, — возразил Эндрю, — то полковник Берр стал бы героем, а не злодеем. — Если бы да кабы, во рту росли бобы, — сухо ответил Джон. — В суде верховного судьи Джона Маршалла не бывает истерик. Когда подойдешь к стойке, ты должен придерживаться фактов: что говорил или писал Берр, что он заказывал, что оплатил. Оставь свои личные мнения Рейчэл, и она позаботится о них со всей нежностью в твое отсутствие. В голосе Джона отчетливо звучало сухое предупреждение. Рейчэл увидела, что лицо Эндрю вспыхнуло, он рывком поднялся из кресла и встал, глядя вниз, на Джона. — Поскольку ты послал за мной, — сказал холодно Джон, — то я понимаю, что тебе был нужен мой совет. Проехав в спешке восемь миль, я дал его тебе, а нравится он или нет — твое дело. — Ох, я всегда намеревался поехать, — проворчал Эндрю, с которого слетела спесь. Оба мужчины рассмеялись. Рейчэл сидела тихо, прислушиваясь к их беседе о предстоящем суде и к их воспоминаниям относительно схожих процессов по обвинению в государственной измене, к их предположениям, окажется ли двусмысленная болтовня Аарона Берра основанием для его осуждения. — Эндрю, Джон, не кажется ли вам… что когда-нибудь вы опять станете партнерами в юриспруденции? Или же слишком поздно? — Я хотел бы, — сказал Овертон, его глаза навыкате блестели, словно потеплевший серый гранит. — А как ты, Эндрю? — Откровенно говоря, не знаю. Я, возможно, забыл большую часть законов. — Но ты не забыл, как стрелять. Воцарилась тишина. При слове «стрелять» они мысленно вернулись не к тем дням, когда Эндрю приходилось носить оружие, чтобы утвердить уважение к закону и судам, что и хотел сказать Джон, а к дуэли с Дикинсоном. Рейчэл почувствовала пустоту в желудке; неудачная шутка ответила на ее вопрос яснее, чем часовая дискуссия: партнерство — дело прошлого. Эндрю выехал в Ричмонд в середине июня. Беседуя с Энди посреди кукурузного поля, Рейчэл подумала о том, что больше половины времени она единолично управляет плантацией. У Эндрю было столько энергии, что он справился бы с дюжиной ферм размера Эрмитажа. Ее же походы по полям выматывали, а у него всегда находилось что-то, мешавшее осмотреть хозяйство. От пронзительного солнца ее кожа стала жесткой, такой же красной, как у Джона Коффи, на руках она шелушилась, на лбу прорезалась глубокая бороздка, вокруг глаз обозначились бледные извилистые полоски, потому что ей приходилось щуриться, осматривая поля, чтобы определить, что следует сделать, или же вглядываясь в горизонт в попытке угадать капризы погоды. Она носила шляпу от солнца, повязывая ее по образцу своих полевых рабочих, и тем не менее это не спасало ее волосы от вездесущей жары. Ей приходилось надевать тяжелые ботинки для ходьбы по бороздам, и, к своему огорчению, она обнаружила, что разбила ноги и они с трудом влезают в туфли. Она думала о времени, проведенном в Хантерз-Хилл, когда заболела в отсутствие Эндрю и боялась, что утратила свою привлекательность и муж перестанет любить ее. Теперь ей уже стукнуло сорок лет, и фигура погрузнела в талии. Она послала служанку к «Татуму» за новыми французскими кремами, втирала масло в свои волосы по утрам, чтобы они не были ломкими, заказала рукавицы для работы в поле. И, как всегда, разлука оказалась бессмысленной. За целый месяц, проведенный Эндрю в Ричмонде, процесс так и не начался. Он возвратился недовольный. — Первые двадцать дней мы сидели там, ничего не делая, потому что генерал Уилкинсон отказался предстать перед судом. Потом верховный судья Маршалл попытался взять показания у президента Джефферсона, но Джефферсон отказался появиться в суде. И так мы сидели, стараясь осудить человека за измену на том основании, что он собрал несколько плоскодонок, в то время как английский военный корабль «Леопард» захватил наше судно «Чизапик», убив и ранив при этом двадцать одного нашего моряка, под надуманным предлогом, будто на нашем борту находилась пара английских моряков. Английские бортовые орудия стреляли так близко от столицы, что, вероятно, дрожали тарелки на обеденном столе мистера Джефферсона. А разве он возмутился? Выразил ли протест англичанам? Обещал ли выдворить их корабли из наших вод, если они не прекратят вести против нас войну? Ничего подобного! Он обратился к салонной дипломатии… которую обожают британцы. Я произнес часовую речь на ступеньках здания суда, самую хорошую речь в моей жизни. «Мистер Джефферсон преисполнен отваги, когда ловит мирных американцев и преследует их в политических целях, — сказал я собравшимся, — но он слишком труслив, чтобы негодовать по поводу оскорбления Республики иностранцами. Миллионы на то, чтобы преследовать американца, — и ни цента, чтобы противостоять Англии». Рейчэл покачала головой, сделав вид, что она в отчаянии: — Ну и ну, это придаст тебе популярность в администрации.Из статьи в «Импаршиал ревью» она узнала, что мистер Эндрю Джэксон осужден за проступок: за нападение и побои, с которыми он обрушился на мистера Сэмюэля Джэксона, вовсе не родственника. Утверждалось, что он ударил тростью Сэмюэля Джэксона в помещении, где у того находились лавка и жилье. Через четыре недели состоится суд. Впервые осведомители Рейчэл подвели ее. Это выглядело странным, ибо потасовка произошла на Маркет-стрит, участники бросали камни, учинили кулачный бой, и их растащили зрители. Не удержавшись, она отправилась в хижину Молл и Джорджа. — Джордж, ты знал, что мистер Джэксон подрался в Нашвилле с Сэмюэлем Джэксоном? — Да, мисс Рейчэл, мы все знали. Мисс Джейн сказала, чтобы мы не упоминали об этом. Пара пожилых супругов опустила очи долу. Рейчэл пошла в свой дом, волоча ноги. Эта ссора, которую так тщательно скрывали от нее, могла лишь дать толчок новой вспышке сплетен. Кто такой этот Сэмюэл Джэксон, новый житель Нашвилла? Возможно, есть и миссис Джэксон, новый член Культурного клуба, которая приехала из Кентукки, предварительно прочитав протокол, фиксирующий, что Рейчэл Робардс было объявлено присяжными: «Виновна»? Какой злобной окажется новая вспышка, если Эндрю вновь прибегнул к насилию, защищая ее, — Эндрю, воскликнувший однажды, что протокол всегда будет портить им жизнь! Задумчиво выглядывая в боковое окно, она узнала черную кобылу, которую несколько лет назад Роберт Хейс подарил своей дочери. Восемнадцатилетняя Рейчэл вошла в дом, положила свой капот на стул перед камином. Поездка вызвала румянец на ее щеках, но и ее зеленые глаза, так похожие на материнские, были красными. Рейчэл налила молока в медный чайник, добавила в него немного шоколада и кленового сиропа. Девушка раскачивала кружку с горячим шоколадом в руках, уставившись на огонь и выбирая момент, чтобы начать беседу. Рейчэл сидела по другую сторону обеденного стола, смотрела на огонь через пушистые светлые волосы племянницы, размышляя о том, как хотелось бы ей иметь дочь. Вдруг племянница расплакалась, как ребенок, закрывая лицо руками. Рейчэл обошла быстро вокруг стола и встала перед девушкой. — В чем дело, Рейчэл? — ласково спросила она. — Джордж Блейкмор и те хулиганы, с которыми он шляется, — Шадрач Най, Бенджамин Роулинг… говорят ужасные вещи. — Девушка подняла голову, в ее глазах застыл испуг. — Я знаю, что ты поможешь мне и дядя Эндрю заставит их замолчать… — Мы обязательно поможем тебе, дорогая. — Джордж Блейкмор прошлым вечером в таверне, где было много людей, сказал: «Племянница стоит тети». Рейчэл вздрогнула. — Ой, тетушка Рейчэл, они так много плохого говорили о тебе. А теперь распространяют гадости обо мне. Я знаю, что люблю красивую одежду и трачу слишком много папиных денег… — Дорогая, это чисто семейное дело и не должно интересовать других. — Она приподняла голову девушки, а когда их глаза встретились, твердо сказала: — Ну, рассказывай, в чем тебя обвиняют. — Что у меня есть ребенок! Выпалив эти слова, племянница отвернула голову и снова разрыдалась. — Что у тебя?.. — Рейчэл была настолько ошеломлена, что не сразу поняла смысл сказанного. Потом прошептала: — Ой, моя дорогая, — и обняла девушку, почувствовав, что ей нехорошо, как было давным-давно, когда Эндрю принес домой известие, что они не были супругами по закону. — Кто мог распустить такой злобный слух? — Не знаю. Фургонщик, перевозивший собственность Джоэля Чилдрипа в Форкс-Кэмп, встретился с парнем Хадсонов и сказал ему, будто слышал, что у Рейчэл Хейс чудесный сынишка. Джордж Блейкмор сказал Бойду: «Ты слышал новость? У мисс Рейчэл есть ребенок. Дэвис рассказал мне, что видел ее с ребенком на руках, она кормила его грудью». — Ой, Рейчэл, здесь какая-то страшная ошибка. Поезжай домой, дорогая. Твой дядя и я займемся этим. Эндрю уже слышал этот слух. — Эндрю, кто мог сочинить такой бред? Ты знаешь? — Да, я выяснил. Жена Сэмюэля Джэксона. — Сэмюэля Джэксона? С кем ты подрался?.. — Да. — И это было причиной вашей ссоры? — Да. Я написал ему записку, чтобы он заткнул рот своей жене, иначе я буду считать его ответственным. Он отказался. — Ой, дорогой, я подумала, что это относительно нас. Так же думала Джейн. Она старалась защитить меня. — Первое, что я сделаю завтра утром, так это поеду в Нашвилл и заставлю всех до единого подписать свидетельства, что они лгуны. Где мои пистолеты? Он так и сделал, привезя домой Рейчэл шесть подписанных заявлений, которые она убрала в сейф. Болтовня тотчас прекратилась, никому не захотелось повторить судьбу Чарлза Дикинсона. То, что не смог сделать Эндрю для них самих, он быстро совершил для молодой Рейчэл Хейс.
/4/
Никогда прежде она не видела его таким вспыльчивым и подавленным. Она знала, что неприятностей у него больше, чем нужно, поскольку они были, как говорится, на виду и слишком широко известны, чтобы их можно было утаить. Эндрю был вынужден продать в убыток скаковую дорожку. Он и Джакс закрыли свою лавку, и их настойчивые напоминания клиентам, что полагается выплачивать долги, не помогли вернуть сколько-нибудь ощутимую часть тех двадцати тысяч долларов, которые составили общую сумму кредитов. Не нашлось желающих купить лавку, таверну и верфь для строительства лодок. Джакс вручил Эндрю векселя на половину долга, а сам вернулся к топографической работе, чтобы заработать средства на существование. Бухгалтерские подсчеты Рейчэл показывали, что бессмысленно заниматься сельским хозяйством в Эрмитаже, разве только для собственного пропитания, ибо перекупщики отбирали весь доход, не оставляя ничего в обмен на тяжкий труд, о котором напоминали распухшие ноги, боль в пояснице и на славу удавшийся урожай. Хотя Аарон Берр был оправдан судом Ричмонда, большинство жителей долины Кумберленда считали, что он не совершил измены лишь по той причине, что его заговор был вовремя раскрыт. Эндрю вменялось в вину то, что он защищал Берра и осуждал обвинителей. Запись добровольцев в его милицию полностью прекратилась, а интерес к смотрам пропал: в дни тренировок собиралось так мало солдат, что не было смысла производить смотр. Когда в стране развернулись президентские выборы, Эндрю провел в сельской местности кампанию в пользу Джеймса Монро, стараясь добиться поражения государственного секретаря Медисона, которого Джефферсон прочил своим преемником. И хотя усилия Эндрю не прибавили голосов мистеру Монро, они во всяком случае усилили неприязнь к нему правительства в Вашингтон-Сити. И вот после семнадцати лет совместной жизни между Рейчэл и Эндрю установились странные взаимоотношения. Эндрю занимался повседневными делами молча и уныло, даже присутствие малыша Энди не выводило его из плохого настроения. Он смотрел набычась, когда она пыталась шутить, а когда она однажды робко предложила ему сыграть дуэтом, он отмахнулся от нее резким движением руки. Он редко беседовал с ней. Она тихо проводила время, мало говорила, выжидая возможность обсудить открыто их общие проблемы. Прошло немало времени, пока она догадалась, в чем причина такой меланхолии: он потерял интерес ко всему, и, следовательно, ему нечего было делать. Когда она предприняла отчаянную попытку и убедила его заняться выездкой одной из их двухлеток, в последний момент ему послышался какой-то шум в конюшне, он выскочил на стартовую линию и задержал скачки под угрозой пистолетов. Он начал выезжать в город, проводить полдень в нашвиллском постоялом дворе, и в Эрмитаж доходили слухи, что он слишком много пьет, с покрасневшим лицом стучит кулаком по столу. Ей всегда казалось, что самым несчастным периодом было то время, когда Эндрю отсутствовал, но нынешний был даже хуже. Несмотря на то, что она страдала от одиночества, у нее сохранялась уверенность, что он выполняет важную работу, что они создают будущее и что ее муж любит ее. Но где тот могучий, уходящий ввысь мост, который позволит им встретиться и соединить руки, когда они находятся вместе в одном доме, разделенные непреодолимым рвом отчуждения? Интуитивно она понимала, что разговор с человеком, который считает себя несчастным, опасен, он может перерасти в спор или злую отповедь, и потом это будет трудно забыть. И все же существовало нечто даже более опасное, чем вероятность спровоцировать Эндрю, — возможность нанесения им самим себе непоправимого ущерба. Она знала, что он не задира от природы; любит людей, сохраняет верность друзьям, желая быть любимым. Но обстоятельства складывались таким образом, будто кто-то хотел помешать его спокойствию, разрушить присущее ему чувство справедливости. Было ли это следствием их образа жизни? Будет ли так всегда? Или же у людей свой жизненный цикл, как у земли? Под зимним снегом она оцепеневшая и безжизненная, но хорошая земля при наступлении надлежащего времени года даст всходы. В своих бедах она нашла понимание и поддержку у брата Северна. Его хижина, расположенная за родником Эрмитажа, напоминала ей поселение Поплар-Гроув. Участок был небольшим, но уютным. К хижине примыкала пристройка, подобная той, что у Мэри, жены Джонни, служила молельней, достаточно просторная для кровати, в которой спали четверо детей. Люлька новорожденного находилась в главной комнате. Странным казалось то, что Рейчэл никогда не ощущала близости с Северном. Из-за слабого здоровья он стал робким и держался в стороне от остальной семьи Донельсон. Он был словно незнакомец для Рейчэл, не напоминая ни родителей, ни братьев, ни сестер. Теперь же, когда между ними установились доверительные отношения, она узнала, что Северн, просыпаясь, читал в течение часа Библию и то же самое делал перед сном. «Возможно, именно это было источником его спокойствия, — думала она, — тот, кто вырос, соприкасаясь со смертью, должен чувствовать близость к Богу». Когда Рейчэл слушала речь Северна, пропитанную уважением к Богу, она поняла, что из одиннадцати детей Донельсонов он один воспринял религиозный характер отца, и это представлялось ей удивительным вдвойне, ведь Северн не унаследовал ни глаз, ни подбородка отца, ни его страсти к деревенской глуши, а лишь одну его черту — благочестивость. В своем нынешнем состоянии Рейчэл не могла принять холодный скептицизм Джейн, и она сблизилась с братом, характер которого отвечал ее настроению. В обмен она была готова помочь Северну: ведь его жена Элизабет с трудом справлялась со своим выводком. За восемь лет супружеской жизни она родила пятерых детей. Это не было чрезмерным по стандартам Донельсонов: жена Джонни, Мэри, готовилась родить тринадцатого, у Мэри Кэффей было уже двенадцать детей, но Элизабет после каждых родов переживала тяжелый период. Во время частых отлучек Эндрю, которые продолжались от одного дня в городе до нескольких дней в пути, Рейчэл и маленький Энди посещали семью Северна, принося дневную еду и сладости. Иногда они забирали с собой четырех старших детей. Когда Элизабет вновь забеременела, она бросила Рейчэл: — Это не значит, что я не люблю детей, но у меня просто не хватает сил вынашивать их и растить. Рейчэл подумала: «Ой, Лиз, если бы ты только знала, как я хочу, чтобы Бог одарил меня хотя бы одним ребенком». Она вспомнила, как Джейн сказала после их переезда в Поплар-Гроув: «Для некоторых женщин беременность приходит слишком быстро, для других — слишком медленно, но у нас, Донельсонов, по всей видимости, своя доля». «Джейн, как ты ошибалась!» Эндрю отсутствовал неделю, когда она получила весточку, что он едет домой после встреч с рядом жителей округа Самнер, которые намереваются переехать на новую территорию Миссисипи. Она нагрела таз воды, надела мягкое коричневое муслиновое платье с широкой юбкой, которую предпочитала ставшим модными узким юбкам, и прикрепила свою жемчужную брошь к концу серебряной цепочки. Рейчэл приказала Митти хорошенько протереть большой канделябр и поставить его в центре стола, накрытого праздничной скатертью. Сама же собрала яркие осенние листья и поставила их в вазу на одном краю стола. В металлическую плошку рядом с графином Эндрю она положила несколько плодов. Он появился в доме незадолго до сумерек и, увидев особые приготовления, спросил: — Ты принимаешь гостей? — Только двух. — Понимаю. — Потом добавил с ухмылкой: — Встреча блудного сына? — Блудного мужа. — Полагаю, ты можешь так меня называть, и это самые строгие слова, услышанные мною за последнее время. — Ты должен чаще бывать дома и прислушиваться к жене. Я могу придумать много приятных слов, какие хотела бы высказать, если бы знала, что тебе они интересны. — У меня всегда есть интерес к тому, что считает нужным сказать миссис Джэксон. — Нет, в последние несколько месяцев у вас не было такого интереса, мистер Джэксон. Он подошел к столу и взял из металлической мисочки подсоленный грецкий орех. Потом медленно, словно извиняясь, подошел к ней, обнял и поцеловал. — Дорогой, ты так давно меня не целовал и не обнимал. — Знаю, я был так несчастлив. Когда ненавидишь сам себя и весь окружающий мир… — Но, Эндрю, ты всегда был таким сильным, таким уверенным в себе. — Не знаю. Все казалось… — Не является ли одной из причин то, что ты постоянно в ссоре с мистером Джефферсоном и президентом Медисоном?[14] Что бы ты делал, оказавшись в их положении? У каждой части страны свои особые проблемы и свои отдельные требования. Когда в Европе все еще продолжается война, каждое иностранное государство также предъявляет свои требования. — Я признаю, что бедный мистер Медисон подвергается нападкам со всех сторон… в том числе и с моей. — Он усмехнулся, и это было первым признаком, что доброе начало, заложенное в Эндрю Джэксоне, заговорило о себе. — Да поможет Бог любому, ставшему президентом! Затем он покачал руками высоко над своей головой, нанося удары кулаками невидимому противнику: — Но именем Всевышнего, я был бы жестче к британцам, я бы вышиб их из фортов на Севере… Он выбрал одну из своих глиняных курительных трубок, набил ее табаком, потом нагнулся к камину и раскурил трубку с помощью горящего уголька. — Семьи, живущие в округе Самнер, получили сообщения, что на территории Миссисипи земля плодородная и человек может владеть такой земельной площадью, какую в состоянии держать под наблюдением. Там открылась вакансия на пост федерального судьи, и, если будут платить тысячу долларов в год, я бы занял ее. Он посмотрел ей в глаза: — Думаю, что на этот раз мы можем получить назначение. Это не такой уж важный пост, чтобы о нем тревожился мистер Медисон. Ну, моя дорогая, что ты думаешь на этот счет? Что она могла думать? Последний раз, когда он хотел «стряхнуть со своих сапог пыль долины Кумберленда», он мечтал торжественно вступить на новую обширную территорию Луизианы в роли губернатора, с личным особняком и высоким общественным положением. Теперь же, всего лишь через пять лет, он готов довольствоваться жизнью в глубинке, расчистить поля и построить себе новую бревенчатую хижину… если получит место судьи с окладом в тысячу долларов в год! Два события — одно политическое, другое семейное — доставили им большое удовлетворение. Губернатором был избран их старый друг Уилли Блаунт, а Джон Коффи женился на дочери Джонни, Мэри. Свадебный обед в особняке превратился в счастливую встречу членов семейства Донельсон, какой давно не было. Рейчэл и Эндрю были рады, что их добрый друг Джакс стал членом семейства. В качестве свадебного подарка Рейчэл и Эндрю вытащили из сейфа расписки Джакса, касавшиеся его части долга после ликвидации лавки, и сожгли их. Когда жена Северна Элизабет должна была рожать, Рейчэл наняла лучшую в округе повитуху и пришла сама, чтобы помочь при родах. Ребенок родился без особого труда, но возникли осложнения, которых повитуха не объяснила. Через полчаса эти осложнения разрешились сами собой рождением второго ребенка, также мальчика. Элизабет разрыдалась: — Почему должна появиться двойня, когда у меня с трудом найдутся силы выходить одного? Один из близнецов заплакал. Рейчэл взяла новорожденного, завернула в мягкое одеяло и положила на свое плечо, прижав его головку к своей шее. Она стояла с ребенком, когда Северн и Эндрю вошли в комнату. Эндрю встал около Рейчэл, глядя на дитя в ее руках и чувствуя, как стремится ее сердце тесно прижать к себе ребенка. Вдруг послышался голос Элизабет, лежавшей в постели: — Возьми мальчика. Мы ждали одного. Мы ничего не теряем. Рейчэл медленно повернула голову. — Да, Рейчэл, забери мальчика, который у тебя на руках, — ласково сказал Северн, — мы знаем, как тебе хочется иметь ребенка, и уверены, что ему у тебя будет хорошо. Рейчэл оглянулась вокруг, стараясь разглядеть лицо Эндрю. Его глаза сверкали. Ослабевшая в ожидании ответа, она села на стул, продолжая держать в руках новорожденного. — Это несерьезно, Лиз. Это же твой ребенок. Ты выносила его. Подождем, пока твои силы восстановятся, прежде чем принять столь важное решение. — Если мы можем доставить счастье вам, Рейчэл и Эндрю, — сказал Северн, — и в то же время помочь Лиз и мальчику… Выражение лица Эндрю не оставляло места для сомнений в его чувствах. Элизабет спросила: — Найдется ли у вас дома кормилица? — Да, Орандж кормит малыша. — В таком случае бери его сразу. Эндрю, ты поезжай завтра в Нашвилл и подай заявку на усыновление. Когда они добрались до Эрмитажа, Эндрю поставил для Рейчэл кресло перед камином. Она села, держа ребенка в руках и вглядываясь в его личико. Эндрю молча любовался ею. Ее глаза стали бездонными, вся тайна и магия жизни отражались в них. Словно и не было груза прошедших лет. Они назвали мальчика Эндрю Джэксон-младший. Эндрю принес документы об усыновлении, подписанные и скрепленные судебным решением, и Рейчэл спрятала их в свой сейф. Джейн привезла ей из наследства Хейсов люльку на колесиках, и Рейчэл поставила ее рядом со своей кроватью. Она с таким напряжением прислушивалась к дыханию ребенка, что с трудом засыпала сама. Стоило упасть на крышу ветке, она вскакивала и бросалась к люльке: не потревожило ли это ребенка? Мальчик был длинным и худеньким, на его голове торчал темный хохолок, а глаза были пастельно-голубыми. Ребенок плакал редко, да и то только по утрам, когда был голоден. Рейчэл поддерживала огонь в камине, чтобы согреть комнату и уберечь мальчика от простуды. Эндрю с трудом переносил духоту в спальне. Однажды Джордж доложил ей, что мистер Джэксон не явится домой на обед. Когда позже в этот день Эндрю приехал в Эрмитаж, он вел на поводу нового коня. Рейчэл подбежала и осмотрела небольшую чалую скаковую лошадь. Она искала глаза Эндрю, а на ее губах вертелся задорный вопрос: неужто ее муж потерял нюх? Молодая лошадь была маленькой и казалась легковесной, так что вряд ли она была способна выдержать большую скачку. — Поэтому она и досталась мне дешево, — ликующе сказал Эндрю, когда пришел со двора, где занимался выездкой лошади. — Я записал ее на большие скачки в субботу, поставив тысячу долларов на пари, что она обойдет нынешнего чемпиона. К удивлению всех, кроме Эндрю, маленькая чалая лошадь легко добилась победы, мчась по скаковой дорожке так стремительно, что казалось, будто ее подковы не касаются грунта. Рейчэл не могла определить по улыбке Эндрю, вызвано ли его удовлетворение подтверждением его способности разбираться в лошадях или тем, что удалось выиграть сумму, равную годовой зарплате судьи в Миссисипи… ведь пост был отдан кому-то другому. — Ты знаешь, что я собираюсь сделать с этой тысячей долларов? — Нет, и что же? — Я прослышал, что в Хайдасси продается склад оружия, и на эти деньги куплю его. С завтрашнего дня начинаю встречаться и беседовать с каждым милиционером, служившим под моим началом. Если мне удастся убедить их вернуться в ряды и уверить, что они должны готовиться к реальной войне, тогда у меня нет ничего иного, как подкупить их, дав то, в чем они нуждаются, — коня, палаш, ружье. Я должен воссоздать милицию начиная с себя, иначе она ниоткуда не появится. Теперь он пропадал целыми днями, объезжая окрестности. Рейчэл видела его отъезд из Эрмитажа сразу после восхода солнца, вставая к ребенку. Ей так важно, чтобы он был счастлив, повторяла она себе, ведь когда этого нет, он разрывается на части, и отчетливо видны швы его натуры. На нее самое ребенок в доме производил целительное воздействие, Рейчэл буквально расцвела, и ее работа наполнилась внутренней радостью. У нее появилась легкая походка, и на бегу она выполняла сотню обязанностей по уходу за ребенком. У нее было радостно на душе, и после обеда она играла на пианино. Ее все воодушевляло, и Рейчэл чувствовала себя счастливой, не замыкалась в себе, ее больше не грызли сомнения, что люди думают о ней. Она легко встречалась с незнакомыми, так же как с друзьями. Возрождение ее жизненных сил совпало с восстановлением веры Эндрю в себя, с его собственным возвратом к терпимости и хорошему настроению. Она осознала, что в хорошем, добром супружестве то, что происходит с одним из партнеров, происходит в равной степени и с другим. Лишь она одна знала, что Эндрю расходует свои собственные средства на милицию. Он сказал Рейчэл: — Мы никогда не должны скупиться на эту цель. И тем не менее ее забавляли расписки на каждые потраченные доллары, которые он приносил домой и просил ее занести в его бухгалтерскую книгу по расходам на милицию. — Ты в самом деле думаешь, что нам возместят, Эндрю? — В случае начала войны будет возвращен каждый доллар. Если же не будет войны, тогда мы окажемся в положении проигравших скачку. Благодаря возрождению в нем бойцовского духа и поддержке со стороны губернатора Блаунта Эрмитаж вновь стал по воскресеньям открытым домом. На обед и на ужин приходила группа смышленых молодых адъютантов: студент Томас Гарт Бентон, изучавший право; Роберт Батлер, недавно женившийся на Рейчэл Хейс; банковский клерк Джон Рейд; Уильям Кэролл, владевший процветающей скобяной лавкой в Нашвилле, и сосед Уильям Б. Льюис. Прошло восемь лет с того дня, как Эндрю принял командование, благодаря чему смог подготовить целое новое поколение младших офицеров из числа племянников Рейчэл. При хорошей погоде она накрывала столы на открытом воздухе под деревьями. Когда же погода портилась, она подавала закуски в доме, используя свой обеденный стол в качестве буфета, и около тридцати мужчин ели стоя и одновременно обсуждали военные проблемы. Начавший ходить Эндрю-младший предпринимал полное неожиданностей путешествие, переходя от одной военной ноги к другой, словно находился среди своих сверстников. Весной Рейчэл выехала в своей карете на плац для первого смотра. Формально милиция насчитывала около двух тысяч человек, но, конечно, говорила она себе, соберутся не более двухсот. Лишь немногие горожане удосужились прийти, матчи по борьбе больше не проводились, и лишь небольшая группка пожилых женщин продавала имбирные кексы. И все же даже для неопытного глаза Рейчэл было заметно, что появилось много новых ружей, а также хороших лошадей и того, что Эндрю называл обмундированием. Эндрю был доволен смотром. — Подожди, пока распространится известие о новом духе и новых мушкетах, — сказал он Рейчэл, — добровольцы сами явятся. Прошло всего несколько месяцев, и инспектировавший милицию генерала Джэксона офицер объявил ее лучшей в стране. Рейчэл подумала: «Если начнется война, пусть начинается сейчас, чтобы было ясно, что Эндрю прав»./5/
И он действительно оказался прав. 21 июня 1812 года Билли Филипс, их бывший жокей, а теперь президентский курьер, привез из Вашингтона в Нашвилл известие: Соединенные Штаты объявили войну Великобритании! Сотни разных сомнений обуревали душу Рейчэл. Итак, война, как предсказывал Эндрю более двадцати лет назад на первом ужине с его участием в блокгаузе Донельсонов. Она вспомнила о строчках, которые он любил цитировать: кто-то беседовал с Бенджамином Франклином о революции как о Войне за независимость, и мистер Франклин ответил: «Сэр, Война за независимость еще наступит!» И вот она пришла, и Рейчэл знала: что бы ни случилось со страной, правительством или армией, Эндрю Джэксон не уйдет с этой войны раньше победы. Недели июля 1812 года летели лихорадочно. Эндрю вставал на рассвете и занимался полевыми работами в Эрмитаже, но был так поглощен военными делами, что работа в поле раздражала его. Рейчэл пришлось вновь заняться этим самой и освободить Эндрю, который выполнял тысячи задач, связанных с вооружением и подготовкой войск, не надеясь на помощь штата и федерального правительства. Он был вынужден посылать своих собственных закупщиков в такие места, как Ньюпорт в Кентукки, чтобы они доставили необходимое число мушкетов и боеприпасов. Эндрю объяснил Рейчэл, наблюдавшей, как он чертит карты: — Если президент Медисон одобрит, я могу за девяносто дней продвинуть мою милицию в Канаду и захвачу Квебек. Британские силы там все еще слабы. Мы сможем быстро пройти всю Канаду, прежде чем они усилят свои гарнизоны. Поскольку племя крик, получившее оружие и подстрекаемое британцами, развернуло боевые действия на границе Теннесси, Эндрю со своими людьми занял позицию и был готов двинуться в любом направлении по получении команды. В конце июля поступило послание. Эндрю не было дома, и поэтому Рейчэл вскрыла конверт. Она прочитала:«Предложение о службе ген. Джэксона и добровольцев под его командованием получено президентом с особым удовлетворением, и, принимая их услуги, он не может не выразить свое восхищение усердием и пылом, их вдохновляющим. Уильям Юстис, военный министр».Известие о послании министра Юстиса было опубликовано губернатором Блаунтом, и вместе с ним было опубликовано объявление, что должен быть назначен генерал армии Соединенных Штатов с Запада и немедленно отправлен в Канаду. Когда Эндрю добрался до дома, он едва взглянул на послание, которым Рейчэл размахивала, привлекая его внимание, в то время как он пересекал двор. — Военный департамент принял мой план похода на Квебек! — воскликнул он. — Рейчэл, помнишь, как ты сказала мне в Хантерз-Хилл: «Ну, Эндрю, я полагаю, что тебе хотелось бы стать полноправным офицером в армии Соединенных Штатов»? Ну что ж, дорогая, вроде свершается. — Ты получил назначение? — Оно придет со следующей депешей. Я привел в готовность милицию. Мы сможем выступить через несколько часов. Назначение пришло на следующий день, но оно предназначалось Джеймсу Уинчестеру, заместителю Эндрю, возведенному в ранг бригадного генерала в регулярной армии, которому было приказано немедленно двинуться с кентуккскими войсками на соединение с генералом Уильямом Гаррисоном в Канаде. Эндрю сел на лавку около их хижины, кровь прилила к его лицу,выражавшему удивление, он смотрел на Рейчэл и в то же время не видел ее. — Возможно, это потому, что за генералом Уинчестером числятся блестящие заслуги перед Революцией? — пыталась объяснить она. Он не ответил, а она продолжала: — Или, быть может, ты нужен для южной кампании? Ты уже многие годы говоришь военному департаменту: если англичане нанесут удар, они сделают это через Луизиану. Такая догадка помогла; Эндрю проглотил слюну и повернул голову, словно высматривая сквозь листву ранние апрельские звезды. Первые сообщения о военных операциях на Севере были удручающими: генерал Хэлл, командовавший большей частью американских войск в Канаде, сдал Детройт и всю свою армию. Несколько дней Эндрю бродил вокруг Эрмитажа, он не мог ни есть, ни спать, ни обсуждать что-либо, кроме войны. На сей раз она даже не пыталась вывести его из мрачного настроения, которое было столь глубоким, что никакие успокоительные слова не могли его развеять. Он не выходил из состояния летаргии почти целую неделю и избавился от нее благодаря тому, что узнал о наличии на индейской границе четырех сотен первоклассных ружей лучшего калибра, чем те, которыми обладала его милиция. Он добился от губернатора Блаунта субсидии в две тысячи восемьсот долларов, подписал личные обязательства на три тысячи двести долларов и направил своих самых расторопных ходоков в Теннесси купить эти ружья, прежде чем кто-либо другой узнает об их существовании. После долгих ожиданий, в октябре, губернатор Блаунт получил от военного департамента семьдесят бланков для назначения офицеров. Эндрю заверил Рейчэл, что именно такое решение ожидалось, ибо если нет возможности выдворить англичан из Канады, то по меньшей мере можно достигнуть Луизианы, прежде чем победоносные северные войска англичан будут переброшены британским флотом в Новый Орлеан. После того как Рейчэл и Эндрю отвезли Энди в Академию Кумберленда, ранее бывшую Академией Дэвидсона, они собрались за поздним ужином, когда их неожиданно посетил генерал Робертсон, приехавший из Нашвилла. — У меня плохие новости для тебя, сынок. Президент и министр обороны пренебрегают твоей милицией. Губернатору Блаунту приказано призвать и вооружить тысячу пятьсот новых добровольцев. Эндрю оцепенел, его необычно крупный рот раскрылся, и он потерял контроль над собой, в уголке его рта собралась пена. Рейчэл спросила: — Как может быть такое? Им ведь известно, что в распоряжении Эндрю две тысячи семьсот обученных и готовых солдат. Они же ведь приняли… Генерал Робертсон ответил мягко, как обычно делается в присутствии ущемленного человека: — Губернатор Блаунт убежден, что президент и военный министр не хотят видеть Эндрю в своей армии. — Конечно, не хотят, — выпалил Эндрю, к которому вернулся дар речи, — им нужен генерал Хэлл, сдающийся без единого выстрела. Я же могу сражаться и тем самым поставить правительство в трудное положение. — Доверительно, сынок: губернатор боится, что ты не станешь подчиняться генералу Уилкинсону. Но может быть, мне удастся найти пути… — Все, что я прошу, — это дать мне возможность сражаться, но проникнуть в войну через заднюю дверь — это… Рейчэл сидела тихо, сложив руки на коленях, слушая беседу и в то же время прислушиваясь к своему внутреннему голосу. Военный департамент безжалостно обнажил свою позицию: он боится Эндрю и не доверяет ему. Почему? Из-за Берра? Из-за его прежних ссор с Севьером и Джефферсоном? Из-за того, что у него не было реального военного опыта? Она старалась не думать о том, что произойдет с ее мужем, если ему откажут в праве участвовать в войне, о которой он предупреждал Теннесси на протяжении ряда лет. — Когда ты внутри дома, Эндрю, — осмелилась она сказать, — то он тот же самый, вошел ли ты через парадную или заднюю дверь. Он слабо улыбнулся и ответил ей: — Согласен! Затем повернулся к Робертсону: — Дайте мне возможность ввязаться в войну честными или обходными путями, и никто меня из нее не вытащит. Члены ее семейства сообщили ей, что враги Эндрю в штате стараются убедить губернатора Блаунта действовать в том же духе, как и военный департамент, отклонивший кандидатуру мистера Джэксона. Рейчэл заметила, что Эндрю худел и становился с каждым днем все более раздражительным, но она знала также, что страдал и Билли Блаунт: из семидесяти бланков он подписал шестьдесят девять назначений, и оставалось только одно. Отвергнет ли он своего старого друга и командующего западным отделением милиции? Рейчэл казалось, что Эндрю не произнес и десяти слов с того момента, когда бланки для назначений достигли Теннесси. 1 ноября уважение губернатора к Эндрю превозмогло его страхи перед военным департаментом. Эндрю был назначен генерал-майором добровольцев, получил приказ собрать свои войска и возможно скорее двинуться на Новый Орлеан для подкрепления генерала Уилкинсона. Эндрю привел домой надсмотрщика, пожилого человека по имени Динуидди, который не показался Рейчэл способным оказать ей существенную помощь в ведении хозяйства. В течение следующих десяти дней она провела мистера Динуидди по землям Эрмитажа и изложила ему свой план проведения работ. Она почти не встречалась с Эндрю, старавшимся собрать почти тысячу лошадей для кавалерии полковника Коффи, флотилию для транспортировки милиции вниз по Миссисипи, мушкеты, порох и свинец, медицинские припасы, одеяла, палатки и униформу, которой почти не было, за исключением того, что предлагали сами добровольцы. Когда он издал приказ о сборе в Нашвилле, Рейчэл спросила: — Дорогой, можешь ли сказать мне, на какой срок, по твоему мнению, ты уезжаешь? — Нет, дорогая, лишь британцы знают ответ на этот вопрос. Они полностью контролируют Север, совершая набеги и поджоги по всей Новой Англии, и никто не может их остановить. Их корабли могут перебросить на Юг тысячи солдат, чтобы вторгнуться в нашу страну через Флориду и Луизиану. — В таком случае позволь мне поехать в Нашвилл и пробыть там до выступления войск. Для нас есть комната у Табиты. Табита была дочерью Джонни, вышедшей замуж за брата Полли, Джорджа Смита. В утро сбора войск Рейчэл проснулась и узнала, что на улице небывало сильный для Кумберленда мороз. Прежде чем одеть ребенка, она подождала, пока снизу послышалось потрескивание горящих поленьев и потянуло теплом. Ее сани стояли перед дверью, она и мальчик нырнули под медвежью шкуру, а Эндрю скакал рядом на своем черном коне; всадник и лошадь были окутаны клубами замерзавшего на морозе пара, который они выдыхали. За ночь лед сковал реку Кумберленд, подобного Рейчэл не видела с тех несчастных дней в Хантерз-Хилл, когда она впала в отчаяние от длительного отсутствия мужа. Скакавший рядом Эндрю подъехал ближе к саням и рассказал ей, как не хотелось ему созывать войска в такой морозный день и как он доволен, что квартирмейстер майор Уильям Б. Льюис заготовил в лагере тысячу вязанок дров. Приехав в Нашвилл, Рейчэл отправилась прямо в дом Табиты. В четыре часа она надела тяжелое стеганое пальто, варежки и сапожки и ждала, когда молодой Томас Гарт Бентон отвезет ее в лагерь. Снег припушил все кругом, но площадка лагеря, где около двух тысяч мужчин грелись вокруг костров, приплясывая на месте, превратилась в грязное месиво. Бентон провел ее в палатку Эндрю, который писал приказы на грубо сколоченном столе. — Эндрю, в городе говорят, что ночь будет самой холодной в истории Теннесси. Не можешь ли ты расквартировать солдат по домам, сараям и тавернам? — Я не имею такой власти, — сказал он. — Кроме того, если мы не сможем пережить одну ночь, то как нам удастся уцелеть в течение войны? Стемнело, когда она добралась до дома племянницы. Маленький Эндрю спал. Рейчэл села перед камином и прочитала Псалом 90.5: «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем». Холод был настолько пронизывающим, что даже камин не помогал, и к семи часам вечера ей пришлось прогреть простыни медной сковородкой с горящими углями. Сон был беспокойным, она тревожилась за Эндрю и его солдат, спавших на снегу, не имея при этом достаточно одеял. На следующее утро Эндрю прислал ей весточку; он сообщал, что его войска выдержали первое испытание скверной погодой. За завтраком она спросила свою рыжеволосую племянницу: — Табита, художник Джош Кленнинг все еще раскрашивает вазы и веера? Как ты думаешь, может ли он передать сходство на медальоне из слоновой кости? — Думаю, что да, тетушка Рейчэл. Почему бы вам не спросить его?! В последующие недели Эндрю удавалось порой приходить к Табите, чтобы поздно вечером выпить чашку кофе. Он шагал по комнате взад и вперед в своей темно-синей униформе, в сапогах и с саблей. Его рыжие волосы поседели на висках, но он по-прежнему был полон энергии, рассказывая Рейчэл о своих проблемах. Из Вашингтон-Сити не прислали деньги для выплаты двухмесячного аванса, который солдаты хотели оставить своим семьям. Эндрю пытался добыть провиант и лодки за счет собственного кредита и выдал собственные личные расписки на тысячу шестьсот долларов, чтобы срочно получить необходимое. Уверена ли она, что выплатит по этим распискам, когда через девяносто дней наступит время расчетов? Он, правда, не сказал каким образом. Каждое утро Рейчэл посещала Джоша Кленнинга и позировала, но художник явно не думал, что генерал и его войско покинут Нашвилл, он лишь пожимал плечами, когда Рейчэл пыталась ускорить работу. Наконец в первую неделю января полковник Джон Коффи отбыл со своими шестьюстами семьюдесятью кавалеристами и пошел по Тропе Натчез. Спустя три дня Рейчэл стояла на берегу реки с Эндрю-младшим на руках вместе с населением всего Нашвилла, высыпавшим для проводов. Она махала платком и кричала прощальные слова генералу Джэксону и тысяче пятистам пехотинцам, отправившимся в поход. Эндрю сказал ей, целуя на прощание: — Не тревожься, дорогая, я позабочусь о себе. Ты знаешь, что я буду заниматься делом, к которому всю жизнь стремился. Да, она знала и поэтому уступила ему. Рейчэл сказала: — Дорогой, художник обещал мне, что сделает в срок. Я хотела, чтобы при прощании ты имел это при себе как мой подарок. — Ой, сюрприз? — Мой портрет на слоновой кости. Я хотела бы, чтобы ты носил его в кармане. — Вовсе не так. Я повешу его на шею на цепочке и никогда не сниму — ни днем, ни ночью. Если портрет будет закончен через десять дней, пошли его с Динуидди к слиянию Кумберленда и Огайо. Он станет символом моих успехов. Она стояла на берегу, наблюдая, как последняя лодка отошла от причала, освещаемая серым холодным январским светом, а первая лодка, в которой был Эндрю, медленно скрывалась из виду.
/6/
Лишь после того как Рейчэл вошла в дом через парадную дверь и Молл взяла ее накидку, она почувствовала перемену, происшедшую за короткое время в ее доме, с тех пор как она вышла из него: первое длительное отсутствие Эндрю в Эрмитаже. Когда он уезжал на неделю или на месяц, она все же ощущала его присутствие в доме, слышала его голос, видела его гибкую фигуру, передвигающуюся по зданию с неловкой грацией, свойственной необычайно высоким людям. Теперь же он исчез — исчез его голос, его фигура, его присутствие, — и огромная комната стала пустой. Рейчэл присела на краешек стула, пока Молл отводила мальчика наверх. Она не то чтобы была утомлена физически, а скорее поддалась чувству подавленности. Разве солдатские жены не надевают личину отваги и жизнерадостности и никогда не дают мужьям заметить свою дрожь и свой страх? А когда мужчины уходят, они, женщины, возвращаются в свои безмолвные дома, зная, что им придется проявлять выдержку в течение года, а то и всей жизни, разве они не страдают в одинаковой мере? Чувствуют ли они себя ослабевшими и опустошенными, не представляя, сколько времени потребуется, чтобы снова стать на ноги? И почему даже присутствие любимого сына не возмещает отсутствия мужа? Молл и мальчик спустились вниз. Он был в ночной рубашке, готовый к ужину. Рейчэл почитала ему немного, а потом рано уложила спать в своей постели, ведь он встал рано на заре. Молл сидела в кресле-качалке у камина, когда Рейчэл спустилась в большую комнату. С годами волосы Молл поседели, а лицо значительно похудело, но в остальном трудно было сказать, что ей уже перевалило за семьдесят. — Молл, ты не должна была ждать меня. Я не хочу есть. — Я знаю, миз Рейчэл, что вы не хотите, но я подам ужин. Генерал Джэксон сказал мне перед отъездом, чтобы я заботилась о вас. Помните, какой худющей вы стали в Хантерз-Хилл потому, что не хотели есть? Так идите же к столу и скушайте тушеное мясо. Рейчэл съела немного телятины, чтобы ублажить Молл, и тут же почувствовала себя теплее и лучше. Она поднялась наверх, быстро разделась, надела длинную фланелевую ночную рубашку, но не стала заплетать косы и надевать ночной колпак. Она подвинула мальчика на его подушку, подвернула одеяло под его плечи, потом накинула на себя свой старый поношенный халат из испанского синего шелка. Она устала от долгой поездки, от дней ожидания и постоянной тревоги, что в любой момент у Эндрю могут отобрать командование. Но Рейчэл знала, что не сможет заснуть, — так остро чувствовала она свое одиночество. Спустившись вниз, она подложила дрова в камин и села поближе к огню. Уперев локти в колени, Рейчэл протянула свои ладони к языкам пламени. Самыми тягостными будут ночи, днем она сможет ускорить бег времени, занимаясь повседневными делами, у нее будет компания сына, она может приглашать детей Северна. И все же самое тяжелое бремя для женщины — это оставаться с тем малым, что дает монотонная, а в одиночестве бессмысленная домашняя работа. «Такова судьба женщин, — рассуждала Рейчэл, — не быть творцом осмысленного — это отдано мужчинам, а всегда служить пассивным орудием для того, кто участвует в событиях». Рейчэл встала, прошлась по комнате, прикасаясь к старым, знакомым предметам: к рашперу, принадлежавшему ее матери, который висел сбоку у камина; большим напольным часам, своему пианино и флейте Эндрю, лежавшей в футляре; ореховому письменному столу ее отца. Она выдвинула ящик и увидела одну из глиняных трубок Эндрю и рядом с ней в деревянной шкатулке — табак. Не задумываясь взяла трубку, набила ее табаком, подошла к камину и, выбрав живой уголек, приложила его к табаку, как делал Эндрю. У дыма был раздражающий, почти невыносимый вкус, и Рейчэл быстро его выдохнула. Через некоторое время она вновь вдохнула: на этот раз ощущение не было таким неприятным. Она погрузилась в кресло, втягивая понемногу табачный дым и выдыхая его в сторону потрескивавших дров. Она почувствовала себя ближе к Эндрю. Боль несколько утихла. На нее нашла мечтательность, ее память вернулась к детским дням в Виргинии, на плантации, к ее отцу, начинавшему каждый новый день с молитвы. Первое, что старался внушить ей отец, Бог — это не идея или его отдаленное присутствие, а часть ее самой. Рейчэл слышала голос отца, говорившего ей: «Мы все — неотъемлемая часть Бога». Она знала, что для ее отца Бог был всегда близок. Однажды она увидела его молившимся молча, без слов, и спросила, не боится ли он, что Бог может не услышать его. Джон Донельсон снисходительно улыбнулся и ответил: — Нет, моя дорогая, Бог знает наши мысли, и более отчетливо, чем наши слова. Рейчэл никогда полностью не принимала и даже не понимала отцовскую концепцию Божества. Для нее Бог был всемогущим правителем Вселенной, отдаленной и зачастую устрашающей силой, контролирующей ее и всех других, нравится им это или нет. Ей никогда не удавалось добиться ощущения интимности в своих молитвах, ибо ей казалось, что Бог слишком далеко, где-то там, в небесах, чтобы увидеть и позаботиться о какой-то одинокой душе. Помимо отца она знала других людей, шагавших по жизни рука об руку с Богом, ее брат Северн был одним из них. Она молилась, когда Эндрю был в отъезде, но всегда молилась скорее с чувством страха, чем любви, и обращалась к отдаленному Всемогущему, не питая к нему всепоглощающей веры и не возлагая на него искренней надежды. Сейчас же она обнаружила, что встала на колени у камина, молясь за мужа с большим благочестием и смирением, чем когда-либо. Чувство отдаленности и неприкосновенности Бога отпало: она ощущала Его присутствие не только в ее доме, в бревенчатой хижине Эрмитажа, но и в самой себе, слыша свою молчаливую молитву: «Позволь моему мужу выполнить свое предназначение… и сбереги его». Спустя несколько дней Джош Кленнинг прислал ее портрет в Эрмитаж. Она извлекла слоновую кость из ваты, в которую завернул ее мистер Кленнинг, подошла к окну, и лучи солнца упали на ее изображение. У нее оборвалось сердце, когда она осознала, что перед ней не портрет молодой красивой девушки. Почему она не заказала свой портрет во время первой встречи с Эндрю, когда ее кожа была безупречно гладкой? В таком случае ей не пришлось бы посылать мужу портрет сорокапятилетней женщины со слегка располневшим подбородком. Но это глупо, ведь и Эндрю не молод. Из-за пережитых им испытаний под глазами появились синие круги, морщины в уголках глаз и глубокие складки, начинающиеся около ноздрей и идущие вниз, к уголкам его неровного рта. От матери она унаследовала густые волосы, и они еще не потеряли своего цвета, кожа сохранила слегка розоватый блеск, а глаза такие же темные и оживленные, какими они были в двадцать один год. Черты ее лица говорили о пережитых неприятностях, страдании, неопределенности. Но нет ничего страшного в утрате молодости, если со временем любовь становится все более сильной. Она отошла от окна, уложила миниатюру в шкатулку, занялась письмом к Эндрю. Закончив писать, она вызвала мистера Динуидди. Он возвратился через несколько дней с ответом от Эндрю. Рейчэл поднялась наверх, свернулась в клубочек на постели, вытащила из конверта листок бумаги, заполненный его неровным, но ясным почерком.«Моя любовь! Сегодня вечером я получил твое нежное письмо, доставленное Динуидди. Он бережно передал мне твою миниатюру. Я буду носить ее на груди; но это вроде дополнения, ибо и без твоей миниатюры моя память никогда не преминет восстановить перед моими глазами твои черты. Я благодарю тебя за твои молитвы. Я благодарю тебя за твою решимость мужественно пережить нашу разлуку. Я буду часто тебе писать. Если завтра я смогу погрузить на борт оружие, то отплыву рано утром в понедельник. Уже час ночи, свеча почти догорела. Пусть ангельский дух, награждающий и защищающий добродетель, будет с тобой до моего возвращения, так искренне умоляет твой любящий муж».Она долго лежала не двигаясь, прижав к груди письмо, ничего не думая, но чувствуя все. Потом встала, спустилась вниз, села за письменный стол и, взяв бумагу и перо, начала писать:
«Мой дорогой супруг! Твое письмо от 18 января, посланное из устья Кумберлеида, доставлено в полной сохранности. Оно было для меня всем. Я им наслаждалась. Не позволяй, мой дорогой супруг, чтобы любовь к стране, славе и чести побудила забыть меня. Без тебя они кажутся мне жалкими тенями. Ты скажешь, что это не язык патриота, а язык верной жены. Наш маленький Эндрю чувствует себя хорошо. Молю, мой дорогой, пиши чаще. Это поддержка, бальзам для моего рассудка в одинокие часы. Я дорожу ими, как скупой дорожит золотом. Думай обо мне как о своем самом дорогом друге на Земле».Известия, доходившие до нее, были хорошими: кавалерия Джона Коффи и флотилия Эндрю успешно продвигались к Новому Орлеану. А известия с Севера были удручающими: бригадный генерал Уинчестер был взят англичанами в плен в Канаде. Получив уверения, что, если он посоветует своим войскам сложить оружие, с ними будут хорошо обращаться, он сдал два своих полка. Большинство солдат-кентуккийцев было истреблено северными индейцами, сражавшимися на стороне британцев. Старый генерал Робертсон, спокойный и философски настроенный по натуре, был в полной ярости, меряя шагами комнату в Эрмитаже. — Что случилось с американской армией? — спрашивал он. — Первым капитулировал Хэлл и сдал не только себя, но и Детройт. Теперь в плену Уинчестер со своими двумя полками, и мы потеряли чудесных ребят. Если бы мы сражались так во время Революции, то остались бы британскими подданными. Во имя Всевышнего, дали бы возможность Эндрю Джэксону вести борьбу… Он неожиданно остановился. Рейчэл уловила косвенный намек в его словах «дали бы…». Она подошла к старику, взяла его под руку. — Что так вас расстраивает в отношении Эндрю? — …Ну… Его обвиняют в том, что он будто бы заявил: один и тот же округ не в состоянии удержать в своих рамках его и генерала Уилкинсона и его пистолеты для дуэли всегда при нем. Рейчэл отмахнулась от упоминания о дуэльных пистолетах: — Принимая назначение, Эндрю знал, что ему придется служить под началом генерала Уилкинсона. Он сказал, что это горькая пилюля, но он будет подчиняться, как любой другой хороший офицер. Робертсон разглаживал рукой свои седые редеющие волосы, направляя их вперед, пока они не образовали прямую линию с его бровями. — Мы знаем это, моя дорогая подруга, но понимает ли это военный департамент? Она сказала себе, что напрасно тревожится, что такого рода истории могут нанести ущерб Эндрю. Конечно, военный министр не уволит способного генерала на основании простых сплетен, особенно после того, как другие генералы потерпели такое унизительное поражение и осталось так немного других, способных противостоять британскому оружию. В первом письме, написанном Эндрю из Натчеза, он сообщал, что генерал Уилкинсон приказал ему оставаться там и не двигаться по реке к Новому Орлеану. Он исполнил приказ, разбил палатки в четырех милях от города в красивой долине, где было достаточно дров и питьевой воды. Он также написал губернатору Блаунту и в военный департамент о том, что выполнил приказ Уилкинсона. Письмо Эндрю успокоило Рейчэл. Затем, менее чем через месяц после отъезда Эндрю со своими войсками из Нашвилла, в кресло военного министра в Вашингтоне сел мистер Джон Армстронг. Едва успев усесться за стол министра, он написал депешу генерал-майору Джэксону, копия которой была доставлена в Эрмитаж:
«Военный департамент. 5 февраля 1813 года. Сэр, Причины, оправдывавшие формирование корпуса под вашим командованием и его поход на Новый Орлеан, перестали существовать. При получении настоящего письма вы считаетесь уволенным с общественной службы и обязанным принять необходимые меры для передачи генерал-майору Уилкинсону всех предметов общественной собственности, которые могут быть переданы в его владение. Вы примете для себя и корпуса благодарности президента Соединенных Штатов. Имею честь быть, сэр, с великим уважением вашим самым покорным слугой».Ее поразило такое развитие событий. Боже мой, неужели это никогда не прекратится? Она перечитывала текст несколько раз, пытаясь понять его смысл. «Причины, оправдывавшие формирование корпуса под вашим командованием и его поход на Новый Орлеан, перестали существовать…» Что имел в виду новый военный министр? Ведь причина, побудившая Эндрю двинуть свои войска на Новый Орлеан, могла исчезнуть только с прекращением войны! Из всех возможных ударов, перенесенных Эндрю, это был, решила она, самый тяжелый: проведя две тысячи солдат на дистанцию в тысячу миль в наиболее тяжелое, зимнее время, почти сделав себя банкротом из-за оснащения и снабжения за собственный счет войск, он получил теперь извещение о грубом увольнении! Военный департамент не желал видеть генерала Джэксона в регулярной армии и теперь вышибал его оттуда ударом сапога.
/7/
Через две недели к ней приехал из Нашвилла офицер Эндрю по снабжению майор Уильям Б. Льюис с письмом, полученным им от Эндрю, в котором тот просил послать по реке Теннесси транспортные средства для доставки офицеров и рядовых, особенно больных. — Я не могу послать ему через армейские каналы хотя бы одну лошадь, — пожаловался ей майор Льюис. — Поэтому я открыл частную подписку. Я набрал около шестисот долларов, но капитан Эрвин остановил меня в Нашвилле на том основании, что я помогаю и поощряю военный мятеж. — Военный мятеж! — поразило ее словно молнией. — На каком основании? — На том основании, что генералу Джэксону было приказано распустить корпус под его командованием, а он отказался сделать это и настоял на том, чтобы привести солдат домой. Рейчэл, словно она стояла на своем поле, твердо уперлась ногами в половик и высоко подняла голову: — Ну, добро для генерала Джэксона! Как мог додуматься военный департамент распустить солдат вдали от дома, не обеспечив транспортом и припасами для обратного пути? Через шесть недель по вызову, присланному с курьером, она оседлала самую резвую лошадь и поехала в город. Там она увидела солдат, собравшихся на площади. Мужчины были изможденными, в изношенной одежде после месячного перехода по Тропе. Вспоминая толпы, попрощавшиеся с ними три месяца назад, пушечную пальбу, флаги и речи, она оглядела площадь: там стояла всего горстка зевак. Направляясь к месту, где находился Эндрю, пожимавший руки своим офицерам, она подумала, что не видела его таким худым со времени его возвращения из Филадельфии в жаркий июньский день 1795 года, когда она вышла из сарая и увидела его обмякшим в седле на лошади перед их хижиной в Поплар-Гроув. Но его душевный настрой не ослаб. Он крепко поцеловал ее в губы, и его кости там, где они прикоснулись к ее телу, причинили боль. Его поза, когда он стоял, обнимая ее и наблюдая, как пехотинцы расходятся с площади, выражала не ущемленную гордость и даже не возмущение, а ясное понимание, что военный департамент совершил откровенную глупость, отказываясь от дееспособных войск. По пути домой их кони шли рядом, и он рассказал, как генерал Уилкинсон предоставил ему рацион всего на двадцать дней, не больше. — Я был вынужден нанять фургоны и возчиков, купить лекарства за собственный счет. Когда кончился провиант и потребовались дополнительно лошади, я это тоже купил. Рейчэл вопросительно взглянула на него: — Ты купил, дорогой? На какие же средства? — Выдал мои личные расписки. Составленные на квартирмейстера Уилкинсона. Через несколько дней они съездили в город. Эндрю собирался купить новый плуг и большой бурав, а Рейчэл намеревалась высказать свои поздравления Саре Бентли, открывшей небольшую мастерскую по пошиву халатов и платьев для женщин Нашвилла. Не успела их карета появиться на Маркет-стрит, как прохожие закричали: — Смотрите, генерал Джэксон! Когда Эндрю привязывал лошадей перед нашвиллским постоялым двором, их быстро окружила толпа молодых людей. Кто-то крикнул: — Трижды ура Старому Гикори! — Не ты ли Старый Гикори? — потребовала ответа Рейчэл, увидя, что его лицо вспыхнуло. — Может быть. Пойдем вовнутрь и узнаем, почему я из бесполезного типа превратился в героя. В гостиной постоялого двора она услышала одновременно дюжину рассказов, как Эндрю всю дорогу прошел пешком, как его лошадь использовалась для перевозки больных, как он отдавал свою долю еды тем, кто ослабел от тропической лихорадки, как ухаживал за парнями и шагал рядом с фургоном, зачастую держась с солдатами за руки, и всех живыми доставил домой. Сэнди Донельсон сказал: — Дядя ел меньше всех, шел дольше, работал напряженнее и спал меньше всех; именно поэтому мы говорили, что он самый стойкий. — Верно, — добавил один солдат, — стойкий, как гикори. Мы называли его Гикори на длинном участке Тропы и ненавидели его за то, что он втянул нас в такое трудное дело. Потом, поняв, что он нас всех выведет из беды, мы стали звать его Старым Гикори. Мы были горды, что служим в его команде. Джон Овертон пробился сквозь толпу, взял под руки Рейчэл и Эндрю и провел их в свою контору. Он убрал пачку книг по юриспруденции и записей со стула, обмахнул его носовым платком. Потом повернулся к Эндрю: — Этот проклятый Уилкинсон! Он отказался оплатить твои расписки. Они присланы сюда, в Нашвилл, для оплаты. Эндрю сжал челюсти. Рейчэл увидела, что он сделал глоток. — Я гарантировал каждому, у кого брал пищу, фургоны, лошадей, лекарства, что армия Соединенных Штатов оплатит по первому требованию, и если они этого не сделают, то сделаю я. — Какова сумма обязательств? — Не знаю. Тысячи долларов. — Тысячи?! — воскликнула Рейчэл. — Ох, дорогой, я была вынуждена продать большую часть последнего урожая и значительную часть скота, чтобы оплатить твои расписки на сумму тысяча шестьсот долларов, что ты мне оставил. Джон сказал тихо: — У меня отложена некоторая сумма, она в вашем распоряжении. Эндрю покачал головой: — Насколько было бы мне легче распустить солдат в Натчезе! У меня были деньги в кармане, три хорошие лошади, которые доставили бы меня домой. Но мог ли я быть в таком случае послушным солдатом? Нет! Я отдал Джаксу наличные деньги по той причине, что его кавалерия голодала, и потом я должен был привести каждого своего солдата домой. Рейчэл поднялась и встала рядом с ним. — А если военный департамент откажется оплатить расписки? Он взял ее руку в свою: — Тогда нам придется продать Эрмитаж. В этот вечер она услышала блеяние ягненка. Она открыла дверь и увидела убежавшее из хлева маленькое белое животное, которому было всего несколько дней от роду. Она подняла ягненка и принесла его Эндрю, курившему перед камином. — Помнишь того ягненка, что мы спасли в Поплар-Гроув? — спросила Рейчэл. — Он похож на своего брата. — Его внук. Эндрю погладил курчавую белую шерсть. Рейчэл подошла к письменному столу, взяла одну из трубок Эндрю и наполнила ее табаком. — Я начала курить, когда тебя не было, — сказала она. — В одиночестве это утешает. Он показал ей знаком подойти и сесть рядом. Эндрю обнял ее за плечи и притянул к себе. — Я надолго оставляю тебя одну, не так ли? Рейчэл прикоснулась своей щекой к его. Он не брился в этот день, но ей показалось приятным соприкосновение ее мягкой кожи с его щетиной. — Если бы я захотела излить свою душу, то могла бы сказать так много. Эндрю выбрал щипцами пылающий уголек и приложил к ее трубке. Она сидела, глядя на угли, покрытые золой, и думала, где будет их следующий очаг. Раздался резкий стук в дверь. Эндрю крикнул: — Войдите! В комнату вошел Томас Гарт Бентон, закрыл за собой дверь и одним порывом приблизился к ним. Этому мужчине с неиссякаемой энергией и честолюбием был тридцать один год. Его мощно вылепленная голова, густая шевелюра, большой искривленный нос, жадные глаза, рот оратора и массивный подбородок придавали ему резкую, своеобразную красоту. Бентон сказал: — Генерал, я пришел сказать «до свидания» и просить вас, не дадите ли вы рекомендательное письмо в военный департамент. Я подаю заявку на вступление в регулярную армию. — Регулярную армию, вот как! Не думаю, чтобы моя рекомендация пользовалась сейчас большим уважением, но я напишу им письмо, в котором сообщу, что, по моему мнению, вы — один из лучших офицеров в корпусе. — В то время как ты пишешь письмо, почему бы не рассказать о твоих расписках, которые не оплачиваются? — спросила Рейчэл. — Полковник Бентон мог бы рассказать им эту историю. На следующий день приехал домой Энди — в школе завершился весенний семестр, и семья из четырех человек оказалась в полном составе. Рейчэл разрешила двум старшим обучить Эндрю-младшего езде на пони, и вскоре все ее трое мужчин скакали верхом по полям к реке купаться и ловить рыбу. Она знала, что внутри у мужа все горит, ведь он вынужденно бездельничал, в то время как военное положение страны ухудшалось — более опытные английские командующие превосходили в маневрировании американских офицеров и наголову разбивали их. Никто в Вашингтоне не проявлял желания призвать Эндрю или даже произвести выстрел, а он скрывал свои чувства от сына и племянника, составляя им компанию, которой им так не хватало в его отсутствие, и выжидая своего времени с большим терпением и выдержкой, чем те, что она в нем замечала ранее. Рейчэл возвратилась после визита к Северну и обнаружила, что Эндрю заперся со своим бригадным инспектором майором Уильямом Кэрролом, который только что был вызван на дуэль другим офицером Эндрю — Литтлтоном Джонстоном. Из того, что ей удалось расслышать, она поняла, что Кэррол отказался драться с Джонстоном, поскольку последний не был джентльменом. После этого отказа Джесс Бентон, младший брат полковника Томаса Гарта Бентона и друг Джонстона, принес вторичный вызов. Полагая, что Джесс Бентон хочет сыграть роль старшего в дуэли, Кэррол приехал в Эрмитаж просить генерала вручить вызов Бентону. Рейчэл выкрикнула: — Эндрю, ты, конечно, не намерен позволить этим двум молодым людям сражаться? Ведь мы знаем, как это ужасно… Она зарыдала. Эндрю спокойно ответил: — Я сделаю все, чтобы их остановить. Но когда на следующий день он вернулся домой, она узнала, что все его усилия оказались тщетными. Джесс Бентон решил, что должен драться на дуэли, если намерен и дальше жить в Теннесси, а Кэррол вопреки доводам Эндрю потребовал стреляться на расстоянии десяти шагов, а не тридцати, как обычно. Кэррол также просил Эндрю быть его секундантом. — У меня не было никакой возможности сказать ему «нет», Рейчэл. Он так плохо стреляет из пистолета, а Джесс Бентон — хороший стрелок. — Но если ты будешь присутствовать на дуэли, — возражала она, — то это будет выглядеть, словно ты оправдываешь ее. В понедельник утром Эндрю возвратился с поединка с широкой улыбкой на лице: — Молодой Бентон повернулся так быстро, что не успел прицелиться и попал Кэрролу в большой палец. Потом он неожиданно согнулся и подставил Кэрролу самую широкую часть своей анатомии. И в эту часть получил пулю. Теперь неделю или две ему придется питаться стоя. 4 июля они получили письмо от Томаса Бентона из Вашингтона, сообщавшее, что военный департамент обязал генерала Уилкинсона полностью оплатить расписки генерала Джэксона. Рейчэл облегченно вздохнула, словно с плеч свалилось многопудовое бремя. Они были глубоко благодарны Бентону за помощь, и Эндрю написал ему любезное письмо. Однако в Нашвилле нашлись и такие, которые засыпали Бентона письмами относительно дуэли, обвиняя Эндрю Джэксона в подстрекательстве. Эндрю объяснил обстоятельства, при которых происходила дуэль, Бентон ответил, что он провел дуэль «в дикой, неравной, несправедливой и унизительной манере». Друзья принесли известие в Эрмитаж, что полковник Бентон собирается вызвать на дуэль генерала Джэксона. Эндрю был настолько возбужден, что обещал при встрече отстегать своего адъютанта кнутом. Рейчэл сбивала масло под сенью деревьев, ей помогали оба мальчика, когда перед ними предстал Роберт Хейс на разгоряченной лошади. — В городе была схватка, Рейчэл, и Эндрю легко ранен. Думаю, что тебе лучше поехать со мной. Когда они отъехали от дома, Роберт обнял ее и рассказал настолько просто, как мог, что произошло. Том и Джесс Бентон приехали из своего дома во Франклине накануне вечером и расположились в городском отеле. Эндрю и Джон Коффи привязали своих лошадей около нашвиллского постоялого двора и отправились в почтовое отделение. На обратном пути, проходя мимо городского отеля, они увидели в его дверях Тома Бентона, обругавшего их. Эндрю поднял свой кнут, а Бентон запустил руку во внутренний карман, чтобы вытащить пистолет. Эндрю быстро выхватил свой пистолет из заднего кармана и приставил к груди Тома Бентона. Он заставил Бентона пятиться вдоль длинного коридора. Сзади них неожиданно появился Джесс Бентон и выстрелил, попав Эндрю в плечо. Роберт Хейс торопливо провел ее через холл нашвиллского постоялого двора и вверх по лестнице в комнату Эндрю. Около его кровати толпились несколько человек. — Пожалуйста, попросите их выйти, — сказала Рейчэл, чувствуя, что ей дурно. Как сквозь туман она услышала ответ Хейса: — Это все врачи. Она подошла к изголовью постели. Лицо Эндрю было безжизненным, веки плотно закрыты, он едва дышал. Его левое плечо было плотно забинтовано, но кровь пропитала бинты. Она слегка прикоснулась своими пальцами к его лбу. Его веки приподнялись: — Есть только одно такое прикосновение… Доктор Мей подошел к Рейчэл: — Сожалею, миссис Джэксон, но генерал серьезно ранен. Одна пуля сломала кость его плеча, другая застряла у лучевой кости. Мы пришли к выводу, я и другие врачи, что руку не спасти. Если мы ее не ампутируем, то будет гангрена… Все вокруг нее потемнело, голоса мужчин в ее ушах звенели, словно писк птиц. Затем она услышала, как Эндрю хрипло сказал: — Благодарю вас, джентльмены, но руку свою я сохраню! Самый молодой из присутствующих врачей, Феликс Робертсон, сын генерала Робертсона, сказал: — Прошу извинить меня, коллеги, но, миссис Джэксон, я не думаю, что руку нужно ампутировать. Я сделал тугую повязку, остановил кровотечение и наложил на рану припарку из коры вяза. Рейчэл взяла себя в руки. Она поблагодарила врачей, отпустила их всех, кроме молодого Робертсона, и послала Стокли Хейса в Эрмитаж за простынями и пищей. Из-за потери крови Эндрю ночью и на следующий день ощущал жажду, и она давала ему несколько глотков молока или чая. Хотя боль была сильной, он не жаловался. Доктор Робертсон согнул его локоть и зафиксировал повязкой руку на груди. К концу второго дня Эндрю смог принять небольшое количество твердой пищи. Роберт Хейс пришел сообщить, что весь Нашвилл возмутился: члены семьи Бентон были чуть ли не растерзаны бывшими солдатами Эндрю и поспешно покинули город, дав обещание не возвращаться в него. Чувства горожан обратились также против капитана Эрвина и его группы, подстрекавшей к ссоре. — В свете хороших известий, — сказал Эндрю, — думаю, что следует поехать домой. Рейчэл настояла на том, чтобы он оставался в своем номере еще два дня, пока доктор Робертсон сменит припарку и заверит, что опасность заражения прошла. После этого они вернулись в Эрмитаж. Двое рабочих внесли Эндрю в дом и подняли на второй этаж — его рука была все еще туго забинтована, а раненое плечо не работало. Доктор Робертсон сообщил ей, что поправка будет длительной, возможно, потребуется несколько месяцев, прежде чем он сможет встать и управлять левой стороной тела. Рейчэл смогла удержать Эндрю в постели лишь двадцать четыре часа. На следующий день в Нашвилл пришло известие, что воины племени крик напали на форт Мимс на южной границе территории Миссисипи и убили четыреста мужчин, женщин и детей. В Эрмитаж прибыла делегация, в которую входили губернатор Блаунт и Джон Коффи, чтобы сообщить генералу Джэксону, что милиция штата в отчаянии из-за того, что он не может принять командование. Рейчэл провела их в нижнее помещение. — Губернатор Блаунт, вы знаете, что генерал болен. Он не может стоять на ногах и, уж конечно, сидеть в седле целую тысячу миль, а тем более командовать отрядом. Никто не ответил ей. Все глаза были устремлены к лестнице. Там, медленно спускаясь вниз, поддерживая здоровой правой рукой левую, двигался Эндрю. Его длинное худое лицо, стиснутые губы, горящие глаза выражали решимость. Достигнув последней ступеньки, он пересек комнату и, положив руку на талию Рейчэл, сказал: — Джентльмены, не время болеть для патриота, когда страна нуждается в нем. Мы будем готовы выступить через несколько дней. Я буду лично командовать. Рейчэл помогла ему облачиться в униформу, сделала надежную повязку для руки. На мгновение она прижала его руку к своей щеке. Как он сможет воевать, если ему нужно помогать сесть в седло? Посредством напряженной подготовки в Фаэттвилле Эндрю вновь превратил во внушительную силу две тысячи новобранцев. Не проходило и дня, чтобы не появлялся друг или родственник, посланный из штаб-квартиры с просьбой прислать муку или мясо, восполнить провизию, так и не доставленную в форт Депозит. Несмотря на это, депеши принесли новость, что Эндрю форсировал реку Куза и на заре взял врасплох племя крик. Триста индейцев были убиты. Истосковавшаяся по победам, столько раз терпевшая поражение и униженная нация пела хвалу генералу Джэксону. После одиннадцати лет фанатических приготовлений состоялась первая битва, и он вышел из нее триумфатором. Несмотря на хвалебные отзывы прессы, плоскодонки, на которые была погружена провизия Восточного Теннесси, оставались на месте из-за того, что река обмелела. Офицеры и рядовые милиции, питавшиеся белками, а потом желудями, решили, что нет смысла умирать с голоду, и большая часть войска угрожала бежать. Генерал Джэксон перекрыл дороги сохранявшими верность солдатами, угрожая расстреливать дезертиров, и на деле расстрелял одного молодого бунтовщика. Когда прибыл генерал Коук с полутора тысячами солдат, Эндрю распустил взбунтовавшийся полк, а потом узнал, что вновь прибывшим осталось служить всего лишь десять дней. Под его командой находилось сто тридцать замерзших, изголодавшихся, ободранных пехотинцев. Все работы в Эрмитаже приостановились. Новый надсмотрщик Филдс то и дело прикладывался к виски и ссорился с работниками; земельные участки, которые просил расчистить Эндрю, оставались в запустении. И впервые за много лет своей фермерской деятельности Рейчэл поддалась чувству безразличия. Вся ее энергия и желания были сосредоточены на войне с Англией, ибо Эндрю писал ей, что племя крик вооружено новыми английскими ружьями, что английские агенты обещают бог знает что индейцам, если они продолжат изматывать войска Соединенных Штатов до подхода британских войск, которые разобьют американцев. Ее утешением стал Эндрю-младший, любивший говорить о папе, а она была крайне благодарна всякому, говорившему о ее муже… даже своему сыну! Эндрю не пытался скрывать от нее свое нездоровье. Раны, нанесенные пулей Джесса Бентона, не затягивались. В холодную погоду боль была настолько мучительной, что он не мог спать. Он страдал поносом из-за того, что нечего было есть и приходилось питаться тем, что удавалось подобрать на ходу, включая желуди и орехи. Иногда часами он сохранял сознание лишь благодаря тому, что держался на ногах, цепляясь руками за ветви деревьев. В некоторые особо тяжелые дни он лежал в прострации в своей палатке, будучи не в состоянии согнуть руку или ногу, а когда нужно было идти, то двигался исключительно за счет силы воли. В ответ на приказ губернатора Блаунта вернутьвойска домой Эндрю заявил: «Что, отступать в таких условиях? Я лучше погибну!» Его положение было настолько скверным, что Рейчэл не могла ни есть, ни спать. Сыпал такой густой снег, что ломались ветви деревьев. Оказывая помощь в борьбе с гриппом, жертвой которого стали жители Эрмитажа, в том числе Эндрю-младший, Рейчэл сама заболела. У нее резко подскочила температура, и доктор Мей решил пустить ей кровь. Он также часто давал ей каломель. Когда она писала Эндрю, ее руки тряслись, как бывает при параличе. Но не кровопускание и не каломель избавили ее от тревоги, а победа Эндрю при Эмукфау. Получив подкрепление — восемьсот новобранцев, приведенных полковником Робертом Хейсом, Эндрю бросил в бой свои поредевшие и явно уступавшие противнику по численности резервы, прежде чем успели выступить воины племени крик. Полковник Джон Коффи был тяжело ранен, а сын Джонни, Сэнди Донельсон, — убит. Терпевшая поражения администрация и изголодавшаяся печать вновь приветствовали победу в борьбе против индейцев, называя ее величайшей. Эндрю Джэксон удостоился самых высоких похвал из всех полевых командиров. Пять тысяч добровольцев вступили на индейскую территорию и присоединились к генералу Джэксону. Ободренный присутствием роты регулярной армии Соединенных Штатов, Эндрю атаковал бастион племени крик у Хорсшу-Бенд и навязал сражение на открытой равнине. В яростном рукопашном бою он потерял сорок девять человек, но к концу дня уцелела лишь горстка воинов племени крик, а вождь племени сдался в плен. Все английские ружья были захвачены, и война с племенем крик закончилась. Британцам не оставалось ничего иного, как искать новых союзников на Юге. В начале мая, через пять недель после победы Эндрю, когда над головой сияло теплое солнце, а персиковые деревья стояли в цвету, курьер доставил записку от Эндрю с просьбой встретить его в следующий полдень в пяти милях по дороге на Нашвилл. Она знала, что не заснет, поэтому провела вечер в хлопотах: помыла волосы, искупалась, подрезала ногти и приготовила костюм. После того как начались огорчения по поводу дуэли с Дикинсоном, она мало шила. Поэтому обнаружила, что ее гардероб весьма беден. Рейчэл старалась припомнить, какое платье Эндрю считал наиболее красивым. Ее выбор пал на коричневое батистовое платье с отделкой по вырезу шеи и нижнему краю юбки, которое показалось ей самым радостным. К тому же они были счастливы в то время, когда она надевала это платье в последний раз, празднуя двадцатипятилетие Джейн. В десять часов ее карета остановилась у обозначенного места на дороге, проехав мимо сотен жителей долины Кумберленда, пришедших посмотреть на генерала Джэксона. Нужно было ждать два часа, но, откинувшись на подушки и сложив руки на коленях, она вспоминала о болезнях, о подлинном физическом страхе, испытываемом ею в прошедшие семь месяцев, и подумала, что могла бы еще долго находиться в таком подвешенном состоянии, ожидая, когда восстановятся ее силы и уверенность. Затем Рейчэл услышала стук множества копыт, и ее карету окружила дюжина всадников. Прежде чем она успела разглядеть их лица, дверь кареты распахнулась, и рядом с ней был Эндрю. Он прижал ее к себе так сильно, что, казалось, хрустнут ребра. Она мельком взглянула на него, но даже за этот краткий миг она заметила, что глаза у него оживленные и довольные./9/
Под градом индейских пуль судьба уберегла Эндрю, и ни один кусок свинца не коснулся его. За неделю, проведенную в Эрмитаже, пасмурность исчезла с его лица. Днем приходило множество гостей; за обеденным столом собирались друзья и поклонники. В теплые июньские вечера Эндрю и Рейчэл мирно сидели под деревьями, наблюдая, как луна плывет по небу, совершая свое вечное путешествие. Их пребывание наедине было вдвойне приятным, ведь они знали, что оно будет кратким. Сражения с племенем крик были не чем иным, как прологом к предстоящим испытаниям, когда англичане закончат войну в Европе и бросят мощь своей империи против Луизианы. Из суда в Ноксвилле возвратился Джон Овертон и привез сведения о настроениях, господствующих в Восточном Теннесси и в Кентукки. Появились лица, склонные поддержать кандидатуру Эндрю на пост губернатора. Даже сторонники Севьера говорят о нем с уважением. Настроены против него лишь милиционеры и добровольцы, покинувшие войска Эндрю до того, как он добился военных успехов, ныне утверждающие, будто они не дезертировали, а всего лишь намеревались взять из дома продовольствие и зимнюю одежду, но произвол генерала Джэксона помешал им это сделать. Семья Джона Удса, казненного Эндрю за дезертирство, утверждала, будто генерал допустил беззаконие. Генерал Коук, которого Эндрю предал военно-полевому суду за то, что он не подошел вовремя со своими войсками, направленными для подкрепления, нашел сторонников, распространявших сплетни, будто таким образом Эндрю старался приписать успехи только себе. — Но таких скулящих мало, — закончил Джон. — Я рассказываю о них только потому, что, как я понимаю, они хотели бы вывести тебя из равновесия и вовлечь в свару, их цель — умалить твою славу. Если хочешь знать мое мнение, прошу тебя, не замечай этих деятелей, пусть они пишут и говорят что угодно. И не благодари меня за то, что не вмешиваюсь в твои личные дела! — Не стану, советник, — ответил Эндрю. — Не будет больше перестрелки с Бентонами или драки с Сэмюэлем Джэксоном. Я уже не тот человек сейчас, который готов ввязаться в подобные споры. Передо мной стоит действительный противник, и я сберегаю свой порох для англичан. Для Рейчэл и Эндрю словно наступил новый медовый месяц: они всегда были вместе; днем выезжали в холмистую часть своей плантации, где было прохладно; устраивали пикники с холодными жареными цыплятами и снятым молоком; любовались долиной реки и равниной; беседовали о многом, что накопилось у них для таких моментов отдыха и близости. По вечерам она читала ему стихи Коупера или Вергилия, а он курил свою трубку или же торжественно везла его на обед к Джейн, Джонни или Уильяму. Оставшийся без внимания Эрмитаж выглядел еще более запущенным. Однажды утром прибыл курьер из военного департамента с двумя запечатанными конвертами. В первой депеше ему приказывалось «немедленно отправиться в форт Джэксон и заключить договор с племенем крик». — Замечательно! — крикнул Эндрю. — Но послушай образец идиотизма. Шагая из угла в угол, он прочитал вслух:«Если враждебно настроенная часть племени крик действительно сломлена, если она лежит ниц пред нами и даже просит дать ей средства к существованию, то зачем удерживать на службе милицию? Джон Армстронг».Он отбросил письмо в сторону, как поступал с любой вызывавшей у него раздражение бумагой. — Теперь ты понимаешь, почему с начала войны мы проигрывали любое сражение, почему англичане без единого выстрела захватили Детройт, разбили войска Уинчестера у Фретауна, разгромили Ван Ренсселаера в Куинстауне, расколошматили отряды Дирборна и сделали из Уилкинсона такого дурака в Канаде, что он был вынужден подать в отставку. — Может быть, второе письмо лучше? Эндрю вернулся к столу, взял второй конверт и раскрыл его. На этот раз он недоуменно замолчал, вид у него был удивленный и извиняющийся. — Беру назад все, что сказал о военном министре. Он мудрый и проницательный человек. Послушай, что он пишет:
«Военный департамент. 28 мая 1814 года Сэр! С момента моего письма, датированного 24 мая, генерал-майор Гаррисон вышел в отставку со своего поста в армии, и тем самым открылась вакансия для такого ранга, какой я поспешил присвоить вам».У них обоих перехватило дыхание, затем Эндрю, дрожавший от возбуждения, взорвался: — Боже Всевышний! После трех лет они наконец-то допустили меня в регулярную армию. Ты видишь, чудеса все же возможны… Рейчэл обняла его за шею, а он приподнял ее так, что их губы соприкоснулись. — Могу ли я первой поздравить вас, генерал регулярной армии Джэксон? И не говори мне, что не могу назвать тебя генералом, пока не выиграешь сражение. Скажи мне точно, что означает такое назначение? Возбужденный от радости, он поцеловал ее так горячо, как не целовал многие годы. Затем опустил ее на пол и стоял, склонив голову набок, его улыбка выражала одновременно благодарность, решимость… и счастье для них обоих. — Я буду командовать седьмым военным округом, который включает Теннесси, территории Миссисипи и Луизианы. Это значит, что ты не будешь более оставаться одна. Как только я организую штаб-квартиру, я пошлю за тобой. Отныне ты будешь ездить со мной повсюду. — Боже милостивый! А как быть с Эрмитажем? — Объявим о его продаже со всем добром. Мой оклад с различными надбавками достигнет почти шести тысяч долларов в год. Они вновь обнялись. На этот раз к ним присоединился Эндрю-младший, который спустился в нижнюю комнату и, не скрывая чувства зависти, потянул отца за рубашку. Они подняли его так, что он был между ними, целовали ребенка и друг друга, смеясь и плача одновременно. К концу июня в Эрмитаж поступили известия, что англичане вступили в Париж и Наполеон пленен.[15] Долгая война в Европе закончилась. Эндрю был удручен поражением своего героя, но Рейчэл он говорил только об огромном британском флоте, насчитывавшем тысячу кораблей, о блестящих командирах и обученных войсках, которые теперь могут всей своей мощью обрушиться на Соединенные Штаты. Рейчэл попрощалась с ним. Отправляясь в форт Джэксон, он обещал через несколько недель прислать за ней. — Мой дорогой, ты сказал, что я должна получить новую карету для поездки на Юг, как это приличествует жене генерал-майора армии Соединенных Штатов. А как насчет того, чтобы ты задержался в Мэрфриборо и обзавелся новой формой? Конечно, твои плечи выдержат эполеты регулярной армии? Легкая шутка облегчила момент расставания. В этот же день она выставила под июльское солнце свои сундуки и сумку, а когда они просушились, приказала отнести их в спальню. Если постоянной штаб-квартирой будет дом в Мобайл, тогда не потребуется много стильных платьев, но если они разместятся в Новом Орлеане, тогда ее гардероб будет явно недостаточным. Она решила, что закажет у Сары Бентли новые платья. Джейн помогла ей выбрать в лавках Нашвилла шелковые ткани и сатин, шляпки, муфты и туфли на тонкой подошве. Рейчэл провела много часов с Джейн в мастерской Сары Бентли, рассматривая цветные иллюстрации, отпечатанные в Лондоне, и обсуждая последние веяния моды. — Послушай, Джейн, — протестовала Рейчэл, — ты ведь не хочешь, чтобы я приехала в Новый Орлеан и выглядела бы там полураздетой в этих платьях? Во-первых, Эндрю не узнает меня в таких нарядах, во-вторых, не одобрит мой выбор, и, в-третьих, моя дорогая сестра, я женщина из пограничного района, обветренная и слегка огрубевшая… — Ты направляешься в самый элегантный город в Америке, — ответила Джейн. — Тамошние француженки получают платья прямо из Парижа или же шьют по парижской моде. Мне хотелось бы, чтобы ты утерла им нос. Время летело быстро. Она завершила укладку платьев, готовясь к отъезду, и отдала последние распоряжения, как вдруг прибыл курьер с письмом от Эндрю:
«Капризная дама по имени Фортуна путает все мои планы — я только что получил срочное указание из Алабама-Хейтс отправиться в Мобайл и быть там со всеми регулярными войсками. Если я смогу высвободить полковника Батлера, то пошлю его, чтобы он сопроводил тебя вниз по реке в Натчез или Новый Орлеан».Рейчэл перечитала слова: «Капризная дама по имени Фортуна путает все мои планы» — и улыбнулась сама себе, словно слышала голос Эндрю: «Шутки в сторону». По всей видимости, договор с племенем крик полностью удовлетворил его, если и у него было желание пошутить. В следующем послании не было ничего занятного: британские корабли «Гермес», «Каррон» и «София» прибыли в испанский порт Пенсакола с сухопутными войсками и большим грузом оружия и боеприпасов. Через несколько дней ожидалось прибытие «Орфея» с четырнадцатью другими военными кораблями и транспортом с десятью тысячами пехотинцев на борту. На Бермудские острова уже прибыли четырнадцать военных кораблей и транспортов с армией Веллингтона. Генерал Джон Коффи и муж Рейчэл Хейс полковник Роберт Батлер посетили Эрмитаж перед своим отъездом. Они получили приказ генерала Джэксона выступить как можно скорее из Нашвилла с тысячью всадников. В краткой записке, привезенной в Эрмитаж офицером, которому Эндрю поручил сформировать артиллерийский батальон, Эндрю сообщил:
«Англичане и испанцы ожидают, что менее чем через месяц они захватят Мобайл и все его окрестности. Прежде чем такое случится, кое у кого будут разбиты носы».Армия, разбившая Наполеона, спешила к берегам Америки, а Эндрю Джэксон обещает разбить ей нос! Рейчэл вспомнила о массовых мятежах в войсках за год до этого, о том, что Эндрю буквально бросили в глухомани с сотней офицеров и солдат без провианта, и поразилась его внутренней силе. В то же самое время она была откровенно испугана. Ведь воля Эндрю к победе столкнется с мощью британской армии, которая только что захватила Вашингтон, сожгла Капитолий, обстреляла Балтимор, разграбила Александрию, оккупировала штат Мэн, сожгла восточное Морское управление, захватила Нантакет и мыс Код. Население Новой Англии так устало от войн, что в Хартфорде собрался конвент, на котором раздались голоса в пользу выхода из состава Соединенных Штатов и были выбраны делегаты для поездки в Вашингтон-Сити с требованием мира любой ценой. Между закаленной британской армией и капитуляцией американского правительства стоял… ее муж! Из сообщений в газетах Нашвилла Рейчэл узнала: Эндрю, исходя из предположения, что, нацеливаясь на захват Мобайла, англичане должны будут вначале взять форт Бауэр, прикрывающий залив Мобайл, поспешил туда со ста шестьюдесятью солдатами и за двенадцать дней провел необходимые ремонтные работы и разместил на позициях пушки перед самым нападением британского флота. Один британский корабль был потоплен, другой взлетел на воздух… после чего остальные удалились в море. Это была первая победа над англичанами. Рейчэл узнала не из газет — этого они не напечатали, — а от мужа, что, когда он решил двинуть три тысячи своих солдат в Пенсаколу и потребовался провиант на восемь дней, ему пришлось вновь купить его за свой счет. В Филадельфии нашлись покупатели на земельные участки Эрмитажа по двадцать долларов за акр. Рейчэл знала, что Эндрю использует каждый доллар от этих сделок для закупки провианта для своих солдат. Она искала пути к тому, чтобы побудить военный департамент снабжать правительственные войска. Ведь война не была личным делом Эндрю, хотя он вполне может сказать, что это его война. И если все же это его частная война, то она и ее частная война. Тем временем сундуки, подготовленные для поездки, оставались стоять в спальне. «На моих руках — война, — писал Эндрю, — не можешь ли ты подождать еще несколько недель?» Прошло полных три месяца со времени его отъезда, когда он обещал, что они больше никогда не расстанутся. Но может ли она возложить на него заботу о ее безопасности и безопасности ее сына, если он подтянул свои войска к Пенсаколе, а испанский губернатор отказывается выдворить английские войска из форта Барранкас и сдать оружие и амуницию, находящиеся в городе? В полученном ею следующем сообщении говорилось, что под огнем тяжелых орудий и британских кораблей Эндрю штурмовал укрепления Пенсаколы, захватил город, вынудил англичан взорвать форт Барранкас и уйти в море. После этого Эндрю двинулся на Новый Орлеан. Она поехала в Нашвилл купить карету попрочнее и пару сильных лошадей. И вдруг письма перестали поступать. В начале декабря начались проливные дожди; ее карету не вытянула бы целая упряжка лошадей. Уровень воды в реках поднялся, и они стали судоходными, теперь можно было поплыть по реке. Роберт Хейс нанял ей лодку, и она ожидала, как птенец, готовящийся выпорхнуть из гнезда. Наконец молодой Стокли привез ей приказ выехать; ему поручалось доставить тетушку Рейчэл и кузена Эндрю вниз по Миссисипи в Новый Орлеан к генералу Джэксону. Она заплатила наличными четыреста двадцать долларов за поездку, но, не желая транжирить деньги, принялась нагружать лодку своим беконом, говядиной, овсом и кукурузой, продажа которых в Новом Орлеане принесла бы доход. Роберт Хейс наметил отплытие на 28 декабря. Во время рождественского обеда в Хэйсборо Джейн отвела ее в сторону и сказала: — Сестра, полковник Андерсен выезжает в Новый Орлеан с несколькими офицерами 10 января. Роберт считает, что тебе нужна дополнительная военная охрана. Мы не имеем права рисковать, чтобы тебя захватили англичане. — Ой, Джейн, — застонала Рейчэл, — я знаю, что ты права, но я не видела мужа уже шесть месяцев. В прошлом году Эндрю был дома всего четыре недели! Рейчэл не сомневалась, что под Новым Орлеаном назревает большая битва. И все же ее волновали вопросы собственной безопасности. Ее терпение истощилось. Она вспомнила, как Эндрю спрашивал ее: «Можешь ли стрелять?», когда они впервые ехали по Кентуккской дороге. Она так хотела быть рядом с мужем, что была согласна пробиваться с боем по Миссисипи. Покупка филадельфийцем Эрмитажа дошла до стадии подписания контракта. Джейн забирала в свое поместье Молл, Джорджа, Митти и Ханну до того времени, когда чета Джэксон определит, где она осядет постоянно. Все добро в Эрмитаже подлежало продаже за цены, какие выторгует Роберт Хейс. Когда в большой комнате внизу Рейчэл упаковывала последние личные пожитки, открылась дверь и в комнату вошли Джейн и Роберт со своей дочерью. Рейчэл была так занята укладкой вещей, что не слышала, как они подъехали. Сейчас же, подняв голову, увидела их возбужденные глаза. Едва успели они сесть, как в комнату вошли Северн и Элизабет. Рейчэл слышала, что к дому подъезжают еще лошади. По эмоциональным замечаниям, спонтанным выкрикам: «Итак, произошло великое сражение у Нового Орлеана!», по заявлению Томаса Овертона: «Только генерал Джэксон, обладающий исключительной отвагой, смог захватить врасплох англичан», по радостному выражению лица Джонни Донельсона, приехавшего с женой и дочерью, Мэри Коффи, и хваставшегося: «Если бы он окопался в Новом Орлеане с горсткой своих войск, то англичане могли бы атаковать любого с выгодного им направления!» — Рейчэл поняла, что встреча не планировалась заранее. Следующими прибыли Сара и Тим Бентли, затем — ее братья-холостяки Александр и Левен, с которыми она встречалась только на свадьбах и похоронах, вслед за ними появились Уильям и Чэрити, которые подобрали по дороге Катерину и Джона Хатчингса. Последним прибыл Джон Овертон, приехавший из Травелерс-Рест небритый, в рабочей одежде. Осмотрев комнату, где все стулья были заняты, она поняла, что семейство Донельсон и их близкие друзья собрались на военный совет. Рейчэл стояла в центре комнаты, ожидая, что кто-нибудь расскажет ей толком, что произошло. А тем временем вокруг нее шла бурная дискуссия. Она старалась прислушаться, отсортировать слова и фразы, но шум был невообразимым: — …Кентуккская милиция подошла измотанной и без ружей… захватил несколько катеров с пушками на озере Борнь… партию ружей из военного департамента, которую глупый подрядчик отправил медленным грузом, чтобы сэкономить деньги… англичане были обнаружены всего в восьми милях от Нового Орлеана… хорошо, что он ворвался в эти склады… теплая одежда… не получал из Вашингтона сообщений шестьдесят дней… — Остановитесь, пожалуйста, все! Замолчите! — Рейчэл подошла к камину. — Я понимаю, что произошла главная битва. Роберт, будь добр, скажи, что случилось? Полковник Роберт Хейс стоял около нее, откинув назад свои широкие плечи. Она помнила, что именно лояльный любящий Роберт почти в одиночку собрал и привез к Эндрю войска, разбившие племя крик. Он был самый красивый мужчина в семействе Донельсон, и сейчас его лицо с тонкими чертами светилось гордостью, когда он излагал сообщения, полученные ими за час до этого: «Девять-десять тысяч англичан высадились на озере Борнь, прошли пять миль по болотам и захватили плантацию Виллера в восьми милях от Нового Орлеана. Майор Виллер был захвачен, но бежал и передал известие генералу Джэксону. Хотя в распоряжении Эндрю была всего тысяча регулярных войск и две тысячи милиционеров, он вызвал адъютантов и с такой силой хватил по столу, что тот чудом выдержал удар, при этом Эндрю крикнул: — Именем Всевышнего, они не должны спать на нашей земле! Мы дадим им бой сегодня же! Через два часа он вывел свои войска из города. В семь часов англичане, сидевшие в своем лагере у костров, были захвачены врасплох. Завязалась рукопашная схватка, нападение возглавили генералы Коффи и Кэррол. Англичане были дезорганизованы и понесли серьезные потери, а главное, был захвачен британский майор, который сжег Капитолий в Вашингтон-Сити. Эндрю оттянул свои войска за Родригез-канал, организовал всеми подручными средствами оборону, собрал все мушкеты и всех способных носить оружие мужчин в Новом Орлеане. Каждый участок от реки до болот и лесов был укреплен, орудия размещены в капонирах, из тюков хлопка была сооружена стена. 28 декабря и 1 января против войск Эндрю были предприняты две сравнительно небольшие атаки. Затем утром 8 января известный британский генерал Пэкинхэм выпустил голубую ракету — сигнал к большому наступлению. Генерал Джэксон и его войска, окопавшиеся дугой, были готовы встретить англичан. В семь часов утра туман рассеялся, и Эндрю, стоя на парапете над Родригез-канал, увидел стерню срезанного тростника, серебрившуюся инеем, и более чем в шестистах ярдах за ней английских солдат в красных мундирах и белых поясах с мушкетами наизготовку. Англичане двинулись вперед. Эндрю отдал приказ; раздался залп двенадцатифунтовых пушек, потом последовал залп первой линии стрелков, тут же отошедших назад, чтобы перезарядить ружья; их место заняла вторая линия стрелков, потом третья. Все они были охотниками и били наповал — английские солдаты в тесных цепях стали падать. Живые продолжали идти. Солдаты и пушки Эндрю, прикрытые укреплениями, усилили огонь. Пошли в наступление шотландцы, но американцы перезаряжали свои ружья так быстро, что скосили наступавших — они не успели сделать ни одного выстрела. Английские офицеры выбывали из строя один за другим: генералы Пэкинхэм и Гиббс были убиты, полковник Дейл — тоже, генерал Кин — ранен. Не более ста английских солдат достигли Родригез-канал; горстке удалось подняться на дамбу… и умереть там. Через полтора часа сражения англичане отступили, их дух был подорван, боевая сила истощена. Семьсот английских солдат полегли на поле боя, когда Эндрю вновь поднялся на парапет, чтобы обозреть результаты сражения. Тысяча четыреста англичан были ранены, выведены из строя, умирали. Когда он увидел, как пятьсот британцев поднялись из-под груд своих мертвых товарищей и пошли вперед, чтобы сдаться в плен, он сказал: — Никогда не представлял себе столь страшную картину возрождения из мертвых. Через некоторое время он узнал, что потерял всего семь человек и что, каким бы невероятным это ни показалось, английские солдаты ранили всего шесть его солдат». Семья Донельсон имела особые основания для радости: мужья, сыновья и племянники храбро сражались и не были даже ранены. Память Рейчэл напомнила ей о библиотеке в Хантерз-Хилл, где Эндрю просиживал за военными книгами и где заявил: — Хороший генерал не теряет людей на войне, его кампания так хорошо спланирована, что он разбивает армию противника несколькими быстрыми ударами. Побитые и сломленные, англичане погрузились на корабли. Эндрю предпочел не преследовать их. Он получил записку от британского командующего — генерала Кина с борта его корабля. Кин предлагал вознаграждение за свою любимую боевую саблю, потерянную на равнине перед Родригез-канал. — Была ли сабля у Эндрю? — возбужденно спросила Рейчэл. — Надеюсь, что он вернул ее? Это могло бы стать символом другой сабли, которая так жестоко порезала его лицо, когда он был еще мальчиком. — О да, он вернул ее, — сказал Роберт Хейс, — и послал вместе с ней письмо, выражающее чувства по поводу несчастья, постигшего отважных британских солдат, павших на поле боя. — Теперь его победа полная, — прошептала Рейчэл сама себе, от радости у нее защемило сердце, — над англичанами… и над собой. После паузы Джонни сказал: — Возможно, Эндрю вскоре будет дома? Быть может, тебе не стоит завтра утром выезжать в Новый Орлеан? — Я поеду! — объявила она с твердостью, которая пресекла дальнейшую дискуссию. Она повернулась к зятю: — Но случившееся изменило одно дело. Если война на самом деле окончилась, Эндрю захочет иметь дом, в который можно вернуться. Не подписывай документы по Эрмитажу, когда они придут из Филадельфии. Они ели и пили, рассказывали семейные анекдоты, в то время как зимнее солнце неспешно двигалось к горизонту. Потом отправились в Нашвилл, к причалу. Ледяной ветер гнал по реке белесые волны. Рейчэл твердо взяла за руку Эндрю-младшего и пошла с ним по сходням. На середине сходен она вдруг остановилась и стояла, склонив голову. Время и годы как бы перестали для нее существовать: она была вновь молодой, всего двадцать три года, ее брат Сэмюэл привез ее к этому причалу, чтобы посадить на плоскодонку полковника Старка, отплывающую в Натчез. Не двигаясь, не слыша прощальных слов членов своей семьи, мысленно она представляла, как из лодки поднялся высокий рыжий двадцатитрехлетний Эндрю Джэксон, взял ее сумку и приветствовал на борту. Какое напряженное, волнующее путешествие было тогда! Но в доме Тома Грина Эндрю ей сказал, привезя сообщение о ее разводе и возможности вступить в брак: — Наша любовь будет крепостью. Она повернулась, чтобы в последний раз попрощаться с членами семьи на берегу, а потом продолжала спуск к лодке. Их любовь оказалась крепостью.
Книга шестая
/1/
Рейчэл сидела в вымощенном голубыми плитами дворике, утренний воздух был напоен ароматом южноафриканского жасмина и мирта. Столик для завтрака стоял рядом с живописными клумбами и журчащим фонтаном. Подняв голову, она осмотрела изящные витые лестницы, берущие начало во дворике и доходящие до крыши, и балконы с оградой из кованого железа на втором и третьем этажах здания. Во дворик вошли две служанки в ситцевых платьях, их головы были повязаны яркими мадрасскими платками и заколоты высокими гребнями. Они несли свежие рогалики и кофе. Снаружи из-за металлической ограды с заостренными верхними концами доносились крики уличных торговцев: — Прекрасная смоква! А вот маленькие тыквы! Совсем горячие! Для Рейчэл это был первый большой город и по сути дела иностранный. «Филадельфия или Нью-Йорк, — думала она, — показались бы менее чужими». Вся культура, начиная с крошечных кексов к кофе в одиннадцать часов и кончая представлением в Орлеанском театре, была французской. Ее поражала не только экзотика Нового Орлеана, но и богатая тропическая растительность, столь необычная по сравнению со скудной холмистой природой Кумберленда. Доктор Керр служил у Эндрю военным хирургом. Он любезно предоставил свой дом и персонал в распоряжение четы Джэксон. За столиком напротив Рейчэл сидел тридцатилетний майор Джон Рейд — секретарь Эндрю с начала войны против племени крик. Рейд был красивым парнем с копной черных кудрей, ниспадавших на лоб, с густыми бакенбардами и темными бровями, одна бровь резко задиралась вверх подобно восклицательному знаку. Он выглядел немного более худым, чем тогда, когда Рейчэл видела его в последний раз в Эрмитаже. — Нечему удивляться, — ответил он слабым голосом. — Генерал не давал мне спать по ночам и заставлял каждую ночь писать сотни депеш. Эндрю быстро спустился по наружной лестнице. — Доброе утро, моя дорогая, — сказал он, положив руку на ее плечо. — Впервые я не проснулся в пять часов утра, с тех пор как уехал из дома. — Ты должен был бы держать меня около себя все это время, — ответила она с улыбкой, передающей ее любовь и внутреннюю теплоту. — В таком случае и майор Рейд мог бы немного поспать, вместо того чтобы писать ночи напролет твои письма. Эндрю рассмеялся. Он опустился в кресло около нее, когда майор Рейд извинился и ушел. Рейчэл налила Эндрю чашку кофе. Солнце светило им в лицо, и они держались за руки под столом. Рейчэл прошептала: — Новый Орлеан может быть плохим местом для ведения войны, но несомненно хорошее место для любви. — Я помню, как ты говорила, что любое место годится для любви. — Эта страна возвращает меня к нашему медовому месяцу в Байю-Пьер. Помнишь, как Том Грин предлагал нам остаться? Он наклонился над столиком и прикоснулся своей щекой к ее щеке. — Хотела бы ты жить здесь? Эндрю-младший без ума от того, что видит. Вчера он провел весь день на дамбе, наблюдая за кораблями. Я мог бы иметь постоянную штаб-квартиру в Новом Орлеане, и мы могли бы купить прекрасный дом вроде этого, продав Эрмитаж. — Не станем продавать. — Да ну? — Я приостановила продажу, когда до меня дошли новости. Я подумала, что твоя победа поставит все на свои места. Эти толпы на улицах Нового Орлеана вчера, выкрикивавшие твое имя, когда мы ехали в карете… — Это было вчера, — мрачно прервал он Рейчэл, — было объявлено временное перемирие в честь приезда. Сейчас же у меня на руках две войны: одна — с англичанами, а другая — с торговцами и законодателями Нового Орлеана, которые хотят заняться обычным бизнесом. Сейчас ко мне в штаб-квартиру приедет губернатор Клейборн. — Это не тот, что получил пост губернатора территории Луизиана, который ты так хотел иметь, когда мы жили в Хантерз-Хилл? Теперь ты его командующий. — Губернатор Клейборн так не думает. Цель его сегодняшнего визита — заставить меня отменить военное положение и позволить судам выйти из гавани с хлопком и табаком, которые вот уже два года лежат на складах. Он также намерен потребовать от меня роспуска милиции и добровольцев Луизианы, а также отвода моих войск с территории, находящейся под его юрисдикцией. Согласно утверждению Клейборна, война закончилась. — А разве не так? — спросила Рейчэл с тревогой. — Твой друг Эдвард Ливингстон вернулся с британского флагманского корабля вчера с известием, что в Генте[16] подписан мирный договор с Англией. — Он также привез известие, что англичане захватили форт Байер! — Эндрю выпалил это почти сердито, затем извинился с самоосуждающей улыбкой: — Прости меня, но здесь нам все еще угрожает опасность, и лишь немногие понимают это. Англичане располагают совершенной шпионской сетью: им известно, сколько у нас войск, где они размещены, где расположены наши тяжелые орудия, каково моральное состояние наших солдат. Они могут нанести удар в любой момент. — Но почему они захотят нанести удар, дорогой, если знают, что подписан мирный договор? Чего они могут добиться этим? — Они никогда не признавали право Наполеона продать нам Луизиану. Если они смогут выдворить меня и моих солдат отсюда, то могут объявить эту страну своей собственностью, невзирая на мирный договор с остальной частью Соединенных Штатов. Эндрю вскочил, так ничего и не съев. Рейчэл прижалась к нему: — Перемирие не было очень длительным, не так ли, дорогой? Всего лишь один день и одна ночь. Но я страшно благодарна даже за это. Часы внутри здания мелодично пробили восемь часов. — Не завезешь ли меня к мадам Ливингстон по пути в штаб-квартиру? Сестра Джейн была права: у меня нет надлежащих платьев, таких, как у элегантных француженок. Сегодня утром миссис Ливингстон собрала лучших портных Нового Орлеана в своем доме, чтобы я могла заказать платье для бала в среду в честь Джорджа Вашингтона.Два дня спустя Эндрю помог ей подняться в карету. Накануне ночью шел дождь, и на улицах стояли грязные лужи. Эндрю держал в руках ее изящные туфли для бала, а она подобрала пышную бархатную юбку, чтобы не запачкать ее грязью. Миссис Эдвард Ливингстон, признанная светской предводительницей французской и американской колоний Нового Орлеана, превратила в примерочную салон на втором этаже. Большую часть двух дней Рейчэл провела, стоя на платформе в центре примерочной, в то время как лучшие французские портнихи драпировали ее во многие метры ткани, а стайка разговорчивых швей шила и примеряла, порола и вновь шила, пока платье не стало таким, каким его хотела видеть мадам Ливингстон. — Это должно быть самое красивое платье на балу, — требовала она у модельерши. — Генерал Джэксон и его леди — наши почетные гости, и никто не должен превзойти их. Так и было сделано. Луиза Ливингстон не давала покоя своим портнихам, и они сообща придумали роскошное темно-фиолетовое платье из самого нежного бархата, с кружевным лифом и короткими рукавами. На темные волосы Рейчэл была накинута мантия из тех же кружев, а ее сумочка была такого же темно-фиолетового цвета, как юбка. Ее шею украшало жемчужное ожерелье, а вокруг замка сумочки были вкраплены мелкие опалы. Рейчэл не знала, как будет выглядеть сама Луиза Ливингстон или та или иная из ослепительных креолок, но, увидев восторг на лице Эндрю, пожиравшего ее глазами, она поняла, что миссис Ливингстон преуспела, во всяком случае в том, что касалось ее, Рейчэл, интересов. Как было приятно смотреть в большое зеркало и видеть себя столь элегантно одетой! Она казалась сама себе на десять лет помолодевшей и сбросившей двадцать фунтов веса. Какой гордостью светились бы глаза Джейн, если бы она могла видеть ее! Рейчэл была вдвойне рада и довольна собой: она продала привезенные ею бекон, говядину, овес и кукурузу, получив достаточную прибыль, чтобы оплатить новый костюм. В то время как карета медленно тащилась по грязным улицам, она думала о женщине, которая отказалась от роли королевы бала, с тем чтобы она, Рейчэл, находилась в центре внимания. Луизе Ливингстон было всего тридцать лет, однако она уже завоевала в новоорлеанском обществе положение, к какому стремилась миссис Фарисс в Нашвилле. Но у миссис Фарисс не было природного очарования, широты натуры и врожденной любви к людям, присущих Луизе. В тринадцать лет она вышла замуж в Санто-Доминго, потеряла троих детей еще до того, как овдовела в шестнадцать лет, на ее глазах отец и два брата были убиты в восстании, спасаясь от которого она, ее мать, бабушка и малолетние брат и сестра бежали в Луизиану. Самая красивая из новоорлеанских матрон, она обладала блестящим интеллектом, оказывала Эдварду Ливингстону большую помощь в написании юридических заключений. Рейчэл думала: «Какая товарищеская атмосфера должна существовать между нею и мужем, чтобы сотрудничать с ним в таком качестве!» И ей захотелось родиться с более острым умом и быть лучшим помощником Эндрю. Члены французской биржи много поработали, чтобы превратить свое здание в близкое подобие парижского бального зала. Нижний этаж, где стояли длинные обеденные столы, был великолепно украшен цветами, разноцветными лампами, прозрачными лентами и искрящимися хрустальными канделябрами, каких она не видела со времени пребывания у Тома Грина в Спрингфилде. Эдвард Ливингстон, высокий, стройный, хотя и слегка сутулый мужчина, умевший органически сочетать любезность и достоинство, проводил ее до отведенного ей места. Она обнаружила, что сидит напротив лозунга: «Джэксон и победа едины». На столе, украшенном орнаментами, были расставлены золотистые окорока. В середине стола стояла пирамида, на вершине которой виднелись слова: «Да здравствует Джэксон!» Было поднято столько тостов за Эндрю, за «героя страны» и «спасителя Нового Орлеана», что ко времени, когда гости пошли наверх танцевать, Рейчэл почувствовала, что у нее слегка закружилась голова. Ее окружали дружелюбно настроенные люди, она оживленно беседовала с красивыми, безупречно одетыми мужчинами и ухоженными женщинами, танцевала не переставая менуэты и вальсы. К концу одного танца Эндрю, взяв ее под руку и улыбаясь с высоты своего роста, сказал: — Ты прекрасна, моя дорогая. — Ты увлечен этим бархатным платьем, оно чудесно подчеркивает мои глаза. — Нет, я любуюсь тобой, твоим лицом, ты светишься от счастья. Здесь ты самая очаровательная женщина. — Скажи мне, генерал Джэксон, который един с победой, — поддразнила она, — теперь, когда ты отшлепал англичан, сможешь ли остаться дома на некоторое время? — Навсегда. — Можем ли мы вскоре поехать туда? — Как скоро? — Завтра. — Ты говоришь, как луизианские милиционеры. Разве тебе не нравится такой образ жизни, Рейчэл? Обеды и приемы, балы и новые платья, танцы, смех и музыка? Ты можешь иметь здесь все, что пожелаешь. — Я уже и так видела больше, чем за всю прожитую жизнь. И я буду хранить воспоминание об этом вечере, пока жива. Но теперь, когда прошел такой вечер, я довольна. Я готова вернуться в Эрмитаж. Ты тоже этого хочешь, не так ли? Эндрю не ответил. Последующие недели вылились в фантасмагорию концертов, спектаклей в Орлеанском театре, балетов и пантомим в театре Сент-Филипп, обедов в роскошных домах видных креольских семейств, поездок с молодым Рейдом и Джаксом на поля сражений, где ей показывали расположение рот и объясняли, как они сражались. Она бродила по широкой, осененной тенью деревьев дамбе, осматривала старые испанские форты, ездила по озерам и протокам, отыскивала виллы в итальянском стиле, окруженные садами и прекрасными дикими апельсиновыми рощами. Ее сын Эндрю проводил все дни с отцом в штаб-квартире, где он стал всеобщим баловнем. Штаб-квартира находилась в элегантной резиденции Даниэля Кларка на Руайяль-стрит, 106, в одном из немногих кирпичных зданий Нового Орлеана. — Я также собираюсь проводить время в штаб-квартире, — дразнила Рейчэл своего мужа, стоя в большой передней комнате, которую он использовал как свой кабинет. — Дорогой, разве ты не знаешь, что в течение последних недель ты работал с восьми утра до одиннадцати вечера? Твое лицо отощало и вытянулось. — Если бы я мог получить весточку из Вашингтон-Сити, что война в самом деле закончилась… Город готов взбунтоваться. Сегодня в газете «Курьер» помещена статья, советующая мне убираться из Нового Орлеана и дать возможность солдатам Луизианы вернуться на фермы для сева. Я посадил автора этой статьи в тюрьму как провокатора. И если федеральный судья Доминик А. Хэлл будет настаивать на его освобождении, я также заточу Хэлла под замок. Я скорее брошу в тюрьму весь этот сбитый с толку город, но не допущу распада армии до официального уведомления о подписании мирного договора. — А в качестве начала поедем домой, запремся у себя и до утра забудем о твоих невзгодах. Рано утром их разбудил шум толпы, двигавшейся по улице с криком: «Мир! Мир!» Эндрю вскочил с постели, накинул на себя халат и спустился вниз. Через щели жалюзи Рейчэл увидела, как он взял депешу из рук забрызганного грязью курьера, а затем услышала стон разочарования, вырвавшийся у толпы. Эндрю вернулся в спальню и бросил депешу на стол. Она ждала, что он скажет. — Просто невероятно. В этом пакете нет ничего, кроме выданного мне секретарем Монро разрешения набрать войска, которые уже несколько месяцев сражаются под моим началом. Дождь лил как из ведра, превратив город и прилегающие районы в болото. Торговцы Нового Орлеана не спешили с продажей продуктов питания, и сотни солдат свалились, заболев инфлюэнцей, малярией и дизентерией. Обозленная толпа порвала в клочья портрет Эндрю в кафе биржи. Рейчэл узнала от своего племянника, что герой Нового Орлеана стал злодеем Нового Орлеана, диктатором, который ради собственного удовольствия удерживает военный контроль над городом. 15 марта был день рождения Эндрю, ему исполнялось сорок восемь лет. Рейчэл хотела устроить в его честь прием, но в воздухе носилось так много вражды и болезненных настроений, что она засомневалась, будут ли правильно поняты празднества. Наконец 13 марта 1815 года в Новый Орлеан пришли известия о ратификации мирного договора. Британский флот отправился домой, в Англию. Эндрю отменил военное положение, распустил войска Луизианы и отпустил войска Теннесси, Миссисипи и Кентукки домой. Взошло солнце, и толпы на улицах вновь кричали: «Джэксон и мир», а Рейчэл рассылала приглашения по всему городу — родственникам, адъютантам, французам, проявившим к ней доброту, на прием по случаю дня рождения генерала. После обеда, когда ее гости собрались в гостиной на втором этаже выпить кофе с ликером, Эндрю сел в удобное кресло, вытянув ноги перед собой, в окружении своих офицеров и племянников — Джона Коффи, Эдварда Ливингстона и доктора Керра. Через комнату Рейчэл слышала, как он рассказывал о своей матери и ее попытках спасти его и его брата от британской тюрьмы в Кэмпдене тридцать четыре года назад. Видя, что все крепко выпили и не заметят ее отсутствия, она ускользнула в свою комнату, чтобы поправить прическу. Когда она стояла перед зеркалом, висевшим над красивым комодом в стиле Людовика XIV, она заметила письмо, положенное Эндрю на комод. Она узнала подпись кузена по материнской линии Джона Стокли, занимавшего важное положение в правительстве Вашингтон-Сити. Вдруг, словно рельефно выступившие из бумаги, перед ее глазами возникли строчки:
«Мы с Запада уполномочены сообщить президенту, что ваша активность и полный успех сделали вас крайне популярным среди американского народа, и я полагаю, что вы должны занять пост верховного должностного лица Союза».Рейчэл стояла, прислонившись к комоду, одна рука ее была прижата к груди; она была слишком ошеломлена, чтобы трезво думать. Через мгновение ее рассудок вернулся в Эрмитаж, она увидела перед собой Джона Овертона с его очками в серебряной оправе на переносице, который говорил:
«Он может подняться на самую вершину, которой достоин. В этой стране есть единственная неоспоримая вершина, моя дорогая Рейчэл, и когда человек поднимается на нее, он избавлен от мелкой зависти, ревности, ссор».Рейчэл села на краешек позолоченного французского стула, она чувствовала высоко в горле стук собственного сердца. Ведь они оказывались в водовороте разгоряченных эмоций и вражды, когда Эндрю сражался за сравнительно скромные посты; их самих, их любовь исупружескую жизнь вовлекли в скандалы, обрушивали на них обвинения, горечь, вражду, дуэли и убийства, что же, во имя Бога, случится с ними, если встанет вопрос о борьбе за пост президента Соединенных Штатов? И как было сказано на семейном совете в доме ее матери, когда они впервые узнали о предстоящем разводе с Льюисом Робардсом в Харродсбурге, «след сохранится навсегда, и любой сможет им воспользоваться в своих корыстных целях». Если Эндрю выставит свою кандидатуру ка пост президента, то враги и оппоненты, стремясь нанести ему поражение, не станут ли ворошить его прошлое? Политика — смертельно опасный бизнес. То, что она пережила до этого в виде злокозненных слухов, вмешательства в личную жизнь и гнусных пересудов, ограничивалось территорией Теннесси. Не станут ли осложнения ее первого брака с Льюисом Робардсом и незаконность ее брака в Натчезе с Эндрю предметом обсуждения по всей стране, объектом публичного интереса? Ее страх прошел, уступив место ясности, почти предвидению: бури, скандалы, обвинения и опровержения, обсуждение на людях ее интимной жизни — все эти вещи, казавшиеся столь болезненными и назойливыми, окажутся легким ветерком по сравнению с тем, через что ей предстоит еще пройти. И все же, если встанет вопрос о том, чтобы пройти, отшатнется ли она? Ведь речь пойдет о выдающемся достижении для Эндрю Джэксона, нищего сироты, сумевшего пробиться из низов на пост высшего исполнителя, который занимали такие высокорожденные джентльмены, как Джордж Вашингтон, Джон Адамс и Джеймс Медисон.
/2/
Новый Орлеан осыпал чету Джэксон подарками: роскошной мебелью для их спальни в доме Керра, набором топазов для Рейчэл, бриллиантовой булавкой для Эндрю. Они вновь прошли цикл: из героя в злодеи и вновь из злодея в герои. Лишь судья Доминик Хэлл не входил в число обожателей. Взамен он издал приказ об аресте Эндрю по обвинению в неуважении к суду. — Эндрю, ты не должен подчиниться этому вызову, не так ли? — Ну, миссис Джэксон, жена бывшего судьи не должна так говорить. Я заточил Хэлла в тюрьму, чтобы защитить наши военные позиции, он же имеет право бросить меня в тюрьму, чтобы защитить позиции суда. Она поехала в суд с Эндрю и Эдвардом Ливингстоном. Зал был так набит, что служащие суда должны были проложить для них проход к скамьям защиты. Судья Хэлл отказался выслушать защитительную речь Ливингстона и оштрафовал Эндрю на тысячу долларов за неуважение к суду. На какой-то момент Рейчэл испугалась, что Эндрю учинит скандал по поводу решения о штрафе, но он благочинно принял решение. Когда наконец они пробились через приветствовавшую их толпу к карете и сели в нее, жители Нового Орлеана выпрягли лошадей и сами протащили карету по улицам на площадь перед биржей. Слушая прощальное выступление Эндрю перед тысячью поклонников, заполнивших площадь, Рейчэл подумала:«Мой брат Северн был прав: те же самые качества, которые вызвали его неудачи, привели его к успеху».Рейчэл и Эндрю выехали из Нового Орлеана в конце первой недели апреля 1815 года. Вдоль городских улиц и сельских дорог выстроились на целые мили жители Луизианы, выражавшие им свою благодарность и признательность. До Натчеза они плыли по реке, дальше пришлось передвигаться в карете и верхом по Тропе, повторив путь, проделанный ими домой после медового месяца в Байю-Пьер, — тот самый судьбоносный путь, на котором Эндрю поссорился с Хью Макгари по поводу ожидаемого нападения индейцев, и эта ссора так обозлила Макгари, что спустя два года он предстал перед Харродсбургским судом и дал показания, что видел Рейчэл Робардс и Эндрю Джэксона спящими под одним одеялом. Тропа Натчез все еще находилась в плохом состоянии, и порой Рейчэл опасалась, что ее позвоночник вот-вот войдет в череп. Когда ей становилась невмоготу каретная тряска, она присоединялась к мужу и сыну, ехавшим верхом. Поездка длилась на несколько недель больше, чем их первая, поскольку в каждом поселке на пути их встречали возбужденные толпы. Наилучший для Рейчэл прием устроила семья Грин в зале с хрустальной люстрой, под которой некогда состоялась церемония ее бракосочетания с Эндрю. Рейчэл удивило безумство толпы, встречавшей их на границе Теннесси. Ей было не ясно, почему съехались со всех сторон семьи, чтобы прокричать здравицу Джэксонам, почему такое огромное скопление людей сопровождало их в Нашвилл, словно это была триумфальная процессия, почему на площади перед зданием суда сгрудилось так много людей, что казалось, будто каждая живая душа в Теннесси сочла необходимым засвидетельствовать им свое почтение. И лишь когда они удалились в Эрмитаж, где у въезда в поместье их приветствовали соседи и Рейчэл прочитала первые газеты с Востока, какие попались ей в руки со времени отъезда из Нового Орлеана, и познакомилась с текстом Гентского договора, она начала понимать, что означал ее муж для народа страны. Даже ее неопытный ум смог осознать, что договор был унизительным документом, подписанным американскими дипломатами после трех лет непрерывных поражений. Англичане не соглашались даже отказаться от практики захвата американских судов и американских моряков! Эндрю одержал свой триумф у Нового Орлеана уже после подписания мира в Генте, и с юридической точки зрения ничего не менялось, однако он все же свершил великое дело — превратил три года поражений в победу, восстановил уверенность американцев в себе и, как добавляли редакторы восточных газет, преподнес англичанам незабываемый урок. Сидя в постели, удобно обложившись подушками, и поглощая с аппетитом завтрак, принесенный Митти, Рейчэл отложила в сторону газеты и невидящими глазами уставилась в окно, выходившее на поля Эрмитажа. Если то, что пишут эти редакторы, соответствует истине, не станет ли неизбежным давление на Эндрю, чтобы он выставил свою кандидатуру на пост президента в следующем году? Она вспомнила, как буквально за несколько часов до их отъезда из Нового Орлеана Эдвард Ливингстон сказал: — Знаете, генерал, дорога на север от Нового Орлеана может привести прямо в Вашингтон-Сити. Она промолчала и, как надеялась, не выдала своих чувств. Эндрю добродушно рассмеялся, поблагодарил Ливингстона за комплимент, а затем тоном, не допускавшим возражений, сказал, что такая мысль абсурдна. Но была ли она абсурдна? Посещавшие Эрмитаж так не думали. В воздухе витали разговоры о президенте. Партия федералистов, поддержавшая конвент в Хартфорде и предложения о капитуляции в войне, исчезла с политической сцены. Становилось очевидным, что будет избран тот, кого выдвинут республиканцы. Фаворитом считался Джеймс Монро. Однако многие полагали, что двадцатичетырехлетняя Виргинская династия, основателем которой был Джордж Вашингтон, а продолжателями — Томас Джефферсон и Джеймс Медисон, подошла к собственному логическому концу. Нужен был человек иного склада, человек из иных сред, с сильной волей и новыми идеями. Кто лучше всех отвечал таким требованиям, как не герой Нового Орлеана? Эндрю знал о таких разговорах, но не показывал вида. Лишь раз в беседе с Рейчэл он упомянул об уже начавшейся кампании по выдвижению его кандидатуры. — Не беспокойся, дорогая, потребуется предписание Хабеас корпус акт,[17] чтобы вернуть меня в политику. За двадцать четыре часа до ее отъезда для встречи с мужем в Новом Орлеане Эрмитаж был выставлен на продажу. Ныне же земли Эрмитажа, остававшиеся весь прошлый год заброшенными, усиленно обрабатывались, они были вновь расчищены и засеяны хлопком новым надсмотрщиком, нанятым Робертом Хейсом. Насколько хватал глаз, простирались ровные ряды молодого, еще зеленого хлопчатника под ласковым майским солнцем. В месяцы, предшествовавшие победе Эндрю у Нового Орлеана, его соседи приходили в Эрмитаж, желая сделать что-нибудь для генерала и тем самым выразить свое уважение. Неутомимый Роберт Хейс не пренебрегал такими предложениями, и благодаря помощи соседей сараи были починены, хижины обмазаны глиной, яблони и персиковые деревья подрезаны, разбиты новые сады из саженцев, предоставленных Джоном Овертоном. Миловидная Джейн Коффи, одна из дочерей Мэри, переехала в Эрмитаж, чтобы следить за домом. К приезду Рейчэл и Эндрю в доме все сверкало. Рейчэл чувствовала себя слегка пристыженной, когда бродила по полям, посещала своих рабочих и соседей, наслаждалась особой красотой долины Кумберленда и вспоминала, что когда-то хотела продать этот дом. Как странны повороты судьбы, способной буквально за несколько часов уничтожить или спасти человеческую жизнь! После дуэли с Чарлзом Дикинсоном Эндрю потерял почти всех своих друзей в Кумберленде. Он стал подавленным, задиристым, много пил и устраивал публичные сцены. Его не радовали ни эта прекрасная плантация, ни его чистокровные лошади, и Рейчэл задумывалась: не кончилась ли жизнь для нее, не соскользнут ли они по грязному склону в небытие? И она, видя его беспокойство, разочарование, неспособность обрести место в мире, также хотела уехать из Эрмитажа, поискать более плодородную землю, на которой мог бы вновь расцвести Эндрю. Какой ошибкой стало бы это для Эндрю, который в этот самый час присутствует на обеде в его честь в таверне «Белл» в Нашвилле, где собрались самые важные представители штата, чтобы вручить ему церемониальную саблю, присланную в дар из Миссисипи, и где даже мистер Фарисс и мистер Дэзон будут вынуждены пожать ему руку! Какой ошибкой было бы это для нее, не желавшей ничего более, как быть первой леди в глазах мужа и жить мирно и счастливо на своей плантации в окружении друзей, родственников и соседей! Эрмитаж вновь стал перекрестком Запада; сюда приезжали буквально сотни людей: не только бесчисленные родственники и жители долины Кумберленда, желавшие лично поздравить генерала, но и политические фигуры с Востока, оказывавшиеся по делам на расстоянии нескольких дней езды, армейские офицеры, чиновники и бизнесмены Юга, проезжавшие по Тропе в направлении столицы или Нью-Йорка. Они приходили не с пустыми руками, ежедневно поступало много различных подарков: для Рейчэл — швейная шкатулка, украшенная перламутром, флакон духов с запахом китайских мандаринов, расшитый бисером кошелек, редкие кружева, гитара, шкатулка для драгоценностей, изготовленная из морских раковин, прекрасный английский фарфор и изделия из стекла; для Эндрю — трости, сабли, книги, редкие вина и фрукты. Для самой себя Рейчэл взяла за образец поведения нормы, установленные ею еще в Хантерз-Хилл: она приветствовала всех, кто хотел ее видеть, все приходившие были ее друзьями. Она любезно принимала их, свободно вела беседу. Но сама редко покидала территорию Эрмитажа. Она ездила в Нашвилл только тогда, когда возникала необходимость, и ограничивала свои визиты многочисленным кругом Донельсонов и их потомков, а также давнишними соседями, с которыми она сблизилась. Молл и Джордж слишком постарели, чтобы справляться с работой по дому, поэтому крупная Ханна взяла на себя приготовление пищи, в чем ей помогали Митти и Орейндж. Молодая Джейн оказалась способной экономкой и была так очарована потоком знаменитостей, посещавших Эрмитаж, что попросила: — Тетушка Рейчэл, не могла бы я остаться с вами навсегда? Я освободила бы вас от работы, и вы могли бы уделять все ваше внимание дядюшке Эндрю. Здоровье Эндрю пошатнулось. Шесть месяцев он мучился от дизентерии, от которой страдала вся армия, и целыми неделями питался лишь рисом. Они оба предполагали, что для поправки ему нужна размеренная жизнь и добротная пища, но теперь, осев прочно дома, он оказался еще более подверженным болезням. Не помогала даже специальная пища, которую готовила ему Молл, утверждавшая, что только она в состоянии сделать для него действительно нужное. Многие месяцы он поддерживал себя усилием воли, теперь, когда стимул военной необходимости исчез, он неожиданно расслабился и слег в постель. Потоку посетителей был поставлен заслон. Рейчэл сидела около его кровати и кормила его куриным бульоном, сопровождая каждую ложку мольбой к Всевышнему помочь ей. — За прошедшие шесть месяцев ты израсходовал, Эндрю, энергию, отведенную на шесть лет. Тебе нужно хорошо отдохнуть. Мы начнем сначала и будем поднимать тебя на ноги, как ребенка. — Звучит приятно, — тихо сказал он с подушки. — Нам не о чем беспокоиться, — заверила она его. — Цены на хлопок растут, а урожай обещает быть хорошим. — Я хотел бы поехать в Вашингтон, сделать доклад… объясниться по делу судьи Хэлла, принять участие в реорганизации армии… но все это может подождать. — Разумеется, может. Когда станет теплее, ты должен взять сына на рыбную ловлю. И Энди огорчен: я настояла, чтобы он оставался в школе, а не ездил со мной в Новый Орлеан. Поэтому тебе следует провести время и с ним в конных прогулках и на охоте. Майор Рейд приедет сюда. Он хочет начать писать книгу об истории твоих войн. А я должна вновь сделать тебя красивым, крепким, ведь предстоит написать твой портрет для той медали, которой конгресс наградит тебя. Он вытянул из-под рубашки миниатюру на слоновой кости, все еще висевшую на серебряной цепочке на его шее: — Быть может, послать эту вместо моего портрета?
/3/
После беспечного лета к октябрю Эндрю потерял покой. Он решил, что должен поехать в Вашингтон-Сити добиться назначения офицеров для глухих районов, объяснить, почему не следует обращать внимание на возражения племени крик против договора о земле, получить разрешение на вытеснение всех индейских племен на правый берег Миссисипи, дабы предотвратить их вооружение и использование враждебной европейской нацией, и на изгнание испанцев из Флориды, находившихся в положении, когда они могли открыть вражеским войскам доступ в Соединенные Штаты. Рейчэл знала, что небольшая группа, желавшая выдвинуть Эндрю в президенты, — Джон Овертон, Джон Рейд, Джон Итон, богатый адвокат и плантатор во Франклине, Уильям Льюис и Уильям Кэррол — хотела, чтобы Эндрю появился на публике, повышая тем самым шансы на выдвижение. Она спрашивала себя: хочет ли он стать президентом? По этой ли причине он намерен предпринять поездку? Поддался ли он той самой страсти, которая в прежние годы побуждала его стать конгрессменом и сенатором? И если Эндрю попросит сопровождать его, следует ли ей ехать? Причины, побудившие ее в прошлом отказаться от поездок, страх перед незнакомыми, смотревшими на нее как на «ту самую миссис Джэксон», отпали после успехов Эндрю и ее собственного пребывания в Новом Орлеане. Ее проблема заключалась не в том, желает ли она поехать в Вашингтон-Сити, где ее ожидают обеды, балы и приемы, а в том, что своим присутствием она выдает желание помочь мужу получить назначение на пост главного исполнительного лица. Однако если муж предложит ей сопровождать его, она поедет; разлук было более чем достаточно… Постоялые дворы, в которых они останавливались на ночь, были удобными. Но она радовалась, когда они добрались до Линчбурга, где должны были отдохнуть несколько дней в доме родителей майора Рейда. Родители Рейда, воспитанные люди, были рады и считали за честь принять чету Джэксон. Когда Рейчэл и Эндрю готовились спуститься к ужину, наверх вбежал молодой Рейд: — Генерал, внизу находится делегация от Линчбурга. Завтра город дает официальный банкет в вашу честь. Из Монтичелло приезжает Томас Джефферсон, чтобы председательствовать на банкете! Рейчэл увидела, что лицо Эндрю вспыхнуло от радости. Она протянула ему свою руку. Он крепко схватил ее. Со сверкающими глазами он пробормотал: — У мистера Джефферсона есть основания ненавидеть меня. Я был осой, жалившей его все эти годы, и тем не менее он такой утонченный джентльмен, что готов проехать почти сто миль, чтобы присутствовать на обеде в мою честь. «Да, — подумала Рейчэл, — вы можете теперь простить друг другу, ведь война с Британией кончилась, и она выиграна». Картина, представшая ее глазам, когда она входила в бальный зал гостиницы в три часа дня и ее рука легко лежала на руке мистера Джефферсона, была куда более впечатляющей, чем бал в здании биржи в Новом Орлеане. Триста гостей стояли навытяжку, когда Рейчэл и Эндрю и между ними Джефферсон прошествовали по центральному проходу зала. Она плохо понимала, какие блюда и как менялись, однако под покровом спокойной беседы она чувствовала скрытую напряженность, словно все ждали чего-то крайне важного, но никто не знал, в чем оно заключается. Наконец, когда столы были убраны, встал председатель, сделал жест, просящий внимания, и повернулся к Томасу Джефферсону. Джефферсон медленно поднялся со своего стула с бокалом в руке. Седые волосы прикрывали его уши, глаза, выдававшие проницательность, блестели, и в свои семьдесят два года он все еще выглядел по-своему красивым патрицием. Протянув бокал к Эндрю, он произнес своим низким, приковывающим внимание голосом: — Честь и хвала тем, кто возвысил достоинство страны. Триста человек встали со стульев, протянули бокалы в сторону Эндрю и выпили в его честь. Голова Рейчэл начала кружиться: она понимала значение жеста мистера Джефферсона. В ближайшие дни его заявление появится во всех газетах Америки и станет главной темой разговоров в Вашингтон-Сити. Что это означает? Лишь то, что мистер Джефферсон отлил в слова признательность нации за непоколебимую волю Эндрю к победе? Или же, как можно было прочитать на лицах многих стоявших, то, что Томас Джефферсон публично одобрил выдвижение Эндрю Джэксона как кандидата на пост президента Соединенных Штатов? Но разве может это быть? Джеймс Монро[18] — один из самых старых и дорогих друзей мистера Джефферсона, он служил мистеру Джефферсону и мистеру Медисону на самых важных правительственных постах. Невозможно представить себе, чтобы мистер Джефферсон отбросил своего старого товарища, которого готовил на пост президента, ради человека, который долгие годы был его противником. Ее мысли заняли несколько мимолетных секунд. В зале наступила тишина, насыщенная ожиданием глубочайшей драмы. Все глаза обратились к Эндрю: как он ответит на этот тост? Использует ли он этот банкетный зал как политическую платформу, оповестив всех о своем намерении бороться за пост президента? Или же упустит момент, ответит обычной вежливостью, скрыв свои чувства и желания? Эндрю поднялся по левую руку от мистера Джефферсона. Его глаза не говорили ни о чем. После нестерпимо долгой, как ей казалось, паузы, в течение которой в зале сгущалась тишина, Эндрю поднял бокал и, улыбаясь мистеру Джефферсону, сказал: — За Джеймса Монро, военного министра. В зале началось столпотворение, гости размахивали руками, шумели и кричали друг другу через стол: ведь этими пятью короткими словами Эндрю Джэксон отвел свою кандидатуру на президентских выборах 1816 года, официально выдвинув Джеймса Монро из Виргинии. Все, что произойдет между настоящим моментом и выборами, приведет к умиротворению, ибо в Америке не будет никого, кто стал бы оспаривать кандидатуру мистера Монро. Эта сцена навсегда запечатлелась в памяти Рейчэл: Эндрю, стоящий над шумной толпой с улыбкой, отчетливо видимой в левом уголке его рта, полугрустной и в то же время счастливой оттого, что он наконец-то принял решение и все сомнения и вопросы остались позади, хотя не без некоторого сожаления, ведь он добровольно отказался от шанса стать первым в своей стране. Рейчэл уловила странное выражение и на лице мистера Джефферсона. «Не выдал ли он, — спрашивала она себя, — не очень-то прикрытое чувство облегчения? Не повел ли мистер Джефферсон далеко идущую игру? Не сделал ли он, поняв характер Эндрю, красивый жест, проехал сотню миль, чтобы взять на себя роль председателя банкета и вознести хвалу генералу Джэксону в надежде, что тот в ответ сделает красивый жест в пользу Джеймса Монро?» Но что бы ни думал мистер Джефферсон, в ее уме не было сомнения относительно его безмерного удовлетворения: он не хотел, чтобы мистер Джэксон стал президентом, он страстно желал, чтобы этот пост занял его друг, сосед и протеже.Вашингтон-Сити столько раз становился источником неприятностей для Эндрю, что город в ее представлении выглядел исчадием ада. Поэтому она подъезжала к городу с трудом подавлявшимися волнением и тревогой. Город крайне разочаровал Рейчэл: разбитые грязные улицы, уродливые кирпичные дома без зелени около них, стоящие вразброс на полях и болотах. Впечатление неухоженности, почти заброшенности усугублялось разрушениями, причиненными британцами, которые сожгли Капитолий, дом президента, казначейство, государственный и военный департаменты, и они были восстановлены лишь частично. В первое утро их пребывания в Вашингтон-Сити Эндрю поднялся с первыми лучами солнца. Рейчэл, проснувшись, увидела, что он ходит по комнате гостиницы в нервном, возбужденном состоянии. — Эндрю, какие неприятности? — Именно то, что я намечал для сегодняшнего поединка с военным департаментом. Департамент и президент получили из Нового Орлеана письма, опротестовывающие арест мною судьи Хэлла и Лаллье за их провокационные публикации в «Курьере». — Но ведь здесь знали, что ты ведешь войну! — Как всегда, люди вдали от поля боя хотят, чтобы вы сражались по правилам джентльменов. В это утро майор Рейд взял ее и Эндрю-младшего в поездку по городу, но Рейчэл настояла вернуться пораньше, до возвращения Эндрю из военного департамента. Эндрю вернулся воодушевленный, восклицая: — Я тревожился из-за пустяков! Едва я начал объяснять, почему ввел военное положение, как секретарь Дэллас сказал, что объяснений не нужно, что в Новом Орлеане я действовал правильно, что президент, а также главы департаментов довольны моими действиями. Я пытался убедить президента одобрить содержание постоянной пятнадцатитысячной армии, но самое большее, чего я добился, — это армии в десять тысяч. Почувствовав облегчение, Рейчэл сказала: — Я рада, что ты вернулся в таком хорошем настроении: мы приглашены на обед к Монро в три часа, и, откровенно, я немного нервничаю. — Нервничаешь из-за Монро? Он самый лояльный и дружественно настроенный человек из всех, кого я когда-либо знал. — Меня беспокоит не мистер Монро, а его жена. Я слышала, что ее считают аристократкой, говорят, что она происходит из высших кругов нью-йоркского общества и весьма высокомерна в своем поведении. — Ты будешь принята так, как ни одна женщина не была когда-либо принята другой. — Почему? — Потому, что мы помогаем осуществить честолюбивый замысел всей ее жизни — стать первой леди. Уродство города сглаживалось для Рейчэл радушием его жителей. Казалось, каждая семья хотела видеть их у себя. В отеле «Маккеовин» был дан в их честь блестящий бал, на котором присутствовали все важные правительственные чины. Президент Медисон устроил для них официальный прием в «Октагон Хауз», сопровождавшийся роскошным обедом, на котором присутствовали все члены дипломатического корпуса, включая сотрудников британского посольства. К глубокому изумлению Рейчэл, Эндрю и британский посол долго и сердечно беседовали. На следующее утро известная вашингтонская художница Анна Пил обратилась к Рейчэл с просьбой разрешить написать ее портрет. Эндрю был польщен предложением и советовал Рейчэл согласиться. Рейчэл позировала в темно-синем бархатном платье с мягким кружевным воротником и кружевной накидкой. В субботу вечером, когда они возвращались домой, Эндрю сказал: — На завтра я намечал поездку в Маунт-Вернон.[19] Я никогда там не был и думаю, что это будет прекрасной загородной поездкой. Она вопросительно подняла брови, но он постарался опередить ее вопрос: — Ты помнишь мой отказ присоединиться к панегирику после прощального послания мистера Вашингтона? Даже великие президенты нуждаются в критике. Рейчэл взглянула на него смеясь: — Это тот самый принцип, в который ты внес значительный вклад. — Да, — робко сказал он, — для некоторых из них я сделал жизнь весьма тяжелой, не так ли? В середине декабря погода стояла теплая, визит в Вашингтон-Сити оказался более чем успешным, и они чувствовали себя воодушевленными и помолодевшими, когда вышли из кареты у вершины, с которой открывался вид на реку Потомак и превосходную панораму Виргинии. Семья Кюстис приняла их с редким гостеприимством, показала свой простой и вместе с тем прекрасный дом. Рейчэл и Эндрю гуляли по утопавшему в цветах саду, разбитому с удивительной точностью и ухоженному, потом спустились по склону холма к небольшому склепу под развесистым кедром, где похоронен президент Вашингтон. Позже, выпив прохладительные напитки, предложенные семьей приемного сына Вашингтона, Эндрю и Рейчэл сидели на передней веранде, глядя на Потомак, по которому скользили лодки. — После Байю-Пьер, — прошептал Эндрю, — это вторая по красоте панорама в мире. — Да, вместе с видом нашего поместья с вершины холма в Эрмитаже. Эндрю повернулся в ее сторону, стараясь понять, что она имела в виду. — Дорогая, мы могли бы построить в Теннесси нечто равное Маунт-Вернон — удобный дом и сад вроде этого с видом на поля и леса, с реками Кумберленд и Стоун на заднем плане. — Эндрю, у меня нет такого и в мыслях, и ты это знаешь! Я счастлива в нашей хижине. Мне никогда не хотелось уезжать оттуда. — Ты заговоришь по-иному, когда в январе мы вернемся и северный ветер станет дуть в щели между бревнами. — Я терпела этот ветер одиннадцать лет, я слышала также, как ты просил Роберта Батлера обмазать хижину. Эндрю промолчал. По его внутреннему возбуждению она поняла, что не разубедила его.
/4/
Эндрю и Рейчэл продали хлопок по самой высокой цене, какую они когда-либо получали, — по тридцать пять центов за фунт. Впервые за многие годы у них не было долгов, а на их счету в банке Нашвилла лежало двадцать две тысячи долларов. Внезапная смерть молодого Рейда, с которым они виделись всего две недели назад, явилась тяжелым ударом. Эндрю передал Джону Итону материалы, которые собирал Рейд для написания его биографии, с условием, что все доходы от книги будут переданы вдове и детям Рейда. Они провели дома всего три недели, и Эндрю объявил, что должен поехать на индейскую территорию. Племя крик жаловалось на тяжелые условия договора, навязанного им Эндрю, и не только отказывалось уйти с некоторых участков земли, уступленных Соединенным Штатам, но и подстрекало к таким же действиям своих соседей — племена чироки и чикасо, угрожая возобновить военные действия. Рейчэл полагала, что дело вовсе не срочное. — Быть может, я рассуждаю по-женски, — настаивала Рейчэл, — но есть ли действительная необходимость в поездке? Джакс проводит там обследование, и он, несомненно, поставил бы тебя в известность о назревающих осложнениях. — Пока я состою на содержании правительства, — твердил Эндрю, — я намерен продолжать работать так, как привык. Я не могу допустить, чтобы меня заклеймили непригодным к службе, в то время как я живу за счет налогоплательщиков. Эндрю едва успел отправиться к западным границам Теннесси, как вспыхнула опасная эпидемия, которую врачи назвали «холодной чумой», уносившая целые семьи. Вновь Рейчэл стала заметной фигурой в округе: по ночам она в темном плаще с капюшоном разъезжала с провизией, лекарствами и словами ободрения. Несмотря на предупреждение врачей о заразности болезни, ей приходилось изо дня в день закрывать глаза друзьям и соседям, умиравшим в тот момент, когда она находилась у их изголовья. К весне, когда эпидемия прекратилась, почти треть населения Кумберленда вымерла. Рейчэл слегла в постель, ее собственные силы были истощены. Как ни тосковала она по Эндрю, Рейчэл была рада, что у нее есть несколько недель для поправки. Эндрю отсутствовал целых пять месяцев и вернулся, когда племянник Энди заканчивал Кумберлендскую академию. Во время демонстрации физических упражнений директор сказал родителям, что школа крайне нуждается в новом общежитии для школьников. Рейчэл потянула Эндрю за рукав: — Помнишь, в Поплар-Гроув, когда тебя выбрали в совет попечителей, ты сказал, что намерен помочь сделать эту школу великой? Сделал ли ты что-нибудь для школы? — Дал несколько бесплатных юридических советов. — Не кажется ли тебе, что наступило время выполнить обещание? — Ты имеешь в виду… целое здание? — Директор школы сказал, что новое здание будет стоить тысячу долларов. Наш Эндрю-младший должен поступить в школу осенью… Эндрю встал и, когда ему предоставили слово, сказал: — Господин директор, хочу объявить: у вас будет новое общежитие. На следующий день во время приема в честь сокашников Энди на сцене появился бродячий портретист — приметный молодой человек со слащавой улыбкой и ласковыми манерами. Он представился Ральфом Эрлом, сыном коннектикутского художника, и спросил, не мог бы он получить удовольствие написать портрет генерала Джэксона. Рейчэл заметила, что ее племянница Джейн влюбилась в парня с первого взгляда, а поскольку Эндрю он также понравился своим внутренним спокойствием и уверенностью, отвела ему гостевую хижину. Он немедленно приступил к написанию портрета Эндрю в парадной форме. Однако позирование Эрлу было вскоре прервано: генерал Джэксон получил официальное уведомление от нового военного министра Уильяма Крауфорда, что его договор с племенем крик аннулирован и обширные участки земли возвращены племени чироки. Эндрю был разъярен, он утверждал, что это известие хуже, чем сообщение о сожжении Вашингтон-Сити. У него начался приступ диареи. Когда Эндрю вновь обрел способность сидеть, Рейчэл принесла ему бумагу и чернила, и он написал министру Кpaуфорду разгромное письмо. Рейчэл опасалась, что большое напряжение и озлобление могут вызвать новый приступ, однако к следующему утру он снова был на ногах, мрачный и согбенный из-за болей в желудке, но готовый возглавить массовый митинг протеста, призыв к которому раздавался по всему Теннесси. Президент Медисон назначил его уполномоченным, поручив ему выехать на индейскую территорию и выкупить у племени чироки земли, которые он в свое время отобрал у них, а министр Крауфорд возвратил. Вновь они оказались в разлуке. Вновь она была одинока. Но свойственное ей ощущение пустоты в жизни, когда ее муж в отъезде, сменилось полной растерянностью, когда он возвратился в Эрмитаж через несколько месяцев и ввязался в ссоры и конфликты, портившие нервы. Рейчэл не пыталась разобраться в частностях взаимосвязанных проявлений вражды; письменные и устные обвинения шли таким потоком, что в любом случае невозможно было бы разложить их по полочкам. Эндрю яростно спорил с военным министром Крауфордом, который отказывался выставить на открытую продажу недавно приобретенные у племени чироки земли, с тем чтобы они были приобретены американскими переселенцами. Ссорился он с газетами Кентукки, защищавшими кентуккские войска, дрогнувшие под огнем англичан у Нового Орлеана и разоблаченные им в докладе военному департаменту, и, наконец, с самим военным департаментом, который отозвал с топографической службы одного из офицеров Эндрю и направил в Нью-Йорк, не информируя об этом генерала Джэксона. Разъяренный Эндрю издал приказ своему подразделению не считаться с указаниями военного департамента, если они им, Джэксоном, не просмотрены. Во время этой бури Джон Овертон привез ей известие, что при вновь избранном президенте Монро Уильям Крауфорд должен занять пост министра финансов и для Эндрю открылся пост военного министра. Это означало бы отъезд из Эрмитажа и переезд в Вашингтон-Сити, возможно на несколько лет, и возвращение в политику в качестве члена кабинета. Но в таком случае не будут ли похоронены в политической мешанине все достижения Эндрю, включая победу в войне? Как военный министр он сможет издать приказы, которые позволят осуществить его мечту — заселить территорию между Теннесси и Мексиканским заливом американскими семьями. Однажды они устроились после обеда около камина, потягивая свои трубки. Рейчэл осторожно изложила ему свои соображения. Эндрю удивленно посмотрел на нее: — Ты, видимо, серьезно обеспокоена моими трудностями, дорогая, если способна давать такие рекомендации. Я не хочу сидеть за письменным столом, я хочу отправиться на Юг и выдворить испанских донов из Флориды в Испанию. И именно это он сделал, оставив ее одну в четвертый раз в течение всего двух лет. Эрмитаж находился в руках способного надзирателя, и ей не нужно было ходить по полям под жгучим солнцем, заниматься изнурительным трудом. Но казалось, каждый день приносил свои невзгоды: Северн, которого мучил сухой кашель, слег и умер. Джон Овертон настолько ослабел, что ушел в отставку с поста судьи и удалился в Травелерс-Рест. Ее племянник Джон Хатчингс, бывший много лет деловым партнером Эндрю, умер в своем доме в Хантсвилле. Рейчэл забрала к себе его четырехлетнего сына, теперь сироту, Эндрю Джэксона Хатчингса. Произошло всего два приятных события: ее племянница Джейн и портретист Ральф Эрл влюбились друг в друга и попросили разрешения вступить в брак. Рейчэл устроила для них большой свадебный прием в Эрмитаже, и они переехали в дом, ставший со временем студией Эрла. Весной 1817 года была опубликована биография Эндрю, вызвавшая большой энтузиазм. После полугодового отсутствия Эндрю возвратился с войны против племени семинол во Флориде, хотя Рейчэл не могла сказать точно, как долго длилась эта война. Освободившись от сельскохозяйственных работ, она перестала читать календари. Руки Эндрю дрожали, словно его поразил паралич, и его мучил кашель, похожий на тот, от которого умер Северн. Его беспокоила необъяснимая боль в боку, мешавшая спать, а его левое плечо, пять лет назад перебитое пулей Бентона, онемело, и он не мог пользоваться этой рукой. Рейчэл вызвала из Нашвилла доктора Броунау. Больной Джон Овертон поднялся с постели, чтобы в верхней комнате провести час взаперти с Эндрю. Он спустился вниз, озабоченно качая головой: — Ты действительно вышла замуж за мужчину. Он не думает, что переживет эту болезнь, и в то же время пишет президенту Монро, что для нас важно немедленно занять Сент-Августин и Кубу и ему нужен лишь приказ президента, чтобы возглавить экспедицию на Юг. — Но разумеется, такого приказа ему никто не даст! Джон вглядывался в ее лицо, его очки в серебряной оправе сползли вниз, а глаза были откровенно удивленными. — В таком случае ты не знаешь, что происходит? — в упор спросил он. Не прошло и недели, и она узнала, что захват ее мужем Флориды вызвал международный скандал. Испания потребовала немедленного возвращения Пенсаколы, возмещения ущерба и сурового наказания генерала Джэксона. Англия грозила войной из-за военно-полевого суда и казни лейтенанта Эмбристера из отряда королевских колониальных морских пехотинцев, который во время войны встал во главе индейцев племени семинол, и Александра Арбатнота, шотландца, обвиненного в шпионаже и в оказании помощи врагу. Медленно продвигавшиеся переговоры о покупке Флориды были сорваны. Печать Америки, Англии и других стран Европы требовала скальпа генерала Джэксона. Рейчэл не могла не допустить газеты в Эрмитаж, не могла она и закрыть вход лояльным офицерам, выступавшим против попыток в конгрессе организовать импичмент Эндрю и снять его с поста командующего. Лишь два человека в стране защищали курс, проводившийся мужем Рейчэл: государственный секретарь Джон Куинси Адамс и некто, публиковавший в теннессийских газетах под псевдонимом Аристид блестящую серию статей в пользу Джэксона. Благодаря случайности она узнала, что Аристидом был Джон Овертон. Рейчэл настаивала, чтобы каждый день по нескольку часов Эндрю сидел в кресле на свежем воздухе, но очередной кризис снова загнал его в постель. Он пролежал целых два месяца, его настроению и здоровью не содействовало возвращение Испании президентом Монро с извинениями Пенсаколы и Сент-Марка. Ведь оно перечеркивало вторичное завоевание Флориды Эндрю. Однако именно в этот период Эндрю сказал Рейчэл, что готов начать строительство прекрасного дома, обещанного им ей в Маунт-Вернон. Видимо, он обдумывал в деталях во время своего шестимесячного отсутствия, каким должен быть дом. Однажды в знойный августовский день они шли по полю; Эндрю двигался медленно и неуверенно, опираясь на палку. Он остановился на вершине небольшого холма, возвышавшегося над их хижиной, родником и лесом. — Это всегда было твоим любимым местом. Подняв свою палку и указывая ею, Эндрю сказал: — Здесь повыше, обзор лучше. Не хочешь ли построить дом на этом месте? Она внутренне улыбнулась, поняв, что, ставя так вопрос, он выводит его за рамки спора. Хижина Эрмитажа, ее полностью удовлетворявшая, стала слишком скромной для его самолюбия. На ее стороне не было логических доводов, одни сантименты: денег в банке было достаточно, а их небольшая хижина не вмещала всех гостей, которых им следовало принимать. Поскольку Эндрю хотел иметь большой дом, ей надлежало поддержать с радостью его планы. Но лично она предпочла бы для дома холмик пониже. — У нас такая приятная память связана с этим местом, — просила Рейчэл. — Тот, другой холм слишком… возвышается… для меня. Ты знаешь… у меня кружится голова. Он мягко улыбнулся, а затем палкой принялся чертить план задуманного дома: это должен быть двухэтажный кирпичный дом с большой прихожей и двумя просторными комнатами по обе стороны, а наверху четыре комнаты над теми двумя, что внизу. Он был архитектором дома, он будет и его строителем. Урожай снова был превосходным, но, когда они обнаружили залежи известняка на собственной земле, Рейчэл согласилась высвободить наиболее опытных рабочих и начать кладку фундамента. Рейчэл и Эндрю проводили дни, прогуливаясь по своим земельным участкам, пока не нашли пласт хорошей глины. Верхний покров был снят, пласт обнажен, и на него был насыпан известняк, после чего они разрешили сыну ездить на муле по участку, чтобы известь была втоптана в глину, что придаст ей надлежащую твердость. Они построили собственную печь для обжига кирпича, экспериментировали с огнем, желая получить нужный им кирпич, объехали лес, помечая лучшие деревья для балок и других несущих конструкций. А потом Эндрю получил приказ из Вашингтон-Сити выехать на индейскую территорию и договориться о соглашении с племенем чикасо. На плечи Рейчэл легла задача возведения дома. Поскольку теперь за дом отвечала она и ей приходилось принимать решения, где разместить камин, а где винный погреб, Рейчэл обнаружила, что у нее появляется интерес и теплое чувство к дому. В конце концов здание не будет чрезмерно большим — всего лишь кирпичный квадратный дом, окруженный оградой. Сохранится и уединение, ибо дом отстоит от дороги на сотню ярдов и его прикрывает плотная завеса деревьев. Когда в середине ноября возвратился Эндрю, задержавшийся из-за поездки в Алабаму, где он приобрел хлопковую плантацию по соседству с той, на которой теперь жил Джон Коффи, то одобрил план дома. Спустя шесть недель Эндрю выехал в Вашингтон-Сити, чтобы быть на месте, когда его противники в конгрессе начнут против него процесс импичмента. Он поехал верхом в проливной дождь, отвергнув ее предложение взять карету. Через неделю Рейчэл получила письмо из Ноксвилла, подтверждавшее, что она была права: он не мог долго сидеть в седле и был вынужден арендовать для путешествия экипаж. Дни Рейчэл были заполнены достройкой большого дома. Она поставила отдельную кухню напротив входа в столовую, вырыла глубокий колодец, из которого с помощью ведра и лебедки черпалась холодная вода, разбила первый сад за невысокой белой оградой. И, как всегда в отсутствие Эндрю, ей пришлось пережить глубокие трагедии: молодая Джейн Эрл умерла при родах ровно через десять месяцев после свадьбы и была похоронена на семейном участке рядом с миссис Донельсон, Сэмюэлем, Стокли и Северном. Через несколько дней заболел Роберт Хейс и скоропостижно скончался. Рейчэл потеряла самого дорогого и верного друга. Ее сестра Джейн уехала к одному из своих сыновей в Западное Теннесси, Энди учился в Вест-Пойнте, Эндрю-младший — в школе в Нашвилле, а Эрл, удрученный потерей жены, уехал. Однако Рейчэл не могла сказать, что была одинока, ибо все время приходили известия об Эндрю: комитет по военным делам осуждал его за казнь Эмбристера и Арбатнота; спикер палаты представителей Генри Клей из Кентукки критиковал за нападки на договор с племенем крик и захват Пенсаколы, утверждая, будто Эндрю Джэксон — военный диктатор, который однажды уничтожит свободы американского народа. Рейчэл оседлала любимого коня Эндрю — Дьюка, превосходного жеребца, который возил своего хозяина в сражении при Новом Орлеане и во флоридских войнах, постаревшего, но оставшегося любимцем семьи. Она поехала в Травелерс-Рест, где нашла Овертона, устанавливающего теплицу среди молодых деревьев. — Мне непонятна ярость этих нападок, Джон. — Мистер Клей хочет стать следующим президентом, — ответил Джон. — Он убил бы собственную бабушку, если бы счел, что она стоит на его пути. Это же справедливо в отношении мистера Крауфорда. Каждый из этих джентльменов думает, что Эндрю Джэксон ему мешает. — Но Эндрю сказал, что он не гонится за постом президента. Овертон застегнул воротник — в теплице было еще прохладно. — Господа Клей и Крауфорд не убеждены в этом. Никто из них не будет спать спокойно до тех пор, пока Эндрю не снят с поста и не наказан за захват Флориды. Но наша сторона получит свое. Позволь мне дать тебе эти пурпурные ирисы для дома, они прекрасно прорастут в твоем новом саду. В течение следующих двух недель газеты Нашвилла были заполнены статьями друзей, отчаянно защищавших Эндрю и описывавших его действия как часть общей стратегии, направленной на обеспечение безопасности американского народа. Когда состоялось окончательное голосование, Эндрю был оправдан. Филадельфия устроила в его честь четырехдневные празднества, Нью-Йорк — пятидневный прием, когда он находился на пути в Вест-Пойнт, чтобы встретиться с Энди. В своих письмах Эндрю уверял Рейчэл, что даже в самые бурные часы дебатов он оставался спокойным в своей гостинице и лично в спор не вмешивался. Разве в таком случае не естественно для человека, только что одержавшего победу над своими самыми яростными противниками, покрасоваться на публике? Рейчэл была убеждена, что, если бы не было нападок на военную карьеру Эндрю, он остался бы генералом и плантатором.Но удовольствуется ли он теперь этим, когда в его ушах звучат приветствия Филадельфии и Нью-Йорка?/5/
Ко времени возвращения Эндрю из Вашингтона, в середине апреля, Рейчэл завершила постройку дома, расстелила ковры в спальнях, повесила занавески на окнах, а в столовой поставила стол из черешневого дерева. Диван и стулья поизносились, пианино требовало полировки, но ее радовало чувство преемственности: все старые вещи были перенесены в дом и все еще слегка пахли краской. Несмотря на то что у нее было восемь комнат вместо трех, в которых они прожили пятнадцать лет, дом выглядел компактным, поскольку Эндрю спроектировал помещения меньшего размера, чем в Хантерз-Хилл. Прихожая и лестницы были облицованы темным полированным деревом. Слева от прихожей находились гостиная и столовая с прекрасным видом на пологие холмы, спускавшиеся к старому зданию Эрмитажа. Комнаты были почти квадратными — примерно двадцать на двадцать ярдов. Направо от прихожей находился кабинет Эндрю, в котором Рейчэл поставила письменный стол отца и книжные полки. За кабинетом Эндрю был проход к боковой двери наружу и сразу же за проходом спальня Эндрю-младшего, который мог вставать так рано, как ему захочется, и выйти на воздух, не беспокоя остальных членов семьи. Эндрю расхаживал целый день по дому, решая вопрос, какие комнаты он должен оклеить красивыми обоями, привезенными им с Востока, и какая мебель нужна, чтобы полностью обставить комнаты. В этот вечер они ужинали при свете многих свечей в хрустальной люстре. Приготовила ужин Ханна, но Молл и Джордж настояли, что на стол будут подавать они. После ужина Эндрю и Рейчэл вышли наружу, чтобы посмотреть, как выглядит дом на фоне ночного неба. Здание выглядело гармонично и просто, и это наполняло гордостью их сердца. Эндрю извлек из кармана сюртука шкатулку, наклонился к Рейчэл и поцеловал ее: — Кажется, я каждый раз заставляю тебя доделывать начатое мною. Рейчэл открыла шкатулку, в ней лежал набор украшений — ожерелье, серьги и пряжка для пояса. Эндрю стоял сзади нее и помог застегнуть ожерелье, потом заключил ее в объятия. Он так часто уезжал и так долго находился вдали и все же каждый раз возвращался к ней, полностью принося самого себя, свою душу, любовь и желание. Рейчэл повернулась и прижалась к нему всем своим телом. Он был одержимым и делал то, чего требовала эта одержимость. Он обладал сильным характером, видением, отвагой, способностью вести людей; она знала, что половину жизни он был скорее физически мертв, чем жив, но внутри него никогда не затухал огонь, который поддерживал сам себя, создавая свою собственную энергию, даже когда ее потреблял. В начале июня они получили от президента Монро, объезжавшего Джорджию, записку, сообщавшую о согласии принять приглашение Эндрю посетить на несколько дней Эрмитаж. Рейчэл восприняла это известие спокойно. Ей казалось само собой разумеющимся, что она должна проявить гостеприимство в отношении президента Соединенных Штатов. Ведь ее отец принимал Джорджа Вашингтона, Патрика Генри и других лидеров дома Бургесс. Блокгауз Донельсонов был промежуточным пунктом для многих посетителей с Востока, и теперь ей представлялось вполне естественным, что мистер Монро заедет в Эрмитаж. Рейчэл решила, что президенту следует отвести большую переднюю спальню над гостиной, и в этот же день она отправилась в Нашвилл купить солидную кровать из красного дерева с балдахином, столик с мраморной доской, удобное кресло и туалет из красного дерева, который хорошо вписался в угол позади камина. Последние белые занавески и шторы из дамаста были повешены вечером накануне его приезда. — Мы закончили дом своевременно, — сказал Эндрю, наблюдая с одобрением за ее приготовлениями. — Здесь более подходит принять президента. — Ой, уверена, что смогла бы обеспечить мистеру Монро надлежащий комфорт и в хижине. Джеймс Монро оказался нетребовательным гостем. Глубокая взаимная привязанность между президентом и Эндрю была очевидна в каждом слове, когда они втроем в уютном уединении столовой беседовали после позднего ужина. В распоряжении Монро было всего два-три дня до отъезда в Нашвилл на прием, устраиваемый Женской академией, и большой бал. Рейчэл сделала все, чтобы президент мог полностью расслабиться. Но после того как Эндрю поехал сопроводить президента, она обнаружила, что единственным центром спокойствия во время пребывания президента оставался кирпичный дом Эрмитажа. Редакторы газет и политические деятели по всей стране задавались вопросом: каковы политические последствия визита Монро к Джэксонам? В одной из газет Вашингтон-Сити Рейчэл прочитала, что этот визит планировался президентом, чтобы придать официальное одобрение всем действиям генерала Джэксона — от договоров с племенем крик до захвата Флориды. Другие утверждали, что визит связан с внутренней политикой: мистер Монро полагал, что, если Джэксоны примут его в качестве гостя, они не станут после этого пытаться отобрать у него пост президента, что, оказывая гостеприимство мистеру Монро, генерал Джэксон давал понять стране, что поддерживает переизбрание Монро в 1820 году. Их друзья в Теннесси утверждали, что, направившись прямо в Эрмитаж до визита в Нашвилл, мистер Монро публично прокламировал, что настроен в пользу въезда генерала и миссис Эндрю Джэксон в особняк президента в Вашингтон-Сити в 1824 году. Это явилось полной неожиданностью для миссис Джэксон. Прошло всего несколько дней после отъезда Эндрю, когда на Западе началась устрашающей силы паника. Она была вызвана не только тем, что не было рынка для хлопка и всего остального, что можно было вырастить на землях Эрмитажа, но и тем, что процветание, отметившее три года после сражения у Нового Орлеана и сопровождавшееся введением в строй множества фабрик и культивацией больших земельных площадей, вдруг оборвалось с внезапностью пушечного выстрела. Появлявшиеся дюжинами местные банки, предоставлявшие деньги под залог целинных земель и невыращенный урожай, оказались на мели, когда Банк Соединенных Штатов в Филадельфии изъял из обращения массу их бумажных денег. К счастью для Рейчэл, Эндрю не брал займа и был слишком занят, чтобы заниматься приобретением или закладкой ферм. Сам он был настроен против других банков как финансово нездоровых. К сожалению, многие их друзья и соседи влезли в большие долги, надеясь заработать на спекулятивных сделках. Из окна своей спальни Рейчэл видела, как эти соседи устало поднимались по дороге к Эрмитажу. Не может ли миссис Джэксон ссудить пятьсот долларов… тысячу? Если бы у них было столько наличными, они могли бы не обращаться к банкам… Рейчэл пережила несколько подобных кризисов ранее и была глубоко убеждена, что помогать — значит вслед за плохими губить хорошие деньги. Но она жила с Эндрю достаточно долго и знала о его стремлении помогать друзьям в меру сил. Рейчэл предоставила значительные субсидии двадцати семьям, и в ряде случаев ее деньги спасли их от банкротства. Но к моменту, когда она раздала половину имевшихся у нее наличных средств, она почувствовала, что они сами могут оказаться в бедственном положении, и перестала давать взаймы до возвращения Эндрю. Он одобрил ее действия, но сам продолжал ссужать мелкими суммами имевшийся у них капитал, пока не осталось ни доллара. После того как они очистили свой хлопок и продали его за мизерную цену, Эндрю сказал Рейчэл: — Мы выдали ссуды ста двадцати девяти просителям и полностью исчерпали наши резервы. Виновата группировка Биддла в Филадельфии, контролирующая Банк Соединенных Штатов. Если бы она не заставила местные банки выкупать их ценные бумаги, мы выкарабкались бы из кризиса. Я должен вернуться в Вашингтон-Сити — Клей и Крауфорд делают все возможное, чтобы сорвать договор с Испанией о покупке Флориды. Мне потребуется несколько сотен долларов на дорожные расходы… — Не было бы счастья, как говорят, да несчастье помогло, — сказала Рейчэл со смехом. — Это тот случай, когда ты не можешь взять взаймы у Джона Овертона. Думаю, он собирается сделать предложение вдове доктора Мея. Если она примет его предложение, ему придется пристроить к своему дому дополнительное крыло для ее пяти детей. Мы надеемся, что она согласится. В конце концов Джону уже пятьдесят четыре года, и он жил одиноким достаточно долго. Вдова доктора Мея приняла предложение, и почти все жители долины Кумберленда присутствовали на свадьбе в Травелерс-Рест. Наконец-то Испания подписала договор.[20] Рейчэл была счастлива: Эндрю не отправится больше воевать. Взамен пришло письмо от президента Монро, в котором Эндрю предлагался пост губернатора Флориды. — Не запоздало ли предложение о губернаторстве на много лет? — спросила Рейчэл. — Откровенно, назначение не к месту. Однако президент Монро, видимо, думает, что я то самое лицо, которое способно организовать там американское правление, поскольку я понимаю толк в этом деле. — Ты можешь оказаться совсем неподходящей персоной, ведь испанские губернаторы ненавидят тебя, и не без причины. Эндрю некоторое время обдумывал эту мысль, затем глубоко вздохнул: — Ты абсолютно права. У меня нет ни силы, ни вкуса к этой работе. Я тотчас же сяду и напишу президенту Монро, что отказываюсь от назначения. — Все же у тебя есть некоторое желание принять назначение, не так ли? — Мое проклятье — я всегда немного хочу. Разве не твой отец сказал: «Каждый человек — сам себе тюремщик, и в каждом человеке таится своя тюрьма»? Они спали допоздна, и, когда они неторопливо завтракали, из Нашвилла приехала группа всадников. В дом вошли Джон Овертон, доктор Броно и Феликс Грунди. — Мы прибыли поздравить тебя как первого американского губернатора Флориды. — В таком случае, Джон, тебе придется снять очки, ибо в них ты не увидишь губернатора. Вчера вечером я послал письмо, в котором отказался занять этот пост. — Ты не мог сделать этого! — воскликнул доктор Броно, военный хирург Эндрю. — Мы думали, что тебе следует поработать на подобных постах в правительстве, готовясь к должности президента. — И мы убеждены, что именно в этом смысл назначения, сделанного президентом Монро, — добавил Феликс Грунди. Рейчэл наблюдала, как по щекам Эндрю разливался багровый цвет. — Вы думаете, что я такой неисправимый дурак, чтобы считать себя подходящим для роли президента Соединенных Штатов? Нет, господа. Я знаю, для чего годен: могу в жесткой манере командовать отрядом людей, но в президенты не гожусь. Гости некоторое время молчали, затем Джон спокойно сказал: — Это еще раз доказывает, что ты человек здравого смысла, Эндрю. Может быть, пройдем в библиотеку? Рейчэл поднялась в свою спальню и принялась шить покрывало для кровати, стоявшей в гостевой комнате. Совещание в библиотеке закончилось к полудню. Один из мужчин выбежал из парадного входа и поскакал в город. Эндрю поднялся по лестнице к Рейчэл. — Я сказал им, что если мое письмо с отказом еще не отправлено, то я отзову его и взамен пошлю согласие занять пост. — Он сделал гримасу. — Но ты знаешь, что почта уходит из почтового отделения Нашвилла в полдень, а время уже позднее. Мы в полной безопасности. Ей хотелось крикнуть: Эндрю, на тебя не похоже отдавать важное решение на волю случая — успеет ли посыльный добраться до почтового отделения Нашвилла до того, как уйдет почта! «Он должен желать поехать туда, — думала Рейчэл, — чтобы при его участии и на его глазах произошла передача Флориды». Она нисколько не удивилась, когда вернулся посыльный, торжественно размахивая письмом. Она тихо сидела, пока Эндрю писал письмо с согласием принять пост губернатора. Они спустились вниз по Миссисипи на пароходе к Новому Орлеану за восемь дней. Их свежепокрашенная карета с сафьяновыми сиденьями была прочно закреплена в трюме. Рейчэл и Эндрю взяли с собой сына, а также лейтенанта Энди, только что окончившего Вест-Пойнт, и специально для Рейчэл Нарцисс Хейс, двенадцатилетнюю дочь Джейн. На борту находилось двести пассажиров, но только у пятидесяти был полный комфорт. — Боюсь, что я старомодна, — сказала однажды вечером Рейчэл, когда она, кутаясь в пальто, стояла рядом с Эндрю на носу парохода. — Я предпочла бы плоскодонку полковника Старка. Она повернулась к Эндрю и взяла его под руку: — …Особенно когда ты стоял у руля. Ей показалось, что приветствовать их на пирсе собрался чуть ли не весь Новый Орлеан с оркестром военных музыкантов. В день приезда почетный караул сопровождал их в Большой театр. Когда они вошли в отведенную им ложу, зрители стоя скандировали на английском и испанском: «Да здравствует Джэксон!» Позже в ложу пришла делегация возложить на голову Эндрю лавровый венок. Рейчэл испугал этот жест боготворения; она сидела, настороженно взирая на блестящие зеленые листья, которые в силу какого-то оптического эффекта показались ей шипами. Когда огни погасли и занавес поднялся, она поняла, что не в состоянии следить за развитием пьесы. Рейчэл встала рано на следующий день и отправилась покупать мебель — кровати, буфет и обеденный стол, которые были нужны, чтобы обставить Эрмитаж. Луиза Ливингстон знала в городе лучшие лавки, где можно было с гарантией купить материалы. Оклад Эндрю как губернатора составлял пять тысяч долларов, и Рейчэл сочла разумным вложить деньги в мебель, которой они будут пользоваться всю оставшуюся жизнь. Не забыла она и новые чудесные французские матрацы. За неделю пребывания в Новом Орлеане Рейчэл накупила такое количество мебели, что для ее упаковки потребовалось семь ящиков, которые Эдвард Ливингстон обещал отправить на Север. Эндрю, Рейчэл и сопровождавшие их Эндрю-младший, Энди и Нарцисс сели на корабль на озере Поншартрен, пересекли залив и высадились в бухте Мобайл. Когда они достигли пункта в пятнадцати милях от Пенсаколы, где Эндрю надлежало разместить свою штаб-квартиру и взять в свои руки управление, он решил, что дальше не поедет, а остановится в доме друга-испанца сеньора Мануэля, куда он был приглашен. — Ты с детьми поезжай в Пенсаколу, — объяснил Эндрю Рейчэл. — На Мейн-стрит нас ждет удобный дом. Мне негоже въезжать в город, пока губернатор Каллава не готов передать мне официально провинцию. Получив заверения, что речь идет об одном-двух днях, Рейчэл взяла сына, племянника и племянницу, и они проехали пятнадцать миль до Пенсаколы. Город располагался на берегу, и с балкона открывался превосходный вид на водную гладь, а с моря весь день дул приятный бриз. До того как солнце раскалило воздух, Рейчэл в сопровождении Нарцисс и двух мальчиков отправилась обозревать город. Пенсакола располагался в живописной равнине, и, хотя земля казалась белой, как мука, она была плодородной: в изобилии произрастали персики, апельсины, виноград, винные ягоды и гранат. Испанские жители, ожидая смены правительства, не ухаживали за садами, цветы бурно разрослись, и многие площади в городе были заняты одичавшими кустарниками, плакучими ивами и гибискусами. Улицы были заполнены многоязычными толпами, слышалась испанская, французская речь, речь негров с соседних островов, попадались индейцы в национальных костюмах, а американцев было мало — она не уловила ни одного английского слова на улицах. От Эндрю ежедневно приходили записки, рассказывавшие о бесчисленных трудностях, возникавших на его пути. Он считал, что ему не следует первым наносить визит губернатору Каллаве, пока тот не посетит его. В бухте не было кораблей под американским флагом, с американскими войсками. Испанский губернатор требовал снять пушки с крепостей. Он, Эндрю, приедет к ней через несколько дней. Рассвет в Пенсаколе был самым приятным временем дня. Она вставала, когда было еще темно, выпивала чашечку кофе, а затем садилась на балконе, наблюдая за входящими в гавань судами. Они были в основном заполнены американцами, искавшими политических назначений или деловых возможностей. Прошло всего две недели после ее приезда, а город был так набит, что совершить дневную прогулку по Мейн-стрит или по площади было крайне трудно. В воскресное утро она решила провести церковную службу в лоне семьи в собственной жилой комнате. Город был еще взбудоражен после субботних волнений. Вместо того чтобы прочесть утреннюю молитву, Рейчэл села за письменный столик и написала письмо друзьям в Теннесси с просьбой, не знают ли они священника, которого привлекала бы эта благословенная земля. Потребовалось еще две недели выматывающих душу переговоров, прежде чем Эндрю смог официально вступить в Пенсаколу в шесть часов утра, до завтрака, на который был приглашен губернатор-испанец Каллава, но от которого тот отказался. В десять часов Рейчэл стояла на балконе, наблюдая за испанскими войсками, выстроившимися на площади под поднятым флагом, и подошедшими в марше американскими войсками, которые выстроились напротив испанских солдат. Испанский флаг пополз вниз, затем Рейчэл услышала, как Эндрю отдал команду, и на флагштоке поднялся американский флаг. Наконец-то Эндрю Джэксон добился бескровного и окончательного завоевания Флориды! Стоявшие внизу, под балконом, испанцы плакали и медленно расходились с площади. Ее чувство восторга было притуплено симпатией к ним. Уже через несколько дней ей пришлось сочувствовать собственному мужу. В то время как наплыв американцев принес старым жителям-испанцам процветание в торговле, Эндрю наталкивался лишь на осложнения и противодействия: те, кого он пригласил из Нашвилла для участия в управлении, оказались не у дел, потому что президент Монро прислал во Флориду свой административный персонал. За исключением таких малопочетных задач, как очистка улиц по воскресным утрам от загулявших пьяниц, у Эндрю почти не было дел. Тем временем дождь полил как из ведра, и ее сын подцепил лихорадку, Эндрю затеял ссору по поводу архивов бывшего губернатора Каллавы, настаивая на их передаче новым американским властям. Каллава отказался, и тогда Эндрю арестовал его, захватив записи, хранившиеся в доме испанца. Эндрю признался: — Ты была права, мне не следовало соглашаться на этот пост. Он напоминает охоту на диких гусей. — Не совсем, — утешала Рейчэл. — Если бы ты не приехал сюда, у тебя навсегда сохранилось бы чувство, что ты не осуществил сполна свои планы в отношении Флориды. Но если теперь твои замыслы осуществились, почему бы нам не упаковать наши сундуки и не отправиться домой?/6/
На первой неделе ноября они вернулись в Эрмитаж после восьмимесячного отсутствия и узнали, что большая часть урожая была уничтожена паводком, градом и проливными дождями. Газета «Нэшнл интеллидженсер» поместила и другую неприятную новость; в ней они прочитали требования о расследовании конгрессом поведения губернатора Флориды Джэксона, в частности его решения заточить в тюрьму бывшего испанского губернатора Каллаву и забрать испанские архивы. — Это вновь происки Крауфорда и Клея, — расценил Эндрю. — Они все еще пытаются устранить меня из круга вероятных кандидатов на пост президента. Я намерен написать письмо, что восхищаюсь талантами государственного секретаря Джона Куинси Адамса и поддержу его кандидатуру на пост президента после отставки Монро. Это положит конец их гнусным махинациям. Тебе понятен смысл? — Да. Но ты в состоянии написать письмо? — Пожалуйста, ты можешь заглядывать через плечо. Эндрю был прав: расследование конгресса так и не состоялось. В начале февраля 1822 года приехал Энди посоветоваться с дядюшкой и тетушкой. Ему надоела армейская жизнь, и его увлекает юриспруденция. Дядюшка был действительно убежден, что отныне Соединенные Штаты защищены от любого вторжения, и он дал согласие на увольнение Энди из армии и поступление в Трансильванский колледж права в Кентукки. К этому времени появился Ральф Эрл. Он бродяжничал несколько лет, будучи не в состоянии смириться с потерей преждевременно умершей жены. Он попросил разрешения остаться в Эрмитаже, поскольку это единственный знакомый ему дом, и он не может больше отгораживаться от печальных воспоминаний. Не мог бы он написать портрет миссис Джэксон и несколько портретов мистера Джэксона? Рейчэл и Эндрю заверили его, что он может оставаться у них до конца своей жизни на правах члена семьи, если это отвечает его желаниям. С наступлением весны Эндрю обходил плантацию, наблюдая за тем, как идет сев. Рейчэл видела, что впервые за последние десять лет он физически окреп, а его настроение заметно улучшилось. За истекшие месяцы приходило все больше писем из различных штатов, подтверждавших, сколь популярен он среди избирателей. В газетах появилось множество статей, в которых задавался вопрос, когда же хитрый Джэксон раскроет наконец-то свои планы. Эндрю не ответил ни на одно письмо, которое заставило бы его занять политическую позицию или же взять на себя обязательства, а газетные статьи он считал просто забавными. Каждую неделю в Эрмитаже собиралась группа друзей, взволнованно оценивавших популярность тех или иных кандидатов: они показывали письма, подтверждавшие, что Пенсильвания проголосует за Джэксона, а ее примеру последует штат Нью-Йорк, что стоит ему показаться в Бостоне, и штат Массачусетс будет на его стороне. Если этим предсказателям хода гонки за президентский пост и удавалось произвести какое-то впечатление на Эндрю, то Рейчэл не замечала признаков этого. Дочери Джонни Мэри, вышедшей замуж за Джакса и жившей в Алабаме, Рейчэл писала:«Молю, чтобы они оставили мистера Джэксона в покое. Он чувствует себя неважно и никогда не поправится, если ему не дадут отдохнуть. Он внес свою долю в развитие страны. Он не провел и четверти жизни под собственной крышей. Теперь я надеюсь, что это закончится. Здесь говорят о том, чтобы сделать его президентом. Майор Итон, генерал Кэррол, мистер Кэмпбелл, доктор Броно и даже Парсон — я не могу сказать, сколько других, — все его друзья, приходящие сюда, бесконечно рассуждают о нем как о президенте. Во всех этих случаях я твержу одно: да будет воля Божья. Но я надеюсь, что его не втянут вновь в борьбу и погоню за пустыми почестями на публичной площади».Ее, однако, серьезно обеспокоило письмо сестры Джейн:
«Тебе будет не хватать прекрасной фермы и удобного дома в городе Вашингтоне, когда генерала выберут президентом».Если трезвомыслящая Джейн убеждена, что Эндрю станет следующим президентом, тогда кого же они могут убедить в этом мире, что намерены оставаться до конца своей жизни у собственного очага? Ей было бы трудно сказать, в какой именно момент Эндрю начал проявлять беспокойство. Решение законодательного собрания Теннесси в июле 1822 года официально выдвинуть своего любимого сына кандидатом на пост президента могло, разумеется, взволновать любого человека, заинтересованного занять такой пост. Однако Эндрю не принял это решение близко к сердцу. Он лишь заметил, что старый метод назначения президента, когда собираются конгрессмены и навязывают партии своего кандидата, ныне устарел. Независимо от того, что делал или не делал Эндрю, газеты все находили важным. Когда он отказался поехать посланником в Мексику, это было истолковано как доказательство его заинтересованности баллотироваться на пост президента. Когда же он отказался объехать территории Северо-Запада, это было представлено как отсутствие интереса к креслу президента. Она спрашивала себя: что на самом деле побудило его сделать первый шаг? Сообщение, что президент Монро поддерживает кандидатуру секретаря Уильяма Крауфорда? Или тот факт, что второй из его личных соперников — Генри Клей из Кентукки — быстро набирает сторонников в таких штатах, как Огайо, Индиана и Иллинойс? Или обескураживающие новости, что человек, которого он поддерживает на пост президента, Джон Куинси Адамс, теряет почву под ногами? Или же, как она сама подозревала, то обстоятельство, что заинтересованность Эндрю лежала под спудом, пока выборы были отдаленным делом? Активность вокруг Эрмитажа росла: газетчики, политические деятели, офицеры, недовольные сокращением армии, старые друзья и небольшая группа сторонников Джэксона — Овертон, Льюис и Итон постоянно запирались с Эндрю, анализируя последние события и строя свои расчеты на одном надежном основании: Адамс теряет поддержку, и следующим президентом будет либо Уильям Крауфорд, либо Генри Клей, и сможет ли Эндрю мирно и счастливо жить в Эрмитаже, когда тот или другой окажется в должности главного исполнителя? — Я знаю, что не обладаю нужной подготовкой и характером, чтобы быть президентом, — признался ей Эндрю в один из вечеров в субботу, когда она легла в постель, устав от приема почти сотни гостей, — но, несомненно, у меня больше честности и чистоты, чем у каждого из этих двух авантюристов. — Может быть, тебе стоит во время избирательной кампании предпринять объезд в поддержку мистера Адамса?.. — Тогда я вновь погрязну в политике по самые уши. Либо я в… полностью… либо полностью вне. Неизбежный инцидент случился осенью, когда они убрали урожай и обнаружили, что для хлопка нет сбыта. Возможно, если бы Эндрю не был столь огорчен нехваткой денег, он не реагировал бы столь раздраженно на нападки сторонника Крауфорда сенатора Уильямса от Теннесси, считавшего, что настал момент, чтобы устранить навсегда Джэксона с арены борьбы за президентский пост. Сенатор Уильямс превратил критику в адрес Эндрю в основной пункт своей избирательной платформы. Эндрю поддержал своего старого друга конгрессмена Реа на пост сенатора, а Джон Овертон, Джон Итон и Уильям Льюис отчаянно боролись в Нашвилле в пользу Реа как кандидата в законодательное собрание, выборы в которое могли иметь решающее значение. Вечером накануне выборов сенатора Джон Овертон приехал в Эрмитаж уставший и расстроенный, его сопровождал один из бывших генералов Эндрю. Рейчэл поняла по бледному лицу Джона, по неловкости его движений, что он на грани срыва. Она принесла двум мужчинам напитки и села на стул с прямой спинкой, внимая каждому слову. — Эндрю, мы потерпели поражение. Реа не может победить. Ты должен занять его место и выставить свою кандидатуру в сенат — это единственный способ сокрушить Уильямса и его антиджэксоновскую платформу. Если мы нанесем поражение Уильямсу и ты попадешь в сенат, тогда наше положение в предстоящей президентской кампании в следующем году будет прекрасным. Серые глаза Джона выглядели еще более темными. — Собери одежду и поедем с нами. Схватка будет трудной, и твое присутствие необходимо. Рейчэл почувствовала, что ей трудно дышать. Эндрю повернулся и внимательно посмотрел на нее. Через минуту он прошептал: — Извините меня, я хочу поговорить со своей женой. Он подошел к ней, обнял ее за талию и поднял с кресла. Гости покинули кабинет Эндрю, прошли через прихожую в гостиную. Он закрыл за ними дверь. Эндрю и Рейчэл стояли в центре комнаты почти вплотную, и, не касаясь друг друга, не говоря ни слова, они напряженно старались проникнуть в душу стоящего напротив. В этот момент ее единственное желание сводилось к необходимости определить, каковы истинные намерения Эндрю, скрытые наслоением лет, ран, амбиций, успехов и неудач. Он застенчиво улыбнулся: — Все будет просто, дорогая, если я осознаю, чего хочу. Я никогда не был так счастлив, как последние два года, живя спокойно здесь, в Эрмитаже, занимаясь плантацией, наслаждаясь общением с тобой. Рейчэл старалась не выдавать голосом своих чувств: — Есть время для бесплодия, есть время для плодоношения. Если ты хочешь, Эндрю, стать президентом, я понимаю, насколько это почетно… — Нет, нет, я не ищу почета. Мне был оказан такой почет, который можно только пожелать смертному. Меня влечет возможность служить. Я буду бороться за эту страну каждую минуту с той же решимостью, с какой я сражался в Новом Орлеане. — И с таким же успехом. Если ты хочешь именно этого, тогда, Эндрю, ради этой цели ты должен сделать все, что в твоих силах. Ты должен поехать с Джоном и генералом Колманом. Он раскрыл ей свои объятия, и они прижались друг к другу, одинокие и немного несчастные. — А как с тобой, Рейчэл? Какие могут быть последствия? Она отошла от него, сделала несколько шагов к большому окну по фасаду дома, понурив голову и погрузившись в таинственное пространство, отделяющее размышления от грез. Что точно имел в виду Эндрю? То, что ей придется покинуть Эрмитаж, который она так любила, и переехать в Вашингтон-Сити? Что ей также придется стать слугой общества, войти в мир протокола и светской жизни? Хватит ли у нее сил для связанных с этим обязанностей после многолетних поисков уединения? Мысли Рейчэл вернулись к прошлому, к Новому Орлеану и к приему, который она устроила по случаю дня рождения Эндрю после ратификации мирного договора с Великобританией, к письму ее кузена Джона Стокли, который сказал: «Мы имеем право на президента от Запада»; к вопросу, который тогда она задала себе: если все это преходяще, то стоит ли сопротивляться? Тогда она примирилась с положением, и ничего не изменилось. Если теперь перед ней самое важное решение в ее жизни, то как поступить, ведь сторонники Крауфорда и Клея не постесняются использовать ее личные дела, чтобы разрушить, если можно навсегда, надежды Эндрю Джэксона. Президентская кампания будет кроваво-жестокой и предельно горькой. Не это ли имел в виду Эндрю, когда говорил о последствиях? Не хотел ли он получить ее согласие вновь стать жертвой политической бури? Они оказались совсем без средств и были вынуждены занять денег у Джона Овертона, чтобы оплатить расходы Эндрю. Рейчэл не могла покинуть Эрмитаж: нужно было очистить хлопок, запасти на зиму продовольствие, обмазать хижины, перенести на новое место мельницу и построить новый хлопкоочистительный завод. Ему нужно было выехать… на… шесть месяцев, год? Она вновь остается одна в большом доме. «Моя жизнь с Эндрю завершила полный цикл, — думала Рейчэл. — Как трудно для любого человека разорвать круг, предписанный судьбой! Мы прошли через все эти годы и через страдания только для того, чтобы к концу жизни оказаться во власти тех же самых трудностей, которые осаждали нас вначале». Она отошла от окна, приблизилась к мужу, который переступал с ноги на ногу в середине комнаты, явно желая, чтобы она сама приняла решение. Она подставила свое лицо для поцелуя и затем тихо сказала: — Я готова к любым последствиям.
Книга седьмая
/1/
Образно говоря, часы липли к ней и не желали превращаться в прошлое, и все же разлука после избрания Эндрю в сенат и его отъезда в Вашингтон оказалась не столь неприятной. Энди, открывший в Нашвилле адвокатскую контору, взял на себя полную ответственность за дела Эрмитажа. Он продавал хлопок, выращенный на плантации, за хорошую цену и по совету дядюшки откладывал деньги для поездки следующей осенью всей семьей в Вашингтон-Сити. Энди унаследовал от отца роскошную темную шевелюру, большие теплые карие глаза, а также голос и жесты отца, и порой казалось, что рядом с ней Сэмюэл. Дом часто навещали племянницы, порой их было не менее пяти-шести, не считая обожателей и ухажеров. Вечера и свободные дни в конце недели были веселыми, звучали музыка и песни, то и дело прерываемые смехом. Рейчэл никогда не чувствовала себя одинокой. Только весной она поняла, что это вовсе не случайность, а скорее результат просьбы Эндрю из Вашингтон-Сити к Энди: — Поддерживай дух тетушки. В сенате Эндрю сидел рядом с Томасом Гартом Бентоном, и они вновь подружились. Эндрю протянул также оливковую ветвь генералу Уинфилду Скотту, с которым ссорился по поводу полномочий военного департамента. Генри Клей несколько раз обедал с ним в таверне О’Нила. В Рождество Рейчэл помогла украсить дом Джонни для большого семейного приема, развесила гирлянды на стенах, а остролист и омелу — на окнах. Джонни сказал ей, что, по его предчувствиям, почерпнутым из газет и разговоров, Эндрю станет следующим президентом, и добавил озадаченно: — Твой муж — удивительный человек, самые лучшие и близкие друзья никогда не знают его намерений. «Странное выражение, — подумала Рейчэл. — Просто мы никогда не ценили по-настоящему Эндрю». После праздников Рейчэл получила возможность осуществить свое желание, которое лелеяла несколько лет: иметь на территории Эрмитажа небольшую церквушку, куда ее друзья и родственники могли бы приходить по воскресеньям на утреннюю службу и раз в неделю — на добрую вечернюю молитву. Церковь была построена из кирпича примерно в миле от дома и выглядела, как школьное здание в Новой Англии — без шпиля и портика, внутри на кирпичном полу стояло сорок неокрашенных скамей. Строительство церкви зимой и поиски пастора потребовали от нее больших усилий. Весной Рейчэл посадила в саду мальву, белые и фиолетовые гелиотропы, тигровые лилии, белую сирень, многие клумбы были окаймлены мятой и тимьяном. При входе в сад к прочному суку гикори были подвешены качели, на которых развлекались дети, посещавшие Эрмитаж. Некоторые деревья, привезенные друзьями из отдаленных мест, — розовая магнолия из Японии, инжир с Юга начали цвести. В течение ряда лет в Эрмитаж поступало около двадцати — тридцати наименований газет, но потом Эндрю отказался от них, оставив лишь нашвиллские. Куда приятнее было наблюдать за влюбленностью окружавшей ее молодежи. Двадцатитрехлетний Энди был сражен младшей дочерью Джонни, шестнадцатилетней Эмилией, рыжеволосой красоткой с тонкими чертами лица в стиле Донельсонов. Ее брат Джонни противился этому браку, поскольку они были родственниками во втором колене. Рейчэл предоставила им убежище в Эрмитаже. — Каюсь, я сентиментальна, но не думаю, что нужно подавлять любовь. Как-то в конце мая Рейчэл заметила по переменам в тоне и поведении членов семьи, что произошло нечто неприятное. Она попросила Энди рассказать ей, в чем дело. — Дядюшка запретил мне передавать такого рода информацию. Она не заслуживает внимания. — Дорогой, ты не умел скрывать секреты, даже когда был еще ребенком. — Тетя Рейчэл, дядя объяснил, что люди, поддерживающие Крауфорда, приходят в отчаяние, понимая, что он теряет свои позиции, и поэтому они стараются вывести дядю из равновесия. Энди колебался, но не мог не подчиниться требованию, которое выражали ее глаза. — Джон Овертон получил письмо от сенатора Джона Итона с просьбой предоставить подробную информацию и доказательства относительно вашего брака… с тем чтобы они могли положить конец слухам в Вашингтоне. Рейчэл вскрикнула: — Разумеется, Джон не выполнил эту просьбу! — Не знаю, тетушка Рейчэл. Мы не обсуждали этот вопрос. — Тогда я должна обсудить. Энди, прикажи немедленно оседлать лошадь. Рейчэл не стала стучать во входную дверь: при такой приятной погоде Джон наверняка находится в своем саду. Она застала его за подготовкой грядки для цветов. На ее скоропалительный вопрос, что он сделал в связи с письмом Итона, он сказал: — Ничего. Такие нападки недостойны ответа. Рейчэл тотчас же опустилась на грубую скамью, попросив у Джона прощения за допущенную ею мысль, что он проявил нескромность. Он сел рядом с ней, обнял за плечи, разделяя ее огорчение: — Рейчэл, как твой друг и адвокат семьи должен дать тебе совет не интересоваться такими вопросами. Они не должны занимать место в твоей жизни. — Джон, лучше знать, чем воображать драконов, не так ли? Он отошел на небольшое расстояние от нее и сказал так тихо, что она едва расслышала: — Истина редко столь же отвратительна, как мы себе ее воображаем. — Тогда будь добр, Джон, дай мне посмотреть письмо Итона. Через боковую дверь они вошли в его кабинет. Она слышала, как наверху играли дети. Джон вытащил письмо из ящика письменного стола и протянул ей. Она прочитала:«Уважаемый сэр! Сегодня я написал мистеру Кратчеру просьбу, чтобы он и вы представили мне информацию относительно обстоятельств женитьбы генерала Джэксона. Поскольку сейчас он стал наиболее серьезным соперником, его противники направляют все свои залпы против него, и вчера один мой друг сказал мне, что они готовят нападки на него на этой почве. Они несомненно постараются броско и фальшиво представить факты, и, хотя неделикатно влезать в семейные дела человека, необходимость требует, чтобы мы по меньшей мере имели на руках данные для защиты».Рейчэл положила письмо на стол. Ее грудь быстро поднималась и опускалась, спазм в горле не пропускал воздух в легкие. Сердце щемило. Джон налил ей воды из тяжелого серебряного кувшина, с его уст сорвался упрек в собственный адрес. — Нет, Джон, так лучше. Не можешь ли отвезти меня домой? Два дня она лежала в постели, ругая себя за то, что поддалась болезни, ведь неприятности улетучатся со временем. И эти неприятности также.
Эндрю возвратился в середине июня с известием, что снял для себя и нее номер в таверне О’Нила. Он даже подыскал колледж для Эндрю-младшего и нашел, что колледжем управляет способный баптистский священник. Эндрю выглядел хорошо, его кожа загорела, глаза были ясными и спокойными. Рейчэл была довольна тем, что впервые политика и его характер не находились в конфликте друг с другом. Хотя он не пропустил ни одного заседания сената, он выступил только два раза и даже в случаях, когда был вовлечен в спорные вопросы, такие, как требования по улучшению внутреннего положения и «справедливые тарифы», оставался спокойным. Предварительные голосования на массовых митингах и смотрах милиции говорили о том, что народ считал его своим фаворитом, но даже когда появились пересуды, будто его шансы уменьшились, он не встревожился и заявлял, что вовсе не гонится за креслом президента, как Клей и Крауфорд. — Эндрю, я должна спросить тебя, чтобы знать, как строить будущее. Как ты считаешь, вернешься ли ты в Вашингтон на очередную сессию сената или же поедешь прямо в Белый дом? — Согласно нашим оценкам, голоса разобьются между Адамсом, Клеем, Крауфордом и мною. Сомневаюсь, чтобы кто-то из нас получил большинство голосов избирателей. Поэтому выборы будут перенесены в палату представителей. — Что произойдет, если палата выберет кого-то другого президентом? Эндрю промолчал, пробираясь через возможные варианты ответа на ее прямой вопрос, словно через густую чащу. Через несколько минут он пробился через нее, вышел на освещенную солнцем сторону и одобряюще улыбнулся ей, пожав при этом плечами. — В таком случае мы задержимся, чтобы поздравить президента, затем положим наши сундуки в карету и отправимся домой. — Не испытывая плохих чувств и сожалений? — Не испытывая. — Даже если придется поздравлять Уильяма Крауфорда? Эндрю сжал кулаки: — Дорогая, из тебя вышел бы неплохой прокурор. Рейчэл заметила, что больно уколола его. — Я просто пытаюсь выяснить, что мы будем делать дальше, — мягко сказала она. — Если будет выбран кто-то из этих деятелей, мы будем дома к концу марта и останемся? — Навсегда, — мрачно сказал Эндрю. — Что ты намерен делать в отношении выборов? — Оставаться дома и наблюдать. Может быть, напишу несколько писем. Мои советники хотят, чтобы я побывал на смотрах и пикниках и встретился с людьми. Они говорят, что это — новая форма ведения кампании, поскольку впервые президент вместо конгресса выбирается избирателями. Но я, конечно, не пойду на такие встречи. Но можем ли мы 4 июля устроить день открытых дверей? В этом году 4 июля приходится на воскресенье. Жаркое на углях стало распространенной едой на пикниках, и поэтому Рейчэл вырыла около старой хижины большую яму для жарения оленины, говядины, баранины. Пришли четыреста соседей, они с удовольствием закусывали жареным мясом, слушая острые речи и чтение редакционных статей. Статья, вызвавшая наибольшие насмешки, принадлежала луисвиллской газете, утверждавшей, что на военном смотре в Огайо, где Эндрю побил при предварительном голосовании Генри Клея, «изгоями дня были хулиганы, подонки общества». Каждая неделя приносила важное событие — плохое или хорошее. Джон Кэлхун решил удовольствоваться постом вице-президента и направил все свое влияние на поддержку Эндрю. Однако Эндрю потерял голоса на Юге из-за своей позиции в сенате по тарифам. Уильям Крауфорд стал жертвой паралича, и ряд его сторонников заговорили о переходе на сторону Джэксона. Тем временем Джесс Бентон, вовсе не успокоившийся и не пожелавший считаться с тем, что его брат вновь стал другом Эндрю, издал памфлет, содержащий тридцать два обвинения в адрес Эндрю, и эти обвинения широко воспроизводились оппозиционной печатью. К концу сентября семья собралась в доме Джонни Донельсона — в особняке на свадьбу Эмили и Энди. Накануне вечером Рейчэл пошла в комнату Энди, чтобы сказать ему о возможности свадебного путешествия его и Эмили, если они того пожелают, в Вашингтон-Сити. Энди выступал бы в роли секретаря своего дяди, и молодая пара могла бы жить в Белом доме в случае избрания Эндрю. Энди колебался: у него появились клиенты, и ему не хотелось бросать юридическую практику, а ведь пришлось бы начинать с нуля после шестимесячного перерыва. Рейчэл подоткнула одеяло под его плечи, затем села на край кровати и сказала: — Энди, мы все ведем игру. Разве тебе не хотелось бы соединить свою судьбу с семьей? Дядя Эндрю очень нуждается в тебе. — Хорошо. Мне хотелось бы быть секретарем президента… и Эмилия никогда не выезжала из Кумберленда. Ладно. Поблагодари дядю Эндрю от моего имени. И не говори ему, что у меня была мысль о какой-то игре. Отъезд в Вашингтон-Сити был назначен на первую неделю ноября. Рейчэл занялась упаковкой вещей — задача была непростой. На какой срок она едет: на четыре месяца или на четыре года? Брать с собой только зимние вещи или же и летние? Не заказать ли платье для инаугурации здесь, в Нашвилле, у Сары Бентли? Не оставить ли дом открытым до их возвращения в конце марта или же зачехлить мебель и убрать серебро, фарфор, скатерти и постельное белье? Следует ли прервать обучение сына в школе и взять его с собой или же оставить в здешней школе? Было бессмысленным получить совет от друзей Эндрю: они, даже обычно хладнокровный Джон Овертон, уже перевезли Джэксонов в Белый дом, разумеется мысленно. Но она по опыту знала, что у Джэксонов реальность редко совпадала с предвосхищаемым, обычно такое случалось позже, когда реальность во многом теряласвое значение и вкус. Она помнила, как страстно хотел Эндрю получить пост губернатора Луизианы в 1804 году и как все были уверены, что президент Джефферсон назначит его на этот пост. Она помнила, как сильно стремился он надеть тогу судьи территории Миссисипи и в какой степени был уверен, что займет этот пост. Она вспомнила, как его не пускали в Канаду во время войны 1812 года; и так поступала администрация, отчаявшаяся в своих командующих, и она же послала его в Натчез, чтобы затем отозвать, не позволив сделать ни единого выстрела. Когда легко ему что-нибудь давалось? Почему они должны ожидать спокойного продвижения к высочайшему посту в стране, когда даже их скромные амбиции сопровождались годами разочарований, расстройства и поражения?
/2/
Они выехали из Эрмитажа 7 ноября 1824 года. Рейчэл и Эмили путешествовали в карете с сафьяновыми сиденьями, в которой Джэксоны ездили во Флориду три года назад. Эндрю и Энди скакали верхом на конях рядом с каретой. Поездка предстояла тяжелая, несмотря на то что они выбрали путь через Харродсбург и Лексингтон, далее по новой платной дороге через Огайо. Рейчэл страшилась проезда через Харродсбург, но, быть может, так и нужно было, чтобы по дороге в Вашингтон-Сити она увидела место своих первых испытаний: разве не Харродсбург был постоянным препятствием на пути Эндрю к Белому дому? Она с трудом узнала город: из горстки разбросанных хижин он превратился в довольно крупный поселок с комфортабельным постоялым двором. Ужин был дан перед пылающим камином, но у Рейчэл пропал аппетит, и вместо еды она слушала оживленную беседу Энди и Эмили о бале, который дают Джэксонам в Лексингтоне сторонники Генри Клея, уверявшие, что, если Клей не получит пост президента, Кентукки поддержит Эндрю Джэксона. Позже, лежа под огромным теплым пуховиком рядом с Эндрю, мирно спавшим и, очевидно, вовсе не волновавшимся по поводу Харродсбурга, а возможно, и забывшим, как он двадцатитрехлетним проехал по Кентуккской дороге, чтобы вызволить ее, Рейчэл вспоминала малейшие подробности той поездки, вновь и вновь переживая их в ночной тишине. Она вспоминала приезд в качестве невесты в дом Робардсов; свои тщетные попытки понять настроение Льюиса и его нежелание взять на себя ответственность; последующие ссоры на почве ревности и их кульминацию, когда он заявил, что выгоняет ее, что он написал ее семье, требуя забрать ее; свою поездку с Сэмюэлем. Она вспомнила свое возвращение в Харродсбург, почти утраченную надежду на семейную жизнь и в то же время не зная, какую другую жизнь она сможет вести; то, как принял ее Льюис, раздраженный, с покрасневшими глазами. Перед ее мысленным взором предстало худое лицо свекрови на подушке, когда та рекомендовала ей возвратиться в Нашвилл и говорила, что она не сможет жить с Льюисом; наконец, тот невероятный вид Эндрю, в кожаных штанах и кожаной охотничьей куртке, подъезжающего к дверям дома Робардсов. Как больно было ее сердцу здесь и сколько разочарований она пережила! Тогда ее брату Сэмюэлю было всего двадцать лет, а сейчас его сыну Энди уже двадцать четыре, и он спит со своей молодой женой в соседней комнате; Эндрю же находится на пути в Вашингтон-Сити и, быть может, станет президентом… Заря прорисовала квадрат окна в спальне, и Рейчэл почувствовала, что Эндрю зашевелился. Во время завтрака за столом царило хорошее настроение. Эмили была вся в ожидании бала. Муж Рейчэл и ее племянник радостно рассуждали, что сегодняшний прием явится официальной демонстрацией Кентукки в поддержку Эндрю. Рейчэл была довольна, что Харродсбург останется позади. Садясь в карету и устраиваясь на комфортабельных кожаных подушках, она осознала, что само название города преследует ее… преследует? Именно это слово употребил Льюис Робардс. Льюис мертв уже десять лет, похоронен на небольшом кладбище, мимо которого они проехали. Через несколько миль, когда они поднялись на вершину скалистого холма с крутыми склонами, послышался треск, затем резкий щелчок. Сломалось дышло кареты. Эндрю рванулся к кореннику, но опоздал: карета, лошади и пассажиры полетели вниз. Несколько раз карета раскачивалась на двух колесах и чудом не свалилась в канаву. Когда они наконец остановились у подножия холма и Эндрю с Энди вытащили своих жен из экипажа, Рейчэл сказала с усмешкой: — Я никогда не была счастлива в этом городе.7 декабря в одиннадцать часов они пересекли мост из Виргинии в Вашингтон. Рейчэл показала Эмили купол Капитолия. Они проехали по грязной улице, называвшейся Пенсильвания-авеню. Проезжая мимо Белого дома, Рейчэл сказала Эмили: — Вот здесь живут мистер и миссис Монро. Эмили высунулась из окна кареты, с жадностью рассматривая строение: — И мы там вчетвером будем жить? У таверны О’Нила, на углу Пенсильвания-авеню и Двадцать первой стрит, был новый хозяин, и таверна называлась теперь Франклин-Хауз. Рейчэл и Эндрю получили комфортабельный номер со спальней и гостиной, а Энди и Эмили — номер поскромнее. Рейчэл беспокоило то, что эти два номера стоили сотню долларов в неделю, правда, включая питание. — Я только что нашла хорошую причину питать надежду, что тебя выберут, Эндрю. Арендная плата в Белом доме должна быть меньше, чем здесь. Эндрю покачал головой, иронически улыбаясь: — На деле не так. Мистер Монро говорил мне, что он уезжает оттуда обедневший и разочарованный. — И это та самая контора, за которую ты, мистер Адамс, Крауфорд и Клей так яростно сражаетесь? — Возможно, гениальность нашей формы правления частично состоит в том, что люди хотят служить на самых высоких постах, заранее зная, что уйдут с них обедневшими и с синяками от битья. Их комнаты были забиты соседями по Теннесси, офицерами, участвовавшими в войне против племени крик и англичан, политиками, утверждавшими, что именно они делают президентов, и многими восточными друзьями, с которыми Эндрю завязал связи со времени своей первой поездки в конгресс в 1796 году. Лишь на второй день в полдень Рейчэл обратила внимание на то, что их посещали только мужчины. Ни одна женщина не оставила для нее своей визитной карточки в Франклин-Хауз. Хотя на прием в Белом доме были разосланы приглашения от имени президента и миссис Монро, вашингтонское общество, в котором доминировали жены высоких чиновников, демонстративно держалось в стороне от нее. Вечером, когда Рейчэл пошла пожелать доброй ночи племяннице, она застала ее в слезах. У ног Эмили лежал экземпляр газеты, смятой с явным раздражением. Рейчэл подобрала газету, разгладила страницу и увидела, что это рэйливский «Реджистер». В статье говорилось:
«Я торжественно обращаюсь к мыслящей части общества и прошу ее членов хорошенько подумать, прежде чем опускать бюллетени в ящик, можно ли оправдать перед собой и перед потомством выдвижение такой женщины, как миссис Джэксон, на роль главы женского общества Соединенных Штатов».Эмили искала утешения в объятиях своей тетушки: — Ох, тетя Рейчэл, они говорят чудовищное о нас, что мы вульгарные, необученные и неотесанные жительницы пограничных районов, невоспитанные и не умеющие держать себя. Но ведь они с нами даже не встречались! Рейчэл никогда не питала иллюзий насчет своего образования и культуры. Слушая обвинения относительно огрехов в ее воспитании, она огорчалась скорее за родителей, чем за себя. Она не стала подходить к Эмили. — Вытри слезы, девочка. Все это часть того, что твой дядя называет «последствиями политики». Что же касается недостатка у меня светского лоска, то, кажется, ни мистер Медисон, ни мистер Монро этого не заметили. В этот день, во второй его половине, к ним пришли первые посетительницы — жены двух сенаторов. Рейчэл надела платье из светло-коричневого батиста, отделанное внизу двумя рядами кружев, между которыми была вышивка с аппликацией из муслина, поверх платья был надет фартучек из батиста, обшитый муслиновой окантовкой. Она отказалась от изощренной прически с кудряшками, которую Эмили объявила новейшим стилем, заявив, что высокая прическа делает ее лицо менее круглым. Рейчэл приказала, чтобы чай был подан в гостиную. Ее наметанный глаз сразу же заметил, что любознательность преодолела женское предубеждение. Она решила: не покажу им виду, что догадалась о причинах их визита, и не буду прилагать больших усилий. Пусть они принимают нас такими, какие мы есть. Задача оказалась несложной — к концу часа женщины подружились и обменивались рассказами о домашних проблемах в различных частях страны. Они не уходили до тех пор, пока Рейчэл не приняла их приглашения на чай. Эта встреча и прием, устроенный для них Элизабет Монро в Белом доме, сломали лед. Эмили была самой счастливой молодой женщиной в столице: она каждый день получала приглашения. Погода в декабре стояла по-весеннему теплая. Рейчэл наносила визиты и ходила с Эндрю на обеды к проверенным друзьям, но они отклонили множество приглашений на вечера в театре, на приемы и балы и довольствовались своей гостиной, где садились перед камином, покуривая трубки и принимая близких друзей. В воскресенье по утрам они посещали пресвитерианскую церковь и слушали проповеди мистера Бейкера, а вечером раз в неделю ходили в методистскую церковь на проповедь мистера Саммерфилда. 16 декабря в Вашингтон поступили сведения об итогах голосования в последнем штате — Луизиане. Эндрю завоевал наибольшее число голосов избирателей — 152 901; вторым был Адамс — 114023; Клей — 47217; Крауфорд — 46979. По количеству выборщиков от штатов Эндрю значительно опережал всех — 99 против 84 у Адамса, а у Крауфорда, к удивлению всех, — 41, что выводило Клея из игры. Поскольку ни один из кандидатов не собрал требуемого большинства, выборы переходили в палату представителей. Сторонники Эндрю были уверены, что будет выбран именно он, ведь большинство населения и большинство штатов поддержали именно его: он имел на своей стороне голоса выборщиков одиннадцати штатов, и, чтобы быть выбранным, ему требовалось всего еще два штата. Поскольку мистер Клей вышел из игры, законодательное собрание Кентукки приняло резолюцию, рекомендующую его депутатам в палате представителей поддержать мистера Джэксона; представитель заявил, что, поскольку его штат хотел видеть первым Клея, а вторым — Джэксона, он обдумывает вопрос о голосовании за генерала Джэксона; штат Огайо должен был также перейти на его сторону, поскольку он получил в этом штате лишь на несколько голосов меньше, чем Клей, а мистер Адамс занял третье, непопулярное место. В январе начались бураны и снежные метели. Рейчэл простудилась и слегла. Шла сессия, и Эндрю старательно посещал каждое заседание. Старые друзья наведывались на обед. Хотя Эндрю отказывался смешивать политику с обедами, на них все же не обходилось без интриг. Ему говорили, что, если он даст некоторые обещания, скажет, что назначит того-то государственным секретарем, тогда ему обеспечен пост президента. Ходили слухи, что Генри Клей заключил такую сделку с Джоном Куинси Адамсом: мистер Клей приложит все свое влияние и отдаст все голоса мистеру Адамсу в обмен на назначение мистера Клея государственным секретарем. Джон Итон был встревожен, но Эндрю не воспринял слухи серьезно: — Мистер Адамс — честный, хороший человек. Он не ввяжется в закулисную сделку. Если он получит большинство голосов в палате представителей, я буду доволен. Во всяком случае он был первым в моем списке предпочтений. Они проснулись утром 9 февраля, в решающий день, и увидели, что за окном валит густой снег. Эндрю надел пальто и ботинки и вовремя вышел из гостиницы, чтобы дойти до Капитолия к полудню и принять участие в подсчете голосов в сенате по выборам Джона Кэлхуна вице-президентом. Когда Рейчэл спросила его, намерен ли он после окончания работы сената остаться на заседание палаты представителей, где состоится голосование по кандидатурам на пост президента, Эндрю ответил, что не считает правильным находиться в палате во время баллотировки. Он возвратился во втором часу дня, заказал себе в комнату обед, чтобы избежать контакта с собравшейся в таверне толпой. Первое блюдо было доставлено в их гостиную, но в этот момент появился Энди, выражение его лица было более красноречивым, чем любое объявление об итогах голосования: мистер Адамс[21] был избран при первой баллотировке! Умелыми действиями и блестящим маневрированием Генри Клей единолично склонил Кентукки, Огайо и Миссури на сторону Адамса. В гостиную ворвался Джон Итон с мрачным от разочарования и огорчения лицом; он принялся поносить изо всех сил Генри Клея. Эндрю выслушал его и сказал спокойно: — Это не совсем справедливо в отношении мистера Клея, Джон. Он вправе использовать свое влияние в пользу человека, которого считает более подходящим для работы. Ты помнишь, как он однажды открыто обвинил меня в палате представителей, что я «военный диктатор, который уничтожит свободы народа»? В этот вечер они присутствовали на последнем регулярном, по средам, приеме у президента Монро. Эндрю сердечно поздравил мистера Адамса. На пути в отель в карете Джэксонов Джон Итон заметил, как тих был город: ни костров, ни победного праздника, ни ликующих толп. — Народ хотел вас, генерал, — с грустью заключил Итон. — Люди считают, что их обманули. Но ничто не могло изменить спокойной реакции Эндрю на случившееся. Со своей стороны Рейчэл была довольна. В целом выборы были достойными; предсказания, будто Республика распадется, если главное исполнительное лицо станет выбираться избирателями, не оправдались, как и ее опасения, что над ней будет измываться оппозиция. Вернувшись в свой номер, где в камине потрескивали поленья, они вместе с Энди и Эмили выпили горячего пунша. — Как долго, дядя Эндрю, мы останемся в Вашингтоне, по твоему мнению? — спросил встревоженно Энди. — Я должен возвратиться в Нашвилл и возобновить свою практику. Мне нужно обеспечить свою жену. — Твой дядя и я подготовили для вас свадебный подарок, который облегчит ваше положение, — сказала Рейчэл, знавшая, насколько глубоко были разочарованы молодожены поражением Эндрю. — Мы намерены подарить вам плантацию Сандерс. Последовал взрыв радости, и было много объятий, прежде чем молодая пара удалилась в свой номер. Несмотря на огонь в камине, воздух в номере оставался прохладным. Эндрю закутал Рейчэл в одеяло и подсунул его отворот ей под ноги. — Итак, Рейчэл, моя дорогая, я пытался сделать тебя первой леди страны. Ты не разочарована, верно? Она внутренне улыбнулась и провела рукой по выступавшим костям его лица: — Мое разочарование относится к твоим чувствам. — Тогда все в порядке, я буду счастлив вернуться в Эрмитаж. — На какой срок… — нежно спросила она. — До следующих выборов? Их глаза встретились. Его глаза были суровыми. — Через месяц мне стукнет пятьдесят восемь. Мистер Адамс, без сомнения, пробудет два нормальных срока. Разумеется, ты не думаешь, что в возрасте шестидесяти шести лет?.. Это — навсегда! «Он сказал мне это слово дома, — подумала Рейчэл, — но на сей раз он имеет в виду то, что говорит. Быть может, в конечном счете он удовольствуется положением джентльмена-плантатора». «Навсегда» длилось всего пять дней. 14 февраля выбранный президентом Куинси Адамс предложил пост государственного секретаря Генри Клею. Разверзлись врата ада в Вашингтоне и по всей стране… и в особенности в их двух комнатах во Франклин-Хауз. Посетители шли потоком, и все они страстно осуждали покупку голосов за счет предоставления поста. Спокойствие и согласие Эндрю с итогами голосования исчезли напрочь. Рейчэл понимала по тому возмущению, от которого сотрясалась вся его длинная фигура, что ничто в его бурной карьере, исключая мародерство британцев, не вызвало такой крайней решимости отомстить за подлость. Она слышала, как он, стоя в дальнем углу комнаты в окружении своих самых восторженных сторонников, кричал: — Итак, Иуда с Запада заключил контракт и получит тридцать сребреников! Конец будет таким же. Видели ли когда-либо раньше такую наглую коррупцию? Дюжина голосов хором ответила: — Но конечно, мистер Клей знает, что вся страна возмущена!.. Он не настолько глуп, чтобы принять… — Что, отказаться от своей доли добычи? — Голос Эндрю, долетевший до нее, был холодным и презрительным. — Но он должен предстать перед сенатом для утверждения. Клянусь Всевышним, господа, у меня там все еще есть голос, и даю вам свое слово, что вывернусь наизнанку. Сделка с голосами — чистейший подкуп, и допустить такое — значит разрушить нашу форму правления. Через три недели под проливным дождем семья Джэксон выехала из столицы; вся четверка сидела в карете, запасные лошади были привязаны к задку. Эндрю молчал, его голова была опущена на грудь, глаза закрыты; он все еще переживал свое поражение в сенате, где ему удалось набрать всего четырнадцать голосов против назначения Клея. Рейчэл убедила его, что ради приличия ему следует принять участие в церемонии инаугурации. Потом Эндрю жаловался ей, что мистера Адамса «сопроводили к Капитолию с помпой и грохотом пушек и барабанов, что не соответствует самому характеру события». Однако он одним из первых пожал руку Адамсу и принимал в сенате присягу вице-президента Кэлхуна. Когда карета пересекла городскую черту Вашингтон-Сити, Рейчэл почувствовала, как напряглось его тело. Он повернулся на сиденье и устремил пристальный, напряженный взгляд на столицу. Его лицо выражало непоколебимую решимость, которая была памятна ей в годы, предшествовавшие сражению у Нового Орлеана. Эндрю повернулся лицом к ней: — Мы вернемся.
/3/
Они приехали в Эрмитаж в разгар сухой и холодной весны. Плантация была хорошо обработана, но не хватало влаги и для кукурузы, и для хлопка. Рейчэл привезла с собой саженец лимона и полный ящик различной рассады для сада. Ей хотелось снять городскую одежду, надеть простое ситцевое платье и начать копаться в земле. В глубине души она понимала, что нынешнее состояние временное, промежуточное, что ей придется вновь пройти через тот же процесс, а тем временем она испытывала наслаждение, ощущая руками жирный краснозем, вдыхая аромат соседнего леса и любуясь покрытой растительностью холмистой местностью. «Но какой позор, — размышляла она, — что стороны не уладили раз и навсегда соперничество между собой». Их возвращение домой было больше похоже на триумфальное шествие, чем на поездку потерпевшего поражение кандидата. Хотя Эндрю заранее просил, чтобы не было официальных демонстраций, в каждом городе, через который они проезжали, собирались огромные толпы желавших приветствовать Джэксонов. В Луисвилле, Кентукки, родном штате Клея, они присутствовали на банкете: его участники провозгласили тост за генерала Джэксона как следующего президента Соединенных Штатов. Было яснее ясного, что выборы 1824 года далеко не закончились и каждый час дня и ночи между сегодняшним днем и ноябрем 1828 года, когда состоятся новые выборы, будет наполнен борьбой. Эрмитаж превратился не только в сборный пункт Джэксона, куда ежедневно стекались сотни людей, приезжали курьеры, приходили письма, газеты, плакаты, но и в Белый дом пограничной территории, где сосредоточивались все оппозиционеры, искавшие там лидера. Доминировали ненависть к Адамсу и Клею и убеждение, что была поругана ясно выраженная воля народа. Однажды вечером, когда в столовой и гостиной разгорелась особенно бурная дискуссия, Рейчэл почувствовала, что не в состоянии выдержать остроту напряжения и сильный шум. Она поднялась наверх, в свою тихую спальню, где воздух был чист от табачного дыма, запаха разгоряченных человеческих тел и перед глазами не мелькали беспорядочные жесты возбужденных мужчин. Она подвинула кресло к открытому окну. Буря в нижних помещениях дома не была временной, ее масштабы, характер, интенсивность будут возрастать с каждой неделей и с каждым месяцем. Эндрю втянулся теперь глубоко, влез по уши и даже поверх своих густых, но поседевших волос в политику, но не разумнее было бы для нее отойти в сторону? Не лучше ли обеспечивать еду, напитки и постели для приезжих и в то же время стоять в стороне от того, что происходит? Она предоставила своему мужу свободу в осуществлении его амбиций, но разве обязана она участвовать в них? Не лучше ли избежать волнений, наслаждаться садом, постоянно растущим обществом племянниц и племянников, сидеть и читать перед камином или же мирно работать за ткацким станком? Запоздавшие летние дожди оживили луга. Коровы и овцы раздобрели и лоснились на солнце. Уборка урожая потребовала больше, чем обычно, тяжелого труда, но хлопок и зерно уже лежали в амбарах, а цены на рынке были благоприятными. В октябре 1825 года законодательное собрание Теннесси официально выдвинуло Эндрю Джэксона кандидатом на пост президента. Он убедил Рейчэл сопровождать его в поездке в Мэрфрисборо, где он принял выдвижение и официально подал в отставку с поста сенатора. Оттуда они направились на Запад навестить Джейн. В сыром лесу было много черники, ягод терна, рябины и прочего. Джейн сохранила подтянутую фигуру, глаза оставались проницательно-ясными, и только белокурые волосы несколько изменили цвет. Она также пристрастилась курить глиняную трубку. Две сестры уселись у камина и с грустью заговорили о прошлом, поражаясь, как широко расселился клан Донельсон в Теннесси, Кентукки, Миссисипи и Луизиане. Когда чета Джэксон проезжала через Нашвилл по пути домой, она увидела, что город в смятении. Некто по имени Дей, общипанный человечек, якобы собиравший счета для торговцев Балтимора и Питсбурга, провел несколько дней в Нашвилле, задавая бесконечные вопросы относительно брака Джэксонов и показывая копию протокола о разводе Робардсов, законно снятую для него в Харродсбурге тамошним писцом. По возвращении в Эрмитаж Джон Овертон сказал им, что, по его мнению, идет сбор материала, неблагоприятного для Эндрю, чтобы заставить его снять свою кандидатуру на пост президента. По предположениям Джона Итона, сплетни собираются с целью публикации в расчете спровоцировать Эндрю на яростный взрыв, возможно, даже на дуэль, возродив таким образом его репутацию несдержанного человека. Рейчэл поднялась наверх, разделась, легла в постель и натянула одеяло на голову. Какой смысл уходить от политических страстей, когда в любой момент она может стать средоточием острой борьбы? Еще три года до новых выборов, но уже некоторые представители оппозиции копаются в ее прошлом, надеясь найти рычаг против Эндрю. «Реально была единственная возможность избежать новых треволнений: пойти и сказать Эндрю, что я совершила ошибку. Я полагала, что смогу выдержать последствия, но на деле не могу: у меня нет нужной моральной силы. Освободи меня. Я была хорошей и верной женой почти сорок лет. Я дала тебе все, на что была способна, я никогда не просила тебя отказаться от своих желаний. Я помогала тебе в меру своих сил. Нам скоро будет по пятьдесят девять лет. Ты знаешь, что я люблю тебя всей душой, знаю, что ты любишь меня. Тогда, Эндрю, пожертвуй последней кампанией. Выполни свое обещание, что последние годы нашей жизни мы проведем спокойно дома и будем наслаждаться нашей близостью. То, что предстоит, — не обычное политическое соревнование, это война; если бы вопрос был поставлен так: чтобы стать президентом, нужно поставить меня на передовую линию фронта, согласился бы ты, Эндрю?» Но через несколько часов, когда Эндрю пришел в спальню, Рейчэл ничего не сказала. Разве они не подвергались бесчисленным нападкам со времени осложнений, возникших в 1793 году, и не сумели их пережить? К весне 1826 года Эрмитаж стал штаб-квартирой объединенной политической группы, основавшей в Вашингтон-Сити собственную газету «Телеграф» под редакцией Даффа Грина и имевшей добровольные организации почти в каждом штате Союза; их членами были не только жители западных штатов, выступавших в поддержку Эндрю Джэксона, но также и те, кто входил в распавшуюся организацию Крауфорда и ненавидел Генри Клея. К группе поддержки Эндрю примкнули также те, кто не ощущал симпатии к хладнокровному Джону Куинси Адамсу или его продажной администрации, лица, не принадлежавшие ни к какой партии, но считавшие, что Джэксона обокрали, и, наконец, массы простого народа, не имевшие никогда ранее права голосовать за своего президента, убежденные в том, что генерал Джэксон обеспечил им такое право и только он будет отстаивать их интересы. Газета «Курьер» в Нью-Йорке была настроена в пользу Джэксона, почти каждый крупный город имел газету, поддерживавшую его. Когда были подсчитаны результаты выборов в конгресс в 1826 году, обнаружилось, что большинство ставленников Генри Клея, помогавших посадить в кресло президента Адамса, были забаллотированы и что сторонники Джэксона победили в Нью-Йорке, Огайо, Виргинии, Джорджии, Кентукки, Миссури и Иллинойсе. Вновь посетители Эрмитажа уверили Рейчэл, что ее муж будет следующим президентом Соединенных Штатов. Затем через несколько недель в Эрмитаж поступил памфлет, изданный в Восточном Теннесси Томасом Арнольдом, принадлежавшим к лагерю потерпевшего поражение сенатора Уильямса:«Эндрю Джэксон провел лучшие годы своей жизни в азартных играх, скачках, и венцом всего этого стало умыкание чужой жены. Одобряющий кандидатуру Эндрю Джэксона должен поэтому заявить, что он сторонник философии, согласно которой любой мужчина, возжелавший чужую красотку жену, не должен делать ничего иного, как взять пистолет в одну руку, а кнут в другую и овладеть ею. Генерал Джэксон признал, что он снимал пансион в доме старой миссис Донельсон и что Робардс воспылал ревностью к нему, но он умолчал о причине этой ревности… Однажды Робардс застал генерала Джэксона и свою жену в момент, когда они обменивались самыми сладостными поцелуями».Первой реакцией Рейчэл было чувство стыда — стыда за то, что такой выпад был сделан в ее родном штате и одним из ее соседей. Она убедила себя, что нужно сохранять спокойствие, что не следует расстраиваться по поводу гнусных строчек, и в то же время у нее все кипело внутри при мысли, на что нацеливалась эта подлость: нанести ей удар в спину, представить в гнусном свете ее побуждения и ее поведение. Разъяренный Эндрю ушел в себя, и они не обмолвились ни словом по поводу памфлета. Рейчэл сожгла полученную копию, решительно вычеркнув ее текст из своего ума. Однако она недооценила последствия печатного слова. Вскоре полковник Чарлз Хэммонд, редактор газеты в Цинциннати, ободренный тем, что уже есть прецедент в печати, написал для своей газеты статью, основанную на памфлете Арнольда, с добавлениями, собранными мистером Дейем. Какой-то аноним прислал Рейчэл по почте вырезку из этой газеты:
«Если президент женат, то его жена должна соответствовать высоким качествам занимаемого им положения. Ее соответствие положению, ее характер и достоинства, ее личные недостатки или положительные черты должны быть выявлены и оценены, обсуждены, подвергнуты осмеянию, если они того заслуживают. Если она слаба и вульгарна, то неизбежно станет объектом для насмешек, часть которых будет иметь последующие негативные результаты для мужа… Мы должны либо увидеть деградировавшую женщину во главе женского общества нации, либо объявить об этом факте и рассматривать его как основу для требований об отстранении ее мужа. Невзирая на его известность, публичная молва сеет подозрения относительно корректности его матримониального союза… Мы имеем дело не с вольной догадкой в отношении незамужней женщины, основанной на возможной нескромности и опирающейся на личную распущенность в поведении. Напротив… это обвинение генерала Джэксона в открытом прелюбодеянии, которое оскорбляет права мужа, а его жены — в бегстве от законного мужа к любовнику. В сентябре 1793 года двенадцать человек — членов жюри, выслушав доказательства, объявили… что миссис Робардс повинна в прелюбодеянии. Должны ли осужденная прелюбодейка и ее любовник-муж быть допущены до самого высокого поста в стране?»Ее руки вяло упали. Газета из Цинциннати выскользнула на пол. Наконец-то появилось страшное и отвратительное слово, преследовавшее ее на протяжении всей семейной жизни и превратившее веселую, счастливую молодую женщину в раненую, заточенную в собственных стенах. Она — прелюбодейка!
/4/
В этот вечер в кабинете Эндрю за закрытыми дверями сидела группа бледных, стиснувших зубы мужчин. Они говорили так тихо, что из кабинета не доносилось ни слова. Встреча затянулась, и Рейчэл продолжала сидеть перед камином в гостиной, словно одеревеневшая, с широко открытыми глазами, ожидая выхода Эндрю. В этой комнате он просил ее согласия на то, чтобы он баллотировался в сенат и выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Он тогда спрашивал: — Как думаешь ты, Рейчэл? Она сказала: — Я выдержу все последствия. Наступила полночь, когда Эндрю вошел в гостиную. Он объяснил спокойно: — Собираются тучи, и я должен постараться разогнать их, прежде чем они обрушат на нас… — …Да… Но каким образом? — Сделав нашу позицию неуязвимой. Мы намереваемся получить свидетельства от вдовы преподобного Крайгхеда и от матери Полли, вдовы генерала Смита. Они знали нас с самого начала. — Свидетельства… относительно чего? — спросила Рейчэл в оцепенении. Эндрю наклонился, обнял ее, поднял из кресла и поцеловал ее холодные щеки и усталые глаза: — Я знаю, как тебе это неприятно, но мы должны защищать себя в тех точках, по которым они наносят удар. Нет ни одной частицы в моей жизни, какую они не пытались бы извратить и фальсифицировать, но мы будем встречать их в лоб с документами и показаниями под присягой и каждый раз будем брать над ними верх. Рейчэл хотела сказать: «Все это правильно в отношении общественных дел, связанных с твоей работой! Но как это поможет мне доказать, что полковник Хэммонд лжет, обвиняя меня в „открытом прелюбодеянии“? Втянуть более широкий круг людей в нашу частную жизнь и придать большие масштабы скандалу?» Письма, написанные вдовой преподобного Крайгхеда и вдовой генерала Даниэля Смита с глубоким чувством любви, были крайне ценными. В них раскрывалось, как было трудно ей с Льюисом Робардсом, говорилось о ее неоднократных попытках примириться с ним, о его обращении в законодательное собрание Виргинии с просьбой о разводе. Этих свидетельств хватило бы, чтобы убедить любого человека доброй воли, но от их друга Сэма Хьюстона в Вашингтон-Сити пришло сообщение о том, что Хэммонд прислуживает Генри Клею. Едва успела Рейчэл положить полученные ею свидетельства в свой сейф, как редактор Хэммонд сделал следующий шаг. Он информировал сенатора Джона Итона, что Рейчэл и Эндрю Джэксон не вступали формально в брак в Натчезе! Рейчэл бросила садовые инструменты резким движением и всунула руки в глубокие карманы своего запачканного землей фартука. Если она вышла замуж за Эндрю Джэксона в 1791 году, будучи убежденной, что Робардс получил от виргинского законодательного собрания право на развод, тогда любой грех или преступление, совершенные ею в течение последующих двух лет жизни с Эндрю, были не морального, а чисто формального свойства. Разумеется, люди поймут ее трудное положение и не используют его против нее. Но если редактору Хэммонду удастся убедить страну, что она не выходила замуж за Эндрю Джэксона в Натчезе, что она открыто жила с ним в незамужнем состоянии более двух лет, пока Льюис не отправился в суд в Харродсбурге и не получил свой развод, тогда ее поведение может быть представлено как проявление безудержной похоти. У Эндрю и Рейчэл не было письменного документа о брачной церемонии в Натчезе. Проведенная в Спрингфилде церемония была законной и связывающей их в глазах американцев, проживавших на испанской территории, но к кому обратиться за доказательствами, когда прошло уже тридцать шесть лет? Старый Томас Грин давно умер, многие из его потомков и друзей также скончались, остальные рассыпались по стране. Эндрю отправил Уильяма Льюиса по Миссисипи, чтобы отыскать и привезти письменный документ, какой удастся найти. Члены Культурного клуба, переименованного в Клуб нашвиллских леди, восприняли как личное оскорбление нападки на женщину из Теннесси и нашли свой способ выразить доверие Рейчэл. Почта доставила уйму писем в Эрмитаж, а три леди нанесли визит. Рейчэл приняла их в гостиной и подала чай. Этот чай согрел ее сердце. Близкие друзья Эндрю собрали массовый митинг в помещении суда в Нашвилле в защиту Джэксонов. Эндрю присутствовал на митинге и приехал в Эрмитаж, чтобы сообщить, что сотни людей, собравшихся на площади, поклялись поддерживать Джэксонов и приняли резолюцию:«Выявить и пресечь фальсификацию и клевету путем публикации правды».Был образован комитет для рассмотрения всех материалов, касающихся взаимоотношений и супружества Рейчэл и Эндрю Джэксона, в который вошли восемнадцать наиболее уважаемых граждан штата Теннесси, в том числе их бывший друг судья Джон Макнейри, полковник Эдвард Уорд, бывший посол Джордж Кэмпбелл, родственник губернатора Луизианы Томас Клейборн, судья Верховного суда Соединенных Штатов Джои Катрон, два члена верховного суда Теннесси и некоторые другие лица, в прошлом расходившиеся с Эндрю по политическим взглядам. Комитет возглавил Джон Овертон. Прямо из Нашвилла он приехал к обеду в Эрмитаж. Эндрю достал из буфета напитки, налил их и, чокаясь с Овертоном, сказал: — Джон, это тот самый случай, когда я не собираюсь просить тебя не вмешиваться в мою личную жизнь. Я хочу, чтобы ты вник в нее как можно глубже и сделал так, чтобы комитет располагал истиной во всем ее объеме. Джон взял из буфета ложку и размешал сахар, осевший на дне стакана с виски. — Я буду строг и объективен, каким всегда был в качестве члена верховного суда Теннесси. Ни один материал, не выдерживающий тщательной проверки, не будет допущен. Свидетели сообщат для протокола только то, что они на самом деле знают, и мы опубликуем только то, что можем доказать. Язык отчета будет спокойным и юридическим. Не будет включено ничего, что не представляет собой доподлинной правды, какой она была в то время. В комнате наступила тишина. Мужчины повернулись к Рейчэл. Глаза Джона сверкнули, как холодный ружейный металл. Она быстро кивнула в знак одобрения, счастливая оттого, что он взял на себя задачу возглавить защищающий ее комитет, ведь он был ее другом в доме Робардсов в Харродсбурге еще до того, как она встретила Эндрю. — Я не одобряла эти методы нашей защиты, Джон, но думаю, что твое предложение правильно. Знаю, что ты добросовестно выполнишь работу. Раскроем миру нашу историю раз и навсегда, а затем успокоимся. Полный доклад комитета Овертона, а также данные под присягой свидетельства миссис Крайгхед и миссис Смит были опубликованы в газете «Юнайтед Стейтс телеграф» 22 июня 1827 года и перепечатаны по всей стране. Не желавшая раскрывать свои интимные отношения перед лицом множества чужих ей людей, которые ничего ранее не знали о Джэксонах, Рейчэл обнаружила, что доклад имел немедленные и позитивные последствия. В Эрмитаж приходили письма из Вашингтон-Сити, Филадельфии, Нью-Йорка, Нового Орлеана с поздравлениями по поводу «отмщения вашей невиновности» и заверениями в постоянной дружбе. Рейчэл сложила в ящик и заперла на замок доклад, газеты и письма, словно этим жестом отмывала свои руки от скандала. — Не стану больше читать сплетни и не буду больше выступать с ответами. Они и так причинили мне столько вреда, сколько смогли. С Божьей помощью я сумела подняться над ними. Она строила свои расчеты без учета реакции семьи. Однажды утром ее навестила Эмили. Рейчэл сидела в столовой и завтракала. Эмили подвинула стул к столу, на который выложила принесенные ею бумаги. — Тетя Рейчэл, — начала Эмили, разглаживая газету, — ты видела последний памфлет Хэммонда? Мы не можем позволить ему говорить такие вещи о тебе. В конце концов у нас, Донельсонов, есть своя гордость! Рейчэл подумала: «Она бесспорно дочь Джонни!» — Мы должны опубликовать наше собственное заявление, — продолжала Эмили. — Речь идет о чести нашей семьи! Когда ты прочтешь это, то, уверена, присоединишься к нам в ответе Донельсонов. С ощущением непреодолимого страха Рейчэл опустила взор на тесно напечатанную колонку:
«Было бы оскорблением здравого смысла сказать, будто рассказ Овертона не подходит к обольщению и прелюбодеянию в том же свете, в каком их ярко и отчетливо ставят сами законодательные и юридические акты. Миссис Джэксон нарушила супружескую присягу, данную Робардсу. Ни один человек в мире не сможет поверить в то, что она невинна, если вдруг она оказалась вне досягаемости своего мужа, наедине с мужчиной, о котором говорят, что он — ее возлюбленный. С тем же успехом можно было бы выдать патент на невинность, застав их посреди ночи раздетыми в одной постели. Когда они вступили открыто в супружеские отношения, это был незаконный и преступный акт. Они всего лишь похотливые существа. Генерал Джэксон и миссис Робардс… добровольно и для удовлетворения собственных аппетитов поставили себя в положение, которое сделало необходимым, чтобы миссис Робардс была осуждена за уход от мужа и прелюбодеяние… Таким образом, те, кто считают, что прелюбодейка, ставшая со временем легальной женой любовника, не подходящая личность для того, чтобы встать во главе женского общества Соединенных Штатов, не могут с чувством чести голосовать за генерала Джэксона…»Мелкий шрифт плавал перед глазами Рейчэл. Она вонзила ногти в ладонь, а потом выпила последние остатки горького кофе на дне чашки. Когда Эмили ушла, оцепеневшая Рейчэл осталась сидеть в кресле. Неужели страна сошла с ума, коль скоро избирательная кампания ведется вокруг вопроса: прелюбодействовала она с Эндрю или нет? Какое отношение могут иметь те давние два года к его успехам и способностям как президента? Он был адвокатом, прокурором, конгрессменом, сенатором, судьей, генералом, губернатором, долго и хорошо служил стране. Она не слышала, как Эндрю вошел в комнату и встал сзади нее. Когда его рука коснулась ее плеча, Рейчэл повернулась и увидела, что его лицо осунулось. В его руках был экземпляр той же публикации, что принесла ей Эмили. — Сядь, дорогой, я принесу тебе чашку горячего кофе. Эндрю плюхнулся на стул, на котором до него сидела Эмили, в его ярко-голубых глазах она заметила смятение: — Ты знаешь, самая трудная для меня задача — бессильно сидеть здесь, в то время как они гнусно обзывают тебя, поливают грязью нашу любовь и супружество. Ничего так сильно не хотел я в жизни, как поехать в Цинциннати и пристрелить на месте это грязное существо. Поскольку я понимаю, что сам поставил себя в положение, когда, что бы ни говорили о тебе, я не могу встать на твою защиту… — Эндрю, мы знали, что подобное случится. Я ждала этого во время первой кампании. Мне показалось чудом, что все сошло тихо. Но мы получили лишь отсрочку, и буря сейчас вдвое сильнее, потому что она дольше готовилась. Конечно, ты знал, это часть того, что ты назвал «последствиями»? — Нет. Я… не ожидал… беспрецедентно! Они никогда не нападали на беззащитную женщину… Он замолчал, некоторое время сидел тихо, страдание окутало его, как облегающий туман. Потом он вытащил из своего кармана письмо, которое только что получил от Джона Итона, выполнявшего обязанности сенатора в Вашингтоне и одновременно руководившего кампанией за избрание Джэксона. — Послушай, что говорит Итон: «Будь осторожен, тих и спокоен. Избегай вопросов и споров. Взвешивай, прессуй в кипы и продавай хлопок, а если заметишь в печати что-либо относительно себя, брось бумагу в огонь и продолжай взвешивать хлопок. Лучшее, что ты можешь сделать, это сидеть спокойно в Эрмитаже, а народ вынесет тебя на пост». Он встал, подошел к окну и глядел задумчиво на улицу. Рейчэл видела лишь его спину. — …Вынесет тебя на пост. — Эндрю резко повернулся. — Я рассматривал это как возможность оказать услугу. Я думал, что смогу помочь развитию нашей страны. Но сейчас, когда тебя распяли на кресте… стоит ли это того? Про себя она прошептала: «Время для таких вопросов прошло».
/5/
Рейчэл обнаружила, что живет одновременно в двух совершенно несовместимых мирах. Первый охватывает нормальные заботы повседневной жизни, и в своем большинстве они были приятными: обеденный стол, купленный ею в Новом Орлеане, никогда не пустовал и накрывался на тридцать человек. За него садились знакомые из Луизианы, которые проезжали через Теннесси на Север; пара новобрачных из соседней семьи в округе Аккомак, Виргиния; отправлявшиеся на Юг новые друзья из Нью-Йорка и Пенсильвании. Казалось, все пути ведут в Эрмитаж. Поток посетителей существенно опустошил их кассу. К тому же какая-то болезнь поразила их скот, и за восемнадцать месяцев они потеряли три тысячи долларов по причине падежа лошадей. Хотя урожай хлопка был хорошим, спрос был неважным, и низкие цены не позволили получить достаточных доходов. В дополнение ко всему Рейчэл не смогла найти замену Джейн Каффи, исполнявшей роль экономки, и поэтому большую часть мелочных обязанностей ей приходилось выполнять самой. Со всеми этими трудностями можно было справиться, ибо они отражали занятый повседневной работой мир, и, как бы ни были велики проблемы или разочарования такого рода, как отчисление внучатого племянника Эндрю Джэксона Хатчингса из колледжа Кумберленда или глупая ситуация, в какой оказался ее сын, и отцу пришлось брать его на поруки, она могла им противостоять, ибо они были частью обычного образа жизни. Но был и иной мир, который обволакивал подобно черному ядовитому облаку, мир, пропитанный истерией и безумством, с которыми она оказывалась неспособной справиться. Не было ни одной частицы личной и профессиональной жизни мужа, которую не трогали бы: утверждалось, будто он пытался на глазах публики убить губернатора Севьера, хладнокровно застрелил Чарлза Дикинсона, замышлял с Аароном Берром заговор с целью развалить Союз, казнил в ходе войны против племени крик лояльных милиционеров, грабил и притеснял индейцев, задирал и оскорблял испанцев, бежал от англичан, которых остановил Монро, бездарно провел сражение в Новом Орлеане, выкрал тысячи долларов военных фондов, нарушал гражданское правои вел себя, как военный диктатор… Советники Эндрю уговорили его предпринять в годовщину сражения, 8 января 1828 года, поездку в Новый Орлеан, указывая, что празднества привлекут внимание всей нации и послужат прекрасной отправной точкой для кампании, которая обеспечит успех на выборах. Эндрю просил Рейчэл поехать с ним, уверяя, что пароход «Покахонтас» действительно может плыть против течения. Они стояли на носу парохода, следя за тем, как обрамленные снегом берега Теннесси уступают место полутропической зелени Миссисипи, которую они также хорошо знали. Ей не хотелось покидать Эрмитаж, но она получила удовольствие, увидя Натчез, где холмы над рекой были усеяны приветствовавшими Джэксонов зрителями. В Новом Орлеане из воды вытянулся вверх красочный лес из мачт судов, эскортировавших их пароход. В десять часов утра плотный туман, нависший над водой, начал рассеиваться, и возникла панорама города с его шпилями. Они стояли на мостике «Покахонтаса», в то время как тысячи людей на берегу и в лодках выкрикивали приветствия, грохотал артиллерийский салют. Их встретили Эдвард и Луиза Ливингстон. Когда Эндрю осознал, как нравятся друг другу две женщины, он обещал Рейчэл, что в случае избрания его президентом Эдвард Ливингстон получит пост в правительстве и рядом с Рейчэл в Вашингтон-Сити будет Луиза, чтобы оказать ей помощь в проведении приемов и других светских мероприятий. Но стоило им вернуться в Эрмитаж, как оппозиция приложила все силы, чтобы омрачить празднование годовщины победы с помощью памфлетов «Защитник правды», «Ежемесячный разоблачитель Джэксона», публиковавшихся в Цинциннати полковником Чарлзом Хэммондом и тут же перепечатывавшихся во всех контролируемых Клеем газетах. Передышки не было. С каждой неделей выдвигались все новые обвинения и сплетни, воспроизводившие сами себя, пока они не докатились до измышлений, будто Эндрю Джэксон «вырвал ее из свадебного ложа и соблазнил»; будто они «ублажали свою извращенную похоть» в то время, когда она состояла в супружестве с Робардсом; будто она плыла вниз по реке не с полковником Старком и его женой, а находилась во второй лодке, в которой сожительствовала с Эндрю. Ее отношения с Эндрю, дескать, были «постоянным шутовством почти тридцать лет»; она и сегодня прелюбодейка, ибо у Рейчэл и Эндрю не было свадебной церемонии, даже второй раз, в 1794 году. Прелюбодейка… прелюбодейка… ПРЕЛЮБОДЕЙКА… Нападки были столь яростными и злобными, что проникали даже через толстые стены Эрмитажа. Они отравляли воздух, которым она дышала, пищу, которую ела. По вечерам, когда Рейчэл поднималась наверх, а Эндрю оставался внизу за своим письменным столом, лихорадочно составляя сотни защитительных писем и отправляя их в тиши ночи, даже плотно закрытые двери и окна не спасали Рейчэл от ядовитого дыхания клеветы. Она лежала, оцепенев, в постели, ныла каждая кость, каждая мышца ее тела, ее глаза были широко раскрыты и, не видя, смотрели в потолок, ей казалось, что клеветническая кличка отражается эхом от стен, вибрирует в воздухе, проникает в нее, овладевает ею. С приближением выборов напряженность нарастала. Теперь к травле присоединилась печать, контролируемая Адамсом. В этих листках ее называли женщиной, которую «именуют миссис Джэксон». Ее обвиняли в том, что она явилась причиной преждевременной смерти Льюиса Робардса, и в конечном счете протокол Харродсбургского суда, скопированный мистером Дейем, был воспроизведен в газетах страны через тридцать пять лет после того, как она и Эндрю были вынуждены промолчать и тем самым дать Льюису Робардсу возможность осудить ее за прелюбодеяние. Семьдесят тысяч долларов из правительственных фондов пошли на публикацию антиджэксоновских, антирейчэловских материалов; пятнадцать тысяч памфлетов в месяц с обвинениями против Рейчэл и Эндрю были отправлены по почте сторонниками Адамса и Клея в конгрессе за счет государства. Когда у Рейчэл было особенно тяжело на душе, она искала утешения в своей маленькой церкви. Она молила Бога, чтобы он помог положить конец нападкам на нее, затем доктор Кэмпбелл, ее священник, убедил ее, что вместо молитвы за себя ей следует молиться за своих клеветников, ибо в Судный день именно им потребуются ее молитвы. В этот вечер она встала на колени у постели и молилась: — Прости им, Боже, ибо не ведают, что творят. Подошло лето. Сотни предварительных баллотировок были проведены по всей стране. В большинстве случаев Эндрю побеждал с подавляющим числом голосов. Она надеялась, что теперь, возможно, не из жалости, а из страха перед возмездием ярость выпадов ослабеет. Но оставалось еще несколько месяцев до официального голосования, и по-прежнему распространялись грубые карикатуры, изображавшие ее неграмотной женщиной из глухомани, на улицах больших городов распевались о ней непристойные песни, тысячами печатались оскорбительные стихи. Уильям Льюис возвратился из Натчеза, так и не обнаружив записи об их первой брачной церемонии. Она слушала вполуха, когда ей рассказывал Эндрю об итогах своей поездки; ей было в общем безразлично, ведь ничего большего о ней сказать уже не могли. К тому же ей становилось все труднее дышать, и ее почти все время мучила боль в груди. Дневная работа отнимала всю энергию и способность сосредоточиться. Рейчэл познала коварную силу слухов и сплетен, она слишком долго жила в их атмосфере и видела их многочисленные проявления. Поэтому она лишь слегка удивилась, когда Джон Итон и Уильям Льюис посетили ее и осторожно высказали предположение, что, быть может, лучше для нее не участвовать в триумфальной процессии в Вашингтон-Сити и в инаугурационных празднествах, поскольку страсти слишком разгорелись и любое проявление насилия почти неизбежно создаст для нее опасность. Она знала, что ее друзья искренне верят в ее невиновность, но тем не менее оппозиция добилась своего: ее считают бременем и обузой. В этот вечер перед сном она сказала Эндрю: — Мой дорогой, если тебя выберут, я думаю, лучше всего тебе поехать одному в Вашингтон-Сити. Я приеду позже, когда ты вступишь в должность и избирательная истерия спадет. Тогда я смогу проскользнуть спокойно, без комментариев. Эндрю был обозлен и обижен, и ей было трудно определить, какое чувство в нем преобладает. Он вскочил на ноги и стоял, возвышаясь над ней: — Разве ты не видишь, насколько неправильно это было бы! Если ты останешься дома, то признаешь, что испугалась. Хуже того, создалось бы представление, будто я не хочу тебя или же ты не обладаешь качествами первой леди. Это будет твой триумф в такой же мере, как и мой, мы вместе поедем в Вашингтон-Сити. Ты будешь рядом со мной, когда я буду приносить присягу. И пусть пожалеет Бог тех негодяев, которые так испортили тебе жизнь. Я знаю, ты молишься, чтобы Бог простил твоих врагов, я же никогда им не прощу. 24 ноября губернатор Теннесси Кэррол прискакал возбужденный в Эрмитаж. Рейчэл приняла его в гостиной. Лицо губернатора буквально сияло. Он низко поклонился, поцеловал руку Рейчэл и воскликнул: — Я не уступил никому чести первым доставить известие. Я хотел первым сказать вам, что Эндрю Джэксон избран президентом Соединенных Штатов. Завершилось, она выжила. Рейчэл стояла перед губернатором молча и слышала лишь, как громко стучит ее сердце, словно оно готово вырваться из груди. Когда в комнату вошел Эндрю, она обняла его за шею, поцеловала в губы и сказала: — Счастлива за тебя, дорогой. Нашвилл обезумел от радости. На 23 декабря был намечен огромный праздничный банкет. Рейчэл казалось, что к воротам Эрмитажа собрались все жители долины Кумберленда, стремясь пожать руку Эндрю и ей. Клуб нашвиллских леди подготовил для нее красивый дорогой гардероб. Однако она заметила, что Эндрю равнодушен и не проявляет большой радости. Он казался даже подавленным. Рейчэл спрашивала себя: не потому ли с ним такое, что он так много страдал два прошедших года как за себя, так и за меня? Наблюдая за тем, как он принимает поздравления приходивших из Нашвилла, слыша, как гудит толпа, когда они въехали в город, Рейчэл мгновенно вспомнила, как выглядел Эндрю после его великого триумфа в Новом Орлеане. Тогда жители Луизианы выстроились на улицах и кричали ему здравицу, а он неловко снимал шляпу, словно его дух был унижен и он испытывал замешательство. Только теперь Рейчэл поняла, какую тяжелую ношу накладывает любой триумф. Эндрю стал главой разделенной, почти разрушенной страны, в которой есть социальные группировки, не желающие признать его и предсказывающие, что он введет в правительство толпу, сброд, что день прихода его к власти обозначит конец Великой Американской Республики. Она почувствовала, что жалеет мужа, перед которым стоит невообразимая по трудности задача. А что будет с ней самой? С той большой ответственностью, которая выпала на ее долю как хозяйки Белого дома? Скандалы сойдут на нет, но можно ли забыть все эти годы, когда ее так поносили? Где в Вашингтон-Сити найдет она укрытие от подозрительных взглядов незнакомцев, раздумывающих, какая часть рассказов о ней правильна, а какая нет? У нее нет выбора, она не может отказаться от поездки в Вашингтон-Сити с Эндрю. Закон может оспаривать статус ее свадьбы в Натчезе, но в ее собственном сердце нет места для сомнений. Там, под сверкающей люстрой Тома Грина, она навеки связала свою судьбу с судьбой Эндрю… и связала бы вновь сегодня, если бы пришлось сызнова все повторить./6/
Предстояло проделать большую работу. На этот раз не нужно было спрашивать мужа, едут ли они на несколько месяцев или на несколько лет. Он сказал ей, что, если им повезет, они смогут посетить Эрмитаж летом 1830 года, но не следует уповать на это. За плантацией будут присматривать, но как быть с самим домом? Следует ли натянуть чехлы на мебель, заколотить ставни? Или же оставить дом как есть, может быть поселив в нем племянницу или племянника, чтобы могли приезжать и останавливаться друзья? Зная склонность Эндрю щедро принимать гостей, не следует ли взять с собой побольше серебра, посуды, постельного белья? Декабрьские дни были наполнены лихорадочной деятельностью. Рейчэл почувствовала, что быстро утомляется и испытывает внутреннюю напряженность. Она вызвала своего семейного врача доктора Сэмюэля Хогга. Он сделал ей кровопускание, снизил давление. Несколько раз, когда намечалась ее поездка в Нашвилл для примерки или за покупками в связи с их предстоящим отъездом, она не смогла собрать силы и подняться с постели. Они намеревались выехать из Эрмитажа в Вашингтон-Сити сразу же после рождественских праздников. В понедельник 17 декабря Рейчэл получила записку от Сары Бентли: если Рейчэл не придет срочно к ней, чтобы в последний раз примерить платья, которые она намерена надеть в день инаугурации и официального приема, то в таком случае они не будут готовы ко времени отъезда в Вашингтон-Сити. Рейчэл знала, как будет огорчена Сара, да и Эндрю тоже, если она не возьмет с собой эти платья. Собрав все свои силы, она оделась, и карета доставила ее в Нашвилл. Примерка была долгой и изнурительной. Сара была готова вылезти из кожи вон, но сделать так, чтобы сшитые ею платья принесли славу Теннесси. Когда примерка закончилась, Рейчэл сказала: — Сара, когда за мной придет мой слуга, будь добра, скажи ему, что я на нашвиллском постоялом дворе. Я отдохну там до отъезда домой. Рейчэл медленно двинулась по улице и, пройдя квартал, вошла в гостиницу, выбрала пустынную в это время дня маленькую гостиную и с чувством облегчения опустилась в большое удобное кресло в углу, невидимое из большой гостиной. Она задремала, когда обрывки разговора, доносившегося через полуоткрытые двери соседней гостиной, разбудили ее. Говорили две женщины, голоса были вроде бы знакомые… она слышала их раньше: громкие, высокомерные, властные, но было что-то незнакомое… она не была уверена… Затем она перестала прислушиваться к интонациям и переключила внимание на слова. Женщины обсуждали итоги выборов и предстоящий отъезд Джэксонов. Один голос, более глубокий и грудной, спрашивал, что будет теперь со страной, когда к власти пришел самый низкий, самый невежественный класс общества и в Белый дом въезжает пьющий, играющий в азартные игры хулиган и убийца. Более высокий и визгливый голос уверял, что его хозяйку охватывает дрожь при мысли, что международное сообщество Вашингтон-Сити будет делать с этой опустившейся, раскуривающей трубку невежественной женщиной из глухомани, которая стала теперь первой леди страны. — Леди! — воскликнула первая. — Как вы можете называть ее леди? Рейчэл оперлась на ручки своего кресла и приподнялась. Она догадывалась, что будет дальше. Твердо поставив ноги и слегка раздвинув и углубив их в ковер, подняв пальцы ног, она выгнула спину, вытянула вперед руки, чтобы схватиться за опору и удержать вес своего тела. — …Именно это и продолжают спрашивать газеты: можно ли допустить, чтобы шлюха была в Белом доме? К такому подлому выпаду Рейчэл не была готова. Острый, ножевой удар почти непереносимой боли пронзил ее сердце и левую руку. Она осела, упала в кресло. Неужели она думала, что все это кончилось? Это никогда не кончится! Ее губы шептали молитву: — Нет, нет, милосердный Боже, только не здесь… в чуждой гостиной отеля. Позволь мне добраться до дома… под собственную крышу… в свою постель… к моему мужу… С невероятным усилием она дотащилась до выхода. Ее ожидала карета. Слуга помог ей сесть внутрь. Рейчэл откинулась на подушки. Ее левая рука была непослушной… ее парализовало, голова отяжелела, мысли расплывались, сознание цеплялось за одну-единственную мысль — продержаться до возвращения в Эрмитаж. До полпути дорога шла вдоль ручья. Звук проточной воды освежал. Быть может, если она обмоет лицо холодной водой, то это придаст ей силы? Она не хотела бы появляться дома в таком состоянии: Эндрю будет напуган и расстроен… Рейчэл попросила кучера остановиться. С трудом спустилась она с подножки кареты, затем медленно добралась по низкому берегу к руслу ручья. Сняла шляпу, расстегнула пуговицы пальто, намочила свой носовой платок в ручье, прижала его ко лбу и глазам. Прохлада создавала приятное ощущение. Она еще ниже наклонилась к ручью, зачерпнула воду ладонью правой руки и намочила свои волосы. Рейчэл почувствовала облегчение — боль в груди ослабла. Перед ее мысленным взором появился другой ручей, при другом возвращении домой; она смочила тогда прохладной водой свои длинные черные волосы и остудила свои лихорадочно бившиеся мысли: ее выставили из дома Робардсов, и она задержалась у небольшого ручья, желая придать себе более презентабельный вид, прежде чем предстать перед семьей, и решив: она должна высоко держать голову, ведь она ничего плохого не сделала. С какой определенностью начало закладывало завершение! Эндрю был в отчаянии. Он сидел около ее постели, держал ее руки в своих, лишившись дара речи. Врач-сосед, сделав ей кровопускание, сказал Эндрю: — Воздействие паралича… затронуты мускулы груди и левого плеча… аритмия сердца… Из Нашвилла приехал доктор Хейскелл, считавший, что первое кровопускание не ослабило симптомов, и вновь произвел кровопускание. Наступила ночь, прежде чем до Эрмитажа добрался доктор Хогг, сделавший третье кровопускание. Теперь казалось, что боль отпустила ее. Эндрю подложил ей подушку, немного приподнял ее в кровати, а затем сел в кресло около нее. Рейчэл не представляла, сколько времени прошло, по меньшей мере дважды была ночь и дважды был день. Эндрю не отходил от нее. Сквозь туман она слышала, как врачи советовали ему соснуть, иначе может быть обморок: на завтра назначен праздничный банкет в Нашвилле, где он должен присутствовать, и будет нехорошо, если он примет поздравления соседей, сам похожий на мертвеца. Она слегка приподнялась, изобразив улыбку. Она не чувствовала боли, она вообще не чувствовала своего тела. — Мне намного… лучше, — сказала Рейчэл медленно. — Не можешь ли усадить меня в это кресло… перед камином? У нас скоро визит… тебе надо поспать. Эндрю подбросил в камин дрова, вместе с покрывалами поднял ее из постели. Он сел на пол перед ней, его длинные худые руки крепко удерживали одеяло вокруг ее колен, его преданность рельефно проступала в каждой линии его лица. — Эндрю, ты должен готовиться к поездке в Вашингтон-Сити без меня. Я приеду через несколько недель… как только окрепну. — Нет! — Он поднялся на колени. — Я не поеду без тебя! Я не вынесу этого… Я могу подождать… У меня есть время. Мы пережили так много, и мы сможем преодолеть и это. Твоя любовь — самое важное в моей жизни. Я не выйду из этого дома, пока ты не сможешь стоять рядом со мной… как всегда стояла. Она взяла в свои руки его худое, покрытое морщинами лицо, вспоминая, как увидела его в первый раз, когда он стучал в дверь блокгауза Донельсонов, а она улыбалась, глядя на копну густых рыжих волос, на пронзительно-голубые глаза, неровный большой рот и мощный подбородок. Ну и что, пусть его волосы стали снежно-белыми, губы сурово сжаты, а лоб и щеки рассечены морщинами. Он достоин своего возраста и теперь взойдет на самый высокий пост в стране. Его жизнь была полна свершений, и, достигая их, он делал богатой и ее жизнь! Рейчэл поцеловала Эндрю в лоб, прошептав: — Именно это я хотела услышать от тебя, дорогой. Теперь все в порядке. Ступай и сосни. Я буду утром здесь. И я поеду с тобой в Вашингтон-Сити. Он поцеловал ее, пожелав доброй ночи. Она проводила его взглядом до двери, через прихожую, в гостевую спальню. Рейчэл сидела, глядя на огонь, освещавший камин и комнату… потом почувствовала, что скользит. Она упала. Словно в тумане она услышала звук бегущих ног. Кто-то поднял ее. Был это?.. Да, это был Эндрю. Это хорошо. Так и должно быть. С последним проблеском сознания она почувствовала, что ее уложили в постель. Голова лежала на ее собственных подушках. Она ощутила влажную от слез щеку Эндрю на своей щеке, слышала, как он повторял: — Люблю тебя, люблю тебя. Где-то внутри себя она улыбнулась, чувствуя, словно она отходит все дальше и дальше. А затем уже не было ничего./7/
Эндрю вышел из отеля «Гэдсби» с небольшой группой друзей и пошел по Пенсильвания-авеню к Капитолию. Под ногами снег превращался в грязь. Грохотали пушки, выстроившиеся вдоль авеню тысячи людей бурно приветствовали его, он же не слышал ничего. Он вошел в Капитолий через заднюю дверь полуподвального этажа, прошел к огражденному канатами портику, где главный судья Маршалл принял его присягу под оглушающее одобрение многотысячной толпы. Память Эндрю вернула его в Эрмитаж: он сказал Рейчэл, что она будет рядом с ним, когда он будет приносить присягу, но она покоилась в земле своего любимого сада в долине Кумберленда. Преподобный Хьюм произнес над могилой: — Праведных будут помнить всегда. Так и будет. Эндрю сел в седло и поехал к Белому дому. В красивом Восточном зале стояли длинные столы, заставленные апельсиновым пуншем, мороженым и пирожными. Это его первый прием, а ему противна сама мысль о приеме. Склонив голову, Эндрю медленно вел свою лошадь. Протокол диктовал, кого можно пригласить: высокопоставленных членов вашингтонского общества — друзей Джона Куинси Адамса и Генри Клея, которые клеймили его как невежду, расхитителя, хулигана, лгуна, бунтаря, который разрушит Республику. Кроме нескольких личных друзей и сторонников в конгрессе, на приеме не будет тех, кого он хотел бы видеть, — своих последователей и людей, избравших его. Нет, Белый дом и Восточный зал заполнят женщины, увешанные драгоценностями, важные общественные и политические деятели, которые презирали его жену, обзывали ее всевозможными грязными именами, какие приходили им на ум, и кончили тем, что убили его горячо любимую Рейчэл. И он должен принимать этих людей! Но он размышлял без учета настроения толпы сторонников, прибывших в Вашингтон-Сити со всех уголков страны, чтобы присутствовать на инаугурации. Они двинулись потоком по Пенсильвания-авеню, прорвались через ворота Белого дома, пробились в Восточный зал, жадно съели мороженое и пирожные, выпили апельсиновый пунш. Они влезали на стулья, чтобы увидеть Эндрю, пачкали грязными сапогами обивку стульев из дамаста, ковры, разбивали стекло и фарфор, кричали, требовали, толкались, желали дотянуться до Эндрю, обнять его. Он стоял в конце зала, окруженный ими вплотную, ощущая первый проблеск счастья после смерти Рейчэл. Это был народ, он на его стороне. Народ любил Рейчэл, он отомстит за нее. За это Эндрю любил их всех и до конца дней своих будет за них бороться.Вместо эпилога
«Я никогда прежде не видел такого столпотворения, — говорил Дэниель Уэбстер.[22] — Люди приезжали за пятьсот миль, чтобы посмотреть на генерала Джэксона, и, казалось, они и впрямь верили, будто страна была спасена от страшной опасности». Тысячи людей приехали в Вашингтон, чтобы присутствовать при инаугурации «народного президента». В течение нескольких дней они заполнили все постоялые дворы, в одну постель укладывались несколько человек, а другие спали порой на бильярдных столах или просто на полу. Наконец пришел торжественный день — 4 марта 1829 года. Утро было хмурым, но, когда собралась огромная толпа, солнце пробилось сквозь облака и согрело людей, заполнивших улицы, веранды, портики и балконы в домах на Пенсильвания-авеню. Около девяти часов утра высокий генерал — ему исполнился шестьдесят один год — выехал из таверны «Гэдсби», где он остановился. Мальчишки, наблюдавшие из окна по соседству, закричали; раздался залп пушек, и столпившиеся вдоль авеню загудели. По пути в Капитолий еще не оправившийся от болезни герой то и дело останавливался по воле приветствовавших его, но он, казалось, был не в обиде и пожимал каждую протянутую руку. Как отмечала журналистка Энн Руаяль, из всех присутствовавших на церемонии инаугурации Эндрю Джэксон был в самой простой одежде. В знак скорби о своей жене, умершей за три месяца до этого, президент был в черном, траурном костюме. Он выглядел «худым, бледным и грустным, а его волосы… были почти белыми». Произнося речь, президент говорил мягко, но без модуляций, и было заметно, как дрожат его руки, когда он переворачивает листы. Столь же скованным выглядел верховный судья, убежденный федералист Джон Маршалл, который принимал присягу Эндрю Джэксона, не скрывая своего недовольства. За новым президентом, ехавшим в Белый дом верхом, следовал народ: люди прошли вдоль авеню, прорвались мимо стражников внутрь Белого дома; прорвавшиеся толкались, ругались, пускали в ход кулаки. В Восточном зале Белого дома, где были накрыты столы, толпа набросилась на закуски; началось буйство: на пол полетела хрустальная и фарфоровая посуда, женщины падали в обморок, вспыхивали рукопашные схватки, у некоторых были расквашены носы, запачкались кровью одежда и мебель. Буйное сборище — «подлинная Сатурналия», как назвал ее один из свидетелей, — не понравилось президенту. Сквозь цепочку взявшихся за руки мужчин он выскользнул через заднюю дверь и вернулся в таверну «Гэдсби». «Король-Толпа, — заметил верховный судья Джозеф Стори, — оказался триумфатором». Такой взрыв не был неожиданностью для противников Джэксона. В десятилетие, предшествовавшее выборам 1828 года, по мере того как штат за штатом отменял имущественный ценз для участия в голосовании, растущее подобно снежному кому влияние простого человека породило страх в сердцах американского высшего класса. Нью-йоркский юрист Джеймс Кент обращал внимание на «тенденцию среди бедных урвать свою долю путем грабежа богатых… предприимчивых и добропорядочных, а также тенденцию среди честолюбивых и злокозненных людей поджигать этот горючий материал». С точки зрения Кента, Джэксон и его сторонники были такими честолюбивыми и злокозненными людьми. Кампанию перетягивания масс на свою сторону они начали в 1824 году, и, изображая президента Джона Куинси Адамса и его администрацию тиранами-угнетателями, они довольно легко захватили пост президента в 1828 году. Отвергнутый политический истэблишмент впал в оцепенение: государственный секретарь Генри Клей провел большую часть зимы дома, лежа на своей кушетке под черным покрывалом, словно в трауре; другие члены кабинета жаловались на различные недуги; президент Адамс, выжидая в Белом доме истечения своего срока, не встретился со своим преемником и не сказал ему ни слова, он ускользнул из Вашингтона ночью перед церемонией инаугурации. Если кто-либо из противников Джэксона полагал, что народ представляет нечто большее, чем безжалостную толпу, то бесчинство ворвавшихся в Белый дом рассеяло их сомнения. «Страна, — заявил Джон Рэндолф, — безнадежно разрушена». Разумеется, она не была разрушена, но изменилась. Под руководством первых четырех президентов — виргинских аристократов и двух Адамсов — американские фермеры, ремесленники, мастеровые и торговцы успешно процветали и превратились в большой, постоянно усиливающийся средний класс. К 1828 году государство принадлежало им, и они официально провозгласили свое право на власть, избрав президентом Эндрю Джэксона. Джэксон изменил управление в духе новой Америки, расширил полномочия исполнительной власти, дал новое толкование ее обязанностям. Эндрю Джэксон завоевал поддержку народа по ряду причин, и, вероятно, главным было то, что он воплощал в то время и надолго в дальнейшем так называемую американскую мечту. — Родившийся в бедной семье почти в глуши, он добился успеха благодаря своим усилиям, железной воле и убеждениям. Признательный народ поставил его на одну доску с Джорджем Вашингтоном, но с одним различием: Вашингтон был джентльменом-героем, высокочтимым за преданность высокому делу, Джэксон же был из их среды, человеком из глубинки. Джэксон родился в местечке Уоксхауз, в лесном районе на границе Северной и Южной Каролины, 15 марта 1767 года. Он не знал своего отца: за две недели до рождения третьего сына иммигрант-ирландец, поднимая тяжелое бревно, надорвался и умер. Братья Эндрю — Хью и Роберт, а также дядюшка из Южной Каролины составили его общество и в некоторой мере были его наставниками. Он не посещал школу, но к пяти годам, достаточно ответственно подходя к своему беспорядочному образованию, научился читать, а к восьми годам — писать. Джэксон вымахал высоким, ловким, голубоглазым, веснушчатым парнем с непослушными волосами и столь же неспокойным характером, готовым ввязаться в драку по любому поводу. «Джэксон никогда не уступит», — вспоминал его приятель, утверждавший, что у него хватало сил «повалить его три раза из четырех», и он тут же жаловался, «что Джэксон никогда не останется лежать на земле». Когда в 1780 году революция дошла до Уоксхауза, к ней примкнули братья Джэксон. По возрасту лишь Хью годился в солдаты, и он был убит в сражении. Тринадцатилетний Эндрю стал конным ординарцем, рассыльным, но участвовал и в случайных схватках. После одной стычки он и шестнадцатилетний Роберт были взяты в плен. Когда Эндрю отказался подчиниться британскому офицеру, приказавшему почистить его сапоги, офицер ударил Джэксона саблей, до костей поранив его левую руку и порезав голову; для порядка офицер нанес удар и Роберту. Во время последовавшего за этим инцидентом сорокамильного перехода никто не ухаживал за ранеными братьями Джэксон, и в результате парни захворали оспой. К месту заточения пробилась их мать, Элизабет Джэксон, и убедила британского командующего отпустить больных сыновей на ее попечение. Во время долгого перехода домой оба парня, вымоченные дождем, впадали в бред. Роберт умер, а Эндрю уцелел благодаря своей невероятной (а позднее и легендарной) выносливости. Имея на руках единственного оставшегося в живых сына, миссис Джэксон отправилась в гавань Чарлстона, где на борту британского корабля-тюрьмы лежали в лихорадке два кузена Джэксонов, нуждавшиеся в уходе. И позже Эндрю получил узелок с одеждой матери и записку, извещавшую его, что она похоронена вместе с другими жертвами чумы в безымянной могиле. «Я почувствовал себя совсем одиноким», — вспоминал позже Джэксон. Для тех, кто помнил его в те годы, Эндрю Джэксон, вырвавшись из тисков одиночества, стал «буйным, подвижным, боевитым, игравшим на скачках, в карты, озорным парнем… вожаком хулиганов…». Но озорство Джэксона не было бесцельным, ибо он был крайне честолюбив. Вскоре после смерти матери он оказался в Солсбери, Северная Каролина, где стал изучать право. В 1788 году после завершения обучения вместе со своим другом Джоном Макнейри он отправился в Западный район Северной Каролины (ныне Теннесси). Макнейри был избран судьей верховного суда района, а Джэксон занял пост прокурора. В Западный район можно было попасть, лишь проехав по индейской территории. На Кумберлендской дороге в ста восьмидесяти милях от освоенных районов находилось поселение Нашвилл, где поселенцы жили в блокгаузах, защищавших их от враждебно настроенных индейцев. Это был развивающийся район — идеальная арена для молодого, неопытного, но старательного прокурора. Эндрю Джэксон поселился в блокгаузе вдовы Донельсон, дочь которой, Рейчэл Робардс, разошлась со своим мужем. Чувственная красота Рейчэл привлекала внимание многих мужчин, но слишком ревнивый Льюис Робардс не терпел, когда восхищались его женой. Спустя несколько месяцев после того, как Рейчэл ушла от него, он приехал в дом Донельсонов, пытаясь добиться примирения, хотя и питал подозрения в отношении Эндрю Джэксона. Когда Джэксон узнал об этом, он вызвал Робардса на дуэль; тот отказался, и Джэксон покинул блокгауз. После этого Робардс и Рейчэл вернулись в Кентукки. Однако в 1790 году миссис Донельсон сообщила Джэксону, что ее дочь вновь хочет оставить мужа. Джэксон поехал в Кентукки, чтобы забрать Рейчэл и сопроводить ее обратно в Кумберленд. Под предлогом неверности жены Робардс просил законодательное собрание Виргинии принять билль о разводе. Законодательное собрание выдало ему лишь разрешение обратиться в суд. Тем не менее Робардс распустил слух, будто ему дан развод, и в августе 1791 года Джэксон и Рейчэл поженились. Однако на самом деле развод был дан двумя годами позже. Джэксон, не зная об этом, вернулся в Нашвилл, где возобновил свою юридическую деятельность. Он действовал решительно как прокурор — за тринадцать дней он провел в жизнь семьдесят исполнительных актов, — проявлял консерватизм, становясь, как правило, на сторону заимодателей против должников. Джэксон спекулировал землей, рабами, лошадьми и в глухой общине считался состоятельным человеком. Он удовлетворил свой интерес к военному делу, заняв пост прокурора районной милиции, — весьма скромное начало для будущего героя сражения при Новом Орлеане. Хорошо владеющий ружьем, непримиримый противник англичан и индейцев, завидующий восточной аристократии, Джэксон был в этом смысле типичным представителем пограничных джентльменов. В декабре 1793 года Джэксон узнал, что Рейчэл разведена с мужем всего три месяца назад. Поначалу он отказался совершить повторно брачную церемонию: гордость не позволяла ему признать недействительность первой брачной церемонии, но его убедили изменить свою точку зрения. Вторая церемония состоялась в январе 1794 года. В июне 1796 года территория Кумберленда стала штатом Теннесси, — по общему мнению, такое название предложил Джэксон, — и молодой многообещающий юрист был избран от нового штата в палату представителей Соединенных Штатов. Альберт Галлатин обратил на него внимание в палате представителей как на «высокого, долговязого, неуклюжего типа… в сюртуке с фалдами, связанными кожей угря… с манерами… неотесанного лесника». За один срок пребывания в палате представителей Джэксону удалось выколотить для своего штата почти двадцать три тысячи долларов для платы милиционерам, принимавшим участие в рейде против индейцев, осуществленном вопреки приказам федерального правительства. Он также проявил упорство, отказываясь проголосовать за прощальные почести, какие конгресс хотел оказать Джорджу Вашингтону. (Джэксон был против договора Джея[23] и упрекал Вашингтон в мягком отношении к индейцам.) После окончания срока службы в палате представителей и года пребывания в сенате он ушел в отставку и возвратился в Теннесси, где был назначен в верховный суд штата. Несмотря на слухи о его радикализме, Эндрю был склонен занимать консервативные позиции, выступая в пользу землевладельцев. Добившись положения и влияния, Джэксон не отрешился, однако, от «буйных, задирчивых» замашек и, вернувшись в Теннесси, где стал объектом пересудов, касавшихся его жены и свадьбы, дал волю своим эмоциям. Однажды, в октябре 1803 года, в субботу утром, на ступенях здания суда губернатор Джон Севьер начал распространяться о своих услугах штату. Вперед вышел Джэксон и сказал о том, что сделал он. Севьер усмехнулся: «Не знаю о ваших больших услугах стране, кроме поездки… с чужой женой». Джэксон тут же набросился на Севьера с яростным воплем и ударил старого солдата своей тростью. После этого он вызвал Севьера на дуэль, но когда они встретились на поле чести, то принялись кричать друг на друга. Джэксон подбежал к сопернику, угрожая избить его палкой, а Севьер вытащил из ножен саблю. Это напугало лошадь Севьера, и она ускакала с его пистолетами. Обмен выстрелами не состоялся. Более серьезной была дуэль Джэксона, состоявшаяся тремя годами позже, с Чарлзом Дикинсоном, денди, дважды сделавшим намек на супружеские достоинства Рейчэл. Джэксон был ранен в грудь, но он нашел в себе силы выпрямиться и прицелиться. Дикинсон, уверенный в том, что поранил цель, отшатнулся в испуге, поняв, что промахнулся, но, согласно правилам (Джэксон еще не выстрелил), был обязан вернуться на линию. Стоя со скрещенными руками, Дикинсон получил от Джэксона пулю 0.70 калибра в пах и умер медленной, мучительной смертью. Пуля Дикинсона застряла так близко около сердца Джэксона, что ее невозможно было извлечь, и Джэксон носил ее в груди до конца своей жизни, испытывая острую боль. Возможно, наиболее известной ссорой Джэксона была его ссора с братьями Бентон — Джессом и Томасом Гартом (последний стал затем его политическим союзником). Том Бентон критиковал роль Джэксона как секунданта на дуэли. Однажды в 1813 году Джэксон приехал в Нашвилл, увидел своего противника и, вооруженный кнутом, погнался за Бентоном к гостинице, чтобы его проучить. В последовавшей стычке в него выстрелили дважды. Его плечо было раздроблено пулей, но он отказался от ампутации руки, и она была спасена. Конфликт Джэксона с Бентонами произошел во время войны 1812 года, в которой Эндрю, несмотря на свой боевой дух и полномочия (он был в то время генерал-майором добровольцев Соединенных Штатов), участвовал лишь косвенно. В 1812 году Джэксон организовал дивизию и привел ее в Натчез, чтобы сражаться против британцев, но едва он успел привести свою дивизию, как из Вашингтона поступил приказ распустить войска, когда они находились на расстоянии восьмисот миль от дома, и при этом без снабжения и запасов. Джэксон наотрез отказался, не скрывая своего отвращения к «злым махинациям» политиков и решив довести две тысячи своих солдат домой, обеспечив им питание за собственный счет. Во время такого трудного перехода, как заметил один солдат, Джэксон был «крепок, как гикори». Вскоре солдаты стали называть его Старым Гикори. В 1813 году Старый Гикори поднялся с постели со все еще кровоточащими ранами, нанесенными братьями Бентон, чтобы сражаться с индейцами племени крик. Кампания продолжалась в 1814 году и показала вашингтонским политикам, что Джэксон — искусный тактик и это нельзя игнорировать. (Однако после победы Джэксон навязал племени крик такой суровый договор, что впоследствии федеральное правительство отменило многие его статьи.) Его непримиримая враждебность к индейцам была, возможно, его самой непривлекательной чертой. В 1814 году, когда основной театр военных действий переместился на Юг, на его плечи легла оборона Нового Орлеана. Сначала Джэксон без официального разрешения повел своих солдат в Испанскую Флориду, вытеснил британцев из Пенсаколы, «освободил» ее, считая американской (таковой она вскоре и стала). Потом он направился к Новому Орлеану, где пытался блокировать шесть основных водных подступов к городу. Узнав, что британцы уже захватили озеро Борнь и находятся в восьми милях от города, Джэксон, согласно свидетельствам, вскочил, стукнул кулаком по столу и закричал: «Боже Всевышний, они не будут спать на нашей земле!» Его контратака в эту ночь, по мнению многих военных историков, спасла город. Две тысячи четыреста британских солдат встали лагерем на плантации Вильере, ожидая подхода подкреплений такой же численности. Пока они ожидали, Джэксон направил шхуну «Каролина» для артиллерийского обстрела британских солдат и после этого произвел атаку. На следующее утро, когда войска противника еще не пришли в себя после неожиданного нападения, Джэксон отвел своих солдат на оборонительные позиции у Родригез-канал. Готовясь к ожидавшемуся нападению, на подготовленных позициях он разместил своих солдат и увеличил их численность. К пограничникам из Кентукки и Теннесси он добавил регулярные и иррегулярные войска — креолов, свободных негров, горстку храбрецов племени чоктау, а также пиратов Жана Лаффита. 6 января 1815 года «победители победителей Европы» пошли в атаку и оказались под шквалом перекрестного огня. Англичане не смогли захватить артиллерийские батареи, которые они собирались использовать против американцев, и обнаружили, что из их стройных рядов солдаты падают пачками. Поле битвы, ровное, со срезанным сахарным тростником, не имело укрытий; можно было уцелеть, лишь отходя назад. По мере того как передовые линии скашивались прицельным американским огнем, последующие дрогнули, а затем бросились врассыпную. «Никогда прежде британские ветераны не трусили, — мрачно заметил один из младших офицеров, — но этот свинцовый шквал не выдержал бы никто на земле». После сражения более пятисот солдат поднялись из-под груды убитых товарищей и сдались в плен. «Я никогда не видел столь огромной и чудовищной сцены воскрешения из мертвых», — сказал генерал Джэксон. Потери американцев составляли 8 убитых, 13 раненых, около 19 пропавших без вести; потери британцев — 2036 человек. Победа привела нацию в возбуждение. По иронии судьбы, война уже закончилась (сообщение о мире не успело дойти до Джэксона), но победа в сражении дала молодой стране важный для нее психологический подъем. Эндрю Джэксон приобрел славу освободителя Америки, ее второго величайшего героя после Джорджа Вашингтона. В Новом Орлеане на Оружейной площади маленькая девочка пела хвалу генералу, в то время как дюжины других девочек сыпали ему под ноги цветы. После англо-американской войны Эндрю Джэксон закрепил свой авторитет выдающейся личности. Он обратил свое внимание на Флориду, куда устремился экспансионизм США. Испанцам было трудно контролировать Восточную Флориду, где окопалось множество мятежников, стремившихся установить свою собственную власть. Племена семинолов и крик, пользовавшиеся услугами британских военных солдат, совершали набеги на пограничные районы Джорджии; американские войска прогоняли индейцев в глубь Флориды, но в обозе войск следовали американские поселенцы, захватившие земли. Поскольку индейцы давали отпор пришельцам, президент Монро поставил Джэксона во главе военной экспедиции, но обязал его не нападать на укрывавшихся в испанских фортах. Однако Джэксон, вознамерившийся захватить «всю Восточную Флориду», в 1818 году взял город Сент-Марк под тем предлогом, будто он подвергся нападению индейцев. Вслед за этим он сжег деревню семинолов; обвинив двух британских подданных в оказании помощи индейцам, он казнил их. В мае Джэксон двинулся на Пенсаколу и низложил тамошнего испанского губернатора, поставив на его место одного из своих офицеров, и по сему появилась угроза международного скандала. Президент Монро отрицал, что он разрешил Джэксону вторгнуться в испанскую колонию, но существует письмо военного министра Кэлхуна к губернатору Алабамы, в котором говорится, что Джэксон получил «полномочия вести войну так, как считает нужным». Во всяком случае, несмотря на сомнения некоторых политических кругов в столице, сельская Америка широко поддерживала деятельность Джэксона. В 1821 году Монро назначил его губернатором Флориды, которая была официально уступлена Испанией Соединенным Штатам в 1819 году. Прослужив всего четыре месяца, Джэксон возвратился в Нашвилл, где его навещали политические и общественные деятели, желавшие видеть его президентом Соединенных Штатов. Джэксон не сразу склонился к такой идее. «Полагают ли они, — спрашивал он, — что я такой беспросветный дурак и готов считать себя подходящим для поста президента Соединенных Штатов? Нет, сэр; я знаю, на что годен. Я могу командовать группой людей в жесткой манере, но я не подхожу для президента». Однако постепенно эта идея овладевала им. Не было ничего необычного в том, что в 1822 году в газетах появились статьи вроде той, что была опубликована 17 июля в нашвиллской «Виг»: «Великая гонка!.. Приз, из-за которого идет гонка, — кресло президента… Четыре штата уже посылали своих кляч. Почему бы Теннесси не выставить своего жеребца? И если так, пусть он зовется Старым Гикори…» Были по меньшей мере две причины, которые удерживали его от борьбы за пост президента. Во-первых, Рейчэл была против. Каждый раз, когда он занимал какой-либо пост, она оставалась одинокой, тревожилась за него, не могла дождаться его возвращения. И во-вторых, здоровье Джэксона серьезно пошатнулось. «Он плохо себя чувствует и никогда не поправится, если ему не дадут отдохнуть, — писала Рейчэл своей племяннице. — За тридцать лет нашей супружеской жизни… он не провел и четверти своих дней под родной крышей…» Но способность Джэксона преодолевать слабости своего тела и различные недуги была поистине невероятной: во время кампании против племени крик он заболел дизентерией, от которой никогда полностью не излечился. В 1821 году он писал другу, что в дополнение к хроническому кашлю и другим последствиям воспаления легких «я удостоился своей старой неприятности с желудком, которая меня здорово ослабила… короче говоря, сэр, я должен отдохнуть, иначе мое пребывание на земле будет недолгим…». Однако к 1822 году генерал явно примирился с ролью еще не объявленного кандидата в президенты. Следуя совету сенатора Джона Генри Итона отТеннесси, он отказывался от предложения Монро занять министерский пост, но вопреки своему желанию был избран сенатором и поехал в Вашингтон. 1824 год был переходным для Соединенных Штатов. Имущественный ценз для участия в выборах был ликвидирован в одних, но сохранен в других штатах; в одних штатах выборщики избирались членами законодательного собрания, в других — территориями, в третьих — партийными блоками. Все кандидаты, противостоявшие Джэксону, были республиканцами джефферсоновского толка. [24] Предполагалось, что Джон Куинси Адамс получит голоса горожан Северо-Востока и поделит голоса федералистов с Уильямом Крауфордом, позиции которого были сильны на Юге. Голоса граждан, впервые получивших возможность участвовать в выборах, и голоса Запада оспаривали Генри Клей и Эндрю Джэксон. Окончательный подсчет в день выборов президента дал Джэксону 99 голосов выборщиков, Адамсу — 84, Крауфорду — 41 и Клею — 37. Поскольку никто не получил требуемого большинства, выборы были перенесены в палату представителей, где в итоге закулисных интриг Клей поддержал Адамса, и Адамс выиграл. Джэксон подал в отставку с поста сенатора и тут же развернул кампанию, чтобы победить на выборах в 1828 году. Саботируя программы Адамса повсюду, где можно, сторонники Джэксона держали под прицелом президента все четыре года. По мере приближения даты выборов кампания вышла за рамки приличия. Редактор цинциннатской «Газетт» полковник Чарлз Хэммонд, давний друг Генри Клея, ставил в написанном им памфлете вопрос: «Должны ли осужденная прелюбодейка и ее муж-любовник занять высший пост в этой свободной христианской стране?» Став кандидатом в президенты, Джэксон лишился возможности вызвать противника на дуэль, но он горячо клялся, что «день возмездия… (для) министра Клея и его марионетки — полковника Хэммонда должен наступить…». Широко распространялась «Гробовая листовка», в которой словами и рисунками описывалась смерть Джона Вудса (бунтовщика, которого Джэксон казнил во время войны против племени крик) и шести милиционеров, казненных им в Алабаме. Распространялась также листовка, изображавшая Джэксона с мечом, пронзающим шею кого-то, поднимающего что-то на улице. Недоговоренность не была случайной, она позволяла воздействовать на более широкий круг избирателей. Тем не менее сторонники Адамса — Клея так и не смогли выйти из состояния обороняющейся стороны; отныне командовал не элитарный, а простой избиратель, и он стоял за Джэксона, который выиграл выборы со счетом 178 против 83. Вероятно, наиболее трагической жертвой кампании оказалась Рейчэл Джэксон. Один из видевших ее в то время нашел, что «прежде округлая и румяная красавица… ныне стала флегматичной и располневшей… Она говорит тихо, но быстро, с коротким, сопровождающимся одышкой дыханием». 17 декабря 1828 года у нее был сердечный приступ, через несколько дней осложнившийся плевритом. Вечером 22 декабря она сказала своей служанке, что предпочла бы быть «привратником в доме Господа Бога, чем жить в этом особняке (Белом доме)». Через двадцать минут генерал Джэксон, находившийся в соседней комнате, услышал, как она сказала: «Я падаю в обморок». Он бросился к ней, уложил в постель и почувствовал, как конвульсивно дрожали ее мускулы, предвещая смерть. На похоронах Джэксон горько плакал. Он говорил о «злых негодяях», убивших его «дорогую святую». Он громко крикнул: «Пусть Всевышний простит ее убийц, как простила она, я же никогда не прощу!» В следующем месяце избранный президент отправился в Вашингтон. Дороги по пути следования были полны людей, вышедших, чтобы увидеть его, но, уважая горе, толпа была спокойной. На судне от Цинциннати до Вашингтона, согласно свидетельству того времени, «сальный парень» сказал ему: «Генерал Джэксон, не так ли?» Генерал кивнул. «Да, а мне сказали, что вы умерли». — «Нет! Провидение до сего времени сохранило мою жизнь». — «И ваша жена еще жива?» Генерал, явно задетый этим вопросом, сделал отрицательный знак, после чего парень прекратил разговор, сказав: «Эй, а я думал, что это кто-то один из вас». Итак, Эндрю Джэксон прибыл в Вашингтон, и Американская Республика стала джэксоновской демократией, в которой честолюбивые молодые, энергичные люди полностью доверились стареющему больному человеку в траурной одежде, которого они чтили как собственный символ. По отношению к побежденным фракциям Старый Гикори выступил как радикал, но в душе он был скорее консерватором. По правде говоря, никто не знал, каким президентом будет Эндрю Джэксон. «По моему мнению, — писал Дэниель Уэбстер, — когда он придет, то принесет с собой свежую струю. Не могу сказать, в какую сторону она подует…» Сенатор Уильям Мэрси из Нью-Йорка как-то заметил, что политические деятели его штата «не видят ничего плохого в правиле, что победителю принадлежат трофеи, доставшиеся от врага». Ротация на постах не является чем-то новым: Томас Джефферсон, придя к власти, сменил 10 процентов служащих в администрации Джона Адамса, но термин «система трофеев»[25] имеет нечистоплотный привкус. Когда в течение первых восемнадцати месяцев пребывания у власти Джэксон сменил примерно те же 10 процентов служащих, его противники утверждали, будто он «привнес коррупцию в центральное правительство…». Президент никогда не отрицал, что использовал эту систему, но отрицал, что она коррумпирована. Ротация на службе, объяснял он, взламывает окопавшуюся бюрократию и предотвращает такое положение, когда правительство превращается в постоянный «механизм поддержки немногих за счет многих». Первый крупный кризис, пережитый Джэксоном после прихода в Белый дом, не носил политического характера, хотя его политические последствия были большими. Маргарет О’Нил, дочь хозяина таверны — друга Джэксона, а также сенатора Джона Итона, была темноволосой, круглолицей авантюристкой, избалованной, эгоистичной и веселой. Ей не было еще и шестнадцати лет, а на ее счету уже были одно самоубийство, одна дуэль, одна почти разрушенная и серьезно пострадавшая военная карьера и один неудачный побег с возлюбленным. Затем в восемнадцать лет она вышла замуж за военно-морского казначея Джона Тимберлейка. Итон, которому Пегги, так фамильярно звали Маргарет, вскружила голову, отправил Тимберлейка в море и держал его там, а сам тем временем принялся обхаживать молодую женщину, дабы утешить ее. План явно удался, и вашингтонское общество с большой тревогой следило за скандальным развитием дела. Первая леди, миссис Джеймс Монро, подвергла остракизму пару, за ней последовали другие столичные леди. В 1828 году Тимберлейк умер, находясь в море, то ли от болезни, то ли от запоя, хотя в Вашингтоне предпочитали верить, будто Тимберлейк перерезал себе глотку по причине неверности жены. Избранный президентом Джэксон — он был либо страшно наивным, либо циником, либо просто сочувствовал своему другу, но, бесспорно, близко принимал к сердцу вопрос женской репутации — предложил Итону, которого собирался назначить военным министром, жениться на Пегги Тимберлейк, чтобы «заткнуть рты». Пара сочеталась браком 1 января 1829 года. В связи с этим делом кабинет Джэксона раскололся. Вице-президент Джон Кэлхун, блестящий, самонадеянный джентльмен, желавший быть назначенным наследником президента, не смог (и, очевидно, не пытался) призвать к порядку свою жену и жен других членов кабинета. Они продолжали подвергать миссис Итон остракизму. С другой стороны, государственный секретарь Мартин Ван Бюрен, вдовец, также претендовавший на пост президента, поддерживал корректные отношения с четой Итон. Кэлхун надеялся, что, поставив в затруднительное положение Итона, он вынудит его подать в отставку и тем самым ослабит влияние Ван Бюрена. Но Итон в отставку не подал, а президент не толкал его к такому шагу. До апреля 1831 года «дело Итона» продолжало разделять администрацию и мешать правительственным делам. Затем Ван Бюрен, «маленький чудодей», неожиданно и просто нашел магическое решение: он вышел в отставку. Когда Итон понял намек и также подал в отставку, Джэксон получил возможность просить остальных членов кабинета — сторонников Кэлхуна подать в отставку. Огромное бремя свалилось с плеч генерала. Кабинет Джэксона был реформирован, и Ван Бюрен отбыл в Лондон в роли посланника при дворе Сент Джеймса,[26] чтобы там выжидать вознаграждение, полученное уже в 1832 году. Кэлхун и президент еще более разошлись во взглядах, процесс ускорился, когда Джэксон обнаружил, что вице-президент вопреки его утверждениям осуждал авантюру генерала во Флориде в 1818 году, и когда Кэлхуну удалось в сенате отклонить подтверждение назначения Ван Бюрена в Лондон. Амос Кэндалл, редактор из пограничного района, входивший одно время в число сторонников Клея, стал четвертым контролером казначейства и главным советником так называемого кухонного кабинета Джэксона. Теперь, когда вокруг Джэксона сплотились верные ему люди и внутриадминистративные проблемы остались позади, он был готов провести в жизнь свою программу. Джэксон считал, что президент ответствен за защиту «свобод и прав народа и целостности Конституции от сената или палаты представителей или обоих, вместе взятых». И чтобы быть уверенным, что немногие не богатеют за счет многих, — такую мерку обычно использовал Джэксон, прежде чем занять позицию по тому или иному вопросу, — он был готов привести в действие все рычаги, находящиеся в распоряжении власти президента. Он дал понять, что будет без колебаний использовать президентское вето. В 1830 году Джэксон наложил вето на законопроект о дороге Мейсвилл, согласно которому правительственные фонды отводились на строительство дороги, полностью находившейся в границах штата Кентукки. Он мотивировал свой шаг тем, что эта дорога принесет выгоды лишь небольшой части тех, кто оплачивает ее строительство. По таким же мотивам Джэксон выступил против программы Генри Клея «Американская система», предусматривавшей экономическое развитие страны. Он использовал вето чаще, чем любой из его предшественников, и Клей публично сожалел о «концентрации власти в руках одного человека». Джэксон взял под прицел еще один столп американской системы — Банк Соединенных Штатов. В своем первом ежегодном послании конгрессу президент выразил сомнения относительно конституционности Банка и целесообразности его существования. В тот момент не было необходимости действовать, потому что полномочия Банка истекали лишь в 1836 году. Но уже в 1831 году Джэксон заявил Чарлзу Кэроллу, последнему из оставшихся в живых участнику подписания Декларации независимости, что намерен добиваться своего переизбрания «на принципе заставить Банк замолчать… Никакого Банка, и Джэксон или же Банк, и никакого Джэксона». Его враждебность отражала его убеждение, что Банк сколотил союз между бизнесом и администрацией и в результате немногие выигрывают за счет многих. Президент Банка Николас Биддл пытался в 1830–1831 годах ублажить Джэксона, но его усилия оказались тщетными, и ему пришлось согласиться с тем, чтобы Клей и Уэбстер сделали вопрос о Банке основным на выборах 1832 года. В июне 1832 года возобновление полномочий Банка прошло через сенат, в июле — через палату представителей. В тот день, когда в доме Биддла шумно праздновали всю ночь победу, Джэксон изучал законопроект вместе с Ван Бюреном, только что вернувшимся из Англии, чтобы в паре с ним баллотироваться на пост вице-президента. «Банк, мистер Ван Бюрен, — сказал президент, — пытается убить меня». Переждав, он уверенно добавил: «Но я убью его». Через неделю, 10 июля, Джэксон направил свое послание о вето в конгресс: «Приходится сожалеть, что богатые и обладающие властью зачастую используют действия правительства в своих корыстных целях… При любом справедливом правительстве различия в обществе будут существовать, но когда принимаются законы с целью добавить к этим естественным и справедливым преимуществам искусственные, чтобы сделать богатых еще более богатыми, а могущественных наделить еще большей властью, то фермеры, мастеровые и трудящиеся, у которых нет ни времени, ни средств для получения подобных преимуществ, вправе жаловаться на несправедливость своего правительства». Вето президента прошло, несмотря на яростные вопли Биддла и его сторонников. Полномочия Банка не были утверждены, и Банк еще не умер, но прежде чем окончательно разделаться с ним, Джэксону предстояло решить другие вопросы. С момента прихода Джэксона в Белый дом Южная Каролина приносила ему неприятности. Тариф 1828 года, известный как тариф абсурдов, вызвал негодование Юга по той причине, что защита промышленности Севера неизбежно вела к сокращению заморской торговли Юга. Джон Кэлхун написал «Мнение Южной Каролины», включавшее «Протест против тарифа 1828 года и принципы его отмены». Когда другой, столь же ограничительный тариф был принят в 1832 году, законодательное собрание Южной Каролины приняло ордонанс об отмене, объявлявший тариф недействующим, «не связывающим штат, его должностных лиц и граждан». У Джэксона еще до этого была стычка с Кэлхуном по данному вопросу на обеде в честь Томаса Джефферсона 13 апреля 1830 года. После двадцати четырех заранее подготовленных тостов, главным образом в поддержку Южной Каролины, президент поднялся и стоял молча, ожидая приветствий. Ван Бюрен был настолько возбужден, что вскочил на стул, чтобы лучше видеть. Джэксон уставился на Кэлхуна и затянул паузу, усиливая драматизм момента. Наконец он поднял бокал: «За наш Союз! Он должен быть сохранен». В напряженной обстановке все поднялись, чтобы выпить, включая и явно потрясенного Кэлхуна. Рука вице-президента тряслась, вино стекало по стенке бокала. Когда был восстановлен порядок и Кэлхуну предложили произнести тост, он остался верен себе: «За Союз, после самой дорогой нам свободы». Ордонанс Южной Каролины об отмене федерального тарифа и угроза выхода этого штата из Союза представляли очевидный вызов федеральным властям. Джэксон действовал без колебаний. «Ни один штат или штаты не имеют права отколоться… — заявил он, — Поэтому отмена тарифа означает восстание и войну, и другие штаты вправе их подавить». Но в ежегодном послании, 4 декабря 1832 года, он занял более примирительную позицию, предложив в качестве компромисса более низкий таможенный тариф. Джон Куинси Адамс, возвратившийся в Вашингтон в качестве конгрессмена, полагал, что шаг Джэксона — «полная сдача на милость отменивших тариф». Но не прошло и недели, как Джэксон обратился к народу Южной Каролины с прокламацией, прозвучавшей достаточно сильно для Адамса, Уэбстера и других твердых сторонников Союза: «Раскол с помощью вооруженных сил — предательство. Готовы ли вы принять на себя вину?» После этого Джэксон внес в сенат законопроект, дававший президенту полномочия использовать вооруженную силу в поддержку федеральной власти. Он был готов направить армию в Южную Каролину, но его твердость пересилила гордость тех, кто отменял федеральный тариф. Они приняли символический компромиссный тариф, что позволило штату Южная Каролина аннулировать свой ордонанс. Союз был сохранен, и популярность Джэксона упрочилась. Он как президент и Ван Бюрен в качестве вице-президента выиграли с огромным перевесом выборы 1832 года, и следующей весной Джэксон совершил триумфальную поездку. В Балтиморе, Филадельфии, Нью-Йорке и даже в Новой Англии, где он завоевал престиж благодаря энергичной защите Союза и своим новым, сердечным отношениям с Дэниелем Уэбстером, генерала принимали с теплыми чувствами. Из-за слабого здоровья и событий вокруг Банка Соединенных Штатов Джэксон прервал свою поездку и вернулся в столицу. Полномочия Банка истекали, а вето президента на возобновление этих полномочий оставалось действенным. Его более консервативные советники, включая Ван Бюрена, считали, что Джэксон сделал достаточно, но более радикально настроенные деятели во главе с Кэндаллом полагали, что правительство должно изъять свои фонды из Банка, поскольку в противном случае Банк сохранит свою платежеспособность. Такая постановка вопроса могла напугать конгресс за судьбу его собственных вкладов, а это могло подтолкнуть голосовать за подтверждение полномочий Банка. Сместив министра финансов Уильяма Дуэйна и заменив его Роджером Таном, который выступал за отзыв государственных вкладов, Джэксон подтвердил, что после 1 октября 1833 года не будет никаких федеральных вкладов в Банк, и издал первое распоряжение об изъятии из Банка правительственных фондов. Директор Банка Биддл отчаянно сопротивлялся. «Все другие банки и все торговцы могут быть сломлены, — писал он другу, — но Банк Соединенных Штатов не дрогнет». Биддл считал, что он дал нации крепкую валюту, и не хотел, чтобы сделанное им развалилось. Он вознамерился показать силу Банка и вызвать панику на бирже посредством ужесточения кредита, размещения займов, сокращения ставки учета векселей. В какой-то мере он преуспел. Среди разорившихся были самые рьяные сторонники Банка. Наконец в 1834 году Биддл уступил Белому дому и свернул свою ограничительную политику, невольно показав, что принятые им меры были вовсе не нужны. По иронии судьбы, именно в период, когда в 1836 году истекали его полномочия, Банк имел большие возможности для своего расширения. Победа президента имела неоднозначные последствия. Общественные вклады в Государственные банки, — «банки — любимчики» Джэксона, как называла их оппозиция, — и облегчение условий получения кредита привели к усиленному выпуску бумажных денег. За этим последовала инфляция, и 11 июля 1836 года Джэксон издал циркуляр о звонкой монете, согласно которому в оплату за покупку земли будет приниматься лишь звонкая монета — золото или серебро. В результате инфляция была остановлена, и, как следствие, в 1837 году наступила экономическая депрессия. В последние дни своего пребывания в Белом доме Джэксону пришлось заниматься сложными международными делами: с 1821 года американские рабовладельцы стали селиться в Техасе. Когда Мексика завоевала независимость, ее правительство объявило Техас штатом, но оставило его открытым для колонизации. Однако 8 апреля 1830 года мексиканцы приняли закон, запретивший рабство на территории Техаса и его дальнейшую колонизацию американцами. Последующие пять лет американские поселенцы прилагали усилия к отделению Техаса от Мексики, и в 1835 году генерал Санта Анна перечеркнул все местные права в штате Техас и переправил через Рио-Гранде шеститысячную армию для борьбы против мятежников. В то время как диктатор-солдат разгромил повстанцев у Аламо, созванный поселенцами конвент объявил 2 марта 1836 года независимость Техаса. Через семь недель Сэм Хьюстон добился изменения военной обстановки и разбил мексиканцев у Сан-Джасинто. Конгресс принял резолюции, призвавшие к признанию независимости Техаса еще в начале июля 1836 года, но президент колебался. Соединенные Штаты признали Мексиканскую Республику, и Джэксон считал, что он обязан уважать суверенитет мексиканского правительства в том, что формально было внутренней борьбой в Мексике. Кроме того, виги выступили против признания независимости Техаса на том основании, что за этим скрывалась уловка южан расширить границы рабовладения. Джэксон сам владел рабами и не видел ничего плохого в этом институте, но 1836 год был годом выборов: выдвинутый им на роль преемника Мартин Ван Бюрен вступил в борьбу за пост президента, и он, не желая подрывать шансы своего протеже на Севере, допустил, чтобы вопрос о рабстве стал предметом борьбы в ходе кампании. 3 марта 1837 года, после того как Ван Бюрен был избран, президент назначил американского представителя при техасском правительстве Хьюстона, признав тем самым новую республику. На следующий день истек президентский срок Эндрю Джэксона. За восемь лет он основательно изменил курс американского правительства. У него было множество ошибок, легион предрассудков, его действия определялись в большей степени его личным мнением и инстинктами, чем законами, и тем не менее его воздействие на систему власти в США было таково, что с ним могут сравниться лишь немногие из высших американских политических деятелей. Джэксон продемонстрировал полный разрыв со своими опытными предшественниками-интеллектуалами. В то время как их протекционистский подход к простому человеку мог казаться устаревшим, их забота о среднем человеке была во многих отношениях большей, чем проявленная Джэксоном. Томас Джефферсон и Джон Куинси Адамс хотели, чтобы все американцы получили образование, а уже затем право участвовать в голосовании; Джэксон довольствовался использованием тех преимуществ, которые давало ему широкое участие в голосовании, и не торопился с образованием народа. Первые шесть президентов желали отмены рабства; большинство из них предпринимали по меньшей мере символические попытки справедливого отношения к индейцам. Джэксон выступал за равенство прежде всего белых. В оправдание своих действий Джэксон часто ссылался на право, но его позиции строились на его собственных представлениях о праве. Его публичные выступления против Банка Соединенных Штатов пестрели ссылками на конституционность, но, между прочим, в 1819 году Верховный суд подтвердил своим решением полную конституционность Банка. Почти священная концепция Союза была достаточной для оправдания его твердости в отношении требования к Южной Каролине об отмене ее ордонанса,[27] но из-за неприязни к индейцам Джэксон не пошевельнул пальцем, когда Джорджия отменила федеральный договор с ними. На землях Джорджии, гарантированных Соединенными Штатами, индейцы племени чироки старались построить цивилизованное общество, основанное на их народных обычаях, но подтянутое до уровня, сравнимого с американским обществом. Они отказались от войны, сотрудничали с белыми и уже были близки к установлению системы народного самоуправления, когда Джорджия, претендуя на право отменять федеральные законы, приказала чироки уйти с ее территории. Индейцы остались верны власти закона. Вместо того чтобы взяться за оружие, они обратились в верховный суд и выиграли дело. Вновь настаивая на своем праве отменять решения федеральной власти, Джорджия приступила к сгону чироки. И это было в 1832 году, в то самое время, когда Джэксон говорил Южной Каролине, что отмена федерального закона о тарифах — это «предательство». И тем не менее американцы считают Джэксона великим президентом. Первый глава исполнительной власти, избранный широким голосованием, он настроил против себя конгрессменов и сенаторов, которые служили избранным, тогда как он действовал на благо всех. То, что волновало Джэксона, не было непременно сутью вопроса, а скорее отражало то, как понимает народ данный вопрос. Таким образом, его мудрость совпадала с ощущением масс, его свершения воспринимались как достижения широкой публики. Клинтон Росситер писал: «Столетию трудно вместить более одного такого президента. Он был гигантом с точки зрения влияния на нашу систему… и вторым после Вашингтона по силе воздействия на роль президента». Джэксону было семьдесят лет, когда он удалился в Эрмитаж — в свой дом в штате Теннесси. К несчастью, расточительность его приемного сына Эндрю-младшего сделала его жизнь в отставке менее спокойной, чем хотелось бы генералу, и ему пришлось тратить много времени, занимаясь проверкой бухгалтерских отчетов в попытке наскрести деньги. Он сохранил интерес к своей партии и влияние на нее, достаточное, чтобы продиктовать выдвижение своего протеже — темной лошадки — Полка на президентских выборах в 1844 году. Его письмо Полку от 6 июня 1845 года свидетельствует, что его рассудок оставался светлым, но, по наблюдению историка Дж. У. Варда, его плоть от талии вниз настолько ослабела, что он не мог двигаться. 8 июня Джэксон потерял сознание, и ему влили в рот ложку бренди в надежде восстановить его силы. Во второй половине дня Эндрю-младший спросил генерала, узнает ли он его. Джэксон ответил положительно и попросил дать ему очки. Вскоре после этого он угас. Но джэксоновская эра не оборвалась на этом. В годы между пребыванием на посту президента Старого Гикори и избранием Линкольна оппозиция сумела несколько ослабить авторитет президентской власти, но не смогла воссоздать прежнее положение.[28] С джэксоновской эрой покончил Линкольн. Но даже он был вынужден прибегнуть к идеям Джэксона о роли президента для укрепления собственного авторитета и сохранения целостности Соединенных Штатов.[29]
Ирвинг Стоун Страсти ума, или Жизнь Фрейда
Моей жене Джин Стоун, которая была домашним редактором двадцати пяти опубликованных мною книг, а в свободное время прекрасно ведет домашнее хозяйство, управляет нашими делами, воспитала двоих детей, занимается замечательными общественными делами, помогает своей общине, делает счастливым трудного мужа, с признательностью и любовью.
Бессмертие подразумевает любовь многих безымянных людейЗигмунд Фрейд
Книга первая: Башня глупцов
1
Они энергично шли вверх по тропе, их подтянутые молодые фигуры ритмично раскачивались в такт с их шагами. В низкой траве на ближайшей лужайке росли желтые цветы. Шелковистые лепестки лютиков пожухли еще после Пасхи, но под буками уже разостлались ярким ковром весенний вереск, примулы и шиповник. Он был невысок ростом, всего метр шестьдесят, да и то если вытянется в струнку. Однако он чувствовал себя под стать девушке, которая так грациозно шла рядом с ним. Он бросил робкий взгляд искоса на профиль Марты Бернейс, на ее строго очерченные подбородок, нос и брови. Ему было трудно поверить в то, что случилось. И вот он здесь, двадцатишестилетний, увлеченный физиологическими исследованиями в Институте профессора Брюкке, вынужденный ждать пять лет возможности полюбить и десять лет – женитьбы. Пусть он обыкновенный новичок в химии, но не может же он не знать, что любовь не всегда подчиняется расписанию. Он сказал: – Невероятно. Этого не могло случиться! Девушка взглянула на него с удивлением. Мягкий свет едва пробивался сквозь чащу леса. Березы с толстыми стволами и отмершими нижними ветвями своими кронами прикрывали тропу от солнечных лучей. Быть может, именно нежные тени медлингских лесов придавали лицу Марты волнующее очарование? Она не мнила себя красавицей, но была, на его взгляд, удивительно привлекательной: большие серо–зеленые чуткие, проницательные глаза, густые каштановые волосы, уложенные на прямой пробор и плотно облегавшие голову, красивый, чуть вздернутый нос и волнующий рот с алыми пухлыми губами. Лишь ее подбородок казался слишком волевым для гармоничного облика. – Что невероятно? Чего не могло случиться? Они подошли к тому месту, где тропинка делала поворот и где солнечные лучи пробивались сквозь зелень листвы. – Неужели я сказал вслух? Вероятно, меня подвела тишина леса. Мне следует быть более осторожным, если ты можешь слышать меня так отчетливо. Они дошли до середины плоскогорья, откуда можно было подняться на вершину горы и любоваться видом Медлинга, раскинувшегося у ее подножия. Из городского парка доносились слабые звуки оркестра. Медлинг был очаровательным, похожим на село городком в часе езды от Вены. По воскресеньям он становился модным курортом, куда устремлялись жители Вены. Маленькое красивое море его черепичных крыш переливалось в лучах теплого июньского солнца, а чуть подальше по склону горы карабкались виноградники с налившимися гроздьями винограда; молодое вино этого урожая венцы будут пить следующей весной в кабачках Гринцинга. Марта Бернейс гостила у друзей ее семьи; в Медлинге на улочке Грилльпарцер у них был собственный дом. В то утро Зигмунд приехал поездом с Южного вокзала Вены. Они вместе побывали на площади Франца–Иосифа с ее резной позолоченной колонной, увековечивающей победу над эпидемией чумы, прошли по главной улице к старой ратуше с ее часами и куполами в виде луковиц, затем, миновав фонтан на Пфарргассе, оказались у храма Святого Отмара, возвышавшегося над городом. Глядя на круглую каменную башню напротив храма, Марта заметила: – Она похожа на итальянскую крестильню, но, как утверждают жители Медлинга, это башня старых костей. Не объяснишь ли ты мне как врач, каким образом туда бросают кости без остальной части тела? – Будучи неоперившимся врачом без практического опыта, не имею ни малейшего представления. Почему бы тебе не взяться за научную работу на эту тему? А я порекомендую ее медицинскому факультету с предложением присвоить тебе научную степень. Ты хотела бы стать врачом? – Нет. Я предпочла бы быть хозяйкой и матерью шестерых детей. – У тебя скромные желания. Достичь их не так уж сложно. В лесной тени ее глаза блестели как изумруд. – После того как осуществятся мои планы, хотелось бы жить без неприятностей. Как видишь, я склонна к романтике. Хотела бы любить мужа и прожить с ним в согласии полвека. – Честолюбива же ты, Марта! Помнишь Гейне:2
Они сидели лицом к мягкому солнцу, посылавшему столь приятное тепло в сырую венскую зиму. Он положил свою руку на стол ладонью вверх, она – свою руку на его. Ее рука была напряженной, нежной, а кожа холодной и слегка влажной. Она впервые посмотрела ему прямо в глаза. Их семьи были знакомы давно, но Марта и Зигмунд встретились всего два месяца назад. У него был крупный, довольно костлявый нос, вызывающе выступавший между глазницами; густые, отливавшие блеском черные волосы, зачесанные к правому уху; скромная бородка и усы; высокий лоб и выделявшиеся на привлекательном лице большие, блестящие, слегка задумчивые глаза. – Расскажи мне о своей работе. Я не хочу показаться нескромной, но знаю лишь то, что ты работаешь ассистентом в физиологической лаборатории профессора Брюкке. – Да. Я изготавливаю диапозитивы для лекций профессора Брюкке. Он придвинул ближе свой стул, шурша ножками по гравию. – Как рассказывать: с начала или с конца? – С начала, как поступают все. – Первые четыре года обучения медицине были неинтересными, не считая того момента, когда мне исполнилось двадцать лет и профессор зоологии Карл Клаус дважды посылал меня в Триест, где была основана опытная зоологическая станция. Я изучал там половые органы угрей. – А что сие значит? Мимо прошел Эли, воскликнув: «Пора возвращаться домой!» – и исчез в чаще. Марта и Зигмунд неохотно последовали за ним по лесной тропе и вскоре оказались у огромного дерева, перегородившего дорогу. Помогая девушке перебраться через кругляк, он не мог не заметить красивые щиколотки ее ног. Далее дорога круто повернула, и они увидели впереди просеку, через которую устремлялся поток солнечных лучей в долину, и дровосеков, укладывавших бревна в ровные ряды. – Было бы чудесно, – пробормотал он, – если бы мы могли распределять дни и результаты нашей жизни так же аккуратно, как дровосеки укладывают бревна. – Разве мы не можем? – Почему бы нет? Что тут невозможного? Я думаю так, Марта. По крайней мере, надеюсь. Я по натуре привержен порядку и избегаю хаоса. Какое–то время они шли молча, ранее заданный вопрос повис в воздухе. Если бы он уклонился от ответа, она не повторила бы вопроса. Но если не ответить ей как равной, Марта может подумать, что он считает ее несмышленышем. Зигмунд заговорил спокойным, академичным тоном, каким беседовал со студентами на консультациях. – Словарь определяет половые органы как железы, производящие яйцеклетки и сперму. Моя задача состояла в том, чтобы обнаружить мужские железы угря. Слабый намек был найден доктором Сирским. Я должен был подтвердить или опровергнуть его находку. При упоминании мужских желез Марта едва не оступилась. Повернувшись к нему, она спросила: – Какой смысл в поиске мужских половых желез угря? И почему их не обнаружили тысячу лет назад? – Умный вопрос. – Он осторожно взял ее под руку. – Мужской орган можно обнаружить лишь в брачный период, но в это время угри находятся в море. Их никогда не вылавливали в брачный период. Никто не встречал зрелого самца–угря. А может быть, ни у кого не было интереса к этому. – А ты нашел то, что искал? – Полагаю, да. Доктор Сирский был прав, и я смог подтвердить его вывод. Профессор Клаус зачитал текст моего отчета на заседании Академии наук, и пять лет назад он был опубликован в «Бюллетене» академии. С тех пор никто так и не оспорил мои выводы. В его голосе звучала гордость за то лучшее, что может сделать человек, – за творческую работу. Искра одобрения в ее глазах побудила его продолжать. Ему казалось, что он высказывает свои внутренние убеждения с такой силой, с какой ему никогда не удавалось делать это перед женщиной, молодой или пожилой. – Проблема шире, чем практическое применение выводов профессора Клауса о гермафродитизме у животных, хотя угри как будто подпадают под эту категорию. Исследования не должны сковываться рамками обыденной морали. В науке любая невежественность плоха, а любое знание хорошо. Как полагает Чарлз Дарвин, люди появились на земле давным–давно, миллионы лет назад, вначале мы ничего не знали об окружающих нас силах, Нo все эти миллионы лет человеческий мозг искоренял невежество и накапливал добытые трудом знания. Величайшее событие для человечества – найти что–то ранее неизвестное или необъяснимое. Каждая добытая крупица знания не может сразу, немедленно найти применение. И если мы что–то узнали, документально доказали и таким образом извлекли из неведомого, то это уже успех. Теперь был ее черед сжать его руку – теплую, костлявую, дрожащую от возбуждения, навеянного картиной, которой он пытался увлечь обретенного друга. – Спасибо. Никто еще не говорил со мной так. Это позволяет мне ощущать себя… личностью. Нет, взрослой. Ты не мог сделать мне лучшего подарка, даже если бы искал его на Кертнерштрассе. Они вернулись на Грилльпарцергассе к полудню. Зигмунд и Марта предпочли выпить кофе в саду. Эли остался дома с гостями. Небольшой, окруженный стеной сад позади дома благоухал ароматом цветущих лип. Марта принесла в беседку блюдо запеченных в тесте ягод и села рядом с Зигмундом на деревянную скамью. Он наблюдал за грациозными движениями ее рук, когда она наливала кофе и молоко в чашки. Они потянулись за орехами в серебряной вазе. – Посмотри, – воскликнула она, – сдвоенный миндаль! Это знак влюбленных. Теперь мы обязаны по обычаю обменяться подарками. – Мне нравятся предзнаменования, в особенности если они сулят благо. Подвинься поближе, и это будет лучшим подарком, лучше того, который можно купить в Грабене. Она села так близко, что Зигмунд, слегка нагнувшись, мог коснуться ее плеча. Его глаза сияли от радости. Ему нравилась эта девушка, хотя только однажды, когда ему минуло шестнадцать лет, он испытал, что такое любовь. В то время родители послали его на каникулы во Фрайберг, где он жил в семье Флюс, давнишних знакомых. Зигмунд увлекся их пятнадцатилетней дочерью Гизелой, гуляя с ней по романтическим лесам и мечтая о красивой семейной жизни. Но он не открыл своих мечтаний Гизеле, и молодая девушка исчезла из его воспоминаний, как только он вернулся в Вену и увлекся учебой в гимназии. В это время вместе с приятелем он изучал испанский язык, чтобы читать «Дон Кихота» Сервантеса в оригинале. Зигмунд не осмелился рассказать Марте о своей любви: это было бы слишком поспешным, и она могла плохо подумать о нем, ведь они были знакомы лишь семь недель. Да и с ее стороны не было подходящего намека. Он сказал, обращаясь к ней: – Чаша моя преисполнена. – Это из псалмов. – Отец читал их мне, когда я был ребенком: «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою…» – У тебя есть враги? – Только я сам. Ее мелодичный смех звучал в его ушах, подобно колоколам собора Святого Стефана. Он не мог сдержать прилива нахлынувших чувств. – Расскажу тебе об истинном предзнаменовании. Помнишь тот вечер, когда я впервые увидел тебя? Я пришел домой с пачкой книг под мышкой, намереваясь засесть на четыре часа за зубрежку. А ты восседала за столом с моими сестрами, разумно рассуждая о чем–то и очищая от кожуры яблоко своими тонкими пальцами. Я был так тронут, что мой порыв иссяк, и я сел рядом с вами. – Это было простое яблоко. Как все со времен райских садов. – Ты не знаешь, что тогда я впервые осмелился на большее, чем просто кивнуть подруге моих сестер. Мне показалось, что розы и жемчуг слетали с твоих уст, словно с уст сказочной принцессы, и трудно было решить, что брало в тебе верх: доброта или ум. Ее реакция была для него неожиданной; иная девица могла бы принять эти рассуждения за полет фантазии, но она зарделась, затем вдруг побледнела, и слеза навернулась на ее ресницу. Она спрятала лицо, затем повернулась к нему и с серьезным видом спросила: – Как долго ты учился в университете? – Почти девять лет. – Ты помнишь тот день, когда мы гуляли в Пратере с моей мамой? После того как мы вернулись домой, я спросила сестру Минну, почему доктор Фрейд так настойчиво расспрашивал обо мне. А теперь моя очередь. Ты врач, не так ли? Почему у тебя нет практики, нет клиентов? Он мгновенно вскочил, прошелся по саду. Для него было важно, чтобы Марта Бернейс поняла и одобрила его выбор. Она сидела спокойно, положив руки на колени и устремив снизу вверх серьезный внимательный взгляд. – Да, у меня есть степень доктора медицины. Правда, я получил ее с опозданием на три года и только после того, как мои друзья в университете стали обвинять меня в лености и рассеянности. – Но ты выглядишь в высшей степени целеустремленным. – Только в отношении того, что мне нравится. Пять лет я учился в клинической школе, считая это самым надежным путем научной подготовки. У нас, видимо, лучший в Европе медицинский факультет. Последние несколько лет я работал в Институте физиологии профессора Брюкке; вместе с Гельмгольцем, Дюбуа и Людвигом он был основателем современной физиологии. Под его руководством я выполнил четыре оригинальных исследования и опубликовал их. В семьдесят седьмом году, когда мне шел двадцать первый год, я написал статью относительно нервных окончаний в позвоночнике миног. В следующем году были опубликованы мои исследования относительно нервных окончаний в хребте простейших рыб, а затем «Центральный вестник медицинских наук» поместил мои заметки о методе анатомической подготовки для исследования нервной системы. Юношеский пыл в сочетании с точной научной фразеологией вызвал у Марты улыбку. – Я завершил также исследование структуры нервных тканей и нервных клеток речных раков. Мне лучше всего удаются подобного рода работы. Для меня нет более захватывающей, многообещающей, дающей удовлетворение деятельности, ведь каждый день узнаешь что–то новое о живыхорганизмах. У меня никогда не было намерения лечить пациентов. Понимаю, что похвально облегчать чьи–то страдания, но с помощью лабораторных исследований и накопления знаний о том, что заставляет человеческое тело действовать, мы можем найти пути к преодолению болезней. – Можешь привести пример? – Разумеется. Так, профессор Роберт Кох в Берлинской медицинской школе лишь в этом году обнаружил бациллу, вызывающую туберкулез. Затем два года назад профессор Сорбонны Луи Пастер выделил бактерии холеры, поражающие кур. Он также предложил метод прививки против смертельной сибирской язвы, поражающей овец. Используя этот метод, мы сможем избавить человечество от холеры. Следует назвать венгра доктора Игнация Земмельвейса, окончившего нашу Венскую медицинскую школу в сорок четвертом году. Работая в одиночку, он установил причины лихорадки у рожениц, которая уносит жизнь немалого числа посетительниц наших родильных домов. Врачи госпиталя при медицинском колледже осуждали его за безудержное рвение. Однако тысячам матерей во всем мире сохранили жизнь благодаря тому, что Игнаций Земмельвейс оказался неутомимым исследователем и ученым–медиком. Его голос разносился по саду, щеки пылали, а темные глаза искрились от возбуждения. Она мягко вмешалась: – Начинаю понимать: ты надеешься своей работой в лаборатории устранить еще существующие другие болезни. – Есть много заболеваний, вызванных не бактериями и вирусами, которые нам известны. В таких случаях врач может предложить лишь свое внимание и сочувствие. Пожалуйста, не заблуждайся в отношении меня. Я вовсе не думаю, что могу стать Кохом, Пастером, Земмельвейсом. Мои намерения скромнее. Многие методы лечения основываются на труде сотен исследователей, каждый из которых вносит в общее дело посильный вклад. Без этих открытий, без накопления по крупицам знаний тот, кто замыкает конец этой цепочки, не нашел бы подхода к своим собственным методам лечения. Я хочу, чтобы моя жизнь была похожа на жизнь таких исследователей. В дверях показалась голова Эли: – Солнце заходит. Пора собираться, попрощаться и идти на вокзал. Они сложили свои вещи. С открытой веранды Марта дотянулась рукой до ветки липы, чтобы сорвать ее и взять с собой. Они стояли рядом, и рука Марты повисла в воздухе. Зигмунд посмотрел на дверь. Убедившись, что их не видят, он подумал: «Самое время. Но осторожнее, осторожнее. Если она не готова, не полюбила меня, я могу оскорбить ее». Всего несколько дюймов разделяло их, а ему казалось, что потребовалось нескончаемое время, чтобы преодолеть это расстояние. Марта отломила маленькую ветку, но ее рука все еще висела в воздухе. Ее глаза были широко открыты; то, что он сказал, глубоко взволновало ее. Позволит ли она ему? Он не был уверен. Но она казалась такой милой, теплой, счастливой. Осторожно, так, что он мог остановиться в любой момент без смущения, не выдав своих намерений, он обнял ее тонкую талию и притянул к себе. Легким движением, так же плавно, как осыпаются цветки липы, она опустила свои руки ему на плечи, и их губы в трепетном ожидании встретились.3
В понедельник утром, чуть позже семи, Зигмунд вышел из дома родителей, расположенного во Втором округе Вены. Возбуждение еще не прошло, и он не столь мягко, как обычно, закрыл за собой дверь, на которой значился номер три. Смотритель еще не погасил газ на лестничной клетке, а это было нелишне для безопасности, ведь Зигмунд прыгал по ступенькам, не давая себе труда держаться за кованые перила. Крутой поворот, и он вышел через украшенный лепниной вестибюль на яркий свет пробудившейся улицы. Большинство зданий во Втором округе, где жила семья Фрейд после переезда из Фрайберга в Моравии в 1860 году, когда Зигмунду было четыре года, то есть двадцать два года назад, имели скромную деревянную обвязку в полтора этажа. Этот четвертый по счету дом Якоба Фрейда, настойчиво пытавшегося встать на ноги после потери значительного состояния в Моравии, был наиболее солидным и красивым на этом участке улицы. Он решительно зашагал по привычному маршруту, жадно вдыхая напоенный весенними ароматами воздух. Дойдя до аптеки, в витрине которой сверкали колбы, он повернул налево, на Таборштрассе, минуя лавки, кофейни, рестораны, сооруженные для Венской всемирной выставки 1873 года и все еще процветавшие. На углу Обер–еаугартенштрассе он увидел сквозь ветви деревьев здания павильонов в парке. На Гроссепфарргассе высился четырехэтажный дом, его верхний этаж поддерживали с двух сторон гипсовые амазонки с мощными бюстами и классическими прическами эллинок. Зигмунд, не замедляя шага, церемонно поклонился и пробормотал: – Целую ваши ручки! Он усмехнулся, вспомнив дом своего друга доктора Адама Политцера на Юнзагагассе, украшенный двумя полногрудыми, подобно венским женщинам, кариатидами с мощными бедрами, причесанными наподобие куртизанок Цезаря. Студенты университета шутили: – Благодаря венской архитектуре мы узнаем об анатомии больше, чем из медицинских книг. Он ускорил шаг к Хайдгассе, чтобы в очередной раз взглянуть на свое любимое, в восточном стиле здание, увенчанное округлым шпилем. Следующим примечательным местом был детский госпиталь Леопольдштедтер, за которым он повернул к западу, на Тандельмарктгассе с ее лавками и мастерскими. Он обгонял утренний поток тележек и одноколок, подметальщиков, сгонявших водяными шлангами мусор к тротуарам; молодцеватых, гладко выбритых мужчин в остроконечных шляпах, в сюртуках с эполетами и большими бляхами, которые толкали тележки, нагруженные товарами для лавок. Эти бродячие люди, имевшие соответствующие разрешения от городских властей, толпились на перекрестках основных магистралей и были готовы доставить все, начиная с писем и кончая тяжелыми ящиками, по четыре крейцера за километр пути; их средняя оплата составляла десять крейцеров, то есть четыре цента, за доставку любого послания или посылки в пределах города. Пройдя мимо потока людей, спешивших на работу, он вышел к древнему мосту с крытыми проходами; здесь, на полпути между домом и Институтом физиологии, он обычно отдыхал, мог собраться с мыслями, глядя на быстрые воды Дуная и его заросшие тополями и ивами берега. Сегодняшняя встреча с профессором Эрнстом Вильгельмом Риттером фон Брюкке будет решающей. Он спрашивал себя: «Почему я так долго откладывал?» Ответ был ему, однако, известен. Он давно принял решение остаться здесь и подняться вверх по академическим ступеням университета, медицинского факультета и Городской больницы: сначала стать ассистентом Брюкке, затем доцентом с правом чтения лекций, затем помощником профессора и, наконец, господином гофратом, полным профессором и главой института, какими были Брюкке в физиологии и достославный Теодор Мейнерт, глава второй клиники, в психиатрии. Оба профессора поощряли его, доплачивая к скромному жалованью, которое он получал как ассистент и преподаватель. В лаборатории он чувствовал себя счастливым. Его учителя, Зигмунд Экснер фон Эрвартен и Эрнст Флейшль фон Марксов, старше его всего на десять лет, были самыми блестящими наставниками, о каких только можно мечтать. Фальшиво насвистывая модную венскую балладу – он соглашался без обиды, что слон наступил ему на ухо, – перешел по мосту, наслаждаясь видом Рупрехтскирхе, древнейшей церкви в Вене, окруженной высокими тополями, и шпилями собора Святого Стефана, вонзавшимися в серо–голубое небо. Он знал, что Париж считают отцом всех городов, но был убежден, что прогулки по Вене не сравнимы ни с чем; вот и теперь, вступив на Шоттен–ринг, он не мог отвести взгляд от потрясающей красоты. Институт физиологии, составлявший часть клинического колледжа Венского университета, занимал помещение бывших оружейных мастерских на углу Верингерштрас–се, в квартале от растянутого комплекса больницы и по диагонали от Обетовой церкви и самого университета. Стены двухэтажного здания института были такого же серого цвета, как и некогда отливавшиеся в нем пушки. Во второй половине здания, тянувшегося на целый квартал, находилась анатомичка, где в первые два года обучения медицине Зигмунд исследовал трупы. Завернув за угол Шварцшпаниерштрассе, он прошел под аркой и коротким проходом во внутренний двор. Справа была аудитория, где каждое утро с одиннадцати до полудня профессор Брюкке читал лекции. Ниши в стенах аудитории были заставлены лабораторными столами с различными препаратами, электрическими батареями, книгами, тетрадями. Здесь же маячили фигуры студентов, склонившихся над микроскопами. Когда профессор приходил на лекцию, они покидали на час свои рабочие места и слонялись без дела, ибо других рабочих помещений не было. За три года обучения у профессора Брюкке Зигмунд перебывал практически во всех нишах аудитории. С тем же чувством радости, с каким сбегал вниз по лестнице своего дома, он поднялся на второй этаж. Еще не было восьми часов, но лаборатории деловито шумели. Шагая по коридору, окна которого выходили во двор, он прошел мимо комнаты, отведенной ему вместе с химиком и двумя физиологами из Германии. В следующем поме–щении находилась небольшая лаборатория, в которой J работали помощники профессора Эрнст Флейшль и Зигмунд Экснер, выходцы из титулованных австрийских семейств. В угловом помещении здания располагался мозговой и нервный центры института – бюро, рабочий кабинет, лаборатория и библиотека профессора Брюкке. Все двери были открыты. Заглянув в комнату Экснера и Флейшля, он ощутил резкий запах электрических батарей и химикалий, используемых для изготовления анатомических образцов, запах, который еще два дня назад, когда он не прикоснулся своим лицом к волосам Марты в саду в Медлинге, казался ему самым приятным на свете. Помещение было разделено точно пополам, так что рабочий стол каждого занимал всю стену. Хотя Экснеру было всего тридцать шесть лет, он явно лысел, а его неухоженная борода стала косматой. Экснер был начисто лишен чувства юмора. В университете острили, что каждый Экснер должен стать профессором университета, а один шутник перефразировал это так: «Каждый профессор университета должен стать Экснером». Комнату загромождали две сложные машины: одна – изобретенный Экснером «нейроамебометр» – металлическая полоса, совершавшая тысячу колебаний в секунду, использовалась для замера времени реакции человеческого мозга, другая, созданная Флейшлем, – для новаторской работы по локализации нервных центров в мозгу. Зигмунд наблюдал с признательностью, как трудилась эта пара. Экснер был его учителем в медицинской физиологии и физиологии органов чувств, а Флейшль – в общей физиологии и высшей математике. Трудно было бы найти более противоположные натуры. Экснер происходил из богатой семьи, давно пустившей корни в придворной жизни Австро–Венгерской империи. Он проявил себя блестящим экспериментатором и администратором и мечтал после ухода в отставку профессора Брюкке стать полным профессором и директором Института физиологии. По мнению Зигмунда, его лицо с задумчивыми серыми глазами, над которыми нависали тяжелые веки, было не лишено привлекательности. Семья Флейшль была столь же старинной и богатой, как и семья Экснер, но она давно посвятила себя венскому миру искусства, музыки и театра, возможно самому вдохновенному в Европе с его сильной оперой, филармоническими и симфоническими оркестрами и театрами с богатым национальным репертуаром. Вена славилась композиторами и драматургами, ее концертные залы и театры всегда были переполнены. Флейшль был красивым мужчиной с темными густыми волосами, тщательно ухоженной бородкой, высоким выпуклым лбом, скульптурным носом, чувственным живым ртом; он мог цитировать каламбуры на шести языках и уж конечно был изысканно одет, когда появлялся около оперного театра в воскресенье утром. Его живой ум не обладал склонностью к администрированию, и поэтому он не был соперником Экснера в притязаниях на директорское кресло. Он отпускал непочтительные реплики по поводу помпезности габсбургского двора и особого характера венцев. Как–то раз он спросил Зигмунда: – Знаешь ли ты историю о трех девушках? Первая стояла на мосту через Шпрее в Берлине. Полицейский спросил ее, что она собирается делать. Та ответила: «Прыгну в реку и утоплюсь». Полицейский замешкался, затем сказал: «Хорошо, но вы уверены, что уплатили все налоги?» Вторая девушка в Праге спрыгнула с моста во Влтаву, а когда упала в воду, стала кричать по–немецки: «Спасите! Спасите!» Полицейский подошел к перилам моста, посмотрел вниз и сказал: «Лучше научилась бы плавать, чем говорить по–немецки». Третья девушка в Вене собиралась броситься в Дунай. Полицейский обратился к ней: «Послушай, вода очень холодная. Если ты бросишься, я должен прыгнуть за тобой. Таков мой долг. Это значит, что мы оба простудимся и заболеем. Не лучше ли тебе пойти домой и там повеситься?» Флейшлю крепко не повезло десять лет назад. Во время работы на трупе инфекция проникла в большой палец правой руки, и его пришлось частично ампутировать. Образовалась гранулированная ткань, известная в простонародье как «дикое мясо». Рана с трудом затягивалась, тонкая кожица лопалась, вызывая изъязвление. Профессору Бильроту приходилось оперировать его по меньшей мере дважды в год; хирургическое вмешательство, затрагивавшее нервные клетки, усугубляло страдания Флейшля. По ночам его мучила боль, но никто не подумал бы об этом в рабочее время, настолько сосредоточенно экспериментировал он со слепками мозга человека, попавшего в аварию, пытаясь найти связь травмированных участков с функциональными нарушениями: потерей речи, слепотой, параличом мускулов лица. Флейшль первым заметил Зигмунда в дверях, и его лицо озарила улыбка. Зигмунд входил в круг его самых близких друзей. Он провел в его доме много ночей, стараясь отвлечь Флейшля от изнуряющей боли в правой руке. – Господин Фрейд, как понимать ваш приход на работу с таким запозданием? Услышав шутку, Экснер поднял голову и заметил: – Флейшль в плохом настроении с самого утра, потому что в госпиталь не поступило ни одного воскресного скалолаза с разбитой головой. Флейшль сказал Зигмунду с насмешливой серьезностью: – Как я могу определить, какая крошечная частица мозга профессора Экснера рождает хилые шутки, если мне в руки не попадет травмированный мозг напыщенного юмориста? – Успокойся, Эрнст, – ответил Зигмунд. – Я попрошу профессора Брюкке принять судьбоносное для меня решение. Если не преуспею, то брошусь головой вниз с горы Леопольдсберг… предварительно положив в свой карман твое имя и адрес.4
Он постучал о косяк двери и вошел в комнату. – Здравствуйте! – Здравствуйте! – Господин профессор Брюкке, могу ли поговорить с вами с глазу на глаз? – Разумеется, коллега. Приятная дрожь пробежала по телу Зигмунда: Брюкке назвал его коллегой. Такое случилось лишь однажды, когда профессор был приятно поражен работой Зигмунда, занимавшегося исследованием центральной нервной системы высшего позвоночного. Это обращение являлось лучшей похвалой главы института в адрес ассистента, зарабатывающего всего несколько крейцеров в день. Два студента, сидевщие на противоположном конце заставленного рабочего стола Брюкке, собрали свои бумаги. Иосиф Панет, небольшой столик которого стоял под окном, откуда открывался вид на холм Берггассе (за этим столиком Зигмунд сам проработал целый год), подмигнул Зигмунду и вышел из комнаты. Панет был на год моложе Фрейда и два года назад получил диплом доктора медицины. Он поддерживал дружбу с Зигмундом, единственным из их круга не знавшим о том, что Панет стал наследником значительной части семейного богатства. Это обстоятельство ставило его в неловкое положение среди малосостоятельных студентов, его друзей, и посему он ходил в потертой одежде, а когда группа собиралась в кофейне для беседы и шуток, столь дорогих сердцу студентов, заказывал самую маленькую чашечку кофе и простой кекс. Панет закрыл за собой дверь. В комнате ощущался знакомый запах спирта и формальдегида. Зигмунд смотрел на человека, восхищавшего его больше всех. Эрнст Вильгельм Риттер фон Брюкке, достигший шестидесяти трех лет, родился в Пруссии в семье художников академической школы. Отец Брюкке уговаривал молодого Эрнста последовать семейной традиции. Эрнст изучал технику живописи, путешествовал по Италии, коллекционировал Мантенью, Бассано, Луку Джордано, Риберу, а также голландские пейзажи и германские готические полотна. Некоторые из картин годами висели в лаборатории вперемежку с профессорской коллекцией анатомических диапозитивов и гистологических образцов. Ре–шениэ Брюкке стать ученым–медиком было вызвано не отсутствием художественного таланта. В гостиной обширной квартиры профессора на Марианненгассе внимание Зигмунда привлек автопортрет, выполненный двадцатишестилетним Брюкке. Четкий рисунок, умело подобранные краски для передачи цвета рыжих волос и светлой кожи, моделирование головы – все говорило о том, что это сделано руками наблюдательного реалиста. Брюкке не бросил занятие искусством; он опубликовал книги о теории изобразительного искусства, физиологии цвета в прикладном искусстве, передаче движения в живописи, которые закрепил за ним репутацию знатока. В 1849 году Эрнст Брюкке, за которым гонялась вся Европа, был переведен из Кенигсберга в Венский университет и получил необычно высокий оклад – две тысячи гульденов в год (восемьсот долларов). Ему было предоставлено под контору просторное помещение в здании дворца Жозефиниум с живописным видом на город. Однако профессор Брюкке приехал в Вену не ради комфорта и красочных пейзажей. Он отказался от прекрасной квартиры, поселился в старой мастерской без водопровода и газа – подручный рабочий носил в ведрах воду из водоразборной колонки во дворе и ухаживал за подопытными животными – и своим умом и целеустремленностью превратил обветшавшее старое здание в выдающийся Институт, физиологии в Центральной Европе. Вода и газ для горелок Бунзена были проведены в здание за три года до того, как Зигмунд поступил в университет. Профессор Брюкке сидел за рабочим столом, разглядывая Зигмунда голубыми холодными глазами. Как утверждали иные студенты, один его взгляд способен заморозить любую рыбу, выловленную в Дунае. Голову профессора прикрывал неизменный шелковый берет, ноги были укутаны шотландским пледом, а в углу стоял огромный прусский зонт, с которым он не расставался даже в самые ясные летние дни, прогуливаясь утром по Рингу и наблюдая, как идет строительство нового здания парламента в стиле афинского классицизма, здания ратуши в фламандском стиле наподобие муниципалитета в Брюсселе, двух музеев – искусства и науки, расположенных друг против друга, в стиле итальянского Ренессанса. Профессор Брюкке слыл самым смелым и отважным ученым; он боялся только дифтерии, унесшей его мать и сына; ревматизма, превратившего его жену в инвалида, и туберкулеза, которому была подвержена его семья. Брюкке не казался Зигмунду черствым человеком. За все годы профессор отчитал его лишь два раза. Однажды, когда он вошел в лабораторию, опоздав на одну минуту, Брюкке заметил: – Опоздать к началу работы – значит не подходить для своей работы. Зигмунд сгорел от стыда. В другой раз он задержал публикацию сделанного им открытия по окрашиванию нервных тканей, чтобы дать идее отлежаться. – Отлежаться! – воскликнул профессор Брюкке. – Это оправдание лености. Такие упреки ровным счетом ничего не значили по сравнению с тем, которого «удостоился» сосед Зигмунда по аудиторной нише. Студент написал в отчете: «Поверхностное наблюдение показывает…» Брюкке сердито нацарапал над этой фразой: «Нельзя заниматься «поверхностными наблюдениями»!» Зигмунд знал, что ему самому предстоит начать трудный разговор. Брюкке исчерпал еще в молодости свой резерв для бесед на второстепенные темы и не разменивался на мелочи. – Господин советник, в моей жизни произошли перемены. В прошлое воскресенье молодая женщина, в которую я влюблен, намекнула мне… Это случилось неожиданно и было для меня сюрпризом. Мы еще не помолвлены…, до свадьбы далеко… но это та женщина, от которой зависит мое будущее счастье. – Поздравляю, господин доктор. – Господин советник, убежден, вы не сочтете меня льстецом, если я скажу, что полностью удовлетворен вашей лабораторией и людьми, которых я уважаю, – вами, господин профессор, докторами Флейшлем и Экснером… Брюкке сдвинул берет на лоб, а это означало, что он не готов дать ответ. Зигмунд перевел дух и вновь пошел в наступление. – Чтобы объявить о помолвке и серьезно подготовиться к женитьбе, я должен иметь положение и получить уверенность, что продвинусь в университете, на что дает надежду моя работа. Не могли бы вы рекомендовать меня на пост вашего помощника на медицинском факультете? Я знаю, что начинать нужно скромно, но на этом посту мне представится шанс сделать вклад, достойный того, чему вы учили меня, и вашего доверия ко мне. Брюкке молчал. Зигмунд чувствовал, как его ум сочинял и отбрасывал фразы. Он внимательно рассматривал гладко выбритое лицо Брюкке: его высокие скулы, пухлые губы, округлый подбородок, глаза, сохранившие в шестьдесят три года свою красоту. Порой Зигмунду казалось, что Брюкке, как человек эмоциональный, постоянно вел борьбу с самим собой, контролируя свои чувства. – Начнем с исходной точки, господин доктор. Желал бы я, чтобы вы были моим ассистентом? Разумеется. Могу ли я взять вас ассистентом? Не могу. В груди Зигмунда что–то оборвалось. Мелькнула мысль: «Как физиолог, я должен был бы знать, что оборвалось во мне. Но я этого не знаю». Вслух он сказал: – Господин профессор, почему вы не можете меня рекомендовать? – Это не позволяют сделать правила медицинского факультета. Институту разрешено иметь лишь двух ассистентов. Чтобы убедить министерство образования добавить третьего, потребуются годы… Зигмунд ощутил тяжесть в низу живота. Помнил ли он о таком ограничении, давно установленном министерством, и обманывал себя? – Итак, для меня нет места? – Ни Флейшль, ни Экснер не оставят института. До моей смерти и перехода к одному из них моего места они будут работать как мои ассистенты… получая сотню долларов в месяц. – Но им могут предложить возглавить отделение в Гейдельбергском, Берлинском или Боннском университетах?… Брюкке встал из–за стола и, подойдя к своему любимому ученику, мягким голосом сказал: – Дорогой друг, речь идет о проблеме более серьезной, чем вакансия ассистента для вас. При нашей нынешней системе чистой наукой могут заниматься только богатые. Семьи Экснер и Флейшль уже в нескольких поколениях богаты. Им не нужно жалованье. Вы мне рассказывали, как перебивается ваш отец, чтобы поддерживать вас, пока вы учитесь в университете. Не стало ли лучше дома? – Нет. Положение еще более усложнилось. Отец постарел. Я должен помогать родителям и сестрам. – Не означает ли это, господин доктор, что вам следовало бы выбрать другой путь? Если бы даже я преуспел, нажав на министерство, и получил еще одну должность ассистента, вам пришлось бы работать за сорок или пятьдесят долларов в месяц. В среднем возрасте вы зарабатывали бы чуть больше, если, разумеется, не умерли бы Экснер и Флейшль и медицинский факультет не назначил вас директором, вместо того чтобы искать специалиста с громким именем на стороне. На глаза Зигмунда набежала тень, словно каракатица выпустила в них свои чернила. Профессор Брюкке, проработавший в Венском университете долгих тридцать три года, заметил его огорчение. Он проницательно разгадал, что тревожит Зигмунда. – Нет, дорогой коллега! Это не антисемитизм. На медицинском факультете есть евреи. Антисемитизм встречается в клубах студентов–собутыльников, но первоклассная школа медицины не может быть построена на религиозных предрассудках. Неудачный выпад профессора Бильрота, о котором я сожалею, – это исключение. Зигмунд вспомнил статью Бильрота «Медицинская наука в германских университетах», чернившую студентов–евреев, обучавшихся медицине, а тем временем профессор Брюкке более сердечно и более многословно, чем обычно, продолжал: – …Я принадлежу к тем, кого более всего ненавидит католическая Австрия, – протестант, немец, пруссак. Тем не менее через год меня выбрали в академию. Впервые в истории немец стал деканом медицинского факультета, а затем ректором университета. Вы слишком разумны, чтобы искать объяснения в антисемитизме. – Спасибо, господин советник. Но если я не могу заработать здесь на жизнь, то что же мне делать? Нет ли другого отделения, где я мог бы… Брюкке отрицательно покачал головой, снял берет и вытер пот на лице. Только после этого Зигмунд осознал, что его наставник испытывает тяжелые чувства. Брюкке отошел к окну и повернулся своей широкой спиной к молодому человеку. Некоторое время он смотрел на улицу, на угол Берггассе, от которого шел вниз, к каналу, широкий спуск. Через окно долетали причитания крестьянки в платке: – Вот лаванда. Покупайте лаванду. Когда Брюкке повернулся, его глаза были серьезными. – Вы должны поступить так, как все молодые врачи, не имеющие личных доходов. Займитесь частной практикой, лечите пациентов. – Я не хочу и никогда не собирался заниматься частным врачеванием. Я поступил на медицинский факультет, чтобы стать ученым. Нужно иметь склонность, сострадание к больным… Брюкке сел за стол и положил на колени плед, хотя в комнате было душно от жары. – Господин доктор, а есть ли другой путь? Собираетесь ли вы жениться? У молодой женщины есть наследство? – Полагаю, что нет. – Вам следует вернуться в больницу и пройти более полную подготовку по всем дисциплинам. Таким образом вы сможете стать умелым и успешно практикующим врачом. Вы молоды и приладитесь к жизни. За четыре года работы в госпитале наберетесь опыта, получите доцентуру и завоюете репутацию. Вене нужны хорошие врачи. Зигмунд произнес: – Спасибо, господин советник. До свиданья. – К вашим услугам.5
Он брел, как слепой, по Верингерштрассе, мимо бокового входа на территорию больницы, которым пользовались студенты, врачи и прислуга. За арочными воротами маячила пятиэтажная каменная Башня глупцов. – Вот где мне следует быть, – прошептал он, – в одной из камер прикованным цепями к стене. Лунатиков нельзя выпускать на волю. Бродить по Вене перестало быть удовольствием. Каждый камень и булыжник отзывались болью в ногах, а бессвязные мысли и самобичевание травмировали центральную нервную систему, которую он так успешно обнажал у животных в лаборатории. Он думал: «Нам известно, что зрение контролируется задней долей мозга, а слух – височной. Не мне ли открыть, какая доля мозга контролирует глупость?» Он инстинктивно направился к Хиршенгассе и аллее Гринцингер, по пути к Венскому лесу, где поколения венцев, прогуливаясь в чаще, радовались жизни или предавались своему горю. Домики деревни Гринцинг, по которой сновали домашние хозяйки с корзинками в руках, взбирались на гору к виноградникам, перемежавшимся с персиковыми и абрикосовыми посадками. Над входом в кабачки висели зеленые венки, они указывали на то, что там есть молодое вино, которое подают под каштанами, вино из винограда, культивируемого в окрестностях Венского леса уже две тысячи лет, еще до того, как римские легионеры захватили здесь селение, называвшееся Вин–добона. Зигмунд шел не останавливаясь.Извилистая тропа, карабкавшаяся вверх, была тенистой, но и ее тишина не умеряла страданий Зигмунда. Его охватывали, оставляя свою горечь, приступы то стыда и ярости, то крушения надежд и смущения, то страха, отчаяния и тревоги. Он сошел с тропы и углубился в чащу столетних берез и сосен. Там царили глубокая тишина и спокойствие, лишь изредка прерываемые пением птиц и доносившимися издали ударами топора. Хлорофилл лесных листьев – лучший поглотитель, он способен вобрать в себя любую человеческую печаль, и при этом ни одна ветка не шелохнется. Но сегодня даже эти величавые деревья не приносили ему облегчения. Всегда в прошлом освежавшие его душу, сочная весенняя листва, чувство возврата в благотворное лоно зелени, которая укрывает от враждебного мира, не помогали ему: он метался от ярости к отчаянию и наоборот. Зигмунд поднялся на вершину, в сад–ресторан Каленберга. Посетители ели завтраки, принесенные с собой в рюкзаках, и пили пиво, которое разносили официанты в кружках на больших подносах. После восьмимильной прогулки он устал, у него пересохло в горле, но он не стал задерживаться и пошел по тропе к Леопольдсбергу, к руинам стоявшего там некогда замка. Внизу лежала Вена, зажатая между Венским лесом и Дунаем, на юге возвышались Альпы, разделяющие Австрию и Италию, к востоку простирался склон, спускавшийся к Венгрии. Отсюда наступали и временами покоряли императорский город пришельцы из Азии: гунны, авары, мадьяры и турки. Но это была история, в собственной же душе он ощущал лишь страдание, поддавшись безысходной жалости к самому себе. Как он осмелится сказать Марте о помолвке, если его будущее столь мрачно? Как он может объяснить ей непредвиденный провал строившихся им планов стать ученым? Каким образом он будет добывать себе на жизнь, не говоря уже о помощи семье? Как он сумеет выдержать четыре года хирургических операций, с которыми он так плохо справляется; занятий дерматологией, которая казалась ему скучной; внутренними болезнями, не обладая диагностическим даром; нервными расстройствами, о которых знает только то, чему научил его друг, Доктор Йозеф Брейер? Психиатрия, связанная с анатомией мозга, которую он осваивал под руководством профессора Мейнерта, интересна. Он уже прошел подготовку по клинической психиатрии под началом Мейнерта, благоволившего ему, и тот мог бы научить его всему тому, что известно о «локализации» центров мозга. Однако поскольку его вероятные пациенты не позволят лазить им в мозг для исследования их извилин, то какая польза в таком обучении? На полпути назад, к Каленбергу, он пошел по узкой, неровной тропе, по которой гоняли скот к Клостерной–бургу. У подножия горы, ощутив усталость в каждом мускуле, он повернул к дороге на монастырь и зашагал вдоль русла Дуная, иногда останавливаясь, чтобы смочить пылавшее лицо. Ему предстояло еще несколько часов пути, но теперь он знал: пора покончить с самобичеванием и отчаянием, упреками в адрес университета, медицинского факультета, больницы и министерства образования. Мужчины выдерживают испытания даже в том случае, когда их бьют кнутами по голой спине, они скрежещут зубами, но не позволяют себе кричать от боли. Они продолжают жить. Иного выбора нет. Уже под вечер, эмоционально опустошенный, он добрался до дома доктора Йозефа Брейера, близкого друга, которому он поверял свои мысли и чувства. Известный в Вене как «Брейер – золотая рука», Йозеф был личным врачом большей части персонала медицинского факультета университета, и это создало ему репутацию самого популярного врача в Австро–Венгерской империи. Он славился своим диагностическим искусством и часто добивался успеха там, где другие терпели неудачу. В клинической школе утверждали, будто он «предсказывает» причины скрытых заболеваний. Горожане понимали это буквально и считали, что знания Брейеру даны Богом. Венцев поражало, почему их католический Бог открывает причины их недомоганий еврею, но они не позволяли своей религии мешать лечиться у доктора Брейера. Йозеф Брейер был скромнейшим человеком. Когда его хвалили за ясновидение, он отвечал: – Глупости! Все, что я знаю, мне передал мой учитель профессор Оппольцер, специалист по болезням внутренних органов. Он действительно узнал многое от Оппольцера. Когда Йозеф был еще студентом – ему шел тогда двадцать первый год, Оппольцер взял его в свою клинику и через пять лет назначил ассистентом, готовя молодого человека в качестве своего преемника. Но в 1871 году Оппольцер умер, Брейеру было только двадцать девять лет. Бюро медицинского факультета занялось поисками на стороне более зрелого и известного человека, остановив свой выбор на профессоре Бамбергере. О том, что произошло затем, Брейер никогда не откровенничал: подал ли он в отставку в знак недовольства или же был уволен профессором Бамбергером, пожелавшим иметь ассистента по собственному выбору. Брейер занялся частной практикой, одновременно продолжая в лаборатории профессора Брюкке исследования «полузамкнутых каналов среднего уха», которые, по его мнению, контролировали движения головы. Работая в лаборатории в качестве частного лица, он сделал важные открытия, касающиеся внутреннего уха как органа, чувствительного к гравитации. Он подружился с Флейшлем и Экснером и здесь же встретил Зигмунда, который был моложе его на четырнадцать лет и еще не имел диплома врача. Брейер приглашал Зигмунда к себе на ланч. Его жена Матильда и дети приняли Зигмунда в семью взамен младшего брата Йозефа – Адольфа, преждевременно умершего несколько лет назад. Семья Брейер проживала в центре города, на Бранд–штете, 8, в двух кварталах от площади Святого Стефана и фешенебельных лавок Кертнерштрассе и Ротентурм–штрассе. Из окон дома Брейеры могли любоваться благородными шпилями собора Святого Стефана, двумя романтическими башнями перед фронтоном и крутой мозаичной крышей, гигантским колоколом Пуммерин, гудевшим, когда жителей города призывали тушить пожар или звали на молебен. Заложенный в 1144 году за пределами первоначальной средневековой городской стены, собор, как и столица, которой он служил, воплотил в себе семь веков архитектуры. Его внутреннее устройство было величественным, внешнее – намного более прагматичным. Здесь на открытом воздухе высилась кафедра, с которой священники призывали венцев отогнать от осажденной Вены турок. Здесь было распятие Христа с таким выражением боли на лице, что верующие независимо от своей конфессии, проходя мимо, крестились и называли его «Христом с больными зубами». Здесь же находились молитвенная скамья для тех, кто торопился присоединиться к своим собутыльникам в ближайшем кафе, а также важные экономические эталоны империи: высеченный в камне круг, дабы венский покупатель смог измерить только что купленный каравай хлеба; отчетливо различимый метр для тех, кто хотел бы проверить отрез купленной ткани и получить уверенность, что не обманут ни на миллиметр. Привратник открыл маленькое окошко своей каморки на первом этаже и подал сигнал Зигмунду, приглашая его пройти. Зигмунд вбежал по лестнице и нажал кнопку звонка прямо над бронзовой пластинкой с надписью: «Доктор Йозеф Брейер». Дверь открыла горничная. В прихожей он заметил, к своему удивлению, саквояж и чемодан. Жена Брейера Матильда, услышав его голос, вышла навстречу. Ей было тридцать шесть лет, ее открытое лицо с серыми глазами обрамляли пышные каштановые волосы. Три месяца назад Матильда родила пятого ребенка, однако была по–прежнему хрупкой и изящной. Правда, был период, когда она утратила заразительную веселость. Еще до рождения ребенка Зигмунд заметил, что Матильда стала угрюмой и молчаливой, а атмосфера в семье – натянутой. Он объяснял это физическим недомоганием, связанным с пятой беременностью, и поэтому полагал, что не следует столь часто навещать Брейеров. Ему пришлось выслушать упреки Йозефа и Матильды: они дали понять, что не следует забывать о них в час испытаний. Сегодня все, похоже, изменилось. Глаза Матильды сверкали, она встретила его с обычной радостью и энергией. – Зиги, мы едем в Венецию. Йозеф организовал месячный отдых. Разве это не чудесно? – Рад за вас. Когда вы уезжаете? – Через несколько дней…– Она сделала паузу. – Что с тобой? Твоя одежда в пыли, а лицо в пятнах. Ты запыхался?! – Я истязаю себя. Это мой день искупления. – В чем твой грех? – В самообмане. – Первое, что сделал бы Йозеф, посадил бы тебя в ванну – лучшее место для отмывания грехов. У нас как раз есть горячая вода. Вместительная ванна прочно упиралась в пол четырьмя ножками. Горничная внесла в ванную комнату широкие приземистые жбаны с горячей водой, поставив их в ряд около насоса. Когда она ушла, Зигмунд присоединил первый жбан к насосу, пока вода перекачивалась в ванну, разделся и положил белье на стул у двери. Ему дадут комплект белья Йозефа. Подключив последний жбан, он улегся в ванну, и вода из крана полилась ему на голову. Намыливаясь, он почувствовал, что горячая вода снимает не только усталость тела, но и нервное напряжение. Ему пришла на ум мысль: а нельзя ли добрую половину мировых проблем решать в горячей ванне? У семьи Фрейд никогда не было ванны. Когда Зигмунд, его пять сестер и брат Александр были маленькими, каждую пятницу в полдень мускулистые возчики привозили огромную деревянную ванну и жбаны горячей и холодной воды из бани по соседству. Ванна ставилась на пол в кухне. Мать намыливала детей, а затем окунала их в ванну. На следующий день возчики забирали ванну со жбанами и получали деньги. В теплые дни Зигмунд купался с друзьями в Дунае, а зимой ходил в дешевую баню, где за пять крейцеров, то бишь за два цента, принимал душ, в то время как его мать снимала кабину в соседней бане с ванной и печкой в углу. Сестры брали с собой яблоки и, пока мылись, пекли их на печке. В дверь постучали. Послышался голос Брейера: – Выходи, Зиг. В моем кабинете наверху Матильда накрывает стол. Она говорит, что мы можем поесть без церемоний.
6
Зигмунд вытерся и оделся, вдыхая запах лаванды, которую Матильда держала в марлевых мешочках. Он поднялся в кабинет Брейера. У Брейера была длинная опрятная борода, самая большая в Вене, видимо, таким образом он компенсировал преждевременное облысение. – Матильда сказала мне, что ты пришел совсем подавленным, «измочаленным», выражаясь ее словами. Что тебя расстроило? Я слушаю. Зигмунд улыбнулся, впервые за этот день. Йозеф внимательно смотрел на него. Его уши торчали под прямым углом к голове, словно ручки у кувшина. Никто не назвал бы Йозефа красивым, но в очертании его ушей было заключено редкое сочетание силы и нежности. Верхний кабинет был небольшим, в нем стоял письменный стол, за которым обычно работал Йозеф. Горничная накрыла стол накрахмаленной скатертью и поставила блюдо с холодным цыпленком, оставшимся от обеда, и овощами, бутылку минеральной воды и половину кекса, покрытого сахарной глазурью. Расправившись с грудкой и ножкой, Зигмунд откинулся на спинку стула и уставился на суховатый нос Йозефа. За многие часы, проведенные с доктором Брейером в фиакре, когда тот разъезжал по Вене и ее окрестностям, посещая своих пациентов, Зигмунд изучил все нюансы его настроения. – Йозеф, приятно видеть, что Матильда вновь счастлива. – Мы едем в Венецию на медовый месяц. – Хорошее лечение. А в чем были неприятности? Или это нескромный вопрос? – Теперь, когда все позади, могу сказать. Дело в Берте Паппенгейм. Это ее подлинное имя. Той самой, что я звал в прошлом Анна О. Я наблюдаю ее уже два года. Самый удивительный случай, с которым я столкнулся в неврологии. – Тот случай, который ты описал как лечение уговорами? – Да. Или, как назвала его фрейлейн Паппенгейм, прочистка дымовой трубы. В течение последних нескольких месяцев Матильда считала, что я уделяю слишком много времени фрейлейн Берте. Дело не во мне, она нуждалась в помощи. Но, очевидно, я слишком много говорил о ней. Видишь ли, я не мог сдержаться, потому что, устраняя симптомы паралича, добился с помощью гипноза фантастических результатов. Но теперь все позади. Я констатировал, что она вылечилась, вернулся домой, чтобы сказать Матильде, что пора укладывать чемоданы. Теперь я хочу выслушать тебя. Зигмунд спокойно рассказал, что с ним произошло: как Марта «намекнула», что любит его; как он решился просить профессора Брюкке назначить его ассистентом, а профессор сказал ему, что у него нет будущего в академической жизни, что ему следует поступить в больницу, приобрести опыт и затем начать частную практику. – Марта Бернейс из Гамбурга? Дочь Бермана Бернейса, личного секретаря профессора фон Штейна? – спросил Йозеф. – Да. Он умер два года назад. – Знаю. Я изучал историю экономики под руководством фон Штейна в университете. – Йозеф, признаюсь тебе, это был самый тяжелый день в моей жизни. Я просто не вижу выхода. Брейер сохранял удивительное спокойствие. – Выхода нет. Но есть вход. Ты говорил мне, что предпочитаешь вылечивать полностью болезни, а не облегчать сопутствующую боль. Я всегда считал, что в таком желании есть налет мессианства. – Что плохого в мессианстве, если оно служит стимулом для свершений? – Ничего. Но оно должно прийти как результат, а не как начало. Знаешь, Зигмунд, я давно увидел под покровом твоей робости крайне отважного и бесстрашного человека. Зигмунд смотрел на него с удивлением. – Думаю, что так, Йозеф. Но поможет ли это мне в моем нынешнем затруднительном положении? Я всегда воспринимал университет как свой образ жизни, отдавая все свое время исследованиям и преподаванию. Я чувствую себя в кругу идей, как дома. Я не готовился бороться за свое существование в условиях конкуренции. – Ты предпочитаешь монастырь? – Да, с той поправкой, что университет является монастырем, где ищут знания, а не хоронят прошлое. И, откровенно говоря, я не люблю деньги. – Ты не любишь деньги или не хочешь думать о том, как их зарабатывать? Лицо Зигмунда зарделось; Брейер часто приходил ему на помощь, когда он отчаянно нуждался, настаивая, что, поскольку его доход большой, а у Зигмунда нет средств, он вправе облегчить ему жизнь. Зигмунд тщательно подсчитывал свой долг Брейерам, достигавший уже нескольких сотен гульденов; пройдут годы, прежде чем он сможет начать их выплачивать. – Зиг, ты хорошо описал академическую жизнь, но ты не будешь в ней счастлив. Тебе будет не хватать свободы. Тебе придется подчиняться. Тебе будет дозволено выступать с новшествами в строго очерченных рамках: над тобой всегда будут старшие, предписывающие, на что обратить внимание, что надо поспешить с написанием доклада, который они одобрят и из которого заставят выбросить то,что им не нравится. Йозеф встал из–за стола и принялся ходить взад–вперед по кабинету. – Зиг, частная практика поможет тебе встать на ноги. Первое дело медицины – обследовать больных, заботиться о них. Такую исходную работу должен выполнять любой врач, это, а не сидение за микроскопом позволит тебе сделать более крупные открытия. Пойдем в лабораторию. Несколько лет назад Брейер убрал стену, разделявшую две комнаты в мансарде. Под окнами, выходившими в сад позади дома, стоял рабочий стол, а на стенах висели клетки с голубями, кроликами и белыми мышами, над которыми он проводил эксперименты. В помещении стояли аквариумы с рыбами, электрические батареи, машины для электротерапии, банки с химикалиями, ящики с диапозитивами, микроскопы, а стол был завален рукописями научных работ Брейера. – Йозеф, ты здесь работаешь? – Разумеется. Эта лаборатория выполняет троякую функцию. То, что я зарабатываю, вкладываю в машины и опыты. То, что узнаю благодаря опытам, использую, чтобы помочь больным. Я двадцать лет занимался исследованиями полукруглых каналов в среднем ухе одних только голубей. Но, молодой друг, вот что важно: у меня полная свобода работать, экспериментировать, делать открытия. Я должен лечить своих пациентов, но все остальное время принадлежит только мне. В дверь постучали. Это была Матильда. В руках она держала конверт. – Прислуга Паппенгеймов только что принесла это. Брейер вскрыл конверт, прочитал и побледнел. – Это фрейлейн Берта. У нее острые боли в желудке. Мне нужно немедленно идти. – Иозеф, ты же обещал мне, что уже покончил с этим делом. – Нет, пока я в городе. В глазах Матильды показались слезы. Она медленно спустилась по лестнице. Брейер проверил свой черный саквояж и сказал: – Зиг, будь добр, подожди. Попытайся объяснить Матильде… Матильда уединилась в своей комнате. Зигмунд пошел в библиотеку, сел в кресло Йозефа с высокой спинкой, пробежал глазами названия справочников, стоявших за латунной окантовкой книжного стола. В этом уютном помещении с высокими лепными потолками были размещены черное фортепиано и крестьянский буфет восемнадцатого века, в котором отблескивали серебряные подсвечники, полки с книгами о последних открытиях в археологии. Зигмунд знал, что не время говорить с Матильдой. Она слишком расстроена. Однако воспитание не позволяло Йозефу поступить иначе. Дед Брейера был сельским хирургом в местечке около венского Нейштадта и умер в сравнительно молодом возрасте. Отцу Йозефа пришлось самому добиваться образования. В тринадцать лет он прошел пешком пятьдесят миль до Прессбурга, чтобы поступить в духовную семинарию, а в семнадцать прошагал почти двести миль до Праги, чтобы завершить курс обучения. Он стал выдающимся педагогом: в Праге, Будапеште и Вене он обучал еврейскому языку, истории и культуре. Брейер с гордостью рассказывал Зигмунду о своем отце, который, по его словам, помог ему заменить «еврейский жаргон литературным немецким, а неряшливость гетто – культурными привычками западного мира». Отец воспитал Йозефа на учении Талмуда, и он не мог переступить принятых нравственных норм. Мысли Зигмунда обратились к Анне О., которую теперь он знал под настоящим именем, Паппенгейм. Она была школьной подругой Марты. Ее родители приехали из Франкфурта. Случившееся с ней за истекшие два года было необычным и поразительным. Берта Паппенгейм была щупленькой двадцатитрехлетней красоткой, блиставшей своим интеллектом. Процветающая, но истинно пуританская семья не позволила ей продолжить образование после окончания лицея; ей запретили читать книги и посещать театры из–за ложной тревоги за ее невинность. Добрая по натуре, Берта восстала против бесплодной монотонной жизни, создав свой «личный театр» и увлекшись фантазиями, построенными на сказках Ганса Христиана Андерсена. В июле 1880 года заболел ее отец. Берта терпеливо ухаживала за ним, не зная ни сна, ни отдыха, и поэтому никто не удивился, когда ее здоровье пошатнулось. Первыми признаками недомогания стали слабость, малокровие, потеря аппетита. Она слегла. Семейного врача – Брейера – пригласили по поводу сильного кашля, а он обнаружил более серьезное заболевание: фрейлейн Берта страдала провалами памяти, ее интеллект ослаб. Вместе е тем у нее появились галлюцинации; она видела черепа и скелеты в своей комнате, ленты на голове казались ей змеями. Она находилась то в состоянии возбуждения, то глубокой тревоги, жаловалась на полное затмение в голове, боялась оглохнуть и ослепнуть. За сильнейшими головными болями последовал частичный паралич одной стороны лица, затем руки и ноги. Нарушилась речь, она забывала слова, не могла правильно строить фразы. Ее речь стала нечленораздельной. Проболев год, ее отец умер. Фрейлейн Берта не узнавала близких, впала в глубокую меланхолию, бессознательно обрывала пуговицы, отказывалась принимать пищу. Доктор Брейер был вне себя от отчаяния и самоосуждения: его золотое качество диагностика превратилось в ничто, он не находил никакого физического порока у Берты, и тем не менее эта умная, поэтичная и приятная девушка чахла на его глазах. Так было, пока он не обнаружил первый ключ к разгадке. Берта жила не текущими событиями, а прошлым, когда ухаживала за отцом. Брейер понял, что ее болезненное состояние возникло в результате самогипноза. Он смог проследить такой возврат памяти в прошлое, обратившись к дневнику фрейлейн Паппенгейм, который помог Брейеру сделать несколько выводов: Берта страдает истерией; если она поддалась самогипнозу, то и он может прибегнуть к гипнозу, чтобы заставить ее рассказать, как начиналась болезнь. После этого появится возможность обсудить причины ее заболевания и предложить способ исцеления. Метод сработал, хотя и довольно своеобразно – фрейлейн Берта отвечала Брейеру по–английски. Находясь под гипнозом, она смогла припомнить, как развивалась болезнь. Брейер обсуждал с ней ее проблемы и «предположил», что она может и должна принимать пищу, что ее зрение и слух нормальные, что ее паралич исчезнет, если она того захочет, что, хотя ее отец умер – ведь умирают все родители, – она может жить без тоски и без всхлипываний во сне «мучительно! мучительно!». Доктор Брейер удалил один за другим все симптомы. Через некоторое время необходимость в гипнозе отпала, Берта предпочитала «выговариваться» без него. Она встала на ноги, выходила на люди, говорила и читала по–немецки. Хотя временами и бывали откаты, к концу второго года Брейер полагал, что его пациентка может вести нормальный образ жизни. Слушая рассказы Брейера о странном случае «Анны О.», Зигмунд иногда спрашивал: – Йозеф, после того как ты установил истерию в качестве основы симптомов, что же, на твой взгляд, является ее причиной? Йозеф отрицательно покачал головой. – Ты имеешь в виду какие–то причины помимо болезни отца и, возможно, самобичевания за то, что она была плохой сиделкой? Кто знает? Это скрыто в тайниках человеческого ума. Никто не может в них проникнуть. Впрочем, нет и необходимости в этом, если мы можем устранить симптомы и восстановить здоровье пациента. Брейер вернулся быстрее, чем полагал Зигмунд. Его лицо имело сероватый оттенок, пальцы левой руки были сжаты, словно он старался сдержать дрожь тела. Зигмунд был крайне поражен. – Йозеф, неужели девушка умерла? Брейер налил полстакана портвейна и жадно выпил. Затем он плюхнулся в кресло, взял из ящичка сигару, жестом предложив Зигмунду тоже закурить. Сделав несколько затяжек, он склонился над столом. – Когда я прибыл на место, то увидел, что Берта корчилась от боли. Она не узнала меня. Я спросил ее, чем вызвана боль, она ответила: «Выходит ребенок доктора Брейера». – Что?! Брейер вынул из кармана носовой платок и вытер потный лоб. На воротнике проступала влажная полоска от пота. Зигмунд с удивлением уставился на своего друга. Йозеф выпалил: – Она девственница и не знает, как делают детей. – Истерическая беременность! Знают ли об этом ее родственники? – К счастью, нет. Я загипнотизировал ее и оставил в глубоком сне. Утром, когда проснется, она забудет обо всем. Брейер вздрогнул. – Боже мой, Зиг, как это могло случиться? Я изучил душу этой девушки, как книгу, вплоть до последней страницы, и в ней не было ни грана сексуальности… В библиотеку вошла Матильда. На ее лице были еще следы слез. Йозеф встал и обнял ее. – Дорогая, хотела бы ты выехать в Венецию завтра утром? Щеки Матильды порозовели. – Йозеф, ты серьезно? Конечно. Первым поездом, и я все приготовлю вовремя. Зигмунд вышел на улицу, закрыл за собой дверь и опустил ключ Йозефа в прорезь с надписью «Смотритель». Его собственные проблемы отступили на задний план. Он размышлял о Берте Паппенгейм. Очевидно, фрейлейн Паппенгейм далеко еще не излечилась. Если прав Брейер, что в ее болезни нет никакого сексуального элемента, то почему же из всех доступных ей галлюцинаций Берта выбрала представление, будто она рожает ребенка, отец которого ее врач? Почему же при этом она не узнала доктора Брейера? По той причине, что только незнакомому ей человеку она осмеливалась сказать: «Выходит ребенок доктора Брейера»? Что толкнуло ее к такой фантазии, ведь она трогала и, следовательно, чувствовала свой совершенно плоский живот? Поднимаясь по Кайзер–Йозефштрассе к своему дому, он невольно улыбнулся. Зигмунд заплатил смотрителю десять крейцеров за вход, поскольку давно пробило десять часов, пересек внутренний дворик и, поднимаясь к себе, пробормотал: – Видимо, частная практика сопряжена с большими опасностями, чем раскрыл Йозеф.7
На следующий день утром он налил теплой воды в тазик, стоявший на тумбочке в спальне, вымыл с мылом лицо, осушил полотенцем грудь, плечи, руки и растер до красноты тело. Из небольшого шкафчика, где хранилась одежда, Зигмунд достал накрахмаленную, ослепительной белизны рубашку и в душе поблагодарил соседку–прачку. Под воротничок, вырез которого обнажал его сильную прямую шею, он повязал черный галстук и посмотрел в зеркало над умывальником, чтобы убедиться, как он выглядит в своей лучшей одежде. В зеркале он смог увидеть лишь лицо, сорочку и галстук. Чтобы посмотреть, как сидит его темный костюм на левом плече, ему пришлось сдвинуться вправо. То, что он увидел, даже при однобоком осмотре, показалось достаточно хорошим. Парикмахер аккуратно подстриг его, причесал, подровнял волосы около ушей. Бородка выглядела слабой тенью на нижней части лица. Усы закручены вверх. Вид был явно здоровым, несмотря на неприятности последних дней. Он убрал свою комнату, куда был намерен привести Марту, после того как отобедают приглашенные в дом друзья, показать ей книги и свое рабочее место. Половину комнаты в торце помещения, примыкавшего к соседнему зданию, занимал его кабинет с окном, выходившим на Кайзер–Йозефштрассе. Хотя комната представляла собой закуток, выкроенный после планировки основных помещений, он считал ее прекрасным местом, где можно было уединиться от подраставших сестер и не беспокоить семью, когда к нему приходили друзья и возникали бурные дискуссии. В одном из углов он разместил свое оборудование и книги, принесенные из института Брюкке. Шесть лет, прожитых здесь Фрейдом, оказались плодотворными. Свою справочную библиотеку он пополнил медицинскими научными трактатами, а полки над рабочим столом – литературными произведениями на шести языках, не считая латинских и греческих текстов, которые он изучал еще в гимназии. Там были книги Гёте, Шекспира, Шиллера, Бальзака, Диккенса, Гейне, Марка Твена, Байрона, Скотта, Золя, Кальдерона, Ранке, Грилльпарцера, Филдинга, Дизраэли, Нестроя, Джорджа Элиота, Фрица Рейтера. Самое почетное место занимало его библиотечное сокровище – немецкое издание «Эссе» Джона Стюарта Милля. Право на перевод одного тома было предоставлено ему благодаря профессору Брентано, преподававшему Зигмунду философию. Перевод этой книги он сделал в двадцать три года, проходя военную службу в гарнизонном госпитале. Зигмунд прошел на кухню, находившуюся за жилыми комнатами, окна которых выходили во двор. Амалия Фрейд в парадном платье и белом фартуке стояла у плиты, поливая жарившегося гуся и стирая с изразцов брызги жира. Старшая дочь Анна – ей только что исполнилось двадцать три года – отваривала спаржу, а двадцатидвухлетняя Роза резала фрукты на десерт. Амалия, заметив сына в проеме двери, нежно улыбнулась, повесила черпак на латунную перекладину над плитой и подошла к нему. Он был ее любимым ребенком, ее фаворитом. Он родился в сорочке, и старая крестьянка объявила Амалии: «Своим первенцем вы дали миру великого человека». Амалия не сомневалась в этом. Хотя у него была черная шевелюра и темные глаза, она ласкательно называла его «мой золотой Зиги». Она потрогала его галстук, инстинктивно расправила лацканы пиджака. Зигмунд горячо, но не слепо любил свою мать. Она была родом из Восточной Галиции, той части Австро–Венгерской империи, которая имела репутацию края, где живет особая раса, отличная от других европейцев, склонная к бурным эмоциям и страстным вспышкам по пустякам. Она была также известна своей стоической отвагой. – Зиги, ты необычайно красив. Ради какой девушки ты надел свою лучшую рубашку и галстук? Обожая сына, Амалия не испытывала ревности. Она мечтала о дне, когда Зиги женится и подарит ей внучат. У нее были здоровые дочери, несомненно столь же плодовитые, как и мать, но мысль об их детях не приходила ей в голову. – Оделся так ради тебя, мама. Довольная тем, что ритуал был соблюден, Амалия чмокнула сына в щеку. Сестры смотрели на происходящее с удивлением. Не было секретом, что мать была без ума от старшего сына, так же как не было секретом и то, что шестидесяти шестилетний Якоб Фрейд боготворил свою жену. Между членами семьи из девяти человек не было недостатка в привязанности. Амалия вернулась к кухонному столу, на котором лежало раскатанное тесто. Отрезая куски, она руками лепила клецки и бросала их в кастрюлю. Затем открыла заслонку плиты, чтобы посмотреть на гуся. Зигмунд, Анна и Роза снисходительно улыбались, наблюдая, как мать вылила из чайника горячую воду на противень, где жарился гусь. Зигмунд подумал: «Она наделила нас семерых неуемной жаждой жизни». В более благодатную пору, когда семья Фрейд жила во Фрайберге, она могла себе позволить содержать няню для двух малышек. Но после переезда в Вену наступили трудные времена, Якоб Фрейд приносил домой лишь скромные суммы, и Амалии пришлось одной ухаживать за детьми, довольствоваться случайными визитами уборщицы и носить белье в соседнюю прачечную. Амалия не жалела собственных сил, дабы возместить нехватку средств. Когда не было муки, она наскребала по сусекам, если не было батиста на платья девочкам, перелицовывала старые. Зигмунд прошел в гостиную, не вызывавшую у него каких–либо чувств. Здесь почти всегда царил полумрак, стояли тяжелые темные стулья и софа, на окнах висели двойные занавески, внутренние – из коричневого бархата – были подвязаны на стороны, на полу лежал вытертый персидский ковер, доставшийся Якобу от первого брака. Однако некоторые вещи нравились Зигмунду: кофейный столик с Библией на староеврейском языке, унаследованной от родителей отца; отделанный бамбуком книжный шкаф в углу; раздвижной секретер у стены с наиболее ценным имуществом Амалии – тремя семейными фотографиями, на которых был запечатлен восемнадцатилетний период их жизни, причем каждая была сделана в момент благополучия, когда семья Фрейд имела возможность купить новую одежду и сняться в хорошей фотостудии. На первой были изображены восьмилетний Зигмунд в красивом сюртуке, застегнутом на все пуговицы, вплоть до мягкого воротника рубашки, и брючках, отстроченных по бокам, и Якоб в длинном сюртуке, широких неглаженых брюках, на шее красовался галстук в горошек, а в руках он держал книгу. – Папа, ты был чересчур красивым, – сказал вслух Зигмунд и рассмеялся по поводу своего тщеславия: ведь даже на старой фотографии сын удивительно походил на отца. Вторая фотография была сделана восемь лет спустя, когда Зигмунду было шестнадцать лет и он был лучшим учеником в своем классе гимназии пять лет подряд. На этой фотографии, запечатлевшей его скромные усы, он был в жилете, который пересекала на взрослый манер золотая цепочка часов. Он стоял, прислонившись к резному столу, его нога касалась края длинной юбки матери из черной тафты. Она тоже держала книгу, но неловко, на коленях, как бы откровенно признаваясь, что не часто имеет дело с такими предметами. Его мать, на десять лет моложе отца, была одета с иголочки, что приятно сочеталось с ее тонким чувственным лицом. Ему нравились ее красивые золотые серьги с изящными подвесками, золотая цепочка на шее, медальон под кружевным воротником, выделявшимся на черном платье, и обрамлявшие лицо Амалии блестящие черные волосы, завитые локонами. В Вене говорили, что женщины из Галиции вовсе не леди с изящными манерами. Но Амалия была, бесспорно, привлекательной женщиной. Самая большая фотография была сделана всего шесть лет назад. На ней были запечатлены шесть детей семьи Фрейд и младший брат Амалии старший лейтенант Симон Натансон. Коротконогий и низкорослый, с непомерно длинными усами, в своем украшенном светлыми пуговицами, хорошо подогнанном мундире и с огромным палашом он как бы олицетворял Австро–Венгерскую империю. Зигмунд находился в центре группы. Ему в ту пору было двадцать лет, его лицо оттеняла узкая бородка, и он с головой был погружен в изучение медицины. Перед ним сидела мать, откинувшись на его руку, лежавшую на спинке стула. На полу примостился десятилетний Александр, баловень семьи. Справа от Зигмунда стояла Анна, крупная девица с пышными черными волосами, внушительным бюстом и тонкой талией. К ней прислонилась Паули, младшая из дочерей. Ей было всего двенадцать лет, но она выглядела не по возрасту рослой. Круглое лицо и курносый нос придавали ей простецкий вид по сравнению с остальными девочками. Зигмунд знал, что ее легко опекать, но командовать ею – невозможно. По другую сторону от него расположилась Мария, ее звали Митци, пятнадцати лет, с локоном, спускавшимся на левое плечо. Она растерянно смотрела на мир, таившийся в объективе камеры. В переднем ряду около матери стояла четырнадцатилетняя Дольфи, а по другую сторону – Якоб, набычившийся на камеру, что можно было принять за желание выглядеть на фотографии главой семьи. В гостиную вошел Якоб Фрейд. Он был выше сына ростом, шире в плечах, волосы и борода поседели, а усы оставались по–юношески черными. Сыну казалось, что отец становится все более похожим на пророка из Ветхого Завета; у Якоба был запас историй для толкования любых ситуаций. – Итак, Зиг, – сказал отец, – ты вполне готов к нашему скромному празднику. – Отмечаю посвящение в профессию медика. Якоб промолчал, обдумывая услышанное. Все семейство Фрейд находилось в актовом зале университета 31 марта прошлого, 1881 года, когда Зигмунду вручали диплом и посвящали его в доктора. Якоб знал, что сын не намерен заниматься врачебной практикой. – Я говорю серьезно, папа. Через несколько недель я вернусь в больницу, чтобы готовиться к частной практике. – Добрая весть, сынок. – Отчасти. Пройдет несколько лет, прежде чем я смогу зарабатывать. Тебе туго придется. – Выдюжим. Это слово было ключевым в семье Фрейд, умевшей справляться с трудностями. Якобу удалось скопить суммы, необходимые для оплаты обучения в гимназии и в клинической школе. Но отец и сын, глядя друг на друга в сумерках гостиной, знали, что в последнее время семейные доходы поубавились. Якоб старел и не всегда чувствовал себя хорошо. Женившись в семнадцать лет на Сали Каннер из Тизменица, он успешно вел свое дело, занимаясь торговлей шерстью и тканями, был агентом торговых домов в Праге и Вене. Только за год он продал тысячу триста тюков шерсти–сырца, что потребовало значительных капиталов, но и принесло большие доходы. Когда он и Сали переехали во Фрайберг, Якоб получил лицензию, уплатил значительные налоги и стал уважаемым человеком в общине. Хотя Якоб окончил всего несколько классов церковной школы, он самостоятельно изучил немецких классиков. Сали также была наделена хорошим умом. Якоб часто уезжал в Моравию, Галицию и Австрию, перепродавал овец и крупный рогатый скот, сало и шкуры, пеньку и мед, а Сали растила двух сыновей, вела бухгалтерские дела, управляла складом в соседней деревне Клогсдорф. Сали умерла в возрасте тридцати пяти лет. Зигмунд не знал причину ее смерти, в доме Амалии было не принято Даже упоминать имя первой жены отца. Во время поездок в Вену Якоб установил деловые связи с семьей Натансон, приехавшей туда из Галиции и сумевшей занять свое место в австрийской торговле шерстью. На его глазах взрослела Амалия, и он восхищался ею. Через пять лет после смерти Сали он женился на двадцатилетней Амалии и увез ее во Фрайберг. Она была привлекательной девушкой с хорошим приданым и могла бы не выходить за сорокалетнего вдовца с двумя сыновьями. Но Якоб Фрейд был сильным, импозантным мужчиной, преуспевавшим в делах, с мягким характером и хорошими манерами. Зигмунд считал, что это был брак по любви. Старший сын Якоба и Сали – Эммануэль – уже был женат, когда Якоб привез Амалию во Фрайберг. Другой сын Сали – девятнадцатилетний Филипп – жил в семье Фрейд и стал старшим братом сначала для Зигмунда, а затем для второго сына Амалии – Юлиуса, который умер, когда ему было всего шесть месяцев. Филипп играл также роль старшего брата для Анны, родившейся через восемь месяцев. Зигмунду было трудно определить свое отношение к Филиппу, который был почти ровесником Амалии: иногда ему казалось, что Филипп – его отец, а Якоб – дед. Эти трудности исчезли, когда Амалия и Якоб переехали на год, довольно неблагоприятный, в Лейпциг, затем в Вену, а Эммануэль увез свою семью и своего брата Филиппа в Манчестер, где они обосновались в ткацком бизнесе. Зигмунду удалось повидаться со своими братьями по отцу и их потомством накануне поступления в Венский университет, когда Якоб выполнил свое обещание в награду за аттестат зрелости оплатить его пребывание летом в Англии. Но во втором браке фортуна начала изменять Якобу Фрейду. Новая северная дорога из Вены обошла стороной Фрайберг. Инфляция и депрессия 1850–х годов застали его, как, впрочем, и многих других, врасплох. Off не смог уплатить долги, накопившиеся в результате значительных обязательств. Когда же Якоб ликвидировал свое дело и прибыл в Вену с четырехлетним сыном и полуторагодовалой дочерью, ему противостояли прочно утвердившиеся фирмы. Без капитала он не мог выдержать конкуренции. При поступлении Зигмунда в гимназию Якоб Фрейд записал себя в регистрационном листке: «Торговец шерстью». Однако горькая правда состояла в том, что он так и не стал вновь торговцем. Он не выкупил лицензию, не уплатил налоги, а выполнял мелкие поручения в торговле шерстью и текстилем. Когда Якобу» подвернулась выгодная работа, Фрейды купили фортепьяно для Анны, керосиновую лампу, которую можно было поднимать и опускать над обеденным столом, одежду для семьи, заказали фотографии, выделили большую сумму – Зигмунду на покупки в книжной лавке Дойтике. Когда жеработа приносила мало доходов или же Якоба увольняли – это случалось все чаще, – Фрейды жили без денег, выслушивая упреки Амалии: «Нечем платить». Тем не менее вплоть до последнего времени благодаря упорству Якобу Фрейду удавалось удерживаться в рамках среднего класса – учителей, чиновников министерств, музыкантов, зарабатывавших от трехсот до пятисот гульденов в месяц, то есть сто двадцать – двести долларов. Это был средний доход, не богатый, но достаточный. Только Зигмунд знал одну из причин этого. Проведя лето в Англии у Эммануэля и Филиппа, процветавших в Манчестере, Зигмунд слышал в доме Эммануэля, что его братья, говоря о Сали, называли ее умной, деловой женщиной. Они иногда посылали деньги в Вену, когда семье Фрейд было совсем худо, но не критиковали Амалию. И все же, если бы Сали была жива, она не позволила бы Якобу набрать столько обязательств. – Но тогда, – говорил Зигмунд отцу с улыбкой, – если бы Сали была жива в пятьдесят пятом году, мой отец не женился бы на моей матери. И я, доктор Зигмунд Фрейд, как таковой не находился бы здесь, на Кайзер–Йозефштрассе, в теплый июньский вечер, ожидая любимую девушку.8
Бронзовый молоток на входной двери три раза ударил по металлической пластинке. Зигмунд выбежал из комнаты, чтобы встретить Марту. Но его опередили Анна и Роза, поспешившие навстречу своим молодым приятелям. Анна втайне обручилась с Эли Бернейсом, а Роза водила дружбу с одноклассником Зигмунда, которого все звали Бруст. Вслед за Брустом пришла Минна, младшая сестра Марты, обручившаяся с Игнацем Шёнбергом. Минна была крупной, высокой девушкой с широкими плечами и бедрами, но плоскогрудая, словно природа решила, что нужно на чем–то сэкономить. Друг Зигмунда сухопарый Игнац давно страдал от туберкулеза, весьма распространенного среди венской молодежи. Он считался в университете лучшим специалистом в области санскрита и уже перевел на немецкий язык и опубликовал том санскритских сказок «Гитопадеша». Замыкали группу Эли Бернейс и его сестра Марта. Двадцатидвухлетний Эли был властным молодым человеком, плотно сколоченным, с орлиным носом и всевидящими глазами; он носил модные костюмы и высокие хромовые сапожки. Когда Эли было девятнадцать лет и он готовился поступать в университет под патронажем профессора фон Штейна, скоропостижно умер его отец. Не колеблясь, Эли заменил отца на посту секретаря профессора и стал кормильцем семьи Бернейс. Наряду с поисками боковых тропинок в лесу присущей ему забавной привычкой было пристегивание носков английскими булавками к кальсонам. Ложась спать, он раскладывал на ковре на заранее отведенном месте шесть английских булавок, а утром прикалывал ими носки, по три булавки на носок. – Судя по такой приверженности порядку, – комментировал Зигмунд, – любому плану в жизни Эли обеспечен успех. Наконец он получил возможность поздороваться с Мартой. Не умышленно ли она пришла последней? Когда он взял ее за руку, она улыбнулась, и от ее улыбки он почувствовал слабость в ногах. Обменявшись приветствиями, молодые пары обратились к Амалии и Якобу Фрейд: – Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер, госпожа, добрый вечер, господин Фрейд! Эли и Игнац принесли скромные букеты цветов. Обеденный стол был раздвинут, накрыт белой льняной скатертью, на нее легли свернутые салфетки в серебряных держателях из приданого Амалии. В большие тарелки для главного блюда были поставлены суповые. Около них лежали десертные ложки и стояли бокалы для минеральной воды. Младшая дочь принесла каравай домашнего хлеба, нарезанного ровными ломтями, а Анна – супницу, из которой фрау Фрейд наполняла тарелки. Затем появилась Роза с гусем на блюде, за ней – Митци со спаржей и Дольфи с красной капустой. Наступил самый деликатный момент: фрау Фрейд не могла доверить разделку гуся мужу, ибо нужно было не обделить ни одного из гостей. Карточки с именами гостей раскладывала в фарфоровые подставки из Мейссена Анна. Она старалась посадить вместе тайно обрученные пары: все знали, что они влюблены друг в друга, но беда в том, что либо слишком молоды, либо бедны для женитьбы. Анна поставила карточку Марты рядом с карточкой Зигмунда, и за это он был ей благодарен. Однако выяснилось, что Бруст недоволен своим местом. Он присел на краешек стула, словно собирался сбежать. Роза слыла красавицей в семье – друзья сравнивали ее с Элеонорой Дузе. Бруст не хотел сидеть в стороне от Розы и в то же время боялся ее. Зигмунд недоумевал: почему бы? Керосиновая лампа, опущенная вниз, озаряла теплым светом стол. На стене над буфетом с его блестящими подносами и другим серебром висели фотографии членов «буржуазного министерства» – Хербста, Гискра, Унгера, Бергера и других из числа выпускников университета. Они олицетворяли триумф восстания и уличных боев в Вене в 1848 году, когда представителям среднего класса, в том числе нескольким евреям, были доверены важные государственные посты. Однажды, сидя напротив этих внушающих уважение портретов, Зигмунд подумал: а не податься ли ему на юридический факультет? Однако, прочитав рассуждения Гёте о природе, он изменил свой взгляд. Гёте писал: «Природа! Мы ею окружены и объяты – бессильные выйти из нее, бессильные глубже в нее проникнуть… Она создает вечно новые образы; то, что есть, – того не было, что было – уже не повторится, все ново, хоть все и старо. Мы живем среди нее, но ей чужды. Непрестанно говоря с нами, она не выдает нам своей тайны. Мы постоянно на нее воздействуем, но власти над ней не имеем… Она вечно строит и вечно разрушает; и мастерская ее неприступна… Она величайшая художница…»[2] Эли заговорил первым: – Освобождается должность редактора экономического журнала. Профессор фон Штейн готов рекомендовать меня на эту должность к концу года. У меня состоялась беседа с австрийским министром торговли: один из чиновников выходит в отставку, и на его место рассматривается моя кандидатура. Наряду с этим мне известно об открытии частного бюро путешествий. Там можно заработать немало денег. На чем остановиться? Анна не без озорства ответила: – Принять все три предложения. Энергии у тебя хватит. – Тогда, видимо, мне следует отправиться в Америку. Там ценятся люди, способные выполнять сразу три работы. Завязалась дискуссия, где лучше жить. Зигмунд, единственный, кто побывал за границей, сказал: – В Англии, и скажу почему: там разрешено все, что не запрещено специально. В Германии все запрещено, за исключением специально разрешенного. – А как в отношении Вены? – спросил Игнац. Якоб с ходу ответил: – В Вене делается все, что запрещено, – и добавил: – Я слышал сегодня анекдот на сборище завсегдатаев. Его глаза потеплели. Якобу нравился венский обычай, когда друзья собираются в один и тот же час, за тем же самым столом, в той же самой кофейне. Именно так, в обитых кожей кабинках, за матовыми стеклами дверей и перегородок, увешанных газетами, собиралась Вена. Якоб продолжил: – Мать подарила два галстука сыну в день рождения. На следующий день сын надел один в знак благодарности. Увидев его, мать воскликнула: «В чем дело, тебе не нравится другой?» Все засмеялись, кроме Амалии, которой эта шутка не показалась смешной. Якоб послал ей через стол воздушный поцелуй. У Зигмунда пропал аппетит, и он положил свою вилку на тарелку. После прогулки в субботу к Медлингу и их поцелуя он впервые увидел Марту. В воскресенье он отправил ей книгу «Давид Копперфильд», чтобы напомнить о сдвоенном миндале, а она послала ему испеченный ею пирог – таков был тайный обмен подарками между домами Бернейсов и Фрейдов, состоявшийся благодаря любезности Эли. Марта не знала, какое разочарование вызвала у Зигмунда беседа с профессором Брюкке. Он вмешался в разговор слишком громко против своей воли: – Эли, ты не единственный, кто меняет профессию. Я вернусь в больницу в августе, когда там откроются курсы. Через несколько лет я смогу лечить тебя от всех болезней, кроме хронического алкоголизма. Марта повернулась в его сторону, стараясь понять смысл услышанного. Он почувствовал это. – Ты и в самом деле станешь врачом? – Разумеется, он станет врачом, – сказала Амалия, – Зачем же иначе он добивался звания в медицине? Марта под столом прикоснулась к его руке. К нему вернулась уверенность. В этот момент в центре внимания оказался Игнац, рассказывавший о санскритской сказке, которую он только что перевел. Зигмунд наклонился над столом и взял карточку Марты, прошептав: – У диких племен есть поверье, что если завладеть чем–то принадлежащим другому, то он попадет под вашу власть. Это магия. Тогда тот, другой, будет делать все по вашему приказанию. – Сейчас я оказалась в твоей власти, чего же ты хочешь от меня? – Если скажу, то ты можешь разрушить чары. – Так легко? – Она была прекрасна, улыбаясь ему лукаво, но с любовью. – Когда ты работал в лабораториях того алхимика, разве не нашел более надежной магии, чтобы подчинить одного человека другому? – Ты чистила яблоко, когда я впервые увидел тебя. Мне казалось, что яблоком был я, и своими тонкими пальцами ты добралась до самой сердцевины.9
Через два дня к нему забежал Эли. Когда он уходил, Зигмунд сказал: – Я провожу тебя. Как и можно было ожидать, Эли пригласил его на чашку кофе. Фрау Эммелин Бернейс вежливо приняла Зигмунда. Она дружила с Амалией Фрейд, но эта дружба не умерила ее огорчения, когда она узнала, что Эли влюблен в Анну. Анна нравилась фрау Бернейс, однако она считала безрассудством, чтобы умный, подающий много надежд молодой человек, которому свахи предлагают невест с приданым, оценивающимся в пятьдесят тысяч долларов, женился на бесприданнице. Если бы она узнала, что у Минны серьезный интерес к Игнацу Шёнбергу, а у Марты – к Зигмунду Фрейду, этим двум книжным червям, вечным студентам, у нее поседели бы волосы. Сама фрау Бернейс происходила из семьи шведских Филлипсов. Ее муж был выходцем из рода состоятельных гамбургских торговцев и учителей. Отец Бермана – Исаак – служил старшим раввином в германо–еврейской общине. Его брат Якоб работал в Боннском университете профессором и старшим библиотекарем. Другой его брат – Микаэль – был зачислен в Мюнхенский университет баварским королем Людвигом II, учредившим для него специальную кафедру. Род Филлипсов был столь же уважаемым. В пятьдесят два года Эммелин Бернейс была по житейским понятиям пожилой женщиной. Но она решительно отказалась вычеркнуть себя из жизни после смерти мужа, как поступают индийские женщины, следующие традициям сатти. Она чувствовала себя бодрой и сильной и требовала считать ее главой семьи. На этой почве у нее возник конфликт с сыном, утверждавшим, что он, как мужчина и добытчик, должен верховодить в семье. Когда Марта подавала кофе и угощения, фрау Бернейс села на своего любимого конька, рассуждая о возвращении семьи в Гамбург, в пригород Вандсбек, по поводу чего она ссорилась с Эли. Воспитанная в строгих традициях и приверженная дисциплине, она питала отвращение к Вене. – Со времен Венского конгресса 1815 года, – твердила она, – люди считают этот город средоточием разнузданного веселья, основанного на принципе «жить сегодня, помереть завтра». Но это более чем извращенный миф, на самом деле большинство венцев живет в отчаянии. Музыка, песни, бесконечные вальсы, нарочитый, бессмысленный смех – все это ветошь, скрывающая от мира наготу. Верно, что «в Берлине жизнь серьезна, но небезнадежна, в Вене же – и безнадежна и несерьезна». В Гамбурге мы не стараемся казаться веселыми, когда на нас обрушиваются беды или неприятности. Мы не дополняем каждую фразу глупыми трелями, подобно венцам, хотя они могут в это время говорить о смерти матери. Если нам не нравится человек, то мы не льстим ему, чтобы затем растоптать его репутацию. У меня нет желания потратить остаток жизни на то, чтобы выдавать мнимое за действительное. Я – шведка и северная немка и не намерена провести в хихиканье оставшиеся мне дни. Нам не следовало бы выезжать из Гамбурга. – Затем, резко повернувшись к сыну, она сказала: – Эли, если ты будешь дома, я нанесу визит фрау Попп. Побеседовав несколько минут на случайные темы, Эли сказал, выполнив таким образом роль хозяина: – Извините меня. Я должен написать кое–какие бумаги для профессора фон Штейна. Тем временем Марта расположилась в своем любимом коричневом кресле, а Зигмунд сел на скамеечку для ног. Квартира Бернейсов на Маттхойсгассе в третьем районе близ городского парка и реки была удобной, но заставленной тяжеловесной мебелью, привезенной из Гамбурга. Стены украшали картины художников ранней гамбургской школы с лесными и морскими пейзажами. – Зачем ты едешь в Вандсбек? – спросил Зигмунд. Марта слегка побледнела. – Это было задумано раньше… чтобы посетить родственников и провести лето в деревне. Там прекрасные рощи для прогулок. Тебе они понравились бы так же, как Венский лес. – Можно считать это приглашением? Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, уголки ее рта тронула озорная улыбка. У него был соблазн поцеловать ее, улучив удобный момент. Однако воспитанность взяла верх. Голову сверлила мысль: «Не нарушай законов гостеприимства». В гостиную вернулся Эли. – Как насчет прогулки по Пратеру? – спросил он. Наступали светлые сумерки, какие бывают в середине июня. Уходя за горизонт, солнце озаряло западный полог неба цветом розовой лаванды. Эли шагал почти рядом и в то же время не мозолил глаза. Они вошли в парк у Пратерштерна, затем прошлись под руку по боковой тропе главной аллеи, обсаженной с обеих сторон каштанами. По центральной дороге спешили красивые экипажи. На женщинах были пышные юбки и широкополые шляпы, мужчины щеголяли в темных костюмах и цилиндрах, а кучера носили короткие светло–коричневые сюртуки и такого же цвета шапки. Наша троица повернула на дорожку, проходившую через Кайзергартен с его ухоженными лужайками, подстриженными деревьями и кустарниками, и оказалась в увеселительной зоне парка Пратер, где толпились посетители со всех уголков империи. Хорваты продавали деревянные ложки и корзинки. Женщины из Чехословакии в грубых ботинках и со связанными из соломы лотками, висевшими на шее, торговали деревянными игрушками. Крестьяне из Богемии и Моравии выглядели так, словно прошли всю дорогу пешком. Поляки продавали тонко нарезанную кровяную колбасу. Парни из Силезии и Боснии торговали изделиями из стекла и фарфоровыми чашками. Повара из Богемии вышагивали к павильону в обнимку с вновь обретенными друзьями. Слева, около дорогого ресторана «Айсфогель», играл женский оркестр. Справа детишки толпились у качалки. Наша троица подошла к популярному Фюрсттеатру и увидела афишу: «Ди Харбе Польди». Марта спросила: – В каком смысле Польди недружественна? – Это эвфемизм – «не очень любезная». Марта изучила цены. – Кому захочется платить восемь гульденов, или три доллара и двадцать центов, чтобы поглазеть на нелюбезную девицу? Зигмунд не знал, что сказать. – Ну, доктор Фрейд, полагаю, я вас шокировала. Он обнял ее за талию и привлек к себе. Они подошли к площади Рондо, где посетители столпились перед Калафати – огромной вращающейся китайской фигурой, вызывавшей восторг у детей. Марта и Зигмунд оказались в центре увеселительной зоны с ее саунами и ресторанами, каруселями, колесом обозрения, тирами, в которых солдаты стреляли по глиняным голубям в надежде выиграть розы для своих девушек; выставками, где демонстрировались сиамские близнецы, самая полная девушка, волосатая женщина. Они вернулись на Гроссе–Цуфартсштрассе и, когда перед ними возник Эли, остановились перед пивной «Ли–зингер». Из двух известных ресторанов напротив – «Цум Вайссен Рессль» и «Швайцерхаус» – доносилась музыка, на тротуарах толпились девушки в ярких национальных костюмах, женщины из Баварии в синих юбках и белых фартуках, расхваливая свои товары: жареных карпов, горячий кофе, лимонад, шоколад, фрукты, салаты, воду. Зигмунд купил каждому жареного карпа с булочкой, Эли заказал всем по кружке пива. – За ваше здоровье! – кивнули они друг другу. Зигмунд смотрел через стол на Марту, на мягкий овал ее лица и теплые глаза, такие серьезные и чистые. Его пронзило чувство радости и близости. Хотелось взять ее под защиту. Но у него не было даже права обращаться к ней прилюдно на «ты». В воскресенье она уедет на каникулы. Остается всего два дня. Его объял страх: она уедет, а он не сможет объясниться ей в любви и потеряет ее. Марта первая нарушила молчание: – Зигмунд, можешь ли ты чувствовать себя счастливим, отказавшись от любимой работы и вопреки своим планам занявшись частной практикой? Он понимал, что его ответ важен для нее. – Да. Любовь – это пламя, работа – топливо Она отмолчалась на это выражение чувств, сдвинув брови и наклонясь к нему. Что стеснило его грудь: одеколон или естественный запах ее волос, к которым он прикоснулся в тот чудесный момент в Меддинге? – Тогда тебе придется поступить именно так. Рано или поздно это должно случиться. – Несомненно, я должен найти как можно скорее выход из положения, должен помогать родителям и сестрам. Да и Александру, ему еще два года учиться в гимназии. Она внимательно вглядывалась в его лицо, прежде чем вновь заговорить. – Ты не кажешься… несчастным… огорченным. Не понимаю, почему ты так неожиданно изменил свое мнение и, видимо, примирился. – И да и нет. Я постараюсь стать успешно практикующим врачом, как только буду к этому готов. Возможно, в области неврологии, ведь этим занимается Брейер, и он мне поможет. Вместе с тем я не намерен бросить исследования. У меня всегда будет неодолимое желание посвятить часть своей жизни медицинской науке. Для этого у меня есть энергия, сила, решимость… Она нежно, как верный друг, положила свою руку на его руку. И он понял, что скоро – пусть не сейчас, когда они окружены жующей, пьющей, смеющейся толпой, – он сделает свое заявление, то самое, которое определит навсегда его судьбу. Придя домой, он уселся за стол в крошечном кабинете. Он считал, что немецкий язык сильно и точно выражает научные истины, ныне же обнаружил, что этот язык может быть мягким и проникновенным, когда речь идет о любви. «Дорогая Марта, как изменила ты мою жизнь. Было так чудесно сегодня с тобой в вашем доме… Мне хотелось, чтобы этот вечер и эта прогулка никогда не кончались. Не осмеливаюсь писать, что так тронуло меня. Не верится, что долгие месяцы не увижу милые черты, что могу столкнуться с опасностью влияния новых впечатлений на Марту. Так много надежд, сомнений, счастья и лишений было спрессовано в короткие две недели. Но я преодолел колебания; если бы я хоть чуточку сомневался, я не открыл бы свои чувства в эти дни… Не выходит. Не могу сказать тебе то, что должен сказать. Я не нахожу нужных слов, чтобы закончить фразу, которая не затронет при этом девичьих чувств. Позволю себе сказать одно: когда мы виделись в последний раз, мне хотелось обратиться к любимой, к обожаемой на«ты» и убедиться в чувствах, которые она, может быть, втайне питает ко мне».10
Эли обещал доставить письмо, минуя фрау Бернейс. Всю пятницу Зигмунд тревожился по поводу тона своего письма. А если она не питает к нему тех же чувств, что он к ней? Она уедет в воскресенье, оставив без ответа его письмо, и он будет жить в неведении все лето. Отыскать предлог для столь внезапного посещения семейства Бернейс он не мог: фрау Бернейс обрушится на него со своей «гамбургской заносчивостью» и поставит на всем крест. Суббота тянулась ручейком медленно ползущих минут. Он бродил по дому, по улицам, стараясь разобраться в своих чувствах. Его мысли путались. В пять часов, когда он ходил взад–вперед между рабочим столом и книжными полками, между лежанкой и секретером, стараясь не удариться коленями, Зигмунд услышал голоса внизу. Спустившись по лестнице, он увидел Игнаца, Минну, Эли и Анну, вернувшихся с прогулки и приведших с собой Марту. Пять часов дня – лучшее время, отведенное для кофе. Обед – дело серьезное, он предназначен для насыщения, ужин обычно легкий – это остатки дневной еды и еще что Бог пошлет. Час кофе – подлинно светский час, во время которого приятный, добросердечный разговор льется, подобно кофе из горлышка кофейника. Воздух насыщен терпким ароматом, беседы полны дружеской сердечности. Каждый осознает свое место в обществе, пусть самое скромное; есть что сказать и что выслушать, быть может, не столь важное, но и не обидное; на дружбу отвечают дружбой, на смех – смехом, все уверены, что у каждого дня есть час и никто не может отнять и испортить его. Александр пересказал фабулу пьесы Нестроя, которую он недавно видел в Фолькстеатре. Анна принесла торт (в последнее время в семье Фрейд это стало редкостью) я разложила тонкие ломтики шоколадного кекса с прослойками малинового варенья и глазированной корочкой. По кругу прошло блюдо со взбитыми сливками. Такой политый сливками торт был своеобразным ядром венской цивилизации. Зигмунд тайком взглянул на Марту, сидевшую по другую сторону стола. Уже довольно долго он сидел молча, и ему показалось, что такое поведение может вызвать подозрение. – Я вспомнил спор между Захером и Демелем по поводу того, кто изобрел оригинальный торт Захера, – сказал он довольно громко, явно привлекая к себе внимание. – Соперничество дошло до такой остроты, что было решено обратиться к императору Францу–Иосифу. В один из воскресных дней вся Вена сбежалась к Шенбруннскому дворцу, где император и члены его кабинета дегустировали один за другим торты. В конце дня они появились на балконе. Император поднял обе руки и провозгласил: «После надлежащего дегустирования и сравнения империя пришла к выводу: они оба оригинальные!» Зигмунду показалось, что Марта вопросительно подняла бровь. Он встал и прошел в гостиную. Занавеси были открыты, но в комнате ощущалась прохлада – кружевные гардины Амалии защищали от солнечных лучей, проникавших в окна со стороны Кайзер–Йозефштрассе. Он ждал посреди комнаты. Здесь они будут наедине, так же как в лугах Пратера, когда показались первые весенние фиалки. – Марта, ты получила мое письмо? – Да, Зиг, но только сегодня утром. Она впервые назвала его по имени, принятому в семье. По телу Зигмунда пробежала дрожь. Он корил себя за застенчивость и робость. Но разве он не высказал свои чувства в письме? Дело теперь за Мартой. – Я думала о тебе, находясь вчера в Бадене, – сказала она спокойным низким голосом. – И принесла тебе эту ветку липы. Он взял ветку, поднес ее к носу и ощутил что–то твердое. Внимательно осмотрев ветку, он увидел среди беловатых цветов что–то блестящее. Это было золотое кольцо с жемчугом. – Марта, я не понимаю… это кольцо… – Его носил мой отец. Хочу, чтобы оно было у тебя. Он надел кольцо на мизинец – оно подходило только на этот палец, – отложил в сторону ветку и обнял Марту. – Какой прекрасный ответ на мое письмо! О Марта, я так тебя люблю. – Я тоже тебя люблю, Зиги. Он крепко прижался к ней, готовый никогда ее не отпускать. Она обняла его за шею, сплетя пальцы. Он поцеловал ее в губы. Они были не холодными, как в саду, а теплыми, слегка приоткрытыми, полными любви и жизни. Они сели на софу, держась за руки. Зигмунд никогда не чувствовал себя таким счастливым. Наконец, оторвав свои губы от ее губ, он сказал: – У меня нет подарка для тебя, Марта. Но я закажу второе такое кольцо, чтобы и ты могла его носить. Тогда твоя мама ничего не узнает. Наша помолвка останется тайной, а она будет долгой. – Как долгой? – Наши предки установили: семь лет. – Я подожду. Марта вернулась к кофейному столику и взяла небольшой пакет, оставленный ею там. В нем находилась шкатулка из тика. – Помнишь, что ты сказал, взяв мою карточку со стола? О примитивной вере в обладание? Я принесла тебе лучший талисман. Это была только что сделанная фотография. Он держал ее перед собой в вытянутой руке. На фотографии была запечатлена Марта с широко расставленными крупноватыми для ее лица глазами, ее губы были слегка полноватыми, подбородок слишком решительный. «Но в целом, – подумал он, – это самая красивая женщина, какой мне довелось любоваться». Он с трудом оторвал глаза от фото и посмотрел на оригинал. Марта наблюдала за его лицом, за эмоциями, выражавшимися на нем, и это доставляло ей удовольствие. – Как ты думаешь, Зиги, когда Ева соблазняла Адама, продолжала ли она чистить яблоко? Сомневаюсь, ведь они торопились покинуть райские сады и сбежать в грешный мир. – Разве он грешный? – Я столь же несведущ в этом, как и ты. Я был затворником в лаборатории до того, как поддался магии Марты. – Ты веришь в магию? – спросила она. – В любовь? Бесспорно. Марта, дорогая, мы должны стать конспираторами. Как я смогу пересылать тебе почту? Поток писем, написанных мужской рукой, покажется странным в доме твоего дяди. Можешь ты надписывать конверты сама? – Да, я смогу делать это. – Ты милая девочка. Возможно, я больше всего люблю тебя за твою неясность. Она резко освободилась из его объятий. – Зиги, не путай нежность со слабостью. Бойся истинно вежливых людей, у них стальная воля. Это скорее восхитило его, чем встревожило. – Я знаю, что ты сильная, но в лучшем смысле слова. Я не вижу ничего загадочного в твоем характере. Я уверен, что ты такая, какой себя видишь. У меня же сложный и вздорный характер. Мои друзья называли меня циником. Как ученый, я никогда не считал себя сентиментальным. Я наслаждался классическими рассказами о любви и был на них воспитан, но никогда не думал о себе как о возлюбленном. О, в один из дней любовь медленно, осторожно пришла бы… Но чтобы она обрушилась на меня как пантера с дерева в лесу? Невероятно! Как я мог оказаться таким беззащитным? В конце концов мне двадцать шесть. Я раскладывал по полочкам любовную поэзию мира с той же тщательностью, с какой готовил образцы для микроскопа в лаборатории. Если я могу наблюдать это таинство, раскрывающееся перед моими глазами, как же я могу отвергать мистерию Неопалимой купины, зажженной ангелом Бога перед Моисее:;? Или мистерию Иисуса, накормившего многих хлебом и рыбами? Она прижалась к нему, прислонив к его щеке свою. – Знаешь, что я хотела бы получить в качестве подарка в знак помолвки? Стихи о любви, о которых ты говорил. – Гейне или Шекспира? – И того и другого. – Вначале Гейне:Книга вторая: Страждущая душа
1
Городская больница, где Зигмунд Фрейд провел три–четыре последующих года, создавалась медленно. В 1693 году на занимаемой ею территории был выстроен приют для бедных, и сто девяносто лет назад ее первое подворье именовалось большой усадьбой. К 1726 году было завершено строительство второго и примыкающего подворий – брачного и вдовьего. В следующей половине века выросло полдюжины других зданий: подворье больных, хозяйственное и ремесленное подворья, подворье студентов… Затем идеалист и провидец император Иосиф II, путешествуя инкогнито по Европе, в 1783 году подписал указ о превращении Большого армейского дома в Главный госпиталь по образцу Парижской больницы. Клиническая школа Венского университета переместилась в Городскую больницу, ставшую благодаря этому одной из крупнейших больниц мира и важным исследовательским центром. Ее профессора были наиболее уважаемыми подданными Австро–Венгерской империи, а больница завоевала внушавшую благоговение репутацию и признание за блестящие исследования, осуществленные в ее лабораториях. Больница была как бы миром в себе. В двенадцати огромных четырехугольных зданиях размещались двадцать отделений, четырнадцать институтов и клиник. Каждое здание имело просторный, ухоженный внутренний двор с арочными проходами. Сто гектаров территории больницы были обнесены каменной стеной. Из Земмеринга, находящегося высоко в горах, по трубам поступала вода, подававшаяся на все этажи зданий. Пища готовилась на отдельной кухне. Врачи могли пользоваться читальней, а библиотека ежегодно обслуживала двадцать пять тысяч читателей. Дворы освещались газовыми светильниками; такие нововведения, как электричество и телефон, были еще редкостью; зимой палаты обогревались печами, в окнах имелись фрамуги для свежего воздуха. Действовала католическая часовня, а в шестом подворье находилась синагога для пациентов и врачей–евреев. В четвертом подворье размещалась баня с ваннами и парилкой. Во всех подворьях имелись чайные комнаты и туалеты с проточкой водой на почтительном расстоянии, чтобы до больницы не доносились запахи. Вместо соломенных матрасов использовались трехсекционные из конского волоса. Смертность была низкой, всего лишь четырнадцать процентов; плата за лечение колебалась от гульдена в день, т. е. доллара и шестидесяти центов, для первого класса, до семи центов в день для исконных венцев; бедняков лечили бесплатно. Всегда заполненная палата для рожениц, где обучались акушерки и врачи, взимала с пациенток тридцать шесть центов в день за питание, койку и прием родов.2
В операционной доктора Теодора Бильрота на втором этаже хирургической клиники царило возбуждение. Зигмунд задержался в центральной канцелярии, чтобы записаться на курсы. Войдя в зал, где высокий греческий фриз отделял операционный стол от круто поднимавшегося вверх амфитеатра, он обнаружил, что его ярусы переполнены. Было много венских хирургов, пришедших посмотреть, как профессор Бильрот проведет резекцию по разработанной им новой второй методике. Давно было известно и доказано во время войны, что человеку можно ампутировать руку или ногу и он будет жить. Однако еще не знали, что участок внутренних органов человека, пораженных язвой или опухолью, может быть удален, а края операционных ран могут быть сшиты вместе. Зигмунд присоединился к группе врачей; одни из них сидели на подоконнике, другие стояли на ступенях за фризом. Прослушав тридцатичасовой курс клинической хирургии, преподававшейся Бильротом, он постиг многое в патологии, но имел слабое представление о хирургии. Отчасти он был виноват сам: у него никогда не было желания заниматься оперативной хирургией. Отчасти в этом был виноват и Бильрот, заявлявший: – Бесполезно читать студентам специальные курсы оперативной хирургии. Типичные операции обсуждаются и показываются студентам на трупах; они наблюдают их также в клинике. Бильрот был блестящим лектором, зал был забит его поклонниками, но Зигмунду ни разу не довелось лично встретиться с профессором, даже обменяться простым приветствием. Сейчас, когда он готовится к общей практике, очень важно овладеть искусством операций. При экстремальных обстоятельствах жизнь пациента может зависеть от умения врача обращаться со скальпелем. А он не хочет быть плохим или заурядным врачом. Профессор Теодор Бильрот превратил хирургию из грубого ремесла, практиковавшегося городскими брадобреями, в точно документированное искусство. Он первым осмелился публиковать отчеты о своих операциях. Поскольку операции чаще бывали неудачными и не приводили к излечению пациента, чтение мрачных отчетов не доставляло удовольствия. Но Бильрот настаивал: – Неудачи нужно признавать немедленно и публично, ошибки нельзя замалчивать. Важнее знать об одной неудачной операции, чем о дюжине удачных. В 1876 году он опубликовал книгу, которая нанесла уничтожающий удар по средкевековым методам, все еще применявшимся в клиниках, и содержала план их реорганизации. Однако пять дополнительных страниц книги, озаглавленных «Типы студентов, евреи в Вене», безжалостно подрывали существовавшее между венскими врачами единение. Бильрот писал: «Справедливо утверждается, что в Вене больше, чем где–либо, бедных студентов и им нужно помогать, ведь жизнь в Вене очень дорогая. Да если бы речь шла только о бедности!… Молодежь, преимущественно еврейская, приезжает в Вену из Галиции и Венгрии без гроша в кармане, с безумной идеей изучать медицину, одновременно зарабатывая в Вене деньги преподаванием, мелкими услугами на фондовой бирже, торговлей вразнос, работой в почтовых отделениях или на телеграфе… Еврейский торговец в Галиции или Венгрии… зарабатывающий столько, сколько нужно, чтобы семья не умирала с голода, имеет среднеодаренного сына. Тщеславная мать мечтает о том, чтобы в семье был школяр, талмудист. Вопреки невероятным трудностям его посылают в школу, и ценой огромных усилий он сдает выпускные экзамены. Затем он появляется в Вене в чем мать родила… Такие парни никак не годятся для научной карьеры…» При встрече с Зигмундом профессор Брюкке был раздражен именно этим заявлением Бильрота. До этого тлеющий антисемитизм находился в подполье. Евреи и, добропорядочные горожане свободно общались на интеллектуальном, артистическом, научном и даже светском уровнях. Публичный выпад Бильрота был первым, исходившим от официального лица, с того времени, когда в 1669–1670 годах император Леопольд I изгнал евреев из старого города и вынудил их поселиться на противоположной стороне Дунайского канала, во Втором округе. Выпад вновь придал респектабельность такому предрассудку. Теодор Бильрот хотел стать музыкантом, но родители уговорили его пойти в медицину. Его близким другом был Иоганн Брамс, и многие произведения композитор впервые исполнил сам в доме Бильрота. Своей любовью к музыке Бильрот был похож на профессора Брюкке – наполовину ученый, наполовину артист. И вот сейчас семь ассистентов и помощников профессора собрались около пациента, ожидая появления светила. В зале стояла благоговейная тишина, и взоры всех были устремлены на дверь. Вошел доктор Бильрот – красивый мужчина пятидесяти трех лет с короткой седеющей бородкой и в очках без оправы, съехавших на кончик носа. Его помощники выстроились по стойке «смирно», студенты и пришедшие на операцию хирурги встали. Бильрот, которого приглашали как врача к императорам, королям и властелинам Турции, России и других восточных стран, был в дорогом костюме из английской шерсти. Зигмунд слышал, что его заработки достигали сотни тысяч долларов в год. Больница, операционные, оборудование, помощники и молодые профессора предоставлялись в его распоряжение бесплатно. Помимо этого у него был свой частный госпиталь. Ассистенты Бильрота получали тридцать шесть долларов в месяц, помощники профессора – сто шестьдесят шесть, несмотря на то, что некоторые из них достигли среднего возраста и им нужно было содержать семью. Без согласия Бильрота они не могли заниматься частной практикой. Каждому из них он разрешал отдельные частные операции за плату, по мнению Зигмунда достаточную лишь для того, чтобы не впасть в отчаяние. Доктор Бильрот закатал рукава своего костюма. Он не разрешал белые халаты в операционной, так как считал, что они делают врачей похожими на парикмахеров. Все были без перчаток. Сестер в зал не допускали. Бильрот кивнул старшему из помощников доктору Антону Бельфлеру, в руках которого была история болезни, и тот зачитал ее вслух: – «Пациент Иосиф Мирбет, сорока трех лет. По–видимому, выпил налитую в водочную рюмку азотную кислоту, приняв ее за лимонад. Симптомы: проходит только жидкость. Все, что он проглотит, вызывает рвоту. Ощущение большой тяжести в области желудка и боли в спине. Диагноз: язва желудка». Один из ассистентов закрыл лицо пациента марлей, смоченной хлороформом. Бильрот сделал параллельно ребрам на два сантиметра ниже пупка надрез длиной в двенадцать дюймов. Он перерезал кровеносные сосуды между желудком и пищеводом. Желудок стал свободно–подвижным, и его можно было перемещать. Одни помощники наложили зажимы на кровеносные сосуды и скобы, чтобы держать разрез открытым, другие осушали тампонами полость от крови. Зигмунд удивился, как мало ее было. Бильрот внимательно осмотрел полость, делая замечания, которые заносились ассистентом в историю болезни под точно выполненным им же рисунком разреза. Подложив руку под свободноподвижный желудок и двенадцатиперстную кишку, Бильрот надрезал их скальпелем. Он сразу же заметил белесые ткани, расходящиеся веером от входа из желудка в двенадцатиперстную кишку. Он резко остановился, поднял голову и сказал, обращаясь к залу: – Мы ошиблись. Это не язва и не рубец от ожога азотной кислотой. Двенадцатиперстная кишка настолько уплотнена, что через нее может пройти лишь булавка. Мы вынуждены удалить десять сантиметров двенадцатиперстной кишки и часть желудка. Ассистент продолжал капать хлороформ на марлю, а Бильрот занялся удалением пораженных участков. Поскольку диаметр двенадцатиперстной кишки был наполовину меньше прохода в желудок, он наложил сначала шов на желудок, а затем подогнал по размерам оба прохода. После этого сшил их таким образом, чтобы пища и жидкость не проникали через стежки. Закончив эти манипуляции, он стянул внешний разрез шелковой лигатурой. Через пятнадцать минут операция была закончена. Удаленные части были помещены в сосуд для исследования в лаборатории патологии. Бильрот вымыл руки сулемой. Молодой помощник подал ему полотенце. Он вытер руки, опустил незапятнанные рукава костюма, поклонился своим помощникам и аудитории и, исполненный внутреннего достоинства, покинул зал. Врачи и студенты, выходившие из зала, восхищенно гудели. В зале остались сотрудники Бильрота и группа из десяти студентов, включая Зигмунда, изучающих хирургию. Они тесным кругом расположились вокруг операционного стола. Старший ассистент Бильрота Бельфлер готовился к очередной операции: пациента мучили нарывы на голове, боль в бедре и неподвижность ноги. Доктор Бельфлер сказал: – Не знаю, есть ли какая–либо связь между нарывами на голове и неподвижной ногой. Мы сделаем прокол в больном колене и удалим гной. Желтоватая жидкость была откачана, рану прижгли и колено завязали. Зигмунд шагал по Кайзер–Йозефштрассе домой на обед, сожалея, что в ближайшие два месяца не увидит больше чудодейства Бильрота: профессор уезжал в отпуск в Италию, где ему предстояла встреча со своим другом Брамсом. В качестве аспиранта–хирурга доктор Зигмунд Фрейд должен был работать в палате утром с восьми до десяти, днем – с четырех до шести и изучать литературу с десяти часов до полуночи. В палате в свободное от работы время нужно было читать литературу по вопросам хирургии – статьи публиковались в медицинских журналах – и посещать все операции. Его штаб–квартирой стала операционная. Это была большая, уютная, выкрашенная в белый цвет комната, наполненная солнечным светом, льющимся через высокие окна, выходившие в первый двор, где в тени лип прогуливались в полосатых пижамах больные. Вернувшись в палату в час дневного дежурства, Зигмунд узнал, что пациента Бильрота – Иосифа Мирбета – подташнивает, но боль в желудке исчезла. Зигмунда поразила быстрота поправки и то обстоятельство, что температура была невысокой. Следующим его пациентом была пятидесятилетняя Мария Геринг, у которой оперировали грудь для удаления цистосаркомы. Ее сменил семилетний Антон Ленас, нога которого стала короче в результате предыдущей операция; ее нужно было вновь ломать и поверхность излома зачищать. Затем пришел Яков Кипфлингер, сорока пяти лет, с распухшей рукой, в которую была занесена инфекция. В промежутке пришлось заниматься неоперабельными больными; им предстояло отправиться домой умирать. Зигмунду ке разрешалось самостоятельно оперировать, но его привлекали к другим работам: осушению ран, наложению зажимов, бинтованию. Когда Бильрот уехал, его сотрудники вздохнули с облегчением; они могли допускать ассистентов ближе к больным и тем самым давали им возможность видеть, как пользоваться хирургическим инструментом. Между сотрудниками, особенно молодыми и неженатыми, установились товарищеские отношения, и они стали завсегдатаями в соседнем кафе, куда собирались на поздние трапезы. Пациенты Зигмунда чувствовали себя хорошо. Одного за другим их выписывали домой, кроме Мирбета, – через четыре дня после операции у него начались осложнения. Его выздоровление было важно для всего отделения, и Зигмунд был особенно внимателен к нему. Но на шестой день Мирбет впал в полусознательное состояние. Несколько дней его мучил кашель. Однако это не казалось серьезным. Затем у него повысилась температура и участился пульс. Зигмунд каждый день просматривал его историю болезни, тщательно записывал малейшую деталь, включая жалобы Мирбега на возобновление болей з желудке. Наступила полночь, а Зигмунд не мог покинуть больного. Два ассистента Бильрота также задержались в клинике. Они испробовали простые средства, клали лед, но Мирбет быстро угасал. В три часа утра он умер. Зигмунд воспринял его смерть как личную утрату. К восьми часам утра он вернулся в больницу, чтобы поговорить с доктором Бельфлером. Этот тридцатидвухлетний человек с тщательно подстриженными усами и бородой был одаренным хирургом. Зигмунд имел возможность убедиться в этом, наблюдая, как он исправил у ребенка заячью губу, удалил у мужчины пораженный раком глаз, провел гинекологическую операцию у женщины. Он спросил: – Доктор Бельфлер, не будет ли расследования причин смерти Иосифа Мирбета? – Вопрос так не стоит, коллега. Тело будет передано в анатомический театр, но мы не потребуем отчета. – Как же мы узнаем, от чего он умер – от перитонита, воспаления легких, непроходимости желудка?… – Доктор Фрейд, здесь не воспринимают с благосклонностью смерть. Она связана со многими необъяснимыми вещами. Но, как вы понимаете, Мирбет давно бы умер от голода. Считайте выигрышем то, что благодаря операции мы получили еще одну возможность поработать с желудком и двенадцатиперстной кишкой. Мы, видимо, потерпим поражение в первой сотне случаев. Но с течением времени техника станет более совершенной, и хирурги во всем мире смогут делать успешные операции. Зигмунд слегка кивнул головой: – Благодарю, доктор, за вашу терпимость ко мне. Но, проходя по палате и увидев пустую койку Мирбета, он подумал: «Сумеет ли Бильрот опубликовать данные об этом случае, не замалчивая неудачу, как говорил он сам, сможем ли мы узнать ее причину? Чем поучителен случай Мирбета? У нас есть детальное описание операции и записи в палате, но что на самом деле вызвало смерть?»3
Для человека, не испытавшего любви, чувство ревности столь же неизвестно, как невидимая сторона Луны. Зигмунд страдал от отчаяния, вызванного приступами чувства собственника, на которое считал себя неспособным. Первый приступ имел место за два дня до его поездки в Медлинг. Посетив дом Бернейсов, он застал Марту работающей над нотным альбомом для Макса Мейера, ее двоюродного брата, близкого к семье. Его охватила ревность при виде выражения счастья на ее лице, с каким она склонилась над листами. «Слишком поздно. Она любит Макса. У меня нет шансов. Я потеряю ее…» Но тут же остановился. «Она ведь расписывает всего–навсего пустые бумажки, чтобы отвезти в Гамбург своему кузену. Она еще никого не любит. Им будешь ты, но не торопись, будь осторожнее. Не показывай ей, что действуешь, как дурень». Второй приступ случился прилюдно. Помолвка Марты и Зигмунда стала для их друзей таким же «секретом», как солнце в зените. Фриц Вале, художник и давний друг Зигмунда, принес Марте несколько книг по истории искусства. Хотя Фриц был помолвлен с кузиной Марты – Элизой, Зигмунд почувствовал себя не в своей тарелке: – Фриц, художники и ученые являются естественными соперниками. Ваше искусство дает вам ключ к сердцам женщин, а мы стоим беспомощные перед цитаделью. Он стал избегать Фрица и перестал беседовать с ним. При посредничестве Игнаца Шёнберга они встретились за чашкой кофе в кофейне Курцвейля. Вале размешивал свой кофе, словно мясную похлебку. Наконец он поднял голову и, выпятив нижнюю губу, сказал: – Зиг, если ты не сделаешь Марту счастливой, я застрелю тебя, а затем себя. Пораженный, Зигмунд засмеялся несколько нарочито, но так, чтобы раздразнить Вале. – Смеешься? Если я посоветую Марте оставить тебя, она поступит так, как я попрошу. – Брось, Фриц, ты не наставник Марты и не можешь ей приказывать. – Посмотрим! Официант, дайте–ка мне бумагу и ручку. Фриц, разъяренный, набросал записку. Зигмунд вытянул записку из–под руки Фрица и увидел, что тот накарябал столь же страстные строки, какие он сам посылал Марте. Фриц любил Марту, а не Элизу! Он разорвал записку в клочья. Фриц выскочил из кафе. В эту ночь Зигмунд не спал. Не поощряла ли Марта Фрица? Он написал ей: «Я сотворен из более прочного материала, чем он, и, если нас сравнить, ему станет ясно, что мне он не ровня». Он обручился с Элизой, но только в формальной логике противоречия несовместимы; в чувствах они прекрасно движутся параллельными путями… Меньше всего следует отрицать возможность таких противоречий в чувствах у артистов и людей, сумевших подчинить свою внутреннюю жизнь строгому контролю разума… Осуществляя над собой «строгий контроль разума», он заявил ей, что она должна порвать с Фрицем. Любое Другое решение его не устраивает. Марта ответила отказом: ее дружба с Фрицем всегда была доброй, и было бы недостойно разрушать ее. У нее есть право на чистую дружбу, и она написала Фрицу, заверяя его в том, что ничего не изменилось. Зигмунд знал, что у Марты Бернейс независимый характер. Она сама предупреждала его, что вежливые люди обладают железной волей. Он одобрял сказанное ею, но сейчас, видя, что ее воля противостоит его воле, испытывал мучительные сомнения, вспышки ярости. В самом деле, как может Марта любить его, если не уважает его желания в таких коренных вопросах? Он бродил по булыжным мостовым, стараясь выплеснуть свои эмоции. Жгучее летнее солнце даже в послеполуденные часы превращало город в огнедышащий котел, изгоняло горожан с улиц. По лицу текли струйки пота, а он мысленно составлял по дороге домой протестующее письмо, не щадя ни себя, ни невесту, не ограждая ни ее, ни себя от бури, терзавшей его сердце. Должен ли он скрывать от Марты свои чувства? Как же они в таком случае могут добиться откровенности в отношениях? Они дали друг другу слово быть до конца честными и говорить как друзья, а не влюбленные о том, что думают и чувствуют. Зигмунд заметил про себя: «Ведь я настаивал на этом. Я не могу жить иначе. Но, выдвигая такое условие, не представлял, с какими муками это связано». Он признался, не стыдясь, Марте: «Я потерял контроль над собой… Если было бы в моей власти уничтожить мир, включая нас самих, и дать ему возможность начать сначала, – даже рискуя, что он не сотворит ни Марту, ни меня, – я сделал бы это не колеблясь». Обмен письмами выбил его из колеи. Но до момента, когда он сумел побороть себя, Марте пришлось читать самые мучительные откровения. Он простил себе срывы лишь потому, что связывал их с наследственностью; он и его сестра Роза были наделены «весьма выраженной тенденцией к неврастении». Зигмунд вернулся в хирургическое отделение, чтобы наблюдать, как ежедневно на операционный стол ложатся недомогающие, сломленные, деформированные. Отдельные случаи были простыми, например исправление ног восемнадцатилетнего Иоганна Смейкала с помощью гипсовых повязок; другие – более длительными и сложными, требующими четыре–пять часов для операции: вскрытие у Руперта Хипфеля нарывов в анальной зоне удаление зоба у Вальбурги Горкг, части челюсти у Иоганна Денка. Во время дежурства Зигмунд обходил несколько па–лат «Честно говоря, – размышлял он, и его глаза мрачнели от досады, – мне мало что приходится делать: следить, чтобы раны подсыхали, измерять температуру, поправлять повязки и давать лекарства, заполнять истории болезни». Его обучали опытные хирурги, но, чем больше он наблюдал, тем больше убеждался, что у него нет таланта хирурга. Потребуется, видимо, не менее двух лет, включая работу на трупах в лаборатории, прежде чем ему разрешат оперировать пациентов. «Честно говоря, не лучше ли, когда начну частную практику, направлять больных к квалифицированному хирургу?» В Городской больнице не было обязательного курса для аспирантов. Молодой врач мог обратиться в любое отделение, в котором желал обучаться, и оставаться там столько, сколько считал нужным. Никто не указывал ему, какой должна быть следующая по порядку учебная дисциплина. Предполагалось, что он пройдет подготовку во всех отделениях, с тем чтобы уметь делать все – от принятия родов до лечения чумы. Никто не руководил молодым врачом, он был сам себе хозяин. Зигмунд решил прослужить в хирургическом отделении полных два месяца, меньший срок был бы признанием поражения и чем–то вроде афронта профессору Бильроту и его команде. Приняв решение, он почувствовал облегчение. Так уже было, когда он, будучи студентом, обнаружил, что не обладает способностями в области химии. Человек должен считаться со своими возможностями и выбирать те области, где он может работать с полной отдачей. И все же он испытывал смущение. Подавленный, он писал Марте о том, что будущее мрачно, что он неопределенно долго останется без нее, занятый бесполезной работой, что некуда податься в этом косном мире, где лишь один человек может подняться до уровня руководителя клиники, института или отделения, другие же обречены на роль неприметных рабочих мулов. Единственный способ вырваться из этой академической и административной тюрьмы – все начать сначала, и в другом месте. Он спрашивал: согласна ли Марта переехать в Англию после свадьбы? Когда он был там во время летней поездки, ему казалось, что английская медицинская служба, больницы, школы менее формализованы, не столь «косны» – именно это слово он употребил. Его поразило, как жили Эммануэль и Филипп: в просторных домах эпохи Тюдоров, приобретя манеры и гостеприимство английских джентльменов. Он задавался вопросом: почему бы и ему не стать английским джентльменом и не носить ладно скроенный костюм вместо бесформенного серого жакета и помятых бриджей? Британский корпус медиков рад принять молодых, хорошо подготовленных врачей, Англия, как и вся Европа, с уважением относится к достижениям медицинской школы Вены. «Мы могли бы стать самостоятельными. Англия понимает толк в независимости. Она создала ее для индивидуума или по меньшей мере воссоздала ее после эллинов». Марта постепенно привыкала к перепадам его настроения: ко взлету надежды в одном письме, к спаду – в другом. Она отвечала утешениями и любовью, умудряясь сохранять ровный характер, несмотря на то, что почти ежедневно ей приходили беспорядочные послания на многих страницах, подписанные: «Преданный тебе Зигмунд». К концу августа у него заболело горло. Когда он лишь с трудом мог говорить и глотать пищу, он обратился к ассистенту Бильрота с просьбой осмотреть его. – И должна быть боль, – сказал тот. – У тебя фолликулярная ангина. Около миндалины начал образовываться нарыв. Позволь мне разрезать его, чтобы инфекция не распространялась дальше. Он провел друга в операционную, простерилизовал ланцет, затем ввел его в горло. Боль была настолько острой, что, не имея возможности кричать, Зигмунд ударил кулаком по стулу, на котором сидел. Жемчуг выскочил из кольца, подаренного Мартой, и, подскакивая, покатился под конторку. Напуганный этим больше, чем ланцетом хирурга, Зигмунд вскочил, присел на колени перед конторкой и вытащил из–под нее жемчужину. – Вижу, одним разрезом я удалил два пустячка! Зигмунд улыбнулся жалостливо, выплюнул пропитанную гноем марлю, зажал жемчужину в левой руке. Вернувшись домой, он слег с повышенной температурой и в плохом настроении. Через несколько дней Зигмунд выздоровел. Но на душе у него было тяжело. Его беспокоило случившееся с жемчужиной. Он писал Марте: «Ответь мне честно и искренне, не любила ли ты меня меньше в одиннадцать часов в прошлый четверг, или в тот момент я тебе надоел больше обычного, или, может быть, была, как поется в песне, «неверна» мне. К чему такие церемонные и вроде бы неумные вопросы? Просто появилась возможность покончить с предрассудками». Это был также шанс рассказать ей, как ему трудно без нее: «…ужасное томление, ужасное – не то слово, лучше сказать, бесхитростное, чудовищное, огромное, короче говоря, неописуемая тоска по тебе».4
Марта вернулась в начале сентября, после трех месяцев отсутствия. Конечно, не лето, а страстные письма Зигмунда заставили ее повзрослеть. Чистая идиллия их любви во время помолвки омрачилась трещинками. Он первый признал, что именно он повинен в их появлении. Когда он потратил свой последний гульден, чтобы послать ей подарок, она в ответном письме пожурила его за экстравагантность. Он ответил ей, как взбешенный муж: «Марта, перестань заявлять так категорично: «Ты не должен этого делать!» С чувством собственника, присущим его натуре, он поучал, что она уже не чья–то дочь и не старшая сестра, а молодая возлюбленная. «Когда ты вернешься, ты вернешься ко мне, ты понимаешь это, как бы ни бунтовали твои родственные чувства… Ведь с незапамятных времен предопределено, что женщина должна отделиться от отца и матери и последовать за мужем, ее избранником? Не сердись, Марта… ничья любовь не может сравниться с моей». Итак, намек был сделан: он намерен стать господином положения, а она должна быть послушной хозяйкой дома. Однако Зигмунд не сумел правильно оценить свою возлюбленную. Она дала резкий отпор, и он был вынужден признать его справедливым. Однако размолвка не повредила их любви, и он понял это после ее возвращения, когда в полдень они прошлись под руку, чтобы посмотреть строительство роскошной Рингштрассе. В сопровождении Эли, Минны и Игнаца они проследовали вдоль окружной железной дороги, побывали в городском парке с его высокими вязами и ясенями, затем пробрались по тропе через густой кустарник и вышли на открытую зеленую площадку, где жители Вены пили по воскресеньям кофе и слушали оркестры За ней находилось парковое кольцо. Нынешняя Рингштрассе сотни лет назад представляла собой высокую крепостную стену, окружавшую центр города, с глубокими рвами, за которыми простирались широкие откосы и армейские плацы. Вена как бы находилась в заточении у этих бастионов; внутренний город оставался средневековой крепостью. Австрийские военные, утверждали, что городские стены необходимы для охраны процветающих в городе высших классов от трудового люда, обитавшего на окраинах. Император Франц–Иосиф пренебрег этими доводами. В декабре 1857 года он издал указ об уничтожении «крепостной стены и укреплений внутреннего города, а также прилегающих рвов». Потребовалось почти пять лет, чтобы разрушить стену, засыпать рвы, сровнять откосы. К 1365 году возникшая на месте стены и укреплений Рингштрассе с выходом части ее к Дунаю, с ее жилыми домами–дворцами, роскошным оперным театром, похожим на Акрополь зданием парламента, неоготической ратушей, новым университетом, тенистым бульваром и садами, с липами, благоухающими в июне, и розами, расцветающими во второй половине лета и осенью, превратила Вену в один из самых красивых городов Европы. Для жителей Вены Рингштрассе была таким же эталоном красоты, как Елисейские поля в Париже. Она стала своеобразным символом Австро–Венгерской империи, навсегда занявшим свое место в культуре западного мира. Сгустились сумерки. Фонарщики зажигали газовые уличные фонари с помощью длинных раздвигающихся шестов. Они откидывали крюком стеклянную боковину, открывали газовый кран, затем подносили пламя на конце шеста к горелке, регулировали огонь и, закрыв стеклянную боковину, переходили к следующему фонарю. – Знаешь, Зиги, – воскликнула Марта, – побыв пару месяцев в моем родном городе, я почувствовала, что мне не хватает Вены. – Может быть, отчасти я виноват? Он нежно поцеловал ее. – Похоже, что я применю метафору не к месту, но верно, что отношения становятся более прочными, если выдержали испытания. Теперь мы знаем, что корабль не рассыплется при первом же шторме. Марта прислонилась к стволу каштана. – Меня укачивает в плохую погоду. Не следует ли отказаться от всяких ссор? Зачем сражаться против того, кого любишь? Почему бы тебе не оставаться на мостике и не вести корабль, а мне поручить роль механика? Они оба равны на борту корабля, но выполняют разные задачи. Ему понравилось ее замечание, но в то же время он помрачнел: «Я даже не знаю, какую гавань ищу». Она прижалась своим плечом к его плечу. – Почему ты так недоволен результатами, которых добился за это лето? – Потому что, на мой взгляд, я мало продвинулся, чтобы оправдать потерю двух месяцев, а это ведь оттяжка нашей свадьбы. – В таком случае мысль о нашей свадьбе становится для тебя бременем. Ты должен думать только о завершении учебы. – Возможно, меня беспокоит неясность, какое отделение мне следует выбрать. Дерматология важна для общей практики, но область малоприятная. Курс, который мне больше всего нравится, – это курс клинической психиатрии, который ведет профессор Мейнерт, курс анатомии мозга. Мейнерт благосклонно относился к моей работе, когда я был студентом, и я глубоко уважаю его. Он говорит, что я могу немедленно начать подготовку у него. В то же время ходят слухи, что профессор Йенского университета Герман Нотнагель приглашен возглавить клинику внутренних болезней. Если это верно, тогда ему потребуются ассистенты… Эли дал знак рукой, что им пора возвращаться домой. Марта буркнула: – Я сказала маме, что приведу тебя на ужин. – А она знает о наших намерениях? – Подозревает. – Каково же ее отношение? – Она говорит: «Почему мои дети выбирают нищих партнеров? Что за доблесть быть бедным?» Когда Зигмунд узнал, что Нотнагеля официально пригласили в Вену, он послал Брейерам записку с вопросом, не может ли он с Мартой посетить их для беседы. Зигмунд и Марта решили сказать фрау Бернейс, куда они идут, и поэтому им не нужны сопровождающие. Марта надела голубое шелковое платье с вязаным воротником и манжетами. Она догадывалась, что Зигмунд выбрал дом Брейеров как образец для их будущего дома. Она чувствовала также, что ей придется выдержать испытание. У Матильды Брейер не было намерения испытывать Марту. Она провела ее и Зигмунда в столовую, где был накрыт свежей белой скатертью стол, уставленный тарелками с шоколадным тортом. Когда Иозеф спустился из своей лаборатории, Матильда поставила по незыблемой и священной венской традиции тарелки с парой сосисок. Подать одну или три сосиски было немыслимо, как немыслимо представить себе брак с самим собой или брак между тремя. Матильда выглядела прекрасно. Месяц, проведенный в Венеции, залечил все раны. Марта слегка прикоснулась к пище. Она сидела спокойно, вслушиваясь в оживленный разговор друзей. Матильда понимала, как трудно впервые пришедшей девушке войти в круг давно знающих друг друга людей, и старалась уделять Марте больше внимания. Когда Зигмунд рассказал Йозефу о назначении Нотнагеля и о своем желании стать его ассистентом, тот наклонил голову к плечу и задумчиво улыбнулся. – Для молодого человека, смирившегося с суровостью частной практики, ты, я должен сказать, быстро меняешь позиции. – Только когда появляется возможность! Они оба рассмеялись, и напряжение исчезло. Затем Йозеф заметил: – Но ты прав, идя по этому пути. Видишь ли, две самые известные книги Нотнагеля помимо оригинального справочника по фармакологии – это «Диагноз заболеваний мозга» и«Экспериментальное исследование функций мозга». В Вене он уважает больше всех Теодора Мейнерта. Тебе следует немедленно запастись рекомендацией Мейнерта. Профессор Герман Нотнагель едва успел устроиться в отведенных ему апартаментах, как пришел Зигмунд с письмом от профессора Теодора Мейнерта, рекомендовавшего его в качестве автора важных гистологических работ… Квартира еще хранила запах краски после ремонта. Гостиная, где горничная просила его подождать, была обставлена в тюрингском стиле. Подобно профессору Бильроту, Нотнагелю везло: в роли директора университетской медицинской клиники, а не института, который возглавлял профессор Брюкке, он имел право заниматься частной практикой. Говорили, что он редко возвращался домой без того, чтобы его не дожидался десяток пациентов, готовых заплатить десять гульденов за осмотр. На стенах висели портреты четырех детей Нотнагеля, а на мольберте был выставлен портрет жены профессора, умершей два года назад. У мольберта на полу стояла ваза с живыми цветами. После смерти жены профессор Нотнагельсказал: – Когда исчезает любовь, остается лишь работа. Воспитанный на поэзии Шиллера, боготворившего женщин, он считал, что их следует ограждать от мирских тревог, оберегать их деликатность и их чувства. Он был убежденным противником допуска женщин к изучению медицины в университеты, где преподавал. Герман Нотнагель был идеалистом. Он говорил своим студентам: – Хорошим врачом может быть только хороший человек. На книжных полках, которые осматривал Зигмунд, стояли книги немецких классиков, пьесы греческих и римских авторов, английские романы и необычный набор библий на арамейском и греческом языках. Очевидно, интерес Нотнагеля к литературе был столь же большим, как интерес профессора Брюкке к живописи и Бильрота – к музыке. Зигмунд спросил сам себя: «Не вызвана ли глубокая приверженность этих людей к искусству тем, что они обладают универсальным умом? И не та ли способность, которая позволяет им с помощью воображения и смелого взлета интеллекта делать открытия в науке, наделяет их возможностью понимать искусство?» В дальнем конце комнаты открылась дверь. Вошел профессор Нотнагель в плотном черном костюме и шелковом жилете с серебряными пуговицами, в черном шелковом галстуке, закрывавшем большую часть его груди. Его волосы были светлого цвета, как кожа лица, глаза спокойны. На правой щеке и на переносице виднелись две большие бородавки. Однако при всей простоте его лицо было приятным, таким, которое нравится окружающим. – Профессор Нотнагель, меня просили передать вам привет от профессора Мейнерта. С вашего разрешения, я хотел бы вручить вам эту записку. Нотнагель предложил Зигмунду сесть на кожаный диван. – Я весьма ценю рекомендации моего коллеги Мейнерта. Что я могу сделать для вас, господин доктор? – Известно, что вы намереваетесь взять ассистента, господин профессор. Я понимаю, что вы цените научные исследования. Я сам провел некоторые научные изыскания, но в настоящее время не могу их продолжать. По этой причине я обращаюсь к вам в качестве просителя. – Нет ли у вас копий ваших работ, доктор Фрейд? Зигмунд вытащил оттиски из кармана пиджака. Нотнагель прочитал названия работ и первые параграфы. Зигмунд продолжал: – Сначала я изучал зоологию, затем переключился на физиологию и, как отмечает профессор Мейнерт, провел исследования в гистологии. Когда профессор Брюкке сказал мне, что у него нет должности ассистента, и посоветовал мне, бедняге, не держаться за него, я ушел. Нотнагель внимательно посмотрел на молодого посетителя. – Не скрою, несколько человек обращались с просьбой предоставить им эту должность. Поэтому я не могу ничего обещать. Я запишу ваше имя на тот случай, если появится какая–либо работа. Поживем – увидим. Я ознакомлюсь с вашими публикациями, если смогу. У Зигмунда стоял ком в горле. – Сейчас я работаю в больнице как аспирант. Если вы не можете предоставить мне место ассистента, не мог бы я быть у вас аспирантом? – Что такое аспирант? Зигмунд объяснил, что в Городской больнице аспирантом называют молодого человека, имеющего диплом врача и занимающегося профессиональной подготовкой. Нотнагель попросил дополнительных разъяснений, и Зигмунд описал кратко структуру шестнадцати клиник и институтов, подчиненных Венскому университету и используемых главным образом в целях обучения и исследований. Медицинский факультет имеет в своем штате профессоров, оплачиваемых имперским правительством и министерством образования. Двадцать отделений образуют госпиталь, каждое отделение возглавляет примариус, который не может быть связан с клиникой, находится под юрисдикцией властей Нижней Австрии и оплачивается ими. Штатная работа контролируется имперским правительством и полностью независима от отделения. Перехода из одной категории в другую нет. Доктор Нотнагель был удивлен. Зигмунд улыбнулся: – Городская больница развивалась в течение столетия путем добавления клиник. Логичного плана организации не было. Заботились лишь о том, чтобы были довольны профессора, притом каждый в своей особой области. – Как все это странно. Доктор Фрейд, я советую вам продолжать работать в научной области. Но прежде всего вам нужно обеспечить себя. Итак, я буду помнить о вас. Поживем – увидим. – Поживем – увидим, как любит говорить господин профессор Нотнагель, – проворчал Зигмунд, закрывая за собой дверь. – Я намерен и жить и видеть. Однако слегка лучшая перспектива на будущее не повредит мне.5
Палаты внутренних болезней находились на втором этаже. В каждой хорошо побеленной палате с высокими окнами двадцать коек были расставлены так, чтобы больным доставалось побольше доступных Вене света и солнечного тепла. В первое утро клинического обхода Нотнагеля с участием аспирантов и студентов Зигмунд пришел раньше восьми часов. Он не был новичком в этих палатах, провел в них тридцать часов, слушая курс, которым руководил профессор Бамбергер. Он поднялся по винтовой лестнице, настолько узкой, что санитарам, переносившим больных в экстренных случаях, приходилось буквально изворачиваться. К кабинету Нотнагеля примыкали небольшие комнаты для пациентов, которые оплачивали свое лечение по тарифу первого класса, и которых Нотнагель набирал по собственному усмотрению. Эти комнаты могли также использоваться ассистентами для частной практики. Однако гонорары ассистентов были ограниченны. Профессор Нотнагель был уже в кабинете в окружении новых сотрудников. – Добрый день, профессор Нотнагель. – Добрый день, доктор Фрейд. Зигмунд посмотрел с завистью на получавших тридцать шесть долларов в месяц ассистентов, некоторых из них он знал по работе в лаборатории. Когда профессор Нотнагель встал, направляясь в палату, за ним последовало его окружение. Действовала строгая кастовая система. Около профессора, стоявшего у койки пациента, которому нужно было поставить диагноз, могли находиться лишь два старших врача или специально приглашенные коллеги. Во втором ряду стояли ассистенты, в третьем – аспиранты и еще дальше – около десятка студентов из клинической школы, которые в отдалении уже мало что могли видеть. Палату обслуживали две сестры. Это были полногрудые женщины, приезжавшие обычно в Вену из деревни в возрасте пятнадцати лет; единственное, что они умели делать, – это скоблить. Венская больница была благодаря этому самой чистой в мире. Многие из них приезжали в Вену не только ради работы, но и в поисках мужа. Лишь немногим улыбалось счастье в таких поисках. Девушки проводили в услужении годы, прежде чем их допускали к уходу за больными. Они завязывали волосы узлом, носили блузки с короткими рукавами из шотландки, длинные, почти до пола, юбки и белые фартуки, подвязанные на талии. Их отпускали с работы лишь дважды в месяц после полудня в воскресенье. У них была тяжкая жизнь. Профессор Нотнагель устремил взгляд на блузки с короткими рукавами и выдворил сестер из палаты. – В моем отделении ни одна женщина не должна обнажать свое тело, – закричал он. – Помните, длинные рукава до кисти руки! Зигмунд был потрясен такой вспышкой. Повернувшись к собравшимся, Нотнагель сказал низким суровым голосом: – Запомните раз и навсегда. Когда осматриваете пациента, мужчину или женщину, обнажайте только ту часть больного, которая обследуется. Он подошел к первой койке, где лежала восемнадцатилетняя женщина с зеленоватым оттенком кожи. Табличка на кровати гласила, что у нее бледная немочь и анемия. У нее был извращенный вкус: она жадно глотала глину, грифель и другие несъедобные вещи. Полагали, что у нее умственное расстройство, а Нотнагель заверил окружающих, что расстройство желудочное. Он повернулся к сопровождавшим его, стал совершенно иным Нотнагелем. Его лицо пылало, глаза были теплыми и сверкающими. – Мое первое предупреждение: вы должны проявлять крайнюю осторожность в определении диагноза. Недостаточно осмотреть тот орган, на который жалуется пациент. Вдумчивый врач осматривает больного с головы до ног и только после тщательного осмотра соединяет различные элементы в единый диагноз. Всегда помните, что тело человека – сложный живой организм, в котором все элементы взаимосвязаны. Головная боль может быть вызвана каким–то нарушением в позвоночном столбе. В лечении внутренних болезней единственным непростительным грехом является отсутствие чувства долга, который требует, чтобы больному было оказано все мыслимое внимание и была использована вся способность наблюдать. Повернувшись к больной, он продолжал: – Мы полагаем, что бледная немочь может быть связана с эволюцией половой системы, но не уверены в этом. Ей следует давать солодовый напиток, проводить физические упражнения… Зигмунд размышлял по поводу заявления Нотнагеля. Это был подход, известный как «революция Нотнагеля»; он впервые слышал, чтобы так говорили о внутренних заболеваниях. Затем они подошли к следующей койке, где находилась женщина средних лет, больная брюшным тифом. Она была источником зловония в палате, ибо испражнялась прямо в кровати. Зигмунд вспомнил изречение: «Каждый случай брюшного тифа идет от заднего прохода одного ко рту другого». Нотнагель обратил внимание на то, что температура больной была 40 градусов по Цельсию, а пульс – слабого наполнения. На ее теле выступили розовые пятна. Он осторожно обнажил несколько пятен. – Вероятно, у нее внутреннее кровотечение. Оно может привести к смерти из–за язв. Больная может также умереть от воспаления легких или от перитонита, но мы можем снизить ее температуру с помощью холодной одежды, заставив ее пить побольше жидкости и находиться в покое. Эта болезнь вызвана паразитом, но каким, мы не знаем. На следующей койке лежала женщина в возрасте тридцати четырех лет, больная хроническим воспалением почек, болезнью Брайта. Нотнагель проанализировал симптомы. – Лечение болезни Брайта, господа, такое: ограничение соли в диете, ни грамма мяса, но следите за тем, чтобы больная получала небольшие дозы двухлористой ртути. Мы надеемся, что это улучшит состояние ее почек. Беременность ей противопоказана. Ее состояние может измениться в любую сторону за месяц, а то и за целых десять лет. Они подошли к следующей койке, к женщине двадцати восьми лет с токсическим зобом. Она пожаловалась Нотнагелю, что в палате очень душно. Нотнагель ответил: – Напротив, температура здесь низкая. Больная сбросила покрывало, обнажив себя. Нотнагель сжал губы и поправил покрывало. Он попросил больную показать язык, обратил внимание на мелкую дрожь. Затем он прощупал зоб и заявил, что зоб небольшой. – Такой вид токсического зоба редко ведет к фатальным последствиям, но ослабляет сердце. Ее сердце уже перегружено, делая сто двадцать – сто сорок ударов в минуту. Это почти двойная норма. Мы еще не знаем, почему зоб так воздействует на сердце. Мы должны запретить ей кофе, чай, исключить умственное напряжение. Давайте ей настойку аконита; это яд, но он не опасен в малых дозах. Мы можем надеяться, что болезнь отступит, прежде чем надломится ее сердце. «А как уберечь сердце врача от разрыва?» – спросил сам себя Зигмунд. Вопрос о правильности диагноза профессора Нотнагеля не возникал. Было очевидно и то, что, хотя специалист по внутренним болезням может поставить правильный диагноз, все еще мало знаний о методах лечения. Словно угадав мысли Зигмунда, Нотнагель остановился перед койкой женщины в возрасте тридцати четырех лет, страдавшей от закупорки кровеносных сосудов. – Природа – величайший доктор. Она располагает всеми секретами лечения. Наша задача, коллеги, отыскать эти секреты. Когда мы найдем их, мы можем способствовать работе природы. Но если мы пойдем против законов природы, то можем лишь навредить пациенту. Например, я слышал, что недавно здесь была сделана операция по удалению части желудка и двенадцатиперстной кишки. Я считаю, что такое противно природе. Мы должны лечить, не запуская нож в тело пациента. Зигмунд Фрейд вскоре понял, что имел в виду Нотнагель, говоря: «Когда исчезает любовь, остается лишь работа». Что же касается самого Нотнагеля, то для него существовала только работа независимо от того, есть любовь или нет ее. Он заявил: – Тот, кому нужно более пяти часов сна, не должен изучать медицину. Каждое утро Зигмунд сопровождал Нотнагеля по палатам в течение двух – четырех часов, узнавая что–то новое об искусстве диагностики при демонстрациях у коек. Нотнагель был доволен «богатством исходного материала»: двадцатичетырехлетний мужчина с ревмокардитом; шестидесятидвухлетний мужчина, умирающий от рака желудка; моряк, подцепивший малярию в африканском порту; случай застарелой гонореи с образованием множественных фистул в промежности; диабет; афазия, при которой мужчина потерял способность говорить. Весь этот непрерывный поток пациентов тщательно обследовался, больным ставился диагноз, будь то пеллагра и цинга, плеврит, анемия, подагра, белокровие, гепатит, грудная жаба, опухоли, припадки… Все виды болезней, которым подвержено тело, почти все недуги раскрывались перед Зигмундом. Его поражало поэтическое воображение и широта словарного запаса, заимствованного Нотнагелем из мировой литературы и переносившегося им на такие объекты, как камни в печени или пороки сердечного клапана. Свободные часы Нотнагель проводил в лаборатории, где продолжал работать над проблемами физиологии и патологии желудочного тракта, проводя эксперименты на животных, Зигмунду как аспиранту не разрешалось заниматься исследованиями. Однако он упорно участвовал в демонстрационных обходах, зачитывался до часу–двух ночи. Прошло несколько месяцев, но ничто не предвещало назначения на должность ассистента. К концу октября стало ясным и другое: у него не было интуиции, необходимой для диагностики, демонстрировавшейся профессором Нотнагелем. Он не способен «угадывать» природу и причины заболевания. Он мог на основе накопленного опыта различать симптомы, но лечение внутренних болезней не может стать целью его жизни. Марта была озадачена: – Зачем в таком случае ты так много работал, Зиги, если это не твоя область? Мы виделись только раз в неделю Он застенчиво улыбнулся: – В медицине невозможно узнать, удалась ли карьера, пока не наберешься опыта. Ведь не узнаешь, бесполезна ли книга, если ее не прочитаешь? Я продвигаюсь вперед, как краб, уклоняясь в стороны и не имея возможности заниматься исследованиями, публиковать статьи и читать лекции… У него першило в горле. Они только что пересекли Йозефплац, где возвышались статуя Иосифа II на коне и величественная Дворцовая библиотека. При поддержке медицинского факультета Зигмунд получил письменное разрешение посетить Хофбург. Он был городом в городе, центром императорской Вены. Каждый последующий император добавлял к дворцу новое крыло, площадки, фасады, часовни, фонтаны. Миновав позолоченные Швейцарские ворота, они увидели первое четырехугольное здание, воздвигнутое примерно в 1220 году и обрамленное высокими оборонительными башнями. Подобно самому городу, Хофбург являл смесь архитектурных стилей – классического греческого, готического, эпохи итальянского Ренессанса, барокко… Часовня Бурга, построенная в середине пятнадцатого века, резко отличалась по стилю от строений Амалиенхофа шестнадцатого века, имевших мало сходства с пристройкой семнадцатого века (при императоре Леопольде) и еще меньше с новым Бургом, который начал строить император Франц–Иосиф два года назад. Тем не менее дворец воплощал историческую преемственность, и для жителя Вены был незадачлив тот день, когда он не мог найти предлога, чтобы пройти через ряд монументальных скверов – от деловых кварталов Микаэлерплац на одном конце города до внушительного Бургринга с обширными садами на другом. Когда перед осмотром дворца они сели отдохнуть на скамье в городском парке, греясь на бледном апрельском солнце, Марта вспомнила о замечании Зигмунда… что он движется вперед, подобно крабу, уклоняясь в стороны. Зигмунд взмахнул рукой в сторону величественной панорамы Хофбурга. – Видишь, я не принадлежу к тем, кто не может смириться с мыслью о смерти, прежде чем его имя не будет высечено на скале. Она ответила спокойно: – Зиг, тот факт, что ты прибегаешь к такому образу, означает, что он в твоем сознании. Ты осуждаешь себя, когда все пути к успеху кажутся закрытыми.6
Финансовое положение семьи Фрейд становилось все более тяжелым. Якоб перебивался лишь случайными заработками. Зигмунд не мог понять: недомогал ли чаще его отец, потому что меньше работал, или же работал реже, потому что был нездоров? Пять дочерей Фрейда, достигшие восемнадцати лет, умные, образованные, энергичные девушки, не могли помочь семье, поскольку в Вене женщина могла найти работу лишь в качестве бонны, няни или сиделки при престарелых. Анна собиралась выйти вскоре замуж, а Бруст исчез из жизни Розы. Четыре девушки, не видя близкой перспективы замужества, предполагали, что они отыщут работу и станут вносить свою лепту в финансы семьи. Но Якоб и Амалия решили, что работа по найму подходит девушкам низшего класса, из рабочих кварталов или приехавшим из деревни, а девушкам из семьи Фрейд не к лицу такая работа, ведь она наносит ущерб возможности вступить в хороший брак. Наняться на подобную работу было бы равносильно публичному признанию, что семья находится в стесненном положении. Лучше проявить выдержку. Наибольшие надежды подавал Александр. Он не был прилежным учеником, не увлекался теорией и не имел склонности к абстрактному мышлению, но выдержал экзамен зрелости. После экзаменов, возвращаясь домой со старшим братом, он говорил: – Зиг, ты знаешь, я по натуре практичен. Мне нравится бизнес. Уверен, что преуспею в нем. Хочу найти такую работу, где можно набраться опыта, и приносить получку домой. Завершение учебы и зрелость наступили одновременно. Александр был на несколько дюймов ниже Зигмунда, чисто выбритый, с коротко постриженными волосами. Не будь этого, они выглядели бы удивительно одинаковыми, почти двойняшками. По предложению Якоба Зигмунд выбрал имя брату в честь Александра Великого – защитника евреев. У Александра был неровный характер, и он считал, что его старший брат лучше в этом отношении, поскольку Зигмунд, которого он боготворил, скрывал свои чувства, дабы не огорчать семью. У Александра был такой же высокий лоб, как и у Зигмунда, широко расставленные глаза, приятно очерченные нос и подбородок. Выражение его лица было открытым, прямым. Однако основное различие в их характерах только начало определяться. Философия Зигмунда выражалась формулой: «То, что в потенции правильно, будет таким». Александр утверждал: «То, что в потенции плохо, таким и станет». Он давно был в семье главным мастером по ремонту – склеивал ветхие стулья, чистил баки для воды. – Какая работа тебе нравится, Алекс? – Я люблю поезда. Помнишь, Зиг, когда ты брал меня с собой на Северный вокзал смотреть, как приходят поезда? Тогда мы ходили на сортировочную станцию и наблюдали, как готовят огромные зеленые и желто–зеленые паровозы к пробегу по Европе. Меня не тянет стать машинистом. Но мне нравится заниматься тем, чтобы вагоны были заполнены грузом и пассажирами. Не знаешь ли кого–нибудь, кто мог бы помочь мне найти такую работу? Зигмунд задумался. – После стольких лет, отданных медицине, я растерял всех друзей в бизнесе. Единственный канал, который у нас есть, – это Эли. Эли Бернейс убедил профессора фон Штейна взять Алекса в отдел, где проводились экономические исследования и готовился к публикации журнал. Там открылась единственная вакансия. Алекс должен был начать в качестве ученика, без жалованья. – Но как только мы сможем доказать профессору его полезность, – сказал Эли, – мы сможем добиться для него платы. Александр застонал: – Как долго может это продолжаться? – Не особенно долго. Несколько месяцев. Доверься мне. Алекс приступил к работе в следующий понедельник. Его сюртук был застегнут на все пуговицы, виднелся только узел галстука, в центре которого выделялось единственное украшение – булавка с жемчужиной. Он был счастлив, возбужден и не робел. Однако Алексу было трудно справиться с работой. Слишком много теории. Когда через три месяца Зигмунд посоветовал Алексу потребовать жалованья, тот, честно оценивая себя, спросил: – А если они откажут? Я не доказал свою полезность. Эли не смог добиться заработной платы для Алекса. – Потерпите до конца года, – умолял он. Александр отыскал небольшую компанию, специализировавшуюся на железнодорожных перевозках, определении стоимости провоза груза, маршрутов. Ее владельцем был пожилой бездетный мужчина по имени Мориц Монц, искавший энергичного молодого парня. Приятная внешность Алекса и его одержимость железными дорогами сделали свое дело. Монц предложил неплохую плату для шестнадцатилетнего подростка – шесть гульденов в неделю. Александр был самым гордым парнем в Вене, когда принес первую зарплату домой и отдал ее матери. В начале ноября выпал снег. Из своего окна Зигмунд наблюдал за первыми снежинками, крохотными кристалликами; они ложились сплошным белым покровом, а затем, словно под давлением сверху, таяли на мостовой, и она становилась влажной. Небольшие стайки воробьев, не более десятка, кружились в сером небе, не понимая, куда лететь, где находится юг. Следующий снегопад был более сильным. Направляясь пешком в больницу, Зигмунд сквозь снежный занавес едва различал здания. Крупные снежинки таяли, ложась на еще не опавшие листья и на черепицу крыш. Не было видно подушек и матрацев, обычно выставлявшихся утром для проветривания. Люди выходили из домов, облачившись в тяжелые пальто, и шли с зонтиками, вырывавшимися из рук от порывов ветра. Орешник сопротивлялся зиме. Он еще не сбросил листву, несмотря на снегопад и первые заморозки, и она сохраняла зеленый цвет. Но к концу второй недели ноября сильный ветер сорвал листья и разметал их по городу. Зигмунд слишком хорошо знал буйные капризные ветры Вены еще в те давние годы, когда посещал школу. Эти ветры словно подчинялись стрелке компаса: в определенное время они дули только вдоль улиц с востока на запад, потом меняли направление с севера на юг. Вы идете себе, и вам вполне тепло, но вот вы свернули за угол, и на вас набросились порывы ледяного ветра, сметающего вас с тротуара. Венцы мочили пальцы, как это делают моряки, поднимали их вверх, чтобы определить, могут ли они идти прямо к дому, или же надо выбрать иной путь. В эти трудные для него месяцы единственным удовольствием были встречи с Мартой. Его объятия стали настолько пылкими, что у нее появились темные крути под глазами. Он корил себя. Они любили друг друга, и, встречаясь с ней после нескольких дней разлуки, он не мог удержаться от поцелуев и объятий. – Марти, скажем твоей маме, что мы обручились. Тогда все будут знать, и мы почувствуем себя свободнее. По крайней мере, мне будет лучше. То, что известно всем, должно стать реальностью. Марта понимала, что ему нельзя перечить, и согласилась. – Эли говорит, что намерен сказать маме об обручении с Анной в Рождество. Почему бы нам не примкнуть к ним? Его уныние как рукой сняло. – Чудесно. Мы купим ей подарок. Что ты думаешь? Книгу? Это будет чудесный день для нас… Три пары – Минна и Игнац, Эли и Анна, Зигмунд и Марта – принесли подарки фрау Бернейс. Зигмунд выбрал «Песню о колоколе» Шиллера. Фрау Бернейс встретила известие об обручении без радости. Она поморщилась, как будто что–то пригорело на кухне. Но основной удар принял на себя ее сын Эли. Через неделю он, огорченный, явился в дом Фрейдов с покрасневшим лицом и объявил, что не может более встречаться с Анной. Анна приняла это известие спокойно. Зигмунд же был вне себя. Когда Эли ушел, он воскликнул, обращаясь к Анне: – Какой же он мужчина, если разрешает своей матери совершить бесчестный акт? Он знает, что любит тебя и ты ему подходишь. – Дай ему время, – флегматично ответила Анна. Еще менее преуспел он в ссоре с Мартой по поводу этого разрыва. – Я не могу выступить против моей семьи, – настаивала Марта. – Женщина, которая перечит матери и брату, со временем и при определенных обстоятельствах может выступить и против своего мужа. Через несколько недель Эли извинился, обнял Анну, тепло ее поцеловал и… назвал дату их свадьбы – следующий октябрь. И все же Зигмунд не мог простить ему. Фрау Бернейс перестала участвовать в споре. Возмущенная поведением Эли, она пошла на союз с Фрейдами, уверяя Анну, что не хотела помешать браку, а думала только о том, чтобы отложить его. Затем объявила, что намерена переехать на постоянное жительство в Гамбург, в Вандсбек, и что Марта и Минна будут жить там вместе с ней. Если две молодые пары желают обручиться, они могут сделать это и на расстоянии 500 миль. Зигмунд высказал свое мнение: – Теперь я не намерен беспокоиться по поводу того, что может выкинуть твоя мать в следующем июне. Марта прошептала, положив свою холодную ладонь на его руку: – Это тот самый господин доктор Фрейд, которого я люблю. – Супружеская пара будет неудачной, если ты будешь любить меня только в тех случаях, когда я. умный. Игнац Шёнберг не был настолько крепким, чтобы спокойно переносить неудачи. Когда фрау Бернейс, которую Игнац окружил знаками внимания, объявила, что заберет Минну в Вандсбек, у него хлынула кровь горлом, и он слег. Зигмунд купил в аптеке тонизирующую микстуру и пошел к больному. Игнац, побледневший, все время ворочался, холодная февральская погода обострила его кашель. Два брата Игнаца, преуспевавшие в бизнесе, помогали матери содержать дом, но ничего не давали Игнацу. Они твердили: – Ты должен сам обеспечивать себя. Слыханное ли дело жить за счет санскрита? Фрау Бернейс также пилила Игнаца. Не из–за санскрита. Ее муж внушил ей благоговейное уважение к университету и к даруемым им титулам. Она пилила Игнаца за то, что он симулянт; он должен без промедления закончить университет и получить место преподавателя. Игнац жаловался: – Мне требуется время для учебы. Так много нужно знать и освоить, чтобы получить степень. – Я полагала, что ученый работает всю жизнь, чтобы стать специалистом, – возражала фрау Бернейс. – Почему ты должен кончить работу, не начав ее? Зигмунду пришлось выслушать подобные же упреки, прежде чем он заставил себя сдать экзамены на диплом врача. Понимая положение больного Игнаца, он дал ему двойную порцию тонизирующей микстуры. Лишь в начале апреля, когда в городском парке вновь забили фонтаны, Зигмунду повезло. Знакомый врач Бела Хармат сообщил о своем желании уйти из психиатрического отделения, которым руководил Теодор Мейнерт. Хармат занимал пост второго врача, что соответствовало положению ассистента, связанного с больницей, но не с университетом. Он не мог преподавать и не читал лекций, жил в самой больнице и ухаживал за больными в палате. Был, так сказать, врачом–резидентом. Зигмунд знал, что ему следует обратиться к муниципальным властям Нижней Австрии, поскольку именно они финансировали больницу. Правила недвусмысленно запрещали одному и тому же человеку занимать пост примариуса отделения и советника университетской клиники, то есть получать средства одновременно и от имперского правительства, и от районных властей. Профессору Мейнерту было разрешено нарушать эти правила, дабы он мог проводить исследования мозга в университетской клинике и ухаживать за психически больными в больничной палате. Удача подвернулась Зигмунду в этой палате, но не отдалит ли это его от исследовательской лаборатории? Он немедля отправился к своему старому учителю и другу и нашел его на первом этаже третьего подворья в кабинете с большими окнами, выходящими на заросли каштанов, и с маленькими окошками под потолком, придававшими комнате облик часовни. Это помещение и проводившаяся в нем работа были поистине святыми для Теодора Мейнерта. Профессор, коренастый, крепкий мужчина с мощной грудью и огромной головой с пышными волосами, – природа отыгралась на черепе, не справившись с нижней частью тела, – был эксцентричным индивидуалистом, обладал бойцовским характером и выдающимся интеллектом. Мейнерт родился в Дрездене в семье театрального критика и певца придворной оперы. Он писал стихи, сочинял баллады, знал историю, театральную критику, владел полудюжиной языков, на которых свободно говорил. За деятельность в области анатомии мозга он получил титул «отца архитектуры мозга». Он не претендовал на то, что разработал методику анатомического исследования мозга. Он отдавал эту честь целой плеяде предшественников: Арнольду, Стил–лингу, Келликеру, Фовилю и в особенности своему учителю и союзнику в ожесточенных схватках – профессору Карлу Рокитанскому, пионеру патологической анатомии. Он претендовал лишь на звание «главного разработчика анатомической локализации». Начав с нуля, он обследовал сотню живых существ, чтобы определить, какая часть мозга контролирует ту или иную часть тела. Он обратил внимание на кору головного мозга как «часть, где расположены функции, создающие личность». Он преподавал психиатрию, получившую свое название сорока годами раньше. Мейнерт отвергал этот термин, настаивая: – Все эмоциональные расстройства и умственные сдвиги вызваны физическими заболеваниями, и ничем иным. Он прошел сложный жизненный путь. Работая в приюте для умалишенных в Нижней Австрии, Мейнерт занимался исследованиями образцов головного и спинного мозга, под микроскопом рассматривая пациентов с патологией психики в качестве хорошего материала для точных научных исследований коры головного мозга, нервных клеток, задней центральной части мозга как чувствующей, передней центральной части мозга как двигательной. Его критики – а их было много, и весьма суровых, – говорили: – Для Мейнерта единственным хорошим лунатиком является мертвый лунатик. Он ждет не дождется, когда тот умрет, чтобы получить его мозг для вскрытия. Именно тогда он вступил в конфликт с германским движением в защиту психически больных, с врачами, которые считали, что их задача изучать умственно больных, классифицировать симптомы, восстанавливать истории их семей, ибо все умственные заболевания суть наследственные, и облегчать их страдания. Старший над Теодором Мейнертом в доме для умалишенных доктор Людвиг Шлагер посвятил десять лет тому, чтобы облегчить судьбу лунатиков, обеспечить им защиту в условиях психиатрических лечебниц и в тюремных камерах, дать им нормальное питание и уход. Мейнерт же считал, что только работа в лаборатории представляет ценность. Он не был ни грубым, ни черствым человеком, но утверждал, что ни один лунатик не был излечен, что только благодаря анатомии головного мозга можно найти пути к поправке. Когда он будет знать все о том, как работает мозг, что вызывает расстройство его функций, он сможет избавить людей от душевных заболеваний, устранив вызывающие их причины. Противостояние в доме для умалишенных приняло настолько острые формы, что Мейнерт был уволен. Он продолжал работать в одиночку в своей личной лаборатории, занимаясь вскрытиями, забытый клинической школой университета; его обходили стороной, словно он подхватил заразную, смертельно опасную болезнь. Лишь два человека поддерживали его: жена, которая считала его гениальным, и его наставник Рокитанский, который знал, что он гений. Рокитанский настоял на своем, и в 1875 году, за два года до того, как Зигмунд стал учеником Мейнерта, была основана при Городской больнице вторая психиатрическая клиника, ее возглавил Мейнерт. Отныне все методы лечения заболеваний мозга разрабатывались в анатомической лаборатории. Как верный последователь Теодора Мейнерта, Зигмунд знал, что его учитель абсолютно прав. Его страстным желанием было теперь вернуться в его лабораторию. – Профессор Мейнерт, когда я узнал, что Бела Хармат уходит в отставку, то побежал к вам. Если я еще дышу, то только благодаря своей выдержке. Мейнерт рассмеялся. Ему всегда нравился этот энергичный, одаренный молодой человек. Они хорошо знали характеры друг друга, хотя Зигмунд не работал непосредственно под началом Мейнерта с тех пор, как четыре года назад прошел курс клинической психиатрии. Подобно многим ученым Венского университета с душою художника, Теодор Мейнерт основал салон писателей, музыкантов, живописцев, актеров, а также их покровителей в верхах австрийского общества. В качестве любимого студента Зигмунд иногда присутствовал на таких вечерах. Он отмечал, что артистический мир был такой же частью жизни Мейнерта, как его лаборатория, хотя гостям казалось, что глаза Мейнерта пронизывают их черепа с целью определить, какая зона мозга делает человека драматургом, а какая – скульптором. – Итак, ты хочешь стать «вторым врачом», не так ли? И вернуться в психиатрию? Не скажу, чтобы я был недоволен. – Господин профессор, у меня возникла идея исследования, которая вам понравится. – Соблазняешь меня? Хорошо, какова же твоя блестящая идея? – Начать изучение анатомии головного мозга только что рожденных и эмбрионов сразу, как только мы можем их получить. Это будет изучение в ходе развития, которое даст сравнительную картину по отношению к головному мозгу взрослого. Мейнерт улыбнулся. – Тебе известно, коллега, что примариус отделения вроде моего не обладает правом назначать «второго врача»? – Да, господин профессор, мне давно это известно. – И ты знаешь, что должен обратиться к муниципальным властям Нижней Австрии? – Я уже написал прошение. – И даже если они согласятся назначить тебя, твою кандидатуру должен выдвинуть директор больницы, причем для любого отделения, которое нуждается во втором враче. – Понимаю, что вы не можете выступить в мою поддержку. – Неслыханно! Готовься начать работу первого мая. – Он встал и протянул руку, по–отечески улыбаясь. – Буду счастлив работать вместе с тобой, господин доктор. У тебя призвание к анатомии мозга. Но ни слова, слышишь? Мы должны обтяпать это дело деликатно.7
Первого мая Зигмунд уехал из родительского дома. Для семьи это был счастливый момент, означавший, что Зигмунд делает следующий шаг в долгом жизненном путешествии. В любом случае уход из семьи не был болезненным, ибо Амалия уже переселила домочадцев в меньшую по площади, более дешевую квартиру на той же Кайзер–Йозефштрассе в доме номер 33. Молодым женщинам не разрешался доступ в комнаты врачей в больнице, но Зигмунд добился разрешения от директората привести Марту в день своего переезда, чтобы помочь ему обустроиться. Он проследил, как нанятый им носильщик погрузил на тележку сундуки с бельем и личными принадлежностями, а также ящики с медицинскими книгами. В больницу он пошел вместе с Мартой. Небо было удивительно голубым. Был тот весенний день, когда воздух Вены, веющий от виноградников и Венского леса, просто опьяняет. Дышать им было истинным удовольствием. После холодной, мокрой зимы город пробудился. Горожане спешили в лавки, кофейни, старались завершить давно откладывавшиеся дела. На тротуарах толпились колоритные группы: бродячие музыканты с гитарой, кларнетом и скрипкой; мороженщики с раскрашенными двухколесными тележками; уличные торговцы, продающие апельсины; горшечники, разносящие свой товар в больших корзинах на голове; хорватки в высоких сапогах, торгующие игрушками; красивый, с большими усами мужчина, продающий сыр и салями, которые он держал в кожаных мешках, перекинутых через плечо; булочник, носивший хлеб в деревянном ящике за спиной; жестянщик, шарманщик, чистильщик сапог, красивая молодая прачка в цветастом платье с буфами на рукавах и черной лентой на шее, доставляющая чистое белье в соседний дом; посыльный мясника, разносящий упаковки с мясом; торговец сосисками и булочками, протягивающий из будки свой товар щеголям, рядом с которыми потные трудяги расправляются со своей закуской. Девочки в соломенных шляпках и фартучках возвращались домой из школы, неся в руках сумки для книг; трубочисты, черные от сажи, накопившейся за зиму, в кожаных фуражках и жакетах, в длинных черных брюках, несли мотки проволоки и метлы. Здесь же были точильщики с точильными камнями, хорват, продававший плетеные корзины и деревянные ложки. Расклейщики афиш, стоя на лестницах, развешивали на круглых тумбах объявления о новых пьесах, операх, симфониях. И повсюду полногрудые крестьянки с корзинами, наполненными лавандой, взывали: «Вот лаванда. Купите лаванду!» – Что за прелесть – день в Вене, – сказал вполголоса Зигмунд. Марта глубоко вздохнула: – Что за прелесть – день вообще. Они вошли на территорию больницы и направились к шестому подворью. Хотя, как второй врач, он не имеет официального права на свободное время, ибо распорядок требует всегда быть в пределах досягаемости, он сумеет договориться с другими молодыми врачами с том, чтобы его подменили. Раз–два в неделю он сможет поужинать дома. Его комната на втором этаже была вдвое больше, чем его кабинет. Стены сверкали белизной, и в дальнем конце находилось окно в виде арки, занимавшее две трети стены. Комнату заливал солнечный свет, а выскобленный пол и коврики у входа создавали ощущение теплоты. – Как приятно! – воскликнула Марта. – О, Зиги, ты будешь здесь счастлив – Мне следует таковым быть. Эта комната станет моим врачебным кабинетом, спальней, столовой на следующие несколько лет. Она осмотрела комнату. В центре правой стены за врезными дверями стоял умывальник с кувшином и фарфоровым тазом на мраморной доске. Над тазом висело зеркало с крючками по обе стороны для полотенец и вешалкой для халата. Рядом с умывальником располагалась топка с запасом дров и каменного угля. – Не лучше ли передвинуть кровать в дальний угол комнаты, к окну? – спросила она. – Если повесить коврик на стене над кроватью, то станет веселее. Затем если поставить этот круглый столик посреди комнаты, то, даже если держать на нем фрукты и орехи, останется достаточно места для книг и журналов. Твоя мать прислала белую скатерть, а я купила цветы. Позже ты, видимо, захочешь, чтобы твой рабочий стол стоял напротив окна. Так будет больше света и уединения, тем более что дверь комнаты должна быть все время открыта. Тогда ты сможешь передвинуть вон те книжные полки к стене около письменного стола. – Давай расставим так, как ты предлагаешь, сейчас, – сказал он с воодушевлением. Вдвоем они произвели перестановку, расставили медицинские книги по полкам, затем развязали узел, который она принесла с собой: пять подушечек для его холостяцкой кровати. Она уложила их у стены, предварительно взбив. Он стоял спиной к окну, любуясь ее действиями. – Я попрошу твою маму прислать тебе более красочное покрывало на кровать. – Она отошла назад, чтобы лучше обозреть. – Над письменным столом мы повесим портреты Гёте и Александра Великого из твоего домашнего кабинета, а сейчас я пристрою мой портрет в центре. Готово! Теперь выглядит словно твоя собственная комната. Он нежно обнял ее. – Из тебя получится хорошая хозяйка, – сказал он. – Я уже хорошая хозяйка. Беда в том, что нет дома, за которым я могла бы следить. Пришел официант из соседнего кафе и принес кофе, молоко и поднос с печеньем. Затем появились молодые врачи: Натан Вейс – второй врач первого класса из четвертого отделения, специализировавшийся по нервным болезням, будущее светило Вены в области неврологии и, по общему признанию, неисправимый однолюб; Александр Голлендер – ассистент профессора Мейнерта и всеобщий любимец больницы; окулист Иосиф Поллак, работавший у профессора Шольца; Карл Коллер – молодой врач–окулист и давнишний друг; Иосиф Панет – друг Зигмунда по лаборатории физиологии профессора Брюкке. Они были приглашены, чтобы познакомиться с Мартой. Марта разлила кофе и молоко. Зигмунд не отрывал от нее глаз. Он погрузился в свою обычную фантазию: они поженились, это их чудесный дом, пришли друзья на обед и для непринужденной беседы… – Фрейлейн Бернейс, вы не беспокойтесь относительно доктора Фрейда, – поддразнивал Вейс. – Мы осмотрим всех пациентов и доверим ему самых некрасивых. – И позаботимся, чтобы только старухи убирали его комнату, – добавил Голлендер. Марта покраснела. – Господа, вы очень добры. Были налиты вторые чашки кофе, а печенье все съедено. Товарищи Зигмунда попрощались. Пробило девять, наступило время уйти и Марте. Расставание было трудным. – Сядь, пожалуйста, в это кресло, Марти. Да, так. Когда я буду входить в комнату, то буду видеть тебя здесь. Он встал перед ней на колени и прошептал: – Влюбленный поэт говорит: «Мы созданы из плоти, но должны быть железными». Слезы заблестели в ее глазах. Зигмунд крепко обнял ее. Ему нравился строгий распорядок больницы: подъем в шесть, спуск в подвал, где его ждал горячий душ или ванна, возвращение в комнату, куда истопница приносила ему горячую воду для бритья, после этого облачение в белый халат для обхода палаты. Во время обхода – выяснение, что произошло за ночь. Снова возвращение в комнату для завтрака, состоящего из булочек, масла, мармелада и молочно–кофейного напитка, где много ячменя и цикория и совсем мало настоящего кофе. После этого визит в смотровой кабинет, куда направляют вновь прибывших пациентов из центрального приемного покоя, и составление историй их болезни. В полдень он возвращался домой. Обед доставляли из соседнего ресторана каждому врачу в его комнату. Все, что было не съедено за обедом, оставалось на ужин. Жалованье равнялось тридцати гульденам в месяц (двадцать долларов). Питание обходилось в сорок пять центов в день, или в тринадцать долларов в месяц. Но теперь, когда он работал в больнице, к нему направляли студентов, которых он обучал, и это приносило три гульдена в час. В качестве второго врача, пусть даже второго класса, в свободные от прямых обязанностей часы он имел возможность заниматься частной практикой, даже посещать пациентов при условии, что в это время его заменит другой врач. У Зигмунда не было частных пациентов, но доктор Йозеф Брейер обещал направить к нему некоторых из своих давнишних клиентов. Новая работа внесламного изменений в его жизнь. У Бильрота и Нотнагеля он был аспирантом, у Мейнерта стал врачом, загруженным все семь – десять часов рабочего времени, впрочем, и их, по его мнению, едва хватало. Ассистенты Мейнерта преподавали и читали лекции, остальная часть их времени уходила на исследования в лаборатории. Вторым врачам не разрешалось работать в лабораториях, но Мейнерт не особенно придерживался правил. К концу второй недели Зигмунд уже проводил полных два часа ежедневно в лаборатории и каждый вечер после семи часов, когда больные ложились спать, работал при свете лампы, освещавшей ряды банок, содержавших образцы головного мозга в растворе формальдегида. Он довольно быстро вошел в свою роль, успешно снижая напряжение у эмоционально неуравновешенных и душевнобольных, все разновидности которых были представлены в мужских и женских палатах, пропускавших в год от четырнадцати до шестнадцати сотен пациентов. Профессор Мейнерт представил второму врачу Фрейду свое психиатрическое отделение как «единственный государственный приют для умалишенных в Австрии». Но это не соответствовало истине. Большой приют находился на Лазаретгассе, где некогда работал Мейнерт. Отделение же Мейнерта было не приютом в строгом смысле слова, ведь в приюте пациенты находились до самой их кончины, а диагностическим и учебным центром, отсюда пациентов отправляли либо домой, либо в больницу. Некоторые из них препровождались в приют для умалишенных Нижней Австрии, находившийся на расстоянии двух кварталов, на Шпитальгассе, на живописном холме, Поросшем деревьями и украшенном цветочными клумбами. Все, что Зигмунд знал о психических болезнях, он получил от Мейнерта, когда тот давал разъяснения в палате у каждой койки, классифицируя больных по характеру расстройств, связывая их с семейным фоном, чтобы показать, от кого из предков больной унаследовал заболевание, разбирая неясные случаи на примерах повторяющихся приступов для постановки диагноза. – У этого мужчины – раннее слабоумие, у этого – острое душевное расстройство или бессвязность мышления. У этой женщины – кататония. Этот молодой человек страдает маниакальным безумием на почве алкоголизма. Вот случай кретинизма, а тут – случай паралитического слабоумия. Здесь мы имеем дело с маниакально–депрессивным состоянием, а здесь – со старческим слабоумием; далее – случай паранойи, а тут – травматический невроз. По каждому заболеванию велись подробные записи. Прогресс в науке был очевиден: молодой Эмиль Крепе–лин, работавший в Лейпцигском университете, опубликовал «Клиническую психиатрию», в которой была дана исчерпывающая классификация психических заболеваний. Профессор университета Граца и администратор Фельд–хофского приюта для умалишенных Крафт–Эбинг продолжал доработку своей книги «Психиатрия», добавляя в каждое новое издание десяток тщательно описанных случаев. Однако никто не знал причин этих расстройств. По утверждению Мейнерта, Крафт–Эбинга, Крепелина, больные просто наследовали такие расстройства от своих родителей или прародителей, как наследуются цвет глаз или походка. Не было и методов лечения, ведь то, что унаследовано, невозможно исправить. К счастью, были найдены некоторые способы ослабить симптомы – электромассаж, теплые и холодные ванны, успокаивающие лекарства на основе брома. Ну а в остальном приходилось лишь ждать, что природа сама вернет разум в нормальное состояние. Когда Зигмунд впервые вошел в кабинет Мейнерта, он заметил лежавшую на столе рукопись под названием «Психиатрия». Мейнерт проводил исследования, необходимые для последних глав: вес отдельных частей головного мозга и влияние коры головного мозга на вазомоторный центр. Зигмунд посмотрел на новые рисунки средней части мозга и лицевых нервов. – Ваша книга практически завершена, профессор Мейнерт! – воскликнул он с гордостью. – Она потребовала семь лет работы, – ответил Мейнерт. – Ныне я доказал раз и навсегда, что передняя часть мозга никогда не вызывает галлюцинаций и ее так называемые памяти не обладают чувствительностью. – Итак, там нет души, профессор? Мейнерт слегка поморщился. Зигмунд поддразнивал его, ибо Мейнерт был главным противником представления о человеческой душе и утверждал, что вся работа психологов, пытающихся найти место души и старающихся создать науку этики в поведении человека, не только бесполезна и бесплодна, но и вводит в заблуждение. Подлинные исследования человеческого мозга осуществляются в лабораториях.8
Профессор Мейнерт назначил второго врача Фрейда в мужскую палату. У Зигмунда не было предвзятого мнения, когда он начал работу с больными. В отличие от многих других врачей он не подходил к ним с готовым суждением. Они – больные, и его дело научиться заботиться о них, невзирая на причину заболевания. Он обошел палату, чтобы составить собственное представление. Одни случаи были проще, другие сложнее. Хронические алкоголики приходили в себя, когда кончалась белая горячка, и их можно было отправить домой до следующего кризиса. Жертвы несчастных случаев, а также жертвы маниакально–депрессивного состояния, мании преследования, галлюцинаций составляли другую категорию. Удивительно большое число пациентов слышало «голоса». В палате был плотник, упавший со строительных лесов и ударившийся головой. У него было нарушено зрение, он видел все сдвоенным, речь была невнятной, его мысли накладывались одна на другую. Имели место и паралитические расстройства с дрожью лица, тиком и частичным параличом, вызванным нарушением в мозге или центральной нервной системе вследствие опухоли, воспаления, нарыва, туберкулезного менингита, сифилиса. Хотя сама болезнь была недосягаемой для врача и могла быть установлена лишь после смерти, когда можно было обследовать головной и спинной мозг, своевременное лечение помогло бы устранить умственное расстройство. Многих из таких пациентов следовало бы направить в четвертое отделение примариуса Шольца, специализировавшегося по нервным болезням. Тем не менее молодые врачи, дежурившие по ночам и воскресеньям в главном приемном покое, где Зигмунду приходилось работать раз в неделю, не всегда могли определить, что с больным, речь, слух и поведение которого были ненормальными. Честолюбивый пятидесятилетний Теодор Мейнерт хотел зафиксировать тридцать тысяч обследований головного мозга. Когда Зигмунд проходил по палате, замечая каждое проявление физических и психических заболеваний, он задумывался над тем, каким образом Мейнерт на основании изучения мозговой ткани определяет, какое расстройство вызывает то или иное физическое или психическое заболевание. – Сравнительно просто, – заверил его Мейнерт. – Возьмем больного в центре палаты. Он умирает. Когда я получу его головной мозг, я обнаружу в нем опухоль размером со спелый помидор! На койке в углу палаты лежал старик монах–бенедиктинец, диагностическая карта которого гласила: психическое расстройство. Когда его доставили в клинику, он подумал, что находится в военном бункере во время войны. Отойдя от койки, он не мог ее найти; не узнавал врачей и санитаров. Когда Зигмунд спросил, как он себя чувствует, монах пересказал весьма обстоятельно свою биографию, начиная со школы, гимназии и пребывания в различных монастырях, но у него совершенно выпали из памяти последние восемь лет жизни. Он непрерывно пил воду, делая между фразами глоток, и через несколько минут требовал новую бутылку. – Я находился в Хюттельдорфе, я не мог оттуда выбраться, как и отсюда. В Хюттельдорфе у меня… я не знаю это, боже мой, я не знаю это! Я лгун, если бы я знал это. Что они делали в Хюттельдорфе? Боже мой, я не знаю! После брюшного тифа я ничего не помню. Может быть, я в сумасшедшем доме? Что вы тут делаете? Боже, я не знаю! У меня каша в голове. Какой сейчас месяц?… Зигмунд отошел от койки: разве это не случай прогрессирующего одряхления? На соседней койке лежал молодой сын фермера с диагнозом – мания. Дома он стал необщительным, не слушал то, что говорили ему родные, не отвечал на вопросы. По ночам он раздевался и бегал нагишом вокруг двора, затем возвращался и кромсал на куски штаны, куртку, ботинки. Он был признан непригодным к военной службе, а ему хотелось стать военным. Он отказывался говорить с Фрейдом до тех пор, пока тот не нашел нужного подхода к нему: «Вильгельм, что ты намеревался делать в армии?» Это вызвало поток разъяснений: – Хочу, чтобы мне вернули мою одежду. Я приехал в Вену со старостой нашей деревни, чтобы завербоваться в армию. Староста обещал вновь встретиться со мной здесь. Я не болен. Я всегда был здоровым, если не считать лихорадки в молодости. Я должен уехать домой. На ферме столько работы. Если вы не дадите мне мою одежду, я порублю топором всех в провинциальном суде. Меня пытались зарезать и в меня стреляли несколько раз. Что вы там пишете? Вам ни к чему имя моего отца, мой отец не имеет ко мне отношения. Меня задержали за браконьерство. Они били меня ружьем по голове. Я был осужден за воровство. Это огорчило меня. Не хочу больше говорить. Хочу быть в армии. На соседней койке лежал сапожник–холостяк пятидесяти двух лет, невысокий мужчина с бледным опухшим лицом и дряблыми мышцами. – Я не дурак. Не нужно заточать меня в Башню глупцов. Несколько человек преследуют меня. Я их назову вам. В их числе мальчик из воскресной школы, он хотел отдубасить меня и заколоть. Мои братья и сестры пытали меня, потому что я совокуплялся с козой. Знаю, что должен искупить этот грех. Мой старший брат слабоумный. – Ты знаешь, почему пришел сюда, Франц? – Потому что дома из меня хотели сделать дурака. Я слышал оскорбительные выкрики ночью у окна. Они кричали: «Пьяница, мы побьем тебя». Поэтому я заперся. Мальчик из воскресной школы спас меня от преследования. Пять лет назад я удовлетворил свою похоть с козой, а также с маленькими детьми. Мне место в тюрьме. Два года я пью. Мой отец также был пьяницей. Он умер от алкоголизма. Пришел санитар и сказал, что больной одного из изоляторов хочет видеть врача. Речь шла о женатом виноградаре, который всю прошедшую ночь буйствовал. Зиг–мунд вошел в изолятор, закрыв за собой железную дверь. В диагностической карте было указано, что пациент страдает умственным расстройством, впадает в исступление, его мучают страхи, повышенная возбудимость, зрительные и слуховые галлюцинации. За месяц до этого он пришел в неистовство и убежал из дома. Когда вернулся, то молился на коленях по пять часов подряд. Он утверждал, что пришел в больницу подлечить горло. – Как у вас сейчас с горлом? – Я всегда был здоровяком. Лишь последние два года страдаю от кашля. Соседи заперли меня, потому что думали, будто я лаю. А я лишь прочищал горло. Я разбил окно и сбежал. – Ты ничего не ел вчера, Карл. – Потому что вся пища отравлена. Не позволю вам убить меня. Я купил в Хаутсдорфе дом за шестьсот гульденов. Вы не можете держать взаперти богатого человека. Профессор Мейнерт просил доктора Фрейда проследить за утренним приемом в смотровом кабинете. К этому моменту Зигмунд познакомился с несколькими сотнями отчетов об осмотре и точно знал, что требуется от него как осматривающего врача. Каждое утро поступали пациенты: одних доставляли полиция, семьи, врачи, другие приходили по собственному желанию. Некоторых невозможно было понять – они издавали бессмысленные звуки, произносили исковерканные слова, другие изливали поток бессвязных фраз и предложений. Первым был двадцатипятилетний студент–католик, изучавший право. «Среднего роста, умеренной упитанности, цвет лица бледный, – занес в историю болезни Зигмунд, – шатен, рыжеватая бородка, голубые глаза, левый уголок рта опущен, что могло быть вызвано плохо зарубцевавшимся шрамом. Размер грудной клетки и сердце – нормальные». Генрих поведал Фрейду свою историю. Он был слабым ребенком с дефектом речи, переболел корью, скарлатиной, дифтеритом. С шести лет его часто наказывали за мелкое воровство. Когда ему было десять лет, он запустил стулом в брата. После седьмого класса ему пришлось оставить гимназию, и его отправили к родственникам в Креме. Он тратил большие суммы на модную одежду, желая покрасоваться. Сдал экзамен зрелости, получив средние оценки, и поступил в юридическую школу в Вене. Имел связи среди высшей аристократии, ездил только в фиакрах, завел любовниц, запустил руку в студенческий фонд, когда ему было двадцать один год. Он выдержал первые экзамены по праву, но провалился на третьем и последнем экзаменах. Ему казалось, что он болен туберкулезом, иногда обращался к врачам пять раз подряд. Год проходил практику в провинциальном суде, но был вынужден оставить работу из–за долгов. Он решил отправиться в Америку со своей семьей, но сбежал от нее, продал за полцены свой билет и бродяжничал по Европе, занимаясь воровством и мошенничеством. Зигмунд старательно записал: «Мегаломания, безумное и слабоумное поведение, излечение маловероятно». – Что будет с моей карьерой, господин доктор, если меня сюда заточили? Это мой брат хочет поломать мою карьеру. Я никогда не делал ничего плохого. Все против меня. Я не могу работать без передышки, ведь у меня сифилис и туберкулез. – Генрих, я весьма сомневаюсь, что у тебя сифилис или туберкулез. – Я чувствую дикую боль в левом легком. Если я буду вести все записи в палате, то позволят мне выбраться отсюда? Зигмунд назначил ему постельный режим и выписал йодистый натрий. Затем его позвали осмотреть молодого женатого человека, поступившего в больницу ночью. Диагноз гласил: умственное расстройство. Больной отказывался есть и пить. – Вы знаете, доктор, почему я не ем и не пью? У меня слишком много слизи, и поэтому я должен умереть. У меня пересыхает в горле, но я не могу пить воду из–за того, что там много слизи. Зигмунд перечитал карту молодого человека. Физически он всегда был здоров. Первым симптомом его умственного расстройства стала мания отравления: опасаясь, что жена хочет его отравить, он отказывался питаться дома. Он страдал повышенной возбудимостью, потерял сон, а по утрам отказывался одеваться и ходить на работу, потому что «было много слизи». Зигмунд осмотрел пациента. Он был истощен физически, его время от времени трясла дрожь, он постоянно находился в движении. Вдруг начал кричать: – Я величайший виртуоз по плевкам. Дома я лежал три недели на софе и все это время плевался. Моя жена – шлюха. – Альберт, ты знаешь, почему ты здесь? И когда ты сюда попал? – Нет, я знаю лишь, что умираю. Зигмунд наблюдал за лицом мужчины. Реакция обоих зрачков была замедленной, кожа – холодной. Он, по–видимому, умрет, ведь что–то надломилось в его мозгу, пораженном какой–то болезнью. Но какая болезнь заставляет человека плеваться часами из–за того, что у него «слишком много слизи»? Было десять часов вечера, когда столяр, выписанный из больницы дня два назад, обратился с просьбой получить консультацию у доктора. Он упросил положить его в больницу из–за острой боли в ногах, но по дороге напился до положения риз. Когда же он добрался до больницы, его направили в психиатрическое отделение. Это был крепкий мужчина, отец троих детей. После того как он протрезвел, у него появилось впечатление, будто другие больные гоняются за ним, чтобы выколоть ему глаза. – Понимаете ли вы, Карней, что это всего лишь галлюцинация? – спросил Зигмунд. – Да, полагаю, что это так. Я хочу домой, хочу вернуться на работу. Но я страдаю бессонницей, и меня все время одолевает чувство тревоги. И вот я начал пить… Зигмунд стоял у окна, глядя на темный двор, освещенный тусклыми фонарями. «При чем тут его глаза? Какой болезнью это вызвано? Единственное, о чем я могу подумать, так это о строчке из Святого благовествования от Матфея: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя».9
Отъезд Марты в Вандсбек в середине июня оказался более болезненным для обоих, чем им казалось. Зигмунд чувствовал, сколь опасна разлука, и в то же время понимал, что если их любовь не выдержит испытаний разлукой, то она вряд ли будет долгой. Он обнял Марту и поцеловал ее. – Уж если твоя мама принялась откладывать нашу свадьбу, никто из нас не может ей помешать. У нас нет выбора. Мы должны полагаться на мою работу. Это единственное, что может вновь сблизить нас. На следующий день они встретились буквально на минуту на углу Альзерштрассе. В горле так пересохло, что ни он, ни она не могли произнести слово «здравствуй». Слишком расстроенный, он не смог вернуться в больницу и пошел к Эрнсту Флейшлю. Йозеф Брейер и Зигмунд подменяли друг друга как личные врачи Флейшля в перерывах между операциями, которые делал ему Бильрот несколько раз в году; их задача была простой – перебинтовать большой палец и ослабить морфием боль. Флейшль жил в красивом многоквартирном доме, построенном на средства его деда, фасад дома украшали огромные обнаженные мужские и женские фигуры, греческие колонны, портики и арабески, гипсовые херувимы. Старшие из семьи Флейшля занимали весь второй этаж, но Эрнст устроил себе изолированное помещение, пробив отдельный вход на лестничную площадку и выгородив большую угловую спальню, рядом с ней небольшую столовую, а с другой стороны соединив в одну большую комнату библиотеку, кабинет, приемную и гостиную, в которой он проводил мучительные бессонные ночи. Лакей Флейшля впустил Зигмунда в знакомое помещение. Одна стена кабинета была плотно заставлена книгами, на другой висели итальянские полотна, собранные дедом, который путешествовал в карете из Милана в Неаполь. На многочисленных подставках, подпорках, стойках размещались обломки мраморных скульптур из Малой Азии, женские торсы, головы римских военачальников, фризы, этрусский Бахус из храма в Вейи. – Рад тебя видеть, Зигмунд. Я только что сказал повару, что не буду ужинать, но в компании с тобой мы устроим небольшую пирушку. Он взял трубку за бархатным занавесом и дунул в нее. Вскоре появился лакей, и Флейшль заказал обильный ужин. Пока они беседовали, Зигмунд снял повязку, чтобы проверить состояние больного пальца. Всего два месяца назад Бильрот произвел очередную ампутацию. Почистив рану, Зигмунд наложил свежую повязку. Флейшль начал изучать санскрит, дабы прочитать в оригинале «Веды». Зигмунд посоветовал взять несколько уроков у Игнаца Шёнберга. Принесли ужин; на обеденном столе довольно больших размеров, заставленном археологическими находками, которые собрал дед Флейшля во время своих поездок в Египет и Палестину, с трудом нашлось место для двух суповых тарелок. Флейшль объяснил: – Когда я ем в одиночестве, мой глаз отдыхает на этих красивых предметах. Я как бы насыщаюсь ими вместо запеканки с печенкой. Когда умру, заберу эти сокровища с собой. Зигмунду было неприятно слушать, как тридцатисемилетний Флейшль рассуждает о смерти, пусть далее в шутку; но нужно смотреть правде в глаза: большой палец Флейшля излечить невозможно, и каждый раз, когда Бильрот прибегает к операции, он отнимает у Флейшля несколько лет жизни. Боль от раны крайне острая, и морфий – единственное спасение. Зигмунд считал, что он сталкивается с пародией на справедливость: у Эрнста Флейшля было все, ради чего стоило жить, блестящий интеллект поставил его на такой уровень, который недоступен для остальной части медицинского корпуса Вены. – Знаешь, Эрнст, если бы я не любил тебя, то страшно бы тебе завидовал, – пытался острить Зигмунд. – Последний по времени, кто знал все, познанное человеком к семьсот шестнадцатому году, был Лейбниц. Если не будешь скромничать, то обойдешь Лейбница. На красивом лице Флейшля появилась невольная гримаса, вызванная болью. Зигмунд сделал инъекцию морфия. Весь день Флейшль был поглощен работой в лаборатории Брюкке, а ночи были длинными. Зигмунд оставался у него до часу ночи, играя в японские шашки. Тревога не покидала его: около четырех часов утра, мучаясь от боли, Флейшль сделает себе еще один укол. Он стал наркоманом; Брейер и Фрейд были единственными, кто знал это. Направляясь в больницу по пустынным улицам, Зигмунд думал: «Мы должны отучить Флейшля от морфия. Он убьет его скорее, чем палец. Никто не в состоянии выдержать такую боль без успокаивающего, но должно же быть нечто менее опасное?» Зигмунд уяснил, что больницей управляют «вторые врачи», среди которых насчитывалось десять врачей первого класса и тридцать – второго, как он сам. Примариусы были мужчинами среднего возраста с достатком и частной практикой вне больницы, в приемных и палатах они задерживались не более чем на два часа в день. Таким образом, на долю сорока человек приходилось обслуживание двадцати отделений. Хотя специалисты были приписаны к своим палатам, существовало несколько мест, где «вторые врачи» могли встречаться и завязывать дружбу между собой: центральная читальня, ниши с газовыми печами, где собирались молодые, люди, чтобы выпить чашечку кофе и поболтать, так сказать, «у бассейна» (такое название было позаимствовано от женских сходок у общего источника воды около многоквартирных домов, в которых селились бедняки). Вечно занимавшей всех темой бесед были деньги. Они стали предметом общей заботы, и в итоге сложилось своего рода масонство, выражавшееся в том, что в единую кассу складывались свободные гульдены и крейцеры. Один из работавших в кожном отделении врачей вывесил над своим рабочим столом вышитый образчик со словами из Евангелия от Иоанна: «Ибо нищих всегда имеете с собой. Это – мы»! «Вторые врачи» первого класса зарабатывали больше – тридцать два доллара в месяц, и у них было больше пациентов, но они были старше и выполняли больше обязанностей. Каждый дрался за лишний гульден: давали уроки, составляли обзоры медицинских текстов, отыскивали пациентов. Они были должниками своих родителей, друзей, книгопродавцев, торговцев канцелярскими принадлежностями, портных, владельцев кафе. Однажды утром Зигмунду понадобились пять гульденов для Амелии. Он обратился к друзьям; они оттопырили пустые карманы. После полуденного завтрака в зал торопливым шагом вошел Иосиф Панет. Как обычно, он был небрежно одет, его бледно–голубые глаза выдавали не только его застенчивую, чувствительную душу, но и туберкулез, от которого страдали в Вене как имеющие достаток, так и бедные. Панет, неизменно опасавшийся, как бы друзья не отреклись от него по той причине, что он имел состояние и не был беден, как они, считал своим долгом устраивать вечеринки под любым предлогом: день рождения, продвижение по службе, публикация. Он спозаранку приходил в ресторан, заказывал обед, одаривал чаевыми прислугу, оплачивал счет и, счастливый, удалялся. – Зиг, я только что услышал, что тебе нужно несколько гульденов. – Я не могу занять у тебя. Таков неписаный закон. – Почему меня сторонятся? – В голосе Панета прозвучала обида. – Потому что непорядочно занимать у человека, который не нуждается в том, чтобы ему возвращали. Это пахнет нищенством. – Вы – кучка снобов! Почему бедным можно давать взаймы, а богатым не позволяется? – Хорошо, Иосиф. Когда нам потребуются деньги для разгульной жизни и греха, мы станем занимать только у тебя. Панет подошел к столу Зигмунда, взял в руки фотографию Марты. – Как выносишь разлуку? – Разлука – точно сказано, – поморщился Зигмунд. – А как фрейлейн Софи Шваб? Ты знаешь, что любишь эту девушку и должен жениться на ней. Ты достаточно долго искал бедную девушку. – Согласен. Мы намечаем отпраздновать свадьбу этим летом. Зигмунду доставляла особое удовольствие компания его коллег. Барон Роберт Штейнер фон Пфунген получил недавно доцентуру по отделению нейропатологии; он давал пояснения у коек больных в рамках курса под руководством Мейнерта. Зигмунд должен был присутствовать на этих лекциях и демонстрациях, поскольку он отвечал за больных, на примере которых показывались симптомы болезней. Фон Пфунген получил прекрасную подготовку под руководством крупных венских профессоров: Брюкке, Ведля, Штрикера, Редтенбахера, Шнейдера и Барта, что обеспечило ему солидную базу в медицине, химии, физиологии почек и механизме расстройства речи. Он нравился, в частности, тем, что никогда не оспаривал чьих–либо просьб предоставить материалы и медикаменты. Он был просто влюблен в терапию. – Зиг, мы ищем разгадку, почему в сознании пациентов чередуются периоды просветления с периодами расстройства. Я нашел ответ: дело в перистальтическом цикле – в движении, с помощью которого постепенно перемещается содержимое пищевого тракта. – Не можете ли вы пояснить, господин доктор? – Я хотел бы, дорогой коллега, чтобы вы вели запись продвижения в пищевом тракте больного с точным указанием времени от начала приема пищи до завершения цикла. Затем следует сопоставить полученный график с периодами просветления и помутнения ума. Полагаю, что вы обнаружите обратную связь: когда действует перистальтика, в голове у пациента смятение; как только у больного будет стул, умственные способности восстановятся и останутся такими до начала следующего движения. Что вы на это скажете? На язык Зигмунда так и просилось одно–единственное слово: «Чепуха!» Но фон Пфунген был слишком хорошим парнем, чтобы обижать его. Он обещал проследить за пациентами, как тот просил. Несколькими неделями позже фон Пфунген придумал новую теорию. Она касалась причины бронхиального катара. – Мытье спины пациента имеет отношение к катару, – объяснял он, когда они обходили палаты. – Сейчас у меня достаточно свидетельств для вывода, что правое легкое реже страдает, потому что левая рука, более слабая и менее проворная, не так сильно трет спину, как правая рука – левую сторону. Разве не интересный подход, не так ли, господин доктор?… Но человек, с которым Зигмунд встречался чаще всего и не всегда с охотой, был тридцатидвухлетний доктор Натан Вейс, проживший в больнице четырнадцать лет, из них последние четыре года как старший доцент в четвертом отделении. Вейс был известен как господин Городская Больница. Йозеф Брейер, узнав, что Вейс старается превратить Зигмунда в свое новое доверенное лицо, сказал: – Когда вижу Натана, то вспоминаю анекдот о старике, который спросил сына, кем он хочет быть. Сын ответил: «Купоросом, который все насквозь проедает». Огромное самомнение Натана было сопоставимо только с его жаждой деятельности, способностью углубляться в предмет и присасываться к нему изо всех сил. Он был в беспрестанном движении, произносил блестящие монологи, знал понемножку обо всем, но, сосредоточившись на нервных болезнях, стал авторитетом в этой области. Однажды, будучи еще студентом, он влюбился, получил от ворот поворот и с тех пор сторонился любви. Ее заменило ему управление четвертым отделением. Доктор Натан Вейс зачастил к Зигмунду для приятельских бесед, иногда приглашая Зигмунда на кофе или на ужин. Поначалу Зигмунд думал, что он нужен лишь как зачарованный слушатель необычно звучного голоса Вей–са, но затем убедился в ошибочности своего мнения. Он нравился Натану, и тот уважал его суждения. – Фрейд, когда ты завершишь обучение у Мейнерта, то почему бы не перейти ко мне? К этому времени я стану примариусом. Я сделаю тебя моим старшим «вторым врачом». Ты станешь у меня вторым из числа лучших неврологов в Вене. – Как близко, по вашему мнению, я смогу подтянуться к вам, Натан? – Всегда будет разрыв между мною и следующим по значению неврологом. Когда ты закончишь подготовку по нервным болезням, будешь носить на себе ярлык Натана Вейса, – «И сделал Господь Каину знамение… И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод». – Я знаю. Первая книга Моисеева. Бытие. Мой отец вколотил Ветхий Завет в мою шкуру строчка за строчкой. Он подошел к двери, повернулся и задумчиво сказал: – Зиг, у тебя есть сестры. Могу ли я с ними встретиться? Я хотел бы жениться на сестре врача. Как только стану примариусом, намерен создать собственный дом. Мне пора жениться, сейчас… время не ждет.10
Все исследовательские лаборатории были одинаковыми по размеру: три на три с половиной метра. Профессор Мейнерт занимал одну, выделив место для своих ассистентов, когда им требовалось продемонстрировать достигнутые результаты. Фон Пфунген работал в одной из лабораторий вместе с русским Даркшевичем, который строил планы привезти в Москву современную невропатологию; Зигмунд размещался в соседней лаборатории с доктором Александром Голлендером; а в последней комнате находился первый американец, с которым доводилось работать Зигмунду, – двадцатичетырехлетний Бернард Закс, получивший звание бакалавра в Гарвардском университете и год назад степень доктора медицины в Страсбургском университете, а теперь работавший над своей диссертацией по анатомии мозга под руководством Мейнерта. Зигмунд получал удовольствие, беседуя с этим умным и общительным человеком по–английски. Доктора Закса ожидал пост консультанта по умственным расстройствам в Нью–Йоркской поликлинике. Единственный спор, который был у Зигмунда с Заксом, касался использования слова «разум». Закс упорно говорил «болезни разума». Зигмунд сказал ему: – Барни, образец, что ты рассматриваешь под микроскопом, – это не срез человеческого разума. Это срез мозга. – Каким образом ты можешь отделить разум от мозга? – настаивал Закс. – Мозг – это сосуд, физическая структура, созданная, чтобы содержать. Разум – это содержание: слова, идеи, образы, верования… – Неразличимо, мой дорогой друг. Зигмунд вошел в свою лабораторию через угловую дверь. Вдоль всей стены тянулась рабочая стойка, за исключением участка около двери, где стояли рукомойник и большой бак для отходов: остатков мозгового вещества, испорченных срезов. На высоких полках находились присланные из анатомического театра стеклянные банки с образцами мозга в растворе формальдегида и в муслиновых мешочках, подвешенных на шпагате, дабы они не сели на дно и не расплющились под собственным весом. Зигмунд снял пиджак, повесил его на вешалку на двери, извлек один образец мозга из банки и вытащил его из муслинового мешочка. Он подержал мозг в ладонях: это было нечто мягкое, волнующее, вызывающее смешанные чувства. Всегда, когда он имел дело с мозгом взрослых, он думал о том, что всего несколько часов или же несколько дней назад здесь пульсировала жизнь. Мозг расплывался в его руках. У Зигмунда было ощущение, что он держит желе: бледное, серо–белое по цвету. Он смыл с рук следы крови, поставил противень с мозгом около водопроводного крана, взял длинный не очень острый кухонный нож и разрезал образец, как колбасу, на кусочки толщиной в полсантиметра–сантиметр. Для этого потребовалось некоторое усилие. В комнате стоял запах формалина, спирта и препарированных мозгов, особый запах смерти – затхлый, едкий и неприятный. Он перенес срезы мозга на свой рабочий стол, где пришлось вначале сдвинуть в сторону прежние образцы, помещенные в поставленные один на другой узкие перегороженные на секции ящички, между которыми виднелись написанные от руки заметки. Он пользовался своим микротоком для изготовления нужных ему тонких срезов. На противоположной стороне стола выстроились в ряд бутылки с нужными ему растворами, а перед ними – бутылки с красителями, расположенные в том порядке, в каком он должен был погружать в них срезы. Он брал куски мозга пинцетом и маленькими ножницами отрезал наиболее подходящий и типичный в патологическом смысле образец. Посыльный из анатомички принес пакет с мозгом мертворожденного в ночь накануне ребенка. Мозг не был еще помещен в формальдегид. Держа его в руках, Зигмунд чувствовал, что он тоже мягкий, скользкий, но из него сочится много жидкости. Эмоционально ему было нелегко. Сделав срез и поместив его под микроскоп, он понял, почему ребенок умер: у него был врожденный порок – гидрокефалия, водянка головы. «Если мы сможем выяснить, почему водяные желудочки содержат слишком много жидкости, что перекрывает сосуды и почему нет оттока, – сказал он про себя, – то тогда мы окажемся на пути к предотвращению такого порока». Его ближайшая задача состояла в том, чтобы отыскать такой способ окраски срезов, который позволил бы увидеть участки нервных тканей, окончание нервов и нервные клетки, практически неразличимые в окружающей их серой материи. Это была сложная задача для гистолога. Все его попытки заканчивались порчей срезов. Проработав в лаборатории до полуночи, он обнаружил, к собственному удивлению, как быстро летит время. Каждое новое сочетание химикалий либо делало срез непригодным для микроскопа, либо он становился слишком хрупким, либо сморщивался. Доктор Александр Голлендер, работавший в клинике уже семь лет, внимательно следил за его действиями. Голлендер – сын венгерского врача – был хорошо подкован в языках, философии и литературе, часто читал лекции студентам в отсутствие Мейнерта. Высоко ценилась его работа «О теории морального безумства». Выходец из почтенной семьи, он элегантно одевался, курил дорогие сигары и вел себя даже в лаборатории как аристократ. Мейнерт утверждал, что ни у кого нет большей способности, чем у Голлендера, изучить то, что обнаружили другие исследователи. Хотя ему наскучила техническая работа по вскрытию и накоплению образцов тканей, он без устали наблюдал за тем, с какой настойчивостью ищет Зигмунд надлежащую смесь химикалий для окраски образцов мозга. Как–то Голлендер сказал: – Мне бы твое терпение. – А мне бы ваши знания. Кстати, неудачу надо принимать в расчет с тысячной попытки; если удастся добиться успеха на тысяча первой попытке, то это гениально. – В таком случае ты совсем близок к гениальности. – Голлендер, почему бы вам не поработать вместе со мной? Я полагаю, что близко подошел к тому, как обращаться с эмбриональным мозгом и мозгом только что родившегося. Мы могли бы завершить эксперименты и вместе написать статью для главного медицинского журнала. – Пожалуй, ведь я довольно давно не публиковался. Когда мы начнем? – А мы уже начали. Снимите этот красивый английский пиджак и бросьте сигару. Итак, смотрите, что происходит, когда я придаю твердость кусочку органа, помещая его в раствор двухромистого калия… или в жидкость Эрлиха… Голлендер был превосходным учителем. Зигмунду стоило лишь обратиться к нему с простым вопросом, чтобы услышать целую лекцию о мозговой ткани. Он был также занятным человеком с неиссякаемым запасом забавных историй о театре, опере и венском обществе. Его единственные недостатком было то, что он покидал лабораторию вскоре после полудня, чтобы подготовиться к приятному времяпрепровождению вечером, иногда заходил в лабораторию в полночь, чтобы посмотреть, как идут дела у Зигмунда. Когда его просили оказать помощь, он отвечал: – Слишком плохое освещение. К тому же техника сложна… – Да, слава богу, так. В противном случае каждый смог бы сделать это. Голлендер, почему бы вам хотя бы разок не проявить настойчивость? Голлендер добродушно рассмеялся. – Ты никогда не поверишь, Фрейд, но когда я учился в клинической школе, то был самым примерным в моем классе. Я был полон решимости освоить анатомию мозга, и это мне удалось. – Никто этого не оспаривает. – Ну, дорогой, поскольку я стал экспертом, зачем трудиться дальше? Мое дело сделано. Вскоре я открою собственный санаторий и стану независимым. Ты удивишься, если узнаешь, как много умалишенных в богатых семьях, которых прячут где–то в дальних спальнях. Разглядывание через микроскоп – это для фанатиков вроде тебя. Когда он ушел, Зигмунд, продолжая сидеть некоторое время, наклонив голову, на высоком стуле, подумал: «Вы имеете в виду бедных вроде меня, которым нужны открытия и публикации, и доцентура, и пациенты, и заработок, и жена, и дом…» Его перевели в женскую палату. Каждое утро он проводил в приемном покое, осматривая поступавших больных. Жара в начале июля была удушающей. Из открытых окон совсем не тянуло ветерком. Во внешнем дворе листва сникла под палящими лучами солнца. У Зигмунда не было летнего костюма, и он изнывал под тяжестью одежды. Первой ввели тридцатипятилетнюю женщину из Галиции, упорно говорившую по–польски. Она была задержана у Шенбруннского дворца, когда вешала изображения святых на стены и деревья. Так приказал ей Господь, и в награду ей единственной будет разрешено попасть на небеса. Она не позволила Зигмунду осмотреть ее; когда он провел ее в женскую палату, она схватила стул и набросилась на другую больную. Зигмунд приказал поместить ее в изолятор. Она тут же налетела с кулаками на санитарок, которые попытались произвести уборку в ее камере, после чего ее отправили в дом умалишенных в Гуттинге. Следующей пациенткой была престарелая жена землевладельца из Вайсенбаха, низкорослая, худая женщина с серыми глазами, совершенно беззубая, – сохранились лишь резцы. Она страдала от краснухи, поразившей нижнюю часть живота, половые органы и внутренние частибедер почти до колен. Против этой болезни он прописал повязку с карболовой кислотой, льдом и хинидином. Она рассказала ему, что муж бьет ее по голове, и однажды она потеряла сознание; в другой раз он вырвал у нее клок волос и бросил ее во двор, где она пролежала целый" час на снегу. Когда она вернулась домой, то муж воскликнул: «Тварь, ты еще не умерла?!» Женщина обнажила грудь. Зигмунд позвал медицинскую сестру. Пациентка перешла в возбужденное состояние, задрала юбку, вела себя просто неприлично, затем обмочилась. Зигмунд передал ее дежурной сестре. Его дожидалась незамужняя среднего возраста служанка с толстым носом, находившаяся в состоянии глубокой депрессии. Она сама явилась в полицию, пожаловалась на свое тяжелое положение и просила направить ее в больницу. – Что вас так печалит, фрейлейн? – Восемь лет я была домработницей у высокопоставленного служащего. Меня уволили с превосходной характеристикой. Но эта характеристика губит меня. Когда я прошу дать мне работу, то все думают, что я не подхожу для нее. Я не работаю уже два с половиной года. Три месяца назад я хотела покончить с собой и выпила купорос, но в больнице меня вылечили. Я боюсь вернуться в мир, потому что там много людей, но нет человеческих существ. На улице на меня странно смотрят люди. Когда я показываю людям характеристику, они говорят мне, что у меня были наказуемые отношения с хозяином. Поэтому я хочу умереть. Доктор, если я здесь останусь, поможете ли вы достать яд? Он обследовал молодую жену виноградаря из Ланцен–дорфа, небольшого роста и хрупкого телосложения. Она ходила из угла в угол, опустив голову на грудь, правильно назвала свое имя, но не отвечала на остальные вопросы. Когда же он поинтересовался, замужем ли она, она сказала: «Не знаю. Иногда я не могу ничего вспомнить. Даже раньше я была забывчивой». – Не хотели бы вы остаться у нас на некоторое время, фрау Гранц? – Нет, я не должна жить в таком прекрасном здании, как это. У меня слишком много грехов. – Не скажете ли, какие это грехи? – Я недостойна, чтобы меня кормили. Я плохая и становлюсь все хуже. Меня следует выбросить или убить. Мои родители не должны были бы быть такими глупыми, чтобы жениться. Тогда не было бы меня в этом развращенном мире. Когда родились мои родители, нужно было бы выбросить их в колодец. Я вышла замуж за фермера, чтобы выбраться из дома. Дома все коряво. Здесь же все в порядке. Медицинская сестра вызвала Фрейда в палату к молодой незамужней швее из Венгрии. Она была принята в больницу доктором Мейнертом, который поставил диагноз – «сумасшествие по причине галлюцинаций и повышенной возбудимости». Во время приступов она проводила целые часы около оконного карниза, пытаясь найти лазейку, чтобы выпрыгнуть. Как следовало из истории болезни, она жаловалась на боли в тыльной части головы; утверждала, что ее преследуют мужчины, что она вынуждена подходить к ним, ибо этого требуют от нее голоса. В первую ночь пребывания в больнице ее пришлось привязать к кровати. Зигмунд снял сетку, закрывавшую ее постель. Женщина вскочила и попыталась обнять его. Она плакала, жалуясь на плохое обращение с ней. Зигмунд успокоил ее и спросил, когда начались боли. – Десять месяцев назад. От недомогания в желудке. Я всегда сторонилась мужчин, а сейчас я думаю, что только мужчина может исцелить меня. Я стала бегать за каждым мужчиной, целовать и обнимать. Моя семья заперла меня дома. Я пыталась бежать, выпрыгнув из окна. После этого они доставили меня сюда. – Почему у вас на руке кровь, фрейлейн? – Я укусила себя. В моей постели мужчина, который хочет сжечь меня. Она выпрыгнула из койки, оторвала полосу от своего платья, закрутила ее вокруг шеи и пыталась удушить себя. Зигмунд прописал ей два грамма хлоралгидрата. Вскоре она заснула. И так изо дня в день продолжался этот парад трогательных душ: тридцатисемилетняя незамужняя дочь фермера, родившая мертвого ребенка, уверяла каждого встречного, что она его убила. Ее доставили в больницу, после того как она начала бегать нагишом по лесу и рассказывать, будто в доме ее родителей каждую ночь убивают кого–нибудь, а трупы вешают на чердаке. Привлекательная замужняя венка страдала тем, что ежедневно видела духов и сатану, ей казалось, будто разверзается потолок палаты и, заметив ее, люди высовывают языки. Пятидесятисемилетняя одинокая швея слышала голоса и выстрелы, ее мучило видение собственной дочери, порубленной ее мужем и плавающей в крови в своей постели. Близкая к сорока годам женщина не могла спать по ночам, потому что ей виделось тело ее любовника Александра, ходившее вокруг с приставленной к нему головой мужа; она просила, чтобы принесли в палату софу, ибо явится святой дух и займется с ней любовью. Пожилой старой деве слышались голоса полицейских и лай собак, ей представлялись горожане, уставившиеся на нее и обвиняющие ее в том, что она, дескать, уводит к себе домой собак, чтобы иметь с ними половое сношение. Сорокалетняя жена кассира банка, образованная и с хорошими манерами, полагала, что ее ненавидит целый город в отместку за противозаконное половое сношение, в результате которого она подхватила венерическое заболевание (ничего такого не было), заразила своего мужа, а он ее бросил за это…– Приходилось заниматься еще более трудными пациентами: с бессвязнойречью, с беспорядочными движениями, не способными сосредоточиться, живущими прошлым десяти–, двадцати–, сорокалетней давности, не могущими осознать, что они находятся в больнице. Ежедневно он часами вчитывался в истории болезней, поступавшие из Граца и Цюриха, Праги и Парижа, Милана и Москвы, Лондона и Нью–Йорка. Подробно описывались галлюцинации и заблуждения, фантазии, беспокойства, страхи, мания преследования. Они были расписаны по категориям таким образом, что врачи могли утверждать (как это установил для себя Зигмунд, ознакомившись с лежащими перед ним монографиями и книгами), что все эти заболевания возникают не в какое–то особое Бремя, в особых местах и при особых обстоятельствах. Они общи для всех. Больницы, санатории, пансионы, приюты западного мира переполнены сотнями тысяч таких больных. Диагноз недугам был поставлен: безумие, сумасшествие, раннее слабоумие. Лечение простое: успокоить с помощью хлоридов и других лекарств, дать им покой, помочь осознать различие между реальностью и иллюзией, назначить теплую ванну, а на следующий день – холодную, применить электротерапию и массаж. Однако все это, как мог оценить Зигмунд, давало слабые результаты. Иногда, если болезнь была обнаружена в самом начале, удавалось восстановить веру пациентов в себя и вернуть их домой. Но в целом итоги были обескураживающими: у большинства несчастных приступы повторялись, их возвращали в больницы или в приют или же они погибали, наложив на себя руки. За истекшие месяцы Зигмунд определил трех пациентов в приют для умалишенных Нижней Австрии, сопровождал их до здания, расположенного возле холма. Фон Пфунген направил столько же, а вот у Юллендера оказалось больше – семь неизлечимых, у профессора Мейнерта, которого призывали в наиболее сложных случаях, было наибольшее число – тринадцать. Время, проведенное в палатах «с расстройствами», оказало на Зигмунда эмоциональное и физическое воздействие. Он скудно питался, плохо спал, потерял в весе несколько килограммов, и это при его щуплом сложении. Духота, переполненные палаты к буйства больных создавали нагрузку, прочертившую морщины на его щеках. Как врач, которому доверено лишь общее наблюдение, он не обязан был принимать какое–то особое участие в невзгодах больных. Однако имелось одно существенное различие. Врач мог питать симпатию к больному с зобом или с камнями в печени и в то же время испытывать страх перед душевнобольным, страдающим манией. Это была инстинктивная реакция. Зигмунд никогда не намеревался работать с душевнобольными и не думал, что это может его увлечь. Однако он начал чувствовать, пока еще смутно, что эти несчастные создания обделены жизнью. Для патолога открывалось исключительно плодотворное поле; еще столько нужно выяснить о структуре и функциях человеческого мозга. Но кто бы мог помочь, хотя бы немного, лечащему врачу? Или больным, большинству которых вообще недоступна помощь? Припоминая сотни больных мужчин и женщин, обращавшихся к нему, Зигмунд думал с отчаянием: «Нынешняя психиатрия бесплодна».Книга третья: По натянутому канату
1
Игнац Шенберг дважды в неделю по пути из университета заходил к Зигмунду, чтобы поужинать вместе с ним. Друзья читали и просматривали бумаги при свете лампы. Игнац, мечтавший ускорить женитьбу на Минне, взвалил на свои плечи непосильный груз. Вечерами он становился бледным и беспокойным. Прослушав стетоскопом грудь и спину Игнаца и простучав ребра, Зигмунд сказал: – Игнац, ты должен отдохнуть. – На следующий год, Зиг, – устало ответил Игнац. – Нет, именно в этом году. Зигмунд решил навестить его братьев, с которыми частенько виделся благодаря многолетней дружбе с Игнацем. Алоис был в отъезде, а Геза пригласил его на ужин. Коренастый Геза с крупными чертами лица был работягой и давно считал, что книги – настоящие враги мужчины. Зигмунд порицал его за глупость и самодовольство и поэтому не стал тратить время на любезности. – Геза, у Игнаца обостряется чахотка. – Чего ты от меня хочешь? – Денег. Столько, чтобы Игнац мог побыть несколько недель в горах. – Почему я должен платить за него? Я гну спину, чтобы заработать гульдены. Зигмунд смягчил тон: – Мы все должны следить за собой. Но Игнац особенно дорог. – Почему он так дорог? Потому, что читает санскритскую поэзию? Голодный рот санскритом не накормишь. – Если я смогу убедить Алоиса раскошелиться, ты добавишь денег со своей стороны? Я буду сопровождать Игнаца. Не хочу, чтобы он поехал в одиночку. – Ладно, – проворчал Геза. – Дам. Разве я не давал? Зигмунд отвез Игнаца в Штейн–ам–Ангер в Венгрии, дав ему строгие наставления, как следить за собой. Задержавшись ненадолго дома, он получил от Йозефа Брейера записку с предложением посетить Флейшля. Флейшль мучился от боли: тонкая кожица после последней ампутации лопнула, и рана открылась. Брейер, захвативший с собой морфий, сделал укол. Они возвращались пешком через город душным июльским вечером, когда камни мостовой и зданий отдавали накопленное за день тепло. С Брейером заговорил какой–то мужчина, и Зигмунд отстал на несколько шагов. Подождав, когда подойдет Зигмунд, Йозеф сказал: – Это муж одной моей пациентки. Его жена очень странно ведет себя в обществе, и он подозревает, что у нее нервное заболевание. Я вряд ли могу помочь, ведь такие случаи всегда принадлежат к секретам алькова. – Что ты имеешь в виду? – удивленно спросил Зигмунд. – В алькове стоит брачная постель, в ней начинаются и кончаются нервные болезни. Зигмунд немного подумал, а затем воскликнул: – Йозеф, понимаешь ли ты, какой необычной представляется мне суть твоего заявления? Брейер промолчал. Озадаченный Зигмунд шагал рядом с ним. «Секреты алькова» не были знакомы ему; он ощущал лишь потенциальную опасность для мужчины, которому надо ждать еще несколько лет собственного алькова. И поэтому не мог с ходу воспринять мысль, что супруги не всегда ладят в брачной постели. У них с Мартой все будет хорошо. И все же… и все же… он вырос в Вене, пользующейся репутацией города, где самая большая свобода в Европе в вопросах секса. Он знал, что здесь имеются специальные дома с привлекательными молодыми проститутками и всегда доступны женщины полусвета – девушки по вызову. Более обеспеченные и менее серьезные из его приятелей – студентов университета быстро находили себе зюссе медель – красоток из деревни или из рабочих кварталов и содержали их как любовниц до окончания учебы. После этого их «возлюбленные», проронив несколько слезинок, быстро осушали глаза, вовремя приметив, кто из вновь поступивших станет их очередным любовником. Можно было договориться и с замужней женщиной о встрече: он заметил приподнятую бровь у шикарно одетой дамы в кондитерской Демеля; шепот мужчины, обращенный к одинокой женщине в кафе; он знал, что за этим последует встреча с плотскими наслаждениями. Если кого–нибудь захватят врасплох, то есть, конечно, опасность оказаться вызванным на дуэль возмущенным мужем; правда, дуэли редко имели фатальный исход. Зигмунд Фрейд и его друзья знали о таких забавных сексуальных историях еще со времен гимназии, но сами не имели к тому ни средств, ни желания. Воспитанные в твердых моральных правилах Ветхого Завета, они верили в романтическую любовь, а скудные и редко достававшиеся им гульдены тратили на книги. Самым важным для этих интеллектуальных книжных червей было время и умственное напряжение, которое они предпочитали отдавать учебе, дискуссиям, противоборству идей и философских взглядов. Доктор Зигмунд Фрейд, анатомировавший мертвых женщин, оставался невинным в чувствах к живым женщинам. Вернувшись домой, Зигмунд и Йозеф расположились в кабинете Брейера наверху. Матильда приготовила им капусту в сметане. Иозеф продолжал свои объяснения: – Если бы некоторые из моих больных не принадлежали к богатым семьям, они оказались бы в твоей палате вместо моей консультационной. В каждом городе есть своя бродячая группа неврастеников, бегающая от врача к врачу в надежде на чудесное излечение мнимой болезни. Блуждающая кучка с мигрирующей болью! Сегодня в голове, завтра в груди, на следующей неделе в коленной чашечке. Бесполезно изгонять боль из плеча или из кишок; это монстр, который появляется так же быстро, как быстро удаляет его врач. Но почему? Где причина? Тысячи умных, здоровых мужчин и женщин почему–то нуждаются в болезни, в чувстве боли. Вчера ко мне пришел новый пациент – мужчина средних лет, занимающий важное положение в финансовом мире Вены. Когда он идет по улице, ему кажется, что его окружают монстры, гномы, летучие мыши. Они пролетают мимо него и кружатся вокруг головы. На заседании вместо лиц своих помощников он видит чертей и других существ из потустороннего мира. Его дело процветает, его жена и дети здоровы. И тем не менее он живет в мире страха. Я вижу, чем он страдает, но от чего он страдает? – Йозеф покачал головой в знак удивления и отчаяния. – Скажи, Зиг, кого вы приняли в эти дни в палату? – Например, Иоганна, холостяка тридцати девяти лет, бывшего клерка франко–австрийского банка. За несколько недель до того, как он попал в больницу, у него начала развиваться забывчивость, невоздержанность дома и на публике, паническое беспокойство, из–за которого он вставал в четыре часа утра и бегал по городу, покупал ненужные вещи, совершал бессмысленные кражи. Сегодня разбил несколько окон в палате, а когда я спросил его, зачем он это сделал, он ответил: «Мой брат – стекольщик, и ему нужна работа. Мой отец был стекольщиком и умер в возрасте семидесяти одного года, а моя мать жива и чувствует себя хорошо. Она ходит по городу восемнадцать часов в день. Я пришел сюда, чтобы посмотреть картины. Тут нет сумасшедших, лишь приятные люди. Питание и обслуживание превосходные. Я напишу об этом в газету. Я говорю на пяти языках, я сказочно богат. Я повешусь, если меня вскоре не заберут отсюда. Я дам вам миллион гульденов. Ступайте к биржевому маклеру и купите ценные бумаги по списку». – Классические симптомы. Безумие, переходящее в идиотизм, – заметил Йозеф. – Затем есть пациент, с которым я разговаривал вчера в приемном покое. Он был спокойным во время осмотра, но, как только подготовили койку, влез на окно и грозился прыгнуть через стекло. Пришлось поместить его в изолятор. Он сказал мне: «Я не знаю, почему я здесь, я абсолютно здоров. Восемь ночей я не мог спать. Я постоянно мечтаю о мадонне. Я видел ее в своей постели. Часть мира погибла, обезьяны стали людьми и будут людьми управлять. Посмотри, разве ты не чувствуешь, как из твоих мозгов, исходит солнце? Оно вытягивает мои мозги, высасывает их…» Поразмышляв некоторое время над случаями, приведенными Зигмундом, Брейер сказал: – Психиатрическая клиника всегда была перевалочным пунктом для дома умалишенных. Мы не видели еще самых тяжелых случаев. Совсем плохие попадают в руки полиции, и их отправляют в тюрьму. Те самые, что проходят по графе «моральное безумие». – Подобные тем, которых пытался защищать Крафт–Эбинг в германских судах? – Да. Садисты, закалывающие ножом женщин на улицах, – они обычно наносят удар в предплечье или в ягодицы, и при этом у них происходит извержение семени; фетишисты, которые режут на куски женское платье или крадут носовые платки, чтобы при мастурбации выливать в них семя; мужчины, выкапывающие мертвецов, чтобы иметь с ними половое сношение; гомосексуалисты, пойманные в общественных туалетах во время непристойного акта; извращенцы, одевающиеся, как женщины, и пристающие к мужчинам; эксгибиционисты, обнажающие свои половые органы в парках и в театрах; флагелланты, истязающие кнутом друг друга; женщины, занимающиеся оральным половым актом… Тебе повезло, Зиг, что ты не имеешь дела с этими случаями морального безумия. Зигмунд мрачно покачал головой: – Теплые ванны, успокоительные лекарства, отдых на курорте. Мы даем им на несколько дней или недель отпущение грехов. Но мы не можем оперировать мозг, как Бильрот оперирует внутренние органы, удалять больные участки и сшивать края ран. У нас нет хины против такой лихорадки. Мы не можем запретить им сахар, как делаем с диабетиками, снять нагрузку с ног, пока не пройдет воспаление. Анатомия мозга еще не подсказала нам ни одного способа лечения. Йозеф встал и прошелся по комнате. – Зиг, я умышленно спросил о больных в психиатрической палате. Ты не сможешь зарабатывать на жизнь анатомией мозга, как бы тебе ни нравилась работа в лаборатории. Ты не сможешь зарабатывать на жизнь на безумии, если только не примкнешь к твоему другу Гол–лендеру в организации частного санатория. Ты должен просто перейти в четвертое отделение к доктору Шольцу и заняться нервными болезнями.2
Лучшие часы дня наступали, как правило, поздно, когда больница затихала и текущие обязанности были позади. Он сидел расслабившись, счастливый перед фотографией Марты на его столе, и ему казалось, что она машет ему, приближаясь навстречу по тропинке сада Бельведер, или идет рядом по Бетховенганг в Гринцинге, смущенно отходит в сторону, чтобы поправить чулок. Читая и перечитывая ее письма, приходившие к нему почти каждый день, он слышал ее повторявший написанные строки голос, низкий, четкий, чистую дикцию, ее мягкий смех. Он писал ей пространные интимные письма, не скрывая ничего важного: о своей работе в палатах и лаборатории; об удовольствиях, которые доставляет ему компания «вторых врачей»; о своем предложении Флейшлю использовать устройство для окрашивания золотом сетчатки глаза и о принятии этого предложения Флейшлем («к моей радости, ибо учить старого учителя это такое чистое, безграничное удовольствие»); о том, как Брейер посоветовал ему переключиться на нервные заболевания; как кричал от восторга, читая «Дон Кихота», и как мечтал о ней, читая Байрона. Ему нравилось писать, он оживал, берясь за перо. Рука двигалась по бумаге свободно, и это движение разрешало его проблемы и освежало ум. Он возомнил себя стилистом, после того как на экзамене на аттестат зрелости получил отличную оценку за сочинение, написанное по–немецки. Профессор сказал ему: «Вы обладаете тем, что немецкий поэт и философ Иоганн фон Гердер красиво назвал «идиотским стилем», одновременно и правильным и своеобразным». Семнадцатилетний Зигмунд Фрейд принял это замечание как похвалу и написал другу: «Рекомендую тебе сохранять мои письма, складывать их и беречь – заранее не знаешь, что будет». Образ Марты незримо присутствовал в его комнате; ее духи перебивали запахи лаборатории, которые он приносил с собой. Ее фотография была первым предметом, на который он бросал взгляд, входя в комнату. Однако, страдая от приступа ишиаса или приходя домой измочаленным, полным отчаяния, подавленным, он ссорился с ней в переписке. Он не мог смириться с тем, что фрау Бернейс увезла своих дочерей из Вены. Марта должна быть верна прежде всего ему! Он корил ее за слабость и трусость, за то, что она выбирает легкий путь, вместо того чтобы противостоять дурному. Отвечая на такие задиристые письма, Марта писала: «Я люблю тебя, и я люблю свою семью. Я не откажусь ни от тебя, ни от нее, буду верна обоим. Я не хочу, чтобы были нарушены отношения с родными». Духовный подъем наступал быстро – через день или два, после некоторого отдыха, длительной прогулки по лесу, успеха в лаборатории. Он понимал, что эти письма для него, как катарсис: они помогают побороть в себе чувство нетерпения и отчаяния из–за медленного прогресса в работе и неясной перспективы на будущее. Он также понял, что его невеста твердо стоит на ногах в трудной ситуации. После этого он садился перед ее фотографией, признательный, что она его не осуждает, и писал на многих листах покаяния, извинения и клятвенные признания в любви к ней. Поскольку ему всегда удавалось присылать ей письма к семнадцатому числу каждого месяца, к дате их помолвки, он смутно чувствовал, что его настроение меняется в соответствии с собственным циклом, не подконтрольным его воле. Он был уверен в Марте; ничто, даже он сам, не может разрушить ее любовь. Не это ли давало ему возможность потворствовать себе? К концу июля чета Брейер, подобно другим венцам, отправилась на отдых в горы Зальцкаммергута, где у них был свой летний домик. – Я хочу, чтобы ты позаботился о моем пациенте господине Крелле, он живет в Потцлейнсдорфе, – сказал Йозеф. – Поедем, я представлю тебя. – Чем страдает господин Крелл? – Амиотрофическим боковым склерозом. Ему чуть больше пятидесяти. Год назад он почувствовал неудобство при ходьбе. Через полгода оно стало сопровождаться похуданием икр. Последние два месяца он испытывает трудности при питье: принимая жидкость, захлебывается и задыхается, и часть ее вытекает через нос. – А что за причина? – Мы не знаем. – А прогноз? – Мы можем смягчить симптомы, а не болезнь. В лучшем случае протянет года два–три, в худшем – не более года. – Как ты ему помогаешь? – Увидишь. Это был комфортабельный дом среднего достатка с хорошо ухоженным садиком, отделанный в лучшем стиле бидермайера: изогнутые спинки стульев, диваны и прямые, богато декорированные линии бюро и шкафов. Брейер представил господина доктора Фрейда как своего компаньона. Фрау Крелл предложила кофе. Атаксия[5] пациента явно обострилась после последнего визита. Зигмунд понял, насколько серьезен симптом в виде неровной, спотыкающейся походки. Брейер осмотрел икры пациента, попросил стакан воды и, размешав порошок бромида, сказал: – Август должен быть прекрасным месяцем для вас, господин Крелл. Проводите день в саду. Побольше ходите. И, фрау Крелл, не волнуйтесь. Господина доктора Фрейда можно найти в больнице и днем и ночью, и он явится к вам немедленно, как только потребуется. Когда Зигмунд вернулся домой, его ждал Натан Вейс, пунцовый от возбуждения. – Зиг, я принял решение. Помнишь ту мать с двумя дочерьми, о которых я говорил с тобой? Я решил жениться на старшей. Завоевать нелегко, доложу тебе. Мне потребуется помощь от бывалого завсегдатая бульваров вроде тебя. Ухажеру явно не везло. Девушке было двадцать шесть лет, и она уже отвергла не одного подходящего претендента. Она откровенно заявила Вейсу, что не испытывает к нему любви. Критиковала его манеры, его болтливость, его эгоцентризм: «Я центр моей вселенной». Настаивала на том, чтобы он полностью изменил себя как личность. Натан принес Зигмунду два письма и спросил, что он думает о ее характере на основании написанного ею. – Судя по письмам, она разумная, рассудительная и вежливая, ответил Зигмунд. Но, как мне кажется, в ее почерке и оборотах мало женской утонченности. – О чем ты говоришь? Она исключительно женственна. Мне нужно лишь зажечь ее своей любовью. – Но ведь она тебе сказала, что не испытывает потребности в любви? – Как она может знать, нуждается ли она в любви, не почувствовав ее? Все остается абстракцией, пока не найдется подходящий мужчина. Зигмунд спокойно спросил: – Натан, а ты уверен, что ты подходящий мужчина для этой Брунгильды? Она кажется сдержанной, требовательной и не очень уступчивой. Спустя некоторое время Натан заявил: – Я в отчаянии. Она стала скучной, беспричинно плачет, недовольна моим обществом. Я назначил близкую дату свадьбы, ее семья в восторге… – Натан, девушка совестлива. Не нажимай на нее. Прислушиваться к добрым советам Вейсу не было свойственно. Он потратил тысячу гульденов на подарки своей невесте, вложил свои сбережения в мебель для своего будущего семейного дома, затем прибежал к Зигмунду, полный отчаяния. – Зигмунд, когда я показал ей наш замечательный дом, она сказала: «Натан, а почему бы тебе не жениться на моей сестре?» – Умоляю тебя, примирись с мыслью, что она не любит тебя, – настаивал Зигмунд. – Отправляйся в путешествие, вернешься со спокойным чувством… – Я не хочу удаляться от нее. Я хочу быть около нее. Не могу примириться с фактом, что эта девушка отказывает мне. Согласен, она холодна и щепетильна; после свадьбы я смогу заставить полюбить себя, как я добивался успеха во всем остальном. Свадьба состоялась. Перед свадебной поездкой Натан тепло обнял Зигмунда. – Увидимся через две недели. Я задумал замечательное свадебное путешествие. Все внимание доктора Фрейда сосредоточилось теперь на пациенте Брейера. Несколько раз его вызызали в Потц–лейнсдорф ради спокойствия, подстраховки. Ухудшения не было. Изнурительный зной раскалил узкие улочки. Воздух был неподвижен. Пациенты во внутренних дворах больницы вытирали пот своими полосатыми пижамами. На улице он увидел лишь одинокого грузчика с тележкой, перевозившего имущество еще одного семейства в предгорную деревеньку в Винервальде. Казалось, Вена обезлюдела. Затем последовал вызов в чертовски трудный день. Зигмунд был вялым, отчаявшимся и считал этот визит бессмысленным. Однако, войдя в дом Крелла, он понял, что заблуждался. Атаксия у господина Крелла резко обострилась: встав утром с постели, он потерял равновесие и упал на пол. Впервые доктор Зигмунд Фрейд почувствовал, как необходим семейный врач. Его апатия исчезла. Он дал Креллу хлоралгидрат в качестве успокоительного. Когда тот начал захлебываться жидкостью, уложил его в постель, сделал холодный компресс на икры и массаж. После того как Крелл заснул, Зигмунд, успокаивая встревоженную жену, сказал: – Это следствие летней жары. В следующие день–два он станет спокойнее. – Благодарим вас, господин доктор, что вы приехали в такую тяжкую погоду. Возвратившись в город, где Зигмунд оказался в четырех раскаленных каменных стенах, он тем не менее испытывал чувство удовлетворения, осознал свою полезность: придя в дом, где царили страх, отчаяние, он вышел из него, успокоив семью. Он думал: «Бедняга, он умрет в такие же дни на следующий год. Я могу помочь ему только на короткое время. Почему же я ощущаю приток веселья, словно представляю какую–то ценность для этого мира?» Отныне он понимал, почему многие врачи любят частную практику и питают теплые чувства к своим пациентам. До возвращения Йозефа Брейера его вызывали в дом Крелла двенадцать раз. Господин Крелл отсчитал ему шестьдесят гульденов, по два доллара за визит, плюс оплата фиакра. Это была самая крупная сумма, которую Зигмунд когда–либо заработал. Сорок гульденов он отдал своей матери, оплатил счета книготорговца Дойтике, уладил полдесятка мелких долгов в больнице. У него осталось достаточно, чтобы послать Марте словарь, о котором она мечтала. Это было жалкое утешение для ночей, когда его плоть так стремилась к ней, что он выскакивал из кровати, одевался и бродил, словно слепой, по темным улицам, чтобы изнурить себя. Воскресенья он проводил в читальне, где можно было спокойно читать и писать; не многие желали являться или были обязаны приходить в больницу ежедневно. К нему обращались за советом молодые аспиранты… Натан Вейс 'вернулся на работу, но не навестил его. Впервые увидев его на совещании, Зигмунд спросил: – Как обстоит дело с женитьбой? Натан смотрел в сторону. – Бывает и лучше. Через неделю, когда они встретились вновь, Натан кратко сказал: – Я проклятый неудачник. Однажды рано утром в комнату Зигмунда ворвался доктор Люстгартен. На нем не было лица. – Ты слышал о Натане Вейсе? – закричал он. – Он повесился! В общественной бане на Ландштрассе! Это был сокрушительный удар. Вся больница была потрясена. Уж кто–кто, а только не он мог покончить жизнь самоубийством! Выдвигалось множество доводов: его обманули с обещанным приданым; он растранжирил свои сбережения из–за семейной беды; был разъярен из–за отвергнутой любви… Зигмунд не верил ни одной из этих выдумок. Он не мог говорить со своими коллегами о Натане. Вместо этого он подробно изложил Марте всю историю. Затем с Йозефом Брейером обсудил вероятную причину самоубийства. – Это самая мистическая болезнь из всех, – сказал Йозеф, – почти невозможно поставить диагноз. – Казалось, у Натана была такая привязанность к жизни… – Очевидно, нет, ведь в противном случае он не сник бы при первой неудаче. – Йозеф, у меня странное ощущение: Натан знал, что обрекает себя на поражение; гоняясь за этой несчастной девицей, он искал себе причину для смерти.3
Еще несколько месяцев работы в одиночку далеко за полночь, и он открыл нужную краску для тканей мозга, придерживаясь первоначальной концепции об использовании смеси двухромистого калия, меди и воды, которую изложил Голлендеру. Затем разработал процедуру отвердения образцов мозга, помещая их в спирт. Промытые в дистиллированной воде, тонкие срезы помещались в водный раствор хлористого золота. Через четыре часа с помощью деревянной палочки образец извлекался из раствора, промывался и помещался в концентрированный раствор каустической соды, что делало его прозрачным. Через две или три минуты он вынимал образец из соды с помощью зубочистки и давал стечь лишней жидкости. Затем переносил образцы в десятипроцентный раствор йодистого калия, где они сразу же принимали нежно–розовую окраску, переходившую в более темные оттенки красного цвета в последующие пять или пятнадцать минут. Он поместил в спирт срезы головного мозга взрослого человека и проделал с ними обычную процедуру. Для срезов тканей головного и спинного мозга новорожденных и эмбрионов он разработал метод их переноса на стеклянную пластинку с помощью кисточки из верблюжьих волос, свободной сушки и последующего покрытия фильтровальной бумагой. Это был сложный, утомительный процесс, но зато он позволял сохранить наиболее подверженные порче срезы. Благодаря новому методу нервные ткани окрашивались в розовый, пурпурный, черный и даже голубой цвета и становились легко различимыми на фоне белого и серого вещества. У эмбриона нервные волокна были видны удивительно отчетливо. Пучки, уже обладавшие защитным покровом, отличались более темной окраской. Рассматриваемые под микроскопом с максимальным увеличением одноосевые цилиндрики были различимы настолько хорошо, что можно было подсчитать их число. Это оказалось особенно полезным для исследования центральной нервной системы новорожденного. Он пригласил группу друзей, чтобы познакомить их с процессом обработки срезов. Мейнерт и фон Пфунген были и поражены и обрадованы. Люстгартен попросил разрешения использовать метод для исследования кожных тканей, Горовиц – для тканей мочевого пузыря, а Эрман – для надпочечной железы. Подбодренный их энтузиазмом, Зигмунд в тот же вечер засел за статью «Новый метод исследования нервных волокон в центральной нервной системе», которая позднее была опубликована, как он и предсказывал Голлендеру, в главном медицинском журнале. Он с ликованием описал Марте свой успех; каждое достижение, любое продвижение вперед, пусть самое незначительное, приближало день их свадьбы. После еще двух недель экспериментов он обнаружил нужный ему закрепитель; теперь образцы можно было хранить в кабинете и использовать для последующих исследований. Он был охвачен вдохновением. Зигмунд взял образцы в лабораторию физиологии, чтобы показать их Флейшлю и Экснеру. Появился профессор Брюкке. – Есть что посмотреть, господин доктор? – спросил он. – Да, господин профессор, позолоту мозга. – А, это особенно интересно, поскольку у золота не столь уж хорошая репутация в этом отношении. – Но это новый метод, господин советник. Брюкке склонился над микроскопом, бормоча: «Вижу». Когда обследовал всю серию, он выпрямился, его ярко–голубые глаза излучали радость и гордость. – Один этот метод сделает вас известным. Теперь, когда его система была усовершенствована, Зигмунд написал расширенный вариант статьи для журнала «Архив анатомии и физиологии», а позднее по–английски для британского журнала «Мозг: журнал неврологии». Барни Закс проверил текст, чтобы английский был безупречным. Закса любили в лаборатории; он переводил только что завершенную работу профессора Мейнерта «Психиатрия» для публикации в Лондоне и Нью–Йорке. Даркшевич просил разрешения перевести статью на русский язык для журнала в своей стране. В тот вечер Зигмунд писал Марте: «Помимо практического значения открытие имеет для меня и эмоциональный смысл. Я преуспел в том, чего добивался многие годы… Я понимаю, что уже сделал кое–что в жизни. Я так часто мечтал о любимой, которая может быть для меня всем, и ныне она ближе ко мне. Люди, которыми я восторгался, казались мне недосягаемыми, а теперь они встречаются со мной на равных и проявляют ко мне дружеские чувства. Я в добром здравии и веду себя порядочно, оставаясь бедным… Я чувствую, что избавлен от худшей судьбы, то есть от одиночества. Итак, если я продолжу работу, то могу надеяться приобрести недостающее и принять у себя мою Марту, которая сейчас так далека и, судя по ее письму, так одинока, чтобы она стала совсем моей, и в ее нежных объятиях смотреть с надеждой на будущую жизнь. Ты делила со мной огорчения, раздели же со мной мою радость, любимая». Заклеив конверт, он написал с задней стороны по–английски: «Надежда и радость». Несмотря на смерть Натана Вейса, профессор Франц Шольц уведомил Зигмунда, что вакансия в четвертом отделении не будет открыта до нового года. Зигмунд поспешил договориться о переводе его в кожное отделение, в палаты сифилиса и заразных болезней, в качестве «второго врача». С первого октября он начал работать в этом отделении. Его встретил молодой доктор Максимилиан фон Цейсль, отец которого за год до этого занимал пост заведующего отделением. Фон Цейсль, блондин с небольшой мягкой бородкой и голубыми агатовыми глазами, был ровесником Зигмунда. Его отец, профессор фон Цейсль, привел мальчика в палату, когда тому было всего шесть лет. Палаты сифилитиков представляли страшное зрелище: сгнившие носы, изъязвленные глаза, зеленые, покрытые нарывами щеки, полусгнившие уши и губы, половина подбородка… Но он не почувствовал отвращения, а был увлечен увиденным. Окончив университет и получив диплом врача, молодой Цейсль сразу же стал работать в кожном отделении. Совсем недавно он стал «вторым врачом», мечтая занять место отца. Он впустил Зигмунда в свой кабинет; литература из всех стран мира по сифилису была аккуратно расставлена на полках. – Разрешите мне взять вас под свое крыло, – сказал он. – Я люблю учить, а тут я впервые получаю возможность работать с человеком, имеющим блестящую подготовку в гистологии и патологии. – Считайте, господин доктор, что я заурядный студент, совершенно не сведущий в вашей области. – Это мы поправим. Прежде всего и более всего нашей святыней в этих палатах является ртуть. Молясь, мы благодарим Бога за ее терапевтические качества. Знаете ли вы, что арабы использовали ее еще пятьсот лет назад? Тем не менее в Европе имеется много госпиталей и врачей, которые не хотят применять ртуть. Я знаю о последствиях злоупотребления; знаю, что не все случаи сифилиса излечиваются ртутью; знаю, что она пригодна не для всех стадий болезни. Но я также наблюдал, какую большую помощь мы оказали даже тем, у кого мозг подвергся размягчению…– Он рассмеялся. – Видите, я фанатик в этом вопросе. Вы ничего не имеете против фанатиков, господин доктор? Зигмунд улыбнулся. – Нет, если вы имеете в виду целеустремленность, а что иное в человеке может привести к великим открытиям? – Я слышал, что некоторые открытия были сделаны благодаря чистой случайности! А ну–ка! Зайдем в палаты. Наши больные разделены по методу Фурнье на категории, и мы действуем согласно четырем методам. Первый – накожный метод, заключающийся в наложении мази на те части кожного покрова, где больше всего потовых желез, – подмышки, пах, подошвы ног. – Он показал несколько случаев первых симптомов болезни. – Мы просто смазываем больные места раствором йода или раствором ван Свьетена. На втором этапе мы применяем ртуть. Примерно через пару месяцев лечения мы отправляем больного домой на такой же срок, чтобы преодолеть последствия применения лекарств. Затем вновь принимаем в больницу, для третьего этапа лечения, в ходе которого пользуемся только йодистым калием. Затем он показал метод подкожного вливания хлороформа. – …В бедро, вот в этом месте. Это болезненно для мужчин и почти всегда невыносимо больно для женщин. В палате ощущался сильный запах бисульфита натрия. В течение нескольких следующих недель Зигмунд внимательно вникал в объяснения фон Цейсля. У него не было намерения специализироваться по кожным болезням, но нужно было знать, что делать, если обратятся с подобными заболеваниями. – В сложных случаях мы планируем курс лечения на три–четыре года, – сказал фон Цейсль. – Больной получает ртуть только в течение десяти месяцев из двух лет. В конце второго года наряду с ртутью мы применяем йодистый калий. На третий и четвертый год мы отказываемся от ртути и применяем только йодистый калий. Иногда мы вмешиваемся слишком поздно; тогда мы не в состоянии остановить болезнь, и пациент умирает. Однако нам удалось существенно сократить распространение сифилиса. Физиологическое действие ртути неясно. Я работаю над этим, предпринимаю также попытки обнаружить возбудителя сифилиса. Зигмунд узнал, какое количество ртути следует добавлять в ванну; изучил метод респираторного, или кожно–легочного, применения лекарств, при котором он помещал пациента в камеру, закрывал дверь и зажигал таблетки киновари, или сулемы, чтобы обезвредить возбудителя болезни в легких. При приеме лекарства внутрь он давал пациенту металлическую ртуть, синие таблетки двухлористой ртути или йодистый калий в сиропе из апельсиновых корок; научился, когда следует переходить к очищающей молочной диете. Наблюдал за тем, как фон Цейсль готовит растворы золота, серебра и даже меди, пытаясь найти более быстрые пути борьбы с болезнью. Отчасти из–за того, что одежда Зигмунда была пропитана запахом бисульфита натрия, первые недели работы в этом отделении он не выходил из больницы и даже не пошел на свадьбу своей сестры Анны с Эли Бернейсом, с которым он все еще был в ссоре. Он делал обходы, принимал больных как дежурный врач, продолжая работать в лаборатории Мейнерта, а вечерами читал газеты и журналы. Сифилис имел худую славу венерической болезни. В отличие от заболевших чахоткой или грудной жабой на сифилитиков смотрели как на преступивших нормы респектабельности, хотя, впрочем, в женской палате было немало жен, невинно получивших сифилис от мужей, которые не столь невинно подхватили его от венских проституток. Солдаты, среди которых больше всего было распространено это заболевание, направлялись в военные госпитали, остальные попадали в общую больницу; лишь немногие соглашались принимать таких больных. Многие больные сифилисом укрывались в семьях, не хотевших огласки. Подобно психически больным, эти люди были париями. Зигмунд испытывал к ним смешанное чувство и отвращения и жалости.4
Четвертое клиническое отделение было своего рода отстойником для больных с неясными заболеваниями, особенно нервными, относительно которых главный приемный покой больницы оказывался в затруднении – как с ними поступить. Отделение финансировалось властями Нижней Австрии и венским муниципалитетом и поэтому было обязано принимать любого пациента из Вены и окрестных деревень, нуждающегося в больничном уходе. Примариус доктор Франц Шольц нашел остроумный способ обойти такое условие, как обнаружил Зигмунд в день нового, 1884 года, когда его провели по всем пяти палатам четвертого отделения, которое имело сто тринадцать коек. Шольц считал своим долгом выставлять из своей клиники любого пациента как можно быстрее, иногда даже до постановки диагноза. – Палаты с восемьдесят седьмой по девяностую являются промежуточными, – сказал доктор Шольц своему новому младшему «второму врачу». – Это не дома отдыха. Осмотрите пациента, заполните историю болезни и переправляйте его дальше. Шестидесятичетырехлетний доктор Шольц стал известен в медицинских кругах двадцать два года назад разработкой и совершенствованием метода подкожного вливания с помощью шприца. Он начал свою карьеру с изучения философии в Пражском университете, а затем переехал в Вену, где получил медицинское образование. В течение шестнадцати лет Шольц властвовал в Городской больнице сначала как старший хирург, а затем возглавил клинические исследования. Зигмунд знал о его репутации. В молодые годы Шольц был блестящим новатором, публиковался в медицинских журналах Вены, внес существенный вклад в статистику распространения сифилиса, провел исследование «Душевные заболевания у заключенных в камерах–одиночках». Когда ему стукнуло сорок и медицинский мир ввел в общую практику его технику подкожных вливаний, воздав ему должное за его новаторские работы, тяга к оригинальным исследованиям у него пропала. Его вполне устраивала роль администратора. Это был грузный человек; он носил толстые пальто и сюртуки, обладал примечательными усами и бородой, вызывавшими восторг у поклонников волосатости в Вене. В надежде прикрыть лысину он так отращивал волосы на затылке,, что они закрывали воротник; было признано, что его огромный костлявый римский нос и колючие глаза придают ему внушительность. Зигмунд воспринимал трагически то, что Шольц не занимался больше научными проблемами, а заботился об уменьшении расходов отделения, считая делом чести свести в бюджете концы с концами. «Вторым врачам» отказывали в дорогих медикаментах или новых лекарствах, электрических приборах и ином оборудовании, которое, по их мнению, может помочь пациенту. Зигмунду не замедлили рассказать о требованиях Шольца соблюдать положенные инструкцией расстояния между койками. – Но вы обнаружите, что это отделение, в котором можно многому научиться, – сказал старший «второй врач» Иосиф Поллак, который был на шесть лет старше Зигмунда. – Пока ваши методы не требуют денег, Шольц оставит вас в покое. Когда же вам потребуются дополнительные дни для действительно больных, тогда придется изворачиваться. Зигмунд был рад, что наконец–то попал в отделение нервных болезней, где, по мнению Йозефа Брейера, у него будут огромные возможности. Однако это был крутой поворот: Зигмунд не мог преподавать, читать лекции и работать в лаборатории, ибо таковой при отделении не было. Иосиф Поллак работал вместе с Экснером в лаборатории Брюкке над отологическими устройствами. Он сказал вполголоса: – Я хочу специализироваться по расстройствам слуха. Хватит с меня нервных заболеваний! У меня такое чувство, что я сам вот–вот подхвачу самые отвратительные. Кстати, все молодые врачи, работающие под началом Шольца, должны быть между собой самыми верными друзьями; это единственный способ удерживать примариуса в рамках. Зигмунд попросил у профессора Мейнерта разрешения продолжать работу в лаборатории анатомии мозга. В четвертом отделении в его обязанности входил осмотр смешанных групп, формировавшихся по большей части в результате диагноза на глазок. Такой метод отбора приводил примариуса Шольца в бешенство: его койки заняты пациентами, которые должны быть направлены в другие отделения! Он быстро освобождался от них. Другие примариусы не обижались; каждое отделение было заинтересовано в пациентах с нервными заболеваниями, ведь нервная система влияет на здоровье каждой части тела. Вставая рано утром, Зигмунд успевал к девяти тридцати совершить обход палат, а к десяти утра попасть в лабораторию Мейнерта. Второй обход он проводил после полудня и завершал его к пяти. После этого читал и просматривал бумаги, а после ужина возвращался в лабораторию Мейнерта и работал в ней до полуночи. В палатах у Мейнерта и Шольца было много больных с параличом мускулов лица, и он решил заняться исследованием неполного паралича и непроизвольного тика. В начале первой недели его работы в палату был принят бедный ученик портного с острым приступом цинги. Его тело было покрыто черными и синими пятнами вследствие подкожного кровоизлияния. При осмотре молодой человек вел себя вяло, других симптомов не было. На следующее утро парень потерял сознание. Все указывало на кровоизлияние в мозг. После обхода Зигмунд вернулся к его койке и провел около него большую часть утра и заходил после полудня, записывая течение болезни. Он ничем не мог помочь, но было важно изучить, как развивается ухудшение. В семь часов вечера наступил двусторонний паралич. Через час больной умер. В эту ночь и на следующее утро Зигмунд написал доклад на восемнадцати страницах о своих наблюдениях и заключение, какая часть мозга была затронута. После того как вскрытие подтвердило правильность диагноза, он послал доклад в «Медицинский еженедельник». Это принесло ему столь нужные десять гульденов и подняло его престиж среди коллег четвертого отделения. Отделение имело смотровой кабинет. За него отвечал доктор Иосиф Поллак, помогавший Зигмунду освоить искусство диагностики. На долю Зигмунда выпал случай акромегалии[6] у сорокадвухлетней женщины. Она заметила, что за последние пять лет размер ее туфель значительно увеличился, увеличились и удлинились и ее руки. Ее муж обратил внимание на то, что черты ее лица стали более крупными. Она ощущала общую слабость, но не чувствовала себя больной. Зигмунд поставил диагноз: опухоль гланд под основанием черепа. – Чем это вызвано и каким может быть лечение? – спросил он Поллака. Старший «второй врач» пожал плечами: – Никто не знает, Зиг. И нет лечения. Увеличение происходит там, где имеются кости. Каков прогноз? Она может жить пятьдесят лет. Увеличение достигнет какого–то предела, а затем остановится. – Как долго мы будем держать ее здесь, если нет курса лечения? – Достаточно долго, чтобы обследовать ее. Следующим пациентом, подвергшимся обследованию, был двадцатипятилетний мужчина; при половом сношении у него неожиданно возникла невыносимая головная боль, начинавшаяся в затылке и создававшая ощущение, будто на «шею вылили кипящую воду». Ни доктор Фрейд, ни доктор Поллак не имели ни малейшего представления, чем это вызвано. Они отправили больного домой. Через Десять дней при мочеиспускании он почувствовал острую головнуюболь и потерял сознание. Его доставили в больницу в состоянии комы. Вызвали примариуса Шольца, тот вынес суждение, что это сердечный приступ. Поллак внимательно осмотрел с помощью офтальмоскопа глазное дно и увидел кровоизлияние в глаз. Он шепнул Зигмунду. – Это расширение артерии. На участке артерии возникает выпячивание, которое становится все больше и делает стенку все тоньше, пока она не разорвется. Это врожденная ненормальность, он появился на свет с ней. В ту же ночь мужчина умер. При вскрытии была обнаружена разорванная стенка расширенной части артерии. Приступы вызывались напряжением при половом сношении и при стуле; Иосиф Поллак был прав – напряжение повышало давление крови, и это привело к прободению. На следующее утро он сказал Зигмунду: – Пойдем в палату восемьдесят девять. Я хочу провести эксперимент. Уже несколько месяцев в больнице находится тридцатилетняя миловидная женщина, которая не может пошевелить ногами. Ниже талии у нее онемело все тело. И в то же время нет объективных показаний болезни, все рефлексы нормальные. Они пошли в палату. Поллак сказал с серьезным видом: – Фрейлейн, вчера мы закончили испытания нового лекарства. Оно может восстановить двигательные способности ваших ног за шестьдесят секунд. Но оно очень опасное и может навлечь смерть. Если бы речь шла о моих ногах, я бы рискнул. Что вы скажете, фрейлейн? В этом шприце нужная доза лекарства. Пациентка вздрогнула. Она прошептала: – Это может убить меня, господин доктор? Как быстро? – В течение недели. Но вы можете также быть избавлены от паралича за шестьдесят секунд. Не предпочтете ли вы смерть, чем быть парализованной всю остальную жизнь? Под впечатлением безжалостной откровенности Поллака женщина закрыла на какое–то время глаза, затем широко открыла их. – Делайте укол. Иосиф Поллак сделал укол в предплечье. Зигмунд знал, что никакого нового лекарства в шприце нет, и страшив боялся, как отреагирует пациентка на предложение Поллака, не умрет ли она у них на глазах. Не прошло и полминуты, как он увидел, что ее ноги начали дрожать под халатом, а к концу минуты она подняла одну ногу вверх, воскликнув: – Я могу двигаться. Я могу двигать ногами! Я больше не парализована! Поллак похлопал ее по плечу, вытер пот, выступивший у нее на лбу. – Вы отважная женщина. Вы спасли свою жизнь. Теперь вы сможете прийти в нормальное состояние. На обратном пути Зигмунд спросил вполголоса: – Что за новое чудо–лекарство, аш–два–о? – Совершенно точно. У нее истерия. Я подозревал, что она симулирует. – Зачем же вы так напугали бедную женщину? – Потому что требовался элемент опасности. Иногда решимость перед лицом смерти придает отвагу жить. Зигмунд удивленно покачал головой: – Господин доктор, вам нужно играть в Карлстеатре. Вы дали лучшее представление, какое мне доводилось видеть. Поллак посмотрел на него с лукавством: – А как по–вашему? Врач не должен быть артистом? Мы все время играем. К неизлечимо больному человеку мы обращаемся с ободряющей улыбкой и уверяем, что он страдает от пустяка, устранить который может хорошее настроение. Когда неврастеничка говорит нам, что никакой врач не может ей помочь, мы делаем серьезную мину, заявляем, что у нее редкое заболевание, и даем ей пузырек с пилюлями из сахара. Это ее излечивает… по меньшей мере на тридцать дней. Если мы оказываемся в тупике перед симптомами пациента, то строим глубокомысленную мину и бормочем: «Да–да, теперь диагноз ясен, и мы скоро получим хорошие результаты». Зигмунд подумал с некоторой тоской о том, что в лаборатории все более честно: правильное под микроскопом есть правильное, а что неправильно, то таким и является.5
Бывали времена, когда казалось, что все оборачивается против него. Тридцать шесть долларов оклада «второго врача» – вот все, чем он располагал. Не было даже крохотных дополнительных доходов, не было пациентов, не было студентов, которых нужно было натаскивать, не было публикаций, обзоров, которые можно было бы предложить газетам. Он ходил в поношенной одежде и не мог позволить себе посетить парикмахера, чтобы подровнять прическу и подрезать бороду. В иные дни в его кармане было совсем пусто и он не появлялся за столом завсегдатаев в кафе, уклоняясь даже от совместных ужинов с другими молодыми врачами. Он не решался даже просматривать новые издания в книжной лавке. Впрочем, иногда находилось немного деньжат для театра, и тогда он присоединялся к группе университетских друзей, которые с шести часов утра выстаивали в очереди за билетами, дававшими право встать в другую очередь в пять часов вечера у входа в Оперу или в Венский театр за «стоячим» билетом, чтобы затем, взлетев бегом на галерку, пробиться в первые ряды, прямо к балюстраде, и, стоя с пяти часов вечера до полуночи, послушать «Волшебную флейту», «Фигаро» или «Дон Жуана» Моцарта. Еще учась в средних классах гимназии, он копил, порой неделями, карманные деньги, чтобы посмотреть лучшие пьесы немецких авторов в исполнении артистов Национального королевского театра – «Фауста» Гёте, «Вильгельма Телля» Шиллера, «Праматерь» Грилльпарцера. Самым большим подарком для него были те счастливые моменты, когда родители или друзья приглашали его в день рождения на «Гамлета», «Макбета» или «Двенадцатую ночь» Шекспира, отрывки из которых он знал наизусть. В летние месяцы он получал удовольствие от легких комедий и непристойных фарсов в театрах на открытом воздухе, таких, как «Фюрст» в Пратере или «Талиа». Венские театры успешно выполняли роль брачных агентств: прогуливаясь во время продолжительных антрактов, молодые люди присматривались друг к другу, заводили знакомства, начинали ухаживать и завязывать «салонные разговоры», которые вели к приглашениям, дружбе, браку. Зигмунд и его друзья были слишком бедны, и им предстояло еще немало потрудиться на поприще своей профессии, чтобы присутствовать на ярмарке невест. Разодетые и ухоженные молодые люди со всей империи съезжались в столицу, надеясь заключить приличный и выгодный брачный союз. Этот спектакль был не менее интересен, чем то, что разыгрывалось на сцене. Местом светских встреч в Вене было здание Музыкального союза, где в час дня по воскресеньям выступал филармонический оркестр. Зигмунду удалось попасть туда всего раз или два по той причине, что абонемент на концерты считался зачастую самым ценным приобретением, передававшимся от отца к сыну. Владелец абонемента, имевший право на одно и то же место в каждом сезоне, подвергался большему осуждению света за его продажу, чем за отступление от порядочности. Истинные ценители музыки, не имевшие возможности попасть на концерты, жаловались, что половина мест занята «бабскими» Ксантиппами, кои, как утверждала вся Австрия, проспали девять раз на Девятой симфонии Бетховена. Невозможность попасть на концерты филармонии не была в конечном счете катастрофой. Музыка наполняла все уголки Вены: трубили военные оркестры; из театра Ронахера доносились венские популярные марши, исполнявшиеся полковым оркестром «Дейчмейстер»; в Курзале городского парка оркестр исполнял романтические мелодии; в Народном саду можно было послушать Моцарта и Бетховена; в ресторане «Тартенбау» – очаровательные венские вальсы. По вечерам исполнители народных песен развлекали посетителей парков, где продавали вразнос пиво и вино. – Почему бы нам не любить музыку? – спрашивали венцы. – Разве не мы ее выдумали? Большая часть великой музыки мира написана здесь или в окрестных деревнях Моцартом, Бетховеном, Шубертом, Гайдном… Какой другой город может похвастаться таким обилием имен? Вена любила свою музыку. – А почему бы и не любить? – говорили, злословя. – Разве есть лучший способ отвлекать от мыслей? В конце концов Зигмунд оказался в столь бедственном состоянии, что не имел даже крейцера на почтовые марки для писем к Марте. Он редко навещал родителей, ибо не хотел расстраивать их своим потрепанным видом. Да и сама семья переживала трудное время, полки на кухне были пустыми. Пробуждаясь по утрам, Амалия молилась, чтобы посыпалась манна небесная. Зигмунда мучила совесть: ему почти двадцать восемь, он высококвалифицированный профессионал и не может ничего дать семье, ведь она тратит на расходы всего лишь шесть гульденов в неделю, которые приносит Александр. Митци обещали место бонны в Париже, но только летом. Дольфи и Паули также ищут работу. Якоба уговорил двоюродный брат, живший в Румынии, поехать в Одессу, где якобы имеются хорошие возможности. Он вернулся с пустыми руками, совершенно подавленный. В прохладный апрельский полдень Зигмунд случайно встретил отца на Франценринг, между муниципальным парком и зданием Бургтеатра, строившимся уже десять лет. Зигмунд заметил Якоба на расстоянии в полквартала, тот запрятал свой подбородок в воротник тяжелого пальто и шел, слегка шаркая ногами. Зигмунд горячо любил своего отца; всю свою жизнь он неизменно пользовался его теплым вниманием и поддержкой. Он остановился на тротуаре, радостно заулыбался, когда Якоб шагнул прямо в его объятия. Он поцеловал отца в обе щеки, а затем выпалил самую большую ложь, на какую был способен: – Папа, что за чудо тебя встретить. А я иду домой к маме на завтрак, чтобы сообщить тебе приятную новость. Я должен получить приличную сумму. В глазах Якоба мелькнула смешинка: – Зигмунд, твой мизинец, конечно, умнее моей головы, однако тебе следует заниматься медицинской наукой. Таланта на представление сказок у тебя явно нет. – Есть что–то у тебя на будущее, папа? – Конечно. У меня хорошие планы и большие надежды. Зигмунд бегом пересек парк, прошел мимо университета и по Верингерштрассе к больнице. У себя в кабинете он написал письмо единокровным братьям в Манчестер с просьбой высылать Якобу ежемесячно достаточно денег, чтобы сохранить его здоровье и достоинство. Он станет поддерживать Якоба, как только завершит свою подготовку, а пока же это должны делать они… Филипп и Эммануэль прислали крупную сумму. Через несколько дней по вызову вечером он посетил своего старого друга профессора Хаммершлага, который жил с женой и детьми в Брандштетте. Хаммершлаг был учителем Зигмунда в гимназии. После пятидесяти лет работы он вышел на пенсию, скромную, но тем не менее достаточную. Хаммершлаг относился по–отечески к Зигмунду – в университетские годы он ссужал ему небольшие суммы. Поначалу Зигмунд стыдился принимать деньги от скромно живущего человека. Хаммершлаг сказал ему: – В молодости я страдал от бедности. Я не вижу ничего плохого принять помощь от того, кто может ее оказать. Йозеф Брейер, также помогавший Зигмунду, согласился со сказанным. Зигмунд ответил: – Хорошо, полагаю, что могу быть в долгу у хороших людей и людей нашей веры, не стыдясь. Флейшль, услышав об этом, тоже пытался ссудить Зигмунду деньги и тем не менее вспылил: – Это что еще за узость взглядов? Ты хочешь быть в долгу у хороших людей своей собственной веры. Неужто деньги имеют вероисповедание? Разве есть различие между долгом еврея и долгом католика? Когда станешь преуспевающим врачом, разве ты откажешься ссудить деньги нуждающемуся студенту–христианину? Да, не откажешься! Зиг, у тебя осталось меньше пережитков гетто, чем у какого–либо иного еврея, а я работал с лучшими из них. Предрассудки словно путы. Ты отказываешься подчиняться внешним проявлениям своей религии, но где–то в глубине сознания все еще продолжаешь делать оскорбительные различия. Ты просто должен смести остатки тех стен. – Ты прав, Эрнст. Я попытаюсь, – задумчиво сказал Зигмунд. – И спасибо тебе за ссуду. Хаммершлаг зачесывал свои редкие белесые волосы на лоб, оставляя открытыми мягкие глаза талмудиста и короткий нос; нижнюю часть лица обрамляли белые усы и борода. – Зигмунд, моему сыну Альберту нужна помощь в клинической школе. У него сложности в одной или двух областях. Не сможешь ли ты сделать что–нибудь для него? – Конечно. Пусть приходит ко мне между пятью и шестью часами вечера. Я подтяну его там, где он слаб. – Я знал, что скажешь именно так. Но я просил тебя прийти по другой причине. Богатый знакомый дал мне пятьдесят гульденов для нуждающегося достойного молодого человека. Я упомянул твое имя, и он согласился, что этим человеком должен быть ты. Зигмунд прошел в другой угол комнаты, рассеянно посмотрел на обветшавшую мебель Хаммершлага. Каким образом до профессора Хаммершлага дошло то, что он в отчаянном положении? И каким образом может человек выкроить пятьдесят гульденов из своей скромной месячной пенсии? Это акт невероятной доброты. – Профессор Хаммершлаг, не скрою, что нуждаюсь в деньгах. Но принять их я не могу. Хаммершлаг втиснул банкноты в руку Зигмунда: – Используй это. Облегчи свои тяготы. У Зигмунда запершило в горле: – Вы знаете, профессор, я должен отдать их моей семье. – Нет! Я против этого. Ты много работаешь и не можешь позволить себе помогать другим людям. – Затем Хаммершлаг уступил: – Ладно, отдай половину семье. Бывали времена, когда Зигмунду казалось, что, возможно, астрологи и правы: в определенные периоды планеты создают помехи и все идет из рук вон плохо, затем по причинам, которые невозможно определить, все меняется. К нему прислали студента для прохождения полного курса анатомии мозга. Было сказано, что студент хорошо заплатит, если доктор Фрейд сумеет уложиться в четыре недели. Друг прислал ему пациентку – продавщицу фруктов из магазина «Три ворона», страдавшую от непрерывного шума в ушах. Зигмунд договорился, что доктор Поллак обследует ее, чтобы убедиться в отсутствии органических пороков, после чего была применена электротерапия. Шум прибора, возможно, вытеснил шум в ушах, и женщина вернулась домой излечившейся. На следующее утро она принесла корзинку фруктов для господина доктора. Из Института психологии от Иосифа Панета пришла весточка. Он хотел бы навестить его вместе с Софией, на которой женился шесть месяцев назад; они придут на ланч в следующий полдень, принесут немного сандвичей и пирожков. Не мог бы Зигмунд сварить к этому времени кофе? Свадьба Панета прошла хорошо; после венчания был дан обед в ресторане «Ридхоф»; оркестр играл вальсы, гостей развлекали лучшие певцы, танцоры и акробаты, которых смог найти Иосиф. Ему не нужно было прикидываться бедняком. У него была приятная жена, их дом всегда был открыт для друзей, и они хотя бы раз в неделю могли наслаждаться хорошей пищей, напитками и сигаретами. Фрау Панет начала приобретать Иосифу лучшие шерстяные костюмы, сорочки и ботинки. Дни жизни Иосифа как отшельника остались позади. Зигмунд не преминул заметить, как хорошо он выглядит. – К своему удовольствию, я обнаружил, что моя жена умнее меня! – воскликнул Иосиф. – Послушай, какую чудесную мысль она высказала. Софи, покажи Зигу банковский счет. Фонд Зигмунда Фрейда. Мы положили на твое имя в банк тысячу пятьсот гульденов. Проценты за год составляют восемьдесят четыре гульдена, это позволит тебе посетить Марту. Зигмунд смотрел на друга ничего не понимающими глазами. – Иосиф, Софи, что вы говорите?… Тысяча пятьсот гульденов в банке на мое имя? И я могу использовать проценты для поездки в Вандсбек?… Иосиф усмехнулся: – О, никаких ограничений. Тысяча пятьсот гульденов твои и могут быть использованы в любых целях. Если хочешь, женись хоть сейчас, деньги – твои. Если хочешь основать здесь, в Вене, частную практику или удрать в Америку, деньги тоже твои. – Иосиф, это сказка Ганса Христиана Андерсена! Его руки дрожали. Он пролил кофе на скатерть, и София отобрала у него кофейник. – Я получил свидетельство дружбы, – бормотал он. – Может быть, мне удастся сделать пусть скромное добро в. ответ. Но такая щедрость! Мои внуки до седьмого колена будут благословлять вас. Когда чета Панет ушла, Зигмунд взял банковскую книжку – первую, которую он когда–либо держал в руках, – и положил ее на стол рядом с фотографией Марты. Он решил, что, как бы туго ни было, тратить деньги на текущие нужды он не будет. Проценты будет снимать так часто, как позволит банк, и отдавать родителям. Но основная сумма должна храниться для самой неотложной цели: либо для женитьбы, как говорила София, либо, как сказал Иосиф, для открытия частной практики. Планеты и впрямь вращались по–новому. Игнац Шёнберг также получил приятное известие. Профессор Монье Уильямс пригласил его в Оксфордский университет для совместной работы над новым Санскритским словарем. Он предложил гонорар в 150 фунтов стерлингов и обещал поставить имя Игнаца на титульном листе как соавтора. Последнее было важным для получения звания профессора университета. Радостные известия ждали сестер Бернейс. Тем временем потоки больных продолжали поступать в отделение нервных заболеваний Шольца, хирургическое отделение Бильрота, отделение внутренних болезней Нотнагеля, психиатрическое отделение Мейнерта и кожное отделение фон Цейсля. Женщина тридцати лет упала с лестницы и ударилась головой о камень. Ее доставили в больницу без сознания. К Зигмунду она попала спустя два часа, из левого уха текла кровь. Он поставил диагноз: сотрясение мозга с повреждением черепа, трещина прошла по височной кости, порвана барабанная перепонка. Разумнее всего было бы не трогать ее. Она очнется, по–видимому, в этот же вечер. Нужно лишь не допустить развития инфекции оболочки мозга. Он сумеет через четыре дня отправить ее домой. Он так и сделал, хотя головная боль сохранилась и она оглохла на левое ухо. Для следующего пациента – бухгалтера – ему понадобился совет доктора Карла Коллера из глазного отделения: пациент жаловался на головные боли, а также на то, что не видит цифры на правой стороне страницы. Когда же он смотрит прямо перед собой, то левая сторона видимого поля окутана дымкой. Коллер держал свои руки сбоку и сзади головы мужчины, затем принялся медленно выдвигать их вперед. Первой вошла в поле зрения пациента правая рука доктора, а затем, когда правая была еще близка к пациенту, – левая. Из работ по вскрытию черепа для исследования мозга Зигмунд знал, где может находиться опухоль: в мозгу между оптическими нервами. Мужчина ослепнет через год – пять лет. Ему нельзя помочь, но бесполезно и держать его в больнице, разве что довести до конца историю болезни. Больному был дан совет подыскать такую работу, которая не связана с напряжением для глаз. Изо дня в день поступали пациенты с амиотрофиче–ским боковым склерозом, страдающие неуклюжестью при ходьбе и нарушением координации движений; с церебральными тромбозами, когда оказывалась парализованной та или другая сторона тела; с расстройствами в согласованности движений; с прогрессирующей атрофией мускулов, когда постепенно исчезали, рассасывались мускулы; с рассеянным склерозом, сопровождавшимся конвульсиями; с инсультами и инфарктами; со свинцовым отравлением; с опухолями в мозгу; с менингитом; больные, которые непроизвольно дергались, дрожали и падали; пациенты с ишиасом, грыжами, с потерей чувствительности. Наиболее трудной задачей для врачей отделения нервных заболеваний было ослабление боли. В их распоряжении были водные растворы бромидов, хлороформ, опиум. Зигмунд поставил перед собой задачу пройти курс фармакологии, изучить историю создания лекарств, их физиологические свойства и лечебное применение. Доставлялись больные истерией, все – женщины, поскольку слово «истерия» происходит от греческого слова «хистер», что значит «матка». У мужчин нет матки, и посему они не могут быть истериками. Ранние медицижкие книги утверждали, будто матка перемещается в женщине и это вызывает различные болезненные вспышки; лечение сводилось к тому, чтобы вернуть матку на должное место. Зигмунд вспомнил случай с женщиной, которой доктор Поллак сделал впрыскивание воды. Однако он обнаружил, насколько обманчива болезнь. Он поставил в одном случае диагноз истерии, а когда пациентка умерла, вскрытие показало наличие рака. Истерия существовала бок о бок с фатальной болезнью. Он рассуждал: «Пусть это будет для меня предупреждением никогда не упрощать! Одна болезнь может скрывать другую, а та, возможно, и третье осложнение». Исследования в этой области казались столь же важными и увлекательными, как и работа в лаборатории Мейнерта.6
Он натолкнулся на проблему случайно, когда прочитал декабрьский выпуск «Германского медицинского еженедельника» со статьей доктора Теодора Ашенбрандта об опытах над баварскими солдатами во время осенних маневров. Статья называлась «Физиологическое воздействие и значение кокаина». Некоторые фразы бросались ему в глаза: «…подавление голода…, увеличение способности выносить напряжение… усиление умственных способностей». Доктор Ашенбрандт сообщал о шести случаях. Зигмунд с большим интересом вчитывался в текст: «На второй день марша было очень жарко, солдат Т. упал в обморок от истощения. Я дал ему столовую ложку воды, содержавшей двадцать капель гидрохлористого кокаина (0,5:10). Через пять минут Т. поднялся без посторонней помощи, продолжил марш в несколько километров до пункта назначения и, несмотря на тяжелый ранец и летний зной, по прибытии выглядел свежим и бодрым». Он прочитал описание пяти других случаев, задавая себе вопросы и стараясь найти ответы. Возобновленная энергия солдат появилась за счет их собственного резерва силы или же двадцать капель кокаина создали совершенно новую силу? Какие свойства кокаина обеспечивают выдержку? На память пришла статья на ту же тему, которую он прочитал за месяц до этого в «Детройтской терапевтической газете». Он пошел в читальню, нашел номер этой газеты в большой стопке и взял его домой для изучения. Взглянув на часы, лежавшие перед ним на столе, он обнаружил, что еще есть время побывать в библиотеке Генерального бюро военврачей. По каталогу нашел статью «Эритроксилум кока», содержавшую библиографию литературы о кокаине. Затем вернулся в лабораторию физиологии. Эрнст Флейшль дал ему рекомендацию и записку в Медицинское общество, имевшее хорошую библиотеку, взяв на себя личную ответственность за книги, которыми будет пользоваться доктор Фрейд. Сведения, собранные из разных источников, оказались ошеломляющими. «В самом деле, – думал Зигмунд, – в это трудно поверить». В серии статей из Лимы, столицы Перу, говорилось о том, что на протяжении всей жизни индейцы применяют коку в качестве стимулирующего средства без вредных последствий; они жуют листья этого кустарника при трудных переходах, когда занимаются сношениями с женщиной. Если требуются большие и длительные усилия, то обычную дозу увеличивают. В. Паласиос утверждал, что «за счет употребления коки индейцы способны совершать переходы, длящиеся сотни часов, и бежать быстрее лошади без признаков усталости». В статьях Чуди приводился случай: мулат был способен работать день и ночь на выемке грунта в течение пяти суток и при этом спал не более двух часов ночью, употребляя только коку. Гумбольдт писал, что во время его путешествий по экваториальным странам подобное он встречал на каждом шагу. Были сообщения и о том, что принимаемый в излишних количествах кокаин может вести к расстройству желудка, вызывать истощение и апатию; по сути дела многие симптомы были сродни симптомам алкоголизма и морфинизма. Однако такое, не наблюдалось, если наркотик употреблялся в умеренных дозах. Еще более поразили Зигмунда сообщения, относящиеся к 1787 году, о благотворном воздействии коки на психически больных. Иезуит Антонио Хулиан сообщал об ученом–миссионере, который избавился от тяжелой ипохондрии; Мантегацца утверждал, что кока весьма действенна для устранения функциональных расстройств, вызванных неврастенией; Флисбург писал, что применение коки существенно помогает в случаях нервной прострации; Колдуэлл писал в «Детройтской терапевтической газете», что кока эффективно действует как тоник при истерии; итальянцы Морзели и Буккола проверили наркотик на группе меланхоликов, осуществляя подкожное вливание, и отметили «улучшение у своих пациентов: они повеселели и стали принимать пищу…». Зигмунд принялся размышлять: а не могла бы кока пополнить набор психотропных медикаментов? Ухаживая за пациентами под руководством Мейнерта, он располагал неплохим набором лекарств, снижающих возбуждение нервных центров, однако ни он, ни другие врачи не применяли лекарства, которые улучшали бы ослабленное функционирование нервных центров. Сидя в библиотеке Общества врачей над статьями, он нашел доказательства, что кока эффективна не только при истерии и меланхолии, но и при ипохондрии, подавленности, оцепенении, встревоженности, страхе. И если все это верно, то тогда можно найти и другое важное применение для наркотика, который еще никто не исследовал? Каким образом можно проверить накопленные сведения? Разрешит ли ему профессор Мейнерт испытать наркотик на больных психиатрической палаты? Позволит ли профессор Шольц дать это средство страдающим нервными заболеваниями? Лекарство, как он узнал, зайдя в аптеку Гаубнера, стоило дорого. Профессор Мейнерт не разрешит ему проверить наркотик на своих пациентах; профессор Шольц не потратит ни крейцера на лекарство. Очевидно, если он намерен испытать новое средство, то самому придется стать и подопытным кроликом и казначеем. Он написал компании «Мерк» в Дармштадт, которая снабдила Ашенбрандта кокой для его опытов, и заказал образцы. То, что он получил за репетиторство с двух студентов, помогло покрыть расходы. Когда прибыли по почте образцы, он положил их на стол, и они лежали там до тех пор, пока у него не появилась легкая депрессия из–за усталости. Он смешал пять сотых грамма гидрохлористого кокаина с водой и, получив однопроцентный раствор, выпил его. Затем, не раздеваясь, растянулся на кровати в ожидании эффекта. Через некоторое время испытал чувство веселья, облегчения и легкости. Он встал, подошел к письменному столу. Губы и нёбо поначалу были как бы обметаны, а затем появилось ощущение теплоты. Он выпил стакан холодной воды, которая казалась теплой на губах, но холодной в горле, и набросал строчку: «Настроение, создаваемое кокой в таких дозах, вызвано не столько прямой стимуляцией, сколько устранением в общем ощущении благополучия элементов, вызывающих депрессию». В последующие часы возбуждение достигло такой степени, что он не мог уснуть. У него не было ни чувства голода, ни усталости, а лишь желание интенсивных умственных усилий. Выбрав наиболее сложные по содержанию книги, он начал анализировать трудный для понимания материал. Несколько часов работал с душевным подъемом и при ясном уме, затем действие наркотика стало постепенно ослабевать. Взглянув на часы, он обнаружил, что уже два часа утра, разделся, вымыл руки и лицо, лег в постель и уснул. Проснулся в семь утра легко, без чувства усталости, встал, подошел к столу, чтобы определить число написанных от руки страниц и объем обработанного текста. «Что это – влияние коки? – спросил он сам себя. – Мог ли я сделать то же самое без наркотика?» Однако, поскольку он находился в состоянии депрессии до приема наркотика, мог ли он заставить себя сесть за работу вообще? В последующие недели Зигмунд несколько раз принимал ту же дозу кокаина. И ни разу она не подвела его. Он записал, что благодаря коке достигал состояния «веселья и длительной эйфории, не отличающейся ничем от нормальной эйфории здорового человека». Он замечал развитие самоконтроля, жизненной силы и работоспособности; трудно было поверить, что он находился под влиянием наркотика. Он выполнял интенсивную умственную работу, не чувствуя усталости; аппетит сохранялся хорошим, хотя и было отчетливое ощущение, что нет необходимости в пище. У него не возникало тяги к дальнейшему употреблению кокаина, скорее он чувствовал некоторое необъяснимое отвращение к нему. После дюжины опытов он решил сообщить о результатах Йозефу Брейеру. Брейер работал в своей лаборатории наверху. Узнав, чем занимался Зигмунд, он отложил в сторону свои занятия. Когда Зигмунд закончил свой рассказ, он спросил тихо Брейера: – Йозеф, не думаешь ли ты, что мы могли бы попробовать это на Флейшле? У меня с собой описание ряда случаев, когда люди отказывались от морфия, заменяя его кокой. – Что ты рассказал Флейшлю? – Ничего. Он знает, что я читал, поскольку он дал мне рекомендательное письмо в Общество врачей. Но я не раскрывал ему характер моих опытов. Йозеф сощурил глаза, словно это помогало яснее увидеть истину, затем покачал головой с некоторой опаской. – А как быть с привычкой к кокаину? – Индейцы Перу употребляют его всю жизнь. Это, конечно, привычка, но она, по–видимому, не причиняет им вреда. Эрнст непрерывно увеличивает дозу морфия. Не стоит ли сделать попытку? Когда они пришли к Флейшлю, тот корчился от боли. Его глаза были налиты кровью, руку сводила судорога. Зигмунд рассказал о своих экспериментах с кокой. Флейшль был в восторге. Зигмунд высыпал пять сотых грамма кокаина в стакан воды. Флейшль выпил. Они сидели молча в кабинете. Через некоторое время Флейшль почувствовал ослабление боли. Его глаза просветлели, он поднял голову, начал ходить по комнате. – Зиг, Зиг, думаю, что ты нашел. Думаю, что это будет действовать. Я знаю, что принимал слишком много морфия, но я не могу сдерживаться, когда этот палец гноится и мучает меня. Йозеф Брейер сказал: – Мы знаем, что ты страдаешь, Эрнст. Но кока проверена лишь частично. Мы должны проявлять большую осторожность. – Буду делать так, как ты скажешь, Йозеф. Зиг, ты можешь достать коку для меня? – Да, я уже говорил с управляющим аптеки Гаубнера. Это будет чуть–чуть дороже, чем заказывать у Мерка. Раз в день Зигмунд, Брейер или доктор Оберштейнер, управляющий психиатрического санатория в Обердеб–линге, тоже друг Флейшля, давали Эрнсту порцию коки, неизменно придерживаясь нормы – пять сотых грамма. Они не давали ему наркотик поздно вечером, потому что после приема лекарства он не спал большую часть ночи. Флейшль возмущался: – В чем дело? Я чувствую себя хорошо, я могу читать и заниматься опытами, могу писать. В противном случае я себя чувствую плохо и все равно не могу спать. Не прошло и недели, как все рухнуло. Во второй половине дня Зигмунд поднялся по лестнице и постучал в дверь Флейшля. Ответа не последовало. Он продолжал стучать. За дверью послышался какой–то звук, но он не смог понять, что это. Он побежал за помощью в лабораторию физиологии. Вместе с ним пришел Экснер. Были вызваны Йозеф Брейер и Оберштейнер. Взломав дверь, они нашли Флейшля нa полу в полубессознательном состоянии. Они раздели его и поместили в теплую ванну, и он стал медленно приходить в себя. Флейшль и его друзья были потрясены случившимся. Зигмунд ушел лишь тогда, когда получил второй ключ от квартиры. Он передал ключ Оберштейнеру, который обещал наведываться после полудня, по окончании работы в больнице. Зигмунд и Брейер пошли домой, когда уже занималась заря. У колбасника, торговавшего вразнос, они купили горячие сосиски и булочки и жадно поглощали их, неожиданно вспомнив, что остались без ужина. Шедший впереди них фонарщик длинным шестом открывал дверцы фонарей и закрывал газ. Рынок «Ам Хоф» уже работал, первые покупатели требовали самого лучшего товара, тогда как крестьянки пили горячий чай, чтобы согреться. Прошел маляр с лестницей и тележкой на небольших колесах, с ведром готовой краски, чтобы обновить рекламные щиты. Дворники поливали мостовые из бочек, установленных наклонно на запряженных лошадьми повозках. Из ярко освещенных кафе выходили элегантно одетые мужчины в высоких цилиндрах и плащах, зевая после весело проведенной ночи. – Я в растерянности, – настаивал Брейер. – От боли он не должен быть в таком состоянии… Не получает ли он откуда–нибудь коку? Может быть, от Гаубнера? – Я проверю, как только откроется аптека. Новости оказались печальными. Флейшль покупал большие количества коки и тайком принимал наркотик. Так ли уж безопасна кока, как утверждается в литературе? Что считать сверхдозой? Очевидно, опасность существует. Зигмунд не держал в секрете свои опыты. Он рассказал о полученных им данных своим коллегам, некоторые из них попробовали принять наркотик и подтвердили, что он создает ощущение сытости, снимает усталость и придает достаточно силы для длительной ходьбы. Иосиф Поллак рассказал об успешном применении наркотика для контроля за слизистой мембраной и мускульной системой желудка. После случившегося Флейшль уменьшил дозу. Сам Зигмунд продолжал принимать рекомендованные дозы, когда чувствовал, что переутомился; несколько доз он дал своей сестре Розе, а также послал Марте, которая подтвердила, что наркотик помогает ей при стрессах. Брейер советовал быть осмотрительным, и вера Зигмунда в кокаин восстановилась. У него появились основания считать, что кокаин помогает при рвоте, катаре желудка, а также снижает боль при трахоме и кожных инфекциях. Он дал некоторое количество наркотика своим друзьям Карлу Коллеру и доктору Леопольду Кенигштейну, высказав предположение, что они могли бы применять коку для ослабления боли при не поддающихся операции заболеваниях глаз. Собрав весь накопившийся материал, он написал на двадцати шести страницах статью о коке, которая была опубликована в «Центральном журнале общей терапии». В этой статье он обобщил изученный им на пяти языках печатный материал, сделал ссылки на авторитеты и представил достоинства наркотика для лечения желудочных расстройств, диспепсии, анемии, лихорадки, сифилиса, привычки к морфию и алкоголю, импотенции… Если хотя бы половина этого удивительного потенциала была бы реализована, он обрел бы имя и славу. Он писал Марте: «Нам нужна всего одна такая удача, чтобы начать думать о собственном доме». Мать Игнаца Шёнберга почувствовала острое сердечное недомогание. Зигмунд использовал время, свободное от больницы, для ухода за ней. Он добился ее поправки. Игнац уехал в Англию, так и не попрощавшись: его смущало то, что братья не оплатили, по сути дела, символический счет Зигмунда. Когда же после изрядного промедления были присланы шестьдесят гульденов, Зигмунд купил электрический аппарат для массажа, выкроил десять гульденов для Марты на покупку вязаного жакета, о котором она мечтала.7
Летний зной 1884 года угнетал Вену, ее улицы опустели, жители старались выехать семьями из города. Зигмунд навестил своего парикмахера, попросив остричь покороче и подрезать бороду так, чтобы осталась лишь узкая полоска. Он заказал легкий костюм у Тишера, обшивавшего большую часть молодых врачей больницы. Прошел год, как фрау Бернейс вместе со своими дочерьми уехала в Германию. Брейер предложил Зигмунду пациента, страдавшего острым неврозом, готового заплатить доктору тысячу гульденов, если тот отправится в путешествие с ним на целое лето. Коллеги советовали принять предложение, но Зигмунд отказался; он не намерен быть братом милосердия при лунатике. Кроме того, ему нужен еще месяц для работы в лаборатории Мейнерта и для исследования коки. Примариус Шольц ушел в отпуск, передав руководство отделением доктору Морицу Ульману, который был назначен в четвертое отделение вскоре после прихода туда Зигмунда. Когда в Черногории вспыхнула холера, по больнице распространилось известие, что крайне необходимы врачи. Поллак и Ульман, услышав об этом, немедленно вызвались добровольцами, а затем вместе явились в комнату Зигмунда, застав его в тот момент, когда он увлеченно писал о своих экспериментах по определению реакции на воздействие коки. Поллак, трудяга и серьезный человек в палате, в компании друзей любил шутки. Он встал перед Зигмундом, церемонно щелкнул каблуками, отвесил поклон и воскликнул: – Господин доктор, примариус, профессор Фрейд, мы пришли поздравить вас. Министр образования только что произвел вас в суперинтенданты четвертого клинического отделения. Зигмунд смотрел на него со слегка открытым ртом. Он привык к выходкам Поллака, но тут никак не мог сообразить. – Когда я удостоился этой великой чести, господа? Ульман вмешался с усмешкой: – Это случилось десять минут назад. И мы доставили вам сообщение об этой выдающейся чести. – Довольно, клоуны, что это все значит? – Это не шутка, Зиг, – сказал Поллак. – Ульман и я, мы вызвались выехать в Черногорию. Там эпидемия холеры. Там нуждаются во врачах, которых может направить Вена. – Хорошо, я присоединяюсь к вам. – Вы не можете, господин советник, – воскликнул Поллак. – Вы должны следить за хозяйством. Вас некем заменить. Мы привезем вам сувениры. Как исполняющий обязанности руководителя четвертого клинического отделения, Зигмунд быстро приобретал уверенность. И ранее у него были пациенты, за которых он отвечал, но решающая ответственность лежала либо на Шольце, либо на Поллаке. Отныне он нес всю ответственность не только за прием больных, диагноз и способы лечения, но и за использование финансовых средств для обеспечения продовольствием, закупки лекарств и оборудования. Возбужденно шагая по палатам в роли примариуса, он рассуждал: «Теперь я впервые действительно почувствовал, что значит быть врачом в больнице». Каждые несколько минут приходилось принимать решения, касающиеся жизни и смерти: принять в больницу этого пациента, отказать другому, отослать третьего домой, потому что еще один нуждается в госпитализации. Он командовал ста тринадцатью койками, а бывали моменты, когда в них пытались уложить пятьсот пациентов с различными травмами, припадками, опухолями, а также со спинномозговым параличом. Койки уже стояли гораздо ближе друг к другу, чем предписывали инструкции и господин доктор Шольц. Иногда лишь к трем часам утра ему удавалось добраться до постели. Как младший «второй врач», он мог спать до семи утра, как примариус, он должен был быть на ногах в шесть. Но даже когда он валился с ног, у него мелькала мысль: «Йозеф Брейер и Натан Вейс были правы. Господин доктор Фрейд, наконец–то вы становитесь невропатологом». В конце августа вернулся примариус Шольц, и теперь Зигмунд мог взять отпуск и осуществить давно намечавшийся визит к Марте. Она встретила его на вокзале в Гамбурге, махая рукой, пока бежала по перрону мимо потока прибывавших пассажиров. Он поставил свой чемодан, обнял ее, а затем прошептал на ухо: – Я писал тебе, чтобы ты не встречала меня на станции, если не готова поцеловать меня при всем честном народе. – Я не могла позволить тебе приехать в Гамбург, не встретив тебя на вокзале. – Марта, Марта, как приятно слышать вновь твой голос! Она наняла экипаж для поездки в Вандсбек, что в пяти милях от Гамбурга; извозчик поджидал их около вокзала у выхода. Они сели, взявшись за руки, и откинулись на кожаное сиденье. Четырнадцать месяцев – немалый срок в жизни молодого мужчины и женщины. Он держал ее на расстоянии, разглядывая ее лицо. Оно стало еще изящнее, чем осталось в его памяти; ее глаза светились радостью. На ней было шелковое летнее платье. Его старый серый костюм и белая сорочка были помяты, со следами паровозной копоти. – Дорога была хорошей? Я отсчитывала каждый час с момента твоего выезда из Вены. – Ты знаешь, что я, как и Александр, помешан на поездах. Нашла ли ты мне комнату? – Да, но не мансарду, как ты просил. Друзья на Кеденбургштрассе сдают в аренду комнату с видом на Эйхталепарк. Она тебе понравится. Плата невысокая. – Ты умница. Пригород Гамбурга Вандсбек показался очаровательным. Комната, в которой его поместили, была оклеена кремовыми обоями с россыпью желтых маргариток. Марта ждала его в гостиной, пока он вымылся, сменил сорочку и надел новый костюм. Затем, пройдя пешком короткое расстояние, отделявшее их от дома, который арендовала фрау Бернейс на Штейнпильвег, они прошли в скромный коттедж, обставленный мебелью; Зигмунд помнил ее еще по Вене, включая особенно уютное коричневое кресло и лежащие около него подушечки для ног: в нем он и Марта провели немало счастливых часов. Зигмунд не ощущал радости по тому поводу, что вновь увидит фрау Бернейс. Но, войдя в дом. он заметил, что она похудела и изнурена затянувшейся болезнью. Вся антипатия исчезла, ее место заняли угрызения совести и сочувствие. Он шагнул навстречу, сказал: «Боже мой! Как рад увидеть вас вновь, мама!», наклонился и поцеловал руку. Он спросил, как она себя чувствует, а затем сказал озабоченным голосом: – Позвольте мне прописать вам специальный тоник и понаблюдать за вами, пока я здесь. Я полагаю, что становлюсь достаточно хорошим врачом. Фрау Бернейс также готовилась к прохладной встрече, возможно, даже к ссоре. Но интерес Зигмунда к состоянию ее здоровья сломал неприязнь. – В этом я никогда не сомневалась, – ответила она с большей нежностью, какую он когда–либо слышал в ее голосе. – Меня лишь заботило, сколько времени на это уйдет. Мне известно, что твой друг доктор Эрнст Флейшль помолвлен с бедной девушкой уже десять или двенадцать лет. Но теперь я знаю также, как глубоко любит тебя Марта. Будем союзниками, Зиги. Когда она вышла из комнаты, Марта наклонилась и поцеловала его в лоб: – Спасибо. Теперь ты видишь, как важно поддерживать мир в семье? Несостоявшаяся ссора – это уже победа. – Согласен, фрейлейн Аристотель. Твоя логика безупречна. Вошла Минна, ее широкое лицо расплылось в улыбке. Обхватив более щуплого Зигмунда медвежьим объятием, она сказала: – Рада видеть тебя. Выглядишь замечательно. Скажи–ка, как поживает мой Игнац? Получал ли письма из Оксфорда? Он мне не пишет, как себя чувствует. Он процветает на своей работе?… – Уа, уа, сестренка, ты не должна погонять меня, как лошадь в упряжке. Сейчас узнаешь о нашем Игнаце. Он хорошо трудится над словарем. Вскоре станет зарабатывать три тысячи гульденов в год, необходимых тебе, чтобы выйти замуж. Минна сделала тур вальса по гостиной, а затем обхватила их своими мощными руками и поцеловала обоих в щеки. По утрам они прогуливались по окрестному лесу, по еще свежей росе на траве под мягким сентябрьским солнцем, пробивавшимся сквозь листву. Марта надевала свободное коричневое платье для прогулок и шляпу с широкими полями. Зигмунд заметил: – Здесь все настолько зелено, что твои глаза мне кажутсяизумрудными. Пратер похож на рай, но там всегда вокруг не менее сотни людей. Роща же Вандсбека прекраснее, потому что мы в одиночестве, как Адам и Ева… Они спокойно рассуждали о будущем, в одиннадцать часов завтракали в маленькой харчевне на открытом воздухе под деревьями. Это не был венский завтрак «с вилкой», в который обязательно входил гуляш, здесь официантка приносила свежеиспеченный хлеб, сливочное масло, пирожок и молоко. После этого они отправлялись домой, останавливались, собирая по пути последние осенние цветы, а в полдень возвращались к обеду, приготовленному фрау Бернейс и Минной, которая объявила, что Марта не должна заниматься домашним хозяйством, «пока Зиги здесь». Во второй половине дня они ездили на конке в Гамбург за рубашками, которые, по утверждению Якоба, здесь были лучше, чем в Вене, или же глазели на витрины мебельных магазинов, где была выставлена столовая мебель из красного дерева, кресла и диваны для гостиной, спальни с высокими спинками, украшенными резьбой. Гамбургская мебель была скучнее венской. – У нее такой вид, словно она создана для нескольких поколений, – заметил он. – О, это так, – согласилась она. – Гамбургские семьи покупают один дом и обставляют его так, чтобы хватило на столетие. – Когда я посетил Электровыставку в Вене в прошлом году, там была серия комнат, освещенных электричеством и обставленных мебельным магазином «Ярей». Я был в восторге, предвкушая, как радовалась бы ты таким красивым вещам. Потом я понял, что можно быть несчастным, сидя на уютном диване модной формы, и счастливым – в изношенном кресле. Жена всегда должна быть самым дорогим украшением дома. Она рассматривала его отражение в стекле витрины. – Зиги, ты думаешь, что ты прирожденный ученый, верящий только в то, что поддается измерению. Не совсем так, мой дорогой. Ты поэт. В середине месяца их прогулкам помешали два дождливых дня. Они проводили время в уютной гостиной Бернейсов, читая вслух стихи Гейне и романы, в том числе «Ярмарку тщеславия» Теккерея. Зигмунд отдыхал после года напряженной работы в палатах и лабораториях больницы. Он наслаждался каждой минутой, проведенной с Мартой. Целый день они гуляли вдоль бурлящих доков и каналов Гамбурга. Он рассказал ей о полученном им предложении сопровождать больного пациента Брейера за границу. – Гонорар в тысячу гульденов, конечно, большой. Ты мог бы использовать деньги на десятки полезных дел, – заметила она. – Да, но это задержало бы мою работу на три месяца и на столько же отложило нашу свадьбу. – Я тебе мешаю, – сказала она. Он взял ее за плечи и потряс. – Моя любимая девочка, ты должна выбросить такие мрачные мысли из головы. Ты знаешь ключ к моей жизни, я могу работать только тогда, когда меня пришпоривают большие надежды, связанные с тем, что представляется крайне важным для моего рассудка. До встречи с тобой я не знал радости в жизни, а сейчас, когда ты в принципе моя, полное обладание тобой есть мое требование к жизни, ибо без него я бы не придавал ей значения. Я упрям, готов идти на риск и люблю, когда мне бросают вызов. Я сделал ряд вещей, которые любое разумное существо посчитало бы поспешными, например занялся наукой, будучи бедным, затем, будучи бедным, пленил несчастную девушку, но это и есть мой образ жизни: рисковать, надеяться, работать. С точки зрения среднего буржуа, я давно потерянный человек. Она вложила свою руку в его, в ее глазах блеснули слезы. Наконец он счел возможным рассказать ей о субсидии, которую выделяет на поездку медицинский факультет из фонда, основанного ректором и консисторией университета в 1866 году. – Субсидия составляет шестьсот гульденов, двести сорок долларов, – объяснил он, – и выдается «второму врачу» больницы, который, по мнению медицинского факультета, может с наибольшей пользой потратить ее. Это возможность поехать в любую страну и пройти стажировку у крупнейшего специалиста в своей области. Получить субсидию – это все равно что получить почетную степень. – И ты думаешь, Зиг, что у тебя есть шанс? – Пока только слухи. Если я выиграю, то хотел бы поехать в Париж и поучиться в больнице Сальпетриер у профессора Шарко. Он практически без всякой помощи, в одиночку разработал современную неврологию. – Он посмотрел на нее с опаской и продолжал: – Это означало бы, что я проведу еще год в Городской больнице, затем во время отпуска навещу тебя и после этого отправлюсь в Париж. Марта закрыла глаза, оперлась подбородком на сложенные руки, словно читая молитву. – Какая прекрасная мечта. Вот бы она осуществилась.8
Первым, кого он увидел, проходя по двору четвертого отделения после возвращения из Вандсбека, был доктор Карл Коллер. Двадцатисемилетний Коллер был, по сути дела, единственным гладковыбритым мужчиной в больнице; на коротко остриженной голове оставались два зачесанных вперед завитка. Единственной уступкой венским условностям были длинные тонкие усы, концы которых небрежно задирались вверх. У него было открытое, доброе лицо, которое резко контрастировало с его колючим характером. Он был раздражительным, резким, придирчивым. – Карл, что ты делаешь здесь, в моей епархии? Не перешло ли к нам глазное отделение? Коллер крикнул: – Нет, глазное отделение перехватило ваше. Зигмунд снял верхнюю одежду и обувь, сунул ноги в тапочки. Описывая по комнате круги, Коллер говорил: – Зиг, я обязан тебе всем. Ты помнишь, как ты демонстрировал воздействие кокаина на нас и дал каждому некоторое количество наркотика? Ты обратил внимание на онемение во рту. И вот, находясь в лаборатории профессора Штрикера, я обнаружил в кармане пузырек со следами белого порошка. Я показал пузырек профессору и его ассистенту доктору Гертнеру, сказав: «Надеюсь, по существу ожидаю, что этот порошок анестезирует глаз». Штрикер спросил: «Когда?» Я ответил: «В любой момент, когда мы начнем эксперимент». Гертнер спросил: «А почему бы не сейчас?» Он принес большую живую лягушку и держал ее, пока я разводил в воде коку. Я капнул раствор в ее глаз, и мы проверили иглой реакцию роговицы. Зиг, клянусь тебе, через секунду наступил великий момент: лягушка позволила трогать роговицу, даже проколоть ее без малейших признаков непроизвольной реакции или попытки защититься. Ты можешь представить наше возбуждение. Мы взяли кролика и собаку и капнули кокаином в их глаза. После этого можно было делать что угодно с глазами, используя иглу и нож, не причиняя животным боль. Зигмунд сел, уставившись на своего друга. – Боже мой, да, конечно, Карл. Если кокаин замораживает язык, он анестезирует и глаз. – Следующим нашим объектом стал человек. Мы не осмеливались испытать на каком–либо больном в палате, поэтому накапали раствор под веки друг другу. Затем мы поставили перед собой зеркало и коснулись роговицы булавкой. Почти одновременно мы закричали: «Ничего не чувствую!» Зиг, поверишь ли ты, мы могли бы удалить кусочек роговицы без каких–либо ощущений. Понимаешь ли ты, что это значит? Мы можем теперь оперировать глаукому и катаракту, не причиняя боли больному! Зигмунд вскочил на ноги и обнял Коллера. – Вы сделали открытие. Вы должны описать то, что обнаружили, и доложить Медицинскому обществу, а затем опубликовать статью. – Я уже принял меры к тому, чтобы мой друг представил предварительный доклад на встрече офтальмологов в Гейдельберге. Я хотел выступить сам, но не смог наскрести денег. – На глаза Коллера навернулись слезы. – Я мог бы повысить свой статус, сделать первый шаг к частной практике, открыть небольшую больницу и вскоре даже возглавить одно из здешних отделений. Такова моя мечта. – У нас у всех одинаковые мечты. Карл. – Он горько улыбнулся. – Как у солдат, одна и та же задумка – найти хорошенькую девочку в Пратере и увести ее в лес. На следующее утро к Зигмунду пришел Леопольд Кенигштейн, также офтальмолог. Хотя он редко давал волю своим эмоциям, сейчас, судя по голосу, он был явно возбужден. – Зиги, рад, что ты вернулся. Помнишь дискуссии о кокаине и о его воздействии на различные части тела? Ты тогда высказал мысль, чтобы я испытал его на глазах. Я это сделал, Зиг. Полагаю, мы получили анестезирующее вещество, которое искали все эти годы. Зигмунд вздохнул: – Леопольд, ты говорил на эту тему с Карлом Коллером? Кенигштейн стоял некоторое время молча, огорошенный вопросом. – Почему ты спрашиваешь? – Вы оба сделали одно и то же открытие. Кенигштейн побледнел: – Откуда ты это узнал? – Я встретил Коллера вчера вечером, возвращаясь домой. Он испытал кокаин на нескольких животных, а также на себе. Он еще не оперировал на глазу человека. – Я тоже еще не оперировал человеческий глаз, но, разумеется, сделаю такую операцию. Зигмунд был встревожен. – Леопольд, я рад за тебя. Я представляю, как все это важно. Но если ты и Коллер сделали открытие одновременно, вы должны так же одновременно представить свои доклады Медицинскому обществу. Заслуга должна принадлежать вам обоим. Оба были глубоко разочарованы. Зигмунд старался успокоить их. Когда он понял, что не добьется нужного успеха, попросил помощи у коренастого, крепко сложенного доктора Вагнер–Яурега, работавшего в приюте для умалишенных Нижней Австрии и связанного с лабораторией Штрикера. Они убедили Коллера и Кенигштейна представить свои доклады на последующих заседаниях общества и признать, что открытие было сделано одновременно. Позднее, когда в госпиталь пришел Якоб Фрейд, жалуясь на боль в глазах, Зигмунд отвел отца к Коллеру. Коллер поставил диагноз – глаукома – и посоветовал немедленно сделать операцию. Кенигштейн был такого же мнения. Несколькими днями позже в операционной офтальмологического отделения Зигмунд помог Коллеру осуществить анестезию с помощью кокаина, а Кенигштейн сделал операцию. Когда она закончилась, Коллер сказал с робкой улыбкой: – Какой счастливый момент. Мы трое, сделавшие возможными такие операции, работаем вместе. Только что обретенная слава Коллера претерпела серьезный урон. С ним произошел инцидент настолько вопиющий, какого давно не было в больнице. Зигмунд завершил очередной обход палат, когда его позвали в комнату Коллера. Он увидел там полдесятка своих друзей, все они были крайне взволнованы. Сидя в глубоком кресле, в котором он буквально утонул, Коллер рассказывал: – Я находился в приемном покое вместе с доктором Циннером, одним из молодых врачей Бильрота. Привели мужчину с сильным повреждением пальца. Обследовав палец, я обнаружил, что резиновая повязка мешает току крови; если не снять ее, появится опасность гангрены. Доктор Циннер сказал, что пациента нужно немедленно направить в клинику профессора Бильрота. Я согласился и записал в журнал эту просьбу, а затем стал ослаблять повязку. Циннер возражал, утверждая, что я не должен касаться ничего, а направить тотчас же пациента в клинику Бильрота. Я боялся бросить дело на волю случая и быстро разрезал повязку. – Коллер поднялся из кресла. – Циннер закричал: «Дерзкий еврей! Ты, еврейская свинья!» Ярость ослепила меня. Я размахнулся изо всех сил и заехал ему в ухо. Циннер заорал: «Мой секундант посетит вас и договорится о дуэли!» Зигмунд был глубоко потрясен. Администрация больницы старалась оградить репутацию медицинского факультета. Антисемитизм был там скрытым, но его присутствие Зигмунд и его друзья все же иногда замечали. Трактат Бильрота с выпадами против студентов–евреев был должным образом осужден, и тем не менее в больнице оставалась невидимая линия раздела. Христиане и иудеи не общались вне стен больницы и не встречались на публике. У каждой стороны был свой круг знакомств. «Делиться на клики ради комфорта!» – назвал такое разделение Юлиус Вагнер–Яурег серьезно, не улыбаясь. Сын гражданского служащего из Верхней Австрии, католик Вагнер–Яурег сохранял то, что австрийцы называли «народным» обликом: гладковыбритый, с усами песочного цвета и густой щеткой коротко остриженных на военный манер волос того же песочного цвета; подбородок такой же решительный, как и лоб; мощные руки и торс дровосека, в одежду которого он облачался, когда уходил в горы. Вагнер–Яурег не прибегал к своей силе, чтобы запугать других; его сила всегда была реально ощутимой. Он трудился с Коллером и Кенигштейном в поисках метода анестезирования кожи с помощью кокаина. – Фрейд, мне нравятся врачи–евреи, работающие в нашей больнице, – заметил он. – Это блестящие и честные специалисты. Я узнал многое от них. Я могу работать бок о бок с ними в клинике и лаборатории с шести утра до шести вечера, не вспоминая о том, что мы принадлежим к разным вероисповеданиям; конфессии не имеют отношения к науке. Но когда наступает вечер и я ухожу к друзьям, мне хочется быть со своими. Не потому, что они лучше, а просто потому, что мы выросли вместе и хорошо знаем друг друга. Скажи откровенно, станешь ли ты называть это антисемитизмом? Все знали, что доктору–еврею труднее подниматься по иерархической лестнице на медицинском факультете, требовалось больше времени и таланта. Но ни один еврей не был уволен из клинической школы, если он обладал квалификацией. В штате факультета всегда числилось значительное количество врачей–евреев. Зигмунд спросил: – Карл, когда ты в последний раз обращался с саблей? – Я орудовал саблей несколько раз, находясь на военной службе. – Циннер может убить тебя. Он дуэлянт со студенческой скамьи. Коллер тяжело вздохнул: – Я думал о такой возможности. Но если я уклонюсь от вызова, то нанесу удар нашей общей чести. Секундант Циннера пришел, чтобы предъявить формальный вызов на дуэль, которая должна была состояться в кавалерийских бараках Йозефштадта. Она будет проведена на эспадронах – легких, с хорошо заточенным лезвием. Не должно быть повязок; секунданты не будут вмешиваться, им не разрешается прерывать атаки участников. Дуэль будет продолжаться до тех пор, пока та или другая сторона окажется неспособной обороняться. Ко всеобщему изумлению, Коллер нанес поражение Цин–неру, поранив его в голову и в верхнюю часть правой руки. – Зиг, честно, не знаю, как я умудрился подсечь его. Он три раза нападал на меня, а я лишь размахивал саблей, пытаясь защититься. Коллер и Циннер были вызваны к прокурору. Коллер отказался повторить нанесенное ему оскорбление. Циннер довольно развязно рассказал историю, утверждая, что должен был вызвать на дуэль, ибо в противном случае оказался бы недостойным своего офицерского ранга «старшего врача»–резервиста. Он не оправдывал свою оскорбительную вспышку и не пытался защитить себя перед общественным мнением, считавшим, что доктор Коллер был прав, настаивая на том, чтобы у больного была ослаблена повязка. Статья в газете «Нойе Винер Абенд–блатт» хвалила доктора Коллера за то, что он настаивал на выполнении своего долга в отношении больного мужчины, и осуждала доктора Циннера за «вопиющее оскорбление». Победу Коллера не могли спокойно принять в больнице. Выиграв, он, таким образом, совершил преступление того же масштаба, что и оскорбление, брошенное доктором Циннером. Он пришел к Зигмунду, невыспавшийся, изможденный, глубоко встревоженный. – Зиги, мне нужен совет. – Карл, свари кофе. Мне тоже не спится. Коллер сварил кофе, разлил его по чашкам. – Думаю, что меня стараются выжить отсюда. Меня не хотят держать здесь. – Мешают твоей работе? – Нет. В этом больницу нельзя обвинить. Но есть сотня других признаков. – Не мог бы ты замкнуться в себе и пусть все уляжется? – Я сам говорю себе это. Но я беспокоюсь больше о том, что думают другие врачи, чем о работе, которую должен выполнять. – Это самое плохое из того, что ты мне сказал. – Что я выдумываю это, Зиг? – Такое у меня ощущение. – Кажется, мне следовало бы уехать в Берлин или Цюрих или даже попытаться найти место в Америке. В последнее время я много думаю об Америке. Зигмунд улыбнулся: – Земля обетованная? Ты знаешь, не так ли, почему это земля обетованная? Когда кто–либо из нас обескуражен, то первое, что думает, это упаковать свои вещи и отправиться в Америку. Мы остаемся, но помогает сам факт, что она всегда готова нас принять в трудные моменты. За последние два года я, полагаю, десятки раз думал отправиться в Америку. – Зиг, если они хотят меня выставить, я не смогу остаться. И тем не менее университет и больница – моя жизнь. Я хочу провести мои годы здесь – жить, заниматься исследованиями и практикой, делать операции. – Тогда я рекомендую взять отпуск, но не немедленно. Это было бы похоже на бегство. Когда весна придет в Зальцбург или в другое красивое место, уезжай на несколько месяцев и успокойся. В конце концов тебя теперь знают в мире. Ты внес прекрасный вклад в медицину. Ты нужен Вене. Возможно, твое отсутствие откроет им глаза на это.9
Было легко давать совет другу, но не так–то просто дать совет самому себе. Он вернулся от Марты посвежевший. Он вновь заставлял себя работать так же интенсивно, как прежде, но исчезло вдохновение. Помогло, когда группа американских врачей – Кемп–белл, Дарлинг, Джиле, Грин, Лесли и Монтгомери – попросила его прочитать им курс клинической неврологии… на английском. Доктор Лесли собрал гонорар и вел учет занятий. Раз в день в течение пяти недель Зигмунд читал часовую лекцию. Хотя он чувствовал ограниченность своего разговорного английского, американцы были довольны, достаточно полно понимая содержание лекций и демонстраций. Он получил причитающийся ему гонорар в двадцать гульденов от каждого из врачей и отложил внушительную сумму в сорок долларов в старинную шкатулку, которую купила для него Марта в районе старого Гамбурга. Сделав значительный вклад в бюджет семьи, он послал несколько гульденов в Вандсбек: «Отныне Марти и Минна смогут пить портвейн». А остальные деньги употребил на покупку так нужных ему зимних брюк. Курс оказался успешным, и поступило предложение повторить его. На сей раз Зигмунда слушали одиннадцать человек, что было неплохо для молодого лектора, не имеющего звания университетского доцента. Хотя американцы не были тонкими лингвистами, их подготовка в неврологии была хорошей, и порой они ловили «учителя» на обмолвках в диагнозе вроде той, что он допустил, описывая постоянные головные боли как «хронический локализованный менингит», тогда как у пациента ке было серьезного заболевания, а был всего лишь невроз! Это было крещение огнем, оно доставило ему полное удовлетворение. Он продолжал обходы палат Шольца, его заинтересовали два новых больных. Первым был пекарь, принятый в больницу с диагнозом эндокардита, воспаления легких и поражения головного и спинного мозга. Никто в отделении не знал, как помочь пациенту. Зигмунд внимательно наблюдал за ходом болезни. Пекарь умер в середине декабря, и вскрытие подтвердило правильность диагноза. Он вновь опубликовал подробный отчет; обозреватель «Центрального неврологического журнала» писал: «Это очень ценный вклад в наши знания об остром полиневрите». Вторым больным был ткач. Зигмунд поставил диагноз сирингомьелии, редкого заболевания спинного мозга; мужчина не ощущал боль и температуру в обеих руках, но ощущал боль в ногах. Зигмунд наблюдал за ним шесть недель. Больной никак не реагировал и был отправлен домой. Об этом случае он написал в «Венский медицинский еженедельник». Через несколько месяцев сообщение было перепечатано «Центральным неврологическим журналом». Но и этот успех не мог развеять мучительное чувство тупика. Он был недоволен собой. Все стало ясным в воскресенье утром, когда он вместе с Йозефом и Матильдой Брейерами уплетал за завтраком гуляш. Он рассказал Йозефу о растущем недовольстве, об ощущении, что не принадлежит больнице. – Я знаю, что не готов принять роды и, разумеется, есть заболевания костей и крови, которые не были мною изучены. Но думаю, что обучение я закончил, и тем не менее расстроен. Йозеф улыбался. Зигмунд настаивал на своем: – Я становлюсь слишком старым, чтобы оставаться на положении младшего «второго врача». Я знаю, что от заявки на звание доцента до получения такого звания может пройти год. Я начинаю чувствовать себя нагим без звания. Став доцентом, я могу повесить свою вывеску где угодно. Звание приват–доцента, без которого никто не мог получить первоклассную практику в Австрии, давало привилегию на чтение курса лекций в университете, хотя и не по всем дисциплинам учебного плана. Доцентура не гарантировала оплату, доценты не допускались на заседания профессуры факультета. Тем не менее, официальное признание со стороны медицинского факультета обеспечивало общее признание публики. Венец никогда не говорил: «Я иду к доктору»; он говорил: «Я иду к профессору». – Ты на мелководье, именуемом «административной заводью», – сказал Йозеф. – Ты должен убедить медицинский факультет, что созрел для продвижения, и получить субсидию на поездку. Матильда склонилась над столом: – У меня уже есть для Зиги макет вывески на улице: стекло с черной подложкой и надпись золотом. Внутренняя вывеска, на двери, должна быть эмалированной. 21 января 1885 года Зигмунд написал прошение о предоставлении ему доцентуры: «Если уважаемая коллегия профессоров предоставит мне право на чтение лекций о нервных болезнях, то в таком случае я намерен содействовать обучению в этой области человеческой патологии по двум направлениям…» Медицинский факультет назначил комиссию для рассмотрения заявления доктора Фрейда и оценки его квалификации на предмет получения доцентуры по невропатологии. Комиссия состояла из профессоров Брюкке, Нотнагеля и Мейнерта. Флейшль шутил: – Господин доктор Фрейд, вы завалите стол бумагами! Профессор Брюкке вызвался просмотреть работы Зигмунда и написать предложение о его назначении. Ему пришлось проанализировать материалы Зигмунда Фрейда по гистологии: «Задние нервные корешки в позвоночнике миног» и «Нервные клетки раков», которые Брюкке назвал «весьма важными». В кратком отзыве о методах Фрейда Брюкке писал: «Доклады по микроскопической анатомии, написанные доктором Фрейдом, были приняты при общем признании достигнутых им результатов… [Он] имеет хорошее общее образование, прекрасный работник в области невроанатомии, обладает спокойным, серьезным характером, большой сноровкой, ясным видением, обширным знанием литературы, осторожным методом дедукции и даром хорошо организованного письменного изложения…» Профессора Нотнагель и Мейнерт с энтузиазмом подписали рекомендацию профессора Брюкке. В конкурсе на получение субсидии для поездки участвовали помимо Зигмунда Фрейда доктор Фридрих Диммер, приват–доцент и ассистент Второй глазной клиники, и доктор Юлиус Хохенег из хирургической клиники. Удивительно, как могут быстро бежать недели, когда так мало делаешь помимо защиты просьбы перед членами медицинского факультета. Профессора, с которыми он работал, относились к нему тепло, они писали письма своим коллегам и договаривались поддержать его. Зигмунд маневрировал, чтобы получить новые одобрительные отзывы, вел таблицу распределения голосов, терял надежду, когда после изложения его дела какой–нибудь профессор бормотал: «К вашим услугам», воздерживаясь от твердого обещания. Небольшая группа друзей вела кампанию в его пользу, следуя, как они говорили, «военной стратегии». Йозеф Брейер взял на себя задачу убедить профессора Бильрота и добиться обязательства с его стороны. Доктор Люстгартен обещал обратиться к профессору Людвигу. Отец молодого доктора Генриха Оберштейнера владел вместе с профессором Лейдесдорфом психиатрическим санаторием в Обердеблинге. Оберштейнер рассчитывал через Лейдесдорфа добиться голоса профессора Политцера. К концу апреля Зигмунд и его друзья полагали, что могут рассчитывать на восемь голосов. Он опасался, что некоторые голоса будут поданы против него, поскольку он еврей. Если, однако, два других кандидата, католики, разделят между собой голоса поровну, то Зигмунд может получить наибольшее число. Затем доктор Хохенег снял свою кандидатуру на том основании, что слишком молод. Это свело конкурс к борьбе сторонников доктора Фрейда и сторонников доктора Диммера. Зигмунд писал Марте: «Это был плохой, пустой месяц… Я целыми днями ничего не делал». Затем он заболел, правда в легкой форме, ветрянкой. Лечащий профессор решил, что случай настолько тривиальный, что нет нужды изолировать Зигмунда в отделении инфекционных болезней, однако друзья не должны навещать больного несколько дней. Его хорошо обслуживали сестры, принося пищу и чистое белье. После поправки он посетил родителей, чтобы их успокоить. У входа в дом он заметил Эли. Быстро повернувшись, Зигмунд отправился к своей сестре Анне, чтобы поздравить ее и посмотреть на свою маленькую племянницу. Анна была слишком счастлива и не сердилась на брата за невнимание. Зигмунд с трудом припоминал, из–за чего он поссорился с Эли. Тридцатого мая собрался медицинский факультет, чтобы определить, кто же победил в конкурсе на получение субсидии для поездки. Заседание зашло в тупик. Зигмунд почти пал духом, когда молодой доктор Оберштейнер предложил ему поехать на несколько недель в Обердеблинг для работы в санатории и заменить врача, уходящего в отпуск. Он ухватился за возможность выбраться из больницы, а заодно и немного подзаработать. Получив отпуск «по болезни», Зигмунд упаковал свои вещи. Совладелец санатория профессор Лейдесдорф был учителем Мейнерта. Он еле двигался из–за острой подагры, носил парик и умел, как вскоре заметил Зигмунд, проницательно диагностировать душевные заболевания. Дочь профессора Лейдесдорфа была замужем за молодым Оберштейнером, бывшим учеником Брюкке, тощим, неприметным, но честным человеком. Оберштейнер провел Зигмунда по санаторию, его большим, красиво обставленным, залитым солнцем комнатам. В санатории находились шестьдесят пациентов с различными симптомами – от незначительного ослабления умственных способностей до серьезных нарушений и раннего слабоумия. Обитатели санатория происходили из богатых семей. Зигмунд был поражен, узнав, что многие из них носили титулы барона или графа. Было два принца, один из них являлся сыном Марии Луизы, жены Наполеона Бонапарта. Эти представители аристократии, думал Зигмунд, выглядят потрепанными и обветшавшими, не по одежде, которая зачастую была красочной, а по выражению лиц, по тому, как они двигались, В отношении некоторых из них он так и не смог определить, где имеет место эксцентричность, а где физическое расстройство. Это было не его делом! Он должен был лишь обеспечивать им комфорт и лечить любые физические недуги, о которых они могут заявить. Он был удивлен, насколько приятной может быть жизнь в санатории. Пища была превосходной; ему давали обильный второй завтрак в одиннадцать тридцать и очень хороший обед в три часа. Молодой Оберштейнер выделил ему для работы свою собственную библиотеку – приятную прохладную комнату с видом на горы и Вену. Там находился микроскоп Оберштейнера и прекрасная литература по нервной системе человека, собиравшаяся уже в течение двух поколений. С восьми тридцати до десяти утра он совершал обход комнат, затем удалялся в свой кабинет, где должен был находиться до трех часов пополудни. Он хорошо ладил с пациентами, распознавал их болезни благодаря долгим месяцам работы в психиатрических палатах Мейнерта. Богатство и аристократизм усиливали эксцентризм внешних форм, но все остальное почти не выходило за пределы обычной практики лечения. Обитатели санатория были явно удовлетворены окружающим, сытно ели и хорошо спали, хотя порой просили успокаивающие или слабительные средства или электромассаж. С трех до семи вечера он вновь обходил комнаты. Жизнь стала еще более приятной, после того как он провел свой первый обход вместе со старшим Оберштейнером и поставил несколько диагнозов. С этого момента ему стали больше доверять, и он получил дополнительное время для чтения и изучения. Профессор Лейдесдорф сказал: – Господин доктор, могу ли я дать вам совет? Позвольте мне рекомендовать вам стать специалистом по детским нервным заболеваниям. О них так мало известно. – Ах, профессор Лейдесдорф, если бы можно было получить официальное предложение на этот счет! В этой области предстоит проделать огромную работу, мне это известно, и я бы хотел приложить к ней руку. Он подумал: «Я должен написать Марте. Здесь можно идеально жить с женой и детьми. Если я не получу доцентуру и мне не дадут субсидии для поездки, я должен узнать, не хотела ли бы она жить в таком месте». Медицинский факультет должен был вновь собраться двадцатого июня, чтобы решить вопрос не только о субсидии, ко и о присвоении Зигмунду Фрейду звания приват–доцента. Тянулись недели. Он пытался убить время, которое текло так неохотно. Минуты были сродни мокрым губкам под ногами: чем больше он старался растоптать их, тем больше в них увязал. Тревога усилилась, когда стало известно, что Игнац Шёнберг отказался от поста в Оксфорде и приехал в Вандсбек измученный, с впалыми щеками и в лихорадке. Фрау Бернейс и Минна уложили его в постель, Марта побежала за семейным врачом. Диагноз был печальным: одно легкое разрушено, другое, вероятно, поражено болезнью. Нигде, кроме, видимо, пустыни Сахары с ее сухим климатом, не мог бы он продолжать жизнь с оставшимся легким. Игнац, очевидно, потерял надежду. Он встал с постели, несмотря на повышенную температуру, упаковал свой чемодан, сообщил Минне, что их помолвка разорвана и он возвращается в Вену. Зигмунд решил, что добьется, чтобы Игнаца осмотрел доктор Мюллер, опытный специалист по легочным болезням. Сидя в своей комнате в ожидании сообщения от медицинского факультета, которое определит его собственную судьбу, он думал о годах дружбы, которая связывала его с Игнацем со времени учебы в гимназии. Он рассуждал: «Мы не можем превратить человека, который должен работать, в того, кто может просто наслаждаться жизнью и думать только о своем здоровье. Неизлечима не болезнь, а социальное положение человека и его обязательства». Посыльный из университета принес хорошее известие после полудня. Господин доктор Фрейд получил доцентуру девятнадцатью голосами против трех. Ему также тринадцатью голосами против девяти предоставлена субсидия для поездки. Это был момент величайшей радости. После того как его тепло поздравили профессор Лей–десдорф и оба Оберштейнера, он пошел в свой кабинет, написал письмо Марте, нанял извозчика до Вены, отослал письмо и после этого посетил родителей. Затем отправился к Брейерам, чтобы поблагодарить их за большую помощь, и, наконец, вечером посетил Эрнста Флейшля. Флейшль открыл бутылку шампанского. – Зиг, я слышал большую часть того, что происходило. Что касается твоей доцентуры, то спора по сути дела не было. Почему трое проголосовали против, я не могу понять. Но борьба по поводу субсидии была острой. Профессор фон Штельваг выступил первоклассно в пользу Диммера. В твою пользу склонило страстное выступление профессора Брюкке. Он описал тебя как самого блестящего молодого ученого, вышедшего из стен университета за последние годы. Он вызвал всеобщую сенсацию. Никогда никто не видел доктора Брюкке столь разгоряченным, столь убежденным в том, что факультет должен поддержать тебя этой субсидией, ибо от твоей работы с Шарко в Париже будут получены важные результаты. Зигмунд долго молчал, отпив глоток шампанского. Ясные, суровые голубые глаза Брюкке мерещились ему в стекле бокала. – Как благодарить человека за такие дела? – задумчиво сказал он. – Работать, – сказал Флейшль. – Добиться результатов, какие предсказал тебе профессор Брюкке. Твоя первая лекция состоится двадцать седьмого июня в двенадцать тридцать. Он вдруг осознал все. – Эрнст, не могу поверить. Теперь я могу поехать в Париж и стать видным ученым, вернуться в Вену со славой, а затем Марта и я поженимся, и я вылечу все неизлечимые нервные болезни. – За здоровье! – воскликнул Флейшль, поднимая свой бокал.Книга четвертая: Провинциал в Париже
1
Он приехал в Париж в начале октября 1885 года и снял на втором этаже отеля «Де ля Пэ» уютный номер, окна которого выходили на улицу Роейр–Коллар и на сады многоквартирного дома на этой улице, заканчивавшейся тупиком. Это была тихая улица близ Люксембургского сада, в получасе ходьбы от больницы Сальпетриер. У отеля с фасадной стороны было всего три окна, и он имел куда более скромный вид, чем частные дома, расположенные напротив. Около кровати на дощатом полу лежал коврик, а гардероб был непомерно вместительным для его скромной верхней одежды, стены оклеены веселыми обоями с розами на золотом фоне, напротив кровати стоял простенький столик, где он разместил свои книги и фотографию Марты. Фотография Марты… Он продолжал смотреть на нее, выключив свет и открыв окно, через которое струился прохладный осенний воздух. Занавес окна слегка колебался от ветра. С бульвара Сен–Мишель доносился слабый шум. Какой чудесный месяц провели они вместе в Вандсбеке! Он был спокоен, чувствовал себя отдохнувшим, уверенно счастливым в любви. Зигмунд проснулся рано и прошелся пешком до кафе у входа в Люксембургский сад. Столы были уже заняты спешившими на работу и студентами Сорбонны, до которой оставалось пройти всего один квартал. Когда гарсон в белом фартуке подошел с кофейником и молочником, Зигмунд позволил ему налить себе кофе в чашку, а затем сказал на точном французском языке, выученном им с наставником, которому он платил гульден за каждый урок в Вене: – Пожалуйста, хлеба. Гарсон кивнул головой и переспросил: – Что? Зигмунд рассердился на самого себя, подумав: «Неужели, читая по–французски со времен гимназии, я не умею попросить хлеба?» Затем он вспомнил название популярного во Франции рогалика. Когда он торжественно произнес это слово, гарсон облегченно вздохнул и принес ему в плетеной корзиночке круассаны – рогалики. Потягивая кофе, Зигмунд прислушивался к разговорам за соседними столиками и не мог схватить ни одной фразы, ни единого слова. Он простонал: «Как я смогу понимать, а тем более произносить эти окаянные звуки? Что случилось с гласными, которые я выговаривал так отчетливо, читая вслух Мольера и Виктора Гюго? Французы глотают их быстрее, чем свой вкусный горячий кофе». Зигмунд вышел на свежий октябрьский воздух, вознамерившись завоевать Париж единственным оружием, которым располагал, – ногами. Он думал: «Кто обошел город, тот побеждает его, овладевает им столь же полно, как мужчина женщиной. Я хочу овладеть Парижем так же, как осваивал новую книгу, осмотреть каждую улицу, лавку, толпу, как если бы это был осажденный город, а я – ворвавшийся в него». Он прошел к Сене, побродил вдоль набережной, восхищаясь архитектурой министерств на Кэ д'Орсэ, перешел реку по мосту Александра III и оказался на широких, окаймленных деревьями Елисейских полях. Бульвар был залит светом и усыпан листвой, пестревшей разноцветьем красок. Он знал, что Париж в два–три раза больше Вены, но был поражен тем, что улицы тянулись на километры и, казалось, им нет конца. Дойдя до площади Этуаль, откуда начинаются Елисейские поля, он перешел на другую сторону холма, на котором стояла арка, и начал спускаться к Булонскому лесу. Проезжавшие в экипажах женщины были элегантно одеты. По дороге к зверинцу, в Акклиматизационном саду, ему встретились кормилицы с грудными детьми, дети постарше катались в двуколках, запряженных козами, или же смотрели кукольный театр, няни в белых накрахмаленных чепцах разнимали драчунов. Лишь во второй половине дня он отправился к бульвару Сен–Мишель, восхищаясь потоком янтарного света, заливавшего город. Все в Париже казалось новым, иным, поразительным и в то же время… цельным. В отличие от Вены Париж был городом, не пытавшимся подражать различным стилям и цивилизациям. Париж, как почувствовал Зигмунд, был сам собой, был французским. Ему стало понятно, почему венцы говорили: «Быть в Париже – значит быть в Европе», осознавая, что Вена еще не Европа. Австро–Венгерская империя была территорией, династией и культурой в себе, уникальной, несравненной. А Париж был «отцом городов». Зигмунд устал, но чувствовал себя победителем, ибо каждый пройденный им квартал стал его кварталом, каждое осмотренное им здание не было архитектурно чуждым; Сена, мосты, парки стали близкими ему. Он дошел до перекрестка улицы Медичи и бульвара Сен–Мишель, до входа в Люксембургский сад, где было около десятка кафе. На открытом воздухе за столиками, тесно прижавшись друг к другу, сидели жены, ожидающие мужей, чтобы выпить рюмку аперитива, молодые люди со своими возлюбленными, студенты университета, художники в беретах и бархатных блузах, оставившие на время свои мастерские, приходили элегантные молодые девушки, они возвращались домой группками или со своими молодыми приятелями, оживленно беседуя и жестикулируя, довольные Парижем, жизнью, друг другом. Он был удивлен, увидев, что парни и девушки пускались в пляс, словно в праздничный день, не замечая окружающих. Он подумал: «Такого не увидишь в Вене. Как чудесно танцевать на улицах, ведь ты молод и находишься в Париже». Вдруг что–то поразило его, словно удар в солнечное сплетение: он неожиданно почувствовал себя совершенно одиноким, иностранцем в чужой стране, никого не знающим, не способным общаться, отчаянно скучающим по лучистым глазам Марты, ее мягкой улыбке и нежным губам. Как пережить предстоящие пять дней, когда он сможет пойти в Сальпетриер и вручить профессору Шарко рекомендательное письмо? Он вернулся в гостиницу, в свой номер, опустил жалюзи, задвинул шторы, снял пиджак и прилег на кровать; боль отдавалась в каждой клеточке, каждой складке мозга; мучила тоска по дому, тоска по любимой, отчаяние от мысли, что не удастся сделать что–либо стоящее. Почему профессор Шарко должен принять его и помочь ему? Почему служащие Сальпетриера должны выкладываться ради чужака из зарубежья? Зачем он приехал сюда? Субсидия для поездки была даром, излишним для бедняка! Он вновь, в сотый раз, перебрал в голове не раз повторявшиеся цифры. Медицинский факультет выдал ему лишь половину присужденной премии – триста гульденов (сто двадцать долларов), вторую половину получит, когда вернется в Вену и представит свой доклад. Прежде чем уехать из дома, он уплатил свои долги: сто гульденов – портному, семьдесят пять – книгопродавцу, тридцать – за чемодан и дорожную сумку, восемь – истопнице в больнице, семь – сапожнику, пять – учителю французского языка, три – полицейскому участку за формуляры, которые надлежало заполнить при оформлении доцентуры. Двадцать гульденов в виде золотых монет он опустил в кофейную кружку Амалии на кухне, купил железнодорожный билет до Гамбурга за тридцать гульденов, отложил двести гульденов, необходимых для посещения Вандсбека, и еще тридцать пять для оплаты проезда от Гамбурга до Парижа… Он оказался в долгах, прежде чем добрался до Сальпетриера! Зигмунд застонал: «Мне следовало бы стать бухгалтером, а не врачом». Знакомые врачи, обучавшиеся в Париже, уверяли его, что он сможет прожить там, расходуя шестьдесят долларов в месяц, таким образом все пребывание обойдется по меньшей мере в триста долларов. Нужно было иметь еще шестьдесят долларов для месячной стажировки в берлинских больницах при возвращении домой и еще шестьдесят пять гульденов на билеты от Парижа до Гамбурга, затем до Берлина и Вены. Он осознал, что оказался в невыносимом положении; его могли спасти лишь тысяча пятьсот гульденов, подаренные ему четой Панет. Они оставались нетронутыми; он использовал лишь проценты для оказания помощи родителям и для поездки к Марте в прошлом году. Конец недели он провел с Софией и Иосифом Панет, снявшими виллу в тенистом березовом лесу в горах Земмеринга. София и Иосиф согласились с тем, что лучшим приложением денег была бы оплата всего связанного с учебой под руководством профессора Шарко. Зигмунд соскочил с постели, вытащил из внутреннего кармана пиджака бумажник и разложил деньги на столе. Как бы он их ни пересчитывал, сумма составляла всего тысячу франков – остаток от «фонда», предоставленного четой Панет. Он открыл блокнот и занялся подсчетами. Двести долларов позволят оставаться три месяца за границей – половину необходимого времени. Чтобы извлечь максимальную пользу из поездки, потребовалось бы еще триста гульденов. Но как их заработать? Дорог каждый час учебы у Шарко. Он вновь забрался в постель, огорченный и несчастный. Через закрытые жалюзи в комнату не долетал шум Парижа. Спустя некоторое время его охватил беспокойный сон. Проснувшись утром, Зигмунд чувствовал себя лучше, но был недоволен собой за то, что поддался отчаянию, однако и в последующие дни его раздражали Париж и французы. Он прошел через сад Тюильри в Лувр и начал осмотр с залов греческой и римской скульптуры. Увидев женщин, стоявших перед скульптурами обнаженных мужчин, чьи интимные части тела вызывающе выделялись, он испытал шок: «Разве у них нет чувства стыда?» Выйдя из музея, он повернул на площадь Согласия, где высился Луксорский обелиск, полюбовался искусно вырезанными на камне фигурами птиц и людей, иероглифами; его внимание привлекли говорливые французы, которые спорили и жестикулировали, забыв обо всем на свете. Проворчал про себя: «Обелиск на три тысячи лет старше этой вульгарной толпы вокруг него». В Париже проходили дополнительные выборы в Национальное собрание, республиканцы пытались потеснить монархистов. Зигмунд покупал ежедневно две газеты, прочитывая их за кофе, довольный тем, что может следить за событиями, но выкрики и зазывания продавцов газет, распродававших четыре–пять выпусков в день, казались ему не только неприятными, но и неприличными. На следующий день вечером вместе с Джоном Филиппом, молодым художником, двоюродным братом Марты, он посетил театр, чтобы посмотреть великого Коке–лена в пьесе Мольера. Он заплатил один франк пятьдесят сантимов за место в четвертой ложе сбоку, из которой была видна только часть зала, но не вся сцена и которую он назвал «противной конурой». Его поразило то, что вечерние платья женщин выглядели обыденно и что в отличие от венскихтеатров здесь не было оркестра. Ему показались также странными глухие удары за занавесом, возвещавшие начало спектакля. «Почему они не могут просто приглушить свет?» – спрашивал он себя. Когда он смотрел «Тартюфа», затем «Брак поневоле» и «Смешных жеманниц» – а эти пьесы он читал и на французском, и на немецком, – то, наклонившись до опасного предела вперед, он обнаружил, что может не только наблюдать за игрой Кокелена, но и понимать фразы и предложения. Его раздражали актрисы, реплики которых он не понимал. Из–за напряжения разболелась голова, и он подумал: «Наверное, не следует часто ходить в театр». Его беспокоили высокие цены на все. Рестораны были дорогими. Когда он зашел в аптеку за тальком, полосканием и мазью, с него потребовали ошеломляющую плату: три франка пятьдесят сантимов. Он чувствовал какое–то странное замешательство, глядя на современных французов: трудно было поверить, что этот народ прошел через кровавые революции. Стоя на площади Республики перед монументом, изображавшим в барельефах столетнюю историю гражданских конфликтов и революций, он пришел к выводу: «Французы подвержены психологическим эпидемиям, историческим массовым конвульсиям. А Париж – это огромный разодетый сфинкс, который пожирает любого пришельца, неспособного решить его загадки». В полдень, последний перед визитом к профессору Шарко, он, направляясь к своей гостинице вдоль бульвара Монпарнас, вдруг увидел в витрине магазина свое отражение в полный рост, К удивлению прохожего, он воскликнул вслух: – У меня сердце немецкого провинциала, а сейчас оно не со мной! Впервые с момента приезда на Северный вокзал он внимательно и непредвзято осмотрел сам себя: этот тяжелый, почти траурный австрийский костюм, хомбургскую шляпу, венскую бородку, черный шелковый галстук, по–холостяцки затянутый под тугим белым воротником, суровое, серьезное, отрешенное выражение глаз, сжатые губы – и признался: «Я виноват во всем. Я здесь чужак не только по одежде, бороде и акценту, но и по немецким ценностям и суждениям. Когда я признавался себе, что мое сердце не здесь, это было проявлением моего нежелания приезжать сюда. Я осуждал мое одиночество, мою отчужденность от города и его жителей, а разве можно неуверенному в своем будущем принадлежать Парижу, побродив всего четыре дня по его улицам, не побеседовав ни с одной живой душой?» Он отвернулся от витрины, смущенно улыбнувшись: «Прости меня, Париж, я, именно я, был варваром».2
Больница Сальпетриер расположена на юго–востоке Парижа, около Аустерлицкого вокзала, на почтительном расстоянии от отеля. Изучив план Парижа, Зигмунд установил, что прямой дороги нет, и решил в дальнейшем выбирать наиболее интересные маршруты. Он дошел до угла Люксембургского сада, затем прошагал вдоль широкой улицы Ломон и оказался на переполненном пешеходами бульваре Сен–Марсель, который вел прямо к главному входу в больницу. Переступив порог больницы Сальпетриер, он почувствовал себя как дома, ведь у больницы было что–то общее с Институтом физиологии профессора Брюкке. Здание больницы первоначально было пороховым складом города. Позднее королевским указом оно было превращено в приют для женщин и детей – изгоев города. В то время Сальпетриер был прибежищем парижских проституток; еще позднее в его стены согнали попрошаек города. Наконец, названный «приютом», он открыл свои двери беднякам и нуждающимся. Одна часть стала домом для престарелых; затем были выстроены здания для калек и неизлечимых, для детей, страдающих непонятными болезнями, для сумасшедших женщин. В лазаретах находились вместе идиоты, паралитики, страдающие раковыми заболеваниями; они спали вповалку, по три–четыре человека в одной постели. В восемнадцатом веке была учреждена родильная палата для незамужних матерей, кормивших грудью многочисленных подкидышей, которых подбирала парижская управа бедняков. В шестнадцатом и семнадцатом столетиях в Сальпет–риере лекарств не применяли или же применяли крайне мало; больница обеспечивала страдающим приют, питание и крышу над головой. В восемнадцатом веке дважды в неделю врач и хирург из медицинской службы Общего госпиталя посещали Сальпетриер для совещаний с двумя местными, постоянно работающими хирургами. После назначения в 1862 году доктора Жана–Мартена Шарко начальником медицинской службы Сальпетриер стал полноценной действующей больницей. Когда Зигмунд вступил на широкий, вымощенный булыжником проход, обсаженный с обеих сторон деревьями, и дошел до его середины с тремя арками и башенными окнами, восьмиугольным куполом и белым настилом, он оказался в окружении четырехугольных зданий, ухоженных дворов, где торопливо проходили по своим делам сестры и врачи. Сальпетриер, подобно Венской городской больнице, был миром в себе. Он занимал семьдесят четыре акра площади; за высокой кирпичной стеной располагались сорок пять отдельных зданий. В больнице постоянно находились шесть тысяч пациентов; сколько коек было свободно, не знала даже старейшая из сестер. Здания были разделены лужайками, затененными старыми деревьями и расчерченными гравийными дорожками. Некоторые здания имели крыши с нависающими карнизами наподобие швейцарских вилл. В отличие от Венской городской больницы в Сальпетриере была сеть улиц, дорог и дорожек, поэтому было несложно переходить из двора в двор, чтобы попасть из одного отделения в другое. Добравшись до кабинета Шарко, Зигмунд узнал у сестры, что персонал больницы собирается на еженедельную консультацию и он должен пойти туда. Он быстро нашел помещение приемного покоя, куда приходили для первого осмотра желающие быть принятыми в больницу. Он протиснулся в небольшую комнату, где полукругом перед смотровым столом расположилось около дюжины врачей. За столом сидел шеф клиники Шарко доктор Пьер Мари, моложавый, тщательно выбритый. Зигмунд показал свою визитную карточку. Мари вежливо сказал: – Не хотите ли присоединиться к нашей группе, доктор Фрейд? Через несколько минут профессор Шарко проведет здесь консультацию. Зигмунд занял последний свободный стул и ответил на приветственный кивок соседа–врача. Утро преподнесло множество сюрпризов. Когда часы пробили десять, вошел профессор Жан–Мартен Шарко, высокий, ладно сложенный, с широкими прямыми плечами, в двубортном сюртуке и цилиндре. Он был гладко выбрит, его темные волосы, тронутые сединой на висках, были зачесаны назад от самого широкого, мощного лба, какой когда–либо доводилось видеть Зигмунду. Голова казалась скульптурной: большие нависающие брови, выступающий вперед крупный нос, который не нарушал пропорций только потому, что был частью широкого лица, прижатые к голове и сдвинутые назад уши, пухлые губы, квадратный подбородок, темные глаза. Зигмунд чувствовал необыкновенную силу его лица, и вместе с тем в нем не было и тени превосходства и надменности. «Скорее, – думал он, – это лицо мирского священника, от которого ожидают гибкого разума и понимания жизни». Ассистенты и приглашенные врачи поднялись, когда вошел Шарко. Он улыбнулся и жестом руки предложил всем сесть. Для Зигмунда Фрейда начался самый впечатляющий медицинский опыт в его молодой жизни. После того как пациенты обнажили больные части тела, Шарко приступил к объяснению поставленного диагноза, словно он был один в своем кабинете. Это была своего рода импровизация, на которую не решился бы никто из венских профессоров. Пациенты, обследованные докторами Мари и Бабински в надежде найти интересные и сложные случаи, не страдали очевидными, ясно выраженными недугами. Шарко придирчиво опрашивал больных, пытаясь докопаться до стадии заболевания, распределить симптомы по неврологическим категориям, уточнить диагноз и высказать соображения о лечении. Зигмунд, считавший себя достаточно хорошо подготовленным в неврологии, испытывал трепет, слушая рассуждения Шарко, приводившего в ходе анализа схожие случаи и высказывавшего оригинальные суждения о причинах и характере рассматриваемых болезней. Когда Шарко чувствовал, что допустил ошибку, он быстро ее признавал и предлагал новую версию. Первой пациенткой была женщина среднего возраста, страдавшая экзофтальмической зобастостью – заболеванием, которое Шарко первый обнаружил во Франции. Он назвал симптомы: учащенный пульс, пучеглазие, сердцебиение, мускульная дрожь и значительно увеличенный зоб на шее женщины. Затем наступила очередь молодого рабочего, страдавшего рассеянным склерозом с сопутствующим спастическим параличом обеих конечностей, дрожью, нарушением речи. Шарко обрисовал резкое различие между этой болезнью и болезнью Паркинсона. Чтобы более четко была видна разница, он вызвал пожилую женщину с острым параличом и обратил внимание на деформацию рук, затрудненные, медленные движения тела и застывшее выражение лица. Затем доктор Мари представил молодую девушку, страдающую афазией, когда утрачивается способность говорить, когда слова уступают место нечленораздельным звукам. Далее пошли случаи мутизма – упорного молчания, сердечных расстройств и недержания мочи. В заключение доктор Мари показал женщину пятидесяти лет с прогрессирующей мускульной атрофией, чахнувшую на глазах. Зигмунд узнал симптомы, вспомнив пациента, за которым он ухаживал в отделении Шольца. После того как Шарко закончил анализ, о котором он и Мари недавно опубликовали итоговый трактат, он повернулся к врачам, сидевшим полукругом. – Это наиболее тяжелый вид заболевания: наследственное и семейное. Надежды на излечение нет и никогда с момента рождения не было. Он отвернулся на мгновение, затем встретился своими мягкими темными глазами с глазами своих учеников и произнес низким голосом: – Что же мы сделали, о Зевс, чтобы заслужить сию судьбу? Наши отцы провинились, но мы, что свершили мы? Зигмунда поразило то, что, когда больные сменяли один другого, ассистенты и приглашенные врачи, согласно традиции, могли останавливать объяснявшего, задавать вопросы или даже выражать взгляды, расходящиеся с мнением Шарко. Подобное было неслыханным там, где господствовал немецкий язык, где профессор был непререкаемым богом и считалось непозволительным спрашивать его даже по незначительным частностям поставленного им диагноза. К обсуждению подключился молодой врач из Берлина: – Но, господин Шарко, то, что вы сказали, противоречит теории Юнга–Гельмгольца. Шарко вежливо ответил: – Теория – это, конечно, хорошо, но она не исключает того, что такие явления существуют. Несколько позднее, когда ассистент сделал вроде бы разумное замечание, расходившееся с суждением Шарко, профессор ответил: – Да, но это скорее остроумно, чем правильно. Он обратил внимание на неясные моменты в рассматриваемом случае, с иронией, но без язвительности посоветовал ассистенту глубже вникать в проблему. Врач из Бельгии спросил: – Господин Шарко, если мы не в состоянии распознать симптомы болезни, то как можно установить, какой ущерб нанесен нервной структуре? Шарко вышел из–за стола, приблизился к сидящим так, что Зигмунд мог бы коснуться его рукой. Шарко рассуждал: – Человек испытывает огромнейшее удовольствие, когда замечает что–то новое, то есть видит новое. Мы должны быть наблюдательными. Мы должны вглядываться, вглядываться и вглядываться, пока в конце концов не установим истину. Я не стыжусь, уважаемые коллеги, признаться, что сегодня я могу видеть то, что проглядел за сорок лет работы в больничных палатах. Почему врачи должны видеть только то, чему их обучили? Действовать так – значит заморозить медицинскую науку. Мы должны смотреть, уметь видеть, должны думать и уметь размышлять. Нужно позволить нашему разуму двигаться в любом направлении, куда его ведут симптомы болезни. В конце совещания доктор Мари вручил профессору Шарко карточку Зигмунда. Шарко повертел ее в руках, затем спросил: – А где господин Фрейд? Зигмунд шагнул вперед и передал Шарко рекомендательное письмо от доктора Бенедикта, венского невролога, ранее работавшего у Шарко. Шарко удовлетворенно улыбнулся, увидев имя Бенедикта; отойдя в сторону, он прочитал письмо, а затем повернулся к Зигмунду и сказал по–дружески: – Рад вас видеть! Пойдемте в мой кабинет! Зигмунд был поражен тем, насколько лишены формальностей отношения между французскими врачами; порадовало его и то, что он легко понимает их язык. Шарко провел Зигмунда в среднего размера комнату с темными стенами и такого же цвета мебелью, с единственным окном. На стенах висели репродукции Рафаэля и Рубенса, а также портрет выдающегося английского невролога доктора Джона Хьюлинга Джексона с его дарственной надписью. Мебели было мало – гардероб для пальто Шарко, небольшой стол и кресло, несколько стульев для врачей, приходивших на совещания. Зигмунд знал, что в этой скромной комнате Шарко сделал немало открытий, которые превратили неврологию в систематизированную медицинскую науку. Шарко показал ему лабораторию по соседству с его кабинетом. Площадь лаборатории была так мала, что едва хватало места для пары столов и минимального оборудования. Там же проводились офтальмологические эксперименты и с помощью ширм можно было превратить ее угол в затемненную комнату. Шарко бормотал: – Да–да, я знаю, что помещение кажется тесным и заставленным. Но мне оно всегда было удобным, потому что, когда тридцать лет назад я начал свои первые лабораторные опыты, в моем распоряжении была лишь часть узкого прохода. Поднимемся на следующий этаж, я покажу вам наши палаты. Жан–Мартен Шарко родился в Париже в семье скромного каретника. Обучался на медицинском факультете Сорбонны и в двадцать три года стал младшим врачом. Затем в скромном доме на улице Лаффит он открыл собственный кабинет и совмещал частную практику с медленным продвижением по иерархической лестнице одновременно и медицинского факультета и парижских больниц. Он пережил моральное потрясение, впервые пройдя по бедламу палат Сальпетриера, увидев тысячи агонизирующих больных, лишенных какой–либо помощи. Глядя на эти несчастные создания, корчившиеся в невероятных мучениях, Шарко сказал себе: «Сюда необходимо вернуться и здесь остаться». Шарко было тридцать лет, когда он принял такое решение. Пройденный им путь был длительным и тяжелым, но он упорно двигался вперед и в свои тридцать семь лет добился звания врача больницы Сальпетриер. Никто не давал ему денег и не помогал. Он своими руками изготовил примитивное оборудование, создал лабораторию в темном коридоре, о котором он говорил Зигмунду, и тем не менее сделал важные для патологической анатомии открытия при болезнях печени, почек, легких, спинного и головного мозга. Когда он приступил к чтению курса по неврологии, медицинский факультет не мог предоставить ему иного помещения, кроме освободившейся кухни или упраздненной аптеки. Столь же мало интереса проявляли студенты. В первый год на его лекции ходил лишь один молодой врач. Однако все это мало беспокоило Жана–Мартена Шар–ко, который начал осуществлять тихую революцию по превращению Сальпетриера из приюта в больницу, в центр научных исследований и подготовки молодых врачей, сделавший так много в изучении неврологических заболеваний, остававшихся за семью замками с незапамятных времен. Он приводил больных в свой кабинет для придирчивого клинического осмотра, классифицируя, разбивая на категории, тщательно анализируя различия между тысячами болезней, расселяя пациентов по специализированным палатам, документируя сотни, а затем и тысячи заболеваний в год, публикуя доклады и книги, в которых детально описывал трясущийся паралич, прогрессирующий ревматизм, артериальные спазмы, поражения суставов, рак позвоночника, влияние мочевой кислоты на артрит, атрофию мускулов, впоследствии названную его именем. Зигмунд Фрейд слышал, как говорили о Шарко: – Он исследует человеческое тело, как Галилей исследовал небо, Колумб – моря, Дарвин – флору и фауну Земли. Обходя вместе с Шарко большие, светлые палаты, Зигмунд наблюдал, как Шарко останавливался у каждой койки и вел краткую беседу с больными. Видя выражение обожания на их лицах, он понял, что эти пациенты, многие из которых находились здесь годы, были как бы детьми Шарко, а он их отцом. Хотя значительное число больных были неизлечимы, исследования Шарко многим из них помогли по меньшей мере частично приостановить ход болезни. Переходя от койки к койке, Шарко тихо говорил, каким заболеванием страдает больной: различные односторонние параличи, кровоизлияние в мозг, расширение артерии, двигательные расстройства – в общем схоже с тем, что можно было наблюдать в палатах венской больницы. Наиболее часто встречались односторонние параличи той или другой части тела. Возвращаясь в кабинет, Шарко повернулся к Зигмунду и откровенно сказал: – Вы слышали это и раньше, господин Фрейд, но вам не избежать моей вводной лекции: находясь в Сальпетриере, вы должны мысленно вернуться в Вену. – Простите меня, господин Шарко, за мой ломаный французский, но я знаю структуру вашего языка довольно хорошо. Если слово «видеть» звучит как «вуар», то для «видящего» не подойдет слово «вуайян», то есть «пророк». Шарко ответил, сверкнув глазами: – Видящим, пророком является тот, кому дан божественный дар. Мог ли я претендовать на это, если, в течение многих лет наблюдая множество случаев, многого не понял, не смог понять? Я наблюдал за ходом болезни десятилетиями, старался из мозаики составить цельную картину, чтобы добраться до истины, но часто получал ее лишь после вскрытия. Разве это означает видение? Скорее я подобен старательному ремесленнику, изучающему свое ремесло. – Вас считают мастером в неврологии. Шарко задумчиво подобрал прядь волос и заботливо, по–хозяйски завел ее за ухо. – Утверждают; будто у меня есть так называемое шестое чувство? По моему мнению, господин Фрейд, шестое чувство – это высокая степень честного восприятия, идущего наперекор годам строго дисциплинированных наблюдений и исследований и пытающегося ответить на не задававшиеся ранее вопросы! Когда они вернулись в кабинет, Шарко сказал: – Я советовал бы вам договориться о работе с шефом клиники. – Господин Шарко, вы так любезны к новоявленному чужеземцу. – Мы должны быть не чужаками в неврологии, а собратьями. Этого требует работа. Зигмунд заплатил три франка служащему администрации за ключ от шкафчика в лаборатории и фартук. Проходя через главные ворота, он достал из кармана документ, выписанный на имя господина Фрейда, обучающегося медицине, и, придя в восхищение, подумал: «Ну и хорош же французский язык. Все, что мне следует сделать, это отбросить ся, и тогда я превращусь из студента в доктора, героического, выдающегося, возвышенного!» Голод пересилил все эти чувства, и он, не раздумывая, пересек бульвар де Л'Опиталь, направляясь к ближайшему ресторану. Рано утром на следующий день он показал Шарко некоторые свои венские образцы, и они произвели на него впечатление. – Чем я могу помочь вам продолжить вашу работу здесь, господин Фрейд? – Мне потребуются головной мозг детей и некоторые материалы, касающиеся вторичных нарушений мозга. – Я напишу профессору, отвечающему за вскрытия. Зигмунд открыл отведенный ему шкафчик, снял пиджак, надел фартук и пошел к длинному столу у стены лаборатории, к своему рабочему месту. Полдюжины молодых врачей и иностранных специалистов уже были за работой. Доктор Мари принес ему образцы мозговой ткани. Зигмунд взобрался на табуретку; места было так мало, что он боялся поднять локоть, чтобы не толкнуть соседа в ребро. Отрегулировав микроскоп, он заглянул в окуляр и увидел… Вену: лабораторию Мейнерта, себя на стуле всматривающегося в микроскоп… Он выпрямился и прошептал: – Я столько проехал, и лишь для того, чтобы снова заняться изучением неврологии! Мозг парижских детей не отличается от мозга детей Вены.3
Наиболее важным днем недели считался вторник, когда Шарко читал свою лекцию в аудитории–амфитеатре с глубокой сценой, скамьями, ряды которых круто поднимались вверх, и с картиной на задней стене, которая изображала Пинеля, снимающего цепи с сумасшедшего в Сальпетриере в 1795 году. Лекции Шарко были крайне популярны в Париже и привлекали множество студентов–медиков, врачей и просто интересующихся наукой. Зигмунд пришел пораньше, чтобы сесть в первом ряду. Профессор в бархатной шапочке, вошедший в аудиторию, казался совсем другим человеком, а не тем, с которым он познакомился, – живым, способным на шутку. Теперь же он был важным и, казалось, постарел на десять лет. По обеим сторонам сцены, а также сзади, за ним, набились студенты. Шарко кивнул им, как положено, затем слегка поклонился переполненному амфитеатру и приступил к чтению (наполовину по памяти) хорошо отработанной лекции, которую он прорепетировал перед своими сотрудниками и скорректировал после аналитической дискуссии о медицинских последствиях заболеваний. Его голос был приглушенным, дикция безупречной; то, как он говорил, соответствовало ритму французской прозы. Свои открытия он подкреплял ссылками на немецкие, английские, итальянские и американские медицинские журналы. Припоминая расплывчатость лекций, прослушанных в Вене, Зигмунд находился под впечатлением очевидного желания Шарко не только избежать общих мест и банальностей, но и показать, что лекция на медицинские темы может и должна быть облечена в литературную форму. Как он и предполагал, сюрпризы только начинались. Когда профессор Шарко дошел до той части лекции, где, по его мнению, устные объяснения явно недостаточны, он подал сигнал, и его ассистенты ввели на сцену группу заранее подготовленных больных – мужчин и женщин, страдавших одним и тем же заболеванием. Шарко отложил рукопись и, переходя от одного больного к другому, обратил внимание аудитории на схожие искривления бедра, голени, стопы и на изломанные движения. После этого он заставил их снять халаты и показал соответствующие уродства; они нагибались, припадали на колени, садились, делали жесты до тех пор, пока всем стали очевидны клинические проявления заболеваний. На смену этим больным пришла новая группа, Шарко поставил рядом страдающих различными видами дрожи и паралича, с тем чтобы было отчетливо видно, в чем их различие. Проявив качества мастера пантомимы, Шарко воспроизводил на своем лице тик и паралич, имитировал скованность мускулатуры страдающих болезнью Паркин–сона, показывал на собственных руках, что бывает при параличе лучевого нерва, поразительным образом воспроизводил полуживотные звуки, вылетающие из гортани жертв афазии. Когда последние больные были возвращены в свои палаты и на свои койки, ассистенты Шарко установили большую черную доску, внесли статуэтки и гипсовые слепки, иллюстрировавшие различные заболевания, рассмотренные Шарко за последнюю неделю, а также схемы, графики и диаграммы и развесили их по бокам сцены. Цветными мелками профессор Шарко рисовал на черной доске сложные участки нервной системы, в которых скрывается очаг болезни; затем, когда были зашторены окна в аудитории, он показал диапозитивы, уточняющие проявления уродства и деформации, вызванные болезнями, о которых он читал лекцию. Когда закончилась демонстрационная часть, шторы были раздвинуты, а со сцены убраны черная доска, схемы и графики. Профессор Шарко, спокойный и величественный, уселся в своем кресле в центре сцены, поправил бархатную шапочку, вроде бы снова постарел и размеренно дочитал заключительную часть лекции. Присутствующие и студенты встали, молча выражая свое уважение. Они стояли неподвижно, пока не удалился Шарко и не исчезло почти гипнотическое очарование. Было уже за полдень, когда Зигмунд вышел из Сальпетриера на свежий воздух и побрел мимо Аустерлицкого вокзала, пересек Сену по Аустерлицкому мосту и оказался на площади Бастилии. Улицы почти обезлюдели. Зигмунд находился под глубоким впечатлением лекции Шарко, преподнесшего ему новое представление о совершенстве. Но самое необычное началось во вторник на следующей неделе, когда Шарко вошел в аудиторию и объявил, что он рассмотрит случай мужской истерии. Для венского доцента доктора Зигмунда Фрейда это было немыслимо, ведь в течение многих лет учебы ему втолковывали, что истерия наблюдается только у женщин. На сцену привели двадцатипятилетнего извозчика, находившегося в палате с апреля. С ним случилось несчастье: он упал с повозки на правое плечо и руку. Падение болезненным не было и обошлось без синяков. Но через шесть дней после бессонной ночи Порз обнаружил, что его правая рука повисла безвольно, двигаются лишь пальцы. Рука тяжело упада, после того как ее поднял ассистент. Шарко продемонстрировал, что она не ощущает ни боли, ни тепла, ни холода. – Суммируя, – заявил он слушателям, – можно сказать, что наблюдается полный двигательный паралич руки, полная потеря чувствительности кожи. Однако надлежит заметить, что это не полный паралич, поскольку нарушено движение, а рефлексы остаются нормальными. Эти наблюдения побуждают отклонить мысль о поражении коры головного мозга, спинного мозга или периферийной нервной системы. С чем же тогда мы имеем дело? Зигмунд наклонился вперед, ошеломленный. Шарко резюмировал: – Перед нами, несомненно, одно из нарушений, вызванных не физическим, не органическим повреждением, выявление которых еще не доступно нашим нынешним средствам анатомического исследования и которые за неимением лучшего термина мы именуем функциональными. Пока уводили Порза и ввели следующего больного, Зигмунд попытался разобраться в охватившем его смятении. Шарко доказывал, что не было физического повреждения руки и поэтому нельзя говорить о подлинном параличе. Несчастный случай вызвал шок у извозчика, паралич был результатом шока, а не повреждения руки. Порз не ударился головой, не потерял сознания, и поэтому не могло быть физического повреждения мозга. Это был случай мужской истерии. Размышляя, Зигмунд вспомнил о женщине в палате Шольца, которую Поллак вылечил благодаря внушению, подкрепленному вливанием микродоз воды. И все же сотни мужчин становятся жертвами легких несчастных случаев с синяками на плече или колене, ощущают несколько дней боль, а потом забывают о происшедшем. Почему же у Порза наступил паралич? Следующим больным был двадцатидвухлетний каменщик. Его мать и две сестры страдали истерией. За три года до первого приступа он съел кожуру граната, чтобы изгнать солитер. Обнаружив солитер в экскрементах, он так разволновался, что у него появились колики, руки и ноги стали дрожать. Через два года в ссоре в него бросили камнем. И хотя камень пролетел мимо, у него вновь возникла дрожь в ногах, а по ночам ему снились кошмарные сны, в которых он видел солитера. Через пятнадцать дней он перенес первые конвульсии, повторявшиеся затем регулярно. После поступления в Сальпетриер у него было пять приступов один за другим. Обследование показало потерю чувствительности и сокращение поля зрения, а также то, что Шарко назвал «почти превосходной имитацией симптомов частичной эпилепсии». Чтобы продемонстрировать это зрителям, он слегка нажал на одно из двух мест на теле Лиона, вызывающих спазм. Лион тут же стал жаловаться на спазм верхней части живота, а затем на ощущение, будто в его горле комок. Он втянул отвердевший язык, затем потерял сознание. Служители положили его на койку, руки его были вытянуты, а ноги расслаблены. Началась конвульсия корпуса, а затем задрожали руки и ноги. У больного возникли галлюцинации, и он стал кричать: – Негодяй! Пруссак!… Ударил камнем! Он хочет убить меня! Переходя к следующей стадии эпилепсии, он сел, все еще не представляя ясно, где он находится, пытался освободить ноги от якобы опутавшего их солитера. Шарко вновь нажал на то же вызывающее истерию место плавающего ребра, и Лион пришел в себя. Казалось, он был удивлен, но клялся, что не помнит ничего из происшедшего. Санитары вернули его в палату. Шарко закончил свою лекцию об истероэпилепсии, дав обещание показать еще десяток подобных случаев. Когда все покинули зал, Зигмунд остался в одиночестве за амфитеатром и сценой. Он был потрясен до глубины души. Каким образом Шарко собрал такую массу знаний, в то время как превосходные врачи Австрии и Германии не имеют представления об этом? Лишь несколько сотен километров отделяют Париж от Вены, и тем не менее в вопросах мужской истерии Вена вроде бы отстоит так далеко, словно расположена в горах Афганистана. Мысленно он вернулся к тем четырнадцати месяцам, которые провел в отделении нервных болезней прима–риуса Шольца. Там все пациенты с параличом, со странными припадками, с потерей ощущения боли, известной неврологам как «анестезия», получали диагноз и проходили лечение как страдавшие соматическим расстройством. Воспроизводя в своей памяти различные случаи, он вспоминал волновавшие его факты: мужчину, ноги которого были парализованы, а он мог двигать пальцами; случай потери речи, когда она неожиданно восстанавливалась без явно видимой причины; больного, голова и руки которого казались парализованными, а он хорошо дышал, что с точки зрения строения человека было невозможно, ибо если парализована голова, то должна быть парализована и грудная клетка. Он встал со стула, чувствуя себя опустошенным. Направляясь к двери, он вспомнил рассказ Шарко о том, как тот, проходя через застойную дикость Сальпетриера, сказал сам себе тридцать лет назад: «Нужно вернуться сюда и остаться».4
Его номер в отеле «Де ля Пэ», в строгой манере обычных тихих холостяцких комнат, был удобным. Питался он в ресторанах, где завсегдатаями были студенты Сорбонны, а блюда – простыми, но обильными. Свободные от работы дни он проводил в Лувре и у Нотр Дам в Сите, частенько поднимаясь на верхнюю площадку башни, чтобы еще раз полюбоваться захватывающим дух видом Сены, описывающей плавную дугу от дворца Инвалидов до Булонского леса на юго–западе города. За пределами больницы у него не было друзей, и часы одиночества он возмещал своей влюбленностью в Париж. Зигмунд испытал необычное удовлетворение, когда, пересекая улицу около собора Сен–Жермен де Пре, поймал себя на том, что сначала думал на немецком, а потом, когда перешел на противоположную сторону, обнаружил, что думает уже по–французски. Наступил перелом. Он провел в Сальпетриере уже две недели и как–то раз в начале ноября ранним утром на прогулке попал под шквал дождя. Врачи из лаборатории профессора Шарко дали ему взаймы одежду и пару тапочек. Он пришел на консультацию с небольшим опозданием, и ему пришлось занять место позади врачей, сидевших полукругом. Он увидел перед собой узкий череп, покрытый бледной кожей и редкими светлыми волосами. Этот человек обернулся и кивнул ему, приветливо улыбаясь. Зигмунд узнал Даркшевича из Москвы, с которым он работал в лаборатории Меинерта и который перевел на русский язык его статью об окраске образцов мозга. После консультации высокий худой меланхоличный славянин пригласил Зигмунда к себе на скромную трапезу: хлеб, сыр и ароматный чай по–русски. В Вене они не были близки, а здесь встретились как старые друзья, и это чувство усилилось, после того как Зигмунд узнал, что Даркшевич много лет был помолвлен с девушкой, которую преданно любил, но на которой не мог жениться до окончания учебы, написания учебника и получения обещанного места профессора в Московском университете. Даркшевич познакомил его с другим русским студентом – Кликовицем, помощником личного врача царя. Тот достаточно хорошо знал Париж и научил Зигмунда, как торговаться в молочной, где он покупал за тридцать сантимов то, что в ресторане стоило бы шестьдесят; показал ряд небольших семейных ресторанов, где блюда были вкусными и дешевыми. Кликовиц был молодым, веселым, остроумным и любезным; они оба говорили на ломаном французском и однажды вечером отправились к воротам Сен–Мартен посмотреть Сару Бернар в пьесе Сарду «Феодора». Пьеса, продолжавшаяся четыре с половиной часа, показалась Зигмунду напыщенной и затянутой. Во время антракта, когда они вышли на свежий воздух и лакомились апельсинами, он сказал Кликовицу: – Как удивительно играет Сара! После первых слов, произнесенных этим западающим в душу голосом, у меня родилось чувство, словно я знал ее всю жизнь. Никогда не видел более забавной фигуры, чем у нее, но все в ней волнует и чарует. А как она ласкает, упрашивает, обнимает, как она льнет к мужчине, ведь играет каждый мускул, каждый сустав, просто невероятно!… Кликовиц засмеялся: – Ты говоришь о ней, как на уроке анатомии. Мы все влюбляемся в Сару, в какой бы пьесе она ни играла, пусть даже в плохой. Затем его приютила пожилая чета – обучавшийся в Вене невролог итальянского происхождения по фамилии Рикетти и его жена, немка из Франкфурта. Рикетти перебрались из Вены в Венецию, где, как сказал глава семейства Зигмунду, он успешно практиковал и накопил четверть миллиона франков. Его жена, по натуре домоседка, принесла ему огромное приданое. Бездетные и одинокие, в Париже они взяли Зигмунда под свое покровительство: водили его ежедневно на ланч в ресторан Дюваля. Вместе они сходили на церковную службу в Нотр Дам в воскресенье. На следующее утро Зигмунд купил роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», прочитанный им еще в Вене, но теперь открывший ему новые грани Парижа и французского языка, неведомые ранее. Между тем исследования в лаборатории продвигались трудно, несмотря на то, что известный гистолог доктор Луис Ранье хорошо отнесся к нему и высоко отзывался о его работе. Он не добился новых успехов в изучении срезов детского мозга, возможно, потому, что его воображение захватил Шарко, который не только давал ценные сведения о неврологии и мужской истерии, но и был достаточно любезен, чтобы поправлять его французское произношение, и разрешил ему начать клинические исследования интересных случаев в палатах. Иногда наступали моменты депрессии, было ощущение, что он здесь чужой. Он тосковал по Марте и постоянно беспокоился о том, что называл «проклятыми деньгами». Он совершил, по собственной оценке, акт величайшего безумия: зайдя в книжную лавку на бульваре Сен–Мишель за «Мемуарами» Шарко по объявленной в каталоге цене пять франков и обнаружив, что книга распродана, он поддался уговорам книготорговца и приобрел собрание работ профессора Шарко за шестьдесят франков. Еще двадцать франков он потратил на годичную подписку на «Архивы». Добравшись после этих покупок до тупика Руайе–Коллар, он поднялся к себе на второй этаж и стал ходить взад–вперед по комнате. Ежедневно он старался отложить пару франков на рождественские подарки Марте и членам ее семьи, а тут израсходовал около восьмидесяти франков… Впрочем, «Архивы» Шарко будут необходимы для работы. Деньги таяли быстрее, чем он рассчитывал. Он знал, что упрекать можно только себя, поскольку жил не столь экономно, как следовало бы. Но как можно быть в Париже и не видеть «Опера комик», ведь брат Александр помимо поездов питал страсть к оперетте, ему же нужно рассказать? Как не сходить в «Комеди франсез», где звучит чистейшая французская речь? Как не съездить в Версаль?… Такие возможности могут представиться лишь раз в жизни. Он вздохнул: «Ну хорошо, что не дается, тем надо завладеть». Демонстрация Шарко мужской истерии стала впечатляющей частью опыта, приобретенного в Сальпетриере. Так, был показан шестнадцатилетний Марсель, находившийся в больнице целый год. Смышленый, обычно веселый парень, но подверженный вспышкам ярости, во время которых крушил все, что попадалось под руку. Два года назад на него напали на улице двое, он был сбит и потерял сознание. Видимых ран у него не было, но по ночам его одолевали кошмары и приступы истерии. Как ни старались врачи, они не могли обнаружить повреждений или пороков на теле Марселя. Тридцатидвухлетний Жильбер, золотильщик, поступил в больницу за год до этого. У него бывало в месяц четыре–пять спастических приступов. Хотя доктор Шарко не мог обнаружить серьезных нарушений, Жильбер потерял чувствительность одной стороны тела, не ощущавшей прикосновения. Пытаясь покончить с собой, он проглотил огромную дозу хлоралгидрата. Вскрытие подтвердило диагноз – истерическая эпилепсия, не было обнаружено каких–либо повреждений мозга или нервной системы. Погода в первые недели декабря выдалась плохая: мрачное серое небо обрушивало на землю потоки дождя; затем стало так холодно, что мокрые тротуары покрылись наледью, и нужно было быть крайне осторожным при ходьбе. Холод в чужом городе казался более пронзительным, чем дома. На первой консультации в декабре, проводившейся в понедельник, Зигмунд осознал, что это будет его последний месяц в Париже, что он может посетить на Рождество Вандсбек, задержаться на несколько дней в Берлине, а затем вернуться домой. Шарко упомянул походя, что он давно ничего не слышал о переводчике своих лекций на немецкий язык. Зигмунд подумал: «Может быть, это и есть путь к сближению с Шарко? И не позволит ли гонорар за перевод задержаться на несколько столь необходимых ему месяцев?» За обедом он сказал доктору и мадам Рикетти: – Мне пришла в голову идея. Сегодня господин Шарко упомянул, что давно не видел своего немецкого переводчика. Как вы думаете, не мог бы я просить у него разрешения перевести третий том его «Уроков»? Я могу объяснить, что во французском языке страдаю лишь двигательной афазией; мне не хотелось бы, чтобы он думал, будто я читаю столь же плохо, как говорю. Мадам Рикетти ответила с материнским энтузиазмом: – Конечно, следует попытаться. В течение часа они составляли письмо, обсуждая ту помощь, которую окажет Зигмунд своим соотечественникам, переведя работы Шарко. Спустя несколько дней Шарко, отведя Зигмунда в сторону, сказал: – Я счастлив согласиться с тем, чтобы вы перевели мой третий том на немецкий; не только первую половину, которая уже опубликована на французском, но и вторую, о которой вы слышали на лекциях и которую я еще не отдал в типографию. В тот же день Зигмунд написал письмо Дойтике, предложив ему права на немецкий вариант книг Шарко. Контракт прибыл в Париж с обратной почтой. Зигмунд принес его в кабинет профессора Шарко; вместе они прошлись по всем пунктам. Шарко вроде бы был доволен, что им интересуются издатели. – Но я не вижу в контракте упоминаний о гонораре переводчику, господин Фрейд, – заявил он. – Он должен быть определен, не так ли? – Да, господин Шарко, я попрошу четыреста флоринов, сто шестьдесят долларов. Это обеспечит мое существование в течение нескольких месяцев. – Он оторвал серьезный взгляд от бумаг. – И я буду иметь удовольствие вернуться после Рождества и продолжить обучение у вас. – Хорошо. Я помогу вам с переводом. Я знаю, как трудно врачам, говорящим на немецком, согласиться с моим тезисом о мужской истерии. Работа даст вам возможность увидеть больше случаев этого странного явления. Тогда, быть может, вы сумеете убедить своих коллег в Венском университете.5
К Рождеству наступила зима. Он купил коробку шоколада «Маркиз» для Минны, французский шарф для фрау Терке, истопницы в семье Бернейсов. В Кёльне, где поезд делает остановку, он купит флакон одеколона для фрау Бернейс. Он обещал Марте золотой браслет, все жены доцентов их носят, «дабы отличаться от жен других врачей». Но у него не было достаточно денег, чтобы купить такой браслет. В Гамбурге он нашел серебряный браслет в виде змейки. Он немедленно купил его и таким образом частично выполнил обещание. За пять дней до Рождества, приятных и сухих, он выехал из отеля «Де ля Пэ», оставив на хранение свой ящик и чемодан у четы Рикетти, которые дали ему дорожную сумку и плед, чтобы не мерзнуть в поезде. После возвращения он займет более удобный номер в отеле «Де Брезиль», всего на расстоянии квартала от Руайе–Коллар и в нескольких шагах от бульвара Сен–Мишель. Он жил ожиданием бесед с Мартой и Минной. После приезда в Париж единственными женщинами, с которыми он разговаривал, были мадам Рикетти и жена одного из давнишних врачей семейства Фрейд в Вене, фрау Крейслер, которая привезла в Париж своего сына Фрица в надежде сделать из него концертирующего скрипача. На улицах было много девушек, но Зигмунду они не казались такими же красивыми, как прогуливающиеся по Кертнерштрассе венские девушки. Фрау Бернейс пригласила его остаться в доме. Зигмунд занял свободную комнату на том же этаже, где жила Марта. Он вставал рано утром и будил Марту своими поцелуями. Услышав их голоса, Минна приносила из кухни на подносе серебряный кофейник, кипяченое молоко, свежие булочки, масло и джем. После того как Марта умывалась и причесывала свои длинные волосы, она садилась в изголовье кровати, а Зигмунд и Минна усаживались в ногах, и начинались разговоры. Такое было не принято в гамбургском буржуазном обществе и осуждалось им. Однако фрау Бернейс закрывала глаза на подобное отступление от этикета, называя это «венско–парижской моральной чепухой». Днем Марта и Зигмунд прогуливались по декабрьскому лесу, под ногами шуршали опавшие листья. Свежий воздух заставлял прятать уши под воротник пальто; в дождливые дни они читали вслух у камина, а в солнечные выезжали в Гамбург и сливались с праздничной толпой. Накануне Рождества Марта, подавая ему в пять часов кофе и кулич с изюмом, миндалем и маслом, тихо спросила: – Как долго теперь, Зиги? Какие у тебя планы? Он вытянул ноги к огню, удовлетворенно отдыхая после пробежки, когда спасались от грозы, и внимательно всматривался в лицо Марты, наливавшей ему дымящийся кофе. Марте было уже двадцать четыре с половиной; прошло три с половиной года, как она дала согласие ждать его. За это время она превратилась из робко вступающей в жизнь девочки в молодую женщину. Ее глаза стали крупнее и выразительнее, овал лица – уже, а волосы зачесаны более строго. Он потянулся к ней и поцеловал ее в губы. Она обняла его за шею и ответила страстным поцелуем. – Как скоро, Марта? Раскрою свои планы. Я проведу еще два месяца у Шарко; хотелось бы поработать возможно больше над проблемой истерии и тем временем завершить перевод «Уроков». После этого я проведумесяц в Берлине, в приюте, посмотрю, как там лечат истерию, а также в больнице Кайзера Фридриха, чтобы понаблюдать за лечением детских неврологических болезней. После этого вернусь в Вену, представлю отчет о поездке, открою свой первый кабинет и приму предложение Кас–совица учредить детское неврологическое отделение в Первом публичном институте детских болезней… Институт ничего не платит, но он предоставит мне материал для исследований и публикаций. Другое преимущество кроется в репутации специалиста. Я постараюсь повысить возможно быстрее свои доходы до сотни долларов в месяц, что требуется для содержания семьи и конторы. – Сколько времени это займет, Зиги? – Может быть, до конца следующего года, самое позднее – до весны. В конечном счете практика врача зависит от его умения; первые шаги предопределяют успех. Это такая же большая игра, как скачки в Пратере. Марта села на пол, положив свою руку на его колено. Она подняла на него свои задумчивые глаза и сказала: – Я подпадаю под категорию Мильтона: «И те служат, что стоят и ждут». Зиги, ты как–то сказал, что когда молоды, то безрассудны, а безумство в среднем возрасте скорее акт отчаяния, чем веры. Я не боюсь игры. Полагаю, что ты заработаешь эти тысячу двести долларов в год быстрее, если будешь женатым, а не холостяком. Он повернул серебряную змейку на ее запястье, но промолчал. Утром в день Рождества Минна попросила Зигмунда прогуляться с ней. Они пошли в небольшой парк, расположенный на Штейнпитцвег, по другую сторону улицы от дома семейства Бернейс. В церкви было много верующих. Остальная часть пустующего парка с деревьями, сбросившими листву, была покрыта снегом. – Зиг, я не получила ни слова от Игнаца, с тех пор как ты его видел прошлым летом. Мое сердце разрывается от того, что все это время я вдали от него, а он нуждается во мне… – Минна, болезнь Игнаца разрушила его мозг и его волю раньше, чем тело. Поэтому он разорвал помолвку с тобой, он слишком истощен, чтобы думать о любви. – Но вряд ли он так болен, если в Бадене он ходил с тобой в театр, курил сигару и был счастлив? – Такова природа болезни. Когда больной туберкулезом, находясь в больнице, говорит нам, что хочет завтра отправиться домой, потому что хорошо себя чувствует, мы знаем, что на следующий день в это время он умрет. – Что же, Игнац должен умереть? – Я не был удовлетворен своим собственным осмотром. Его обследовал через пару дней доктор Мюллер из Бадена. Ты должна быть готова, Минна: известие о смерти Игнаца может прийти со дня на день. Минна отвернулась, пряча свои слезы. Он положил руку на ее плечо, чтобы успокоить: – Минна, ты молода, тебе всего двадцать. Судьба нанесла вам, тебе и Игнацу, тяжелый удар. Тебе было бы легче, если бы вы были вместе до конца, тогда ты скорбела бы только о его смерти. – Он повернул ее к себе и поцеловал уголки глаз, смывая слезы. – Моя дорогая сестренка, у тебя долгая жизнь. Придет другая любовь. Когда Марта и я поженимся, ты приедешь к нам в Вену и присоединишься к нашему семейному кругу. Она постояла в его объятиях, возвышаясь над ним и склонив голову к его плечу, потом вздрогнула и, решительно выпрямившись, сказала: – Пошли. Марта обещала, что приготовит глинтвейн с корицей. Он согреет наши души.6
Гостиница «Де Брезиль» была куда более роскошной, чем отель «Де ля Пэ». Окно его номера выходило на улицу Гоф. Комната была, пожалуй, больше прежней, а потолки выше, кровать, стол, прислоненный к одной стене, и бюро – к другой, лучшего качества. На полу лежал ковер, окно украшали красные бархатные гардины, за занавеской в укромном углу – биде и умывальник. Зеркало напротив его кровати оказалось сомнительного качества. Когда он проснулся в первое утро, то почувствовал себя совсем одиноким в меблированной комнате на том же этаже, как в Вандсбеке, без невесты, которую он мог разбудить своим поцелуем. «Я не подающий надежд филистимлянин, – подумал он, глядя на свои темные глаза, взъерошенные после сна волосы, – при всех экзотических и романтических авантюрах, доступных свободному и отважному молодому человеку, я мечтаю лишь о Марте, свадьбе, домашнем очаге, детях и жизни в трудах праведных». Первый день нового года он был занят переводом книги Шарко. Это было приятное занятие, ибо, читая строки, написанные Шарко, он как бы слышал голос профессора, беседующего с аудиторией. Позже в этот вечер он написал своим родителям и друзьям в Вену – Брейерам, Пакетам, Флейшлю, Коллеру, пожелав им счастливого нового 1886 года и сделав приписку: «Пью за ваше здоровье». Единственным осложнением было то, что у него нечего было выпить, кроме воды из кувшина: было грустно поднимать стакан воды в знак символического привета. Он вернулся в Сальпетриер на следующий день, чтобы заняться исследованием невроза, известного под названием «железнодорожный позвоночник», или «железнодорожный мозг»[7], такое название было предложено Пейджем в Англии. Вследствие роста сети железных дорог в Англии, Европе и Америке стали довольно частыми несчастные случаи, вызывавшие новые нервные заболевания. Пять французских врачей написали работу на эту тему. Патнэм и Уолтон в Америке, подобно Пейджу в Англии, документально доказали, что частые случаи «железнодорожного позвоночника» были всего–навсего проявлением истерии. В Сальпетриер поступили девять травмированных пассажиров. Изучив их симптомы, Зигмунд понял, что несколько случаев, которыми он занимался в Городской больнице в Вене, относились к этому же виду заболеваний. Он следил за выздоровлением пациентов после решения суда о выплате им компенсаций. Шарко подчеркнуто заявил группе врачей: – Эти серьезные и упорно сохраняющиеся нервные состояния после столкновений, делающие их жертвы неработоспособными, зачастую являются истерией, и только истерией. Но будьте осторожны, порой они могут быть проявлением вымогательства или обмана. Зигмунд ходил по палатам, обследуя формы истерии. У восемнадцатилетнего каменщика по имени Пинан, упавшего с двухметровых лесов и получившего лишь легкие травмы, через три недели наступил полный паралич левой руки. Спустя десять месяцев его доставили в Саль–петриер. Обследование показало сильнейшую пульсацию артерии на шее при полной кожной анестезии, сделавшей руку нечувствительной к холоду, уколам, электрическому шоку. Его рука стала инертной и вялой, правда, без признаков атрофии. Не было также признаков повреждения позвоночника, и двигательный паралич руки не сопровождался соответствующими явлениями на лице. Истериогенные зоны были обнаружены под левой грудью и на правой мошонке. Когда нажимали на эти зоны, Пинан терял сознание и наступал приступ истероэпилепсии буйного характера. Он кусал свою левую руку, выкрикивал оскорбления, призывал воображаемых людей к убийству: – Держи! Вынимай нож! Быстро… бей! В последующие дни было несколько приступов, во время одного из них левая рука пациента вдруг стала подвижной. Когда он очнулся, то обнаружилось, что он способен двигать рукой и плечом, которые были неподвижны десять месяцев. По всем данным, он излечился. – От чего, господа? – спрашивал Шарко. – Симулировал ли Пинан? Или не симулировал? Каким же образом в таком случае его рука после почти десяти месяцев предполагаемого паралича оказалась почти нормальной? Упражнялся ли он в темноте, когда никто его не видел? Возможно. Таковы загадки, которые нам еще предстоит разгадать. Однако факт, что это не случай моноплегии руки, а явная истерия, и вы видели доказательства. Примерно в это же время пациент Порз, упавший с сиденья своего экипажа, что привело в конечном счете к параличу правой руки, ввязался в яростный спор с другим пациентом во время игры в домино. Он настолько разъярился, что вскочил на ноги и принялся угрожать своему противнику. Парализованная до этого рука вновь обрела подвижность. Через несколько часов ему пришлось сложить свои пожитки и покинуть больницу. Зигмунд находился в кабинете Шарко вместе с Мари и Бабински, когда Шарко выписывал из больницы Порза. – Вы были правы, господин Шарко, – пробормотал Зигмунд, – пациент никогда не был парализован. – Ах, а он таки был, – ответил задумчиво Шарко. – Может быть, по причине небольшого расстройства нервной системы, вызванного травмой при падении? Он сам вылечил это расстройство другой травмой, приливом ярости столь сильным, что он стал угрожать обеими руками противнику. – Господин Шарко, – спросил встревоженный Зигмунд, – не оказываемся ли мы скорее в области душевных, а не физических травм? Не было ли заболевание Порза надуманным? – Нет, нет, – резко парировал Шарко. – Психология не является частью медицинской науки. Истерический паралич Порза был соматическим, вызванным нарушением коры головного мозга, в основном сосредоточенным в двигательной зоне и не носящим характер крупного органического изменения. Мы гипотетически предполагаем его существование, чтобы объяснить развитие и наличие различных симптомов истерии. – Мы предполагаем гипотетически! Господин Шарко, не есть ли это своеобразный способ сказать, что мы не знаем? Шарко вежливо ответил: – Справедливо, господин Фрейд, но не выносите такое соображение за рамки медицинской профессии. Когда Шарко ушел, Зигмунд повернулся к шефу клиники. – Господин Мари, доводилось ли вам когда–нибудь вскрывать истерического паралитика, умершего по иным, чем истерия, причинам, такого, у которого по «гипотетическому предположению» имелось поражение ткани? – Нескольких. – Обнаружили ли вы поражение ткани? – Нет. – Почему нет? – Поражение исчезало в момент смерти. Зигмунд поднял руки в отчаянии. – Почему некоторые после сравнительно легких несчастных случаев становятся истерическими паралитиками, тогда как другие избавлены от этого? Доктор Мари стоял, молча уставившись на него, а затем произнес: – Врожденная слабость нервной системы. Зигмунду стало известно, что профессор Шарко намеревается провести одну из своих ставших нечастыми демонстраций большой истерии. Подобные демонстрации гипноза были популярными в Париже, но он не ожидал такой толпы, валом валившей через вход и заполнившей ряды амфитеатра: модно одетые женщины из высшего света; бывшие придворные; завсегдатаи бульваров в высоких серых цилиндрах и с тросточками; артисты из «Комеди франсез»; журналисты, художники и скульпторы с альбомами для зарисовок – все они оживленно обменивались репликами со сдержанным возбуждением, какое замечал Зигмунд во французских театрах перед тремя ударами, возвещавшими начало спектакля. Шарко, серьезно исследовавший мужскую истерию как расстройство нервной системы, а не симуляцию, столь же ответственно практиковал в начальные годы своей медицинской деятельности гипнотизм, называя его «искусственно вызванным неврозом, которому подвержены лишь истерики», и сделал ряд клинических открытий. В Вене доктор Антон Месмер, окончивший Венскую клиническую школу более чем за сто лет до того, как поступил в нее Зигмунд, добился богатства, славы и влияния благодаря сеансам своего гипнотического «животного магнетизма». Затем австрийские власти заставили его прекратить такие сеансы, а позднее он, обвиненный в шарлатанстве, сбежал в Париж. Жан–Мартен Шарко вернул респектабельность гипнозу, хотя в Сальпетриере он лишь установил определенные категории гипноза и выявил его природу; в отличие от Йозефа Брейера в случае с Бертой Паппенгейм он не применял внушение под гипнозом как метод лечения. Четыре привлекательные молодые пациентки ожидали в соседней комнате. Ассистенты Шарко под руководством доктора Бабински по очереди гипнотизировали их, сажая в центре сцены и помещая перед их глазами блестящий металлический предмет или стеклянный шар. Девушки быстро впадали в полудрему. Ассистенты проводили предварительные эксперименты; Шарко должен был появиться позже, чтобы показать три стадии большой истерии. Первой пациентке сказали, что перчатка, брошенная к ее ногам ассистентом, – змея. Она ужасно завопила, задрала юбку до колен и отпрянула назад. Убрали перчатку, и молодая женщина сказала, что она вновь счастлива. Она широко улыбнулась, а затем захихикала. Второй пациентке дали бутылку с раствором аммиака и сказали, что это душистая розовая вода. Она с большим удовольствием вдыхала аммиак. Затем убрали бутылку и сказали женщине, что она в церкви и должна молиться. Она опустилась на колени, сложила руки и прочитала молитву. Третьей пациентке дали древесный уголь и сказали, что это шоколад. Она откусывала кусочки и смаковала их. Четвертой молодой женщине было объявлено, что она собака; она встала на четвереньки и принялась лаять. Ей приказали встать и сказали, что она превратилась в голубя. Женщина стала энергично размахивать руками, пытаясь взлететь. Первая часть демонстрации завершилась. Зигмунд повернулся на стуле, услышав сзади одобрительный шепот. Он выпрямился вовремя, чтобы увидеть Шарко, поднявшегося из кресла, которое стояло сбоку сцены. Сегодня он выглядел моложаво – гладко выбритый, постриженный по последней моде. Он был в изысканном черном сюртуке, модной сорочке и модном галстуке, на ногах поблескивали черные ботинки. Ввели пациентку, приятную брюнетку с собранным назад шиньоном, в легком лифе, свободно спадавшем на грудь. Ее сопровождали две медицинские сестры. Амфитеатр замолк, когда Шарко начал пояснять, что гипнотизм – это искусственно вызванный невроз, который свойствен лицам с повышенной чувствительностью и неуравновешенным, что он первый из неврологов, который изучил, проследил его развитие и разработал научную теорию, описывающую его многочисленные стадии. Около Шарко стояли его верные помощники – Бабински и Рише. Доктора Мари не было. Ассистент внушил девушке первую стадию гипноза – ввел ее в дрему. Шарко рассказал о соотношении между дремой и подлинным сном, высказал свои суждения о различиях между ними. Затем с помощью яркого луча, направленного на глаза пациентки, он продемонстрировал вторую стадию гипноза – каталепсию. Ее руки и ноги перестали гнуться, потеряли чувствительность даже к уколам булавки, кожа побледнела, а дыхание замедлилось. Шарко привлек внимание к физическому состоянию тела, показав то, что стало известным как «иконография Сальпетриера». Он мог заставить девушку принять любую паралитическую позу: со скрюченными руками, ногами, спиной, шеей и даже выгнуться дугой – наклониться назад с закрытыми глазами настолько сильно, что любой человек давно бы упал. Затем Шарко вывел пациентку из каталепсии и ввел в третью стадию гипноза – стадию расслабленного сна. Когда она вышла из этого состояния, то были налицо признаки летаргии, а признаков паралитического состояния не наблюдалось. Она бегло отвечала на вопросы. Зигмунд внутренне понимал, что в ходе демонстрации Шарко воздерживался давать толкование явления. Чем оно вызвано? Были ли действия под гипнозом исключительно физическими? Сохраняло ли тело контроль над собой, принимая такие изуродованные, гротескные позы? Или же Шарко пробуждал какие–то иные силы в пациентах, склонных к истерии? Аудитория наградила Шарко громом аплодисментов. Он поклонился налево, направо, надел цилиндр и исчез в дверях. Зигмунд возвращался вместе с врачом из Скандинавии, которого он видел на нескольких лекциях во вторник. Он не расслышал его имени и был слишком смущен, чтобы попросить высокого голубоглазого блондина повторить имя по складам. Он видел, что лицо врача, возвышавшегося над ним, было возбужденным, а. глаза метали искры. Он повернулся к Зигмунду и сказал с обжигающей резкостью: – Это обман! Театральное представление! Девушки так часто исполняли эти сцены, что могут повторить их во сне. Пройдите в любое время в палату, скажите им, что делать, и они повторят показанное перед вами. Зигмунд был ошеломлен: – …Но… вы предполагаете… не может быть, чтобы вы обвиняли профессора Шарко в подлоге?… Врач ответил жестко: – Конечно нет. Это его ассистенты. Они натаскали девиц, как муштруют балерин. Девицы знают, что от них требуется, они любят аудиторию, их опекают и балуют, потому они исполняют то, что нужно Шарко. Это не гипнотизм. Да и девицы эти не истерички. Их просто используют. Я только что приехал из Нанси, где несколько недель обучался у Льебо и Бернгейма. Вот они истинные гипнотизеры! За их спиной тысячи случаев. Я наблюдал сотни случаев, когда путем внушения ослаблялись симптомы, болезнь ставилась под контроль. Шарко отказался применять внушение под гипнозом в качестве лечебного инструмента, считая это частью неврологии, приемлемой для демонстрации большой истерии. Доктора Бернгейм и Льебо – честные люди. Когда–нибудь вы поймете, сколь опасны такие демонстрации для медицинской профессии и для репутации Шарко. Зигмунд сказал вполголоса, чтобы не слышали идущие толпой к бульвару де Л'Опиталь: – Но Шарко – создатель современной неврологии! Врач несколько успокоился и сказал более ровным тоном: – Он больше, чем кто–либо иной со времен Гиппократа, раскрыл миру функции различных частей тела, а также центральной нервной системы. А то, о чем мы говорим, – его страшная ошибка. – Говорили ли вы об этом Шарко? – Однажды я упомянул Шарко о докторе Бернгейме. Он пришел в ярость и запретил мне вообще когда–либо упоминать это имя в Сальпетриере. Но поверьте мне, школа Нанси права в вопросах использования гипноза, а школа Сальпетриера глубоко заблуждается. Спустя несколько дней Зигмунд узнал, что молодой врач–диссидент попал в беду. Он встретился со смазливой деревенской девчонкой, приехавшей в Париж, поступившей на работу в кухню Сальпетриера и оказавшейся прекрасным объектом для гипноза. Она находилась в одной из палат. Врач загипнотизировал девицу, внушил ей мысль ускользнуть из больницы и прийти к нему. – Всякий поймет, для какой цели! – сказал доктор Бабински Зигмунду. Девушку перехватили, когда она выходила из палаты, и она рассказала, что приказал ей сделать скандинав. Шарко вызвал его в свой кабинет, обвинил в гнусном преступлении против невинной жертвы и выставил из больницы. Лишь только потому, что не хотел наносить ущерб репутации Сальпетриера, он не передал этого врача полиции! Зигмунд сочувствовал молодому человеку и в то же время недоумевал: зачем ему было рисковать своей карьерой, прибегая к такому глупому акту – привести к себе под гипнозом миловидную девушку, когда тысячи таких же миловидных девиц, готовых встретиться с молодым человеком, бродят по улицам Парижа?7
Однажды утром в субботу Зигмунд беседовал с Рикетти около неврологической клиники. К ним подошел Шарко и пригласил их на вечерний прием, который он устраивал по вторникам для знаменитостей, работавших в больнице. Лица из аппарата Шарко приглашались часто, а врачи–визитеры – редко. Шарко повернулся к Зигмунду и добавил: – Приходите также в воскресенье в час тридцать, ладно? Мы поговорим о переводе. В воскресенье, в один из тех редких январских дней в Париже, когда солнце рассыпает островки тепла на холодные камни города, он шел по улице Гоф, слушая звон колоколов церкви Сен–Жермен де Пре. Затем прошел по широкому бульвару Сен–Жермен, остановился перед зданием за номером 217 и осмотрел это, как он полагал, одно из наиболее красивых строений Парижа. Участок, на котором было в 1704 году воздвигнуто здание для мадам де Варенжевиль, был столь велик, что через сто пятьдесят лет, во времена Второй империи, когда на левом берегу Сены прокладывался бульвар Сен–Жермен, улица пересекла по диагонали двор мадам де Варенжевиль. Шарко женился на дочери богатого парижского портного, а его частная практика стала настолько известной, что его приглашали королевские семьи Европы. Несколько лет назад он купил этот превосходный дом и пристроил к нему два современных крыла, одно из которых занимали библиотека и кабинет, куда и привел Зигмунда дворецкий. Библиотека казалась такой огромной, какой вряд ли будет квартира, в которую когда–нибудь въедут он и Марта. Это был зал высотой в два этажа, его противоположная от двери половина была точной копией библиотеки Медичи во Флоренции с темными деревянными полками для книг до потолка, заставленными несколькими тысячами томов в роскошных переплетах, и лестницей, ведущей на узкий балкон. Короткие выступы разделяли помещение: одна часть была занята научными книгами Шарко, в другой, где находился Зигмунд, приютились глубокие удобные кресла, длинный, заваленный газетами и журналами стол наподобие тех, что встречаются в монастырских трапезных. Перед окнами, выходившими в сад и украшенными витражами, стоял резной письменный стол Шарко с набором внушительных чернильниц, с рукописями, книгами по медицине с закладками. За столом высилось кожаное кресло в стиле ампир. Стены были декорированы гобеленами, итальянскими пейзажами эпохи Ренессанса; перед камином в дальнем углу находились столики и музейные горки с предметами китайского и индийского искусства. Шарко вошел в библиотеку, тепло пожал ему руку, предложил сесть у рабочего стола и затем вручил десять страниц неопубликованных лекций. – Итак, господин Фрейд, – сказал он, – покажите первые страницы. Я плохо говорю по–немецки, но читаю хорошо. Зигмунд объяснил, что не стремился к дословному переводу, а старался передать содержание предельно ясно и точно, в соответствии с научным мышлением Шарко. – Хорошо, хорошо, позвольте мне прочитать, – ответил Шарко. – Вы не возражаете, если я сделаю пометки? Они работали в течение часа. Шарко предлагал соображения и поправки, и они обсуждали их, как давнишние сотрудники. Завершив работу, он предложил: – Может быть, погуляем по саду? Я расскажу вам кое–что из истории поместья Варенжевиль. По дорожкам, по которым мы идем, ступали королевские персоны, дипломаты, ученые, писатели, артисты на протяжении двух прошедших столетий… Для визита во вторник мадам Рикетти заставила своего мужа купить новые брюки и шляпу, но Рикетти решил, что его редингот достаточно официален. Зигмунд облачился во фрак, сшитый ему Тишером. Он купил новую белую сорочку и белые перчатки, а заодно постриг по французской моде свою шевелюру и бороду. Взглянув на себя в зеркало в спальне, не удержался от восторга: – От германского провинциала не осталось и следа. Должен признать, что неплохо выгляжу в темном. В самом деле, я произвожу неплохое впечатление. Он весело рассмеялся, спустился по узкой винтовой лестнице на улицу Юф в тот момент, когда подъехал экипаж. Рикетти нервничал. Мадам Рикетти сказала с наигранным отчаянием: – Зиги, не похож ли он на обнищавшего студента, направляющегося к Шарко с просьбой помочь поступить в медицинскую школу? Они вошли в главный салон, украшенный хрустальными канделябрами, толстыми коврами, гобеленами, предметами искусства. Господин Шарко представил их своей супруге, сыну и дочери, а также сыну известного писателя Альфонса Доде, ассистенту Луи Пастера господину Штраусу, известному своими трудами о холере; группе французских врачей, итальянским художникам. Супруга Шарко была миловидной женщиной невысокого роста, полной, живой. Она призналась, что говорит почти на всех европейских языках, и спросила: – А вы, господин Фрейд? – На немецком, английском, немного на испанском, на французском… плохо. Доктор Шарко вмешался: – Это вовсе не так. Господин Фрейд скромничает, ему просто не хватает практики. Зигмунд выпил пива и выкурил несколько превосходных сигар. Среди гостей он встретил профессора судебной медицины Поля Камиля Бруарделя, который пригласил его на свои лекции в морге; профессора Лепина, скрюченного, болезненного человека, одного из наиболее известных клиницистов Франции, который предложил ему поехать в Лион и поработать вместе с ним в неврологии. К концу вечера к нему подошла дочь Шарко, двадцатилетняя девица с красивой фигурой, высокой грудью и удивительно похожая на отца. В отношении гостей она держала себя с такой же естественностью, как мать. Прислушиваясь к ее медленному и точному французскому языку, который, как она понимала, будет полезен таким новичкам, как Зигмунд Фрейд, он думал: «Было бы соблазнительным поухаживать за этой очаровательной девушкой! Она так похожа на великого человека, которым я восхищаюсь… Боже мой, я должен признаться в таких мыслях Марте, когда напишу ей о приеме». Недели оживлялись журфиксами у Шарко, хотя эти встречи и не были все в одинаковой степени вдохновляющими. На них всегда собиралось сорок – пятьдесят гостей, еды и напитков было в достатке. Иногда он выпивал лишь чашку шоколада и клялся больше не приходить, но, понятно, приходил. За неделю до его отъезда Шарко сказал: – Я жду вас у себя сегодня вечером, но на этот раз на обед. На обеде были семейство Шарко, старший ассистент доктор Шарль Рише с супругой, господин Мендельсон из Варшавы, работавший также ассистентом у Шарко, Эмануэль Арен, специалист по истории искусства, статьи которого доставляли наслаждение Зигмунду, и Тоффано, итальянский художник. Позже пришли другие гости, представлявшие значительный интерес: Луи Ранвье, известный гистолог из Сальпетриера, Мари Альфред Корню, профессор физики, известный своими исследованиями скорости света, господин Пейрон, директор управления социальной помощи. Зигмунд стоял рядом с профессором Бруарделем, слушавшим рассказ Шарко о некоторых больных, которых он консультировал в этот день, о молодой супружеской паре, которая приехала в Париж для встречи с ним. Жена страдала осложненным неврозом; муж был либо импотент, либо столь неловок, что был близок к импотенции. Профессор Бруардель спросил с удивлением в голосе: – Неужели вы предполагаете, господин Шарко, что болезнь жены могла быть вызвана состоянием мужа? Шарко с большой живостью воскликнул: – Но подобные случаи всегда связаны с половыми органами… всегда… всегда. Зигмунд был в равной мере удивлен. Он немедленно вспомнил об Йозефе Брейере в ту ночь, когда они возвращались от Флейшля и Брейер был перехвачен на улице мужем пациентки. Брейер высказался тогда о странном поведении жены: «Такие случаи всегда являются секретами алькова, брачной постели». Произошло это три года назад. Брейер никогда больше не повторял сказанного. Однако здесь Шарко говорит то же самое, а они оба наиболее опытные неврологи. «Но что они имеют в виду? – размышлял он, вглядываясь в лицо Шарко. – Это не упоминается медицинской наукой, я не мог об этом прочитать и не мог проследить в палатах. На каких признаках основывают они свои заключения, если это так легко отложилось в их голове, что выплескивается, подобно ручью в пустыне, а затем вновь исчезает в песке?» Вечер свел воедино в мыслях Зигмунда доктора Йозефа Брейера и доктора Жана Мартена Шарко, он не мог заснуть и, положив руку под голову, вспоминал «Анну О.» Йозефа Брейера. Нашел ли Йозеф Брейер новый способ лечения, который Берта Паппенгейм называла «чисткой дымовой трубы», «лечением разговором»? Он решил рассказать об этом Шарко. На следующий день он появился спозаранку в его кабинете. Зигмунд спросил, может ли профессор выслушать его о странном случае, когда гипноз оказал существенную помощь. Шарко откинулся в кресле, его глаза ничего не выражали. Зигмунд быстро описал прошлое семьи Паппенгейм, подавление фрейлейн Берты пуританским моральным кодексом, болезнь отца", месяцы ухода за ним и начало приступов, закончившихся тридцатью отдельными физическими проявлениями заболевания: парез шеи, сильные головные боли, отвердение мускулов, галлюцинации, потеря способности узнавать людей… Он описал, как доктор Брейер, под гипнозом возвращая к прошлому память молодой женщины, позволил ей добраться до истоков ее одержимости и говорил открыто о них. Рассказал, каким образом откровенный разговор ослабил многие симптомы, хотя и были рецидивы, и лечение заняло два года. Закончив рассказ, он сделал паузу, а затем спросил: – Господин Шарко, что вы думаете на этот счет? Не открыл ли доктор Йозеф Брейер важное направление для исследований? Следует ли его продолжить? Не может ли гипноз служить орудием исцеления, особенно когда мы бессильны? Шарко распрямил пальцы левой руки и сделал отрицающий жест. – Нет, нет, в этом нет ничего интересного. Зигмунд выбросил из своей головы Берту Паппенгейм.8
Шарко был настолько доволен переводом «Уроков», что держал Зигмунда около себя в рабочие часы в больнице, исправляя одновременно и французский язык своего коллеги, и текст по неврологии. Между тем Даркшевич отобрал потрясающий материал из окрашенных Зигмундом образцов. Он и Зигмунд проводили часы в комнате Даркшевича, рассматривая под микроскопом срезы, и, убедившись в своем открытии, написали доклад «О связи нервных тканей с позвоночным столбом и его клетками». Зигмунд сказал с усмешкой: – Это никогда не будет соперничать с «Собором Парижской Богоматери» по популярности названия. Венский «Журнал неврологии» принял доклад для публикации в марте. Ободренный, Зигмунд засел за работу над проектом, для которого он уже несколько недель собирал заметки: над небольшой книжкой на немецком языке «Введение в невропатологию», которая должна стать тем, что завершал Даркшевич на русском, – учебником для врачей и студентов–медиков. Он составил за три дня первую часть, а затем занялся переводом. В Париже все шло хорошо, а известия из Вены были неутешительными. Его сестра Роза писала, что Игнац Шёнберг умер. Хотя Зигмунду казалось, что он смирился с неизбежным, из глаз брызнули слезы, когда он стоял у окна, вглядываясь в улицу Гоф, и с горечью рассуждал: – Какая бессмыслица! Подающий надежды ученый, первоклассный ум погребен на кладбище, даже не успев начать работу. И в чем причины? Действительно, что обеспечило столь питательную почву бациллам туберкулеза? Плохие жизненные условия? Перегруженность работой? Нищета, мешавшая переехать в теплый климат для лечения? Сколько еще времени потребуется медицине, чтобы устранить эту ненавистную болезнь? Он вернулся к столу, написал длинное письмо Минне, полное симпатии и любви. Издатели лекций Шарко, согласившиеся заплатить ему за работу четыреста гульденов, прислали контракт, в котором снизили оплату до трехсот. Потеря была невелика, но она не позволяла ему задерживаться в Берлине. Зигмунду было стыдно занимать еще у Йозефа Брейера, он был зол на издателей, которые подвели его, и расстроен тем, что должен будет признаться Марте в отсутствии у него деловой жилки. Оказавшись с тощим кошельком, он тем не менее пошел и купил динамометр для изучения своего нервного состояния, чтобы лучше предписывать себе лечение. Под влиянием настроения его письмо к Марте было необычно длинным, вновь подвергающим анализу его натуру и характер с проницательным, а порой и ядовитым остроумием… Депрессия и усталость были вызваны работой и заботами последнего времени. В прошлом он критиковал Марту и промывал ей косточки, теперь же осознал, что она нужна ему такой, какая есть, и время покопаться в самом себе! Он давно знает, что у него нет Божьего дара, да он и не может понять, зачем ему быть обремененным талантами; единственная причина, почему он способен работать настойчиво, заключается в том, что у него нет интеллектуальных слабостей; он полагал, что при наличии надлежащих условий он смог бы достичь столь же многого, как Нотнагель или даже Шарко, но, поскольку условия неважные, ему следует довольствоваться скромными достижениями. В гимназии он всегда возглавлял смелую оппозицию и никогда не боялся защищать крайние взгляды, хотя за это приходилось расплачиваться… Чудесным образом его неврастения исчезала, когда он был с Мартой; он должен попытаться немедленно заработать три тысячи гульденов в год, что даст ему право жениться… В последнюю неделю февраля, когда завершилось его пребывание в Париже, ему в голову пришла идея, которая могла бы привлечь внимание к его работе в Сальпетриере. Он напишет монографию «О сравнении истерической и органической симптоматологии». Собирая заметки, он определил органическую как «физическое нарушение структуры спинного или головного мозга». Для «истерической» он сам дал определение «репрезентативного паралича», то есть представляющего скорее идею, чем соматическое повреждение или травму. Его целью было установить, не вызывают ли различия в природе паралича, органической и умственной, различий в самом параличе. Он надеялся выяснить три пункта: истерический паралич может поразить одну часть тела, например руку, не затрагивая другие, тогда как органический паралич, вызванный поражением головного мозга, обычно является обширным; в истерическом параличе более ясно выражены изменения чувствительности, тогда как в параличе, вызванном нарушением головного мозга, – двигательные изменения; распределение двигательных изменений при параличе, вызванном заболеванием головного мозга, может быть объяснено и понято в анатомических терминах. В вызванном истерией параличе и других ее проявлениях истерия ведет себя так, как если бы не существовало анатомии! Она черпает свои изменения в идеях, наблюдениях и воображении. Он хотел доказать, что при истерии паралич охватывает зоны в тех пределах, которые соответствуют представлениям пациента. Он написал Шарко письмо, излагающее его идею, довольный тем, что его французский стал лучше. Однако вручить письмо не решился. Марте он писал: «Я знаю, что рискую многим, посылая письмо, ибо Шарко не любит, когда люди вылезают с умными идеями». Его соображения не совпадали с идеями доктора Жана–Мартена Шарко, хотя он не говорил об этом в письме. Шарко считал истерический паралич следствием повреждения, ранения нервной системы, пусть незначительного, а излечение, как это было в случаях Порза и Лиона, – результатом настолько сильных эмоций, что они перебарывали или выправляли расстройство. Зигмунд Фрейд сомневался в этом, поскольку никто так и не обнаружил повреждений головного мозга при истерическом параличе ни у живых, ни у мертвых. Повреждения были в самих идеях, которыми жил разум. – Но каким образом идея, не имеющая физических очертаний, может быть ранена? – недоумевал Даркше–вич, когда Зигмунд поделился с ним своими соображениями. – Не знаю. Это подобно тому, как я вернулся очень поздно в свою комнату в гостиницу «Де Брезиль» и у меня не было спичек, чтобы зажечь лампу. Я разделся при свете луны… без единого луча лунного света! Но я не могу признать право Шарко «гипотетически» предположить наличие расстройства. Если медицина должна остаться точной наукой, то мы не можем довольствоваться выдвижением гипотез. Мы должны узнать, каким образом человеческий мозг может омертвить часть собственной плоти в такой мере, что больной не чувствует иголку, вонзаемую в его плечо, или зажженную свечу у ноги, хотя при этом вздувается волдырь. Если я прав, что эти невероятные вещи совершаются человеческим мозгом, то тогда этот мозг является наиболее мощным и полным ресурсов механизмом на этой земле. Даркшевич глубоко задумался, его глаза как бы потонули в глазницах. – Но, Зиг, нет способа увидеть идею. Из наших работ ясно, что и сам больной никогда не знает. Как же мы ее отыщем? Вновь пришел на ум облик Берты Паппенгейм и то, каким образом Брейеру удалось проникнуть в ее память, помочь ей удалить невроз с помощью потока слов. Но ведь Шарко сказал, что этот случай ничему не учит. – Я полагаю, что мы должны сделать из психологии точную науку, Дарк, если такое возможно. Что ты скажешь, заслуживает ли идея того, чтобы показать письмо Шарко? Прядь волос упала на глаза Даркшевича. – Эта область достойна изучения. На следующий день в полдень Зигмунд положил свое письмо на стол Шарко. Шарко вызвал его. Он показал Зигмунду жестом сесть, взял письмо, которое он явно прочитал несколько раз. – Господин Фрейд, идеи, содержащиеся в этом письме, неплохие. Лично я не могу принять ваши рассуждения или ваши заключения, но я и не оспариваю их. Я думаю, что над ними есть смысл поработать. – Ваше одобрение радует меня, господин Шарко. – Нет, нет, не одобрение! Согласие. Когда ваш материал будет готов, пришлите мне доклад. Я опубликую его в моем «Архиве неврологии». Спустя несколько дней Даркшевич пришел к нему в гостиницу помочь упаковаться, но Зигмунд уже уложил вещи. У него была одна фобия, в которой он отдавал себе отчет, и она весьма странно была связана с одним из наибольших удовольствий для него – с путешествиями на поездах. Когда он воображал, что садится в поезд, его прошибал пот. За двадцать четыре часа до отправления он впадал в состояние нервного возбуждения. Засыпавший обычно крепким сном, в ночь перед выездом он ворочался в постели, раздираемый одновременно радостью и тревогой. За день до этого ходил на вокзал, чтобы проверить расписание и купить заранее место в купе. В день своего отъезда был готов выскочить из дома за много часов до того, как подадут состав, и ему приходилось буквально насильно удерживать себя, чтобы не схватить чемодан и не ринуться на вокзал. В то же время он испытывал такой страх, что его подташнивало и подмывало распаковать чемодан. При каждом путешествии ему приходилось преодолевать такую встревоженность. Правда, на континенте участились трагические случаи на железных дорогах, но Зигмунд был убежден, что его обеспокоенность вызвана не страхом перед физической смертью или травмой. Как же тогда объяснить дрожание брюшины? Он так и не избавился от возбуждения, вызванного красочностью движения поездов: подъем в горы, проезд через туннели, пересечение рек и ущелий, пшеничных и ячменных полей… Почему тогда вечно присутствует нежелание сесть в поезд при столь горячо желаемом путешествии? Почему он меряет шагами платформу, забросив свой чемодан в сетку над окном, будучи не в состоянии заставить себя сесть в вагон до тех пор, пока не послышится пронзительный свисток и не раздастся властный крик кондуктора: «Все по вагонам!»? Зигмунд был так возбужден в связи с обещанием Шарко опубликовать его материалы, что так и не вернулся к рукописи «Введение в невропатологию». Даркшевич закончил свой текст по анатомии головного мозга. Через год он вернется в Москву, отдаст в типографию свою книгу, подготовит лекции для курсов в университете и женится на своей любимой. Доктор Фрейд и Даркшевич двигались, так сказать, по одному расписанию; долгие годы и месяцы учебы были позади, они близки к тому, чтобы занять свое место в профессиональном и научном мире. И все же, проезжая в экипаже по улицам Парижа к Северному вокзалу, Зигмунд чувствовал легкую грусть. – Может быть, это просто ностальгия, Дарк? Я полюбил Париж, Сальпетриер, Шарко… даже тебя, меланхоличного славянина. Даркшевич заморгал: – Спасибо за эти прощальные слова, Зиг. У меня не было близких друзей с момента отъезда из России. Думаешь, мы встретимся вновь? – Не сомневаюсь, Дарк. Подумай обо всех неврологических конгрессах в столицах мира, на которых мы будем читать наши доклады. Они оба засмеялись, радуясь перспективе, но, сидя у окна в купе третьего класса, осматривая глухие стены двухэтажных домов, Зигмунд понял, что в трудный момент расставания он успокаивал Даркшевича, да и себя тоже. Прошлое ушло, возможно, что он никогда больше не увидит ни Даркшевича, ни Сальпетриер, ни Шарко. Настало время обратить лицо к будущему. Через два месяца ему будет тридцать, время перестать чувствовать себя студентом. Поезд вырвался из пригородов и, пыхтя, помчался по зеленым полям Франции. Зигмунд ощутил радость, обрушившуюся на него, как приятный летний ливень. Он преуспел в Париже, поработал хорошо, завоевал явное расположение персонала больницы и закончил более чем наполовину перевод работ Шарко. Он написал неплохие доклады и заслужил одобрение, нет, согласие Шарко на оригинальное исследование, которое может привести к открытию. Важно и то, что он стал одним из наиболее поднаторевших молодых неврологов в Центральной Европе. В окне вагона он увидел отражение своего улыбающегося лица. Его волосы поредели у висков. Он заметил легкий серый налет на своей бородке и то, что его лицо пополнело в Париже. Ему откровенно нравились чисто выбритые щеки с тонкой линией бородки, но больше всего доставляли удовольствие глаза – ясные, широко раскрытые, сверкающие и стремящиеся к благам жизни, любви и работе, что ждут его впереди. Конечно, будут неприятности, с ними сталкиваются все начинающие молодые врачи, но он не предвидит серьезных препятствий. Он пересек болотистую равнину и достиг точки подъема, с которой может наблюдать свою дальнейшую жизнь. Он чувствовал, как в нем бурлят силы. Наконец–то он вошел в мужское сословие!Книга пятая: Предписание врача
1
Вернувшись в Вену в начале апреля, он снял у бездетных супругов удобное помещение для врача–холостяка: две меблированные комнаты с фойе за тридцать два доллара в месяц, включая оплату услуг молодой горничной, которая впускала бы пациентов между полуднем и тремя часами дня. Арендуемое Зигмундом помещение располагалось в массивном шестиэтажном доме на Ратхаусштрассе, 7 – лучшем из возможных в Вене мест для начинающего врача. Окна дома выходили в небольшой парк позади здания муниципалитета в готическом стиле, на расстоянии одного квартала от строящегося здания Бургтеатра. Вестибюль дома в стиле барокко украшали мраморные панели бежевого цвета, сужающиеся кверху мраморные колонны и позолоченная лепнина на потолке. В прихожей Зигмунда нашлось место для трехстворчатого гардероба с зеркалом, вешалки для шляп и пальто, подставки для тростей, зонтов и калош. В комнате, предназначенной для ожидающих приема больных, стояли софа, на которой могли разместиться три человека, кофейный столик и несколько стульев. Основную просторную комнату с задрапированными окнами, выходившими на двор, с обоями под бархат, обставленную стульями с жесткими и мягкими сиденьями, украшали высокие дрезденские часы и печка–голландка, облицованная темно–зеленым кафелем. В дальнем углу комнаты за занавесом находились узкая кровать, этажерка и керосиновая лампа. Здесь же стоялстенной шкаф, где он разместил офтальмологическое оборудование; дверь напротив вела в ванную комнату. Из Городской больницы Зигмунд привез свой письменный стол и книжные полки, на которых расставил в нужном порядке медицинские справочники. Матильда Брейер выполнила свое обещание и разработала рисунки двух вывесок для доктора Фрейда. В субботу в полдень накануне Пасхи они трое сели в фиакр у дома Брейера и направились на Ратхаусштрассе. Мужчины бережно держали под мышкой вывески, а Матильда на коленях – сумку с пирожными, купленными у Демеля. Зигмунд попросил отвертку у хозяина дома. Он и Матильда поддерживали стеклянную вывеску с золотыми буквами на черном фоне: «Приват–доцент доктор Зигмунд Фрейд», в то время как Йозеф ввинчивал шурупы, прикрепляя вывеску около входной двери. Затем Матильда принесла к дальнему углу вестибюля керамическую вывеску, которую надлежало прикрепить к двери приемной Зигмунда. Пока Йозеф обходил помещение, а Матильда ставила лилии в воду, Зигмунд попросил горничную принести кофе. Матильда разложила пирожные на тарелки, поставила чашки и блюдца, сливки и сахар, и они, умиротворенные, уселись за кофейным столиком. Залысины на голове Брейера заметно увеличились, обнажив глубокие морщины на лбу; он подстриг свою бороду так, что она как бы повторяла очертания шевелюры на голове. – Зиг, вспоминаю, как ты был обескуражен четыре года назад, когда Брюкке отказался взять тебя ассистентом. Матильда перебила Йозефа: – Зиг становится определенно красивым, разбитным на французский манер. Ей стукнуло сорок, и она выглядела вальяжной матроной, которая избегала приторных венских сладостей и сохраняла ладную фигуру. Пряди ее каштановых волос были уложены волнами, серые глаза необычно блестели. – Серьезно, Зиги, ты уехал в Париж как многообещающий студент, а вернулся зрелым врачом. Не представляешь, как приятно видеть отпечаток выдержки и мудрости на этих теплых карих глазах вместо бьющего через край нетерпения. Зигмунд наклонился над кофейным столиком и послал ей воздушный поцелуй. «Матильда больше уверена во мне, чем Йозеф», – подумал он. И тут же вслух добавил, что намерен до конца года жениться на Марте. Матильда одобрила его намерение: – Чем раньше, тем лучше. Ты горел эти годы, и я не думаю, чтобы это было хорошо для молодого человека. Йозеф выкрикнул: – Ради бога, Матильда, не торопи его! Зиг, мой тебе совет – подожди, по меньшей мере два года. К этому времени у тебя будет солидная практика, и ты сможешь обеспечить свою жену и семью. – Зачем, Йозеф? Мне нужно всего три тысячи гульденов в год. Разве я не смогу зарабатывать столько к концу восемьдесят шестого года? К этому времени будет опубликован мой перевод книги Шарко; издатель венского «Медицинского еженедельника» согласился напечатать две мои лекции. Я разослал двести карточек венским врачам, со многими из них я работал. Надеюсь, они направят ко мне пациентов… Матильда, почувствовав смущение Зигмунда, вмешалась: – Зиги, дорогой, когда ты поместишь объявление в газетах? – Завтра, Матильда. В «Нойе Фрайе Прессе». Посмотри, что я послал им. Между прочим, это стоило мне восемь долларов; неудивительно, что газеты делают деньги. Он подошел к письменному столу, отыскал листок в стопке других бумаг и громко прочитал: «Доктор Зигмунд Фрейд, доцент невропатологии Венского университета, вернулся после шестимесячного пребывания в Париже и ныне проживает по адресу: Ратхаусштрассе, 7». Матильда заметила: – Очень хорошо, а не следовало бы добавить… «шестимесячного пребывания в Париже в больнице Сальпетриер, где работал вместе с профессором Шарко»? Ведь люди могут подумать, что ты провел шесть месяцев в Мулен Руж со стайкой девочек, танцующих канкан. Вылазка жены развеселила Йозефа. Он погладил свою бороду и сказал: – Это не сработает как нужно. Вене может показаться, что он хвастается, во всяком случае, так подумают те двести врачей, которым не довелось обучаться в Сальпетриере. Но, Зиг, почему, боже мой, ты поместил сообщение в Пасхальное воскресенье? Это неслыханно! Зигмунд усмехнулся: – Я думал об этом, но в праздники у людей больше свободного времени для чтения; они обратят внимание на мое объявление и лучше его запомнят. После кофе Матильда расположилась в глубоком кресле, слушая рассказ Зигмунда об исследовании мужской истерии, проведенном Шарко. Брейер задумался, а затем заметил: – Я советовал бы тебе двигаться осторожно, Зиг, быть более сдержанным. Не удивляй Вену смехотворной мужской истерией. Ты можешь лишь навредить самому себе. Зигмунд встал и принялся возбужденно шагать взад–вперед по комнате. – Но, Йозеф, не требуешь ли ты от меня, чтобы я забыл то, чему научился? – Используй свою проницательность и изучай своих пациентов. Собирай доказательства. – Как только мой перевод книги Шарко появится на немецком языке, все получат убедительный материал. Он свяжет меня. Брейер возразил, покачав головой: – Материал Шарко о неврологии будет прочитан с достойным его уважением; когда же читатели дойдут до мужской истерии, то они отвергнут написанное как преходящее заблуждение великого ученого. Что же касается твоего участия в книге, то ты переводчик, а не адвокат. – Иозеф, я планировал подготовить лекцию на эту тему для Медицинского общества… – Не делай этого! Это слишком опасно. Скептики не могут быть обращены в веру так скоро, как сторонники. В этот вечер он сел за письменный стол, чтобы написать Марте. На следующий день его родители и сестры посетили его новые апартаменты и принесли праздничный завтрак. Поток эмоций наводнял неведомые ему зоны его мозга. Какие? На это еще не дали ответа анатомические исследования. Опасения, что не появятся пациенты, нивелировались убеждением, что работа найдется; неопределенность, присущая частной практике, сглаживалась уверенностью, вызванной тем, что доктор Мейнерт охотно принял его и предложил закончить в его лаборатории исследования структуры детского мозга, а также тем, что доктор Кассовиц пригласил его открыть неврологическое отделение в Институте детских болезней. К этому водовороту мыслей и чувств примешивалось неясное ощущение, навеянное возвращением в Вену. За семь месяцев, которые он провел вдали от города, Зишунд пытался оценить свою привязанность к Вене. Возможно, то, что он был рожден не здесь, оказывало отчуждающее воздействие, и вместе с тем он мало что помнил о Фрайберге в Моравии. Как интеллектуал, проведший годы взросления в физиологической лаборатории профессора Брюкке и в Городской больнице, он был знаком лишь с серьезной, научной Веной, совершенно отличной от простонародной Вены, от Вены, где царил дух гениальных композиторов – Моцарта, Бетховена, Шуберта, плеяды Штраусов, мелодичная музыка которых украшала жизнь венцев. Рассудком он понимал, что даже как невольный пленник он влюбился в Париж: в освещенный солнцем Собор Парижской Богоматери, в Сену, отливающую серебром в темные ночи, в спокойствие самобытной парижской архитектуры, в широкие бульвары и открытые площади, в многочисленные кафе на тротуарах, где прислушиваются к разносчикам газет, продающим экстренные выпуски, наблюдают за бойкими молодыми людьми, распевающими на бульваре Сен–Мишель, в живой, легкий образ поведения вообще, в современные республиканские настроения. В воздухе Франции было что–то особое, какой–то букет, сочетающий в себе все, что свойственно свободным людям. Нечто подобное он ощущал ранее лишь однажды, когда посетил единокровных братьев в Манчестере. Из Берлина он написал Марте, что не станет обременять себя заботами, пока не увидит своими глазами «отвратительную башню Святого Стефана». Честно говоря, он знал, что эта высокая башня была своеобразным проникновением в бесконечность архитектурного искусства; против нее его настраивало лишь то, что ему придется найти свое место под ее сенью. «Ни один человек, – размышлял он, – не любит поле боя до тех пор, пока не одержит на нем победу». Из Берлина, где он провел месяц, обучаясь у доктора Адольфа Багинского, профессора педиатрии и директора госпиталя Кайзера Фридриха, и у докторов Роберта Томсена и Германа Оппенгейма в отделении нервных и душевных болезней в госпитале Шарите, он написал Марте строчку из Шиллера: «Как по–иному было во Франции!» – и добавил: «Если бы я должен был ехать из Парижа в Вену, то, полагаю, умер бы по дороге». Наедине с самим собой при приглушенном свете лампы он размышлял о значении Вены в его жизни. Многое он знал о ней только по праздничным парадам: императора Франца–Иосифа, императрицу и их детей; аристократию, блестяще разодетых офицеров – баловней города; богатых землевладельцев; министров, управлявших империей. Он был в курсе жизни Вены благодаря прочитанному в «Нойе Фрайе Прессе» и «Фремденблатт». Габсбурги правили здесь столетиями, владея самой обширной и богатой со времен римлян империей. У Парижа была своя аристократия, пострадавшая от трех революционных кровопусканий, но он сам выбирал своих правителей, его законы вырабатывались и претворялись в жизнь народными избранниками. Чувствовал бы он, Зигмунд, себя иначе, если бы оказался в Париже во времена Людовика XV? И все же австрийцы не преминули воспользоваться своей свободой: они обожали и боготворили императора Франца–Иосифа, при котором у них было солидное, честное, ответственное правительство; после восстания 1848 года в нем участвовали австрийские буржуа. Однако существовала и разница в положении; австрийцы, отождествлявшие себя с любимым императором, соглашались считаться его подданными. Французы же были хозяева самим себе в политическом отношении. Порой нерасчетливые, беззаботные и бесшабашные, они уподобляли свободу просторной накидке, небрежно подогнанной и неловко выглядевшей на некоторых, и все же они чувствовали себя свободными. Парижская архитектура была более самобытной, чем венская, таким же был и французский характер. Кое–что заимствовано, но не получено как милостыня. Характер Вены представлял собой характер полиглота, впитавшего австрийский, богемский, венгерский, хорватский, словацкий, польский, моравский, итальянский языки… В качестве имперского города она старалась отобразить каждую составляющую ее национальную часть, «воспроизвести всю мировую цивилизацию, пышную, в стиле барокко». И все же он был счастлив вернуться домой, жаждал возобновить работу. У него было достаточно причин почитать Венский университет, медицинский факультет, научные учреждения. Городскую больницу. Город дал ему, парню из семьи иммигрантов, прекрасное образование и такую профессиональную подготовку, которую невозможно получить в Берлине, Париже, Лондоне или Нью–Йорке. Его можно было обвинить в том, что он мало знает университетский – медицинский – научный мир Вены. Нужно ли ему знать больше? Разве каждый город не схож с пчелиными сотами, где каждая ячейка занята частью населения? Для венского военного – это армия; для аристократии – императорский двор; для артистов – Карлстеатр; для музыкантов – опера, Бетховенский и Моцартовский залы; для дельцов – банки, магазины, текстильный район, биржа. Каждый ценит свой город. Конечно, тот, в котором он сам работал и жил, привлекал лучшие умы и души не только империи, но и всего мира, говорящего по–немецки. Он, Зигмунд Фрейд, учился у представителей этого мира. Они были добры, готовы помочь, щедры. Они создали великую Вену. Он не хочет жить в другой Вене, ни в каком другом городе, в том числе и в Париже. Его корни здесь, они проросли глубоко сквозь камни. Правда, он еврей и не всегда уютно чувствует себя в католическом окружении, но евреи стали странниками с того момента, как был разрушен Храм и они были вынуждены жить в чужой религиозной среде. Насколько он знал историю, неважно, в каком культурном окружении оказывались евреи. Император Франц–Иосиф был последователен в защите прав евреев в Австро–Венгерской империи. Зигмунд встал, походил по комнате, затем приблизился к окну, смотревшему в парк за ратушей. Через занавеску он заметил несколько пар, медленно прохаживавшихся при мертвенно–белом свете газовых фонарей. Затем он вернулся к своему письменному столу. Вена должна дать ему возможность зарабатывать на жизнь, содержать жену, учиться, проводить исследования, делать открытия, писать на избранные им темы… Здесь он и Марта могут работать, благоденствовать, воспитывать детей.2
За час до полудня в понедельник после Пасхи он сидел за письменным столом, аккуратно разложив рукописи: отчет о поездке, который он сделал перед Обществом врачей; уже переведенные главы книги Шарко; заметки к Введению книги о психологии; первые страницы доклада о гипнотизме, который он прочитает в Клубе физиологов, а затем в Обществе психиатров; выписки из литературы для журнала Менделя в Вене, посвященного вопросам неврологии, и из литературы по детской неврологии для «Архива детских болезней» Багинского, обещанные им обоим докторам еще в Берлине. Открывая частную практику, Зигмунд располагал лишь четырьмястами гульденов. Триста гульденов он был вынужден занять для оплаты расходов в последние месяцы пребывания в Париже и Берлине. Он сможет возвратить их в июле, когда получит гонорар за перевод книги Шар–ко. Вторую часть субсидии для поездки он получит, представив письменный отчет, но и эта сумма была уже расписана. В течение ряда лет он одалживал деньги у Флейшля, зачастую по настоянию последнего. Когда Зигмунд сказал, что сможет выплатить ему долг через год или два, Флейшль парировал: – Но это дружба. Разве мелкие суммы не засчитыва–ются в дружбу? Разве твое время и врачебный уход за мной ничего не стоят? – Ну и ну! Я найду другой способ возместить тебе. Флейшль заскрипел зубами: – Найди способ, как пришить мне новый палец к этой окаянной руке. Наиболее крупную сумму он был должен Брейерам – целых две тысячи долларов. Он предложил, что станет ежемесячно выплачивать небольшую сумму, но Брейер отверг такую мысль энергичным жестом: – Не дело, Зиг. Мы не нуждаемся сейчас в деньгах. Отсрочим на десять лет. А к этому времени ты станешь хорошо зарабатывать. Было мало надежды, что первые месяцы частной практики принесут необходимые сто долларов. Некоторые из его друзей в Городской больнице считали, что глупо начинать с таким скромным капиталом. Доктор Политцер, отоларинголог, вызвавший его через день или два после его возвращения в Вену для консультации, которая принесла пятнадцать гульденов, сказал, услышав, что осенью Зигмунд намеревается жениться: – Я удивлен. Во время встречи с ним несколько дней назад я узнал, что у него ни гроша в кармане. Нужно ли в таком случае настаивать на браке с бесприданницей, имея возможность загрести приданое в сотни тысяч гульденов? Его размышления были прерваны стуком в дверь. Горничная, обслуживающая врача и несколько взволнованная своей новой ролью, ввела двух полицейских офицеров, чьи посты находились около Дунайского канала. Их направил Йозеф Брейер. Зигмунд занялся сначала более пожилым – с выпуклой грудью и выпирающим круглым животом. В рукопашной схватке с вором он почувствовал боль в шее, спустившуюся по левой руке и вызвавшую покалывание в большом и указательном пальцах. Доктор Фрейд поставил диагноз, что у офицера неврит руки. После соответствующих процедур и нескольких посещений пациент был вполне здоров. Офицер помоложе, совершенно лысый и с короткой шеей, поведал доктору Фрейду, что он не чувствует свои ноги. Когда он вытягивает их во время ночной смены и не видит, куда он их поставил, то им овладевает тревога и неуверенность. Он описал вспышки опоясывающей спину и охватывающей брюшной пресс боли, причем она становится в последние месяцы все более острой. Доктор Фрейд подверг пациента различным анализам, однако конечный диагноз не отличался от того, который он подозревал с самого начала: сифилис с признаками атаксии. Узнав, что Зигмунд начал частную практику, открыв свой кабинет, профессор Мейнерт направил к нему свою жену, страдавшую ишиасом. Зигмунд предположил, что острую боль в нижней части спины и левой ноге вызывает смещение межпозвоночного диска. Больной был предписан постельный режим, восстановительные упражнения. Тонкий межпозвоночный диск, выступающий в роли мягкой прокладки, медленно возвращался на свое место. Дорогу в его кабинет нашла «бродячая группа» невротиков Брейера. Первой пришла пухленькая, миловидная сорокалетняя фрау Хейнцнер. У нее была кожная сыпь, и дерматолог Фрейд вылечил ее с помощью мазей. Через несколько дней она пожаловалась на негнущуюся шею, вследствие чего ее голова склонялась набок. Физиотерапевт Фрейд расслабил мускулы ее шеи с помощью электроразрядов. При следующем посещении она жаловалась уже на острые боли в желудке. Терапевт Фрейд провел массаж брюшины и снял судороги. – Доктор Фрейд, вы чудесный врач. Вы можете вылечить меня от всех болезней. Он ответил с некоторой наигранностью: – Наш девиз в клинической школе, фрау Хейнцнер: «От всего, чем страдает пациент, врач может вылечить». Но в то время, когда смеялась фрау Хейнцнер, оправляя свое платье на красивой фигуре и прилаживая шляпу на зачесанных вверх золотистых волосах, он думал: «Как поступить с человеком, который добивается внимания к себе, придумывая все новые симптомы? Мой скудный медицинский опыт никогда не поспеет за фантазиями». Жизнь начинающего врача, как он понял из собственного опыта, была загруженной, в том числе неопределенностями и опасностями, приносила и удовлетворение и разочарование. Профессор Нотнагель направил к нему португальского посла, и он вылечил его от легкого недомогания, но следующая пара больных, получивших совет профессора Нотнагеля посетить доктора Фрейда, предпочла более пожилых врачей. Затем его просили оказать помощь старому знакомому по гимназии, прикованному к постели. Зигмунд не ужинал три дня, чтобы сберечь гульден, а экономя на извозчиках, ежедневно терял час на пешие переходы. И вот вечером он получил известие, что умирает старый школьный товарищ. Поездка съела все сбережения, но он сохранил ему жизнь. Брейер прислал фрау Клейнхольц, пытавшуюся помочь своему мужу. У доктора Клейнхольца наблюдались сдвиги в поведении. Прежде внимательный к одежде, он стал неряшливо одеваться, потерял способность сосредоточиваться, допускал ошибки в деловых вопросах, жаловался на головные боли. Пациент выглядел смущенным. Не обнаружив органических признаков болезни и функциональных нарушений, доктор Фрейд подумал, что перед ним, вероятно, случай невроза. Однако он строго предостерег себя от преждевременного вывода в пользу невроза или истерии и счел разумным беспристрастно и объективно обследовать пациента. Во время двухнедельных наблюдений у доктора Клейнхольца появилась слабость в правой руке и усилились головные боли. Зигмунд опознал эти симптомы: развившаяся опухоль в левой лобной части головного мозга. В одно особенно холодное утро молодой ассистент из Городской больницы прислал к нему американского врача, прибывшего в Вену для повышения квалификации. Врачу было тридцать пять лет, на голове торчал вихор рыжих волос, плохо гармонировавших с двубортным синим пиджаком. – Чем могу быть полезен, доктор Адамсон? Адамсон вытянулся в большом кресле, попытался откинуть назад непослушный завиток рыжих волос. – Я огорчен, доктор Фрейд. Мы с женой сберегли достаточно денег для пребывания в Вене, но мало что осталось на медицинские расходы. – Предположим, что вы расскажете, что случилось. Если я могу помочь, то буду рад оказать любезность коллеге. – Спасибо. У меня нарастающие головные боли. Их характер такой: опоясывающая боль вокруг головы и чувство давления на ее верхнюю часть в сочетании с эпизодическими помутнениями. Но это не настоящее помутнение, ибо я все же осознаю, что происходит вокруг. – Вы опытный врач, доктор Адамсон. Обнаружили ли вы какие–либо соматические расстройства? Доктор Адамсон окинул взглядом полки с медицинскими книгами, затем повернулся, его лицо выражало тревогу. – Я обеспокоен чувством ревности к собственной жене. Оно нарушает мое душевное равновесие. Моя жена молода и красива. Несколько лет мы жили счастливо в браке. Должен признаться, не знаю, что с ней произошло. Приходя на вечеринки, она ведет себя развязно с мужчинами. Такого раньше не наблюдалось. Но моя настоящая проблема – это ее возросшие сексуальные потребности. Они опустошают меня. В постели она становится все более и более… агрессивной, почти одержимой. Временами она душевно неуравновешенна, а сейчас я становлюсь умственно неуравновешенным. – Проведем обследование, вначале вас. После этого мы обсудим вопрос о вашей жене. Не могли бы вы прийти с ней? На следующий день в полдень доктор Адамсон пришел в сопровождении своей жены, очаровательной пепельной блондинки с яркими голубыми глазами и выразительной фигурой; ее облегающее платье обрисовывало ее грудь, плоский живот, длинные ноги. Доктор Адамсон удалился в прихожую. Как только он вышел, миссис Адамсон кокетливо взбила пряди светлых волос и вызывающе улыбнулась доктору Фрейду. Он встал, чтобы подойти к ней. Когда он обходил стол, упала фотография Марты, стоявшая на нем. Это удивило его; он не думал, что смахнул фотографию или сдвинул стол настолько сильно, чтобы фотография могла упасть. Он почти ничего не добился от миссис Адамсон, кроме рассуждений, какой веселой показалась ей Вена. Однако после настойчивых вопросов он выяснил, что шесть лет назад у нее длительное время двоилось в глазах; когда все прошло, она ощутила, что ее левая рука и лицо онемели. Осмотр продолжался полчаса; поскольку муж ожидал ее в приемной, Зигмунд не стал задерживать миссис Адамсон и просил ее прийти на следующий день. Когда при следующем приеме Зигмунд шагнул навстречу пациентке, фотография Марты вновь упала со стола. Он остановился ошеломленный, уставясь на упавшую фотографию. Как это могло случиться дважды? Правда, миссис Адамсон вошла в кабинет, покачивая бедрами и запрокинув голову назад так, что ее груди были направлены на него. «Но, разумеется, – думал он, – не в такой мере, чтобы скинуть Марту со стола!» Миссис Адамсон сказала, застенчиво улыбаясь: – Ваша невеста, доктор Фрейд? Похоже, что она стремится выпасть из вашей жизни. Зигмунд поднял фотографию Марты, обтер о свой пиджак и поставил в центре стола. Немедля он углубился в обдумывание проблемы повышенной сексуальности миссис Адамсон, пытаясь установить, когда произошли такие изменения. Миссис Адамсон отрицала, что ее сексуальные потребности чрезмерны. – Просто я чувствую, что с каждым днем молодею и становлюсь более жизнерадостной, доктор, а мой муж работает слишком много и стареет. Зигмунд опешил. Что это – проблема эмоций? Или же какое–то органическое расстройство? Он был уверен, что доктор Адамсон говорит правду, а жена – нет. Он думал: «Первый предписанный курс – гинекологическое обследование, но я несведущ в этой области. Не представляю, что следует искать. Кроме того, выражение лица миссис Адамсон говорит, что это может оказаться опасной процедурой. Лучше посоветоваться с Рудольфом Хробаком». Вечером он заглянул к доктору Хробаку, сорокатрехлетнему профессору гинекологии Венского университета. Зигмунд не работал с ним в больнице, но они симпатизировали друг другу и стали добрыми знакомыми. Он рассказал доктору Хробаку о супругах Адамсон; тот гладил бородку в стиле Ван Дейка, когда размышлял, но помочь дельным советом не мог. Через несколько недель дело приняло неожиданный оборот. Доктор Адамсон вновь привел к Зигмунду свою жену; это была другая миссис Адамсон. У нее исчезло желание флиртовать; она держала голову набок, как бы от боли, говорила медленно, ее губы с трудом произносили слова: – Симптомы, что были у меня… шесть лет назад… Они вернулись. Но иные. Моя левая бровь… омертвела. Мне трудно двигать правой ногой… Он провел женщину за ширму и тщательно обследовал. Никакой анестезии в ногах или спине, брюшной полости или груди. Первый проблеск возник, когда он вспомнил, что при рассеянном склерозе часто появляется повышенная сексуальная потребность. Сделав дополнительные анализы, он убедился – рассеянный склероз. Он не сказал об этом пациентке, но ему было ясно, что красивая молодая женщина будет страдать нарастающей дрожью, нарушением речи и в конце концов наступит паралич. В медицинской науке нет ничего, что могло бы остановить ход болезни. Острота заболевания будет зависеть от того, где поврежден головной или спинной мозг. Доктор Адамсон скоро избавится от своих недугов, но браку предстоит перенести другой и более болезненный удар.3
В четверг 6 мая 1886 года Зигмунду исполнилось тридцать. Он скопил несколько гульденов за прошедшие недели, но в последние несколько дней никто не появлялся в приемной. Он размышлял: «Термин употребляется явно неправильно: ожидает не пациент, а начинающий врач». Рано утром в дверь постучал почтальон, доставивший цветок – подарок Марты. Вслед за почтальоном появилась сестра Роза, которая принесла пресс–папье, украшенное красным сафьяном с золотым флорентийским тиснением. После исчезновения застенчивого, робкого Бруста у Розы не было другого возлюбленного. Зигмунда это удивляло, ведь она была привлекательной, остроумной девушкой. Роза выглядела счастливой, неизменно в хорошем настроении, рассудительно относилась к жизни и, подобно Зигмунду, обладала широким диапазоном эмоциональной реакции. – Зиги, ты неухожен. У тебя есть иголка и нитка? Посмотри на свои ботинки! Их нужно починить. У тебя есть другая пара; эти я возьму с собой. Он улыбнулся, положил свою руку на ее плечо. Паули и Дольфи пришли с букетом сухих пальмовых листьев, бамбука, тростника и пером павлина. Вслед за ними появилась сестра Митци со своим мужем, Морицем Фрейдом, дальним родственником. Она принесла свою свадебную фотографию, вставленную в рамку. Прибыли родители – Амалия с испеченным ею венским тортом и Якоб с книгой английского политического деятеля Дизраэли, восхищавшего Зигмунда. Родители обняли его и поцеловали, словно ему исполнилось всего десять или двадцать лет. Последним пришел брат Александр, вставший утром в пять часов, чтобы занять место в очереди в кассу венского театра и купить два билета на «Цыганского барона» Иоганна Штрауса. Каждую неделю Александр ходил слушать оперетту: то «Летучую мышь», то «Сказки Гофмана»; в предшествующую неделю он лишил себя такого удовольствия, чтобы сэкономить и взять с собой брата на представление в день его тридцатилетия. Дольфи сварила кофе на горелке в офтальмологическом закутке, Амалия поместила торт на письменный стол Зигмунда, Алекс принес стулья из прихожей. Члены семьи расселись для мирной беседы за чашкой кофе. Прибыла, запыхавшись, Анна на шестом месяце беременности. В одной руке она несла корзину цветов, а в другой – четырнадцатимесячную дочь. Она пожелала Зигмунду прожить «еще тридцать и еще лучших» лет и посадила маленькую Юдит на его колени. Зигмунд, повздоривший с Эли Бернейсом, медлившим вернуть Марте ее деньги из приданого, которые она ему доверила, проявил добрую волю в день рождения и поинтересовался здоровьем своего шурина. Якоб, работавший с недавнего времени, приносил домой заработок. Зигмунд чувствовал, что его отец доволен, ибо вновь принялся рассказывать анекдоты. – Зиг, бедный еврей влез без билета на скорый поезд в Карлсбад. Не раз и не два его ловили, тузили и высаживали. На одной станции он встретил знакомого, который спросил, куда он едет. «В Карлсбад, – ответил он, – если выдержит мое здоровье». Представление в театре оперетты продолжалось до глубокой ночи. Зигмунд поблагодарил брата и отправился домой пешком один. Он вошел в свой укромный уголок с подавленным чувством. Он также едет безбилетником к свадьбе, к дому, к практике… только выдержало бы его здоровье. Ему пришлось купить кушетку для осмотра больных, и эта покупка поглотила остаток его денег. Он познавал то, о чем всегда догадывался, а именно: существование глубокой пропасти между медицинской практикой и заработками. Если бы доктор Политцер не вызвал его за день до этого на вторую консультацию, то он всю неделю работал бы не покладая рук, не получая за это ни единого крейцера. Он сел за письменный стол, поправил свет лампы и написал Марте: «Мечтаю о том, чтобы следующий день рождения был таким, каким ты его описала: ты разбудишь меня поцелуем, а мне не придется ждать письма от тебя. Меня больше не волнует, где это будет… Я могу выдержать любое бремя забот и напряженной работы, но только не в одиночестве. И между нами: у меня очень мало надежды пробиться в Вене». На следующее утро он отослал письмо и, направляясь в лабораторию Мейнерта, подумал: «Я как Роза. Мои эмоции столь же изменчивы, как морские приливы». Говорят, что Земля вращается вокруг своей оси, а больные – вокруг своей боли. В последующие дни полдесятка больных посетили его кабинет, а затем в полдень его вызвали в Городскую больницу для осмотра новорожденного, у которого внизу позвоночника, над ягодицей, появилось мягкое уплотнение размером с лимон. Доктор Фрейд осмотрел натянутую кожу, растущие на уплотнении волосы, затем остальную часть тела ребенка. – Врожденные изменения, не более того, – заверил он коллегу. – Я видел подобные наросты у взрослых. Ребенок будет нормально развиваться. – Будьте добры, скажите это матери, – попросил доктор. На следующее утро его вызвали в дом бывшего нервнобольного, лечившегося у Оберштейнера в Обердеблинге, ребенок которого родился парализованным ниже талии. Осматривая сфинктер заднего прохода, доктор Фрейд обнаружил полную расслабленность мышцы. Паралич захватил мочевой пузырь и пищевой тракт. Воспален спинной мозг. Ребенок будет парализован всю жизнь. Однако если удастся снизить температуру, ослабить конвульсии, не допустить инфекции мочевого пузыря… Зигмунд провел всю субботу и воскресенье у постели ребенка, ночью спал на соседней койке. Больше всего его тревожило то, что мочевой пузырь ребенка плохо освобождался: будучи наполненным, он был рассадником микробов. Зигмунд был прав, полагая, что ребенок умрет от воспаления почек; это может случиться в любой момент – через два года или через два месяца. Однако его научили бороться за жизнь до тех пор, пока есть хоть искра надежды. Он боролся за жизнь ребенка, пока эстафету не принял семейный врач. Зигмунд установил для себя строго размеренный порядок: вставал в шесть, затем умывался, одевался, после чего в комнату приходила горничная с теплыми булочками от соседнего пекаря и чашкой кофе, смолотого перед варкой на кухне. К семи часам она убирала посуду и салфетки с его стола, и он начинал работать над переводом последних глав книги Шарко или над своим отчетом о поездке. К десяти часам Зигмунд приходил в психиатрическую лабораторию Мейнерта, где занимался исследованием слухового нерва в человеческом эмбрионе. В одиннадцать часов шел через улицу в соседний ресторан, где подкреплялся двойным гуляшом, который подавали в двух небольших горшочках, содержащих по два–три крохотных кусочка мяса с картофелем и салом; часы его консультаций не оставляли времени для плотного обеда. Вернувшись в лабораторию, он еще полчаса уделял анализу срезов мозговой ткани и ровно в двенадцать усаживался за стол в своем кабинете. К этому времени прихожая была, как правило, уже заполнена, ибо ходили слухи, что новый врач относится к благотворительной деятельности с той же тщательностью, как и к платным пациентам. В первый месяц он не покрыл своих расходов, но был рад «свободным пациентам»; в Вене считали, что врач, не имеющий благотворительных пациентов, не может претендовать на других. Подобно тому как в гуляше среди множества ломтиков картофеля попадаются порой кусочки мяса, встречаются люди, которые в отличие от португальского посла, так и не оплатившего счет, торопятся заплатить по поступающим к ним счетам за медицинское обслуживание. В следующем месяце, когда закончились строительные работы в новых помещениях Института детских болезней, в три часа по вторникам, четвергам и субботам он появлялся в этом первом публичном институте такого рода в Вене, где возглавил отделение детской неврологии. В остальные дни ему пришлось продлить часы приема до четырех, и поэтому он попросил пациентов, приходивших за бесплатным диагнозом и электромассажем, посещать его в такие поздние часы, чтобы он не заставлял ждать платных пациентов. Вечером в кафе он встречался с друзьями: с Панетом, Оберштейнером, Кениг–штейном, также работавшими в Институте детских болезней, с Виддером, Люстгартеном, и там они обсуждали общие медицинские проблемы. Если он не ужинал на правах холостяка у Брейеров, Панетов или у Флейшля, то быстро заканчивал скромный ужин и возвращался к себе домой для углубленного чтения и записи наблюдений. Засыпал он сразу, едва коснувшись подушки. По воскресеньям Зигмунд обедал у родителей; приходя к ним, он опускал несколько гульденов в кофейную кружку со сломанной ручкой, которую Амалия держала в кухонном буфете. Ни мать, ни сын не говорили вслух об этом скромном ритуальном акте, доставлявшем им обоим большое удовольствие. Несмотря на напряженный восемнадцатичасовой рабочий день, у Зигмунда хватало времени в ночные часы тосковать по Марте. Он почти ежедневно писал ей, набрасывая портреты своих пациентов и рассказывая о различных случаях, о том, какой он счастливый, если все стулья в прихожей заняты, и какой огорченный, если никто не появляется, кроме попрошаек и свах, считавших молодых врачей Вены своей естественной добычей. Подобно первым шагам частной практики, Зигмунда волновала работа по созданию отделения детской неврологии в Институте Кассовица, названном по имени выдающегося специалиста Вены по детским болезням Макса Кассовица. Одно время Кассовиц, стремившийся лечить все детские заболевания, считал оспу, ветрянку, свинку одним и тем же видом болезни; он полагал также, что рахит вызывается воспалением. И тем не менее, Кассовиц первый в Вене поставил на научную основу изучение детских болезней. Установив, что фосфор важен для лечения рахита и других детских недугов, Кассовиц принялся искать эмульсию для детей, которая содержала бы фосфор. В конечном счете, он отдал предпочтение рыбьему жиру, который до него медики считали бесполезным. Фосфор стал чудодейственным средством для детей, страдавших рахитом, туберкулезом и анемией. За несколько месяцев до возвращения Зигмунда в Вену Кассовиц, прошедший практическую подготовку в Городской больнице семнадцать лет назад, переехал со своей семьей из просторного помещения, имевшего восемь комнат, которые он занимал на первом этаже дома номер девять на улице Тухлаубен, по соседству с одной из старейших аптек города, в другую квартиру в том же доме, а прежнюю превратил в детскую клинику. Основанный им институт был свободной клиникой. Его посещали дети из бедных сословий, родители которых не имели возможности оплатить лечение. Все врачи института работали по зову совести и не получали жалованья. Институт детских болезней поддерживался частными пожертвованиями и мог расходовать на медикаменты всего тысячу флоринов в год. Зигмунд прошел по улице Тухлаубен мимо аптеки, около которой всегда толпилось множество народа, включая кормящих матерей, желавших купить препараты Кассовица. Три сотрудника аптеки занимались исключительно приготовлением микстур. Зигмунд повернул в переулок Клееблатт. На тротуаре в ожидании своей очереди стояли матери с детьми. Доктор Макс Кассовиц поздоровался с ним. Он был очень серьезным и в свои сорок четыре года выглядел весьма пожилым человеком с лысой головой, но такой красивой формы, что отсутствие волос не портило ее; нехватку шевелюры он не старался компенсировать кос–матостью бороды, а довольствовался пепельно–серым клинышком на подбородке. Иссиня–черные с добрый дюйм брови обрамляли глубоко посаженные живые глаза. Одевался он хорошо, как подобало врачу в Вене. Кассовиц показал Зигмунду операционную, зал для лекций и консультаций, лабораторию, отделение внутренних болезней, палаты кожных болезней, болезней уха, носа и горла, инфекционных заболеваний. Зигмунд встретил некоторых молодых ученых, с которыми учился в университете и которых знал по работе в Городской больнице: Эмиля Редлиха, Морица Шустлера, Карла Хохзингера, старшего ассистента Кассовица. Переходя из комнаты в комнату, Зигмунд имел возможность заметить, что все врачи были евреями. Его удивило это: было ясно видно, что среди лечившихся детей не так уж много еврейских. Неужели Кассовиц не приглашал врачей–католиков? Или же католики не хотят работать в институте, которым руководит еврей? Пройдя длинный коридор, Кассовиц ввел Зигмунда в комнату, где стояли и сидели матери и дети. Он сказал: – Господин доктор Фрейд, вот ваша рабочая зона. Мы надеемся, что когда–нибудь вы создадите институт детской неврологии. А сейчас я доверяю вам пост главы отделения. Он, разумеется, не так весом, как положение главы отделения Городской больницы, но для начала это неплохо. Находясь в Берлине, Зигмунд имел достаточно возможностей обследовать детей с нервными заболеваниями. Этот опыт теперь оказался бесценным. Дети были безупречно чистыми и одетыми, волосы девочек завязаны бантами. Дети старшего возраста, как правило, не чувствовали боли и жаловались мало: поразивший их недуг уже сделал свое разрушительное дело. Страдали родители, объясняя врачу в ответ на его вопросы историю каждого случая. Родители считали себя виновными за случившееся, хотя иногда наломала дров сама природа, когда ребенок находился еще в утробе матери. Его первым пациентом был шестилетний мальчик, страдавший от менингита – воспаления головного мозга. Совершенно нормальный ребенок вдруг стал капризным, у него повысилась температура, а шея потеряла гибкость. Два дня назад у него появилась сонливость, он стал вялым, а лицо покраснело. Когда доктор Фрейд измерил температуру, она была выше сорока градусов по Цельсию. Осмотрев руки ребенка, он заметил под ногтями крошечные красные пятнышки – кровоточили капилляры кожи. Зигмунд мог сделать одно – сбить температуру. Он знал, что у мальчика появятся затем конвульсии, дрожь тела, непроизвольные движения рук и ног и он умрет… А ведь три дня назад мальчик был здоровым, счастливым ребенком. Менингит вызывается бактериями. Они носятся в воздухе. Он мог просто вдохнуть их. Фрейд обследовал семилетнюю девочку, которая в разговоре могла сделать паузу примерно на три секунды, повернуть слегка голову в сторону, поглазеть, а затем продолжать беседу, словно ничего не произошло. Такое с ней случалось четыре–пять раз в день, объясняла мать, а начались эти явления месяц назад. Доктор Фрейд, наблюдая за ребенком, определил «провалы» речи как легкое расстройство. Он не обнаружил никаких отклонений в составе крови, следов какого–либо более раннего повреждения или опухоли в мозгу. Он объяснил матери, что некоторые изменения происходят при достижении половой зрелости (Флейшль обнаружил и описал такие изменения в мозгу) и со временем расстройство исчезнет. Постепенно комната опустела… остались лишь девятилетний мальчик и его мать, прижавшаяся в углу. Ребенок выглядел нормальным, хотя мать уверяла, что он жалуется на головные боли и тошноту. Женщина краснела, часто моргала, опускала глаза. Зигмунд настаивал на том, чтобы она сказала, почему привела мальчика. – …Доктор, я в растерянности… мне стыдно… поэтому я не привела его раньше… – Продолжайте, пожалуйста. – …У моего сына… большой пенис… много волос вокруг, как если бы ему было четырнадцать или пятнадцать лет. Я глупая… доктор… что обращаюсь? Обследование, проведенное Зигмундом, в сочетании с его знаниями в области анатомии мозга указывало, что у мальчика опухоль в центральной части мозга, по сути дела рак, захвативший основание мозга, который изменил импульсы, поступающие от гипофиза к железам, и тем самым способствовал значительному увеличению полового органа. Против этого заболевания не было ни лекарств, ни методов лечения. Он не сказал матери, что у мальчика усилятся головные боли, подташнивание, он станет вялым, впадет в кому и умрет в течение года. Зигмунд сидел за столом до сумерек, глубоко взволнованный, записывая случаи, которые он наблюдал за день. Затем отправился домой, даже не удосужившись взглянуть на искусно украшенный шестиэтажный дом, считавшийся наиболее красивым в Вене. Во Фрейюнге он остановился перед фонтаном, подставив лицо прохладному туману, а тем временем перед его глазами проходили лица детей, которых он осматривал после полудня.4
В работе и практике установился размеренный ритм. Медицинский факультет принял его письменный отчет о поездке во Францию. Он прочитал доклад о гипнозе в Физиологическом клубе. Две главы книги Шарко, переведенные им, были опубликованы в венском «Медицинском еженедельнике». Общество психиатров пригласило Зигмунда прочитать лекцию о гипнозе; ободренный, он испробовал гипноз на итальянке, подверженной приступам, переходящим в конвульсию, всякий раз, когда она слышала слово «яблоко». Он чувствовал себя неловко и настороженно при первой попытке, а пациентка была либо ненаблюдательной, либо индифферентной. Когда наконец ему удалось ввести ее в легкий полусон, он предположил, что поскольку яблоко – неодушевленный предмет и не может напасть на пациентку или оскорбить ее, то при слове «яблоко» она должна вообразить свежеиспеченный пирог – струдель – в витрине пекарни. Он полагал, что это проницательное предположение, но пациентку он больше не видел и поэтому не мог утверждать, помогло ли оно ее выздоровлению. Когда он описал случай Брейеру, Йозеф воскликнул: – Что, по–твоему, стало ее навязчивой идеей? – Видимо, черви, Йозеф. Она, вероятно, откусила червивое яблоко. В Сальпетриере был случай мужской истерии: молодой каменщик по имени Лион увидел солитера в экскрементах, червь вызвал у него колики и дрожь конечностей. Через несколько лет, когда кто–то запустил в него камнем, ему вновьпричудился солитер, и дело окончилось эпилепсией. Брейер покачал головой, его лицо выдавало отчаяние. – Наш организм – настолько сложная машина, что мог быть создан только гением. Высочайшее произведение искусства, как это доказал Микеланджело. А что мы с ним делаем? Сыплем в локомотив песок, пока колеса изойдут скрипом и остановятся. – Под песком, Йозеф, ты подразумеваешь… идеи, образы, иллюзии, плод воображения?… – Если бы я знал, что означает «песок», мой дорогой Зиг, то я был бы психологом, а не специалистом по полукруглым каналам среднего уха голубей. Птицы не шарахаются в страхе от червей, они едят их. Второй месяц частной практики принес обнадеживающую сумму – сто пятьдесят пять долларов. Ему теперь было достаточно лишь слегка загипнотизировать себя, чтобы считать, что свадьба стала доступной. Марта согласилась с его соображениями; они назначили дату брачной церемонии на конец лета. В последнюю неделю июня поступили плохие известия. Официальное правительственное письмо извещало, что первый лейтенант доктор Зигмунд Фрейд, резервист, с десятого августа призывается в армию на полный месяц службы. Австрийское военное ведомство опасалось возобновления прошлогодней войны между Сербией и Болгарией. Лейтенант Фрейд будет ответственным за состояние здоровья солдат во время военных маневров у Оломоуца. Прошло семь лет после прохождения им годичного срока армейской службы в военном госпитале на улице Ван Свьетен, где он в свободные часы переводил книгу Джона Стюарта Милля. Он не был скандалистом, но сейчас метался по кабинету и прихожей, к счастью пустым в этот утренний час, извергая резкие слова, приходившие ему на ум, проклиная войны, военных, призывы, маневры… и, в частности, свое невезение. За те три года, что он работал в Городской больнице, было бы просто отказаться от армейской службы. К следующему году его должны были уволить вчистую. – Почему именно сейчас? – вопрошал он. – Когда я только начал практику? Когда ко мне пошли больные, когда я стал зарабатывать на жизнь? Как я могу сейчас исчезнуть, отказаться от своей практики? Мне же придется начинать все сначала. Я не могу оплачивать помещение, находясь вдали от дома. Что делать со свадьбой? Я должен найти дом, куда поселить Марту. Проклятье! Он надел шляпу, пересек муниципальный парк и обежал Ринг, вымещая свое отчаяние и ярость на тротуарных плитах. К моменту возвращения его мозг был, образно говоря, весь в синяках, как и ноги; он устал, но не настолько, чтобы не написать Марте длинное письмо об обрушившемся на него несчастье. Она ответила спокойной запиской, советуя не бродить долго под жарким августовским солнцем. Натянуто усмехаясь по поводу той легкости, с какой его невеста сбила с него спесь, он пошел к родителям и попросил Амалию достать из сундука старую униформу. Она пахла нафталином и была помятой, но все же сидела на нем вполне сносно. Парадный мундир светлого цвета застегивался от правого плеча на восемь серебряных пуговиц; темный воротник подпирал подбородок, широкие обшлага – в цвет воротника. Брюки были черного цвета, как и ботинки, шляпа высокая, круглая и темная с выступом впереди, на котором выделялся медицинский знак различия. Якоб, оплативший форму, сшитую по заказу, когда Зигмунду было двадцать три года, заметил: – Мой Зиг хитер. Он достаточно ловок, чтобы его призвали в мирное время. – Но недостаточно умен, чтобы уклониться от призыва, – парировал Зигмунд. – Ты можешь месяц понаслаждаться в деревне, – сказала Амалия. – Посмотри, как ты побледнел от больничного воздуха. Спорить с военным ведомством бессмысленно. Следовало подчиниться неизбежному. Самый лучший месяц для врачей в Вене – октябрь, когда венцы после летнего отдыха в горах возвращаются, устраиваются в своих апартаментах и решают, что следует обратить внимание на болезни, которые беспокоили их еще весной, но о которых не хотелось думать в предвкушении славного лета в горах. Ему следует назначить день свадьбы сразу же после увольнения из армии. Затем они отправятся в двухнедельное свадебное путешествие и к первому октября вернутся в Вену. К этому моменту он должен иметь помещение, чтобы немедленно возобновить практику. Последующие несколько дней он рыскал по Вене в поисках свободного помещения, отвечающего требованиям медицинского кабинета. В Вене супружеские пары, особенно лица свободных профессий, предпочитали проводить всю жизнь в одной и той же квартире. Нужно было выбрать такую, чтобы его родителям было удобно посещать его. Квартира должна быть в престижном районе, иначе могли подумать, что доцент доктор Зигмунд Фрейд – неудачник. Роза осмотрела около дюжины свободных помещений; Амалия и Якоб бродили по улицам, рассматривая вывески и объявления. Квартиры попадались либо слишком большие, либо слишком маленькие, либо неудобные, либо чересчур дорогие. Лишь к середине июля он нашел подходящее помещение. Только что было закончено строительство многоквартирного дома около Ринга по заказу императора Франца–Иосифа. Архитектором был некий Шмидт, спроектировавший импозантную ратушу Вены. Арендная плата была умеренной, комнаты – большими, здание имело красивый внутренний дворик, а лестницы украшены орнаментами, милыми сердцу венцев. И все же двенадцать привлекательных квартир пустовали! Этот дом искупления был построен на месте Рингтеатра, сгоревшего в чудовищном пожаре 8 декабря 1881 года, когда погибло почти четыреста венцев. Напоминание об этом событии было настолько болезненным и печальным, что люди отказывались въезжать в этот современный и красивый многоквартирный дом в Вене. Дом отвечал запросам Зигмунда: выгодное расположение – всего в квартале от университета, Обетовой церкви с ее парком и на расстоянии одного–двух кварталов от Городской больницы. Когда смотритель провел его по апартаментам на первом этаже в угловой части дома, выходящей на обсаженный деревьями торговый бульвар Марие–Терезиенштрассе, Зигмунд нашел, что они идеально спланированы. Аренда стоила больше, чем можно было позволить себе в настоящий момент, но он рассудил: «Все стоит дороже, чем я могу себе позволить сейчас!» На деле же, если подсчитывать по реальным венским ценам, помещение сдавалось за половинную стоимость. Зигмунд не мучился угрызениями совести, въезжая сюда; представившуюся возможность нельзя упустить. Он написал Марте, не скрывая мрачные подробности трагического пожара. Он спрашивал, согласна ли она переехать в дом с такой славой; по его мнению, он стал бы прекрасным местом для начала их совместной жизни и для практики. Марта быстро сообщила о своем согласии по телеграфу. Она также согласилась с тем, что он и Роза обставят квартиру, взяв за образец то, что Зигмунд видел в Гамбурге. Благодаря подаркам тетушек и дядюшек Марта располагала приданым, оценивавшимся в две тысячи долларов. На эти деньги можно было обставить помещение, приобрести прочную мебель для гостиной, столовой и спальни. Роза должна прислать ей образцы ковров и занавесей. Она вышлет деньги, как только потребуется оплата. Столовую посуду, серебро, стекло и постельное белье покупать не нужно – будет много подарков от семьи Бернейс и от семьи Филиппс, от Фрейдов и друзей Зигмунда. Зигмунд боготворил свою невесту за ее спокойный, деловой разум, но иной была его будущая теща. Он получил письмо от фрау Бернейс, которая только что узнала о намерении Зигмунда жениться на Марте в середине сентября, а не в конце года и всего лишь после шестинедельной частной практики. Письмо было подобно самой большой взбучке, какую он когда–либо получал. Фрау Бернейс писала о «безрассудстве» поспешной свадьбы, называла его непрактичным, а также иррациональным, безответственным и бесконечно глупым!5
Армейский лагерь в Оломоуце показался ему на первый взгляд гнусной дырой. Однако размышлять об этом было некогда, ибо ему предстояло вставать в полчетвертого утра и до полудня маршировать вместе с солдатами по каменистым полям в целях отражения фиктивного нападения на черно–желтый австрийский флаг. Разыгрывалась попытка взять крепость, а доктору Фрейду надо было лечить солдат, якобы получивших ранения. Солдаты были набраны из числа резервистов и явно не пользовались благоволением Генерального штаба. Когда они лежали в поле и над их головами грохотали пушки, мимо проехал генерал и хрипло закричал: – Солдаты, знаете ли вы, что вы вряд ли бы еще дышали, если бы использовались настоящие снаряды? Вы все были бы мертвы! В полдень Зигмунд прочел лекцию о полевой гигиене. Солдаты хорошо посещали этот курс, и он подозревал, что это вменялось им в обязанность. На самом же деле отношение к лекциям было настолько хорошим, что отвечавший за них офицер отдал команду перевести их на чешский язык, а Зигмунд получил звание капитана, полкового врача. Зигмунду казалось, что он возненавидит этот месяц, но, к собственному удивлению, его заботы, проблемы и тревога за будущее испарились под жарким солнцем. Он загорел на свежем воздухе, отменно питался в офицерской столовой, крепко спал после физической усталости, был предупредительно вежлив со старшими офицерами и заботился о больных, госпитализированных, как правило, по поводу дизентерии, солнечных ударов или сломанной лодыжки. Кризис возник, когда у одного солдата появилось подобие двигательного паралича. Доктор Фрейд с большой осторожностью ухаживал за солдатом, начав с инъекций мышьяка. К концу недели симптомы исчезли. По его мнению, это был случай истерии, но Зигмунд не написал об этом в своем письменном отчете. К концу месяца службы контрольное бюро дало ему отличную оценку не только за медицинское обслуживание, но и за отношение к маневрам и к австро–венгерской армии в целом. Он вернулся в Вену, сменил мундир на гражданскую одежду и сел на первый поезд, направлявшийся в Гамбург. В чемодане у него лежал фрак, плиссированная сорочка и черная бабочка для церемонии в ратуше. У него было мало времени, и, только сев в купе второго класса, он осознал, что прежней тревоги не было. Он поехал в Оломоуц с раздражением, а сейчас был рад тому, как провел месяц. Никогда его физическое состояние не было таким хорошим. – Каждому мужчине следует пройти месяц напряженной военной тренировки перед медовым месяцем! – воскликнул он восторженно. Марта и Минна тепло поцеловали его, когда он добрался до Вандсбека. Фрау Бернейс явно простила его за отказ прислушаться к ее наставлениям и подставила щеку для приветственного поцелуя. В глазах Марты мелькнул озорной огонек. – Хорошо, Марти, оставим прошлое. Ты что–то замышляешь на мой счет? – Вовсе нет, Зиги. Не пройтись ли нам по саду? Это была не просьба, а команда. Он взял ее под руку, и они принялись кружить по гравийным дорожкам у дома Бернейсов. – Хорошо. Что у тебя на уме? Она покраснела, но это не помешало ей сказать то, к чему она готовилась уже несколько недель. – Зиг, я знаю, это будет для тебя ударом, но если церемония будет проведена только в ратуше, то наш брак не будет законным в Австрии. – О чем ты говоришь? Это глупость! – Да, дорогой, я знала, что ты так подумаешь. Вот почему я сделала выписку из закона. Его обнаружила одна из кузин. Прочитай. Он гласит, что в Австро–Венгерской империи брак не считается законным, если не совершена религиозная церемония. – Ну, Марта, ты знаешь, у нас нет времени принять католичество. Его глаза сверкнули. – Меня склонили к браку, и этого на сегодня достаточно. Мы можем заключить брак на церемонии в ратуше. Но после этого мы должны вернуться сюда и осуществить религиозный ритуал. Пока раввин не подпишет наши документы, мы остаемся женихом и невестой. Он понимал, что переубедить ее не удастся, и, шагая по саду, бросал протестующие фразы через плечо. Якоб Фрейд был приписан к синагоге во Фрайберге, где Сали Каннер родила ему двух сыновей и они прошли через положенные церемонии. Но он не обязывал ни Зигмунда, ни Александра осуществить ритуал, совершаемый над тринадцатилетними и означающий превращение мальчика в мужчину. В доме Фрейдов не почиталась официальная религия, после того как Якоб переехал в Вену и стал свободомыслящим. Единственное, что соблюдали в доме Фрейдов, пока рос Зигмунд, так это праздник Пассовер, обед и службы, знаменующие исход евреев из Египта и переход через Красное море. Зигмунду нравилась традиционная церемония, ибо Якоб знал обряд наизусть и, сидя во главе сверкающего белизной стола, пускал вкруговую три листа мацы, завернутых в салфетку, зажаренную баранью ногу, горькие травы, шароз – мелкорубленые орехи, яблоко и корица, – мелко порезанную петрушку, соленую воду и чарку вина для Элии. Он декламировал старинную историю высвобождения Израиля из рабства на прекрасно поставленном древнееврейском языке. Зигмунд подошел к Марте. – Я не верю в религиозные ритуалы. Бессмысленно проходить через пустые формальности. Брак – это гражданский контракт. Ратуша – единственное место, где мы обязаны принести клятву. Я говорил тебе в течение четырех лет, что не буду проходить религиозную церемонию. Ты меня не заставишь. – Дело не во мне, Зиги, дорогой, – мягко ответила она. – Виноват твой любимый император Франц–Иосиф и его министерство. Ты не должен перекладывать на меня вину Австро–Венгерской империи. Она села на стул из кованого железа, выкрашенный белой краской, сложив руки на коленях, вся ее поза выражала трогательную симпатию. Наконец, уставший от эмоций, он опустился на колени и, положив свои руки на ее колени, взял ее руки в свои. – Марта, ты знаешь, что я не пытаюсь отречься от нашего наследия. Формальности, против которых я протестую, приносили счастье старым евреям, потому что обеспечивали им утешение. Мы не нуждаемся в этом. Но даже если мы не ищем укрытия, то кое–что от сути и смысла жизнеутверждающего иудейства будет присутствовать в нашем доме. Я сдаюсь. Марти, не думай, что у меня какие–то претензии на этот счет. Я понимаю, что пустой протест против форм может быть так же глуп, как сами формы, против которых протестуют. Так что я должен сделать? – Прежде всего ты должен выучить на память молитвы. Дядюшка Элиас Филипп научит тебя молитвам. – Почему учить наизусть? Могу ли я их просто прочитать? – Зиги, даже неграмотные в состоянии запомнить этот набор молитв. У вас, приват–доцент Фрейд, два полных дня. Гамбург же высокого мнения о Венском университете. Разве ты хочешь нанести смертельный удар собственной альма–матер? – Что еще следует сделать? – Ты встанешь под хуппой со мной, так что мы будем обручены символически внутри стен Первого храма. Я убедила раввина, что мы ограничимся церемониальными молитвами, и тебе не нужно будет читать молитву об обязанностях супругов. Когда церемония закончится, ты наступишь на рюмку и раздавишь ее. Это принесет нам удачу в браке. Семья провозгласит тосты в честь невесты и жениха, и испытание останется позади. В последующие три дня в доме царило необычное оживление: то и дело приносили цветы, сладости, подарки. Деревянная решетка хуппы была украшена зелеными листьями. Временами Зигмунд наблюдал за происходящим через открытую дверь, временами чувствовал, что мешает, и уходил побродить вдоль доков, разглядывая иностранные суда, приходившие в порт. Вернувшись однажды после полудня, он взял в ладони лицо Марты и поцеловал ее. – Я не пошел бы на это ради кого–либо другого. Она ответила благодарным поцелуем. – А я не стала бы убеждать кого–либо другого! Они провели счастливые две недели в Травемюнде, курортном городке на Балтике к северу от Гамбурга. Они нежились во сне по утрам, а пробуждаясь, снова оказывались в объятиях друг друга. Затем на уединенном балконе с видом на море поглощали запоздалый завтрак: дымящийся горячий шоколад, теплые булочки, завернутые в салфетки, свежее сливочное масло. После завтрака купались в мягких волнах своей бухточки, дремали после ланча, вечером прогуливались по опустевшему песчаному пляжу. Между ними была полная гармония: для пары, преданно любившей и ожидавшей друг друга четыре года, полных трудностей, борьбы, лишений, а иногда и разногласий, брак был не только окончанием долгой осады, закалившей их, но и концом борьбы. Теперь пришло время наслаждаться плодами победы. Они проявили настойчивость и одержали ее, одолев внешне враждебный мир. – Мы были честолюбивыми. Лишь скромные желания выполняются быстро, – прошептал он, когда они лежали в постели и наблюдали за лунной дорожкой на море.6
Они приехали в Вену в полдень в конце сентября. На Северном вокзале их встречали его родители и сестры, Дольфи и Паули принесли цветы для Марты. Носильщик поставил их чемоданы на свою тележку и направился к дому. Роза села с ними в фиакр, горя желанием рассказать Марте, как добросовестно выполнила она ее письменные указания. Остальные члены семьи Фрейд пошли пешком, предварительно получив от новобрачных обещание явиться в родительский дом к семи часам на торжественный обед. Зигмунд просил кучера проехать перед фасадом здания, по Шоттенринг, где он снял помещение. Марта была в восторге, увидев похожий на храм фасад, импозантный вход в виде готической арки высотой в два этажа, круглое углубленное окно с витражами над аркой, искусно обрамленные итальянские окна и балконы в стиле Ренессанса, купола, карнизы, башенки, шпили на уровне крыши и по фронтону, выразительные мужские и женские фигуры. Император Франц–Иосиф надеялся, что богатые украшения дома залечат память о жертвах катастрофы. Входная дверь в квартиру Фрейда находилась за углом, на Марие–Терезиенштрассе; вход не был столь пышно украшен, если не считать красивых перил из кованого железа, которые вели к их квартире. Смотритель дома проводил их до двери, открыл ее и церемонно вручил ключи. Зигмунд дал золотую монету в четыре гульдена мужчине, который привез тяжелые сундуки и ящики с приданым Марты из Вандсбека. Марта провела рукой по фарфоровой вывеске, сделанной по рисунку Матильды Брейер. Зигмунд распахнул дверь. Она вошла в просторную прихожую, где могла разместиться дюжина пациентов, затем окинула беглым взглядом другие комнаты; прежде чем повернуть направо и войти в спальню, задержалась в дверях, и ее лицо озарилось широкой улыбкой. Роза и Марта постоянно обменивались письмами, пересылали лоскутки материй различной текстуры и цвета для штор и обивки мебели и даже наброски рисунков мебели, которую следует купить. Марта пошла тем не менее на риск, предоставив Розе и Зигмунду право последнего слова в решении, как обставить дом и эту наиболее интимную из комнат. Как ни уговаривала Роза владельцев магазинов Ярейя и Пор–туа и Фикса, самое большее, чего она смогла добиться, – это договоренность, что фрау Фрейд может вернуть лишь один гарнитур мебели, но взяв на себя оплату доставки в оба конца. Марта обняла в порыве радости Розу, и та вздохнула с облегчением. – Слава богу! Я так надеялась, что тебе понравится. До свиданья. До семи вечера. Считая, что негигиенично покрывать весь пол в спальне коврами, Роза ограничилась тем, что положила по обе стороны кровати яркие подделки под восточные ковры, изготовлявшиеся в Вене. Над двумя окнами, выходившими во внутренний дворик, были пристроены карнизы для гардин, а сами гардины бордового цвета подвязывались по бокам лентами с кистями. Кровать была закрыта бархатным покрывалом цвета доброго бургундского вина. Деревянные части кровати были украшены резьбой, особенно красивыми были арабески из цветов и геометрических фигур на изголовье, высоком, почти в рост Марты. Зигмунд обхватил руками талию жены, стоя сзади нее, и прижался к ней. – Кровать выглядит достаточно крепкой, не так ли? Сможем ли мы заложить здесь династию? Она повернулась и быстро поцеловала его. – Да, но не сейчас. Она нежно провела рукой по высокому инкрустированному деревом гардеробу, посмотрела на стойку в углу с двумя кувшинами и тазами на тонкой мраморной плите. В кухне пол и нижняя часть стен были выложены керамическими плитками; под полками были закреплены крючки для мешалок, черпаков, кухонных полотенец. Буфет для посуды был светлым, из сосны; на верхней полке стояли в ряд фарфоровые банки с надписями: «Соль», «Кофе», «Чай», «Сахар», «Мука», «Манная крупа». На стене над столом висели забавная картинка и круглая салфетка с вышитой Амалией надписью: «Собственный очаг стоит золота». Марта сказала: – Верно. В Гамбурге говорят, что в браке добрый очаг важнее хорошей кровати. Напротив спальни, по другую сторону прихожей, имелись три комнаты. Самая отдаленная из трех должна была стать приемным кабинетом доктора Фрейда; здесь размещались письменный стол и кресло, книжные полки и черная кушетка. В средней комнате, самой маленькой из трех, обшитой деревом, стоял большой обеденный стол из красного дерева с массивной верхней доской и резными ножками. Восемь стульев по просьбе Марты были обиты кожей, их сиденья были достаточно широкими для любого венца среднего возраста, который сполна поглотил отведенную ему долю супа с клецками и разных закусок. Как того требовал этикет, под столом во всю его длину лежал ковер, а в оставшемся свободном пространстве доминировал огромный буфет, вернее, комбинация буфета со шкафом, в ящиках которого хранилось столовое серебро, а верхние полки со стеклянными дверцами были заставлены фарфором, бокалами. Деревянные детали буфета не имели и миллиметра, свободного от резьбы, изображавшей херувимов, фрукты и цветы. – Поистине австрийцы боятся пустоты. Каждый дюйм поверхности, оставшийся без украшений, считается голым, а следовательно, неприглядным, – заметил Зигмунд. Столовая производила впечатление солидности, свидетельствующей о благонадежности и процветании владельцев. Жилые комнаты были настолько просторными, что Роза смогла выполнить пожелания Марты, поставив по обе стороны широких окон большие застекленные книжные шкафы. Приподнятый почти на десять сантиметров пол в нише был покрыт турецким ковриком. Там стояла козетка, над которой висела мандолина, а напротив – скамья с подушками; ближняя к ней стена была украшена безделушками на небольшой полочке. К стене напротив прислонился обтянутый коричневым бархатом диван с круглыми валиками по бокам и с ниспадающими до пола кистями. Около инкрустированного столика стояли стулья в чехлах, у двери высилась горка для безделушек и дрезденских фарфоровых фигурок, которые коллекционировала Марта. В одном углу приютилась отделанная керамической плиткой печь, в другом – гамбургские часы, приобретенные Розой в венском Доротеуме, где выставлялась на аукцион мебель, поступавшая из провинции и других стран Европы. – Молодчина, Роза! Она скучает по жениху. – Марта обняла мужа и нежно его поцеловала. – Мебель не нужно возвращать компании! Она улыбнулась с хитрецой – ничего не нужно и покупать. Комнаты были обставлены полностью добротной мебелью, как у достойного венского буржуа. Обстановки хватит на всю жизнь. – И мне больше всего нравится в нашем доме то, что он свежий, с иголочки, – объявила она. – До нас здесь никто не жил. – Девственный, – прошептал он, – подобен нам, невинным детям. На следующее утро он плескался с удовольствием в своей первой личной ванне, вспоминая о ванне Брейера, куда вода накачивалась насосом из кувшинов, а здесь достаточно было открыть кран обогревателя. Он оделся, убрал постельное белье и уселся за обеденным столом, читая первую страницу «Нойе Фрайе Прессе». Из булочной Марта вернулась со свежевыпеченным хлебом. Он посмотрел на нее с удивлением. Челка, которую он запомнил с первой их встречи, исчезла. Ее волосы были зачесаны в тугой пучок, покрытый сеткой. Она часто подавала ему завтрак в Вандсбеке, но то было в доме ее матери. Теперь же на ее лице было совсем иное выражение. Помогая ему взять масло и мармелад, она чувствовала себя хозяйкой всего, управительницей своей скромной империи. Он погладил ее по щеке. – Как вы изменились, фрау докторша Фрейд! Если бы встретил вас в сумерках, то не узнал бы. – Ах, узнали бы! Мой кофе так же хорош, как тот, что вы пили в парижских ресторанах? Если вы соблаговолите попросить смотрителя дома открыть мои ящики и чемоданы, то я смогу пойти на биржу труда и найти молодую девушку из Богемии; они лучшие повара и домашние работницы. – Убедись, умна ли она. Ведь ей придется впускать пациентов, кипятить мои инструменты и помогать стерилизовать иглы шприцев на твоей печурке. У него не было уверенности, что они смогут осилить даже начальную оплату служанки в четыре доллара в месяц, но горничная нужна немедленно: доктору и его жене категорически запрещается открывать дверь пациентам. Приводя в порядок свои бумаги на столе, он услышал резкий стук в дверь. Мужчина, назвавшийся очевидцем, просил доктора Фрейда поспешить на улицу Шоттенринг, где экипаж сбил мальчика. Зигмунд пересек двор и в нескольких метрах от тротуара Ринга увидел светловолосого парнишку лет четырнадцати, лежавшего на земле, а разъяренная толпа угрожала кучеру экипажа. Тело парнишки то и дело вздрагивало. Зигмунду надлежало быстро принять решение: если есть серьезные повреждения, то больного надо немедленно доставить в Городскую больницу. Он убедился, что мальчик не стукнулся головой при падении, что кости целы, что колеса кареты не проехали по телу. Он попросил двух мужчин отнести дрожащего паренька в свой кабинет, дал ему болеутоляющее средство и осмотрел, есть ли синяки. Когда приехали напуганные родители, он успокоил их. Марта вернулась с пухленькой, розовощекой девушкой, приехавшей в Вену лишь накануне с обедневшей фермы в Южной Богемии. Она была одета в безупречно чистое деревенское платье. Марта представила девушку по имени Мария профессору Фрейду, затем отвела служанку с ее скромным узелком в каморку около кухни, размером с комнату, которую Зигмунд занимал в доме родителей. Марта вернулась в кабинет Зигмунда и с удовольствием узнала о его первом больном. – Как полезны вывески на внешней двери, – заметила она, – они лучше, чем объявления в «Нойе Фрайе Прессе». – Не совсем, – ответил он, – нельзя помещать объявление дважды за столь короткое время. Кроме того, в данный момент мы не можем выделить восемь долларов. Ты вроде довольна своей Марией? – Приходилось ли тебе когда–либо бывать на бирже труда? Там по меньшей мере двадцать девушек сидят на скамьях вдоль трех стен, между ними суетятся фальшивые «фрау танте» – сравнительно пожилые женщины, которые подслушивают разговоры и услугами которых можно воспользоваться, если горничная найдет дом и работу непривлекательными. Первая девушка, с которой мне предложили побеседовать, была из Венгрии. Она спросила: «Дадут ли мне ключ от квартиры, чтобы я могла приходить и уходить?» Вторая была из Галиции; она хотела, чтобы ее отпускали вечером после мытья посуды, потому что у нее есть любовник. Третья, из Румынии, пожелала знать, часто ли мы устраиваем приемы, чтобы она могла получать чаевые. Затем пришла Мария. Когда я спросила ее, чего она желает больше всего от работы, она скромно ответила: «Быть частью семьи и встретить доброе отношение». Я спросила, есть ли у нее фрау танте. Она сказала: «Нет, милостивая госпожа, я не люблю фальши. Если что–либо будет не так, я сама скажу госпоже». Думаю, что нам повезло. Смотритель раскрыл все ящики Марты. Зигмунд не мог поверить своим глазам: ручные и банные полотенца десятками, и все с монограммами; стопки простыней и наволочек; запас кухонных полотенец, тряпки для пыли; одеяла, перины, подушки, покрывала, салфетки, накидки на мебель; скатерти и столовые салфетки; наборы полотна для повседневной одежды, полотно домашнего изготовления – всего этого хватило бы лет на двадцать. Вслед за этим было распаковано белье Марты и постельное белье – также десятками штук, ночные рубашки без кружев, но с оборками и воротничками; сорочки, носовые платки с вышивкой, пеньюары из мягких цветных хлопчатобумажных и шерстяных тканей; костюмы из джерси для прогулок в горах; и, наконец, дамские панталоны с розовыми и голубыми лентами. Его душил смех при виде явно неистощимых запасов. – Ты не бездельничала все эти четыре года, верно? У тебя достаточно товаров, чтобы открыть лавку. – Ты не захотел бы жениться на бесприданнице, правильно? Он обнял ее. – Ты создашь очаровательный дом. Ты всегда будешь хозяйкой, а я твоим добропорядочным гостем.7
Молодой парень, сбитый экипажем, пришел в нормальное состояние после нескольких сеансов электротерапии. Когда явился его отец оплатить счет и доктор Фрейд объяснил успешное излечение действием электротерапии, он ответил: – Возможно, и так, господин доктор, но мой Иоганн думает иначе. Он сказал матери и мне, что ему помогли ваша доброта и ваши чудесные глаза. «Может быть, так, господин доктор, – ворчал про себя Зигмунд несколькими днями позднее, – но мои чудесные глаза не видели несколько дней ни одного нового пациента. Я оплатил аренду за весь сентябрь, рассчитывая принять толпы, ломящиеся в нашу приемную. Мы наняли горничную, чтобы открыть практику должным образом, но даже бесплатные пациенты ко мне не пришли…» После первоначальных расходов, связанных с въездом в дом, покупок Мартой нужных ей вещей – кастрюль, сковородок и оплаты оставшейся части аренды на квартал, что составило четыреста гульденов, им пришлось затягивать пояса. Пришлось заложить золотые часы Зигмунда; золотую цепочку, красовавшуюся на жилете, он оставил себе, чтобы не подрывать свой престиж. В прошлом подобное ввергло бы его в состояние депрессии, но сейчас он был слишком счастлив, чтобы тревожиться: у него была Марта, любовь, дружба, чудесный дом, в который их друзья продолжали присылать цветы и подарки. Не проходило дня, чтобы не появлялся рассыльный то от магазина Папке с серебряным кофейным сервизом в подарок от Брейера, то от Фестлера – с изумительным серебряным блюдом, посланным Флейшлем, с набором серебряных чаш для фруктов от семейства Панет, с мейс–сенским фарфором, с хрустальными вазами, небольшими восточными ковриками, красивыми дрезденскими фигурками для кофейного столика и для коллекции Марты… Когда он понял, что за октябрь не заработает даже пятидесяти долларов, и предупредил Марту, что и ее часы вскоре попадут к ростовщику и займут место рядом с его часами, Марта откровенно сказала: – Почему бы вместо этого не взять взаймы у Минны? Она будет рада помочь. У нее есть деньги для приданого, а они ей некоторое время не потребуются. – Знаешь, Марти, возвращаясь домой из ломбарда, я развлекал себя тем, что пересказывал Книгу Бытия. Яблоком раздора в садах Эдема были деньги. Еве надоел ее непредприимчивый партнер, и она сказала ему: «Почему мы должны оставаться в этой глухомани, где мы не можем ничего назвать своим? Ты работаешь, Адам, весь день, ухаживая за садами, а что ты можешь предъявить из полученного тобой за работу? У тебя нет даже пары штанов, чтобы прикрыть свою наготу, В любой момент нас могут выставить! С пустыми руками и нагими, как мы сюда вошли. На какого хозяина ты работаешь? Он дает лишь приказы. «Делай это! Не делай этого!» Это несправедливо. Мы должны обставить наше гнездо, накопить на старость. Адам, подумай, что мы можем сделать за пределами садов Эдема: владеть миллионами акров земли, продавать плоды садов и зерно полей. Мы можем разбогатеть! Владеть всем, что перед нашим взором. Мы станем сдавать в аренду землю всем, кто придет к нам, по несколько тысяч акров, построим замок со слугами и обученными войсками для нашей защиты, с клоунами и акробатами для развлечения… Время повзрослеть, Адам, взглянуть в лицо реальности. Давай выберемся сейчас, прежде чем завязнем здесь. Перед нами открыт мир!» Адам сказал: «Звучит разумно, Ева, но как мы можем выбраться? Хозяин не позволит уйти. Он намерен нас держать здесь вечно». Ева ответила: «Я что–нибудь придумаю». Последняя неделя октября была особенно трудной: у него не было денег на домашние расходы, но в ноябре доктор Рудольф Хробак повернул колесо фортуны. Он направил Зигмунду записку с просьбой заняться одной из его пациенток. Поскольку его назначили профессором гинекологии в клинической школе, у него не было времени обслуживать эту женщину. Она жила поблизости, на Шоттенринг; не может ли господин Фрейд прийти по ее адресу в пять часов, так, чтобы он, доктор Хробак, мог достойным образом представить его? Когда он вошел, фрау Лиза Пуфендорф лежала на розовом сатиновом диване в богато обставленной гостиной по соседству с ее спальней. Услышав, что горничная объявила о приходе доктора Фрейда, она поднялась, бледная, и, заламывая руки, стала расхаживать по комнате. Ей еще не было сорока, но лицо ее выглядело помятым, а под глазами темнели круги. Зигмунд спросил: – Фрау Пуфендорф, господин доктор Хробак сообщил вам, что я приду? Ее глаза обшаривали комнату, словно она искала лазейку, чтобы сбежать. – Да, да, но его здесь нет. Его здесь нет. Где он может быть? – Он придет с минуты на минуту. Успокойтесь. Было бы полезно, если бы вы сказали, что вас беспокоит. Она лихорадочно переставила высохшие цветы, стебли, колючки и павлиньи перья в вазе, стоявшей на захламленном камине. Зигмунд наблюдал за ней. – Мы должны найти доктора Хробака, – настаивала она. – Я должна знать. – Она рванулась от камина, в ее глазах застыл глубокий страх. – Я должна знать каждую минуту, где он. Это единственная гарантия моей безопасности, я должна найти его немедленно, что бы со мной ни случилось. Я должна знать, в университете ли он. Я должна быть в курсе, где он. Доктор Фрейд уговаривал ее не волноваться. Женщина стала немного спокойнее. Вошел доктор Хробак. Фрау Пуфендорф свалилась на диван. Хробак потрепал ее отечески по плечу и сказал: – Извините нас на секунду, дорогая фрау Пуфендорф. Я хочу проконсультироваться с моим коллегой. Хробак отвел Зигмунда в соседнюю комнату. Они сели на хрупкие золотистые стулья. Хробак был мягким человеком, привыкшим говорить с коллегами в той же успокаивающей манере, в какой он говорил с больными. – Мой дорогой Фрейд, вы видели состояние фрау Пуфендорф. У нее нет никаких физических нарушений, за исключением одного – хотя она замужем восемнадцать лет, она все еще девственница. Ее муж импотент. Врач может лишь относиться с пониманием к браку этой несчастной женщины, успокаивать ее и скрывать ее проблемы от публики. Я должен предупредить вас, дорогой коллега, что доверяю вам не самый хороший случай. Когда друзья фрау Пуфендорф узнают, что у нее новый врач, у них появится надежда, что вы добьетесь больших результатов. Когда же вы не добьетесь, люди вновь скажут: «Если он настоящий врач, то почему же не может вылечить фрау Лизу?» Слова Хробака озадачили Зигмунда: – Помимо бромидов и других успокаивающих лекарств, которые она могла бы принимать, не можете ли вы посоветовать что–либо для лечения? Хробак покачал головой, печально улыбнувшись. – Ее муж не требует медицинской помощи. Импотенция, видимо, его не тревожит. Что же касается пациентки, то есть единственное предписание для такой болезни. Вы его знаете, но нет способа эффективно предложить его. Рецепт звучал бы так: «Нормальный пенис в повторных дозах». Зигмунд был буквально застигнут врасплох. Он смотрел на друга с изумлением, качая головой, пораженный цинизмом Хробака. Он думал: «Нормальный пенис в повторных дозах. Что это за медицинский совет?» В его ушах прозвучал голос Йозефа Брейера: «Такие случаи – всегда дело супружеского алькова», а также возглас Шарко: «В такого рода случаях вопрос всегда касается половых органов… всегда, всегда, всегда!» – Пойдемте, дорогой коллега, – тихо сказал Хробак, – вернемся к пациентке. Вам следует знать, если будете за ней ухаживать: фрау Пуфендорф должна быть в курсе того, где вы в любую минуту дня и ночи. – Это будет не трудно, – спокойно ответил Зигмунд. – Я придерживаюсь строгого расписания. Но если у госпожи Пуфендорф нет никаких физических нарушений, то почему она должна все время знать, где мы находимся? – Все эти годы я задавался тем же вопросом. Может быть, вы решите загадку? Прежде чем уйти, Зигмунд записал свой дневной распорядок, с тем чтобы фрау Пуфендорф могла в считанные минуты известить его. Он шел домой медленно, углубившись в размышления. Что значат эти мимолетные суждения Брейера, Шарко, а теперь и Хробака? В каких лекциях или клинических демонстрациях выражены такие же настроения? Какая научная работа или монография придерживается позиции, что половая активность лица, мужчины или женщины, затрагивает физическое здоровье или умственную и нервную стабильность? Содержится ли какая–либо медицинская истина в столь радикальной и неприглядной мысли? Если так, то каким образом выяснить это? Где найти лабораторию, в которой можно было бы так же рассмотреть феномен полового сношения, как изучают под микроскопом окрашенные срезы мозга? Сама мысль казалась неуместной. Брейер, Шарко и Хробак просто не рассчитывали, что их замечания будут восприняты серьезно. Половой акт естествен и нормален. Бывают неприятные случаи, да. Воздержание, да. Разве он сам не воздерживался до тридцати лет в самом сексуальном городе мира? Но проблемы? Нет, здесь нет ничего. Он ученый, Он верит только в то, что поддается измерению.Книга шестая: Оковы зимы сброшены
1
Ему предложили прочитать лекцию о мужской истерии на первом заседании Медицинского общества, которое обычно охотно посещают представители австрийской и германской печати, члены медицинского факультета университета, врачи, занимающиеся частной практикой, а также сотрудники небольших венских больниц. Он съел несколько соленых палочек с тмином и отказался от обеда. Марта отгладила лучший костюм, Мария начистила ботинки. Шевелюра Зигмунда была приведена в порядок, борода подровнена. Марта с гордостью осмотрела его. Встреча Медицинского общества проходила в зале Консистории старого университета, казавшегося небольшим под сенью нового, построенного два года назад. Зал заседаний вмещал сто сорок человек. Зигмунд увидел профессора Брюкке, рядом с ним сидели Экснер и Флейшль, Брейер – по соседству с Мейнертом, Нотна–гель – в окружении своих молодых врачей; здесь же были и его друзья по Институту Кассовица. Заседание открыл отставной профессор Генрих фон Бамбергер, у которого Зигмунд учился много лет назад. В переполненном зале было душно от дыма сигар. Зигмунд ерзал на стуле, пока профессор Гроссман, ларинголог, делал сообщение о волчанке на деснах. Затем подошла очередь Зигмунда. Начало его выступления аудитория приняла благосклонно. Но когда он дошел до описания мужской истерии согласно классификации Шарко, который «доказал существование ясно различимых симптомов истерии», разрушив тем самым представление, будто дело идет о симуляции, профессор Мейнерт поморщился. Когда же доктор Фрейд приступил к описанию случаев, которые он изучал в Сальпетриере, Мейнерт стал разглядывать потолок. Через двадцать минут Зигмунд потерял контакт с аудиторией, многие присутствовавшие перешептывались. Председательствовавший Бамбергер заметил, что в докладе доктора Фрейда нет ничего нового, о мужской истерии было известно, но она не вызывает приступов или параличей того вида, о которых сообщил доктор Фрейд. Встал Мейнерт, пряди его длинных седых волос закрыли глаза, круглое лицо озарила улыбка, которая показалась Зигмунду снисходительной. Однако тон его голоса быстро развеял всякие иллюзии. – Господа, французский импорт, провезенный господином доктором Фрейдом через австрийскую таможню, мог казаться имеющим солидное содержание в разреженной неврологической атмосфере Парижа, но он превратился в ничто, как только пересек границу и оказался озаренным ясным научным светом Вены. За тридцать лет работы патологом и психиатром я наблюдал и установил много клинических симптомов поражения передней части мозга. Я проследил деятельность механизма мозга в болезненном состоянии. В моих исследованиях коры и клеток головного мозга и их связей со всей его пирамидой я не нашел никаких указаний на мужскую истерию. Я также не нашел афазию или анестезию как формы, предрасполагающие к заболеванию. – Он сделал паузу и благосклонно поклонился в сторону Зигмунда. – Однако я не хочу сказать, что отрицательно отношусь к таким поездкам, расширяющим кругозор, или к восприимчивости некоторых из моих более молодых и более смелых коллег. Поэтому я хочу подтвердить свой интерес к поразительным теориям доктора Фрейда и призываю его представить случаи мужской истерии обществу, с тем чтобы он мог доказать основательность своих утверждений. Зигмунд был так огорошен враждебным приемом, что не слышал ни единого слова из превосходного доклада доктора Латшенбергера, химика–физиолога, о выделении желчи при острых заболеваниях у животных. Когда он собрался с силами, чтобы преодолеть оцепенение, зал опустел. Около зала его ожидали несколько молодых сотрудников, которые хотели поблагодарить Зигмунда за доклад. Брейер ушел с Мейнертом, а Флейшль – с Брюкке. Он одиноко побрел домой. Была студеная октябрьская ночь, и каждый шаг отдавался тупой болью. Мейнерт пытался высмеять своего бывшего «второго врача» перед значительной частью венского медицинского корпуса. Марта встретила его в фойе в длинном голубом пеньюаре из шерсти, накинутом на ночную рубашку. Она взглянула на его лицо, и ее глаза помрачнели. – Зиги, что произошло? Он развязал галстук, расстегнул рубашку, провел рукой по затекшей шее. Его настроение было подавленным и болезненным. – Меня плохо приняли. Они расположились в гостиной, он пил маленькими глотками шоколад. – Надеюсь, что я не такой уж уязвимый, но я вел себя, как непослушный гимназист, и был выставлен из школы. Он встал и отошел от столика. Она никогда еще не видела его таким расстроенным, его сжатые губы вздрагивали. – Молодые члены общества всегда говорили, что старики согласны воспринимать нас только в роли слушателей. Они никогда не хотели нас выслушать. Я видел, как Бамбергер и Мейнерт грубили молодым исследователям, но никогда еще не слышал, чтобы свои возражения ониформулировали столь поспешно и ненаучно. Вероятно, мне следовало бы начать с заверений венского медицинского факультета, что парижские коллеги не в состоянии научить нас чему–либо. Меня уронило в их глазах мое предположение, что в Париже применяют более передовую неврологическую методику. Хуже того, меня сочли отступником! Предложение Мейнерта было не только ироничным, но и презрительным. – Но Мейнерт верен тебе. – Мы оказались один против другого. В темном туннеле. Два поезда. Прямо в лоб. У меня появился в итоге «железнодорожный позвоночный столб». Он обнял ее одной рукой и спокойно сказал: – Вот и неожиданное преимущество брака – плечо, на которое можно опереться, а его владельцу доказать, что я прав, а остальные ошибаются. Вечером следующего дня, когда он встретился с Брейером и Флейшлем в кафе «Ландтман», где в окружении умиротворяющих коричневатых стен и перегородок между кабинетами болтали или читали газеты на полудюжине языков собравшиеся после трудового дня, он узнал, что был и прав и не прав. Брейер и Флейшль порицали Бамбергера и Мейнерта за грубость, а затем разъяснили своему протеже, в чем его ошибка. Йозеф сказал: – Зиг, ты должен был рассказать о работах Шарко по мужскому травматизму, не рекламируя его теорию гипнотизма. «Большая истерия» Шарко в любом случае подозрительна. С тех пор как наш земляк Антон Месмер вверг Вену в скандал сто лет назад своим «животным магнетизмом», гипнотизм стал неприемлемым, неприличным словом в австрийских медицинских кругах. Флейшль кивнул в знак согласия. Брейеру и ему было нелегко порицать своего друга, но они чувствовали, что он затронул нечто более серьезное, чем преходящую склонность к ревности или неловкие манеры. Брейер продолжал: – Затем следовало бы выбросить из твоего доклада материал о «железнодорожном позвоночнике». Это второстепенный материал, и он выходит за рамки основного тезиса, что нет симптоматической разницы между мужской и женской истерией. Нас учили считать все параличи следствием видимых физических нарушений центральной нервной системы. Если ты утверждаешь, что расстройство мускульных функций и потеря чувствительности могут возникать в результате неврастении, то тогда ты осложняешь положение старых практикующих врачей. – Но что я должен сделать? Отступить? Я наблюдал случаи истерии, вылечивавшиеся в один миг после явно видимого физического паралича. Вы знаете, Шарко прав, а Мейнерт ошибается. Флейшль подал знак официанту, и тот принес свежий чай и ром, а также подсоленные булочки с ветчиной. Флейшль продолжил разговор: – Защита в Вене нужна не Шарко, а тебе. Мейнерт задет. Смягчи его. Ты ведь продолжаешь считать его крупнейшим специалистом в мире по анатомии мозга. Повторяй ему это. Каждый день в течение месяца. – Что же, я должен игнорировать то, что он задел меня? – Нет! – твердо вклинился Брейер. – Ты должен доказать свою убежденность. Но делай это не в форме противостояния, показывая, что ты прав, а Мейнерт нет. Ты должен поладить с Мейнертом, или же он тебе здорово навредит. Местом, где по логике вещей можно было бы найти больных для необходимой демонстрации, было четвертое отделение – отделение нервных болезней примариуса Шольца. Но Шольц злился на молодого «второго врача», осмелившегося перечить старшим, и не разрешил ему обследование или использование больных. По Городской больнице быстрее чумы распространился слух: доктор Фрейд – персона нон грата в девяти основных палатах. Для всех, за исключением профессора Мейнерта. Тот принял его неловкие добродушные шутки с благосклонностью, и его любезная улыбка была чуть–чуть неискренней, когда он сказал: – Разумеется, господин коллега, вы можете поискать в моих мужских палатах случай для демонстрации. Вы знаете, что я последний, кто мог бы встать на пути медицинских исследований. Зигмунд пошел в палаты, где проходил подготовку в психиатрии три года назад. На первой койке лежал бывший хозяин таверны с параличом одной руки; в его истории болезни говорилось, что он «страдает умственным расстройством». Неприятности начались с момента смерти его жены. Доктор Фрейд наблюдал, как у пациента возникал эпилептический приступ, когда больной принялся кричать, что свергнет министерство. Он извергал проклятья, пытался избивать других пациентов, пока его не укрыли под сеткой. Зигмунд отказался от демонстрации этого случая: у бедняги было полдюжины сопутствующих заболеваний. На следующее утро он осмотрел другого пациента, официанта, с нарушением речи и частичным параличом лицевых мускулов. В его истории болезни было записано: «Сумасшествие и паралич». Больному понравилось внимание доктора Фрейда, и он признался, что к нему является Господь Бог по меньшей мере сто раз в день… – …Почему же меня держат в полицейском участке? Служители мучают меня. Они бьют по моей мошонке. Подняв больного из постели, доктор Фрейд увидел, что у него неровная походка, дрожь пальцев и языка. Налицо были явные симптомы истерии с признаками мегаломании и умственного расстройства, что, как полагал Зигмунд, может помешать доказательству нужного. На следующей койке лежал тридцатитрехлетний кучер одноколки. Он страдал белой горячкой и маниакальным возбуждением, но было нетрудно распознать, что нарушения вызваны алкоголем. Венские извозчики, стараясь согреться, изрядно выпивали с раннего утра. Во второй палате он обнаружил больного с травмой: кровельщик, упавший пятнадцать лет назад с крыши. А сейчас у него появились бред и галлюцинации. Последний приступ начался у него перед доставкой в больницу, когда он избил дочь, пытавшуюся увести его из кабачка. После первого падения он стал пить, и падения с крыши стали более частыми. Пил ли он и был частично парализован по той причине, что упал с крыши? Или же упал с крыши, потому что пил? «Это безнадежный случай, – думал Зигмунд, возвращаясь домой после обхода палаты в одиннадцать часов, – там, где присутствует алкоголизм, трудно доказать, что явилось причиной травмы. Хотел бы я знать, пытался ли кто–либо выяснить причину алкоголизма?» В прихожей было много пациентов; их впускала и церемонно рассаживала Мария. Теперь, на исходе промозглого, сырого октября, его практика процветала. Вернулись бесплатные пациенты. Брейер, Нотнагель, Обер–штейнер направили к нему пациентов, которых они не могли обслужить сами. Профессор Брюкке, слышавший отпор Мейнерта их общему протеже, не обмолвился ни словом о лекции и был, как всегда, спокоен. Он направил к нему немецкого патолога, которому потребовался совет врача–невролога. Успешная работа в Институте Кассовица также способствовала расширению практики, его тамошние коллеги и домашние врачи, сталкивавшиеся с неврологическими проблемами, рекомендовали его для вызовов в дома и больницы. Иногда он не мог помочь: так было с двумя новорожденными. В первом случае от затылка ребенка отделилась небольшая масса вроде косички; во втором – младенец был гидроцефалом, у него с каждым днем увеличивалась голова из–за скопления в ней жидкости. Зигмунд поддерживал жизнь ребенка несколько недель, а затем у того началось воспаление легких с летальным исходом. Он признался Марте: – Я занялся детской неврологией, сознавая, что большая часть заболеваний в этой области неизлечима. – Зачем, Зиги, если это так тяжело? – По той самой причине, ради которой туда идут другие неврологи: с целью исследования, изучения общности патологических случаев, описания, классификации, выявления отличий от других форм… Мы должны знать, прежде чем начнем робкое продвижение к лечению. Даже через сто лет, может быть, лишь пятьдесят врачей научатся спасать детей наподобие тех двух, что я потерял. Он глубоко вздохнул. Но он в самом деле помогал, и иногда ему удавалось спасти детей, которых ему доверяли. Так, семнадцатилетний парень впал в транс, у него шла пена изо рта, он до крови кусал свой язык. В ходе подробного расспроса больного Зигмунд узнал, что, когда мальчику было восемь лет, осколком камня ему проломили череп. Рана зарубцевалась в течение месяца, но шрам на правой стороне головы вызывал раздражение, приведшее к припадку. Доктор Фрейд не мог удалить шрам и, таким образом, причину раздражения, но он установил строгий распорядок, которому надлежало следовать. К нему привели карлика – умного, прекрасно сложенного, за единственным исключением: все у него было миниатюрным. Он прописал встревоженным родителям бромиды, мальчику – усиленную диету и выяснил у своих друзей–медиков, чем следует подкармливать железу внутренней секреции. Благодаря поступлениям от этих консультаций он вернул долг Минне, выкупил свои золотые часы, снова начал складывать гульдены в кофейную кружку Амалии.2
Он жил в собственном доме, как гость. Марта просила его об одном – прекратить работу, сесть за стол с салфеткой на коленях хотя бы на одну минуту, пока Мария принесет из кухни супницу. Марта была заботливой и способной хозяйкой, и это не удивляло: свои домашние обязанности она воспринимала так же серьезно, как Зигмунд свои медицинские. Но он не сразу понял это. Два раза в неделю, когда погода была благоприятной, она будила его спозаранку. По пятницам они уходили утром на набережную Франца–Иосифа на Дунайском канале, куда на лодках привозили рыбу. Марта любила выбирать лучшее. Они шли вдоль Дуная к рынку Шанцель за свежими фруктами, положив карпа или окуня в корзинку. По субботам они совершали утреннюю пятнадцатиминутную прогулку от Ринга по Випплингерштрас–се к Хоэрмаркт, а затем к лучшим рынкам Тухлаубен и Вильдбрет, где в изобилии были куры, гуси, утки, индейки, фазаны, где крестьянки в чепцах, длинных юбках и широких фартуках расхваливали свой товар, а их мужья рубили головы птице и тут же разделывали ее на глазах у домашних хозяек. В семь утра они возвращались к завтраку, приготовленному Марией. Апогеем пиршества по утрам были среды: Марта и Зигмунд выходили из дома в пять часов, когда едва занималась утренняя заря, и направлялись в самое колоритное место Вены – на Рынок сладостей, Нашмаркт, с его сотнями стоек с манящей, аппетитной пищей, рынок этот называли также «золотыми улицами к лакомству». Там можно было отведать всевозможные деликатесы, экзотические пряности, возбуждающие ум и соблазняющие плоть. Было бы несправедливым сказать, что венцы любили свой Нашмаркт больше, чем оперу или концертный зал, но было что–то особенное в сочетании ароматов, красок и форм на этом рынке, что побуждало венца думать, будто он вкушает пищу всего мира. Зигмунд был зачарован какофонией Нашмаркта. Он сказал Марте: – Венцы выглядят счастливыми и беззаботными, потому что они любят поесть. Помимо пяти приемов пищи в день они всегда жуют. Самый важный секрет жизни, моя фрау, – делать так, чтобы всегда выделялся желудочный сок. В первом ряду располагались небольшие стойки с цветами – с каждой стороны по пятьдесят прилавков, изобиловавших буйными осенними цветами и растениями. За ними шли стойки с фруктами – апельсинами, персиками, виноградом из Албании, Франции, Болгарии и Румынии, дынями из Испании, бананами из Эквадора, орехами и изюмом из Чехословакии. Они остановились у прилавков, где продавались только яйца, за ними следовали многочисленные пекарни, торговавшие круглыми тортами «Линцер» с тремя углублениями, заполненными вареньем; ореховыми струделями, медовыми пирожками и оригинальным тирольским хлебом с гребешками наверху и посыпанными белой пудрой боками. Проходя мимо прилавков с маринованной цветной и квашеной капустой, огурцами, свежим зеленым перцем, салатом ассорти, белым перцем, салатом с селедкой, со свеклой, они отведали фаршированного телячьего сердца, чтобы согреться. В овощном ряду предлагали баклажаны, томаты, савойскую капусту, кольраби. Далее манили стойки с колбасами: ливерными, свиными, говяжьими, из требухи, с кровяной колбасой из Кракова, с венгерскими салями, с перевязанной вдоль и поперек «салями косарей», про которую венцы говорили, что «лишь однажды нашелся муж, который так любил свою жену, что съел эту салями!», стойки с копченой ветчиной и корейкой. Дальше шли мясные ряды с набором для гуляша, с подносами, на которых лежали бычьи хвосты, мозги, свиные ножки, легкие; баварская стойка с дичью, ее заднюю стенку украшали рога оленя. Красовались стойки с конфетами и бисквитами, с молотым перцем, лавровым листом, местными и заморскими специями вроде карри и корицы; бакалейные прилавки, заставленные мешками с рисом, чечевицей, фасолью, ячменем, горохом, бобами, бочками с маринованными огурцами, связками трав для супов, лимонами из Италии, луком из Испании, клюквой из Швеции; прилавки, торгующие болгарским козьим сыром, губчатыми лесными грибами. Возвращаясь домой нагруженный продуктами, которых должно хватить на неделю, Зигмунд пошутил: «Каждая страна, представленная в нашей корзине, либо раньше находилась под господством Габсбургов, либо пребывает в таком состоянии сейчас». Марте нравилось поддержать его шутливый тон в этот безоблачный час: – Тогда мы вправе сказать, что солнце никогда не заходит над пищей Габсбургов. Зигмунд получил записку от доцента доктора фон Бережази, отоларинголога, присутствовавшего на печальной памяти лекции в Медицинском обществе. Он просил доктора Фрейда встретиться с ним по важному делу в кафе «Центральное» – излюбленном пристанище венских интеллектуалов, писателей, драматургов, поэтов, журналистов, молодых адвокатов и врачей. Кафе было забито посетителями, прохладная погода заставила закрыть его часть, выходившую на тротуар, поэтому все столики были заняты. Доктор фон Бережази сделал ему знак рукой, он сидел за мраморным столиком в углу, удаленном от бильярда, от снующих официантов и гула, создававшегося возбужденными, взволнованными разговорами, которые велись за теми же столиками теми же участниками в течение всей их жизни. За кофе с булочкой выходец из католической семьи доктор Юлиус фон Бережази, который был на девять лет старше Зигмунда и обучался медицине в Будапеште, а затем в Вене, сказал: – Возможно, я располагаю случаем, который вы ищете: речь идет об интеллигентном двадцатидевятилетнем гравере, который стал жертвой гемианестезии и потери чувствительности в левой части тела. Я наблюдаю за ним уже три года. Мне было непонятно, что с ним случилось, пока я не прочитал вашу статью. Если вы не обнаружите у него что–либо физически неполноценное, не замеченное мною, то в таком случае Аугуст является образцом истерии, вызванной травмой. Позвольте мне дать вам описание. Зигмунд почувствовал, как на его виске запульсировала жилка, его охватило волнение. Это был шанс восстановить свой авторитет в Городской больнице. – Пожалуйста, расскажите. – У него был буйный отец, заядлый пьяница, умерший в сорок восемь лет; мать страдала головными болями и скончалась от туберкулеза в сорок шесть лет. Из пяти братьев Аугуста двое умерли в детском возрасте, один скончался от сифилиса, вызвавшего воспаление головного мозга, другой был подвержен конвульсиям, еще один дезертировал из армии и бесследно исчез. Когда Аугусту было восемь лет, его сбили на улице и у него лопнула перепонка правого уха. Три года назад он поссорился с братом, который задолжал ему; брат отказался выплатить деньги и кинулся на него с ножом. Хотя Аугуст не получил ранений, он оказался в шоке и упал без сознания у входа в дом. В течение нескольких недель он страдал головными болями, чувствовал слабость, тяжесть в левой части головы. Он рассказал мне, что изменились ощущения в левой половине тела, что у него устают глаза, но продолжал работать. Затем женщина, работавшая в мастерской, обвинила Аугуста в воровстве. У него появилось учащенное сердцебиение, он стал подавленным, угрожал самоубийством, в левой руке и ноге появилась дрожь одновременно с острой болью в левом колене и стопе при ходьбе. Он пришел ко мне с ощущением, будто его язык «прилип» к глотке. Никто не замечал, чтобы Аугуст занимался симуляцией. Он честно работал гравером. Не в его вкусе болеть, хотя некоторым это нравится; он страстно хочет излечиться. Могу ли я послать его к вам? – Несомненно. – Зигмунд положил свою руку на руку старшего по возрасту. – Хочу выразить вам благодарность за доверие ко мне. На следующий день Аугуст пришел в кабинет Зигмунда. Зигмунд задал серию наводящих вопросов, а затем осмотрел больного. Атрофии мышц мускулов он не обнаружил. За исключением глухих тонов сердца, он не нашел никаких других пороков. Однако в глазах пациента заметил то, что записал как «характерное для истерических больных косоглазие и нарушение цветоощущения». Все ощущения на левой стороне тела были притуплены. Хотя левое ухо сохранило слух… Он провел больного на осмотр к доктору Кенигштейну, который подтвердил, что Аугуст нормален в физическом отношении. После этого Зигмунд точно определил зону анестезии, которая охватывала левую руку, левую часть торса и левую ногу. Вонзая иголку в левый бок Аугуста, он не заметил у него болевых ощущений. Однако некоторые моменты в поведении пациента убедили Зигмунда в том, что анестезия не была соматической, что двигательные нарушения в руке и ноге во многом зависели от внешних условий. Когда он вывел его на прогулку вдоль Дуная и приказал следить за своими движениями, то Аугусту было трудно поставить правильно левую ногу. Когда же они вместе прогуливались по Рингу и Зигмунд рассказывал о величии венской архитектуры в стиле барокко, Аугуст ставил свою левую ногу столь же уверенно, как правую. Во время четвертого визита Зигмунд рассказал Аугусту историю о Петре Простаке. Пока Аугуст смеялся, Зигмунд приказал ему раздеться. Тот выполнил команду, одинаково ловко орудуя левой и правой рукой. Когда внимание Аугуста было отвлечено, Зигмунд просил пациента зажать рукой левую ноздрю. Аугуст автоматически выполнил просьбу. Однако когда доктор Фрейд стоял перед ним с видом озабоченного врача и давал команду сделать те или иные движения левой рукой, обдумав их тщательно, то каждый раз Аугуст не мог выполнить такие движения: он не мог опустить левую руку, его пальцы дрожали, левая нога вздрагивала. Вечером 26 ноября 1886 года состоялось очередное заседание Медицинского общества, и лишь немногие собравшиеся проявили интерес к доктору Фрейду и его пациенту. Зигмунд был уверен, что сможет убедить своих коллег. Он выразил благодарность доктору фон Бережази, попросил Леопольда Кенигштейна сообщить об офтальмологическом обследовании, которое дало отрицательные результаты, затем доложил о своих исследованиях за месяц, продемонстрировав результаты на пациенте. Закончив демонстрацию, он сказал: – Гемианестезия нашего пациента ясно свидетельствует о ее неустойчивости… Пределы болезненной зоны торса и степень нарушения зрения ощутимо колеблются. Основываясь на этой нестабильности нарушений чувствительности, я надеюсь восстановить у пациента нормальную чувствительность. Раздались вежливые аплодисменты. Вопросов не было, не было и комментариев. Заседание объявили закрытым; те, кого Зигмунд считал авторитетами, образовали небольшие группки и вместе вышли из зала. Он чувствовал себя опустошенным. Доктор фон Бережази поздравил его с хорошим докладом, затем подошли Кассовиц, Люстгартен, Панет, по–дружески пожав руку. Зигмунд понимал, что он не доказал в полную меру наличие мужской истерии, и тем не менее считал, что ему удалось подтвердить одну истину – многие случаи анестезии и нарушения функций возникают по причине истерии. Однако по поведению более пожилых врачей он сделал вывод, что они не придают значения проведенному им эксперименту. Профессор Мейнерт и слова не сказал о демонстрации, словно забыл о ней или же, как показалось Зигмунду по некоторой холодности манер Мейнерта, посчитал ее бесполезной. Никто не обсуждал доклад. Это придало Зигмунду решительность. Он ежедневно занимался с Аугустом по полчаса активным массажем, электротерапией, убеждаясь в том, что организм по–степенно восстанавливается, что возвращается чувствительность кожи, исчезает дрожь пальцев. Результаты накапливались медленно, но они были несомненными. Через три недели Аугуст возобновил работу в граверной мастерской с полной нагрузкой, хотя чувствительность левой стороны тела не восстановилась полностью. У Зигмунда был соблазн вновь выступить в Медицинском обществе, но затем он решил, что в этом нет смысла: пожилые врачи так же не поверят тому, что Аугуст вылечился, как не поверили они в симптомы его истерии.3
Число приходивших к нему больных понемногу росло. Поскольку Марта не разрешала ему пропускать обед в середине дня, как это бывало в холостяцкие годы, он работал с двенадцати до часу, затем обедал и возвращался в кабинет к двум. В Институте детских болезней выросло число больных, направляемых к нему. Он анализировал симптомы своих пациентов, делал подробные записи и пытался ввести определенный порядок, разбив нервные болезни на тринадцать категорий. Он говорил Марте: – Сегодня я не справился со случаем бешенства; семейный врач не сумел установить причину, пока изо рта ребенка не пошла пена. Но я сумею сохранить жизнь другому ребенку, с мозговым параличом. Мы можем научить его двигаться, выполнять некоторую ограниченную работу. Почувствовав, что атмосфера в Городской больнице начала улучшаться, он сделал смелый шаг. Одной из привилегий получившего доцентуру было то, что он обладал правом читать курс лекций в клинической школе университета. Чтобы подготовить курс и добиться его объявления университетом, он должен был получить разрешение Мейнерта, а Мейнерт был прикован к постели. В академических и медицинских кругах ходили слухи, что из–за сердечного недомогания он пристрастился к алкоголю. Зигмунд не обращал внимания на такие слухи: одним из побочных продуктов цивилизации кофеен, где люди проводили бессчетные часы, поглощая густой сладкий кофе, сваренный по–турецки, было то, что когда не хватало правдивых историй, то они брались с потолка. Зигмунд решил рискнуть: он купил ящик гаванских сигар, которые любил профессор Мейнерт, и нанес ему визит. – Господин советник, огорчен вашим недомоганием. Но, зная, что оно не относится к вашим легким, я осмелился принести вам ящик ваших любимых сигар. Мейнерт был тронут. У него был трудный характер, и он ревниво относился к своему положению, ведь большую часть того, что знал Шарко об анатомии мозга, он вычитал в его, Мейнерта, работах. Зигмунд Фрейд был одним из его лучших студентов и «вторых врачей», подающих большие надежды. Мейнерта задело то, что человек, к которому он относился' по–отечески, восхвалял кого–то чужого. – Спасибо, коллега. Вы очень любезны и, наверное, запустили руку в кошелек жены. Зигмунд покраснел. – Господин советник, помните, прошлой весной, когда я приезжал из Парижа, вы предложили, чтобы я взял ваш курс по анатомии головного мозга? – Конечно, помню. Вы лучше всех справились бы с лекциями… если бы только мы не послали вас блуждать по ложным полям Парижа. – Никакой истерии, господин советник, и никакого гипноза. – Затем, многозначительно улыбнувшись, Зигмунд добавил: – И даже никакого «железнодорожного позвоночника». Только надежная, подлинная анатомия головного мозга, которой учил меня профессор Мейнерт. Мейнерт открыл ящичек с сигарами, медленно взял одну, помял ее пальцами, понюхал, обжал конец, потянулся за ножом, затем закурил. На его лице появилось выражение довольного спокойствия. – Хорошая сигара, господин коллега. Старайтесь, чтобы ваши лекции были столь же качественными. Гонорар собирайте сами, вместо того чтобы отдавать это дело университету. Это было странное предложение: казначей всегда собирал гонорар и выплачивал лектору общую сумму. Хотел ли Мейнерт тем самым наказать его? Если так, то это не такая уж крупная расплата. Он охотно согласился, поблагодарил господина советника и, ободренный, ушел. Объявление о его первом официальном университетском курсе гласило: «Анатомия спинного мозга и нижней части головного мозга. Введение. Дважды в неделю. Читает приват–доцент господин доктор Зигмунд Фрейд. В аудитории господина советника профессора Мейнерта». В конце октября в среду после полудня Зигмунд вошел в аудиторию, чтобы прочитать свою первую лекцию. Он увидел довольно большую группу студентов, молодых ассистентов и «вторых врачей» из Городской больницы, которые считали, что им надо пополнить знания в области нервной системы. Стоя перед аудиторией, Зигмунд почувствовал, как по телу разлилось ощущение тепла. Это была его организация, его политическая партия, его религия, его клуб, его мир; он не имел и не хотел другого, с тех пор как распростился с детской мечтой стать воином в традиции Александра Великого или адвокатом в Венском городском совете. Много воды утекло под мостами Дуная с тех пор, когда два года назад он читал лекции шести американским врачам: теперь он стал доцентом, лектором медицинского факультета, прошел обучение у Шарко, возглавил отделение в Институте детских болезней, оказался счастлив в браке и видит в своей прихожей достаточное число пациентов, чтобы обеспечить благополучие в своем доме. Ему почудилось, что перед ним – сверкающий экран и на нем он видит себя перед зеркалом гардероба в своей спальне в красивом новом темно–сером костюме, в белой сорочке с черной бабочкой, которую он надевал на приемы у Шарко и на свадебную церемонию; в тридцать лет он стал солиднее, его усы и борода аккуратно подстрижены и тронуты легкой сединой, которая еще не появилась в его темной густой шевелюре, расчесанной на две стороны. Зрелость шла ему. Он знал, что никогда не выглядел так хорошо, как сейчас. Профессор Брюкке был прав, когда четыре года назад вынудил его уйти. Если бы он остался в качестве ученого в Институте физиологии, то его познания в области медицины были бы явно недостаточными, и он стал бы лабораторным кротом. Ныне же он соединил лучшее из двух миров: половина жизни отводилась частной практике, и это обеспечивает ему независимость; другая половина – преподаванию, исследованиям, открытиям, публикациям. Он признавался себе в том, что зачастую был нетерпелив, торопился сделать открытие, добиться положения и славы. Теперь торопливость исчезла. Он был вновь в приятной ему среде: в лекционной аудитории с группой единомышленников, одержимых желанием вместе думать, рассуждать, двигать вперед замечательную медицинскую науку. Он отдавал себе отчет в том, что вновь начинает путь наверх с низшей ступени лестницы, но был доволен тем, что впереди еще многие годы и он сможет дослужиться до ординариуса, полного профессора университета, и возглавить одно из девяти отделений Городской больницы. Он хотел стать профессором, подобно Эрнсту Брюкке, Теодору Мейнерту, Герману Нотнагелю; примкнуть к людям, которые задолго до его появления на свет превратили венскую клиническую школу университета в образец для всего мира, к таким, как Шкода, Галль, Гильденбранд, Прохазка, Гебра, Рокитанский, Земмельвейс, Капоши, создавшим современную медицинскую науку. Вернувшись к реальности, он заметил, что слушатели все еще стоят, ожидая приглашения сесть. С улыбкой в глазах он сделал жест левой рукой. Слушатели уселись. Зигмунд разложил свои записи на трибуне, бросил взгляд на разработанную им схему лекции и начал говорить спокойным, размеренным голосом. И сразу же он и студенты углубились в сложную и бесконечно удивительную анатомию позвоночника, спинного мозга. Он видел Лизу Пуфендорф ежедневно, когда заходил к ней по пути в Институт Кассовица или когда шел осматривать пациента в частной больнице. Она принимала его в гостиной, комкая носовой платок в потных руках. Если он был занят и заходил позже, чем намечалось, то заставал ее в слезах в постели. Он давал ей успокоительные средства, но в малых дозах, надеясь, что их заменят его утешительные речи. Ее записки настигали его повсюду: у нее, фрау Пуфендорф, нервный кризис, не мог ли он немедленно прийти? Он приходил так часто, как было возможно. Был доволен, узнав, что она умело управляет своим домом; просил ее завести подружку для встреч за чашечкой кофе и для послеполуденной беседы. В конце месяца, насчитав более пятидесяти визитов к ней, он увидел, что ему придется предъявить значительный счет за свои услуги. Господин Пуфендорф поблагодарил его и немедленно оплатил счет. Навещая фрау Пуфендорф и в дождь и в снег, он обнаружил, что предсказания доктора Хробака не сбылись: члены ее семьи не критиковали его за то, что он не вылечил больную. Они примирились с тем, что Лиза очень нервная женщина, такой она и останется. Раз или два ему показалось, что он уловил в глазах дядюшки или кузена намек, что семье известен недостаток господина Пуфен–дорфа. Что же касается второй части откровений доктора Хробака – о том, что требовалось фрау Лизе, чтобы излечиться, – то он сразу же, хотя и с неохотой, признал их правоту. По рассказам членов семьи, она была здоровой и веселой до замужества и в последующие год–два. Но вскоре наступила нервозность. Расстройства у фрау Пуфендорф имели своей причиной явно не прошлое, а неумолимое настоящее. Если бы, подобно многим легкомысленным венским женам, она могла флиртовать с неизвестными мужчинами в кафе и завести тайные любовные связи, то все пришло бы в норму. Но такое поведение не отвечало ее характеру. Пока не излечится ее муж, не наступит облегчения и для фрау Лизы Пуфендорф. Зигмунд раздумывал, не применить ли гипноз к выбитой из колеи женщине, но все же решил воздержаться от риска. Затем совесть взяла верх, и он понял, что проигрывает дело. Пуфендорфы могли позволить себе оплачивать его счета; деньги были весьма нужны семье Фрейд. Однако после сотого визита он все же вынужден был спросить самого себя, что он, как врач, делает для фрау Лизы. Врачу не полагалось проявлять эмоциональную реакцию в отношении своих пациентов, но эта пациентка всякий раз вводила его в состояние отчаяния, гнева и даже тоски, когда ему приходилось вновь и вновь выписывать все те же успокоительные средства. Он пошел на встречу к профессору Хробаку в его душном кабинете на медицинском факультете. – Господин доктор, думаю, что мне следует отказаться от больной. Хробак наклонился вперед в своем кожаном кресле и ответил необычным для него сухим тоном: – Первая задача врача – спасти жизнь. Фрау Лиза не может существовать без лечащего врача. Если ей не лучше, чем когда я пригласил вас, то и не хуже. Вы держите ее истерию под контролем. Это так же важно, как держать под контролем инфекцию. Зигмунд неловко повернулся, пытаясь ослабить свой воротник в душном кабинете Хробака. – Но неприятно сознавать, что все мои услуги сводятся к дозе словесного бромида. – Мой молодой друг, – сказал Хробак, – вы много раз говорили мне, что невроз и истерия могут иметь столь же фатальный исход, как заражение крови. Он подошел к Зигмунду. – Если вы откажетесь от нее, она найдет другого врача, затем еще одного; если бедное создание окажется без врачей, она закончит свою жизнь в смирительной рубашке, к какой вы прибегали в клинике Мейнерта, чтобы спеленать буйных. В конце марта он пришел поздно из Института Кассовица, уставший, промокший от дождя и не в духе. Марта вернулась домой за минуту до его прихода; она сообщила новость, которая быстро сняла его чувство подавленности. – Зиги, ты ни за что не догадаешься, где я была. Я навестила свою давнюю подругу Берту Паппенгейм. Мы встретились в булочной, и она пригласила меня к себе на кофе. Зигмунд глубоко вздохнул. Йозеф Брейер держал его в курсе, как излечивалась методом убеждения эта девушка. С того момента, как Йозеф отказался заниматься ею после возгласа: «Выходит ребенок доктора Брейера!», у нее было два приступа. Она находилась в санатории в Гросс–Энцерсдорфе, но сбежала оттуда, когда тамошний молодой врач влюбился в нее. Брейер опасался за ее жизнь. Но все это было пять лет назад. После того как Марта помогла ему снять промокшее пальто, поменять носки и надеть шлепанцы, она продолжила: – Днем Берта чувствует себя хорошо, она бывает в обществе, посещает старых друзей, слушает концерты. Она много читает и изучает, как сказала мне, по немецкой периодике новое движение в защиту женских прав. Берта с матерью возвращается во Франкфурт, где она намерена работать в этой организации. Она утверждает, что никогда не выйдет замуж, что хочет сделать карьеру и служить. Она чувствует, что только это и спасет ее. – От чего, Марти? – От мрака. Сегодня она выглядела прекрасно, никаких признаков болезни, но по ночам она ощущает помутнение в голове. Во Франкфурте она намерена работать день и ночь и возвращаться домой, сваливаясь с ног от усталости. Она обещала рассказать мне о женской эмансипации. – Мне ты нравишься такой, какая есть. Не очень–то прислушивайся. – Не стану… в настоящий момент. – Она села на стул около него и прислонилась спиной к его груди, продолжая мягко и не глядя на него: – Я нанесла сегодня визит твоему другу доктору Лотту на нашей же улице. – Доктору Лотту? Он ведь гине… – Да, дорогой, я знаю. – Она повернулась и прижалась своей щекой к его. – Примерно в октябре ты станешь отцом… так заверил меня доктор Лотт. Я догадывалась, но хотела быть уверенной, прежде чем сказать тебе. Вспышка радости озарила его; это был венец их любви. Он нежно обнял ее, поцеловал в обе щеки, затем целомудренно в губы. – Я не мог бы быть более счастливым. За тебя. За себя. Я всегда хотел, чтобы у нас была семья. Она завела его руки за свою спину, крепко прижимаясь к нему. – Это самое приятное, что может услышать беременная жена.4
Весенние недели 1887 года летели быстро. Любовь Марты и его собственный дом принесли ему столько личного счастья, что он даже помирился с Эли Бернейсом, подспудно осознавая, что продолжал находиться в ссоре со своим замечательным шурином без достаточных оснований. Женитьба и прием в сообщество медиков сняли его нервозность и устранили самоуничижение, равно как и стремление к быстрым и легким решениям, какие он окрестил «самовозгоранием славы из горелки Бунзена и микроскопа». Его тело и ум работали синхронно, излучая упорство и энергию. В годы помолвки с Мартой он чувствовал боль повсюду, где мог ее чувствовать безденежный романтичный молодой человек. Отныне отпали разговоры о переезде в Манчестер, Нью–Йорк, Австралию. Он пересмотрел свои жизненные планы; поскольку он не смог к тридцати годам, к этому внушительному возрасту, добиться намеченного, он сделает это к сорока. Если он будет все еще находиться в процессе поиска к сорока годам, то обратит внимание других специалистов на свою работу в пятьдесят лет. Несмотря на то, что он ранее сказал Марте, что к славе не стремится, он все еще хотел высечь свое имя на скале, но он примирился с тем, что ногтями этого не сделаешь. С наступлением теплой погоды они стали проводить воскресные дни и праздники в Венском лесу, устраивая пикники среди цветов запоздавшей весны на свежем воздухе, бодрящие, как австрийское молодое вино, и любуясь панорамой, открывающейся с Леопольдсберга: рыжевато–серые крыши Вены и возвышающиеся над этим морем черепицы и печных труб покрытые зеленой патиной купола церквей, извивающееся русло Дуная со сверкающей под солнцем водой, горы со снежными вершинами там, где Альпы уходят в Италию. Энтузиазм Марты был неисчерпаем. Она поднималась на соседние холмы, отыскивая лучший вид, доставала завтрак из плетеной корзинки, вскрывала бутылки и пила газированную малиновую воду: ее щеки покрылись румянцем, глаза светились радостью, она сливалась с природой, ибо в ее чреве зрел ребенок. Во время долгих вечеров она сидела с Зигмундом в его кабинете, читала свежие романы, а он занимался составлением обзора медицинских изданий для венского «Медицинского еженедельника». У него появилась привычка рассказывать ей за завтраком новости, почерпнутые в «Нойе Фрайе Прессе». – Первая полоса целиком посвящена сообщениям из Англии о кризисе кабинета после отставки лорда Черчилля. На второй странице рассказывается об образовании в Праге немецкого клуба; наше правительство питает сомнения относительно его мотивов. А вот здесь – дискуссия в ландтаге о парламентском законе, принятом в прошлом году, об обязательном образовании в возрасте от шести до четырнадцати лет; в провинциях родители не хотят, чтобы дети находились так долго в школе. Носорог убил мужчину в Берлинском зоопарке. А другой мужчина покончил жизнь самоубийством, считая, что так будет удобнее для всех… Доктор Зигмунд Фрейд добился заметных успехов благодаря умелому применению электрической аппаратуры. Все больше времени он отдавал процедурам электротерапии. Он довольствовался скромным вознаграждением, а поскольку пациенты уходили от него, чувствуя себя лучше, то распространилась молва о его искусстве. Справочник по электротерапии доктора Вильгельма Эрба был у него всегда под рукой; он перечитывал предписания Эрба о «гальваническом» и индуктивном «фарадеевском» электричестве, постепенно достигая мастерства в управлении аппаратами и инструментами, полезными для невролога; обучался измерению того, что Эрб именовал «абсолютной силой тока», использованию реостатов, электродов, применению закона Ома, имея в виду обеспечить наилучшее воздействие на нервные ткани кожи и мускулов, головного и спинного мозга, для лечения ипохондрии и болезней половой сферы. Он сумел отложить некоторую сумму денег на расходы, связанные с рождением ребенка, и для оказания помощи родителям, чтобы Якобу не приходилось тревожиться по поводу временной безработицы. Установилось лето с его зноем, палящим солнцем и белыми облаками, бегущими по небу, расцвеченному красками Тьеполо. Жители Вены часами сидели в открытых кафе, отделенные от прохожих лишь цветочными горшками, стоявшими на тротуаре, листая газеты и журналы, предлагавшиеся вместе с кофе: «кофе – пища для плоти, газеты – для души», заказывая один за другим стаканы с водой. По венскому обычаю, на стакан клалась чайная ложечка как знак готовности принять посетителя, даже если он ничего больше не заказывает. Горожане приводили своих детей и внуков в утопавший в цветах городской парк порезвиться, а заодно и послушать романтические вальсы в исполнении оркестра или же загорали на солнце в нижней части Бельведера. Насморки прекратились, кашель заглох, невралгия исчезла, неврозы скрылись с глаз. Венцы покидали свой город для отдыха в Зальцбурге, Берхтесгадене, Кенигзее и Тумзее. Даже семья Пуфендорф отправилась в свой горный домик в Баварию, где высокие горы успокаивающе действовали на фрау Лизу. Марта заметила по поводу семейных трудностей: – Профессор фон Штейн частенько говорил моему отцу: «Вы не богаты и не бедны, если судить по недельным или месячным заработкам; однако суммируйте все доходы к концу года, тогда увидите, дееспособны вы или стали банкротом». – Хорошо экономистам: они знают много истин, которые неведомы нам, врачам. Она успокаивающе похлопала его по плечу: – Я научена быть бережливой, когда это необходимо. Ты даже не подозреваешь, как мало я трачу. Осенью, зная, что вскоре Марта не сможет выходить из дома, чета Брейер спросила семью Фрейд, не захотят ли они в следующий понедельник вечером посмотреть «Эдипа–царя» Софокла в старом Хофбургтеатре на площади Микаэлер. – О, Зиг, мы сможем пойти? – умоляла Марта. – Да, мне бы очень хотелось посмотреть пьесу. Взгляни на состав исполнителей, объявленный в «Винер Экстра–блатт»: Роберт играет Эдипа, Шарлотта Рокель – его супругу Иокасту и Халленштейн – Креонта. Это превосходные актеры. Марти, я не перечитывал «Эдипа» с того времени, когда изучал греческий язык в гимназии, но помню, что это глубокая, волнующая пьеса. Ты уверена, что она не повредит тебе в твоем положении? – А что такого со мной? – вспыхнула она. В понедельник они пошли пешком к Брейерам на легкий ужин. Брейеры жили недалеко от театра. До того как пробило семь часов, Зигмунд сдал в гардероб женские накидки. Матильде удалось приобрести билеты в первый ряд. Когда они заняли свои места, Зигмунд повернулся и посмотрел наверх, вспоминая, как часто он довольствовался четвертым ярусом, потому что там места стоили всего гульден. Он вытащил из кармана тонкую книжицу «Эдип–царь» на греческом языке, которую захватил с собой, и прочитал несколько строк. Поднялся занавес, и зрителям предстал жрец Фив у алтаря перед дворцом Эдипа, окруженный толпой детей. Появился царь Эдип и спросил жреца, почему он и дети собрались как просители. Жрец рассказал о страшном бедствии, обрушившемся на Фивы: в полях погибает урожай, начался падеж скота, матери бесплодны, а младенцы умирают на улицах. Эдип ответил на это, что послал брата Иокасты – Креонта к Аполлону в его пифийский храм, чтобы узнать, как можно спасти город. В этот момент возвращается Креонт и сообщает, что, как объявил Аполлон, на их землю пала кара за вину в убийстве. И перед зрителями раскрылась трагическая история. При рождении Эдипа оракулы предсказали ему, что он убьет своего отца и женится на своей матери. Его родители, взволнованные предсказанием, отдали ребенка пастуху, чтобы тот унес его в горы и оставил там умирать. Однако пастух ослушался и отдал его в отдаленный Коринф. Там его усыновили царь Коринфа со своей женой, и он вырос как их сын. Возмужав и узнав о предсказании, Эдип бежал от мнимых родителей из Коринфа. По дороге он повстречался с несколькими путешественниками, и старый человек ударил его по голове. В отместку Эдип убил его. Придя в Фивы, он узнал, что город находится в беде, его защитница Сивилла загадала загадку, которую надлежало решить. Эдип разгадал ее, спас город и в признательность за это был провозглашен королем Фив. Он женился на Иокасте, вдове убитого при таинственных обстоятельствах царя Лая, и имел от нее детей. Во дворец привели слугу Лая, вернувшегося в Фивы. Эдип узнал, что старый путник, которого он убил, был царь Лай. Считая себя сыном короля и королевы Коринфа, он радуется прибытию вестника из Коринфа, а тот сообщает ему, что его отец Полиб умер от старости; таким образом, вроде бы отпала одна часть предсказаний оракула. Однако Эдип все еще напуган испрашивает Иокасту:5
Наконец–то профессор Теодор Мейнерт получил отделение неврологии, которого добивался. В те годы, когда Зигмунд был близок к Мейнерту, он мог надеяться на пост старшего ассистента профессора, а сейчас было поздно. Однако читать лекции в аудитории Мейнерта было делом чести, и он был благодарен старику за широту его взглядов, не позволившую, чтобы разногласия помешали доктору Фрейду получить официальное разрешение клиники психиатрии на чтение лекций. Для чтения второго курса лекций он развесил на стенах рисунки спинного мозга и передней части головного мозга. На лекцию пришли всего пять человек. Они сидели во втором ряду, в линейку, словно ласточки на заборе. «За пятинедельный курс я заработаю всего двадцать пять гульденов», – подумал он. Не желая показать крохотной группе, что задета его гордость, он сказал: – Господа, может быть, вы пересядете поближе к доске? Хотя они чувствовали, что им будет труднее переговариваться между собой, три студента и два врача пересели на места прямо перед ним. Вскоре он забыл о том, что слушателей мало, и углубился в захватывающий материал. После лекции он прошел быстрым шагом по промозглым темным улицам вместе со студентами в их длинных белых плащах, торопившимися домой после занятий. Через три дня, когда он вошел в аудиторию на свою вторую лекцию, около доски стоял незнакомец в ладно скроенном шерстяном костюме в еле заметную полоску и с сероватой бабочкой. Зигмунда привлекло его одухотворенное лицо; такого он никогда еще не встречал: большие, широко расставленные темные глаза, блеск которых, казалось, озарял светом всю аудиторию, где уже ощущалось наступление послеполуденных сумерек; волнистые темные волосы, плотно облегавшие красиво очерченную голову; мужественные, утверждающие себя борода и усы столь же темного цвета; полнокровные губы; гладкие, как у юноши, щеки и лоб. Чувствуя, что Зигмунд смотрит на него, незнакомец поднял глаза. У него была приятная, внушающая доверие улыбка, какую Зигмунд еще не встречал у мужчин. Незнакомец протянул руку. – Вы доктор Зигмунд Фрейд. Доктор Йозеф Брейер рекомендовал прослушать ваш курс; более того, он настаивал на этом. Он говорил, что это сделает мое пребывание в Вене памятным. Меня зовут доктор Вильгельм Флис, я отоларинголог. Приехал из Берлина провести здесь месяц с друзьями семьи и коллегами. Примете ли вы меня? Уверен, что лекции представят большую ценность для меня. Зигмунд протянул Флису руку. Даже в твердом пожатии руки сказывался живой характер Флиса. – Доктор Флис, рад приветствовать вас. Ваше присутствие мы принимаем как знак уважения. Так и было на самом деле. Флис сел сбоку, что и должен был сделать, по его мнению, чужестранец. Его способность сосредоточиваться была такой, что через некоторое время Зигмунд почувствовал: он читает лекцию только для берлинца. Доктор Флис принадлежал к тому редкому типу студентов, которые могут делать заметки, не спуская глаз с лектора; сосредоточенность взгляда, очевидная легкость восприятия были новыми для Зигмунда. В конце лекции, после того как остальные слушатели ушли, Флис подошел к доске. – Поучительный опыт, доктор Фрейд. Ваш подход к анатомии мозга открыл мне новые концепции. Но ведь я обучался как биолог; завидую тому, что вы занимались физиологией у профессоров Брюкке и Мейнерта. Может быть, мы посидим в кафе за кружкой пива? – Хорошо, давайте пройдемся и поговорим. Расскажите мне о Берлине. Я провел там месяц, работая у докторов Роберта Томсена и Германа Оппенгейма в клинике Шарите и у доктора Адольфа Багински в госпитале Кайзера Фридриха. Ваша медицинская практика иная, чем в Вене. – Да, иная, но не лучше, – ответил Флис, когда они переходили Лазаретгассе и направлялись к Альзерштрас–се. – У нас больше свободы в применении новых подходов. Затем наша практика не знает сезонных спадов. Здесь университет похож на приятное кафе. Я занят сегодня вечером после восьми тридцати. Это вечеринка у Верт–хеймштейнов. Вы, конечно, знаете эту семью? – Знаю лишь отчасти, – откровенно ответил Зигмунд, когда они вошли в теплое и гудящее кафе, – хотя первое выполненное мною важное задание было получено в этом салоне. Один из переводчиков Джона Стюарта Милля, работавший на Теодора Гомперца, внезапно умер; Гомперц обмолвился об этом на приеме у Вертхейм–штейнов, и мой профессор философии Франц Брентано рекомендовал меня для работы. – Да, салоны бывают важными! Многие молодые художники обретают там право голоса, а также своих покровителей. Однако позвольте рассказать о себе. Вильгельму Флису было двадцать девять лет, на два года меньше, чем Зигмунду. Он родился в процветающей торговой еврейской семье средней руки, будучи не по годам развитым, получил медицинское образование и сумел приобрести обширную практику, завоевав славу одного из лучших отоларингологов Германии. У него был звучный грудной голос, как у оперного певца. Говорил тихо, так, чтобы лишь Зигмунд слышал его, но посетители за соседними столиками не спускали с него глаз. – Дорогой доктор Фрейд, я восхищаюсь вами, с тех пор как прочитал ваши статьи о кокаине. Я проверил их на опыте и могу сообщить, что мне удавалось устранить некоторые симптомы, нанося раствор кокаина на слизистую оболочку носа. Зигмунд наклонился ближе к Флису и сказал доверительно: – Вы не представляете, как это важно для меня, ведь мои работы с кокаином подверглись серьезной критике. – Ради бога, почему? Ваши открытия позволили окулистам проводить прежде невозможные операции на глазах. В моей собственной области кокаин позволил обнаружить рефлексы невроза, источник которого находится в носу. – Рефлексы невроза… в носу? Что вы имеете в виду? Глаза Флиса возбужденно вспыхнули: теперь он получил возможность обратить собеседника в собственную веру. Он заговорил торопливо: его слова и фразы набегали друг на друга, как щенки на неокрепших ногах, играющие на лужайке. – Ах, дорогой доктор, нос человека – самый пренеб–регаемый орган и в то же время самый значительный: настоящий проводник всех болезней, наваливающихся на сому и психику жизни. Он торчит день и ночь, как возбужденный пенис, чтобы все почуять, измерить, диагностировать. Я сделал открытия, позволяющие мне сказать по показаниям носа, что произошло плохого в других частях тела пациента. Знаете ли вы, что через несколько лет я сумею доказать, что существует связь между носом и женскими половыми органами? Зигмунд был поражен. Он даже не подозревал, что подобные работы не только проводятся, но и фиксируются. Он уставился на молодого человека, вздрагивавшего от переполнявших его чувств, а затем спросил: – Доктор Флис, что вызвало ваш интерес к носу? Во всяком случае, не трудности с вашим собственным: он самый что ни на есть греко–римский, какой мне доводилось видеть. Флис рассмеялся, довольный. – Да. Я всегда гордился своим носом. Будь он кривым, приплюснутым, переломленным, я не стал бы специалистом по носу… Но я не должен вас больше задерживать. Знаете, доктор Фрейд, я очарован молодыми венками: они нежнее, женственнее, привлекательнее, чем наши берлинские девушки… Целый час Зигмунд добирался домой, забыв купить жареные каштаны у старого продавца, вынимавшего их горячими и закопченными с жаровни. С тех пор как он прослушал первую лекцию Шарко, он никогда не был так взволнован. Он извинился перед Мартой за поздний приход, но когда пытался представить себе Флиса и описать его Марте, то обнаружил, что не может передать его образ несколькими фразами. На следующей неделе после лекции Флис предложил пойти в его излюбленное литературное кафе, знаменитое кафе «Гринштейдль» на чашечку кофе, как любили говорить в Вене. Устроившись за столиком у окна, они наблюдали за венцами – и торопящимися, и медленно прогуливающимися; Вильгельм Флис вновь удивил Зигмунда, на этот раз отказавшись рассказывать о себе. – Нет, мой дорогой коллега, прошлый раз я пожадничал, меня так взволновала ваша лекция, что я не мог удержаться. Сегодня я хочу узнать больше о вас, о ваших исследованиях в гистологии. Мне особенно хотелось бы, чтобы вы рассказали о работах Шарко по мужской истерии. Йозеф Брейер говорил мне, что на вас вылили ушат холодной воды, когда вы докладывали об этих работах пожилым врачам. Внимательные, серьезные глаза Флиса были прикованы к глазам Зигмунда, и он вслушивался в каждое слово. Зигмунд говорил час без остановки и сам этому удивился. – Боже мой, сегодня я прочитал вам вторую лекцию. Но это ваша вина – вы заставляете людей думать, что сказанное ими важно. – Все, что вы сказали, для меня действительно важно, – ответил спокойно Флис. – Знаете, доктор Фрейд, между нами сходство в том, что мы никогда не позволим себе остановиться в академическом или профессиональном отношении. Подобно Гераклиту, мы верим, что все течет. Каждый день мы узнаем что–то новое в нашей науке, и это наполняет нашу жизнь, все двадцать четыре часа. Как и вы, я вышел из школы Гельмгольца: все должно быть проверено согласно законам физики, химии, математики. На этой солидной основе мы ведем нашу практику, я – в отоларингологии, вы – в неврологии. Но по правде говоря, мы оба разделили собственную жизнь на две части: в одной мы применяем на практике лучшее из общепринятой медицины, в другой стараемся проникнуть в гипотетическую область идей и концепций, смелее подойти к положению человека. Зигмунд отвел взор от Флиса и наблюдал за прохожими, которые кутались в свои пальто, защищаясь от пронизывающего холодного ветра. – Да. Без размышлений жизнь была бы для меня скучной. Любой врач, достойный этого звания, должен продвигать свою науку хотя бы на сантиметр вперед. – Именно так. Настоящее бесследно исчезнет, если оно не обращено в будущее. Как хорошо встретить родственную душу. Озадаченный, Зигмунд спросил: – Однако в Берлине, видимо, многие думают так же, как вы? Флис закрыл на момент глаза. – Дорогой коллега, у меня много друзей и поклонников в медицине. Вы услышите хвалебные отзывы о моей работе в больницах и на встречах. Но работы, могущие вызвать спор, я сохраняю для себя. Флис находился в Вене три недели. Зигмунд часто встречался с ним: на вечере у Брейеров, где его сопровождали две миловидные молодые особы; в ресторане «Брейинг и сын», куда Флис пригласил чету Фрейд, и, наконец, у себя дома на воскресном обеде. После каждой лекции они заходили выпить пива и побеседовать. Зигмунд чувствовал, что ранее он никогда не читал лекции лучше; его раззадоривали, ободряли, просвещали мысли Флиса, его утверждения, что «медицинская наука напоминает зародыш в утробе матери, она изменяется, растет, становится с каждым днем все более дееспособной». Его огорчало, что Флис уезжает. До своего отъезда Флис рекомендовал Зигмунду пациентку по имени фрау Андрасси, объяснив, что был ее личным врачом в Берлине, но не смог ей помочь. Фрау Андрасси пришла на следующий день после отъезда Флиса. Это была невысокая двадцатисемилетняя женщина с волосами песочного цвета и такими же ресницами, откровенная в высказываниях. У нее было двое детей. После рождения второго ребенка она похудела, стала вялой, у нее появились спазмы сосудов ноги, сопровождавшиеся чувством тяжести, это мешало ей двигаться. По просьбе Флиса ее осмотрел Йозеф Брейер; они оба пришли к заключению, что по всем признакам это была возникшая без видимых физических причин неврастения. Фрау Андрасси находилась в кабинете всего несколько минут, и вдруг у нее начались спазмы, мышца ноги стала быстро сокращаться. Она сняла лишь туфлю и ничего больше: венских женщин приходилось осматривать в одежде. Зигмунд массировал ее ногу, пока не прекратились спазмы, а затем применил электротерапию. Он обследовал ее мускульную систему с целью установить симптомы натяжения зоны, где ощущается жжение, покалывание, оцепенение. Он ничего не нашел. Вернувшись к столу, он спросил: – Эти спазмы не удручают вас? – Нет, господин доктор, я не позволяю неприятностям подрывать мое настроение. – В таком случае ваше состояние не тревожит вас? – Тревоги нет. Я не люблю хныкать. Хотя, естественно, муж и я озабочены тем, чтобы состояние не ухудшалось. Ведь у нас двое детей, которых надо вырастить. – Доктор Флис дал вам рекомендацию относительно диеты. Важно, чтобы вы восстановили свой вес, потерянный после родов. Я бы советовал послеполуденный отдых в течение нескольких часов. Приходите в четверг. После ее ухода он долго сидел неподвижно за столом, размышляя о ее заболевании. Флис и Брейер пришли к согласию, что у нее невроз. Он же не мог обнаружить следов того, что указывало бы на неврастению: озабоченность, обилие новых недомоганий, ипохондрия. Все эти моменты всегда присутствуют при неврастении. Она же думает больше о детях, чем о себе; ее брак счастливый, отношения с мужем нормальные. Значит, нет симптомов истерии. Все указывает на наличие органического нарушения. Он должен найти его. Фрау Андрасси набрала в весе, восстановила свои силы. После двух недель массажа и электротерапии прекратились спазмы и ослабло ощущение тяжести в ногах. Но он знал, что должен добраться до первопричины ее трудностей. – Фрау Андрасси, головокружение, которое, по вашим описаниям, мучило вас несколько лет назад, было временным, случайным? Возникали ли у вас трудности с ногами до этого? – В детском возрасте у меня был дифтерит. Когда я выздоровела, мои ноги были парализованы. – Но, дорогая фрау Андрасси, почему вы не сказали об этом мне? – Это было семнадцать лет назад. Я полностью вылечилась… Доктор Фрейд повернулся к книжной полке позади себя и взял один из томов работ Шарко, но ему послышался голос доктора Мари, обращавшегося к группе в Сальпетриере: «Мы можем приписать скрытый склероз острым инфекциям, перенесенным в прошлом». Все было нормально, пока не сказалось истощение организма; после же этого взбунтовалось слабое звено спинного мозга; именно это и произошло с фрау Андрасси. – Как вы себя чувствуете в последние дни? – Лучше, чем в любой момент, с тех пор как заболела. – Прекрасно. Теперь мы знаем, как обеспечить вам такое состояние. Он был вдохновлен результатами. Он не только помог фрау Андрасси, но и убедился сам, как нужно действовать. – Теперь я знаю, что могу лечить пациента с полным сознанием и не скакать на деревянной лошадке невроза!6
Ободренный успехами, достигнутыми с фрау Андрасси, Зигмунд обратил внимание на озадачивающие случаи, когда он был не в состоянии помочь больному. Трое его пациентов ранее обращались к другим врачам, но их усилия оказались безрезультатными. Коллеги считали болезни соматическими, однако у Зигмунда появились серьезные сомнения на этот счет. Он заказал у книготорговца в Париже, который продал ему «Архивы» Шарко, экземпляр книги «Гипноз и внушение», опубликованной пять лет назад профессором Ипполитом Бернгеймом из медицинской школы университета Нанси. Бернгейм утверждал, что гипноз был «продуктом физического состояния, увеличивающего подверженность внушению». Хотя Зигмунд соглашался не со всеми тезисами Бернгейма, особенно с теми, где Бернгейм расходился с Шарко, он был увлечен рассказами автора о десятке случаев, в которых применение гипноза и внушения оказало лечебное действие. Несколько его собственных пациентов, по его предположениям, страдали от невроза, схожего с изучавшимися им в Сальпетриере, а сейчас обнаруженного в книге Бернгейма. Закончив повторное чтение книги, он решил написать Бернгейму и спросить, не желал бы он, чтобы его книга была переведена на немецкий. Не дело доктора выяснять, какая идея послужила причиной заболевания, никто не даст ответа на такую загадку, даже сам больной. Но разве не долг врача облегчить симптомы? И поскольку явно невозможно изгнать идею, которую не может сформулировать ни больной, ни врач, почему бы не ввести в мозг пациента противоядие, которое разрушит врага и позволит возобладать мысли, что симптомы преодолены и он чувствует себя опять хорошо? Такое внушение можно было бы повторять тысячу раз пациенту при его обычном состоянии, и он его отвергнет, но в полусне, под гипнозом, когда он не может противостоять внушению?… Он решил встретиться с Йозефом Брейером, ибо гипноз был крайне опасной деятельностью в Вене; гипнотизерам предписывалось ограничивать демонстрации только театром. Наиболее рьяным противником выступал профессор Теодор Мейнерт, который тридцать лет утверждал, что гипноз – это «шлюха», которую нельзя пускать в респектабельные медицинские круги. Зигмунд слегка постучал в дверь библиотеки Йозефа и вошел в комнату, которую он любил больше всех в Вене. Брейер сидел за столом в кресле с высокой спинкой и писал. Зигмунд растолковал ему, что хочет попробовать внушение под гипнозом. Йозеф не торопился с ответом. – Зиг, гипнотизировал ли ты кого–либо, кроме той итальянки, что видела червей всякий раз, когда слышала слово «яблоко»? – Двух или трех в палатах Сальпетриера, чтобы выяснить для себя, могу ли я выводить из состояния гипноза. Но тех женщин гипнотизировали часто ассистенты Шарко, и они впадали в транс, прежде чем мне удавалось сказать: «Закройте глаза». – В таком случае ты не знаешь, есть ли у тебя способность к этому? – Сомневаюсь, чтобы обладал исключительным талантом. Кстати, ты не упоминал о применении гипноза после случая с Бертой Паппенгейм. Ты что, отказался от этой практики? Йозеф покраснел. Он смотрел в сторону, затем пробормотал: «Нет, я…» – остановился, подошел к книжным полкам и похлопал по книгам, как бы подравнивая их, хотя они стояли в строгом ряду. Когда он повернулся, выражение его лица было обычным. – Зигмунд, почему бы нам не попробовать прямо сейчас? Я встречаюсь с доктором Лоттом через несколько минут в доме пациентки фрау Дорф. Я беспокоюсь за нее. Все, что я или доктор Лотт делали, ей не помогает. Я порекомендую семье, чтобы ты испробовал внушение под гипнозом. Был пронзительно–холодный день. При прозрачно–голубом небе горы и леса просматривались четко, словно находились рядом. Йозеф произнес: – В Вене мы живем в окружении красоты. Эти горы – такая же каждодневная часть нашей жизни, как пища, которую мы едим, и пациенты, которых мы осматриваем. Эти зеленые холмы, окутанные белыми облаками, много раз возвращали мне радость жизни и наслаждения природой, когда я шел по улицам измотанный, растерянный. Йозеф остановился, поеживаясь от холода, но, несмотря на такое неудобство, смотрел с восхищением на горы. Зигмунд взял его под руку и сказал: – Пойдем, а то ты застучишь зубами. И расскажи мне о фрау Дорф. Что я должен ей внушить? – Кормить грудью ребенка. Фрау Дорф родила своего первого ребенка три года назад, хотя ей уже перевалило за тридцать. Она хотела кормить его грудью и чувствовала себя прекрасно, но молока у нее было мало. Кормление вызывало острую боль. Она была так расстроена, что потеряла сон. После двух напряженных недель нашли кормилицу; мать и ребенок в полном смысле слова расцвели. Сейчас же у фрау Дорф более серьезные неприятности со вторым ребенком: когда приближается время кормления, ее тошнит, а когда приносят ребенка, она настолько выходит из равновесия из–за неудачи с кормлением, что не может удержаться от слез. – Доктор Лотт и я пришли к согласию сегодня утром, что не можем рисковать больше жизнью матери и ребенка; мы решили, что следует посоветовать семье немедленно найти кормилицу. – Йозеф, она твоя пациентка. Ты опытный врач. Почему бы тебе не загипнотизировать ее? Брейер был откровенен: – Для изменения метода лечения, на мой взгляд, требуется новый врач. Фрау Дорф лежала в постели, красная от ярости, что не в состоянии выполнить материнский долг. Весь день она ничего не ела. Зигмунд подвинул стул к кровати и начал медленно говорить глухим голосом: – Вы засыпаете… Вы устали. Вы хотите спать. Ваши веки становятся тяжелыми… Наступает сон. Вы засыпаете. Веки закрываются. Вы засыпаете… Вам становится легче. Веки закрываются. На вас опускается сон… «Это не займет много времени, – думал Зигмунд. – Принимая во внимание истощение пациентки, потребуется всего половина обычного времени». Он подвинул стул еще ближе к кровати и принялся говорить уверенным голосом: – Не бойтесь! Вы будете прекрасно кормить ребенка. Ребенок будет хорошо развиваться. Вы здоровая, нормальная женщина. Вы любите своего ребенка. Вы хотите кормить его. Это принесет вам радость. Ваш желудок успокоился. У вас хороший аппетит. Вы думаете об обеде. Вы покушаете, и вам станет приятно. Когда принесут ребенка, вы его покормите. У вас хорошее молоко. Ребенок будет прекрасно расти… Он продолжал внушать в течение пяти минут, затем разбудил фрау Дорф. Она ничего не помнила. Вошел разъяренный господин Дорф и громко сказал, чтобы услышала жена: – Я не одобряю такие процедуры. Гипноз может разрушить нервную систему женщины. Доктор Фрейд спокойно ответил: – Вовсе не так, господин Дорф. Гипноз еще не причинил кому–либо вреда. Ведь это сон, схожий с обычным. Ваша жена уже выглядит отдохнувшей. Не следует ли нам считаться с таким результатом? Завтра я зайду снова. Дорф стоял на своем. Когда Зигмунд пришел на следующий день, он узнал, что добился лишь частичного успеха: пациентка хорошо поужинала и спокойно спала. Однако днем, за обедом, она вновь стала возбужденной, а когда принесли еду, ее вырвало, и она, чувствуя себя подавленной, не смогла кормить ребенка. – Не расстраивайтесь, – успокаивал ее Зигмунд, – неприятности появились во второй половине дня, значит, бой выигран наполовину. Теперь мы знаем, как преодолеть недомогание. Попытаемся еще раз. Он держал ее под гипнозом около пятнадцати минут, повторяя то, что он хотел внушить, ослабляя ее страхи, уверяя, что все будет хорошо, что она покормит вечером своего ребенка. В последний момент по наитию он внушил фрау Дорф, что через пять минут после его ухода ей следовало бы спросить с укором, где ее обед и как она, не пообедав, может кормить ребенка. Затем он разбудил ее. Придя на следующий день вечером, он узнал, что фрау Дорф нормально поела и без осложнений покормила грудью ребенка. Она заявила, что чувствует себя хорошо, и отказалась от продолжения лечения. Господин Дорф проводил доктора Фрейда до двери, рассказал о странном поведении жены после его ухода: она грубо разговаривала с матерью и требовала объяснить, почему ее не кормят. Доктор Фрейд промолчал. Прощаясь, господин Дорф дал ясно понять, что его жену вылечили природа и время, а приват–доцент доктор Зигмунд Фрейд ничего не сделал… хотя, разумеется, ему оплатят три визита. Зигмунд ликовал. Он нашел способ лечения! Он должен поддерживать контакт с пациенткой, чтобы быть уверенным в том, что болезнь не вернется. По ее поведению видно, что чувствует она себя хорошо. Силой своего внушения, что она в состоянии кормить грудью ребенка, он вытеснил навеянную ею самой мысль, будто она не может кормить. Профессор Бернгейм был прав: есть особые формы заболеваний, вызванные сдвигом в мышлении, воздействующим на беззащитное тело. Появился новый инструмент в скудном наборе терапии! Шарко ошибался, пренебрегая им. Марта быстро отреагировала на его оживление. Когда она задумывалась, у нее на лбу появлялась морщинка и она ее рассеянно поглаживала указательным пальцем. – Зиги, если я права, то ты внушил фрау Дорф идею, которая разрушила другую идею, делавшую ее больной? – Да я не разрушал ее, как разбивают комок, но результат именно такой. – А откуда появилась ее идея? – Вот ты меня и поймала, Марти. Это относится к спекулятивной области в психологии. Если врачи начнут спекулировать по поводу происхождения болезненных мыслей, то мы оторвемся от мира науки. – Научен ли гипноз? Можешь ли ты сделать его срез? – По сути дела, да. Именно этим занимается Бернгейм в Нанси. Я должен съездить к нему и изучить его методы. В особенности если он разрешит мне перевести на немецкий его книгу. Ключ в словах Бернгейма: «Гипноз – состояние повышенной внушаемости». Почему то же самое невозможно при нормальном сне пациента? Отвечаю: не знаю. Вопрос: имеется ли существенная разница между обычным сном и гипнозом? Ответ: да! Вопрос: в чем состоит эта разница? Ответ: не знаю. Через несколько дней он вновь испробовал гипноз. Доктор Кенигштейн направил к нему молодого парня с тиком глаза, объяснив, что никаких органических нарушений у пациента нет. Парень был настроен враждебно, мучился подозрениями. Он категорически отказался от сеанса гипноза. Усилия Зигмунда ни к чему не привели. В этот же день доставили пятидесятилетнего больного, который не мог ни стоять, ни ходить без посторонней помощи. Направивший его врач информировал доктора Фрейда, что ни он, ни его коллеги не обнаружили физических нарушений. Зигмунд провел осмотр. Он не заметил дистрофии мускулов ног и бедер Франца Фогеля, не было и атрофии. Тогда он исследовал развитие симптомов: сначала появилось чувство тяжести в правой ноге, затем – в левой руке, через несколько дней больной не мог двигать ногами и сгибать пальцы ног. Болезнь Франца Фогеля развивалась в течение десяти дней. Не следовало ли повести его к выздоровлению такими же темпами? Без затруднений он ввел Фогеля в состояние сна, внушил ему, что после пробуждения сможет сгибать пальцы ног. Когда Фогель пришел в себя, то, к собственному удивлению, он поступил так, как ему было подсказано. На следующий день доктор Фрейд внушил больному, что когда он проснется, то, хотя и не сможет ходить, будет в состоянии, лежа на койке, поднять и опустить правую ногу. Фогель и на этот раз выполнил команду. На третьем сеансе Зигмунд внушил, что Фогель сможет стоять без поддержки. Фогель так и поступил. В понедельник Зигмунд внушил Фогелю, что тот сможет пройти до угла комнаты и обратно. И это было выполнено. Через десять дней Фогель вернулся на работу в свою контору. Оставалось лишь ощущение некоторой тяжести в правой ноге, – то, с чего началось недомогание. Последующие сеансы гипноза не удалили этого ощущения. В воскресенье утром, когда Зигмунд и Йозеф прогуливались по Рингу под холодным пепельно–серым небом, он спросил друга: – Остается ли ощущение тяжести потому, что существует небольшое физическое нарушение, совершенно не связанное с психическим? Или же я не добрался до исходных корней навязчивой идеи? Йозеф втянул голову в воротник и приглушенным голосом сказал: – Быть может, остаток идеи Фогеля защищает себя? Если вы за десять дней вернули его в нормальное состояние, люди могут подумать, что он вообще не болел. Господин доктор, не вступайте в конфликт со своим лечением. Клубочки пара в морозном воздухе сопровождали каждое слово Зигмунда. – Как много мы знаем о физической структуре мозга и как мало о том, что заставляет идеи возвращаться обратно к организму через серое вещество… Да, Йозеф, я знаю: идеи принадлежат душе, анатомия мозга принадлежит соме. Но иногда я в отчаянии, оттого что не знаю, почему человек думает, о чем он думает. До окончания года ему представилось еще два случая испробовать внушение под гипнозом. Его друг доктор Оберштейнер прислал ему двадцатипятилетнюю бонну, работавшую семь лет в приличной венской семье. В течение нескольких недель Тесса страдала приступами: каждый вечер между восьмью и девятью часами, когда она заканчивала работу и удалялась в свою комнату, наступали конвульсии, после которых девушка впадала в сон, похожий на транс. Просыпаясь, она выбегала из дома на улицу полуодетой. Тесса была довольно крупной и потеряла за месяц тридцать фунтов веса. Несколько дней ничего не ела. Прибегнув к услугам нескольких врачей, ее хозяйка решила поместить Тессу в больницу для душевнобольных. Доктор Оберштейнер рекомендовал, чтобы до этого ее осмотрел доктор Фрейд. Зигмунд обнаружил, что Тесса умна, разговорчива и не понимает, что с ней происходит. Он поставил диагноз истерии. Наложив пальцы на веки девушки, он говорил ей в успокоительном тоне. Она заснула. После этого он стал внушать, что она сильная и здоровая девушка, она вылечится, ей не нужно бояться пребывания в своей комнате, к ней вернется аппетит, она будет спать спокойно всю ночь. Он вывел ее из гипнотического состояния через десять минут. Тесса удивленно открыла глаза и воскликнула: – Господин доктор, не могу поверить. Я хочу есть. Я должна купить булочку и по дороге съем ее. Тесса пришла на следующий день. Она плотно поела, но проснулась ночью и вынуждена была сдерживать себя, чтобы не сбежать из дома. Зигмунд снова загипнотизировал ее, на этот раз внушив ей, что она будет чувствовать себя в безопасности во время сна, нет причин убегать из дома, она счастлива в семье и ее уважают. На третьем сеансе Тесса рассказала, что проснулась в три часа утра, обеспокоенная и расстроенная, но желания бежать у нее уже не было. После еще одного сеанса Тесса вернулась в нормальное состояние. Через неделю пришла ее хозяйка, чтобы оплатить счет. – Господин доктор, как могло случиться, что несколько лучших профессоров в Вене не могли ничего сделать для Тессы? Я была в таком отчаянии, что решила поместить ее в санаторий. Вы же в течение нескольких дней восстановили ее здоровье. Зигмунд гладил свою бородку, стремясь выиграть время. Было ли разумным сказать, что он применил гипноз, и затем оправдывать свой метод, ведь в городе испытывали к нему презрение? – Случилось так, – сказал он спокойно, – что вы привели ко мне Тессу в момент, когда излечение было возможным. Женщина вытащила из сумочки несколько золотых монет и положила их на стол. Уходя, она удивленно покачала головой. Зигмунд сказал про себя: «Удивлены не только вы. Почему через семь лет у Тессы появилось острое нежелание возвращаться ночью в свою комнату? Что вызывало конвульсии? Что заставляло ее выбегать на улицу полуодетой? И почему она не могла есть?» В его голове промелькнули три ответа, данных между делом Брейером, Шарко и Хробаком: «Такие вещи всегда являются секретом алькова!»; «В таких случаях вопрос касается секса – всегда, всегда, всегда»; «Рецепт: нормальный пенис в повторной дозе!» Но те женщины были замужними, а Тессе исполнилось всего двадцать пять, она была незамужняя и, по всей видимости, девственница, следовательно, такой образ мысли неприменим к Тессе. Затем редкий случай помог Зигмунду Фрейду ответить на кардинальные вопросы и открыть двери в будущее, изменив также и его жизнь.7
Посыльный принес ему записку от Йозефа Брейера с просьбой прийти к нему, после того как он примет последнего пациента. Не успел он уйти, а горничная принесла еще одну записку – от фрау Эммы фон Нейштадт, проживавшей в одном из наиболее дорогих пансионов Вены. Доктор Брейер рекомендовал его, доктора Фрейда, и фрау Эмма просит посетить ее сегодня после полудня, дело срочное. Было первое мая, теплый, приятный день в Вене. Крестьянки расхваливали на улицах свою лаванду: «Покупайте лаванду! Кто хочет лаванду?» На углах бродячие музыканты в мешковатых брюках исполняли на скрипках вальсы. Зигмунд шел, подставив лицо солнцу, радуясь его свету и теплу. Он застал Йозефа в лаборатории, тот в рубашке с короткими рукавами занимался своими голубями. Через окно чердака струился прозрачный весенний воздух. Два друга стояли у открытого окна, выходившего на задний дворик. – Зиг, мне бы хотелось, чтобы ты взялся ради меня за трудное дело фрау Эммы фон Нейштадт. Я занимаюсь ею шесть недель; она приехала из Аббаци с частичным параличом ног. Я делал все возможное – массаж, электротерапию, давал успокаивающие лекарства, но она недовольна. Вчера, когда она думала, что я не вижу, стала высмеивать меня. В этот момент в разговоре я, между прочим, упомянул твое имя. Она думает, что я сделал это случайно. Вероятно, ты услышишь о ней сегодня. – Да. Она просила меня нанести ей визит после полудня. Спасибо, что упомянул мое имя. Это действительно срочно? Йозеф попросил горничную принести холодные напитки. Они сели на стулья около рабочего стола, где Йозеф держал свой микроскоп, образцы и тетрадь для записи экспериментов. – Да, Зиг, так и есть. Позволь, расскажу тебе, что знаю о фрау Эмме фон Нейштадт. Фрау Эмми – так стал называть ее с этого момента Йозеф – происходила из семьи землевладельцев в Северной Германии, имевшей дом в городе и поместье около Балтийского побережья. В двадцать три года она, образованная женщина, вышла замуж за пятидесятилетнего вдовца, имевшего детей от первого брака. Фон Нейштадт был талантливым, интеллигентным человеком, владельцем целой промышленной империи. Фрау Эмми была счастлива в браке, обладавшем всеми признаками союза по любви, родила ему двух дочерей. Она основала салон, где собирались писатели, артисты, ученые, художники, профессора университета. Затем фон Нейштадт скоропостижно умер, когда второй дочери фрау Эмми было всего несколько недель. После неожиданной смерти мужа она долго болела, болел и ребенок. Позднее Эмма играла важную роль в управлении промышленным комплексом мужа, продолжала содержать салон, путешествовала, у нее был широкий круг интересов. Но спустя четырнадцать лет после смерти мужа у нее появилось множество непонятных недомоганий. Зигмунд прибыл в роскошный пансионат, где жила фрау фон Нейштадт со своими двумя дочерьми, гувернанткой и горничной. Он поднялся лифтом на верхний этаж. Горничная впустила его в жилую комнату. На софе лежала моложавая женщина в цветастом утреннем шелковом платье, ее голова опиралась на кожаную подушку, а ноги были закрыты пледом. Он заметил тонкие черты ее волевого лица, зеленоватые глаза, хотя и мутноватые от боли, но выдававшие недюжинный интеллект. Шелковистые светлые волосы были тщательно причесаны. Зигмунд задержался в дверном проеме, изучая пациентку, прежде чем перешагнуть порог. Ее лицо было натянутым, напряженным; связки шейных мускулов выделялись, как колонны; с левой стороны было заметно похожее на тик вздрагивание – размеренное движение вверх и вниз. Она возбужденно сжимала и разжимала пальцы. – Фрау фон Нейштадт, я доктор Зигмунд Фрейд. Как вы чувствуете себя сегодня? Фрау фон Нейштадт ответила низким, хорошо поставленным голосом: – Неважно, доктор. Я чувствую озноб и боль в левой ноге, которые, как мне кажется, идут от спины,… Она вдруг замолкла, на ее лице появилось выражение страха. Она протянула ему правую руку с растопыренными пальцами и воскликнула прерывающимся взволнованным голосом: – Стойте! Не говорите ничего! Не трогайте меня! Затем ее рука опустилась, пальцы расслабились. Она продолжала говорить тем же низким тоном: – У меня острое желудочное расстройство. Два дня я не могу ни есть, ни пить. Каждый глоток отдается болью… Она замолчала, закрыла глаза; вдруг с ее губ слетел щелкающий звук: «тик–тик–тик», производившийся языком,прижимавшимся к зубам, затем послышался взрывной звук губ, за которым последовало шипение. Выражение боли исчезло с лица. Она откинулась на подушку. – У моих родителей было четырнадцать детей, я была тринадцатой. Выжило только четверо. Я получила хорошее воспитание, хотя и под строгим надзором моей матери, которая любила нас, но была суровой… Она снова протянула правую руку, воскликнув: – Стойте! Не говорите ничего! Не трогайте меня! – и вновь продолжала низким голосом: – Ввиду неожиданной смерти мужа, которого я обожала, и трудностей воспитания двух дочерей, которым сейчас четырнадцать и шестнадцать и которые всю жизнь недомогают из–за нервного расстройства, я заболела… Опять – «тик–тик–тик–поп, хисс…». Зигмунд сделал вид, что не замечает странной речи женщины. – В течение этих лет, фрау фон Нейштадт, вы проходили курсы лечения у врачей, которые помогли вам? – Не часто. Четыре года назад мне помог массаж в сочетании с электрованнами. Несколько месяцев я страдала от подавленного состояния и бессонницы. Я нахожусь в Вене шесть недель, ищу медицинскую помощь и не нахожу. Рука вздрогнула: – Стойте! Не говорите ничего! Не трогайте меня! – Она расслабилась. – Доктор Йозеф Брейер сказал что–то во время вчерашней процедуры, что заставило меня поверить в вашу способность помочь мне. Фрау фон Нейштадт смотрела на него своими зелеными глазами, как бы изучая: – Благодарю вас, господин доктор. Если вы оставите ваше имя и адрес приюта, я перееду туда утром. Уже смеркалось, когда он вышел на улицу. Под впечатлением увиденного острые углы каменных зданий расплывались в мягкие контуры. Его карие глаза подернулись задумчивой дымкой; он шел необычным, неровным шагом, стараясь расшифровать для себя странные движения и звуки фрау Эмми фон Нейштадт. Очевидно, она страдала истерией: образованная и умная, она вдруг бессознательно становилась жертвой устрашающих галлюцинаций. Она как бы отгоняет злой образ, вытягивая руку и крича: «Стойте! Не говорите ничего! Не трогайте меня!» Исчезает ли демон, когда произносится такое заклинание? И как понимать странный щелкающий звук – «тик–поп–хисс»? Этот тик, по–видимому, диктуется той частью ее ума, которая не имеет контакта с зоной мозга, управляющей речью и логическим мышлением. Маршрут, по которому он шел, привел к площади собора Святого Стефана, где, вытянувшись в очередь, ждали пассажиров одноупряжные экипажи и фиакры, кучера которых обменивались полуденными сплетнями. Мысли в голове Зигмунда вращались с не поддающейся контролю скоростью, а его чувства сгустились в комок, словно крутое тесто. Когда он попытался рассортировать их, то смог выделить лишь опасение, смешанное со страхом. Он чувствовал, что стоит на краю бездны, именуемой двойственностью человеческой природы. После «Эдипа–царя» Йозеф Брейер сказал, что королева Иокаста не принимала своим сознательным умом, что замужем за собственным сыном. Зигмунд не смог тогда сделать следующий логический шаг, к которому толкала вся сила его интеллекта: Иокаста осознавала, кем ей приходится Эдип, неосознанным умом. Тересий, слепой пророк, говорил:8
Он прошел несколько кругов в саду санатория, прежде чем подняться в комнату фрау Эмми, из которой можно было полюбоваться голубым венским небом. Она ничего не ела накануне и не спала ночь. Каждый раз, когда неожиданно открывалась дверь, она сжималась, вздрагивала в постели, как бы желая защититься. Он приказал, чтобы никто, даже сестра или врач, не входил без легкого стука в дверь. – Фрау фон Нейштадт, наша задача в течение первой недели добиться, чтобы вы физически окрепли. Два раза в день мы будем делать массаж. Я сказал, чтобы вам готовили теплые ванны. Сейчас я собираюсь загипнотизировать вас, вы уснете, после чего я сделаю некоторые внушения. Подвергались ли вы когда–либо гипнозу? – Нет. Она оказалась прекрасным объектом для гипноза. Он держал палец перед ее глазами и внушал ей, что она хочет спать. Через несколько минут она расслабилась, откинувшись на подушки, выглядела несколько удивленной, но не встревоженной. Он сказал спокойным голосом: – Фрау фон Нейштадт, я полагаю, что ваши симптомы исчезнут, вы начнете кушать с отменным аппетитом и мирно спать всю ночь. Потребовалось шесть дней последовательных гипнотических внушений вместе с ваннами и массажем, и фрау Эмми обрела состояние покоя, тик на лице почти исчез. Зигмунд понимал, что причины не устранены, они лишь притаились в ожидании. Требуется более глубокое лечение. Когда чудесным утром во вторник он вошел в комнату, залитую солнечным светом, она набросилась на него: – Сегодня утром я прочитала во «Франкфуртской газете» страшную историю о том, как подмастерье связал мальчика и засунул ему в рот белую мышь. Бедный мальчик умер от страха. Один из моих врачей сказал, что он послал в Тифлис целую корзинку с белыми крысами. На ее лице появилось выражение отвращения, она прижала руки к груди и закричала: – Стойте! Не говорите ничего! Не трогайте меня! Господин доктор, представьте, одна из крыс была в моей постели! Он ввел Эмми в состояние сна, подобрал газету, лежавшую на столике у кровати, и почитал историю о молодом парне, с которым плохо обращались. Не было никакого упоминания о мышах или крысах. Какая–то мысль, галлюцинация, страх, гнездившиеся в голове фрау Эмми, соединили мышей и крыс с тем, что она прочитала в газете. Лишь выявив, что было причиной приступов ужаса у фрау Эмми, он мог попытаться рассеять их. Отныне он распознал известную параллель между ее болезнью и случаем Берты Паппенгейм. Он попытался в разговоре с Йозефом Брейером оценить степень сходства, определить возможности исцеления, но Йозеф не пожелал втягиваться в дискуссию. Зигмунд довольно долго внушал фрау Эмми, находившейся в состоянии гипнотического сна, что боязнь таких животных, как мыши, крысы, змеи, рептилии, – дело нормальное, но это не должно портить ей жизнь. Он внушал, что ей следует перестать думать о них, отбросить мысли о них, смотреть на них как на нечто обычное, не имеющее значения. Он говорил: – Фрау Эмми, вы можете сделать выбор. Во время следующего сеанса, когда она находилась под гипнозом, он спросил, почему она так часто пугается. Она ответила: – Это связано с воспоминаниями ранней молодости. – Когда? – Первое воспоминание: когда мне было пять лет, мои братья и сестры часто бросали на меня дохлых животных. Именно тогда у меня возникли обмороки и спазмы. Но моя тетя сказала, что это неприлично и таких приступов не должно быть, и они прекратились. Когда мне было семь лет, меня вновь напугали – я увидела свою сестру в гробу; затем, когда мне было восемь лет, мой брат стращал меня призраком, закутываясь в простыни; и еще, когда мне было девять лет, я увидела мою тетю в гробу, и у нее вдруг отвалилась челюсть. После каждого упоминания она дрожала, ее лицо и тело подергивались. Она лежала на подушках обессиленная, судорожно глотая воздух. Он налил воды в тазик, намочил полотенце и вытер пот с ее лица, затем мягко помассировал ее плечи. После этого Зигмунд встал, подошел к окну и, глядя в сад, попытался понять мучительные переживания фрау Эмми. По меньшей мере, год отделял один инцидент от другого; они должны были отложиться в различных наслоениях ее памяти, однако она соединила все элементы вместе в связный рассказ, отвечая на простой вопрос. Когда он спросил, каким образом она сумела сделать это, Эмми ответила: – Потому что я часто думаю об этих страшных сценах. Я вижу все так отчетливо, все формы, образы, краски, словно переживаю их сейчас. Он осторожно погладил ее веки, чтобы ввести в более глубокий сон, одновременно обдумывая по отдельности составные части ее рассказа. Может ли она помнить на самом деле так хорошо сцены, когда ей было всего пять лет? И бросала ли в действительности ее сестра дохлых животных на нее? Это представляется невероятным. Не страдала ли она в детстве приступами и спазмами? Она не упоминала об этом, когда говорила о ранних симптомах. По–видимому, она была здоровой девочкой. – Во всяком случае, были такие инциденты или нет, я предлагаю, чтобы вы забыли о них. Наши глаза видят в течение жизни буквально миллионы картин, и мы не обязаны их помнить. Фрау Эмми, мы свободны выбирать картины. Я предлагаю, чтобы вы решили не вспоминать об этих сценах, и думаю, что вы способны выбросить их из головы. У вас достаточно сильная воля и разум, чтобы сделать это. Набросим на них покрывало, чтобы они стали неразличимыми, а затем и полностью исчезли. На следующий день, обнаружив, что у нее остались боли в желудке, он попытался добраться до причины тика. Он спросил: – Фрау Эмми, с каких пор начался у вас тик, при котором вы издаете странный щелкающий звук? Фрау Эмми ответила легко и с полным знанием не только самой беды, но и момента ее начала: – Тик у меня последние пять лет, с того момента, когда я сидела у кровати спящей дочери, которая была больна и нуждалась в полном покое. Он сказал с сочувствием: – Воспоминание об этом не имеет значения для вас, фрау Эмми, ведь с вашей дочерью ничего не случилось. – Я знаю. Но тик наступает, когда я обеспокоена, напугана или встревожена. В этот момент в комнату вошел Йозеф Брейер вместе с домашним врачом. Тут же фрау Эмми вытянула руку и закричала: «Стойте! Не говорите ничего! Не трогайте меня!», после чего Брейер и домашний врач удалились без всяких церемоний. Во время следующего сеанса гипноза Зигмунд просил ее рассказать о других испытаниях, которые напугали ее. Она ответила: – Я видела ряд других сцен и могу воспроизвести их сейчас. Я видела, как забирали мою кузину в сумасшедший дом, когда мне было пятнадцать лет. Я пыталась кричать о помощи, но не могла и потеряла способность говорить до вечера в тот день… Он прервал ее: – Когда в другой раз вас встревожила мысль о потере рассудка? – Моя мать некоторое время находилась в приюте. Одно время у нас была служанка, которая рассказывала страшные истории, как привязывают к стульям больных, избивают и заставляют кружиться, кружиться, кружиться, пока они не потеряют сознание. Рассказывая об этом, она встревоженно сжимала и разжимала пальцы, губы были плотно стиснуты под влиянием страха. Он сказал ей, что она слишком проницательна, чтобы верить россказням служанки, что он сам работал в приюте и знает, каким вниманием окружены больные. Он внушал, что нет нужды поддаваться басням, что они не касаются ее. На другой день, когда она расслабилась в постели и выражение ее лица было более веселым, он попросил: – Будьте добры, раскройте мне значение вашей фразы: «Стойте! Не говорите ничего! Не трогайте меня!» Эмми спокойно ответила: – «Стойте» означает, что появляющиеся передо мной фигуры животных, когда я в плохом состоянии, начинают двигаться и нападать на меня, если кто–нибудь сделает движение. «Не трогайте меня!» – следствие случая с моим братом, который заболел, приняв большую дозу морфия. Мне было тогда девятнадцать лет, он схватил и сжал меня. А когда мне было двадцать восемь, заболела моя дочь и она в бреду так сильно обхватила меня, что почти удушила. Вновь Зигмунд принялся устранять воспоминания о каждом инциденте раздельно, прибегая к отдельным внушениям. На следующем сеансе, когда фрау Эмми была в глубоком сне, он спросил о причине ее заикания. Преодолевая большое возбуждение и речевые помехи, она рассказала ему, как однажды, когда она находилась в экипаже с детьми, понесла лошадь; а в другой раз, когда во время грозы она ехала с детьми в коляске, молния ударила в дерево прямо перед ними и лошади сделали бросок. Она тогда подумала: «Держись, не кричи, твой крик напугает лошадей, и кучер их не удержит». С этого момента она стала заикаться. Он повторял и вновь повторял внушения с целью устранить этот новый набор «гибких» воспоминаний. По завершении сеанса он сказал: – Фрау Эмми, расскажите мне обо всех тех эпизодах еще раз. Фрау Эмми не ответила на его команду. Он разбудил ее. Она не помнила, о чем говорилось под гипнозом. Заикание вроде бы исчезло. Зигмунд испытал огромный душевный подъем. Фрау Эмми фон Нейштадт пользовалась особым вниманием с его стороны. Он проводил с ней ежедневно два часа, один – утром, после завтрака, другой – вечером. Но как бы он ни был увлечен процессом, у него было мало времени думать об этом между визитами, ибо в детской клинике в Институте Кассовица было так много посетителей, что еженедельно ему приходилось проводить в ней три дня. Расширилась и его частная практика, и зачастую больные, приходившие в его приемную, отнимали у него четыре рабочих часа. Он выступал в роли невролога, отыскивая и часто находя соматические причины заболеваний пациентов. По иронии судьбы сейчас, когда он разработал новый подход к неврозу, не появлялись пациенты, страдающие истерией. Он несколько похудел и выглядел уставшим, но тем не менее регулярно проводил час до полуночи в тихой квартире, когда Марта уже спала. Сидя за письменным столом, он тщательно записывал каждое слово, сказанное в этот день им в разговоре с фрау Эмми. Он не жалел усилий, чтобы составить топографическую карту сложного рельефа подсознания этой женщины. К концу третьей недели ухода за фрау фон Нейштадт он осознал, что она была подлинным кладезем болезни подсознания. Прошло шесть лет, с тех пор как Йозеф Брейер завершил дело Паппенгейм и началось его наблюдение за фрау Эмми; насколько ему было известно, в эти годы нигде не был испробован такой метод терапии, не применялось «лечение речью». Переводя книгу Берн–гейма «Гипноз и внушение», он думал о возможностях такой терапии. Он понимал также, что внушения под гипнозом – это лишь часть дела: другая половина осуществляется самой фрау Эмми посредством «лечения речью». Было очевидно, что ни одна из историй, которые она излагала, не сходила ранее с ее уст; сомнительно также, чтобы они могли ранее пробиться наружу из тайников ее подсознания. Йозеф Брейер понимал значение этого метода терапии, но отказался его использовать. Почему? Конечно, он был в состоянии установить диагноз болезни фрау Эмми и применить тот же катарсис, к которому он прибегнул в случае Берты Паппенгейм. Почему он не захотел излечить женщину сам? Каждую ночь, сидя за столом, Зигмунд размышлял, какая часть пациентов, явившихся в приемные врачей и в больницы, заболела не от физических, а от умственных инфекций. Не все, конечно, и даже не большинство; он работал слишком долго в больницах и видел слишком много людей, умирающих от физических недомоганий, чтобы не знать, что большинство из них страдали нарушением функций какого–то органа, заболеванием легких, крови, раком. Однако он интуитивно чувствовал, по мере того как продолжал лечить фрау Эмми и каждый вечер переводить книгу Бернгейма, что больные часто сами уходят в свою болезнь. Это была медленная и неуловимая форма самоубийства, не осознаваемая пациентом, семьей, друзьями или врачом!9
С помощью внушения он сумел устранить опасения и страхи фрау Эмми относительно приюта; после гипноза она пробуждалась радостной, рассказывала о своем салоне, своих чудесных друзьях среди писателей и художников. Однако, когда он приходил на следующее утро, она восклицала: – Господин доктор, рада, что вы пришли. Я так боюсь. Я знаю, что умру. Под гипнозом она рассказала ему о страшном сне: – Ножки и ручки кресел превратились в змей. Чудище с клювом стервятника рвало меня и глотало куски мяса. На меня прыгнуло другое дикое животное. Когда я была маленькой, я хотела подобрать клубок шерсти, а это была мышь, которая тут же убежала; когда я сдвинула камень, под ним была большая жаба, и я так напугалась, что целый день не могла говорить. Опять образы зверей, образы, которые он не удалил. Не создавала ли она их сама в своих галлюцинациях? Возможно, она выдумывает их так быстро, что они успевают замещать те, которые он устранил? Или же они возникают из воспоминаний о действительных страхах, испытанных в детстве? В то время как она продолжала рассказывать о своем прошлом, он спросил: – Фрау Эмми, почему вы так часто говорите, что у вас ощущение бура в голове? Она напряглась и сказала сердито: – Вы не должны спрашивать меня, откуда это приходит; позвольте мне говорить то, что я говорю, не прерывая меня. Позднее в этот вечер, приводя в порядок свои заметки, он подумал: «Фрау Эмми права. Когда больной выдает свой материал, мне следует оставаться на втором плане и пусть материал излагается так, как это возможно и должно. Это наилучший способ выявить автопортрет. Я должен вмешиваться лишь тогда, когда иссякает источник». На следующий день она выложила удивительную историю: один из ее старших братьев, армейский офицер, был болен сифилисом, и, поскольку семья скрывала болезнь, она была вынуждена питаться за одним столом с ним, будучи смертельно напуганной, что может взять его нож или вилку и подцепить болезнь. У другого брата был туберкулез, и он отхаркивался за столом в плевательницу, стоявшую около нее. Когда она была совсем юной и отказывалась есть, мать заставляла ее сидеть за столом несколько часов, пока она не съест мясо, которое «становилось к этому времени холодным, а жир затвердевал». У нее возникало чувство отвращения. – Каждый раз, когда я сажусь есть, вижу застывший слой жира и у меня кусок в горло не идет. Он спросил вежливо: – Фрау Эмми, возвращалась ли память о таких моментах в течение трех лет вашего замужества? Беспокоили ли они вас тогда? – О нет, несмотря на то, что за три года я дважды была беременной. Но тогда я была ужасно занята. Все время, как в городе, так и в поместье, мы принимали людей. Мой муж ввел меня в подробности своего дела. Когда он выезжал по делам в другие страны, он брал меня с собой. Ее лицо оживилось, она выглядела моложе. Зигмунд продолжал держать ее под гипнозом. – Какое событие в вашей жизни произвело на вас самое памятное воздействие? Она не колебалась, не было также чувства страха, отвращения, лишь тонкие черты ее лица обозначили печаль, и ее щеки слегка побледнели. – Смерть моего мужа. – Ее голос был полон эмоций, но она не заикалась, не щелкала. – Мы были в нашем любимом месте на Ривьере. Когда мы переезжали мост, мой муж вдруг осел на пол и пролежал без движения несколько минут; затем он встал и выглядел совсем хорошо. Через некоторое время, когда я лежала в постели после вторых родов, мой муж, сидевший за маленьким столиком около моей кровати и читавший газету, поднялся, как–то странно посмотрел на меня, сделал несколько шагов и упал замертво. Врачи пытались вдохнуть в него жизнь, но тщетно. Затем дочь, которой было всего несколько недель, серьезно болела в течение шести месяцев, и все это время я сама была прикована к постели с высокой температурой. – Выражение ее лица изменилось: гнев и горечь отразились на нем. – Вы не можете себе представить, какие неприятности причинил мне этот ребенок. Она была странной, день и ночь плакала, не спала, у нее развился паралич левой ноги, казавшийся неизлечимым, она научилась ходить и говорить с запозданием, какое–то время мы думали, что она будет слабоумной. По мнению врачей, у нее был энцефалит, воспаление позвоночника и не знаю, что еще! Он обратил внимание на то, что сейчас ее дочь совершенно здорова. – Фрау Эмми, я собираюсь устранить все воспоминания этого периода, словно они вообще не существовали в вашем уме. У вас предчувствие несчастья. Именно это страшит вас. Но ведь нет причины, чтобы вы себя истязали. Нет причины для возврата болей в ваших руках и ногах, судороги в шее, потери чувствительности… Поскольку я могу удалить все эти моменты из вашей памяти, я могу также устранить и возвратные боли. Но она оставалась удрученной. Он спросил ее, почему она так часто впадает в меланхолию. Она ответила: – Потому что меня преследуют родственники моего мужа. Они не любят меня. После его смерти они натравили на меня гнусных журналистов, которые распространяли дурные слухи обо мне и поместили в газетах клеветнические сплетни. Он часто слышал подобные жалобы в клинике Мей–нерта и видел в них некую форму мании преследования. Мания это или нет, но он должен удалить такие мысли из ее головы. Он увиделся с Йозефом Брейером в его доме в шесть часов вечера, когда, как он знал, тот кончал свою работу. Они прошлись до кафе «Курцвейль», завсегдатаями которого были в студенческие годы по той причине, что там была классная доска и на ней писались мелом послания друзьям. Маркеры этого кафе приглашались в качестве арбитров на бильярдные матчи; они были лучшими игроками в империи, и их часто просили доиграть, когда патрон отлучался по срочным делам. Как всегда, на рост–руме с кассой восседала красивая девушка, наблюдавшая за залом. Зигмунд провел Иозефа в дальний угол открытой части кафе; здесь можно было подышать свежим воздухом и спокойно поговорить. – Йозеф, я работаю с фрау Эмми уже шесть недель. У меня даже не было выходных. Я добился прогресса по многим направлениям, но стоит вернуться через день или неделю, и у нее появляются новые образы и новые воспоминания, которые замещают устраненные. Порой я боюсь, что ее желание болеть сильнее, чем мое желание вылечить ее. Брейер мрачно покачал головой, гладя ладонью свою бороду. – Я знаю, Зиг, она принадлежит к числу противящихся, но шесть недель – это малый срок для излечения женщины, которая болела четырнадцать лет. Зигмунд подумал минуту о сказанном. – Йозеф, если бы муж фрау Эмми был жив, страдала бы она теми же симптомами? Все указывает на то, что она чувствовала себя хорошо и была счастливой. Если бы она не видела, как он упал замертво у ее ног, вырастила бы она нормально своих дочерей? Это она, пережившая удар и горе, превратила девочек в нервнобольных. Не так ли, Йозеф? – Да, Зиг. Боюсь, что так. Почему фрау Эмми вновь не вышла замуж? – Она утверждает, что оставаться вдовой ей велел долг; она считала, что новый брак может привести к разбазариванию состояния ее дочерей, и решила не рисковать. Брейер слегка свистнул, размешивая сахар на дне чашки с густым черным кофе. – Это более высокий процент, чем даже у ростовщиков, не так ли? Она сохранила состояние девочек и страдала четырнадцать лет от перемежающихся болей, а когда я передал ее тебе, была настолько плоха, что могла скончаться. – Йозеф, однажды ты сказал мне, что, по словам Берты Паппенгейм, у нее как бы две сущности – «плохая, или вторичная, сущность», толкающая к психическим заболеваниям, и первая, или нормальная, сущность, «спокойный и проницательный наблюдатель, который сидит», как она определила, «в углу ее мозга и смотрит на все безумные дела». Для меня ясно, что у фрау Эмми два раздельных и отчетливых состояния сознания – одно открытое, а другое скрытое. В течение шести недель я наблюдал этот процесс в его расцвете; и теперь у меня есть портрет этой «второй силы» в действии. Я увидел неизвестный, неожиданный континент, область научного исследования огромнейшего значения. Йозеф, сколько несчастных, прикованных к стенам Башни глупцов, находились там по той причине, что их больной второй ум, их «плохая сущность» поборола рассудок? Сколько пациентов в клинике профессора Мейнерта повредились рассудком и сколько в приюте для душевнобольных Нижней Австрии стали эмоционально неуравновешенными, потому что у них не один, а два ума, действующих независимо друг от друга, больной ум при этом постепенно отбирает контроль от нормально функционирующего? Я знаю, фрау Эмми, бесспорно, личность с тяжелой наследственностью, но с другой стороны, Йозеф, мы знаем, что предрасположенность и наследственность сами по себе не могут вызвать такую истерию. Должен быть внешний толчок, такой, как внезапная смерть мужа, иначе наследственный изъян не может быть приведен в движение. Йозеф Брейер покачал головой в растерянном смущении. – Зиг, как врач фрау Эмми ты не можешь дать ей в порядке опыта нового мужа. Поэтому ты должен выкорчевать материал, с помощью которого она сама делает из себя больную. Мой тебе совет: не выписывай ее из приюта до тех пор, пока она не выразит большое желание возобновить нормальную жизнь. Здоровье фрау Эмми улучшалось. Гипнотизер доктор Фрейд продолжал внушать, что она достаточно волевая женщина и на нее не должны действовать старые воспоминания. Он напрямик просил ее порвать с этим прошлым и разбросать обрывки по ветру. Однажды утром он застал ее, аккуратно одетую, причесанную, с улыбкой на лице, на стуле около кровати. – Господин доктор, я чувствую себя хорошо. Это чудесное время года, чтобы находиться в поместье. Я хочу вернуться туда, забрав с собой дочерей. Я хотела бы присоединиться к друзьям и взять в свои руки семейный бизнес. Я благодарна вам за все, что вы сделали. В эту. ночь он не мог уснуть, рядом слышалось ровное дыхание Марты, а из–под покрывала люльки виднелась голова ребенка. Он начал беззвучный диалог сам с собой; это было тихое время, когда голова работает особенно ясно. «Что я сделал для фрау Эмми?» – спрашивал он себя. По меньшей мере на время положил конец ее физическим болям, искоренил мысль, что ее конечности подвержены параличу или что она должна умереть, кормил ее, делал массаж, провел курс электротерапии, прописал теплые ванны, изгнал из ее головы множество отвратительных образов. Но что он сделал, чтобы добраться до корней ее проблемы? Такой конечный вопрос должен ставить перед собой каждый врач. Он был теперь готов спросить о причинах появления в умах людей идей, разрушающих этот ум. Откуда они возникают? В силу какого процесса они становятся хозяевами и воздействуют так, что превращают истинного хозяина в слугу? Мало сказать, что физическое и умственное заболевание было вызвано внезапной смертью мужа. Тысячи молодых женщин становятся вдовами; они вновь вступают в брак или остаются одинокими, работают всю остальную жизнь, воспитывают детей. Ребенок зашевелился в люльке. Зигмунд встал, пощупал подгузник, сухой ли он, поправил тонкое одеяло, вернулся в постель. Не были ли эти вопросы теми же самыми, которые задаются по поводу любой другой болезни? Тысячи лет люди умирали от туберкулеза, пока профессор Кох не спросил: каково происхождение этой болезни? Что вызывает ее? Он нашел ответ: бациллы; и теперь врачи работают над лекарствами, чтобы уничтожить эти бациллы. В течение столетий люди умирали от камней в мочевом пузыре, пока хирурги не научились удалять их. Многие поколения рожениц умирали от горячки. Земмельвейс спросил: почему? Откуда появляется горячка? Он нашел ответ и положил конец преждевременным смертям. Зигмунд больше не сомневался, что невроз – серьезная болезнь. Он может сделать человека слепым, немым или глухим, парализовать его руки и ноги, скрутить в конвульсиях, лишить способности есть и пить, убить так, как убивают заражение крови, чума, пораженные легкие, закупорившиеся артерии. Пациенты умирают от невроза, сколько их, он не может, видимо, догадаться. Большинство врачей хорошо обучены, действуют со знанием дела, они страстно желают помочь своим пациентам, спасти их. Но как быть, когда неправильно поставлен диагноз, когда направляют не в то отделение больницы или клиники, когда по ошибке не принимают больного или отсылают домой умирать?Книга седьмая: Неведомый остров Атлантиды
1
Они сели в экспресс, отходивший в 7 часов 30 минут на Земмеринг – горный район, известный как альпийский рай венцев, чтобы подыскать виллу, где семья могла бы как следует отдохнуть. Это было во второй половине июня. Купе второго класса было обтянуто коричневой кожей, на полотняных подголовниках красовались буквы К. К. (Кайзерлих–Кениглих) – эквиваленты букв S. P. Q. R. (именем народа и сената Рима) Римской империи, которые венцы видят десятки раз в день, проходя мимо официальных зданий или крохотных лавок, где продают табак и марки. Когда поезд проходил первый туннель, известный как Поцелуйный, и в купе стало темно – в столь ранний час газовые лампы не были зажжены, – Зигмунд обнял Марту и страстно поцеловал ее. Она шепнула на ухо: – Знаешь, Зиг, если муж не поцелует жену в этом туннеле, то считают, что у него есть другая женщина! Поезд проходил между раскинувшимися на предгорьях виноградниками с их характерными рядами кольев, поддерживавших лозу со зреющими гроздьями. Когда поезд сделал остановку в Пфафштеттене, они увидели винные лавки, увитые гирляндами зелени у входа, это был знак того, что здесь предлагают молодое вино. Зигмунд, пациенты которого бесследно исчезли, как испаряется под солнцем вода во время мытья улиц города, саркастически заметил: – Быть может, и мне стоит повесить над входом венок, чтобы все знали, что я предлагаю свежую медицинскую философию, еще не перебродившую и поэтому опьяняющую. Стога сена у подножия Домашних гор – их именовали так, потому что они примыкали к предместьям Вены, – были похожи на высокие пропеченные кексы. Поезд начал взбираться вверх, к горбачам – так австрийцы называли холмы между двумя снежными пиками Шнееберг и Ракс. Еще брат Зигмунда Александр рассказал ему историю о том, как прокладывалась эта линия на Земмеринг – первая горная железная дорога в мире, построенная проницательным Карлом Грегой при покровительстве императора Франца–Иосифа. Зигмунд пересказал Марте историю о поистине невероятных усилиях, затраченных на то, чтобы покорить перевал Земмеринг на высоте почти двух тысяч метров, построить шестнадцать виадуков через ущелья и пробить пятнадцать туннелей через скалистые горы. В юности Зигмунд приезжал сюда так часто, как это удавалось. В Глогнице три железнодорожника осмотрели вагоны, затем был прицеплен специальный паровоз – он помогал тянуть состав в горы, а сзади добавили еще один, чтобы толкать. В Кламме проводники зажгли газовые лампы. Когда из мрака туннелей они выехали на залитые солнцем виадуки и показалась огромная бумагоделательная фабрика Шлегеля, а затем и церковь Марии Заступницы, Зигмунд заметил: – Эта поездка – лучший из известных мне символов различия между адом и раем Данте. Знаешь, Марта, есть люди, которые предпочитают жизни смерть. – Трудно поверить, Зиги. Каким образом ты узнал это? – Научили пациенты. Было около десяти часов утра, когда супруги Фрейд прошли широкие двери станции Земмеринг и отправились в деревню. Они всей грудью вдыхали напоенный запахами смолы и снега воздух. Находясь в горной долине, они не видели горизонта, закрытого высокими хребтами, отдельные пики которых вонзались в лазурь неба. Под ними раскинулись зеленые пастбища, где пасся скот; вдоль узких проселков, извивавшихся по склонам гор, были рассыпаны деревни с красными черепичными крышами домов и серыми шиферными крышами сараев. Многие виллы были уже сданы, но вскоре после полудня они нашли приятный летний домик – зоммерво–нунг, укрывшийся под березами, Просторный, как дома в Бадене, но тирольский по внешнему виду, он имел два этажа – нижний, каменный, и верхний – деревянный, ставни были выкрашены зеленой краской, над домом возвышалась небольшая башенка с колоколом, внутренние стены дома украшали оленьи рога. Хозяева занимали первый этаж. Просторный второй этаж имел крытую террасу. Усевшись здесь на деревенских стульях, Зигмунд и Марта решили, что терраса – удобное место для послеобеденного кофе. Когда приветливая жена хозяина принесла им молодое белое вино, они чокнулись, сказали друг другу тихо: «Я тебя люблю» – и решили назвать место отдыха «виллой Пуфендорф», потому что аренда оплачивалась гонораром, полученным от Пуфендорфов. «Вилла Пуфендорф» оказалась весьма удачливой. Марта и девятимесячная Матильда буквально расцвели в тепле, пропитанном запахом хвои, тогда как ночи были приятно прохладными и нужно было укрываться одеялом. Мария справлялась с кухней, несмотря на скудость посуды. Она упаковала два ящика столовой посуды, кастрюль и полотенец, доставленных в багажном вагоне поезда, в котором она и трое Фрейдов заняли целую лавку, а их ручная кладь размещалась в сетках над головами. Каждую пятницу вечером в восемь часов пятнадцать минут Зигмунд выезжал на поезде из Вены и чуть позднее одиннадцати шагал по узкой деревенской дороге. К полуночи он уже отдыхал с Мартой в сладком тепле их постели. Амалия и Якоб давно не выезжали на лето в деревню, и, чтобы сделать им приятное, Зигмунд пригласил их к себе. Александр, пользовавшийся правом бесплатного проезда, приезжал по воскресеньям, – Не ради того, чтобы посетить нас, – поддразнивала его Марта, – а чтобы проехать шестнадцать виадуков. Александр отвечал, счастливо улыбаясь: – С закрытыми глазами могу сказать тебе название и номер каждого: туннель Буссерль, Пейербах, Шлёгель–мюле… Двадцатидвухлетний Александр был чуть ниже Зигмунда, у него была короче шея; в остальном братья поразительно походили друг на друга. Зигмунд считал своего брата сложной личностью, темпераментным в своих отношениях с людьми, нетерпеливым и вместе с тем уравновешенным и надежным в работе. Александр задерживался на работе до полуночи. Он сетовал лишь на то, что бюллетени тарифов торговых перевозок печатаются микроскопическим шрифтом; он уже носил очки с узкой металлической перемычкой на широком носу, тогда как Зигмунд, старше его на десять лет, читал медицинские тексты без очков. – Когда я стану министром транспорта, моим первым официальным актом будет четырехкратное увеличение размера шрифта для тарифных документов железных дорог. За одно это император Франц–Иосиф должен произвести меня в рыцари. Фирма Александра распространяла «Всеобщий вестник тарифов». В начале его деятельности список тарифов умещался на паре простых листков. Через пять лет он превратил их во внушительный журнал. – Алекс, будь осторожен, – предупреждал его Зигмунд, – или ты станешь австрийским экспертом по товарным поездам. – Я уже им стал. Зигмунду казалось странным быть наедине с мебелью в гостиной и столовой, укутанной простынями, с закрытыми окнами без занавесок, с коврами, пересыпанными камфарой и завернутыми в газеты. Поскольку его посещали только случайные пациенты, он проводил вторую половину дня в Институте Кассовица, куда привозили больных детей со всей Австрии. По утрам он обдумывал и писал статьи об афазии, анатомии головного мозга и детском параличе для «Медицинского энциклопедического справочника» и Введение к только что законченному переводу книги Бернгейма, где он обратил внимание на достижение ее автора, сумевшего лишить явления гипноза их необычности, благодаря тому что он увязал их с обычными явлениями нормальной психологической жизни и сна и определил «внушение как центральное ядро гипноза и ключ к его пониманию». Он утверждал, что книга наводит на размышления и точно рассчитана на то, чтобы развеять представления, будто гипноз все еще окружен, как заявляет профессор Мейнерт, «ореолом абсурдности». Вечера он проводил с друзьями. Эрнст Флейшль часто приглашал его на ужин, ибо был одинок и нездоров, его часто лихорадило, и он не мог продолжать исследования в лаборатории профессора Брюкке. Иосиф Панет взял на себя его обязанности и вместе с Экснером добился блестящих результатов в восстановлении зрения после операций в области задней части мозга. Флейшль, красивое в прошлом лицо которого превратилось в складки и кости, раздражался по поводу малого числа пациентов у Зигмунда. – Зиг, почему бы тебе не заняться общей практикой, пока ты не можешь позволить себе роскошь выступать в качестве невролога? Зигмунд положил вилку. – Мучительно сидеть в приемной утром и вслушиваться, не звонит ли в дверь какой–нибудь пациент. Но я не имею достаточного опыта во всех областях медицины, чтобы вести общую практику. Кроме того, нас, неврологов, всего лишь горстка. Флейшль вздохнул: – Разумеется, твое право упрямиться. Йозеф Брейер преобразовал слово «упрямый» в «неохочий». Он взял «Медицинский еженедельник» и зачитал вслух отрывок из предисловия Зигмунда к книге Берн–гейма. – Почему ты должен нападать на Мейнерта в лоб? Ты думаешь, что дразнишь кошку? – Он наклонил голову и уставился на Зигмунда исподлобья. – Мейнерт – лев пустыни. Он нанесет ответный удар, Зиг. Не думаю, что у тебя есть оружие сражаться с ним в открытую. Самые счастливые вечера он проводил с Софией и Иосифом Панет в их прохладном помещении на верхнем этаже в Паркринге с видом на городской парк. Иосиф пригласил несколько молодых врачей, и они играли в карты перед открытыми окнами. Зигмунд наслаждался игрой, забывая медицину, Мейнерта и отсутствующих пациентов. Как–то вечером София отвела его в сторону. – Зиги, Иосиф сильно кашляет по ночам. Однажды я обнаружила пятна крови, когда он пытался их скрыть. Не придумаешь ли предлог, чтобы обследовать его грудную клетку? – София, дорогая, я знаком с лучшим врачом в Австрии. – Не попросишь ли ты его посоветовать нам уехать на все лето в горы? Иосиф так увлечен работой с доктором Экснером, что перегружает себя. Амалия была больше всех довольна вынужденным летним холостым образом жизни Зигмунда, ибо ей выпал шанс готовить сыну его излюбленные кушанья. В свои пятьдесят три года она слегка поседела, но ее лицо оставалось гладким, а энергия неистощимой. Домашнее хозяйство было для нее слишком скромной империей, особенно с тех пор, как Зигмунд настоял, чтобы она наняла служанку для тяжелой работы; но порой ее захлестывали эмоции, связанные, в частности, с тем, что три ее дочери еще не покинули отчий дом и были вынуждены спать водной комнате. Хотя сестры ладили между собой, иногда случались взрывы, вызванные теснотой. Якоб сбегал из дома при первых признаках ссоры. Амалия отказывалась принимать чью–либо сторону и просила девушек сохранять мир в ее доме. Алекс, как наиболее практичный из всех, решал возникавшие проблемы, добавляя еще один крючок в платяном шкафу, еще одну полку над кроватью. Став отцом, Зигмунд почувствовал, что его отношение к Якобу изменилось. Он всегда любил отца за его умение сочетать мудрость с юмором; Якоб легко поддерживал контакт с детьми. Однако между Зигмундом и его отцом пролегло различие не одного, а двух поколений. Теперь это различие не казалось важным, и в своих чувствах к крошке Матильде Зигмунд узнал нежное внимание Якоба к самому себе. Отец был для него первым наставником и после Амалии первым, кто им восхищался. Зигмунд выкраивал каждый день час для прогулки в тенистом лесу Пратера, который так любил его отец, и это возвращало Зигмунда в детство, когда они гуляли вдвоем раз в неделю, обсуждая разные новости. Зигмунд обратил внимание на объявление в «Нойе Фрайе Прессе» о вакансии врача на фабрике в Моравии, но выдвигалось условие быть католиком. Такая форма антисемитизма не только давала знать о себе за последние несколько лет, но и становилась открытой. Сторонники антисемитизма основали газету «Дойче Фольксблат». Образовалась Объединенная христианская партия, пропагандировавшая согласие с Германией и ослабление связей с восточными странами; антисемитизм приобретал политическую направленность. В дискуссиях относительно дуэли Карла Коллера Йозеф высказал мысль, что доктор Циннер, спровоцировавший дуэль, проиграл умышленно, чтобы его не уволили из Городской больницы. Власти были вполне довольны, ведь, получив ранение, Циннер заплатил, дескать, за свое плохое поведение. «Если Коллер был бы достаточно хитер и позволил бы ранить себя, то он сохранил бы место в больнице», – рассуждал Якоб. Конец недели не сулил никаких забот. Марта и Зигмунд выходили из дома в субботу рано утром. На Зигмунде были короткие, до колен, кожаные штаны с широкими баварскими помочами, горные ботинки, толстые зеленые гольфы и в руках – альпеншток. Поверх рюкзака с продуктами для завтрака было привязано скатанное одеяло. Марта надевала свободную юбку и широкополую шляпу для защиты от солнца. Покинув «виллу Пуфендорф», они бродили по горным тропам, не думая о времени. Любимым цветком Зигмунда была смолка – небольшой темно–красный стебелек с резким сладковатым запахом. Когда они поднимались на гору Шнееберг, он лазил по крутым травянистым склонам, собирая цветы для Марты, – занятие трудное и опасное, что придавало особую ценность букету. На веранде горной таверны, с которой открывался изумительный вид, они закусывали, запивая пивом, и в сумерках возвращались домой, приятно летавшие, напоенные острым запахом разогретого хвойного леса. Такая летняя закалка помогала венцам приспосабливаться к условиям жизни в городе в период зимних дождей, слякоти, снега.2
Марта устроила настоящую осеннюю бурю, раскрыв все окна, проветривая и убирая помещение. Естественным последствием этого, объявила она, стало немедленное возобновление практики Зигмунда. Он был рад, что к нему обращаются нервнобольные; что в его приемной много лиц, страдающих от последствий сифилиса, частичного паралича лицевого нерва, двигательной атаксии; что к нему приходят с афазией, поскольку он завоевал репутацию специалиста в этой области и собирает материал для монографии; его посещают жертвы болезни Паркинсона, пляски Святого Витта, для которой характерны спазматические подергивания; что он постепенно набирает детскую клиентуру, благодаря тому что родители, способные оплатить личного врача, прослышали о его работе в клинике Кассовица. И все же его огорчало то, что не было ни одного пациента с неврозом. Такие больные могли бы дать ему исходный материал в дальнейшем изучении недуга. Помимо учебников по психиатрии Кре–пелина и Крафт–Эбинга, в медицинских научных монографиях было мало материала об этой болезни. Говорилось о болезни в «Архивах» Шарко, в работе американского невролога Сайласа Вейр Митчелла, родоначальника известного «лечения неврастении отдыхом», и в книге англичанина Джеймса Брейда «Нейрипнология». В немецкоязычном мире врачи все еще определяли невроз как начальное сумасшествие, вводящее врачей в отчаяние. Мейнерт полагал, что неврозы бывают либо наследственными, либо вызываются физическими повреждениями мозга. Источником знаний стала для Зигмунда фрау Эмми фон Нейштадт, болезнь которой представила ему ясную картину того, как действует подсознание, как посредством гипноза и «лечения речью» можно освободить подсознание от болезненных воспоминаний, вызывающих галлюцинации. Зигмунд отправил ее домой, в Северную Германию, почти здоровой, подобно тому как он дал возможность фрау Дорф кормить своего ребенка, господину Фогелю – ходить, хотя казалось, что его ноги парализованы, Тессе – бонне – спать дома и не выбегать на улицу. Он составил подробные записки по каждому из случаев, добавив к записям свои мысли и соображения. Однако только новые пациенты могут подкрепить достигнутые результаты, помочь определению направления дальнейших исследований и подсказать образ поведения. К нему привели одиннадцатилетнюю девочку. В течение пяти лет она страдала серьезными перемежающимися конвульсиями, и многочисленная группа квалифицированных врачей решила, что у нее эпилепсия. Были проведены все необходимые обследования, но ничего ненормального со стороны неврологии не было найдено. Зигмунд побеседовал с девочкой, вошел к ней в доверие, а затем прибегнул к гипнозу. Не успела она заснуть, как начался приступ. Зигмунд вспомнил: Бернгейм и Льебо пошли дальше Шарко, внушая пациентам под гипнозом, что они проснутся и у них исчезнет недомогание. Он решил развить метод врачей Нанси, использовавших гипноз. Вместо того чтобы внушить девочке, что конвульсии прекратятся, он спросил: – Моя дорогая, что ты видишь? – Собаку! На меня бросается собака! – Какая собака? Твоя собака? – Нет, нет, чужая собака… дикая… с горящими глазами… с пеной в пасти… она хочет откусить мне ногу!… Зигмунд обследовал ногу девочки. Шрамов не было. – Но она тебя не кусала. Ты убежала. А собака давно ушла. Ты ее больше не видела, не так ли? И не увидишь. Ты в полной безопасности. Тебе не нужно бояться собаки. Забудь об этом. Ты больше не увидишь собаку. Забудь о ней. Он разбудил девочку, вызвал отца, находившегося в прихожей, и спросил его, не произошел ли первый приступ эпилепсии, после того как за ней гналась собака. Отец вспомнил, что это случилось почти одновременно. – Пытался ли кто–либо связать воедино два элемента: испуг, вызванный собакой, и начало конвульсий? Ошеломленный отец стоял с широко раскрытыми глазами и нервно комкал шляпу в руках. – Какая может быть связь? Собака не укусила. Она не могла, следовательно, передать эпилепсию? – Девочка получила от нее ощущение ужаса, и это вызвало конвульсии. Ребенок не в большей степени эпилептик, чем вы или я. Моя задача удалить из подсознания вашей дочери чувство ужаса. Думаю, что начало положено. Зигмунд принимал девочку каждый день в течение недели, стараясь освободить ее от чувства страха. Он добился успеха. Спазмы не повторялись. Когда Зигмунд вручил отцу скромный счет, тот взглянул на него, вытащил из кармана запечатанный конверт, положил его на стол и поблагодарил господина доктора Фрейда за спасение жизни дочери. Позже, открыв конверт, Зигмунд глубоко вздохнул от удивления: промышленник обеспечил семье Фрейда отдых в горах на все следующее лето. Йозеф Брейер, которого вызвали осмотреть двенадцатилетнего мальчика, был менее удачливым. Как–то мальчик вернулся из школы с головной болью, ему было трудно глотать. Домашний врач поставил диагноз: воспаление горла. В течение пяти недель состояние мальчика ухудшалось, он отказывался от пищи, а когда его насильно кормили, начиналась рвота. Он проводил все время в постели. Мальчик объяснил доктору Брейеру, что заболел после того, как его наказал отец. Йозеф был убежден, что болезнь вызвана психическими причинами. Он попросил Зигмунда прийти для консультации. Зигмунд сказал после визита к мальчику: – Уверен, что ты прав, Йозеф, недуг в основе своей эмоциональный. Я заметил то же чувство страха, что и у девочки после инцидента с собакой. Но есть разница, полагаю, мальчик знает, что делает его больным. Думаю, это у него уже на кончике языка. – Его мать – умная женщина. Он ей скорее скажет, чем мне. Хитрость сработала. В следующий вечер, когда они прогуливались по Рингу, Йозеф рассказал подробности. По пути домой мальчик зашел в общественный туалет. Там незнакомый мужчина поднес свой возбужденный пенис к лицу мальчика и потребовал, чтобы тот взял его в рот. Мальчик убежал, потрясенный таким грубым вторжением извращенной сексуальности в его жизнь. Подавленный отвращением, он не мог принимать пищу. После того как мать поговорила с мальчиком и заверила его, что он ни в чем не виноват и должен забыть о случившемся, мальчик стал спокойно есть. – Теперь он поправился. – Мы познаем, таким образом, Йозеф, что анорексия, отсутствие аппетита и хронические позывы к рвоте могут быть связаны с образами и мыслями о рте, о пище. Каждый раз, когда фрау Эмми пыталась есть, ее память возвращалась к прошлому, к попыткам заставить ее есть холодное мясо. Знаешь, Иозеф, становится все более ясным: склонные к истерии страдают главным образом от воспоминаний. Однажды в конце января его вызвали к пациенту, жившему в районе Эшенбахгассе. Подойдя к площади Ми–каэлер и услышав игру полкового оркестра во внутреннем дворе Хофбурга, он прошел через большую арку, а затем под куполом, украшенным мужскими и женскими фигурами в стиле барокко. День был холодный, под ногами скрипела изморозь. Толпа наблюдала за сменой караула. Это была красочная картина, которая нравилась Зигмунду с детских лет; сюда Якоб приводил его посмотреть на шагающую под дробь барабанов гвардию. Когда оркестр заиграл увертюру к опере Мейербера «Гугеноты», из главного крыла дворца выскочил адъютант императора Франца–Иосифа и приказал дирижеру прекратить игру. Музыканты замолкали вразнобой. Толпа оцепенела: никогда полковой оркестр не прерывал пятидесятиминутный концерт. Со стесненным чувством Зигмунд продолжил свой путь к пациенту. Лишь после того как в полдень он закончил работу в Институте Кассовица и пошел в Тухлаубен, увидел, что разносчики газет продают специальный выпуск «Винер Цайтунг», где сообщалось, что «его императорское и королевское высочество наследный принц эрцгерцог Рудольф внезапно скончался от сердечного приступа» в охотничьем домике Майерлинг в лесах за Баденом. Зигмунд направился прямо в кафе «Центральное», будучи уверен, что встретит там кого–нибудь из своих друзей; в Вене государственные трагедии оплакивались в кофейнях. Переполненное кафе гудело разноголосьем. Йозеф Брейер подвинулся и знаком попросил официанта принести еще стул. Иосиф Панет был с Экснером, а Обер–штейнер привел Флейшля, которому он бинтовал палец, когда принесли газету с печальным известием. Смерть наследного принца была тяжелым несчастьем. На императора Франца–Иосифа взирали не только с благоговением, но и с любовью, граничившей с обожанием. Он был отцом империи, верным, трудолюбивым, добрым, дарующим с каждым своим вздохом имперскую справедливость и надежность. Однако его личная жизнь складывалась несчастливо. Императрица и одновременно кузина Елизавета Баварская проводила большую часть времени за пределами Вены и вне королевских покоев. Его старший сын, наследный принц Рудольф, старательно готовился принять империю из рук отца, а тот не допускал его в правительство. Говорили также, что император вынудил Рудольфа вступить в брак с нелюбимой Стефанией Бельгийской, а затем запретил ему обратиться к папе римскому с просьбой аннулировать этот брак. Взоры всех сидящих за столом были устремлены на Йозефа Брейера, который хотя и не лечил императорскую семью, но давал консультации членам двора. – Я не слышал, чтобы у наследного принца были неполадки с сердцем, – заявил Йозеф. Он осторожно огляделся, ибо, хотя дворцовые истории были главным развлечением Вены, особа императора и его семья были окружены ореолом святости и не могли быть объектом пересудов. – …Впрочем, известно, что он изрядно выпивал и принимал наркотики. – Но конечно, не в таких дозах, чтобы вызвать роковой приступ? – спросил Экснер почти шепотом. – Ему было всего тридцать,… Зигмунд возвращался домой подавленный. Подобно всем остальным австрийцам, он ощущал лояльность к Габсбургам и воспринял трагедию как свое личное горе. На следующий день национального траура события приняли печальный оборот. Стало известно, что Рудольф умер не от сердечной недостаточности, а покончил самоубийством вместе с семнадцатилетней баронессой Марией Вечера. Газетам было строго–настрого запрещено печатать что–либо об этом; телеграммы и письма, приходившие из иностранных посольств, подвергались цензуре и задерживались. Но правду скрыть не удалось: наследный принц и баронесса застрелились или застрелили друг друга на королевской постели в Майерлинге. Тело баронессы было вывезено и похоронено без церемоний в монастыре Хайлигенкройц. Тело Рудольфа доставили в Вену и поместили в апартаменты наследного принца. До пятого февраля, когда гроб Рудольфа был замурован в склепе капуцинов, Вена напоминала осажденный город. Венцы в полном смысле слова находились в смятении. Деловая жизнь замерла, если не считать бесконечных приглушенных, невероятных слухов: как такое могло случиться, ведь баронесса не была первой любовью Рудольфа или даже единственной в тот момент? Город вернулся к нормальному состоянию лишь после того, как родились новые слухи. Куда бы ни направлялся Зигмунд: в больницу, Институт детских болезней или к другу – всюду он слышал новые версии. Говорили об одновременном самоубийстве любовников, ибо Рудольф и Мария не были холостыми и не могли сочетаться браком. Утверждали далее: обнаружив, что она беременна, Мария убила Рудольфа, ибо он отказался помочь ей; Рудольфа убил ударом бутылки шампанского по голове австрийский претендент на болгарский трон Иоганн Орт; наследного принца поймали на месте преступления с женой помощника лесника, который тут же и застрелил принца. Однако эта последняя версия просуществовала недолго. Остроумный премьер–министр Австро–Венгрии заметил: – Австрийский помощник лесника, который застает сына императора со своей женой в постели, не стреляет, а поет «Боже, спаси императора». И еще одну удивительную историю рассказывали в кофейнях: баронесса Мария, обнаружив, что она беременна, кастрировала во сне Рудольфа, а когда тот пробудился, то убил и ее и себя. Наконец Вена вернулась к работе и развлечениям, удовольствовавшись последним слухом: наследный принц сколачивал заговор за спиной императора с целью вывести Венгрию из состава империи и застрелился, когда заговор был раскрыт. На Зигмунда самоубийство произвело огромное эмоциональное воздействие. Невозможно было себе представить, что Габсбург, наследный принц Австро–Венгерской империи, занимающий столь высокое положение в Европе, покончил с собой при столь бесславных обстоятельствах. Он вспоминал заключительную строфу из «Эдипа–царя» – не может смертный быть счастливым, если не достиг безболезненно предела жизни. Его больше всего беспокоил тот факт, что принц Рудольф не оставил записку императору. Матери он оставил, но не отцу. Это было сделано сознательно. – Мы знаем, что он слыл либералом, считал, что в монархии должны быть проведены внутренние реформы, ее власть должна быть ограниченна, – объяснял он Марте. – Может быть, именно поэтому император не хотел допускать его к государственным делам. – Ты говоришь, что Рудольф покончил с собой в порыве отчаяния? – Я полагаю, Рудольф начал пить, принимать наркотики и волочиться за женщинами, потому что император не поручал ему никакого серьезного дела. В конечном счете он возненавидел отца и самоубийство стало актом мести. – Я не слышала, чтобы ходили такие слухи. – Ты и не услышишь, Марти. И будь добра, пожалуйста, не ссылайся на мое мнение. У меня могут появиться трудности, если придется его доказывать.3
Неврологи привыкли к тому, что у их пациентов бывают рецидивы, и все же Зигмунд был крайне расстроен, когда Йозеф Брейер сказал ему, что фрау Эмми фон Ней–штадт вновь заболела и по совету местного врача уехала в Северную Германию в санаторий. Неприятно, когда исчезает то, что казалось ему излечением, ведь дело фрау Эмми было ключевым в доказательстве тезиса, что лечение под гипнозом может стать важнейшим инструментом терапии при неврозе. Он посчитал на пальцах, а затем сказал Йозефу: – Она вернулась домой в июне, чувствуя себя хорошо, то есть семь месяцев назад, и из сказанного тобой следует, что у нее все было в норме до Рождества и Нового года. Как она себя чувствует сейчас? И почему был перечеркнут наш курс лечения? – Вновь возобновился один из видов тика, появились и другие симптомы, включая частичный паралич ноги. Может быть, скрытые воспоминания слишком долго сидели у нее в голове, слишком глубоко укоренились, чтобы оказаться удаленными одним курсом лечения? Направь–ка ее врачу описание теории гипноза и того, при каких симптомах он был эффективен. – Напишу сегодня же. Ну что ж, я потерпел неудачу, а ты можешь торжествовать победу. В воскресенье Берта Паппенгейм обедала у нас, а в понедельник она уехала во Франкфурт. Она подключается к движению в защиту прав женщин в Германии и намерена посвятить этому остаток своей жизни. Должен сказать, выглядит она крепкой и счастливой. – Во имя какого же права она намерена действовать? – спросил Йозеф охрипшим голосом. – Избирательного права, судебного, права наследования? – Права учиться в университете и иметь профессию, права на лучшие условия работы на фабриках… Йозеф воздержался от дальнейших замечаний. – Заранее спасибо за письмо, Зиг; если состояние фрау Эмми не улучшится, тогда посоветую ей вернуться в Вену и вновь пройти курс лечения у тебя. Мы знаем, что терапия путем внушения должна повторяться до тех пор, пока не будут устранены вторичные последствия. Зигмунд ответил мрачно: – Надеюсь, что мы говорим не о капле воды, падающей на скалу. Если подсознание – скала, а не губка, то нам придется искать пути, как направить на него целый водопад. На заседании Венского медицинского общества, состоявшемся на следующий день, он выслушал ожесточенные нападки Мейнерта на гипотезу мужской истерии, выдвинутую в Париже Шарко. «Он не может оставить в покое эту тему», – подумал Зигмунд. Хотя Мейнерт не упомянул измены Зигмунда, слушатели прекрасно понимали, кто привез в Вену концепцию мужской истерии. Дождавшись окончания заседания, Зигмунд подошел к Мейнерту и сказал: – Господин советник, можно проводить вас до дома? Борода и брови Мейнерта поседели, в зачесанных назад волосах было также много седины, придававшей его властной голове налет доброты. – Нет, мой молодой друг, вы не можете проводить меня. Вы любите поважничать. Вам нравится ходить по той же причине, по какой Пегасу нравится летать: из–за возбуждающей способности движения вы бегаете по Рингу быстрее дворцовой кареты. Тем не менее мне будет приятно пройтись с вами. Я человек медлительный, мне доставляет удовольствие ставить ногу на землю после каждого шага. Зигмунд рассмеялся: Мейнерт был в хорошей форме и сказывался его восхитительный характер. – Я знаю также, что вы хотите поспорить, а я не намерен бежать рядом с вами как умом, так и ногами. – Не спорить, господин советник, а обсуждать. Со всем уважением могу ли я высказать предположение, что в ваше описание трех стадий гипноза Шарко вкралась неточность?… Мейнерт позволил Зигмунду объяснить и терпеливо выслушал его, пока они не дошли до двери дома Мейнерта. Он позвонил смотрителю, хлопнул Зигмунда по плечу и сказал: – Спасибо за просветившую меня прогулку. Дело, возможно, и кончилось бы этим, не опубликуй профессор Мейнерт свою лекцию в «Медицинском журнале». Зигмунд считал, что в вопрос должна быть внесена ясность, поэтому он написал в венский «Медицинский журнал» о том, что назвал «путаницей» Мейнерта. Это задело профессиональную гордость Мейнерта. Он перешел в наступление, поместив в еженедельном журнале серию статей, в которых огульно осудил теорию Шарко о самовнушении как причине истерического паралича, утверждая, что истинная причина такого паралича – органическая. Уничтожающий удар Мейнерта содержался в строке: «Я нахожу пропаганду господином доктором Фрейдом терапии посредством внушения тем более примечательной, что он выехал из Вены как врач, хорошо подготовленный в физиологии». Ссора стала достоянием широкой публики. Йозеф Брейер не поленился хорошенько отчитать Зигмунда. Тот настаивал, что должен давать сдачи, когда на него нападают. – Йозеф, Мейнерт написал, что я работаю здесь «как частнопрактикующий гипноз». Это может создать ложное представление, будто я занимаюсь только гипнозом. Я работаю здесь как специалист по нервным болезням и применяю все методы, имеющиеся в распоряжении невролога. Мейнерт называет гипноз глупостью. Мы, ты и я, знаем лучше его; мы помогли больным людям, ты первый, а я, следуя за тобой. Йозеф Брейер устремил свои усталые глаза на друга; он был мирным человеком. – Согласен, Мейнерт зашел слишком далеко, но пусть ему придется преодолеть долгий путь от своего ошибочного утверждения. Вам, приват–доцент, не следует втягиваться в профессиональную ссору с более пожилым человеком. Зигмунд не понимал логики его рассуждений, ибо был задет тем, что Йозеф говорил «вы» вместо привычного «ты». Но он не принял во внимание совет. На следующий день он составил обзор книги «Гипноз» швейцарского невролога Августа Фореля. Он высоко отозвался о книге, кратко изложил ее содержание и заключил словами: «Движение, старающееся ввести лечение посредством убеждения в терапевтический арсенал медицины, добилось успеха в других странах и вскоре добьется своей цели в Германии и Вене». Далее он обратил внимание на замечание Мейнерта, который лишь вскользь упомянул о Фореле перед научной аудиторией, назвав его к тому же «южанин Форель» и противопоставив «северным оппонентам гипноза», более склонным к хладнокровному мышлению. Зигмунд напоминал читателям, что Форель родился на берегу Женевского озера, которое Мейнерт, видимо, спутал со Средиземным морем. Устав от обвинений, что он–де прибегает «к уловкам и к ненаучному образу мыслей», пользуясь гипнозом, Зигмунд позволил себе выпад в адрес Мейнерта: «Когда среди оппонентов оказываются люди вроде советника Мейнерта, завоевавшего своими печатными работами большой авторитет… в таком случае делу гипноза неизбежно наносится ущерб. Большинству людей трудно представить себе, чтобы ученый с большим опытом в некоторых областях невропатологии, показавший свою проницательность, полагал возможным для себя не считаться с авторитетами в других областях». Зигмунд решил, что настало время узнать из первых рук о методах, применяемых докторами Бернгеймом и Льебо. – Пока ты будешь в Нанси, – спросила его Марта с печальной улыбкой, – может быть, присмотреть для тебя лекционный зал? – Мейнерт не такой, Марта. Он позволит мне пользоваться его аудиторией в зимний семестр. Меня огорчает, что я не буду здесь, когда появится обзор. Мне бы не хотелось, чтобы думали, будто я сбежал. – Не бойся! По–моему, венский научный мир считает тебя человеком, который торопится подраться. Интересно, унаследует ли наш сын твой темперамент? – …Наш сын? – Да. Разве ты не говорил, что хочешь сына? Он понял, на что она намекает, и обнял ее. – У нас будет чудесная семья. И я бы сказал, многочисленная! Может быть, снимем на лето ту же виллу в Земмеринге? Я проведу большую часть июля в Нанси; моя сестра Паули составит тебе компанию.4
Он сошел с поезда на станции Нанси, недалеко от северо–восточной границы Франции, пересек привокзальную площадь и получил в коммерческой гостинице на третьем этаже достаточно просторный, со стенами горчичного цвета номер. Окно с задней стороны выходило на горный хребет, где добывалась железная руда для французской промышленности. Зигмунд помылся, затем отправился в писчебумажный магазин, чтобы купить путеводитель по городу. Оставалось еще несколько часов до заката солнца, и он решил осмотреть город. Он не станет ужинать и не ляжет спать, пока не изучит город. Из справочника он узнал, что с двенадцатого века Нанси был исторической столицей Лотарингии. Развернув план города, он сориентировался и решил начать осмотр с собора на улице Святого Георга. Собор имел витиеватый фасад и две увенчанные куполами башни, но Зигмунду он показался разочаровывающе скучным по сравнению с соборами Парижа и Вены. Затем он отыскал на плане гордость Нанси – площадь Станислава, построенную бывшим королем Польши Станиславом Лещинским, посвященным в герцоги Лотарингии. Зигмунд вышел на площадь и громко воскликнул от удовольствия. Это была не просто площадь, а часть города, окруженная общественными зданиями единой архитектуры с изобилием украшений из кованого железа с позолотой. В центре стояла триумфальная арка, ее длинные карнизы были украшены рядами скульптур; изящные городская ратуша в стиле барокко, дворец правосудия, театр, обсаженная деревьями площадь Де ля Карьер – все это создавало чувство гармонии, подобно музыке Моцарта. Усталость после долгого путешествия как рукой сняло. На следующее утро он встал в шесть часов. Хотя солнце уже стояло высоко, но узкая улочка под его окном оставалась еще в тени. По тротуарам мимо неосвещенных магазинов спешили на шахты и фабрики рабочие. Зигмунд вытерся влажной губкой перед зеркалом, надел свой венский костюм темно–серого цвета, белую сорочку и повязал галстук под тугим воротничком. Он выбрал место в открытом кафе на привокзальной площади и за чашкой кофе с рогаликом пробежал глазами местную газету. Было приятно вновь пройтись по французскому городу, где здания на главной улице внушительные, богатые, но несколько скучные. На окраине города он нашел госпиталь и медицинскую школу. Это была группа зданий с внутренними дворами, напоминавшими венскую Городскую больницу и Сальпетриер. Здания были безупречно чисты; внутренние дворы имели навесы, под ними были разбиты клумбы и посажены декоративные растения. Пока Ипполит Бернгейм приветствовал Зигмунда и благодарил за перевод его книги на немецкий язык, Зигмунд разглядывал собеседника, коренастого мужчину, гладко выбритого, со скромными седеющими усами, его коротко остриженные волосы были подернуты сединой. Глубоко посаженные глаза с тяжелыми веками казались одновременно и заинтересованными и отчужденными, но наиболее приметной особенностью его лица были широкие скулы и выступающий подбородок. Зигмунду он казался больше немцем, чем французом. Бернгейм родился в Эльзасе и получил медицинское образование в Страсбурге. В Нанси переехал в начале своей карьеры, занимался неврологией в течение двадцати пяти лет в качестве частнопрактикующего врача, а также в гражданском госпитале, где возглавлял клинику, преподавал на медицинском факультете и, подобно Мейнерту, в свои ранние годы работал в приюте для умалишенных при университете. Зигмунд знал, что Бернгейм увлекся гипнозом шесть лет назад в связи с затяжным ишиасом у пациента, который не поддавался излечению. Он вывез этого пациента на лоно природы, к сельскому врачу Августу Льебо, полугению, полумистику и, как утверждали некоторые деятели медицинского факультета, полушарлатану. Доктор Льебо вылечил пациента с помощью внушений в ходе трех сеансов гипноза. Так же скрытно Бернгейм привел к доктору Льебо еще нескольких пациентов с заболеваниями, физические причины которых он не мог установить и которые не поддавались лечению обычными методами. И всякий раз Льебо добивался либо ослабления болезни, либо излечения ее. Таким образом он убедил доктора Ипполита Бернгей–ма в целесообразности применения гипноза. – Господин Фрейд, я предупредил глав отделений, что вы приступите к работе с сегодняшнего дня. Хотелось бы, чтобы вы встретились с каждым из них, как этого требует наша практика. Ни один пациент не допускается в нашей клинике к лечению гипнозом до тех пор, пока руководитель каждого отделения не проведет тщательного обследования и не убедится в том, что нет физического недомогания или болезни соматического происхождения. Его глубоко посаженные глаза озорно моргали. – Могу также добавить, господин Фрейд, что в отличие от Сальпетриера ни один пациент в моей клинике не подвергается осмотру, обработке и подготовке со стороны кого–либо из моего персонала. Три фазы, которые демонстрирует Шарко, не что иное, как театрализованный вид гипноза. Зигмунд промолчал, У него не было желания влезать в спор между школами Сальпетриера и Нанси. Доктор Бернгейм провел его в палаты лечения гипнозом. Он сопровождал его от койки к койке, объясняя симптомы каждого случая, а когда отходил от больного, высказывал Зигмунду соображения по диагнозу. – Здесь, как вы убедились, больные, о которых я сказал ранее: истерия, невроз, самовнушение. Мы гордимся тем, что школа Нанси по–настоящему научная. В наших досье буквально тысячи случаев, с которыми вы можете познакомиться. Мы собрали большой эмпирический материал: сведения о пациенте и лечении по дням и по часам. Вы не найдете теоретических рассуждений, каких–либо предположений. Мы фиксируем факты и используем их, чтобы помочь другому пациенту со схожими показаниями. Наша задача – лечить. Разве не для этого существует больница? Зигмунд сказал мягко: – Вы больше, чем целитель, господин Бернгейм, вы также ученый. Я всегда мечтал быть таким. Руководители отделений приняли его сердечно. Они знали, что он перевел книгу Бернгейма, и хорошо восприняли это, поскольку им было известно также, что Зигмунд перевел и книгу Шарко. Они чувствовали, что оказывают хорошую медицинскую помощь, как и в Сальпетриере, но вместе с тем понимали, что вынуждены жить под сенью знаменитого парижского госпиталя. Зигмунд нашел в их лице незаурядных людей. Это была одна из причин, почему медицина доставляла ему удовольствие, – она привлекала лучшие умы и личности каждой страны. Когда они возвращались в клинику, Бернгейм сказал: – Сегодня у нас два случая. Думаю, они заинтересуют вас. А затем моя супруга ожидает нас на ужин. Бернгейм работал не в своем кабинете, а в пустой комнате, где он читал лекции студентам. Там стоял стул с прямой спинкой для пациента. По его команде сестра ввела замужнюю женщину двадцати семи лет, страдавшую кровавым поносом. Доктор Бернгейм вручил Зигмунду ее историю болезни. Женщина выглядела ослабевшей, нервной, с отчетливыми симптомами катаральной желтухи и истерического пароксизма. У нее были также сложные отношения с мужем. Доктор Бернгейм ввел ее в состояние сна. Наблюдая за ним, Зигмунд понял, насколько ограниченна его собственная способность к гипнозу. Бернгейм обладал природным талантом: сон навевал не только его усыпляющий голос, но и выражение его глаз, поворот корпуса, успокаивающие движения его рук, и пациент как бы падал в эти руки. Бернгейм объяснял женщине спокойным, убеждающим тоном, что ее неприятности возникли из–за подавленного состояния, что, когда она будет в хорошем настроении, боли пройдут сами собой. Он внушал, что, пробудившись, она окажется в хорошем настроении. Когда же он разбудил ее через несколько минут и спросил, как она себя чувствует, та с удивлением ответила: – Действительно, совсем хорошо! – Хорошо, – сказал Бернгейм, – завтра мы займемся лечением, которое прекратит вашу дизентерию. Вы почувствуете себя еще лучше. Зигмунд спросил: – Сколько сеансов, по вашему мнению, потребуется? Бернгейм заглянул в историю болезни: – Я бы сказал – неделя. Потому что я предпочитаю в каждой операции, как Джеймс Брейд называет гипноз, – между прочим, вы знаете, что он изобрел этот термин, чтобы отмежеваться от плохой репутации «месмеризма»? – удалять только один симптом. Такое отделение каждого симптома придает внушению большее единство и силу, лучше закрепляет лечение. – Да, я также обнаружил это, – возбужденно воскликнул Зигмунд. – Я испытал такой метод на пятидесятилетнем мужчине, у которого были парализованы ноги. Я старался поставить его на ноги за тот же срок и в том же ритме, как развивалась болезнь. Сестра привела двадцатилетнего парня, раненного в руку. С момента ранения он не мог распрямить пальцы и сжать их в кулак. Доктор Бернгейм загипнотизировал его, затем принялся внушать, что он может без труда сжимать и разжимать пальцы. Десять минут он массировал руки и пальцы больного. Прежде чем разбудить пациента, он прошептал: – Вы видите, господин Фрейд, это не внушение, а скорее контрвнушение. Этот молодой человек уже внушил себе, что его рука изуродована. Все, что я должен сделать, это освободить его от самовнушения. Парень проснулся и обнаружил, что может без труда манипулировать рукой и пальцами. – Я видел случаи повреждения, травмы, подобные этой, в Сальпетриере, – выпалил Зигмунд. – Они использовались для демонстрации способности пациента делать под гипнозом то, что он не в состоянии делать, будучи в полном сознании; попытки лечить не предпринимались. В Городской больнице также встречались такие случаи, в этом я уверен, но беда в том, что мы не признавали их. Но я должен спросить: почему такое произошло именно сэтим молодым человеком, ведь сотни людей по всему миру ранят руки, некоторые весьма серьезно, и возвращаются к работе на следующий день, пусть с повязками? Доктор Бернгейм решительно покачал головой. – Это, господин Фрейд, требует предположения. Чтобы мою клинику лечения гипнозом уважали в научном отношении, я имею дело только с фактами. Мой долг – лечить. На основании собранной мной документации мы превратим гипноз в научную медицинскую практику. Они шли домой в знойный полдень. Дом Бернгейма находился в центре города, на улице Станисласа, 14, около муниципальной библиотеки, на площадке перед старым университетом. Дом окружал тенистый ухоженный сад. Мадам Сара Бернгейм, перешагнувшая сорокалетие, внушала уважение своей огромной жизненной силой, хотя неблагосклонная судьба обделила ее детьми. Она дрожала над своим мужем, ухаживала за ним, как за малым ребенком. Зигмунд не преминул заметить, что Бернгейму нравилось ее ухаживание. Чета Бернгейм процветала, двое слуг в доме были наготове обслужить доктора и его гостей, в частности, Зигмунду была предложена свободная спальная комната, где он мог отдохнуть, туда же ему принесли бокал белого вина перед обедом. Тем не менее госпожа Бернгейм не разрешала никому готовить пищу для господина доктора. «Только я знаю, какие приправы он любит…» К счастью, несмотря на знойное солнце Нанси, в двухэтажном доме было прохладно, а госпожа Бернгейм не изменила своей кулинарной традиции. Зигмунд привык к обычному венскому обеду из трех блюд, здесь же служанка в темном платье подала густой луковый суп, антрекот с гарниром – мелкие целые морковки, зеленый горошек, кусочки цветной капусты, ломтики картошки, зажаренной по–французски, помидоры, фаршированные хлебными крошками и ароматическими травами, и все это сдабривали лотарингским вином; затем подали зеленый салат с оливковым маслом и уксусом, а также апельсиновое суфле. Зигмунд еще не ел во Франции столь вкусного обеда и без колебания сказал об этом госпоже Бернгейм. Она засияла от удовольствия. – Мой муж работает так много, – сказала она, – что я считаю своим первым долгом поддерживать его силы. Бернгейм рассмеялся и похлопал себя по животу. – Моя дорогая, моя талия становится шире. – Повернувшись к Зигмунду, он спросил: – Господин Фрейд, вы помните молодого шведского врача, который работал с вами в Сальпетриере и был уволен за попытку соблазнить молодую «пациентку» госпиталя? – Да. Он высоко отзывался о вас. – Тогда позвольте мне снять с него обвинения. Он встретил родителей девушки в саду Сальпетриера. Они приехали из деревни, чтобы увидеть свою дочь, которая, как им казалось, работала в кухне госпиталя. Когда молодой врач занялся расследованием, то обнаружил, что ассистенты Шарко сочли ее хорошим объектом для гипноза, одели соответствующим образом, наложили косметику и превратили в «актрису гипноза». Ей нравилось внимание к ее персоне, но молодой человек был убежден, что это угрожает ее рассудку. Он купил ей железнодорожный билет, чтобы она вернулась к родителям, затем загипнотизировал ее, внушив, что ей следует уехать домой, и готов был посадить ее на поезд. Зигмунд на миг задумался. – Помнится, было время, когда это дело казалось бессмысленным. – В Сальпетриере есть несколько бессмысленных дел. Однако вскоре господин Льебо приступит к своим послеобеденным сеансам. Я представлю вас и затем пойду в свой кабинет. Как и вы, я все еще добываю средства к жизни, главным образом работая неврологом.5
Когда они шли к дому Льебо, расположенному в скромной части города, доктор Бернгейм сказал: – Позвольте рассказать вам об Амбуазе Августе Льебо. Его родители, уважаемые фермеры, определили его в небольшую семинарию в надежде, что он станет священником. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, он внушил себе и убедил своих учителей, что лишен талантов священника. В возрасте двадцати одного года поступил в медицинскую школу Страсбурга – он опередил меня на четырнадцать лет – и окончил ее в пятидесятом году, защитив тезисы о тазобедренном смещении. Один из профессоров заинтересовал его гипнозом, показав, что можно искусственно вызвать кровотечение из носа, если дать соответствующую команду пациенту, находящемуся в гипнотическом сне. После окончания медицинской школы Льебо осел в небольшой деревушке в нескольких километрах отсюда, где занимался акушерством и лечением переломов костей. Однако когда он надумал испробовать гипноз на девушке, страдавшей конвульсиями, ее отец не разрешил делать это на том основании, что сие кощунственно и связано с колдовством. Однако Льебо не отрекся от своего увлечения. После нескольких лет практики в деревне он прослушал курс лекций в Нанси по психологии, купил в городе дом и открыл частную практику. Его посещали преимущественно крестьяне и члены семей рабочих. Он предлагал бесплатное лечение, если пациенты позволят ему прибегнуть к гипнозу, в противном случае они должны были платить обычный гонорар, а также оплачивать лекарство, содержание в больнице и тому подобное. Ни один крестьянин во Франции и основная масса рабочих не отклонят подобного предложения. За истекшие двадцать пять лет он обеспечивал себя и свою семью, понятно, весьма скромно, за счет лечения соматических заболеваний. Его первая книга «Сон и аналогичное состояние» не имела успеха – был продан лишь один экземпляр! Со второй дело обстояло немного лучше. Но вот мы и пришли. Амбруаз Август Льебо приобрел для себя угловой дом в два с половиной этажа, дом без претензий, но выглядевший так, словно его строили на века. С левой стороны к дому примыкал небольшой садик с зеленой лужайкой и щебенчатой дорожкой, ведущей к зданию и затененной раскидистым деревом. Около десятка пациентов сидели на простых скамьях перед входной дверью: сельские жители в своих лучших воскресных одеждах, рабочие с женами или с детьми. Очередь передвигалась к входу, по мере того как приемную покидал пациент. Доктор Льебо появился в двери, выходившей в сад, чтобы глотнуть свежего воздуха. Зигмунд внимательно осмотрел седого шестидесятипятилетнего мужчину с поредевшими волосами, короткой белой бородой и усами, со лбом, прорезанным морщинами, с огрубевшим, загоревшим лицом сельского жителя. Его лицо отражало противоречивые чувства: радость ребенка и властность священника, простоту и серьезность, мягкость и внушительность. Его концепции «устного внушения» и «навеянного сна» пользовались известностью и признанием в Европе, и тем не менее существовала незримая преграда между ним и верхушкой общества Нанси. Пациенты, занимавшие высокое положение и богатые, не решались идти к доктору Льебо, это считалось неприличным. Его не приглашали преподавать на медицинском факультете университета, несмотря на то, что доктор Бернгейм высоко ставил его работу. Дядюшка Льебо – так его звали пациенты – поднял глаза и, увидев доктора Бернгейма и Зигмунда, поздоровался с ними отеческой улыбкой. Льебо пригласил Зигмунда войти в дом. За скромной прихожей, где ожидали пациенты в холодные и дождливые зимние дни, находилась большая бедно обставленная комната: полки со старыми книгами, деревянное жесткое кресло для врача, несколько расшатанных стульев для пациентов. Зигмунд поискал глазами шкафчик или ящик, в котором Льебо мог хранить свои записки, но таковых не было. Льебо не вел записей, не проводил широких физических обследований. Именно поэтому медицинский факультет называл его метод ненаучным. Зигмунд наблюдал за работой врача с несколькими больными. Метод Льебо был проще и более открыт, чем метод Бернгейма. Его глаза сверкали, были сосредоточенными, голос – глубоким, манеры – уверенными. Он держал руки пациентов в своих больших на первый взгляд неловких, но любящих руках, убеждал их не думать ни о чем, а только о сне и излечении, говорил, что веки тяжелеют, тело расслабляется, что скоро наступит состояние полусна. Когда веки пациентов начинали смыкаться, Льебо говорил звучным голосом: «Вы засыпаете», и они засыпали. Первым пациентом был одиннадцатилетний мальчик, мочившийся в постели по ночам. Льебо внушал, что отныне, если ночью он почувствует, что ему нужно в туалет, то поднимется с постели и помочится. Зигмунд узнал через неделю, что потребовался всего один сеанс, чтобы покончить с недугом. Следующей пациенткой былачетырнадцатилетняя девочка, с трудом ходившая, чувствовавшая слабость в ногах и боль в бедрах. Льебо высказал предположение, что один–два сеанса устранят болезнь. Затем вошел шестидесятилетний плотник с левосторонним параличом. Он посещал врача уже третью неделю. Льебо сказал, повернувшись к Зигмунду: – Я вылечил его, и он стал ходить, хотя и с трудом. Он работает, но отказывается подниматься по лестнице. Перед врачом стояла теперь двадцатилетняя разведенная женщина, работавшая на сигарной фабрике. Как объяснил Льебо, она страдала вспышками гнева, алкоголизмом, частичным параличом ног. – Мне удалось излечить все, кроме ее страсти к вину, – поделился Льебо с Зигмундом. – Когда она находится под гипнозом, во сне, мне удается получить от нее заявление об отвращении к вину, но, проснувшись, она вновь принимается пить. Все это странно. Мы добились, однако, того, что она работает. На скамье в саду дожидались очереди другие пациенты, но Зигмунд поблагодарил доктора Льебо и просил извинить его. Он вновь прошелся по улицам Нанси, добрался до величественно красивой площади Станислава, затем нашел свободное место на скамье площади Де ля Карьер – бывшей турнирной площадки герцогов Лотарингии. Здесь под деревьями, укрывавшими его от лучей полуденного солнца, он пытался обобщить свои впечатления. Зигмунд не сомневался, что увидел работу двух величайших гипнотизеров, практикующих порицаемое искусство. По сравнению с Льебо и Бернгеймом он был ремесленником. Однако не это беспокоило Зигмунда. Его мысли вращались вокруг того, что отсутствует нечто важное: объяснения, теория причинности. Почему у двадцатисемилетней замужней женщины развилась дизентерия? Не потому ли, что она сопротивляется своему мужу и, говоря по–крестьянски, старается «проболеть» свои супружеские обязанности? Почему одиннадцатилетний мальчик мочится в постели? Это просто леность? Почему шестидесятилетний плотник заработал истерический паралич? Из–за страха перед лестницами? Почему он стал пугаться лестниц, проработав на них сорок лет? – Самое полезное слово во всех языках – «почему»! – воскликнул он вслух. – Если бы мы наслаивали «почему» на «почему», как итальянские каменщики кладут камень на камень, то построили бы здание, способное укрыть нас от бури. На следующее утро он сидел в кабинете доктора Бернгейма в госпитале, окна которого выходили во внутренний дворик. В это июльское утро царила такая тишина, что было слышно жужжание мух на сетках окна. Сестра привела ребенка с болями в руке, напоминающими ревматические, он не мог ее поднять. Доктор Бернгейм посадил мальчика перед собой, коснулся век ребенка. – Закрой глаза, дитя, и засыпай. Ты будешь спать, пока я не разбужу тебя. Ты спишь хорошо, спокойно и удобно, как в своей постели. Он поднял руку мальчика, тронул больное место и сказал: – Боль ушла. Нет больше боли. Когда проснешься, боль не вернется. Ты почувствуешь тепло в руке, тепло станет сильнее, оно заменит боль. Когда мальчик проснулся, он без труда поднял руку. – Тебе не больно? – Нет, господин доктор, но в руке, там, где было больно, теперь тепло. – Тепло уйдет. Можешь возвращаться домой. Когда мальчик ушел, Зигмунд спросил спокойно: – Откуда у него боль в руке? Доктор Бернгейм рассеянно улыбнулся: – Это была галлюцинация. По правде говоря, мы все несем в себе в потенции галлюцинации в течение большей части нашей жизни. – Согласен. Но откуда приходит галлюцинация и почему возникает этот особый вид галлюцинации? Доктор Бернгейм прижал пальцы к груди, затем вскинул руки как бы в бесконечность. – Каким образом мы можем знать? Лучше вылечить ребенка, чем бросить его и нас самих в глубины Стикса, откуда приходят галлюцинации. Даже психологи предпочитают сторониться этого «зверя». По утрам в больнице Зигмунд изучал методику и записи Бернгейма, после полудня занимался с Льебо. Он заметил, что в каждом новом случае Бернгейм начинал с рассказа больному о тех преимуществах, которые можно извлечь из терапии внушения; что гипноз не лечит симптомы, но может их ослабить. Он внушал уверенность нервным людям, убеждая их в том, что нет ничего необычного и вредного в этом процессе, что он может быть применен к любому. Если пациент не переставал бояться, то он старался выявить источник страха и смягчить его. Он говорил: – Смотрите на меня, ни о чем не думайте, лишь о сне. Ваши веки становятся тяжелыми, а глаза усталыми. Они начинают моргать, они слезятся, вы не можете ясно видеть… ваши глаза закрываются. Если цель не достигалась одним голосом, Бернгейм держал перед пациентом два своих пальца либо проводил обеими руками несколько раз около глаз пациента, затем мягко закрывал веки и одновременно понижал голос. В особо трудных случаях он клал руки на лоб пациента, по три пальца на каждый висок; если и это не срабатывало, он сжимал левую ладонь и четырьмя суставами пальцев касался слегка, но властно бровей пациента. Он не любил пользоваться внешними объектами, но после второй или третьей попытки, если не удавалось ввести пациента в сон, брал со стола ряд предметов: круглый стеклянный шар, блестящую металлическую пластину – и тогда даже самые беспокойные впадали в транс. Доктор Льебо, подобно Месмеру, верил в то, что магнетическая энергия переходит от врача к пациенту, и пользовался термином «наложить руки». Зигмунд заметил, что у детей он поглаживал голову от лба к затылку, повторяя: «Все хорошо. Ты спокойно уснешь. Будешь чувствовать себя лучше, когда проснешься». Со взрослыми поступал иначе: брал их лицо своими большими теплыми руками; у стариков мягко гладил руку или успокаивающе похлопывал по плечу, повторяя: «Успокаивающий сон подходит. Я закрою ваши уставшие веки, и наступит сон…» Зигмунд оставался в Нанси три недели, наблюдая за тем, как Льебо и Бернгейм обращаются с различными больными, применяя все, что имелось в арсенале этих двух талантливых врачей, для лечения больных с парезом руки, судорогой, параличом ног после воспаления легких, желудочными болями, ишиасом, лицевым тиком, со странными спазмами, с нарушением зрения, позывами к рвоте и бессонницей, потерей аппетита и меланхолией. Он сделал подробные записи по всем наблюдавшимся случаям, документировал состояние пациентов в течение недель, фиксировал прогнозы на постоянное или вероятное излечение, добавляя собственные соображения, каким образом и почему был достигнут тот или иной результат. В спокойные дни он обедал с молодыми врачами в госпитале, обсуждая достоинства подготовки в Вене по сравнению с Парижем, с Нанси. По ночам писал Марте, получал ежедневно или через день письма из Земмеринга. И в его голове все время возникал один и тот же вопрос: «Что происходит в подсознании, вызывающем заболевания, и как мы можем понять поведение человека, если не проникнем на этот закрытый континент и не снимем с него план?» Когда он продолжал нажимать на Бернгейма в поиске ключа, доктор отвечал терпеливо: – Скажем, что человеческий мозг подобен большой зеленой лужайке, на траве которой рассыпаны тысячи шаров. Я бросаю шар в виде убеждения или команды. Он нацелен на шар, перекрывающий доступ к воротам. Я отбиваю тот, другой шар в сторону. Мое убеждение теперь командует. Я заменил галлюцинаторную идею пациента командой, что боль, контрактура, позыв к рвоте, состояние подавленности исчезнут. Видите, господин Фрейд, идеи являются физическими объектами, столь же осязаемыми, как кегельбанные шары. Мы, врачи, должны обладать надлежащим умением выводить из действия шары, вызывающие галлюцинации. Зигмунд встал, прошелся до двери и обратно, провел пальцем между тугим воротником и шеей. Стараясь сдержать возбуждение, он сказал: – В Вене ведется работа, о которой должны знать вы и доктор Льебо. Разрабатывается новый инструмент терапии, впервые использованный доктором Йозефом Брейе–ром и подтвержденный мной в прошлом году. Могу ли я пригласить вас на ужин завтра? В ресторане «Станислав», расположенном на одной из основных деловых улиц Нанси, столы были накрыты клетчатыми скатертями, каждый стол с лампой отделялся от других высокой деревянной перегородкой. Два врача, сидевшие напротив него, ели с аппетитом; Зигмунд слегка прикоснулся к еде, полный желания рассказать о «лечении речью» под гипнозом, найти объяснение диалога между пациентом и врачом. Ни Бернгейм, ни Льебо не проявляли интереса к его словам. В момент, когда Зигмунд анализировал обращение Брейера с подавленной в прошлом, а затем раскрывшейся памятью фрейлейн Берты, он почувствовал, что оба собеседника ушли в себя, они его не слышали. Бернгейм вежливо сказал: – Дорогой господин Фрейд, для нас это бесполезно. Как я разъяснял, мы занимаемся истерией и изгоняем ее с помощью контрвнушения. Нам нужно знать лишь проявления. Мы действуем успешно! Это единственная задача и долг врача. Мой друг доктор Льебо, будучи молодым, отказался стать священником; я полагаю, что даже сейчас у него нет вкуса к исповедям. Зигмунд упал духом. Врачи поблагодарили его за прекрасный ужин и разошлись по домам. Шагая по крутой улице мимо внушительных государственных зданий, он размышлял: «Точное повторение реакции Шарко. Он говорил: «Нет, здесь нет ничего интересного». Но интересное есть! Я убежден в этом. Почему пионеры вроде Шарко, Льебо и Бернгейма отказываются заглянуть через открытые двери в видение другого человека? Почему они останавливаются, когда подходят к конечной точке своей собственной революции?»6
Одной из проблем, с которой он столкнулся при возвращении из Нанси, было то, что никто не одобрял его поездку туда, даже Брейер. – Но, Йозеф, почему ты не сказал мне об этом до того, как я уехал, а говоришь задним числом? – Остановило бы тебя это? – Нет. – Именно поэтому. Что касается Мейнерта и медицинского факультета, то его поездка в Нанси встретила явно негативное отношение. Его коллеги по Институту Кассовица открыто не высказывали неодобрения, хотя и полагали, что он сам завел себя в тупик. В результате ему было не с кем обсудить этот период своей работы. Он написал Вильгельму Флису в Берлин, что начинает ощущать изоляцию и что в Вене нет никого, кто мог бы научить его чему–нибудь. Он стал регулярно писать Флису как другу и доверенному лицу, которому можно раскрыть свои сокровенные мысли. Флис был восприимчивым, отвечал ободряющими и воодушевляющими письмами. Зигмунд признался Флису, что хотел бы заняться исключительно лечением невроза, но в настоящее время у него нет ни одного такого больного. Он работает неврологом, занимаясь недомоганиями соматического происхождения, а также домашним врачом в своем районе, подлечивая мокрые носы и случаи недержания мочи. Его вновь приобретенное искусство гипноза приходится отложить в сторону. Он прекрасно отдохнул с Мартой в Земмеринге после первой разлуки в их супружеской жизни; ее беременность протекает хорошо; его дочь вырастает в очаровательного ребенка. Он полностью счастлив в своей семейной жизни, однако, поскольку лишен того, что профессор Нотнагель определил как «богатый исходный материал», его творческая деятельность заглохла. Впервые, с тех пор как профессор зоологии Карл Клаус направил его в Триест изучать половые железы угря, он чувствует, что не ведет исследовательских и потенциально ценных экспериментов. Он вспомнил свою страстную исповедь Марте в лесу над Медлингом: – Чистая наука – самая вдохновляющая работа, которую может предложить мир и которая приносит истинное удовлетворение, ведь каждый день узнаешь что–то новое о живых организмах. И вот спустя всего семь лет он оказался скованным в своих попытках испытывать, экспериментировать, открывать. Он стал простым частнопрактикующим врачом. Сидя за своим столом в приемной с фотографиями восхищавших его знаменитых людей, которые висели у черной кушетки для осмотра пациентов, он думал с горечью о себе, что стал таким же, как любой врач. Трудность с изучением подсознательного заключалась в том, что, если исследователь не прикреплен к крупному госпиталю, Городской больнице, Сальпетриеру или медицинскому факультету Нанси, он обречен на длительный период выжидания, не зная моря, которое надлежит переплыть, Тибетских хребтов, которые надо покорить, пустыни Сахары, в которой надо выжить. Он поклялся, что не допустит, чтобы Марта почувствовала горечь, источаемую всеми его порами. Виноват он, а не она. Он не сумел найти творческую нишу для себя. Не отдалился ли от него Йозеф Брейер, потому что оказались неосуществленными его большие ожидания, связанные с молодым протеже? Йозеф часто находил отговорки и отказывался от вечерней прогулки по Рингштрассе. – Марта, не кажется ли тебе, что я слишком раним? Или же, возможно, Йозеф так занят? – Матильда не изменилась, она говорит с той же любовью о тебе, когда мы вместе. Ты говоришь о жизненном цикле всех организмов, о его приливах и отливах. Дружба – также живой организм. Ныне ты женат, у тебя есть ребенок и частная практика. Любовь Йозефа к тебе не была в прошлом глубже и лучше, она была просто другой. Он поблагодарил ее за здравый смысл и, успокоенный, провалился в беспокойный, наполненный видениями сон, каждую деталь которого он живо вспомнил утром. Он не поддался отчаянию, а выбрал иной путь, начав исследование и составление двух пространных монографий: первой – об афазии; второй – о «Клиническом изучении одностороннего частичного паралича у детей» вместе с молодым другом Оскаром Рие, способным врачом–педиатром. Некоторые события выпукло показали, насколько далек он от своей первоначальной цели стать профессором медицинского факультета. За два года до этого профессор Лейдесдорф, руководитель первой психиатрической клиники, находившейся в приюте для умалишенных Нижней Австрии, перенес сердечный приступ во время лекции и попросил своего молодого ассистента Юлиуса Вагнер–Яурега дочитать курс за него. Министерство образования назначило Вагнер–Яурега лектором на один семестр. На следующий год Лейдесдорф вышел в отставку, и летом 1889 года медицинский факультет университета предложил экстраординарному профессору университета Граца Рихарду фон Крафт–Эбингу занять место Лейдес–дорфа. После Мейнерта Крафт–Эбинг считался наиболее опытным и известным психиатром в немецкоговорящем мире. Встал вопрос: кто заменит Крафт–Эбинга в Граце? Ко всеобщему удивлению, остановились на тридцатидвухлетнем Вагнер–Яуреге. Профессор Крафт–Эбинг прибыл в Вену после летних каникул, чтобы подготовиться к первой лекции. Зигмунд нанес ему визит вежливости, принеся в качестве визитной карточки свои переводы Шарко и Бернгейма. Крафт–Эбинг только что въехал в отремонтированную квартиру, запах которой напомнил Зигмунду о визите к профессору Нотнагелю семь лет назад, когда пытался получить у него пост ассистента по внутренним болезням. Профессор поднялся из–за стола, протянул руку, сердечно приветствуя коллегу. Зигмунд подумал: «Какой привлекательный мужчина!» Голова Крафт–Эбинга имела классические пропорции: массивный лоб, от которого он зачесывал назад свои редеющие волосы; римский нос, которого хватило бы для нескольких меньших по размеру; небольшая седеющая бородка и усы; огромные глаза под нависающим лбом, привлекающие к себе внимание; темные круги под глазами; в целом же лицо говорило о незаурядном уме и о сочувственных взглядах его хозяина на горести и уродства мира. Барон Рихард фон Крафт–Эбинг родился в Мангейме в семье видного гражданского служащего; его мать происходила из семьи признанных юристов и интеллектуалов. Когда он созрел для университета, его семья переехала в Гейдельберг, где опеку над ним установил дед по материнской линии, известный в Германии как «защитник проклятых»; он выступал в защиту прав обвинявшихся в отвратительных преступлениях, в частности связанных с половыми извращениями. Крафт–Эбинг изучал медицину в университете Гейдельберга; его специализация определилась, когда его направили в Цюрих на поправку после тифа, где он прослушал курс лекций Гризингера о психиатрии. Крафт–Эбинг с увлечением работал над докторской диссертацией на тему о бреде, и после защиты занял пост врача в приюте для умалишенных. В 1873 году его приняли на медицинский факультет университета Граца в Австрии, и он стал одновременно директором вновь открывшегося приюта «Фельдхоф». Он тут же пошел по стопам своего деда, защищая в судах мужчин и женщин, обвинявшихся в «половых насилиях» и в «преступлениях против природы». Он представлял судам полную медицинскую историю обвиняемого, стремясь добиться понимания и милосердия в отношении отступивших от обычных норм поведения, вызывающих столь сильное отвращение в пуританском обществе, доказывал, что ущемляются их гражданские права. На основе этого опыта он написал «Учебник судебной психопатологии». А за годы работы в приюте появились трехтомный «Учебник психиатрии», переведенный на многие языки, и с таким же названием совместная с Крепелином работа, которая рассматривалась как исчерпывающая по проблемам клинической психиатрии, типологии поведения человека и мотиваций, что отличало эту работу от психиатрии Мей–нерта, полностью основанной на анатомии мозга. Крафт–Эбинг проявлял бесконечное терпение в обращении с обитателями приюта. Его неизменная доброта помогла многим больным, особенно со сравнительно небольшими отклонениями. В данный момент он находился в немилости в связи с публикацией книги «Сексуальная психопатия», в которой содержались подробные медицинские отчеты о сотнях половых извращений, по которым он выступал в суде. Материалы такого рода ранее никогда не публиковались; они принадлежали к тайным скандалам общества, и о них было не принято говорить. Хотя Крафт–Эбинг написал значительную часть своего материала на латинском языке, дабы он был понятен врачам, а не пошлякам, его резко осудили в Англии за «предание гласности грязного и отвратительного материала перед лицом доверчивого общества». Крафт–Эбинг выступал как первопроходец. Зигмунд Фрейд тщательно изучил его книги, хотя они касались лишь наследственности пациента, его физических особенностей и окружения. – Я весьма признателен вам, господин доктор, что вы принесли мне эти две книги, – сказал Крафт–Эбинг. – Я знаю, что здесь, в Вене, вы главный сторонник гипнотического внушения и что вам наставил синяков мой коллега советник Мейнерт. Ничего, через несколько лет мы сделаем гипнотическое внушение уважаемым. Зигмунд почувствовал, что с его плеч свалилась огромная тяжесть. Слова, которые были осуждены и прокляты с момента его возвращения в Вену, выскакивали из него, по мере того как он образно воспроизводил для Крафт–Эбинга то, что наблюдал в Нанси. Когда он наконец сумел остановить себя, Крафт–Эбинг воскликнул: – Замечательная пара. Спасибо за то, что поделились со мной своим опытом. Молодой Вагнер–Яурег был здесь до вас. Крепкий и полный решимости человек; он справится с задачей в Граце. Зигмунд прошел в приют умалишенных Нижней Австрии напротив общей больницы, где красивый блондин Вагнер–Яурег жил последние шесть лет в качестве ассистента профессора Лейдесдорфа; эту должность он занял за четыре месяца до того, как Зигмунд стал «вторым врачом» у профессора Мейнерта. По пути в приют он мысленно вспоминал свои студенческие дни, когда Вагнер–Яурег стал обладателем диплома врача за несколько месяцев до получения такого же диплома Зигмундом, когда они одновременно были удостоены доцентуры. Карьера Вагнер–Яурега удивительно повторяла его собственную: он изучал физиологию у профессора Брюкке; вел самостоятельные исследования, будучи еще студентом, и опубликовал свои работы; добивался места ассистента у профессора Нотнагеля и натолкнулся на отказ; пошел в психиатрию… Воспоминания Зигмунда привели его на вершину холма, к входу в приют, который был выстроен в монументальном стиле, с фойе и широкой лестницей, достойной дворца герцога. Но, поднимаясь по крутым ступеням, он подумал: «Схожесть нашей жизни кончается прямо здесь, в этом здании. Когда сюда пришел Вагнер–Яурег, он не только получал вдвое больше, чем я, поступив в Городскую больницу для работы с Мейнертом, но и питался в приюте. Он никогда не хотел стать психиатром; он сам признался мне, что не пригоден к этому. Однако он готовил себя и был упрямым. Теперь же ему предложили кафедру психиатрии в Граце, в лучшем после Венского университете Австрии; это всего на одну ступеньку ниже высшего положения в психиатрии». А вот он, Зигмунд Фрейд, того же возраста, с трудом сводящий концы с концами за счет частной практики, потерян для университетского мира, единственного мира, к которому он стремился. Как это могло случиться? Он стоял перед дверью Вагнер–Яурега, держа руку на кнопке звонка и опустив голову. «Я знаю, как это случилось. Я влюбился в Марту. Вагнер–Яурег полон решимости взойти на высшую ступень своей профессии, прежде чем думать о браке. – Он поднял подбородок. – Пусть он занимает свое место в Граце; я пойду своим путем». Он позвонил, вошел в кабинет, чтобы поздравить Вагнер–Яурега и пожелать ему всего доброго.Книга восьмая: Незримые тайники разума
1
Вначале декабря родился сын. Его назвали Жан Мартин в честь Шарко. Марта радовалась рождению мальчика. Сияющий от восторга Зигмунд обежал родственников и друзей, чтобы поведать им эту приятную новость. Когда Марта проснулась, он подложил ей подушки под спину. Ее лицо никогда не было столь красивым, ее глаза искрились от счастья. Он крепко сжал ее ладони в своих. – Марти, дорогая, появление сына – самый счастливый момент в жизни мужчины. Теперь у меня есть кому сохранить имя семьи. Евреи обижаются, когда их называют людьми Востока, но в отношении глубоко укоренившейся потребности иметь сына истина именно такова. – Угу, – согласилась Марта, – это верно и в отношении людей Запада. Пройди в Обетовую церковь и понаблюдай за отцом новорожденного сына, когда несут крестить ребенка. Может быть, Чарлз Дарвин нашел в этом одну из причин, почему все еще продолжается род человеческий? Возможно, мастодонты и динозавры не очень заботились о том, чтобы иметь сыновей для сохранения семейного имени? Зигмунд рассмеялся. Не минуло и суток с момента рождения сына, как в приемную Зигмунда пришел первый пациент, страдающий неврозом; к концу недели накопилось уже четыре удивительных случая. Зима обрушилась внезапно. Подул резкий, по–сибирски холодный ветер. Сшитые Мартой прокладки, положенные между оконными рамами, задерживали сквозняки, но полностью избавиться от студеного ветра можно было, лишь затянув окна бархатными гардинами, превращавшими комнату в мрачную пещеру, и нагрев до предела керамическую печь. Штормовые порывы ветра с дождем и градом срывали с крыш черепицу, и она, с треском раскалываясь, падала на тротуарные плиты. Ветер опрокинул несколько экипажей. Итак, у венцев был выбор – либо получить по голове падающей черепицей, либо оказаться опрокинутыми на булыжник мостовой. В полдень следующего дня небо очистилось от туч, выглянуло солнце, и над городом поднялась узкая лента радуги. – Это и есть Вена, – заметил Зигмунд. – Вначале она вас заморозит, потом вымочит, а затем выудит из Дуная и завернет в радугу, бормоча: «Прости меня, дитя мое, прости меня за то, что почти свела с ума своими невинными шалостями! Я все еще люблю тебя. Пусть играет музыка в парке, закружимся в вальсе, прогуляемся по Нашмаркту, закусим кровяной колбасой из Кракова, деликатесами королевской кухни». Девятнадцатилетняя фрейлейн Матильда Геббель пришла к Зигмунду в канун Рождества. Она находилась в глубокой депрессии и раздражалась по пустякам. Как ни пытался успокоить ее Зигмунд, после гипноза она изливала потоки слез. Затем после одного сеанса Матильда разговорилась. Причиной ее тоски был разрыв помолвки одиннадцать месяцев назад. После помолвки она и ее мать обнаружили у жениха некоторые особенности, которые им не понравились. Однако они не хотели отменять помолвку, ибо молодой человек был состоятельным и занимал хороший пост. В конце концов мать приняла решение. Девушка не спала ночами, переживая, правильно ли она поступила. С этого и началась депрессия. Зигмунд был уверен, что поможет Матильде, внушив ей твердо придерживаться суждения, что брак был бы неудачным. Однако он не смог заставить ее вымолвить хотя бы слово о том, что ее мучает. Затем она перестала ходить к нему. Через неделю один из сотрудников Института Кассовица сказал ему: – Поздравляю тебя, Зиг, ты замечательно вылечил фройлейн Теббель. Я был у них вчера вечером; девушка чувствует себя хорошо и вновь ладит с матерью. Зигмунд сделал пару глотков и решил умолчать, что не знает, чем помог Матильде. Однако он посетил семейство Геббель и, обращаясь к девушке, сказал: – Рад видеть вас в добром здравии и счастливой. Вы заметили, как это пришло к вам? Матильда воскликнула весело: – Да, знаю. Утром в день годовщины разрыва помолвки я проснулась и сказала себе: «Ну вот, прошел год. Довольно глупить!» Начался дождь. Зигмунд сел в фиакр у церкви капуцинов, забился в угол и по дороге домой думал: «Проснувшись в день годовщины разрыва помолвки, Матильда подумала вовсе не случайно, что пора кончать «глупить». Где–то в подсознании она решила хранить то, что осталось от ее любви, до первой годовщины разорванной помолвки… что–то вроде периода оплакивания. Я не помог ей по той причине, что она не нуждалась во мне. Однако Матильда дала мне возможность понять, что подсознание располагает таким же надежным расписанием, как сохранившийся с древности календарь». Ему был выдан слишком большой кредит доверия за излечение молодой девушки, горевавшей из–за жениха, но следующий пациент принес ему слишком малый кредит. Перед новым, 1890 годом он стал лечить молодого человека, который не мог ходить. Симптомы говорили об истерии. Зигмунд начал с удаления при помощи внушения под гипнозом внешних проявлений: неспособности принимать пищу, недержания мочи, страха перед спуском с возвышенности. Он преуспел в устранении этих симптомов, а когда устранил симптомы истерии, то обнаружил, что перед ним органический случай рассеянного склероза. Психические симптомы были настолько сильными и многочисленными, что было трудно распознать сразу соматический склероз. Мужская истерия встречалась намного реже, чем женская, но лишь по той причине, что мужчины, как он полагал, озабочены добыванием средств к существованию и болезнь проявляется у них только тогда, когда они испытывают эмоциональные неприятности, которые ставят под удар их образ жизни. Одним из простейших в его практике был случай с интеллигентным мужчиной, находившимся около больного брата, страдавшего анкилозом. В тот момент, когда тому растягивали сросшееся сочленение, звук при разрыве спайки был настолько громким, что у наблюдавшего появилась острая боль в собственном бедре и она сохранялась в течение всего года. Между тем его бедро было совершенно здоровым. Зигмунд определил: в подсознании здорового брата закрепилась мысль, что болезнь эта врожденная. Более обиженным природой оказался впавший в ярость служащий, с которым плохо обошелся его наниматель. Под гипнозом Зигмунд заставил пациента рассказать о случившемся. Больной вновь пережил болезненный для него эпизод, когда наниматель не только оскорбил его, но и ударил тростью. Зигмунд пытался сгладить эмоции, но через несколько дней пациент пришел после очередного сильного приступа. На этот раз Зигмунд узнал под гипнозом от пациента, что служащий возбудил судебное дело, обвинив нанимателя в плохом обращении с ним. Он проиграл иск. Огорчение от поражения вызвало у него неконтролируемые приступы ярости, а затем и коллапс. Зигмунд не мог вылечить пациента, тот был слишком стар, а чувство несправедливости слишком укоренилось; пришлось довольствоваться ослаблением остроты приступов. Со временем небольшая группа врачей–единомышленников постепенно сформировалась в своего рода субботний клуб: Зигмунд, Иосиф Панет, Оскар Рие, Леопольд Кё–нигштейн, Оберштейнер, а иногда Йозеф Брейер, Флейшль. Они играли в карты до часа ночи, особенно когда встречались у Панета, не любившего расставаться с друзьями. Флейшль был не особенно здоров и не выходил из дома, а приглашал друзей к себе, когда наступала его очередь. У Зигмунда друзья играли за обеденным столом. В комнате, обставленной тяжелой деревянной мебелью, обитой кожей, плавал сизый дым от сигар. В полночь Марта, как и другие жены, приносила горячие сосиски с горчицей или хреном и венские булочки. Это было время товарищества, обмена новостями и слухами, рассказов о книгах, пьесах, музыке. Однажды в майскую ночь, когда они уходили от Панетов, Марта спросила: – Зиг, разумно ли Иосифу засиживаться так поздно? – Да, пока он остается веселым, таким, каким ты видела его сегодня. Врачи говорят, что в легких у него есть пара затемненных очагов, но они вроде бы не увеличиваются. Зима оказалась пронзительно–холодной. Зигмунд уговаривал своего друга поехать на два–три месяца в теплые страны. Иосиф ответил своим мягким голосом: – Зиг, я не могу оставить Экснера и лабораторию физиологии. Как я могу сидеть где–то сложа руки? Разве это не форма умирания? – Нет, это форма спячки. Когда твои легкие поправятся, ты сможешь работать тринадцать месяцев в году. Затем Иосиф простудился во время снежной бури; на следующий день в окружении врачей–друзей, уже бессильных ему помочь, он умер от двустороннего воспаления легких. Возможно, из–за своей деликатности, а может быть, из–за щедрости Иосиф слыл любимцем группы. Для Зигмунда потеря Иосифа Панета, его компаньона в годы учебы в клинической школе, была особенно ощутимой. Без «фонда Фрейда», учрежденного Иосифом и Софией с капиталом в тысячу пятьсот гульденов, он не смог бы принять субсидию университета для поездки за рубеж. В сумеречный день с туманом и мелким дождем друзья похоронили Иосифа на Центральном кладбище, шепча молитву у края могилы. Профессор Брюкке, хотя и сам был нездоров, пришел на кладбище в сопровождении Экснера и изможденного Флейшля. Затем они посетили дом покойного, беседовали с вдовой, в то время как горничная разносила кофе и кексы. Зигмунд и Марта возвращались домой в экипаже с горестным чувством, прижавшись друг к другу. К нему привели молодую, счастливую в браке женщину, которая в детстве часто ощущала по утрам оцепенение, при этом у нее отвердевали конечности, не закрывался рот и высовывался язык. Такие приступы возобновились. Когда молодая женщина не поддалась гипнозу, Зигмунд предложил ей рассказать историю своего детства. Она говорила о своей комнате, своих дедах и бабушках, живших с ними, о любимой гувернантке. Однако извлечь что–либо нужное из полученного материала Зигмунд не мог. На помощь ему пришел старый врач, который одно время лечил семью. Врач обнаружил чрезмерную привязанность гувернантки к девочке и просил бабушку понаблюдать за ними. Бабушка сообщила, что гувернантка имела обыкновение посещать девочку, когда та ложилась спать, и оставалась с ней всю ночь, тогда как вся остальная семья уходила на покой. По всей видимости, она растлила девочку. Гувернантку тут же уволили. Зигмунд поблагодарил старика за подсказанный ключ к разгадке. Удивленный врач спросил: – Как же вы будете действовать теперь? – Думаю, есть только один путь – сказать ей правду. Этот эпизод, значение которого она не понимала как ребенок, глубоко запал в ее подсознание; она сама не сможет избавиться от него. Приступы будут продолжаться многие годы. Если я объясню, каким образом память об этом перешла в подсознание, и расскажу, что воспоминания продолжают отравлять ей жизнь, она, я думаю, поймет, что стала жертвой. Если даже приступ повторится, то она будет, по меньшей мере, знать его причину и получит возможность с ним бороться. Молодая женщина выслушала сказанное ей без видимого эмоционального потрясения. Несколько месяцев спустя домашний врач сообщил, что здоровье ее улучшилось. Этот случай укрепил растущую уверенность Зигмунда в том, что детские впечатления, даже если они не были доступны пониманию ребенка в тот момент, оставляют глубокий след в подсознании. В любой момент в последующие годы шрам может нагноиться и тем самым нанести ущерб в остальном здоровому организму. Он считал, что понимание такой вероятности бесценно для врача. Сам же он задавал себе вопрос, почему приступы возобновляются через определенное время. Полностью успешным оказалось лечение тридцатилетнего мужчины. Поначалу Зигмунд ничего не добился в своей приемной и счел за лучшее отправить его в санаторий. Пробыв неделю в санатории, мужчина стал, к удивлению Зигмунда, поправляться, тик лица и заикание исчезли, он охотно ел и крепко спал, у него восстановилась способность сосредоточиваться, из–за утраты которой он лишился ответственного положения в одном из венских банков. Зигмунд посещал больного раз в неделю и по прошествии трех месяцев высказал мысль, что он может вернуться домой. Пациент категорически отказался уезжать из санатория, бурно протестовал по поводу совета. Поскольку семья жила в достатке, мужчина остался в санатории. Через полгода он пришел в приемную Зигмунда. Когда он вошел в кабинет, Зигмунд сказал: – Вы величайшее ходячее свидетельство, которое когда–либо имел врач в этом городе. Что вы сделали, чтобы добиться столь полного излечения? Мужчина ответил, подмигнув: – Лекарство находилось за соседней дверью: привлекательная пациентка. К концу первой недели мы вступили в половые сношения и предавались этому каждую ночь. Это был самый замечательный период в моей жизни. Она выписалась всего два дня назад. Я часто думал, что и она ваш пациент, что у нее свои трудности и вы умышленно поместили нас рядом. Каждый случай невроза был по–своему особым и увлекательным. Наряду с успехами были и многочисленные неудачи, особенно с молодыми людьми, неудачи деликатного свойства. Они страдали все теми же нервными и эмоциональными недугами, которые он наблюдал у своих пациентов, но также и многими другими, с которыми ранее не встречался и о которых не читал; а главное, он не мог еще опознать основную причину нарушений даже у тех, кого подозревал в гомосексуализме. Высвобождавшиеся из их подсознания сведения были клубком путаницы и бессмыслицы. Когда, отчаявшись, он пытался воспользоваться методом Льебо – Бернгейма и боролся с симптомами, не пытаясь понять их душевное происхождение, то столкнулся с тем, что пациенты либо отказывались воспринимать внушения, либо не могли использовать их. Он не мог примириться с этими неудачами; нарушения брали начало в зоне подсознания, к которой он не нашел ключа. Подсознание стало его страстью и путеводной звездой. Его дотошные записи по каждому случаю перемежались рассуждениями, догадками. Он двигался по пути, по которому, как ему казалось, прошел Антон Левенгук, ставший первым человеком, который через свой улучшенный микроскоп увидел живых одноклеточных и бактерий. Он думал: «Подсознание становится моим полем рефракции. Оно даст мне научное познание и позволит описать причины и методы лечения человеческого поведения. Я стану повивальной бабкой, нет, во мне так бурлит возбуждение и трепещущая жизнь, что, несомненно, я стану матерью». Он поднял обе руки вверх, изображая испуг: «Надеюсь, у ребенка не окажутся две головы».2
В городе стали говорить, что доктор Зигмунд Фрейд хорош для консультаций касательно того, что уклончиво называлось «женскими неприятностями». Жены, достигшие тридцатилетнего возраста или перешагнувшие его, зачастили в приемную Зигмунда и, смущаясь, пытались описать перемежающиеся недомогания, причины которых не сумели определить их домашние врачи. Он проводил тщательное обследование, направляя к специалисту, когда считал, что не может полагаться только на свое мнение. В большинстве случаев он не обнаруживал органических нарушений; после достаточно долгих спокойных опросов ему стало ясно: все их трудности берут начало в том, что Йозеф Брейер определил однажды как «секреты брачного алькова». Лишь в отдельных случаях удавалось получить достаточно надежный ключ к тому, что сломалось, ибо эти женщины, воспитанные в духе сексуальной сдержанности, равноценной глухоте, при упоминании о половой любви лишались дара слова, они не могли говорить о таких вещах даже со своим врачом. Они краснели, заикались, опускали глаза, но истина так или иначе выходила наружу: муж оказывался неуклюжим, торопливым, невнимательным, неспособным рассчитать время так, чтобы возбужденная им жена также получила свое удовольствие, вместо этого он, «напрыгавшись, сваливался, как животное». Осознав, почему его пациентки страдают нервным расстройством, он понял, что мало чем может помочь в исправлении положения. Венский мужчина разъярится, если его пригласит врач и откровенно скажет, что супруга нездорова по причине его неловкости при половом сношении. Эту тему студенты, солдаты, завсегдатаи бульваров, члены клубов, деловые люди до одури обсуждали между собой в излюбленных трактирах с мельчайшими физиологическими подробностями, но она исключалась как аморальная и недостойная в беседах между супругами. Масштаб несчастья, вызванного таким лицемерием, становился для Зигмунда все более очевидным по мере накопления данных; однако ни он, ни другие неврологи не могли помочь пациенткам выбраться из тяжелого положения, о чем свидетельствовали их дрожащие руки и мокрые от слез платки. Некоторые из его замужних пациенток были обречены болеть всю жизнь. Каждый случай невроза давал ему крупицу знаний о том, как действует подсознание. Двадцатитрехлетняя фрейлейн Ильза была живой, одаренной девушкой, ее привел к нему отец, старый врач, пожелавший, даже потребовавший находиться в кабинете при осмотре. Восемнадцать месяцев у Ильзы были острые боли в ногах, она ходила с большим трудом. Первый врач, осматривавший ее, поставил диагноз рассеянного склероза, а молодой ассистент отделения нервных болезней полагал, что налицо симптомы истерии, и рекомендовал направить девушку к доктору Фрейду. В течение пяти месяцев Ильза посещала Зигмунда три раза в неделю. Он сделал все мыслимое: усиленно массировал, повышал напряжение электротерапевтической аппаратуры, испробовал под гипнозом различные внушения, чтобы ослабить боль. Ничто не помогало, хотя Ильза охотно подчинялась требованиям Зигмунда. Однажды она неуверенно вошла в его приемную – с одной стороны ее поддерживал отец, а с другой она опиралась на зонтик, как на трость. Зигмунд потерял терпение. Когда она была под гипнозом, он закричал: – Сколько может тянуться! Завтра этот зонтик сломается у тебя в руках и ты пойдешь без него. Он разбудил Ильзу, обозленный на самого себя за потерю терпения. На следующее утро пришел ее отец без предварительной договоренности. – Вы знаете, что вчера сделала Ильза? Мы гуляли по Рингштрассе, как вдруг она запела мелодию хора из оперы «Разбойники» по Шиллеру. Она отбивала такт по плитам тротуара и сломала зонт! И теперь впервые за много месяцев она ходит без зонта. Зигмунд испустил глубокий вздох облегчения. – Ваша дочь хитроумно перевоплотила мое неоткор–ректированное внушение в целеустремленное. Он знал, что Бернгейм и Льебо были бы довольны достигнутым. Зигмунд колебался, а затем решил пойти дальше. – Поломки зонта еще недостаточно для излечения Ильзы. Мы должны узнать, что в ее голове подбрасывает ей мысль, будто она не в состоянии двигаться без посторонней помощи. На следующий день он ввел Ильзу в состояние сна и спросил, что вывело ее из эмоционального равновесия перед тем, как начались боли в ногах. Ильза спокойно ответила, что причиной была смерть привлекательного молодого родственника, с которым она считала себя обрученной. Зигмунд побуждал ее рассказать о своих чувствах к этому человеку, о ее горе в связи с его смертью. Ответы Ильзы были настолько деловыми, что у него возникло сомнение, на правильном ли он пути. Через два дня Ильза пришла в его приемную, опираясь на новый зонт. Зигмунд ввел ее в состояние сна, затем сказал строгим голосом: – Ильза, я не верю, что смерть твоего кузена имеет какое–то отношение к твоей болезни. Я полагаю, что с тобой случилось нечто иное, имевшее огромное значение для твоей эмоциональной и физической жизни. Пока ты мне не скажешь, я не могу помочь тебе. Ильза молчала несколько секунд, затем с придыханием прошептала длинную фразу, в которой он уловил слова «парк… незнакомец… изнасилование… аборт». Ее отец горько зарыдал. Зигмунд вывел девушку из состояния сна. Поддерживая друг друга, отец и дочь вышли из кабинета. Зигмунд больше не видел пациентку, не получил он и каких–либо объяснений. Если воздействие случившегося в парке не будет пресечено, то она вскоре окажется навсегда прикованной к постели. Она будет жить, но в изоляции от мира. Он полагал, что если бы он провел несколько сеансов, возможно, даже еще один, то смог бы раскрыть Ильзе связь между надвигающимся параличом и ранее случившимся с ней несчастьем, имел бы шанс примирить ее с фактом, что она может жить, несмотря на обрушившееся на нее бедствие. Одновременно с Ильзой он занимался фрейлейн Розалией Хатвиг, молодой певицей, готовившей себя к оперным и концертным выступлениям. Ей прочили многообещающее будущее. Затем она вдруг стала делать ошибки в среднем регистре. У Розалии нарушалось дыхание, когда она была возбуждена, голос пропадал, и она не могла продолжать пение. Зигмунд ввел ее в состояние сна, побуждал ее к беседе. Она выросла в многодетной семье, ее отец грубо обращался с женой и детьми не только в житейском, но и в моральном смысле, не скрывая, что для интимных дел он предпочитает служанок. После смерти матери Розалия взяла на себя воспитание младших. Защищая маленьких, она была вынуждена подавлять свою собственную ненависть и презрение к отцу, молча принимать то, что хотела бы открыто сказать ему. Каждый раз, заставляя себя сдерживаться, она ощущала сдавленность и сухость в горле. Зигмунд побуждал ее под гипнозом сказать все, что она хотела бы все эти годы выложить своему отцу, как бы грубо это ни звучало. Розалиясделала это в резких, гневных выражениях. Она сумела преодолеть провалы в пении, но осложнения, возникшие у Розалии с ее теткой, заставили преждевременно прервать лечение. Знания подобны медленно текущей реке: иногда возникают заторы и завалы, иногда она пересыхает. Ныне же на Зигмунда обрушился поток. Очередное открытие, которое пробивалось в его сознании, ломая скорлупу невежества, заключалось в понимании им того, что в какой–то части своей практики он оказался не только идиотом, но и лгуном. Предписания Вильгельма Эрба в его книге «Учебник электротерапии», к которым он широко прибегал в последние пять лет, были всего лишь общим подтверждением. Профессор Эрб сознательно пошел на обман: он разработал систему электрических сопротивлений, смены направлений тока, медных, никелированных, покрытых губкой, фланелью, льняной тканью электродов, а также изложил «суть электротерапии» в наборе сложных математических формул, которые, о чем теперь жалел Зигмунд, он запомнил наизусть и которым верил, как Священному Писанию. Он мучился угрызениями совести, когда вспоминал, скольких пациентов он ввел в заблуждение, полагаясь на утверждение Эрба: «Я вовсе не повинен в преувеличении, утверждая, что эффект исцеления зачастую удивлял даже опытных врачей магической скоростью и полнотой». – Никакого преувеличения! – Зигмунд выругался, что с ним случалось редко. – От этих электродов такая же польза, как от соски. Меня бросает в дрожь при мысли о гонорарах, которые я получал, вызывая на несколько часов расслабленность, не снимавшую ни ома с недомогания пациента. К счастью, я брал немного денег и расходовал мало электричества. К тому же все неврологи в Европе, Англии и Америке, даже великий Хьюлингс Джексон, многие годы применяли методику Эрба. Как мы могли так долго быть слепыми? Эрб пользовался всемирной славой, а пациенты получили науку, столь же фальшивую, как френология. Йозеф Брейер высмеивал ярость Зигмунда. Они сидели в этот момент в библиотеке Йозефа. – Ну, Зиг, ты преувеличиваешь. Разряды электричества помогают в той же мере, как теплое и холодное купание, лечение отдыхом по методу Джексона или бромиды. – Что означает… ровным счетом ничего! Конечно, отдых, морские путешествия, хорошая пища укрепляют организм физически. Но ты и я, мы знаем, что такие средства могут с таким же успехом проникнуть в джунгли подсознательного и ублажить скрывшегося там демона, с каким кружка пива погасит лесной пожар. Йозеф запустил пятерню в свою бороду, этот жест означал, что он расстроен. – Что же в таком случае остается, Зиг, если мы признаем публично, что не имеем более рабочих инструментов? Глаза Зигмунда сверкнули. – У нас есть новый подход, Йозеф, тот самый, который ты применил в случае с Бертой Паппенгейм, а я продвинул дальше. Это подлинный инструмент терапии. Взгляд Йозефа был устремлен на книжную полку над головой Зигмунда. Несколько дней спустя он зашел в кабинет Зигмунда, чтобы обсудить дело молодой женщины, которое показалось ему с медицинской точки зрения странным. Когда он рассказал о симптомах, Зигмунд заметил: – Йозеф, мне кажется, что это случай ложной беременности. Йозеф с удивлением уставился на него, затем он выбежал, даже не попрощавшись. Марта, наблюдавшая, как он поспешно выскочил из дома, прошла в кабинет мужа и спросила: – Что произошло с Йозефом? Зигмунд почесал свою бородку, как бы тем самым показывая, что и сам удивлен. – Не могу себе представить. Он поинтересовался моим диагнозом, когда же я осмелился высказать догадку, он убежал, как лань в лес.3
Рождение второго сына, Оливера, в феврале 1891 года не оставляло сомнений, что предстоит переезд. Квартира не имела удобной детской комнаты, и ее замена оказалась делом непростым: прежде всего это было своего рода признанием, что первый выбор оказался опрометчивым. А в Вене переезд считался признаком нестабильности. – Венцы более верны клятве верности своей квартире, чем супруге, – комментировал Флейшль. Условия аренды сохраняли силу на весь июль. На протяжении нескольких месяцев Зигмунд и Марта осмотрели десятки квартир в домах, на которых висели объявления «сдается». Однако все увиденное не отвечало их потребностям. В один из июльских дней, когда Марта и дети находились на вилле в Рейхенау, около Земмеринга, Зигмунд прогуливался вдоль Дунайского канала в тени плакучих ив и наслаждался видом мостов на фоне густой зелени Венского леса. На противоположном берегу буйно цвели герани, ноготки, люпины. Вода бесшумно, но быстро скользила вдоль гранитных набережных зеленовато–коричневого цвета. Молодые матери гуляли с грудными детьми в колясках на высоких рессорах. На скамьях и парапетах сидели горожане лицом к солнцу, с закрытыми глазами, нежась в его лучах, подобно разомлевшим ящерицам. Пройдя рынок Тандель – старинный живописный блошиный рынок Вены, Зигмунд пересек площадь, к которой стекались пять улиц, и начал подниматься по Берг–гассе – одной из самых крутых венских улиц. Он часто взбирался по ней на пути в лабораторию профессора Брюкке, расположенную в верхней части. Остановившись у дома номер 19, на двери которого висело объявление «сдается», он быстро окинул оценивающим взглядом верх и низ улицы: широкая, застроенная по обеим сторонам пятиэтажными домами с лавками на нижних этажах, напротив – Академия экспорта. Это была респектабельная улица, где жили горожане среднего класса. Фасады домов украшены без излишества скульптурами, тротуары вымощены каменной брусчаткой с обычным для Вены полудуговым рисунком. Дверь была открыта. Зигмунд вошел, миновал холл, чтобы вызвать смотрителя дома. В ожидании он встал у открытой двери во внутренний дворик, затененный четырьмя деревьями, с ухоженной лужайкой и цветущими кустами, в его дальнем углу в нише высилась скульптура девушки, у ног которой бил фонтан. Вся эта картина создавала впечатление благополучия. Он поинтересовался размером платы и услышал цифру меньше той, которую он платил за прежнее помещение. Конечно, в сравнении с их нынешним Шоттерингом район не был столь изысканным. «Но, – прикидывал Зигмунд, – на площади сходятся несколько трамвайных линий, еще одна линия есть на улице Веригерштрассе, сразу за углом. К дому легко добраться на фиакре, так что пациентам будет не трудно приехать. На площади работают несколько рынков, близко Дунайский канал, есть парки, где могут играть дети. Помещение нужно снять, оно прекрасно подходит нам». Его подмывало тут же договориться об аренде, но он промолчал, когда спускался вместе со смотрителем вниз. Остановившись на первом этаже, он спросил: – Кто здесь живет? – Старый часовщик, холостяк по имени Плояр. Владеет мастерской в центре города. Проводит все дни там, а вечера – в кофейне на углу со своими друзьями из той же гильдии. Не знаю, зачем ему нужно помещение; каждые три месяца угрожает съехать, будучи недовольным рентой. Зигмунд почувствовал толчок в груди. – Могу ли я посмотреть? Только на миг? Возможно, мне захочется снять это помещение вместе с квартирой наверху, как только ваш часовщик откажется от аренды. Он вручил сопровождавшему несколько крейцеров, и тот открыл дверь. За нею находились пять комнат, точная копия комнат на верхнем этаже, но с более низкими потолками. Имелись фойе и гостиная, две спальни, которые можно было превратить в приемную и кабинет, и небольшая кухня, бесполезная для семьи, но подходящая для обработки инструментов. – Каков размер аренды за эти помещения? Когда смотритель дома назвал сумму, Зигмунд с трудом подавил вздох удовлетворения: аренда обоих помещений была чуть выше той, что он выплачивал последние пять лет. Не сдержав своего возбуждения, он вытащил банкноту из бумажника и вложил в руку сопровождавшего. – Это как свидетельство серьезности намерений. Я должен сообщить своей жене, привести ее сюда… – Понимаю, господин доктор. Я буду сохранять для вас верхнее помещение столь же надежно, как эти деньги. Марта, приехавшая из Рейхенау, не проявила энтузиазма. Она не горела желанием поменять нынешние современные кухню и ванную на более старые; но когда она прошла по просторным комнатам с высокими лепными потолками и красивым паркетом, ее мина стала понемногу меняться. Она взяла мужа под руку и, улыбнувшись, повернулась к нему. – Это будет семейный дом, – мягко сказала она. – Он достаточно большой, чтобы вместить наше будущее. В середине июля зной прогнал венцев в горы. Целыми днями Зигмунд сидел в своем кабинете, и ни один пациент не постучался в дверь. Сократившийся доход заставил его переключиться с импортных гаванских сигар – а он с удовольствием выкуривал дюжину в день – на «Тра–букко» – небольшие мягкие сигары, производившиеся Австрийской табачной компанией и продававшиеся в соседнем табачном киоске. Лишь публикация книги об афазии облегчила его положение. Получив извещение от издателя о готовности книги, он направился в книжный магазин. Там на стойке наряду с другими медицинскими изданиями лежали стопкой десять экземпляров его книги. Взяв верхнюю, он посмотрел титульный лист, оглавление, текст и ощутил пронзительную радость. Это была его первая книга, его официальное вступление в мир творческих медицинских публикаций. Его имя уже стояло на трех других книгах как переводчика, но этот том был только его. Если бы его не было, то не было бы и этой книги. Он держал в руках экземпляр с такой же нежностью, с какой держал Матильду, Мартина и Оливера. Для него книга была живым, дышащим, говорящим созданием, которое вышло на свет из лона его интеллекта. Он взял под мышку один экземпляр для себя, затем попросил продавца завернуть второй экземпляр и послать его доктору Йозефу Брейеру. Зигмунд решил не вручать этот экземпляр лично, он хотел, чтобы книга стала сюрпризом, ибо в ней была строка, о которой он до выпуска умалчивал: «Посвящается доктору Йозефу Брейеру в знак дружбы и уважения». Он не ожидал, что Йозеф сразу же прочтет книгу, в ней было более ста страниц. Возможно, он зайдет к нему в следующий полдень на чашку кофе или же поужинает с ним. Но от Йозефа не поступало вестей два дня. Зигмунд не знал, что и думать. На третий день, не выдержав, он устремился через площадь Стефана к дому Брейера. Матильда тепло его приветствовала; он сразу же понял, что она не слышала ничего о книге. – Йозеф в библиотеке, Зиг. Поднимайся, а я пришлю вам_ напитки. Йозеф писал за рабочим столом. Он поднял голову, увидел Зигмунда и отвел глаза. Зигмунд подумал: «Он не рад видеть меня! Он выглядит смущенным. Что же произошло?» Вслух он спросил: – Йозеф, ты получил экземпляр моей книги? – Да, получил. – У тебя не было времени прочитать ее? – Прочитал. – Голос был бесстрастным, без интонации. – Тебе она не понравилась? Йозеф пожал плечами и сказал: – Она не безнадежно плохая. Зигмунд почувствовал себя так, как если бы ему нанесли пощечину. – Ты не можешь вспомнить ни одного хорошего пассажа? – …Да, она хорошо написана. – Спасибо, Йозеф, я всегда стремился отработать хороший стиль. – И он добавил с горечью: – А как насчет научного материала? Нового подхода к психиатрии? – Не думаю, что ты свел воедино две половинки, соматическую и психическую. Они расходятся как несовместимые. И к тому же твоя привычка нападать на авторитеты в каждой области, на наиболее уважаемых людей в медицинской науке… Никто не поблагодарит тебя за новую ересь, будто психический фактор имеет такое же отношение к афазии, как физические нарушения. Разумеется, не поблагодарят Вернике, Хитциг или Лихтгейм. – Я не ищу благодарности, Йозеф, я стремлюсь только к объективному анализу собранных мною доказательств. Йозеф не ответил, а вместо этого позвонил горничной. Когда она вошла, он спросил, приехал ли доктор Рехбург. – Нет, господин. – Приведи его сюда, как только он появится. Зигмунд почувствовал острое разочарование. Когда горничная вышла, он сказал охрипшим голосом: – Йозеф, ты не упомянул о посвящении. Я хотел выразить тебе почтение. Надеялся, что это доставит тебе приятное. – …Да. Ну, спасибо. Горничная ввела доктора Рехбурга. Увидев Зигмунда, он, казалось, отпрянул назад. Зигмунд рассуждал: «Он и Йозеф уже обсуждали книгу. Они ее не одобряют. Это объясняет его смущение». Он пошел быстро к двери, пробормотав «до свидания», и, не глядя ни на кого, вышел на улицу. Устало плетясь домой, в пустую квартиру, он медленно обдумывал положение: «Мои разногласия с Йозефом углубляются. Почему? Он соглашается со мной шаг за шагом, а затем отвергает мои выводы. Мое теплое посвящение лишь смутило его, словно он боялся, что медицинский мир обвинит его за содержание книги. Ведь он знает так же хорошо, как я, что существуют нарушения речи, вызванные внушением, что подсознательное может выступать в роли злодея, порождающего афазию. Почему он колеблется признать это?» Зной сменился проливным дождем. Влажность воздуха и отсутствие пациентов выводили его из себя. С неба полилось еще сильнее, когда в пятницу вечером он отправился в горы. Он взобрался на Раке, полагая, что физическая усталость рассеет его мрачное настроение. Там он нашел несколько эдельвейсов, которые принес Марте. Она засушила под прессом все цветы. Ему не хватало свежего, озаренного улыбкой лица Марии, которая рассчиталась и ушла от них в преддверии свадьбы; взамен Марта наняла старую Нанни, рекомендованную друзьями, которым она была уже не нужна. Бродя вокруг виллы на следующий день, он решил, что старая няня не подходит детям. Он сетовал в разговоре с Мартой: – Мартин – хороший мальчишка, приветливый, добрый, умный. Ты заметила, что он произносит уже много слов? Но эта старая карга портит нашу маленькую женщину. Матильда выросла непослушной, она отказывается подчиняться из принципа и говорит «нет» на каждое мое предложение. Кроме того, Нанни не имеет права выговаривать детям. Не понимаю, почему ты ее не одергиваешь? Надеюсь, что ты не намерена удерживать ее, когда мы переедем на Берггассе? Я могу добавить в случае нужды кое–что к ее пенсионному фонду. Марта ответила нежно, но твердо: – Дорогой, почему бы тебе не подняться на Шнее–берг? Тебе полезен воздух. И не беспокойся за Матильду; это пройдет. К завтрашнему дню или к следующей неделе она вновь станет маленькой девочкой, какую ты любишь. Шнееберг изгнала из него раздражение и огорчение по поводу позиции Йозефа. Он вернулся усталым, принял теплую ванну и искупил свою вину перед Мартой, поужинав вместе с ней в пивной, где пели народные песни.4
Давняя пациентка одарила его новым захватывающим приключением и примирением с Йозефом Брейером. Это была сорокапятилетняя фрау Цецилия Матиас, высокого роста, с льняными волосами, густыми бровями, со строго очерченным овалом лица, умная, чуткая, писавшая стихи, которые, по наблюдению Зигмунда, отражали блестящее чувство формы. Доктор Брейер вызвал его в дом фрау Матиас поздно вечером год назад, и Зигмунд обнаружил, что она страдает мучительной невралгией, очаг которой – в деснах. Он узнал, что уже в течение пятнадцати лет у нее повторяются такие приступы два–три раза в год. Однажды, когда приступ невралгии затянулся на месяцы, семья вызвала дантиста, который поставил диагноз, что причина – карманы у корней зубов, и вырвал семь; после осмотра оставшихся Зигмунд пришел к выводу, что были вырваны совершенно здоровые зубы. Дантисты намеревались удалить другие якобы шатавшиеся зубы, но Цецилия сумела отбить такие поползновения; за день до визита к врачу, когда предстояло изъять «виновников» боли, приступ лицевой невралгии прекратился. Другие врачи, приглашавшиеся в эти годы, применяли электростатические разряды, слабительное, «водопитие», чтобы вывести из организма мочевую кислоту. Ничто не помогало; боли возникали через каждые пять – десять дней, а затем так же мистически исчезали, как появлялись. Венские медицинские светила сходились на том, что имеют дело с «подагренной невралгией». Зигмунд мало что мог предложить помимо сочувственного отношения и бромида. Фрау Матиас явилась к нему в приемную на следующее утро в шерстяном костюме, сшитом по ее модели. Стоя перед ним, высокая, с блестящими глазами, она сказала ясным и уверенным голосом: – Господин доктор, можете ли вы предложить мне процедуру с гипнозом? Я слышала, что вы помогли людям, страдавшим многие годы схожими болезнями. – Пробовал ли доктор Брейер применить гипноз для вашего излечения? – Нет. Вопрос об этом не возникал. Но сейчас у меня невыносимая боль, и она продлится по меньшей мере еще неделю. Если вы верите, что гипноз может помочь мне, тогда я прошу вас – попытайтесь. Зигмунд помолился в душе неизвестному божеству. – Хорошо. Расслабьтесь в этом кресле. Закройте глаза. Отдыхайте. Думайте о сне. В приятном смысле. Правильно. Сейчас вы заснете, спокойно, легко, счастливо… спите… спите… спите… Его голос звучал ласково, ровно, успокаивающе. Но после того как она заснула, он изменил тон и тактику, стал почти суровым, заявил ей уверенным тоном, что она не должна страдать от лицевой невралгии, что у нее достаточно сил, чтобы изгнать из памяти мысль о боли, что раздражение второй и третьей ветвей тройничного нерва не может вызвать невралгию, а она обладает способностью устранить ее, если у нее есть такое желание, что ее умственные способности и, следовательно, ее умение справиться с физическими расстройствами сильнее, чем пустячные заболевания, которым она поддалась. Он сказал самому себе: «Я должен наложить самые строгие ограничения на ощущение ею боли, самые сильные, которые я когда–либо использовал. Поскольку она сама просила о процедуре, она может выдержать более сильное внушение, чем просто команду». Пробудив ее, он спросил фельдфебельским тоном: – Как вы себя чувствуете, фрау Цецилия? – …Лучше, я полагаю. – Она провела пальцами вдоль невралгических линий щек. – Боль еще сохраняется, но она гораздо слабее. Она сейчас притуплённая, а не острая. – Хорошо. Я могу прийти к вам сегодня вечером и провести еще один сеанс, если желаете. Посмотрим, сможем ли мы устранить эту боль, прежде чем она исчезнет сама по себе. Он провел три сеанса гипноза, внушая ей, что лично не она выдумала невралгическую боль, но использовала ее образом, схожим с тем, когда на станции Гогниц к поезду, поднимающемуся к Земмерингу, подцепляют дополнительный локомотив, чтобы тянуть состав в гору. Именно подобным образом обостряется боль, которую она называла «бушующей невралгией» зубов. Он внушил ей, что в следующий раз, когда она почувствует прилив боли к голове, она должна не обращать на нее внимания и считать неспособной вызвать острую боль в челюсти или зубах. Метод сработал. Невралгия Цецилии исчезла. Она спокойно пережила период, когда невралгия должна была вроде бы появиться. Ничего не случилось. Зигмунд спросил: – Йозеф, нет ли у нас основания сомневаться в том, что в течение пятнадцати лет у нее была невралгия? – Ты убежден, что это форма истерии? – Какое же другое объяснение ты можешь предложить? Я не могу вылечить болезнь соматической этиологии путем внушения. Да и никто не может. Йозеф бросил скептический, но в то же время одобряющий взгляд на своего молодого коллегу. – Не поздравляй себя с успехом слишком поспешно. Цецилия – женщина с фантазией. У нее полдюжины других болезней, которые ставили в тупик венских медиков с момента ее свадьбы. Теперь, по прошествии года, его вновь вызвали в дом Матиасов. Приехав, он застал Цецилию в состоянии нервного приступа, и на сей раз связанного с зубами. Он пришел к заключению, что не сможет устранить невралгическую истерию, пока не доберется до ее причин. Он ввел Цецилию в состояние сна. – Фрау Цецилия, я предлагаю вам вернуться к сцене, которая травмировала вас и вызвала вашу невралгию. Вы вспомните о ней, потому что она хранилась в вашем подсознании все эти годы. Цецилия невнятно мямлила, а затем стала плакать, катаясь по постели. Слова лились из нее потоком: вскоре после свадьбы ссора с ее мужем, затем во время беременности. Момент кризиса наступил, когда ее муж грубо обругал ее. Цецилия закрыла лицо руками и громко воскликнула: – Это была пощечина! – Да, – согласился Зигмунд, – это была пощечина, но лишь символическая. Вы трансформировали этот символ в физическую реальность. Поскольку в тот момент, возможно, у вас была легкая зубная боль, вы связали оскорбление с этой болью и развили ее в «агонию ярости», которая длилась днями. Зачем вам это нужно? Итак, вы могли бы сказать своей семье и врачам о боли, которую вызвали у вас оскорбительные замечания мужа? Разве вы не чувствовали, что в вашем сознании совершаете подмену, что ваше подсознание использует завязку? Цецилия пробудилась. Они вместе обсудили логику его заключений. Посмотрев удивленными глазами на своего врача, она прошептала: – Вы кудесник. Вы сняли струпья моей болезни и превратили их в золотую истину. Через несколько дней он пережил судьбу кудесников–алхимиков. Позолота сносилась, и Цецилия вновь заболела, на этот раз с приступами дрожи и неспособностью глотать пищу; по ночам ей мерещились ведьмы, и она не могла спать. Она пришла в приемную Зигмунда крайне подавленная и приветствовала его фразой: – Моя жизнь разлетелась в клочья. Неужели я ни на что не гожусь? За этим последовала взволнованная речь о том, какая она несчастная. Когда Зигмунд попытался выяснить причину ее отчаяния, она описала целый ряд печальных обстоятельств, которые сложились в семье за последние несколько дней. Однако при уточнении стало ясно, что ничего неприятного или огорчительного на самом деле не было. Проводя лечение и внимательно наблюдая, он открыл еще одно явление, присущее подсознанию: на ранних стадиях приступа оно посылает пробные сигналы, которые в случае с фрау Цецилией и вызывали чувство тревоги, страха, самоосуждения, заранее указывая, что жертве придется уплатить еще одну «задолженность памяти». Но к этому моменту Зигмунд догадался об истинном источнике заболевания Цецилии: суровая бабушка, желая упрочить богатство и общественное положение семьи, обручила ее с незнакомым человеком и принудила к браку по расчету. Муж никогда не любил Цецилию; ее ум и художественные способности отталкивали его. После рождения второго ребенка он прекратил половые сношения с ней. Цецилия вела целомудренную жизнь, тогда как интрижки ее мужа стали в Вене притчей во языцех. В своих рассуждениях Зигмунд вспомнил о фрау Пу–фендорф, муж которой был импотентом; о фрау Эмми фон Нейштадт, оставшейся без физической любви после смерти мужа. У этих женщин имелось одно общее: они годами жили без половых сношений в условиях, когда такие сношения были бы для них естественными и нормальными. Здесь скрывается общая истина, если только он сможет измерить ее и подтвердить лабораторными исследованиями. Однако сейчас надо было заниматься больной; Цецилия не могла принимать пищу из–за анорексии. Под гипнозом он разблокировал связь между сознательным и подсознательным. Тогда на свет Божий один за другим появились рассказы о грубых и обидных замечаниях мужа, от которых Цецилия не могла себя защитить. Она кричала: – Я должна буду проглотить это! Боже мой, я должна буду проглотить это. Зигмунд объяснял: – Когда ваше подсознание обращается к воспоминаниям, ваше горло истерически сжимается. Голос на задворках вашего рассудка как бы говорит: «Я отказываюсь глотать еще что–либо!» Разве вы не видите, фрау Цецилия, что здесь такая же символика, как и в случае с невралгией в ваших зубах? Цецилия пробудилась, внушение подействовало, и она начала нормально есть. Йозеф Брейер похвалил его действия, в том числе в семье Магиас. Затем у Цецилии произошло нечто вроде сердечного приступа. Зигмунда вызвали после полуночи. Он прослушал сердце: ритм был нормальным. Прошло некоторое время, прежде чем он смог найти первопричину, которая заключалась в том, что муж обвинил ее в обмане. Теперь Зигмунд был полностью убежден в том, что она являлась своего рода каталогом символизации; он расспрашивал до тех пор, пока она не рассказала ему, что, когда муж обвинял ее в плохом поведении, он бросил: – …Нанесла удар в сердце! – Фрау Цецилия, это расстройства психические, а не соматические. Вы можете устранить их, обращаясь к своей памяти и устанавливая точные даты событий, вызвавших травму. Цецилия старалась помочь себе, но изобретательность ее подсознания вызывала все новые приступы; при каждом вызывали Зигмунда, посылая либо служанку, либо встревоженного члена семьи. Очередной приступ был связан с сильной болью в правой ступне. – Когда я была в санатории много лет назад, врач сказал мне, что я должна пойти в столовую и встретить друзей–пациентов. В моей голове мелькнула мысль: «А что, если я не ступлю с правильной ноги, когда буду встречать незнакомцев?» Наиболее серьезной представлялась боль в виде кинжального удара в лоб, между глазами; этот приступ сделал Цецилию полуслепой. Потребовалось много времени, прежде чем Зигмунд сумел пробиться через частичную амнезию[10]; затем в его приемной в глубоком сне она призналась: – Однажды вечером, когда я уже легла в постель, моя бабушка посмотрела на меня так пристально, что ее взгляд пронзил мой лоб между глазами и проник в мой мозг. Когда позже они обсуждали это утверждение, он спросил: – Почему она посмотрела на вас таким пристальным взглядом? – Не знаю. Возможно, она подозревала что–то. – Когда это было? – Тридцать лет назад. – Не скажете ли вы, в чем вы считали себя виноватой, полагая, что ваша бабушка в чем–то вас подозревает? Цецилия молчала какое–то время, затем пробормотала: – Это не имеет больше значения. – Имеет, если через тридцать лет память о случившемся все еще вызывает острую боль между глазами. – Глупо с моей стороны, господин доктор, страдать из–за того, что случилось много лет назад? – Не глупо, а это результат беззащитности. Чувство вины укоренилось в вашем уме, и вы не можете освободиться от него по сей день. – Вы знаете природу моего греха в молодости, не так ли, доктор? – Да, я так думаю. – Не считаете ли вы, что об этом трудно говорить? – Нет, рукоблудие – довольно обычная вещь. В нем нет никакого зла. Это всего–навсего инстинктивный акт, который выходит за рамки нравственности. – Поскольку мое замужество было несчастьем, не могло ли быть, что я упрекала себя в том самом втором уме, о котором вы говорили, за эту неудачу на том основании, что мои ранние грехи оправдывают такое наказание? – Дорогая фрау Цецилия, я вижу теперь надежду на ваше излечение. И именно вы отыщете последнее звено в этиологии вашего невроза. Он работал всю ночь, прослеживая факт за фактом. Фрау Цецилия помогла ему открыть еще один скрытый проход к подсознательному: символизацию. Он стоял у окна, любуясь восходом летнего солнца, оранжевого, горячего, и протирал сонные глаза. Сколько еще зон и полос в этом спектре? Медленно, медленно он нащупывал почву. «Сколько лет еще пройдет, прежде чем я смогу составить карту и назвать себя картографом? К чему приведет эта окутанная туманом дорога, прежде чем я достигну ее конца?»5
На воскресенье, первое августа, они заказали фургон для перевозки мебели; в фургон были запряжены две ломовые лошади, а на козлах сидели два дородных грузчика, уложивших тарелки в бочки, стекло – в опилки, разобравших мебель на части. Затем они вынесли мебель во двор, потом на улицу Марии–Терезии и, наконец, уложили в длинный серый фургон. – В горле стоит комок, когда я вижу, как разбираются и выносятся вещи, которыми мы пользовались все пять лет нашего пребывания здесь, – воскликнула Марта, стоявшая в пустой спальной комнате. – Мы переместимся всего на несколько кварталов. Мы же сами нисколько не меняемся. – Теперь я понимаю, почему венцы не любят менять место жительства: переезд вроде отмирания чего–то, позади остаются годы. – Мы их не теряем, – сказал Зигмунд, нежно касаясь пальцами ее гладкой щеки. – Воспоминания завернуты в старые газеты, упрятаны в бочонки и будут надежно доставлены в новое помещение. Наиболее ценное завернуто в полотно из твоего приданого или уложено в мягкие чемоданы так же, как ты поступила с фарфором. Марта хотела задержаться в городе на пару дней, чтобы разобрать свои вещи, пригласить драпировщика подогнать гардины к новым окнам и расставить мебель в свежепокрашенных комнатах. Она настаивала, чтобы Зигмунд выехал первым утренним поездом, поскольку он целую неделю не видел детей. Остаток дня он отдыхал на вилле, а на следующее утро поднялся на самую высокую гору близлежащего хребта. Он пообедал в рекомендованном «приюте», его обслуживала грудастая, угрюмая восемнадцатилетняя девица, которую хозяйка звала Катариной. Позднее, после подъема на пик, когда он прилег на траве отдохнуть и полюбоваться видом трех долин, лежавших внизу, к нему подошла Катарина и сказала, что из книги посетителей она узнала, что он врач, и хотела бы поговорить с ним. У нее неважно с нервами: порой дыхание перехватывает так, что она боится задохнуться; в голове у нее шум, а в груди – тяжесть. Не мог бы доктор Фрейд помочь ей? «Доктор Фрейд предпочел бы наслаждаться пейзажем. Среди такого величия кто может иметь расстроенные нервы?» – подумал он. Но очевидно, эта мощная горянка страдала каким–то эмоциональным расстройством. Она жаждала рассказать все доктору. Ее неприятности начались два года назад; однажды, случайно выглянув в окно, она увидела молодую кузину Франциску в объятиях своего отца, и у нее перехватило дыхание и начались позывы к рвоте. Почувствовав себя нездоровой, она слегла на три дня. Зигмунд вспомнил дискуссию с Йозефом Брейером, когда они пришли к заключению, что симптоматология истерии схожа с пиктограммой: нездоровье означает отвращение. Он всматривался в широкое крестьянское лицо. Катарина выросла, не зная пуританской сдержанности, присущей венским женщинам. Почему тогда она так прямо связывает истерику с увиденным ею два года назад? Тем более что, как она рассказала, ее мать развелась с отцом, когда Франциска забеременела. Казалось весьма вероятным, что за этим случаем скрывалось более серьезное происшествие, имевшее место ранее. Он высказал такое предположение. Тогда Катарина выпалила правду: когда ей было четырнадцать лет, ее отец пришел домой пьяный, забрался к ней в кровать и пытался иметь с ней половое общение. Она почувствовала известную часть тела отца, упиравшуюся в нее, прежде чем выскочила из постели. С этого времени начались приступы. Но она не думала об этом! Зигмунд внушил ей, что теперь, когда она понимает первопричину, следует выбросить это из головы и вновь глубоко дышать. Да, она постарается; ей уже лучше… В этот вечер, уложив детей в постель, он уселся под керосиновой лампой и попытался увязать услышанное в этот день с другими случаями. Вновь и вновь он приходил к заключению, что «более ранний травматический момент может вызвать последующий, вспомогательный, из подсознания. Иными словами, излечение существующей травмы следует искать в первоначальной травме, которая, вероятно, имела место за много лет до этого». Зигмунд встал из–за письменного стола и вышел на террасу, с которой открывался вид на пробуждающиеся долины и на горы, растворившиеся в ночном тумане. Он вспомнил об охотниках, которых обогнал днем и которые с ружьями за плечами высматривали дичь. Он размышлял: «Подсознание не стреляет, как ружье; оно дает возможность свинцовому отравлению просачиваться в рассудок до тех пор, пока не накопится его достаточно, чтобы вызвать эмоциональные и нервные расстройства». Он был окончательно убежден в том, что «проявившееся сегодня имеет свою причину в прошлом». Переезд семьи на Берггассе оказался счастливым. Супруги Фрейд устроили несколько вечерних приемов, чтобы показать родственникам и друзьям свой новый дом. Матильде и Иозефу Брейер квартира понравилась своей просторностью. Родители и сестры Зигмунда были переполнены гордостью. Друзья по субботнему клубу нашли квартиру прекрасной для игры в карты. Коллеги по Институту Кассовица реагировали более формально, но и они пришли с цветами и сладостями, чтобы освятить новое пристанище. Эрнст Флейшль, ослабевший настолько, что с трудом поднялся по лестнице, пришел со слугой, который принес для приемной и кабинета Зигмунда прекрасно выполненную голову римского сенатора времен императора Августа. Зигмунд был глубоко тронут: он знал, как дорожил Флейшль этим мраморным бюстом. Зигмунд использовал часть просторного фойе в качестве приемной, комнаты ожидания; оба мальчика имели собственную спальню, а на долю четырехлетней Матильды достался небольшой кабинет. Новая девушка из Богемии сменила старую гувернантку: та решила, что ей пора удалиться на покой в один из приютов, содержавшихся правительством для безбрачной домашней прислуги. После переезда на новую квартиру Марта и Зигмунд написали фрау Бернейс, пригласив ее приехать, чтобы повидаться с внуками. Но она, видимо, пресытилась Веной и ответила, что Гамбург во всем ее устраивает. Благоприятно к их приглашению отнеслась Минна, которая сообщила, что частенько вспоминает Ринг, это «меню» из камня. Мнение Зигмунда о районе Берггассе оказалось разумным. В первый же октябрьский день та часть фойе, которую он приспособил под прихожую, наполнилась посетителями. Он понимал, что его практика процветает частично благодаря возврату Австрии к золотому стандарту и восстановлению благополучия, подорванного депрессией семидесятых годов. В добрые времена пациенты не только посещают своих врачей, но, как шутили члены медицинского факультета, «они в состоянии оплачивать счета, не заболевая при этом вновь». Зигмунд положил крупную сумму денег в банк, чтобы получать приличный доход за счет процентов. Марта, не имевшая отношения к семейным финансам и предпочитавшая в понедельник утром получать деньги на домашние расходы, заметила, когда Зигмунд показал ей банковскую книжку: – Как приятно, что наконец–то и с нами такое случилось. Подумать только, деньги делают деньги, вместо того чтобы ты их делал, корпя над своей медициной. Потребовалось всего три недели, чтобы осознать: Эрнст Флейшль принес ему прощальный подарок, а не подарок на новоселье. Зигмунда вызвали срочной запиской от доктора Оберштейнера во второй половине дня на квартиру Флейшля. Когда он прибыл туда, там уже были профессор Брюкке, Экснер, который вот–вот должен был стать руководителем Института психологии, и Йозеф Брейер. Зигмунд понял, что Флейшль умирает. Он прошел в библиотеку, где на кровати лежал его друг, и не смог найти нужных приветственных слов. Вместо этого он положил руку на покрывало, почувствовав плечо Флейшля, проступавшее жестким углом. Эрнст Флейшль фон Марксов был наименее печальным из всех присутствующих. – Итак, я в окружении лучших медицинских умов Вены. Что вы сделаете для меня? Возьмите меня за руку… за здоровую! Друзья, не горюйте обо мне. Я репетировал эту сцену десять лет. Я даже выучил наизусть строчки, с которыми должен уйти. Одна из них такая: будьте добры, возьмите с этих полок книги, которые представляют для вас особый интерес. Брюкке ответил с натянутой улыбкой: – Спасибо, дорогой коллега, но я не возьму, ибо мои слабеющие глаза не позволят мне читать, когда я буду переплывать Стикс. Но поскольку вы намечаете уйти раньше меня, то я попрошу вас оказать некоторые услуги. Купите мне шелковый берет, плед и самый большой зонт, который там окажется. Переход в следующий мир без большого зонта в качестве трости не доставит мне удовольствия. – Он будет вас ждать, профессор. Флейшль попросил Брейера, стоявшего около сигнального шнура, потянуть за него. Слуга Флейшля церемонно принес ужин: икру, несколько бутылок шампанского в ведре со льдом, деликатесы с Нашмаркта, их аромат наполнил комнату. Эрнст настаивал, чтобы каждый выпил и закусил. Слуга открыл бутылку и наполнил полдюжины бокалов, включая бокал хозяина. Ценой невероятных усилий Флейшль приподнялся, поднял свой бокал и сказал: – Выпьем! Да, я задумал мою собственную прощальную вечеринку. А почему бы и нет? Все дороги ведут на Центральное кладбище. Вечеринки устраиваются, когда мы рождаемся, когда нас крестят, когда обручаемся, женимся, рожаем детей, празднуем годовщины. Почему бы мне не устроить прием по случаю кончины? Я знаю, что никто из вас не поддался бы уговорам устроить для меня такой прием, как бы вы меня ни любили и ни заботились обо мне. Разве не доставляет удовольствия сознание того, что человек может взять с собой в иной мир то, что его глаза увидели в последний момент? Скряга, пересчитывающий свои деньги, забрал бы с собой богатство из сверкающих золотых монет; любитель женских ласк унес бы с собой вечный облик красивой женщины; поклонник «Фауста» Гёте наслаждался бы этим литературным пиршеством до судного дня; любитель прогулок в Венском лесу прихватил бы небольшой зеленый лесок. Я бы хотел взять с собой эту комнату, как она есть сейчас, дабы иметь привычное жилье в чистилище или там, куда попаду. – На небеса, – пробормотал Зигмунд почти неслышно. – У тебя был ад на земле. Флейшль услышал его: – Такое бывает со многими, дорогой Зиг, в их сознании, а не в теле. Ты должен был бы знать об этом от своих пациентов. Отсюда происходит выражение «ад на земле». Я терпел боль, на мою долю ее выпало больше, чем нормальному человеку, но я никогда не ощущал себя в аду в этой комнате с ее книгами и произведениями искусства. Он» являются лучшим противоядием, Зиг, даже лучшим, чем кока, привезенная из Перу. Оберштейнер, открой еще бутылку шампанского. Мне будет приятно проснуться завтра в Елисейских полях божественно здоровым и знать, что у вас болит голова от похмелья в мою честь. Я буду чувствовать, что меня вам не хватает. Оберштейнер расшатал пробку, которая ударила в потолок, и вновь наполнил бокалы. – Флейшль, – сказал он, – у тебя кладбищенский юмор; пью за это! Они пили и закусывали, пели с чувством ностальгии свои университетские песни и легкие романтические мелодии из венских оперетт. Затем, когда была осушена последняя бутылка, опустели подносы с деликатесами, Эрнст Флейшль положил голову на подушку, закрыл глаза. Йозеф Брейер подошел к нему, пощупал пульс: сердце уже не билось. Он начал натягивать простыню на голову Флейшля. Зигмунд сказал мягко: – А нужно ли это, Йозеф? Он красив даже в смерти. Эли Бернейс пригласил Зигмунда и Марту на ужин к восьми часам вечера, чтобы сообщить нечто важное. У Эли и Анны было уже трое детей, младший, Эдвард, родился всего несколько недель назад. Семья жила хорошо, это было сокровенным желанием Эли. Он отказался от правительственного поста с целью поставить на ноги свое бюро путешествий, но, несмотря на острое деловое чутье и неистощимую энергию, его дела не продвигались так быстро, как ему хотелось. В свои тридцать один год он все еще сохранял ладно скроенную властную фигуру – таким его знал Зигмунд еще десять лет назад. Он безупречно одевался, заказывая костюмы у одного из лучших портных города, носил черные ботинки, сделанные на заказ, и каждый носок по–прежнему тщательно прикалывал тремя английскими булавками к нижнему белью. – Зиг, Марта, я решил поехать в Америку. Я просто не могу растрачивать остаток своей жизни на прозябание в Австрийской империи. Здесь слишком мало возможностей для честолюбивого человека. С кем бы я ни встречался, что бы ни читал, все говорит о том, что Соединенные Штаты – это страна возможностей. Там человек может созидать и сам развиваться в стремительном темпе, а именно этого мне недостает. Зигмунд усмехнулся: – Удивлен, что тебе потребовалось так много времени, чтобы решиться. Чем мы можем помочь? Эли любовно обнял Анну. – Поскольку это может быть лишь зондирующей поездкой, я должен оставить Анну и детей. Анна согласна. Я уже купил билет на пароход. Полагаю, что буду в отъезде три–четыре месяца. Вы оба позаботитесь о моей семье? – Столько, сколько потребуется тебе находиться в отъезде, – уверила его Марта. – Анна, не хотела бы ты, чтобы к тебе переселилась одна из твоих сестер? – Да, думаю, что попрошу Розу. Она такая способная. – А как в отношении денег, Эли? – спросил Зигмунд. – У нас есть некоторые сбережения… – Спасибо, Зиг. Я продаю за приличную цену мою контору, но, возможно, потребуется некоторая помощь. – Хорошо, оставь свою семью на нас. Думай о том, как доставить сюда все то золото, которым там вымощены улицы.6
В начале января умер профессор Эрнст Брюкке, и весь медицинский и академический мир оплакивал это событие, но больше всех Зигмунд и Йозеф Брейер, для которых Брюкке был величайшим ученым и наставником. Они проговорили о Брюкке почти до полуночи, их воспоминания возвращались на двадцать лет назад, когда Йозеф приступил к работе с профессором в Институте физиологии. Йозеф заметил: – Зиг, это была наша особая литургия по профессору Эрнсту Брюкке. Справедливо, что как его ученики мы сохраним его для себя живым вместе с его идиосинкразией и его научным гением. – Это, конечно, не протестантская служба, но, я полагаю, ее можно считать духовной. Йозеф, если любовь есть то, о чем говорит религия, то тогда мы прочитали красноречивую молитву в честь нашего доброго и великого друга. Как сказал бы священник: «Покойся в мире». Рождение и смерть сменяли друг друга в ошеломляющем ритме. В апреле у Фрейдов родился третий сын, которому они дали имя Эрнст. Марта комментировала, сияя от счастья: – Теперь ты можешь считать себя главой многочисленного клана. Твое семя будет развеяно земными ветрами. – Дорогая Марта, не потеряй формулу, как делать девочек, ведь мои родители утеряли предписания по изготовлению мальчиков. Я уверен, что Матильда хотела бы иметь маленькую сестренку, чтобы играть с ней. Прошло всего несколько недель, и он узнал, что профессор Теодор Мейнерт находится на смертном одре, став в пятьдесят девять лет жертвой врожденной сердечной болезни. Ему очень хотелось посетить дом Мейнерта и выразить свое уважение, ибо, несмотря на ихпрофессиональные расхождения и публичные схватки, Зигмунд любил его и восхищался этим человеком, уступавшим только Брюкке. Вместе с Брюкке Мейнерт опекал его и боролся за него как студента и молодого врача. И тем не менее он полагал, что не должен быть навязчивым. В свой последний час профессор, очевидно, ни с кем не встречается. Каково же было удивление Зигмунда, когда он увидел в своем фойе слугу Мейнерта с запиской: не мог бы господин доктор Фрейд прийти в дом Мейнерта незамедлительно? Профессор Мейнерт желает видеть его. Когда Зигмунда провели в спальню, он обнаружил, что его старый учитель не похудел, а даже выглядел более полным, чем обычно, с его спадавшими на лоб темно–серыми космами. Если профессор и боялся смерти, то Зигмунд не заметил тем не менее каких–либо признаков этого. Мейнерт пригласил его знаками подойти поближе и сказал хриплым голосом: – Рад, что вы не принесли коробку гаванских сигар на сей раз, господин доктор; мне противна мысль, что я не смог бы их выкурить. – Вас не оставляет чувство юмора, господин советник. – Это – нет, а все остальное – да. – Он попытался приподняться в постели. – Вы, вероятно, удивлены, почему я позвал вас в свой смертный час? – Вы всегда были мастером сюрпризов, господин профессор, особенно в вашей работе. – Нет. В жизни. Половина моих шагов были для меня неожиданными. Сказать почему? – Думаю, что вы хотите услышать, господин советник. – Проницательно с вашей стороны. Пожалуйста, подложите подушки под мою спину. Спасибо. Уже пять или шесть лет вы осаждаете меня глупостями Шарко относительно мужской истерии. Вы все еще верите в этот абсурд? Говорите только правду, непорядочно врать умирающему. – Со всей честностью и вопреки вашим большим усилиям я не изменил своего мнения. – Тогда я также буду откровенным. – Легкая улыбка пробежала по лицу Мейнерта. – Дорогой коллега, такая вещь, как мужская истерия, существует. Знаете, почему я это знаю? – Нет, – скромно ответил Зигмунд. – Потому что я сам представляю явный случай мужской истерии. Именно это подтолкнуло меня нюхать хлороформ, когда я был молодым, и привязало к алкоголю, когда я постарел. Как вы думаете, почему я так отчаянно боролся против вас эти годы? – …Вы были… привержены анатомической основе… – Чепуха! Вам не следовало бы обманываться. Я высмеивал ваши теории, чтобы не быть разоблаченным. – Зачем вы говорите мне это сейчас, господин советник? – Потому что это уже не имеет значения. Мое дело кончилось. Я чувствую, что могу еще чему–то научить вас. Зигмунд, противник, который борется против вас наиболее яростно, больше всех убежден в вашей правоте. Я был не последним из числа тех, кто пытался втянуть вас в борьбу, развенчать ваши убеждения. Вы слишком авантюристичны, чтобы не вести борьбу всю жизнь. Вы один из моих лучших студентов. Вы заслужили правду. За тринадцать лет работы с Мейнертом, считая с первого курса клинической психиатрии зимой 1878 года, профессор впервые назвал его по имени. Зигмунд был так поражен, так тронут, что едва расслышал последнюю фразу. Он чувствовал, что это прощальный подарок, такой же, как мраморный римлянин Флейшля. Мейнерт прошептал: – До свиданья! – До свиданья, господин советник. Зигмунд отвернулся со слезами на глазах. Марта и Зигмунд сняли ту же славную виллу в Рейхе–нау на лето, и самым приятным моментом был двухнедельный отдых в августе, проведенный ими в «зеленой провинции» – в Штирии, в Южной Австрии, сначала в Хальштадте, а затем вторую неделю в Бад–Аусзее, Их совместная жизнь продолжалась уже шесть лет: у них было четыре здоровых ребенка и постоянный дом; Зигмунд обеспечил себе надежную частную практику, гарантировавшую основной доход семьи. В гостиницах Хальштадта и Бад–Аусзее они сняли комнаты с удобными балконами, с которых открывался вид на утопавшие в зелени богатые долины. Они поднимались в горы, плавали в холодных голубых водах Бад–Аусзее, пили белое штирийское вино, смаковали жаркое из косули, куропатки и местную ветчину. К вечеру они усаживались у порога гостиницы, наслаждаясь красочным заходом солнца, и читали до наступления сумерек. В спокойной красе Штирийских Альп отступили годы, отошли на второй план заботы о детях, доме, пациентах. Они расслабились, рано ложились спать, а до сна отдавали дань любви под почти невесомыми и в то же время удивительно теплыми покрывалами; пробуждаясь, радовались жизни и своему пусть скромному месту под солнцем. Выдающимся светским событием года явилась свадьба Вильгельма Флиса. Вильгельм еще раньше признался Зигмунду: – Я хочу жениться на венке, поэтому я так часто наезжаю сюда. То, что ему нужно, он нашел в лице фрейлейн Иды Бонди, двадцатитрехлетней приветливой девушки, не блиставшей красотой, но приятной. Наследница состоятель–нейшего коммерсанта Филипа Бонди, принадлежавшего к одной из наиболее известных фамилий Вены, Ида сохраняла свою естественную прелесть, не испорченную налетом высокомерия. Семейство Бонди принадлежало к кругу пациентов Иозефа Брейера; Зигмунд и Марта не раз сопровождали чету Брейер на приемы в просторные апартаменты Бонди на Иоханнесгассе. – Ты знаешь, я одобряю брак, но не люблю свадебные церемонии, – сказал Марте Зигмунд. – Но мы просто обязаны присутствовать на церемонии бракосочетания Вильгельма и Иды. Марта поехала с ним в понедельник в Вену к портнихе, которая сказала, что ей потребуется три недели на шитье муарового платья. Размечтавшись, Марта говорила: – По плечам пройдет шифоновый рюш, воротник будет стоячим, а спереди, с плеч к талии, будет вшит дымчатый шифон. К платью нужен узкий ремешок… – Ну, ну, Марта, это же свадьба Иды. Церемония состоялась в начале сентября в Медлинге, в летнем домике Бонди, расположенном в саду с высокими тенистыми деревьями. Зигмунду не стоило опасаться, что его прекрасно выглядевшая жена затмит Иду, которая блистала в облегающем платье из белого сатина, украшенном кружевами и широким белым треном. После дневной церемонии для приглашенных был дан свадебный обед; рекой лилось вино, и звучало множество тостов. Затем гости вернулись в сад, где была устроена танцевальная площадка. До заката солнца звучали вальсы в исполнении оркестра. Зигмунду и Марте удавалось танцевать не более двух раз в году. Обильные возлияния разогрели всех, и пары кружились в вальсе с большим самозабвением, чем обычно. Вильгельм отвел Зигмунда в сторону: – Зиг, моя женитьба ничего не изменит в отношениях между нами. Ты мне всегда крайне нужен. Твой анализ и критика моих мыслей помогают мне выводить моих гадких утят и превращать их в лебедей… Я говорю слишком напыщенно? Зигмунд засмеялся: – Мы все под хмельком. А почему бы и не быть такими на такой чудесной свадьбе? Вильгельм, и ты мне нужен. Мы должны продолжать обмен письмами несколько раз в неделю о том, что думаем, посылать друг другу черновики наших статей… для замечаний… – Нам следует также встречаться пару раз в году на конгрессах, в тех городах, которые ты назовешь: в Вене, Берлине, Зальцбурге, Дрездене, Мюнхене… Зигмунд похлопал Вильгельма по плечу. – У нас в Вене говорят: «Полезный нож должен быть обоюдоострым»… Пусть будет хороший медовый месяц. Когда ты вернешься в Берлин, тебя будут ждать несколько писем. Семья Фрейд вернулась в город в конце сентября. Стояла теплая, приятная погода. Марта сидела около Зигмунда, когда он заканчивал свою работу. – Я прочитаю книгу Артура Шницлера, которую ты принес на прошлой неделе. Эта книга «Анатоль» на самом деле интересная, как ты сказал? – Да, эта книга новая по характеру. Ты знаешь, что Шницлер – врач. Он поступил в университет позже меня и также работал в психиатрической клинике Мейнер–та. Он говорит более честно и реалистически о сексуальной природе человека, чем кто–либо из пишущих в настоящее время. Комната освещалась двумя настольными лампами. Если у кого–то возникал вопрос, они перебрасывались парой фраз, но большой надобности в разговоре не было. В одиннадцать часов Марта принесла кувшин с холодным малиновым соком и газированную воду, и они приготовились ко сну. Зигмунд заснул мгновенно, но, не проспав и несколько секунд, был почти что выброшен из кровати взрывом, за которым последовала ослепительная вспышка света за окнами. Марта кричала: – Возьми мальчиков! Я позабочусь о Матильде. Оказавшись около окна, Зигмунд заметил, что часовщик выскочил из окна своей квартиры во двор. Зигмунд накинул просторный белый халат и поспешил в спальню к мальчикам. Увидев его, Мартин закричал: «Бедуин, живой бедуин!» – и нырнул под одеяло. Появилась горничная с ребенком. Вспышка исчезла, за окном было темно. – Сомневаюсь, что это пожар, – сказал Зигмунд. – Пойду поищу смотрителя. Он вернулся через несколько минут и успокоил семью: взорвался газ в квартире часовщика. Зигмунд сел на кровать мальчика и спросил: – Ну, Мартин, каким образом я превратился в бедуина? – Твое широкое белое одеяние, папа, такое же, как у бедуинов в книжке с рисунками, которую ты мне принес. Папа, ты странно выглядел: твои волосы стояли дыбом. На следующее утро часовщик уехал из дома, бормоча, что это обращенное к нему предзнаменование. В полдень смотритель стоял перед дверью Фрейда: – Господин доктор, квартира ваша, если вы все еще желаете снять ее. Нам потребуется несколько дней, чтобы покрасить закопченные газом стены… К концу недели газовое оборудование привели в порядок, помещения покрасили белой краской. По просьбе Зигмунда фойе разделили стеклянной перегородкой, и таким образом появилась вместительная комната ожидания, куда он поставил стулья, софу и стойку для зонтов из своих прежних прихожих. В кабинете, окно которого выходило во внутренний дворик, Зигмунд разместил свой рабочий стол, книжные полки, черную кушетку, купленную для своего первого холостяцкого жилья, стеклянный шкаф для медицинского оборудования, а на стенах развесил портреты великих врачей, преподававших в Венском университете: Шкоды, Талля, Земмельвейса, Брюкке. Он избавился от своей машины электрического массажа. Получился строгий профессиональный кабинет, который, как он надеялся, должен внушать доверие пациентам. Подобная строгость не требовалась для его личного рабочего кабинета – угловой комнаты, куда вела раздвижная дверь. На стене над своим письменным столом он повесил репродукцию флорентийца Джотто, а на противоположной стороне разместил вертикальными рядами черепки, медальоны, пластины с надписями, найденные при археологических раскопках на Ближнем Востоке и подаренные ему Флейшлем и Йозефом Брейером на рождественские праздники или по случаю дня рождения, к ним он добавил небольшие предметы, обнаруженные им самим в лавке древностей старого города. Это был его личный мир, в котором он мог уединиться, когда кончалась работа и не было пациентов, где он мог читать, заниматься исследованиями, писать заметки и статьи, вести переписку (наиболее интересная для него – с Вильгельмом Флисом из Берлина), раскладывать книги, с которыми он продолжал работать над проблемами афазии, психологии, мозга. В приемной он был врачом, занимающимся различными неврологическими заболеваниями, в своем рабочем кабинете – ученым, исследователем, философом, прокладывающим путь через лабиринт открытого им ничейного мира сознания. Небольшой кабинет стал еще теснее, когда стены обросли книжными полками. Однако ему нравилось чувство компактности, изоляции от внешнего мира. Длетавшие до него звуки действовали успокаивающе – садовник косил траву или сгребал опавшие листья. Такими перестановками он нарушил венские традиции: приемные кабинеты тамошних врачей располагались в собственных квартирах. Тем не менее он обнаружил, что его пациентам пришлось по вкусу чувство уединенности: входить без звонка через незапертую дверь, сидеть в прихожей, где нет горничной. Кроме того, около фойе находилась туалетная комната, которой они могли пользоваться, не ставя в известность других и не нарушая покой семьи; многие его пациенты по достоинству оценили это. Марта расписала день так, что горничная спускалась вниз, когда семья завтракала, и до прихода первого пациента убирала маленькую кухню, в которой Зигмунд кипятил свои инструменты, и другие помещения. За день до открытия кабинета Марта приобрела мраморную копию «Умирающего раба» Микеланджело, который так понравился Зигмунду при посещении Лувра. Статую доставили, когда он находился в Институте Кассовица. Для него явилось полной неожиданностью по возвращении увидеть в своем рабочем кабинете Марту и мраморное изваяние, поставленное так, как если бы оно находилось здесь всегда. И он прослезился. – Любимая, Марта, как ты догадалась? – Он нежно провел рукой по скульптуре. – Посмотри, как молод этот человек, как гармонично его тело, как безупречно вылеплено его греческое лицо с наполненными болью глазами и губами. Его мученическое лицо символизирует для меня агонию всего порабощенного человечества, раздавленного невидимым врагом и безжалостной судьбой. Оно должно быть спасено! Человечество – слишком удивительное создание, чтобы утерять его. Каким образом освободить умирающего раба от пут, восстановить его крепкое здоровье? Решению этого вопроса я хочу посвятить всю свою жизнь.7
Знакомый врач поинтересовался у Зигмунда, не займется ли он делом фрейлейн Элизабет фон Рейхардт, которую он безуспешно лечит в течение двух лет от возникающей время от времени боли в ногах, порой лишающей ее возможности двигаться. Этот врач пришел к запоздалому заключению, что фрейлейн Элизабет страдает истерией. Может быть, Зигмунд поможет? Двадцатичетырехлетняя Элизабет фон Рейхардт, брюнетка с темными глазами, не слыла красавицей: рот и подбородок не сочетались с непропорционально широким лицом. Она казалась эмоционально нормальной и воспринимала свои беды со стоической бодростью. Обследование установило, что истериогенная зона находится на внешней поверхности правого бедра. Это стало ясно, когда Фрейд надавил на мускулы ее ног, а Элизабет вскрикнула скорее от удовольствия, чем от боли. Он обнаружил единственное соматическое нарушение – наличие твердых волокон в мускулах. Он размышлял: «Не мог ли невроз оказаться связанным с этой зоной нарушения, как невроз фрау Цецилии брал начало в легкой невралгии ее челюсти и зубов?» На протяжении месяца он встречался с пациенткой дважды в неделю для «притворного лечения», как он писал своим коллегам, сводившегося главным образом к массажу. Одновременно семейный врач неспешно раскрывал Элизабет новую терапию, разработанную доктором Фрейдом и заключавшуюся в выяснении посредством беседы причины ее заболевания. Когда Элизабет была подготовлена к лечению внушением, Зигмунд прекратил массаж. – Фрейлейн Элизабет, я не собираюсь гипнотизировать вас. Полагаю, что мы можем многое сделать без гипноза. Однако я должен зарезервировать право прибегнуть к нему позднее, если появятся показания, против которых бессильна ваша бодрствующая память. Согласны? – Согласна, господин доктор. – Процедура состоит в том, чтобы слой за слоем снимать патогенный материал. Мы можем сравнить ее с техникой откапывания погребенного города. Расскажите мне обо всем, что вы помните о вашем заболевании. Элизабет вспоминала свободно. Младшая из трех дочерей процветающего венгерского землевладельца, она стала из–за болезни матери компаньонкой и доверенным лицом отца. Отец гордился тем, что Элизабет заняла место сына; родственники решили, что Элизабет может выйти замуж только за исключительно талантливого человека. Отец счел, что в культурной Вене его дочери получат наилучшие возможности для образования, и перевез сюда семью. Элизабет вела полноценную, интересную жизнь, до тех пор пока ее отец не перенес тяжелый сердечный приступ. Она стала сиделкой, спала в его комнате. Через полтора года отец умер. У матери удалили катаракту. Вновь Элизабет превратилась в няньку. Луч счастья промелькнул, когда ее сестра вышла замуж за исключительно доброго и внимательного человека. Но семейное счастье длилось недолго: сестра скончалась при родах; муж с разбитым сердцем вернулся в свою семью, забрав ребенка. История, понятно, печальная. Элизабет признавала, что чувствует себя одинокой, подавленной жестокой судьбой, жаждущей любви. Но почему все это привело к истерии, выразившейся в неспособности ходить? В мрачном рассказе Элизабет не проглядывали следы подсознательного. Зигмунд решил прибегнуть к гипнозу, но, как ни старался, не мог ввести Элизабет в состояние сна. Вместо этого она ухмылялась, довольная, как бы говоря: «Я не сплю, вы видите. Меня не загипнотизировать». Это не развлекало Зигмунда. Он устал повторять: «Вы засыпаете… спите!», а в ответ слышал: «Но, доктор, я не сплю». Однако было необходимо, чтобы у пациентки открылся доступ к воспоминаниям и она «могла распознать связи, которые кажутся несуществующими при нормальном состоянии сознания». Он искал определяющие факторы, ему нужны были патологические причины, отсутствующие в нормальной памяти пациентки. Он вспомнил образ профессора Бернгейма, использовавшего нажим руки на надбровья пациентов. Он наложил собственную руку на лоб Элизабет и сказал: – Хочу, чтобы вы сказали мне обо всем, что проходит перед вашим внутренним зрением или в вашей памяти во время этого нажима. Элизабет молчала. Доктор Фрейд настаивал, что она видит образы и вспоминает разговоры, после того как он наложил свои пальцы на ее лоб. Она сделала долгий, шумный выдох, расслабилась в кресле, затем прошептала: – …Да, я думала о замечательном вечере… Молодой мужчина, нравившийся мне, провожал меня с вечеринки… Наша беседа была очень приятной для меня, как беседа между равными, довольными друг другом… Вслед за Элизабет Зигмунд облегченно вздохнул. Он подумал: «Пробка выскочила». Когда Элизабет вернулась домой с вечеринки, куда она пошла по настоянию семьи, то обнаружила, что отцу стало хуже. Вскоре он умер. Элизабет не могла простить себе случившегося. Она больше не встречалась с молодым человеком… Плотина разрушилась. Зигмунд заметил, что боль в левой ноге пациентки усилилась, когда она говорила об умершей сестре и свояке. С помощью настойчивого зондирования он вызвал в памяти сцену, и Элизабет описала долгую прогулку со свояком в горы в то время, когда ее сестра неважно себя чувствовала. Вернувшись с прогулки, Элизабет почувствовала острую боль в ногах. Семья приписала эти боли затяжной ходьбе и теплой минеральной ванне, после которой она простудилась… Доктор Фрейд придерживался иного мнения. С помощью нажима на лоб он вывел ее на последующие воспоминания: подъем в горы в одиночестве к тому месту, где она часто сидела на каменной скамье со свояком, любуясь пейзажем. Вернувшись в гостиницу, Элизабет обнаружила, что ее левая нога вдруг оказалась полупарализованной. – О чем вы думали, когда вернулись, Элизабет? – Что я одинока. Мне так хотелось, подобно моей сестре, блаженства, любви и счастья. Зигмунд полагал, что нащупал правильный путь, но он имел дело с непредсказуемой пациенткой. Временами материал выпадал из хронологической последовательности, «словно она листала толстую книгу с рисунками». В другие дни она становилась непослушной, ее сознательный ум твердо удерживал контроль, не желая или не умея извлечь запрятанное в памяти. Он боролся с таким подавлением и сокрытием. – Что–то должно было с вами случиться! Возможно, вы недостаточно внимательны? Может быть, вы думаете, что приходящая к вам мысль неправильная? Не вам это решать. Вы должны сказать все, что вам приходит в голову, независимо от того, считаете ли вы это подходящим или нет! Порой проходили дни, прежде чем Элизабет уступала подсознанию и раскрывалась правда: она считала себя достаточно сильной, чтобы жить без любви, без мужчины, но она начала осознавать свою слабость одинокой женщины. Ее инертная натура начала плавиться, когда она увидела, какой чудесной заботой свояк окружил ее сестру; он был, подобно ее отцу, мужчиной, с которым можно обсуждать самое интимное… Основная причина стала ясной, но требовался внешний стимул, чтобы получить подтверждение догадки Зигмунда. Однажды она, почувствовав себя слишком больной, не пришла на прием, и Зигмунд проводил процедуру у нее дома. Услышав мужские шаги и приятный голос в соседней комнате, Элизабет вскочила и воскликнула: – Прервемся. Это мой свояк. Я слышу, он спрашивает обо мне. Зигмунд распределил изложение обнаруженного им на несколько консультаций. – Вы стараетесь оградить себя от вызывающего страдание убеждения, что любите мужа сестры, навязывая себе взамен физические мучения. В тот момент, когда это убеждение возвращается к вам, возникают боли вследствие успешного перевоплощения. Если вы сумеете противостоять истине, тогда ваша болезнь будет поставлена под контроль. Элизабет буйствовала. Она плакала, отрицала, осуждала. – Это неправда! Вы заговорили меня. Это не может быть правдой. Я не способна на такую безнравственность. Я никогда не прощу себе. – Дорогая фрейлейн Элизабет, мы не отвечаем за свои чувства. Тот факт, что вы заболели при таких обстоятельствах, говорит достаточно ясно о вашем высоконравственном характере. Элизабет оставалась безутешной несколько недель. Затем вся правда медленно вышла наружу. Дело было в браке по расчету. Когда будущий свояк пришел в дом фон Рейхардта, он спутал Элизабет с девушкой, на которой ему предстояло жениться. Позже, в один из вечеров, сестры имели бурный разговор, и младшая сестра сказала: «Правда в том, что вы прекрасно подходите друг другу». А затем последовало самое болезненное признание: когда Элизабет стояла у ложа умершей сестры, у нее невольно возникла мысль: «Теперь он свободен, и я могу стать его женой!» Зигмунд научил Элизабет признать истину о ее любви и умению жить с этой любовью, примириться с фактом, что она никогда не выйдет замуж за свояка. Было это нелегко, случались рецидивы, но однажды вечером он и Марта оказались на балу, где присутствовала Элизабет. Он наблюдал, как она танцует вальс, возбужденная, целиком находясь во власти музыки. Затем ему стало известно, что она счастливо вышла замуж. Было много причин считать себя удовлетворенным: он вылечил болезнь, длившуюся свыше двух лет, – болезнь, которую не смогли вылечить другие врачи. Он вновь продемонстрировал точно таким же образом, как демонстрировал срез мозга в лаборатории Мейнерта, что если отсутствует различимое или серьезное нарушение в анатомии организма, то нездоровье может быть вызвано невольным подавлением в подсознании мыслей, отторгаемых обычным сознанием. Он записал в своей тетради: «Основой для самого подавления может быть лишь чувство неудовольствия, несовместимости идеи, которая должна быть подавлена, и господствующей массы идей, образующих «я». Однако подавленная идея берет реванш, становясь патогенной». Это означает, что мысленный материал, однажды извлеченный из подсознательного и поставленный под ослепительный свет сознательного, может быть ослаблен так же эффективно, как любой другой вирус или инфекция, попавшие в тело или кровь. В равной мере представлялся важным другой шаг вперед. Он часто признавался Марте: – Я не так хорош в гипнозе. У Льебо и Бернгейма природный дар к гипнозу. Я же навязываю гипноз своим пациентам и себе. Он не чувствовал себя бессильным из–за того, что не принадлежал к мастерам гипноза. Он мог направлять отныне людей к глубинам их памяти столь же эффективно, как достигали этого посредством введения пациентов в состояние полусна. Легкий нажим, который он применил к Элизабет фон Рейхардт, длился всего несколько секунд. Как только он побудил ее сосредоточиться, уже не требовалось никакого особого средства. Если «работа по расширению ограниченного сознания требовала усилий», то сокрытие воспоминаний зачастую осуществляется преднамеренно, к нему стремятся. Он должен вновь испробовать свой метод, он должен описать его. Зигмунд дрожал от возбуждения.8
Эли Бернейс, совершив две разведывательные поездки в Нью–Йорк, готов был обрубить свои связи с Веной; американцы не бросаются новыми идеями, как левые и радикалы. Улицы не вымощены там золотом, но в воздухе оно носится! «С твоими способностями, Зиг, ты через год имел бы собственный госпиталь, такой же, как венская Городская больница». Он попросил еще об одном одолжении. Он забирает с собой Анну и новорожденного, но, до того как обоснуется там, был бы признателен, если бы Марта и Зигмунд взяли к себе шестилетнюю Люси, а Амалия и Якоб позаботились о восьмилетней Юдифи. Может быть, на полгода… если, конечно, это не покажется навязчивым… Марта заверила его, что и мысли об этом быть не может. Зигмунд разделил своих пациентов на две категории. Неврологические больные могли приходить в любое время в часы приема и подвергаться осмотру в порядке очереди. Пациенты с неврозами пользовались правом на специальное назначение, которое, он старался соблюдать с точностью до минуты. Предыдущий пациент уходил с достаточным запасом времени, чтобы не встречаться с последующим. Материал, подкрепивший метод, использованный им в случае с Элизабет фон Рейхардт, не заставил себя ждать. Один знакомый врач обратился к Зигмунду с просьбой заняться тридцатилетней гувернанткой–англичанкой, которая лечилась у него два года от воспаления слизистой оболочки носа. Появились новые симптомы: мисс Люси Рейнолдс либо теряла способность ощущать запах, либо ее преследовали галлюцинации запахов, вследствие чего она теряла аппетит, чувствовала тяжесть в голове, сопровождавшуюся усталостью и подавленным настроением. – Зиг, ни одно из этих нарушений не является следствием воспаления слизистой оболочки. Видимо, есть иные причины, досаждающие мисс Рейнолдс. Не попробуете ли вы ваш метод для установления причины? Я не могу ничем помочь ей. Люси Рейнолдс, высокая, бледнолицая, деликатная женщина, была совершенно здоровой до возникновения нынешних неприятностей. Сидя напротив него, она рассказала о своей работе гувернанткой в комфортабельном доме директора фабрики на окраине Вены. Его жена умерла несколько лет назад, и Люси, состоявшая в отдаленном родстве с женой, обещала ей, что переедет в их дом и возьмет на себя заботу о двух дочках. Отец не женился вторично, и, пока Люси была здоровой, она сделала дом счастливым для девочек… Зигмунд оттолкнулся от гипотезы, что галлюцинации запахов являются истерическими по происхождению. – Мисс Рейнолдс, какой запах беспокоит вас больше всего? – Запах подгоревшего пудинга. В ее бледно–голубых глазах показались слезы. Зигмунд молчал, размышляя про себя: «Я предполагаю, что запах подгоревшего пудинга сопровождал событие, которое действует ныне как травма. Пациентка страдала гнойным воспалением носоглотки, и поэтому ее внимание сосредоточивалось на обонянии. Запах подгоревшего пудинга должен быть отправной точкой анализа». Он предложил Люси лечь на черную кушетку, закрыть глаза и не двигаться. Наложив свою руку на ее лоб, он внушил ей, что нажим даст ей возможность сосредоточиться, увидеть, услышать и припомнить эпизоды из ее прошлого, о которых она сможет затем рассказать. – Мисс Рейнолдс, вы можете вспомнить, когда впервые почувствовали запах подгоревшего пудинга? – Да, это было два месяца назад, за два дня до даты моего рождения. Я была с девочками в классной комнате, обучая их приготовлению пищи. Почтальон принес письмо от моей матери из Глазго. Дети выхватили письмо из моих рук с криком: «Пожалуйста, отложи чтение до дня рождения». Пока я пыталась отобрать у них письмо, пудинг подгорел и комната наполнилась сильным запахом. Я чувствую его теперь день и ночь, и он усиливается, когда я возбуждена. Зигмунд подвинул стул и сел около нее. – Какое эмоциональное содержание делает эту сцену столь незабываемой для вас? – Я готовилась к возвращению в Глазго; мысль о том, что оставлю детей… – Не болела ли ваша мать? Нуждалась ли она в вас? – Нет… Я просто не могла оставаться дольше в этом доме. Прислуга обвиняла меня в том, что я считаю себя лучше их, и передавала худые слухи деду девочек. Ни он, ни отец детей не поддерживали меня, когда я жаловалась. Я сказала отцу, что должна уехать. Он просил меня подумать пару недель. Пудинг подгорел в период этой неопределенности… Я обещала умирающей матери девочек, что никогда не брошу их… Зигмунду показалось, что он увидел крошечное пятнышко света в конце туннеля, но Люси предстояло пройти долгий путь, цель могла быть найдена, если бы удалось обнаружить нечто достойное, оправдывающее желание остаться с девочками. Перерывы между сеансами были длительными, и Зигмунду почти каждый раз приходилось начинать сначала. Люси прибегала к ссылкам на подгоревший пудинг как на осязаемый символ, поскольку у нее было неблагополучно с носом. Это подтверждало его теорию, что истерия находит свою ахиллесову пяту. После полдюжины сеансов он пришел к убеждению, что Люси умалчивает о каком–то моменте, касающемся ее. Он решил действовать напрямик. – Люси Рейнолдс, я думаю, что вы влюбились в вашего хозяина и верили в то, что займете место матери в доме и станете женой директора. Воображаемые вами нападки прислуги родились из ваших опасений, будто они знают о ваших замыслах и высмеивают вас. Люси ответила деловито: – Наверное, это так. – Почему в таком случае вы мне этого не сказали? – Я не была уверена… Не хотела знать… лучше выбросить это из головы, стать разумной… Запах подгоревшего пудинга исчез, но тут же появился навязчивый запах сигарного дыма. Она не знала почему, ибо ранее она его не ощущала, хотя в доме постоянно курили. Зигмунд пришел к выводу, что ему надлежит проделать вторую половину анализа. Он предложил Люси лечь на черную кушетку, но на сей раз с открытыми глазами. Она пересказала ему первую картину, которая прошла перед ее глазами под давлением его руки: столовая в полдень, когда отец и дед возвращались с фабрики. Зигмунд настаивал, чтобы она продолжала всматриваться в картину. Тогда Люси увидела главного бухгалтера фабрики, любившего детей. После наводящих вопросов она вспомнила наконец сцену, имевшую отношение к делу: старый бухгалтер пытался, уходя, поцеловать девочек. Отец закричал: «Не делайте этого!» – Я почувствовала укол в сердце. Поскольку мужчины курили сигары, этот запах ударил мне в нос. – Что случилось раньше – то, что вы рассказываете, или подгоревший пудинг? – О чем я говорю, было на два месяца раньше. «Если это так, – думал Зигмунд, – тогда воспоминание о подгоревшем пудинге являлось подменой. Мы еще не дошли до сути». Он сказал Люси: – Вернемся к более ранней сцене; она лежит глубже, чем сцена с бухгалтером. Вы можете ее вспомнить, никто не забывает сцены, запечатленной в сознании. – …Да… за несколько месяцев до этого… пришла с визитом знакомая моего хозяина. Когда она уходила, она поцеловала девочек в губы. Отец обрушился на меня: я не выполнила свои обязанности! Если такое повторится, меня уволят. Это было в то время, когда я думала, что он любит меня, ведь он с такой добротой и доверием говорил мне о воспитании девочек. …Этот случай разрушил все мои надежды. Я поняла, что, если он может так угрожать в связи с тем, что мне не подконтрольно, он меня не любит. Запах сигарного дыма плавал в комнате… Когда она явилась двумя днями позже, то была в радостном настроении. Зигмунд подумал на миг, что хозяин предложил ей вступить в брак. Он спросил Люси, что произошло. – Господин доктор, вы видели меня обескураженной и больной. Когда вчера утром я проснулась, то почувствовала, будто тяжесть свалилась с плеч. У меня появилось прекрасное настроение. – Что вы думаете о возможности брака с хозяином? – Ее нет. Но это не расстраивает меня. – Продолжаете ли вы любить девочек? – Разумеется. Но какое это имеет отношение? Я свободна в мыслях и чувствах. Зигмунд обследовал нос Люси. Отечность спала. Чувствительность оставалась несколько повышенной; простуда может еще проявить себя и причинить неприятности, но подсознание уже не может! Разрешение проблемы заняло девять недель. Зигмунд считал результаты сеансов медленными, требующими повторое, неблагодарными. Однако перед ним сидела мисс Рейнолдс, уверенно улыбавшаяся, с чувством благодарности в глазах. Превосходное настроение сохранялось у нее и в последующие месяцы. Он понял, что может обойтись без гипноза… через пять лет после того, как загипнотизировал своего первого пациента. Он надеялся, что вскоре освободится и от необходимости прибегать к нажиму рукой. Его опыт и знания справятся с неизвестным. Каждый пациент, каждый новый случай позволит ему пролить дополнительный свет на незримые тайники разума. Он перенесся мысленно в то раннее утро в понедельник после объяснения с Мартой, когда он вошел в кабинет профессора Брюкке в Институте физиологии, ощутил смесь запахов спирта и формальдегида, увидел за столом своего уважаемого учителя в берете, устремившего внимательный взгляд на своего молодого сотрудника. Он просил о постоянном месте ассистента на медицинском факультете университета, а профессор Брюкке отклонил его просьбу и посоветовал вернуться на работу в больницу, добиться доцентуры и заняться частной практикой. Ему казалось тогда, что настал конец всем его надеждам, но это было, как предвидел профессор Брюкке, только начало. И вот через десять лет перед ним, как он полагал, самое большое медицинское открытие его века. Ему не терпелось опубликовать, представить миру новую терапию, найденную им и столь чудесно помогающую людям с глубокими умственными и эмоциональными расстройствами, спасающую их от болезней и даже, возможно, от изоляции и смерти. Осмелится ли он на такую публикацию? Следует ли рассказать о своих открытиях и теориях всему медицинскому миру? Он понимал, что в одиночку ему это было не под силу, ведь он не обладал положением и весом в венских медицинских кругах, которые обеспечили бы принятие столь революционной концепции. В городе имелся десяток врачей, посылавших к нему пациентов; все они знали, что он временами добивался положительных результатов. Вместе с тем он не был признан медицинским факультетом или научными институтами университета, и ему не предлагали вступить в их ряды. Несмотря на то, что открытие им свойств кокаина позволило хирургам проводить почти немыслимые ранее операции на глазах и он предвосхитил работы Вагнер–Яурега по анестезии кожного покрова, на него все еще нападали за то, что, защищая кокаин в качестве медицинского средства, он не учитывал его способность вызывать наркоманию; где–то в глубине души он понимал, что такое обвинение отчасти справедливо. Подобные же обвинения – в поспешности, легковесности, безответственности – выдвигались против него в отношении применения гипноза. Не послужит добру и его попытка поделиться с частнопрактикующими коллегами тем, что он узнал из работ Месмера, а именно что доктор Антон Месмер был по меньшей мере наполовину прав, когда говорил о значении влияния внушения на физическое и душевное состояние больных. Людям помогало «внушение», а не «магнетический флюид», – внушение, на котором основывались работы Брейда, Шарко, Льебо, Бернгейма, Йозефа Брейера, а сейчас его собственные. Беда Месмера заключалась в том, что он был любителем показухи, вовлекая высшее общество в свои групповые сеансы в Вене и Париже и превращая их в восточный базар. Имелось третье, и более серьезное препятствие: модифицированная им концепция мужской истерии, привезенная от Шарко из Парижа семь лет назад. Йозеф Брейер и Генрих Оберштейнер, работавший в санатории в Обер–деблинге, знали, что он прав, но профессор Мейнерт настроил весь австрийский медицинский мир против него, высмеяв его на лекциях в Медицинском обществе и на страницах медицинского журнала. Его первая книга, об афазии, расценивалась, чего и опасался Йозеф Брейер, как еще одна нескромность и поэтому была обойдена вниманием не только медицинской прессы, но и научными кругами Вены. Его друзья и коллеги по медицине не комментировали ее содержания. Хотя книга была выпущена в дешевом издании Дойтике, за первый год разошлось всего 142 экземпляра. Теперь же продажа практически прекратилась; ни в одной из новых работ в этой области о его научном вкладе не упоминалось. Как он предполагал, это было хуже, чем утопить книгу на дне океана. Бросив вызов тезису, принятому европейскими исследователями, что афазия – следствие анатомически локализованного повреждения мозга, и выдвинув предположение, что афазия может быть вызвана психологическими факторами, он вновь, как сказал Мейнерт, «уехал из Вены как врач с образованием по физиологии», чтобы вернуться «практиком по гипнозу». Он впал в немилость из–за того, что критиковал такие великие авторитеты, как Мейнерт, Вернике и Лихтгейм. Хотя в письме Вильгельму Флису перед выходом книги в свет он признал, что был довольно «наглым», скрещивая мечи с известными физиологами и специалистами по анатомии мозга, Зигмунд страдал от пренебрежительного нежелания оппонентов вытащить меч из ножен. «Я не мазохист, – думал он. – Мне не нравится, когда меня тузят. Я жажду восхищения и уважения, как любой ученый. Но как продвинуть публикацию о моем наиболее важном открытии? Те, кто не станут смеяться, будут высмеивать, нашептывать друг другу: «Опять этот безответственный Фрейд, пытающийся поджечь мир незажженной горелкой Бунзена!»Книга девятая: «Не лицезрел счастливого смертного»
1
Косой дождь хлестал по Берггассе. Ноябрь одарил венцев преждевременной бурей. А в столовой Фрейда четыре друга чувствовали себя уютно, согреваясь теплом угля, пылавшего в зеленой керамической печке. Вокруг обеденного стола было больше свободного пространства, чем в прежней квартире; восемь кожаных стульев с широкими сиденьями не стояли больше впритык друг к другу. Рядом с буфетом и горкой для фарфора и бокалов Марта поставила сундук в стиле итальянского Ренессанса, инкрустированный слоновой костью и перламутром, над ним висела репродукция гравюры Альбрехта Дюрера, изображавшей святого Иеронима. Новая служанка, также Мария из Богемии, приготовила для промозглого осеннего дня любимый обед четы Брейер, начинавшийся с говяжьего супа. Йозеф облысел, лишь на затылке виднелся темно–серый пушок, но в отличие от венцев, удлинявших свои бороды, по мере того как редели волосы на макушке, он укоротил свою. – В день пятидесятилетия, – заявил он, – я решил, что жизнь и ее ценности не так окладисты, как мне казалось. Несмотря на то, что в отношениях между Зигмундом и Йозефом были подъемы и спады со времени посвящения в книге об афазии, Матильда и Марта оставались близкими подругами. Чтобы защититься от холодного ветра и дождя, бившего в окна, Марта надела на себя шерстяное серо–голубое платье. Она перешагнула уже тридцатилетний рубеж и была беременна пятым ребенком, но даже такая она казалась Зигмунду не старше розовощекой девушки, на которой он женился в Вандсбеке шесть лет назад. После обеда Зигмунд тихо сказал: – У меня есть новый материал, который я хотел бы показать Йозефу. Надеюсь, дамы нас извинят? Они спустились по широкой лестнице в приемную Зигмунда. В июне этого года Йозеф согласился сотрудничать с ним в составлении предварительных сообщений о «теории приступов истерии». В основу этих сообщений легли случаи успешного лечения: Брейером в случае с Бертой Паппенгейм, Зигмундом в случае с Эмми фон Нейштадт, Цецилией Матиас, Францем Фогелем, Элизабет фон Рей–хардт и другими, которые побывали в его приемной в последние пять лет. Брейера было нелегко убедить. Зигмунду пришлось его упрашивать. – Йозеф, мы открыли дверь в новую область медицины – психопатологию. Мы сделали несколько шагов в направлении решения проблемы, о которой раньше даже не упоминалось. Я искренне верю, что мы собрали достаточный материал, чтобы сформулировать направление научного изучения человеческого интеллекта. Йозеф резко вскочил, подошел к клетке с голубями – он делал это каждый раз, когда был встревожен, – и насыпал зерно в кормушки. – Нет, Зиг, время еще не пришло. У нас нет достаточно материала. И нет возможности проверить его в лаборатории. Мы имеем лишь догадки, гипотезы… Зигмунд ходил из угла в угол. – Мы собрали достаточно обобщенный материал относительно подсознания и о том, как оно провоцирует истерию. Разве пятьдесят тщательно изученных случаев не столь же убедительны, как пятьдесят патологических срезов под микроскопом? Брейер покачал головой: – Нет, у нас нет набора слов для описания того, что мы ищем. Нет карт, нет аппаратов… – …Потому что старые аппараты не годятся. Машина электромассажа профессора Эрба оказалась фальшивкой. Ручной массаж облегчает на час, на два. Курс лечения по Вейру Митчеллу мало что дает, помимо увеличения тонуса и веса. Гидротерапия в санаториях очищает кожу, а не ум. Несколько лекарств на основе брома и хлора, имеющихся у нас, успокаивают пациентов, но вовсе не помогают при нарушениях, вызванных внушением. Выведите анатомию мозга, разработанную Мейнертом, в отдельную дисциплину, и нынешняя психиатрия окажется бессодержательной, будучи сведенной к перечислению видов и проявлений душевных заболеваний. Боже мой, Йозеф, мы страшимся перешагнуть порог одного из наиболее важных открытий в истории медицины. Брейер, тронутый этими словами, положил руки на плечи молодого человека: – Хорошо, мой друг, попытаемся. В последующие дни Зигмунд лихорадочно писал, а затем рвал написанное. Еще никто не выдвинул теорию приступов истерии; Шарко дал всего лишь описание. Чтобы объяснить явление истерии, нужно было признать наличие «разобщения–расщепления сознания». Повторяющийся приступ истерии вызывался возвратом воспоминаний. Подавленная память не была случайной; она представляла собой первоначальную психологическую травму, которая возвращалась в соответствии с законом ассоциации идей. Он писал: «Если подверженный истерии субъект старается умышленно забытьпережитое или насильственно отторгнуть его, сдержать и подавить намерение или идею, то они переходят во второе сознание; оттуда они постоянно воздействуют, и воспоминание возвращается в виде приступа истерии». Но что определяет, когда и почему человек становится жертвой приступа, после того как недели, месяцы, а возможно, и годы он чувствует себя сравнительно хорошо? Он понимал, что не сможет пойти далеко в своей рабочей гипотезе, пока не сумеет назвать нечто определенное, что вызывает приступ. Он вспомнил о дискуссиях с Йозефом относительно их работы под руководством Брюкке в Институте физиологии. Там они впервые узнали о теории постоянства, родившейся в школе Гельм–гольца – Брюкке, которая возникла много лет назад в Берлине: «Нервная система старается поддерживать в своих функциональных связях нечто постоянное, что мы можем назвать «общим количеством возбуждения». Система приводит в действие оберегающее здоровье средство, ассоциативно распоряжаясь любым ощутимым наращиванием возбуждения или разряжая возбуждение с помощью надлежащей двигательной реакции… Психические переживания, формируя содержание приступов истерии… являются… впечатлениями, которые не смогли найти соответствующей разрядки». Он и Йозеф представляли теорию постоянства в более простых формах: нервная система, включая мозг, – резервуар для хранения энергии. Когда уровень энергии опускается слишком низко, психическая деятельность становится медленной, подавленной. Когда уровень энергии поднимается слишком высоко, нервная система открывает некоторые свои заслонки, дабы избыток энергии мог выйти наружу. Именно тогда наступает приступ, ибо нервная система не может более переносить избытка энергии, порожденного памятью–травмой, закрепленной в подсознании, и освобождается от этого избытка в виде приступа. Приступ – всего лишь форма, посредством которой утверждает себя принцип постоянства. Нервная энергия подобна электрической энергии, аккумулированной в батарее; каждая батарея обладает пределом емкости сохраняемой энергии. Так же ведет себя нервная система. Когда наступает перегрузка, должна быть разрядка. Высвобождение энергии может быть плавным, в виде галлюцинаций, или же бурным, со спазмами, конвульсиями, приступами эпилепсии. Разрядка выглядит внешне как соматическая, но ее содержание и причины – психические. Зигмунд изложил свои мысли на бумаге и послал заметки Брейеру. На следующее утро он писал Йозефу: «Уважаемый друг! Удовлетворение, с которым я направил тебе те несколько моих страниц, уступило затем место чувству сомнения, которое так свойственно процессу мышления» Добавив, что нет необходимости в историческом обзоре, он высказал соображение: «Нам следует начать с краткой формулировки теории, которую мы разработали для объяснения психических явлений». Йозефа, видимо, вывело из равновесия слово «краткой». – Зиг, если мы вообще собираемся публиковать, то должны быть осторожными. Догма и наука – исключающие друг друга понятия. Мы должны без принуждения, открыто признать, чего мы еще не знаем и не можем определить, прежде чем выступим с нашими тщедушными гипотезами, выдавая их за медицинские знания. – Йозеф, под «краткой формулировкой» я подразумеваю ряд простых заявлений о наших убеждениях, сложившихся из поддающихся наблюдению фактов в отношении истерии и ее контроля за подсознанием. Разве наши пациенты не подвели нас к некоторым основным истинам? Брейер был непреклонен: – Мы должны знать больше о том, как возбуждается интеллект. Я согласен с тем, что в данном случае применим принцип постоянства. Однако я убежден в то же время, что это не более чем спекуляция, пока мы не сможем показать терминами физиологии, каким образом нервная система служит каналом для выброса лишней энергии. Зигмунд уступил, спокойно сказав: – Я переделаю текст и включу в него только те материалы, по которым у нас существует обоюдное согласие. Завершу признанием, что мы лишь коснулись этиологии неврозов. Иозеф согласился с третьим вариантом, оказавшимся более приемлемым, но и он вызывал долгие оживленные споры, зачастую темпераментный обмен мнениями о выводах, которые могут быть сделаны из имеющихся свидетельств. Порой Зигмунд был зол сам на себя за то, что так сильно давит на Иозефа; со своей стороны, Йозеф беспокоился по поводу природы исследуемого материала и тосковал о своей более спокойной лабораторной работе. В иные моменты его воодушевляли поразительные постулаты, на которые выводила дискуссия с Зигмундом. Зигмунд осознавал, что в этом проявляется та же самая двойственность, которая отныне пронизывала их отношения; когда они встречались в обществе, пили кофе в кафе «Гринштейдль» или быстрым шагом прогуливались по Рингштрассе, Йозеф был таким же приветливым, как и в наиболее яркие дни их дружбы, но, когда они приступили к написанию работы, держался с Зигмундом Фрейдом всего лишь как с коллегой, втягивающим его в ненаучное дело, которое он, Брейер, начал, а сейчас хотел во что бы то ни стало забыть о нем! Зигмунд открыл ключом дверь своего кабинета и провел Йозефа внутрь. Из–за нестихавшего ливня в комнате царил полумрак. Зигмунд вывернул фитиль керосиновой лампы, чтобы стало посветлее, усадил Йозефа и предложил ему сигару. – Тебе здесь, конечно, спокойно, – заметил Йозеф, осматривая стены, увешанные полками с медицинскими книгами. – Но мне было бы слишком одиноко, мне не хватает моих голубей. Зигмунд вытащил из ящика письменного стола последний вариант – как ему казалось, приемлемый w– текста предварительного сообщения. Он вручил его Йозефу, а сам, откинувшись в кресле, ожидал реакции и раскуривал сигару. Он поместил имя Йозефа первым среди авторов и переработал рукопись с учетом критических замечаний своего наставника. Наблюдая за выражением лица Йозефа, читавшего двадцатистраничную рукопись, Зигмунд мог точно сказать, где задержался Иозеф, чтобы перепроверить употребление нового или измененного термина, который они использовали в своих дискуссиях, но редко встречали в напечатанном виде: абреакция – перенос в сознание материала, находившегося в подавленном состоянии в подсознании; аффект – чувственное выражение идеи или умственного представления; катарсис – форма психотерапии, переносящая подавленный травматический материал из подсознания в сознание; либидо – энергия инстинкта. Йозеф поднял глаза, не скрывая удовлетворения. – Да, Зиг, ты изложил суть в настолько близких к науке терминах, насколько мы можем это сделать в настоящее время. Ты здесь справедливо утверждаешь: «Некоторые воспоминания этиологического значения, относящиеся к прошлому пятнадцати–двадцатипятилетней давности, удивительно сохраняются и обладают примечательной силой возбуждения, и когда они восстанавливаются, то действуют с силой аффекта, свойственного новому переживанию». Он хлопнул рукой по рукописи Зигмунда утвердительным жестом. – Истерики страдают, как ты говоришь, в основном от воспоминаний. Ты документировал ненавязчиво, как и почему наша психотерапевтическая процедура обладает лечебным эффектом. – Покопавшись в рукописи, он нашел нужное место и громко прочитал: – «Это прекращает воздействие идеи, которая находилась в подсознании, создавая возможность подавленному аффекту высвободиться через речь». Я одобряю это заявление. Он встал, прошелся по затененной части комнаты. – Однако я не могу согласиться с твоей теорией принципа постоянства, пока ты не докажешь, как нажатием кнопки можно вызвать соматическое высвобождение энергии. Каждый невролог в Европе потребует от нас доказательств. Зигмунд был разочарован, но старался скрыть это от Йозефа. Он взял рукопись и сказал с безразличным видом: – Очень хорошо, Йозеф, я вычеркну эти параграфы. Брейер сел в кресло. – Прекрасно! Итак, можно отдавать для публикации. – Берлинский «Неврологический журнал» согласился поместить статью в выпусках первого и пятнадцатого января. Я говорил также с издателем венского «Медицинского журнала»; он не возражает против опубликования после появления статьи в Берлине. Он назвал конец января. – Очень хорошо. А пока ты занимаешься этим делом, почему бы не апробировать материал на лекции в Венском медицинском клубе? Зигмунд подошел к Брейеру и обнял его. – Дорогой друг, это один из самых счастливых моментов в моей короткой, но бурной медицинской карьере. Спасибо.2
В день Нового года, мысленно обозревая достигнутое за двенадцать месяцев, он с сожалением заметил, что для подсчета достижений хватит пальцев одной руки. Но 1893 год втянул его в круговорот работы. По предложению Йозефа Брейера Зигмунд подготовил вариант лекции, намеченной на одиннадцатое января в Венском медицинском клубе; затем завершил перевод заново просмотренных «Уроков» Шарко, которые были опубликованы в виде серии в солидных немецких медицинских журналах; закончил работу над окончательным вариантом статьи «Некоторые моменты в сравнительном изучении паралича органического и истерического происхождения», которую он согласился написать для «Архивов неврологии» Шарко, когда еще был в Париже; написал исследование для серии публикаций доктора Кассовица о двустороннем церебральном детском параличе. Опубликование в Берлине и Вене предварительного сообщения о роли подсознания при приступах истерии не вызвало ни критических оценок, ни комментариев. Его выступление в Медицинском клубе собрало большую аудиторию скорее по той причине, что в приглашении фигурировало имя Брейера, а не потому, что лекцию читал именно он; и никто из врачей не выступил с замечаниями. Единственный отклик был вызван активностью корреспондента «Винер Медицинише Прессе», который, увидев, что Фрейд пользуется записями, застенографировал лекцию и поместил ее текст в газете. К собственному изумлению, Зигмунд обнаружил, что не был расстроен отсутствием интереса к лекции. Его удивляло отношение Брейера; казалось, что тот почувствовал некоторое облегчение, в связи с тем что никто не собирается оспаривать его позицию. Зигмунд мягко пожурил его по этому поводу. – Йозеф, вроде бы не в твоих правилах отрицательно относиться к хорошо сделанной работе. Кроме того…– Он помолчал, а затем решился: – Я настроился написать книгу об исследованных нами случаях; лишь представив все доказательства, мы сможем обосновать наши тезисы. Йозеф неодобрительно взглянул на него, обошел вокруг полированного стола библиотеки и встал спиной к бронзовой окантовке, удерживавшей на месте медицинские справочники. – Нет и нет. Это было бы нарушением медицинской этики. Пациенты, отдавшие себя в наши руки, должны быть защищены. – Они и будут защищены, дорогой Йозеф. Мы изменим имена и внешнее описание. Мы представим только медицинские показания. Я напишу для тебя об одном–двух случаях, может быть, о фрау Эмми и мисс Люси Рейнолдс; ты увидишь, как можно полно изложить медицинский материал, не выдавая пациента. Йозеф не поддавался уговорам. Зигмунд старался не быть назойливым с книгой, хотя он уже придумал название: «Этюды по истерии». Он сказал Марте: – Подожду подходящего момента, возможно, когда появятся благожелательные отклики на наше сообщение. Захватывающим аспектом его исследований стали симптомы сексуального происхождения, свойственные почти всем его пациентам, которые он назвал «неврозом беспокойства». Ни характер, ни темперамент Зигмунда не облегчали для него задачу признать такое происхождение. В контактах с первыми пациентами такая связь не привлекла его внимания, несмотря на намеки Брейера, Шарко и Хробака. Если бы его внимание было привлечено непосредственно к таким симптомам, он опроверг бы их. Когда же свидетельства накапливались, сначала при работе с десятью, затем с двадцатью, далее с тридцатью пациентами, становилось все более трудным не признать сексуальную этиологию истерии, укрытую глубоко в подсознании. Сперва он был захвачен врасплох, затем изумлен и, наконец, шокирован; в один момент откровения – взвинчен: по природе он не был сексуально одержимым, не принадлежал к тем, кто думает, будто жизнь начинается и кончается в эрогенных зонах. Откровенно говоря, он противился мысли о преимущественно сексуальной природе человека и ее влиянии на эмоциональное, нервное и душевное здоровье. Однако некоторое время спустя он был вынужден признать, что факты буквально преследуют его. Он был бы никчемным врачом, если бы игнорировал симптомы по мере их появления. В старом городе, где люди хорошо знают друг друга, быстро распространяются сведения, что такой–то врач обладает острым взглядом или подходом, помогает больным, от которых отказываются другие врачи, опустившие руки и признавшие свое поражение. Большинство больных, робко и почти скрытно приходивших к нему, являли собой случаи от скорбных до трагических: затяжной невроз, делавший невозможным нормальную жизнь из–за травм, причиненных в детстве, ущемленная сексуальность попадала как зерно на благодатную для нее почву врожденной склонности к неврастении. Мужчины приходили первыми – одни молодые, другие среднего возраста, страдавшие подавленностью, слабостью, мигренями, дрожанием рук, неспособностью сосредоточиться на работе, длительное время занимавшиеся онанизмом, импотенты, практикующие прерванное сношение. Затем пошли женщины: замужние, мужья которых не обеспечивали им полноценную половую жизнь; фригидные, с трудом переносившие половой акт. Зигмунд заносил в свои записи: «Никакая неврастения или аналогичный невроз не существуют без нарушения сексуальной функции». То и дело приходилось наталкиваться на трудности. Привлекательный тридцатилетний адвокат с пшеничными усами с вызывающим видом вошел в приемную, а затем скороговоркой рассказал, что из–за отсутствия аппетита он потерял двадцать фунтов веса, страдал меланхолией и, как установил Зигмунд, головными болями психического происхождения. Не может ли доктор помочь ему? У него один ребенок, его жена заболела после родов, неприятности начались вскоре после этого. – Помешала ли болезнь вашей жены половым сношениям с ней? Адвокат водил носком ботинка по рисунку ковра. – Нет. – Нормальные половые сношения? – Да… Ну, почти. Я извлекал до… Моя жена не может иметь второго ребенка, пока не поправится. – Затем, как бы защищаясь: – Разве здесь что–то неверно? Зигмунд ответил суровым профессиональным тоном: – Физически да. Это причина вашего недомогания. Адвокат уставился на него с недоверием: – Как это может быть? – Природа распорядилась так, чтобы мужская сперма выливалась во влагалище. Таково здоровое завершение нормального акта. Когда вы прерываете сношение до семяизвержения, вы наносите сильный удар по нервной системе. Это ведь неестественно. Это создает то, что мы называем сексуально вредным сдвигом. Были ли у вас нынешние симптомы до того, как вы стали прибегать к прерванному сношению? – Не было. Я был здоровым и крепким. – Нет ли здесь религиозной проблемы? Пробовали ли вы презервативы? – Эти неуклюжие тяжелые резинки вызывают у меня отвращение. – Знает ли ваша жена о спринцевании? – Она считает его слишком ненадежным. – Тогда ваша задача вылечить вашу жену, именно в этом секрет и вашего выздоровления. Зигмунду встречались десятки случаев с похожими симптомами. С некоторыми мужьями приходилось упорно дискутировать, пытаясь добраться до первопричины. Мужчины считали неприличным исповедоваться о своих интимных отношениях с женами даже врачу, от которого ждут помощи. Но приват–доцент Зигмунд Фрейд разработал ненавязчивую и тонкую методику, убеждая скрытных пациентов не прятать истину. По мере накопления фактов он понял, как широко применяется из–за религиозных ограничений и страха перед зачатием супружеский онанизм. Ему стало казаться, что не страдают от прерванного сношения в браках лишь мужчины, содержащие любовниц или пользующиеся услугами венских проституток. Не лучше обстояло дело и с женами. Однажды к нему пришла молодая мать с жалобами на неясные страхи и боль в груди. Она любила своего мужа. Когда он был в отъезде, она чувствовала себя прекрасно. Супруги не хотели больше детей, прибегали к прерванному сношению, и жена все время боялась, что муж может допустить оплошность. – Фрау Бакер, доводит ли вас муж до оргазма, прежде чем прерывает сношение? Она уставилась на него, бледная от смущения: – Господин доктор, разве это приличный медицинский вопрос? – Да, ибо он касается состояния вашей нервной системы. Позвольте, я объясню: внимательные мужья стараются делать так, чтобы и жена получила удовлетворение. Видите ли, фрау Бакер, когда обрывается половое сношение, жена, подведенная к оргазму, испытывает такой же серьезный нервный шок, как и ее муж. Если ваш муж будет приносить вам удовлетворение, вы не будете страдать от недомоганий, которые мучают вас. Фрау Бакер бросила на него свирепый проницательный взгляд. – Но если мой муж будет так тянуть, то не возрастет ли опасность, что он вовремя не извлечет? – Может быть. – Лечение, которое вы описываете, может оказаться хуже болезни. – Тогда позвольте мне заверить вас с позиции врача: физически у вас нет никаких нарушений. Неопределенные страхи, вспышки боли в груди – проявление вашей обеспокоенности, результат нервного расстройства. Как только вы возобновите нормальные половые отношения с мужем, ваши симптомы исчезнут… – …И их заменит тошнота по утрам. – Она сдержанно улыбнулась, поблагодарила доктора и ушла. Приходили молодые холостяки, некоторые моложе двадцати, а также незамужние женщины с различными неврозами, зачастую вызванными онанизмом. Сначала Зигмунд столкнулся с тем, что пациенты старательно скрывали свой порок, поскольку в детстве им крепко вбивали в сознание, что рукоблудие – самый страшный из грехов, ведущий к потере зрения и идиотизму. Однако затем стало ясно, что онанизм, если им не увлекаться чрезмерно, наносит меньший ущерб, чем сопутствующее чувство вины, которое вызывает ипохондрию, самопорицание, навязчивое копание в душе. Зигмунд пришел к выводу, что невроз не появляется у мальчиков и молодых людей, соблазненных более зрелыми женщинами. Требовались недели и месяцы исследований, прежде чем удавалось подвести пациента к причинам, вызвавшим расстройство. Так, с большим трудом он выяснил, почему молодая женщина страдала мучительной ипохондрией со времени половой зрелости. Она стала жертвой сексуального насилия в восьмилетнем возрасте. Причиной истерии склонного к самоубийству молодого человека было рукоблудие, которому научил его школьный друг. Зигмунд изменил подход к пациентам; он не довольствовался внушением с целью удалить воспоминание о неприятных событиях в прошлом. Поскольку теперь он проникал глубже в подсознание и работал в более широком плане, то считал прежнюю терапию фрагментарной, приносящей лишь поверхностные эффекты. Как врач, он повышал свой профессиональный уровень, менял подход к пациентам и предъявлял к себе все более высокие требования. Отныне он был полон решимости добраться до истоков заболевания и найти общий закон, объясняющий нарушения психики. Пока же, не достигнув большего понимания, он был вынужден, естественно, сосредоточиться на профилактике. Стараясь уберечь пациента от новых приступов, он добивался переноса подавленных идей из подсознания в сознание и объяснял всеми доступными ему средствами, что пациент не должен чувствовать вины или страха из–за чего–то плохого, имевшего место в прошлом. Он поднимал целину, пытаясь лечить неврастенические сексуальные явления. В отличие от случаев истерии, где он добился ощутимых результатов, в этой области, как он отмечал в текущих записях, «редко и только косвенно» мог влиять «на душевные последствия невроза обеспокоенности». Случаи, ставившие его в тупик, относились к мужчинам, которым не нравились вообще женщины, и они не могли побороть физического отвращения при мысли о половом сношении с ними. Какой же могла быть психическая причина гомосексуализма? Самыми трагическими были те случаи, когда к нему приводили пациента слишком поздно, уже с признаками паранойи. Так случилось с молодой женщиной, жившей с братом и старшей сестрой в хороших домашних условиях. У нее развилась мания преследования, она слышала голоса, ей казалось, что соседи говорят за ее спиной, будто ее совратил знакомый, в прошлом снимавший у них комнату. В течение недель она постоянно думала, что видит и слышит, как люди на улице судачат, будто она живет надеждой, что квартирант вернется, будто она плохая женщина. Затем ее рассудок светлел, она осознавала, что ее подозрения беспочвенны и что у нее нормальное здоровье… до следующего приступа. Йозеф Брейер узнал о ее случае от коллеги и посоветовал направить ее к доктору Фрейду. Зигмунд попытался проникнуть в ее прошлое с ловкостью Бильрота, вскрывающего нарыв. Квартирант жил в семье целый год. Потом отправился путешествовать, через полгода вернулся на короткий срок, а затем отбыл навсегда. Обе сестры говорили о том, как было приятно видеть его в доме. В чем же дело? Зигмунд подозревал, что болезнь возникла на сексуальной почве. Позже он узнал правду, но не от пациентки, а от ее старшей сестры. Однажды утром младшая сестра убирала комнату, когда молодой мужчина находился еще в постели. Он позвал девушку, и та, ничего не подозревая, подошла к нему. Мужчина отбросил одеяло, взял ее руку и положил ее на свой возбужденный пенис. Девушка на какой–то момент оцепенела, а затем убежала. Вскоре после этого мужчина исчез навсегда. Позднее девушка рассказала старшей сестре об инциденте, расценив его как «попытку создать для нее осложнения». Когда она заболела и старшая сестра пыталась обсудить с ней «сцену соблазна», младшая категорически отрицала случившееся и свой рассказ об этом. Ныне, когда перед ним был явный случай сексуального сдвига, вызвавшего заболевание, Зигмунд полагал, что сможет помочь: слышавшиеся ей при галлюцинациях голоса соседей, будто она плохая женщина, были, по всей вероятности, дальним следствием ее возбуждения, когда мужской член оказался в ее руке, и чувства вины, вылившегося в самобичевание. Поскольку она не могла переносить этого чувства, то переложила его на внешний источник – на соседей. Нужно было удалить не столько память о самом инциденте – Зигмунд сомневался, сможет ли он полностью устранить травмирующее воспоминание, – сколько чувство вины, запавшее в ее подсознательную память. Если бы он смог вернуть сознание девушки к первоначально случившемуся и доказать ей, что ее реакция была нормальной, то тогда исчезли бы самоупреки, исчезло бы и представление о преследовании со стороны соседей. У нее появился бы шанс для нормальной жизни, а при благоприятных обстоятельствах и для брака. Он потерпел поражение. Несколько раз он вводил девушку в состояние полугипноза, побуждая рассказать о молодом квартиросъемщике. Она откровенно говорила обо всем добром, что оставалось в ее памяти, но, когда он попытался наводящими вопросами подвести ее к травмировавшей сцене, она кричала: – Нет! Ничего приводящего в смущение не было! Нечего рассказывать. Он хороший молодой человек, в хороших отношениях с нашей семьей… После второй такой вспышки она послала письмо доктору Фрейду с отказом от его услуг, потому что его вопросы выводят ее из равновесия. Во второй половине дня Зигмунд сидел в своем кабинете, письмо лежало перед ним, его руки на столе как бы обхватывали записку. Он был огорчен; пациентка возвела такую высокую стену против воспоминания о происшедшем, что преодолеть ее стало невозможно. Было слишком поздно, чтобы добраться до травмы в подсознании и нейтрализовать ее. Он тяжело вздохнул, покачал головой, выкрутил фитиль в лампе, наполнив кабинет теплым светом, и взялся за последний вариант рукописи о неврозах.3
Просматривая свои записи, сделанные с октября за период напряженной работы, он радовался тому, что число неудач было меньше случаев успешной помощи пациентам. Поскольку расширялись его знания и оттачивались терапевтические инструменты, можно было надеяться, что он сумеет справиться с симптомами, ставившими его ранее в тупик. Весной появилось множество пациентов; каждый случай давал все больше свидетельств, что главное проявление невроза, как бы оно ни маскировалось, вызывалось беспокойством, а невроз беспокойства возникал вследствие подавления. Он думал более раскованно с пером в руке, чем во время прогулок по улицам Вены. Наверху страницы Зигмунд вывел: «Проблемы». Формулирование проблем в той же мере важно, как их решение. «Не жди, когда проблема придет к тебе, – заметил он, – она может появиться в неудобное и неприятное время. Веди поиски сам, будь агрессивен, работай с загадочным, неподатливым материалом на своих условиях». Робость была ни к чему. Вильгельм Флис писал ему из Берлина: «Дерзай импровизировать! Не бойся выходить в мыслях за рамки уже известного или угадываемого!» Зигмунд решил для себя: «Вильгельм прав; невозможно идти вперед без людей, осмеливающихся думать о новом, прежде чем они в состоянии объяснить это новое». Существует ли такая вещь, как врожденная, наследственная слабость сексуальной функции или ее нарушение? Или же это приобретается в молодые годы под влиянием внешних обстоятельств? Не является ли наследственность всего лишь умножающим фактором? Какова этиология повторяющейся депрессии? Не имеет ли она видимой сексуальной основы? Под заголовком «Тезисы» он перечислил набор постулатов, которые послужат основанием. Фобии, галлюцинации, депрессия, вызванная тревогой, являлись по меньшей мере частично следствием нарушения нормальной половой жизни и взросления. Истерия возникала, когда подавлялась обеспокоенность, вызванная сексуальностью. Неврастения, половое бессилие на нервной почве у мужчин зачастую вызывали импотенцию, которая, в свою очередь, приводила к неврозу у их жен. Сексуально холодные женщины провоцировали невроз у своих мужей. Он поставил перед собой несколько параллельных задач: ознакомиться с литературой других стран, «в которой описаны эндемические сексуальные ненормальности»; составить досье последствий, возникающих при подавлении нормального высвобождения сексуальной энергии; собрать сведения о сексуальных травмах, причиненных в возрасте, когда еще не сформировался соответствующий уровень сознания. Увлекательная часть любого поиска заключается в выявлении исходных причин; именно это интригует ученых–медиков в их экспериментах. И именно эту задачу поставил перед собой Зигмунд. Он послал расширенный проект «Этиологии невроза» Флису и просил его дать замечания. При переработке текста, когда ему пришлось быть более откровенным в отношении сексуального материала, пуританская натура взяла верх. Он начал свое письмо словами: «Ты, конечно, будешь хранить черновик так, чтобы он не попал в руки твоей молодой жены». Лишь несколькими днями позднее он осознал, что повинен в том же лицемерии, какое он замечал у многих своих пациенток вроде той, которую он только что осмотрел и которая страдала приступами тревоги, заканчивавшимися обмороками на следующее утро после полового сношения с мужем. Он понял, что время нанесения травмы так отдалено, что его нужно откапывать лопатой, а не скальпелем. Поскольку сношение давало большое удовлетворение пациентке и мужу, Зигмунд понял, что первоначальная причина обмороков заложена глубоко в ее подсознании. Потребовалось много сеансов и применение процесса, названного им свободной ассоциацией, чтобы пациентка смогла приблизиться к действительной травме. – Теперь я скажу, как появились у меня приступы страха, когда я была девочкой. В то время я спала в комнате по соседству с родителями, дверь оставалась открытой, и на столике горел ночник. Итак, не раз я видела, как мой отец ложился в кровать с матерью, и слышала звуки, сильно возбуждавшие меня. Тогда начались приступы. Зигмунду с большим трудом удавалось набирать материал о неврозах, вызванных сексуальной обеспокоенностью. Он сказал спокойно: – Ваша реакция совершенно понятна; большинство молодых девушек при первом знакомстве с сексуальностью испытывают некое подобие ужаса. Позвольте мне прочитать вам записи о подобных случаях, имевших место в более раннем возрасте, чем ваш. Главная ваша проблема сейчас – понять, что ваша тревога не имеет ничего общего с супружескими отношениями. Это истерия, вызванная воспоминаниями – подавленной памятью. Благополучие вашего брака зависит от того, сумеете ли вы отторгнуть тревоги, уходящие в отдаленное прошлое и связанные с нормальными, здоровыми отношениями между вашими родителями, такими же, какие существуют сейчас между вами и вашим мужем. Когда пациентка ушла, он расслабился в кресле, массируя руками шею, в то время как его мысли обратились к его новым методам, заменившим нажим на лоб пациента. Задуманный им метод свободной ассоциации являлся ключом к исследованию глубоких слоев подсознания. Таким образом, был сделан большой скачок в методике. «Тот факт, что внешне не связанные замечания в силу ассоциации идей увязываются невидимыми, подсознательными нитями, представляет… наиболее впечатляющее выражение научного закона». Хаотически звучавшее для пациента превращалось в рисунок, понятный для знающего врача. Подсознание трудно обмануть, ввести в заблуждение, манипулировать им, ибо свободная ассоциация в действительности не свободна: каждая «случайная» мысль, идея, картина, воспоминание связаны с предшествующей и последующей, как звенья в единой цепи. Свободным являлся скорее сам процесс, чем его содержание, когда он проходит без вмешательства воли пациента, выборочно отсеивающей набегающие мысли, и без подсказки, внушения или влияния врача. «С помощью такого процесса, – пришел к выводу Зигмунд, – мы можем получить истинный, а не выдуманный автопортрет. Каждая последующая мысль отражает акт упорядоченного продвижения, даже если это движение направлено в прошлое, в подсознание. Здесь нет случайности, не может быть чего–либо бессмысленного или не имеющего отношения к делу. Процесс открывает возможность самовыражения участвующему в нем уму». Даже самые нелепые и внешне противоречивые мысли, если они идут непрерывным потоком, дают 'материал для понимания психики. Едва приступив к использованию метода свободной ассоциации, Зигмунд столкнулся со странным, трудно понимаемым явлением: пациенты относились к нему, как если бы он был кем–то из их собственного прошлого! Они проецировали свои мысли, чувства, желания на врача. Как только заложенное в их подсознании приводилось в движение, они переносились в прошлое, в свои детские годы и вновь переживали тот период, иногда позитивно, в духе любви и послушания, иногда – в духе ненависти и бунта. Чувство настоящего стиралось, они восстанавливали те сцены, искали того удовлетворения, которое ощущали, когда были маленькими, чаще всего под родительским кровом. Подобного не было, когда он прибегал к гипнозу или нажимал на лоб пациента. Он осознал, что «перенос», как Зигмунд назвал это удивительное явление, неизбежен при любом фундаментальном анализе. Он обнаружил, что пациенту требуется длительное время, чтобы понять иррациональность своего поведения, а врачу так же тяжело давались многие переносы, как пациенту – проецирование. Без переноса из прошлого в настоящее любви, ненависти, тревог, нападок можно еще добиться скромного ослабления симптомов, но излечения – никогда! Стоит пациенту осознать перенос, и он на пути к пониманию как содержания, так и образа действия своего собственного подсознания. С высоты этого пика он способен добраться до самосознания; и тогда доктор Фрейд получает шанс и возможность вести дело к излечению. Он не проявлял большого интереса к утренней почте: иногда в ней попадались письма от фрау Бернейс или Минны из Вандсбека, записка от одного из единокровных братьев из Англии; в основном же это были медицинские журналы, сообщения о заседаниях, счета. Однако с того времени, как он создал Международный банк «идей недалекого будущего» вместе с Вильгельмом Флисом, предложившим удивительную концепцию периодичности человеческой жизни, он с нетерпением ждал звонка почтальона, быстро перелистывал пачку в надежде увидеть берлинский штамп. Флис писал часто и пространно, его письма, стимулирующие мысль, задиристые, колючие и всегда интересные, представляли на деле черновые варианты его медицинских монографий. Зигмунд любил писать ежедневно Вильгельму, обычно ближе к полуночи, восстанавливая случаи, которыми он занимался в этот день, описывая новые, проливающие свет данные и свежие гипотезы, ошибки, которые надлежит исправить, триумф ума над туманным исследовательским материалом, а также свои неудачи в изучении, понимании и систематизации накапливающихся знаний. Когда ему не удавалось писать, он переживал это столь же болезненно, как другие венцы страдали от невозможности провести время в кафе. Письменное общение с Вильгельмом Флисом заменяло часы, которые он иногда проводил в кафе. Двенадцатого апреля Марта родила пятого ребенка, девочку, названную Софьей. Роды прошли хорошо, и Зигмунд комментировал: «Софья вошла в этот непристойный мир без какой–либо борьбы». Марта выглядела усталой и бледной, она тут же заснула. Молодая няня, нанятая ухаживать за четырьмя детьми, уверенно взяла новорожденную на руки. К концу второй недели Марта была уже на ногах, вновь занялась хозяйством, хотя мать и сестры Зигмунда просили ее не перегружаться. Когда она, довольная новым отпрыском, почувствовала себя окрепшей, Зигмунд спросил ее, может ли он поехать на несколько дней в Берлин к Вильгельму Флису. – Разумеется, Зиги, поезжай прямо сейчас, когда я окружена заботой твоей семьи. Не думай, что я создана только для того, чтобы рожать детей. Ты был очень внимателен, и я наслаждалась Марком Твеном, которого ты мне читал.4
Поезд прибыл на Ангальтский вокзал во второй половине дня. Вильгельм Флис ожидал его с дрожками, служившими ему для деловых выездов и для поездок в госпиталь. В экипаже друзья тепло взялись за руки: они не виделись со времени свадьбы Флиса. Зигмунд с удовольствием смотрел на друга: огромные темные глаза горели, как раскаленные угли; черные усы не скрывали губ густого красного цвета и щек, пылавших жаром молодости. «Хотя он, – подумал Зигмунд, – всего лишь на два с половиной года моложе меня, тридцатичетырехлетнего». – Это наш первый конгресс! – воскликнул Зигмунд. Вильгельм широко улыбнулся: – Нас только двое, но мы выпустим такой выводок идей, что они будут летать стаями над Берлином. Воздух апрельского полудня был уже теплым. Флис попросил кучера сложить раздвижной верх экипажа. – Я помню, Зиг, – сказал он, – что тебе нравится Берлин. Они направлялись к Шарлоттенбургу, одному из пригородов Берлина. Зигмунд рассматривал прохожих, прогуливавшихся по Тауенциенштрассе; их лица были серьезными, почти мрачными, даже у тех, кто шел парами и беседовал. Он заметил: – Венцы – хохотуны, берлинцы – ворчуны. Как Иде удалось перестроиться и стать берлинкой? – Как жена с восьмимесячным стажем, она, думаю, свершила чудо: у нее только немецкие друзья, немецкая мебель, даже немецкий повар, считающий непатриотичным готовить венский шницель. Ее единственная уступка верности Вене – отсутствие в нашей комнате портретов кайзера и наследного принца или картин со сценами героических побед германской армии. Ида также сплотила небольшую группу из шести замужних женщин; они собираются в четыре часа поочередно друг у друга на кофе и обсуждают последние сплетни в венском духе. Чета Флис занимала просторную квартиру на верхнем этаже дома 4а по Вихманштрассе с прекрасным видом на зоопарк. Когда Зигмунд переступил порог гостиной, Ида предложила ему сесть на софу – почетное место в любом берлинском доме. Осматривая тяжелую темную мебель из красного дерева, он вспомнил то время, когда они с Мартой бродили по улицам Гамбурга, прижимались носами к стеклу витрин и мечтали о счастье, своем доме и столь же солидной мебели. Ида Флис пригласила несколько пар из числа ее «кофейных» собеседниц на вечерний обед. Обеденный стол был красиво сервирован: на вышитой скатерти перед каждым гостем стояли стопка из пяти тарелок и открытая бутылка с вином, такой бутылки не было только перед местом хозяев. Вильгельм, отведя в сторону Зигмунда, объяснил, что утром ему предстоят две операции, поэтому он должен быть трезвым, а Зигмунд должен быть также достаточно трезвым, чтобы наблюдать. На следующее утро Вильгельм и Зигмунд совершили поездку через центр города, по Унтер–ден–Линден, мимо университета к госпиталю. Во время завтрака а–ля фуршет и поездки в госпиталь Вильгельм оживленно болтал, его глаза сверкали, он был возбужден обсуждавшимися идеями, его тело конвульсивно вздрагивало под ладно сшитым серым костюмом. Когда же дрожки подъехали к госпиталю, это был уже иной человек – с прищуренными глазами, со сжатыми губами; своей выправкой он походил на офицеров, марширующих по Кенигштрассе в темно–синих с алыми кантами мундирах. Он вошел в госпиталь; его приветствовали служащие, сестры, коллеги, а затем ассистенты, и его манеры приобрели суровость, холодность. Он произносил только те слова, которые требовались для подготовки пациентов к операции. Чудесное человеческое тепло доктора Вильгельма Флиса застыло под оболочкой строгой деловитости. Проведя две операции, Вильгельм тщательно вымыл руки, надел свой серый пиджак, кивнул ассистентам и сестрам в операционной и, прямой и жесткий, как штык, пошел вниз по проходам, холодно кланяясь попадавшимся ему по пути коллегам–врачам и служителям. Зигмунд полагал, что было бы неправильным пытаться пробить этот панцирь холодности, поздравив Вильгельма с виртуозной работой хирурга. Они вышли из госпиталя в одиннадцать часов. Усевшись в экипаж, Вильгельм, веселый, с широко раскрытыми глазами, обнял за плечи Зигмунда и воскликнул: – Теперь мы свободны! Можем начать наш конгресс. Попросим кучера высадить нас у Штадтбана, это быстрейший способ добраться до Грюнвальда – берлинского аналога Венского леса с его огромными просторами, речками, озерами и превосходным королевским парком. Мне знакома там каждая тропинка, каждое дерево. Ресторан «Белитцхоф», куда я поведу тебя, – один из приятнейших на озере Ванзее. Слушай внимательно: нам предстоит пройти около десятка километров по брусчатке, а по моим тропинкам – пятнадцать, этим маршрутом я пользуюсь, когда мне нужны прогулка и размышления. Что скажешь? Можешь ли вытерпеть пятнадцать километров до обеда? Я хочу рассказать тебе поразительные вещи. Зигмунд подумал: «В нем два человека; лицо, которое я вижу сейчас, он никому не покажет. Как сказал Иосиф Поллак много лет назад, вливая дистиллированную воду пациенту, чтобы излечить паралич ног, мы все – актеры». Флис выждал, пока они не углубились в густую зелень леса, шагая по мягкой тропе, а затем стал излагать то, что он с трудом удерживал в себе с момента встречи Зигмунда на вокзале. Помахивая шляпой, он начал зычным голосом: – Зиг, ты не представляешь, что значит для меня видеть тебя здесь. Мои коллеги считают меня узким специалистом. – Он схватил левую руку Зигмунда. – Ты знаешь, к чему меня привели мои данные о периодичности? К решению проблемы полового акта без противозачаточных средств! Зигмунд уставился на друга с удивлением: – Ты имеешь в виду также без зачатия? – Да, да, именно это я имею в виду! Я разрабатываю математическую формулу, основанную на менструальном цикле в двадцать восемь дней. Знаешь, что я обнаружил? Что женщины не в одинаковой мере способны к зачатию в течение месячного цикла. Собранная мною статистика, основанная на девятимесячном цикле развития ребенка, дает поразительные результаты. – Он повернулся на тропинке и сказал низким взволнованным голосом: – Слушай внимательно, мой друг! Имеются поддающиеся расчету периоды, когда женщины не производят яйцо, могущее быть оплодотворенным мужской спермой. Как только я установлю эти определенные пределы – число дней, непосредственно предшествующих менструации и следующих за ней, – супружеские пары избавятся от страха перед зачатием. Подумай об этом, Зиг, это же конец прерванным сношениям, которые, как ты установил, являются причиной многих неврозов; конец неудобным и ненадежным презервативам; конец воздержанию, лишающему счастливые супружеские пары акта любви целыми месяцами; и самое главное, не будет больше в мире нежелательных детей. Разве это не революция, если мне это удастся? Не будет ли это одним из наиболее благостных медицинских открытий? Мысли Зигмунда метались туда и сюда, как колибри, беспрестанно меняющие направление полета. – Вильгельм… ты ошеломил меня. Но есть ли у тебя уверенность? Беременность разнится по срокам: лишь немногие женщины выдерживают точно двухсотсемиде–сятидневный период вынашивания. Я понимаю, чего ты пытаешься достичь, это фантастично! Ты имеешь в виду обратный отсчет – от даты родов до даты зачатия – и, таким образом, сбор данных, которые скажут нам, когда в месячном цикле женщина может зачать, приблизительно, когда не может или по меньшей мере не… – …Именно так. Каждая семья будет вести свой собственный календарь. Согласно моим нынешним данным, – о, впереди годы работы по совершенствованию математических формул – семейные пары могут пользоваться ежемесячно двенадцатью днями свободы. – Но что скажет церковь? Подумал ли ты об этом? Она ведь не одобряет любой контроль над рождаемостью. Глаза Флиса горели от возбуждения. Он вышагивал так быстро, что они вскоре дошли до полуострова Шильдгорн с монументом, увековечившим спасение принца Язо от Альберта Медведя. Флис был слишком увлечен своими мыслями и не обратил внимания на монумент, изменив направление с западного на северное и бормоча на ходу, что там есть красивый залив и островок, где они смогут выпить по чашечке кофе. – Именно здесь и смешиваются чудеса. Я беседовал с некоторыми из моих коллег–католиков, не в лоб, а как бы случайно. Они согласны стем, что мой метод не является контролем над рождаемостью в отличие от презервативов, спринцеваний или трав, употребляемых менее просвещенными людьми. Католики не думают, что в соблюдении графика скрывается какой–то грех. Что ты скажешь, мой друг? Зигмунд покачал головой с недоверчивостью. – Вильгельм, если ты сможешь доказать свой тезис математически, то тебе поставят памятник в каждом городе западного мира. – Зиг, математика – величайшая из всех наук; она может доказать и опровергнуть что угодно. С ее помощью я могу продемонстрировать периодичность любой крошечной фазы в человеческой жизни. Думал ли ты, что мужчина также подчиняется непрерывному циклу? Имеющиеся у меня данные говорят о том, что мужской ритмический цикл составляет двадцать три дня. Возможно, что с этим мужским циклом связана менструация без крови, но с тем, что ты в своем принципе постоянства называешь избыточной энергией или нервным электротоком. Таким образом, через день–два после разрядки у мужчины начинается новый цикл, в ходе которого он набирает энергию с низшей точки и через двадцать три дня достигает высшей. Я просматривал дневники, записные книжки, журналы великих писателей и художников. У меня нет сомнения, что человеческий мозг как творческая сила не всегда работает на том же уровне с точки зрения энергии и свершений. Он работает циклично. Веди дневник с наблюдениями над собой, и ты скоро установишь границы своего собственного цикла. Зигмунд размышлял над услышанным, когда они сидели на террасе «Пихельсвердера», пили кофе и любовались заливом и перекинутым через него мостом. – Я не видел твоих доказательств, но у меня есть пациентка с маниакальной депрессией. В верхней точке цикла она приятна, ведет себя с достоинством, проницательна и уверена в себе. Затем с высшей точки она медленно сползает вниз: уверенность в себе пропадает, она уходит в себя, ее мысли становятся неясными, путаными, бессвязными, появляется страх, бессонница, потеря аппетита, физическая боль… В конце цикла она чувствует себя беспредельно несчастной и нервной с сильными побуждениями к самоубийству, вспышками самопорицания, потоками слез, резкими словами и даже действиями в отношении тех, кого она любила и кому доверяла всего несколько недель назад. Ее лицо становится неприятным, перекошенным, уродливым… Затем начинается обратный цикл: возвращается ее энергия, исчезают галлюцинации, ум светлеет, страхи уменьшаются, она возобновляет свою работу и отношения в обществе. На половине кривой подъема она становится личностью, на которую можно положиться, – ведет себя нормально. С этой точки в последней четверти цикла до достижения пика она излучает любовь и уверенность. В верхней точке несколько дней экзальтации… затем агонизирующий спуск… Флис слушал сосредоточенно. – Хорошо, хорошо! – воскликнул он. – Безупречное патологическое проявление периодичности. Зиг, а какова продолжительность цикла? – Проклятье, я отчаянно старался добраться до причин и упустил фиксацию сроков. Я бы сказал, около восьми – десяти недель. Они пошли к реке Хавель, затем вдоль ее берега к башне кайзера Вильгельма, поднялись наверх, чтобы осмотреть панораму Потсдама и Берлина. Затем добрались до ресторана «Белитцхоф» на берегу Ванзее, к этому времени Зигмунд устал и проголодался. Вильгельм заказал обед: бульон с яйцом, запеченную балтийскую рыбу с алжирским картофелем. Зигмунд с аппетитом поглощал каждое блюдо, а Флис потягивал рейнское вино и почти не прикасался к еде. После обеда они сели на скамью, с которой открывалась панорама Ванзее, подставив свои лица ласковым лучам солнца. Когда Зигмунд дал понять, что пора идти, Флис вскочил, посвежевший и помолодевший. – По короткому или по длинному пути к станции? Мне нужно время, чтобы изложить другой тезис. Первая часть положена на бумагу, но вторая требует обдумывания. Следи за мной внимательно, друг, ведь я вступаю на зыбкую почву. Зигмунд засмеялся: – Щит на груди – его руби, Макдуфф, и проклят будь, кто первый скажет «Стой!». Я отмечу синим карандашом то, что надо будет обстричь. Флис нетерпеливо улыбнулся; он умел жадно слушать, но любил и сам поговорить, не обладая искусством четко разделять то и другое. – Зиг, я вторгаюсь в твою область рефлекторного невроза носа. Ты мне рассказывал о девушке–подростке, страдавшей истерией, у которой менструация сопровождалась носовым кровотечением. Это вполне понятно, потому что существует определенная связь между слизистой носа и маткой. Тебе известно, что в носу есть ткани, способные возбуждаться? Я измерял их на своих пациентках. Слизистая носа распухает при возбуждении половых органов во время сношения и во время менструации. Более того, месячный цикл мужчины, а также женщины связан со слизистой оболочкой носа. И что более важно, с твоей точки зрения, – почти все раздражения носа отражают невротические симптомы при специфических сексуальных подавлениях и нарушениях. В слизистой носового прохода есть половая точка. Я сумел ослабить менструальные боли посредством лечения носа; можно вызвать выкидыш, анестезируя нос кокаином, свойства которого ты раскрыл. Ты удивлен; хорошо, я докажу, что циклические изменения слизистой оболочки носа и слизистой оболочки влагалища совпадают.5
На следующее утро, позавтракав а–ля фуршет булочками и кофе, они отправились на прогулку в Тиргартен, расположенный в трех кварталах от дома Флиса. В этом наиболее фешенебельном районе Берлина было много особняков с собственными садами. В такой вилле, объяснил Флис, он хотел бы жить и растить детей. В восемь часов зазвенели колокола местных церквей, призывая прихожан на воскресную службу. В распоряжении приятелей было шесть часов, до того как семейные дрожки доставят Иду в два часа дня к наиболее популярному берлинскому ресторану Кролля на Кенигсплац, напротив строящегося рейхстага. За Зигмундом было право начать «конгресс» – научную беседу. – Слушаю тебя, Зиг, я уже навострил уши. Зигмунд хихикнул. Энтузиазм Вильгельма был заразительным. – Дорогой Вильгельм, ты уже читал первый и второй варианты моей рукописи о неврозах, вызванных обеспокоенностью, так что я не могу удивить тебя в той же мере, как ты удивил вчера меня, но я добился огромного прогресса в осмыслении, с тех пор как писал тебе… – Объясняй. Никто не заставляет так быстро вращаться мои шарики, как ты… – Что такое невроз? Это клиническое явление, примечательное общей раздражительностью, боязливым ожиданием, страхом без определенной причины, проходящими физическими приступами, такими, как сердцебиение, одышка, головокружение, сильная потливость по ночам, вздрагивание и дрожь, диарея… Практический опыт убедил его в том, что беспокойство возникает вследствие некоторых физических факторов в сексуальной жизни. Он обнаружил это у девственниц, получивших сведения о сексе случайно, при неблагоприятных обстоятельствах, и у мальчиков, когда появляется эрекция, о которой они ничего не знают. Оно возникает у сознательно воздерживающихся людей; у тех, кто считает все относящееся к сексу отвратительным, кто представляет свои страхи в качестве приличной фобии, такой, как чрезмерная любовь к чистоте. Он обнаружил это у женщин, которых игнорируют мужья; у мужчин, страдающих преждевременным семяизвержением, неспособных контролировать оргазм. Синдром обеспокоенности присутствует у мужчин, женатых на женщинах, питающих к ним отвращение; у тех, кого раздражает женский половой орган и проникновение в него. Он выявил это у тех, кто полагал или кого убедили в том, что нет нужды в половом акте, а требуется любовь лишь в духовной форме. Они шагали в бодром темпе, совпадавшем с потоком мыслей Зигмунда. Голос Зигмунда звучал не так громко, как Вильгельма. Он говорил профессиональным тоном, излагая один довод за другим с такой точностью, как если бы это были плитки, скрепляемые цементом в стенную мозаику. – Возвращаясь к принципу постоянства, Вильгельм, скажу, что у каждого индивида свой порог. При нормальных обстоятельствах физическое сексуальное напряжение ведет к возбужденному физическому либидо, а оно – к совокуплению. Однако там, где невозможно сношение или оно отвергается физически, происходит трансформация, там недостает сексуального либидо, мы наблюдаем накопление физического сексуального напряжения и невроз обеспокоенности. Мои пациенты–мужчины говорили доверительно, что когда их охватывает тревога, у них исчезает половое влечение. Вместо этого повышается кровяное давление, возникают боли в спине, запоры, газы в желудке. Женщин охватывает тревожное ожидание, что простуда ребенка или мужа выльется в воспаление легких, они слышат, как мимо проносят катафалк. Таких симптомов множество в каждой приемной врача, в каждом городе: позывы к рвоте, головокружение, потеря способности ходить, обморочные приступы, позывы к мочеиспусканию, гнетущее чувство голода. Затем есть фобии и одержимость, страх перед змеями, молнией, темнотой, червями, навязчивое сомнение, парализующее уверенность в собственных мыслях. – Я осмотрел значительное число пациентов, прочел истории, записанные на пяти языках. Разумеется, существуют чисто соматические причины различных физических заболеваний; этого полно в больницах. Однако я вынужден заявить сегодня, что значительная доля таких болезней навеяна психикой. Если мы сможем найти пути, чтобы вылечить эндемическое расстройство в сексуальной натуре человека, то тогда мы сократим душевные и эмоциональные болезни, а также окажем помощь в области физических страданий. Они подошли к озеру Нейер. Вильгельм объяснил, что зимой он и Ида катаются здесь на коньках. – Зиг, как ты собираешься обуздать сексуальные невзгоды этого мира? – Успешное излечение всегда ценно для больного, получившего возможность в разумных пределах вести нормальную жизнь. Но болезни создает в первую очередь современное общество своими обманами и лицемерием, своими концепциями, что есть что–то греховное и грязное в самых естественных и основополагающих актах, осуществляемых человеком. Среди тех, у кого сексуальная активность является естественной и постоянной, нет таких невротических заболеваний. – Верно, Зиг, – согласился Флис. – Но пока ты не можешь перестроить современное общество и освободить сексуальный акт от оков глупости. Как же ты предлагаешь действовать? Они пересекли широкую дорожку для конной езды, обсаженную высокими деревьями, ветви которых смыкались над головой. Со вкусом одетые наездники Берлина, прямо сидящие в седле, галопировали, словно напоказ. – Посредством выявления нормального в ненормальном, путем изучения всего относящегося к подсознанию, как оно работает, как контролирует индивида, и затем посредством понимания и научного измерения факторов, помогающих сознанию человека видеть то, чему не дает проявиться в подсознании цензор, и таким образом освободить себя от пут, от этого безжалостного хозяина. Как предотвратить становление вредоносного сексуального ядра? Идеальной альтернативой были бы свободные половые сношения между молодыми мужчинами и респектабельными девушками, к которым следует прибегать в том случае, если имеются безвредные превентивные способы. Твой метод, Вильгельм, послужил бы этой цели. При отсутствии трезвого подхода к сексуальности наше общество, по–видимому, обречено стать жертвой все более и более распространяющихся неврозов, ограничивающих радость жизни, разрушающих отношения между мужчинами и женщинами и несущих разрушение наследственности грядущим поколениям. Пройдя вдоль Шпрее, они вышли к дворцу Бельвю, охристо–желтый фасад которого украшал ряд скульптур. За дворцом, в густом парке, на скамьях, страстно обнимались сторожа и няньки. – Скажу тебе, дорогой Вильгельм, врач стоит перед проблемой, решение которой вполне заслуживает больших усилий. Зигмунд возвратился в Вену посвежевший и полный сил. Марта и новорожденная дочь так хорошо выглядели, что он решил отметить это, побывав с Мартой в Народном театре Пратера на балете «Вокруг мира за восемьдесят дней». Затем они поужинали в ресторане «Айсфогель». Зигмунд рассказал ей о Флисе, о жизни этой четы в Берлине, но умолчал о его теориях. Он изложил свое мнение о «раздвоенности» Флиса. Марта воскликнула: – Он ас в своей профессии, зачем ему напускать на себя важность, общаясь с коллегами? – Это не важничанье, дорогая, это еще одна из человеческих масок. Бернгейм сказал: «Мы все во власти галлюцинаций». Имея в виду раздвоенность личности, не следует ли нам снять ту же самую виллу в Рейхенау на лето? Мне не нужно быть в Вене более трех дней в неделю. По утрам я буду работать; после полудня мы можем гулять по лесу, собирать грибы… Марта огляделась по сторонам и украдкой поцеловала его в щеку. – О, Зиги, я за это, давай поедем пораньше, в июне, а вернемся попозже, не ранее октября. Детям хорошо, когда ты с ними. Сколько он ни старался, он не смог встретиться с Йозефом Брейером. Тот стал большой знаменитостью, его то и дело вызывали по срочным делам в разные столицы Европы. У него просто не было времени поговорить с Зигмундом о задуманной книге, посвященной истерии, поэтому Зигмунд перестал работать над ней. В июле ему попался экземпляр французского «Медицинского журнала», где он обнаружил, что занимающий важное положение в Сальпетриере доктор Пьер Жане высоко отозвался о предварительном сообщении Брейера и Фрейда… как подтверждающем его собственные исследования и выводы. Он сидел в библиотеке Йозефа до тех пор, пока не дождался хозяина. К его изумлению, Йозеф был, как ребенок, в восторге от похвалы Жане. – Превосходно, Зиг. Пьер Жане скоро станет самым лучшим неврологом Франции. Его поддержка может иметь решающее значение, когда речь идет о таких спорных тезисах, как наши. Слово «наши» вызвало у Зигмунда улыбку. Дважды после опубликования сообщения Йозеф употребил в разговоре слово «твое». – Йозеф, теперь, когда мы убедились, что стоим на правильном пути, почему бы нам не выступить с самой книгой? Мы можем убедить медиков, лишь представив наши отчеты, они подтверждают правильность нашей теории. – Да, Зиг, думаю, что время пришло. Почему бы не описать наши основные случаи? А я погляжу, как они будут смотреться. Помни: осторожность прежде всего; мы должны защитить наших пациентов. Я никогда не допущу, чтобы кто–то подозревал, что моя Анна О. есть на самом деле Берта Паппенгейм… В августе неожиданно умер профессор Жан–Мартен Шарко. Зигмунд написал статью, воздающую должное покойному, и опубликовал ее в венском «Медицинском журнале». Статью благосклонно приняли в немецких и французских медицинских кругах. Леса вокруг Рейхенау были густыми и прохладными. Зигмунд научил детей различать грибы и находить их в потаенных местах. Был установлен приз тому, кто соберет больше всех. После раннего ужина он читал им сказки Ганса Христиана Андерсена или братьев Гримм, играл в скороговорки: «На дворе трава, на траве дрова». Перед сном он читал с ними молитву, и даже пятнадцатимесячный Эрнст храбро сражался со словами этой молитвы. Время его пребывания в городе зависело от числа посетителей, ожидавших в неврологическом отделении Института Кассовица. В знойные дни в его приемной не появлялись больные неврозом, и Зигмунд с иронией говорил: – В палящую жару горы, леса и холодные голубые озера делают для них больше, чем я. Но всегда останутся больные дети и матери, глаза которых наполнены болью. Многие приходили к нему по рекомендациям других врачей, отделений Городской больницы, некоторые, чьи дети страдали заторможенным развитием или тревожными отклонениями, – из самого института. Он гордился тем, что его считали хорошим детским неврологом, и в то же время его постоянно мучила мысль, что в медицинской науке так мало приносящего ощутимую помощь.6
Они возвратились в Вену в первые прохладные дни октября. Зигмунда ожидало множество пациентов: близкий к фригидности молодой муж, страдающий воспалением толстого кишечника; молодая жена, так страшившаяся иметь ребенка, что с наступлением ночи у нее возникала истерическая тревога; тридцатипятилетняя женщина, смертельно боявшаяся пойти в лавку без сопровождения. Несколько месяцев назад она зашла в магазин, где двое продавцов, как ей показалось, иронизировали над ее одеждой; оскорбление было тем более велико, что один из продавцов показался ей привлекательным. Она выбежала в страхе из магазина. Зондирующие вопросы Зигмунда позволили установить, что пациентка была хорошо и со вкусом одета. Следовательно, за ее восприятием случившегося скрывалось более серьезное воспоминание. Ему удалось вернуть пациентку ко времени, когда ей было восемь лет. Однажды ей пришлось одной пойти в лавку сладостей. Хозяин лавки пощупал через платье ее половые органы. Испуганная, она убежала, но спустя неделю пришла вновь. Хозяин, воспринявший ее возвращение как знак согласия, долго гладил ее клитор. Подавленное воспоминание вернулось в виде острой тревоги. Было ли причиной ее расстройства обращение с ней хозяина? Нет, она призналась после нескольких сеансов, что причиной было ее возвращение в лавку и чувство вины по поводу желания, чтобы хозяин вновь погладил ее. Она боится сейчас ходить в магазин одна не потому, что продавцы станут иронизировать над ее одеждой, а из–за опасения, что у нее может появиться желание, чтобы нравящийся ей продавец погладил ее. Чувство вины и страха вызвало обеспокоенность. Из университета к нему направили студента–медика; по его рассказам, он изнасиловал свою сестру, убил двоюродного брата и поджег родительский дом. После беглой проверки Зигмунд узнал, что двоюродный брат жив и здоров, дом цел, сестра не обесчещена. Он искал действительную причину, породившую сокрушающее чувство вины, и обнаружил ее в привычке к рукоблудию. Почему молодой человек был так поражен этим мелким грехом, что стремится заменить его публичным признанием в кровосмесительстве и убийстве? Доктор откровенно не мог сказать, но полагал, что ему известно средство излечения. – Найдите себе женщину, с которой вы можете иметь нормальные половые отношения, даже если вам придется пожертвовать деньгами, которые вы тратите сейчас на питание. Вы можете позволить себе потерять десять – двенадцать килограммов веса – их не сложно восстановить, – но не ваше нормальное психическое состояние. Он писал Флису: «Пациенты уходят под сильным впечатлением и убежденные, восклицая: «Никто меня никогда об этом не спрашивал!» Большинство врачей знали или подозревали, что у части их пациентов болезни вызваны сексуальными проблемами. Но говорить об этом запрещалось; приват–доцент доктор Зигмунд Фрейд первый направил луч света в темный угол. Его успеху способствовало то, что его приемная обеспечивала полную скрытность, обследуемый не встречался ни с горничной, ни с членами семьи, ни с другими пациентами. Строгая, почти монашеская суровость консультационной комнаты развязывала языки больным, когда требовалось копнуть глубже в неизведанную память. Доктор Зигмунд Фрейд обладал подходящим темпераментом для деликатных признаний: степенный, рассудительный, заботливый, собранный, беспристрастный, добрый семьянин, типичный буржуа, порядочный, щепетильный в вопросах морали, сдержанный, способный самым щекотливым откровениям придать выдержанный научный стиль. Он садился напротив пациента в традиционной для венского врача одежде: темный пиджак, облегающий жилет с золотой цепочкой часов, белая сорочка, темный галстук. Слегка седеющие шевелюра и борода, бесстрастные темные глаза создавали ощущение доверия к его методам и мотивам. Из Нью–Йорка пришло пространное письмо от Эли Бернейса. Он обосновался на торговой бирже, его доходы росли. К письму был приложен чек на имя сестры Зигмунда Паули для оплаты ее поездки с его дочерьми в Нью–Йорк. Паули пришла к ужину и привела с собой восьмилетнюю Юдифь Бернейс. Паули спросила, могла бы она поговорить с братом. Он отвел ее в свой рабочий кабинет. – Зиги, я не хочу беседовать с мамой и папой без твоего совета. Мне хотелось бы навсегда остаться в Нью–Йорке. Зигмунд вглядывался в лицо сестры. Она не слыла красавицей, но и не была лишена приятности, а как девушка, как человек могла составить хорошую компанию. Не за горами было ее тридцатилетие, а она оставалась незамужней. – Ты несчастна, Паули? – Нет, не несчастна. – Выражение ее лица оставалось спокойным. – Просто… я не сделала всего. Мне следовало бы уже быть замужем и иметь двоих детей, но здесь просто нет шансов. Хорошо Розе, у нее куча поклонников, и она может выйти замуж в любой момент, когда захочет. Но Вена, кажется, обошла меня. – Какие же венцы глупые! Паули пожала плечами. – Я не хочу оставаться старой девой. Эли пишет, что одинокие мужчины съезжаются в Нью–Йорк со всего света и сразу начинают искать себе жену. Мне бы хотелось попытать свое счастье. Зигмунд обнял сестру за плечи. – В таком случае ты можешь задержаться там так долго, как нужно. Я буду посылать тебе деньги на расходы каждый месяц, чтобы ты была независима. Паули поцеловала его. – И ты скажешь маме и папе, не так ли? – Скажу. Но не сразу. Я потихоньку их подготовлю, пока ты там. Таким образом, ты сможешь вернуться, если пожелаешь, а если выйдешь замуж, тогда станет ясно, что ты будешь жить там. Вскоре в его распоряжении оказались описания сотни случаев невроза обеспокоенности, Собранные воедино и документированные. Не все случаи были четко выраженными; иногда пациент являлся с жалобами на десятки недомоганий, не имевших видимых связей с сексуальными проблемами. Зигмунд добросовестно их записывал, даже если они вроде бы подрывали его гипотезу. Его поставил в тупик сорокадвухлетний мужчина, имевший трех детей в возрасте семнадцати, шестнадцати и тринадцати лет. Этот мужчина в течение десяти лет прибегал к прерванному сношению и не испытывал неприятных последствий, но шесть лет назад, когда умирал его отец, с ним случился острый приступ тревоги, породивший представление, будто у него рак языка, больное сердце, агорафобия[11] и диспепсия. Пациент не переставая твердил: – Когда умер мой отец, я вдруг понял, что теперь очередь за мной. Сейчас я только отец и больше не сын; скоро сыновья будут оплакивать меня. Я никогда не думал о смерти до кончины отца, теперь я постоянно думаю о ней. – Каждый человек страшится смерти, – рассуждал Зигмунд, – с незапамятных времен она тревожила человека. Даже в нашем умудренном обществе страх перед смертью неизменно присутствует. Так что совершенно нормально, что вы страшитесь ее. Но ненормальны ваши страхи по поводу рака и болезни сердца, вот отзывы специалистов, к которым я вас направлял. Ваши язык и сердце в отличном состоянии. Осмотрев вас, могу сказать, что впереди у вас долгая жизнь. Вы знаете, что такое ипохондрия?… Он не мог определить, приходят ли к нему больные в соответствии с каким–то циклом, или же он приобрел проницательность, позволяющую ему ставить более глубокие диагнозы и видеть у пациентов то, что ранее не распознавал, учитывать соображения, казавшиеся несколько месяцев назад несущественными. Подобно тому, как при раскопках возрождалась Троя, он получил способность выявлять происходившее ранее. Он выполнил предписание профессора Шарко стать «видящим». Ежедневно он принимал по восемь пациентов с неврозами. Поскольку каждому пациенту требовался час, а также время, чтобы они разошлись, не встречаясь друг с другом, ему пришлось отказаться от нескольких часов работы в Институте Кассовица и передать их доктору Оскару Рие и его свояку доктору Людвигу Розенштейну. Новое открытие он назвал оборонительным нейропсихозом, определив его в своих записях как благоприобретенную истерию. При разборе имевшихся в его распоряжении случаев он обратил внимание, что такая «оборона» возникает, когда в сознании пациента происходит нечто несовместимое с его остальным «я». Названное им актом защиты заключалось в стремлении изгнать из памяти неприятные мысли. В целях самозащиты «я» объявляет такие мысли несуществующими или же превращает раздражающую мысль в слабую, которая уже не тревожит, ослабляя тем самым вредное воздействие раздражения, совокупность возбуждения или энергии, которыми нагружены эти мысли. В свете принципа постоянства эта нервная энергия, психическое возбуждение, отобранные от нежелательной мысли, прилагались в ином направлении, получали выход в иной концепции, по иному каналу. Страдающие истерией, трансформируя свое возбуждение в соматический приступ, прибегают к процессу, который он назвал конверсией. У таких пациентов, мужчин и женщин, подавленные мысли не изгоняются, как рассказывали ему женщины–пациентки, а принимают иную форму: отбрасываемая мысль заменяется другой, совместимой с их «я». Таким образом возникает навязчивость, некая фобия. Такой вид защиты, не осознанный в своем становлении, дает возможность пациенту оплачивать свои долги, иногда с ростовщическим процентом. Пациент никоим образом не отдает себе отчета в том, что навязчивая мысль, или фобия, заменяет первоначальную неприятную ему мысль, которая уходит в подсознание и остается активной до тех пор, пока не рассеется или не истощится первоначальный травмирующий материал! Как и в отношении случаев, связанных с обеспокоенностью, первоначальная подавленная и превратившаяся в навязчивую мысль идея была почти всегда сексуального происхождения; имевшиеся в его распоряжении случаи делали такое заключение неизбежным. Двадцатилетняя женщина страдала странным расстройством – любое преступление, о котором она узнавала по утрам из «Нойе Фрайе Прессе», приписывала затем себе: если в Пратере было совершено убийство, то именно она заколола жертву; если произошла кража в лавке, то именно она украла драгоценности; если кто–то поджег дом, то поджигателем опять была она. Она считала себя морально обязанной признаться в преступлении. Когда ей говорили, что она этого сделать не могла, поскольку многие знали, что в момент убийства, кражи, поджога она находилась дома, женщина соглашалась, но на следующее утро вновь оговаривала себя. Зигмунд осторожно прикоснулся ко лбу молодой женщины, попросил ее сосредоточиться на событии или лице, которые придут ей на ум. Было трудно добиться сотрудничества с ее стороны, но ее семья проявляла настойчивость. Зигмунд терпеливо шел к разгадке; через несколько недель она призналась, что женщина старше возрастом склонила ее к совместному рукоблудию и на этой почве у нее возникло нервное расстройство. Она не осмеливалась рассказать кому–либо, считая это греховным и безнравственным. В качестве защиты ощущение вины подменилось самоистязанием; итак, теперь можно было признаваться каждый день в злодеяниях… изливая психическую энергию в фальшивых самообвинениях. Одновременно он занимался лечением молодой женщины, выросшей в обстановке строгих нравов. Ее убедили в том, что все касающееся пола грязное и плохое, и она решила не выходить замуж. У нее развилась фобия в виде психического страха, что она не сможет побороть желания помочиться и нальет в штаны; эта фобия стала настолько сильной, что она не осмеливалась выходить из дома, посещать магазин, театр и любое общественное место. Она чувствовала себя в безопасности только дома, в двух шагах от туалета, выбрав себе участь вечной затворницы. Зигмунд направил ее к урологу. Тот не нашел каких–либо нарушений в почках, мочевом пузыре, мочеиспускательных каналах и половых органах. Зигмунд решил, что ее страх был защитой, подменившей неприемлемую идею или событие. Но как выяснить это? Применение метода свободной ассоциации в течение нескольких недель не привело к успеху. Сам он не мог найти ключевую мысль. Легкий нажим на лоб женщины также не помог появлению каких–либо существенных данных. Она же утверждала, что скорее покончит с собой, чем станет обсуждать что–либо связанное с сексуальностью. Терпение оправдало себя. В конце концов, с губ женщины слетела глубоко скрывавшаяся истина. Она была на концерте в зале Музыкального общества и увидела чуть поодаль мужчину, который ей нравился и вопреки ее желанию возбуждал ее. Она стала фантазировать, вообразив себя женой, сидящей вместе с ним на концерте. Внезапно она почувствовала сильное сексуальное влечение и тут же неудержимый позыв помочиться. Ей пришлось пробраться через ряд сидящих и рвануться по проходу в женский туалет, где она обнаружила, что слегка намочила свои трусики. В последующие дни ее охватило чувство вины, граничащее с отвращением; она решила не думать больше никогда об этом мужчине. Тем не менее, у нее начались эротические грезы, сосредоточенные на нем, а иногда на других мужчинах, нравившихся ей, и всегда сопровождавшиеся позывами к мочеиспусканию. Как врач Зигмунд должен был выполнить троякую задачу: выявить психические позывы к мочеиспусканию; связать эти позывы с сексуальной природой женщины, убедить молодую женщину, что ошибаются те, кто настроил ее против любви, что сексуальные отношения между людьми, испытывающими тягу друг к другу, особенно в условиях безопасности и эмоционального благополучия, обеспечиваемых браком, представляют собой созидательный акт содержательного и длительного удовлетворения. Процесс оказался трудоемким, капли воды просачивались через окаменевшие наслоения, которые надлежало растворить часто повторяемыми словами, фразами, предложениями, пробить песчинками логики. Зигмунду пришлось сочетать исполинское терпение с серьезным выражением лица и манерами учителя, убеждая ее в правильности, чистоте и жизненности своей философии. Затем пациентка встретила молодого человека, восхитившего ее и ее семью, были намечены планы свадьбы… Пациентка радостно объявила, что излечилась. Следующий случай относился к женщине, бывшей замужем пять лет и имевшей ребенка: «Была счастливой в браке, господин доктор, всякий согласится с этим». В последние полтора года она испытывала навязчивое желание выброситься из окна или прыгнуть с балкона своего дома. Импульс был настолько мощным, что ей пришлось запереть балконную дверь, а доступ к окнам преградить стульями. Когда она входила в кухню и видела острый нож, в нее вселялась мысль, что она заколет им своего ребенка. Ее одолевала безумная мысль, что она может совершить самоубийство и оставить ребенка сиротой или же убить его. – Господин доктор, что со мной? – Фрау Олер, ответ один – вы несчастны. Ни у одного молодого счастливого человека не может появиться мысль выброситься из окна или убить собственного ребенка. – Но почему я несчастна? – Как профессионал, могу предположить, фрау Олер, что вы несчастны в браке. Будем честны как врач и пациент: что неладно в вашем супружестве, если вы хотите уничтожить и себя и плод вашего союза? Ложитесь, будьте добры, на кушетку. Пожалуйста, скажите, что приходит вам на ум? Старайтесь не подвергать цензуре ваши видения и мысли. Воцарилось длительное молчание; затем фрау Олер прошептала: «Ощущение, что… предмет… засовывают… мне под юбку». – Вы, конечно, знаете, какой предмет? – …Да. – Тогда расскажите, пожалуйста, о вашем браке. Молодая женщина залилась слезами. Она всхлипывала: – Я почти никогда не имела половых сношений с мужем. Он не хочет меня. Когда он пытался несколько раз осуществить соитие, то не мог кончить. Так продолжается уже три года после рождения ребенка. Но почему все это вызывает в моей голове мысль о самоубийстве, ведь я не чувственная и не страдаю от того, что отсутствуют супружеские сношения? – У вас не бывает эротических фантазий, когда вы видите других мужчин, которых высоко ставите, или находитесь вместе с ними? – …Да… Эротические мысли… это когда я чувствую, что… нечто засовывают под мою юбку. Меня охватывает чувство стыда, и я думаю, что меня следует наказать, что я должна умереть… – Фрау Олер, я не был бы настоящим врачом, если бы не признал, что вы стоите перед серьезной проблемой. Я осознаю, что развод невозможен для лиц вашей веры. Вы должны найти пути к тому, чтобы ваш муж чаще и с большим успехом осуществлял половой акт. Я бессилен вам помочь. Однако я могу и должен помочь вам освободиться от навязчивой мысли о самоубийстве и убийстве ребенка. Ваш мозг ввел эту навязчивую мысль, подменив то, что вы считаете более порицаемым грехом, – эротические чувства к мужчинам. Вы должны избавиться от представления, будто вам не нужны супружеские сношения. Если вы открыто признаете, что у вас есть сильная сексуальная потребность, остающаяся неудовлетворенной, и что это вовсе не грех, за который вас следует порицать или объявлять вам общественный бойкот, то тогда вы освободитесь от навязчивой мысли, которая подрывает ваше душевное спокойствие. – Думаю, что понимаю… по крайней мере немного. Вы говорите, что, когда у меня появляется эротическое желание в отношении других мужчин, мне не следует считать себя развратной… или думать, что меня надо наказать, а это вызывает желание выброситься в окно или заколоть ребенка. Все, что я должна помнить, – это то, что мое эротическое чувство нормально и я должна найти средства помочь мужу любить меня. – Да, фрау Олер, именно это я говорю. От вас зависит держать такие мысли в вашем сознании… С другой пациенткой он потерпел полное фиаско. Это была молодая девушка, влюбившаяся в мужчину, который, как она полагала, отвечал ей взаимностью. Однако истина была в том, что он приходил в ее дом с иными целями. Узнав об этом, девушка расстроилась, впала в депрессию, заболела. В день, когда собиралась вся семья, она убедила себя в том, что на встрече будет и молодой человек, он явится, чтобы повидаться с ней. Так она и сказала своим родственникам. Она ждала весь день и к ночи стала жертвой того, что Зигмунд назвал «состоянием галлюцинаторного смешения»: она уверовала, что мужчина пришел, она слышала, как он шел по саду и пел, она бросилась в ночной рубашке ему навстречу… В последующие месяцы ей казалось, что он рядом с ней, признался ей в любви, что они поженятся. Она была счастлива, живя в иллюзорном мире. Любая попытка семьи и доктора Фрейда разрушить эту фантазию возвращала ее в депрессию. Она зашла, видимо, слишком далеко, и вернуть ее в нормальное состояние было уже невозможно. Зигмунд старался объяснить происшедшее отчаявшимся родителям: непереносимая мысль, что ее отвергли, взяла верх над рассудком; эта мысль была для нее совершенно неприемлемой, и ее подсознание в порядке защиты создало иной мир, в котором она жила. Благодаря навязчивой мысли, что молодой человек любит ее и находится рядом, она была способна разрядить нервную энергию, которую не желала или не могла высвободить при подавленной мысли о том, что она нелюбима. В своих заметках он писал: «Хотя пациенты и знают о сексуальном источнике своих навязчивых идей, они часто держат это в секрете… обычно выражают удивление, что могут быть объектом такого воздействия, что у них могут быть обеспокоенность или определенные импульсы… Ни один приют для умалишенных не свободен от аналогичных образчиков: матери, заболевшей из–за потери ребенка и ныне укачивающей полено, которое она не выпускает из рук; или обольщенной невесты, которая при полном свадебном параде годами ожидает жениха».7
К Фрейду пришел пожилой, тучный, с почти квадратной головой заместитель министра в австрийском правительстве, страдавший манией преследования. На вопрос Зигмунда, кто его преследует, он ответил: – Каждый. Все в моем ведомстве; незнакомцы, сидящие рядом со мной в кафе; прохожие на улицах; моя семья и друзья. Они обвиняют меня в самых ужасных преступлениях. – Как же вы узнали, что они говорят о вас? – Я слышу их голоса. Я выработал этот нехитрый способ. Я слышу их говор, даже если они находятся в соседней комнате или на противоположной стороне улицы. Они обвиняют меня в том, что я краду документы из моего ведомства и продаю их врагу, заказываю дрянное обмундирование для армии и приобретаю недоброкачественный провиант для солдат. – Но ведь вы не виноваты ни в чем подобном, господин Мюллер? Вы уважаемый человек в министерстве. – Зачем же тогда плетут заговор против меня? – Господин Мюллер, никто не устраивает заговора против вас. Голоса, которые вы слышите, это ваши собственные. Мужчина уставился на доктора с открытым ртом. – Что вы говорите? Я не разговариваю сам с собой. Я не сумасшедший. Я узнаю голоса. – Голоса поступают из глубин вашего ума. – Зачем я буду говорить сам с собой? Зачем я буду выдвигать обвинения, зная, что не виновен в преступлениях? – Вы одержимы идеей вины. Мое лечение будет заключаться в том, чтобы установить, в чем вы действительно чувствуете себя виноватым. Прошло значительное время, прежде чем Зигмунд узнал, что господин Мюллер, женатый, семейный человек, сошелся с молодой проституткой в Пратере и подцепил гонорею. Не посмев признаться домашнему врачу, он заразил свою жену. Зигмунд пришел к заключению, что голоса пытались внушить ему, будто он не предатель или вымогатель, а аморальный человек, который навлек неприятности на себя и на свою семью. Зигмунд убедил его признаться во всем жене и обоим отправиться к урологу. Господин Мюллер и его жена вылечились от гонореи, но обвиняющие голоса продолжали преследовать пациента! Зигмунд был огорчен и расстроен: убежденный в правильности своей теории, он не добился успеха на практике. Очевидно, гонорея была слишком близким по времени «преступлением» и не она возбуждала голоса. Он углубился в прошлое Мюллера, но выудил всего лишь страх перед отцом, сочетавшийся с непонятными тревогами и враждебностью к старшему Мюллеру. Казалось, что пациент обременен грудой провинностей в отношении отца, однако тщательное исследование показало, что Мюллер был хорошим и щедрым сыном. Зигмунд так и не решил проблемы. У неудач словно было собственное расписание: хорошо образованный, вежливый тридцатилетний мужчина пришел к нему с иной одержимостью. После смерти отца он перестал ходить по улицам Вены из–за жгучего желания убить каждого встречного. Опасаясь поддаться тяге к убийству, он целыми днями сидел взаперти в своей квартире, разрушив собственную карьеру. В тех случаях, когда ему приходилось выходить на улицу, он считал обязательным удостовериться, куда скрылся тот или иной прохожий, дабы быть спокойным, что это не он спрятал тело. Подобно молодой женщине, воображавшей, что она повинна в каждом преступлении, о котором сообщалось в «Нойе Фрайе Прессе», он думал о себе как о «разыскиваемом убийце». Зигмунд не мог найти решения, хотя каждый раз, когда в ходе анализа они углублялись в детство пациента, возникала гигантская фигура отца: резкого от природы, требовательного к дисциплине. Сын не любил отца, по сути дела, противился ему большую часть своей жизни. Каким же образом, спрашивал себя Зигмунд, смерть отца могла навязать одержимость сыну и у него возникло желание убить каждого встречного? Интуитивно он понимал, что здесь есть связь со случаем господина Мюллера, слышавшего голоса, причем отец выступал общим фактором. Он не мог определить, в чем же тут дело. Требовалось исследование! Однажды он принял пациентку, направленную коллегой из Института Кассовица. Интеллигентная девушка, она ненавидела служанок в родительском доме, ссорилась с ними, а они либо уходили сами, либо их увольняли. В доме сложилась нетерпимая обстановка. Ее привела мать. Удобно усадив ее, Зигмунд спросил: – Не можете ли вы рассказать о мотивах вашей ненависти к служанкам? Вы должны раскрыть мне мотивы, врачей обманывать нельзя. – Вульгарность этих девок! – выпалила она. – Они испортили все мое представление о любви. Я знаю, чем они занимаются в свободные дни. Они имеют половые сношения с солдатами и рабочими. Можно ли думать красиво о любви, если знаешь, как вульгарно это делается? Зигмунду пришлось подумать. Он понимал, что она давала честный ответ, рожденный ее сознанием, однако полагал, что сказанное ею отражало защиту, сокрытие другой мысли, неприемлемой и нетерпимой для рассудка, открывало выход избытку психической энергии. – Пожалуйста, ложитесь на кушетку. Я сяду за вами. И не смотрите на книги и произведения искусства на стене. Посмотрите на свою собственную жизнь. Взгляните в прошлое, где, я полагаю, скрывается проблема. Расскажите о самом ярком эпизоде вашего детства. Молодая женщина сказала мало, да и изложенное ею подверглось ее же мысленной цензуре и не могло быть использовано. Зигмунд был в отчаянии, пытался применить ложные заходы, задавал не относящиеся к делу вопросы, оказывал нажим на пациентку. Это усилило ее враждебность и воинственность. Такое случалось и ранее, когда ему не удавался контакт с пациентом по причине предвзятого представления о характере болезни или же запоздания с выявлением ключа. Он злился на самого себя, сетовал на нехватку умения, но успокоился, вспомнив итальянское выражение: «Самое красивое слово в любом языке – «да», самое полезное – «терпение». Почти целый месяц он не мог побудить ее смело оценить сцену, вызвавшую ее одержимость. – …Я вижу маму… чужого мужчину… не папу… в постели… предающимися любви… обнаженными… Я могу видеть все, слышать все животные звуки… противно и вульгарно… это вызывает отвращение. Зигмунд отвечал монотонным голосом: – Это мог быть кто угодно. Вам не повезло, что вы столкнулись с этим. Настроило ли это вас против матери? – …Нет. Я ее нежно люблю. Сначала я думала, что следует уйти из дома, переехать к бабушке. Мне было трудно взглянуть в глаза мамы. Но я не могла ее бросить. Она для меня дороже всего на свете. – Разве вы не видите совершенной вами подмены? Вы не сердитесь на служанок на самом деле, не верите, что они опошляют и огрубляют любовь. Кто–то очернил любовь в ваших глазах, но этот кто–то человек, которого вы не хотели бы видеть в роли очернителя. В порядке защиты вы устранили этот образ и заменили его образами служанок и солдат. Надеюсь, теперь вы найдете в себе силы простить вашу мать или по меньшей мере понять ее? Это мог быть такой период в ее жизни, когда она была несчастна. В то время вы не могли этого понять, вы были слишком молоды. Вы повзрослели и должнысочувствовать ей. Если вы преуспеете в этом, вы смело оцените подавленную сцену и изгоните ее из памяти. Вместе с ней исчезнет и одержимость по отношению к служанкам. Это и произошло, хотя доктору Фрейду пришлось повторять свое внушение в течение еще одного месяца. Когда мать пришла оплатить счет, она сказала: – Не знаю, как вы добились этого, господин доктор, но это Богом послано нашей семье. В этот же день к нему обратилась новая пациентка, которая мыла руки по тридцать – сорок раз в день и не прикасалась ни к чему в доме без перчаток. Это был обостренный страх перед пылью, с которым Зигмунд уже встречался. Он спросил: – Фрау Планк, сколько времени прошло после того, как вы видели на сцене или читали «Макбет»? – Господин доктор, я не вижу связи. – Помните, когда леди Макбет замыслила убить короля? Затем она все время пыталась смыть кровь. «Все ароматы Аравии не омоют этой маленькой руки». – Вы намекаете, что я убила кого–то? – О нет. Шекспир мыслил символами. Вы так же часто моете другие части тела, как руки? Щеки женщины зарделись. Она ответила высокомерно: – Какое вам дело до того, как часто я мою другие части тела? Он сохранил выдержку. – Фрау Планк, как раз вы и ответили на мой вопрос. – Что же, хорошо, – вспылила она. – Я подмываюсь каждые полчаса. Какое это имеет отношение к моему нервному состоянию? – Это симптом. Конечно, вы знаете, что стараетесь смыть не пыль? – Что же я тогда стараюсь смыть? – спросила она с вызовом. – Чувство вины. Фрау Планк уставилась на него широко раскрытыми глазами, а затем зарыдала. Но она продолжала молчать, и, чтобы подойти к существу, потребовалось много сеансов. – Как вы узнали? – В моей практике были и другие случаи мизофобии, боязни грязи, и все они были результатом некоей формы проступка, которого не может приять пациент и который старается удалить из своего сознания. Она ответила хриплым голосом: – Я изменила мужу. Встретила мужчину, вскружившего мне голову на какое–то короткое время. Примерно два месяца мы встречались в полдень у него дома. – И эту неверность вы стараетесь вычеркнуть из вашей памяти? – Я чувствую лишь угрызения совести. Но невозможно жить день и ночь с этим чувством, ведь есть муж, дети и родители, за которыми надо ухаживать. Я решила утопить эпизод в глубине моей памяти. – Сегодня у меня была пациентка, сказавшая мне: «Однажды со мной случилось нечто неприятное, и я старалась всеми силами отторгнуть это и не думать о случившемся. Наконец мне это удалось, но взамен появилось другое расстройство, от которого я никак не могу избавиться». Ваша одержимость в отношении грязи представляет подмену неприемлемых вами воспоминаний. Но вы больше страдаете от навязчивой мысли, чем от чувства вины. Не пришло ли время открыто взглянуть на то, что вы сделали, простить себя и освободиться, чтобы быть внимательной к мужу и детям? Если вы позволите нынешней одержимости развиваться, она буквально сожрет ваше психическое здоровье. Если же вы считаете, что не можете простить себе и избавиться от чувства вины, тогда, возможно, следует рассказать об эпизоде мужу. Это будет болезненно, но большинство любящих мужчин и женщин умудряются разрешить проблему. Это также может освободить вас. Приходили старые и молодые, богатые и бедные, мужчины и женщины, заболевшие и не имевшие ранее возможности поговорить с врачом. Пришел молодой человек, который не мог испражняться, хотя и толстый кишечник, и задний проход были совершенно нормальными. Зигмунду стоило большого труда выяснить, что в результате какой–то путаницы в детстве у этого молодого человека возникла фобия, будто испражнение подобно семяизвержению из мужского органа, что казалось ему отвратительным. Посетила Зигмунда женщина, страдавшая от аритмомании, считавшая каждую ступень лестницы, каждую половую доску, подсчитывавшая даже время мочеиспускания, чтобы убедиться, встанет ли она при счете сто. Стало ясно, что это также акт защиты, отвлекавший от соблазнительных сексуальных грез, становившихся со временем все более навязчивыми, а впереди не было видов на любовь и брак. Пришел молодой человек, которого старший по возрасту кузен склонил к анальному сношению, а он сам под влиянием чувства вины осуществил такой же по характеру реванш в отношении младшей сестры. Он мучился навязчивой мыслью, что полиции известно о его преступлении, что за ним следят день и ночь. Ему повсюду мерещились полицейские; четыре–пять раз в день он пытался пойти в полицейский участок, чтобы признаться в содеянном, и каждый раз убегал в испуге. Обращалась женщина, одержимая змеями; они виделись ей в ножках стульев и столов; как это было у Берты Паппенгейм и фрау Эмми фон Нейштадт, в змеи превращались ленты для волос, тесемки, пояса… Зигмунд и Иозеф Брейер независимо друг от друга пришли к мысли, что змея представляет первичный сексуальный символ, подменяющий пенис. Женщины, считавшие себя виноватыми в таких фантазиях и желаниях, перевоплощали образ фаллоса в образ змеи. Зигмунд пришел также к выводу на основании показаний пациентов и чтения литературы, что ящик представляет собой универсальный сексуальный символ матки.8
Он наслаждался полнотой жизни. Иногда проницательные идеи возникали с такой молниеносной быстротой и ясностью, что, казалось, взорвется мозг. Временами он испытывал затруднения и даже испуг перед неортодоксальными, еретическими концепциями, которые – он хорошо понимал это – навлекут на его голову гнев общества, если будут опубликованы его материалы. В такие моменты у него появлялась мигрень или же набухала слизистая оболочка носа и было трудно дышать. Когда боль становилась слишком сильной, он закапывал кокаин в нос, как советовал Флис, да и сам Флис пользовался этим приемом при неприятностях с носом. Во время последнего визита Флиса в Вену доктор Герзуни оперировал его нос; и когда Зигмунд в очередной раз посетил Берлин, то Флис получил его согласие на операцию. Зигмунд думал: как странно, что он и Вильгельм Флис, столь похожие по творческому темпераменту, страдали одинаковым физическим недугом. Нет ли здесь связи? В течение дня он не мог выкроить достаточно времени для работы, которую хотел сделать, и поэтому засиживался до двух часов ночи над рукописью о защитном психоневрозе и над другой, под названием «Одержимость и фобии», основанной на его наблюдениях за прошедшие годы. Марта не возражала, она чувствовала бурлящие в нем творческие силы, его удовлетворение достигнутым прогрессом. Супруги Фрейд уже сняли виллу в горах для «летнего отдыха», и, таким образом, скоро он будет полностью принадлежать ей. Марта просила только об одном: чтобы по ночам он не работал в нижнем кабинете, а приносил свои бумаги наверх и трудился в гостиной или на террасе в теплую погоду, чтобы она могла ощущать его присутствие. Когда другие неврологи оказывались беспомощными, они направляли пациентов к нему. Теперь Зигмунд принимал до двенадцати пациентов в день, начиная с восьми часов утра до девяти вечера, за исключением тех дней, когда работал в Институте Кассовица. Позволяя себе лишь пятиминутный перерыв между визитами больных, он даже не успевал выпить чашку кофе. После ужина Зигмунд садился за свой рабочий стол на несколько часов, записывая откровения каждого пациента и их значение в общей картине неврозов. Считалось, что врач не должен эмоционально привязываться к пациентам. Как врач и ученый, Зигмунд был обязан держаться как бы в отдалении, чтобы беспристрастно разбираться во внешне хаотических материалах. Однако он оказывался под таким сильным нравственным и эмоциональным давлением, что забывал предостережение Аристотеля о причинах настоящей трагедии – о жалости и страхе. Как он мог не сочувствовать этим несчастным созданиям? Особенно когда в стадии переноса в прошлое десяти–сорокалетней давности доктор Фрейд становился отцом или матерью, тетей или дядей, сестрой или братом и на него обрушивались слезы, мольбы, обвинения в отказе любить, в грубости или равнодушии… Он присутствовал при повторении болезненных сцен детства, при нем раскрывались травмы, все это опустошало и выматывало его. Перенос сознания пациента в прошлое был необходимой частью лечения, но иногда Зигмунд был так изнурен, что с трудом поднимался к себе в квартиру. Когда он становился раздраженным из–за усталости, манжеты сорочки задирались вверх. Он спрашивал Марту, не следует ли ему «сбросить манжеты». – Не пойму, то ли руки становятся длиннее, то ли рукава короче? – Теплый воздух и мужские манжеты имеют обыкновение подниматься вверх. Ты думаешь, что прачки укорачивают твои рубашки? Ты знаешь, они самые красивые девушки в Девятом округе. Затем он испытал первый серьезный недуг в своей жизни. Наряду с головной болью и непорядком с носом у него бывали небольшие недомогания: воспаление горла, вылеченное одним из ассистентов Бильрота в хирургической клинике; приступ ишиаса, когда ему исполнилось двадцать восемь; легкая ветрянка через год; инфлюэнца, когда ему было тридцать три, оставившая после себя сердечную аритмию. Он установил, что резкая боль в левой стороне груди и покалывание в левой руке указывают на возможность сердечного приступа. После ужина он спросил Марту, не хотела ли бы она пройтись по Випплингерштрассе, через рынок Хоер к дому Брейеров. Он не сказал ей зачем. Был мягкий весенний вечер, самый лучший, как заметила Марта, для неспешной прогулки. Он дал понять Йозефу, что хотел бы поговорить с ним в библиотеке. Там он объяснил, что у него затрудненное дыхание и он чувствует жжение в области сердца. Йозеф промолчал. Он запер дверь библиотеки, заставил Зигмунда раздеться до пояса, взял стетоскоп, прослушал сердце, сопоставляя его биение с пульсом на руке. Когда он укладывал стетоскоп, его лицо ничего не выражало. – Йозеф, скажи мне правду: каков результат обследования? Йозеф захлопнул крышку черного ящичка и сказал уклончиво: – Не очень плохой. Есть перебои пульса, но такое иногда случается. Ты спишь достаточно? – Пять часов. Просыпаюсь свежий и полный желания приступить к работе. – Плоховато с деньгами? – У меня никогда не было так много платных пациентов. – Как много куришь? – Около двадцати сигар в день. Йозеф, для медика, весь день бьющегося над пониманием неврозов, мучительно подозревать, не страдает ли он сам от умеренной или мнительной депрессии. Как ты думаешь? – Не думаю, что тебе надо бросать курить, Зиг. Вильгельм разошелся в выводах с Йозефом Брейером; он подозревал, что Зигмунд страдает никотинным отравлением, и запретил ему курить сигары. Зигмунд понимал, что курит чрезмерно много, но для него курение было так приятно, особенно когда он погружался в медицинские проблемы и долгие часы писал. Было подлинным мучением бросить курить. Ему хотелось потрогать карман жилета, где обычно находилось три–четыре сигары, похлопав по пустому карману, он шел и рылся в сигарных ящичках, лежавших на всех столах его приемной и в жилых помещениях. Он свободно соблюдал самодисциплину: не закуривал, не жевал незажженные сигары. Однако период отказа от курения он описал Марте как «страдание от воздержания», оказавшееся сильнее, чем он предполагал. В течение дня бывали моменты, когда он не знал, что делать с руками. При затруднении он жаждал выкурить сигару, чтобы снять моральное давление. Временами он чувствовал себя потерянным, словно какая–то его часть отсутствовала; в самые трудные моменты удивлялся, как вообще мог думать о жизни и работе без сигар. Бывали дни, когда он не мог написать ни слова. Однако к концу третьей недели исчезло инстинктивное движение взять сигару. Он мог наблюдать, как другие курят, без чувства зависти. Воздержание истощило его резерв самодисциплины; он не мог ни умерить объем своей работы, ни снять тревогу по поводу состояния сердца. Он начал подозревать, что Йозеф Брейер и Вильгельм Флис что–то скрывают от него. Наиболее болезненным в часы безделья был страх, что он может утратить способность заниматься научной работой. Он писал Флису: «Я не преувеличиваю ни мою ответственность, ни мою незаменимость и спокойно соглашусь с возникшей в таком случае неуверенностью и ожиданием, что болезнь сердца укоротит мне жизнь; действительно, я могу даже извлечь из этого выгоду, организуя и используя сполна отведенное мне на этом свете время». Его монография «Защитный психоневроз» была опубликована в берлинском журнале в мае и начале июня. Он рассматривал ее как свой наиболее важный, строго научный труд, поскольку базировался на принципе постоянства, выдвинутом Гельмгольцем, и высвобождения накопленной энергии посредством активных движений. Он возлагал большие надежды на эту работу, предчувствуя, что она вызовет значительную дискуссию. Но ее проигнорировали. Этого и следовало ожидать, ведь ни один венский медицинский журнал не принял рукопись. Вместе с тем его статья «Описание детского церебрального двустороннего паралича» получила высочайшую оценку, была переведена на французский и приветствовалась неврологами Сальпетриера. Он не считал это справедливым. Зигмунд не горел желанием написать работу о двустороннем параличе, считая, что ему нечего добавить к существующим знаниям, и, по его собственным словам, сделал ее «как бы походя». Профессор Раймон, заменивший Шарко в Сальпетриере, цитировал целые отрывки из статьи в своей новой книге с выражением признательности. Зигмунда беспокоило то, что другие готовящиеся им статьи по неврозам также могут быть обойдены вниманием. Йозеф Брейер возразил с налетом раздражения: – Зиг, не могу понять, что тебя удивляет. Что за наивность? Ты напоминаешь мне шуточную поговорку: «Ребекка, ты можешь снять свадебное платье, ты ведь больше не невеста». Тебя уважают в Европе как невролога, особенно в области детских заболеваний. Все, что ты пишешь по этому вопросу, с научной точки зрения разумно, основано на полностью документированных результатах, полученных в твоей приемной и в Институте Кассовица. Остальное… подсознание, сексуальное происхождение истерии и неврозов, защитный психоневроз, длинный список одержимостей и навязчивых страхов… Никому они не нужны, ибо никто не готов к ним. Ты говоришь об идеях, мыслях как о независимой сущности, о «количестве возбуждения»; психиатры и неврологи хотят говорить о «возбуждении коры головного мозга» – так они понимают идею. – Йозеф, продолжим разговор. Написал ли ты историю Берты Паппенгейм и приступил ли к последней главе о теории? Йозеф колебался: – Нет. Но я читал твое описание случаев… – Понятны ли они? Логично ли изложены? Йозеф слегка печально улыбнулся. – Конечно, для убежденного. Это словно еще одна религия. Верующему не нужны доказательства. Для неверующих нет доказательств. – Но ты напишешь о своем материале в ближайшие месяцы? Прошло полтора года, как мы решили опубликовать книгу. Полагаю, что она даст нам солидную основу. Брейер выглядел раздраженным. – Зиг, хотелось бы, чтобы ты не говорил все время «мы». Я не психиатр, у меня нет желания заниматься неврозами. Ты знаешь об этом давно. Я специалист по диагностике и лечению внутренних болезней. Я также авторитет в том, что касается внутреннего уха голубей, это все, на что я способен. Июнь оказался неожиданно неспокойным месяцем, что редко бывает в Вене. Однажды утром Зигмунда разбудила буря с градом, разбившим стекла в его кабинете. Через несколько дней президент Франции Карно пал от руки анархиста при посещении Лионской выставки. В то же самое время один из врачей в Городской больнице, доктор Вагасси, в память о докторе Бильроте повторил публиковавшиеся им обвинения против студентов–евреев в Венском университете, после чего поднялась новая волна антисемитизма. Профессор Нотнагель был так возмущен, что начал свою очередную лекцию по внутренним болезням с порицания и осуждения антисемитизма. Его освистали, что было неслыханным в университетах, где говорили на немецком языке. Нотнагель взял верх; медицинский факультет назначил его руководителем комитета по расследованию проявлений антисемитизма и наказанию виновных. Он обвинил доктора Вагасси, осудил нападки и заслужил аплодисменты. Зигмунд принес Герману Нотнагелю небольшой букет цветов.9
Луна тоскливо висела в небе, Земля вращалась вокруг своей оси; неприятности с сердцем отступили. Когда семья Фрейд переехала в горы, туда прибыло несколько пациентов ради ускоренного лечения. Характер заболеваний вроде бы менялся: было больше случаев ипохондрии, несколько – острой депрессии, один – маниакальной депрессии и возрастающее число, как он отчетливо видел, приходивших с латентным или открытым гомосексуализмом. Тридцатичетырехлетний доктор Центер женился четыре месяца назад и тут же обнаружил, что не в состоянии выполнять супружеские обязанности. Вслед за этим у него появились резкие боли в глазах, мигрень, ослабло зрение. Возникшие расстройства лишили его возможности заниматься медицинской практикой… Двадцативосьмилетний Альбрехт чувствовал, что его голову как бы сжимает стальной обруч, он был вялым, тряслись колени, появилась импотенция; он упрекал себя в склонности к извращенности, поскольку его влекло к молодым девушкам, а не к зрелым женщинам. Глубоко подавленный Теобальд, отпрыск семьи, страдавшей неврозами, просыпался ночью от ужасов с учащенным сердцебиением, его мучили непонятные страхи, вызывавшие тяжесть в груди и предчувствие чего–то неприятного. Он был одним из немногих пациентов, понимавших, что его горести имеют сексуальное происхождение. За год до болезни он влюбился в весьма кокетливую девушку. При виде ее он возбуждался, но физических контактов с ней не имел. Когда же узнал, что она помолвлена, у него начался приступ. Мужской гомосексуализм путал расчеты приват–доцента Фрейда. Те, кого не беспокоило и не огорчало такое состояние, кто вступал в гомосексуальные отношения охотно, не искали и не нуждались в помощи врача. К нему приходили лишь несчастные, эмоционально расстроенные, нуждающиеся в помощи. Он был убежден, что они искренне жаждут нормальной жизни. Было больно говорить о сексуальном вывихе, мучившем их с самого начала, который они хотели понять и поставить под контроль. Они свободно рассказывали, отвечали на вопросы, раскрывали предысторию своего влечения к мужчинам, молодым и пожилым, говорили о своем стремлении полюбить женщину, вступить с ней в интимную связь и крахе их надежд. Пытаясь выявить причину таких расстройств, Фрейд оказывался в тупике. Он применял всевозможные разработанные им методы, чтобы вызвать образы, высвободить воспоминания, загнанные в подсознание. Он проводил долгие часы после полудня, добиваясь, чтобы пациенты включились в процесс свободной ассоциации. Они рассказывали длинные истории об осложнениях в семье, о матерях и отцах, соперничестве, об изменявшихся связях, о неприязни внутри тесной группы, доходившей до ненависти, смещении эмоций и привязанностей, иными словами, ничего, что помогало бы поискам. Он признавался пациентам, что повинен в неудаче: не сумел докопаться до действительной травмы и ее воздействия. Требовалось больше знаний, больше проницательности. Но пациенты не могли ждать; как бы ни была свободна Вена в отношениях гетеросексуализма, как бы ни старалась она придать веселый, чарующий и невинный облик обольщению и неверности, она не терпела гомосексуализма. Его невозможно было облечь в шутливую форму. Самое большее, что мог сделать Зигмунд, это высказать суждение, что гомосексуалисты не чудовища, что некоторая степень гомосексуализма даже поощрялась в Греции и в Италии в эпоху Ренессанса. Это, понятно, было слабым утешением, но это было единственное, что он мог предложить. Он размышлял о своей неудаче. Знал также, что у невроза есть женский двойник, но ни одна лесбиянка не приходила к нему, несмотря на изолированность его кабинета. Лето было превосходное. Горы вокруг Рейхенау утопали в зелени, дышали прохладой и ароматом. Он поднимался с восходом солнца, съедал легкий завтрак и работал до часа дня. В Вене ему не удавалось располагать шестью–семью часами для работы над рукописями. После плотного обеда он, Марта и дети отправлялись в поисках приключений: гуляли по лесу, собирали грибы, искали новые тропинки. Он принимал пациентов во второй половине дня, в обычные часы, когда венцы пьют кофе. Стопка листов рукописи совместной с Йозефом Брейером книги утолщалась в той мере, в какой росло его убеждение, что это будет его первая подлинно творческая книга, открывающая совершенно новый подход к невропатологии, революционный с точки зрения диагноза и лечения, который подтверждается имеющейся в его распоряжении документацией, и он сможет благодаря этому склонить в свою пользу всех невропатологов мира. Он начал с исходной точки: описал во всех деталях случай фрау Эмми фон Нейштадт, ее навязчивые страхи и одержимость животными и безумием. Он был убежден отныне, что ее братья и сестры никогда не бросали в нее дохлых животных, у нее не было обмороков в детстве, она не видела свою сестру в гробу, ее старший брат не был болен сифилисом и не страдал запорами, ее никогда не преследовала семья мужа. Он описал случай английской гувернантки мисс Люси Рейнолдс и ее галлюцинаторные запахи, служившие «механизмом защиты» для сокрытия от себя того, что она влюбилась в хозяина. Он написал о фрау Цецилии Матиас, которая так помогла ему в понимании того, как символ прикрывает неприемлемую идею и невроз находит свою ахиллесову пяту; как возникла у нее острая невралгия челюсти якобы из–за «пощечины» мужа; сильный сердечный приступ якобы из–за обвинений мужа, «поразивших мое сердце»; пронизывающая боль между глазами в результате взгляда бабушки, увидевшей мастурбацию внучки. Он изложил случай Элизабет фон Рейхардт, у которой возник паралич ног как реакция отторжения из–за понимания того, что она любила мужа сестры и была довольна, когда сестра умерла. Он обрисовал случившееся с крепышкой Катариной, испытывавшей затрудненное дыхание с того момента, когда она увидела своего отца на молодой кузине Франциске, а на деле использовавшей этот эпизод как ширму, отгородившую в памяти поползновение отца в отношении ее самой, – все случаи, которые так основательно убедили его в сексуальной этиологии неврозов; большое число страдающих от страхов, обеспокоенности… В сентябре он вывез на две недели Марту и пятерых детей в Ловрано, на залитую солнцем Адриатику. Это была их первая поездка в Италию. Он всегда мечтал посетить Рим, много читал об истории этого города, считая его самым очаровательным в мире. Но в летнее время Рим плох для здоровья, а он мог взять отпуск только летом. Матильда уже повзрослела и могла опекать Софию; Мартин помогал двухлетнему Эрнсту в поисках морских ракушек. Марта защищалась от солнца широкополой соломенной шляпой, а Зигмунд подставлялся под жгучие лучи ради хорошего загара, в свободное время он наслаждался рассказами Киплинга. Балкон их гостиницы выходил на море; после ужина они усаживались на нем, наблюдая за рыбачьими лодками и судача по поводу растущей семьи в Америке. Эли Бернейс процветал в Нью–Йорке в качестве экспортера зерна, его семья поселилась в собственном удобном доме на 139–й улице. Анна, родившая в Америке в начале прошлого года Хэллу, произвела на свет пятого ребенка – Марту. Тридцатилетняя сестра Зигмунда Паули, доставившая детей Бернейсов к родителям, обнаружила справедливость легенды, что улицы Америки вымощены мужьями; во всяком случае она нашла суженого – тридцатисемилетнего Валентина Винтерница, чеха, говорящего по–немецки и прибывшего в Нью–Йорк в поисках счастья и преуспевшего в роли представителя технических фирм. Сестра Зигмунда Мари и ее муж Мориц Фрейд готовились к отъезду из Вены со своими тремя дочерьми. Они направлялись в Берлин, где Мориц расширял свой бизнес по импорту. Марта и Зигмунд вернулись на улицу Берггассе с идиллическим воспоминанием об итальянском солнце и море, спагетти и сыре «Пармезан». Подобно июню, осень принесла разочарование и уныние, она была, по мнению Зигмунда, «сезоном анархии». Дело не только в том, что в Барселоне анархист бросил две бомбы, пытаясь убить испанского премьер–министра и министра обороны; и не в том, что два месяца спустя другой анархист взорвал бомбу в Париже в палате депутатов и был гильотинирован. Имело также значение состояние его собственной практики. Почти каждый номер газеты приносил известия о самоубийствах. Лишали себя жизни многие молодые: отравилась двадцатидвухлетняя девушка; застрелился семнадцатилетний сын владельца таверны. Все подобные сообщения оканчивались одной и той же фразой: «Мотив неизвестен». – Конечно, мотив неизвестен, – возмущался Зигмунд, – потому что никто не заботится о расследовании. Этим молодым не к кому обратиться за помощью. Теперь у нас есть способы добраться до причины их неприятностей; мы можем сказать, что вызывает желание смерти и как защищать от этого. Но нет никакой возможности использовать эти знания, чтобы помочь людям. Его сбережения в банке испарились, как вода в летнем пруду. Он стал угрюмым и жаловался Марте: – Сплошные вершки да корешки, все шиворот–навыворот. Дела идут так плохо в Вене, что повсюду я вижу очереди за даровой похлебкой. Для безработных открыли дюжину ночлежек, но и в них не хватает мест. В Десятом округе рабочие клубы предоставили свои общежития, где, как утверждают, ночуют две тысячи человек. По утрам на улицах находят замерзших. Городской совет выделил достаточно денег, чтобы дать работу безработным каменщикам, плотникам и разнорабочим и возможность отпустить на одну дырочку пояс. Только сейчас из–за плохой погоды каждый округ учредил центр сбора старой одежды и обуви для детей бедняков, вынужденных ходить босиком по улицам. Жизнь, как детская рубашка, короткая и грязная. Австрийцы правы, утверждая, что голодной свинье снятся желуди. Это было время, когда Марта не могла ободрить его. Она удрученно бормотала: – О чем мечтают гуси? О кукурузе. Я чувствую себя в таком же положении в понедельник утром, когда ты не можешь дать мне обычную сумму на домашние расходы. Однако, как говорят в кофейнях, ситуация безнадежная, но не серьезная. Экономическая депрессия углублялась. Императрица открыла собственный союз народных кухонь для голодающих. Школьникам, не имевшим пищи в течение дня, выдавали четверть миллиона завтраков. Металлурги Десятого округа объявили забастовку, правительство признало ее незаконной. Другие рабочие устраивали стихийные демонстрации, их избивала и забирала полиция. Нелегально печатались и распространялись социалистические листовки. Полиция частенько арестовывала за «подрывные действия». Были высланы из страны как нежелательные две тысячи человек, в том числе один американец. В числе новых пациентов Зигмунда оказался молодой студент, изучавший право, которому предстояли экзамены за третий год обучения. Он пришел возбужденный и заявил, что сходит с ума, никогда–де не выдержит экзаменов и не сможет жить, если доктор Фрейд не поможет ему. Зигмунд сказал молодому человеку, что никто еще не сошел с ума от онанизма. Студент–юрист выпалил трясущимися губами: – Доктор Фрейд, могу ли я положиться на вашу скромность? Все, о чем говорят между собой врач и пациент, останется в секрете? Зигмунд улыбнулся по поводу такого юридического языка и успокоил парня. – Доктор, вы, конечно, должны знать, что никто не мастурбирует в вакуум. Я имею в виду, что нет эякуляции без выливания семени в женщину. Зигмунд кивнул головой; это подтверждало мысль, которая формировалась у него. Студент заговорил торопливо: – Когда я учился в гимназии, мои фантазии вращались вокруг красивых актрис Народного театра. Совершая акт онанизма, я воображал, что подо мной лежала очередная театральная звезда. После поступления в университет у меня возникли образы женщин в платьях с глубоким вырезом, которых я видел в дорогих ресторанах, в театрах; они были каждую ночь объектом моих вожделений. Я даже совершал мысленное кровосмешение с привлекательными молодыми тетками и кузинами. Но ничто меня так не беспокоило… до… настоящего времени. Он вскочил на ноги, а затем упал в кресло и зарыдал. Зигмунд сидел молча и ждал. Он пытался понять, как пациент пришел к такому состоянию. Парень поднял голову. – Вы видите, что я схожу с ума. Объект моих фантазий сейчас… женщина, с которой я имею половое сношение… которая лежит подо мной… моя мать. Разве я не обреченный человек? – Фантазия – это «сумеречный сон», расположенный между мечтой и ночным сновидением, – ответил спокойно Зигмунд. – Если мы устраним это видение из вашего воображения, то доберемся до того, что побуждает вас, двадцатипятилетнего, заниматься онанизмом, вместо того чтобы направлять вашу энергию на учебу и на саму любовь. Пациент больше не вернулся. Зигмунд получил письмо с приложенным к нему банковским чеком. И это подвело черту под его практикой по неврозам в последней части года. Его постоянным пациентом оставалась старая женщина, сын которой просил Зигмунда посещать ее дважды в день для инъекций. Зигмунд поддерживал жизнь старушки; ее любящий сын обеспечивал содержимое кладовки Фрейдов. Зигмунд не верил в циклы даже после повторного чтения сочинения Вильгельма Флиса о цикличности в жизни человека. Весной его осаждали пациенты, а сейчас их не было… кроме мужчины, вывихнувшего ногу перед их домом. Зигмунд помог перевезти его в Городскую больницу, где вправили вывих. Зигмунд проводил значительное время в Институте Кассовица, восполняя свое отсутствие в предшествовавшую весну. Некоторые из родителей были состоятельными; они не стремились к бесплатной медицинской помощи, им была нужна лучшая помощь. Когда они узнали, что можно лечить детей у приват–доцента Фрейда на дому, они стали привозить больных и искалеченных детей на Берггассе. К концу зимы и в самом начале весны, что осложнило его положение, нахлынули пациенты с неврозами, и приходилось делать много заметок, что, впрочем, доставляло удовольствие. Он закончил переписку историй болезни для книги «Об истерии» и приступил к написанию заключительной главы. В конце концов Йозеф Брейер изложил на бумаге полное описание истории Берты Паппенгейм. В возобновившихся прогулках по Вене он обсуждал с Зигмундом, что войдет в его собственную заключительную теоретическую главу, что бесспорно в их заключениях, а что нужно доказать. Ведя свои записки, Зигмунд закончил статью на французском языке об одержимости и навязчивом состоянии страха для парижского неврологического журнала, переписал статью о неврозах страха, которая была намечена к опубликованию в берлинском неврологическом журнале. Дойтике, выпустивший его перевод работ Шарко и Бернгейма и книгу «Об афазии», согласился издать работу «Об истерии». Приступив к написанию книги о неврозе, вызванном страхом, он испытал гордость за свое оригинальное открытие. Время и чтение помогли преодолеть заблуждения. Он признался Марте: – Каждое человеческое существо и каждая идея имеют своих родителей; их генезис, как доказал Дарвин, уходит в прошлое, к самым истокам. За год до него доктор Каан опубликовал статью об обеспокоенности как симптоме неврастении. Затем Зигмунд познакомился с последней публикацией доктора Е. Гекера. В своей рукописи Зигмунд писал: «Я нашел такое истолкование, сделанное со всей ясностью и полнотой, какое можно только пожелать». Однако Гекер не отделял приступы обеспокоенности от неврастении, нервной нестабильности. Лейпцигский профессор Мёбиус также опубликовал материал о психологических причинах симптомов истерии, но он полагал, что в психологии нет каких–либо лечащих средств. В письме к Флису Зигмунд назвал Мёбиуса «лучшим умом среди неврологов, к счастью, он не вышел на тропу сексуальности».10
В начале 1895 года в приемную Зигмунда пришла молодая розовощекая двадцативосьмилетняя вдова Эмма Бенн, которая подвела его к краю трагедии. Семья Эммы, из числа процветающих коммерсантов, дружила с Йозефом Брейером и Оскаром Рие. Благодаря им Фрейды сблизились с семейством Бенн; Эмма часто наносила визиты на Берггассе. Блондинка с крутыми бедрами на манер многих венских молодых женщин и большим курносым носом на асимметричном лице, она тем не менее была привлекательна благодаря живому и зачастую задорному огоньку в глазах. У нее были не в порядке желудок и кишечник. Многие годы Йозеф Брейер выполнял роль домашнего врача семьи Бенн. Он пришел к заключению, что ее приступы вызывались истерией. Он попросил Зигмунда осмотреть Эмму. Зигмунд высказал предположение, что предлагаемая им терапия может не сработать в отношении друзей. Йозеф переборол его сомнения. Эмма принадлежала к активным борцам за права женщин, была недовольна их подчиненным положением в обществе, где командовали мужчины, особенно негодовала по поводу германской концепции «К» – киндер, кирхе, кюхе (дети, церковь, кухня) как наиболее подходящей женщине, которую более гибкие австрийские мужья дополнили еще одним «К» – кафееклач (сплетни за кофе). Эмма выкладывала Зигмунду высосанные из пальца истории: она видела дьявола, втыкающего булавку в ее палец, а затем возлагавшего на каждую каплю крови по леденцу. В детстве она страдала кровотечением из носа, в годы полового созревания мучилась головными болями. Родители думали, что она симулирует. Эмма чувствовала себя несчастной из–за того, что родители не верят ей; когда у нее начались обильные менструации, она увидела в этом доказательство ее болезни. Она рассказывала, как перенесла процедуру обрезания, как была предметом сексуального приставания отца. В пятнадцать лет влюбилась в красивого молодого врача, вновь началось кровотечение из носа, семья была вынуждена пригласить этого врача. Болезни и фантазии Эммы прекратились после замужества. Хотя муж был значительно старше ее и не отличался здоровьем, в те пять супружеских лет Эмма нашла то, что было нужно ей. Детей не было. После смерти мужа и долгого траура на Эмму обрушились недуги, поразившие систему пищеварения. Несколько месяцев она плохо питалась, а ее нервная система испытала сильный шок, поэтому полагали, что, возможно, у нее развилась язва. Брейер посоветовал отдать Эмму под опеку доктора Фрейда, но ее родители возразили. Зигмунд нравился им как знакомый, но они не верили в его методы. Брейер убедил семью, что следует использовать все возможности для исцеления Эммы, поскольку болезнь подавляет ее интеллект и лишает интереса к жизни. Эмма желала и была способна говорить. В ее душе укоренился ряд предвзятых враждебностей; она не скрывала своего плохого мнения о мужчинах и в то же время испытывала неодолимую потребность в мужской любви. Многие ее истории были связаны с отцом, к которому она питала противоречивые чувства: по–видимому, остались глубокие шрамы от его сексуальных приставаний и в то же время огромная потребность в его любви. Затем во время сеанса, когда Зигмунд настаивал, чтобы Эмма не подвергала цензуре и не отбрасывала любые мысли, а дала возможность этим мыслям свободно раскрыться, не высказывая суждений об их значении и соответствии, она стала вновь маленькой девочкой, проигрывавшей сцены ее детства, а приват–доцент Зигмунд Фрейд превратился в отца. Она называла его папой. В мыслях она вернулась домой, играла с отцом, говорила о своей любви к нему, рассказывала, как торопилась из школы к обеду, чтобы встретиться с ним. Затем настроение изменилось, и она разрыдалась, отрицая, что была плохой, что он должен верить ей. Затем разгневалась, отказываясь выполнять указания Зигмунда, и утверждала, что сбежит из дома, не любит его больше… Все это сопровождалось серией гримас, изображавших детское кокетство, заламыванием рук и слезами, явно воссоздававшими ее прошлое. Другие пациенты при осуществлении переноса в прошлое забывали, где они находятся, смешивали воспоминания и эмоции, часто впадали в плач и даже ругались. Пока он не осознал особенности переноса, у него было чувство, будто крики, проклятия, любезные жесты предназначаются ему, ведь он нес ответственность за пробуждение воспоминаний. В случае с Эммой процесс переноса развивался во всей полноте: она переживала каждый час, раскрывала наполненные эмоциями сцены, будучи убежденной, что проводит их с кровным отцом. Зигмунд неохотно отпускал Эмму в конце часа сеанса, хотя на очереди был новый пациент. Вернувшись в настоящее, она уже не помнила ничего, что происходило во время сеанса. Йозеф Брейер считал такие сцены проявлением истерии. Боли в желудке усилились, обострилось воспаление лобных пазух. Он изучил статью Флиса о неврозе носового рефлекса, раздумывал над тем, не вызваны ли боли у Эммы затруднениями дыхания. К счастью, Вильгельм приехал с визитом в Вену. Зигмунд спросил Эмму, может ли он проконсультироваться с Флисом. Она согласилась. На следующее утро после приезда в Вену Вильгельм Флис пришел в приемную Зигмунда для осмотра Эммы и провел ряд исследований. – Нет сомнения, Зиг, причина неприятностей у этой молодой женщины связана с дыхательными путями, – объявил он. – Требуется их расширить. Нынешнее состояние не только может вызывать боли в желудке, но и оказывает расстраивающее влияние на ее половые органы. – Тогда, Вильгельм, ты думаешь, что ее следует оперировать? – Несомненно. Это легкая операция. Я сделал их сотни. Ей придется пробыть в больнице лишь два дня. – Но тебя не будет здесь, чтобы ухаживать за ней. – Послеоперационный уход нужен, но ты сам можешь изъять тампон через несколько дней. Она вернется в нормальное состояние за одну–две недели. Назначай операцию на завтра. – Мы проведем ее в санатории «Лоев»; это хорошо оборудованный частный госпиталь. Спасибо тебе, Вильгельм. Операция прошла успешно. Флис возвратился в Берлин. Эмму забрали домой. На следующий день, когда Зигмунд вошел в ее спальню, он почувствовал дурной запах. Осмотрев ее нос, он увидел дрожание слизистой. Из–за острой боли она не спала всю ночь. Он дал ей болеутоляющее. На следующий день вышел осколок кости и началось кровотечение. Через день Зигмунд не смог промыть носовой канал. Он понял, что Эмма в опасности. Пригласил доктора Герзуни, тот прибыл немедленно. Специалист по болезням носа, сделав упор на недостаточном дренаже, вставил резиновую трубку и сказал Зигмунду, что придется вновь ломать кость, если трубка не удержится. Воздух был насыщен зловонием. На следующий день рано утром Зигмунда разбудили сообщением, что у Эммы сильное кровотечение. Доктор Герзуни смог прийти только вечером. Зигмунд попросил отоларинголога доктора Рекеля посетить Эмму. К приходу Рекеля кровь шла у Эммы не только из носа, но и изо рта. Запах в комнате был нестерпимым. Доктор Рекель прочистил нос, извлек спекшиеся сгустки и тампон, затем внимательно уставился на что–то, повернулся к Зигмунду и спросил: – Что это? Зигмунд посмотрел и ответил: – Не знаю. Что это может быть? – Нить. Взгляну, в чем дело. Он взялся за конец нити и потянул. Он тянул… тянул… и тянул до тех пор, пока не вытащил почти полметра марли, оставленной доктором Флисом после операции в носовой пазухе Эммы. Поток крови буквально вырвался из Эммы; она пожелтела, затем побелела, глаза вылезли из орбит. Зигмунд тронул пульс: он едва прощупывался. Над Эммой нависла смертельная опасность. Доктор Рекель действовал быстро, вложил в пазуху смоченную раствором йода марлю. Кровотечение остановилось. В состоянии, близком к обмороку, Зигмунд выбежал в соседнюю комнату и выпил стакан воды. Он был в ужасе. Если бы марлю не заметили еще несколько дней, Эмма умерла бы от интоксикации. Растущее понимание того, что не следовало разрешать операцию, вызвало новую волну тошноты. Операцию следовало провести докторам Герзуни или Рекелю, которые обеспечили бы и послеоперационный уход; но, подобно пригоршне ледяной воды, брошенной в лицо, сознание поразила мысль, что неполадки у Эммы, будь то соматические или психические, не имели никакого отношения к носу. Операция была большой ошибкой. В этом озарении он осознал, что не было ничего плохого ни с носом Флиса, ни с его собственным! Кто–то дал ему рюмку коньяка. Он проглотил его залпом, собрался с силами и вернулся в соседнюю комнату, где договорился поместить Эмму в санаторий «Лоев». Там врачи Рекель и Герзуни повторили операцию. Когда врачи ушли, Зигмунд остался у койки Эммы, и они оба понимали, как близко была она к смерти от кровоизлияния. Эмма приветствовала его широко открытыми глазами с искоркой задора. Указывая пальцем на грудь, она сказала: – Это и есть сильный пол. Он страшился написать отчет Флису. Он знал, что Вильгельм будет огорчен, но он не осуждал его. Флис сделал операцию, но, если бы Эмма умерла, ответственность лежала бы на Зигмунде. Эмма была его пациенткой. За годы обучения и практики он принял на себя ответственность за смерть одной пациентки в Городской больнице, которой дал предписанную ей дозу безвредного лекарства, но у женщины оказалась на него аллергия. В письме он постарался по мере возможности облегчить переживания Флиса, рассказал ему, как он был расстроен тем, что «эта промашка случилась с тобой». Он переложил вину на плохую марлю… «Обрыв марли с йодоформом, – писал он, – один из несчастных случаев, какой бывает с самыми удачливыми и осторожными хирургами… Герзуни упомянул, что у него был схожий опыт и поэтому он употребляет тампоны вместо марли…»; Зигмунд бросил упрек доктору Рекелю за извлечение марли до перевозки Эммы в больницу; закончил заверениями Флису, что «…никто не упрекает тебя, да я и не вижу, за что… Будь уверен, мое доверие к тебе неизменно». Эмма выздоровела через несколько месяцев. По мере восстановления ее сил усилились нелады с желудком. Операция носа ничего не исправила. Она возвратилась на Берггассе и возобновила лечение. Ее поведение не изменилось. Зигмунд уже не сомневался, что ее недомогание было вызвано тем, что ее интимная жизнь резко оборвалась. Он объяснил сексуальную этиологию ее невроза, обрисовал методы подавления и защиты, так блестяще применяемые подсознанием, одержимость и навязчивые страхи, возникающиеиз–за неспособности высвободить надлежащим образом психическую энергию. Эмма не верила его словам и не принимала их. Она злилась, когда он советовал ей выйти из заточения, на которое она обрекла себя после смерти мужа, посещать вечеринки и танцы, приглашать к себе и встречаться с молодыми людьми, влюбиться и вновь выйти замуж. – В ваших словах нет правды. Конечно, мне крайне не хватает моего мужа, его нежности, его любви, да и нашего супружеского акта. Но это лишь крохотная часть общей картины нашей взаимной любви. Такое не может быть причиной моей болезни, болей в желудке после смерти мужа. Что–то не в порядке физически. – Да, Эмма, такое возможно, хотя доктор Брейер говорит, что ничего не обнаружил. Многие неврозы сложны, ибо являются следствием физических и психических расстройств. Но даже если вы страдаете каким–то физическим расстройством, то и это не единственный симптом. Эмма, ваше умственное, нервное и эмоциональное здоровье зависит от ваших усилий найти новую любовь, нового мужа. Вы должны добиваться этого сознательно, действовать по плану. В вашей жизни нет ничего другого, что имело бы такое значение и могло бы вернуть вам доброе здоровье. Эмма возбужденно вскочила: – Какую недостойную вещь вы требуете от меня – выбежать на улицу Вены с воплем: «Мне нужен муж! Кто–нибудь выйдет за меня?» Начинаются летние каникулы. Может быть, на время прекратим процедуры? Зигмунд согласился. Рукопись об исследовании истерии была закончена и готова к отправке издателю Дойтике. Брейер написал содержательную заключительную главу. Он не считал, что психология или исследование невроза могут стать лабораторной наукой, как физиология благодаря Гельмгольцу и Брюкке, но рассматривал это как новую область, которая должна обрести собственный язык и не зависеть от других наук. Зигмунд не хотел соглашаться, но и не мог не согласиться. У него была репутация ученого и была опасность потерять ее, сосредоточившись на гипнотизме, мужской истерии, амнезии, а теперь на сексуальной этиологии невроза. Он отчаянно нуждался в том, чтобы найти постоянные величины и методы измерения, соответствующие его концепции. Он не думал, что занимается безнадежным делом; когда–нибудь психология станет такой же точной наукой, как патология тела. Он верил, что книга станет началом новой эры в медицине, поможет перевести человеческую психологию из области фантастики в область науки, которая не только создаст эффективный терапевтический инструмент, но и откроет доступ к еще не известным пластам знания. Сжимая в руках рукопись, он витал так высоко со своими надеждами, что сам поймал себя на эйфории: книга принесет ему прочную славу, богатство и полную независимость.11
Марта плохо переносила четвертый месяц беременности. После пяти родов шестая беременность протекала тяжело почти с самого начала. Она скверно себя чувствовала, лицо побледнело и отекло, возникли неприятности с зубами. Она и Зигмунд решили, что лучше не уезжать так далеко в горы Земмеринга, а вместо этого снять виллу в Бельвю под Каленбергом. Все еще цвела сирень, вслед за ней должна была наполнить воздух своим ароматом акация. За ночь раскрылся шиповник. Вилла была построена как место для танцев с легкими закусками, поэтому два основных зала имели высокие потолки. Гостиница «Каленберг» рекламировала «свободный от пыли альпийский климат». Марта утверждала, что такая реклама справедлива и для Бельвю, и сразу же почувствовала себя намного лучше. Это позволило ей устроить прием по случаю своего тридцатичетырехлетия. Были приглашены Эмма Бенн, доктор Оскар Рие, отдыхавший в сельском домике родителей Эммы, Брейеры и другие знакомые. Залы для приемов располагали к музыке и танцам. За три дня до вечеринки доктор Рие пришел в Бельвю осмотреть одного из детей, у которого болело горло. Он принес бутылку ананасного ликера в знак предстоящего дня рождения Марты. Зигмунд сострил: – Оскар, у тебя привычка делать подарки по любому подходящему случаю. Найди себе жену, чтобы избавиться от этой привычки! После обеда, когда открыли бутылку, из нее сильно потянуло сивушным маслом. Огорошенный Оскар воскликнул: – Теперь ты видишь, почему я не спешу с браком? Если бы я сделал такой подарок своей жене, то был бы семейный скандал! В то время как они взбирались на Леопольдсберг, Зигмунд спросил: – Как ты нашел Эмми? – Ей лучше, Зиг, но не совсем. Зигмунд был расстроен. В словах Оскара не было упрека, но Зигмунду все же казалось, что доктор Фрейд обещал пациентке больше, чем дал. Оскар относился к Зигмунду так же бескорыстно, как Иосиф Панет, но его мало трогали методы Зигмунда по лечению невроза. Он хотел, чтобы Зигмунд, руководивший им в Институте Кассовица, оставался специалистом по детской неврологии. Несколько месяцев назад, желая найти сочувствующую душу в Вене, Зигмунд показал Оскару первоначальный проект доклада о сексуальной этиологии неврозов. Оскар пробежал несколько страниц, покачал головой в знак несогласия и вернул доклад, сказав те же самые слова, что и Шарко, когда Зигмунд рассказал ему историю лечения внушением, осуществленного Йозефом Брейером: – Нет, в этом нет ничего. Друг Зигмунда окулист Леопольд Кёнигштейн также выразил искреннее сомнение, спросив во время карточной игры вечером: – Зиг, может ли твое лечение катарсисом действительно привести к смягчению симптомов? Зигмунд ответил: – Да, я думаю, что мы можем преобразовать несчастье, вызванное истерией, в обычное отсутствие счастья. После того как Марта и дети отправились спать, он зажег лампу в кабинете и написал Йозефу Брейеру письмо с детальным объяснением своего прогноза и методов лечения Эммы Бенн. Он писал не прерываясь до полуночи, надеясь оправдаться в глазах Брейера и как бы отвечая Оскару Рие, намекавшему на неважно сделанную работу. Он не мог сразу заснуть, а к утру ему приснился сон. «Большой зал, многочисленные гости, которых мы принимаем. Среди них Эмма. Я немедленно отвел ее в сторону, как бы желая ответить на ее письмо и упрекнуть за то, что она еще не приняла моего «решения». Я сказал ей: «Если у вас сохранятся боли, то только по вашей вине». Она ответила: «Если бы вы только знали, какие у меня боли в горле, желудке, в низу живота, они меня душат». Я тревожно посмотрел на нее: она выглядела бледной и одутловатой. Я подумал про себя, что в конце концов я проглядел какую–то соматическую причину. Я подвел ее к окну, чтобы осмотреть горло, она возражала, как всякая женщина с искусственными зубами. Я подумал про себя, что, наверное, нет необходимости в осмотре. Тогда она раскрыла рот, и на правой стороне я обнаружил большое белое пятно, а в другом месте – сероватые струпья на волнистых структурах, явно повторявших хрящ носовой перегородки. Я тут же позвал доктора Брейера, он повторил осмотр и подтвердил заключение… Доктор Брейер выглядел необычно: он был бледен, прихрамывал, а его подбородок был чисто выбрит… Около нее стоял уже и мой друг Оскар, а мой друг Леопольд выстукивал ее через лифчик и говорил при этом: «Слева внизу у нее область глухих тонов». Он также показал уплотненный участок кожи на ее левом плече. (Я также это заметил, несмотря на одежду.) Брейер сказал: «Несомненно, это инфекция, но это не имеет значения, наступит дизентерия, и токсин будет подавлен». Мы понимали характер инфекции. Не так давно, когда она чувствовала себя неважно, мой друг Оскар сделал вливание препарата пропила… проприоновой кислоты… триметиламина (перед моими глазами стояла формула, отпечатанная крупными буквами). Такого рода инъекции так бездумно не делаются… И, возможно, шприц не был простерилизован». Во время завтрака сновидение давило на его сознание; оно не позволяло думать ни о чем другом. Он вновь и вновь обдумывал его содержание. В отличие от своего более раннего убеждения, что сны представляют собой неупорядоченную форму работы спящего мозга, он заподозрил в своем сновидении намек на случившееся с ним за день или за несколько дней ранее, что, видимо, составляло частицу смысла; некоторые его пациенты пугались или расстраивались по поводу своих сновидений и стремились их пересказать во время сеансов. В их сновидениях ему удавалось случайно найти линию или образ, которые, по–видимому, отражали или в какой–то пусть небольшой степени освещали одну из сторон болезни пациента. Однако он не был способен их анализировать или увязывать между собой независимо от того, о скольких сновидениях рассказывал пациент. Очевидно, сновидения имеют связь с подсознанием и, когда индивид спит, обрывки воспоминаний, взбитые, подобно омлету, находят средство выйти наружу. Он взглянул на Марту, ведь, усаживаясь за стол, он пожелал ей доброго утра сварливым тоном. Он встал, обошел вокруг стола, обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. – Прости меня за черствость, но, перед тем как проснуться, я видел странный сон, и он преследует меня. Я должен сесть и подумать, имеет ли это сновидение какой–либо смысл. У меня такое ощущение, что этот сон может быть важным и его можно даже расшифровать… хотя сейчас он представляется сплошным хаосом. Он закрыл дверь в свой рабочий кабинет, наполнил чернильницу, поправил стопку бумаги перед собой и решительно сел спиной к панораме зеленых лесов и гор. Он сказал себе: «Я должен разделить это сновидение на части, как швейцарский часовщик разбирает часовой механизм». Он размышлял, что ему следует выделить каждый образ, каждое действие и каждое выражение в диалоге и дать возможность разуму вольно выбирать в духе свободной ассоциации, предлагавшейся им своим пациентам. Он должен выполнить свои предписания с той же точностью, какую требовал от своих пациентов. Он остановит свою мысль на каждом лице, появившемся в сновидении, затем, когда запишет на бумаге спонтанно появившееся, попытается связать отдельные части между собой и со своими переживаниями. Время и место очевидны: день рождения Марты и главный зал Бельвю, где он и Марта принимают гостей. Эмма, бесспорно, главное лицо. Положив пальцы левой руки на лобную кость, он подумал: «Мой ум был озабочен необходимостью упрекнуть Эмму, что она не приняла мое решение о том, как лечиться. В сновидении я сказал: «Если у вас боли, то это ваша собственная вина». Я верю, что, выявив скрытые значения внешних симптомов, я выполнил свой долг и обязанность перед пациентом. Излечение содержится в самом этом акте. Не моя вина, если она не принимает мой диагноз. Следовательно, для меня важно, чтобы она верила в мое решение и следовала моим предписаниям. Если Эмма виновата в том, что есть боли, то я не виноват; она не сумела излечиться, и я не отвечаю за неуспех. Не об этом ли сон? Эмма жаловалась на боль в горле, желудке и в низу живота. Очевидно, я все еще беспокоюсь, что основная причина ее недомогания может быть физическая. Как ученый, я не могу оставить без внимания органическое заболевание. Пытаясь доказать, что я не одержимый, я подвел Эмму к окну, чтобы осмотреть ее горло, и на правой стороне обнаружил большое белое пятно, а также сероватые струпья на волнистой структуре, схожей с хрящом носовой перегородки. Но ведь у Эммы не было неприятностей с горлом?» Затем он вспомнил, что у Эммы была подруга, также вдова, которую он, Зигмунд, по–видимому, лечил от некоторых симптомов истерии. Однажды, когда Зигмунд вошел в ее квартиру, он увидел, как Брейер осматривал у окна ее горло, опасаясь, что у нее есть признаки дифтерита. «Что же такое произошло? – спрашивал он сам себя. – Я подменил во сне Эмму ее подружкой? Затем мне показалось, что Эмма была бледной и опухшей. Но у Эммы всегда свежий вид. А Марта бледна и опухла. Каким же образом я совместил Эмму, ее подругу и Марту? Почему?» Продолжая свободное развитие ассоциаций, его ум обратился к Оскару Рие, который играл роль злодея, в то время как Эмма – героини пьесы. Зигмунд видел, что в своем сне он предъявил Оскару два серьезных обвинения: в бездумном применении химического препарата и в использовании нестерилизованного шприца. Поскольку он, Зигмунд, делал инъекции морфия своей восьмидесятидвухлетней пациентке, не внося инфекции, он полагал, что гордится своей собственной работой и в то же время принижает Оскара. В силу какой–то таинственной связи он мысленно считал Оскара Рие виновным в том, что Эмма все еще страдает от различных болей. Эмма больна, потому что Оскар сделал ей прививку! «Поэтому, если Оскар Рие виноват, я вовсе не виновен! Я вновь оправдан». Включение в сновидение лекарств – пропила, проприоновой кислоты… триметиламина – напоминало о сивушном масле, которым пахла бутылка плохого ликера, принесенная Оскаром в подарок Марте ко дню рождения, и было еще одним упреком в адрес Оскара. Его мысль обратилась к Йозефу Брейеру. Их совместная книга была издана Дойтике, но откликов на нее еще не последовало. В сновидении Зигмунд просил Йозефа взглянуть на горло Эммы и на хрящи ее носа. Йозеф подтвердил диагноз, но почему он выглядел таким бледным, прихрамывал и полностью сбрил бороду? И почему после осмотра Йозеф сказал: «Там несомненно воспаление, но это не имеет значения; дизентерия возьмет верх, и токсины будут устранены». Фраза была бессмысленной: ни один грамотный врач не поверит в то, что патологические продукты могут быть удалены через пищеварительный тракт. «Здесь, в моем сне, – думал он, – опять я воображаю себя лучшим диагностом, чем Йозеф Брейер». Он писал раскованно, мысли изливались свободно. В них были заключения по пациентам, которых лечили в прошлом он, Оскар Рие, Йозеф Брейер и Флис; содержалось и немало упреков в собственный адрес, таких, как выдача женщине не подходящего для нее лекарства, недогляд в отношении пристрастия Флейшля к кокаину. Он выдвигал соображения об ассоциациях, затем отходил от них, как с подменой Эммы сначала ее вдовой–подругой, а затем Мартой Фрейд. Ведь Эмма говорила о болях в низу живота, хотя на деле боли были у беременной Марты; вспомнил он о шприце и инъекции, что символизировало, на его взгляд, половой акт. Он припомнил, что ни он, ни Марта не желали нового ребенка. Поэтому «грязный шприц» стал символом обильной или оплодотворяющей инъекции, приведшей к трудной беременности Марты. В этот полдень он долго гулял по лесу, спрашивая себя: «Как я свяжу все эти вроде бы не относящиеся друг к другу неупорядоченные мотивы? Что является в них общим? Что я пытался сказать сновидением? Я еще не знаю, видящий сон выступает как драматург или же как актер, произносящий написанные для него строки». Но он был внутренне убежден, что сновидение обслуживало самого себя. Он думал: «Его основное содержание – это выполнение желания, и его мотив есть желание». На него обрушились воспоминания о прежних сновидениях, а также обрывки воспоминаний о сновидениях его родителей. Вдруг он остановился. Тело его напряглось. Он почувствовал, что покрывается гусиной кожей, и выкрикнул в купу деревьев: – Вот в чем цель сновидений! Высвободить из подсознания то, что действительно нужно человеку. Не маски, не личины, не запрятанные чувства или несостоявшиеся желания, а именно то, что скрыто где–то в коре головного мозга как желание, чтобы это случилось или должно случиться! Какой удивительный механизм! Какое удивительное свершение! Но почему мы не догадывались об этом во все прошедшие века? Как могли думать люди, включая и меня, что сновидения – это что–то от безумия? Что сны лишены формы, бесцельны, неподвластны никаким силам неба или ада? Их можно было бы исследовать на организованной основе и узнать многое о характере человека. В сновидениях, как он заметил, ничто не забывается, сколь бы отдаленным это ни было; изобретательность сновидения, его умение приобретать измененные формы – любимое занятие воображения. И если, как он начал подозревать, сновидения – распахнутое окно в подсознание, позволяющее видеть истинные желания пациента, то тогда у него появился еще один путь к осознанию того, что делает пациентов умственно, нервно, эмоционально больными, тогда он может рассмотреть болезнь под микроскопом. Что лучше желаний человека раскрывает, что ему нужно, кем он хотел бы быть и чего достичь? И рефлекторно те же самые желания показывают, к каким изменениям, переменам, улучшениям, исправлениям стремится человек. В своих сновидениях он как бы редактирует и переписывает рукопись своей прошлой жизни! Зигмунд повернул назад и, возбужденный, зашагал домой по тропинке. Это было одно из его величайших открытий. Последствия поражали.12
Книга «Об истерии» была принята плохо. Один из наиболее известных германских неврологов, Штрюмпель, выступил со снисходительным, а по сути отрицательным обзором. После этого никто не осмеливался дать отзыв о книге в медицинских журналах на немецком языке. Зигмунд жаловался Марте: – Все, что говорит Штрюмпель, возможно, и верно, но это не относится к нашей книге. Он выдумал какую–то глупость, а затем блестяще развенчал ее. В Вене никто не говорил о книге даже в критическом тоне, ни один из друзей не упоминал о ней. Однако Зигмунд предполагал, что книгу читают, ибо, как сообщил Дойтике, несколько сот экземпляров из напечатанных восьмисот уже продано. Это было больше, чем число книг «Об афазии», проданных за два года. Последующие недели принесли мало утешения. Глава университетской психиатрической клиники в Цюрихе доктор Эуген Блейлер, который дал благоприятный отзыв о книге «Об афазии» и с которым Зигмунд обменивался письмами, высказал в мюнхенском медицинском журнале свою оценку; позволив некоторые придирки к тексту, он тем не менее заявил, что «содержание книги открывает новый подход к механизму рассудка и вносит важный вклад за последние годы в область нормальной и патологической психологии». Пришло послание из Англии от доктора Митчелла Кларка, прочитавшего книгу и собиравшегося написать критические заметки в журнал «Брейн». Зигмунд уныло рассуждал: – Что же, могу вновь погрузиться в ежедневные дела и накапливать материал. Марта слегка улыбнулась: – А разве не из этого состоит жизнь? Не давай своим надеждам взлетать слишком высоко, дорогой Зиги, и ты не будешь так больно падать. Молчание по поводу книги, видимо, настолько расстроило Йозефа Брейера, что он стал избегать встреч с Зигмундом. В то же время Зигмунд заметил, что его брат Александр становится нервным и раздражительным. Он знал, что Александр перегружает себя, ведь он редактировал возраставший по объему тарифный справочник, управлял почти в одиночку грузовой компанией, преподавал в Экспортной академии. Александр оставался в семье, помогал родителям и двум сестрам, ежемесячно вкладывая часть заработка в выкуп собственного дела. Его рабочее расписание не оставляло времени для встреч с молодыми друзьями. Уже тринадцать лет он не отдыхал летом. Марта решила, что братьям было бы неплохо провести неделю в Венеции: – Это вам здорово поможет. Алекс, это будет наш подарок тебе в день двадцатидевятилетия. Я слишком неудобна для поездки по Италии в летнюю жару. Страх Зигмунда перед поездами сдавил ему горло; накануне отъезда он не мог думать ни о чем другом. Чувство страха смешивалось с радостью. С трудом упаковав свои вещи, он прибыл на вокзал за час до отправления поезда и почувствовал облегчение, лишь когда поезд тронулся. Ничто не сравнится с Венецией в способности доставить удовольствие впервые посещающему ее. Братья доплыли в гондоле по Большому каналу до гостиницы «Ройяль Даниели», затем поспешили на площадь Святого Марка. Они взобрались на колокольню. На нее взбирался в свое время Гёте, чтобы обозреть красные черепичные крыши Венеции, окруженной морем, из которого город поднялся пятнадцать столетий назад. Затем осмотрели Дворец дожей, постояв в благоговении под овальным потолком с росписью Веронезе «Обожествление Венеции». Поужинали они на открытой террасе «Флориана» под звуки арий Верди. Зигмунд был фанатичным любителем достопримечательностей. Братья бродили по древним улицам, осматривали колокольни, посещали медленно оседающие в воду дворцы, построенные в те времена, когда Венеция славилась греховными карнавалами и чеканкой серебра, пересекли мосты Риальто и Академиа, плавали по теплому морю в Лидо, проплыли на лодках к островам Торчелло и Мурано. Венеция была встроена в лагуну в отличие от других итальянских городов, вырезанных из горных склонов. Лучше всего Зигмунд знал историю венецианского искусства: Джорджоне, Тициана, Карпаччо. Поскольку большая часть искусства Венеции сосредоточена в ее храмах, они начали осмотр с византийской базилики на площади Сан–Марко, восхищаясь ее мрамором, мозаикой, картинами и скульптурами, затем направились в церкви Санти Джованни е Паоло, Сан Заккариа, Спасения. Александр вел себя как ребенок, ходил с непокрытой головой, позволяя солнцу золотить свое лицо. Усталость у него как рукой сняло, он с удовольствием поглощал обильную венецианскую пищу из даров моря. Ему нравилось плавать в гондолах. Но больше всего он наслаждался, видя, как разум Зигмунда старается охватить красочную прелесть венецианской архитектуры, роскошных дворцов аристократии, лестницы Боволо и Лоджетто Сансовино. Венцом поездки был визит Зигмунда в лавку древностей на одном из небольших каналов, где он купил совсем дешево бронзовую голову двуликого Януса, римского бога «начал». На вокзале в Вене, когда они расставались, Александр сказал: – Спасибо за роскошный отдых. Знаешь, что мне доставило самое большое удовольствие? Смотреть на тебя, когда ты наслаждался искусством. Не раз я слышал, что по натуре ты не религиозен. Это неверно; как сказали бы итальянцы, твоя религия – искусство. В твоих глазах экстаз, когда ты любуешься творениями Джорджоне или Тициана. Я видел, как твои губы шептали молитву. Зигмунд был тронут: – Профессор Брюкке любил живопись в той же мере, как и физиологию; Бильрот любил музыку так же сильно, как хирургию; Нотнагель любит литературу не меньше, чем медицину внутренних болезней. Если моя любовь к мраморным торсам первого века делает меня религиозным, то быть посему. Вернувшись в Вену, он почти сразу же выехал в Берлин. Ему не терпелось встретиться с Флисом. После того как он сдал в печать полный текст рукописи «Об истерии», в его голове складывалась концепция другой книги, страниц на сто, под названием «Очерк научной психологии». Флис освободился от текущей работы; они проводили теплые дни конца августа, совершая прогулки в лесу и лихорадочно обсуждая проект. Зигмунд получил такой большой импульс, что едва успел поезд отойти от перрона Ангальтского вокзала, как он открыл записную книжку, достал карандаш и вывел карандашом: «Часть I». Почти всю дорогу до Вены он писал, пользуясь своей личной системой краткой записи, понятной Флису и основанной на системе греческих символов: Q – количество, порядок величины во внешнем мире, Оn – количество межклеточного порядка величины, ф – система проницаемых нейронов, v – система непроницаемых нейронов, w – система воспринимающих нейронов, W – восприятие, V – идея, М – двигательный образ «Намерение, – писал он, – состоит в том, чтобы превратить психологию в одну из естественных наук, то есть представить психический процесс как количественно определимое состояние особых материальных частиц». Затем он перешел к теории нейронов, разработанной на основе недавних открытий в гистологии, пытаясь объяснить, каким образом ток проходит по проводникам клеток, и, проводя различие между нейронами, имеющими контактные барьеры, и другими, позволяющими Qn проходить без сопротивления, пытался объяснить память, боль, удовлетворение, состояние желания, познания, мысли, содержание сознания… Он исписал тридцать страниц; несколькими днями позднее он начал часть вторую – «Психопатология», в которой изложил свои открытия истерического принуждения, патологической защиты, формирования символов, расстройства мысли под влиянием аффекта; а затем проследил, как посредством преобразования боль и неприятные ощущения распространяются по физическим каналам. Через десять дней он начал часть третью, озаглавленную «Попытка представить нормальный процесс». Ни одно занятие так его не увлекало, как это. Он признавался, что в полном смысле слова поглощен работой по доказательству своей теории на основе гистологии, физиологии, анатомии мозга и центральной нервной системы и того, как действует физически подсознание через нервную систему. Он составил глоссарий, разработал математические формулы, чтобы измерить количество и направление потока образов воспоминаний, начертил диаграммы таких важных случаев, как случай молодой женщины, которая не могла оставаться в лавке, потому что подумала, будто служащие смеются над ее одеждой. Он был счастлив и общителен. Он вновь стал ученым. Марта была очарована его рисунками, засыпавшими стол. Она просила объяснить их смысл. – Как рисовальщику, мне далеко до Домье, – шутил он, – но позволь мне выяснить, понятны ли мои рисунки. Для Марты описанные им концепции оказались слишком техническими. – Я не понимаю, что означают твои символы, Зиг, – сказала она. – Это лабораторный язык, не так ли? – Надеюсь, моя дорогая Марта. Здесь, как во всех лабораториях, противник неизвестен, он всегда бросает вызов человеку и часто является победителем. Достаточно просто участвовать в физических действиях и конфликтах: люди устраивали состязания на Олимпийских играх в Греции, на поле брани сталкивались противостоящие армии. Однако приключения ума могут быть не менее отважными и столь же опасными. Я знаю, как легко представить себя в романтическом свете, но вспышка истины в человеческом интеллекте может быть на том же уровне удовлетворения и свершения, как подвиг Колумба, увидевшего Новый Свет с капитанского мостика «Святой Марии». – Ты убедил меня в этом в тот самый день, когда мы поднялись в горы над Мёдлингом; это отчасти объясняет, почему я влюбилась в тебя. – Ты помнишь, как однажды на прошлой неделе ты проснулась в два часа ночи и увидела меня за письменным столом? Я писал Флису. Я сообщал ему, что нахожусь в затруднении, что мой ум работает лучше в условиях физического дискомфорта, выступающего моим противником. И вдруг барьеры, мешавшие пониманию, отпали, и я осознал врожденную природу неврозов вплоть до малейших деталей, какими обусловливается сознание. Каждая часть механизма оказалась на своем месте – шестеренки, колеса, приводные ремни вошли в сцепление. Казалось, я разработал самодействующий механизм, включавший три класса нейронов, их связи, а также свободное состояние, дорожку, по которой движется нервная система, как достигаются биологически внимание и защита, что образует реальность, равным образом и качество мысли, как действует репрессивно–сексуальный фактор, и, наконец, элементы, контролирующие сознание, которые я обозначил как функцию восприятия. Скажу тебе, Марта, вся конструкция настолько увязана логически, что мне трудно сдержать радость. – Зиги, уверена, что ты сейчас высек свое имя на скале. – Она ласково засмеялась. – Но повтори за мной: «Рим не был выстроен за день… или за ночь…» Гораздо меньше приятных эмоций приносил доктору Зигмунду Фрейду и его семье внешний мир. По мере ухудшения экономического положения в Вене усилилось антисемитское движение, подогреваемое избирательной кампанией Карла Люгера, стремившегося занять пост мэра и использовавшего нападки на венских евреев, якобы вызывающих недовольство. Гимназисту, пришедшему на исповедь, давали наказ: «Молись за победу антисемитов ради отпущения твоих грехов». Священники посещали частные и государственные школы, внушая учащимся: «Грядет победа христианства над темными силами». Толпы молодежи собирались в пивнушках и орали: «Люгер! Люгер! Долой евреев!», били пивные кружки и нападали на прохожих со смуглыми лицами. Кульминацией стала проповедь его преосвященства Декерта, заявившего: – Пусть будет похоронный костер; жгите евреев во славу Бога. Это переполнило чашу терпения еврейской общины, да и солидной католической общины. Католики оказали давление на кардинала Груша, и тот лишил сана отца Декерта. Еврейский комитет пришел с депутацией к императору Францу–Иосифу. Тот запретил вывешивать антисемитские плакаты на киосках, где венцы привыкли видеть объявления Бургтеатра, Оперного и Народного театров. Зигмунд участвовал в митинге персонала Института Кассовица. Настроение было мрачным. Один из врачей кричал: – Сегодня это лишь приходский священник отец Декерт; что будет завтра, если к похоронным кострам начнет взывать канцлер? Зигмунд был далек от политики. Теперь же он решительно проголосовал против Люгера и его партии. К огорчению значительной части Вены, Люгер получил большинство голосов. Франц–Иосиф отказал ему в разрешении занять пост мэра, заявив, что он опасен для благосостояния империи. Город облегченно вздохнул.13
Выпуск издательством Дойтике работы «Об истерии» принес наконец положительный результат: Зигмунда пригласили прочитать три лекции перед коллегией врачей. Это приглашение не было равнозначным приглашению выступить перед Медицинским обществом – самым важным медицинским органом в Австрийской империи, где Зигмунд выступал раньше. Хотя одно время коллегия врачей включала в число своих членов всех докторов университета, в последние годы она теряла значение. Но он принял приглашение с теплой благодарностью. Его не смущала ложная гордость: если он не может быть приглашен в Медицинское общество для изложения своих идей, он рад выступить на второстепенном уровне. Через одну–две недели, когда стало известно, что он прочтет лекцию, его ожидал еще один сюрприз. Йозеф Брейер явился к нему на Берггассе и поздравил по поводу приглашения. – Зиг, не хотел бы ты, чтобы я выступил в этот вечер? Я хочу участвовать и полагаю, что лучше всего, если я представлю тебя и в этом смысле буду спонсором. Зигмунд смущенно пробормотал слова благодарности. В день первой лекции Йозеф ожидал его около семи часов вечера перед входом в лекционный зал Академии наук на Универзитетсплац, 2. Председательствующий потребовал внимания. Йозеф встал впереди трибуны и перед скромной аудиторией кратко изложил научные труды Зигмунда, начиная с работ над угрями и раками и кончая монографией по неврозу, а также книгой, написанной ими совместно, которой он, Йозеф, гордится как соавтор. В заключение он сказал: – Длительное время я не хотел верить в справедливость теорий доктора Фрейда, но сейчас я убедился в силу обилия фактов. Я согласен с утверждением доктора Фрейда, что корни истерии следует искать в сексуальной сфере индивида. Это, конечно, не означает, что каждый симптом истерии обязательно исходит из сексуальной сферы. Если его теория не удовлетворяет во всех отношениях, его доклад разъяснит тем не менее достигнутый прогресс. Зигмунд встал. Он говорил, используя свои записи. Вслед за Йозефом Брейером он сказал, что эксперименты являлись предварительными и не все симптомы истерии имеют сексуальную этиологию. Он признал свои неудачи, а также чрезмерное упрощение, признался в ошибках, из–за которых ему приходилось переосмысливать свои идеи. Он признал, что его работа – это только начало, впереди десятилетия исследований и проверок. Свои замечания он закончил словами, что официальной медицине были известны сексуальные факторы заболеваний, но она действовала так, будто ей ничего неизвестно, возможно, из–за нежелания откровенно говорить о проблемах секса. Затем он перешел к основному содержанию лекции и простым языком изложил найденные им истины, как они развивались и почему он считает их правильными. В конце лекции было задано мало вопросов: вялая дискуссия длилась десять – пятнадцать минут. Зал опустел. Зигмунд взял за руку Брейера, и они вместе вышли на улицу, довольные теплым приемом аудитории. Он знал, что обязан во многом одобрению Брейера, но также знал, что он сам хорошо организовал свой материал и с научной точностью вел слушавших его врачей от этапа к этапу. Прохлада октябрьского вечера приятно освежила голову. Он повернулся к Йозефу и сказал с признательностью: – Йозеф, не могу выразить, как ободрило меня твое представление и что это значит для моей будущей работы. В этом причина, почему аудитория слушала меня с таким уважением и аплодировала. Это потому, что ты одобрил нашу теорию сексуальной этиологии неврозов. Йозеф Брейер подобрался, расправил плечи, вздернул вверх голову, широко раскрыл глаза и сказал холодно и враждебно: – Все равно я в это не верю! С этими словами он повернулся на каблуках и направился в сторону собора Святого Стефана и своего дома. Быстрой походкой, почти бегом, он скрылся из поля зрения Зигмунда. Зигмунд стоял ошарашенный. Час назад Йозеф горячо одобрял их труд. Сейчас же он не только отверг эту работу, но и оттолкнул Зигмунда Фрейда! Выражение его лица, тон его голоса, его уход, по–видимому, указывали на то, что Йозеф Брейер прекращает их тесные отношения, продолжавшиеся двадцать лет. Зигмунда передернуло. Он застыл на месте. Он не мог сделать шага к дому. Его сердце ныло. Что подействовало на Йозефа, побудив его столь бесцеремонно оттолкнуть друга? Что заставило Йозефа поступить так, как если бы он был по горло сыт господином доктором Фрейдом и его дикими теориями? Зигмунд заставил себя двинуться с места. Медленно брел он по улицам, его ноги были пудовыми. Его ум медленно возвращался к профессору Мейнерту, который также отрекся от своего протеже… и сделал признание: «Всегда помни, Зигмунд, противник, сильнее всех борющийся против тебя, более всех убежден в твоей правоте». У него перехватило дыхание, когда одна уверенная мысль пронзила его мозг. Теперь он понимал! Йозеф Брейер говорил ему, что в деле Берты Паппенгейм нет никакой сексуальности. Йозеф верил в это с самого начала, он верил до последнего момента. Тем не менее Берта Паппенгейм фантазировала о сексуальной связи с доктором Йозефом Брейером: она считала себя беременной от него. В тот самый вечер, когда он сообщил ей, что она достаточно здорова, чтобы обратиться к другому врачу, а он с Матильдой уезжает в Венецию, Берта Паппенгейм почувствовала схватки роженицы. Увидев входящего Йозефа, она воскликнула: «Выходит ребенок доктора Брейера». По имеющимся у него историям болезни Зигмунд знал, что в деле Берты Паппенгейм есть значительный элемент сексуальности. Он давно подозревал, что женщина влюбилась в своего врача и все еще любит его, что из–за невозможности выйти за него замуж намерена хранить эту любовь всю жизнь. Сейчас он ясно увидел то, что ранее знала только Матильда Брейер, а именно – доктор Йозеф Брейер также влюбился в свою пациентку! Именно это так расстроило Матильду, нарушило мир и счастье в их семье. В течение ряда месяцев, когда Зигмунд приходил к ним в дом, он видел Матильду бледной, с покрасневшими глазами. Матильда никогда бы не реагировала так по поводу влюбленности пациентки в ее известного и привлекательного мужа; десятки пациенток влюблялись в него. Но Матильда почувствовала опасность. Может быть, Йозеф Брейер не знал или еще не сознавал глубину любви, которую питали друг к другу пациентка и врач. В этом скрывалась угроза благополучию семьи. Теперь впервые Зигмунд догадался, почему Йозеф Брейер так странно себя вел в отношении дела Паппенгейм: он был сам напуган своей эмоциональной вовлеченностью. Добрый и мягкий, он не хотел сделать больно жене и старался всячески предотвратить такое. У него явно недоставало силы отгородиться от любви к умной и крайне привлекательной Берте Паппенгейм; не мог он и смириться с такой любовью. Он подавил осознание этого, загнал в тайники ума. Только это могло объяснить перепады в его отношениях с Зигмундом, его принятие и отторжение работы по истерии и сексуальной этиологии неврозов, полтора года потребовалось ему, чтобы описать случай, и теперь, после публичного согласия, такое резкое отторжение. Очевидность нависла над ним, заставила вспыхнуть его лицо в холодном ночном воздухе. Вот почему Йозеф прекратил заниматься пациентами с неврозом, перестал пользоваться гипнозом, а вместо этого направлял пациентов к Зигмунду. Вот почему за последние несколько лет он отходил от Зигмунда и исследований умственных и эмоциональных заболеваний. И вот почему он оттолкнул своего друга таким неподобающим и резким образом. Через несколько дней в венском «Медицинском журнале» появится обзор, – Зигмунд видел, что журналист делал заметки, – в котором Йозеф объявит миру медиков, что поддерживает Зигмунда Фрейда в сексуальной этиологии неврозов. Это станет невыносимым! Это будет моральная агония Йозефа Брейера! Когда она накапливалась: во время лекции, дискуссии или после осознания, что он влюбился в пациентку и никогда не забудет ее, так же как она не забудет его? Пришло ли оно в тот момент, когда Зигмунд Фрейд представлял истории болезни? Если Йозеф Брейер никогда больше не встретится с Зигмундом Фрейдом, не будет с ним работать, откажется от ответственности за свои гипотезы и исследования, сможет ли он тогда жить в мире с самим собой, со своей медицинской практикой, исследованиями, со своей милой женой, солидным домом и репутацией? Часы на ближайшей церкви пробили десять, эхо прокатилось по Вене. Зигмунд усомнился в правильности времени. Он вытащил собственные часы для проверки. Затем, запахнув на груди пальто, пересек площадь Максимилиана за Обетовой церковью и спустился к Берггассе, миновав три квартала. Он чувствовал себя так, как если бы наступил конец мира; он потерял своего старого и самого дорогого друга, словно тот умер, подобно другим его любимым друзьям: Игнацу Шенбергу, Эрнсту Флейшлю, Иосифу Панету. В Вене не осталось души, с которой он мог бы обсудить свою работу. Отныне он одинок.Книга десятая: Пария
1
Якоб Фрейд скончался осенью 1896 года в возрасте восьмидесяти одного года. В июне после ряда сердечных приступов и неполадок с мочевым пузырем он был очень плох, и Зигмунду казалось, что отец вряд ли переживет душное венское лето. Зигмунд снял скромную виллу в Бадене под Веной для родителей и Дольфи, единственной сестры, остававшейся при них, – Роза вышла замуж за месяц до этого. Якобу нравился прохладный воздух сельской местности, напоенный ароматом трав. Он подолгу прохаживался перед входом в виллу, любуясь, изумрудной зеленью долины. – Поезжай в Аусзее с Мартой и детьми, – уговаривал он Зигмунда. – Тебе тоже нужно отдохнуть. Даю честное слово, не стану болеть до твоего возвращения. Якоб сдержал слово. Но в конце октября, когда весь клан Фрейдов возвратился в Вену, он перенес паралич кишечника и инсульт. Зигмунд и Александр провели у его постели последнюю ночь. В полночь Якоб скончался. Подскочившая в момент смерти температура придала его щекам такую яркую окраску, что Зигмунд воскликнул: – Посмотри, как похож отец на Гарибальди! Зигмунд прошел затем в соседнюю комнату, где находилась Амалия. Он обнял мать, поцеловал ее и нежно сказал: – У отца была легкая смерть. Он достойно вел себя, как и положено замечательному человеку. Зигмунд организовал простые похороны, купив участок в еврейской части Центрального кладбища в пятнадцати минутах ходьбы от входа, на аллее, где стояли большие надгробные камни, на которых были изображены еврейские храмы. Парикмахер, которого он посещал ежедневно, задержал Зигмунда, и он прибыл на церемонию с опозданием. Александр и Дольфи косо взглянули на него. В эту ночь Зигмунду снилось, будто он в лавке, над дверью которой висела вывеска: «Тебя просят закрыть глаза». Проснувшись утром, он вспомнил о сновидении. Лавка напомнила ему парикмахерскую, а вывеска означала: «Нужно отдать долг покойному. Я не выполнил свой долг, и мое поведение достойно упрека. Итак, сон выражал чувство самопорицания, которое возникает у близких усопшего…» Смерть отца произвела на Зигмунда сильное впечатление. Он писал Вильгельму Флису: «Какими–то окольными путями, минуя сознание, смерть старика глубоко тронула меня. Я его высоко ценил и хорошо понимал, он воплощал для меня большую мудрость и восхитительную добропорядочность. К моменту кончины его жизнь давным–давно угасла, но смерть восстанавливает все прошлое». Так воспринял смерть отца Зигмунд Фрейд, покорившийся ей как акту умиротворения, особенно уместному в свете случившегося несколькими месяцами ранее, когда он сам сделал себя жертвой. Остракизм, которому подвергся Зигмунд, был вызван лекцией «Этиология истерии», прочитанной им в конце апреля в Обществе психиатрии и неврологии. Тогда он сказал Марте: – Ослы холодно приняли ее. Неодобрение его доклада было всеобщим; университетские медицинские и научные круги не приняли ни на йоту его данные и выводы. Крафт–Эбинг, председательствовавший на заседании, заявил: – Звучит как научная басня. Однако настоящие неприятности начались в сентябре, когда Зигмунд дал понять, что намерен опубликовать лекцию в «Венском клиническом обозрении». Его коллеги решительно возражали. Нежелательными, недопустимыми считались открытая им детская сексуальность и приставания к детям на сексуальной почве. У него самого эти явления вызывали глубокое отвращение, и он выбросил все касавшееся первой дюжины случаев. Почему так много отцов пристают к своим дочерям или стараются стимулировать их в сексуальном плане? Это казалось невероятным, за исключением таких варварских случаев, как случай с девушкой–горянкой Катариной. Когда пациентки устанавливали ассоциацию с подобными воспоминаниями детства, доктор Зигмунд Фрейд пытался вывести их на другие воспоминания, которые было легче принять. Но что делать, если у него набралась сотня фактов, документально подтверждавших, что между отцом и дочерью, а также между матерью и сыном обычны в той или иной форме приставания или сексуальное влечение? Санитар из психиатрической клиники профессора Крафт–Эбинга принес Зигмунду записку: не мог бы господин доктор Фрейд посетить вечером профессора? Зигмунд проверил свое расписание и ответил, что может прийти к шести часам. Казалось странным проследовать через палаты, некогдаопекавшиеся профессором Мейнертом, где тринадцать лет назад он был «вторым врачом» и ухаживал за сотнями таких же пациентов, какие лежат сейчас на расставленных по десять в каждом ряду койках, некоторые из них накрыты сетками. Тогда он не подозревал, что же не в порядке с этими несчастными душами, от которых приходил в отчаяние профессор Мейнерт, считая их безнадежными. Как он мог быть слепым? Как другие врачи могут оставаться и сейчас слепыми? Вовсе не нужно ждать смерти пациентов, потом нарезать их мозг микротомом, поместить срезы под микроскоп и увидеть нарушения. Ведь срез может не показать ничего! Только при жизни можно проникнуть в мозг, обнаружить в подсознании, что испортилось, вызвало невроз, заставивший попасть в клинику с умственным или эмоциональным расстройством, способным искалечить и убить с той же предсказуемостью, как любое физическое заболевание. Крафт–Эбинг почти ничего не поменял в кабинете Мейнерта; он все еще напоминал часовню с рядом небольших окошек, расположенных в нишах под потолком. Лишь на полках были иные книги, да появился флорентийский стол, инкрустированный лилиями герба Медичи. Крафт–Эбинг поставил также кресло–шезлонг, обтянутое красным венским дамастом, с поперечной доской для писания, опирающейся на ручки кресла. На этой доске он работал над своими бесчисленными рукописями. Вот уже четыре года после смерти Мейнерта он трудился в этом кабинете. Профессор Крафт–Эбинг приколол свеженаписанные страницы к доске, встал и, дружески улыбаясь, приветствовал Зигмунда. Он постарел за прошедшие годы: его волнистые волосы поредели и поседели, в темной мужественной бороде появились серебристые пряди. Но его голова оставалась одной из наиболее выразительных голов, какие были у римских сенаторов и какие довелось увидеть Зигмунду, глубоко посаженные глаза скрывались под нависшими бровями, выдавался суховатый нос. Красиво очерченная голова заключала превосходный ум, выдержанный и внимательный, как подобает истинному ученому. Кто–то читал в углу комнаты; поначалу Зигмунд не заметил, что это был профессор Вагнер–Яурег; он повернулся и, тепло пожав руку Зигмунду, почти раздавил ее. Вагнер–Яурег сохранил свое «сельское» обличье: мощные руки и торс лесоруба. Сердце Зигмунда дрогнуло, когда он понял, что вызван на самый влиятельный конгресс психиатров в немецкоговорящем мире, ибо Вагнер–Яурег, как он и предсказывал, был отозван из университета Граца, чтобы возглавить одну из двух психиатрических клиник Венского университета. Он нисколько не постарел с того момента, как Зигмунд посетил его в Граце: глаза цвета морской волны, коротко остриженные светлые волосы, гладковыбритое овальное лицо со скромными белокурыми усами. Крафт–Эбинг сказал своим добрым голосом: – Господин коллега, благодарю за то, что вы пришли. Вот кофе и печенье. Садитесь и чувствуйте себя как дома. Зигмунд пробормотал о своей признательности, а про себя подумал: «Как дома, не тут–то было. Однако кофе поможет». Крафт–Эбинг не был человеком, улыбавшимся ради удовольствия, он поступал так, чтобы расположить к себе человека, оказавшегося в беде. – Фрейд, ваша лекция не нанесла вам непоправимого ущерба: репортеров не было, а общество ревниво относится к тому, чтобы в печать не попало ни слова. В конце концов, оно открыто для всех квалифицированных врачей. Вы сами слышали, разумеется, немало странных медицинских гипотез, которые не выдержали первого же испытания. – Считаете ли вы мои идеи смехотворными, господин профессор? – Может быть, это слишком сильно сказано между коллегами… – Я не прибегаю к предвзятым словам. Я выглядел смешным, когда возвратился из Парижа и прочитал свою первую лекцию о мужской истерии. Это было десять лет назад, а сегодня концепция принята венскими неврологическими кругами. Позже я сделал себя немного смешным, практикуя гипноз в родном городе Месмера… Ваш приезд и вера в гипнотизм как терапевтическое средство ободрили меня… В комнате воцарилась гнетущая тишина. Вагнер–Яурег походил из угла в угол, а затем сказал тоном дровосека, каждое слово падало, как топор: – Фрейд, мы вместе прошли медицинскую школу, много лет работали бок о бок в лабораториях. Я восхищался твоими работами по детскому параличу. Именно поэтому прошу тебя, не публикуй свою лекцию. Это причинит тебе непоправимый вред. Ты потеряешь то уважение, которым сейчас пользуешься. Мы оба, Крафт–Эбинг и я, чувствуем, что ты движешься слишком быстро и рискуешь многим. Тебе следует поработать еще несколько лет, собрать дополнительные данные, проверить свои гипотезы, устранить возможность ошибки. У Зигмунда сжалось сердце. Он всматривался в лица двух удачливых мужей. Крафт–Эбинг добавил спокойно: – Мы разобрали вашу лекцию по частям и убеждены, что вы допускаете фундаментальную ошибку относительно концепции «детской сексуальности». Она неприемлема для человеческой натуры. Прошу вас, дорогой Фрейд, пусть ваша вера не опережает ваши наблюдения. Не сходите с тропы точной науки, которой вы посвятили свою жизнь. Преждевременное опубликование нанесет удар не только по вашей репутации. Зигмунд спросил удивленно: – Кому же я наврежу? – Медицинской школе. Журнал читают многие. Вы можете оказать плохую услугу нашему университету. Зигмунд внутренне сжался. Он спросил хриплым голосом: – Господин профессор, я читал груду обвинений, свалившихся на вас за вашу ценную книгу «Сексуальная психопатия». Конечно, нашлись люди, которые отговаривали вас от публикации такого новаторского материала, по большей части неприемлемого для человеческой натуры? Крафт–Эбинг стоял молча, его лицо сморщилось, словно от боли. Вагнер–Яурег шагнул и встал между ними. – Фрейд, меня преследует чувство, что твое заключение о сексуальном влечении к детям содержит фундаментальную ошибку, которую со временем ты сам обнаружишь, когда копнешь глубже. Именно поэтому я прошу тебя воздержаться от публикации. Ты знаешь, что говорят наши австрийские крестьяне, когда ловят кого–то на мимолетной ошибке: «Ты не застегнул ширинку!»2
На следующее утро Оскар Рие попросил Зигмунда присоединиться к нему и его свояку Людвигу Розен–штейну в ресторане около Тухлаубена. Там находился также директор Макс Кассовиц, что было редкой честью. Хотя приветствия были, как всегда, трогательными, гнетущее чувство царило в зале, мешая наслаждаться телятиной с картофелем под соусом с красным перцем. Сотрудники Института Кассовица присутствовали на лекции Зигмунда, тем самым публично поддерживая его, но ни один из них не был согласен со сказанным. Пятидесятичетырехлетний профессор Кассовиц, пользовавшийся уважением в медицинских кругах всей Европы, считал, что Зигмунд переживает кризис; если он опубликует лекцию, пути отхода будут отрезаны. Розенштейн сказал, что Зигмунд оказался посреди океана наедине с гусиным перышком. Оскар Рие показал ему новую публикацию профессоров Фрейнда и Закса, неврологов из Бреслау, в которой они ухватились за главную мысль Зигмунда в его статье «Органический и истерический двигательный паралич», не упомянув при этом имя доктора Фрейда. Оскар печально добавил с доверительной улыбкой: – Если подражание – искренняя форма лести, Зиг, тогда плагиат – сорвавшееся с цепи восхищение! Ты самый лучший наш детский невролог; почти все, что знаем Людвиг и я, мы получили от тебя. Оставайся с нами, здесь ты сможешь обрести солидную, надежную, уважаемую карьеру. Твои нынешние попытки будут держать тебя на… обочине медицинской науки и респектабельности. Зачем приносить столь бессмысленную жертву? Зигмунд медленно брел домой, наслаждаясь теплым апрельским воздухом и разглядывая булыжники мостовой. Ему казалось, что стены городских укреплений, снесенные несколько лет назад по приказу императора Франца–Иосифа для прокладки Ринга, вновь сомкнулись вокруг него и он оказался в заточении. За ним следили два надзирателя: его собственная натура, не позволявшая ему отступить там, где он считал себя правым, и медицинский корпус Вены, который не приемлет его как врача. Он передал Марте сцену слово в слово, а также рассказал о встрече накануне с Крафт–Эбингом и Вагнер–Яурегом. Она должна была знать, ибо это касалось и ее жизни. – Марта, эти добрые люди желают мне только хорошего. Крафт–Эбинг и Вагнер–Яурег ограждают репутацию клинической школы университета, а Кассовиц и Оскар хотят в глубине души избавить от неприятностей детскую больницу. Марте исполнилось тридцать пять. Прошло пять месяцев после рождения в декабре 1895 года Анны, шестого и, как они решили, последнего ребенка. Она плохо себя чувствовала во время беременности; роды оказались трудными. Тем не менее ребенок был цветущим. И только сейчас здоровье и хорошее настроение стали возвращаться к ней. Ее черные блестящие волосы были зачесаны назад; ее глаза сверкали серо–зелеными озерками нежности. Несмотря на то, что она родила шестерых. Марта старела медленнее Зигмунда, у которого в сорок лет появилась седина в бороде, а вид был помятым. Она взяла его руку в свою. В течение медленного выздоровления он читал ей по часу каждое утро и каждый вечер нравившегося им обоим швейцарского автора Мейера. Он старался, чтобы ее комнату украшали ее любимые цветы – цикламены. – Зиги, намерен ли ты опубликовать рукопись? – Да, после обеда я посмотрю последний раз текст и к вечеру отнесу в журнал. – И каков же будет, по мнению твоих коллег, конец? – Нет, это будет начало… пустоты, окружающей меня.,. Марта улыбнулась, как снисходительная мать, и прошептала: – «В начале Бог сотворил небо и землю. Земля же была невидима и пуста… И сказал Бог: да будет свет…» Зигмунд поцеловал ее в щеку, думая: «Брак не полон до тех пор, пока жена не становится матерью мужу». Марта продолжала: – Ты когда–то говорил о переезде в другой город. Не думаю, чтобы мне понравилась мысль о Лондоне или Нью–Йорке, я ведь не способна к языкам. Но если ты хочешь перебраться в Берлин… Он присел возле ее стула, сжал ее ладони в своих: – Спасибо, дорогая, за такую жертву. Но нет в этом нужды. Мне напомнили еврейскую историю о торговцах, которые бродят пешком по стране с мешками за спиной, торгуя в селах и деревнях. Вечерами они собираются в местных харчевнях, чтобы поесть и отдохнуть, оставляя свои мешки во дворе. Каждый разносчик старается взять верх над другим в своих жалобах: его мешок самый тяжелый, самый неудобный, самый утомляющий. Но однажды харчевня загорелась. Торговцы бросились во двор, хватая свои мешки. Мой заплечный мешок – это Вена. Вена – моя тюрьма. Я должен остаться и завоевать крепость изнутри. Мои писания будут трубой Иеговы: достаточно протрубить, и стены падут. Горничная принесла свежезаваренный чай. – Достаточно крепок, – комментировал Зигмунд, – для поднятия сил; самое лучшее лекарство от синяков и ущемленного самолюбия. Он медленно отпивал мелкими глотками, приятная теплота разливалась по телу. – Марти, я должен буду уйти из Института Кассовица. Прошло десять лет с того дня, как в помещении над аптекой я основал отделение детской неврологии. Я провел там тысячи часов, ухаживал за тысячами детей, я написал полезный материал для публикаций института. Я хотел подать в отставку раньше. Теперь самое время. Марта наморщила лоб: – Не подумают ли, что ты уходишь из–за того, что они осудили твою лекцию? – Может быть, но мои коллеги почувствуют также некоторое облегчение. Я помечу заявление об отставке шестым мая, днем моего сорокалетия. Стану сам себе хозяин, буду работать только над неврозами и подсознанием. Когда у человека позади четыре десятилетия трудной и необеспеченной жизни, он должен все же обрести свободу. – Он слегка усмехнулся. – Как говорил путник, о котором рассказывал мой отец Якоб, он доберется без билета до Карлсбада, если его «телосложение сможет выдержать». Лекции были опубликованы в «Обозрении». Врачи, которых он знал по долгим годам работы в Городской больнице, переходили на другую сторону улицы, чтобы не здороваться с ним. При его появлении на заседаниях Медицинского общества никто не кивал ему, никто не обращался к нему. Личные вещи прислуги презрительно именовались в Вене «семь слив»; ритуальной для увольнения прислуги формулой было: «Сложи свои семь слив и убирайся!» В клинической школе, когда возникал вопрос о докторе Фрейде, говорили: «Он сложил свои семь слив и ушел». «Второй врач» в бывшем отделении нервных заболеваний примариуса Шольца отозвался о теории приват–доцента Фрейда вульгарной фразой: «Выросло не на моем навозе». Зигмунд чувствовал себя оскорбленным и обойденным… парией. Вновь и вновь хотелось выплеснуть из себя: «Я изолирован! Я одинок!» Но губы были сжаты. К нему больше не направляли больных, словно он был занесен в черный список. Не приходили пациенты из Городской больницы, от Института Кассовица, от некогда сотрудничавших с ним врачей. Он продолжал читать в университете факультативные лекции по истерии и острому неврозу, но на курс записались лишь четыре человека. По субботам его все еще приглашали играть в карты, но он редко появлялся, понимая, что друзья делают это из жалости. Марта старалась утешить его, подчеркивая, что Оскар Рие и Леопольд Кёнигштейн не способны на глупости. Он задумывался, не заразна ли мания преследования. Не подцепил ли он ее от психически больного офицера армии? Было мало надежды, что его пригласят вновь выступить в каком–либо медицинском обществе, ведь публикация лекции привела, по его собственным словам, «к разрыву большей части личных контактов». Он спросил одного знакомого своего отца, нельзя ли отыскать группу, с которой он мог бы обсуждать свои открытия. – Где можно было бы найти кружок достойных людей, которые приняли бы меня по–дружески, несмотря на мою робость? Старик ответил: – Общество «Бнай Брит» – место, где найдешь таких. Но для цели, о которой ты говоришь, я рекомендовал бы молодежь Еврейского академического кружка читателей. В субботу вечером в клубной комнате дома на Ринг–штрассе собралось около тридцати молодых людей. Они не имели представления о том, что Зигмунд описал им как «первый взгляд на глубины инстинктивной жизни человека», не знали ничего о структуре подсознания. Слушали они с глубоким вниманием, затем задали вопросы, из которых следовало, что, хотя они поняли лишь часть сказанного доктором Зигмундом Фрейдом, им хотелось узнать больше. Когда он вошел в дом на Берггассе и Марта увидела блеск в его глазах, она сказала: – Слава богу. Прошло хорошо. К счастью, радовали и семейные новости. Их родственники в Нью–Йорке и Вене процветали. Паули родила первого ребенка – Розу. Тридцатишестилетняя Роза Фрейд влюбилась в сорокачетырехлетнего Генриха Графа, доктора юриспруденции, члена коллегии адвокатов, утонченного, высокоинтеллектуального человека с быстро растущей правовой практикой. Он слыл авторитетом в вопросах торговых марок и железнодорожных перевозок и публиковался в журналах по вопросам права. Роза не питала серьезных чувств ни к одному мужчине после бегства молодого Брюста десять лет назад из–за обеденного стола Фрейдов. Она не цеплялась за Брюста и не отрешилась от мысли о браке, как поступила Минна после смерти Игнаца Шенберга; Роза оставалась романтиком, верившим, что где–то в мире есть для нее подходящий мужчина. Зигмунд играл роль шафера на свадьбе, поставил свою подпись на документах, засвидетельствовавших брак невесты и жениха, поцеловавшихся под хуппой в храме на Мюлльнергассе. Марта устроила свадебный обед. Дом благоухал ландышами, подавалось французское шампанское. В три часа около тридцати членов семейства Фрейд уселись за стол, причем дети – за отдельный. Марта подала суп, говядину с молодым картофелем и петрушкой, а затем шедевр венских десертов – шоколадный торт «Малахов» со взбитыми сливками и бисквитом. К пяти часам новобрачные отправились в свадебное путешествие. Дольфи оставалась одинокой. Она была на два года моложе Розы, и поэтому до замужества Розы ее одиночество никого не тревожило, но теперь Зигмунд и Александр признались друг другу, что есть основания для беспокойства: у довольно невзрачной Дольфи не было мужчины, который интересовался бы ею всерьез. Зигмунд перенес с внутренним спокойствием нападки на статью «Наследственность и этиология неврозов», написанную им для французского неврологического журнала. Большинство комментаторов придерживались той же мысли, что и германский невролог Штрюмпель, который, рассматривая работу «Об истерии», дал, как сказал Зигмунд Марте, «бесчестную оценку», поставив под серьезное сомнение терапевтические процедуры Зигмунда. Он писал: «Не знаю, можно ли считать законным при всех обстоятельствах такое проникновение в наиболее интимные частные дела даже со стороны врача с самыми высокими принципами». После публикации в «Обозрении» началась буря. Его называли то человеком «с грязными мыслями», «подглядывающим в замочную скважину», то «сексуальным маньяком», «торговцем похотью и порнографией», то «осквернителем духовных качеств человека», «нескромным, бесстыдным, распутным, скотским», «позором для его профессии» и в конечном счете «антихристом». Подобно врачам, его критики были больше всего раздражены материалами о детской сексуальности, – материалами, которые он собрал, когда пациент за пациентом раскрывали ему свое прошлое, углублялись в раннее детство и излагали подавленные воспоминания сексуального характера. Он узнал о многих эротогенных зонах, которые находят дети и на которых сосредоточиваются. После долгих лет напряженной работы он документально доказал существование оральной сексуальности, ибо, по его наблюдениям, любовь и голод сходятся на женской груди. Ему становились понятными некоторые из особенностей анальной сексуальности, когда и каким образом она возникает и на каких стадиях подрастания продолжается; некоторые пациенты–гомосексуалисты мысленно возвращались к исходной точке своей анальной сексуальности. Какое множество детей думали, что они появляются на свет через анальное отверстие! В Вене дети, особенно младшего возраста, считались совершенно невинными, божественными херувимами, не знающими ничего о грубостях секса или не имеющими о них представления до достижения зрелости. Доктор Зигмунд Фрейд не только оскверняет материнство и отцовство, но и чернит чистую, беззаботную детскую жизнь… – Разве лучше оставаться больным, портить себе жизнь, чем признать инстинктивную сексуальную природу человека? – спросил он Марту, когда она и ее сестра Минна сидели вместе с ним за обеденным столом. Минне шел уже тридцать первый год, но она оставалась все той же семнадцатилетней доброй Минной, какую помнил Зигмунд. То обстоятельство, что она не искала больше собственной любви или семьи, никоим образом не повлияло на ее способность безыскусно радоваться жизни. Для Марты она была добрым ангелом, озарявшим, подобно солнечному лучу, дом Фрейдов в трудные времена. Когда однажды фрау Бернейс приехала из Вандсбека, Зигмунд и Марта спросили ее, не разрешит ли она, чтобы Минна осталась в Вене. Минна согласилась, но с оговоркой пройти испытательный срок в несколько месяцев. Дети полюбили свою тетю. Марта была рада иметь при себе сестру как доверенное лицо, особенно после того как она разошлась с Матильдой Брейер. Тетушка Минна нашла забавными обвинения против Зигмунда. – Нужно же отыскать самого нелепого кандидата для обвинений, – шумела она. – О, Зиги, знали бы они, какой ты обычный! Даже королева Виктория назвала бы тебя скромником. Почему они не понимают, что ты не защищаешь, а описываешь и объясняешь? В конце концов, ты ведь не изобретаешь существо человеческой природы. Разве Дарвин не говорил, что мы появились на свет после миллиона лет в итоге развития тысяч разновидностей? – Да, – ответил Зигмунд, – я был бы доволен, если бы одна разновидность – гомо медикалис – вернулась в болото примитивизма, из которого вышла. Марта, склонившаяся над вязаньем, подняла глаза и успокаивающе сказала: – Спокойнее, дорогой, пусть изливают желчь твои противники.3
Смерть отца обострила его чувства до крайнего предела. Изоляция, которую он до этого выносил, стала нестерпимой. Когда он признался Вильгельму Флису: «Я чувствую, словно вырваны мои корни», он знал, что пережил эмоциональный шок огромной силы, впервые в жизни потеряв уверенность в себе. Он ощущал, что в его голове развертывается междоусобная война: воспоминание о Якобе как живом, не подлежащем забвению и в то же время поднимавшиеся из подсознания тревоги, страхи, невнятные трепыхания перед преградой неумолимого цензора, подобные взмахам крыльев птицы в ночной мгле. Все это вызывало смятение, вынуждало всматриваться в себя, и между умом и сердцем метались суматошные, полусформировавшиеся чувства. Зигмунд припомнил случай сорокадвухлетнего мужчины. Он пришел к нему после смерти отца с жалобами на сильное беспокойство по поводу рака языка, сердечной недостаточности, боязни пространства. Пациент говорил: – После смерти отца я вдруг осознал, что теперь мой черед. До того как он ушел в небытие, я никогда не думал о смерти, теперь же только о ней и думаю. Зигмунд старался успокоить пациента, перефразируя строчку Гете: «Каждый в вечном долгу перед природой», но и этот мудрый афоризм не избавил пациента от невроза. Попытки Зигмунда аналитическим путем добраться до причин расстройства успеха не имели. Ныне, на пороге собственного начинающегося невроза, Зигмунд думал: «Нас пугает не собственная смерть, а смерть отца. Почему?» Отец пациента и его собственный дожили до восьмидесяти лет. Он сам и его пациент были добрыми сыновьями. Так почему же все его нутро так напряжено, почему он так подавлен? «Я любил Якоба, уважал его, поддерживал последние десять лет, ухаживал за ним во время болезни… Почему же меня преследует гнетущее чувство вины?» Согласно обычаям еврейской веры, долг каждого в течение года посещать ежедневно храм и молиться за усопшего. Зигмунд не соблюдал ритуалов религии, но, сосредоточившись на Якобе, символически выполнял именно это – оплакивал отца. Непосредственным результатом самобичевания по поводу утраты отца явилось то, что он стал бояться будущего и угрозы того, что он останется изгоем в своей профессии и в городе. Он не мог более переносить отчужденности. Ему нужна была организация, институт, нечто, чему он принадлежит, и принадлежащее ему в близком смысле. Он знал, что должен сделать: вернуться на медицинский факультет Венского университета, где хотел провести всю свою жизнь. Ему он отдал четырнадцать лет жизни еще до того, как профессор Брюкке посоветовал бедному молодому человеку, желающему жениться, заняться частной практикой. Ему нужна академическая карьера: кабинет и лаборатория в Городской больнице; постоянные курсы лекций для студентов–медиков; получение звания профессора; руководство больничным отделением; право выступать и голосовать в коллегии профессоров по вопросам клинической школы; скромная, но надежная заработная плата. Все это оставит ему достаточно времени для частной практики и работы над рукописями. Зигмунду исполнилось сорок лет. Широта и глубина его работ по невропатологии наделяли его правом на пост помощника профессора – экстраординариуса. Прошли годы, а он не думал об этом, однако сейчас такое назначение решило бы многие проблемы, он стал бы неотделимой частью одной из величайших медицинских школ мира, приобрел бы уважение – в Вене ранг профессора делал его обладателя полубогом… Был бы положен конец нестабильному характеру его практики. С июня, когда была опубликована его пятая статья, по ноябрь его заработок был недостаточным, чтобы кормить стайку из шести воробышков, не говоря уже о прожорливых подростках, хотя сейчас, в декабре, он работал по десять часов в день. Однако трудно найти худшее время для подачи заявления! Марта спросила: – Зиги, как ты думаешь добиться такого чуда? Медицинский факультет не более благосклонен к тебе, чем к узникам Башни глупцов. – Знаю, – ответил он, – единственный, кто сохранил дружественные отношения со мной, это профессор Нотнагель, и это только потому, что на него произвела приятное впечатление моя статья для его «Энциклопедии». – Может быть, тебе удастся заручиться его поддержкой? – Такое возможно в молодости, когда речь идет о субсидии для поездки или доцентуре. Нет, мою кандидатуру должны предложить два полных профессора, комитет из шести должен рассмотреть мои работы, а затем коллегия профессоров проголосует и рекомендует мое назначение министру образования. Это единственно верный путь. – А ты несомненно уважаемый человек, – уколола Минна. Игроки в карты не выразили удивления, когда он впервые за много месяцев появился в субботу в их компании. Не удивился и Леопольд Кенигштейн, единственный читавший курс в клинической школе университета, услышав сделанное вскользь замечание Зигмунда, что желал бы войти в число кандидатов на назначение в этом году на факультете. Кенигштейн сам добивался несколько лет звания помощника профессора. В январе, сразу после Нового года, до Зигмунда дошли слухи, что на пост помощника профессора по невропатологии прочат его коллегу, тридцатичетырехлетнего Лотара фон Франкль–Гохварта. Зигмунд уважал Гохварта, чья монография по тетанусу, болезни, выражающейся в тонических судорогах мышц, явилась первым научным описанием, но полагал, что у него, Фрейда, больше прав на назначение. Он писал Флису: «У меня похолодело в душе, когда я узнал, что собрание профессоров предложило моего более молодого коллегу на звание профессора и я, таким образом, обойден, если такое сообщение правильно». В начале февраля он получил оттиски работы «Детский церебральный паралич», написанной им для «Энциклопедии» Нотнагеля. Он завизировал ее для профессора Нотнагеля и принес в его кабинет. Нотнагель был в традиционном темном костюме с шелковым жилетом, серебряными пуговицами и черным шелковым галстуком. Его голова и подбородок были опушены светлыми волосами, и по–прежнему выделялись бородавки на правой щеке и переносице. Нотнагель как редактор «Энциклопедии» в любом случае получил бы гранки, но Зигмунд знал, что рекомендации представляются от каждого отделения и если у него есть какие–либо шансы, то именно сейчас. Нотнагель взял оттиски левой рукой и затем, не глядя на подпись, протянул Зигмунду правую руку для приветствия. – Уважаемый коллега, то, что я скажу, следует держать некоторое время в секрете, но профессор Крафт–Эбинг и я предложили вас на пост профессора наряду с Франкль–Гохвартом. – Он подошел к письменному столу и взял лист с рукописным текстом. – Мы уже составили рекомендацию. Вот подписи Крафт–Эбинга и моя. Документ готов для отправки в бюро. Если оно откажется принять нашу рекомендацию, мы пошлем ее от нашего имени прямо в коллегию профессоров. Зигмунду стало дурно. В его голове кружились обрывки мыслей, как кружатся первые осенние снежинки, подхваченные порывом неожиданного ветра. По какому–то удивительному совпадению он сам, профессора Нотнагель и Крафт–Эбинг думали о приват–доценте Фрейде как о профессоре почти в одно и то же время. Странно, ибо ни один из трех не предпринимал усилий в этом направлении за истекшие несколько лет. Ничего противоестественного не было в том, что такая мысль пришла Нотнагелю, поскольку Зигмунд пополнил его «Энциклопедию» первоклассными работами. Но Крафт–Эбинг! Человек, предупреждавший его, что публикацией своих лекций он наносит себе и университету непоправимый урон! – Мы разумные люди, – продолжал Нотнагель уверенным голосом. – Вам известны предстоящие трудности. Мы можем сделать лишь одно – вывести вас на ковер. Но это уже хорошее начало, и будьте уверены, что шаг за шагом мы протолкнем ваше назначение. Профессор Крафт–Эбинг сказал, что хотел бы видеть вас. Зигмунд вошел в кабинет Крафт–Эбинга, тот встал и обхватил свою бочкообразную грудь, как если бы обнимал себя по случаю сделанного им доброго дела. Когда же Зигмунд, заикаясь, выразил благодарность, Крафт–Эбинг помахал рукой в знак протеста, добавив: – Ничего не нужно. Это следовало сделать. Сейчас вы должны составить библиографию ваших работ, всех исследовательских проектов и всех публикаций. Зигмунд думал: «Какое благородство! Они оба стараются восстановить мое положение в медицинской общине Вены. Знаю, что мои шансы малы. Знаю, будет трудно получить одобрение министерства, но отныне могу думать о них только с добрым, теплым чувством». Крафт–Эбинг сказал: – Садитесь, давайте поговорим. Знаю ваши мысли: прошел почти год с момента, когда я назвал вашу «Этиологию истерии» научной басней и просил вас ее не публиковать. И вот сегодня рекомендую вас в помощники профессора. Чем вызвана такая смена настроений? Вы напоминали мне, что я получил более чем достаточную дозу обвинений за собственные публикации. Я решил, что не хотел бы консервировать подобные традиции. Я не согласен с вашими теориями о происхождении душевных заболеваний, но не потому, что считаю вас несерьезным. Вы серьезный человек! Не думаю теперь, что вы рассказывали басни с целью привлечь внимание. Мне не следовало бы прибегать к такой фразе. Извините за нее… – Вам не за что извиняться, господин профессор. Я принадлежу к числу ваших поклонников… – Поймите меня правильно, Фрейд, – продолжал Крафт–Эбинг грудным голосом. – Вы идете по дороге, ведущей в тупик. По крайней мере, она мне кажется такой, потому что всю сознательную жизнь меня учили, что в конце находится глухая стена – наследственность. Я восхищен вашей смелостью и твердостью. О своих сомнениях относительно вашей новой теории не стану говорить министру образования, лишь похвалю вас за хорошую и плодотворную работу. – Он помолчал и затем добавил: – Между нами, господин коллега, если в тупике окажусь я, а не вы, я также воздержусь говорить об этом в официальном отчете. Крафт–Эбинг представил блестящий отзыв. Зигмунд составил сводку своих публикаций для представления комитету шести медицинского факультета, который был назначен для его аттестации.4
Наступил май. Редкий день принимал он менее десяти пациентов с неврозами. Его способность выявлять заболевания и бороться с их симптомами возросла благодаря овладению методикой аналитической интерпретации сновидений. Одна пациентка постоянно видела сон, что она оступается и падает, особенно когда занималась покупками в Грабене, в этом излюбленном месте уличных проституток. Желает ли она последовать их примеру? Посетил его мужчина, который не был обучен в детстве пользоваться туалетом, и в итоге у него развилась скупость. Деньги снились ему как грязь, экскременты, и он постоянно упрекал себя в нечистоплотности. Когда ему приходилось иметь дело с деньгами, он тут же мыл руки, чтобы «удалить зловоние». К Зигмунду приходила женщина, которую мучили сновидения, будто она идет по рынку со своей кухаркой, несущей корзинку, а каждый мясник прогоняет ее словами: «Этого больше нет». После ряда сеансов Зигмунд добрался до фразы, которая была схожа с жаргоном Вагнер–Яурега: «Мясная лавка закрыта». Он узнал от пациентки, что муж давно не ласкает ее и, так сказать, закрыл для нее свою «мясную лавку». Двадцатисемилетний мужчина дошел под влиянием острого страха до такого состояния, что не мог ни работать, ни поддерживать отношения с другими. Ему снилось, будто его преследует мужик с топором; пытаясь бежать, он буквально примерзал к месту. Когда пациент углубился в воспоминания о детских годах, то признался, что грубо обращался с младшим братом, бил его по голове до крови. Однажды мать сказала отцу: «Боюсь, что он доведет его до смерти». В этот вечер родители пришли поздно домой, и мальчик, находившийся в той же комнате, притворился спящим. Вскоре он услышал тяжелое дыхание и увидел отца лежащим на матери. Он сказал себе, что совершается насилие и идет борьба. На следующее утро он заметил следы крови на простыне в постели родителей. С того момента ему стало казаться, что отец «доведет мать до смерти». В него вселилась тревога, и настолько глубокая, что Зигмунду потребовался год, чтобы ослабить воздействие симптомов. Зигмунда посетил супруг, настаивавший на том, чтобы жена взимала с него гонорар в сто гульденов, с тем чтобы получить во время полового акта нечто «достойное такой суммы», а затем, когда его финансовое положение пошатнулось, он пять месяцев не занимался с женой физической любовью, поскольку не мог оплатить услуги. Зигмунду довелось иметь дело с несколькими мужьями, которые избегали интимных сношений с респектабельными женщинами, а совершали половые акты только с теми, кто выставлял свое тело на продажу. К нему пришла молодая девушка, отказывавшаяся собирать цветы и даже грибы в лесу, потому что это было против воли Бога, «который запрещает уничтожать любые зародыши жизни». Основным проявлением ее невроза было то, что она принимала что бы то ни было, но только в упаковке. Зигмунд установил, что ее обостренные чувства против уничтожения ростков жизни возникли под влиянием религиозных бесед с матерью, которая возражала против предосторожностей при половом акте. Он квалифицировал это как симптоматическое проявление «презервативного комплекса», с которым ему доводилось встречаться и раньше. Болезнь молодой девушки вызывалась неосознанным протестом против наставлений ее матери, символическим бегством от принуждения к независимости. Врач терапевт пригласил его на консультацию к семнадцатилетней девушке. Зигмунд нашел девушку умственно развитой, но странно одетой. Венские женщины щепетильны в отношении одежды, а эта девушка из состоятельной семьи не подтянула спадавший чулок, две пуговицы на ее белой блузке были не застегнуты. Когда Зигмунд спросил, как она себя чувствует, она сказала: «У меня боль в ноге» – и обнажила икру. Зигмунд не стал осматривать икру девушки, чего она, очевидно, добивалась, а поинтересовался, на что она жалуется. Она ответила: – Я чувствую, как будто что–то вдвинуто в мое тело и движется туда–сюда, и всю меня трясет. Иногда это приводит к окостенению всего моего тела. Зигмунд и врач–терапевт переглянулись. Описание было слишком образным, чтобы ошибиться, но когда Зигмунд взглянул на мать, то понял, что ту ничуть не волнует ни расстройство дочери, ни сказанное ею. Он решил, что врач–терапевт, который длительное время был домашним врачом, должен раскрыть глаза девушке на жизнь. Сорокалетняя женщина пришла в приемную Зигмунда с типичной жалобой: она боится выходить одна на улицу, гуляет только тогда, когда ее сопровождает кто–то из семьи. Она боится также сидеть у окна. Зигмунд определил эти симптомы как «желание проституции», видение себя прогуливающейся по улице и высматривающей мужчину, а также отражение обычая проституток в Европе сидеть у окна так, чтобы проходящие мужчины знали, что они свободны. К нему пришел уважаемый в интеллектуальном мире Вены мужчина, пожаловавшийся, что его влечет к каждой женщине, которую он видит даже мимолетно на улице. К доктору Фрейду он пришел потому, что его фантазии стали навязчивыми: он испытал все виды половых извращений, его излюбленной формой стало оседлать женщину сзади, как это делают собаки на улицах. Молодая девушка, чувствовавшая отвращение к самой себе, твердила, что она злая, уродливая, никчемная, должна умереть и не мешать другим. Вскоре стало ясно, что это форма умышленного самоуничижения; девушка застала своего отца, которого она боготворила, в момент полового акта со служанкой, когда мать девушки находилась в больнице. Она не могла осудить отца, поэтому совершила подмену и порицала себя. Доктор Фрейд помог ей понять, в чем дело. Пациентка страдала позывами к рвоте на почве истерии. Осматривавшие ее врачи были убеждены, что у нее нет никаких органических нарушений. После многих сеансов Зигмунд пришел к заключению, что рвота является формой реализации подсознательной фантазии, возникшей со времени половой зрелости, – желания забеременеть и иметь множество детей. Позже добавилось другое желание – зачать этих детей от возможно большего числа мужчин. После наступления половой зрелости против такого необузданного желания начал действовать защитный импульс. Рвота выражала стремление наказать себя, заставить потерять достоинство и внешний вид, сделать себя непривлекательной для мужчин. Вопреки исходному материалу, поступавшему в приемную Зигмунда, и его интересу к некоторым странным случаям, доставленным к нему издалека, из Бреслау, он пребывал в смятении. Он писал Флису, что в нем бурлит фермент в сочетании с неясным ощущением, что в его терапевтической технике вскоре появится нечто важное. Прошедшие недели и месяцы не примирили его со смертью отца. Он не мог изгнать из ума наплывавшие образы и воспоминания об отце, даже когда занимался пациентами, требующими сосредоточенности, приложения всего умения. В свободные моменты, во время прогулок вдоль Дуная, к которым он принуждал себя, он не мог контролировать свои грезы, свое обращение в прошлое. Внешне это были приятные воспоминания: Якоб, идущий с ним на воскресную прогулку в Пратер послушать музыку во дворце при смене караула; Якоб, читающий или рассказывающий новые шутки о простаке; Якоб за пасхальным столом, произносящий наизусть еврейскую молитву; Якоб, приносящий ему книгу в день получки… Эти воспоминания находились на уровне сознания; они не вызывали эмоционального расстройства. Единственным прямым воспоминанием, огорчавшим его, была сцена, описанная однажды Якобом на прогулке в Пратере. – Когда я был молодым, – сказал Якоб, – однажды в субботу я бродил по местам, где ты родился. На мне была хорошая одежда и новая меховая шапка. Ко мне подошел человек христианской веры, сбил шапку в грязь и закричал: «Жид! Убирайся с тротуара!» – И что же ты сделал? – спросил Зигмунд. – Я шагнул на мостовую и подобрал шапку. Десятилетний Зигмунд почувствовал себя несчастным, потерял уважение к отцу. Он сопоставлял ситуацию со сценой, восхищавшей его в истории, когда Гамилькар заставил своего сына Ганнибала поклясться перед богами отомстить Риму. Воспоминания, хорошие и плохие, никак не снимали внутреннего возбуждения. Время, на которое он уповал, не сглаживало его чувств в отношении Якоба, напротив, обостряло его расстройство, словно в его организм вселились саморазмножающиеся стрептококки. «Почему я не могу оставить в покое старика? – спрашивал он сам себя. – Вот уже полгода, как он умер, он ушел из жизни еще до своей смерти. Почему вспыхнул этот невроз, тревожа и подавляя меня, как некоторых моих пациентов?» Отрицать было бесполезно: он дошел до болезненного расстройства. Сравнение себя с пациентами заставило его вдруг остановиться. После лекции в университете, на которую явились всего трое из четырех записавшихся, он занимался покупками на колоритном Хоэрмаркте. Болезни пациентов начинались не в сознании, а в подсознании, они были следствием ранних подавленных воспоминаний, относившихся к первым годам их жизни. Подверженные истерике страдают главным образом от воспоминаний! Почему же тогда он не применил ни разу такое заключение к самому себе? Он остановился, его нога застряла в расщелине между плитами мостовой. На продуваемой холодным ветром улице у него выступил пот, заставивший вздрогнуть. Где–то в глубине души прозвучали твердые, как гранит, слова: «Меня излечит только работа с подсознанием. Одни лишь сознательные усилия успеха не дадут!» Он вошел в ближайшее кафе, заказал кофе, согрел пальцы, охватив наполненную кипятком чашку, затем сделал большой глоток, пытаясь успокоить свою дрожь. Призыв «Врач, исцелись сам» мелькнул перед его глазами. Но как может врач снимать слой за слоем почву своего собственного подсознания? Шлиман определил точное расположение якобы мифической Трои, усердно читая Гомера. А где же его Гомер? В мире он одинок. Никто другой не увлечен его искусством. Флис уважает его достаточно сильно, но не обладает необходимой подготовкой в методике, которую применяет только он, изобретатель, назвавший ее всего год назад психоанализом, методикой рисовальщика, переносящего на бумагу рисунок работы человеческой психики. Если бы Якоб умер несколько лет назад, то ему, Зигмунду, мог бы помочь Йозеф Брейер. Но не сейчас. Ему стало жарко. Обстановка наполненного теплом и дымом кафе, казавшаяся приятной несколько минут до этого, стала гнетущей. Он провел рукой по мокрому лбу. Если его тревоги лежат в подсознании и нет никого, кто может помочь ему снять наслоение годов и добраться до сути дела, как же найти дорогу от истерии к обычному несчастью, которое является уделом каждого? Он знал, что стоит на пороге серьезных испытаний. Зигмунд выдавил из себя признание, что в прошедшие месяцы, помимо тех часов, когда его внимание сосредоточивалось на нуждах пациентов, он страдал интеллектуальным параличом, таким, какой, как ему казалось, никогда с ним не случится, с ним, невропатологом, понимающим человеческую психику. «Мое сознание не может понять мое странное состояние. Что же мне делать?» Он погрузился в обыденную жизнь. Вместе с Мартой присутствовал на церемонии выдачи диплома первой женщине, окончившей Венский медицинский факультет; прочитал многочисленные газетные отчеты о парламентских выборах 1897 года, которые показали значительное усиление антисемитской платформы; прослушал лекцию Стэнли, как тот нашел доктора Ливингстона в Африке; со старшими детьми посмотрел ежегодный военный парад и увенчанных орденами австрийского и германского императоров. Однажды к вечеру он почувствовал себя вполне посвежевшим, чтобы закрепить идею: он ошибался, разделяя человеческий ум на две жесткие категории – сознательную и подсознательную; между ними находится менее определенная зона, предсознательная, в которой части погруженного или подавленного материала, миновавшие цензора, остаются в несвязанной, подвижной форме, пока усилия воли не призовут их перейти в сознательное состояние. Комитет шести, рассматривавший назначение на пост помощникапрофессора, тщательно исследовал его изыскания и публикации и в докладе рекомендовал медицинскому факультету представить его кандидатуру министру образования. Вследствие некоторой оппозиции голосование отложили, но Зигмунду было приятно слышать, что его старые друзья боролись и голосовали за него: не только Нотнагель и Крафт–Эбинг, но и Вагнер–Яурег и Экснер, возглавивший Институт физиологии. Он поднялся с Александром в горы около Земмеринга; в Троицын день вывез Марту в Аусзее; собрал еврейские шутки, в которых этнический юмор выражал как философию народа, так и способы его выживания. Его беременная сестра Роза переехала в недавно освободившуюся квартиру на той же лестничной площадке, что и квартира Фрейдов. В июне медицинский факультет двадцатью двумя голосами против десяти рекомендовал министру образования назначить приват–доцента доктора Зигмунда Фрейда профессором экстраординариусом. Оставалось лишь одно – министр образования должен был составить бумагу о назначении и представить ее на подпись императору Францу–Иосифу. Но Зигмунд знал, что лишь немногие были назначены с первой рекомендации медицинского факультета. Было и другое неблагоприятное для него обстоятельство. Нескольким талантливым лицам, исповедовавшим его религию, было отказано в назначении. Кёнигштейн посетил министра образования и спросил в лоб, мешают ли назначению его религиозные убеждения. Министр честно ответил: – Да, ввиду существующих настроений, при антисемитизме, популярном за рубежом, было бы не особенно мудрым или политичным… Зигмунда увлекал один аспект работы, который, казалось, развивался сам по себе: диагноз и организация материалов подсознания, открывшиеся перед ним благодаря толкованию сновидений. Он мог вспомнить один из ранних снов, возникавший периодически, тот самый, который увидел впервые, когда ему было семь или восемь лет: «Мне приснилась мама с особо мирным выражением на лице, ее внесли в комнату два (или три) человека с птичьими клювами и положили на кровать». Зигмунд пробудился с плачем от страха и побежал в спальню родителей. Он успокоился, увидев лицо матери и убедившись, что она не мертва. Более тридцати лет он не анализировал этот сон, не зная, как это сделать. Сейчас же он ухватился за поразительное начало – необычно высоких и странно одетых людей с птичьими клювами, которые несли его мать на носилках. Откуда они появились? Он пошел в гостиную, где лежал иллюстрированный экземпляр Ветхого Завета, подаренный ему в день тридцатипятилетия отцом, в котором Якоб написал по–еврейски: «На седьмой год твоей жизни дух Бога стал возбуждать тебя и так говорить тебе: «Приди и поразмышляй над книгой, которую я написал, и откроются для тебя источники понимания, знания и разума». Ветхий Завет издан на древнееврейском и немецком языках; он содержал комментарии раввина времен реформы Филиппсона из Пруссии и иллюстрирован гравюрами по дереву из всех религий и культур. По этой книге Якоб учил Зигмунда читать. Перелистывая книгу, Зигмунд увидел несколько иллюстраций к пятой книге Пятикнижия, изображавших египетских богов с птичьими головами. В Книге Царств он нашел иллюстрацию «Похоронный катафалк. С барельефа в Фивах», на которой тело мужчины или женщины с «мирным выражением» несли на носилках, охраняемых странно одетыми людьми и летающими над ними птицами. Его охватила ностальгия, он вспомнил себя мальчиком, листающим страницы текста и иллюстрации; усмешка искривила уголки его рта при воспоминании, что он исследовал Библию не только ради религиозного текста, но и ради сексуальной информации, которую другие мальчишки находят в словарях. История царя Давида и его сына Авессалома глубоко поразила, его: Давид бежал из Иерусалима, когда Авессалом замышлял стать царем, и оставил своих наложниц охранять его дом. Затем, как говорит Библия, «и вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля». Зигмунд вспомнил, что ему очень хотелось присутствовать при этом. Теперь ему стало ясным содержание сновидения. Каким же являлось его скрытое значение? Огромные птичьи клювы были бесспорными фаллическими символами; половой акт называется на немецком языке вульгарно – термином «птичить» от слова «птица». Он увидел перед собой облик сына консьержки, с которым он играл на траве перед домом; от этого мальчишки он узнал впервые слово «птичить», до этого ему было известно лишь латинское производное – «совокупляться». Его мысли обратились к матери. Было ли действительной причиной тревоги сновидение о смерти Амалии? Видимо, нет. Действительно, была обеспокоенность, но по другой причине; его подсознание перевело ее в более респектабельные или представительные формы. Он ощущал тревогу во сне. Почему? Он вспомнил забавное сновидение, рассказанное ему несколько лет назад племянником Йозефа Брейера, тоже врачом. Молодого человека, любившего поспать, будила истопница. Однажды она постучала несколько раз в дверь и затем запричитала: «Господин Руди!» В этот момент ему привиделась табличка на койке в госпитале, где он работал, с именем «Рудольф Кауфман». Во сне он сказал: – Рудольф Кауфман находится сейчас в госпитале, так что мне нет нужды идти туда. Новый пациент по имени Эрлих пошутил над Зигмундом, воскликнув: – Предполагаю, вы назовете это сном желания. Мне снилось, что, когда я вел к себе леди, меня задержал полицейский, приказавший мне сесть в карету. Я попросил дать мне время привести мои дела в порядок… Этот сон я видел утром, после ночи с этой леди. – А вы знаете, в чем вас обвиняли? – Да. В убийстве ребенка. – Связано ли это с чем–либо реальным? – Однажды я был виновен в аборте в результате любовной связи. – Случилось что–либо утром до того, как вы увидели сон? – Да. Я проснулся и имел сношение. – Вы приняли меры предосторожности? – Да. – В таком случае, вы боялись, что могли зачать ребенка; сновидение показало выполнение вашего желания, что… вы уничтожили ребенка в зародыше. Затем тревога, которая возникает после такого сношения, стала материалом вашего сна. Он вспомнил о собственном сновидении, когда он рассердился на Флиса, уехавшего в Венецию и не сообщившего ему свой почтовый адрес. Ему снилось, что он получил телеграмму от Флиса с адресом: Венеция. Улица Вилла «Каза Сечерно». Его первой реакцией было раздражение, ведь Вильгельм не остановился в пансионате «Каза Кирш», как рекомендовал он, Зигмунд. Но что же было мотивацией сновидения? Его сожаление, что не получил известий от Флиса? Или разочарование из–за того, что он хотел написать Флису о некоторых последних случаях и оказался лишенным такой возможности, ибо не мог посылать письма без адреса, в пустоту? Адрес был исполнением желания; это было внешним и явным смыслом сна. Был ли скрытый смысл? Каким образом именно эти слова попали в снившуюся ему телеграмму? Улица могла появиться вследствие прочтения статьи о раскопках Помпеи. Вилла перенесена с картины Беклина «Римская вилла», которую он видел накануне. «Сечерно» звучало неаполитанским, по–сицилийски составленным словом. Он обнаружил, что сновидения могут складывать всё что угодно, из обрывков и кусочков: слов, зданий, городов, людей, но при этом комбинация имеет свою цель, не является случайной, бессмысленной. Итак, Сечерно должно быть воплощением обещания Флиса, что вскоре у них состоится встреча в Италии южнее Венеции. В Риме? В вечном городе, этой вечной цели поездок, где Зигмунда ждали приключения и исполнение желаний. Как бы ему хотелось провести Пасху в Риме! …Рим. У Зигмунда было несколько коротких сновидений, отделенных друг от друга несколькими днями. В первом он смотрел из окна вагона на Тибр и мост Санто–Анджело. Поезд тронулся, и у него возникла мысль, что нужно всего лишь ступить на землю города. Во втором сне кто–то привел его на вершину холма и показал ему Рим, окутанный туманом. Город находился в отдалении, а картина была удивительно четкой. Была очевидной тема «обетованной земли, видимой издали». В третьем сновидении, касавшемся Рима, он стоял у потока темной воды с мрачными скалами по одну сторону и лугом с большими белыми цветами по другую. Он заметил господина Цукера и, хотя был мало знаком с ним, все же решил спросить его, как пройти в город. Последний сон был самым коротким, мелькнула лишь одна сцена – перекресток в Риме; он был поражен, увидев множество объявлений на немецком языке, наклеенных на афишную тумбу. Он решил относиться к снам как к целой серии, разделить их на составные части, как он поступил в отношении своего сна об Эмме Бенн; он был убежден, что существует рациональное объяснение каждого, даже туманного зрительного образа и кусочка диалога. Он заметил: «Каждый элемент сновидения прослеживается; каждый акт, слово и картина имеют значение, если быть объективным и потратить необходимое время на обдумывание скрытого содержания. Явное содержание сна аналогично внешнему виду индивида; скрытое содержание соответствует его характеру». В сцене из окна вагона, касавшейся Тибра, он узнал гравюру, которую видел за день до этого в гостиной пациента; город, наполовину окутанный туманом, представлял Любек, где он и Марта провели свой медовый месяц. Когда он обдумывал ландшафт третьей части сновидения, то опознал в белых цветах на лугу водяные лилии, которыми он и Александр любовались около Равенны во время отдыха за год до этого. Темная скала у края воды живо напоминала долину Теплице около Карлсбада. Он думал: «Как искусны наши сны; мы соединяем места и сцены, разделенные временем и пространством!» Почему Карлсбад? Карлсбад – это город, куда безденежный еврей пытался доехать без билета… если он выдержит побои. Цукер? Этого человека Зигмунд почти не знал. Потребовалось время, чтобы проявилась связь: цукер значит «сахар», а доктор Фрейд направил в Карлсбад нескольких пациентов, страдавших сахарным диабетом. В последнем сне он видел объявления на немецком языке в Риме. Его ум обратился к письму, написанному им Вильгельму Флису, в котором отвечал на предложение встретиться в Праге для обсуждения научных проблем. Зигмунд писал, что в настоящий момент Прага – неприятное место, поскольку правительство навязывает чехам немецкий язык. В своем сне он реализовал желание перенести встречу в Рим, но ведь на афишных тумбах были расклеены объявления на немецком языке. – Отлично, теперь я узнаю появившиеся передо мной сцены! – воскликнул он. – Что пыталось отразить сновидение? Все четыре сна связаны с единственным желанием: поехать в Рим. Однако анализ показывает мне, что действительное стремление, вызвавшее сны, берет начало в детстве. Ребенок и детские импульсы живут в сновидении. Должно быть связующее звено между нынешним и прошлым. Сновидения должны привести меня к моему подсознанию. У меня тяга к Риму, быть там и одновременно оставаться в стороне… В известном смысле она подобна моей железнодорожной фобии. Мучительно продвигаясь в прошлое, он нашел запрятанное: в последние годы учебы в гимназии отмечался рост антисемитизма. Некоторые подростки давали ему понять, что он принадлежит к чужой расе. При таком вызове ему нужно было найти свою индивидуальность, «занять определенную позицию», как он сказал сам себе. Наиболее любимой им исторической фигурой был семитский генерал Ганнибал, поклявшийся в вечной ненависти к римлянам и обещавший отцу, что покорит Рим. В 218 году до Рождества Христова он пересек Альпы, разбил силы римлян у Тразименского озера, опустошил Адриатическое побережье вплоть до юга Италии, затем направился к Неаполю, и его армия подошла к Риму на расстояние всего трех миль, готовая к завершающему нападению… Но Ганнибал не осуществил его. Он оставался в Италии пятнадцать лет, а затем отвел карфагенскую армию. В уме молодого Зигмунда Ганнибал и Рим символизировали конфликт между цепкостью евреев и всепроникающей католической церковью. Туманно он представлял себе, что Рим выражал его собственные амбиции и необходимость отомстить за то, что с головы его отца была сбита в грязь меховая шапка. Это также символизировало неспособность Ганнибала отомстить за Гамилькара. В прошлые каникулы Зигмунд добрался до Тразименского озера в пятидесяти милях от Рима. Но и он, Зигмунд Фрейд, не смог преодолеть, подобно Ганнибалу, последние пятьдесят миль. Неужто он всегда будет не достигать своих жизненных амбиций? По мере накопления опыта Зигмунд все полнее анализировал сны своих пациентов и использовал их скрытое содержание в целях терапии. Пациент–гомосексуалист рассказал о сне, когда он, больной, лежал в постели и случайно отвернул одеяло. Посетивший его приятель, сидевший у кровати, также обнажил себя, а затем схватил рукой пенис пациента. Пациент был удивлен и возмущен, его приятель отпустил пенис. – На ум приходит несколько соображений относительно сна, Готфрид, – сказал доктор Фрейд. – Во–первых, вы раскрылись, возможно, не случайно; во–вторых, вы хотели, чтобы приятель схватил ваш пенис; в–третьих, вы чувствовали отвращение к этому. Такова ваша раздвоенность. Однако я сомневаюсь, что сон полностью относится к настоящему. Давайте углубимся в прошлое и посмотрим, не отыщем ли мы отправную точку в вашем детстве. Тогда мы ее устраним. Готфрид сжимал и разжимал пальцы. На его глаза набежали слезы. – Не полностью устраним. Частички ее плавают в моем уме, подобно распухшему трупу, вращаясь и покачиваясь в потоке реки… Когда мне было двенадцать… я пошел навестить больного… он раскрылся… я ухватился за его пенис… он оттолкнул меня… Зигмунд сказал спокойно: – В своем сновидении вы извратили картину. Это было исполнение желания: вам хотелось быть пассивным, а не агрессором. Сон показывает, что вы хотели изменить прошлое, чтобы вас простили. Это важный шаг к излечению. Он начал писать о чувстве торможения в снах, прикованности к месту, часто встречающейся в сновидениях неспособности к действию, что так близко к чувству тревоги. После ужина он вернулся в кабинет. Ночь была душной; сидя за столом, он снял воротничок и манжеты. В полночь, направляясь в спальню, он перескакивал через ступени, и у него появилось ощущение парения; это доказывало, что нет никакой врожденной болезни сердца, хотя в моменты депрессии он вспоминал о теории Флиса, будто умрет на пятьдесят первом году жизни, ибо такова комбинация его двух жизненных циклов: двадцать три и двадцать восемь лет. На пути в квартиру ему вдруг пришла в голову мысль, как были бы удивлены его дети, увидев его возвращающимся из рабочего кабинета в полураздетом виде. Он и Марта выпили прохладный напиток, проверили, не слишком ли укутаны дети. Ночью ему снилось: «Я был небрежно одет, поднимался с первого этажа на второй, перепрыгивая три ступени подряд, и был доволен своей легкостью, как вдруг увидел спускающуюся вниз служанку, застыдился и пытался поторопиться, но в этот момент возникло торможение: меня приковало к ступенькам…» Основное различие между реальностью и сном было в том, что на нем не было не только воротничка и манжет; он не видел себя целиком, но ощущал, что на нем совсем мало одежды. К тому же лестница вела не с первого этажа к его квартире и вниз спускалась не служанка Марты, чтобы позвать его или вручить записку. Скорее это была лестница в доме старой женщины, которой он в течение пяти лет дважды в день делает уколы. Ассоциации возникли довольно быстро: иногда, поднимаясь по лестнице после выкуренной сигары, он прочищал горло, а поскольку в здании не было плевательницы, то делал это в углу. Женщина–консьержка, не скрывавшая недовольства, несколько раз ловила его за этим занятием. Два дня назад вместо старой консьержки появилась новая служанка, которая в первый же день поучала его: – Следовало бы вытирать ботинки, господин доктор, прежде чем входить в комнату. Вы испачкали сегодня красный ковер. Сновидение имело свой смысл, как и сцены, из которых оно состояло. Каково же его подспудное значение? Он обнаружил, что эксгибиционизм, как правило, возникает в детстве, в то время, когда можно быть нагим и не стыдиться в присутствии семьи и незнакомых. В виденном им сновидении обнаженность, возможно, отражала стремление к эксгибиционизму. Он знал, что сдерживает человека при бодрствовании – мотив, несомненно схожий с мотивами сна: конфликт воли, когда сильное желание, возбужденное инстинктивной натурой, сталкивается с мощным «нет», порожденным воспитанием и обучением. Он сделал заключение: «Глубочайшая и вечная природа человека… лежит в этих импульсах ума, уходящих корнями в детство, которое превращается в нечто доисторическое». Он описал свои сны во всех подробностях, делая выводы об основах формирования сновидения, использующих зрелище или события, имевшие обычно место за день до сна, в качестве ключа, открывающего подсознание и освобождающего иногда в загадочной, а часто в концентрированной форме накопившееся в нем содержание. Он писал Флису, вернувшемуся в Берлин: «Чувствую внутреннюю необходимость написать о сновидениях, в отношении которых у меня полная уверенность… Я просмотрел литературу по этому вопросу и готов сказать вслед за кельтским гномом: «Как я рад, что ни один человеческий глаз не открыл скрытый образ злого духа». Никто даже не подозревает, что сновидения не глупость, а исполнение желания». На его полке стояло несколько книг о сновидениях: Гартмана на немецком, Дельбёфа на французском, Галь–тона на английском. Поскольку большая часть жизни и усилий человеческого мозга заключается в формулировании желаний и попытках их осуществить, сновидения открывали возможность понять причины истерии пациентов, а также проследить нормальную деятельность здорового мозга. Итак, толкование снов могло не только проложить широкую дорогу к психоанализу, но и заложить основу научной психологии. Единственный способ выполнить задачу – собрать и проанализировать все свои сны за следующий год или пару лет, а также сны пациентов и членов семьи и написать книгу под названием «Толкование сновидений». В начале лета Минна выразила желание забрать детей на две недели в Обертрессен; здесь семейство Фрейд сняло виллу в гуще леса, где много папоротников и грибов и где их могла посетить фрау Бернейс, соскучившаяся по внучатам. Тетушке Минне представилась возможность сменить роль тети на роль мамы. Фрейды наслаждались своим одиночеством, как назвала этот период Марта, хотя иногда квартира казалась огромной и странно опустевшей. Даже кухарка чувствовала себя подавленной: она говорила, что не умеет обслуживать двоих, привыкнув готовить на дюжину. Александр пригласил их на «Летучую мышь». Фрейды отпустили на неделю кухарку, чтобы она могла навестить свою семью, а сами питались в близлежащих ресторанах, слушая новую музыку и наслаждаясь молодым вином. Когда они добрались до Обертрессена, хлынул проливной дождь, не прекращавшийся несколько дней, все окрестности были залиты водой, пристройки к дому смыты потоком. Фрау Бернейс сбежала к друзьям в Рейхенгаль; Зигмунд и Марта нашли укрытие в Венеции. С детьми оставалась тетушка Минна. В Венеции Марта довольствовалась осмотром достопримечательностей по утрам и послеполуденным чтением на балконе «Каза Кирш». Зигмунд ходил из собора во Дворец дожей, из дворца – в галереи, любуясь полотнами Джорджоне, Тициана, Карпаччо. Когда они вернулись в Обертрессен, тетушка Минна изъявила желание прогуляться по окрестностям. Марта предложила, чтобы Зигмунд отвез ее на несколько дней в Унтерсберг и Гейльбрунн и завершил поездку визитом к фрау Бернейс. Распрощавшись с Минной, Зигмунд возвратился в Вену, чтобы установить надгробный камень на могиле отца. Выбирая рисунок, он раздумывал: «Родители не хотят быть мертвыми. Они живут с нами до нашей смерти. Не поэтому ли появилась мысль о тяжелых надгробных камнях – держать под землей мать и отца?» В октябре открылся венский медицинский сезон, но на сей раз новых пациентов у доктора Зигмунда Фрейда не было, и это огорчало его. Приняв на бесплатное лечение двоих, он заметил Марте: – Если я добавлю себя, то будет три бесплатных пациента. Он понимал также, что летом сорил деньгами, заметив про себя: «Не следует дразнить богов и людей слишком частыми путешествиями. Кроме того, как психоаналитик, я должен знать, что тяга к поездкам вызвана неврозом. Как только решу некоторые свои проблемы, засяду за работу и не захочу ехать дальше китайского Калафати в Пратере».6
Летний отпуск обогатил его интеллектуальной находкой, которой не было в его багаже перед отъездом. Шагая по мягким тропам Унтерсберга и по керамическим плиткам венецианских церквей, давая возможность глазам отдыхать на несметных оттенках зелени в густом лесу и на сочных красках итальянских художников, он вместе с тем все больше задумывался над обвинениями его пациенток в адрес отцов, допускающих порочные действия. Такие обвинения всегда удивляли его, и он принимал их скрепя сердце. Зигмунд спрашивал себя, почему в подобных случаях он не мог довести до конца анализ. Почему некоторые из наиболее отзывчивых пациенток начинают в какой–то момент уходить от ответов, хотя при этом симптомы болезни ослабляются? Его открытия убеждали, что подсознание не обладает «указателем реальности» и не способно отличать правду от «эмоциональной выдумки». В лекции, прочитанной в Обществе психиатрии и неврологии, и в публикации в «Обозрении» он допустил ошибочный поворот, теперь Зигмунд понимал это как теоретик и как врач–клиницист. Первый подход к прорыву был достигнут благодаря пациентке, сорокадвухлетней замужней женщине, страдавшей бессонницей, которая нарушала ее эмоциональное состояние. Пациентка так и не подводила к пониманию, почему она не засыпает. Она ложилась в конце дня крайне усталой. Однако, едва успев коснуться головой подушки, начинала возвращаться в прошлое, вспоминала сцены из детства, расстраивавшие ее и вселявшие тревогу. Затем набегали слезы, и это заставляло ее ворочаться большую часть ночи в постели. Зигмунд заметил, что неспособность заснуть следует некоему установившемуся рисунку, а именно она вызвана не нежеланием сознания отойти ко сну, а тем, что, когда закрываются глаза и тело принимает горизонтальное положение, отключается цензор и это дает возможность материалу, накопленному в подсознании, просочиться в сознание, подобно тому как просачиваются почвенные воды. У этой пациентки, как и у многих других, приходивших ранее, страхи провоцировались приглушенными эротическими желаниями, объектом которых выступал отец. Потребовались многие часы свободных ассоциаций, возвращавших ее к раннему детству, прежде чем она стала восстанавливать сцены, продиктованные половым влечением и ухаживанием. Подобные откровения он выслушивал почти восемь лет. Но эта пациентка вела себя своеобразно: возвращаясь к прошлому своей жизни, она начинала описывать сцены с участием ее отца, а затем вдруг как бы отшатывалась с криком: «Нет, это было не так! Скорее было так…» И она рассказывала, спотыкаясь, другую половину интимных отношений, воскрешала в памяти дюжину невротических ситуаций, затем снова все отрицала и прерывала сеанс… чтобы явиться на следующий день и рассказать под совершенно иным углом о других фрагментарных сценах ее интимных отношений с отцом… Зигмунд застонал так громко, что пораженная пациентка вышла из состояния полусна, открыла глаза, поморгала и спросила: – В чем дело, господин доктор? Что случилось? Что я сказала? Что сделала? Зигмунд спокойно ответил: – Ничего, совсем ничего. Вы действуете правильно. Пожалуйста, продолжайте. Когда женщина заговорила, он глубоко вздохнул; пошаливало сердце, и его подташнивало. Вздохнув так, что почувствовал боль под ребрами, он сказал про себя: «Я был введен в заблуждение! Мы имеем дело не с приставанием к ребенку! Мы имеем дело с фантазией! Имеем дело с тем, чего желали пациентки в раннем детстве». Фантазии закрепились; они удерживались все годы в подсознании как реальные сцены. Укрытые, тщательно отгороженные, Державшиеся вдали от взглядов взрослых, они сохранялись как живая сила, заставляющая страдать бессонницей бедную женщину, мечтавшую добиться со времени детства осуществления своих желаний по отношению к отцу. Почему он никогда не замечал этого? Почему он принимал за чистую монету то, что говорили расстроенные и эмоционально больные люди? Сказанное ими казалось правдивым; они не пытались лгать или обманывать. Они говорили правду, как она им представлялась, а он этого не понимал. Все это время он не сумел найти различие между реальностью и фантазией. Он был прав в отношении детской сексуальности; она существовала, просто ее не были готовы принять, и он представил ее в ошибочном свете. Он ошибался, будучи правым в причинах. Крафт–Эбинг и Вагнер–Яурег были правы, отталкиваясь от ошибочных причин. С глубоким чувством облегчения он осознал, что по меньшей мере девяносто девять процентов сексуальных нарушений вообще не существовало; и все же его пациенты думали, что они есть, и становились больными, придерживаясь посылки, что они имели сексуальные интимные связи. Он был так потрясен, что просил очередного и последнего пациента в тот день извинить его. Пациент согласился без сожаления. Когда он ушел, Зигмунд закрыл наружную дверь и стал просматривать досье, содержавшее данные о пациентах, приходивших с сексуальными воспоминаниями детства. Перечитывая записи, он ощущал такое сильное биение сердца, что в голову пришла мысль, как бы оно не взорвалось, подобно газовому баллону у некогда жившего здесь часовщика. В каждой записи имелись свидетельства о фантазии пациентов! Он вспомнил замечание доктора Бернгейма в Нанси: «Мы все – галлюцинирующие существа»; как мог он, Зигмунд Фрейд, знать, что склонность к галлюцинациям распространяется на прошлое вплоть до раннего детства и может действовать в зрелом возрасте? Человек с открытыми глазами должен был бы заметить нелепости, противоречия, непоследовательности. Почему он их не распознал? Он ходил по комнате. Хорошо, причина заключалась в том, что он был ошеломлен открытием детской сексуальности и принял все свидетельства за чистую монету. Должна же быть правдивая основа такой универсальной увязки, как феномен «отец – ребенок»? Он перелистал имевшуюся под рукой литературу; нигде не упоминалось, что ребенок рождается с полным набором сексуальных инстинктов, что в иных заложено сексуальное чувство, тяга, инстинктивное влечение, которые начинают проявлять себя чуть ли не с момента рождения. Но хватит копаться в прошлом… Признавая революционную теорию существования детской сексуальности, надо ответить на вопрос: почему склонны извращать сексуальность пациенты? Почему ее проявления не закрепляются в подсознании точно и правдиво? Разве подсознание и цензор не способны улавливать различие между действительностью и фантазией? Почему пациент, а вслед за ним и врач ошибались относительно действительно происходившего? Нужно было разобраться и в другом. Фантазии небесцельны, психика использует их со смыслом. Но как? И что скрывается за детской сексуальностью, которую не приемлет и отвергает с отвращением человеческий разум? Он оказался в лабиринте, где нужно следить за тем, куда поставить ногу. Тщательно обдумывая каждый шаг, он сумел пройти половину пути в лабиринте. Встал измученный. Вагнер–Яурег сказал правильно в своей деревенской манере: «Ты знаешь, что скажет австрийский крестьянин, когда уличит кого–то в явной ошибке? У тебя не застегнута ширинка». Зигмунд отказался от ужина, сказав Марте, что ждет срочного вызова. Выглядел он рассеянным, но заверил ее, что все в порядке. Выражение ее лица говорило, что она вовсе не уверена в этом. Она просто сказала: – Мы согреем ужин. Только не задерживайся. Он бродил два часа по городским улицам, затем по полям в направлении Гринцинга. Это был тот же маршрут, по которому он шел пятнадцать лет назад, выйдя из кабинета профессора Брюкке, после того как узнал, что для него нет места в научном мире. У него все болело: голова, тело, как тогда. И тем не менее над всеми сожалениями и упреками в свой адрес, над агонией из–за незрелых заключений упорно всплывала перед мысленным взором сцена, постоянно возвращавшаяся к нему в грезах и в сновидениях. Он никогда не пытался подвергнуть ее анализу. Однажды, когда ему было семь лет, он вошел в спальню родителей, после того как они, должно быть, заснули. Дверь была плотно закрыта, но не заперта. Шагнув в темноту комнаты, он неясно увидел и услышал в постели родителей череду непонятных движений, необычайно взволновавших его. Его отец, почувствовав, что кто–то вошел, посмотрел через плечо, увидел стоящего мальчика и замер. Была и другая туманная сцена перед взором Зигмунда: иногда он видел себя мочившимся на пол сразу за дверью, иной раз имел смутное впечатление, будто побежал к постели, бросился в объятия матери и тут же помочился. У отца это вызвало отвращение, и он сказал: – Дрянной мальчишка. Мать отнесла его в детскую постель и утешила ласковыми словами. Но слова отца не выходили из головы. Не потому ли эта сцена возвращалась к нему так часто? Возможно, так, но с нею был связан другой элемент, с которым он никогда прежде не сталкивался. Почему он помочился в спальне родителей? До двух лет он мочился в своей кровати, и, когда отец бранил его по этому поводу, он отвечал: «Ничего, папа, обещаю тебе купить прекрасную новую кровать из красного дерева в Нейтитшейне». Но после двух лет его кровать всегда была сухой и чистой. Почему в семь лет он совершил столь возмутительный акт без явной необходимости, только потому, что был расстроен тем, что обнаружил нечто, происходящее в родительской постели? Ответ пришел, как метеор, пролетающий по темному небу. Он ревновал к своему отцу! Он хотел положить конец тому, что происходило! Он выбрал самый драматический способ. Он хотел отвлечь внимание матери от отца и занять его место в ее привязанности. Освобождая мочевой пузырь, не симулировал ли он то, чем занимался его отец? Он как бы завершал акт любви, случайно увиденный им. Чудовищно! Он любил мать и отца. У него никогда не было желания встать между ними, отдать тому или другому предпочтение. Для него отец был величайшим человеком в мире. Так почему же почти тридцать лет его преследует память, скрывая значение, но не теряя остроты? Он радовался тому, что Вена еще не знает о совершенной им научной ошибке – о подмене фантазии реальностью в детской сексуальности. Он решил, что не заявит об этом публично, пока не установит, чем вызвана такая подмена. У него не было ни малейшего представления, когда это произойдет, но он нашел мужество прекратить самобичевание за то, что предполагал, будто достиг конца пути, тогда как прошел всего лишь половину. Он думал: «Если бы я не прошел путь до этой ошибки, тогда не было бы ни нужды, ни возможности завершить все путешествие».7
Каким бы болезненным ни было понимание сути сцены в спальне родителей, его мысли все чаще возвращались к Амалии. Процесс свободной ассоциации возвращал его мысленно до, после и, к сожалению, во время консультаций больных к инциденту, имевшему место в канун его четырехлетия. С мальчишества этот инцидент появлялся и исчезал в его сознании, но Зигмунд гнал его от себя как случайный обрывок воспоминаний. Он видел себя стоящим перед какой–то громоздкой мебелью, то ли буфетом, то ли шкафом, и вопящим во все горло, в то время как его единокровный брат Филипп держал открытой дверцу буфета. В этот момент изящная и красивая Амалия вошла в комнату. Он иногда спрашивал себя: «Почему я плакал? Пытался ли закрыть или открыть дверцу мой брат? Какое отношение к сцене имел приход моей матери?» Вспомнилось, что однажды он подумал, будто брат дразнит его, а мать пришла утешить его. Сейчас же, обладая опытом последних недель, он лучше понимал смысл этой сцены. В воспоминании имелся центральный психологический момент, сохранявшийся в неизменной форме тридцать восемь лет. Надо было его найти. Тосковал ли он по матери? Боялся, что ее спрятали в буфете или шкафу? Не поэтому ли требовал, чтобы брат открыл дверцу? Почему, когда дверца была открыта и он увидел, что матери там нет, он вдруг стал кричать? На крике и застыло воспоминание. В эту ночь ему снилось, что в сцене появилась и так же быстро исчезла старая няня, ухаживавшая за ним во Фрайберге, но не прежде, чем он заметил нечто, имеющее отношение к няне. На следующий день после обеда он пошел к Амалии, переживавшей смерть Якоба не так остро, как Зигмунд. Казалось, что она помолодела на пятнадцать лет. На ее Щеках выступил здоровый румянец, а губы улыбались. Более чем когда–либо она заслуживала присвоенный ей Детьми титул «фрау Торнадо», передвигая каждые несколько недель мебель для генеральной уборки, сводя Дольфи с ума своей жаждой деятельности. Не впервые Зигмунд заметил, что вдовы, любившие своих мужей, становились моложе во вдовстве, словно вырвались из тюрьмы. Он поцеловал Амалию в обе щеки, а она обняла его. Затем он спросил: – Мама, ты помнишь, во Фрайберге, когда мне еще не было трех лет, у меня была няня… – Да, это родственница хозяина дома, слесаря. Ее звали Моника Заиц. – Амалия рассмеялась. – У старушки были проворные пальцы. Когда я носила Анну, она выкрала вещи, которые, она думала, я не стану искать. Когда я встала после родов, твой брат Филипп поймал ее и подал на нее в суд. – Теперь я вспомнил! – воскликнул Зигмунд. – В то самое время я спросил Филиппа, что случилось с Моникой, и он шутливо ответил: «Попала в ящик!» Позже в эту ночь, когда Марта мирно спала рядом с ним, он лежал, скрестив руки за головой, и, поскольку сон не шел, стал складывать воедино фрагменты сновидения. Он помнил сцену, вызванную страхом, что мать запрут в ящике; она, очевидно, ушла на несколько часов, так же как и няня исчезла за день до этого. Он боялся, что Филипп спрятал мать. Распутывая нити, он стал сознавать, почему мать казалась ему изящной и красивой. Еще недавно она была беременной, и, когда родилась Анна, Зигмунд ревниво воспринимал внимание, которое оказывали ребенку родители. С одной стороны, он не хотел, чтобы мать «попала в ящик», как няня, но в более глубоком смысле не хотел ничего в ящике, то есть в утробе матери. Он не хотел, чтобы у нее были еще дети. Не поэтому ли он перестал вопить и почувствовал облегчение, когда она вошла в комнату худенькая, без ребенка? Он встал, накинул халат, прошел через холл в свой кабинет, выходивший на Берггассе, заметил тусклые газовые фонари на опустевшей улице и затемненные окна Экспортной академии напротив. Еще один и намного более серьезный вывод пришел ему на ум. За год до рождения Анны у Амалии родился сын, которого назвали Юлиусом. С момента его появления Зигмунд был переполнен ненавистью к брату. Кончина полугодовалого Юлиуса оставила след вины в сознании Зигмунда. Не желание ли породило действие? Если бы он не желал, чтобы Юлиус умер, мальчик продолжал бы жить. Он убил его! Он смертельно боялся, что родители обнаружат его вину. Освободился ли он по–настоящему от чувства вины? Теперь он знал, что инцидент не был выброшен из его подсознания. Он был подавлен и выходил наружу только в виде экранных воспоминаний. Несомненно, неистребимое чувство греха стало причиной его легкого невроза в детстве и молодости. И если это чувство вины за убийство младшего брата было все еще живо, пусть и подавлено, и он ощущал его даже в настоящий момент, то сколько других полуфантазий таилось в его подсознании и в подсознании всего человечества, полуфантазий, лишающих людей дееспособности и толкающих их к смерти? А они и не догадываются, какие черти или демоны их преследуют. С чувством глубокого шока он осознал, что находится в процессе самоанализа, ибо понимает, что его психика должна быть исследована так же, как психика пациентов. Идея казалась немыслимой. Ни один человек не в состоянии проанализировать сам себя, хотя некоторые авторы пытались разобраться в своих ранних и глубинных мотивациях. Для него наступил эмоциональный момент, близкий к травме. Он понимал связанную с этим опасность: нет никого, кто направлял бы его и помог отойти от края психологической бездны, в которую можно сорваться. Он наблюдал, что выходило наружу из незримых тайников разума других. Как провести себя через девять кругов Дантова ада, до центрального города Дит, если то, что подразумевал Данте под городом Дит, была конечная, возможно, всеразрушающая правда о человеке? В отличие от пациентов он не был выбит из седла, но все же ощущал иссушающую слабость. Не станет ли хуже, по мере того как он углубится в тайны рассудка? Никто в одиночку еще не совершал такого путешествия. Ведь на пути встретятся огнедышащие драконы. Он знал, какую искусную сеть защиты создает психика каждого человека. Он должен будет перенести те же агонии, какие переживали на его глазах пациенты, когда он вел их к прошлому через время и пространство. В своем кабинете он наблюдал, как пациенты, обращаясь к раннему детству, воссоздавали сцены, лежавшие в основе их болезни: смеясь и плача, упрашивая, злясь, сглаживая раздражение, как это происходило двадцать, тридцать, сорок лет назад. Они настраивались против него, своего врача, во время акта перехода, словно он был обижающей матерью или отцом, против кого изливались обвинения, упреки и переполненные ненавистью эмоции. Кому же он доверит переход в прошлое, если никого другого не будет в комнате? Не случится ли с ним шок? Три дня его мучил страх. Словно две гигантские руки стискивали его голову так, что все мысли перепутались и расщепились наподобие пучка вырванных из гнезд электрических проводов. Он плохо ел и спал, не мог ни читать, ни писать, ни работать, ни бездельничать; казалось, не было средства избавиться от осложнений. Он опознал внутренне сковывающее чувство, на которое жаловались его пациенты. Тоскующий по отцу и пойманный на полпути к самоанализу, когда он не мог ни вернуться назад, ни пойти вперед, он стал раздражительным, у него начались нелады с кишечником, он оказывал давление на своих пациентов, потерял к ним интерес, оступался на пути к свободной ассоциации, стал подавленным, замкнутым в себе, потерял надежду, был охвачен страхами перед собственной смертью. У него ломило все тело, боли возникали то тут, то там и так же таинственно исчезали, уступая место свербящему чувству в мускулах и костях. Внутри его бурлили упреки к самому себе; притормозилась вся его деятельность… Он потерял даже способность заниматься физической любовью. Усилием воли он исправил свое обращение с пациентами, сумел восстановить приемы спокойного убеждения. Однако не преуспел в попытках стать своим собственным врачом, не мог освободиться от гнетущей тревоги, неопределенных страхов, неоформившейся нерешительности, висевших над ним, подобно бесформенным тучам, от внутреннего стеснения. Его чувства к отцу продолжали обостряться от накопившихся травм, сопровождаясь изменением образа Якоба. Он помнил рассказ Якоба о простаке. Умер крестьянин, и его сыну захотелось сохранить его портрет. Он нашел художника и словесно описал ему внешность отца: волосы, цвет глаз, овал лица. Когда парень увидел портрет через несколько недель, он зарыдал, восклицая:. «Бедный отец, как ты изменился за короткое время!» Образ Якоба менялся изо дня в день не в результате работы сознательной памяти, а потому, что подсознание постепенно меняло рисунок. Скорее изменялся не Якоб Фрейд, а отношения между отцом и сыном. За прошедший год Зигмунд убедился в том, что смерть отца была для него самым важным событием, самой тяжелой утратой. Однако его продолжал ставить в тупик и приводить в отчаяние тот факт, что когда он исследовал истории болезни пациентов–мужчин, то часто наталкивался на желание детей, чтобы отец умер. В зрелом возрасте подобное чувство не возникало осознанно. Он никогда не желал видеть Якоба умершим! Но узнанное им от своих пациентов справедливо и в отношении его самого: значит, желание смерти отца в детстве остается живучим в подсознании? И хотя это чувство жестоко подавлено защитным инструментом психики, оно пробивается наружу, когда кризис ломает этот инструмент. Поэтому так терзает ощущение вины, сомнения и в конечном счете неспособности противостоять реальному миру… Почему сын желает смерти отцу? Существуют буйные мужчины, избивающие своих малолетних сыновей, принуждающие их к рабскому ручному труду, и они заслуживают ненависти. В таких условиях сын вполне может пожелать отцу смерти; действительно, он может видеть его смерть во сне чуть ли не каждую ночь. Но большинство отцов не похожи на таких зверей, они любят своих сыновей, хорошо к ним относятся, стараются создать домашний уют. Почему же так много мужчин–пациентов, не имеющих, судя по анализу, причин ненавидеть отцов, все же кончают желанием, чтобы они умерли? Это было чудовищной загадкой. Ему помогло сновидение. Чем больше он думал об отце, тем больше сцены его сновидений сосредоточивались на годах его раннего детства. К нему пришло понимание того, что даже трехлетний ребенок имеет некое доисторическое, инстинктивное осознание акта оплодотворения. Однажды ему приснился огромный пожар, выбрасывавший столб пламени в темную ночь. Прежде чем убежать, он стоял перед огнем несколько мгновений. Однако он не убежал: его унесли, несмотря на его сопротивление. Проснувшись, он почувствовал тяжесть в желудке, обеспокоенность и страх были странным образом смешаны, сопряжены с почти чувственной радостью. Он сразу же пошел в свой кабинет, взял ручку и принялся разбирать элементы сновидения. Сначала он связал бушующий огонь с Адом Данте, но это не дало результатов. Затем он вернулся к элементу сновидения, в котором его несли… Кто и на чем? Человек, экипаж, поезд?… Поезд! Он ощущал, как под ним стучали колеса. Была ночь; он приготовился ко сну. Скрипела сталь о железо, Шипел пар, когда поезд подходил к станции. Он проснулся, выглянул в окно и впервые увидел газовый факел. Это напомнило ему души, горящие в аду, как объясняла ему убежденная католичка Моника Заиц, выражавшая свои религиозные взгляды в страшных рассказах о грешниках и твердившая, что малышка Зиги не должен быть плохим, чтобы не попасть в ад после кончины. Это объясняло обеспокоенность и страх в сновидении. Но откуда взялись радость и возбуждение, волновавшие его? Что могло их породить? Ктоеще мог находиться в купе вагона? Якоба с ними не было. Моника осталась дома. Кто же мог быть?… Он проснулся весь в поту. Это была его мать! Он видел ее стоящей в тесном помещении, обнаженной. Уложив детей спать, она раздевалась, сняла нижние юбки, корсет, чулки и наклонилась, чтобы взять ночную рубашку и надеть ее через голову. Он встал, голова кружилась, вновь сел. Наконец–то он понял причину своей фобии перед поездками по железной дороге: сборы перед поездкой, складывание заранее вещей, приезд на станцию за час до отхода поезда, желание первым положить свои вещи в сетку над головой, а затем выскочить из вагона, стоять на платформе, сдерживать себя до свистка проводника, предупреждающего об отправлении поезда, вскочить на подножку со смешанным чувством страха и восторга… Весь день он был в смятении, не мог связать пару мыслей. Не было ли неуважением вспоминать образ матери без одежды? Ему исполнился сорок один год, Амалии – шестьдесят два! Почему вдруг появился материал о матери, когда его выбила из колеи смерть отца? Что случилось с его памятью, если за тридцать восемь лет подобное никогда не всплывало? И почему это должно быть истинной памятью, а не фантазией вроде той, что вплетают в свое желание юные девочки, мечтая об отцовской любви? Сейчас он не знал ничего о путешествии, поезде, купе… Нужно выяснить. В воскресенье, когда Амалия и Дольфи пришли к обеду, Зигмунд отвел мать в сторону. – Когда мы ехали из Фрайберга, – спросил он, – проезжали ли мы мимо горящих факелов газа? Амалия широко раскрыла глаза. – Удивительно, что ты помнишь! Да, когда мы проезжали через станцию под Бреслау, на пути в Лейпциг. Мы жили там около года. Я готовилась лечь спать, однако увидела газовое пламя. Затем заметила, что ты привстал. У тебя были такие большие глаза, как луна в полнолуние. В эту ночь его сновидения вновь вернулись к Фрайбергу и к Монике Заиц. Она мыла его в ванне, где до этого вымылась сама. Вода была подкрашена чем–то красным. Она обучала его, как надо правильно мыться. Внешне всегда суровая, она говорила: – Ты должен делать что положено. Должен быть исполнительным, внимательным. Затем одела его, побаловалась с его интимными частями и уверила его, что он самый прекрасный мальчик в мире и, когда вырастет большим, станет богатым и влиятельным. Затем они оказались в церкви, слушали хор и проповедь; однако горел в аду не он, а Моника… Он проснулся, обрывки сновидения кружились в его голове, как летучие мыши. Понятно, почему вода была окрашена красным: у Моники были месячные. Почему в таком случае у него и сейчас не появилось отвращение и он позволил выкупать себя в этой воде? Потому что, как няня, пусть старая и некрасивая, она служила подменой матери. Он проследил ход сновидения до посещения церкви. Моника брала его с собой на службу каждое воскресное утро. Хотя он не думал об этом последние годы, он мог чувствовать запах ладана из кадила, слышать хор мальчиков в белых накидках, видеть истекающего кровью Христа на кресте за алтарем, стенную роспись «Вознесение Девы Марии». Он был знаком с католическим ритуалом и декором, столь отличными от прозаической синагоги. Его ум просветлел: теперь он понимал, почему ему нравились картины на религиозные сюжеты, особенно сочное, красочное итальянское искусство; это отчасти объясняло также, почему он был равнодушен к ритуалу собственной религии и чувствовал себя спокойно в окружении атрибутов католической веры. Но почему в сновидении он предписал Монике огонь в аду? Потребовалось много времени, чтобы путем настойчивого возвращения к прошлому добраться до собственной предыстории, к тому моменту, когда его сознание еще не начало фиксировать события и воспоминания. В сновидении Моника побуждала его красть для нее монеты в десять крейцеров. Он счел ее виновной и осудил. Несколько ночей спустя ему вновь приснился Фрайберг. Сцена происходила в их квартире над лавкой слесаря. Его мать плакала. Якоб был мрачен. В комнате стоял крошечный гроб. Якоб показывал на него, обвиняя Зигмунда… Он внезапно проснулся, вздрогнул. То, что пришло к нему посредством свободной ассоциации, возвращалось в виде кошмара. Он налил холодной воды в таз, протер мочалкой лицо, полил водой голову и затылок. Якоб был прав, обвиняя его в преступлении. После того как Юлиуса похоронили и он исчез навсегда, Зигмунд пользовался нераздельной любовью Амалии. Он всегда знал свою вину: вовсе не требовались обвинения Якоба, чтобы призвать его к ответу. Может быть, теперь эта вина исчезнет, будет искуплена этим кошмаром? Он думал: «Проникновение в самого себя – хорошее упражнение, но чудовищно болезненное». Он чувствовал, сколь неполным был анализ, ему предстоят многие годы настойчивых поисков, но его привлекала красота интеллектуальной работы. За эйфорией следовали дни отчаяния, когда он не мог ни понять, ни расшифровать ни одну из частей сновидения прошлой ночи или дневную фантазию. Самоанализ был невозможен без объективного знания, наступали периоды, когда его воля и его способность расставлять слова и передавать свои идеи были парализованы. Некоторые из его пациентов уходили разочарованные, не получив от него ожидаемой помощи. Его недельные лекции в университете стали малопонятными, поскольку его рассуждения отклонялись зачастую в сторону. Иногда на лекции приходили один–два слушателя. Он перестал выступать в «Бнай Брит»; даже дружественная аудитория не избавляла его от растерянности. Однажды сновидение сосредоточилось на пачке десятигульденовых банкнот, которую он давал еженедельно Марте на домашние расходы. С помощью цепочки ассоциаций он вернулся ко сну о монетах в десять крейцеров, которые побуждала его красть у родителей Моника Заиц. – Так же как моя старая няня крала мои десятикрейцеровые монетки и игрушки, так и я сейчас получаю деньги за плохое обслуживание пациентов! – воскликнул он. Его волновали наблюдения за тем, как подсознание вплотную следило за проводившимся им день ото дня анализом и как сурово оно его судило. Иногда скрытая мысль обнажалась с ясностью простейшей истины, как было в случае с богатым мужчиной, который вел несчастливую, отравленную ненавистью жизнь. – Как это может быть, господин доктор, ведь у меня есть все, чего только захочется? – Счастье – это отложенное осуществление давнишнего желания. Вот почему богатство приносит так мало счастья: деньги не входят в желание ребенка. Как он и ожидал, ему приходилось испытывать ту же эмоциональную сумятицу, какую он наблюдал у пациентов. Суть проблемы все еще была неясна, вместе с тем росло ощущение, что стоит протянуть руку и можно схватить требуемое. Беспорядок в мыслях скрывал реальность. Затем его ум светлел и включался во «внутреннюю работу», проходя через прошлое в быстрой смене картин наподобие пейзажа, видимого из окна вагона. Ему на память пришли слова Гёте: «И появляются тени любимых, и с ними, подобно старому полузабытому мифу, первая любовь и дружба». На расспросы Марты он резко ответил: – Не отвлекай меня личными вопросами. Затем, чувствуя вину, он объяснил кое–что из переживаемого им. Он давно раскрыл ей существование подсознания, подчеркнув, что «великие писатели всегда знали, что у человека два ума и что зачастую им движут неконтролируемые силы, которые непонятны ему, и он может не знать об их наличии в нем самом. Ты найдешь намеки на это у Софокла, Данте, Шекспира, Гёте… и более всего у Достоевского, который знал больше всех о подсознании, хотя и не называл его так». Она спросила: – Веришь, что сможешь добиться полного анализа самого себя? – Это единственный путь избавиться от собственного невроза и жить в мире с самим собой. Когда я завершу его, то это поможет мне добраться до подсознания моих пациентов и, конечно, их неврозов. – Разве за все эти годы ты не добирался? – Сравнительно хорошо. Но после смерти Якоба что–то произошло, и я должен понять что. – Мой отец говорил, что никто не должен знать все о себе, ведь познанное может потрясти. Он грустно улыбнулся. – Да, так. Но ничего. Я не тарелка, которую можно уронить и разбить на кухонном полу. Если мне удастся разобрать на части мою психику, то я смогу вновь собрать все вместе, как хороший механик собирает машину.8
Откровение стояло на пороге его подсознания уже недели, а то и месяцы. Ряд проливающих свет сновидений принес ему взаимосвязанные фрагменты ребуса; по его предположению, ключ к решению давало сновидение, в ходе которого он вновь пережил отъезд семьи в Лейпциг, а затем в Вену с отделением от семьи единокровных братьев Филиппа и Эммануэля, уехавших в Англию. В этот момент Зигмунд узнал, что его отец – пожилой Якоб, а не Филипп, которому было столько же, сколько матери. Ему мало было, чтобы в животе Амалии не зарождались другие дети! Ревнивый, боящийся потерять любовь матери, он хотел смерти отца! Его ум обратился к спектаклю «Эдип–царь» в театре Хофбург, на который пригласили Фрейдов Брейеры десять лет назад. В нем был ответ; но он, Зигмунд Фрейд, в многолетних поисках причины невроза, которую не мог разгадать, был слишком туп, чтобы ее заметить. Он видел Эдипа, ослепившего себя, готового отправиться нищим в Фивы; слышал, как он кричал двум несчастным дочерям:Книга одиннадцатая: «Откуда придет помощь моя»[12]
1
Первые дни 1898 года, казалось, предвещали, что на новый год надежд мало. В старом году министр образования не утвердил назначение Зигмунда на пост помощника профессора и ему пришлось смириться с фактом, что его обошли. Никто из невропатологов не получил назначения. Ему доставили записку от Йозефа Брейера, первую за последние два года. Он просил доктора Фрейда уделить внимание его родственнице фрейлейн Цесси: ей не смогли помочь другие неврологи Вены. Цесси, отец которой умер, работала целыми днями, имела скромный достаток и могла посещать врача только вечером. Зигмунд пригласил молодую женщину в свой кабинет и сказал ей, что за оказанную услугу она заплатит половину обычного гонорара. На следующее утро он отправился на почту, чтобы оформить перевод трехсот пятидесяти гульденов на имя Йозефа в счет первой уплаты старых долгов. По его просьбе Марта написала сопроводительное письмо. Йозеф Брейер вернул деньги с первым посыльным, попавшимся ему на Стефанплац. Зигмунд представил себе, как разъярился Йозеф, судя по тону его письма. Он никогда не считал помощь, оказанную доктору Фрейду, долгом; просто это была помощь старшего товарища младшему. Он не хотел и не ожидал, что долг будет выплачен. Поскольку доктор Фрейд обслуживает фрейлейн Цесси за полгонорара, то эти триста пятьдесят гульденов возместят щедрость доктора Фрейда… Зигмунд ответил пространным письмом «дорогому доктору Брейеру», настаивая на том, что взятые взаймы деньги должны быть возвращены. Фрейлейн Цесси заболела в шестнадцать лет; она страдала шизофренией и в отдельные периоды не ладила с людьми и восставала против своего положения. Очевидно, скрытой шизофренией страдала ее мать, и она построила отношения с дочерью на неправильной основе. Зигмунд сравнивал такие отношения с лишаем, состоящим из двух частей – грибка и водоросли, которые кормят друг друга и связаны на всю жизнь. Неприятности начались у Цесси в период полового созревания, когда она имела первые контакты с молодыми людьми и обнаружила, что не приемлет реальность. Мать заболела, Цесси была в страхе от мысли, что останется без средств к существованию; в это же время возникла многообещающая любовная связь с молодым человеком. Поскольку она не умела справляться с возникавшими проблемами, наступил душевный упадок. Цесси вернулась в полудетское состояние, поступая подобно ребенку при решении задач, которые возникают перед взрослыми. Она все больше проявляла склонность к фантазиям, впадала в затяжные периоды подавленности, уходила в себя. Она продолжала работать клерком – на эту должность ее устроил Йозеф Брейер – и ухаживать за больной матерью, все же остальное в жизни Цесси как бы выпало из ее психики, да и сама она как бы исчезла из собственного поля зрения. Зигмунд настойчиво работал с ней, но ни один из методов не приносил результатов. Сопротивление рассудка не допускало ее к свободной ассоциации; в течение часа она полностью отключалась, словно проваливаясь в небытие. В это же самое время у Зигмунда появились первые за десять лет дружбы серьезные расхождения с Вильгельмом Флисом. В предшествующий год они встречались трижды. Первый раз – в Нюрнберге, где Вильгельм ошеломил его своей концепцией бисексуальности. Нет такого существа, утверждал Флис, как «чистый, стопроцентный мужчина» или «чистая, стопроцентная женщина». Каждое человеческое существо физически и психологически содержит в себе элементы обоих полов. Он, Вильгельм, еще не закончил составление таблиц, которые раскрывали бы соотношение мужского и женского начал в каждом индивиде, но уже установил, чем был очень доволен, будто норма составит около семидесяти – восьмидесяти процентов мужского в мужчине и столько же женского в женщине. Любое превышение этого уровня ненормально и опасно; оно создало бы излишество мужского или женского, монстров, которым не терпелось бы показать свое мужское начало – приставать, драться, грабить, уничтожать или женское начало – прихорашиваться, льстить, обманывать, соблазнять. Снижение этого уровня опасно по другим причинам: мужчина теряет мужское начало, приобретает женские формы во внешнем виде, в речи, становится жеманным, мягким, уклоняющимся от прямого ответа, самодовольным, а женщина в аналогичном случае – жесткой, с грубым голосом, угловатой, уподобляясь мужчине в походке, вкусах, поведении, занятиях. Что думает на этот счет Зигмунд? – Вильгельм, сказанное слишком меня ошеломило, чтобы немедленно это осознать. Разумеется, встречаются гермафродиты; ко мне в прошлом месяце приходил один такой пациент и просил помощи. Моллюски и черви обладают двумя половыми органами и уцелели в веках, но никто еще не осмелился предположить, что все человеческие существа – гермафродиты, состоящие на две трети из мужчин и на треть из женщин и наоборот. – Но это правда, Зиг. – Лицо Вильгельма сияло. – Ты убедишься, что я прав. После возвращения в Вену Зигмунду потребовалось несколько дней, чтобы сделать вывод, что эта теория логически увязывает наиболее озадачивающие и мощные проявления в психике: подавление и сопротивление. Он записал: «Кажется очевидным, что подавление и возникновение невроза имеют исходным моментом конфликт между мужскими и женскими тенденциями». Он обратился к своим ранее сделанным записям и вспомнил, как болезненно сетовал один из пациентов–гомосексуалистов: «У меня женский ум в мужском теле». На полях сбоку он пометил: «В каждой личности есть крупица гомосексуальности. Нормально она не проявляет себя в сознательном состоянии, но она может выйти наружу как элемент сновидения…» «Тенденция обращаться во сне бисексуально к сексуальным символам раскрывает прошлое, ибо в детстве неведомо различие между половыми органами и те же самые органы приписываются обоим полам… У нормально сформировавшихся мужчины и женщины остаются рудименты другого пола». У женщин клитор, или аналог пениса, есть часть наружных половых органов. Женское рукоблудие зачастую сосредоточивается именно на нем, а малолетние девочки принимают его за пенис. Мужчина имеет груди и соски. Он вспомнил молодую пациентку, которую преследовала мысль о летающих по воздуху ведьмах. В своих фантазиях она всегда летала с палкой от метлы между ногами. Зигмунд размышлял: «Может быть, рукоять метлы у ведьм – это и есть его величество пенис?» Осложнения с Флисом возникли во время отдыха в Бреслау, когда они прогуливались по столице Нижней Силезии с ее мостами через Одер, разделяющим город на старый и новый, обмениваясь своими «новыми идеями». Зигмунд почувствовал себя неважно и лег в постель после обеда, рассчитывая поспать часок; Вильгельм подставил к кровати стул и, нервно запустив свою пятерню в шевелюру, воскликнул: – Зиг, с того времени, когда мы виделись в Нюрнберге, я сумел подвести биологическую основу под бисексуальность, назвав новый подход билатерализмом – двусторонностью. Слушай внимательно, и боль в твоем желудке пройдет. Зигмунд редко видел Флиса таким возбужденным; его глаза сверкали, он нервно жестикулировал. – Каждая из двух половин человеческого тела наделена обоими видами половых органов! Соединение мужского и женского начал совершается само по себе в каждой половине. В левой половине мужчины есть женское начало, несмотря на то, что она имеет яички и другие составляющие мужских половых органов, В каждом человеческом существе заложен как мужской цикл в двадцать три дня, так и женский в двадцать восемь дней, их одновременное действие вызывает расстройство психики. Поскольку две половины человеческого тела живут самостоятельно, в некоторые дни цикла доминирует левая сторона, в другие – правая. Именно поэтому у некоторых людей иногда болит левая часть головы, в другое время – правая. Составив свою собственную таблицу, каждый мог бы заранее сказать, какая из сторон станет доминировать в данный день его цикла. Далее, – продолжал Флис. Его голос отдавался эхом от стен скромного номера отеля, занимаемого Зигмундом. – У меня имеется достоверное объяснение для левши: левша поддается женскому циклу, и в левой стороне его тела доминируют женские половые органы. Поглощенный изложением своих схем, он не заметил выражение неверия на лице Зигмунда. В одном, однако, Вильгельм был прав – боль в желудке исчезла, но зато появилась опоясывающая боль в средней части головы. Он оперся на локоть, всматриваясь в лицо Вильгельма, чтобы понять, не развлекает ли его друг фантазией, но Флис был совершенно серьезен. И Зигмунда впервые за время знакомства с Вильгельмом Флисом охватило чувство испуга. Почему Флис всегда привязывает свои идеи к одному и тому же? Ни один врач не мог бы серьезно одобрить такие идеи. Но он не мог сказать ему… даже спросить. Лучше оставить в покое. Вильгельм знал, что ему нездоровится, и это хорошее оправдание для молчания. Кроме того, у Флиса наготове прекрасный ответ: «Зиг, ты оспаривал мою теорию бисексуальности в Нюрнберге, но через неделю написал, что это величайшее открытие, что оно станет одним из краеугольных камней твоего психоанализа. Не случится ли такое и с билатерализмом?» – «Конечно нет, – думал Фрейд, – вся концепция безумная!» Он громко застонал, описывая поверх одеяла круговые движения по своему животу. Флис понял намек и сказал: – Отоспись, Зиг, я подожду тебя в фойе. Возвратившись в Вену, Зигмунд написал Вильгельму: «Чего я хочу сейчас, так это материала для жесткого испытания теории левши. Методику я приготовил. Между прочим, это первый за долгие годы вопрос, по которому наши идеи и склонности не сходятся». Флис, плохо восприняв не совпадающее с его взглядами мнение, составил резкое письмо, в котором дал ясно понять, что не согласен с Зигмундом и недоволен критикой его теории. В письме делался намек на то, что Зигмунд отклоняет теорию левши потому, что он сам, доктор Зигмунд, скрытый левша. Ответ Зигмунда был вежливым: он не обижается на выпад Флиса, будто он левша, он просто высказал несколько доводов, почему концепция Флиса не может иметь биологической основы. Вильгельм не допускает сомнений в отношении своих постулатов, хотя знает, что Зигмунд учился у Брюкке, Флейшля и Экснера, трех самых талантливых в мире физиологов. Зигмунд понимал, что виноват он сам: в течение десяти лет безоглядно расхваливал Вильгельма, объявляя его самым смелым, самым изобретательным ученым–медиком в Европе. Теперь ученик отвергает учителя! Хотя Фрейд советовал Флису подвергать сомнению собственные рассуждения и Вильгельм ответил с пониманием на эту рекомендацию, он не мог принять критики от Зигмунда. Но к этому времени он, Зигмунд, уже три года знал, после операции носа у Эммы Бенн, что Вильгельм – несостоявшийся гений, что он допускает почти фатальные ошибки в своих суждениях. Проведя ненужную операцию и оставив в носу Эммы марлю, вызвавшую нагноение, он подвел ее к краю могилы. Зигмунд понял, что, когда он писал Флису после несчастной операции: «Конечно, никто не осуждает тебя, и я не вижу, за что», он защищал свои отношения с другом, не признающим критики, писал другу, которого не хотел терять и в котором нуждался. Его подсознание справедливо осуждало Флиса. Может ли он сейчас рисковать самой дорогой дружбой?2
В один из февральских дней к вечеру в его кабинет ворвался Леопольд Кёнигштейн. – Поздравляю, Зиг, я только что услышал новость! Ты в списке министра образования на пост помощника профессора! Ты его получишь от императора Франца–Иосифа второго декабря, в день его золотого юбилея! – Ты уверен, Леопольд? – Да. Не могу раскрыть свой источник информации, но твое имя видели в списке назначений на медицинском факультете. Зигмунд сдержал свою радость, памятуя, что кандидатура Леопольда отклонялась шесть лет подряд. – А как с тобой, Леопольд? Кенигштейн взял себя в руки и, посмотрев в сторону, сказал: – Возможно, в сорок восьмом году, когда исполнится сто лет пребывания Франца–Иосифа на троне императора. Помни, тебе потребуется визитка, брюки в полоску, чтобы появиться при дворе… Через несколько дней из–за студенческих демонстраций в связи с эдиктом, объявлявшим, что по всей империи надлежит писать и говорить только по–немецки, университет был закрыт. За год до этого подобное распоряжение вызвало взрыв возмущения. Зигмунд не хотел отказываться от лекций в сложившихся условиях и нашел простое решение, пригласив студентов в свою приемную к семи часам по средам и субботам. Идея оказалась блестящей. Зигмунд восседал за своим письменным столом, студенты – полукругом. Царила атмосфера непринужденности, подкрепленная кружками пива и сигарами, которые предлагал приват–доцент Фрейд. В университете лекции были формальными: студентам не разрешалось задавать вопросы или как–то реагировать на выступления профессора. Здесь же, на частной квартире, Зигмунд мог беседовать, обращаться к каждому из одиннадцати слушателей, делать паузы, повторить сказанное, если видел, что кто–то недопонял. – Это скорее семинар, чем лекция, – объяснял он Марте, поднимаясь по лестнице. – Мне такое нравится. Идет нормальный обмен мнениями. Когда–нибудь мне захочется иметь постоянную группу молодых людей вроде этих, собирающихся вечером для основательной беседы, свободных принять участие в разговоре тогда, когда у них есть что сказать. Это проявление человеческой теплоты, отсутствующей в университете. Он излечил сам себя от невроза, вызванного смертью отца, добравшись до собственного эдипова начала, а это, в свою очередь, позволило лечить пациентов с большим успехом. Многих больных, которые казались безнадежными, он смог направить на путь к излечению. Его собственный анализ не был никоим образом полным; потребуются, возможно, годы, чтобы вывести из подсознания последние остатки болезненных воспоминаний, но он был уверен, что его умственное и эмоциональное здоровье не подвергнется больше серьезному испытанию. В полдень к нему пришел пациент, с которым Зигмунд занимался почти год, добившись определенного успеха в устранении галлюцинаций, благодаря чему тот смог вернуться на работу на биржу. Зигмунд не мог полностью вылечить его, поскольку не знал основных причин галлюцинаций; теперь же он получил представление, как действовать в ситуации Эдипа. Однако, когда он вернул банкира во времена его детства, к чувству навязчивой любви к матери и ненависти к отцу, пациент прервал анализ. Другие пациенты восставали против использования этой эдиповой ситуации. Начинавшие лечение культурным образом, с хорошими манерами становились вульгарными, лживыми или вели себя вызывающе; они симулировали до того момента, когда удавалось обнажить источник их заболевания и его значение становилось им ясно видимым. Некоторые из пациентов стали чувствовать себя лучше, вновь вернулись к своим обязанностям в семье и на работе. Другие, бросившие лечение, позднее приходили вновь, но их прогресс был медленным. – Есть наука анализа, – торжествовал он, – анализа психики. Но помоги мне, Боже! Что сделает Вена, когда я заявлю об эдиповом комплексе? Его уже поносили за то, что он якобы клеветал на невинных детей. Теперь же на него обрушится обвинение в преступлении, если объявить, что источник сексуальности – кровосмесительный! Хорошо, он останется наедине со своими мыслями достаточно долго. Разве не сказал Вергилий, что до истечения девяти лет никто не должен публиковать написанное им? Даже самый мужественный воин должен залечить свои раны после битвы, прежде чем ввязываться в новую. Боль в желудке исчезла, сердце билось ровно, его интерес к благополучию пациентов возвратился, равно как и способность к физической любви, к чтению, писанию и исследованиям. Углубление в собственную предысторию развеяло самые назойливые ощущения вины и тревоги. Он прекратил самоанализ и занялся книгой о снах, отыскивая материал об эдиповой легенде в древних цивилизациях, набрасывая в счастливом взлете энергии начальные главы – «Функции снов», «Методы толкования снов», «Анализ образцов сновидений». Он пригласил Марту слушать Марка Твена, переводя для нее яркий юмор американцев. Он играл с детьми в «Сотню путешествий по Европе», читал им выдержки из книги Фритьофа Нансена «Дальний Север», пытался учить Марту писать стихи. Семья следила за судебным процессом над Дрейфусом, а затем и Золя в Париже. Он прочитал новый роман Артура Шницлера, удивляясь, как много может сказать писатель о сексуальной мотивации человека. Он начал понимать, что сформулировал слишком узко концепцию подсознания и допустил ошибку, вынося моральное суждение о его содержании. Получая материал о попавших в беду пациентах и анализируя свое собственное расстроенное состояние, он полагал, что подсознание представляет темную, злую силу, готовую напасть из засады на беззащитного прохожего. Зигмунд сказал себе с самого начала, что должен проследить всю гамму от ненормальной психологии до нормальной, от больного и психически неполноценного человека до здорового. Действуя так, он увидел свою ошибку: он не учел другие части подсознательного, вероятно, другую половину, которая содержит дающие и поддерживающие ее созидательные инстинкты. Эта половина подсознательного породила великое и просвещающее искусство. Он писал: «Проницательные писатели – важные союзники, и их свидетельства следует высоко ценить, ибо они способны познать многое между небесами и землей, мечтать о том, чему нас еще не научила наша философия. В познании разума они ушли намного вперед по сравнению с нами, простыми людьми, они пользуются источниками, которые мы еще не открыли для науки». Его собственный материал о снах был обширным, позволявшим придать рукописи документальность. Однажды ему снилось, что он пишет монографию о некоем растении. Книга лежала перед ним, и в тот момент он «раскрывал сложенный цветной вкладыш. Во вкладыш был подшит засушенный образчик растения, словно взятый из гербария». Зигмунд продвигался строго по времени, подключая ассоциации в том порядке, в каком появлялись их элементы в самом сновидении. В утро, предшествовавшее сну, он увидел в витрине книжной лавки только что вышедшую монографию «Семейство цикламенов». «Цикламены, – подумал он, – любимые цветы Марты. – И упрекнул себя: – Стыдно, что не приношу Марте ее любимые цветы, как бывало раньше». Он обратился к слову «монография». Несмотря на то, что в гимназии он не проявлял способностей к ботанике, через несколько лет после ее окончания все же опубликовал монографию о растении – «О коке». Он обратил внимание Карла Коллера на анестезирующее действие коки на язык, и это позволило Карлу, ныне работающему в Нью–Йорке, попробовать, как она действует на глаза, и осуществить прежде невозможные глазные операции. Коллер и Кёнигштейн удалили глаукому у Якоба. …Кокаин… должно быть, связующее звено… Да, несколькими днями ранее он видел экземпляр юбилейного сборника, розданного студентам по случаю двадцатипятилетия назначения доктора Штрикера полным профессором. В книге упоминалось, что Карл Коллер открыл анестезирующие качества кокаина в лаборатории Штрикера, а о вкладе Зигмунда Фрейда не было ни слова. Это задело его, и он рассердился сам на себя за то, что не продолжил работу хотя бы несколько недель и не сделал открытия, к которому подвел вплотную Коллера и Кёнигштейна. Но в то время он был без памяти влюблен, ведь прошел всего год, как он встретил Марту; он умчался в Вандсбек к любимой. Кёнигштейн… Вечером накануне сна Кёнигштейн провожал его домой с лекции, он был не в себе. – Зиг, ты превратил сексуальность в свое хобби. Ты слишком занят ею. Врачу следует заботиться о больном глазе или кости… – Леопольд, попытайся подумать о подсознании как аналоге кокаина, С помощью психоанализа мы сможем оперировать сознание, делать операции, которые не были ранее возможными, точно так же как ты делаешь это на глазах. «Монография… Я пытаюсь закончить свою монографию «Толкование сновидений». За день до этого пришло письмо от Флиса, в котором говорилось: «Меня очень волнует твоя книга о сновидениях. Я вижу ее лежащей передо мной, а себя листающим ее страницы». Так велико было желание Зигмунда закончить монографию, что он позавидовал способности Вильгельма, склонного к воображению, и твердил себе: «Если бы я мог увидеть ее в завершенном виде!» Последним элементом сновидения был сложенный цветной вкладыш. Потребовалось значительное время, чтобы отсеять шлак воспоминаний. Наконец проходившие перед глазами сцены остановились на том времени, когда ему было пять лет, а его сестре Анне – три года. Они играли на полу в одной из комнат семейства Фрейд: отец дал им книгу о путешествии по Персии и разрешил вырывать цветные иллюстрации одну за другой, словно чешуйки артишока. Что же было все–таки подавлено? Не скрывают ли некоторые элементы его толкования другие воспоминания? Он упорно искал в памяти. Наконец восстановились воспоминания детства, но они были настолько личного характера, что он не мог заставить себя включить этот материал в соответствующую главу. В Вене у него хватало неприятностей. Может ли он, Зигмунд Фрейд, написать в таком случае, что идет мимо оперного театра в воскресенье в полдень совершенно голым, когда горожане прогуливаются при всех регалиях? Он использует уловку: опишет материал в главе «Зашторенные воспоминания», выдумав «пациента» на пять лет моложе, вступит с ним в диалог, давая возможность своему «эго» раскрыть этот автобиографический материал. Первая возникшая перед ним сцена изображала густозеленый луг на склоне горы, усеянный желтыми одуванчиками. В верхней части луга, перед входом в коттедж, беседовали крестьянка в платке и няня. Он, Зигмунд, ему тогда было три года, играл с племянником, сыном Эммануэля Джоном, который был на год старше, и с племянницей Полиной того же возраста, что и Зигмунд. Они собирали одуванчики, а затем он и Джон решили, что у Полины букет лучше, накинулись на нее и отняли цветы. Она побежала со слезами к крестьянке, которая дала ей ломоть черного хлеба. Позавидовав, мальчишки бросили цветы и также побежали к крестьянке, и та дала каждому по ломтю хлеба. Хлеб был вкусным, сцена прекратилась… Благодаря чему он приобрел возможность воссоздавать волшебные картинки? Какие элементы сохранили их в памяти? Яркая желтизна цветов? Вкус черного хлеба? Или тот факт, что они обошлись плохо с малышкой Полиной? Одуванчики воскресили в его памяти визит, который он нанес во Фрайберг, когда ему было шестнадцать лет и он влюбился в Гизелу, пятнадцатилетнюю дочь старых друзей, у которых он останавливался на праздники. Во время ее школьных каникул они вместе бродили по лесу, на девочке было ярко–желтое платье. Он не сказал ей о своей любви; когда же она вновь начала посещать школу, он прогуливался в одиночестве по тому же лесу, мечтая о том, что Якоб не разорился во Фрайберге, что им не нужно переезжать в Вену, что он возмужал в торговом деле отца, процветал, что женился на Гизеле Флюс, что они были счастливы. Его племянница Полина… Когда он посетил ее дом в Манчестере, ему показалось, что его единокровный брат Эммануэль полагал, будто он влюбится в Полину. Но он не влюбился, а стал рабом книг, и для девушек не осталось эмоций. Почему не осталось? Вот она, причина: отнять цветы у девушки – значит обесчестить ее, а он уже это сделал! В трехлетнем возрасте он не понимал этого, а в дальнейшем перенес осознание в прошлое. Почему он с удовольствием вспоминал, как вырывал цветные иллюстрации из книги о Персии? Потому что выдирание страниц схоже с рукоблудием. Быть может, в этом причина его любви к артишокам? И почему теперь он вспоминает о своем влечении к онанизму, видя себя играющим на полу с привлекательной сестрой Анной? Виделся ли ему смеющийся Якоб, когда они вырывали цветные иллюстрации, потому что позже он, Зигмунд, боялся разоблачения, как боятся все мальчишки, и желал вместо этого получить одобрение со стороны отца?3
Поскольку у него было около десяти пациентов, нуждавшихся в ежедневных сеансах, Зигмунд остался в июле в Вене, а Марта уехала с детьми в Аусзее. Он обедал у матери вместе с Дольфи и Александром. Когда в городе наступила невыносимая жара, Зигмунд отправил мать и сестру в Ишль до конца лета. Его пациенты, кроме фрейлейн Цесси, в отношении которой он оказался бессильным, вели себя так хорошо, что, готовясь уехать к Марте, он был в прекрасном настроении. В этот вечер он пригласил Александра на ужин, добродушно подшучивал над официантом и извозчиком. Он был слегка недоволен Александром, который настаивал выйти из экипажа и сесть на поезд в Штадтбан, вместо того чтобы ехать до Западной станции. Пошел небольшой дождь, когда Зигмунд добрался до станции. Посадку на ночной поезд еще не объявили, но он попросил разрешение пройти на перрон, чтобы быть готовым занять нужное ему купе. На платформе он заметил графа Франца Антона Туна, премьер–министра, прибывшего в открытом экипаже. Контролер потребовал у графа Туна билет, но тот отстранил его высокомерным жестом и сел в лучшее купе поезда, направлявшегося в Ишль, в летнюю резиденцию императора. Зигмунд решил, что он поступит так же, как и граф Тун, когда придет его поезд; тем временем он напевал про себя арию из «Свадьбы Фигаро» Моцарта. Думая о графах, он вспомнил фразу Бомарше об аристократе, оказавшем честь тем, что родился, и о господском праве первой ночи, на которое претендовал граф Альмавива в «Фигаро», имея в виду хорошенькую молодую служанку Сюзанну. Он думал также о журналистах, не любивших графа Туна и присвоивших ему кличку Нихтстун, Бездельник. В этот момент мимо него прошел человек, в котором он узнал правительственного инспектора, наблюдающего за экзаменами по медицине; венцы называли его правительственным соночлежником. Инспектор потребовал, чтобы ему было предоставлено купе первого класса и к нему никого не подсаживали. Зигмунд, купивший билет в первый класс, также считал, что имеет право занимать купе. Когда он вошел в вагон, проводник предложил ему боковое купе без туалета. Жалобы Зигмунда действия не возымели. Он сказал шутя проводнику: – Просверлите хотя бы дыру в полу купе, чтобы пассажиры могли удовлетворить нужду. Ночью ему приснился сон: граф Тун обращался к студентам на митинге. Кто–то из толпы вызывающе потребовал высказать суждение о немцах. Граф Тун ответил иронически, сказав, что любимое растение немцев – подорожник, после чего вставил в петлицу помятый листик, Зигмунд почувствовал себя расстроенным и был поражен, почему это его задевает. Следующая сцена происходила в зале университета. Поскольку все входы были закрыты, он пробрался через ряд изысканно обставленных комнат. Он встретил толстую пожилую матрону, предложившую проводить его с лампой. Он отказался и попросил ее остаться на лестнице. «Я чувствовал, что проявил хитрость, избежав контроля при выходе. Я спустился вниз и обнаружил узкую и крутую дорожку, по которой я и пошел». Следующая задача заключалась в том, чтобы выйти из города: станции были закрыты. Обдумав, куда поехать, он выбрал Грац. Оказавшись в купе, он заметил в своей петлице сложенный длинный лист. Сцена вновь изменилась: он находился перед фасадом станции в компании пожилого человека, ослепшего на один глаз. Поскольку он явно выступал в роли санитара, то вручил этому человеку стеклянный мочесборник. Зигмунд проснулся, вынул из кармана жилета золотые часы: было 2 часа 45 минут утра. Он почти никогда не просыпался ночью по малой нужде. Он спрашивал себя: «Физическая нужда спровоцировала сон, или же мысли во сне вызвали желание помочиться?» Он пришел к выводу, что надменное поведение графа Туна на платформе дало повод для сновидения. Вот почему он, Зигмунд, напевал арию из «Свадьбы Фигаро» – оперы, запрещенной Людовиком XVI по той причине, что она высмеивала высокомерие сеньоров. Остаток ночи он провел, размышляя о сновидении; в последующие несколько дней записывал свои ассоциации, пытаясь понять их скрытый смысл. Аристократ граф Тун напомнил ему о сцене, когда ему было пятнадцать лет. Он и его друзья–гимназисты составили заговор против непопулярного учителя немецкого языка. Учитель порицал единственного молодого аристократа в группе, которому друзья дали кличку Жираф и который вопреки всему носил в петлице свой любимый цветок. Этот цветок символизировал начало войны Алой и Белой розы. Это подтолкнуло Зигмунда к воспоминаниям о красных и белых гвоздиках, которые носили в Вене: социал–демократы – красные гвоздики, а антисемитская партия – белые. Мысль о политике напомнила ему о Викторе Адлере, который раньше жил в квартире Фрейдов. Мысли об Адлере вернули его на Берггассе; а дальше воспоминанияпротянулись к дому матери. В сцене сновидения он находился в актовом зале университета и прошел через ряд красиво обставленных комнат. Он давно предполагал, что комнаты символизируют женщин, а женские комнаты – зачастую публичных женщин; он также знал, что если в сновидении присутствует неоднократный вход и выход из комнат, то толкование не вызывает сомнений. Что же он делал символически во сне: овладевал рядом женщин? Кого же изображала старая полная женщина? Женщина думала, что у него есть право пройти; он же ее перехитрил, ибо «избежал контроля на выходе». Почему, наконец, он решил поехать в Грац? Он хвастался, а это является обычной формой исполнения желания; в Вене фраза: «Какова цена в Граце?» – высмеивала тщеславие человека, считающего себя достаточно богатым, чтобы купить, что ему заблагорассудится. Он обратил внимание на последний инцидент, на пожилого одноглазого господина, которому вручил стеклянный мочеприемник. Поскольку князь – отец страны, нить рассуждений Зигмунда потянулась от графа Туна к императору Францу–Иосифу, а затем к собственному отцу Якобу. Он вновь подумал о двух более ранних эпизодах, связанных с мочеиспусканием: первом, когда он мочился в постель и получал упреки от Якоба; втором, когда он вошел в спальню родителей и обнаружил отца в интимной позе. Во сне он получил удовольствие, высмеивая графа Туна, затем «правительственного соночлежника» – авторитетные фигуры, заменившие его собственного отца. Зигмунд записал: «Сновидение становится абсурдным… если одно из направлений мысли в подсознании имеет в качестве мотива критику или высмеивание». Он был поражен силой настроений против отца, сохранившихся в его подсознании. У Якоба была глаукома, он почти ослеп на один глаз, и вот его сын мстит ему, выставляя себя авторитетной фигурой и заставляя старика мочиться в мочеприемник. Это напомнило ему историю о неграмотном крестьянине, который испробовал все очки у окулиста и все же не мог читать. Его мучило чувство вины за агрессивность, пока он не вспомнил пьесу Оскара Паницца «Любовный совет», в которой Бог был изображен старым паралитиком и все же собирался наказать людей за сексуальные дела. «Свадьба Фигаро» развивала эту мысль в том направлении, что сексуальные желания графа Альмавивы, подменившего отца, были разоблачены и он был вынужден принести извинения. Он занес в свою записную книжку: «Все бунтарское содержание сновидения с оскорблением его величества и высмеиванием высших властей уходит в прошлое, в бунт против моего отца… Отец – старейший и единственная власть для детей, и из его безраздельной власти выросли в ходе истории человечества другие ветви общественной власти». Важной частью его сна, как он полагал, было то, что даже после разрешения эдиповой ситуации детские чувства ревности, соперничества и агрессии в отношении отца были способны все еще проявляться. Он излечил себя для нормального сознательного состояния, но не для сновидений! Он вспомнил один из своих самых ранних снов, когда ему было лет семь или восемь: он видел мать с умиротворенным лицом, когда ее вносили в комнату люди с птичьими клювами. Анализируя этот сон, он не понимал, почему он так его волновал. Теперь он осознал: мать снилась ему на почве сладострастия, а это всегда вызывает страх у мальчика, как бы не узнал отец. В контактах с пациентами у него сложилось впечатление, что страх кастрации был обычным явлением для ранней фаллической стадии, когда интерес сосредоточивается на половых органах. Кровосмешение – кардинальный грех, для которого существует одно–единственное наказание: орган–правонарушитель должен быть отсечен… и обязательно отцом, высшей властью.4
Несмотря на то, что разногласия между ними углублялись, Вильгельм Флис оставался единственным слушателем и критиком Зигмунда. Именно ему послал он первую главу книги о сновидениях с толкованием своего первого сна, касавшегося Эммы Бенн. Теперь он послал ему следующую главу: «Сны как исполнение желаний». Не дожидаясь замечаний Флиса, он принялся работать над черновиками глав «Искажения во сне» и «Психический процесс сновидений». Никто другой в Вене, кроме Марты и Минны, не имел представления о книге, над которой он работает. Летом он брал с собой в короткие поездки кого–нибудь из членов семьи, но никто не мог оставаться с ним: слишком стремительными были его путешествия, которые Марта окрестила «идеальным сном каждую ночь на новом месте». Каждый раз он привозил небольшую статуэтку или предмет древнего искусства. Ему было трудно оплачивать поездки, но он следовал почитаемой венцами поговорке: «Лучший способ разбогатеть – продать последнюю рубашку». В сентябре Минна и ее мать взяли на себя заботу о детях, и Зигмунд смог уехать с Мартой в Рагузу (Дубровник) на Далматинском побережье. Марте понравился старинный город, и она отклонила предложение Зигмунда осмотреть окрестности. Однажды утром он нанял экипаж вместе с незнакомцем, которому пришлась по душе мысль посетить соседнюю Герцеговину. Во время поездки разговор шел о турках, живущих в Боснии. Зигмунд рассказал спутнику истории, услышанные им от коллеги, проходившего практику в Боснии. – Они относятся к врачам с особым уважением и в отличие от венцев покорны судьбе. Если врач вынужден сообщить главе семейства, что кто–то из родственников умрет, то тот отвечает: «Господин, что можно сказать? Если бы его можно было спасти, то вы это сделали бы». Затем он вспомнил рассказы коллеги о турках в Боснии, что те придают исключительное значение сексуальным наслаждениям. Один из пациентов сказал: «Господин, вы должны знать, что, если это кончается, жизнь становится бессмысленной». Однако, не будучи знаком со спутником настолько хорошо, чтобы пересказать ему такой анекдот, он изменил тему разговора на Италию и ее искусство. Он посоветовал спутнику посетить Орвието и посмотреть фрески Страшного суда в местной часовне, расписанной великим живописцем по имени… по имени… Память изменила ему. Он живо представлял фигуры на стенной росписи, но только два имени приходили на память – Боттичелли и Больтраффо. Этот провал в памяти мучил его несколько дней, пока он не встретил эрудированного итальянца, который сразу же назвал имя: Синьорелли. Зигмунд воскликнул: – Конечно, Лука Синьорелли. Но почему я забыл его имя? Ничто не забывается случайно. Всегда есть причина, которую можно выявить с помощью логических построений. Он принялся набрасывать заметки. Имя Синьорелли выпало из памяти, оказалось подавленным, потому что он сам только что подавил рассказ о боснийском преклонении перед сексуальными удовольствиями. Но какова же связь? Обе истории, касавшиеся пациентов, начинались с обращения «господин», что эквивалентно слову «сеньор». Поэтому «сеньор» – половина имени «Синьорелли» – было подавлено. Поскольку они говорили о Боснии, естественно, приходили на ум Боттичелли и Больтраффо. Но почему Больтраффо, имя которого не так известно, как Боттичелли и Синьорелли? Потому что за несколько недель до этого он узнал, что его пациент–гомосексуалист совершил самоубийство, об этом ему сообщили в тирольской деревне "Графой, что подсказало вторую половину имени «Больтраффо». Он нарисовал для себя схематическую диаграмму того, что он назвал парапраксисом, и написал статью, основанную на этом случае, назвав ее «Психический механизм забывчивости». Возвратившись в Вену, Зигмунд обнаружил письмо от Флиса о сделанном им психологическом открытии. Зигмунд считал, что оно написано слишком эмоционально. Он чувствовал, что Флис переоценивает значение своего открытия. В эту ночь ему приснилась фраза: «Это определенно написано в стиле норекдаль». Слово озадачило его. Он разделил его компоненты. Недавно он читал о нападках на Генрика Ибсена. Героиней «Дома куклы» была Нора. Слово «экдаль» пришло из пьесы «Дикая утка». «Толкование сновидений подобно смотровому окну, через которое мы можем посмотреть на внутренность умственного аппарата… Сновидения зачастую имеют не одно, а больше значений. Они могут включать исполнение одновременно нескольких желаний, и их последовательность может вести к наслоению одного желания на другое, причем в основании лежит желание, относящееся к самому раннему детству». Общим в обеих пьесах Ибсена был конфликт между отцом и сыном. Норекдаль появился в его сновидении потому, что прочитанная им статья об Ибсене содержала критику, утверждавшую, будто сцены в пьесах были слишком эмоциональными, что Ибсен переоценил значение описываемых им отношений; это была критика, совпадающая с тем, что он говорил относительно рукописей Флиса! Он зафиксировал в своих записях эту, как он именовал, конденсацию во сне. Он мог оспорить человеческий цикл – двадцать три дня для мужчины и двадцать восемь для женщины, который Флис распространял на всю Вселенную, но нельзя было не признать цикличность природы: смену времен года, урожая, сменяющиеся поколения животных, историческое развитие промышленности, политики, науки, наций, цивилизаций. Вернувшись из поездок, он увидел Вену в трауре: в Женеве была убита императрица Елизавета; убийца – итальянский рабочий Луиджи Лученти – выдавал себя за анархиста. Когда его спросили, почему он убил императрицу, он ответил: – Это война против богатых и знатных. Вена редко видела императрицу Елизавету в последнее время, ей наскучила Австрия, и она покинула императора Франца–Иосифа, чтобы поездить по Европе, тогда как стареющий Франц–Иосиф, по природе домосед, утешался с актрисой Бургтеатра Катариной Шратт. Однако венцы начали осознавать, что над династией Габсбургов нависла грозная судьба. После самоубийства наследного принца Рудольфа в Майерлинге и гибели императрицы заменой одряхлевшему императору мог быть не пользовавшийся популярностью племянник эрцгерцог Франц–Фердинанд. Зигмунд пробыл дома всего несколько дней – семья возвращалась лишь к концу сентября – и оказался под влиянием гнетущего настроения венцев. Он ворчал: – Скучно здесь жить, в этой атмосфере не может быть надежды на что–либо весомое. Но Вена быстро вернулась к прежнему беззаботному настроению: концертные залы, опера и придворный театр были забиты, рестораны и кафе гудели от шума голосов за столиками завсегдатаев. В первые дни октября к нему валом валили пациенты, и ему пришлось восстановить двенадцатичасовое расписание работы в приемной, оставалось время только на еду. По ночам он трудился над книгой о сновидениях, подстрекаемый творческими порывами. Затем источник иссякал, родник разума высыхал; представлявшиеся ценными идеи оказывались ошибочными; в итоге он слег, заразившись инфлюэнцей. Зигмунд надеялся во многом на то, что получит благословение императора и ему вручат в день золотого юбилея Франца–Иосифа грамоту о назначении экстраординариусом в университете. Но в официальном списке имя доктора Зигмунда Фрейда не значилось. Назначение получил доктор Франкль–Хохварт. Обозленный, Зигмунд поклялся, что отныне не будет иметь ничего общего с медицинским факультетом. Он отменил свои ранее объявленные лекции о психологии сновидений. Затем посыпались самоупреки; он должен винить сам себя, ворчал он Марте, сам «держал область психологии в состоянии неопределенности и не позаботился подвести под нее основания». Почему он не объяснил в терминах накопленной и высвобожденной энергии физиологические проявления инстинктов, эмоций, чувств, идей, воспоминаний, страхов, истерии, неврозов? Он всеми силами старался скрыть от Марты свое разочарование и огорчение. Были моменты, когда Зигмунд был крайне оптимистичен, занимаясь углубленным исследованием подсознания. Затем следовали периоды сомнений и замешательства. Он писал Флису: «Судьба… совершенно забыла твоего друга в его уединенном уголке… В сложных вопросах вынужден иметь дело с людьми, коих опережаю на десять – пятнадцать лет и которые никогда не догонят меня». Временами он получал удовольствие от «блестящей изоляции», как он говорил с грустью, потому что целиком отдавался работе. Но после нескольких недель изоляции он чувствовал, что его психика словно раздавлена жерновами. Он утешал себя тем, что медицинский мир Вены не дорос до принятия хотя бы одного из открытий, описанных им и Брейером пять лет назад; огорчался, что его сторонятся коллеги, как если бы он был прокаженным, которого надо держать на отшибе, чтобы не заражались другие. Когда ему хотелось, чтобы его выслушали, он выступал в «Бнай Брит» с лекцией о толковании сновидений. Но он все еще блуждал в лабиринтах книги о сновидениях, пытаясь найти надлежащее русло для объяснений конденсации, искажений, увязки снов с душевными заболеваниями Он разбирал по частям сотни сновидений, своих собственных и своих пациентов, чтобы показать неврологам, насколько ценным для лечения психики может оказаться толкование снов. Он не предаст огласке полузавершенный материал, памятуя, что сказал ему ранее Вагнер–Яурег: «Ты движешься слишком быстро и слишком многим рискуешь». У дюжины посещавших его пациентов – половину из них составляли мужчины – он наблюдал различные неврозы, которые, как он отныне установил, были, так сказать, классическими: мания преследования, звучащие в ушах голоса, навязчивая тревога, псевдопараличи, которыми пациенты оправдывали свою изоляцию от общества… Он ощущал глубочайшее удовлетворение, когда удавалось ослабить симптомы и добиться излечения; затем приходило чувство поражения, когда пациент отказывался проникнуть в собственное подсознание или же больше не появлялся, напуганный раскрытым ему характером заболевания. Медицинская профессия готовила к тому, чтобы не принимать близко к сердцу неизлечимые болезни. «Но в данном случае, – думал Зигмунд, – речь идет о судьбе моего метода. Мои принципы и открытия выходят на переднюю линию огня, когда я даю согласие взять пациента». Именно поэтому ему пришлось вновь лечить фрейлейн Цесси по просьбе Йозефа Брейера, хотя год психоаналитических сеансов не принес никакого улучшения. Он не мог помочь несчастным, которые слишком углубились в свою болезнь и не хотели общаться с ним, но когда его терапия оказывалась безуспешной там, где вроде бы должно было наступить облегчение, он считал несовершенной свою новую область медицинской науки. Он должен продолжать изучение, добраться до истины о том, как действует человеческий разум, верить, что при психоанализе терпит неудачу врач, а не пациент. Занимаясь самоанализом, он почувствовал, сколь невероятно сложна природа человека. Но отдельные проблемы убеждали его в том, что однажды он сможет познать самого себя и стать совершенно свободным; бывали дни, когда ему не удавалось истолковать свои грезы и сны, тогда он падал духом и чувствовал себя так, словно у него были связаны руки. Год 1898–й начался сомнениями, ими он и кончился.5
В январе 1899 года Зигмунд узнал, что английский психолог и врач Хавелок Эллис в журнале «Психиатр и невролог» высоко отозвался о его работе, посвященной связи между истерией и половой жизнью. Это его воодушевило, и он вновь стал думать, не следует ли уехать в более гостеприимную Англию. Он не знал, как жестоко обошлись с Хавелоком Эллисом за его попытки ввести в программы обучения вопросы сексуальной природы человека. Ему набило оскомину чтение книг о сновидениях на немецком, французском, английском, испанском и итальянском языках, накапливавшихся на полках его кабинета. Он не представлял, что их так много. Некоторые содержали откровенную глупость, например книги о египетской символике, учившие, как предсказать будущее, даже жизнь после смерти. Были и другие, написанные проницательными психологами Труппе, Гильдебрандтом, Штрюмпелем, Дельбёфом, которые точно отмечали воздействие физиологических потребностей на сновидения: тепла, ощущения жажды, нужды облегчиться, случившегося в предшествующий день, роль встревоженности в сновидениях. И при всей честности их намерений его предшественники блуждали в потемках по неизведанным лабиринтам, натыкаясь на сталактиты, поскольку никто из них не подозревал, что существует подсознание, контролирующее смысл и механизм сновидения, что имеется скрытое значение, берущее начало в детстве, которое придает более глубокое содержание внешней, поверхностной картине сна. Надоедало делать выписки из этого «фарша нищих идеями». Непрерывное чтение вытесняло из его разума его собственное, новое, но поток книг о сновидениях не имел конца. Заметив, что чтение книг его раздражает – к этому моменту он изучил восемьдесят томов, – Марта спросила: – Зачем тебе нужно вчитываться в каждое слово в этих книгах? – Потому что могу навлечь на себя обвинения, что пренебрег какой–либо работой, даже фрагментарной. Марта вздохнула. – Не возымеет ли этот материал такое же отупляющее воздействие на читателя, как на тебя? – К сожалению, может быть. – Но осмелюсь сказать, что серьезного читателя не оттолкнет введение на десять – пятнадцать страниц. Зигмунд встал, подошел к сигарному ящичку на столике рядом, зажег сигару и сделал несколько первых затяжек. – Не десять или пятнадцать, Марти. Ближе к сотне страниц, чтобы обзор выглядел достойным. Марта посмотрела на него в изумлении. – Сотня страниц?! Это же целая книга. Почему ты хочешь поставить перед читателем непреодолимую китайскую стену? Минна засмеялась: – Брось, Марта, ты же знаешь, что самое постоянное стремление у Зиги в жизни – быть мучеником. – Она повернулась к зятю: – Не погоняешь ли ты мертвых лошадей? Зачем цитировать полсотни авторов, чтобы доказать, что они прогулялись по садовым дорожкам? – Таков научный поиск: собрать все, что написано по данному вопросу, и проанализировать. – А что же будет с читателем, если он заблудится в такой чащобе? Зигмунд грустно улыбнулся: – Тогда он никогда не увидит спящую красавицу. Это своеобразная ритуальная расчистка почвы вроде выжигания крестьянином стерни перед пахотой. Толкование сновидений открыло широкую дорогу к познанию подсознательной деятельности ума. В каждую главу он включал итоговый анализ сновидения, иллюстрирующий исследуемый метод. Он был убежден в одном: цензор служил единственной охраной против нападения армии тревог и вечно присутствующих желаний, дьявольски хитрых в своем стремлении осуществиться. Однажды ему приснилось, что некий служащий университета сказал ему: «Мой сын близорукий». За этим последовал диалог, состоявший из обмена краткими замечаниями и возражениями. Третья часть сновидения была основной. «Ввиду некоторых событий, случившихся в Риме, было необходимо вывезти детей в безопасное место, что и сделали. Далее представилась картина ворот с двустворчатыми дверями в старинном стиле (как я понял во время самого сновидения – Римские ворота в Сиене). Подавленный, почти в слезах, я сидел на краю фонтана. Женщина, служанка или няня, привела к отцу двух мальчиков. Старший из них явно был моим старшим сыном; лица другого я не видел. Приведшая их женщина с приметным красным носом попросила, чтобы мальчик поцеловал ее на прощание. Тот отказался это сделать, но, помахав рукой на прощание, сказал: «До плача…» Приступая к разбору виденного, Зигмунд полагал на первых порах, что служащий университета и его сын были подменой его самого и его сына Мартина, что сновидение вызвано ходом мыслей в связи с эмоциями, навеянными недавно виденной им пьесой Теодора Герцля «Новое гетто». Она касалась еврейской проблемы, становившейся все более острой в Вене в связи с оживлением различных предрассудков. Зигмунд тревожился за своих шестерых детей. Если верить пьесе Герцля, у них никогда не будет собственного дома, возникнут сложности с образованием, которое избавило бы от страха перед географическими и интеллектуальными границами. Рим продолжал являться Зигмунду в снах; его заветной мечтой оставалось посещение этого города. Однако поскольку он не бывал в нем, то подменял другим городом, в данном случае Сиеной, также славящейся своими фонтанами. Сиена была неплохой подменой, около ее Римских ворот Зигмунд заметил ярко освещенное здание, служившее, как он узнал, приютом для умалишенных. Ему сообщили, что директор, еврей, высококвалифицированный специалист, провел в приюте всю жизнь, прежде чем получить должность директора, а затем был вынужден подать в отставку ввиду своего вероисповедания. Когда Зигмунд вспомнил, что находился в подавленном состоянии и почти плакал, сидя около фонтана, на ум пришла строка: «У вод Вавилона мы уселись и плакали», написанная Суинберном о разрушении Иерусалима и античной Италии. Это точно отражало его чувства к венцам и к Вене, внешне такой веселой, с чарующими мелодиями о Дунае, смакующей жирные шоколадные торты после сытного обеда и в то же время полной предубеждений, скованной стагнацией легкомыслия, фальши. Но каков был смысл, спрашивал он себя, в том, чтобы он вывез в безопасное место своих детей из Рима? Много лет назад его единокровные братья вместе с детьми уехали в свободную Англию, ведь в свое время Якоб и Амалия переехали с Зигмундом и Анной из Фрайберга в свободный, по их предположениям, Лейпциг, а затем в Вену. Амалия провезла их поездом через Бреслау. Кто же была та женщина, служанка или няня с отвратительным красным носом, пожелавшая, чтобы ребенок поцеловал ее на прощание? Не кто иная, как их няня Моника Заиц, желавшая поцеловать Зигмунда и Анну, когда семья Фрейд уезжала из Фрайберга. Но почему мальчик, а Зигмунд понимал, что это был он сам, сказал: «До плача…», когда должен был сказать: «До свидания»? Через несколько дней ему приснилась окрестность, где размещались частный санаторий и несколько других учреждений. Он записал: «Появился служитель, чтобы позвать меня на осмотр. Во сне я знал, что пропала какая–то вещь и осмотр вызван подозрением, будто я присвоил пропавший предмет. Осознавая свою непричастность и тот факт, что занимаю положение консультанта в этом заведении, я спокойно последовал за служителем. В дверях мы встретили другого слугу, который, указывая на меня, сказал: «Зачем вы его привели? Он уважаемый человек». Тогда я один вошел в огромный зал, в котором находились машины, напомнившие мне ад с адскими орудиями пытки. На одной из машин лежал мой коллега, который вроде бы должен был меня заметить, но тем не менее не обратил внимания. Затем мне сказали, что могу идти. Но я не находил свою шляпу и поэтому не уходил». Зигмунд чувствовал, что такое сновидение было примером заторможенного движения, и написал в рукописи: «Исполненное желание во сне, очевидно, выражается в том, что меня признали почтенным человеком и сказали, что могу идти. В сновидении, следовательно, должен быть материал, содержащий противовес этому признанию. Заявление, что я могу идти, содержит символ освобождения меня от грехов. Если на фоне этого к концу появилось что–то мешающее идти, то правдоподобно предположить, что подавленный материал, содержащий обратное, и проявил себя в этот самый момент. То, что я не мог найти шляпу, соответственно означает: «В конце концов вы не почтенный человек». Итак, «не способный сделать что–то» есть способ выразить «нет»…» Еще одно абсурдное сновидение озадачило его: «Я получил извещение совета города, где я родился, об оплате суммы за пребывание в госпитале в 1851 году некоего лица в результате нападения на него в моем доме. Я был озадачен этим, потому что, во–первых, я еще не родился в 1851 году и, во–вторых, в момент получения извещения не было в живых отца, к кому это могло бы относиться. Я пошел к отцу в соседнюю комнату, где он лежал, и рассказал ему об этом. К моему удивлению, отец припомнил, что однажды в 1851 году напился и его посадили в кутузку. Случилось это тогда, когда он работал на фирму «Т». «Значит, ты выпивал? – спросил я. – Вскоре после этого ты женился?» Я учел, конечно, что был рожден в 1856 году, несколько лет спустя, а не в том году, о котором шла речь в извещении». Якоб вообще не пил и, значит, никогда не напивался. Означал ли сон, что Якоб вел себя глупо, как пьяный? Что же он сделал? Имелся счет от госпиталя за 1851 год. На чье имя? Подобно серому котенку, выглянувшему из–за угла, возник клочок воспоминаний: намек здесь, тонкое замечание там от его единокровных братьев Эммануэля и Филиппа, что его отец действительно «вскоре женился» на женщине по имени Ребекка. Не был ли счет из госпиталя на имя Ребекки? Не было ли промежуточной свадьбы и что случилось с Ребеккой Фрейд? Не умерла ли она в госпитале? Этот брак не мог длиться долго, ибо Якоб оставался одиноким всего год или два, прежде чем женился на Амалии в 1855 году. Знали об этом лишь Эммануэль и Филипп. Его изумила хитрость, с какой его подсознание скрывало память об этом, и как его сновидение искусно обнажило фрагмент скрытого все эти годы.6
В полдень к нему пришла женщина. Всхлипывая, она сказала: – Не хочу больше видеть своих родственников, они считают меня ужасной. Прежде чем Зигмунд успел спросить ее о причинах, она рассказала о сновидении, которое помнит, но объяснить не может. Когда ей было четыре года, «по крыше ходила рысь или лисица; затем что–то упало или она сама упала; и ее мать вынесли мертвой из дома». Пациентка плакала. «Сейчас я вспомнила еще кое–что! – выкрикнула она. – Когда я была маленькой, уличный мальчишка оскорбил меня, обозвав «рысьим глазом». Он считал это самым сильным оскорблением в мой адрес… Еще, когда мне было три года, с крыши упала черепица и ударила мать по голове, было сильное кровотечение». – Вы видите, элементы вашего сновидения сочетаются и принимают очертания, – сказал Зигмунд. – Рысь появляется в выражении «рысий глаз». Рысь ходила по крыше, с которой свалилась черепица; затем вы увидели, как выносят мертвую мать. Цель сновидения – исполнить желание. Вы, видимо, понимаете, что взяли подсознательный материал вашего детства. Но причины для расстройства нет. Общее желание девочек, влюбившихся в отца и мечтающих занять место матери, – чтобы она умерла. Но это случилось давным–давно и не имеет ничего общего с вами, взрослой. Ваши родственники не думают, что вы ужасны, они сами прошли через такие же эдиповы комплексы в своем детстве. Истолкование помогло пациентке. Подтверждение пришло на Берггассе, 19, буквально через неделю: к доктору Фрейду обратилась молодая женщина, находившаяся в состоянии неясного возбуждения, основанного на яростном отвращении к матери, которую она оскорбляла и даже била, когда та подходила к ней. Врачи оказались не в состоянии помочь. Доктор Фрейд построил анализ непосредственно на сновидениях женщины. Ей снилось, будто она присутствует на похоронах своей матери, сидит за столом в трауре со старшей сестрой. Сновидения сопровождались навязчивой фобией: стоило ей отлучиться из дома всего лишь на час, ее начинал мучить страх, будто нечто ужасное произошло с матерью, и она мчалась домой. Зигмунд объяснил эту фобию как «истерическую контрреакцию и защитный феномен», связанные с ее подсознательной враждебностью к матери. Он записал: «В свете этого понятно, почему склонные к истерии девицы так часто с преувеличенной страстью привязаны к своим матерям». Схожим случаем он занимался несколько лет назад. Молодой человек, получивший хорошее образование, в возрасте семи лет мечтал столкнуть своего сурового отца «в пропасть с вершины горы. Когда я возвращался домой, то тратил оставшуюся часть дня на обдумывание алиби на случай, если меня обвинят в одном из убийств, совершенных в городе. Если у меня есть желание столкнуть отца в пропасть, можно ли мне доверять в отношении собственной жены и детей?» Зигмунд выяснил, что молодой человек, а ему исполнилось тридцать, недавно потерял тяжело болевшего отца. Именно в этот момент он вспомнил, что желание убить старика появилось у него впервые двадцать четыре года назад. Зигмунд вернул его воспоминания к значительно более раннему возрасту, чем семь лет, когда впервые возникла мысль о смерти отца. Потребовалось несколько месяцев психоанализа и сопоставление со схожими случаями, накопленными в досье, и состояние пациента стало неуклонно улучшаться, навязчивый невроз исчезал. Он благодарил доктора Фрейда за освобождение от «тюремной камеры моей комнаты, где я запирал сам себя последнее время, для того чтобы не совершить убийство незнакомца или члена семьи». Озадачил доктора Фрейда пациент, направленный к нему профессором Нотнагелем. Мужчина вроде бы страдал болезнью спинного мозга. Зигмунд удивлялся: «Почему профессор Нотнагель направил его ко мне? Он знает, что я лечу неврозы». Пациент не поддавался психоаналитическому лечению. Он яростно отрицал, что его расстройство вызвано сексуальной причиной или что у него в молодости были какие–то сексуальные проблемы. Он отклонил свободную ассоциацию, допущение того, чтобы первая мысль привела к последующей и далее к цепочке идей, образов, картин, выводящих на поверхность скрытый материал. Его возражения основывались на том, что в глубине его рассудка нет ничего, так или иначе связанного с его болезнью. Зигмунд был огорчен своей неудачей. Он пошел к профессору Нотнагелю, перед авторитетом и медицинской мудростью которого он преклонялся, рассказал о своей неудаче и высказал мнение, что пациент действительно страдает болезнью спинного мозга. – Будьте добры, держите его под наблюдением, – ответил мягко Нотнагель. – На мой взгляд, это должен быть невроз. Зигмунд недоверчиво покачал головой. – Это странный диагноз, господин профессор, ибо я знаю, что вы не разделяете моих взглядов на этиологию неврозов. Нотнагель сменил тему разговора. – Сколько у вас детей? – Шестеро. Нотнагель восхищенно кивнул головой, а затем спросил: – Девочки или мальчики? – Три и три, они моя гордость и сокровище. – Ну, смотрите! С девочками проще, но воспитание мальчиков сопряжено позднее с трудностями. – Ох нет, господин профессор, мои мальчики ведут себя хорошо. Единственное, что меня тревожит, – это то, что один из них мечтает стать поэтом. Не смейтесь, профессор, вы знаете, как страдают наши поэты от нищеты и безвестности. Зигмунд наблюдал за больным еще несколько дней. Затем увидел, что пациент зря тратит время и деньги. Он сказал ему. – Господин Мансфельд, сожалею, но я ничего не могу сделать для вас. Поищите других советчиков. Мансфельд побледнел, ухватился за ручки кресла. – Нет! – Он потряс головой несколько раз, словно хотел вытряхнуть из нее глупость. – Господин доктор, извините меня. Я лгал вам. Мне было слишком стыдно рассказать вам о сексуальных делах, которыми я занимался в раннюю пору моей жизни. Я готов рассказать теперь правду. Хочу вылечиться. Когда Зигмунд увидел вновь Нотнагеля, он сказал ему: – Вы правы. У господина Мансфельда на самом деле невроз. Мы добились прогресса. Признаки болезни спинного мозга исчезли. Умное лицо Нотнагеля сморщилось в довольной ухмылке. – Я знаю, Мансфельд приходил ко мне. Продолжайте лечение. – Затем он добавил смущенно: – Но, господин доктор, не делайте ложных предположений, будто я обратился в вашу веру. Я все еще не верю в вашу сексуальную этиологию неврозов, как и в вашу новую науку психоанализа. Зигмунд был обескуражен. Профессор Нотнагель разыгрывает его? – Уважаемый профессор, вы ставите меня в тупик такими противоречиями. Вы признали, что у пациента невроз и что с его позвоночником все в порядке. Вы послали его ко мне, зная, что, согласно моим убеждениям, все неврозы имеют сексуальные причины. Когда я пытался отказаться от пациента по той причине, что был убежден в отсутствии невроза, вы советовали продолжать лечение. Теперь же, когда я наполовину вылечил его, вы поздравляете меня с прекрасной работой, а затем говорите мне, что это, как выразился Крафт–Эбинг, всего лишь «научная басня». Нотнагель потер указательным пальцем бородавку на переносице: – Дорогой доктор, барахтаться в путанице – обычная судьба медиков. Разве вы мне не рассказывали о признании профессора Шарко, что он тридцать лет наблюдал некоторые нервные заболевания, не различая их? Дайте мне еще тридцать лет наблюдать за вашей работой, и я прозрею. То, что вы свершили, похоже на фокусы, какие я видел на сельских ярмарках. Ну, как преуспевает ваш сын–поэт?7
На лето 1899 года они решили впервые уехать из Австрии, сняв в Баварии уютную виллу под названием «Риемерлеен». К ней можно было подъехать только со стороны Берхтесгадена: пару километров вверх по холму, затем по каменистой дороге через небольшой сосновый лес к ферме. Это была большая трехэтажная деревянная вилла, увенчанная куполом, с весело раскрашенными балконами, опорой для которых были обструганные бревна. Вилла имела множество окон, выходивших на ферму, долину, реку и Берхтесгаден. Зигмунд занял под свой кабинет комнату на первом этаже с видом на горы, которая утром освещалась солнцем с одной стороны, а после полудня – с другой. Он так поставил легкий письменный стол, чтобы мог, подобно ящерице, жариться на солнце целый день. В качестве пресса для бумаг использовались маска Януса и несколько египетских фигурок, приобретенных в Берхтесгадене и во время поездок в Зальцбург. Зигмунд хотел, чтобы эти предметы всегда были на его столе, рядом с ним как часть каждодневной жизни. Он говорил детям: – Эти вещи радуют меня и напоминают о далеких временах и странах. Рано утром он час прогуливался, а перед сумерками кричал: – Все на свежий воздух! Сельская Бавария утопала в свежей зелени. – Неудивительно, – комментировал Зигмунд, – дождь идет каждый час. Иногда дождь слегка моросил, а иногда обрушивался крупными каплями, сыпавшимися отовсюду. Затем, когда казалось, что ливень зарядил на весь день, темные тучи вдруг рассеивались и выглядывало солнце. После влаги солнце грело лица, как огонь в камине. Когда же семейство Фрейд настраивалось понаслаждаться солнечным днем, полюбоваться зелеными полями и стадами, пасущимися на склонах гор, солнце скрывалось, нависали тучи, заливая огонь потоком дождя. Уже в первые недели Зигмунд и его клан научились жить по–баварски, то есть не обращать внимания на дождь, который был источником процветания и плодородия. Выходя на послеполуденную прогулку, они встречали женщин с соседних ферм в их легких национальных платьях с зонтиками над головой, весело болтающих. Прекращался дождь, складывались зонты, а разговоры не умолкали. Временами, когда нужно было углубиться в возникшую проблему, разгадать значение символа сновидения или речи, интеллектуальную активность во сне, он гулял в одиночку. Его очаровывала баварская природа: бессчетные вариации зелени, освежаемой дождем; деревья с их тонкими стволами, так близко стоящие друг к другу, что между ними трудно пройти; горы, поднимавшиеся на невообразимую высоту; отвесные скалистые утесы, покрытые снегом в июле и августе; кустарники, упрямо ползущие по каменным плитам, цепляющиеся за мельчайшие трещины, чтобы подняться еще выше по альпийским камням. Ему особенно нравилось гулять по узким немощеным дорогам, ведущим к фермам, таким же опрятным и аккуратным снаружи, как и внутри. Стога сена выстраивались в ряд, словно дисциплинированные прусские солдаты. Из–за постоянных дождей сено вывешивали для просушки, как постельное белье. У каждой фермы был особый рисунок сушильных стоек; Зигмунду особенно нравились стойки высотой в рост человека, покрытые охапками сена, напоминающими капюшоны на голове. Выстроенные в ряд, они походили на вдов в церкви, молящихся за усопших. Другие стойки были соединены небольшими перекладинами, образующими свободное пространство посередине стога. С таких прогулок он возвращался посвежевшим, полным впечатлений от увиденного: цветочные ящики на балконах домов и на каждом окне – обилие ярко–красных гераней, голубых колокольчиков и желтых цветов, выделявшихся красочными пятнами на успокаивающей глаз зелени пейзажа. Первая глава его книги «Толкование сновидений» – «Метод толкования снов» – была послана Дойтике в конце июня, до отъезда из Вены. Здесь, в «Риемерлеене», работая интенсивно над книгой, он мог через каждые две недели посылать в набор новую главу. Дойтике быстро возвращал гранки для правки. Зигмунд был счастлив вновь вернуться к своей излюбленной роли ученого, психолога, писателя, создающего науку об интеллекте, основанную на объективных данных. К концу лета, когда начались нежданные баварские дожди и солнце редко радовало своим сиянием, он был занят обдумыванием и написанием последних глав книги, включая объемистое введение «Научная литература о сновидениях». Эти дни принесли ему огромный практический опыт. Прошло четыре года, с тех пор как он занялся анализом сна Эммы Бенн, и за это время он сильно продвинулся в технике выявления скрытого содержания сновидений. Он описал сотни случаев в качестве доказательств, словно сделал сотни срезов мозга и изучил их под микроскопом. В лесу было много грибов, и дети соревновались с отцом в их поиске. Во время прогулок младшие играли на поле с детьми фермеров. Ко дню рождения Марты Зигмунд отправился со всем своим выводком в Берхтесгаден, чтобы каждый из шестерых детей мог купить матери подарок. В конце прогулки они остановились перед лавкой, витрина которой была заставлена женскими шляпками с узкими полями, стиль коих не менялся столетиями. Шляпки были всех оттенков зелени полей и лесов, и каждая имела свое украшавшее ее перо. Многие женщины городка стояли перед витриной, смеялись и обсуждали, отмечая с удовлетворением: шляпка баварской женщины была верхом ее славы. Матильда, которой было почти двенадцать, сказала: – Папа, ты знаешь, мама не будет носить такую шляпу в Вене. – Ах, но она наденет ее на нашем завтрашнем пикнике в день своего рождения. Какая она будет красивая! Чтобы отпраздновать завершение работы, он отправился с семьей на весь день в Берхтесгаден, здесь они пообедали на веранде в горах с видом на реку, зеленую долину и на их собственный «Риемерлеен». Зигмунд тихо сказал: – Это место я полюбил навсегда. Хорошо, что не брали на прогулки зонты: дожди промывают мозги! Дети смеялись над этой фразой, но восьмилетний Оливер тут же добавил: – Для нас это было также лучшее лето, потому что все были счастливы. Мартин, построивший себе в лесу шалаш, в котором писал стихи, сказал: – Отец, мы видели тебя реже в это лето, чем в другие, но мы знали, что между утренней и вечерней прогулками твоя работа хорошо продвигается. – Спасибо, Мартин. А как идет твое творчество, когда у тебя есть личный кабинет? Мартин подумал некоторое время, а затем ответил: – В настоящее время не думаю, чтобы мои так называемые стихи были действительно хорошими. В этот прохладный вечер конца сентября, когда дети заснули, он и Марта сидели на веранде своей спальни, накинув пальто. Он спросил, не хотела ли бы она прочитать завершенное им «Толкование сновидений». – Ты можешь взять весь текст, хотя мне хотелось бы, чтобы ты дождалась исправленной рукописи, тогда ты точно увидела бы, что я намеревался сказать. Однако ты вовсе не обязана читать то, что я написал, я не обижусь, Отложи введение! Если встретится неприятный для тебя материал, не читай его. – Я не считаю написанное тобой, Зиги, неприятным и не собираюсь высказывать свое суждение. Я лишь попытаюсь понять. Если ты теряешь друзей и коллег, если тебе не на кого опереться, то глупо с моей стороны не знать, о чем идет речь. В невежестве нет добродетели, и чего стоит мое сочувствие, если я не знаю, чему симпатизирую? Если на нашем пути встретится буря, я должна знать, что привело меня туда. Я предполагаю, что какая–то часть материала может огорчить меня, но я не цветок, засыхающий при первом дуновении суховея. Вернув в типографию последнюю главу книги, он получил возможность обозреть перспективу работы за год и был ею доволен. Он чувствовал себя опустошенным и уставшим, и все же, упаковывая книги и помогая семье приготовиться к возвращению в Вену, он испытывал удовлетворение. Он знал, что книга ценна как труд первопроходца. Он сказал с гордостью Марте: – Подобное проникновение дается судьбой однажды в жизни. Возвращаясь домой и проезжая через темно–зеленые долины, он подумал, что умрет между шестьдесят первым и шестьдесят вторым годами жизни. Его поразила, но не расстроила точность этой даты. Он думал: «Мне всего сорок три, так что, слава богу, остается достаточный срок». Он связывал с книгой большие надежды, отдавая себе отчет, что она лучшее из всего им написанного. Кроме того, это была первая работа о психоанализе, написанная им самостоятельно. За четыре года после выхода книги «Об истерии» он публиковал статьи в научных журналах, которые были призваны подготовить почву для его новых исследований. – Искренне верю, что Вена достаточно потешалась надо мной как мальчиком для битья и вроде бы устала от этого занятия. Полагаю, что книга будет принята и принесет нам независимость и положение, которого мы так страстно добиваемся. Марта сложила пальцы, словно для молитвы, и произнесла: – Вашими бы устами да мед пить. Дойтике планировал выпустить «Толкование сновидений» в январе 1900 года. Он отпечатал дату «1900» на титульном листе, но поскольку том был готов раньше, то разослал экземпляры газетам и отправил на продажу в Австрию, Германию и Цюрих 4 ноября 1899 года. Было напечатано шестьсот экземпляров, и издатель рассчитывал распродать их к Рождеству и сразу после Нового года приступить ко второму изданию. Результаты оказались катастрофическими. К Новому году было продано всего сто двадцать три экземпляра, причем дюжину купил Флис в Берлине, чтобы раздать друзьям. Дойтике зашел в кабинет Зигмунда, будучи не в состоянии скрыть своего разочарования: ему не удалось покрыть расходы, и было мало надежды, что он сумеет сделать это. – Я просто не понимаю, господин доктор. Для книг о сновидениях существует постоянный рынок. Я издавал их в течение ряда лет. Люди регулярно навещали мою лавку в поисках таких книг, они хотели знать свое будущее и определить, куда вкладывать деньги. Но как бы ни жаждали они, даже привыкшие к таким книгам не покупают вашу, они перелистывают ее, кладут обратно иуходят. Зигмунд почувствовал дурноту в желудке, поняв, что Дойтике не прочитал ни строчки рукописи. В подтверждение худших опасений издателя первый обзор, появившийся 6 января 1900 года в венском журнале «Цайт» за подписью бывшего директора Бургтеатра, отзывался о книге с пренебрежением и насмешкой. В марте в «Обозрении» и в «Винер Фремденблатт» были помещены краткие негативные заметки. Ассистент при университетской психиатрической клинике Рейман настрочил брошюрку, нападавшую на книгу, хотя и признался, что не взял на себя труд прочитать ее. Затем Рейман выступил с лекцией об истерии в переполненной аудитории перед четырьмя сотнями студентов–медиков и заявил: – Вы видите, больные люди склонны избавлять свой рассудок от бремени. Один коллега в этом городе воспользовался этим, чтобы состряпать теорию и таким способом набить свои карманы. Лекция была погребальным звоном для книги. После нее в неделю продавалось не более двух экземпляров. Шесть месяцев о книге не писали ни слова, лишь позже «Берлинер Тагеблатт» удостоил ее несколькими благоприятными строчками. Зигмунд чувствовал себя опустошенным. – «Энтузиазм публики был непередаваемым», – горько острил он, цитируя малопочтенного венского критика, использовавшего такую формулу, когда публика хранила молчание после премьеры новой оперы или симфонии. – Как говорят австрийцы, когда просителю дают от ворот поворот: «Мне показали корзинку!»8
Однажды в конце 1899 года он увидел в своей приемной советницу фрау Гомперц, не предупредившую о своем визите. Седовласая фрау Гомперц содержала уютный, если не изысканный, салон для сослуживцев и студентов ее мужа–филолога. Именно советник Гомперц поручил перевод Джона Стюарта Милля Зигмунду, когда тому было всего двадцать три года. В течение всего этого времени Зигмунда приглашали в заваленную книгами квартиру Гомперцев не только для просмотра переводов на немецкий, выполненных Зигмундом, но и на еженедельные встречи представителей университетского мира и свободных профессий. Однако затем несколько лет Зигмунд не бывал у Гомперцев. – Фрау советница Гомперц, рад вас видеть. Как здоровье советника Гомперца? Надеюсь, все хорошо? – Да, спасибо, господин доктор. Неприятности у меня. Моя семья об этом не знает. – Я всегда к вашим услугам. Любимым хобби советницы Гомперц было вязание на спицах и крючком, но она не могла продолжать такое занятие, и это огорчало ее. Указательный палец на ее правой руке одеревенел, и в нем чувствовалось покалывание; в кисти появилось ощущение боли, усиливавшееся при прикосновении. Когда она сгибала кисть, возникала мимолетная колющая боль, как при электрическом разряде. При осмотре Зигмунд обнаружил онемение в области большого пальца. Он констатировал раздражение срединного нерва, наложил лубок на правую кисть и запретил работать этой рукой несколько недель. – Ничего серьезного, всего лишь уплотнение нерва. Через месяц все будет в норме. Женщина вздохнула с облегчением. – Я опасалась, что теряю управление пальцами и рукой… Возможно, это начало паралича. – Ничего подобного, у вас некое подобие растяжения. Приходите через неделю, и мы поменяем повязку. Он освободил ее от лубка через три недели. Когда она попросила счет, он отказался представить его, сказав: – Я в долгу перед семьей Гомперц. Для меня честь помочь вам. Советник Гомперц был доволен тем, как Зигмунд отнесся к его жене; вместе с благодарственным письмом пришло приглашение на ужин в субботу на Рейзнерштрассе. Когда Марта и Зигмунд прошли в библиотеку, наполненную предметами искусства, редкими книгами, рукописями, на почетном месте, на кофейном столике около софы, они увидели «Толкование сновидений». Советник Гомперц специально ездил в лавку Дойтике, чтобы осведомиться о последней книге доктора Зигмунда Фрейда, что было знаком внимания со стороны ученого, известного уже тридцать пять лет своими классическими работами. Огорчала родственница Брейера фрейлейн Цесси, которую он лечил уже несколько лет. Он не мог избавить ее от страха оказаться запертой в помещении без воздуха и от страха перед открытым пространством; от чувства потливости рук, неотвратимого бедствия; от ощущения надвигающегося обморока; от неспособности произнести слово, когда этого хотелось. Она не могла рассказать доктору Фрейду о том, что думала. Свободные ассоциации у нее не получались. Все усилия Зигмунда вернуть ее к эдипову комплексу, к генитальным и анальным стадиям были безуспешными. Несколько раз он расставался с ней, но она неизменно возвращалась с запиской от Брейера: «Будьте добры, продолжите». Поскольку фрейлейн Цесси не располагала средствами, чтобы оплачивать лечение, он считал себя обязанным не отказывать ей. К марту психоаналитические сеансы занимали ежедневно двенадцать часов, не считая вечернего сеанса с фрейлейн Цесси. Заработок Зигмунда достигал пятисот гульденов в неделю, и появилась возможность восстановить счет в банке, а также отказаться от работы в санатории летом, о которой пришлось думать после бесславного провала «Толкования сновидений» и сокращения числа пациентов. Он зачастил на игру в карты в субботние вечера, возобновил чтение лекций в обществе «Бнай Брит», а также свой курс в университете. Впервые за много месяцев он принялся собирать материал для запланированной «Психопатологии обыденной жизни». Его раны зарубцевались, хотя он говорил Минне, что похвалы в адрес «Толкования сновидений» были столь же жалкими, как милостыня нищему. Он успокаивал себя рассуждениями, что его принимают плохо, потому что он опережает свое время, но вместе с тем признавал опасность такой формы мании величия. И все же поток клеветы, обрушившейся на него, яростные нападки сказывались болезненно на его характере. Человек, написавший о сексуальной этиологии неврозов, детской сексуальности и теперь об открытии комплекса Эдипа, объявлялся «мерзким», «гнусным», «злостным осквернителем материнства», «развратителем невинного детства», «извращенцем, страдающим гниением мозга». В медицинских кругах ходило клеветническое утверждение, переданное ему Оскаром Рие: «Обычно держат мусорное ведро у задней двери. Но Фрейд пытается поставить его со всем вонючим содержанием посреди жилой комнаты. Хуже того, теперь он впихивает его под одеяло в постели каждого и позволяет вони проникнуть в детскую комнату». Он понимал, что многое в злостном отторжении его работы вызвано подавлением и страхом, нежеланием смотреть в глаза эдипову комплексу, раскрыть подсознание, понять, что происходит с характером человека под влиянием детского опыта, психических нагрузок и травм, понять, сколь многое из внешне рациональной жизни контролируется подсознанием. Большинство людей не хотело сталкиваться с этим неистовым демоном. Нужно было отважно взглянуть в лицо новой науке о человеческом разуме и человеческой природе. Он не стал защищать себя перед общественным мнением, ибо считал, что наука – это не ринг для поединка борцов. Он говорил Марте: – Они думают, что я нападаю на них! На каждого, лично. Словно я обвиняю каждого в ужасных преступлениях, а я говорю об общем в человеческой природе. Они не хотят признать эти качества не только в самих себе, но и в человечестве. Они предпочитают, чтобы эти истины были погребены любым способом, даже под кучей навоза или чугунной плитой. Большая часть общественных сил старается придать романтический облик нашим инстинктам или держать их вне досягаемости познания; этой цели служат религия, система образования, нравы и мифы, философия правящих классов, правительственные ведомства вроде тех, что были во времена Меттерниха в Австрии, когда он выступал в роли цензора всего, что публиковалось в книгах, журналах или газетах, ставилось на сцене или обсуждалось на встречах в узком кругу. Лишь самые невежественные не знают, что происходит в подсознании; другие же догадываются, что действует скрытый рассудок, вторая натура в подавленном состоянии. В этом смысле они ощущают, что я прав, и, чем сильнее подозрение в моей правоте, тем ожесточеннее нападки на меня. Я опасен не потому, что лгу, а потому, что являюсь глашатаем истины. Разве не в этом признался профессор Мейнерт: «Я больше их всех подвержен мужской истерии». В медицинских журналах не было опубликовано ни слова о работе Зигмунда. В глубине души он чувствовал себя обкраденным, однако не показывал своих чувств: бывал каждый день у парикмахера, сшил у портного пару костюмов, вместе с Мартой прослушал оперу «Дон Жуан» и лекцию датского критика Георга Брандеса о Шекспире. Марте так понравилась лекция Брандеса, что она убедила Зигмунда послать ему в гостиницу экземпляр «Толкования сновидений». Зигмунд завез книгу сам, но не получил известия от Брандеса. Он возобновил прогулки в воскресенье в Пратере с детьми, матерью и Дольфи. Четыре года самоанализа не подготовили его к тому, чтобы отнестись с безразличием к выволочке по поводу «Толкования сновидений», но позволили сохранять эмоциональное здоровье, и он оставался хорошим сыном, хорошим мужем, хорошим отцом и хорошим врачом. Он успешно вылечил гомосексуалиста, находившегося в состоянии такой острой истерии, что с его уст каждые несколько минут слетало слово «самоубийство». Молодой человек был уволен с ответственного поста за неправильное поведение, уединился, отказываясь посещать концерты и театральные спектакли, доставлявшие ему радость в жизни. Он мучился сердцебиениями, приступами паралича бедренного нерва… Вместо того чтобы любить свою мать, а затем жену, этот молодой человек сам хотел быть матерью. Он, подобно детям, считал, что они выходят из заднего прохода. Ему хотелось, чтобы его оплодотворили через задний проход. В отношениях между гомосексуалистами он играл женскую роль. Он допускал оральные сношения, ибо давно считал рот половым органом; ему казалось, будто мать забеременела, проглотив что–то. Во время орального сношения он воображал себя то матерью, то ребенком, сосущим напряженный сосок матери, из которого выходит дающее жизнь молоко. В течение нескольких месяцев Зигмунд ослабил проявления истерии, дав возможность пациенту освободиться от комплекса Эдипа; тот осознал, что он хотел наказать отца за слабость и подчинение сильной, агрессивной матери. Пациент нашел новую работу и закрепился на ней. Покидая приемную Зигмунда в последний раз, он спокойно сказал: – Благодарю вас, господин доктор, за оказанную мне помощь. Теперь я смогу продолжать жить. Я найду постоянного партнера. Видите ли, теперь я понимаю, как и почему стал гомосексуалистом, и не вижу в этом трагического. Я не смогу полюбить женщину, ибо в моей основе – женское начало. Но благодаря вам я могу теперь быть ответственным гражданином, вновь зарабатывать на жизнь и наслаждаться ею. Вы вылечили меня, хотя мне не ясно, хотели ли вы именно такого излечения. Зигмунд сам не был уверен: если его терапия может ослабить последствия гомосексуализма, то почему она не может устранить само извращение? Лично он считал, что преуспел наполовину. Однако иным было мнение дяди молодого человека, явившегося на следующий день с пунцовым от ярости лицом. – Что вы сделали с моим племянником? Вы оправдываете его позорные действия. Он был на грани самоубийства до визита к вам, лучше бы он умер, чем навлекать позор на семью. Зигмунд сухо ответил: – Я так не думаю. У меня был пациент–гомосексуалист два года назад, который покончил с собой. Это был тяжкий удар для семьи и друзей. Ваш племянник имеет отклонения, но теперь он физически и эмоционально здоров. Я убежден, что он будет благоразумным. Не думаю, что его удел – наложить на себя руки; смерть приходит к нам достаточно рано. Постарайтесь понять его положение и дайте ему возможность спокойно жить. С вашей стороны это было бы милосердным. Дядя стоял бледный, растерянный. – Господин доктор, извините меня. Вы не представляете, какую горькую пилюлю мы должны проглотить: наша семья – одна из древнейших в Австро–Венгерской империи. Но вы правы, самоубийство также позор. Я постараюсь успокоить своего брата, который почти потерял рассудок от горя. Его единственный сын… кончает, как… как…9
К Пасхе сократилась нагрузка от частной практики, оставив приятное чувство: несколько его пациентов поправились настолько, что можно было прекратить курс лечения. Патогенетический материал одного пациента, ставшего импотентом на почве расстроенной психики, раскрыл кровосмесительную страсть к сестре. Второй мучился глубоким страхом перед кастрацией, боялся отсечения пениса и мошонки отцом, узнавшим об эдиповой привязанности сына к матери. Этот страх довел его до полового бессилия. После многих неудач, приводивших его в отчаяние, он установил наконец деловые отношения с фрейлейн Цесси и обнаружил, что использовавшиеся им в других случаях ключи подходят к ее неврозу. Во время сеанса, когда Зигмунд сделал это открытие, фрейлейн Цесси говорила о матери, и только о матери. Выждав, Зигмунд сказал ей: – Послушайте, то, что вы говорите, не имеет ничего общего с ситуацией, которой мы занимаемся все эти годы. Мы говорили о том, что вы желали, чтобы вас полюбили, чтобы вы излечились, имели нормальные интимные отношения с вашим мужем, чтобы у вас были дом и дети. Теперь все это кажется не относящимся к делу! Чего вам по–настоящему хочется, так это быть ребенком в полутора–двухлетнем возрасте, чтобы сосать материнскую грудь, вернуться к периоду, на котором вы замкнулись и в котором жили двадцать два года. Лицо Цесси преобразилось. Она почувствовала просветление. Ей не нужно больше что–либо скрывать. В одно мгновение они сообща нашли истину. Открытие стало началом ее исцеления. Он мог теперь убедить ее, что вполне возможно перейти в нормальную генитальную стадию, что она сможет осуществлять некоторые из своих оральных потребностей естественным путем. Ее сковывала девственность, ныне же ей нужно половое удовлетворение, и жизнь станет полноценной. К апрелю он понял, что ее положение изменилось и что четыре года работы с ней не прошли даром: исчезли боязнь закрытого помещения и открытого пространства, потери голоса, страх раскрыться перед другими, все воспоминания, ставшие в ее подсознании ситуациями тревоги; симптомы ослабли, а затем исчезли вообще. В середине мая она сказала: – Вы свершили для меня чудо. На следующий день она рассказала Зигмунду, что ходила к Йозефу Брейеру и сообщила ему, что отныне она чувствует себя хорошо, что она вылечилась благодаря доктору Фрейду, освободившему ее от подавленного сознания, внушившему, что у нее есть половой орган, что этот орган может приносить удовольствие, а также чувство физического и духовного удовлетворения. Когда она кончила рассказывать доктору Брейеру об этом, тот всплеснул руками и повторил несколько раз: – Итак, он прав в конце концов! В это же самое время германский издатель Левенфельд, выпускавший в виде серии сборник «Новейшие проблемы нервного и духовного существования», попросил Зигмунда подготовить сокращенный вариант «Толкования сновидений» объемом в тридцать пять страниц, который будет называться «О сновидениях». Зигмунд был доволен: это было первое признание медицинским миром его книги о сновидениях. Медицинский год закончился достаточно хорошо для него, и он мог вновь арендовать виллу в Бельвю, где пять лет назад впервые проанализировал сон Эммы Бенн, ставший отправным в его работе над толкованием сновидений. Арендная плата была умеренной, он мог также сэкономить на поездках, ибо Бельвю в Винервальде под Каленбергом находился всего в часе езды от Берггассе. Там было прохладно, вокруг раскинулись прекрасные леса. Это было своего рода возвращение домой. Зигмунд писал в шутку Флису: «Думаешь ли ты, что когда–нибудь на доме повесят мраморную доску с такими словами: «В этом доме 24 июля 1895 года доктору Зигмунду Фрейду открылся секрет сновидений»?» В университете существовал неписаный обычай, основанный на представлении, что трое образуют коллегию. За год до этого, весной 1899 года, Зигмунд объявил курс «Психология сновидений», но записался всего лишь один студент, ожидался второй. Зигмунду предстояло написать значительный по объему материал для «Толкования сновидений». «Могу ли я позволить себе читать четырехмесячный курс одному студенту?» – спрашивал он себя. Теперь же, летом 1900 года, через шесть месяцев после опубликования «Толкования сновидений», на курсы записались четыре слушателя и в их числе два частнопрактикующих врача. Доктор Макс Кахане и Рудольф Рейтлер поступили в медицинскую школу Венского университета в 1883 году, получили дипломы врачей одновременно в 1889 году и с этого времени поддерживали дружбу. Они не горели желанием войти в академическую жизнь, никто из них не стремился стать доцентом. Оба занялись частной практикой: Кахане как физиотерапевт в санатории, хотя и планировал открыть в партнерстве с радиологом Институт физиотерапии, который первым применит рентгеновские лучи и высокочастотные электроразряды; Рейтлер выступал в качестве практика по общим болезням, пользуясь удачным началом, поскольку его отец, вице–директор Императорской Северо–Западной железной дороги, имел круг влиятельных друзей; он также намеревался открыть Институт терапии на Доротеергассе и лечить пациентов горячим сухим воздухом. Кахане, еврей, окончил в Леопольдштадте ту же гимназию, что и Зигмунд. Католик Рейтлер был выпускником престижной академической гимназии. Оба врача договорились слушать курс вместе. Зигмунд был доволен: впервые, после того как он стал парией, его курсы посещали практикующие врачи. Рейтлер и Кахане знали о том, что он подвергается остракизму, но это не отпугивало их. Рейтлер никогда не заботился о вступлении в Общество врачей. Работа Зигмунда с его новым подходом, свежим началом, привлекательным и ценным, заинтриговала его. Зигмунд никогда не встречался с Рейтлером, а Кахане знал по Институту Кассовица, где тот был на правах добровольца врачом по детским болезням и опубликовал монографии по пневмонии. Два других слушателя не проявляли особого интереса. Они реагировали зримо только тогда, когда он преподнес им предметный урок того, что Зигмунд называл «слоговой химией». Он рассказал им о молодом пациенте, которому снилось, будто «некий мужчина работал у него допоздна, чтобы исправить его домашний телефон. Когда мужчина ушел, телефон продолжал звонить, не постоянно, а прерывисто. Слуга пациента вернул мужчину, и тот сказал: «Странно, что люди, являющиеся тутельрайн, не способны, как правило, обращаться с вещами вроде телефона». Сновидение казалось бессмысленным, пока пациент не связал его с ранним случаем. Еще мальчиком однажды он в полусонном состоянии пролил стакан воды на пол. Телефонный провод намок, это вызвало прерывистые звонки, мешавшие отцу уснуть. Слово «тутельрайн» отражало три различных направления хода мысли во сне: тутель обозначало «опекунство» (присутствовал отец); тютте – вульгарное название женской груди (мать отсутствовала); раин значит «чистый»; это слово, соединенное с первой частью формулы «комнатный телефон», дает понятие о порядке, который нарушил сын, проливший воду на пол и вызвавший звонки, мешавшие отцу заснуть. После лекции один из студентов подошел к трибуне и спросил: – Доцент доктор Фрейд, можно задать вопрос? – Разумеется. – Почему видящий сновидения кажется таким хитроумным и занимательным? – Это близко к обыгрыванию слогов в шутках, например, в такой: как дешевле всего получить серебро? Вы идете по аллее серебристых тополей и требуете, чтобы не топали. Когда не топают, отпадает слово «тополь», остается лишь серебристость. Студент улыбнулся, признав, что не слышал о такой игре слов. Зигмунд продолжал. – Сновидения становятся хитроумными и занимательными, потому что прямой и простой путь к их проявлению закрыт, они вынуждены искать обходные. В моей сознательной жизни я не остроумен, но если вы прочитаете «Толкование сновидений», то обнаружите, что некоторые мои сновидения были весьма странными. И не потому, что во сне высвобождается мой подавленный талант, а в силу особых психологических условий, в которых формируется сон. Об этом будет сказано в курсе лекций, я покажу, как часто игра слов и шутки используются подсознанием, чтобы обойти сдерживающего цензора. Он сильный, но его можно обмануть с помощью юмора. Макс Кахане, казавшийся умнее своего коллеги, был менее открытым к фрейдовской психологии подсознания, чем Рейтлер, посетивший книжную лавку Дойтике. Купив книги «Об истерии» и «Толкование сновидений», он жадно прочитал их. В один из вечеров Зигмунд пригласил Кахане к себе домой на кофе; Марта познакомилась с ним в то время, когда Зигмунд работал у Кассовица. Шагая под теплым весенним дождем, от которого их защищал зонт Кахане, они разговорились о последних достижениях в неврологии, а их было обескураживающе мало. Зигмунд не смог удержаться от попытки завербовать в число сторонников человека на десять лет его моложе. – Макс, не ошибусь ли я, сказав, что у тебя все еще остаются оговорки в отношении психологии подсознания? – Не то чтобы я не согласен; я нахожу много истины в ваших словах и впитываю новое для себя. – Но ничто из изложенного мною не разуверило тебя в электрошоках как инструменте терапии? – Нет. – Твоя машина бесполезна, если не считать влияния убеждения, ведь электрический ток не достигает подсознания, иного пути к излечению нет. – Зиг, я не думаю, что твой подход исключает мой. Я знаю, что могу помочь пациентам физиотерапией; я вижу, как они поправляются в моем санатории. Мы помогаем им преодолеть подавленное состояние и мелкие тревоги, улучшить аппетит; и они прибавляют в весе. Мы возрождаем их интерес к жизни. Я должен считаться с такими результатами. Зигмунд изучал лицо Кахане, исчерченное глубокими горизонтальными морщинами на лбу и вертикальными на щеках. – Разумеется, должен. Но как вы поступаете с действительно больным пациентом? – Даже в некоторых таких случаях моя физиотерапия служит тонизирующим средством. – Тонизирующими средствами называют средства, укрепляющие силы. Как только действие тоника прекращается, пациент возвращается к исходному состоянию. Психоанализ ориентируется на возможное выздоровление. – Зигмунд покачал головой в знак собственного осуждения, когда они стали спускаться по крутому склону к Берггассе, 19. – Прости меня, я забивал одно твое ухо часовой лекцией, а затем оглушал другое во время нашей прогулки домой. К концу второго месяца лекций Рудольф Рейтлер, тощий, со светлой кожей и светлыми волосами, весьма сдержанный человек, полностью перешел на сторону Зигмунда. После часовой лекции о роли символизма в психоанализе Рейтлер выждал, когда все уйдут, а затем сказал: – Господин доктор, я восхищен темой символизма. Припоминая некоторых моих пациентов, которым я не смог помочь, я осознаю, что некоторые из их жалоб строились на символах такого же рода, о которых вы говорили, касаясь Цецилии. Вчера вечером я прочитал написанное о ней в книге «Об истерии». Сегодняшняя лекция мне все разъяснила. С вашего разрешения, я хотел бы продолжать изучение в этой области. – Конечно, господин доктор. Вы не свободны сейчас? Может быть, пойдем ко мне? Фрау Фрейд даст нам что–нибудь выпить, а затем мы сможем побеседовать.10
Лето выдалось знойным и скучным. Чемоданы и сундуки венцев были перевезены в прохладные горы и к курортным озерам по всей Австрии. Жара царила на опустевших улицах; раскаленный воздух в первые дни августа был особенно изнуряющим. Зигмунд условился встретиться с Вильгельмом Флисом у Ахензее, теплого озера в Тироле, как они говорили, для трехдневного «конгресса». В первое утро после прибытия друзья отправились пешком по тропам, поднимавшимся на тысячи метров от озера. Они представляли контрастную пару: Зигмунд надел высокие ботинки со шнуровкой, шерстяные гольфы до колен, короткие штаны, жилет и пиджак поверх рубашки с полосатым воротником, альпийскую шляпу с серой лентой, а в руках держал внушительную трость. Церемонный в Берлине, Вильгельм ударился в другую крайность: на нем были поношенные горные ботинки, старые кожаные штаны на потрепанных зеленых помочах, выгоревшая зеленая рубашка и в дополнение к этому зеленые гольфы из грубой шерсти. В поношенной одежде горца Вильгельм выглядел неважно. В последние два года он нередко болел и перенес серьезную операцию. Они прошли через пропитанные запахом смолы сосновые леса, нагретые южным ветром. Внизу на полях все еще торчали стебли кукурузы, а их румяные коричневатые початки были уложены под навесами крестьянских домов, ярко выделявшихся своими красками по соседству с голубым озером. Над ними высились хребты Карвенделя и Зоннвенда, поднимавшиеся от озера, протянувшегося на десяток километров. Неожиданно Вильгельм остановился, сильно сощурил глаза, что было необычно для него, и сказал хриплым голосом: – Знаешь, Зиг, ты водил меня за нос с так называемыми излечениями. Зигмунд застыл на месте. То, что ему казалось лишь лесной тишиной, взорвалось множеством звуков: лесоруб в отдалении; птицы, щебечущие на ветках; скот, мычащий в долине; гудки маленького парохода на озере. Он никогда не видел Вильгельма таким замкнувшимся, никогда тот не разговаривал с ним таким тоном. Он напряг все силы, стараясь не выдать своих эмоций. – Что ты имеешь в виду, Вильгельм? – Якобы читающий мысли других в действительности не постигает ничего, он лишь проецирует на них собственные. Зигмунд был ошеломлен. – Тогда ты должен считать, что мой метод ничего не стоит! Но ты ведь хорошо знаешь, каким образом достигает целей психоанализ. У тебя сотни писем, в которых я обрисовал выявление расстройства и описал шаг за шагом переход от болезни… – Я полагаю, что твой метод вовсе не лечение. – Чем же он тогда является? – Теперь он был обозлен, в его голосе звучала резкая нотка. – Я придаю безграничное значение циклическому характеру психики. Твои пациенты, как и другие человеческие существа, не свободны от их собственного двадцатитрехдневного и двадцативосьмидневного циклов. Твой метод всего лишь «помощник мамы». Ни возврат болезни, ни улучшение не должны приписываться психоанализу. Они результат периодичности в великом изменении энергии, в способности решать задачи или уклоняться от них. Ты видел мои таблицы… Зигмунд был возмущен; он сжал правую руку в кулак, стараясь не выдать себя. – После того как ты согласился практически со всеми выводами, к которым я пришел, после поощрений продолжать исследования, после поздравлений с успехами ты сейчас перечеркиваешь все, во что ты помогал мне верить последние десять лет. Флис приподнял левую бровь как бы с удивлением и требовательно спросил: – Не имею ли я дело с личной враждой с твоей стороны? – Можешь считать и так, Вильгельм. Разве ты не замечаешь, что ты сделал? Ты выбросил за борт всю мою этиологию неврозов и психоанализ как методы лечения душевных и эмоциональных расстройств. Короче говоря, ты выбросил в бездну Ахензее все, что я сделал. Как, по–твоему, я должен это принять? – Как ученый, сталкивающийся с неприятной, но неотвратимой истиной. Предлагаю, чтобы ты изучил мотивы твоего отчаяния. Помнишь, как однажды в Вене ты сказал: «Хорошо, что мы друзья. Я умру от зависти, если услышу, что кто–то другой в Берлине делает такие открытия, а не ты»? – Да, помню; и многие твои открытия замечательные. Но какое отношение имеет это к нашему разговору? – Потому что я, как ты назвал меня, Кеплер в биологии. – Он запустил руку в карман рубашки и вытащил стопку бумаги с колонками нацарапанных на ней цифр. – У меня есть теперь доказательства. Если бы ты не вел себя так неприязненно, я мог бы показать их тебе. Все душевные и эмоциональные болезни заключены в этих формулах. Я только что закончил их составление. То, что ты описываешь как тревоги, подавление, эдипов комплекс, борьбу подсознательного и сознательного, определяется не сексуальной этиологией, а математикой. Когда расстроена психика, то причина в нарушении цикла: различные половые органы той и другой стороны тела борются друг против друга… Зигмунд сначала вспотел под теплой рубашкой, жилетом и пиджаком, затем продрог, когда пот остыл в прохладном лесу. Он стиснул зубы и не мог вымолвить слова в свою защиту. Вильгельм не обращал на него внимания, он распалился, его глаза лихорадочно блестели: – Почему тот или иной мужчина, та или иная женщина более сексуальны, чем другие? Периодичность! Почему некоторые рвутся к сексуальности, жаждут ее большую часть жизни, а другие шарахаются от нее? Периодичное! Зиг, как практикующий врач, ты должен начать работать с моими новыми таблицами. Иди туда, куда ведет математика! Когда она укажет тебе положительное лечение, ты сможешь вывести индивида из подавленного состояния, но когда таблицы указывают обратное… – Думаю, – сказал с грустью Зигмунд, глядя на Флиса и тем не менее не видя его из–за смятения мыслей и чувств, – нам лучше вернуться в гостиницу. Что бы я ни сказал, лишено смысла. Боюсь, что только обострю ситуацию. Я не могу понять, что произошло с тобой… Флис резко прервал его: – Не о чем больше говорить. Они вернулись молча. Флис упаковал свои вещи и уехал. «Конгресс» закончился. Он прочитал в фармакологии, что на каждый яд есть свое противоядие. Отторжение его работы Вильгельмом Флисом было ядом; дело Доры Гизль, ожидавшее его в Вене, стало противоядием. Зигмунд лечил отца Доры шесть лет назад. Процветающий промышленник привел на Берггассе сопротивлявшуюся дочь. Доре Гизль было восемнадцать лет. Ее отец до женитьбы заболел венерической болезнью, вызвавшей органические последствия: отслоение сетчатки глаза, частичный паралич. После серии процедур Зигмунд почти вылечил его от сифилиса. Но когда Доре было десять лет, она подслушала разговор в спальне родителей, из которого поняла, что ее отец страдал венерическим заболеванием. Открытие вызвало шок у ребенка, и в результате у нее возникла острая тревога за собственное здоровье. К двенадцати годам появились мигрени, затем у нее начался нервный кашель, к моменту прихода на Берггассе она потеряла голос. Дора была высокой хорошо сложенной девушкой с пышной копной каштановых волос и карими глазами, в которых мелькали искорки цинизма. Пройдя через дюжину врачей, она привыкла высмеивать их неудачи. Ее иронический смех не поднимал состояние ее духа; она стала ссориться с родителями, оставляла на столе записки с угрозой самоубийства, пыталась перерезать себе вены на руке, а когда отец упрекнул ее, она упала к его ногам в глубоком обмороке. Поверхностные воспоминания Доры касались отношений семьи с супругами Краус. Дора, презиравшая свою мать как «фанатичку домашней уборки», давно обожала фрау Краус, очаровательную женщину, во всяком случае по мнению отца Доры, ибо ряд лет он поддерживал интимную связь с фрау Краус. Они частенько совершали длительные поездки или встречались в местах, куда выезжал по делам отец Доры. Дора узнала об этой любовной связи несколько лет назад; стало известно это также господину Краусу, который не предпринял ничего, чтобы порвать эту связь. Доре нравился господин Краус, отвечавший ей взаимностью; когда ей было четырнадцать лет, господин Краус пригласил свою жену и Дору к себе в контору, из окна которой была хорошо видна религиозная церемония. Дора пошла в контору и там узнала, что фрау Краус осталась дома, а все служащие освобождены от работы для участия в фестивале. Краус попросил Дору подождать его у двери на верхний этаж, а когда вернулся, прижал к себе девушку и страстно поцеловал в губы. Дора клялась доктору Фрейду, что она почувствовала отвращение, вырвалась и выбежала на улицу. Недавно, когда Дора и ее отец были у четы Краус в их сельском домике, она пошла на прогулку с Краусом и он открыто сделал ей нескромное предложение. Дора рассказала матери, требуя, чтобы отец порвал все связи с семьей Краус. Отец Доры обратился к Краусу, но тот отрицал свой проступок и утверждал, будто Дора увлеклась сексом, прочитав «Физиологию любви» Мантегаццы и другие книги на тему любви, которые сумела найти в доме Крауса. Краус описал свои так называемые сексуальные приставания как фантазию Доры. После этого ее здоровье ухудшилось. Зигмунд знал, что травмы не могут вызвать расстройства, если они не связаны с пережитым в детские годы. Дора жаловалась, что не может освободиться от чувства тяжести в верхней части тела, возникшего в результате объятий господина Крауса. – Дора, может быть, вы подавили воспоминание о том, что когда–то вас расстроило или напугало, и перенесли это пережитое с нижней части тела в верхнюю, о которой вам легче говорить? – Что вы имеете в виду, господин доктор? – Что, когда господин Краус страстно обнимал вас, вы почувствовали не только его губы, но и прикосновение его члена к вашему телу? – Это омерзительно. – Слово «омерзительно» передает моральное суждение. Мы же ищем правду обо всем том, что вызвало у вас, умной и привлекательной молодой женщины, меланхолию, желание уйти от общества, ссоры с родителями, попытку самоубийства. Не следует ли подумать, что вы стараетесь забыть то, что вы чувствовали, когда вас обнял господин Краус? – Не могу согласиться, не могу и отрицать. В течение следующей недели навязчивые мысли Доры вращались вокруг упреков: в адрес отца, за то что он лжет и неискренен, продолжая любовную связь с фрау Краус; в адрес фрау Краус, которая проводит большую часть времени в постели, как инвалид, когда ее муж дома, но скачет по всей Европе, чтобы встретиться с ее отцом при малейшей возможности; в адрес господина Крауса за две его попытки соблазнить ее; в адрес брата, ставшего на сторону матери в семейных спорах; в адрес матери, интерес которой к здоровью Доры ограничивается постоянной уборкой. По собственному опыту Зигмунд знал, что множественность упреков, направляемых пациентом в адрес других, свидетельствует о его приверженности самоупрекам. Упреки Доры в адрес отца, не принявшего всерьез аморальные предложения со стороны господина Крауса, Зигмунд расшифровал как подавленный упрек самой себе, ибо она считала себя соучастницей связи ее отца, но не придавала ей значения из–за опасения разрушить дружбу между двумя семьями. Утром в понедельник, когда начался новый недельный сеанс, Зигмунд сказал: – Вы говорили мне, что ваш приступ кашля длился от трех до шести недель. Когда господин Краус выезжал по делам, сколько времени отнимала обычно поездка? Дора покраснела: – От трех до шести недель. – Тогда разве вы не видите, Дора, что своей болезнью вы доказываете свою любовь к господину Краусу, подобно тому как, когда возвращается господин Краус, его жена укрывается в постели от своих супружеских обязанностей? Ваша нынешняя болезнь в такой же мере мотивирована, вы надеетесь выиграть что–то за ее счет. – В чем дело? Вы принимаете меня за дуру? – Нет, Дора, вы проницательная девушка. Но даже самые умные из нас с трудом понимают собственные мотивации. Вы стараетесь добиться разрыва связи между вашим отцом и фрау Краус. Вы уже пытались это сделать. Если вы сможете убедить вашего отца отказаться от фрау Краус, ссылаясь на свое нездоровье, тогда вы победили. Поскольку вы сами показали, что ваша мать и отец не имели интимных отношений уже несколько лет, почему вы называете отношения вашего отца с фрау Краус «обычной любовной связью»? – Она любит моего отца только потому, что он состоятельный человек. – Вы имеете в виду, что он дает ей деньги, делает подарки? – Да. Она живет намного лучше и покупает более дорогие вещи, чем может позволить себе ее муж. – Вы уверены, что не хотели на самом деле сказать совсем противоположное? Что ваш отец – человек без средств, то есть импотент? Дору не взволновало это откровение. Она ответила: – Да, я давно хотела, чтобы мой отец был импотентом, чтобы не могло быть интимных отношений между ними. Однако я знаю, что существует не один способ получить сексуальное удовлетворение. – Вы имеете в виду удовлетворение через рот? Не так давно вы мне сказали, что сосали свой большой палец в возрасте до четырех или пяти лет. Каков источник ваших знаний, Дора? Не из «Физиологии любви» Манте–гаццы? – Честно, не знаю, господин доктор. – Думая о других средствах сексуального удовлетворения, возможно, вы имели в виду те части вашего тела, которые так часто приходят в раздражение: горло, полость рта? Ваш кашель, быть может, есть средство самовыражения в сексуальном плане? Ваше подсознание концентрирует стимуляцию именно там, а не в ваших половых органах? Кашель исчез. Через несколько дней она прокомментировала: – Сначала меня встревожили и оскорбили употреблявшиеся вами слова для обозначения частей человеческого тела, а вы говорили о них как врач… – Вы имеете в виду то лицемерие, с которым говорят о них в обществе? – Да. Уверена, что некоторые будут возмущены, услышав кое–что из нашей беседы, но ваше обращение во много раз порядочнее, чем разговоры, которые я слышала среди друзей моего отца и друзей господина Крауса. В беседах Дора упорно возвращалась к фразе: – Не могу простить моему отцу его любовные делишки. Не могу простить и фрау Краус. – Вы ведете себя как ревнивая жена и понимаете это. Вы подменяете собой свою мать. И в своей фантазии вы ставите себя также на место фрау Краус. Это означает, что в вас воплотились две женщины, одну ваш отец любил изначально, другую любит сейчас. Все это говорит о том, что вы также влюблены в вашего отца, и это является причиной вашего внутреннего смятения. – И не подумаю согласиться с этим. Через несколько недель Дора рассказала о виденном ею сне. – Горел дом. Мой отец разбудил меня. Я быстро оделась. Мать хотела задержаться, чтобы забрать свою шкатулку с драгоценностями, но отец сказал: «Не допущу, чтобы я и мои дети сгорели из–за твоей шкатулки». Мы побежали вниз, и, когда оказались внизу, я проснулась. – Дора, в «Толковании сновидений» я утверждаю, что «каждый сон – это желание, представленное как осуществившееся, и лишь подсознательное желание обладает силой, необходимой для формирования сновидения». Вернемся к драгоценностям. Как вы относитесь к шкатулке с драгоценностями, которую хотела спасти ваша мать? – Я получила дорогую шкатулку как подарок от господина Крауса. – Вам известно, что «шкатулка» – это мещанское название женских гениталий? – Ожидала, что вы скажете это. – Вы намекаете, что заранее знали правду. Знали, что ваше сновидение говорило вам: «Моя шкатулка в опасности. Если я ее потеряю, то виноват отец». Поэтому вы перевернули все в своем сне и представили так, будто ваш отец спасает вас, а не шкатулку матери. Вы спрашивали, почему в ваших снах появилась ваша мать, когда она не присутствовала у Краусов во время инцидента у озера… – Моя мать не могла появиться в этом сне. – Ах, но она участвовала, поскольку инцидент связан с вашим детством. В отношении браслета, от которого отказалась ваша мать, вы дали ясно понять, что готовы принять то, от чего отказалась она. Теперь посмотрим под иным углом и заменим слово «принять» словом «дать». Здесь ваше желание дать отцу то, чего не дает ему ваша мать. Параллельная мысль: в сновидении господин Краус занимает место отца: он дает вам шкатулку, ив ответ вы готовы дать ему свою шкатулку. Дальше ваша мать заменена фрау Краус, находящейся в доме; согласно сновидению, вы готовы дать господину Краусу то, что ему не дает его жена. Таковы чувства, которые вы подавляете настолько динамично, что цензор вынужден переворачивать вверх ногами элементы вашего сновидения. Сновидение доказывает, что вы взываете к эдиповой любви своего отца, дабы уберечься от любви к господину Краусу. Дора, взгляните повнимательнее на свои чувства: вы не боитесь господина Крауса, не так ли? Вы боитесь себя, боитесь, что поддадитесь соблазну. Смертный не может вечно скрывать секрета. Дора глубоко вздохнула. – Не хочу больше секретов, господин доктор. Я рада, что все стало явным. Из всех врачей, кто мною занимался, вы поняли меня. Я презирала других, потому что они не смогли разгадать мои тайны. Быть может, вы меня освободили. – Быть может…– Но он сомневался. Слишком короток трехмесячный период. Зигмунд вел полные записи сеансов с Дорой, которые проводились шесть раз в неделю до нового, 1901 года. Каждый вечер после ужина он заносил описание сеансов в отчет. Таким образом, завел дело с полным набором результатов психоанализа, размышляя о том, как опубликовать собранное в качестве документа, опровергающего утверждения тех, кто нападает на «Толкование сновидений». Семья Гизль была из провинции и мало известна в Вене; изменив внешние детали, он мог описать данный случай, не ставя под удар Дору. Работу над рукописью в сто страниц он завершил к концу января. В июне послал рукопись в ежемесячный журнал психиатрии и неврологии. Когда издатель принял материал, Зигмунд почувствовал угрызения совести. Он забрал рукопись и запрятал ее в своих ящиках. – Пусть вылежится, – решил он, – и пусть публика созреет.11
Он начал писать работу под названием «Психопатология обыденной жизни». Впервые Зигмунд писал для широкой публики, а не для специалистов; он мог не афишировать сексуальные проблемы и не наступать на моральные мозоли общества. Материал давала повседневная жизнь: обмолвки, просчеты, ошибки, искажения имен и дат, неправильная подмена слов, неправильное понимание… Он был убежден, что можно обнаружить психологическую детерминанту, определяющую мельчайшие детали работы ума. На титульном листе он привел цитату из «Фауста»:12
Александр, преподававший по вечерам диспетчерскую службу и тарифы торговых перевозок в Экспортной академии по соседству, частенько заходил после лекций на чашечку кофе. Ему исполнилось тридцать четыре года, он владел крупным пакетом акций в судоходном деле, хорошо одевался, бывал в обществе и слушал любимые оперетты. Как полагали Зигмунд и Марта, у него все еще не было желания серьезно влюбиться или жениться. – Есть еще время остепениться. В следующие пять лет Мориц Муенец выйдет в отставку. Тогда поищу жену. Когда Леопольд Кёнигштейн получил наконец пост помощника профессора, Марта устроила в субботу праздничный ужин, пригласив старых друзей. Затем Александр был назначен помощником профессора по тарифам в Экспортной академии. Марта пригласила родственников на праздничный обед в воскресенье. Встреча была несколько подпорчена для Зигмунда, когда его мать заявила за столом: – Никогда не ожидала, что мой младший сын станет профессором раньше старшего. Зигмунд удержался от замечания: «Мама, Экспортная академия всего лишь торговая школа. Это не Венский университет». Вместо этого он сказал: – В семье Фрейд выращивают только гениев. Тем не менее, его сердило неосторожное замечание матери. Он думал: «Мне следует возобновить ходатайства перед министром образования. Но каким образом?» Вильгельм Флис написал ему, что пытается убедить фрау Добльхоф поехать в Вену лечиться у Зигмунда, поскольку берлинские врачи не смогли ей помочь. Вильгельм уверял фрау и господина профессора Добльхофа, что приват–доцент Фрейд сумеет помочь ей благодаря его новой терапевтической методике. Зигмунд был сбит с толку этой информацией. Он воскликнул: – Он делает то же, что профессор Нотнагель: «Я не верю в ваш метод, и вот пациент, которому никто не может помочь. Может быть, вы поможете?» Кто он, последний судия? В начале июня он отправился на разведку в Баварию, чтобы снять дом для летнего отдыха семьи; сел на поезд в Зальцбург, где посетил Минну и фрау Бернейс, отдыхавших в Рейхенгалле, а затем, путешествуя в экипаже, отдал предпочтение соседнему Тумзее – небольшому живописному озеру. Альпийские розы спускались с гор прямо к дороге, вокруг удивительные леса, земляника, множество цветов, грибов… Вилл для аренды не было, но незадолго до этого умер доктор, владевший небольшим постоялым двором, и Зигмунд сделал заявку на это помещение. Тумзее стало мини–раем для семьи. Дети истребляли пищу, как галчата, дрались из–за лодок на озере, уходили на целый день, унося с собой сытные походные завтраки. Мартин, одиннадцати лет, Оливер, десяти, и Эрнст, девяти, одевались в одинаковые костюмы: короткие кожаные штаны с нашивными карманами, ботинки, плотные гольфы до колен, мягкие куртки, белые рубашки, галстуки в горошек и круглые шляпы с перышком на ленте. Зигмунд иногда сопровождал их, но жаловался, что чувствует себя глупым на рыбной ловле. Чаще он прогуливался по лесу, собирая ягоды, с девочками: тринадцатилетней Матильдой, восьмилетней Софией и пятилетней Анной. Марта была очарована местной природой и уютным постоялым двором. Зигмунд же не находил себе места. После завершения «Психопатологии обыденной жизни» он ощущал усталость. Он злился на себя из–за отсутствия новых идей. У него был удачный год частной практики, но, поскольку стало меньше пациентов, ослабло и напряжение. Все предрасполагало к хорошему настроению, и все же он не знал, чем заполнить свободное время. Днем его преследовали грезы, а ночью – сновидения, будто в Пасху он находится в Риме. Хотя он много читал о греческой археологии и, читая, «наслаждался путешествиями, которых у меня никогда не будет, и сокровищами, какими никогда не буду обладать», его внимание вновь обратилось к Риму. Он изучал план города, чтобы знать, как пройти, если когда–либо наберется отваги и преодолеет предубеждение против поездки. Он спрашивал себя: «Из собственного анализа я выяснил, почему я подавил это желание. Почему я не свободен поехать сейчас? Я должен поехать!» – Мне нужно провести пару недель в стране вина и оливкового масла, – сказал он Марте. – Почему бы тогда не поехать, дорогой? Новые места освежат тебя для предстоящей работы. Он никак не мог собраться. Вместе с Мартой он поехал в Зальцбург послушать оперу, затем проливной дождь задержал его на постоялом дворе на несколько дней. За это время он прочитал введение к «Загадке сфинкса» доктора Людвига Лейстнера, доказывавшего, будто можно проследить, как возникают мифы в снах. Затем отложил книгу, когда увидел, что у автора нет ясного представления о том, как складываются сновидения. Единственным сообщением в газетах, взволновавшим его, было известие о раскопках Артуром Званом Кносского дворца на Крите, в центре рождения ранней греческой культуры за 1500 лет до нашей эры. По утверждениям, это было месторасположение оригинального лабиринта Миноса. Взволнованный этими находками в греческой археологии, он вернулся к мысли о неистребимом желании посетить Рим. Это было бы новым этапом: его приезд в Рим стал бы сигналом завершения анализа, символическим актом, необходимым для обретения независимости. Он помчался под проливным дождем на постоялый двор, нашел Марту в гостиной читающей детям при свете керосиновой лампы. Она заметила выражение искрящегося возбуждения в его глазах. – Зиги, что случилось? У тебя такой вид, будто тебя чем–то ударило. – Вот именно. Молния. Первого сентября мы уезжаем в Рим. На две недели. Что скажешь, Марта? – Скажу «аллилуйя». Я знаю, как долго и страстно ты хотел поехать. – Она немного подумала, затем обняла Зигмунда за талию и нежно сказала: – Ценю, что ты хочешь поделиться со мной этим большим событием. Но я вижу, что ты пытаешься проглотить за две недели две тысячи лет римской истории, и все это в зверскую жару римского лета с его малярией. А не лучше ли мне поехать с тобой в следующий раз, когда ты будешь хорошо знать город и примешь его философски? В конечном счете он решил пригласить Александра поехать с ним. На второй день путешествия в полдень они прибыли на Центральный вокзал и сели в экипаж, чтобы добраться до гостиницы «Милано» на площади Монтечиторио. Зигмунд волновался, когда они проезжали по улицам, особенно в местах, о которых читал: у чарующего фонтана Наяд на площади Эзедры, у колонны Марка Аврелия на площади Колонны; у обелиска, доставленного Августом из Гелиополя в Рим и установленного на Марсовом поле, он боялся, что у него перехватит дыхание. В гостинице «Милано» был зарезервирован просторный номер с электрическим светом, а не с газовыми лампами, к которым он привык во время поездок. Он быстро принял горячую ванну, переоделся и, глядя на себя в зеркало, заметил: – Чувствую себя истым римлянином, хотя мне больше бы хотелось поблаженствовать в горячей воде терм Каракаллы в окружении сотни сенаторов и патрициев, играющих в кости на разграфленном полу. – Говоришь фразами из путеводителя, что у тебя в кармане, – пошутил Алекс. – Ну–ка, Алекс, давай поищем хороший ресторан, а затем просто побродим в наш первый полдень. На остальные дни я составил жесткое расписание. – Нисколечко не сомневаюсь, – проворчал Александр, – ляжем сегодня пораньше. Наверняка мы будем наблюдать восход солнца в Колизее. – Не в этот раз. Это великий момент в моей жизни, и я хочу прочувствовать его во всей полноте. Ты даже не знаешь, как я счастлив, находясь в Риме, как это много для меня значит. На следующее утро в семь тридцать они посетили собор Святого Петра, обозрев накануне с террасы Пьяцале дель Пинчо величественный купол, выполненный по проекту Микеланджело, прошли через массивную центральную дверь и быстро достигли центрального придела, где задержались, пораженные прекрасно уравновешенной громадностью собора. Зигмунд видел, как первые прихожане целовали ногу Святого Петра; спустился под центральный алтарь к могиле Петра; затем они поднялись по бесчисленным ступеням на вершину купола, чтобы с высоты взглянуть на обширную площадь под ними. С открытых балконов, украшенных гигантскими скульптурами, они окинули взором величественную панораму Рима, замок Святого Ангела перед ними, Тибр, рассекающий город. Из собора Святого Петра они пошли в Ватикан. Ничто из прочитанного или увиденного Зигмундом не подготовили его к восприятию великолепных сводов Сикстинской капеллы, где Микеланджело отобразил в живописи Ветхий Завет. Он ходил по капелле с запрокинутой головой, пытаясь впитать это чудо в красках, образы пророков, сивилл, сотворение человека, потоп, с трудом схватывая необъятное. Это была очищающая и вдохновляющая проверка искусством. Почти то же самое чувство испытал он, подойдя к торцу капеллы посмотреть на «Страшный суд» с мощным, мужественным Христом, изгоняющим грешников в ад, и нежной, красивой Марией, сидящей рядом с ним в прозрачной одежде. Он возвратился в гостиницу «Милане» в состоянии оцепенения, написал Марте: «И подумать только, что много лет я боялся приехать в Рим!» На следующее утро они провели два с половиной часа в Римском национальном музее с его коллекцией античных греческих скульптур, затем гуляли под теплым солнцем на маленькой площади Треви и бросили монеты в мощную струю фонтана, чтобы, согласно преданию, вновь вернуться в Рим. В полдень они пообедали в открытом ресторане под сенью огромных каменных тритонов, несущих крылатую колесницу. После вкусных феттучине и осси букки, из которых костный мозг извлекался с помощью длинного ножа с желобком, они направились к древнему Пантеону с его шестнадцатью монолитными колоннами, такому огромному внутри, что трудно себе представить; через круглое отверстие в своде можно было любоваться чистым итальянским небом. Вторую половину дня они провели в Колизее. К вечеру они поужинали в ресторане на площади Навона с ее прекрасными фонтанами Бернини в стиле барокко, затем отправились домой, обласканные теплым воздухом. Зигмунду нравилось наблюдать, как ведут себя римляне на улицах города: матери, кормящие грудью детей на пороге домов; пары, покупающие ужин у разносчиков, жующие на ходу, поющие, спорящие, жестикулирующие; парни и девушки в объятиях друг друга, прислоняющиеся к стене при поцелуях, как на улицах Парижа. – Мне нравятся современные римляне в той же мере, как и античные, – заметил Зигмунд Александру. – Они живут на открытом воздухе. В Вене мы можем делать что угодно в стенах и ничего на публике, разве только выпьем кофе. Дни были полны фантасмагории сцен, звуков и откровений. Он никогда не чувствовал себя так хорошо. Они наняли экипаж на четыре часа, чтобы осмотреть город, посетили Палатин, ставший для Зигмунда любимым холмом в Риме, даже более дорогим, чем прекрасно задуманный Микеланджело Капитолий с Сенатским дворцом и статуей Марка Аврелия. В церкви Святого Петра в цепях он полюбовался статуей Моисея, дав обет, что напишет книгу о мраморных скульптурах. У торговца античными вещами он отыскал старинную римскую голову, мраморный торс женщины с Ближнего Востока, две египетские фигурки, небольшие, но с изящными деталями, и, наконец, греко–римскую камею с головой Юпитера. Он вправил ее в простое золотое кольцо, которым восхищался, и редко снимал. На девятый день подул сирокко, горячий ветер из Африки, несколько иссушивший энергию Зигмунда. Однако он вопреки этому продолжал наслаждаться чудесами Древнего Рима: Форумом с аркой Септимия Севера, базиликой Юлии, Домом весталок. Они прошлись по улице Дей Фори Империали, мимо благородных форумов, построенных во времена Августа, Цезаря, Траяна. В самый последний день Зигмунд набрел на самое многозначительное открытие: он посетил небольшой подземный языческий храм с сохранившимся жертвенным алтарем; над храмом в подземелье находилась ранняя христианская церковь первого или второго столетия, простая, без украшений; а над ней третья, большая украшенная церковь, построенная в семнадцатом веке. Для Зигмунда увиденное явилось символом начала и хода его собственной работы: подсознания, предсознания и сознательного ума, один над другим в точном порядке. На двенадцатый день братья сели на поезд, идущий в Вену. Зигмунд удовлетворенно вздохнул, когда они разместились в своем купе, где им предстояло провести два дня.13
В Вене его ожидали три интересных пациента, двое из которых сыграли большую роль в его жизни. Первой была баронесса Мария фон Ферстель, урожденная Торш, на вид тридцатилетняя женщина, величественная, с широким, сильным, приятным лицом и удивительно большими темными глазами. Она родилась в Праге в семье мировых банкиров и оптовых торговцев и воспитывалась во дворце Торш, занимавшем почти целый квартал. Ее отец Давид отошел от бизнеса и стал гражданским инженером. Мария Торш вышла замуж за барона Эрвина фон Ферстеля, богатого генерального консула в имперском министерстве иностранных дел. Бракосочетание пары состоялось в Обетовой церкви, спроектированной и построенной отцом барона, выдающимся архитектором Генрихом фон Ферстелем. По его проекту был также построен Венский университет. Баронесса имела четырех дочерей и владела одним из наиболее именитых салонов в столице империи. Она отличалась остроумием и выдержкой. Семейство Торш было еврейского происхождения, но Мария еще до брака с бароном фон Ферстелем приняла католицизм, и этот жест считался искренним. – Господин доктор, меня рекомендует вам фрау Гомперц, она сказала, что вы вылечили ее за месяц. – У нее было всего лишь растяжение кисти. Что беспокоит вас? – Я страдаю головными болями. Пробуждаясь утром, чувствую себя прекрасно, отдохнувшей и готовой с удовольствием заняться предстоящими делами. Но со временем, просматривая почту, принимая посыльных с известиями о встречах, благотворительности, начинаю ощущать, будто на голове у меня тесная шляпа. – Покажите, где начинается боль. – Здесь, где шея соединяется с головой. – Она похлопала по месту левой рукой. – Боль как бы поднимается вверх по голове, затем спускается на лоб. Иногда голова становится такой тяжелой, что мне она кажется отдельным телом, которое движется туда, куда захочет. – Баронесса, это похоже на типичный пример головной боли от напряжения. Он нащупал некоторое размягчение около шейного нерва и больше ничего. Попросил рассказать подробно, как она проводит день от пробуждения до сна. Рассказ показал образ жизни одной из самых активных женщин в Австро–Венгерской империи. Когда нужно было оказать услугу императору, парламенту или мэру, религиозной, образовательной или художественной группе, она не решалась сказать «нет». Насколько мог понять Зигмунд, в семье не было проблем: барон и баронесса состояли в браке одиннадцать лет и все еще любили друг друга. У баронессы не было неврозов, не страдала она и истерией. В ходе одного сеанса она спросила: – Господин доктор, как может навредить активность, если она диктуется стоящими мотивами? – Быть может, вы взяли на себя слишком много обязательств? – Мой день становится все более нагруженным. – Не будет ли правильным сказать, что у вас есть внутренняя потребность быть активной? Баронесса сидела, опустив голову, затем подняла на него глаза и откровенно сказала: – Да. Я чувствую внутреннюю силу, которая меня толкает. Назовите ее «положение обязывает». Но по выражению вашего лица я могу полагать, что вы считаете это более сложным. Я не хочу быть той, к кому всегда обращаются, и в то же время не хочу стоять в стороне. Есть ли смысл в этом противоречии, доктор? – Разумеется. Немногие люди идут по жизни, не испытывая какого–нибудь раздвоения. Баронесса фон Ферстель повернула голову набок, как бы размышляя, а затем сказала: – Поскольку мой муж – дипломат, к нам приходят интересные и важные люди. Семья моего мужа и моя были обеспеченными в течение ряда поколений. У нас нет ссор с родственниками и детьми. В моей жизни не было больших потрясений или разочарований. Почему я должна быть в конфликте с самой собой? – Мы должны это выявить. Я думаю, что не потребуется длительного анализа, чтобы добраться до сути. В течение двух первых месяцев ему удалось несколько улучшить состояние пациентки. Стало очевидным, что она стремилась соперничать со своей матерью, великосветской дамой, содержательницей блестящего салона. Старшая госпожа Торш добилась известности в империи, регулярно появлялась при дворе императора Франца–Иосифа, славилась своей благотворительностью в отношении не только еврейского госпиталя и института для слепых и сирот, но и католических организаций. Баронесса фон Ферстель соперничала свыше своих сил и подлинного желания с собственной матерью, роль которой она явно преувеличивала. Вторая проблема возникла из–за ее перехода в католицизм. Смена религии часто вызывает чувство вины. Не будучи католичкой от рождения, она считала, что должна сделать больше, чем окружающие, чтобы никто не мог упрекнуть ее в еврейском происхождении. Она согласилась с доводами доктора Фрейда и принялась отыскивать другие доказательства справедливости его заключений. Головные боли ослабли. Внутреннее напряжение спало. Ощущение тесной шляпы на голове возникало все реже и реже. Она стала отказываться от дел, которые, как она понимала, могут выполнить и другие. Сеансы Зигмунда доставляли ей удовольствие, на нее произвела впечатление методика, позволяющая одолеть невидимого врага. К концу третьего месяца она чувствовала себя совсем хорошо. Еще один пациент доставил острое удовольствие. Доктор Вильгельм Штекель стал первым практикующим врачом, пришедшим к нему с просьбой помочь в проведении анализа. Штекелю было тридцать три года, он родился и вырос в австрийской Буковине, окончил медицинскую школу Венского университета. У него была весьма выразительная внешность актера–любителя: вздернутые усы, аккуратно подстриженная бородка и такие большие глаза, что зрачки казались плавающими в море. Одевался он по–светски: гладкие галстуки и небрежно наклоненная шляпа. Он писал статьи в воскресные номера газет, виртуозно играл на пианино и сочинял музыку на собственные стихи, считал себя авторитетом в велосипедной езде на том основании, что опубликовал книгу «Здоровье и велосипед». Штекель выпустил также монографию под названием «Соитие в детстве», из которой Зигмунд заимствовал пассаж для одной из своих работ. Он обладал способностью произнести монолог, не переводя дыхания. – Макс Кахане рассказал мне о вас, о ваших лекциях в университете, оригинальных и содержательных. Кахане сказал, что вы цитировали из моего «Соития в детстве». Я никогда не слышал вашего имени и не читал ваших книг. Через пару дней, после того как Кахане упомянул ваше имя, я прочитал обзор вашего «Толкования сновидений». Автор обзора был пристрастным, называл книгу непонятной и ненаучной, и я понял, что книга должна быть интересной. Я часто оказывался бессильным перед нервными больными, внешне не имеющими никаких физических нарушений. Я не в курсе вашего открытия подсознания. Не можете ли вы одолжить экземпляр «Толкования сновидений»? Я хочу изучить, как сны раскрывают подавленные воспоминания. Уверен, что, овладев вашим методом, смогу помочь своим пациентам. Вас интересует, почему я пришел к вам? Я в опасном положении. Мой брак рушится. Я женился на девушке, потому что она любила прекрасные книги и пела со мной дуэты. Ныне же мы не выносим друг друга. Как бы хорошо я к ней ни относился… я вижу гомосексуальные сновидения. Но Макс Кахане рассказал мне о концепции бисексуальности, так что сны не делают меня ненормальным, не так ли? Я вижу сны, в которых участвует мать, но ведь Цезарь и Александр также видели подобные сны, верно? Прежде чем вы ответите на мои вопросы, вам, видимо, интересна история моей жизни, особенно детства. Я ничего не скрою, уверяю вас, расскажу о всех сексуальных мотивах в ранние годы, в конце концов кто, как не я, авторитет в области детского соития? Начнем сначала… Штекель говорил безостановочно полных два часа. Рассказ забавлял Зигмунда; Штекель был прекрасным рассказчиком, даже неприглядная истина не останавливала его. Слова и фразы изливались из него, как из горного родника. Обнажались самые свободные ассоциации, о которых когда–либо слышал Зигмунд: десятки фантазий о школьных днях, об обучении ремеслу у сапожника, о работе в университетском клубе пацифистов, шести годах службы хирургом в армии, подготовке под руководством Крафт–Эбинга в психиатрической палате; и все это было пересыпано сплетнями венских кофеен, где он проводил свободное время, перелистывая десятки газет и набрасывая свои статьи. Он приходил несколько раз в неделю, засиживался, пока Зигмунд был свободен, и развлекал его не меньше, чем любая комедия в Фолькстеатре. Зигмунд находил, что он делал все слишком быстро: говорил, думал, выносил суждения, вспоминал, писал, переносился в своем воображении. Штекелю требовалась вспышка эмоций на каждом шагу: в завершении мысли, рассказа, суждения. Он разъяснил Зигмунду, что не хочет тотального анализа, ибо это может привести к изменению характера. – Я доволен собой таким, какой я есть. Все, о чем я прошу, – устранить одно неприятное обстоятельство. Но вы должны сами обнаружить мое недомогание. Только тогда я могу быть уверенным, что вы на правильном пути и можете вылечить меня. Потребовалось около трех недель, и Зигмунд установил, что Вильгельм Штекель страдает преждевременным семяизвержением. В известном смысле вся личность Штекеля была образцом поспешности, но в сексуальной жизни на это было обращено внимание лишь тогда, когда у него развилась неприязнь к жене. Зигмунд предполагал, что подсознательно Штекель мстит ей за то, что она обзывала его скрягой, бесталанным, пустышкой. Интимное сношение сопровождалось преждевременным семяизвержением до того, как она получала удовлетворение. Обо всем этом Зигмунд должен был догадываться, ибо Штекель, откровенно грубый со своей женой, отказывался обсуждать супружеские отношения. Зигмунд не считал подходящим для психики Штекеля открыть тому, что он разоблачен. Зигмунд действовал косвенным путем, сумев в течение двух месяцев притормозить стремление Штекеля к поспешности: говорить слишком быстро, есть слишком быстро, достигать оргазма слишком быстро. К концу восьмой недели Штекель захотел прекратить сеанс, заявив: – Мне теперь лучше. Опасное состояние прошло. Кроме того, я бросаю жену… Зигмунд, не взимавший гонорара с друзей, считал себя вправе настаивать на продолжении сеансов еще несколько недель. Штекель согласился: – Чувствую, что мы стали друзьями. Я восхищен «Толкованием сновидений». Беседы с вами подобны солнечному дню после дождя. Я пишу большую статью для «Нойес Винер Тагеблатт», в которой подчеркну, что ваша книга – предвестник самостоятельной новой книги. Хочу знать все о психоанализе. Быть может, когда–нибудь вы сочтете, что моя квалификация позволяет мне проводить анализ моих пациентов! Привлекательная фрау Тереза Добльхоф, которую направил к нему Вильгельм Флис, была женой берлинского профессора. Профессор, коренастый мужчина, привел жену в приемную Зигмунда, присмотрелся к последнему и через несколько дней вернулся в Берлин. Лишь после отъезда мужа из Вены фрау Добльхоф проявила готовность к психоанализу. Фрау Терезе, как она просила Зигмунда называть ее, было чуть больше тридцати лет, она обладала превосходной фигурой и чрезмерно подчеркивала ее крайней стилизацией своих платьев. Обходительная в манерах, она была тщеславной, но не глупой женщиной, подверженной неожиданным взрывам смеха, выставлявшей напоказ свои чудесные белые зубы и способной перейти к внезапным приступам подавленности. Тереза описала свои симптомы Зигмунду как скуку, ведущую к подавленности. – Вы знаете, я недовольна своей жизнью, моим мужем, моим домом… бездетна; недовольна своим общественным положением. У меня даже мелькает мысль о самоубийстве. – А ваши физические недомогания, фрау Тереза? – Боли в низу живота, головные боли, словно под череп загнали иголки, и сыпь на коже между грудями. Зигмунд не считал, что месяца, проведенного в кожном отделении, достаточно, чтобы поставить диагноз. Он направил ее к своему бывшему наставнику в дерматологии в Городской больнице. Профессор Максимилиан фон Цейсль сообщил, что происхождение сыпи нервного характера, подтвердив тем самым предположения Зигмунда. Фрау Тереза легко пошла на свободную ассоциацию, излагая обильный сексуальный материал: приставания любимого дяди, которые, как выявил Зигмунд, были фантазией; грезы о прекрасном принце, спящей красавице, королевской крови; о том, что она любовница императора и известных театральных звезд; и в конце она стала переносить эти чувства на доктора Фрейда. – Вы так похожи на моего дядю, которого я обожала. Я вновь чувствую себя ребенком, в той же комнате с ним. Он был таким мужественным, таким привлекательным…– Вдруг она закричала: – Дядя, почему ты не любишь меня? Я обожаю тебя, мечтаю о тебе по ночам. Почему ты предпочитаешь потаскушек, которых приводишь домой?… У фрау Терезы были все симптомы обычной истерии. К концу месяца полученные сведения не оставляли сомнений, что она страдает фригидностью. Ни ее сильное влечение к доктору, ни ее восхищение тем, что у него шестеро детей, а ее муж не подарил ей ни одного ребенка, ни удовольствие, с которым она окунулась в свои детские грезы и рассказала сексуальный по содержанию материал, не скрыли от него то, что перед ним тяжелый случай нарциссизма, самовлюбленности. Тереза начала заниматься онанизмом в раннем возрасте и доходила до оргазма; она заявила, что получала от этого большое удовольствие. Сейчас, взрослая, она не хотела отказаться от этого удовольствия. – Почему я должна отдавать свое тело кому–то другому? Кому–то, кто стал бы диктовать, когда я могу, а когда нет получать удовлетворение? Кроме того, я не люблю мужа, он мне физически противен. – Находите ли вы его нежелательным или менее желательным, чем прекрасный принц ваших грез, когда занимаетесь мастурбацией? Тереза засмеялась без тени смущения. – Мой муж не в состоянии сделать меня королевой мира, как это должно быть, по моему разумению, при половом акте. Поэтому я не допускаю его до половых сношений со мной уже несколько лет. Конечно, он безумно ревнив, обвиняет меня в том, что я получаю удовлетворение на стороне… – И это справедливо. В вашем воображении! – Да. Иногда он пытается взять меня силой. Я пугаюсь… Моя неприязнь к нему усиливается. Я не принадлежу к тем женщинам, которые просто лежат на спине, когда муж ощущает оргазм, а они ничего, лишь закрывают глаза. – Поскольку вы живете вместе и, я полагаю, в той же спальне, как же вы справляетесь? – Перед сном у меня появляются колики в желудке, самые настоящие, и настоящая головная боль. Конечно, сыпь на груди я вынуждена скрывать медицинским кремом. Мой муж вопит: «Если ты так устала и больна все время, почему не пойдешь к врачу?» Так я попала к вам: доктор Вильгельм Флис полагал, что вы мне поможете. Профессор Добльхоф вернулся через пять недель. Зигмунд не знал, что сказала ему жена по поводу их сеансов, но раздраженный муж пришел в приемную, переадресовав свою ревность с неизвестного соблазнителя в Берлине на доктора Зигмунда Фрейда в Вене – городе, известном свободой нравов. – Я не обвиняю вас в том, что вы соблазнили мою жену, господин доктор, это было бы глупо с моей стороны. Но я обвиняю вас в том, что в этой приемной задаются неприличные вопросы. – Какого же характера, господин профессор? – Сексуального. – Но это и есть основа заболевания вашей жены и неудачи вашего супружества. Лицо профессора почти почернело. – Моя жена не имела права говорить вам об этом! – Но ведь поэтому вы привезли ее в Вену? У профессора была короткая шея, и он не мог наклонить голову. Он согнулся в поясе и уставился на пол. – …Да. Думаете ли вы, что ее можно вылечить… сделать ее… нормальной женой? – У меня есть основание надеяться. Профессор Добльхоф возвратился в Берлин. У Зигмунда были еще пять недель для работы с фрау Терезой по часу ежедневно. Каждый день он помогал ей трезво посмотреть на себя с сексуальной точки зрения, равно как и на сексуальную природу человека. Он добрался до истока ее проблемы нарциссизма и чувствовал, что добивается важного прогресса благодаря выявлению ее сексуальных конфликтов в детстве. Если он сможет помочь ей подняться на более высокий уровень эмоциональной зрелости, тогда она сумеет восстановить понимание и симпатию к мужу, занять более терпимую позицию в отношении супружеской жизни и даже иметь детей. Она сможет тогда освободиться от истерии и начать вести нормальную жизнь. Терезу заинтересовала концепция доктора Фрейда. Она надеялась, что дополнительное лечение позволит ей вернуться домой здоровой и построить супружескую жизнь на основе достигнутого самопознания. Зигмунд был доволен: он получил доказательство того, что его терапия может лечить. Затем без уведомления профессор Добльхоф ворвался в приемную во время сеанса; увидел свою жену на кушетке с закрытыми глазами, а доктора Фрейда сидящим около нее и ведущим беседу на интимные темы. Он рывком поднял жену на ноги и бросил Зигмунду: – У меня нет больше денег на такие глупости! Нет и времени ездить из Берлина в Вену, чтобы убедиться, что с женой все в порядке. Вы ее больше не увидите!14
После пребывания в Риме Зигмундчувствовал, что его собственный самоанализ завершен. Сковывавшая сдержанность в отношении титула профессора отпала. Он не промолвил ни слова, узнав, что Франкль–Хохварт получил такой титул. Министр образования явно забыл о приват–доценте Зигмунде Фрейде. – Хватит пуританской этики, – объявил он Марте. – Я заслужил звание, и, если нужно быть карьеристом, чтобы получить его, тем хуже, как говорят в Париже. Встречусь со своим старым другом Экснером, который занял пост советника при министре образования по вопросам реформы системы образования в университете, в частности на медицинском факультете. Я намерен предложить ему реформу, которую он может провести немедленно. Но, поднимаясь по Берггассе к Институту психологии, он понял, что ему нужно совсем иное, чем то, чего хотел четыре года назад, когда Нотнагель и Крафт–Эбинг написали похвальный отзыв о его работе, а медицинский факультет рекомендовал его кандидатуру. Тогда он стремился к академической карьере. Ныне же все изменилось. Он осознал, что, принимая во внимание сомнительный характер его работы и полное ее отторжение, если не осуждение, в Вене, нет ни малейшего шанса быть принятым медицинским факультетом в качестве профессора и администратора клинической школы. К тому же он не думал больше об обязательности академической жизни. Его вылазка в Рим придала ему отваги бороться в одиночку, идти своим собственным путем не только ради себя и семьи, но и ради науки о подсознании. Когда он впервые претендовал на роль помощника профессора, положение о почетном титуле, не возлагающем обязательств на получателя или на клиническую школу, было почти неизвестно, лишь в 1890 году один такой титул был дарован доктору Густаву Гертнеру. Ныне же, в 1901 году, титулы экстраординариуса были дарованы министром докторам Эрману, Палу, Редлиху; это ничего не стоило университету в финансовом смысле, но обеспечивало респектабельность получателю титула. Он пересек Верингерштрассе и вошел в Институт физиологии, почувствовав знакомый запах электробатарей и химикалий анатомических препаратов, напомнивший о последней встрече с профессором Брюкке. Профессор тогда мудро подчеркнул, что чистая наука хороша для богатых. Зигмунд радовался, что Брюкке отказал ему; познанное им о человеческом уме казалось несравненно более важным, чем изучение нервных тканей раков. Экснер возглавил Институт физиологии, как и планировал. Он принял пост советника при министре образования, живо интересуясь реформой медицинских колледжей Австрии. Его коллеги желали видеть его в министерстве, надеясь, что смогут влиять на все решения по медицине на правительственном уровне. Кабинет Экснера находился в старом дворце министерства на Минори–тенплац, 7, и раз в неделю он проводил там совещания. Он– получал две тысячи четыреста гульденов в год, но здесь, как и в Бюро здравоохранения, работал не за деньги. На рабочем столе, некогда принадлежавшем профессору Брюкке, лежали чертежи новых электрических аппаратов для измерения скорости и силы сокращения мышц, рукопись об окраске тканей и бессистемная груда докладов из министерства. Экснер считался крупным ученым и одновременно правительственным деятелем Вены, что являлось редким и ценным сочетанием. Советнику Экснеру было уже пятьдесят пять лет, он почти облысел. Его поредевшие и истонченные волосы были тщательно приглажены, борода поседела, но проницательные серые глаза с тяжелыми нависшими бровями и веками не постарели: один взгляд – и они понимали все. Он поднял голову, посмотрел на лицо и позу Зигмунда и уже знал, с чем тот пришел. Зигмунд не виделся с Экснером несколько лет; Экснеру не верилось, чтобы медик отошел от физиологии. – О, это ты, господин доктор Фрейд. – Ну, советник Экснер, это не самое дружеское приветствие. Я могу припомнить весьма любопытные приветствия между вами, Флейшлем и мной в восемь часов утра в лаборатории физиологии, которыми мы обменивались в прошлом. – Сейчас не восемь часов утра, а четыре часа дня, и в лаборатории идут два эксперимента. – Вы всегда ими занимались. И большинство были успешными. Флейшль говорил, что, когда он умрет, вы станете самым крупным физиологом в Европе. – И стану таким, – проворчал Экснер, – если не должен буду сидеть за этим столом и вести беседы с людьми, для которых ничего сделать не могу. Зигмунд не принял всерьез колкость Экснера. Его любили студенты в Институте физиологии, потому что после каждой лекции он оставался и отвечал на вопросы, даже самые глупые. – Как вы можете быть уверены, советник Экснер, что ничего не можете сделать для меня, не выслушав, зачем я пришел? Может быть, я хочу взять в долг десять крон? Или посмотреть ваше досье на молодых неврологов, ищущих поста ассистента? – Вы ищете не этого! – Точно. Мне хотелось бы знать, почему прошло четыре с половиной года, после того как медицинский факультет одобрил мою кандидатуру на пост помощника профессора, однако каждый год меня обходят. Должно же быть этому объяснение. Экснер выразительно пожал плечами. – Не обязательно. Разумеется, не в правительстве. Причин и последствий – да, но рационального объяснения – нет. В голосе Зигмунда прозвучала саркастическая нотка: – Оглядываясь на годы нашего дружеского общения, хотя вы были старшим для меня и моим учителем, не думаю, чтобы вам импонировало быть неприятным. Глубоко уверен, что профессор Брюкке не одобрил бы вашего поведения. Экснер повернулся на стуле, уставился в окно. Затем он принял прежнюю позу, и в глазах его было новое выражение: не гнева, который мог в нем вспыхнуть, как думал Зигмунд, из–за бессилия, а чего–то расплывчатого, словно Экснер впервые через дымку двадцати лет вспомнил об удовольствии, которое он испытывал, работая с Брюкке и Флейшлем и с двумя блестящими, энергичными молодыми людьми, им помогавшими, – Иосифом Панетом и Зигмундом Фрейдом. – Да… ну… Прости. Я раздражен, когда накапливается много официальных бумаг. – Понимаю, Экснер, вы на самом деле не любите изображать себя высоким чиновником. Я пришел сказать вам, что заинтересован не в академическом назначении, а лишь в почетном титуле помощника профессора. – Да… Хорошо…– Экснер промолчал, затем уперся локтями в стол и взглянул на Зигмунда. – Зиг, эти назначения достигаются давлением, один может нажать посильнее, чтобы посадить своего в кресло… или же не допустить до места. В министерстве мы сидим посередке, пытаясь сбалансировать нашу систему образования. – Между нами говоря, на министра оказывается определенное давление, чтобы он не давал мне назначения? – Этого я не говорил. Я лишь касался общего характера политики, бросающей тень на образование. Можно предположить, что кто–то использует свое личное влияние против тебя. Ты должен найти соответствующее противодействие. Я советую тебе бросить на чашу весов все свои возможности, тогда она склонится куда надо, и ты добьешься желаемого. Зигмунд подумал некоторое время, затем сказал: – Я мог бы обратиться к старому другу и бывшей пациентке фрау советнице Гомперц. Будет ли это правильным? – Несомненно. Фрау советница и советник Гомперц пользуются большим уважением в министерстве. Его превосходительство был назначен профессором филологии одновременно с советником Гомперцем, они тесно сотрудничали долгие годы. Трудно найти лучший вариант. Зигмунд написал записку Элизе Гомперц с просьбой разрешить ему зайти к ней на чашку кофе в шесть часов. Ответ последовал незамедлительно: ему предлагали прийти в тот же самый вечер. Фрау Гомперц приняла его в гостиной, они некоторое время беседовали, а затем Зигмунд сказал: – Фрау советница Гомперц, признаюсь, что пришел попросить вас о любезности. Моя просьба необычна, и я не считаю само собой разумеющимся, что вы готовы мне помочь. Если не сможете… – Господин доктор, моя вылеченная вами правая рука в вашем распоряжении. – Спасибо. Положение таково. Четыре с половиной года назад я был рекомендован профессорами Нотнагелем и Крафт–Эбингом на звание помощника профессора. Когда я впервые встретился с предшественником Хертеля, с Байе–Латуром, он сказал: «О да, я слышал прекрасные отзывы о вас». Это было последнее доброе слово, которое я слышал от министра. Я полагаю, что долгие годы работы в области неврологии и детского паралича, а также мои новые исследования, книги и статьи достаточно весомы для титула помощника профессора, и прошу теперь только о почетном титуле. Озадаченная Элиза Гомперц покачала головой. – Действительно весомы. Я не знала, что у вас нет титула. Что, по вашему мнению, мешает этому? Будьте откровенны со мной, это необходимо, если нужна помощь. Он обратил внимание на то, что антисемитизм набирает силу в Вене, но полагал, что это не основная проблема. Затем изложил ей существо своей работы по психоанализу. Элиза Гомперц внимательно слушала. – Господин доктор, вы пришли ко мне не ради оценок, вы пришли за помощью. Могу ли я спросить, была ли рекомендация Нотнагеля и Крафт–Эбинга, а также медицинского факультета возобновлена в последнее время? – Когда рекомендации попадают в. министерство образования, они хранятся в досье. – Да, постоянно упрятанными в ящиках столов. Вам следует попросить Нотнагеля и Крафт–Эбинга возобновить рекомендацию о вашем назначении. – Приму меры немедленно. – После того как это будет сделано, я пойду к министру образования. Уже тридцать лет он приходит к нам на обеды; думаю, что это дает мне право на разговор с ним. – Спасибо, фрау советница. Нотнагель и Крафт–Эбинг, собиравшиеся подать в отставку, написали новые письма, настаивая на том, чтобы министр и император Франц–Иосиф даровали приват–доценту Зигмунду Фрейду почетный титул помощника профессора. Элиза Гомперц добилась встречи с министром фон Хертелем, который любезно выслушал ее, а затем сделал вид, будто ничего не слышал о докторе Фрейде. Неужто его вклад настолько велик, что это дает ему право на звание экстраординариуса? Элиза Гомперц подробно изложила то, что ей рассказал за несколько дней до этого Зигмунд. Министр обещал отнестись со всем вниманием к делу. Она ничего не добилась. Министр фон Хертель просил дать ему время, говорил о том, что на такие назначения требуются годы, что он отыщет документы в досье. Да, он получил новое обращение; да, Экснер говорил о докторе Фрейде. Сделано все необходимое. Тем не менее в последующие недели он уклонялся от встречи с советником Теодором Гомперцем. Советник Гомперц не мог утверждать, что его сознательно избегали или отталкивали, однако на протяжении всего декабря он так и не сумел поговорить с министром фон Хертелем. Усилия семейства Гомперц не дали результатов. Помогла случайность. В день нового, 1902 года Элиза Гомперц встретилась за кофе со своей давней подружкой баронессой Марией фон Ферстель. Она рассказала баронессе о своих и своего мужа усилиях побудить министра даровать доктору Фрейду соответствующий титул. Баронесса ворвалась в приемную Зигмунда в тот же вечер, она была подобна богине из греческой мифологии, сердитая и готовая покарать преступивших мораль. – Господин доктор, признательные пациенты приносят своим врачам подарки с благодарностью. – Вы добры, баронесса, но мне хорошо платили за мою работу. – Я добьюсь для вас слишком долго задержавшегося титула экстраординариуса. Зигмунд поморщился, затем рассмеялся от всей души. – Итак, баронесса, вы пренебрегаете моими указаниями. Вы берете на себя еще одну обязанность, на деле не нужную вам и способную только осложнить вашу жизнь. Глаза баронессы сверкнули. – Мой муж назначен на пост в Берлин, а я не уеду, пока не получу удовольствия назвать вас «превосходительство». Через каждые несколько дней поступала информация. Первая схватка с министром фон Хертелем произошла на балу. Через несколько дней она добилась приглашения на обед, на котором, по ее сведениям, должен был присутствовать министр. Затем она пригласила министра на обед, собрав изысканную компанию из членов императорской семьи и верхушки правительства. Ее следующий шаг был решающим: она пригласила министра на кофе в субботу в полдень для беседы с глазу на глаз, дала ему возможность выговориться о значении его работы, о близости к императору Францу–Иосифу и к премьер–министрам великих держав Европы. Почувствовав, что он находится в состоянии эйфории, она сказала: – Говоря о величии ваших свершений, ваше превосходительство, полагаю, что есть небольшое дело, которое вы можете свершить, и оно сделает честь вам и нашей империи. – Что вы имеете в виду, баронесса? – Присвоить титул профессора врачу, который исцелил меня. – Но у вас превосходное здоровье. – Спасибо, дорогой министр, это так благодаря моему врачу. У меня были сильные головные боли, стальной обруч стягивал мою голову… – В самом деле? – прервал министр. – У меня тоже бывают периоды, когда я страдаю от подобных болей. Они мучают меня днями, быть может, неделями, я молюсь, чтобы они отпустили меня. – Я нашла врача в Вене, который пользуется новым методом. Его имя приват–доцент доктор Зигмунд Фрейд. Он сделал несколько удивительных открытий, касающихся природы человеческого разума и связи наших эмоций с физическим благополучием… Благодаря общественной деятельности баронесса научилась красноречиво представлять интересующее ее дело. Она заворожила министра, говоря о докторе Фрейде и его теориях. Когда она замолкла, он медленно сказал: – Баронесса, вы знаете, что я ответствен за создание современного Музея искусств, который мы намереваемся открыть через два месяца. Надеюсь, вы будете в числе почетных гостей на официальном открытии? Конечно, там будет император и весь двор. – Буду польщена. – Само здание великолепно. Другие наши музеи располагают прекрасными коллекциями, однако каждый музей приобретает их за свой счет. У нас сильное желание представить картины Бёклина. Я знаю, что ваша тетя обладает одной из лучших картин Бёклина, «Руины замка», висящей в ее доме. Можете ли вы убедить ее отдать эту картину новому музею? – Я помню картину очень хорошо, вместе с ней я выросла. Это действительно прекрасное полотно. С вашего позволения попытаюсь убедить тетушку, чтобы она предоставила музею эту картину для вернисажа. Если бы я была хозяйкой, ваше превосходительство, то, заверяю вас, вы ушли бы отсюда с картиной в руках. В следующее воскресенье баронесса появилась в квартире Фрейда на кофе. Во время беседы Зигмунд поставил ключевой вопрос: – Возможно ли, чтобы ваша тетушка рассталась с Бёклином? – Не знаю. Уверена, что смогу убедить ее завещать картину музею, но она крепкая старушка и протянет еще уйму лет. Тетушка не поддалась уговорам племянницы, но баронесса не прерывала контактов с министром. Она сообщила Фрейду: – Каждый раз, когда он приходит ко мне, я сажаю его напротив моих любимых полотен Эмиля Орлика, изображающих церквушку в моравской деревне. Этот пейзаж все время стоит перед глазами министра. Через несколько недель, в промозглый мартовский день, она выпрыгнула из своего семейного экипажа и ворвалась в кабинет, размахивая срочным письмом от министра. – Господин профессор Фрейд! Сделано! Хочу первой поздравить вас! Волна разноречивых чувств – радости, облегчения и разочарования – охватила Зигмунда. – Ваша тетушка отдала ему Бёклина? – Нет. Моя тетушка не расстанется с картиной. Я сказала об этом сегодня министру, когда мы любовались картиной Орлика. Это действительно достойное полотно и явится хорошим дополнением на выставке. Я просто сказала: – Ваше превосходительство, еще слишком рано ждать Беклина от моей тетушки. Могу ли я предложить вам моего прекрасного Эмиля Орлика? Хертель вытаращил глаза; он был явно разочарован, но принял поражение, сделав хорошую мину. Некоторое время он рассматривал полотно, а затем сказал: – Баронесса, я принимаю Орлика для музея. Зигмунд провел баронессу наверх, чтобы сообщить семье приятную новость. Минна открыла бутылку вина, и они выпили за профессора Зигмунда Фрейда и фрау профессоршу Марту Фрейд. В этот вечер, сидя у себя в кабинете, Зигмунд описывал не без сарказма Флису случившееся: «Винер Цайтунг» еще не поместила публикации, но новость быстро распространилась из министерства. Энтузиазм публики огромный! Сыплются поздравления и букеты, как если бы сексуальность была вдруг признана его величеством, толкование сновидений подтверждено советом министров, а необходимость психоаналитической терапии утверждена большинством парламента в две трети голосов. Меня вновь зауважали, и мои самые трусливые поклонники ныне приветствуют меня издалека на улицах». Первым появился Вильгельм Штекель. Его лицо сияло от возбуждения и гордости. Зигмунд был тронут. – Ваше превосходительство! Теперь, когда вы из скромного доцента превратились в профессора Зигмунда Фрейда, не пришло ли время осуществить ваши планы и основать собственную группу? Я полагаю, что вы назовете ее семинаром, кружком людей, заинтересованных в психоанализе… Зигмунд встал из–за стола навстречу Штекелю, чтобы поблагодарить его за добрые пожелания, и почувствовал, что его волнует услышанное. – Я мечтал о таком кружке с тех времен, когда политические демонстрации привели к закрытию университета и я проводил у себя занятия с одиннадцатью студентами. Спасибо за напоминание. Я выжидал чего–то… несомненно, профессорства… Теперь оно есть. Мы наберем, разумеется, только врачей, чтобы наши дискуссии проходили на сугубо научном уровне. Макс Кахане и Рудольф Рейтлер слушали мой курс в прошлом году и иногда заходят на кофе для беседы. Думаю, что, возможно, они захотят участвовать. А как вы, Вильгельм? Скажем, каждую среду вечером в течение медицинского сезона? – Ни за что в мире не упущу. – Итак, нас четверо. Можете ли вы назвать кого–нибудь еще? – Ну… посмотрим… Да, есть еще один, доктор Альфред Адлер. Мой постоянный стол в кафе «Дом» был соседним с его, когда мы были еще неоперившимися интеллектуалами и начинающими врачами. Теперь, когда мы оба имеем практику, мы перебрались в кафе «Центральное», где политические споры более волнующие. Адлер известен в Вене своим живым умом и интуицией. – Что побуждает вас думать, что он может проявить интерес к нашим дискуссиям? – В этом суть дела: он узнал о ваших работах раньше меня. Он прочитал «Толкование сновидений», как только оно вышло. Это рассказал мне не сам Адлер, а его близкий друг Фуртмюллер. Кажется, когда Адлер кончил чтение, он, как описывал Фуртмюллер, воскликнул со всей искренностью: «У этого человека есть что сказать нам!» – Хорошо! Адлер представляется интересной фигурой. Я пошлю четыре почтовых карточки, но не сейчас, когда близки Пасха и ежегодные походы в горы. Я направлю их осенью, после того как все возвратятся, и в нашем распоряжении будет целый сезон для встреч. Когда Штекель ушел, Зигмунд взял со стола почтовую карточку и набросал на ней:«Уважаемый коллега! Есть предложение встречаться для научных дискуссий. Можно ли просить Вас прийти ко мне на Берггассе, 19 …в восемь тридцать? С наилучшими пожеланиями искренне Ваш д–р Зигм. Фрейд».
Книга двенадцатая: Мужи науки
1
Он дважды повернул ключ в замке своего кабинета, открыл дверь и, отойдя в сторону, пропустил вперед молодого компаньона Отто Ранка. Двадцатидвухлетний Отто, невысокого роста, смуглый, гладковыбритый, с черными волосами, зачесанными назад, глядел грустными глазами сквозь толстые линзы очков. Очаровательная улыбка озарила его непримечательное лицо, и выражение грусти сразу же исчезло. Так было год назад, когда он, объятый страхом, пришел на встречу с профессором Фрейдом. Его направил доктор Альфред Адлер, на лекции которого присутствовал Отто, намеревавшийся представить свою рукопись «Художник», написанную под влиянием тяги к литературе, театру, живописи, скульптуре. – Когда я вошел в эту комнату, профессор Фрейд, мое смущение исчезло и я понял, что мир и жизнь имеют смысл. – По меньшей мере они имеют продолжение. Взгляни на эту греческую вазу с узким горлом, я приобрел ее у торговца древностями на этой улице. Внимательно вглядись в фигуры, головные уборы и одежду; они могут относиться ко времени Кносса, к культуре Крита, существовавшей более чем за тысячу лет до нашей эры. Возьми ее в свои руки; так мы должны держать историю. Сама комната была хранительницей истории, пробуждая много воспоминаний и ярких моментов. Из парии Зигмунд превратился в человека с кружком друзей и учеников. Он вспомнил о первой встрече четыре года назад, состоявшейся благодаря разосланному им по почте приглашению. Марта приготовила кофе и печенье. Мужчины проверяли друг друга: не подключает ли их профессор к своим исследованиям ради испытания. Рудольф Рейтлер и Макс Кахане уже прослушали в университете его курс о сновидениях. Альфред Адлер и Вильгельм Штекель читали его книги. Пять врачей были готовы к тому, чтобы начать дискуссию. Новая дружба была особенно ценна, ибо Вильгельм Флис вновь исчез с горизонта. После того как Флис направил к нему фрау Добльхоф из Берлина, Зигмунд думал, что их дружба возродится; так и случилось бы, не будь ссоры из–за «приоритетов». Зигмунд описал теорию Вильгельма о бисексуальности пациенту по имени Свобода. Тот передал сказанное малощепетильному другу по имени Вейнигер, который быстренько состряпал книжку на эту тему и издал ее. Флис был вне себя от ярости. Произошел обмен письмами; Зигмунд был вынужден признаться, что смотрел часть рукописи Вейнигера, счел материал слишком слабым, чтобы делать замечания. После этого Флис опубликовал свою собственную книгу, обвинив Свободу и Вейнигера в плагиате и косвенно осудив Зигмунда за помощь им. Зигмунд не получал больше весточек от Флиса. Небольшая группа, как понимал Зигмунд, была довольно скромной, но он не старался завербовать новых членов. Приходили добровольно те, кто был наслышан о дискуссиях или знаком с публикациями Зигмунда. К концу первого года к четверке, которой он первоначально послал свое приглашение, присоединилось двое: доктор философии Макс Граф, преподававший в консерватории, и издатель–книготорговец Гуго Геллер. В 1903 году добавились два новых члена – доктор Поль Федерн, направленный в группу профессором Нотнагелем, и доктор Альфред Мейзль, терапевт, практиковавший в пригороде Вены. В 1904 году никто не присоединился к группе; в 1905 году регулярными членами стали доктор Эдуард Хичман, обладавший широкой эрудицией и острым искрящимся умом, Отто Ранк, доктор Адольф Дейч, физиотерапевт в традициях Макса Кахане, которого привел Поль Федерн, и Филипп Фрей, учитель частной гимназии, опубликовавший книгу «Битва полов». На первой встрече осенью 1906 года появился еще один член – доктор Исидор Задгер, сдержанный, одаренный человек, который показал Зигмунду весьма проницательную рукопись об извращениях и гомосексуализме. В целом к Психиатрическому обществу, собиравшемуся по средам и не имевшему должностных лиц, предписаний и взносов, принадлежало семнадцать человек. Более половины участвовало во встречах по средам; члены общества готовили поочередно к этому дню исследования и доклады по вопросам психоанализа, которые зачитывались, а затем обсуждались. Зигмунд гордился тем, что несколько докладов увидели свет, а другие воплотились в монографиях. Ему доставляло удовольствие и то, что за четыре года никто не покинул группу, хотя реакция на доклады была в ряде случаев весьма критической. Это было лучшим свидетельством жизненности его идеи. Он был доволен и тем, как распространялись в мире медицины и в сфере образования его собственные работы. До создания группы он чувствовал себя счастливым, если получал в неделю пару писем с вопросами о его работах. Ныне же, несмотря на то, что лишь пара его статей была переведена на другие языки, он получал в день по нескольку писем из России, Италии, Испании, Австралии, Индии, Южной Африки с просьбами о дополнительной информации. Зигмунд рассматривал всех присылавших письма как потенциальных учеников и взял за правило в тот же день отвечать на письма. Увеличение числа членов группы, встречавшихся вечерами по средам, и расширение его переписки предметно убеждали в том, что идеи психоанализа начали распространяться. Его уверенность и смелость возрастали. Люди становились его верными друзьями; он был благодарен каждому, кто помог ему преодолеть изоляцию, длившуюся целых восемь лет. Многое изменилось сейчас, когда он стал профессором Зигмундом Фрейдом. Он приобрел титул, уважаемый в Центральной Европе, и его практика расширилась. Публику не волновало, что титул был всего лишь почетным. Нападки медицинского колледжа на него прекратились. Исключение составил одержимый ассистент Вагнер–Яурега в психиатрической клинике профессор Рейман, который усердно фиксировал все неудачи Зигмунда с пациентами, для того чтобы предать их гласности и таким образом положить конец ненавистному ему психоанализу. И все же отношение медицинского факультета, пригласившего Зигмунда читать лекции по неврологии в Медицинском обществе, по прошествии девяти лет выражалось просто: «Мы не плюем в лицо членам нашей семьи». Еще не пробило восемь тридцать, еще оставалось время до встречи Психиатрического общества, первой в этом октябре, открывающей новый медицинский сезон. Отто Ранк, по обыкновению, ужинал с семьей наверху; год назад Марта приняла его, словно младшего брата Зигмунда. Отто нуждался в опеке: сын отца–алкоголика и индифферентной матери, он был послан в техническое училище, затем работал подмастерьем на фабрике, не имея для этого ни сил, ни склонности. Испытывая нужду, Отто обратился к книгам, затем к театру и, обладая восприимчивым умом, в такой мере сформировался, что Зигмунд был потрясен оригинальностью Полученной им рукописи Отто, написанной в двадцать лет. Они подружились и, прогуливаясь поздними вечерами по улицам Вены, обсуждали, как переделать рукопись, с тем чтобы ее принял и напечатал издатель. Тем временем Зигмунд внес плату за обучение Отто Ранка в гимназии, дабы тот получил документы об академическом образовании, после чего Отто был принят в Венский университет. Не желая ставить молодого человека в положение должника, Зигмунд назначил Ранка секретарем Психиатрического общества и оплачивал его труд из собственного кармана. Отто Ранк осторожно поставил греческую вазу на письменный стол рядом со стоявшими там древнеегипетскими, ассирийскими и другими восточными фигурками. В центре, между этими античными предметами, лежал медальон, преподнесенный Зигмунду группой по случаю его пятидесятилетия. Медальон был выполнен скульптором Швердтнером: на одной стороне был портрет Зигмунда, на другой – царя Эдипа, отвечающего сфинксу. Ниже была начертана строка из Софокла: «Кто отгадал знаменитую загадку и стал самым могущественным?» Ранк сортировал бумаги, извлекая их из потрепанного портфеля. – Может быть, ты хочешь, чтобы я взял сегодня на себя роль секретаря? – спросил Зигмунд. – Почему, господин профессор? – Тебе потребуется час на твой доклад. Быть может, после этого не будет настроения записывать выступления в дискуссии? – Ну нет, это работа, к которой я всегда готов. – Но помни, что участники дискуссии тебе пощады не дадут. Зигмунд окинул взглядом комнату. Между окнами, выходившими в сад, стояла горка с прекрасными произведениями искусства, часть из них датировалась третьим тысячелетием до Рождества Христова. В верхней части горки красовались финикийская лодка с гребцами, Пегас, индийский Будда, китайский верблюд, египетский сфинкс и маска доколумбовых времен. На противоположной стене висел персидский ковер, а над ним – полки с книгами по толкованию сновидений, психиатрии и психологии, каждая серия книг отделялась от другой обломком мраморного саркофага или барельефа. Археологические находки стали неотъемлемой частью его жизни, придавая ему силы в те часы, когда он занимался пациентами и писал книги, опубликованные в истекшем году: «Остроумие и его отношение к бессознательному» и «Три очерка к введению в теорию сексуальности». Окружив себя древностями из–за удовольствия находиться среди дюжины цивилизаций, он обнаружил, что их воздействие на пациентов было также благотворным, помогало им понять его теорию подсознания и подсказывало больным, что ни они, ни их тревоги не рождены с ними, а пришли, как доказал Чарлз Дарвин, из глубин веков. Услышав голоса за дверью, Зигмунд встал, чтобы приветствовать коллег. Первыми вошли редко пропускавшие встречи Рудольф Рейтлер, худой блондин, не подвластный годам, если не считать слегка отступившую от лба кромку волос, и Макс Кахане, чье изрезанное морщинами лицо преждевременно придало ему облик человека среднего возраста. Зигмунд тепло приветствовал друзей; они не виделись с июня. Рейтлер проводил психоанализ с теми пациентами, которые соглашались, и в то же время занимался обычной практикой терапевта. Зигмунд был доволен тем, что первый человек, последовавший ему в проведении психоанализа, Рейтлер, был католиком и лечил пациентов–католиков. Макс Кахане все еще отказывался применять психоанализ в своем процветающем санатории. – Я понимаю психоанализ все лучше, профессор, – говорил он, – средства, заимствованные из вашей терапии, дают хорошие результаты. Из соседней комнаты, где собирались члены общества, Зигмунд услышал голоса: голос Филиппа Фрея, школьного учителя, который за год до этого написал благоприятный отзыв на книгу Зигмунда «Остроумие и его отношение к бессознательному» для «Австрийского обозрения». В данный момент он работал над первым вариантом статьи «К разъяснению проблемы пола в школах», над темой, которую никто не осмеливался затрагивать. Он беседовал с другим членом группы, Гуго Геллером, который занимался продажей книг и издательской деятельностью, а также распространением концертных и театральных билетов. В его лавке на Бауернмаркт собирались на кофе и беседы молодые артисты и писатели Вены. Это был лохматый, в темных завитушках, со светлыми усами, в пенсне мужчина, кутавшийся в просторное пальто. Он принадлежал к числу интересных, но слишком возбудимых ораторов, склонных к приступам гнева, и тех, кого в Австрии именовали атеистами, хотя он воспитывал своих сыновей в лютеранской вере. В дверях маячила самая яркая личность, присоединившаяся к группе, – доктор Альфред Адлер. Давний протеже профессора Нотнагеля, Адлер сочетал быстрые и уверенные суждения с крайней осторожностью. Еще до получения приглашения Зигмунда и своего согласия участвовать в обсуждениях он стал психологом, интересовавшимся вопросами, которые, как он полагал, далеки от медицины. Он был постоянным участником вечерних встреч по средам, но, как думал Зигмунд, пожимая руку Адлеру и бормоча «здравствуйте», в иной плоскости. Все остальные члены, как врачи, так и люди других профессий, считали себя учениками, слушателями, последователями профессора Зигмунда Фрейда. Только не Альфред Адлер, с самого начала давший понять, что в психологии неврозов он коллега, сотрудник, находящийся на равной ноге, хотя и моложе Зигмунда на четырнадцать лет. В ранние годы он примкнул к группе студентов Венского университета для обсуждения «Капитала» Маркса. Он не стал марксистом, его отвращение к доктринерству ограждало его от полного принятия системы, но годы чтения и изучения привлекли его к вопросам социальной справедливости и политических реформ. Выросший в состоятельной семье зерноторговцев, он сознательно связал свою судьбу с «обычными» гражданами, открыв свой кабинет на Пратерштрассе для обслуживания бедняков и служащих Пратера. При первых встречах с Зигмундом он пытался навязать ему книги Маркса, Энгельса, Сореля, но Зигмунд сухо ответил: – Доктор Адлер, классовой борьбой заниматься не могу. Нужна вся жизнь, чтобы выиграть борьбу полов. Только когда Адлер направил к нему для лечения Штекеля, Зигмунд узнал, что Адлер был энтузиастом, испытавшим методы Фрейда на некоторых своих пациентах. – Иногда с обнадеживающими результатами, – признался он Зигмунду. – В той же мере успешно, как у меня, – ответил доверительно Зигмунд, – но мы не станем доказывать статистически безупречность метода психоанализа. Более важно уделить внимание сложным случаям, чтобы расширить наши знания. Именно этим я занимался весь прошлый год, пытаясь лечить шизофреников и других замкнувшихся в себе пациентов, с которыми, казалось, невозможно установить личностный контакт. Я не могу их вылечить, но они неизлечимы даже для профессора Блейлера из Бургхёльцли в Цюрихе. Доктор Альфред Адлер прятал свой взгляд за тяжелыми веками и пенсне. Признавая, что исследования Зигмунда открыли новые пути, он в то же время по–своему толковал психоанализ и подсознание, отказываясь принять теорию Зигмунда полностью. По этой причине, рассуждал Зигмунд, Адлер сторонится приятельских отношений в отличие от других, которые часто заходят выпить кофе, пройтись вместе по вечерам и в воскресенье в Винервальд, обсуждая методику. На встрече в среду Адлер дал понять, что, хотя хозяином является доктор Фрейд, он, доктор Адлер, намерен следовать собственным путем. Со своей стороны Зигмунд заверил, что взгляды каждого будут уважаться. Глава из рукописи Адлера «Об исследовании органической недостаточности», намеченная к публикации в следующем, году, смещала объяснение человеческого характера от рассудка к отдельным органам человеческого тела. Зигмунд восхищался докладом, хотя речь шла больше о физиологии, чем о психологии, и часть выдвигавшейся в нем теории требовала пересмотра. Тем не менее, Адлер оказывал помощь и был щедр по отношению к более молодым в группе, большинство которых мечтало стать психоаналитиками.2
Участники встречи уселись в кресла вокруг овального стола: Зигмунд – в головной части, Отто Ранк – слева от него, другие заняли свободные места… кроме Альфреда Адлера, который всегда сидел на одном и том же месте, в центре стола, не ради тщеславия – он не был эгоцентричным, – а потому, что ясность и смелость его публикаций и опыт выдвигали его на первый план в дискуссии. Зигмунду нравилось вести себя именно так: оставаться в тени, не читать больше, чем другие, докладов, не злоупотреблять временем в дискуссиях. Приемная комната, где Зигмунд беседовал с пациентами, находилась между его рабочим кабинетом и прихожей; это было тихое помещение с восточным ковром на полу, с репродукциями картин итальянских мастеров, изображавших статуи трех фараонов в Луксорской долине. Зигмунд обвел взглядом присутствующих. Их было вместе с ним девять. Он откинулся в кресле и мысленно попытался воспроизвести прошедшее за четыре года, которые истекли с того памятного вечера в октябре 1902 года, когда Адлер, Штекель, Рейтлер, Кахане и он впервые встретились за этим столом. Сразу же сложилась дружественная атмосфера, когда, казалось, мысли переходят от одного к другому. Он избегал наставлений и попросту изложил все, что знал о подсознании и вырисовывавшейся структуре человеческой психики как отправной точке дальнейших исследований. В роли хозяина он умел мягким словом или жестом не дать дискуссии уклониться в сторону или приобрести личностный характер. Благодаря тому что он не выступал как профессор, а предпочитал опираться на возраст, опыт и умение, чтобы поддерживать гармонию, в небольшой группе крепла дружба и росло взаимное уважение. Они считали себя первопроходцами в новой науке. В первые два года встречи стали местом размышления, Зигмунд собирал мысли и энергию для продвижения вперед. Сохраняя под замком рукопись о Доре, он написал в 1903 году главу «Психоаналитическая процедура» для учебника Левенфельда «Навязчивые неврозы», в 1904 году отредактировал свою лекцию «О психотерапии», прочитанную в коллегии докторов, а затем опубликовал ее, составил также главу «Лечение психики (или рассудка)» для популярной книги о медицине, выпущенной в Германии. Два года выдержки привели к новому творческому рывку. С бьющей через край энергией и радостью он начал жадно работать над двумя рукописями, которые держал в различных ящиках, занимаясь ими поочередно, когда появлялись новые мысли и идеи: «Остроумие и его отношение к бессознательному» и «Три очерка к введению в теорию сексуальности». Он закончил обе рукописи почти одновременно и послал их в издательство. Затем, готовясь к шквалу, который должен обрушиться на него из–за содержания «Трех очерков к введению в теорию сексуальности», он вытащил рукопись о Доре, перечитал ее вдумчиво и пришел к выводу, что она поможет подкрепить его теорию, подошло время для новой схватки с учеными мира. «Странно, – думал он, – насколько похожа медицинская профессия на моих пациентов. Бесполезно нянчить и нежить их, это ничего не меняет в их умах и поведении. Я должен добраться сначала до подавленного в их сознании, дать выход эмоциям, затем позволить им перенести на меня агонию, ненависть, унижение и проступки детства. Только при таком катарсисе они могут судить о правильности или ошибочности моей работы». Зигмунд смотрел, как Отто Ранк разложил свои бумаги, поправил очки на переносице перед началом чтения доклада «Драма кровосмешения и ее осложнения». Ранк выглядел мальчишкой среди пожилых. Он говорил в простой, открытой манере, перенятой у Зигмунда после посещения его лекций в университете зимой 1905/06 года. Доклад Отто предстояло выслушать и обсудить в течение трех недель, так что перед начинающим молодым человеком стояла нелегкая задача. Но Зигмунд был уверен в своем протеже; он не пожалел усилий, чтобы удостовериться, что Отто довел до кондиции каждый раздел своей работы. Он много прочитал и обстоятельно документировал тезис о том, что вопрос кровосмешения волновал человечество на протяжении всей его истории. Отто Ранк кончил выступать ровно в десять. Пришла горничная с кофе и кексами, посыпанными орехами, и поставила поднос в центре стола. Участники встречи встали, добавили в кофе горячее молоко или взбитые сливки. Некоторые прохаживались по комнате, беседуя или перебрасываясь шутками, затем брали из ящичка номер, определяющий очередность выступления, и возвращались на свое место. Из начинающего ученого Отто превратился в секретаря, способного записать всю дискуссию так же точно, как если бы ее фиксировал один из фонографов, изобретенных недавно американцем Томасом А. Эдисоном. Карточку с первым номером вытянул учитель Филипп Фрей. Все взоры обратились к нему. Он работал над монографией «Самоубийство и привычка», которая, как полагал Зигмунд, положит начало исследованию стремления человека к смерти. – Ранк, я не вижу ясной структуры в вашем докладе. Вы представили фрагментарные и изолированные факты, истолкованные по методу Фрейда. Может быть, было бы лучше просто изложить эти факты? Отто Ранк глотнул, но головы не поднял. Рудольф Рейтлер показал карточку с номером два и начал говорить громко, но не спеша: – Во–первых, Отто, я могу поддержать вашу аргументацию, ведь в студенческих песнях есть намеки на кровосмешение. Вы найдете немало примеров, посетив университет. Полагаю, что вы выиграли бы от более тщательного изучения роли, которую играет покаяние в истории святых. Вот один из примеров отцовской ненависти: Бог–Отец убил не прямо, а косвенно своего сына Иисуса, составляющего вместе с ним и Святым Духом Троицу. Зигмунд подумал озадаченно: «Лишь католик может счесть себя свободным выступить с такой еретической концепцией!» Следующим взял слово доктор Эдуард Хичман. Это был тридцатипятилетний, успешно практикующий врач–терапевт. Гладковыбритый, с коротко подстриженными усами, он выглядел привлекательно, несмотря на преждевременное облысение и лукавые, с прищуром глаза… Он обычно начинал с фраз, которые Зигмунд вспоминал на следующее утро, вроде: «Соитие есть ужин бедняков», «Хочется соития, чтобы не чувствовать себя несчастным». Когда его представили группе, он заявил: – Профессор Фрейд, мой основной интерес к вашей работе касается скорее прошлого, чем будущего. Думаю, что метод психоанализа применим не только к живущим, но и к мертвым. Я имею в виду великих мертвых. Мне пришла в голову мысль, что эти люди оставили превосходные свидетельства в письмах, дневниках, журналах, речах, которые могут раскрыть опытному психоаналитику столь же много относительно их мотиваций, как свободная ассоциация раскрывает мотивацию подсознания пациента на кушетке. Я хотел бы написать такие психоаналитические биографии, когда достаточно овладею методикой. Он сказал, обращаясь к Отто Ранку: – Вы ошибаетесь, предполагая, что любовь между родственниками всегда в своей основе кровосмесительная. Она может быть просто отеческой любовью. Не скажете же вы, что причина, по которой поэты пишут так много о кровосмешении, заключается в их влечении к патологической теме? Думаю, что вы крайне ограничите себя, если будете думать только в рамках эдипова комплекса профессора Фрейда. Зигмунда слегка раздражало то, что Хичман все еще не убежден в эдиповом комплексе как центральном в психоанализе. Он рассуждал: «Как можно сохранить второй этаж здания, если разрушен нижний? Однако – терпение; зерно созревает в поле с наступлением лета». Доктор Поль Федерн был удивительно невзрачным человеком, когда–либо встречавшимся Зигмунду: с лысой приплюснутой головой, крючковатым носом, сближавшим его со злокозненной антисемитской карикатурой в «Дейчес Фольксблатт». Тем не менее уродство не испортило жизнь тридцатипятилетнему Полю Федерну; он был на редкость приятным, верным другом, твердо стоящим на стороне Зигмунда Фрейда с момента прихода в группу в 1903 году. Его считали одним из лучших врачей–терапевтов Вены. – Дорогой Хичман, не согласен с вашей критикой. Доклад Отто содержит важный вклад. Я был удивлен, узнав, насколько часты импульсы к кровосмешению. Согласен с тем, что доклад был бы более ценным, если бы в нем прослеживалось историческое развитие кровосмешения от первобытного человека до индивидуальной семьи. Разве не интересен тотфакт, что сношение между отцом и дочерью запрещалось не так строго, как сношение между матерью и сыном? Думаю, что именно поэтому такое кровосмешение реже встречается в литературе. На мой взгляд, Отто, следовало бы больше остановиться на теме кастрации начиная с первобытных времен, когда кастрации подвергался любой презираемый человек или смертельный противник. Зигмунд внимательно выслушал выступление Альфреда Адлера, поскольку его замечания всегда были к месту. У Адлера был настолько красивый голос, что друзья советовали ему попробовать себя в опере; его немецкий язык выдавал венский говор, но речь была выдержанной, почти литературной. Он вырос в богатом пригороде Вены, и все его приятели и друзья были христианами. Поэтому ему не доводилось сталкиваться с размолвками между евреями и аристократами. В раннем возрасте он принял протестантскую веру. Его глаза сверкали, когда он обращался непосредственно к Отто Ранку. У него были небольшие усы, волосы гладко зачесаны назад с высокого лба, на лице, слегка одутловатом, с раздваивающимся подбородком, отражались все его чувства. – Считаю ваш доклад важным, потому что он подтверждает мой собственный опыт лечения психоневрозов. Касаясь сексуального истолкования вами жеста Эдипа, снявшего пояс с отца, могу сказать, что у меня была пациентка, развязывавшая при истерии свой пояс, и мы добрались до сексуального значения этого жеста. Относительно вашего замечания об Оресте, грызущем пальцы: другая моя пациентка обнаружила, что во сне она искусала до крови свой палец. В ее сновидении палец подменял пенис; ее акт был защитой против орального извращения. Что касается вашей теории о сексуальном символизме змеи, то одна моя пациентка сообщила мне: «Есть связь между мною и отцом, она выглядит отчасти как змея, а отчасти как птица». Когда я попросил ее нарисовать это связующее звено, то из–под ее пера вышел пенис. Зигмунд знал, что в отличие от быстро говорящего Вильгельма Штекеля, выдумывающего случаи под влиянием момента, чтобы сделать дискуссию более интересной, Адлер говорил о реальных случаях. Зигмунд сказал, что на средневековых картинах, изображающих дьявола, он часто фигурирует с пенисом в виде змеи. После этого он переключил внимание слушавших на Отто Ранка. Его задача как наставника заключалась в том, чтобы довести рукопись до надлежащего состояния, незаметно перевоплотиться в профессора Фрейда, опекающего подававшего большие надежды студента. – Прежде всего, Отто, работа завершена. Отто улыбнулся своей доброжелательной, скромной мальчишеской улыбкой: – Профессор Фрейд, мои раны зарубцевались, моя психика выправилась. – Именно так! Давай отметим некоторые моменты. Прежде всего, думаю, надо более отчетливо очертить тему и держаться в ее рамках. Во–вторых, ты не доказываешь читателю спорный вопрос, который тебе кажется очевидным. Думаю, что ты должен особо выделить наиболее важные результаты исследований. Будь внимателен! Вопрос вкуса и умения остановиться в надлежащем месте и отказаться от мало относящихся к теме свидетельств из поэзии или мифологии, которые затемняют главную мысль… Щеки Отто пылали от волнения; Зигмунд знал, что тщательный разбор не повредит молодому человеку. Когда Зигмунд изложил свои критические замечания, заседание было закрыто. Но участники любили слушать сообщения Зигмунда о новых пациентах и их симптомах. Десять дней он занимался истеричкой, которая рассказала, что в четыре года она разделась перед своим братом, возмутившимся этим. Однако, когда ей исполнилось одиннадцать, они раздевались и демонстрировали друг другу свои половые органы. Между одиннадцатью и четырнадцатью годами они имели интимные контакты. С наступлением зрелости такие игры прекратились, и вроде бы все обошлось без последствий. Но пациентка повзрослела, и мужчины стали ухаживать за ней. Перед перспективой супружества ее охватило чувство вины, она не знала почему. Как лучше всего подвести ее к этому «почему»?3
К десяти часам следующего утра Зигмунд лишился одного из наиболее интересных пациентов – высокого, плотного, самоуверенного сорокапятилетнего холостяка, страдавшего такой навязчивой боязнью бактерий и грязи, что он мыл, а затем разглаживал банкноты, которыми расплачивался за каждый сеанс. Потребовались месяцы, прежде чем он рассказал о своем сексуальном поведении: его не увлекали «интрижки» или венские проститутки, вместо них он предпочитал маленьких девочек. Он выступал в роли внимательного «дядюшки» нескольких семейств в городе, каждая из которых имела двенадцати– или тринадцатилетнюю дочь. Завоевав доверие семьи, он вывозил девочку на загородный пикник, затем умудрялся опоздать на последний поезд. Комната в комфортабельной гостинице резервировалась заранее; там они ужинали и ложились спать в единственную кровать. В постели «дядюшка» осторожно пододвигался и начинал гладить рукой интимные места девочки. Зигмунд сказал: – У вас страх перед бактериями, но почему вы не боитесь в таком случае трогать своими грязными пальцами интимные места девочек? Пациент вскочил с кушетки, его лицо побагровело от возмущения. – Как вы осмеливаетесь говорить таким образом?! Вы прекрасно знаете, что я не позволю себе грязными пальцами притрагиваться к этим чистым, невинным местам девочек! С этими словами он выскочил из кабинета и больше не вернулся, забыв отдать простиранные и выглаженные банкноты, аккуратно уложенные в его бумажнике, и оставив Зигмунда в недоумении, какие особые обстоятельства в детстве «дядюшки» привели его к такой форме извращения. В одиннадцать часов пришла замужняя женщина тридцати двух лет, аристократка по происхождению, которая решила, что выйдет замуж только за бедного. В двадцать восемь лет, несмотря на уговоры родителей, она вышла замуж за красивого образованного мужчину тридцати лет без средств к существованию. Первые годы супружеской жизни были счастливыми: женщина родила двух детей. Однако при третьей беременности появились некоторые сдвиги в ее характере. Она убедила себя, будто муж ей изменяет, стала ревнивой, нападала на няню. Подозрения она объясняла тем, что муж красив и способен привлечь любую, а няня так хороша, что должна казаться желанной мужу. Домашний врач посоветовал мужу и жене жить отдельно. В отсутствие мужа пациентка принялась писать любовные письма знакомым молодым людям, приглашая их на тайные встречи. Она заговаривала с незнакомыми мужчинами на улице. Когда родители увидели ее за таким занятием, она принялась кричать: «Если муж не верен мне, я имею право быть неверной ему». Она восстановила отношения с мужем, и вскоре после этого домашний врач направил ее к Зигмунду. После нескольких сеансов Зигмунд попросил мужа прийти на консультацию. Муж заверил его, что в ее обвинениях нет правды. Ее отец утверждал, что, будучи ребенком, она вела себя ненормально. Муж признался, что во время помолвки его жена вела себя странно, часто, как бы ненамеренно, толкала мужчин на улице. На третьем месяце третьей беременности он заметил у нее безудержное сексуальное влечение… а в последнее время появились извращенные желания. Она потеряла всякую сдержанность даже перед слугами, вела себя без тени стыда… Зигмунд пришел к выводу, что имеет дело с нимфоманией, начавшейся в детстве и развившейся в молодости. В ранние годы супружества красивый сильный мужчина до поры до времени удовлетворял ее. Затем наступило регрессивное развитие либидо, энергия полового стремления сместилась от мужа к самовозбуждению. Ревность, обвинения в неверности, голоса, обвиняющие мужа, – все это было сотворено ее подсознанием, чтобы преодолеть психические ограничения и дать полную свободу ее нимфомании. Зигмунд описал это как случай необычной паранойи, которую нельзя излечить с помощью психотерапии, поскольку мания имела тенденцию распространяться на все новые зоны ума и становилась постоянной. Пациент, явившийся в полдень, также озадачил; это был одержимый желанием умереть молодой человек, рассказавший об эпизоде, случившемся, когда ему было шесть лет. – Случай… Я спал в одной постели с мамой… злоупотребил возможностью… ввел палец в… когда она спала… Зигмунд никак не мог увязать навязчивую мысль молодого человека о смерти с этим инцидентом; другие проявления вины не были достаточно сильными, чтобы внушить желание самоубийства. Молодой человек рассказывал о сновидении: – Я дважды посещал дом, в котором бывал до этого. Что это могло бы означать, профессор? При чем тут исполнение желания? – Подумаем в плане символов. В каком символическом доме вы побывали дважды до сновидения, выражающего желание вернуться туда? Молодой человек уставился на него с ужасом в глазах. – Да, матка вашей матери, где вы провели девять месяцев до рождения и куда вас потянуло на шестом году. Ваша навязчивая мысль связана не со смертью, а с рождением, с желанием вернуться в матку матери… различными путями. Теперь, когда мы уяснили проблему, давайте посмотрим, можем ли мы вывести вас на прямую дорогу – к желанию попасть в матку любимой. У взрослых мать заменяют возлюбленная или жена. Тогда исчезнет навязчивая мысль о смерти, вы начнете думать о созидании жизни. Хотя он вел семинар и по субботам вечером читал факультативные лекции двадцати восьми студентам, его связи с университетом оставались строго почетными. Ни Вагнер–Яурег, ни советник, отвечавший за неврологию, не приглашали профессора Фрейда читать студентам обязательный курс. Не интересовалась этим курсом и никакая другая клиническая школа, за исключением Бургхёльцли – госпиталя и санатория при Цюрихском университете. Там Зигмунд Фрейд быстро нашел поддержку в лице доктора Блейлера, который четырнадцать лет назад, в 1892 году, написал положительный отзыв о работе «Об афазии», похвалив Зигмунда за то, что он первым ввел в афазию психологический фактор. Даже Йозеф Брейер, которому Зигмунд посвятил книгу, разошелся с ним именно в этом вопросе. Зигмунд посылал Блейлеру свои книги по мере их выхода в свет, и профессор Блейлер стал сторонником психоанализа, применяя его в ограниченных пределах к пациентам с преждевременным слабоумием, и, что более важно, преподавал психоанализ своим студентам. Теория Фрейда высоко ценилась в Цюрихе. Благоприятная обстановка в Швейцарии способствовала появлению психиатра доктора Карла Юнга, сына швейцарского пастора, а теперь главного ассистента Блейлера. Доктор Юнг прочитал «Толкование сновидений» и стал новообращенным. Еще в 1906 году Юнг послал Зигмунду экземпляр своей новой книги «Исследования в области словесной ассоциации», положившей начало психологическим исследованиям в Цюрихе. Юнг посвятил свой очерк «Психоанализ и опыт словесной ассоциации» доктору Зигмунду Фрейду. Так началась переписка между ними, обмен идеями и знаниями. Карл Юнг взял на себя роль защитника исследований Зигмунда. На конгрессе неврологов и психиатров в Баден–Бадене в мае профессор Густав Ашаффенбург посвятил свое выступление нападкам на недавнюю публикацию Зигмунда «Фрагмент анализа истерии», описывавшую случай Доры. Профессор Ашаффенбург декларативно заявил на конгрессе: – Метод Фрейда ошибочен в большинстве случаев, сомнителен во многих и вообще излишен. Карл Юнг немедля написал Ашаффенбургу ответ, который был опубликован в мюнхенском «Медицинском еженедельнике», в том же журнале, что и выпад Ашаф–фенбурга. Это была первая открытая, публичная защита Зигмунда Фрейда. Юнг подчеркивал, что критика Ашаф–фенбурга «касалась исключительно роли, которую, согласно Фрейду, играет сексуальность в формировании психоневрозов». Утверждавшееся им относится не к широкому диапазону психологии Фрейда, а именно к психологии сновидений, остроумия и нарушения обычного мышления… Он высоко отозвался о достижениях Зигмунда, которые способен отрицать лишь тот, кто не удосужился проверить экспериментально «процесс мышления Фрейда». «Я говорю «достижения», – продолжал Юнг, – хотя это не означает, что подписываюсь безоговорочно под всеми теориями Фрейда. Но это – достижение, и притом немалое, в выдвижении оригинальных проблем». И все же первым энтузиастом из Цюриха, встретившимся с Зигмундом Фрейдом, был не Блейлер, не Юнг, а молодой образованный человек двадцати пяти лет по имени Макс Эйтингон, проходивший обучение под руководством Блейлера и Юнга, но не получивший еще ученой степени. Блейлер просил его сопроводить к Фрейду пациента, с которым в Бургхёльцли ничего не могли сделать. Два часа консультаций, и доктор Фрейд убедился, что его метод бессилен в отношении несчастного, который видел внешний мир как отражение его внутренней хаотической психики. Макс Эйтингон оказался чудесным человеком. Выходец из богатой русской семьи, состоятельный, он учился в Лейпциге, где осела его семья, но вскоре, в раннем возрасте, покинул школу из–за заикания. Работая с микроскопом и горелкой Бунзена, он обрел свое место в жизни, поняв, что исследования не требуют много слов. Из медицинской школы Марбурга он перевелся в Цюрих под начало Блейлера. За последние два года с подсказки Карла Юнга он прочитал все шесть книг Зигмунда и двадцать четыре статьи о психоанализе. Несмотря на чудовищную помеху – заикание, Макс Эйтингон сделал для себя выбор, как он признался Зигмунду во время прогулки вокруг Обетовой церкви в холодный, но необычайно ясный январский вечер. Он хочет научиться у Зигмунда Фрейда психоанализу, но не хочет оставаться в Вене. – У ме… ня… есть дру… друг в Цюрихе, пре… преданный вам… К… Карл Абра… хам, его го… готовил Юнг, он хо… хочет пра… практиковать в Берлине. Я… я также. Начитанный молодой человек понравился Зигмунду. Зигмунд нашел, что Эйтингон необычайно добрый и мягкий. С извиняющейся улыбкой на круглом лице, значительную часть которого прикрывали очки без оправы, он объяснил, что нуждается в добром отношении других, «ко… когда я сам во… вовлечен в раз… разговор». Зигмунд вскоре установил, что Макс Эйтингон пусть и зайка, но может быстро овладеть методикой психоанализа. Когда Макс показал ему список вопросов, составленный Блейлером в расчете, что Зигмунд Фрейд сможет пролить свет на некоторые волнующие его проблемы в психиатрии, Зигмунд сказал: – Вам следует принять участие во встрече нашего Психиатрического общества в среду и поставить эти вопросы перед группой. Надеюсь, вы не торопитесь покинуть Вену?… – Нет… нет… я могу… оставаться так… дол… долго, как за… захочу. – Хорошо. Потребуется две встречи, чтобы уяснить вопросы, а затем оставшаяся часть нашей жизни, чтобы их разрешить. Должен, однако, сказать, с какой радостью я приветствую вас: до сих пор у нас были только венцы. Вы первый иностранный гость, почтивший нас своим присутствием. Мы можем сказать, что становимся международной организацией! Макс Эйтингон рассмеялся; его шедший из глубины голос не был искажен натугой, ибо не нужно было образовывать слова. Его глаза за стеклами очков светились радостью. 23 января 1907 года, в среду, вечером Зигмунд представил группе Макса Эйтингона. Все члены были довольны присутствием иностранного гостя. Эйтингон взял на себя труд размножить вопросы Блейлера, чтобы его заикание не задерживало дискуссии: «В дополнение к известным нам механизмам, какие другие факторы действуют на развитие невроза? Имеют ли значение социальные компоненты? В чем суть терапии? Направляется ли она против симптома? Происходит ли подмена симптома или же его удаление?» Последовала оживленная дискуссия. Все говорили одновременно. Отто Ранк записывал в бешеном темпе, дабы успеть. Зигмунд сидел в кресле с довольной улыбкой на лице, слушая своих молодых последователей. Задгер сказал: – Истерия – это выражение невроза любви. Федерн прокомментировал: – Серьезный невроз – следствие несчастливого супружества. Кахане заметил: – Психика живет за счет получаемых ею зарядов… Полная ассимиляция этих зарядов – непременное условие здоровья. Ранк отложил ручку и сказал: – Между болезнью и выздоровлением, симптомом и его разрешением проходит, можно сказать, нормальная жизнь пациента; в ней проявляются социальные, религиозные, жизненные инстинкты пациента, и с этого надо начинать,… Альфред Адлер постучал пальцами правой руки по ладони левой, аплодируя Ранку, самому молодому из присутствующих, затем заговорил своим музыкальным голосом: – Терапия заключается прежде всего в усилении определенных психических зон за счет психической тренировки. У страдающего истерией во время лечения происходит усиление психики. Пациент поражает нас своими идеями и выявлением связей, порой удивляющих врача. Во время и после лечения он овладевает материалом, который до этого был ему совершенно чужд. По мере прогресса в понимании пациент достигает умиротворенности ума, столь ему необходимой. Из безвольного заложника обстоятельств он превращается в сознательного творца своей судьбы. Вошла горничная с кофе и печеньем. Во время перерыва Макс Эйтингон рассказал о словесной ассоциации, о том, как доктор Юнг применил хронометр для измерения и фиксации времени, нужного пациенту для ответа на заданное слово, и как по этому времени врач может судить о глубине и серьезности подавления. Затем в момент общего молчания он повернулся к Зигмунду: – Про… профессор Фр… Фрейд, не скажете… что вы… вы думаете? Зигмунд улыбнулся и сказал: – Ах, я не намерен отмалчиваться! За этим столом каждый выступает по очереди. Я как раз размышлял на манер стареющего профессора, как можно вкратце обобщить изложенное сегодня. Итак, попытаюсь. Сексуальный компонент психической жизни влияет сильнее других факторов на причины неврозов. Через сексуальность устанавливается глубинная связь психики с организмом. Невротик болен в той мере, в какой страдает. Терапия неэффективна там, где нет страдания. Быть может, все мы в той или иной мере невротики. Болен ли индивид, определяется практическими соображениями. Действительное различие между легким заболеванием и серьезной болезнью заключается лишь в локализации, топографии симптома. Если энергия патологического элемента проявляет себя в незначительных отклонениях, человек «здоров». Но если она нарушает необходимые для жизни функции, тогда человек болен. Болезнь развивается в количественном отношении. Что же касается вопроса, какой невроз выберет болезнь, то тут наши знания малы.4
Книга «Остроумие и его отношение к бессознательному» пользовалась значительным вниманием, потому что в ней раскрывалась особая сторона подсознания. Это не было оригинальной областью исследования. Такие философы, как Липпс, Фишер и Вишер, составили гроссбухи, где описывались классификация и природа комического, однако эти книги, как и восемьдесят томов о снах, опубликованных до «Толкования сновидений», послужили для Зигмунда лишь отправной точкой. Он расчленил шутки и остроты на различные составные части в главах «Механизм удовольствия и психогенез остроумия», «Мотивы остроумия», «Остроумие как социальный процесс», «Отношение остроумия к сновидению и к бессознательному» и пришел к заключению, что остроумие не ограничивается задачей вызвать смех. Наиболее часто оно вызывается подсознанием со специальными мотивами: ревность, злоба, желание унизить, отторгнуть или просто причинить боль. Весьма редка хорошая шутка – та самая, которая помогает всем и у всех вызывает смех. Он определил, что два главных подраздела относятся к враждебным шуткам, служащим цели нападения или самозащиты, и к непристойным шуткам, позволяющим удовлетворить инстинкт похоти. Он заметил: «Человек, смеющийся над услышанной им непристойностью, смеется, как если бы он был зрителем акта сексуальной агрессии… Непристойность подобна разоблачению лица, в чей адрес она направлена». Особенно популярны остроты на тему об экскрементах. В детстве не различают, что относится к сексу, а что – к экскрементам, поэтому шутки, относящиеся к экскрементам, – это возврат к удовольствиям детства. Чтобы проиллюстрировать употребление острот как исполнение желаний, он воспользовался рассказом Гейне о распространителе лотерейных билетов, который сказал: «И как Бог свят, господин доктор, я сидел рядом с Соломоном Ротшильдом, и он обращался со мной, как со своей ровней, совершенно фамильярно». В своей собственной коллекции Зигмунд нашел примеры употребления шутки в качестве социального оружия или средства мщения. Промывая косточки другу, один человек сказал о нем: «Тщеславие – одна из его четырех ахиллесовых пят». Другой комментировал: «Я выехал с Чарли те–а–бет (Он глупый осел)». Оппонент заметил о молодом политике: «У него великая будущность позади себя». Карл Краус писал о знакомом журналисте: «Он едет в одно балканское государство на Ориентерпрессцуг», что на немецком языке звучало как комбинация Восточного экспресса с шантажом. Молодой холостяк, весело поживший за рубежом, возвратился в Вену с обручальным кольцом. «Как?! – воскликнул его приятель. – Разве вы женаты?» – «Да, – был ответ, – венчально, но это так». Для Зигмунда шутки имели нечто общее со сновидениями: и те и другие содержали как явное или открытое значение, так и скрытую цель. Он вспомнил шутку клинической школы: «Когда молодого пациента спрашивали, занимался ли он рукоблудием, то ответ был всегда таким: «Блудят руки, а я нет». Большое число шуток высмеивает супружество. «Врач, вызванный для обследования больной, отвел мужа в сторону и сказал: «Эта женщина мне не нравится». Муж ответил: «Она уже давно мне не нравится». «Сводня спросил: «Чего вы хотите от невесты?» – «Она должна быть красивой, богатой и образованной». – «Отлично, – сказал сводня, – но это три брака». Юмор редко не имеет мотивов; он возмещает то, чего нет в серьезных отношениях, таких, как подвластность гражданина правительству. В подобном случае сатира допускает самую едкую критику: колючки прикрываются легкой вуалью. Эта же сатира служит задаче выражения общественных суждений. «Глухой пришел к врачу, и тот поставил диагноз, что причина потери слуха в чрезмерном увлечении пациента алкоголем. Он посоветовал не пить, и больной обещал следовать рекомендации. Через некоторое время врач встретил пациента на улице и громко спросил, как тот себя чувствует. «Вам не нужно так кричать, доктор. Я отказался от пьянства и опять слышу хорошо». Немного погодя они вновь встретились. Врач спросил обычным голосом о состоянии его здоровья, но заметил, что его не понимают. «Мне кажется, что вы опять пьете водку, – закричал врач, – и поэтому опять не слышите». – «Быть может, вы правы, – ответил мужчина, – я опять начал пить водку и хочу подтвердить вам, что, покуда я не пил, я слышал, но все, что я слышал, было не так хорошо, как водка». «Говорят, что Гейне, лежа на смертном одре, богохульно пошутил. Когда близкий ему священник напомнил ему, что Бог милостив, и выразил надежду, что он простит его грехи, Гейне якобы ответил: «Конечно, он простит меня, это же его ремесло». В годы изоляции Зигмунд увлекся собиранием еврейских шуток, которые столетиями помогали поддерживать народный характер, высмеивая недостатки и в то же время утонченно утверждая его достоинства. Он использовал многие из них в главе «Тенденция остроумия»: «Невыгодно быть богатым евреем. Нищета других мешает наслаждаться собственным счастьем». Другая шутка отражала отношения между бедным и богатым евреями, поскольку Тора предписывает заботиться о бедном и относиться к нему как к равному. «Проситель, приходивший в гости по воскресеньям в один и тот же дом, появился однажды в сопровождении неизвестного молодого человека, который тоже намеревался сесть за стол. «Кто это?» – спросил хозяин. «Он мой зять с прошлой недели, – был ответ, – я обещал содержать его в течение первого года». «Проситель обратился к барону за деньгами для поездки в Остенде, поскольку врач рекомендовал ему морские ванны для поправки. Барон считал Остенде дорогим курортом и высказал мнение, что дешевый будет не менее хорош. Проситель отверг, однако, предложение, сказав: «Господин барон, для моего здоровья нет ничего, что было бы дорого». Он обращал внимание на фасад, за которым внешне бессмысленные шутки скрывают свое содержание, на жесткость насмешки, которая может содержаться в комических рассказах. Шутка, остроумное замечание или ответ могут вывести наружу подавленные чувства, бурлящие в глубине ума недели, а возможно, и месяцы. Они часто вылетают, потрясая слушателя и выступая как откровение и облегчение для того, чье подлинное состояние ума они выражают. Шекспир сказал в «Бесплодных усилиях любви»:5
В начале марта, в воскресенье, в десять часов утра, Карл Юнг нажал кнопку звонка у квартиры Фрейдов. Горничная ввела его в кабинет Зигмунда. Они стояли, уставясь друг на друга, ибо давно ждали этой встречи. В тот миг, когда они тепло, с восхищением и удовольствием пожали друг другу руки, Зигмунд успел запомнить облик Карла Юнга, охваченного ожиданием. Юнг был крупным, высоким, с широкими плечами и мощной грудью, с сильными узловатыми руками каменщика времен Ренессанса; крупной была также его голова с коротко подстриженными волосами и усами, очки не скрывали умных подвижных глаз – словом, это была личность, излучавшая силу и жизненность, как бы раздвигавшая уставленные книгами стены кабинета Зигмунда и делавшая его намного более просторным. Когда они пожимали друг другу руки, у Зигмунда было ощущение, будто они давнишние друзья: «Он подобен горному пику, подтягивающему вверх все вокруг себя». Тридцатидвухлетний Карл Юнг вышел из семьи священника; с материнской стороны в роду насчитывалось шесть священников, у отца–священника двое дядьев также были служителями церкви. Сначала Юнг уселся в глубокое кресло, предложенное Зигмундом, затем вскочил и принялся ходить, соразмеряя большие шаги с радостно вылетавшими фразами. У него был высокий, но не резкий голос. – Уважаемый профессор, я ждал этого момента несколько лет. Без вашей работы я никогда бы не нашел ключ к моей собственной. Мы применяем в Цюрихе фрейдистский психоанализ с обнадеживающими результатами. Я привез вам описание этих случаев, что представляется мне более ценным подарком, чем рубины, поскольку они подтверждают, что вы осветили небо науки новым солнцем подсознания. До исследования вами подсознания мы блуждали в темной пещере, не представляя себе человеческих мотиваций или характера. Здесь такое же различие, как между нашими предками, жившими в лесах и использовавшими дубины в качестве орудия существования, и теми, кто вышел на открытое солнце, чтобы сеять и пахать. Мы не можем вернуться к примитивной стадии. Вы смотрели на тот же самый материал, который был со времен Гиппократа перед глазами тысяч врачей, и только вам удалось пробиться к истине. Вы доказали, что человек – это существо, которое не может само судить себя, но подвластно суждению других. Патологические варианты так называемой нормальности волновали меня, потому что они предоставляли искомую возможность вообще заглянуть в психику. Вы точно соблюли указание Шарко: вы стали нашим самым крупным ясновидцем в психике. Зигмунду была настолько непривычна такая похвала, что он побледнел. – Я применял ваши терапевтические методы для лечения неврозов, – продолжал Юнг, – иногда с частичным успехом, иногда безуспешно, но терапия – лишь часть вашего вклада, и, возможно, не самая важная; ваши открытия в толковании и оценке антропологии, искусства, цивилизации оставят неизгладимый отпечаток на лице западного мира. Слепого заставили прозреть. Ваша работа позволяет человеку понять самого себя в свете внутреннего развития, и не только собственного, но и предков в немыслимые, как вы говорите, времена, в тот туманный период, когда человек стал человеком. Карл Юнг раздвинул занавеси на окне и уставился на здание Экспортной академии на противоположной стороне улицы. Успокоившись, он повернулся к Зигмунду с энергичной улыбкой. – По природе я еретик. Это одна из причин, почему ваши еретические взгляды меня привлекли. Зигмунд ответил, смеясь: – Ересь одного поколения становится правоверием для другого. – Позвольте рассказать о первом случае, когда я применил психоаналитический метод, – сказал Юнг. – В госпиталь приняли женщину, страдавшую меланхолией. Диагноз – преждевременное слабоумие. Мне же показалось, что у нее обычная депрессия. Я применил свой метод словесной ассоциации, а затем обсудил с ней ее сновидения. Она была влюблена в сына богатого промышленника, полагая, что красива и имеет шанс. Но молодой человек не обращал на нее внимания, и она вышла замуж за другого претендента, завела двух детей, а через пять лет узнала, что первый молодой человек проявлял к ней интерес. У нее появилась депрессия, она позволила дочке–малолетке сосать губку в ванне с грязной водой, и это кончилось печальным исходом. После этого она попала в госпиталь, и я занялся ею. До этого момента ее пичкали наркотиками от бессонницы и оберегали от самоубийства. Применяя ваши методы, я понял, что она подавляет желание расторгнуть супружество, изгнать детей из памяти. Она обвиняла себя в убийстве девочки и была готова умереть. Мог ли я назвать, что ее мучило? Я не мог спросить своих коллег, ибо они отговорили бы меня. Однако вы предоставили метод; как я мог позволить ей в этих условиях умереть? Ныне она вернулась домой, не свободная от моральной ответственности за смерть дочери, но старающаяся возместить потерю для остальной семьи… Зигмунд откинулся в кресле, с глубоким чувством удовлетворения наблюдая за тем, как Юнг кружил по комнате со словами, мыслями, сновидениями детства, рассказами о годах работы, которые привели его по ухабистой дороге психиатрии к психоанализу Зигмунда Фрейда. Его высокий голос был наполнен страстью к «новой эре», его кипучий ум выплескивал различные соображения, накопленные за многие годы. – У меня скрытный характер, унаследованный от матери; он связан с даром, не всегда приятным, видеть людей и вещи такими, какие они есть. Меня могут обмануть, когда я не хочу признать что–то, и все же в глубине души я знаю достаточно хорошо, как обстоят дела. Вы смотрите на мои руки. Да, я люблю работать руками. Всю жизнь я занимался резьбой по дереву. Теперь переключаюсь на камень. Я хочу иметь дело с более жестким, более достойным соперником. В саду моих родителей есть старая стена. Перед стеной на склоне выдается камень, я назвал его «мой камень». Часто, когда я один, я сижу на нем, но после ряда лет начинаю раздумывать: «Сижу ли я на камне или же камень сидит на мне?» Уважаемый профессор, буду честен с вами, как старался быть в письмах. Я не могу согласиться полностью с сексуальной этиологией неврозов. Знаю, вы понимаете, ибо писали мне в октябре, что давно подозревали по моим письмам, что я не могу полностью согласиться с вами, когда речь идет о сексуальности. Вы помните, в конце года я признался, что мое образование, окружение и научные посылки отличны от ваших. Я просил вас не верить, что хочу отличиться, делая акцент на расхождении во взглядах. Вы высказали мысль, что со временем я буду ближе к вам, чем сейчас. Это крайне желательно! Но вспомните, что я писал вам из Цюриха в декабре, обращаясь с просьбой о встрече: «Когда мы пишем, выступаем и пропагандируем психоанализ, не считаете ли вы более разумным не выдвигать на передний план вопрос о терапии? Ведь вы достигли значительных и весомых результатов – даже при моем скромном начале я оказал больным существенную помощь, – создали совершенно новую революционную науку, которую мы сможем применить во всех областях человеческой деятельности. Зачем в таком случае рисковать репутацией и достоинствами психоанализа, чье конечное значение в тысячу раз шире, чем терапия, доверяя его врачам, которые пришли в психотерапию только потому, что считают ее легким занятием, и могут повредить нашему движению, не зная нашей методики. Не лучше ли в наших публичных выступлениях умерить претензии на целительную силу психотерапии, пока мы сами не подготовим группу врачей, которые овладеют фрейдистским анализом?» Зигмунд выбрал сигару, задумчиво раскурил ее. Не просят ли его вновь быть машинистом поезда, у которого колеса только с одной стороны? Он писал уже Карлу Юнгу в декабре: «Я… постарался в своих работах не утверждать, будто наш метод действует лучше, чем другие». Зигмунд вспомнил, что ему известно о Карле Юнге: родился в Кессвиле, в Швейцарии, в семье пастора небольшого прихода, бедного, как церковная мышь. Он не желал заниматься теологией, но был вынужден пойти в эту область после смерти отца, ибо его тетка давала деньги только на теологическое обучение, и ни на что иное. Карл Юнг уехал в Базель, в гимназию, затем в Цюрих – интеллектуальную столицу Швейцарии – для изучения медицины в память деда. Он заинтересовался психиатрией не сразу; до завершения учебы ему надлежало прочитать книгу, Крафт–Эбинга «Психиатрия». Считая ее скучной, он отложил книгу напоследок… чтобы убедиться, что Крафт–Эбинг открыл мир более интересный, чем все изученное по внутренним болезням. После окончания университета Юнг работал под руководством профессора Ойгена Блейлера в университетском санатории, проводил психологические эксперименты с новой методикой «проверки ассоциацией», обнажившей скрытое в сознании пациента. Автор двух книг, он оставался бедным молодым человеком, когда влюбился в очаровательную дочь богатого промышленника Раушенбаха. Он полагал, что у него нет шансов, но Эмма Раушенбах и ее родители оценили прекрасный ум, характер и настойчивость красивого рассудительного молодого врача и приняли его в семью. Юнг и Эмма поженились в 1903 году и жили в бунгало на территории госпиталя Бургхёльцли. Эмма Юнг обладала значительным состоянием, завещанным ей дедом, но молодая чета жила за счет скромного жалованья ассистента профессора Блейлера, той самой должности, которой добивался двадцать пять лет назад Зигмунд у профессора Брюкке, собираясь жениться на Марте Бернейс. Карл Юнг не был навязчивым, по мнению Зигмунда, несмотря на то, что благодаря своим талантам выделялся среди простых смертных. В течение трех часов слова сыпались из Юнга как из рога изобилия, и Зигмунд ни разу не прервал его. Юнг говорил о себе только там, где было нужно показать долгий, временами сложный путь, который привел его к Зигмунду. Он хотел, чтобы профессор Фрейд знал о его сновидениях и через них оценил подсознание Карла Юнга. Юнг описал один сон: он идет навстречу сильному ветру с огоньком в руке. Обернувшись, он увидел, что за ним следует огромная темная фигура. Однако он не забыл, что должен сохранить огонь. Когда Юнг проснулся, то понял, что темная фигура была «моей тенью в окружающем тумане, отброшенной огоньком в моих руках. Я осознал также, что огонек – это мое сознание». Юнг хорошо знал зоологию, палеонтологию, геологию, а также гуманитарные дисциплины, включая греко–римскую, египетскую археологию и археологию более ранних периодов, привлекавшую Зигмунда. В его подходе к работе и открытиям чувствовалось убеждение в том, что они вручены ему судьбой и он должен ей подчиниться. Зигмунд ясно видел, что Карл Юнг стремился отдать работе всю жизнь, у него отсутствовала тяга к славе или богатству. Он обладал здоровым чувством юмора, любил пошутить и заставить других рассмеяться; большую часть шуток и острот он направлял против самого себя. – Должен рассказать о моем самом блестящем успехе! Произошло это с пожилой женщиной, буквально сотканной из неврозов. Она слышала голоса, исходившие из сосков каждой груди. Я испробовал все терапевтические средства, указанные в ваших книгах, а также те, которые вы еще не изобрели. Ничего не действовало! После нескольких месяцев я бросил ей: «Что же мне с вами делать?» – «О, знаю, господин профессор, – вежливо ответила она, – будем читать вместе Библию». Месяц мы читали… Сначала исчез один голос, затем другой, после чего, излечившись, пациентка удалилась. Разве это не делает меня великим терапевтом?! Приятным было то, что Карл Юнг ничего не утаивал. Каждый жест его крупных рук, каждая фраза, сказанная по делу, подтверждали, что он сторонник Фрейда, намерен стоять плечом к плечу с ветераном, раскрывать миру значение и роль подсознания. Между Юнгом и Альфредом Адлером, который из всей группы был по способностям и как личность сравним с Юнгом, существовало большое различие. Юнг не считал нужным и даже подобающим держать дистанцию между собой и Зигмундом Фрейдом, следовать формальностям в отношениях, показывать миру медицины, что он не ученик и не последователь. Юнгу доставляло удовлетворение сознание того, что Зигмунд Фрейд был его учителем, поводырем, вдохновителем; в каждой его чеканной фразе звучало: «Я ученик Зигмунда Фрейда!» Зигмунд извлек из кармана жилета золотые часы и несколько мгновений смотрел на них. – В рамках нашей дискуссии на остаток дня я предлагаю превратить наши проблемы в съедобное. Пока что утром мы обсуждали…– И он прервал монолог Юнга, разложив выслушанное им по соответствующим клеточкам. Карл Юнг открыл рот от изумления, а затем воскликнул: – Боже мой! Вы свели мой трехчасовой монолог в сгусток разума!6
Пробило час, когда Фрейд и Юнг поднялись по Берг–гассе к отелю «Регина», чтобы привести на обед Эмму Юнг. Двадцатичетырехлетняя Эмма была высокой гибкой женщиной с приятным лицом, проницательными глазами, блестящими темными волосами. Марта и Эмма понравились друг другу с первого взгляда. За столом Зигмунд посадил Юнга среди своих детей, окруженных Мартой, тетей Минной, матерью Зигмунда Амалией, сестрами Дольфи и Розой, мужем Розы Генрихом Графом, поселившимся на том же этаже через холл. Александр привел свою невесту Софию Сабину Шрейбер. Сорокалетний Александр, ставший владельцем компании по перевозке грузов, дал объявление, что ему нужен секретарь. Двадцативосьмилетняя София Шрейбер оказалась такой необоримой комбинацией способности и очарования, что Александр не только принял ее на работу, но и решил жениться на ней. Стол занял всю комнату. Карл Юнг был крепким как в умственном, так и в физическом отношении. Он любил бывать на природе, ему особенно нравилось плавать под парусами, он уходил к противоположному берегу Цюрихского озера и на каменистых островах разбивал палатку. Дети Фрейда были очарованы его рассказами о приключениях. Карл писал работы в альбоме двойного формата, украшая начало каждой страницы красочными крупными буквами на манер средневековых монахов. Он заимствовал темы художественных работ из сновидений и грез, но часто выражал их в формах, присущих восточному искусству. Археология была его первой любовью, и она все еще оставалась в центре его интересов. Однако в Швейцарии не было археологической кафедры, а молодому человеку приходилось зарабатывать на жизнь и искать свое место в обществе. К глубокому удовлетворению, он обнаружил, что две интересующие его области соприкоснулись: психоанализ позволяет по остаткам ранних цивилизаций раскрыть образ мыслей, религию, мифы, страхи, общественные ценности прошлого. – Все это, – заключил Юнг, – обеспечивает более глубокое понимание психики ныне живущих. Юнг никогда не противопоставлял ценность одной работы ценности другой; он мог проводить часы, зарисовывая сцены, увиденные им в сновидении, и считая, что время он использует очень хорошо. Озадаченный, Зигмунд спросил: – Каким образом рисование помогает вам толковать сновидения? – Я не пытаюсь влиять на содержание и форму рисунка. Я позволяю ему свободно выходить из подсознания. Когда я заканчиваю рисунок и изучаю его, то узнаю столько же скрытого содержания в сновидениях, сколько можно определить посредством словесного описания. Из подсознания выходит много фрагментов фантазии, для которых нет подходящего языка. Поэтому следует прибегать к иным средствам выявления и главным является рисунок. – Как вы обновляете свои источники, доктор Юнг? – спросила Марта. – Отправляюсь достаточно далеко по Цюрихскому озеру и нахожу уединенные песчаные косы, – ответил Юнг с широкой улыбкой, – где провожу целый день, отыскивая подземные ключи, расчищаю их и прокладываю каналы водного пути… занимаясь одновременно поиском скрытых источников в собственном мозгу. Из потайных источников поступают холодные и ясные мысли. После возвращения в кабинет я доверяю бумаге новые откровения, догадки, теории. Мне нравится эта безлюдная часть озера; когда я там, то в покое и в окружении красоты болот и мелких островов, над которыми нависают покрытые снегом горы, свободно действуют моя подавленная энергия и творческие флюиды. Не знаю, как долго я хотел бы остаться в Бургхёльцли, быть может, год или два, чтобы изучить все, что способен дать мне приют для умалишенных. Больница для меня в известной мере тупик; профессор Блейлер – мировое светило и талантливый администратор – несомненно, пробудет на посту директора еще тридцать лет. Для меня нет места… – Кроме как на другом конце Цюрихского озера? – добавил, улыбаясь, Зигмунд. – Вот именно! Моя частная практика складывается хорошо. Вам известно, у моей жены неплохое наследство, и она не меньше меня хочет найти участок земли и построить дом у северного края озера. Там я буду заниматься практикой, писать, рисовать, вести творческую жизнь. – И ваши нынешние пациенты последуют за вами из Цюриха? – Надеюсь на это. Есть катера, есть поезда. Я был бы плохим врачом, если бы нуждающиеся в помощи отказались от поездки ко мне. Я единственный психоаналитик, практикующий в Цюрихе. Полагаю, что смогу осуществить задуманное. В своих костях я чувствую долголетие. Поэтому я спокоен и терпелив, могу провести целый день на песчаной отмели в поисках скрытых родников или зарисовывая свои сновидения. После обеда мужчины поднялись по Берггассе и прошлись вдоль Верингерштрассе. Зигмунд показал Институт психологии, главные здания Городской больницы. Юнг был намного выше Зигмунда. Когда они проходили дворы больницы, Юнг осторожно сказал: – В отличие от вас у меня нет метода. Я мог бы определить психоанализ как «взаимное влияние». Быть может, во мне больше любителя, чем профессионала, каким являетесь вы. Я читаю все и стараюсь все узнать, но когда у меня находится пациент, я забываю обо всем и думаю лишь о нем. – Но без психоаналитической процедуры, – возразил мягко Зигмунд, – мы как заблудившиеся дети в густом лесу. Что вы хотели бы увидеть в Вене? – Какое в Вене самое старинное здание? – Святой Рупрехт, но собор Святого Стефана более интересен. Первая церковь на его месте была построена в середине двенадцатого века. Он прекрасен с его красочной шиферной крышей. Когда они спускались по Шоттенгассе, Юнг покачал головой в деланном отчаянии: – С шестилетнего возраста я ходил в католическую церковь со страхом и волнением. И этому была причина: во время поездки на Пасху в Арлесгейм моя мама сказала: «Вот католическая церковь». Я был в испуге, но меня перебороло любопытство – швейцарские протестанты не посещают католические церкви, – отбежал от родителей и ворвался в открытую церковь. Едва успев бросить взгляд на украшенный цветами алтарь, я оступился и ударился подбородком о железную ограду. Подбородок был рассечен и обильно кровоточил. Напугав прихожан, я заплакал, меня охватило чувство вины, и я счел себя наказанным за проступок. Воскресная служба закончилась. В храме Святого Стефана было тепло и пахло благовониями. Мужчины медленно обошли приделы собора. Когда они вышли под прохладное мартовское солнце на площадь, заполненную конными экипажами, Зигмунд посмотрел на Карла Юнга и сказал дружеским тоном: – Ни страха, ни волнения, ни крови из пореза на подбородке? Юнг слегка рассмеялся: – Нет, с вами так приятно. Какие увлекательные вещи вы рассказали мне о витражах, резьбе по камню, фресках, саркофагах, сравнивая с соборами, виденными вами в Италии. Я увидел все это в исторической перспективе. Я начинаю смотреть на католическую церковь как на хранительницу величайшего искусства мира. Он искоса взглянул на Зигмунда и с озорным блеском в глазах продолжал: – Не странно ли, что вы, еврей с широким кругозором, даете мне, провинциальному протестанту–кальвинисту, соприкоснуться без чувства вины или подавленности с матерью церквей? Если это часть моего психоанализа, то благодарю вас, уважаемый профессор, вы освободили меня от несуразных страхов детства. – Разве избавление от страхов и тирании, навязанных нам до того, как мы получили способность рассуждать, не является широкой дорогой к свободе? – Вынужден согласиться, – ответил Карл Юнг, став неожиданно серьезным. – Когда мне было шесть лет, моя тетя повела меня в зоологический музей в Базеле. Я был так очарован, что не мог оторваться от экспонатов до звонка, возвещающего о закрытии музея; после этого нас заперли в главном здании, откуда пришлось выходить через боковое крыло здания; и там я увидел выставку изумительных человеческих фигур, на которых не было ничего, кроме скромных фиговых листков. Они были великолепны. Я был ими очарован. Тетя накричала на меня: «Негодный мальчишка, закрой глаза!» Она была в такой ярости, словно ее провели по порнографической выставке, и всячески старалась убедить меня, будто человеческое тело, особенно эрогенные части его, отвратительное, уродливое, грязное. Мне никогда не казалось, что это правильно, и я противился как мог, но всегда в моих ушах звучал напуганный голос тети: «Негодный мальчишка, закрой глаза!» Итак, профессор Фрейд, вы открыли мне глаза и позволили мне увидеть, что эрогенные зоны не были дьявольски втиснуты между подбрюшьем и бедрами самим Сатаной, когда Бог дремал. Все человеческое тело, включая мозг, сердце, душу и детородные органы, есть мастерское творение Бога; в противном случае человек – грязное и бессмысленное создание и должен исчезнуть с лица прекрасной Земли. – Браво! Я завидую образности ваших фраз. Объясните, как вы угадываете болезни ваших пациентов? – Моя терапия скорее активно воздействующая, чем воспринимающая, – ответил Юнг, когда они начали спускаться по Берггассе. – Я заинтересован в действии, которое может произойти в пациенте и позволяет ему преодолеть болезнь. Даже в приюте я не анализирую дневные фантазии пациентов с преждевременным слабоумием, а воссоздаю в них способность бороться с этими фантазиями, противодействовать им. Так, у молодого мужчины, вступившего в брак, возникли серьезные осложнения с невестой, появились грезы: они вдвоем оказались на замерзшем озере, он не умел кататься на коньках, а невеста каталась преотлично. Он наблюдал за ней с берега, вдруг лед треснул, и она провалилась. Таково было окончание фантазии. Я возмутился и заявил парню: «Ну и что же вы делали? Почему не бросились спасать ее? Вы дали ей утонуть?» Такова, по–моему, концепция, как следует принимать такие фантазии – принуждать ум сделать следующий шаг: прыгнуть в озеро и спасти ее. Вы доводите фантазию до логического завершения, предлагая действие. Такова терапия! Они расположились в рабочем кабинете Зигмунда; когда дискуссия стала слишком бурной, они переместились в приемную, затем в прихожую, где было больше пространства. Интеллект Карла Юнга был широк, что отвечало открытости его физической натуры. Он сказал: – Я готов проверить, есть ли элемент истины в том, чему желает отдать свой рассудок человек. Знаю, что вы не интересуетесь спиритуализмом или парапсихологией, а я хочу состоять в родстве со всем миром, а не с одним его уголком. Занимаясь больными, я даю им возможность выразить себя с помощью письма, рисунков. Таким образом они находят свою собственную символическую сущность и ясно отражают свою собственную патологию. В конечном счете наука есть искусство создания нужных иллюзий. Мы помогаем больному избавиться от разрушительного невроза и заменить его иллюзиями, позволяющими жить. Разве суть жизни не в том, чтобы раскрашивать мир божественными красками? Зигмунд вновь вспомнил Вильгельма Флиса, его почти гипнотическую способность убеждать, но у него было иное чувство к Карлу Юнгу. Флис не переносил критики. Юнг был человеком, требовавшим честности. Зигмунд мог не соглашаться с ним, спорить, выдвигать свои особые взгляды. – Извините меня, господин доктор, – ответил Зигмунд, – если ввяжусь в дискуссию о религии. Она важна в формировании наших верований и фантазии. История религии – это история запуганного народа, пытающегося во мраке возвести крышу над головой, чтобы укрыться от страха и тревоги перед неизвестным. Поэтому человек выдумал Бога; как много было богов с незапамятных времен: сотни? Быть может, тысячи? Все под различными именами, с разными нравами, властью. Несомненно, религия может сказать нам многое о состоянии человеческой психики, но я не встретился с использованием религии для лечения, не считая старой леди, захотевшей читать с вами Ветхий Завет. Карл Юнг серьезно подумал над сказанным, но затем покачал головой и сказал: – Нет, человек – это сновидение, в котором его вновь и вновь казнят через повешение. После каждой смерти голос взывает: «Воцарилось ли спокойствие?» Что мы используем для защиты? Что касается меня, то во мне сидит мистический дурак, который сильнее всех моих знаний. Я часто вижу сон, приносящий мне чувство большого счастья: я последний человек на Земле, вокруг меня космическое спокойствие, а я смеюсь, как герой Гомера. Зигмунд снисходительно улыбнулся, а затем сказал: – Помню строку из вашего письма: «Страдания избежать не дано. Лучшее, что мы можем сделать, – это избежать слепого страдания». Но нет возможности понять ненормальное и правильно лечить, пока мы не разберемся, что нормально в человеческой натуре и как группируются все наши инстинкты, как глубоко они запрятаны, какие из них созидательные, а какие разрушительные; что нужно каждому человеческому существу, чтобы удерживать себя в равновесии в сложном мире, где нас окружают жадность, зависть, ревность, ненависть, горечь, разочарование, унижение духа и воли. Каким образом мы можем помочь человеку воспринять обычную человеческую неблагодарность? Объяснить научно, как человеческий ум стал тем, что он есть, и какие силы его сформировали? Как контролировать силы, заключенные в нас самих и внутри общества? Короче говоря, мы должны знать столько же о человеческом уме, сколько о теле: что заставляет кровь течь по жилам, а сердце перекачивать кровь, переносить кислород в мозг, какие антитела могут уничтожать вирусы, бактерии, злокачественные образования. В восемь часов вечера горничная принесла легкий ужин. Они с аппетитом поели, ибо израсходовали много энергии. Затем отвели в гостиницу госпожу Юнг, которая хотела пораньше лечь спать. Зигмунд пригласил Карла Юнга прогуляться по Рингу. На улицах было тихо. Юнгу понравилось многообразие архитектурных стилей парламента, музеев, Бургтеатра, контуры которых смягчал приглушенный свет. Зигмунд шагал быстро; хотя он казался хрупким рядом с мощной фигурой Карла Юнга, но именно он задавал стремительный темп. Вечер навевал ностальгию на Юнга, который хотел рассказать вновь обретенному другу о своем детстве. – Несколько лет я спал в комнате отца. У матери была депрессия, и она попала в больницу. Когда она вернулась, то спала в своей комнате, закрывая дверь на замок. До меня иногда доносились пугающие звуки из–за этой двери. Конечно, я знал о больших трудностях во взаимоотношениях родителей, а также то, что моя мать эмоционально и душевно больна. Вы поймете, что, когда я прочитал книгу Крафт–Эбинга «Психиатрия», был совершенно подавлен. Тогда я был не в состоянии сформулировать точно, но мне казалось, что я набрел на саму сердцевину. Этот момент явился началом моей карьеры ученого в области медицины. Был бы я столь восприимчив, если бы не видел воочию разрушительные результаты психического заболевания? – Полагаю, что это повлияло на вас. Судя по участникам нашего психиатрического кружка, практикующим психоанализ, мы все выросли с неврозами и должны как–то с ними ужиться. Они прошли мимо церкви, часы на которой пробили десять, и повернули к дому Фрейда, где их ждала Марта, приготовившая горячее какао. В час ночи Зигмунд проводил Юнга в гостиницу. На прощание они пожали друг другу руки. Юнг сказал мягко: – Уважаемый профессор, вы первый замечательный человек, которого мне довелось встретить. Никто не может сравниться с вами. В вашем поведении нет ничего заурядного. Для меня вы крайне интеллигентный, проницательный и во всем примечательный человек. И все же мое впечатление от встречи с вами какое–то путаное. Не могу уяснить для себя. Зигмунд протянул руку, коснулся пальцами плеча Карла Юнга и ответил: – Мой дорогой доктор, уясните. Будем же близкими в мыслях и душе. Мы нужны друг другу и можем взаимно друг друга дополнять. Когда Зигмунд вошел в спальню, Марта робко улыбнулась и сказала: – Никогда не видела тебя таким очарованным. Он такой же хороший, каким кажется? Зигмунд поцеловал ее, пожелал доброй ночи. – Да, думаю, что он самый значительный из встреченных мною. Но осторожно, осторожно, все это слишком важно для меня. Он может оказаться тем, кого я ищу, чтобы возглавить наше движение.7
И все–таки они приходили, как бы притягиваемые центростремительной силой: знакомые Альфреда Адлера из кафе «Центральное», желающие выяснить, могут ли они применить психоанализ для своей социальной революции; врачи, работающие в близлежащих городах, такие, как Гвидо Брехер из Мерана, приславший письмо с просьбой разрешить ему присутствовать на встречах; или просто постучавшие в дверь… И конечно, приходили друзья и родственники давнишних участников, такие, как доктор Фриц Виттельз, двадцатисемилетний племянник доктора Задгера, автор нескольких талантливых новелл, в том числе новеллы «Багдадский ювелир», намеревавшийся опубликовать смелое исследование под названием «Сексуальная потребность». Он проходил подготовку в психиатрической клинике Вагнер–Яурега и хотел познакомить группу со своей только что завершенной рукописью «Мотивы убийц–женщин», доказывавшей, что в основе таких убийств лежит подавленный эротизм. Фриц Виттельз был своим человеком для группы, и тем не менее Зигмунд колебался. У его дяди Исидора Задгера был колючий характер, любой, столкнувшийся с ним, уходил с царапинами и ранами. О его личной жизни, державшейся им в глубокой тайне, не было ничего известно; он был пострадавшей личностью, отвечавшей тем, что ввергал в беду других. Зигмунд полагал, что Задгер был жертвой подавленного гомосексуализма, выдававшего себя лишь в его рукописях. Следовало ли пойти на риск с Фрицем Виттельзом? Молодой человек был задирист, хотя превосходил других врачей уже потому, что принадлежал к творческой интеллигенции и заслужил в других группах репутацию строптивого ребенка. Однако, подобно Вильгельму Штекелю, он обладал шармом и вкусом, был остроумным и одаренным врачом. Его импульсивный ум мог оказаться находкой для группы; к тому же он, как и Вильгельм Штекель, много писал в венских газетах для аудитории, недоступной Зигмунду Фрейду. Зигмунд решил, что сможет держать под контролем этого молодого человека. Обращаться к прошлому – все равно что двигаться назад: можно хорошо обозреть пройденный путь, но натолкнуться на то, что стоит позади. Зигмунд провел немало лет, вглядываясь в детство хомо сапиенса и пытаясь определить, что происходило в возрасте двух, трех, четырех и пяти лет, обдумывая поведение и результаты свободной ассоциации, когда взрослые лежали на его кушетке. Он не имел возможности изучить поведение новорожденных или малышей, во всяком случае в своей детской, где Марта заявила без обиняков, что он должен быть нормальным отцом своей шестерки, а не наблюдать за ними и не использовать их в целях своих исследований. Это ей далось легко, ибо Зигмунд не считал возможным анализировать поведение детей. Он вообще сомневался, сможет ли даже многоопытный наблюдатель составить себе представление о том, что происходит в детском уме. Затем положение драматическим образом изменилось. В состав группы, собиравшейся по средам, входил его друг, тридцатитрехлетний доктор Макс Граф, юрист с университетским образованием и музыковед. Сын издателя и владельца типографии, он выпускал «Нойес Винер Журналь», много писал в венских газетах на музыкальные темы, занимал пост профессора–музыковеда в консерватории и изредка приглашал Зигмунда и Марту к себе на концерты. Он был приятным, сентиментальным, но не замкнутым человеком. Граф носил очки в роговой оправе, и его коротко подстриженные баки почти касались оправы; у него были узкие брови и небольшая ямочка на подбородке. Ему нравились костюмы в мелкую клеточку, чтобы отличаться от венских дельцов, а также показывать окружающим, что хотя он не живет непосредственно в мире искусства, но по меньшей мере с ним соприкасается. Его увлекал философский дух дискуссий в группе. У Макса Графа была приветливая жена, приходившая с ним к Фрейдам на чашку кофе. Она прочитала несколько книг Зигмунда и с нетерпением слушала рассказы мужа об обсуждениях, проходивших по средам. Их сын Ганс, четырех с половиной лет, смышленый мальчишка, был взвинченным и подавленным, боялся выходить на улицу из–за опасений, что его может укусить лошадь. Он отказывался от прогулок с няней и с отцом. Его никогда не кусала лошадь, и единственный случай, связанный с лошадьми, имел место во время прогулки с матерью. Он увидел, как упала лошадь конки и билась на мостовой, словно умирающая. Это, очевидно, и стало причиной нервного расстройства. Ганс страдал также навязчивой мыслью, что у каждого живого существа есть «делатель малышей». Когда он приходил в зоопарк, то его внимание привлекало именно это. Он постоянно спрашивал мать, есть ли у животных пенис, или делатель малышей. Ганс называл вымя коровы пенисом и не понимал, как из него вытекает молоко. Когда ему исполнилось три с половиной года и родилась его сестренка Ганна, он старался присутствовать при ее купании, чтобы найти у нее делателя малышей. Зигмунд сказал Максу Графу, что Ганс «озабочен загадкой, откуда появляются дети», которая, вероятно, является первым вопросом, пробуждающим умственные способности ребенка. Ганс часто плакал, когда рядом не было матери. Он хотел, чтобы она ласкала его; иногда вечерами или ранним утром он приходил к матери в спальню и говорил ей, что боится потерять ее; сентиментальная мать брала его к себе в постель. Отец и мать старались отвадить мальчика от привычки трогать собственный пенис. Когда мать впервые увидела его за этим занятием, она допустила, по мнению Зигмунда, ошибку: сказала, что если он будет трогать пенис, то его отрежут. Это породило страх перед кастрацией, который и стал причиной его взвинченности. Макс доверительно сказал Зигмунду, когда невроз мальчика достиг высшего предела: – Думаю, что его пугает большой пенис, такой, как я могу себе представить, встречается лишь у жеребцов на улицах Вены. Не подсказывает ли вам это что–нибудь, профессор? – Да, Макс, но первое, о чем я думаю, что следует сказать ему по поводу страхов быть укушенным: это глупость, он просто подменяет одно другим. На деле же он хочет, чтобы мать брала его к себе в постель и ласкала. Отец Ганса доходчиво объяснил мальчику разницу между мужчиной и женщиной. На какое–то время это, казалось, умерило взвинченность Ганса, но он буквально дрожал от страха, когда нужно было выйти на улицу. Граф попросил Зигмунда заняться лечением: фобия могла нанести серьезный ущерб психическому и физическому здоровью мальчика. Зигмунд сделал смелый шаг, исход которого он не мог предсказать; такой шаг был возможен лишь с родителями, имеющими представление о психоанализе. Он посоветовал Максу Графу и его жене рассказать Гансу исподволь и осторожно об эдиповом комплексе и объяснить, что потребность Ганса в материнской ласке столь же нормальная, как и желание заменить отца. Ганс слушал внимательно, казалось, понимал многое из сказанного. Хотя ему было всего пять лет, он оказался способным перейти в своей фантазии к представлению, что он может сохранить мать, не теряя отца. Зигмунд понял это на основании диалога, записанного Максом Графом. «30 апреля. Заметив Ганса играющим с воображаемыми детьми, я сказал ему: – Здорово. Твои дети живы? Ты хорошо знаешь, что мальчик не может родить ребенка. Ганс. Знаю. Раньше я был их мамой, а теперь я их папа. Я. А кто мама детей? Ганс. Как кто? Мама, а ты их дедушка. Я. Тогда тебе хочется стать таким же большим, как я, жениться на маме, а затем хотелось бы, чтобы у нее были дети. Ганс. Да, желал бы, чтобы было так…» После этого страхи Ганса прекратились. Он уже не говорил, что его могут укусить лошади, не спрашивал о «делателях малышей» или откуда появляются дети. Он свободно выходил на улицу. Его отец сообщил Зигмунду, что мальчик хорошо кушает и спит, что признаки фобии исчезли. В ответе Зигмунда сочетались удивление и гордость: – Наш маленький Эдип нашел лучшее решение, чем предлагалось судьбой. Вместо того чтобы устранить отца, он даровал вам то же самое счастье, какое хотел иметь сам, Он обратил вас в деда и оказался достаточно щедрым, чтобы позволить вам жениться на его собственной матери. В его уме это было наилучшим решением.8
После летней жары Зигмунд почувствовал себя изнуренным месяцами напряженной работы, писания, возни с издателями. Он и Марта решили изменить свои планы: вместо поисков виллы побродить по Каринтии и Далмации, останавливаясь в подвернувшихся гостиницах. Они облюбовали приятное местечко в Санта Кристине, купались в озере, поднимались в горы, собирали горечавку. Зигмунд подцепил инфлюэнцу, оказавшуюся весьма прилипчивой. В начале сентября они перебрались к озеру Оссиакер. Зигмунд имел намерение съездить на Сицилию, посмотреть тамошние римские развалины, но затем решил, что не стоит рисковать здоровьем, когда, как сообщали, дует сирокко, иссушая Палермо и Сиракузы. Ему доставляло удовольствие сочинять письма Карлу Юнгу, тратившему большую часть своего времени на защиту Зигмунда Фрейда и его исследований. Ради собственного спокойствия он уверял себя, что Юнг является более подходящим пропагандистом, поскольку публика нашла нечто чуждое в личности профессора Фрейда и его идеях. Он писал Юнгу: «Вам открыты все сердца… Люди не хотят, чтобы их просвещали. Поэтому в настоящее время они не могут понять простейших вещей. Когда они станут готовы к этому, то вы увидите, что они способны понять самые сложные идеи. До наступления такого времени остается лишь одно – продолжать работать и как можно меньше спорить… Любой молодой, свежий ум, способный мыслить, – на нашей стороне». К середине сентября, почувствовав себя бодрее, он решил провести неделю–другую в Риме, обдумать спокойно и не торопясь проблемы, с которыми придется столкнуться в предстоящем рабочем году. Марта заберет детей до конца сентября в Тальхоф. Тетушка Минна была нездорова и находилась некоторое время под наблюдением врачей в Меране. По мнению семьи, несколько дней во Флоренции восстановят увядающее состояние ее духа. С помощью телеграмм условились, что тетушка Минна встретит Зигмунда во Франценфесте. Во Флоренции Зигмунд показал ей фрески Беноццо Гоццоли в часовне Медичи, а на следующий день они съездили в Фьезоле, чтобы полюбоваться превосходным видом на Флоренцию. После ланча на открытой террасе, нависшей над Арно, они осмотрели этрусские скульптуры и стены, которые выстояли под напором вторгшихся римских армий, пытавшихся их разрушить, а затем проехали вдоль холмов в Сеттиньяно, на родину Микеланджело. Минна вернулась поездом в Меран. Зигмунд купил инкрустированную шкатулку и небольшую тосканскую рамку для зеркала, которые он послал Марте, затем сел на поезд в Орвьето, где имел возможность вновь осмотреть монументальные фрески Синьорелли в Дуомо. Фрески он помнил хорошо, но на память не приходило имя художника. Это побудило его разработать диаграммный подход в вопросе о симптоматичных провалах в памяти или языке. В Риме в гостинице «Милано», где он останавливался когда–то с братом Александром, ему удалось снять ту же самую комнату. Он провел день в Вилла–Боргезе, осмотрел замок и музей, где восхищался картиной Тициана «Священная и нечестивая любовь». Парк напомнил ему Шёнбрунн с бродящими ланями и фазанами. Следующий день он провел в термах Диоклетиана, превращенных Микеланджело в церковь Санта Мария дельи Анджели, и в монастыре, к тыльной части которого примыкал Национальный музей, где находились нравившиеся ему греческие скульптуры. Он обошел лавки антикваров, купил мраморные чаши, тосканского воина и статуэтку Будды. Вечера он проводил на площади Колонна. В чистом небе висела полная луна, играл военный оркестр, горели фонари, и в отблеске их света вывески сливались с деревьями висячих садов на крыше дома по другую сторону площади. Ему нравилось бродить среди толпы, замечая, что даже некрасивые римлянки прелестны, наблюдать газетных разносчиков, врывавшихся на площадь каждый час с новым срочным выпуском, наподобие газетчиков в Париже; а затем около восьми часов он усаживался в плетеное кресло перед кондитерской лавкой, заказывал десерт и холодный напиток и сидел там до возвращения в гостиницу. Он писал Марте: «Как жаль, что нельзя жить здесь всегда!» Он посещал христианские и еврейские катакомбы, однажды оказался запертым в подвале, когда женщина–гид забыла взять ключи. Но это был единственный неприятный момент. В остальном его ум напряженно работал, принимая решения, к которым он продвигался месяцами. Сейчас, когда Карл Юнг основал в Цюрихе официальную группу под названием «Фрейдовская ассоциация», пришло время перестроить свою собственную группу и уточнить ее цель. Группа существовала уже пять лет и служила центром распространения знаний. Тем не менее, на ее счету было слишком мало публикаций, хотя в нее входило более двадцати участников. Причина была очевидной: научные журналы Центральной Европы относились враждебно к психоанализу. Даже у занимавших нейтральную позицию не находилось места для такой молодой и спорной науки. Пришло время, решил он, переходя площадь Венеции, основать собственный журнал. Он послал Юнгу письмо с предложением, чтобы такой ежегодный сборник был составлен и отдан в печать как можно скорее. Группа, встречающаяся по вечерам в среду, должна превратиться в официальную организацию под названием «Венское психоаналитическое общество». Они выберут должностных лиц, уплатят налоги, финансируют издание годового сборника и других книг, написанных членами группы. В скором времени они смогут учредить собственную библиотеку, арендуют залы для публичных лекций и станут неотъемлемой частью немецкоговорящего научного мира. Поскольку неврологи и психологи посвящают значительную часть времени на конгрессах нападкам на фрейдистские теории, то почему бы фрейдистам не провести собственный конгресс, на котором можно огласить ряд докладов, основанных на конкретных случаях, и таким образом привести документальные доказательства? Почему не заявить о себе?Книга тринадцатая: Сплочение
1
Первого октября, когда начался новый медицинский год, перед Зигмундом Фрейдом предстал способный адвокат по фамилии Лертцинг, в руки которого попала «Психопатология обыденной жизни». После шести лет глубокого эмоционального расстройства, в течение которых ни один врач не помог ему, Лертцинг решил, что нашел, наконец, специалиста, понимающего, как работает ум человека. Он страдал навязчивым неврозом и, хотя обладал большим опытом в торговом праве, лишь недавно сумел сдать экзамены по уголовному праву. Болезнь препятствовала учебе и работе. Лертцинг был высокоинтеллектуальным человеком и имел солидное академическое образование. Насколько силен дисциплинированный ум, чтобы преодолеть фантазию и заблуждения? Может ли упорная тренировка, которая помогла ему стать адвокатом, преодолеть невроз, завладевший его подсознанием и нанесший ему удар? Адвокат Лертцинг был высоким, худым человеком со светлым лицом, голубыми глазами и нервными жестами. Уже в первых фразах он признался Зигмунду, что основой его недомогания является постоянный страх за двух наиболее дорогих в его жизни людей – отца и молодую женщину, которую он любит уже десять лет. Когда он брился, ему приходилось бороться с навязчивым импульсом перерезать себе горло. Сообщив такую информацию, Лертцинг принялся рассказывать историю своей интимной жизни: он не занимался рукоблудием, за исключением периода между шестнадцатью и семнадцатью годами; до двадцати шести лет не имел половых сношений; его огорчало отсутствие возможности их иметь, поскольку он испытывал физическое отвращение к проституткам. Когда Зигмунд спросил его при первом сеансе, почему он делает такой сильный акцент на интимной жизни, Лертцинг ответил: – Профессор Фрейд, я знаком с вашей теорией, но никогда не связывал вашу сексуальную теорию и свое недомогание, пока не прочитал вашу книгу. Лертцинг утверждал, что сексуальное чувство пробудилось у него в возрасте между четырьмя и пятью годами и было связано с привлекательной молодой гувернанткой, которую он назвал по фамилии – фрейлейн Петер. Зигмунд взял на заметку, что фамилия звучала как мужское имя. В тот памятный полдень фрейлейн Петер лежала на софе и читала. Мальчик спросил, может ли он пощупать под юбкой. Она согласилась при условии, что это останется тайной. Лертцинг рассказал, как он погладил руками нижнюю часть ее тела и ее гениталии, форма которых показалась ему странной. У него возникло неодолимое желание увидеть обнаженные женские формы, и он стал подглядывать. Довольно длительное время ему разрешали ложиться в постель с фрейлейн Петер. Вполне естественно, у него появилась болезненная эрекция, и он пожаловался об этом матери. Он не помнил ответа матери, но с этого момента у него возникла навязчивая мысль, что родителям известны все его желания. Затем добавился страх, что он разглашает свои думы, не замечая того. В то время он больше всего боялся смерти отца. Только несколькими неделями позднее Зигмунд узнал от Лертцинга, что его отец уже давно умер. Болезнь Лертцинга вылилась в кризис на военных сборах прошлым летом, в которых он участвовал как офицер. Во время дневного марша Лертцинг потерял очки. Хотя он знал, что мог бы их найти, остановив свое подразделение, но решил этого не делать. На привале он отдыхал с двумя офицерами, один из них был капитаном, которого Лертцинг боялся, Потому что этому офицеру доставляла удовольствие жестокость. Капитан рассказал Лертцингу о зверском наказании заключенных… Пациент вскочил с софы, умоляя не спрашивать, в чем заключалось наказание. Он нервно шагал по комнате, его голубые глаза вылезли из орбит и увлажнились. Зигмунд напомнил ему, что преодоление сопротивления – важная часть лечения и, поскольку Лертцинг сам затронул вопрос о наказании, он должен продолжить рассказ. Побледневший и обезумевший Лертцинг выпалил: – Преступник был связан… К его заду приложили горшок… В горшок запихнули несколько крыс… И они… прогрызли… Он упал на софу и не мог продолжать. Зигмунд подсказал: – Задний проход. Лертцинг прошептал: – Да. Зигмунд заметил, что лицо Лертцинга выражало одновременно и страх и удовольствие. Через некоторое время он добавил: – В этот момент мне на ум пришла идея, что такое случилось с дорогими мне людьми. Ими оказались его отец, который в фантазии Лертцинга был все еще живым, и его невеста. Единственным способом избавления от навязчивой картины крыс, вгрызающихся в задний проход отца и невесты, было трясти головой, повторяя при этом: – Вот выдумал! Невроз одержимости Лертцинга принял затем новый поворот: капитан, которого он боялся как жестокого человека, занял место отца. Когда в почтовое отделение около военной базы пришла посылка с очками, капитан принес ее Лертцингу, сказав, что их общий друг лейтенант Наль заплатил почте 3 кроны и 80 грошей. Лертцинг внушил себе: «Ты должен вернуть деньги лейтенанту Налю». Но в голове Лертцинга это внушение стало командой, отданной отцом; он был готов уплатить и вместе с тем не возвращать деньги, поскольку тогда, дескать, осуществится фантазия относительно крыс, отца и любимой молодой женщины. Крысы в горшке и новые очки тесно переплелись в его представлении. В числе провинностей, которые приписывал себе Лертцинг, была и такая, что он уснул где–то в середине ночи, а его отец умер на рассвете и сын не попрощался с ним, несмотря на то, что перед кончиной отец звал его. Лертцинг был так одержим чувством вины, что прекратил занятия правом. После месяца процедур Зигмунд решил, что можно было бы подсказать Лертцингу первый ключ. В конце одного из часовых сеансов Зигмунд сказал ему: – Когда существует разрыв между воздействием и его содержанием (в данном случае между угрызениями совести и поводом для них), невежда скажет, что воздействие слишком велико, что оно преувеличенно, и в итоге делает ложный вывод… Врач, напротив, скажет: «Нет. Воздействие оправданно. Чувство вины само по себе нельзя оспаривать. Но оно связано с иным содержанием, которое не лежит на поверхности, а входит в подсознание и которое следует выявить. Видимое идейное содержание оказалось таковым благодаря ложной увязке. Мы не привыкли к сильным воздействиям, вроде бы не имеющим идейного содержания, и поэтому, если содержания не видно, мы подменяем его другим, удобным содержанием». Наступило время, когда несчастный молодой человек начал открывать для себя ранее неизвестное ему содержание своего рассудка. Зигмунд добавил: – Существует психологическое различие между сознательным и подсознательным; все сознательное подвержено выветриванию, тогда как подсознательное относительно стабильно. Мы должны попытаться добраться до этого содержания. Он объяснил также, что, согласно теории психоанализа, «каждый страх соответствует прошлому желанию, которое сейчас подавлено». Он высказал предположение, что некоторые пациенты получают удовлетворение от своих страданий и тем самым мешают своему излечению. Страдание приносит удовлетворение, потому что ослабляет чувство подсознательной вины. Адвокат Лертцинг начал рассказывать, как часто он желал отцу смерти, особенно в последние годы, мечтая стать обладателем значительного наследства и жениться на возлюбленной из бедной семьи. Он вспомнил, что однажды его крепко отхлестал отец за то, что он кого–то укусил. Выдав эту информацию, Лертцинг воскликнул: – Кусай его! Разве не это делают крысы? Так появилась одержимость, отсюда образ крыс, грызущих задний проход. Лишь через несколько месяцев непроизвольное замечание Лертцинга позволило Зигмунду определить, что явилось шесть лет назад причиной заболевания. Его мать заявила, что одна из ее богатых кузин согласилась, чтобы Лертцинг женился на одной из ее дочерей, и предлагала ему место юриста в фирме, что сулило быстрый успех. Лертцинг не пожелал жениться на почти незнакомой ему девице, однако соблазн денег и успеха был очень сильным. Фантазиями и одержимостью он пытался прикрыться от принятия решения. Ныне он осуществил полный перенос: доктор Зигмунд Фрейд преобразился в богатую кузину, вознамерившуюся принять его в свою семью; молодая девушка, увиденная им на ступеньках дома на Берггассе, 19, стала дочерью профессора Фрейда. Доктор Фрейд оказывал на него давление, заставлял жениться на его мнимой дочери. Он обвинял доктора Фрейда в попытках вынудить его бросить настоящую возлюбленную и жениться ради денег и положения, что представлялось ему немыслимым. Затем врач стал его отцом, отхлестывающим по мягкому месту. Затем наступила подмена отца капитаном–садистом. При всех этих переносах, включая трансформацию доктора Фрейда в фрейлейн Петер, Лертцинг нагромождал упреки, обвинения, изливал ярость, слезы, оскорбления и вслед за этим клятвы в любви. Однако общий эффект был положительным: Лертцинг присматривался к проявлениям своего подсознания и сумел осознать характер своей болезни. Задача свелась к тому, чтобы преодолеть одержимость в отношении крыс и анальный эротизм пациента. В раннем детстве у Лертцинга глисты вызвали раздражение заднего прохода. Еще до того, как он пошарил под юбкой фрейлейн Петер, родители назвали его пенис червяком. В его сознании крысы ассоциировались с деньгами, что свойственно лицам, склонным к анальному эротизму. Когда доктор Фрейд назвал размер гонорара за час процедуры, Лертцинг пробормотал про себя: «Как много флоринов, как много крыс!» Его отец получил кличку Картежная Крыса во время службы в армии за то, что уклонялся от уплаты проигрыша. Рассказ капитана о крысах в сочетании с командой оплатить долг за очки еще теснее связал для него крыс и деньги. Однако более важной была склонность к анальному половому сношению. Отвращение к армейскому капитану выражало влечение к гомосексуализму. Чтобы полностью удалить отложившееся в подсознании за детские годы, разрушить структуру фантазии, питавших одержимость крысами, потребовались ежедневные сеансы в течение одиннадцати месяцев. Пациент, сначала отшатнувшийся от патологических откровений своего подсознания, затем прозрел и стал внимательно вдумываться в фантазии, навязчивые страхи, овладевшие им. Ныне же, когда забытые воспоминания и конфликты перешли в сознание, он понял, что его отец действительно умер, он не совершал преступления по отношению к нему и что его одержимость вызвана событиями детских лет, над которыми он не властен. Как только Лертцинг освободился от навязчивого страха, связанного с крысами, Зигмунд счел его вылечившимся. Адвокат возобновил юридическую практику. До того как отпустить его, Зигмунд просил разрешения опубликовать историю лечения, уверив Лертцинга, что его имя не будет раскрыто. Лертцинг согласился. Зигмунд решил засесть за работу летом, когда будет свободен и сможет спокойно писать.2
Карл Абрахам приехал из Берлина в середине декабря 1907 года, чтобы, подобно Карлу Юнгу, провести целый день с Зигмундом Фрейдом. Зигмунд сердечно приветствовал Абрахама, тридцатилетнего врача, заявлявшего в своих письмах Фрейду, что считает его своим учителем. Хотя в прозрачных глазах Карла Абрахама светилось восхищение, он был по натуре сдержанным человеком. Если Карл Юнг в первые три часа визита обрушил на Зигмунда шквал слов, то Карл Абрахам явно хотел в первые три часа встречи только слушать. Он был среднего роста, поджарый, с открытым лицом и приветливыми глазами, смотревшими на мир со спокойным оптимизмом. Гладковыбритый, со скромными усиками, он был коротко острижен, особенно на висках, и имел небольшие бакенбарды. На нем были красивый черный костюм и галстук; на белоснежных манжетах выделялись четким рисунком запонки. На правой руке блестело обручальное кольцо. – Итак, вы приняли окончательное решение оставить мир официальных учреждений? – спросил Зигмунд, после того как представил Марту, а горничная принесла кофе. – Да, профессор Фрейд. Я прослужил четыре года в Дальдорфе, в Берлинском муниципальном госпитале для душевнобольных, не питая особого интереса к психиатрии. Моя подготовка была весьма схожа с вашей: первоначально я обучался гистологии, патологии и анатомии мозга. Затем,поработав в учреждениях для душевнобольных, я заинтересовался самими пациентами. Мы абсолютно не представляем, что происходит в их головах или в нервной системе. Да и желания узнать не было, Была всего–навсего обыденная работа. Именно поэтому я написал профессору Блейлеру в Бургхёльцли; я читал часть их материалов и пришел к выводу, что они ищут причины. На мой взгляд, в Европе это наиболее творческий госпиталь по психическим заболеваниям. На этом основании я поступил к ним, и через два года, когда Карл Юнг рекомендовал Блейлеру взять меня в ассистенты, я поехал в Берлин, там женился, а затем вернулся с женой и поселился в десяти минутах ходьбы от Бургхельцли. Зигмунд улыбнулся, вспомнив о том, как он с Мартой искал квартиру и как его сестра Роза покупала тяжелую мебель из красного дерева. – Я выбрал правильное место, – продолжал Карл Абрахам хорошо поставленным голосом, – но по ошибочным соображениям. От Блейлера и Юнга я узнал многое о преждевременном слабоумии, этому помогли и три года наблюдений за пациентами. Однако меня ожидала в Бургхёльцли совсем другая удача: здесь я узнал о профессоре Зигмунде Фрейде и его исследованиях бессознательного. Блейлер и Юнг посоветовали мне прочитать ваши книги. Почти два года, используя послеполуденный час, когда врачи пьют чай и отдыхают, мы обсуждали ваши теории и рассказывали о них нашим пациентам. – Теперь вы открыли кабинет в Берлине и собираетесь стать первым психоаналитиком в Германии? – Да. Знаю, что поначалу будет трудно, поскольку могу полагаться лишь на свой заработок. Разве не такова судьба молодых врачей? Я решил стать психоаналитиком по методу Фрейда, хотя некоторое время буду заниматься обычной психиатрией. Доктор Оппенгейм, владеющий | частным санаторием, – мой кузен по жене; он обеспечит мне разовую работу в клинике. О, не психоаналитическую, это он мне дал ясно понять! Но у меня есть друзья среди врачей, которые, надеюсь, будут направлять ко мне пациентов. – Он посмотрел на Зигмунда с робкой улыбкой. – Конечно, лишь после того, как другие методы лечения окажутся безнадежными! С вашего разрешения я образую Психоаналитическое общество и стану проводить встречи у себя в Берлине, как вы их проводите здесь уже пять лет. Зигмунд сердечно одобрил намерения гостя и затем сказал: – Если я назову вас своим учеником и последователем, то, полагаю, это не устыдит вас и в этом случае я смогу оказать вам содействие. Часто пациенты из Германии нуждаются в помощи, а у меня не было никого, к кому я мог бы их направлять. Теперь буду рекомендовать вас. Карл Абрахам обладал светлым, спокойным характером. Насколько мог понять Зигмунд, у него не было скрытого опасения или смущения. Зигмунд пытался предостеречь Абрахама относительно противодействия и отторжения нового метода, с которыми, возможно, тому придется столкнуться. Абрахам спокойно выслушал рассказ Зигмунда о прожитых им бурных годах, затем ответил уверенным тоном: – Несмотря на возражения и нападки противников, – я много читал об оскорблениях, обрушивавшихся на вас на конгрессах психиатров и в печати, – я все еще верю, что если смогу в Берлине спокойно поспорить с самыми яростными из оппонентов, то, видимо, мы найдем почву для согласия. До того как Марта позвала их на семейный обед, они успели обсудить ряд случаев, с которыми имел дело Зигмунд, и примененные им методы. Зигмунду стало очевидно, что Карлу Абрахаму, никогда не занимавшемуся частной практикой, было бы полезно несколько месяцев заняться аналитической подготовкой, но вопрос об этом так и не встал, и Абрахам должен был вернуться в Берлин. Обладая большой проницательностью, он хорошо воспринял беседу, которую Зигмунд не без умысла превратил в семинар. Причину радушного отношения Абрахама к жизни Зигмунд обнаружил, когда они, укутавшись в пальто и обвязав себя шерстяными шарфами, целый час прогуливались вдоль Дуная, глядя на Венский лес с оголенными ветвями, четко различимыми на фоне неба. Абрахам принадлежал к небольшому числу молодых людей с безоблачным детством. Его отец был учителем староеврейского языка в древнеганзейском Бремене. В двадцать лет он влюбился в двоюродную сестру, родители которой были против брака, зная, что педагоги мало зарабатывают. Тогда отец Абрахама, подобно Якобу Фрейду, занялся оптовой торговлей. Старший брат Карла не отличался крепким здоровьем и не мог заниматься спортом, и, чтобы не дразнить его, Карлу пришлось ограничивать себя. Но он сумел пристраститься к плаванию и к вылазкам в горы в компании молодого дяди. В гимназии он увлекся языками и филологией и в пятнадцать лет написал небольшую книжонку о сравнительном изучении языков, в которой была глава, посвященная слову «отец» на трехстах двадцати языках. Он гордился знанием латинского и греческого; ко времени поступления в университет мог читать и говорить на английском, испанском и итальянском языках. Подобно Карлу Юнгу, мечтавшему стать археологом, но вынужденному отказаться от этого, так как в Цюрихе не было кафедры археологии, Карл Абрахам, склонявшийся к изучению истории языков, должен был расстаться с таким намерением, так как в Бремене не было университета, а в других немецких университетах, куда он мог рассчитывать попасть, не было соответствующих кафедр. Семья хотела, чтобы он стал дантистом. Однако после одного семестра в университете Вюрцбурга в Южной Германии он вернулся домой и сообщил родителям о своем намерении стать врачом. Он перевелся в университет Фрайбурга, где попал под влияние молодого профессора, специалиста в области гистологии и эмбриологии. Затем перебрался в Берлин, где имелась возможность заняться анатомией мозга. Таким был путь, приведший его на Берггассе, 19. Зигмунд пригласил Абрахама на ужин и на заседание группы. Он, а также Марта и дети увидели в нем приятного человека, внушавшего доверие. Зигмунд поделился своим впечатлением с Мартой, когда та ожидала его в понедельник вечером: – Полагаю, что Карл честный человек. Не только в личном, но и в научном отношении. Он весьма проницателен, и, хотя и не занимался психоанализом, он тем не менее понял природу и образ действия подсознания. Думаю, что он будет педантичным в лечении больных и в изложении материалов исследования и завоюет уважение в Берлине. Вряд ли можно найти лучшую кандидатуру, чтобы начать в Германии движение в защиту психоанализа. В среду вечером Зигмунд хотел представить Карла Абрахама постоянным участником встреч и поэтому предложил не зачитывать рукописи, а провести обсуждение лекции Абрахама «О значении сексуальной травмы в детстве для симптоматологии раннего слабоумия», которая была представлена Германскому обществу психиатров во Франкфурте в апреле, а затем опубликована в медицинском журнале. Когда они подошли к вопросу о сексуальном просвещении, возник оживленный спор о том, какие сексуальные и анатомические знания сообщать детям и на какой стадии развития. Карл Абрахам внимательно слушал; в большой компании незнакомых он чувствовал себя скованным и ограничился короткими замечаниями. Абрахам упомянул об интересе к археологии и египтологии, который он разделял с Карлом Юнгом в Бургхёльцли. До отъезда Карла в среду вечером Зигмунд взял две небольшие египетские статуэтки, купленные им в Риме, и тайком положил их в потрепанный чемоданчик Абрахама. Они расстались друзьями. Лишь один момент настораживал. Зигмунд высказался с большим уважением о Карле Юнге, Абрахам также восхвалял умение Юнга как психиатра и применение им психоанализа в целях терапии в Бургхёльцли, но затем добавил вполголоса: – Полагаю, что вам, должно быть, говорили, что Юнг не принимает целиком вашу концепцию сексуальной этиологии неврозов. – Да, он говорил о многих других возможных причинах неврозов. Но я уверен, что он в конце концов согласится. А между тем он один из столпов в нашем движении. Разве не так? Абрахам отвел глаза в сторону, и это озадачило Зигмунда. Видя выражение его лица, Карл Абрахам сказал: – Карл Юнг и я были близки друг к другу в течение двух лет, пока я жил холостяком в Бургхёльцли. Мы обедали почти ежедневно вместе и вели интереснейшие дискуссии. Когда я возвратился с женой, чета Юнг устроила дружеский прием у себя. Я выходил из дома чуть позже шести утра и редко заканчивал работу к семи–восьми вечера. Жена Юнга довольно часто навещала мою жену, зная, что та одинока в Цюрихе и у нее нет ни друзей, ни родственников. Это были весьма теплые отношения…– Карл Абрахам, растерянно покачав головой, продолжал: – Затем что–то произошло. Мы так и не узнали что. Она перестала навещать мою жену. Нас не приглашали больше к себе. Фрау Юнг нанесла визит, когда родилась моя дочь Хильда. Но потом отношения оборвались. Я не обнаружил какой–либо перемены в поведении Юнга в нашей совместной работе в госпитале. Но дружба, существовавшая между нами более двух лет, испарилась. Быть может, это наряду с другими причинами склонило меня к решению уехать из Цюриха. Моей жене там одиноко, а в Бургхёльцли мне некуда пойти. Профессор Блейлер долгие годы будет возглавлять больницу. Мы решили возвратиться в Берлин, где живет семья моей жены, и начать частную практику. – Как странно! У Карла Юнга благородные сердце и разум. Несомненно, он тот, кто возглавит наше движение в Швейцарии. Вы знаете это, так как участвовали в первых заседаниях Цюрихского психоаналитического общества, на которых присутствовали двадцать врачей… Лицо Абрахама покраснело. – Верьте мне, профессор Фрейд, я не люблю говорить о личных или семейных делах. Насколько я знаю, в этом мире у меня нет врагов, и я не думаю худо о ком–нибудь. Но вы спросили, и я почел за лучшее предупредить вас.3
И все же люди приходили, теперь все чаще из различных уголков света. Некоторые из них переписывались с Зигмундом год или два, рассказывая о своем энтузиазме, выспрашивая об узловых вопросах методики психоанализа. Зигмунд отвечал на все письма довольно пространно, поскольку считал всех корреспондентов своими учениками, которые жили вдали от него и не могли присутствовать на вечерних встречах в среду или на его субботних лекциях в Венском университете. Доктор Максимилиан Штейнер явился ценным приобретением для группы и быстро завладел сердцем Зигмунда. Родившийся в Венгрии, он получил медицинскую степень в Венском университете, став специалистом по венерическим и другим кожным заболеваниям. Поскольку таких специалистов в Вене не хватало, доктор Штейнер имел большую практику. Он присоединился к группе в 1907 году. К началу следующего года он наблюдал, как Зигмунд ведет работу с группой молодых и бедных врачей, и выработал свой собственный план. На одной из встреч в среду вечером он спросил Зигмунда, может ли он поговорить с ним лично после встречи. Будучи моложе Зигмунда всего на восемь лет, он подчеркнуто относился к нему как к старшему. – Профессор Фрейд, мне известно, что вы помогаете молодым врачам, занимающимся психоанализом. Это говорит о вашей доброте, но я полагаю, что такое бремя не должно лежать только на ваших плечах. Вам известно, я неплохо зарабатываю. В этом конверте несколько сот крон. Могу ли я положить его на ваш письменный стол и добавлять ежемесячно такую же сумму? Буду точен в своих обещаниях, эта сумма всегда будет в вашем распоряжении, когда вы почувствуете, что кто–либо из членов группы испытывает материальные трудности. Думаю, что найдутся и другие желающие помочь в меру возможностей. Зигмунд пожал руку Штейнера, глубоко тронутый щедрым жестом. Когда Шандор Ференци впервые вошел в кабинет, Зигмунд сказал сам себе: «Что за шарик этот человек!» Ференци был низкого роста – всего полтора метра, – круглоголовый и круглолицый, с выпуклым животом и оттопыренным задом. Скорее слабый мускулатурой, он был весь в движении, в разговоре он выкладывался физически, эмоционально и духовно. Он бывал попеременно то уродливым, то привлекательным. Тридцатичетырехлетний Шандор Ференци был пятым ребенком в семье, где насчитывалось одиннадцать мальчиков и девочек. Его отец владел процветающей книжной лавкой и библиотекой в городе Миклош в ста километрах от Будапешта. Глава семьи издавал также оппозиционную газету, за что австрийцы отправили его на короткий срок в тюрьму в наказание за чрезмерный венгерский патриотизм. С книжной лавкой было связано объединение деятелей искусств, выступавшее в роли посредника, подбиравшего по просьбе городских властей музыкантов и других исполнителей, благодаря чему семья Ференци имела обширные связи с деятелями культуры. В какой–то мере неудачник, Шандор рано понял, что надо обратить на себя внимание. Вместо того чтобы идти напролом, он старался завоевать любовь старших и одновременно защищал младших. Книжная лавка играла такую же роль в воспитании, как семья. Шандор рос, поглощая книги, поступавшие в лавку. Подобно Отто Ранку, Альфреду Адлеру и другим молодым людям – членам кружка Зигмунда, он был ненасытным читателем. Получив аттестат зрелости в гимназии Миклоша, он выбрал Венскую медицинскую школу, получил в 1896 году медицинскую степень с удовлетворительной оценкой, поскольку в годы учебы тратил излишне много времени на сентиментальную поэзию и посещение дневных концертов. Он отслужил год в армии и в канун нового столетия вернулся в Будапешт, мечтая заняться неврологией. В Будапеште он работал в муниципальной больнице, в женских палатах скорой помощи, где было немало покушавшихся на самоубийство. Другая его обязанность состояла в обследовании будапештских проституток на предмет гонореи и сифилиса. Он снял номер в отеле «Руаяль», а свободное время и вечера проводил в соседнем кафе, постоянном месте встреч артистов, писателей и музыкантов. Ференци подружился с издателями медицинских журналов, начал составлять обзоры медицинских книг и статей, а затем отчеты на темы, в которых, по его словам, соприкасались медицина и психиатрия. – Сразу же должен признаться в моем откровенном идиотизме, господин профессор. Редактор медицинского журнала дал мне ваше «Толкование сновидений» для обзора. Я прочитал около тридцати страниц и решил, что это скучный материал. Затем я вернул книгу, сказав, что не хочу терять время на обзор. Такова была моя точка зрения, пока несколькими годами позже, прочитав хвалебный отзыв Карла Юнга, я не купил эту книгу. Этот день стал поворотным в моей жизни. – Он широко развел руками. – Дело, господин профессор, во вводной главе! Там на сотне страниц вы приводите высказывания других психологов, никогда не слыхавших о подсознании, и только ради того, чтобы доказать ошибочность их представлений. Не будь это преступлением, я обошел бы все книжные лавки и собственными руками вырвал бы эту главу! Зигмунд рассмеялся и заметил про себя, что следовало бы рассказать Марте, насколько она была права, предлагая сократить эту главу. – Такова уж моя судьба, Ференци, быть в науке точным. Но первое издание распродано. Сейчас я просматриваю текст для второго. Я получил сотни писем от врачей и неспециалистов, подтверждающих справедливость тезисов моей книги. Некоторые из них войдут в расширенный вариант. Ференци наслаждался холостяцкой жизнью, посещая в компании друзей небольшие будапештские рестораны, смаковал токайское, слушал цыганскую музыку. Он занял пост главного невролога в Елизаветинском доме для бедных и к 1905 году приобрел достаточную известность, чтобы получить назначение на должность эксперта–психиатра при королевском суде. Стремясь добиться всеобщей любви, Ференци проявлял внимание и привязанность ко всем окружающим: официантам, клеркам, торговцам, правительственным служащим, связанным с судами и больницами. К тому времени, когда он появился у Зигмунда Фрейда, его уже знали как «будапештского врача». Всех врачей называли «господин доктор», а Ференци – просто доктором, что тогда казалось невероятным. Он обладал двумя выдающимися способностями: умением побудить людей рассказать о себе и интуитивной мудростью добраться до сути их проблем. Он слыл компанейским человеком, и чувствовалось, что эта его особенность была результатом воспитания в большой семье, где было много детей. В 1906 году Ференци узнал об опытах Карла Юнга в Цюрихе, о методе словесной ассоциации и работах, указывавших на то, что эмоциональная реакция поддается измерению с помощью хронометра. – Во время моих экспериментов с хронометром, – шутил он, – в Будапеште никто не чувствовал себя в безопасности, даже гардеробщики. Ференци написал Зигмунду заблаговременно, за две недели, спрашивая разрешения на встречу в Вене: «Не только потому, что я жажду встретиться с вами, господин профессор, и уже год изучаю ваши работы, но и по той причине, что надеюсь получить полезную и поучительную помощь от этой встречи… У меня есть намерение представить ваши открытия медицинской аудитории, которая отчасти несведуща, а отчасти неверно информирована…» За час беседы Зигмунд обнаружил, что Ференци тщательно проработал книги и его творческий ум пошел дальше в теории, опробованной на пациентах и подтвердившей правоту суждений Фрейда. Это была любовь с первого взгляда. Ференци был на семнадцать лет моложе, как раз в таком возрасте, который позволял Зигмунду думать о нем как о любящем сыне, шедшем по стопам отца и постепенно снимающем бремя с плеч старшего. Они углубились в обсуждение предстоящих лекций Ференци, задуманных с целью представить психоанализ медицинскому миру Венгрии. Зигмунд понял, что Ференци уже обдумал всю лекцию, решив начать с основных идей «Трех очерков к введению в теорию сексуальности». Ференци просил Зигмунда рассказать ему о методах лечения, примененных к дюжине последних пациентов, раскрыв прекрасную работу ума, связанную со свободной ассоциацией; широкие и остроумные ресурсы сдерживания в подсознании; значение отказа пациентов признать находящееся в подсознании вроде эдипова комплекса; ценность переноса, когда врач становится для пациента тем, кого он любил или с кем у него были в прошлом трения, давая возможность проследовать назад, к глубинам памяти. Зигмунд обнаружил, что Ференци удивительно быстро схватывает суть дела. Шандор Ференци обратился за помощью в разрешении возникших у него трудностей. Он занимался тремя случаями импотенции. Первый случай касался тридцатидвухлетнего мужчины, который сказал врачу: – Всю мою жизнь мне не удавалось осуществить подобающим образом половой акт. Слабая эрекция и преждевременное извержение семени исключали сожительство. Сейчас я встретил молодую девушку, на которой хочу жениться. Обследование не выявило ничего ненормального; свободная ассоциация не прояснила ничего, кроме факта, что он не может осуществить малую нужду в присутствии других. Ференци обратился к сновидениям пациента и, применяя методы Фрейда, добрался до первопричины нарушений. Когда пациенту было около четырех лет, за ним часто ухаживала сестра старше его на десять лет. Она была толстой (этот образ возникал в его сновидениях в виде толстых, безликих фигур, которые его раздражали, и он пробуждался с чувством тревоги и страха) и разрешала младшему братику «кататься на голой ноге». С возрастом она отказала мальчику в такой игре, осуждала его; чувство вины за влечение к кровосмесительству сделало его импотентом. Во втором случае речь шла о сорокалетнем мужчине, страдающем импотенцией на нервной почве. С помощью свободной ассоциации он пришел к рассказу о половом влечении к своей покойной мачехе, возникшем потому, что до десятилетнего возраста она разрешала ему спать в ее постели. Третий случай был проще. Двадцативосьмилетний парень страдал импотенцией ввиду эдипова комплекса и постоянных фантазий, направленных против отца. Ференци сумел помочь всем трем, но в разной степени. Он сказал: – Господин профессор, я сделал одно заключение на основе этих трех случаев. Могу ли я зачитать его? Зигмунд сел в большое кожаное кресло, закурил сигару и попыхивал ею, довольный тем, что в Будапеште у него есть ученик, защитник, последователь и полноценный практик. Ференци немного шепелявил, но его темно–голубые глаза за стеклами пенсне были удивительно живыми. Подобно извергающемуся вулкану, они вспыхивали искрами мысли, гипотез и волнующих догадок, превращая его в яркую личность. – Мужская психосексуальная импотенция всегда проявляет себя как психоневроз и соответствует концепции Фрейда о генезисе психоневрозных симптомов. Таким образом, она – символическое выражение подавленных воспоминаний о сексуальных переживаниях в раннем детстве, подсознательного желания их повторения и вызванных этим душевных конфликтов. Воспоминания и импульсы желаний в сфере сексуальной импотенции всегда отличаются… несовместимостью с сознанием цивилизованного взрослого. В итоге сексуальное ограничение как часть подсознания распространяется и на сексуальное удовлетворение. За обедом Ференци покорил детей Фрейда. Он обладал способностью увлечь их шутливыми рассказами, анекдотами, сказками. Дети огорчились, когда Зигмунд увел Ференци на прогулку. Хотя Ференци был на полголовы ниже Зигмунда и все его физические занятия сводились к вечерним прогулкам в кафе после дневной работы в больнице и суде, он умудрялся сделать два шага, в то время как Зигмунд один большой. Молодой человек почувствовал к этому моменту, что он принят за своего. – Хотел бы обосноваться здесь, в Вене, и быть рядом с вами. Мне нужны образование, подготовка, советы… – Нет, нет, вам следует оставаться в Будапеште. Вы возглавите там психоаналитическое движение. Нам крайне важно иметь вас в Будапеште. – Но могу ли я считать себя частью вашего общества, собирающегося по средам? Откровенно говоря, мне нужно иметь связь с кем–то. Видите ли, в моем характере быть к кому–то привязанным. Зигмунд искоса взглянул на Шандора Ференци и сказал: – Да, но это в вашу пользу. Ваша отдача будет больше. У вас будет своя группа. Присматривайтесь к тем, с кем вы работаете и кому читаете лекции. Через год вы сможете создать Будапештское общество психоаналитиков. – Я хочу отойти от неврологии и отказаться от поста психиатра в суде; чтобы сосредоточиться на психоанализе, мне потребуется шесть или семь пациентов. Не так ли? – Не могу судить, вы ведь умолчали о ваших личных делах. Вам, видимо, нравится жизнь холостяка? Ференци покраснел, умерил шаг – Зигмунду пришлось поступить так же, – затем сказал, шепелявя сильнее обычного: – У меня постоянная интимная связь с Гизелой Палос. Она из моего родного города Миклош, старше меня на несколько лет, у нее две дочери, живет отдельно от мужа, который не дает развода. В молодости я восхищался ею, а сейчас люблю. Она хорошо обеспечена, и вопрос о деньгах не встает. Мы не говорили о супружестве; у нее не может быть больше детей, а я боюсь состариться, если вокруг меня не будет молодежи. Наша совместная жизнь устраивает обоих и оставляет мне время для исследований и ожидания благоприятной возможности стать психоаналитиком. Но есть одна просьба. Он забежал вперед, повернулся к Зигмунду и заглянул ему прямо в лицо: – Мне самому нужен анализ. Я чудовищный ипохондрик. Если мне удастся урвать время и приехать к вам на неделю–две, не проведете ли вы со мной психоанализ, чтобы я осознал сам себя и не стал жертвой пациентов, которые могут увлечь меня в их собственные тайники? – Разумеется, приезжайте так часто, как можете. Все мои свободные часы – ваши. Мы погуляем по улицам Вены и поговорим, почему вы не можете сами проанализировать вашу ипохондрию. Есть ли у вас пациенты с таким же недугом? – Да. Несколько, и иногда мне удается дойти до источника их болезни. Но я не могу сделать то же самое с собой. Вы были вынуждены проделать самоанализ, чтобы продолжить вашу работу. Но потому, что у вас не было никого. Для меня же существует Зигмунд Фрейд. У Зигмунда потеплело на душе, он был глубоко тронут. – Есть предложение. На лето мы всегда снимаем дом в горах. Почему бы не присоединиться к нам на пару недель? До прогулки Марта сказала мне: «Твой молодой доктор Ференци – душевный человек, не так ли?» Я полагаю, что она не ошиблась. Приезжайте к нам на отдых, мы побродим по лесу, поплаваем в озере, сходим в горы…4
Марте было приятно, что Роза живет на том же этаже напротив. Обе семьи имели свой уклад и в то же время крепко дружили. У Марты было мало времени, чтобы искать какую–то новую дружбу: Зигмунда почти непрерывно посещали иностранные врачи и друзья, задерживались на ланч или на ужин. Некоторые вроде Отто Ранка стали членами семьи. Марта покупала провизию на рынке Нуссдорферштрассе, не беря с собой по венской традиции горничную. Осторожно торгуясь, она покупала лучшее мясо, овощи и молочные продукты по более дешевой цене, поскольку вопреки шуткам тетушки Минны по поводу «психоаналитического комиссариата» у Фрейдов доходы Зигмунда оставались скромными и непостоянными. Марта вела хозяйство расчетливо, чтобы денег на домашние расходы хватало до конца недели. Однако ей приходилось в воскресенье заходить с заднего хода в лавку бакалейщика – по закону в этот день лавки должны быть закрыты – и закупать дополнительную провизию для гостей, явившихся без предупреждения. После обсуждения спорных вопросов Зигмунд приглашал гостей на обед. Не проходило и дня, чтобы за семейным столом не присутствовало от одного до пяти коллег Зигмунда; это была дань признательности доброй натуре Марты. – Ни одна женщина не заслужила в такой мере звания фрау профессорша, – заметила Роза. – Ты знаешь, что клиентура моего Генриха умножается скачками. Его кабинет забит посетителями, но он не приглашает никого домой. Он говорит, что слишком дорожит теми несколькими часами, когда мы вместе. – Это совсем другое, дорогая Роза. Коллеги Зиги – его ученики и последователи, люди, в которых он видит продолжателей своего дела. Поскольку из родных у Генриха Графа в Вене были двоюродный брат и замужняя племянница, он охотно присоединился к кружку Фрейда, приглашал всю семью на обед, являлся к Амалии со всем кланом, навещал Зигмунда и Марту. В одно из воскресений Генрих умер от инсульта в своей старой конторе на Вердерторгассе. Ему было всего пятьдесят шесть лет, а выглядел он на десять лет моложе, оставался живым и энергичным. На похоронах Зигмунд размышлял, не следует ли купить на кладбище участок для себя и Марты, поскольку неожиданная смерть Генриха ясно показала, что «все дороги ведут на Центральное кладбище». Горе Розы было безутешным. Она потеряла рассудок. Приступы рыданий валили ее с ног, они перемежались муками отчаяния и мольбами: – Почему? Почему мой Генрих? Он был здоров, счастлив… мы были так счастливы вместе. Почему это случилось с ним? Почему он ушел из жизни в расцвете лет? Оставил меня и двух сирот. Это несправедливо! Жестоко! Теперь я на всю жизнь одинока… – Роза, не убивайся, у тебя есть сын и дочь, которых ты любишь. Крепись ради них. Они и так подавлены. Марта взяла к себе десятилетнего Германа и девятилетнюю Цецилию. Тетушка Минна переехала к Розе, чтобы быть вместе с ней. Зигмунд дал Розе успокаивающие лекарства, но она не могла заснуть и продолжала причитать в полумраке. Минна утешала ее, обтирала лицо полотенцем, намоченным холодной водой, пыталась отвлечь ее от мыслей об умершем. Ничто не помогало: с каждым днем Роза все глубже впадала в отчаяние. Зигмунд опасался за ее здоровье, рассудок, даже жизнь. В момент просветления она схватила его за руку и со слезами, катившимися по щекам, попросила: – Зиги, будь опекуном детям, ладно? По закону. Пообещай следить за ними… – Роза, обещаю, так же, как за своими. – Еще одно дело, Зиги. Ты должен переселить меня из этой квартиры. Она слишком дорогая. Я обязана сохранить деньги Генриха для детей. Зигмунд обнял ее за плечи. – Дорогая Роза, о деньгах не беспокойся. Алекс видел завещание: по нашим меркам, Генрих умер богатым. Когда он подписывал завещание в 1904 году, у него было вложено в недвижимость сто тысяч крон. – …Нет… нет… Я должна переехать. Не могу оставаться здесь, в каждом углу мне видится лицо Генриха. Я должна уехать. Ты можешь договориться с хозяином о расторжении аренды? Минна сказала, что подыщет для меня квартиру поменьше. – Роза, ты потеряла мужа. Зачем тебе терять дом? Будь добра, поговори с Мартой. Усилия Марты были также бесплодны. Роза настаивала на переезде. Через неделю после смерти Генриха Зигмунд сказал жене: – Если Роза решила уехать отсюда, мы должны ей помочь. Знаю, как решить проблему с арендой: мы снимем ее квартиру, но откажемся от нижнего этажа. Мне надоело бегать вверх и вниз. Две спальни по фасаду мы отдадим детям, а две другие комнаты соединим. Три комнаты я использую под кабинет. Это намного удобнее: все мы будем находиться на одном этаже. Однажды вечером в его кабинет вошла старшая дочь Матильда, которой исполнилось двадцать лет, закрыла дверь и заперла ее на ключ. Зигмунд удивился: он не помнил, чтобы кто–либо из детей поступал так. У Матильды было встревоженное лицо. Как старшая, она ухаживала за малышами, заботилась о них и хранила их тайны. Матильда, по оценке Зигмунда, уже в двенадцать лет стала «совершенной маленькой женщиной». В детстве она перенесла три болезни. Оскар Рие вылечил ее, но не обошлось без общей слабости и потери веры в свои силы. Перенесла она и не совсем удачную операцию аппендицита, приковавшую ее надолго к постели. Теперь ее беспокоила, согласно диагнозу Зигмунда, блуждающая почка. Он не тревожился, но принял меры предосторожности, договорившись со знакомым врачом в Меране на время каникул. У Матильды было простенькое широкое лицо, внешне она больше напоминала тетушку Минну, чем мать. Видимо, из–за перенесенных болезней ее волосы имели тусклый оттенок. Тем не менее она была приятным человеком, с чистыми помыслами и чувствами. Она успешно окончила школу и много читала. – Папа, мне нужна помощь. – Приятная новость, Матильда, все эти годы я просил помощи у тебя, и ты мне никогда не отказывала. – Меня тревожит эта новая болезнь. Не осложнит ли она… замужество?… – Не думаю, чтобы она повредила. Все пройдет через месяц или два. Но тебя, наверное, беспокоит что–то другое? – Да, папа. – Я почувствовал, что последние два года ты терзаешься из–за того, что недостаточно привлекательна. Я не принимал это всерьез, потому что для меня ты просто красавица. Матильда грустно улыбнулась и сказала своим красивым низким голосом: – Но ты же не можешь жениться на мне, папа, ты уже женат. – Дорогая Матильда, дай мне высказать одно соображение: в семьях нашего социального и материального положения девушки не выходят рано замуж. В противном случае они быстро стареют. Ты знаешь, что твоей матери было двадцать пять, когда она вышла замуж. Я никогда не говорил тебе об этом, но надеялся, что ты останешься с нами до двадцати четырех лет, наберешься сил, подготовишься к тому, чтобы рожать детей и вести нелегкую супружескую жизнь. – Это так долго, папа, еще четыре года. И ничего не делать полезного по дому. – Думаю, тебя беспокоит не срок. Если бы ты была уверена, что найдешь любовь и мужа, ты бы так не тревожилась. – Разумеется, в этом причина моих неприятностей. Зигмунд встал, подошел к своей старшей дочери, обнял ее. – Дорогая девочка, когда ты вернешься в свою комнату, посмотрись в зеркало. Ты привлекательна. В тебе нет никакой заурядности. Благодаря своей профессии я знаю людей довольно хорошо и могу тебя заверить, что судьбу девушки решает не одна лишь физическая красота, а ее личность. Молодые люди, с которыми я общаюсь, хотят, чтобы их избранницы были веселыми, нежными, умеющими сделать жизнь красивой. Ты эмоциональна, и это не всегда помогало тебе; случались подъемы и спады, хотя ты с ними и справлялась. Ведь я перенес аналогичный невроз, когда был помоложе; это же произошло с тетей Розой. Пусть тебя не путает смерть дядюшки Генриха; никто от этого не застрахован. Именно поэтому жизнь имеет свою прелесть и значение: мы знаем, что она не бесконечна. Тебя полюбит тот, о ком ты будешь заботиться. Люди, ищущие друга на всю жизнь, хотят иметь уважаемое имя и душевную теплоту. Я всегда верил в тебя. У тебя нет причин падать духом. Поезжай в Меран и оставайся там столько, сколько пробудут там доктор и фрау Рааб, надеюсь, до середины мая. Матильда побледнела и сказала слегка хриплым голосом: – Не думаю, чтобы я фантазировала, опасаясь остаться в девах. Передо мной два примера, заставляющие тревожиться: тетушки Минна и Дольфи. – Твоя тетушка Минна – высокоморальный человек. Когда она была молодой, ее сердце принадлежало Игнацу Шёнбергу. Она определенно могла бы выйти замуж после смерти Игнаца, но она считает, что женщине дана любовь лишь раз в жизни. С ее стороны это сознательный выбор. – А как с тетушкой Дольфи? Зигмунд вздохнул, что он редко позволял себе. – Это, возможно, моя вина и вина твоего дяди Алекса. Мы думали об этом, но после смерти дедушки Якоба и свадьбы других тетушек кто–то должен был остаться дома, чтобы ухаживать за твоей бабушкой. Мы уверяли Дольфи, что у нее всегда будет все, что она захочет. И она имела все… кроме мужа. Но если бы в любой момент Дольфи явилась с кем–то и сказала: «Вот мужчина, за которого я выхожу замуж», тогда была бы еще одна свадьба. Любая женщина всегда найдет мужа. Когда горячо захочешь мужа… Не так ли? – Да, папа, ты всегда разумен. Но ты говоришь вообще, тогда как отдельное лицо вроде меня имеет дело с конкретным человеком, с отдельным мужчиной. – Он материализуется: из воздуха, из моря. Матильда, это же вечное чудо, благодаря которому мужчина и женщина умудряются установить контакт, иногда при невероятных обстоятельствах. Матильда улыбнулась, и улыбка сделала красивым ее простое лицо. – И у меня есть твое обещание, что в двадцать четыре года я выйду замуж? – Обещаю. Я прорицатель не только прошлого, но и будущего людей. Матильда поцеловала его в обе щеки, в ее глазах светилась любовь. – Спасибо, папа, мне нужно идти, я и так засиделась.5
Марта и Минна нашли для Розы небольшую квартиру по соседству и сделали все необходимое для переезда. Зигмунд, в свою очередь, перебрался в бывшую квартиру Розы. Квартира была в безупречном состоянии и не требовала ремонта. Плотник врезал дверь между новой и старой квартирами, перенес стойку для шляп и зонтов, купленную Зигмундом и Мартой еще для первой квартиры, в обшитое деревянными панелями фойе, освещавшееся наружным светом через цветные окна, затем ввернул восемнадцать крюков для пальто участников встреч по средам, с тем чтобы у каждого было свое место. Кухню Розы он переделал в комнату ожидания с овальным столиком и кожаными креслами. Средняя комната превратилась в медицинский кабинет; там стояла черная кушетка, покрытая выношенным персидским ковром, с белой подушкой для головы и пледом. Рядом, в углу, под бюстом римского императора и куском мозаики из Помпей, заключенным в раму, стояло его собственное кресло, и он мог сидеть около пациента, но так, что тот не видел его. Между приемной и комнатой ожидания были поставлены двойные двери с занавесями по обе стороны. Чтобы придать визитам пациентов конфиденциальность, он внес другие изменения: можно было из его кабинета незаметно выйти, минуя комнату ожидания. Дальнюю комнату он превратил в свой рабочий кабинет, одна стена которого была заставлена книгами. Лишь в центре оставалось место для горки с дюжиной древних фигурок. Книжные полки доходили до окна, глядевшего в сад с каштанами. Письменный стол он приставил к окну, чтобы было как можно больше света и теплоты, так не хватавших в венские зимы. В центре комнаты, напротив стены, украшенной предметами античности, стояло кресло для пациентов, с которыми он должен был вести предварительные беседы. На тот случай, если они будут испытывать неловкость, рассказывая о симптомах, он поставил на стол большую фаянсовую китайскую фигуру семнадцатого века и фигурку сидящего египтянина, чтобы пациент мог переносить на них свой взгляд и говорить свободно. Наряду с письменным столом в комнате стоял длинный и широкий стол, за которым Зигмунд писал свои книги и статьи для научных журналов. Он аккуратно складывал рукописи в кожаные папки, а в конце рабочего дня тщательно закрывал их. На задней части стола располагались фигурки ранних цивилизаций – хеттов, этрусков. На маленьком столике около письменного стола он хранил свою переписку, становившуюся с каждым днем все более обширной. Он получал письма от Юнга, Абрахама, Ференци и других молодых врачей; они интересовались его работой, описывали свои случаи и обращались за научными советами. Двойные двери между приемной и рабочим кабинетом были выкрашены в серый цвет, а дверь из комнаты ожидания обтянута красной тканью и обита бронзовыми гвоздями, как было принято у венских врачей. Прекрасные паркетные полы были закрыты восточными коврами, а потолки с подвесными газовыми лампами он оставил белыми, что зрительно увеличивало высоту. Комната ожидания была простой, ее стены украшали несколько больших картин. Но две его другие комнаты были заставлены античными предметами, которые он собирал уже много лет. На двери новой квартиры висела табличка с указанием часов приема пациентов: «Проф. доктор Фрейд. С 3 до 4 часов». Когда Марта и тетушка Минна осмотрели его кабинет, Минна не удержалась от замечания: – Зиги, когда перестанешь заниматься медицинской практикой, можешь открыть лавку древностей. У тебя сейчас намного больше предметов, чем у торговца за углом. Зигмунд улыбнулся: – Я как белка, запасающая на зиму орехи. Чем больше вокруг меня прошлого, тем легче мне думать о будущем. Первое заседание группы, собиравшейся по средам вечером, состоялось здесь 15 апреля 1908 года. Пришла дюжина участников, они осмотрели помещение, заметив, что при ярком свете скульптуры выглядят иначе и кажутся более контрастными на столах и в горке. Каждый участник принес Зигмунду небольшой подарок в знак открытия нового кабинета: фавна из Помпеи, женскую каменную фигурку из Индии, кусочек коптской ткани. Зигмунд, реализуя свой замысел, задуманный в Риме, предложил преобразовать кружок в Венское общество психоаналитиков и таким образом отпраздновать въезд в новые апартаменты. Предложение было одобрено. Зигмунда выбрали председателем, Отто Ранка – секретарем. Альфред Адлер предложил начать собирать научную библиотеку по их тематике. Были согласованы, получены и занесены в новый гроссбух скромные сборы. Голосованием приняли решение о подписке общества на несколько медицинских журналов, которые раньше имелись лишь в университетской библиотеке. Было решено, что все члены группы примут участие в Первом конгрессе психоаналитиков в Зальцбурге в конце апреля. Карл Юнг уже нашел помещение и принял другие необходимые меры для подготовки конгресса. Председатель Зигмунд Фрейд предложил в качестве темы для обсуждения вопросник, присланный доктором Магнусом Хиршфельдом из Берлина по теме «Цель исследования сексуального инстинкта» и ориентированный на выявление с медицинской точки зрения факторов, влияющих на сексуальную жизнь. Каждый член согласился дать ответ в рамках своей специализации. Если участники будут удовлетворены конечными результатами, то соберут воедино материалы и, возможно, опубликуют от имени Венского общества психоаналитиков, показав таким образом миру, что отныне у них существует, как у психиатров, неврологов, физиологов и др., официальный орган. В десять часов Марта и Минна принесли кофе и печенье, и Зигмунд попросил их остаться и вместе отпраздновать рождение общества. Оскар Рие позвонил и заявил, что сообщит послание лично Зигмунду, который не любил телефон и пользовался им только в крайних случаях. Когда к аппарату подошел Зигмунд, Оскар сказал: – Супружеские пары Рие и Кёнигштейн приглашают вас на ужин в воскресенье по случаю Пасхи. – В честь чего, Оскар? Воскресения? Старомодная квартира Рие находилась на Штубенринге. Оскар прислушался к совету Фрейда жениться («тогда будет жена, которой можно делать подарки») и женился на Мелани Бонди, быстро заимел троих детей. В сорокачетырехлетнем возрасте он ушел из Института Кассовица, где занимал пост заведующего отделением детского паралича, и полностью переключился на частную практику, специализируясь по инфекционным болезням. Оскар получал в клинической школе удовлетворительные оценки, считался «достаточно хорошим врачом», был надежным, основательным, терпеливым, и дети ему доверяли. Он не увлекался исследованиями или публикациями, получая удовлетворение от ежедневной работы с больными детьми. Леопольд Кёнигштейн в пятьдесят восемь лет, за год до Зигмунда, получил почетное звание профессора и перенес чтение лекций из Городской больницы в поликлинику, где он успешно работал в области хирургии глаза. Леопольд принадлежал к тому типу мужчин, которые хорошеют с годами, хотя волосы на его голове сильно поредели и появились залысины. Его глаза, казалось, стали вдвое больше и более выразительными. – Довольно, – шумел Зигмунд, – уверен, что кто–то из вас получил пост декана медицинского факультета. После веселого, шумного застолья Оскар открыл бутылку шампанского. – Десять лет назад, – сказал Кёнигштейн, – мы шли вместе домой из больницы. Я заявил вам, что вы слишком увлеклись подсознанием. Об этом вы говорите в «Толковании сновидений». – Странно, Леопольд, что вы помните. Я полагал, что вы не читаете моих книг. – Не читал, а сейчас читаю, от начала до конца со всем тщанием. Здесь, в присутствии трех семейств, я должен признать, что вы были правы, а я ошибался. В качестве покаяния прошу разрешения присоединиться к венской делегации на встрече в Зальцбурге. Зигмунд покраснел от удовольствия. Оскар Рие сомкнул губы, улыбнулся и сказал: – Марта, помните тот ликер, что я принес вам на день рождения, когда мы отдыхали в Бельвю, ту бутылку, которая пахла сивухой? Этот инцидент также отражен в «Толковании сновидений». Зигмунд, я все еще чувствую запах сивухи, когда вспоминаю о своей реакции на вашу рукопись о сексуальной этиологии неврозов. Я прочитал пару страниц, вернул рукопись и сказал: «Ничего особого нет». Было это в Институте Кассовица тринадцатьлет назад. Я ошибался. В этом есть многое. Я не могу выехать в Зальцбург, но здесь, в Вене, прошу предложить меня в члены Венского общества психоаналитиков. – Ну и ну, – пробормотала Марта, подошла к Леопольду и Оскару и поцеловала обоих в щеку, – на небесах радуются, когда грешники каются…6
Он приехал в Зальцбург рано утром в воскресенье, сразу же отправился в гостиницу «Бристоль» на широкой, утопающей в цветах площади Макартплац, вымылся, переоделся и спустился в фойе. У регистрационной конторки стояли двое мужчин; они обменялись замечаниями и улыбнулись ему. Он не узнал никого из них, но по внимательным взглядам заключил, что они приехали на семинар. Он подошел к ним и протянул руку. – Фрейд из Вены. – Джонс из Лондона. – Брилл из Нью–Йорка. – Господа, вы уже позавтракали? Хорошо, тогда, может быть, выпьем по чашечке кофе? – С удовольствием. Они пошли в небольшую столовую для немногих постояльцев, которые отказывались от завтрака в своих номерах. Все трое заговорили сразу по–английски, Зигмунд слегка по–книжному, поскольку изучал язык преимущественно по книгам; Джонс растягивал слова с уэльским акцентом, а у Брилла был немецкий акцент. Они были молоды: Джонсу – двадцать девять, а Бриллу – тридцать три, оба прибыли из Цюриха, где работали с Блейлером и Карлом Юнгом, накануне приезда швейцарской группы, Которая, как было приятно узнать Зигмунду, включала не только Блейлера и Юнга, но и Макса Эйтингона, которого наставлял сам Зигмунд, Франца Риклина, Ганса Бертшингера и Эдуарда Клапареде, первого женевского врача, заинтересовавшегося психоанализом. После завтрака Зигмунд спросил Джонса и Брилла, не хотят ли они пойти на прогулку. – Мне хотелось бы размяться после долгого сидения в купе поезда. – У нас будет шанс сравнить неврозы Вены, Лондона и Нью–Йорка, – пошутил Брилл. Они пересекли Макартплац, заполненную нарядно одетыми жителями Зальцбурга, направлявшимися в церковь; тысячелетняя история города была связана с его епископами. Затем они направились к центру, к залитым солнцем садам «Мирабель», откуда открывался превосходный вид на шпили и колокольни старого города и потрясающую воображение каменную крепость, стоявшую на вершине горы на противоположной стороне реки. Зигмунд повернулся к Эрнесту Джонсу и поблагодарил его за то, что он первый предложил Карлу Юнгу провести семинар, а тот приложил большие усилия, чтобы собрать сорок два человека из шести стран. – Это историческое событие, – сказал Джонс, – именно поэтому я хотел назвать его международным конгрессом психоаналитиков. – Назовем так в следующем году, если нынешняя встреча пройдет удачно. Расскажите, что привело вас к психоанализу? Они подошли к старому городу с его узкими кривыми улочками и красочными витринами лавок. Эрнест Джонс шел между Зигмундом и Бриллом. Он был невысокого роста, его голова была выкроена для более импозантного и плотного человека, но все же не нарушала пропорций. – Мне бы следовало быть ростом повыше, – сказал Джонс с ухмылкой, – но я принял неизбежное. В порядке компенсации я усвоил невозмутимость Наполеона. Подобно большинству невысоких людей, он одевался элегантно и сам выбирал для себя предметы туалета, даже галстуки. У него были светло–коричневые шелковистые волосы, глаза большие, темные, проницательные. Отличительной его особенностью была бледность как след болезни крови в детстве. Темные изогнутые брови резко выделялись на фоне бледного лба. На его волевом лице выдавался внушительный римский нос, уши были прижаты к голове, усы были шелковистыми. Когда его колючий юмор задевал кого–либо из членов семьи, мать восклицала, показывая на его язык: – Он острый, как иголка! Как и Зигмунд Фрейд, он был первым сыном у боготворившей его матери и добродушного отца; разница заключалась в том, что отец Эрнеста Джонса был процветающим дельцом и мог обеспечить образование сына. Джонс, родом из Уэльса, считал, что он принадлежит к ущемленному национальному меньшинству. Его мать родилась в семье баптистов, но затем приняла англиканскую веру, тогда как муж и сын были атеистами. В двадцать один год Джонс получил степень в медицине и первую золотую медаль, сдав экзамены на подготовительных курсах и в клинической школе Лондонского университета. Во время акушерской службы в госпитале ему приходилось принимать роды на дому в одном из беднейших еврейских кварталов Лондона. Ему понравились его жители, их теплый, человечный образ жизни, у него возникла к ним симпатия, сохранившаяся на всю жизнь. Получив подготовку невролога, он провел три года в качестве домашнего врача при детском госпитале. Ведя с огромным усердием работу хирурга, невролога, терапевта, он был требователен к медицинским сестрам и няням, не понимавшим, почему они должны работать не покладая рук. Неприятности начались у него в конце третьего года, когда он обнаружил нарыв в груди тяжелобольной девочки. Авторитетный врач–консультант не согласился с заключением Джонса. Однако вскоре нарыв лопнул. Увидев, что девочка выплевывает гной, Джонс решил немедля ее оперировать, чтобы спасти жизнь. Вернувшийся вслед за этим врач–консультант пришел в ярость. Случилось так, что невесте Джонса предстояла операция по поводу аппендицита. Он хотел быть возле девушки во время операции, но, как постоянный врач, не мог покинуть госпиталь. Он спросил дежурного врача, может ли он быть свободен вечером в субботу. Врач ответил, что, по его мнению, такое возможно, но сестра–хозяйка наябедничала на него, и его немедленно уволили. Так, по его словам, началось наклеивание на него «дурной славы». Какое–то время это не казалось серьезным. Весь следующий месяц он посвятил подготовке к завершающим экзаменам и был первым в списке, получив еще одну золотую медаль. Джонс был уверен, что за ним оставят должность невролога в Национальном госпитале, ибо в Англии не было другого врача, равного ему по квалификации. Но председателем бюро Национального госпиталя оказался врач–консультант, ошибочность диагноза которого доказал Джонс. Он заявил, что с молодым доктором Эрнестом Джонсом «трудно работать», а затем посадил на это место собственного племянника. – Меня отсекли от лондонского медицинского мира как человека с отметиной. Любая связь с медицинской элитой или с альма–матер, куда он хотел вернуться, была оборвана. Джонс основал частную контору на улице Харли вместе с более пожилым и более известным врачом. Его отец заключил арендный договор и оплатил аренду. Затем Джонс потратил почти два года, обходя по списку лондонские больницы, учебный госпиталь на улице Черинг–Кросс, больницу для нервнобольных в Вест–Энде, даже малоизвестные больницы для детей и для нервнобольных; во всех случаях его кандидатуру отклоняли из–за прошлой истории. В конце концов ему удалось получить назначение в Фарингтонский диспансер и чуть позже в морской госпиталь, где он читал лекции по неврологии. Ему нужны были побочные заработки, и он стал репортером медицинской прессы, помещая отчеты о факультативных лекциях. Один приятель пригласил его в Фабианское общество, где он слушал беседы Бернарда Шоу, Герберта Уэллса и Сиднея Вебба. Там он встретил молодую голландку по имени Лое и влюбился в нее. Она была женщиной неукротимой отваги и психоневротического склада. Пара провела несколько лет вместе, живя то у него, то у нее и выезжая за границу. Лое называла себя миссис Эрнест Джонс, несмотря на то, что формального брака не было. Затем последовал самый жестокий удар. Он занимался исследованием афазии, некоторые проверки проводились в школе умственно отсталых. Две девицы обвинили его в недостойном поведении. Доктора Эрнеста Джонса арестовали, он просидел три дня в камере, затем был отпущен под залог; несколько месяцев его терзали переносами слушания, пока судья не прекратил дело по причине его абсурдности. Медицинская пресса признала, что он не виновен; врачи, с которыми он работал в больницах, собрали фонд, чтобы помочь ему оплатить судебные издержки. Он был убежден, что девицы блудили между собой, а вину пытались переложить на него. К этому времени, в 1906 году, его заинтересовали конвульсии без видимых органических нарушений, и он наблюдал случаи анестезии и паралича, которые трудно было приписать конкретной причине. Опыт работы в детском госпитале убедил его в том, что существует детская сексуальность. – Англичане – жуткие лицемеры, когда речь заходит о сексе, однако еще до поступления в начальную школу детям известно многое. Девятилетний сын видного министра катался по полу от колик в желудке, а затем сказал мне: «Боже мой, было так больно, что я не смог бы трахнуть девчонку, окажись она подо мной в тот момент». И говорят, что нет детской сексуальности! Он начал практиковать психотерапию до того, как прочитал работы Фрейда, и сразу же столкнулся с новыми неприятностями. В больнице Вест–Энда для нервнобольных находилась десятилетняя девочка с истерическим параличом левой руки. Доктор Савиль, отвечавший за девочку, опубликовал книгу о неврастении; согласно его диагнозу, причиной ее болезни было «недостаточное снабжение кровью одной части мозга». Джонс обследовал девочку, установил, что она, как правило, приходила рано в школу, играла с мальчиком чуть старше себя, попытавшимся ее соблазнить. Девочка отбивала его поползновения левой рукой, которая затем и онемела, была парализована, хотя девочку по–настоящему не ударили. Поскольку в больницах было запрещено упоминать о сексе, разразился скандал. Родители девочки, узнав о случившемся, пожаловались в госпитальный комитет, а тот немедля посоветовал Джонсу уйти в отставку. В это время профессор психиатрии в университете Торонто доктор Кларк совершал поездку по Европе, изучая деятельность психиатрических клиник и подыскивая директора для института, основанного им в Канаде. Отчаявшийся молодой Джонс ухватился за возможность начать новую жизнь. Он попросил дать ему шесть месяцев, чтобы пройти подготовку под руководством Блейлера и Юнга в Бургхёльцли. Первая публикация Зигмунда, прочитанная Джонсом, касалась Доры; хотя он недостаточно хорошо знал немецкий язык, чтобы вникнуть в подробности, метод Зигмунда произвел на него большое впечатление. Он решил, что должен выучить немецкий язык, и начал штудировать «Толкование сновидений». – Я пришел к глубокому убеждению, что в Вене есть человек, внимательно относящийся к каждому слову пациента… Это говорит о том, что он подлинный психолог. Это значит, что человек, проявивший моральный и политический интерес к интеллектуальному процессу, впервые доказал подлинно научный интерес к нему. До сего времени научный интерес ограничивался тем, что Шеррингтон называл миром энергии, «материальным» миром. Ныне же он относится в равной мере к миру ума. Наша тройка обошла старинный город. Зигмунд обратился к Бриллу: – Если вас не затруднит беседовать во время подъема в горы, я хотел бы подняться на Мёнхсберг, оттуда лучше виден город. – Подняться в горы? Ба, я мог бы разговаривать с вами, профессор Фрейд, даже находясь в шахте. Абрахам Арден Брилл был коренастым мужчиной среднего роста, с короткой шеей и тяжелыми веками, в его глазах сквозила сентиментальность, хотя им доводилось видеть и трудности и жестокость. Его жизнь напоминала бег с препятствиями, а их он считал вроде бы нормальными. В остальном он был приятно–домашним, если не распалялся, будучи возбужденным. Брилл удивленно смотрел на мир и людей через очки в стальной оправе; на его голове вихор черных волос стоял почти вертикально, в верхней части спускался назад к затылку. Он носил необычно высокие американские воротнички, под самый подбородок. Он был жаден до знаний, опыта, и это создавало впечатление о его уступчивости. Лишь одно отрицало это – выступавший вперед подбородок, когда казалось, что его ждет разочарование или поражение. Брилл родился в Австрии и, когда ему было всего пятнадцать лет, убедил своих родителей купить ему билет на пароход в Соединенные Штаты, где, несмотря на отсутствие друзей и родственников, он намеревался завершить свое образование и войти в новый мир. Ловкачи на борту парохода выманили у него те несколько долларов, что сумели скопить родители, и он высадился в Нью–Йоркской гавани, не зная ни слова по–английски и без единого цента. Но он был сильным, находчивым и неисправимым оптимистом. Содержатель ночного клуба позволил ему спать на полу в качестве платы за уборку помещения; позже он встретил врача, который разрешил ему спать на полу в его кабинете… За это время он закончил среднее образование. В восемнадцать лет он принял решение, которое и привело его в конечном счете на семинар по фрейдистской психологии. Не имея средств, он все же мечтал стать врачом: окончил городской колледж Нью–Йорка, обучался в университете Нью–Йорка и получил степень бакалавра, после чего был принят на медицинский факультет Колумбийского университета. Когда его сбережения оказывались на исходе, он прекращал посещение университета, находил два–три рабочих места, ограничивал себя во всем, копил необходимые средства еще на год учебы. Получив в двадцать девять лет медицинскую степень, Брилл провел четыре года в больнице Айслип, где работал с психически ненормальными пациентами. Поскольку применявшиеся им методы терапии не давали нужных результатов, он, испытав разочарование, обратился к неврологии; с увлечением читал литературу по психиатрии на немецком, переводил наиболее ценные, по его мнению, работы на английский язык, в особенности исследования Крепелина из Мюнхенского института. В 1907 году он отправился в Париж для работы в больнице Бисетр под руководством доктора Пьера Мари, который принимал Зигмунда в группу Шарко в Сальпетриере. Недовольный результатами доктора Мари в лечении психически больных, Брилл переехал в Цюрих, где тренировался под началом профессора Блеилера и доктора Карла Юнга, заменив ассистента Карла Абрахама. – Последний год в Бургхёльцли стал поворотным в моей жизни! – воскликнул Брилл с радостной улыбкой, когда они поднимались по извилистой горной тропе к зеленой чаще над ними. – Я никогда не слышал о вашем психоанализе. За двое суток я втянулся в свой первый сеанс и выслушал о случаях, проанализированных с фрейдистской точки зрения. Я думал, что у меня треснет голова! Первая пациентка, которой мы занимались, иногда выливала красное вино или красные чернила на простыни своей постели. В больнице штата Нью–Йорк или в Бисетре это описали бы как бессмысленное поведение. Но Блейлер и Юнг согласились с тем, что это был осмысленный акт, продиктованный подсознанием женщины. Они были правы, у женщины прекратилась менструация, и она отвергала подсознательно признаки старения. Она хотела вернуться к лучшим годам своей жизни. Я ушел с обсуждения, захватив экземпляр «Толкования сновидений». В течение следующего месяца я прочитал все написанное вами. Дорогой профессор Фрейд, в третьем году, когда я начал свою работу в больнице штата Нью–Йорк, уже были опубликованы ваши работы «Об истерии», затем «Толкование сновидений», «Психопатология обыденной жизни», не говоря уже о монографиях, посвященных одержимости и фобиям, защитным психозам, а я не прочитал ни строчки! Мне уже тридцать два года, полжизни прожито, и только сейчас я попал к вам. Но даже и это удача; если бы один из моих учителей в Нью–Йорке, Адольф Мейер, не обучался в Бургхёльцли, я, возможно, поехал бы к Крепелину в Мюнхен и там не получил бы ничего, кроме дополнительной классификации психозов. Они подошли к лесу. На самой вершине Мёнхсберга возвышалась крепость Верхнего Зальцбурга – резиденция епископов и неприступное укрепление, построенное за сто лет до нашей эры. Внизу, по обе стороны реки Зальцах, раскинулся город. Здесь в 500 году до нашей эры обосновались кельты; в 40 году нашей эры это место было захвачено римлянами. В четвертом веке святой Максим ввел христианство и выкопал первые катакомбы под Мёнхсбергом; в восьмом веке святой Руперт построил монастырь Святого Петра перед катакомбами, и с тех пор Зальцбург получил известность. Осматривая сверху город, показывая Бриллу и Джонсу примечательные места, Зигмунд испытывал счастливое чувство – у него оказались два смышленых, молодых, страстных поклонника психоанализа. Он взял под руки обоих и сказал: – Прекрасная прогулка. Но полагаю, что нам следует вернуться в отель «Бристоль». Туда сейчас приезжают остальные делегаты. – Господин профессор, мы поедем в Вену после заседаний, – сказал Брилл. – У вас найдется время встретиться с нами? – Конечно. Любой вечер ваш. А если вы сможете остаться до воскресенья, то у нас будет целый день. – Прекрасно! – воскликнул Эрнест Джонс. – В следующий раз все мы будем только слушать. Мы придем учиться.7
Когда они возвратились в гостиницу, в фойе стояла группа мужчин. Первым, кого заметил Зигмунд, был Карл Юнг, ожидавший его возвращения. Они тепло приветствовали друг друга. Зигмунд забыл, какой мощной была у Юнга «длань каменотеса», сжавшая его руку. Как и год назад, Зигмунд был в прекрасном настроении. – Дорогой коллега, сердечно благодарю вас за работу, которая увенчалась созывом этого совещания. Юнг сделал жест, показывавший, что не стоит благодарности. – Эта работа – знак признательности, уважаемый профессор. – Я решил представить историю человека, одержимого крысами, которого я лечил восемь месяцев, – сказал Зигмунд. – Это необычный случай, показывающий, как можно одновременно питать к человеку и любовь и ненависть в результате конфликта в подсознании. – Мы и приехали выслушать сообщения, раскрывающие ваш метод. Но позвольте мне представить вам врачей, которые жаждут встречи с вами: Аренд, Левенфельд и Людвиг из Мюнхена; Штегман из Дрездена; наш друг Карл Абрахам из Берлина; мой родственник Франц Риклин вместе с вашим другом Максом Эйтингоном из Цюриха; приятный сюрприз – Эдуард Клапаред из Женевы, где он пропагандирует наше учение. Ваш последователь Шандор Ференци прибыл из Будапешта. Блейлер приедет к вечеру прямо с вокзала. Венская делегация насчитывает двадцать шесть человек! – Вы не просили профессора Блейлера быть председателем конгресса? – Он откажется. Блейлер настаивает на своей полной независимости и свободе своих убеждений. Быть председателем по меньшей мере означает для него, что он не только присоединился к организации… – Еще нет никакой организации! – …но одобряет и поддерживает представленные доклады. Он приезжает сюда, как на многие конгрессы, в качестве заинтересованного, но независимого наблюдателя. Кроме того, дорогой профессор, вы заблуждаетесь, полагая, что Блейлер – последователь, как сказано в вашем письме на мое имя. Заинтересован – это да, последователь – нет. Зигмунд рассудительно ответил: – Блейлер является крайне важной фигурой для нашей группы. В таком случае мы обойдемся без председателя и без секретаря, казначея и официальных заседаний. Встречи будут неформальными. Нам нужен только порядок представления докладов. Это были самые благостные дни в жизни Зигмунда, ведь с приездом Блейлера их стало сорок два человека, прибывших из разных уголков Европы на эту встречу, а это почти равнялось числу участников традиционных неврологических и психиатрических конгрессов. Его радовала совместимость участников: они были связаны не только общим интересом, но и чувством ожидания. Зигмунд пообедал с пятью представителями из Германии в «Гольденер Хирш», с удовольствием отведал дичи и зальцбургского пирога, прошелся с Юнгом, Эйтингоном и новыми знакомыми из Швейцарии по исторической площади Резиденцплац, провел остальную часть дня в беседах с врачами, желавшими получить консультацию. К вечеру он сговорился с представителями из Вены устроить прием для иностранных гостей в «Штернбрау» – огромном ресторане с музыкой и тирольскими танцами, где пиво подавали в литровых кружках и можно было наблюдать за работой мясника, заказать только что изготовленные сосиски. Это было излюбленное заведение местных жителей, недорогое, шумное, полное жизни. Марта любила бывать здесь хотя бы раз во время летнего отдыха семьи поблизости в горах. Когда они вернулись с вечеринки, Карл Юнг провел Зигмунда в номер Блейлера. В ответ на стук Юнга тот сказал мягко: «Входите!» – встретил Зигмунда в центре комнаты с протянутыми руками и улыбкой на лице. Юнг представил Зигмунда, а сам удалился. Зигмунд чувствовал себя неловко, скованно, размышляя о том, как многим он обязан Ойгену Блейлеру, который первым признал его работу, представил ее университету, обучал его методам врачей в приюте и выпестовал Карла Юнга, Риклина, Абрахама, Эйтингона, Джонса, Брилла. Как выразить благодарность этому человеку, который в буквальном смысле слова превратил психоанализ из венской причуды в мировое движение! Зигмунду казалось, что Блейлер выглядит замечательно. В его облике было что–то от орла, вылепленная по моделям Ренессанса голова гордо, но без надменности возвышалась над торсом. Его светлые глаза были широко раскрыты, внимательны; тонкий нос, высокий покатый лоб, мягкие седые волосы, седоватая тень небольшой бородки, прилегающие к черепу уши, жестковатые усы – все это, вместе взятое, создавало впечатление проницательности, отваги и такта; Ойген Блейлер умудрился быть в стороне от мелочей сего мира и в то же время близким к людским бедам. Пока Блейлер говорил, с каким удовольствием он встречается с господином профессором Фрейдом после многих лет знакомства с его работами, Зигмунд слегка наклонил голову, затем поднял ее с теплой улыбкой. Блейлер был моложе Зигмунда на несколько месяцев; он сменил Фореля на посту директора Бургхельцли, того самого Фореля, чью книгу «Гипнотизм» Зигмунд защищал от неуместных нападок профессора Мейнерта. Блейлер, бывший профессором психиатрии в университете Цюриха, заслужил репутацию смелого человека. После того как он разошелся с мировым авторитетом Крепелином в вопросах раннего слабоумия, он публиковал свои открытия не торопясь, зондируя обстановку, всегда документированно, никогда не задевая Крепелина и его рьяных поклонников. Крепелин интересовался формой, видом и категорией заболевания; Блейлер обращал внимание на происходившее в уме пациента. Хотя Общество психоаналитиков в Цюрихе было образовано Карлом Юнгом и он был очевидным руководителем, выбор был предрешен старшим, то есть Блейлером. Даже здесь, в Зальцбурге, Блейлер сидел спокойно и давал возможность Юнгу управлять швейцарской группой и определять другие частные моменты. Они уселись на удобную софу, дискуссия касалась психиатрии и психоанализа, затрагивался также вопрос, как они могут быть полезными друг другу. Зигмунду не потребовалось много времени, чтобы уяснить справедливость сказанного Юнгом: Ойген Блейлер никогда не взял бы на себя роль председателя и считал бы проявлением дурного вкуса подобное предложение. Зигмунд понимал, что в отличие от других участников встречи Блейлер был крепким орешком. Он открыто и сердечно излагал свои взгляды, но до определенного предела: за этой чертой он становился недоступным. Однако, прежде чем попрощаться и пожелать друг другу доброй ночи, Блейлер сказал: – Мы с женой надеемся приехать в Вену через несколько месяцев для отдыха. Можем ли мы иметь удовольствие посетить вас и фрау профессоршу Фрейд? На следующее утро Зигмунд проснулся рано, позавтракал в номере, подстригся у парикмахера гостиницы, подровнял баки, седеющую бороду и усы. После этого он надел новый серый костюм, специально предназначенный для этого события, белую льняную сорочку с черной бабочкой, продел в тугие манжеты запонки, подаренные ему Мартой ко дню рождения. Прежде чем выйти из номера, он посмотрел в зеркало и решил, что в свои пятьдесят два года не выглядит старым, и, хотя иногда думал о смерти, подчиняясь предписанному порядку вещей, им овладело чувство, словно он начинает жизнь заново. Зигмунд вошел в комнату заседаний около восьми часов утра. За длинным столом уже сидели человек двадцать. В середине стола было оставлено место для него. Его доклад был первым. Он пожелал всем доброго утра и точно в восемь приступил к чтению доклада об одержимом крысами человеке. Он говорил низким, дружелюбным тоном, как говорят с уважаемыми коллегами, но голос звучал так мощно и произношение было столь отчетливым, что никто, даже сидящие в конце стола, не пропустил ни слова. Он рассказал группе об адвокате Лертцинге, о его одержимости, его страхах; о том, как повлиял на него рассказ капитана–садиста на военных маневрах о наказании преступника, которому наложили на ягодицы горшок с крысами; об утере Лертцингом очков; о подмене отца капитаном; об анальном эротизме и подавленном гомосексуализме. Его доклад длился три часа. Все слушали с жадным вниманием, ибо случай человека, одержимого крысами, представлял собой полный букет взаимосвязанных психоаналитических симптомов. В одиннадцать часов он закончил сообщение. – Господа, я говорил слишком долго! – Нет, нет, господин профессор. Продолжайте! Зигмунд осмотрел стол, заказал кофе для группы и возобновил анализ заключений и лечения. Участники пообедали, погуляли по городу, а затем вернулись в зал заседаний. Эрнест Джонс выступил с блестящим докладом «Рационализация в повседневной жизни», он был первооткрывателем в этой области психологии. За ним последовал Альфред Адлер, сделавший хорошо документированный доклад «Садизм в жизни и неврозы», он выбрал эту область для изучения; Ференци ярко изложил доклад «Психоанализ и педагогика», заслуживший аплодисменты; Исидор Задгер зачитал вызвавший спор отчет «Этиология гомосексуализма»; Карл Юнг и Карл Абрахам сообщили о двух аспектах раннего слабоумия. При этом произошел единственный неприятный огрех: говоря о вкладе Юнга в открытия этой области, Абрахам забыл упомянуть его имя. Юнг был раздражен, а Абрахам расстроен. – Мое подсознание предало меня! – сетовал он, оказавшись один на один с Зигмундом. – Я имел в виду признать свой долг перед Юнгом. Просто его имя выскочило из поля зрения. – Мне не хотелось, чтобы между вами были разногласия. Нас еще так мало, что не должно быть расхождений, основанных на личных «комплексах».8
Когда доклады и обсуждение были закончены, участники собрались в комнате для банкета. Зигмунд был в добром настроении, заседания прошли успешно, каждый из докладов открывал многообещающую перспективу… Прошедший день показал, что психоанализ перестал быть делом одного человека. Участники из Швейцарии были полны энтузиазма в отличие от представителей из Вены, выглядевших несколько сдержанными. Хотя Ойген Блейлер был решительным противником спиртных напитков, банкет прошел весело. По одну сторону от Зигмунда сидел Юнг, по другую – Блейлер. Гвидо Брехер из Мерана, новый австрийский член, остроумно высмеивал конгрессы психологов, а затем стал безжалостно подшучивать над выступавшими, доводя до абсурда их тезисы. После серьезной дневной работы смех помогал расслабиться; каждый по очереди рассказывал какую–нибудь забавную историю из своей практики или добродушно острил. Время близилось к одиннадцати, но никто не задавал вопроса о ежегоднике, который намерен был обсудить Зигмунд. Он не хотел, чтобы участники встречи разъехались, не имея хотя бы начальных планов публикации. Он полагал, что швейцарцам следует играть ведущую роль. Перед окончанием обеда Юнг наклонился к Зигмунду и тихо сказал: – Мы готовы обсудить учреждение ежегодника. Не могли бы вы подойти в номер Блейлера? Зигмунд почувствовал, как учащенно забилось его сердце. – С великим удовольствием. – Вы желаете включить кого–либо? – Да, некоторых членов из стран, где мы только начинаем: Джонса, Брилла, Ференци, Абрахама. – Хорошо. Я попрошу их прийти. Войдя в номер Блейлера, Зигмунд почувствовал, что там царит дух ожидания. Каждый член швейцарской группы пожал ему руку и поздравил с успешным проведением совещания. Брилл, Джонс, Абрахам и Ференци были довольны тем, что их пригласили. Хотя встреча проходила в номере директора, профессора Блейлера, руководил ею, испытывая явное наслаждение, Карл Юнг… Зигмунд сидел спокойно, перечисляя в уме задачи: «Основание ежегодника превратит психоанализ из локальной дисциплины в международное движение. Выступление Цюриха спонсором публикации свяжет психоанализ с Цюрихским университетом, который имеет высокую репутацию в Европе, и с Бургхёльцли, слава которого дошла до Соединенных Штатов. Прекратятся обвинения, что новая наука исходит из самого сладострастного и сексуально извращенного города в мире и заслуживает того, чтобы там оставаться. Прекратятся злокозненные нашептывания, будто это «еврейская наука». Будет обеспечен непрерывный приток информации от швейцарских врачей, а это побудит немецких психиатров внести свой вклад. И самое важное, они станут независимы от журналов, которые помещают лишь частицу того, что готовит группа Фрейда». Карл Юнг встал в центре комнаты и сказал, что настало время учредить ежегодник. Эрнест Джонс высказался за публикацию на трех языках; Эдуард Клапаред настаивал на французском издании, поскольку лишь немногие французские врачи и студенты читают по–немецки. Макс Эйтингон проговорил, заикаясь, что расходы по публикации могут быть покрыты за счет скромных сборов общества и он знает, откуда можно получить помощь, если возникнет дефицит. Шандор Ференци настаивал на высоком редакционном уровне, чтобы не могли придраться критики; Карл Абрахам предложил, чтобы помимо основных статей был предусмотрен раздел для обзора публикаций. Юнг, желая показать, что он не в обиде на Абрахама за то, что тот не упомянул его имени в своем докладе, крикнул: – Раздел ваш, доктор Абрахам! К удивлению Зигмунда Фрейда, самую горячую поддержку оказал Блейлер, который встал, повернул к себе спинкой стул, оперся на нее и заговорил с энтузиазмом о значении такого журнала, о его возможности пробиться в мир науки, о том, насколько журнал необходим для ученых, желающих видеть свои работы опубликованными. Все взгляды повернулись к Зигмунду Фрейду. Одобрение Блейлера придало уверенности, что ежегодник будет создан. – Настоящая встреча является высшей точкой нашего заседания и воплощением моей сокровенной мечты. Мы теперь сможем занять подобающее нам место на мировой сцене. Чтобы получить уверенность в прекрасной редакции ежегодника, я полагаю, что все согласятся просить господина доктора Карла Юнга стать редактором. Присутствовавшие приветствовали Юнга аплодисментами. Его лицо просветлело, и он сказал, улыбаясь: – Принимаю. С гордостью и радостью. Спокойный Франц Риклин, который, как казалось, не возражал находиться все время под протекцией Юнга, сказал: – Господин профессор Фрейд, у нас есть редактор, вам же надо стать директором. – Благодарю вас, господин доктор Риклин. Разумеется, мне было бы приятно. Но я должен быть одним из директоров. Мы должны иметь кого–нибудь из Швейцарии, чтобы разделить ответственность и решения по вопросам политики ежегодника. Никто не поднял глаза на Ойгена Блейлера, не взглянул и Зигмунд. Если Блейлер отказался быть председателем на обычном двухдневном совещании, то как он может принять ответственность в качестве директора будущего ежегодника? Нет, это невероятно… для всех, но не для Блейлера. – Буду счастлив стать вместе с вами содиректором, господин профессор Фрейд, если меня приемлют все в этой комнате. Полагаю, что, работая вместе, мы сумеем выпустить весьма внушительный ежегодник. Это заявление наэлектризовало присутствующих. Зигмунд почувствовал необычное возбуждение. Швейцарцы сердечно поздравили Блейлера, затем Фрейда. Вслед за ними Джонс, Брилл, Абрахам, Ференци выразили свои поздравления редактору и директорам. Зигмунд прошептал на ухо Абрахаму: – Как вы думаете, не заказать ли бутылку шампанского? Это памятное событие, и оно требует тоста. Абрахам пожал плечами: – Только не алкоголь. Блейлер и Юнг – трезвенники! Радость по случаю удачной договоренности оказалась кратковременной. Войдя в купе поезда и увидев лица своих компаньонов из Вены, Зигмунд понял, что его ждут неприятности. Он вдруг осознал, что в прошедшие два дня он уделял слишком мало внимания своим старым друзьям. Но о чем особом он мог с ними говорить? Он помогал всем им в подготовке их докладов. К тому же нужно было встретить много новых людей и наладить отношения с ними. Со своими венскими коллегами он встречался каждую среду. Разве не было разумным и правильным потратить эти дни на установление связей с представителями других стран? Его венские коллеги думали иначе. На лицах Альфреда Адлера, Вильгельма Штекеля, Исидора Задгера, Рудольфа Рейтлера, Поля Федерна и Фрица Виттельза, разместившихся в купе, было написано раздражение и недовольство. Признаком этого было то, что ни один не встал и не предложил Зигмунду места. Он стоял в проходе купе, а под его ногами трясся вагон, минуя стрелки пригорода Зальцбурга. В коридоре стояла другая группа: Отто Ранк, сжавший его руку, когда он проходил мимо; Эдуард Хичман, подмигнувший ему с насмешкой, словно говоря: «Что можно ожидать от человеческой натуры?» Леопольд Кёнигштейн кивнул ему, когда он входил в купе… Зигмунд заметил, что шесть мест были заняты врачами–профессионалами; люди иных профессий, такие, как Гуго Геллер и Макс Граф, находились в коридоре, достаточно далеко, и не слышали дискуссии. Покрасневшее лицо Вильгельма Штекеля говорило о том, что он взял на себя роль выступающего от имени всех. – Прекрасно, Вильгельм, в чем дело? – Мы страшно разочарованы. – Чем? – Вашим отношением к нам на конгрессе. Вы пренебрегали вашими старейшими друзьями, которые помогали вам начать движение… – Без которых не было бы конгресса, – съязвил Исидор Задгер. Зигмунд напомнил, что они вместе выступали в качестве хозяев в «Штернбрау». – Но вы относились к нам, как к бедным родственникам, – сказал хрипло Фриц Виттельз, – вам надоели те, кого вы давно знаете. – Я встречался с дюжиной новых людей впервые. Я считал важным посвятить им каждую свободную минуту. Леопольд Кёнигштейн просунул голову в купе и сказал осторожно: – Могу ли я высказаться как посторонний? Полагаю, что профессор Фрейд прав, думая… – Нет, вы не можете говорить как посторонний! – выкрикнул Рудольф Рейтлер. – Мы все члены этой группы с самого начала, и только мы имеем право говорить. – Пусть будет так, Рудольф, – ответил Зигмунд, – но, видимо, есть нечто большее за этим разговором, чем пренебрежение с моей стороны. – Почему вы окружили себя приехавшими из Цюриха и новыми людьми из Англии и Америки, в то время как нас, венцев, поместили в другом конце гостиницы? – Это был опять–таки Штекель. – По той же причине, Вильгельм. Но мы так и не подошли к вашей настоящей жалобе. Доктор Адлер, вы, очевидно, разделяете настроения? Скажите честно, что волнует группу? – Да, господин профессор, если вы настаиваете. Мы недовольны вашей встречей по поводу ежегодника. Альфред Адлер замолчал; у него не было намерения примыкать к недовольным. В купе протиснулся Макс Кахане. – Поскольку я не разделяю чувство враждебности и ревности, то, быть может, я в состоянии изложить дело объективно. Ваши венские коллеги считают себя умышленно отстраненными. Вы хотели, чтобы швейцарцы командовали, чтобы они предложили ежегодник и, следовательно, помогли издать его. – Верно. Но не так, как вы это излагаете. Карл Юнг спросил меня, не могу ли я пройти в номер Ойгена Блейлера, чтобы обсудить вопрос о возможном ежегоднике. Я сказал, что жду с нетерпением такого момента. Юнг спросил, кого я хотел бы пригласить. Я сказал: «Да по одному человеку от каждой страны, представленной на конгрессе: Брилл от Америки, Джонс от Англии, Абрахам от Германии, Ференци от Венгрии… – И почему ни одного венца? – прервал Рейтлер. – Потому, что считал себя способным представлять вас. – И кто будет контролировать ежегодник? – Юнг будет редактором… – Мы так и думали! – Блейлер и я, мы будем директорами. – Почему нет больше венцев в этой группе? – спросил Фриц Виттельз тоном, далеким от вежливого. – Почему швейцарцев вдвое больше, чем нас? – Фриц, это не игра в футбол, швейцарцы не выступают как наши противники. Мы друзья и товарищи по оружию. Хотя они занимают два из трех исполнительных постов, – признаюсь, я хотел, чтобы было так, – мы, венцы, заполним на две трети журнал нашими статьями, поскольку у нас больше членов, чем у всех других обществ, вместе взятых. Разве не это нам нужно? Наступило молчание. Лицо Альфреда Адлера просветлело. У него было больше всех других оснований войти в редакцию, и, поскольку он принял объяснения Зигмунда Фрейда, напряжение в купе спало. Из коридора доносились звуки успокоившихся голосов. Зигмунд слышал, как Отто Ранк сказал: – Слава богу, пронесло! Но не пронесло. Вильгельм Штекель не умерил своего пыла, он кричал: – Есть еще один вопрос, и вся наша группа согласна: вы допускаете фатальную ошибку. – В чем, Вильгельм? – Карл Юнг. Мы следили, как вы его обхаживали. Вы полагаете, что он может стать самым важным, следующим после вас на международной сцене. Вы думаете, что он так же верен и надежен, как мы, окружавшие вас почти шесть лет. Но вы ошибаетесь. Карл Юнг не станет работать долго ни для кого и ни с кем. Он отдалится и будет сам по себе. Когда он отойдет, он причинит нам непоправимый вред. – Не замечаю ничего такого в Карле Юнге, – умиротворяюще ответил Зигмунд. – Он предан нашей теории. Он запланировал работу на много лет вперед. Он расширит наш круг и завоюет нам новых сторонников. Я в этом уверен, Вильгельм. Что же дает вам возможность предсказать его дезертирство и отступничество? Штекель ответил ледяным тоном: – У ненависти острые глаза!Книга четырнадцатая: Путь в рай не вымощен
1
Марта была в Гамбурге, ухаживая за больной матерью, когда в четверг в конце апреля Джонс и Брилл пришли на обед в дом Фрейда. Кухарка превзошла самое себя в отсутствие фрау профессорши: к закуске был подан соус с хреном, молодой картофель с петрушкой. Зигмунд приветствовал своих новых друзей. Джонс был в элегантном костюме и модном галстуке. Он, как всегда, был бледен, но его глаза, как зеркальная поверхность стоячих прудов, отражали возбуждение. Брилл был в рубашке с американским воротничком, который его душил; его обычно тяжелые веки поднялись, когда три собеседника, перебивая друг друга, начали долгий разговор на английском языке. После обеда они перешли в кабинет Зигмунда и осмотрели его коллекцию древностей. Брилл откашлялся, ему явно хотелось что–то сказать. – Господин профессор, вот уже двенадцать лет вы публикуете свои книги по психоанализу, и ни одна из них еще не переведена на английский. – Верно, никто не вызвался и никто не просил права. Брилл запустил указательный палец под высокий воротник. – Мы говорили об этом с Джонсом в поезде и решили, что давно пора бы это сделать. Если вы считаете меня достойным, я занялся бы переводом. Начну с «Психопатологии обыденной жизни» как самой простой, а когда отточу технику перевода, займусь «Толкованием сновидений» и «Тремя очерками к введению в теорию сексуальности». Если мне выпадет стать зачинателем движения психоанализа в Соединенных Штатах, я должен сделать доступными американцам ваши книги. – Затем с озорной улыбкой он добавил: – Я спросил Джонса: «Как я начну проповедовать новую религию в Нью–Йорке, если у меня нет Священного Писания? В конце концов у евреев был их Ветхий Завет, у христиан – Евангелия по Матфею, Луке и Марку, у мусульман – Коран…» Зигмунд был польщен. Из всех его работ на английском была опубликована лишь ранняя статья в журнале «Брейн». Он взглянул на Джонса, чтобы убедиться, не чувствует ли тот себя посторонним. – Быть может, нужны два перевода – один для Соединенных Штатов, другой для Англии? – Никоим образом, – ответил Джонс, откинув назад свои спадавшие на лоб шелковистые волосы. – Один хороший перевод пригоден для обеих стран. – Договорились! Гости задержались для участия в вечерней встрече на среду, Брилл хотел поднакопить опыта, чтобы основать Нью–Йоркское общество психоаналитиков, как только ему удастся сплотить вокруг себя группу единомышленников. У Джонса было мало надежд на основание общества в Торонто, к тому же он не собирался задерживаться там надолго. – Учитывая настроения моих коллег в Англии, – сказал он резко, – психоанализ останется на том же уровне, на каком он был, когда я покинул страну. Нет пророка в родном отечестве. Но попомните мои слова: я создам Лондонское общество психоаналитиков, когда вернусь. Это была первая встреча венской группы после конгресса в Зальцбурге. Приветствуя тринадцать участников, вновь представляя их Джонсу и Бриллу, наблюдая за тем, как они занимали свои любимые места за длинным столом, Зигмунд заметил с большим облегчением, что недовольство по отношению к нему испарилось, что стычка в вагоне дала выход раздражению венцев. Однако он понимал, что в отличие от него венцы никогда не будут симпатизировать цюрихцам. Темпераментный Вильгельм Штекель, собиравшийся прочитать только что написанный доклад о «Происхождении импотенции на психической почве», не вспоминал об инциденте, и только Альфред Адлер, заметил Зигмунд, спрятал свои истинные чувства по отношению к нему в самые глубокие тайники своей души. В первые дни после возвращения из Зальцбурга Зигмунд, сидя за письменным столом, частенько вновь переживал необычайное возбуждение. Он признался сам себе, что допустил ошибку, не пригласив Альфреда Адлера и Вильгельма Штекеля в номер к Блейлеру, где происходило обсуждение ежегодника, ведь у Штекеля был опыт с публикациями. То, что он не желал присутствия венцев, было не случайным; Зигмунд хотел составить ежегодник со швейцарской группой, которую он сплачивал вокруг себя, и с активными молодыми сторонниками: с Джонсом, Бриллом, Ференци, Карлом Абрахамом, с которымион связывал будущее психоанализа. Он опасался, что венцы не позволят ему отдать две трети контроля в руки группы из Цюриха. Его венские друзья видели, что он был в приподнятом настроении в присутствии посторонних, и это им не нравилось. Если бы они были приглашены на обсуждение, то возник бы конфликт с цюрихской группой. Как он полагал, это было его первой ошибкой за шесть лет дружбы, Он выступал в роли отца семейства, поощрял их оригинальные работы, переписывал их рукописи, помогал в публикации, направлял пациентов к врачам, входившим в группу, приглашал к себе на обед и для обучения, помогал при нужде деньгами. Если позволяли возможности, писал введения к их книгам, например к книге Вильгельма Штекеля «Состояния нервного беспокойства и их лечение». На вечерних встречах по средам он был резок в замечаниях, но всегда дружествен; никогда не позволял себе, чтобы в его критике звучали ноты осуждения. Между членами профессиональной группы, естественно, бывали расхождения: личные трения, обиды, ревность, групповщина, желание показать себя. Но такое ни разу не проявлялось по отношению к нему; и он умел залечивать раны. Случившееся было первым разрывом с ним. Ему следовало быть крайне осторожным, дабы такое не повторилось. В докладе, прочитанном в этот вечер, Штекель представил свои заключения телеграфным языком: импотенция, возникающая к старости, берет начало в подсознании; если у мужчины закрепилась мысль, что он импотент, то это мешает эрекции. По мере того как ему не удаются сексуальные функции, обеспокоенность усугубляется, усиливая сдерживание; у большинства его пациентов, страдающих импотенцией, эрекция возникала в отсутствие женщин; отсюда следует, что гомосексуальная тенденция возникает как реакция на мысли в молодости о кровосмешении. Импотенция может быть связана с тем, что первые сексуальные контакты вызвали неприятные чувства. При обсуждении доклада Штекелю, как обычно, досталось. Джонс и Брилл были предупреждены о том, что в группе обострены критические настроения. Они слушали, как Рейтлер обвинил Штекеля в том, что он делает слишком далеко идущие теоретические выводы на основании немногих фактов. Штейнер согласился с тезисами докладчика, но сказал, что классификация импотенции не выдерживает критики, к тому же утренняя эрекция может быть следствием болезни простаты. Задгер стремился расширить концепцию импотенции на психологической почве за счет навязчивого представления о «матери–проститутке», встречающегося у пациентов, имевших контакты с проститутками. Альфред Адлер, которому Штекель был ближе всех, разнес его доклад в клочья. – Если во время полового сношения мужчина хочет слышать стоны партнерши, тогда это указывает на побуждение к агрессии. Не вызвана ли в таком случае импотенция страхами и опасением агрессии, присущей сексу? Зигмунд покритиковал Штекеля за увлечение «внешним проявлением психологии». Этиология психической импотенции, предложенная Штекелем, слишком узко представлена. Мужчина не становится импотентом во второй раз из–за того, что был таковым в первый. Первый, второй и десятый случаи имеют общую причину. Все мужчины рождаются с различными половыми инстинктами – от очень слабого до очень сильного. Импотенция – это психическое расстройство. Существует и такое явление, как «выбор невроза», подсознание имеет в своем распоряжении довольно широкий выбор, как домашняя хозяйка на рыбном рынке на берегу Дуная. Однако Зигмунд соглашался с тем, что Штекель прав в отношении влияния раннего неприятного ощущения при половом акте: два его пациента были соблазнены уродливыми или старыми женщинами. Такое же было правильно в отношении посетивших его пациенток, непривлекательных и лишенных чувственности. Джонс и Брилл высказались кратко, как и надлежит гостям, но им импонировали атмосфера вольного обмена мнениями и осторожность Зигмунда Фрейда относительно поспешной публикации. – Будем действовать, как подобает ученым, – сказал он, – подождем, пока не убедимся, что нет органических нарушений, которые могут выявить наши коллеги из других областей медицины, и только после этого заявим категорически, что имеем дело с импотенцией на психической почве. После заседания Зигмунд проводил Джонса и Брилла до отеля «Регина». На следующий день утром они выезжали в Будапешт к Шандору Ференци. После этого Брилл должен был вернуться в Нью–Йорк к своей невесте. Джонс предполагал провести оставшееся время поровну в Мюнхене и Париже, а затем вернуться в Канаду, где ему предстояло открыть психиатрическую клинику. Марта возвратилась из Гамбурга с известием, что, по подозрению врачей, у ее семидесятивосьмилетней матери рак. Тетушка Минна сразу же уехала, чтобы ухаживать за фрау Бернейс. Из Цюриха прибыли два гостя: Макс Эйтингон, которому прошлой зимой Зигмунд дал несколько уроков психоанализа, и Людвиг Бинсвангер, также посещавший его зимой. Гладко выбритый, со скромными усиками, Эйтингон зачесал волосы на левую сторону, почти на ухо. Его лицо ничего не выражало, ничего не требовало, его глаза были безучастными. У него не было желания устанавливать контакты с современниками. Его поведение было столь же скромным, как и его неприметный костюм: человек, у которого не было корыстных интересов и который не хотел ничего доказывать, был для Зигмунда неким облегчением после самоутверждающихся «я» в его группе. Но у Макса Эйтингона была одна особенность, не допускавшая сомнения: он был убежденным психоаналитиком фрейдистского толка, и ничто не могло изменить его убеждений. Его душевная теплота заставляла не замечать его заикания. Наиболее далеким от Эйтингона по характеру был его компаньон доктор Людвиг Бинсвангер, красивый молодой человек с высоким прямым лбом, густыми темными волосами, серьезными глазами. Концы его усов прятались в высокий воротничок, а баки почти закрывали ушные раковины. Жилет украшала толстая золотая цепочка для часов. Выражение его лица как бы призывало: «Говорите. Мне интересно ваше мнение, но не отделывайтесь банальностями. Такое не принимаю. Ищу царство истины, хотя и не тороплюсь туда. Не надо разглагольствовать, выступать с непроверенными утверждениями, основанными на сомнительной документации. Слушаю все, но меня не проведешь». Зигмунд счел неразумным устраивать обед для цюрихцев, слишком были обострены чувства венской группы. К тому же Марте было не до формальных приемов. Она смирилась с тем, что их квартира стала «венским университетом», общедоступной больницей, медицинским обществом Зиги. – Этот обеденный стол так же важен для твоей работы, как ваш овальный стол для конференций. – Ты права, Марта: много раз я наблюдал, как твоя фаршированная утка врачевала язвы, возникавшие в дискуссиях накануне. Марта добродушно рассмеялась. – Мне нравятся твои коллеги, каждый в отдельности и все в целом. Знаю также, что твои цюрихцы считают венцев богемистыми, даже бесшабашными. Зигмунд пригласил Отто Ранка, искавшего в его библиотеке нужную ему литературу, остаться на обед с Эйтингоном и Бинсвангером. Им импонировали серьезное лицо Отто, весь его облик ученого. После ужина четверка уединилась в кабинете Зигмунда, где они проговорили до часу ночи. Зигмунд нашел, что Бинсвангер корректен и честен в споре, Бинсвангер говорил откровенно, по–другому он не мог. – Вы заметили у меня некоторые колебания. Объясню почему. Я считаю вас образцом. Однако я прежде всего привязан к Карлу Юнгу, моему учителю. Моя приверженность психиатрии Юнга, Бургхёльцли и фрейдовскому психоанализу раздирается конфликтом. – Два направления не конфликтуют, – заметил Зигмунд. – Психоанализ не может помочь пациентам с ранним слабоумием, уходящим от реальности и замкнувшимся в фантазии, в созданном ими иллюзорном мире. Но мы можем намного лучше психиатров помочь страдающим неврозами, с ними можно общаться, и их можно вернуть к реальности. – Правильно. В самом начале работы с Карлом Юнгом я полагал, что почти каждого пациента следует подвергнуть анализу. Но затем у меня появились сомнения. Я начинаю делать различие между полным анализом и «психотерапевтическим лечением, направляемым психоаналитическими взглядами». Зигмунд вежливо ответил: – Будьте моим последователем, насколько можете, а в остальном останемся добрыми друзьями.2
Они сняли летний домик в Дитфельдхофе, уединенном местечке около Берхтесгадена. Матильда все еще оставалась в Меране и не пожелала присоединиться на лето к семье. Мартин, достигший восемнадцати с половиной лет, блестяще сдал экзамены в гимназии, ко всеобщему удивлению, ведь многие годы он был последним учеником в классе. Зигмунд считал, что это чудо свершила Марта; будучи приглашенной в школу с другими родителями, она встретилась наедине с учителем физкультуры. Мартин был его слабым учеником, ему не давалась гимнастика, более развитые мальчики смеялись над ним. Польщенный ее посещением, учитель дал Мартину специальные уроки и брошюру о физическом развитии. Мартин попросил отца отвести ему отдельную спальню и там каждый вечер занимался гимнастикой. Когда он окреп, то принялся за школьников, дразнивших его, и оттрепал одного за другим. Таким же решительным образом он расправился со школьными дисциплинами. Его уверенность в себе возрастала по мере улучшения оценок в гимназии. В октябре он был принят в университет, и в качестве награды Зигмунд оплатил его поездку по Европе со школьным приятелем. – Тебе следовало заняться психоанализом, – сказал Зигмунд Марте, – одно посещение учителя, и ты превратила вероятного дурачка в студента! – Он просто запаздывает в развитии, – ответила смущенно Марта. – Не ты ли говорил своей матери, что в семье Фрейд производят только гениев? Зигмунд выполнил свое обещание Шандору Ференци: пригласил его провести с ними две недели и снял комнату в ближайшем отеле «Бельвю». – У него живой характер, – объяснил Зигмунд Марте, – искрящийся, как токайское вино, которое он так любит. Многое в его поведении вызвано витающим в облаках воображением. Его ум способен на творческие взлеты, которые иногда удивляют меня. Ференци быстро нашел общий язык с семнадцатилетним Оливером и шестнадцатилетним Эрнестом, а также с пятнадцатилетней Софией и Анной, которой было двенадцать с половиной лет. Его приглашали каждый день на обед; он приходил с цветами, конфетами, бутылкой вина или книгами для молодежи. После обеда они отправлялись в горы или же купались в соседнем озерке Ашауер, собирали землянику, грибы, букеты цветов. Ференци, обожавший занятия физкультурой, поднимался даже с Оливером и Эрнестом на гору Хохкёниг, в то время как Зигмунд оставался дома: он правил гранки первого выпуска ежегодника, подготовленного Юнгом. Шандора нельзя было не любить. – Он, как медвежонок, – заметила тетушка Минна, когда вернулась из Гамбурга, – подпрыгивает на задних лапках и привлекает к себе внимание. Мне он нравится. Была бы рада найти для матери сиделку и побыть с вами. Ференци был импульсивным, динамичным человеком. Он считал, что беседа по душам – хорошее лекарство. В госпитале Святого Рохуса в Будапеште он отвечал за женскую палату, куда помещали покушавшихся на самоубийство. Он объяснял Зигмунду: – У женщин, пытавшихся покончить с собой, но неумело из–за отсутствия убежденности в желании умереть, нет никого, с кем они могли бы обсудить свои тревоги и волнения. Что хорошего в жизни, если вам не с кем общаться? Беседа – самое ценное искусство и, конечно, наиболее трудное с творческой точки зрения. В день отъезда из Будапешта я посетил торговку цветами, чтобы послать букет моей подружке Гизеле. У владелицы лавки были неприятности. Я сумел ловко поговорить с ней о ее сложностях, и она смогла высказать то, на что не решалась раньше. В течение часа мы обменивались мнениями, а результат был необычным – наступил катарсис. Когда я покидал лавку, она уже справилась со своей болезненной дилеммой и сказала мне: «Доктор, теперь я знаю, что должна делать, и вы придали мне смелость действовать». Она даже отказалась взять деньги за цветы, что было самым крупным гонораром за сеанс психоанализа. Зигмунда забавлял Ференци, шагавший вприпрыжку рядом с ним; в тридцать пять лет он оставался во многом ребенком, искавшим любовь и похвалу окружающих. Быть может, благодаря такому простодушию он мог быстрее и с удивительной ясностью выявлять причины болезни. В данный момент его удивляла пациентка, страдавшая фригидностью. – Она хочет быть мужчиной, а не женщиной. Она не может достигнуть оргазма, потому что напряжена, полна агрессивных настроений по отношению к мужу. Супружество было почти разрушено, когда родители убедили ее обратиться ко мне. Применяя вашу методику, профессор, я сумел подвести ее к осознанию того, что она ставит себя на место матери, которая постоянно «наполнена» отцом, к осознанию ее любви к отцу, к ее фантастическому желанию иметь интимную связь с отцом. – Смогла ли она принять эти откровения, Шандор? – Отчасти. Ныне по меньшей мере она знает, в чем ее подсознательное чувство вины. Она начала чувствовать кое–что при половом акте, когда начало ослабляться отторжение ею женственности. Это длинный путь… После первой недели пребывания Шандора Зигмунд сказал Марте: – Хотелось бы, чтобы Матильда была здесь. Не кажется тебе, что Шандор понравился бы ей, как всем нам? Марта склонила набок голову, задумалась. – Зиги, не становишься ли ты сводней? Ну хорошо, что у тебя хватает честности покраснеть! Ведь он намного старше Матильды? – На пятнадцать лет. Он самый блестящий ум… – И ты хотел бы принять этот блестящий ум в семью? – Так, случайная мысль, дорогая, она появилась после беседы с Матильдой прошлой весной, перед ее отъездом в Меран. Ференци продолжал обучаться у Зигмунда, пытаясь преодолеть собственный невроз. – Как получилось, Шандор, что вы не можете справиться с вашей ипохондрией? – Когда я чувствую себя хорошо, я хозяин положения. Когда чувствую себя неважно, ипохондрия берет верх… и заставляет меня глотать лекарства… Луга вокруг Берхтесгадена были покрыты густой сочной зеленью; стога сена не нарушали этот колорит; глаз радовали обилие деревьев, уходящие в бесконечность горы, выстроившиеся в череду шести хребтов, их снежные вершины, вонзавшиеся в небо. Раз в неделю Зигмунд арендовал экипаж и возил Марту в Берхтесгаден, чтобы побыть вдвоем несколько часов на свежем воздухе, побродить по узким улочкам, полюбоваться женщинами в национальных костюмах. Марте особенно нравились лавки Берхтесгадена, в красочно оформленных витринах которых были выставлены сотни предметов. Пекарни были заполнены глазированными тортами, шоколадом, взбитыми сливками. Стены зданий были расписаны сельскими пейзажами, в особенности сценами уборки урожая. На мужчинах были кожаные штаны, высокие гольфы, тирольские шляпы, в руках – посохи, за спиной – рюкзаки. По воскресным дням жители прогуливались с цветами в руках: две розы или пара васильков. Марта и Зигмунд обычно заканчивали прогулку в Курзале, где на открытом воздухе пили пиво, читали местные газеты, а главным образом наблюдали за розовощекими, довольными жизнью горожанами, неторопливо проходившими мимо. Марта заметила: – Боюсь, что здесь психоаналитику будет трудно заработать себе на жизнь. Здесь не только скот кажется сытым и довольным, но и люди. Можно подумать, что все им дается без труда. Зиги, могут ли быть неврозы здесь, в этом приветливом и красивом уголке? – Могут. Когда я работал «вторым врачом» в психиатрической клинике Мейнерта, по меньшей мере половину пациентов составляли жители ферм и деревень.3
Начало лета доставило Зигмунду ряд неприятностей. Цюрихская группа в составе двадцати врачей, встречавшаяся с сентября в рамках Фрейдовской ассоциации, прекратила свои заседания. О причинах не сообщалось; Зигмунд не смог получить сведений по почте. Он решил съездить в Цюрих и выяснить, чем вызвано несвоевременное прекращение. Приветливо улыбающийся Карл Юнг встретил его на железнодорожной станции. Их ожидала коляска, им предстояло проехать через центр города, дома которого прижимались к сверкающему голубому озеру, а затем добраться до госпиталя Бургхёльцли, расположенного, подобно новому приюту Штейнгоф в Вене, на окраине города. Чета Юнг пригласила Зигмунда остановиться у них. Фрау Эмма Юнг встретила его у дверей своего дома; здесь они прожили пять лет с момента своего супружества и произвели на свет двух дочерей. Эмма была на седьмом месяце беременности, но держала себя почти с королевской грацией. Гостеприимная по натуре, она была довольна тем, что может отплатить за теплый прием, оказанный ей Фрейдами в Вене. Несмотря на различие в воспитании, Эмма имела много общего с Мартой, говорила на чистом немецком языке и не любила переезды. У Карла Юнга были авантюристические наклонности: ему хотелось познать каждую страну, национальную кухню, образ жизни; Эмма же была консервативна. Подобно Марте, она любила порядок, стремилась, чтобы все было на своем месте, строго соблюдала этикет. На свадебной фотографии, которую Зигмунд увидел в библиотеке Карла, Эмма казалась более крепкой, чем муж, что забавляло Зигмунда, поскольку никто из его знакомых не мог сравниться силой с доктором Юнгом. После того как Зигмунд распаковал свои вещи, Юнг провел его по территории Бургхёльцли, где учился и работал с 1900 года. Кантональный приют был огромным, с сотнями коек. Госпиталь был связан с Цюрихским университетом, в нем проходили подготовку студенты–медики, но он все же нисколько не походил на психиатрическую клинику профессора Мейнерта в Городской больнице. Пациенты, с которыми имел дело Зигмунд, содержались в больнице столько времени, сколько было нужно, чтобы установить характер заболевания, а затем их либо отправляли домой, если это было возможно, либо помещали в приют. Бургхёльцли принадлежал к стационарам; многие пациенты, которых видел в палатах Зигмунд, находились там годы, это были неизлечимые случаи паранойи или слабоумия. Он сожалел, что не может встретиться с находившимся в отъезде Блейлером. Натренированный глаз Зигмунда подсказывал, что в Бургхёльцли прекрасный управляющий. – Блейлер должен быть замечательным администратором, – заметил Зигмунд. – Это редкий дар, которого я лишен, но которым всегда восхищался. – Да, он такой, – ответил Юнг немного уныло. – Мы не любим друг друга, но следует отдать ему должное. Нынешний обход почти прощальный для меня. Как только родится ребенок, и Эмма поправится, мы переедем в Кюснах, в дом, который строится около озера. Я должен оставить Бургхёльцли и работу ассистента у Блейлера. Это значит, что прекращу также преподавание в Цюрихском университете. Я выполняю небольшую самостоятельную работу в здешней лаборатории, но на деле она лишь видимость, чтобы показать, что я не порвал полностью с госпиталем. Здесь либо вы подчиняетесь и идете проторенной дорогой, либо вас считают еретиком. Любая ересь непопулярна в Швейцарии. Я окажусь на какое–то время в изоляции, как было с вами в Вене. Но я пойду собственным путем в моих исследованиях и публикациях, чтобы содержать семью. В воскресенье мы съездим в Кюснах на Цюрихском озере. Я хотел бы показать вам дом. В голосе Карла Юнга была нотка и радости, и горечи. Из писем Юнга Зигмунд почувствовал, что его охватила неприязнь к своему начальнику. Возможно, потому, что Блейлер был влиятельной фигурой и его присутствие блокировало доступ Юнга к посту директора. Однако Зигмунд подозревал, что истинные причины желания Юнга порвать отношения с госпиталем иные, – без психоанализа они не выйдут на поверхность. Во всяком случае, нескромно задавать вопросы. Швейцарцы могут, подобно венцам, ссориться между собой, но они убежденные шовинисты и не допустят, чтобы их разногласия выходили за национальные рамки. В этот вечер на ужин пришли Людвиг Бинсвангер и родственник Юнга Франц Риклин. Собравшаяся четверка обсудила полезность психоанализа при некоторых серьезных умственных расстройствах. Зигмунд осторожно поинтересовался, почему самораспустилась Цюрихская фрейдовская ассоциация. Однако никто не захотел дать объяснения. Несмотря на занятость Юнга в госпитале, он и Зигмунд умудрялись обсуждать по восемь часов в день накопленную информацию, вопросы распространения психоаналитического мышления на религию, антропологию, политэкономию, литературу, говорили о том, как лучше раскрыть тайны человеческих инстинктов, что следует отбросить, изменить, подавить, чтобы жить мирно в обществе. Они также обсуждали в спокойном тоне зазвучавшие со швейцарской кафедры и в прессе выпады против фрейдистского психоанализа и роспуск Швейцарской фрейдовской ассоциации. Не было ли ошибкой назвать группу Фрейдовской ассоциацией? Это помогло оппонентам четко определить цель нападения. В итоге началось бегство из группы. Юнг верил, что в недалеком будущем ядро группы будет преобразовано в Цюрихское психоаналитическое общество. Зигмунд решил, что настал момент выяснить у Юнга его позицию по отношению к сексуальной этиологии невроза и то, как далеко он намерен отклониться от основных положений, выдвинутых им, Зигмундом. Юнг заверил его, что он преодолел прежние колебания… Весь внимание, Зигмунд взглянул на Юнга. – …А Блейлер нет! – сказал тот. Однако Карл Юнг не хотел, чтобы его ставили перед выбором: цюрихская психиатрия или венский психоанализ. Он уже в достаточной мере изолировал себя, покидая Бургхёльцли, университет и сам город. Зигмунд размышлял: возможно, Карл Юнг склонялся к сексуальной этиологии в данный момент, чтобы сблизиться с ним и не оказаться на пустом месте? Быть может, Юнг не уверен, даже сомневается в своем будущем? Последуют ли за ним в Кюснах его пациенты? Не будет ли ему не хватать Бургхёльцли? Как бы читая мысли Зигмунда, Юнг сказал: – Я буду сам себе хозяин, но у меня не так уж много пациентов. Когда покину город, то не уверен, смогу ли я работать как ученый, читать и достраивать новый дом или же продолжить свою практику. – В его светлокарих глазах мелькнуло ироническое выражение. – Вы могли бы сказать, что я блуждаю во мгле. В начале октября в пятницу в Вену приехал Ойген Блейлер с женой Хедвигой. Они пришли к Фрейдам на обед. Как и в Зальцбурге, Зигмунд был поражен, насколько привлекательно выглядел Блейлер с его легким налетом неприступности. Зигмунд даже немного страшился его авторитета, его высокого, неуязвимого положения в академической науке. Это было то самое чувство уважения, которое он питал к профессорам Брюкке и Мейнерту. Когда он намекнул о подобном Блейлеру, директор был удивлен. – Я представляюсь вам важным? Ради бога, почему? Вы – первооткрыватель; я же не совершил ничего подобного. Зигмунд пробормотал что–то банальное, но Блейлер настаивал на своем; у него явно были более серьезные намерения, чем просто лестное высказывание. – Вашу работу сравнивают с работами Дарвина, Коперника, Земмельвейса. Я полагаю, что для психологии ваши открытия столь же фундаментальны независимо от того, оцениваются ли достижения в психологии так же высоко, как в других науках. Зигмунд был поражен услышанным. Марта прослышала, что профессор и фрау профессорша Блейлер строго привержены порядку, и поэтому на время обеда выдворила детей на кухню. Тетушка Минна попросила разрешения удалиться к молодежи, сказав, что она не пара для фрау профессорши, которая, как говорят, высоко ставит себя. Когда жаркое из телятины было съедено и горничная подала десерт, Блейлер наклонил свою красивую голову в сторону и, посмотрев на Зигмунда, сказал: – Профессор Фрейд, должен признаться, что я замышлял нечто серьезное для нашей встречи, понимая, что она будет очень приятной для закрепления нашего знакомства. Я полагаю, что могу убедить вас не делать акцента на сексе и подобрать другое слово, не совпадающее с вульгарным пониманием сексуальности. Я искренне верю, что, если вы сделаете это, всякое сопротивление и неправильное понимание исчезнут. Зигмунд ответил со свойственным ему достоинством: – Я не верю в домашние лекарства. Фрау профессорша Блейлер была серьезной женщиной, осознававшей характер и ценность работы мужа. Она задумчиво посмотрела на Зигмунда, а затем сказала: – Не поймите нас неправильно, профессор Фрейд; мы не предлагаем вам изменить ваши взгляды или отказаться от принципов психоанализа. Это всего–навсего вопрос семантики. Могу сказать вам, что в Швейцарии слово «секс» запрещено. В средние века людей сжигали на костре из–за слова «еретик». Пока вы не найдете более приемлемый термин, ваш психоанализ будет гореть на костре! Марта заметила, как краснеют щеки Зигмунда. Она попыталась разрядить обстановку: – Зиги, иногда я размышляю, нет ли более скромного термина. Почему бы не попробовать что–либо в духе ассоциаций, разработанных в Бургхёльцли? Они потратили следующий час, выдумывая странные слова. Чета Блейлер пыталась одолеть Фрейдов наскоком: сотворимость, нимфизм, соединенность, телесность, совокупление, слияние… Марта и Зигмунд пошли от иной, абсурдной стороны: союзность, вливаемость, спаренность… Все было бесполезно, согласились в конце концов Блейлеры, сексуальность есть сексуальность, и она существует с тех пор, как было оплодотворено первое яйцо. – Пытаться описать сексуальность в иных терминах, – сказал хрипло Зигмунд, когда игра в слова была исчерпана, – значит поддаться болезни, которую приносит нашим пациентам извращенная сексуальность… Недостаточно, чтобы наше общество заняло по отношению к сексу здоровую, честную, нормальную позицию; люди должны свободно говорить о нем, так же как они говорят о других сторонах жизни. – Согласен, – сказал Блейлер, – мы не сумели найти подходящую замену слову «сексуальность». Оставим его в покое. Тем больше причин сместить акцент на то, что существует множество причин невроза. – Я так и поступлю, профессор Блейлер! Как только увижу такие причины невроза у моих пациентов. Я не изобретаю человека; это дело миллионов лет эволюции. Все, к чему я стремлюсь, – это описать человека, найти, что побуждает это самое сложное и труднопостижимое животное вести себя так, как оно ведет себя.4
Хорошо, что он полушутя говорил о том, чтобы с помощью Матильды включить в семью Ференци в качестве зятя: их старшая дочь сообщила, что помолвлена с тридцатитрехлетним Робертом Холличером, представителем шелковой фирмы, с которым она познакомилась, находясь в Меране; она его полюбила и решила выйти замуж. Зигмунд был в ярости, получив от Матильды письмо. – Она даже не удосужилась сообщить нам заранее, дать возможность свыкнуться с мыслью. Бац! Она помолвлена! Хочет выйти замуж! В двадцать один год! Не дав нам узнать человека, вынести свое суждение… – Ну, Зиги, в Конституции Австрии не записано, что девушки должны выходить замуж в двадцать пять лет, как поступила я. Если Матильда полюбила, пусть выходит замуж. Таков был разговор с ней перед отъездом в Меран, не так ли? Тогда ты осознаешь, что она будет счастливее, выйдя замуж и не оставаясь одиночкой. Но я приглашу молодого человека посетить нас. Смягчившись, как всегда, когда Марта высказывала свое суждение, он пробормотал: – Ты, конечно, права. Обещаю не смотреть на Роберта Холличера как на подавшего заявление в Венскую клиническую школу. В возрасте пятидесяти двух лет поздно становиться в позу возмущенного отца. Он приобрел не только зятя, но и невестку. Матильда и ее дядя Александр решили, что следует объединить две свадьбы. Никто из Фрейдов не был активным прихожанином, что ставило их в несколько неловкое положение, но Александр договорился с синагогой на Мюлльнергассе о церемонии в воскресенье утром. Александр настоял, чтобы первой была церемония бракосочетания Роберта Холличера и племянницы. Матильда и София Шрейбер прекрасно выглядели в длинных белых венчальных платьях. В храме царила атмосфера радости, возможно, потому, что сама двойная церемония была необычной. Внутренность синагоги впечатляла: свет горящих свечей смягчал краску деревянных панелей, придавая торжественность происходящему. Зигмунд наслаждался ролью отца невесты и шафера брата. – Это и хорошо, – сказала Марта, – Роберт и София давно стали частью нашей семьи. Теперь, когда ты познакомился с церемонией, тебе будет легче справить свадьбу твоих других детей. Зигмунд застонал от приятного чувства. После церемонии все возвратились на Берггассе. Марта приготовила свадебный обед на пятьдесят человек. Амалия выздоровела и восседала на почетном месте; пришли Роза с двумя детьми, Паули, овдовевшая в Нью–Йорке и вернувшаяся в Вену с дочерью, семья Холличер, приехавшая в город по случаю свадьбы сына, и семья Софии Шрейбер. Это был счастливый день; новые родственники вполне понравились друг другу. Чета Юнг прибыла с визитом в тот самый день, когда издатель Дойтике вручил Зигмунду первый экземпляр ежегодника. Зигмунд держал в руках журнал с чувством радости и гордости: отныне психоанализ будет иметь официальный голос и станет доступным для медицинских кругов. Журнал был хорошо отпечатан и переплетен; он показал его, улыбаясь, Марте. Его собственный вклад состоял из статьи в 109 страниц о «маленьком Гансе», и он с удовольствием пробежал ее. Юнг как редактор читал и правил гранки всех статей, но и он впервые увидел переплетенный экземпляр. На его лице также была печать удовлетворения. Чета Фрейд и чета Юнг ощущали взаимную симпатию. Когда Карл Абрахам, все еще получавший информацию из Бургхёльцли, предупреждал Зигмунда, что Юнг «возвращается к своим старым мистическим наклонностям», Зигмунд объяснял это недоверием Абрахама к Юнгу. После ужина Зигмунд оставил Марту и Эмму поболтать в гостиной, а сам с Юнгом отправился в кабинет; там, подвинув поближе удобные кресла, они уселись для вечерней беседы. Они обсудили содержание второго выпуска ежегодника и вопрос о Втором международном конгрессе психоаналитиков, намечавшемся на следующую весну. Зигмунд подчеркнул свое полное доверие к Юнгу и дал понять, что тот, как более молодой, должен взять на себя роль «преемника и наследного принца», лидера международного движения. Но Юнг был в мистическом настроении; он хотел поговорить о «реальности оккультных явлений». Прежде всего он рассказал Зигмунду, почему он заинтересовался этим. – Когда я был студентом, меня пригласили дети родственников принять участие в сеансе столоверчения, развлекавшем их. Одна из группы, девушка лет пятнадцати, вошла в транс, стала вести себя и говорить, как образованная женщина. Я хотел понять такое столь увлекательное явление, отличное от всего виденного мною ранее. Меня поразило то, что мои родители и другие объясняли все это тем, что девушка была взвинчена. Я принялся за систематическое исследование, составляя подробный дневник сеансов, и тщательно обрисовал портрет девушки и ее поведение в обычных условиях. Записи поставили много психологических проблем, которые на той стадии моей карьеры мне были непонятны. Я тщетно копался в обширной литературе по спиритуализму. Мои учителя в университете не проявили интереса к феномену девушки и считали, что я попусту трачу время. Затем я прочитал Крафт–Эбинга. До этого я никогда не слышал о «раздвоении личности». Это был новый мир мышления, и, естественно, он возбудил воспоминания о девушке, входившей в транс. Смущенный Зигмунд повернулся в кресле. Он затушил наполовину выкуренную сигару в одной из пепельниц. Его восхищала разносторонность Карла Юнга, широкий крут его интересов и неистощимая энергия, позволившая ему приобретать знания в областях, столь далеких друг от друга, вроде искусства китайской каллиграфии или обожествления тотемных животных аборигенами Австралии. Но такой широкий подход к миру был опасен для работающего в новой области медицины и пытающегося поставить ее на объективную научную основу. – Дорогой Юнг, мы купим для тебя одну из досок, которые демонстрировались в Вене на прошлой неделе. Вы кладете концы пальцев на деревянный треугольник на доске, закрываете глаза, и оккультные силы выписывают вам имена и целые фразы, в основном относящиеся к событиям в будущем. Юнг выглядел встревоженным. Он сжал себе грудь обеими руками, бормоча про себя: «…из железа… красного каления… раскаленный свод». В этот момент из книжного шкафа раздался треск, похожий на выстрел. Они вскочили, ожидая, что шкаф рухнет. Но ничего не произошло. – Вот, – торжествующе воскликнул Юнг, – пример наведения внешних сил! – О, да это глупости! – Ничего подобного. Вы ошибаетесь, господин профессор. Поскольку вам так нравится цитировать Шекспира, вспомним изречение: «Есть многое в небе и на земле, что и во сне, Горацио, не снилось твоей учености». И чтобы доказать мою точку зрения, я предсказываю, что будет еще одно такое проявление. Тут снова послышался треск за книжным шкафом. Зигмунд смотрел на Юнга в испуге. Что происходит? Прошел почти год, как он с Отто Ранком перетащил сюда книги, поставил каждый том на свое место; звуков тогда не было. Юнг весь сиял. «И он способен на это! – думал Зигмунд. – Он полагает, что преподнес демонстрацию типичного полтергейста. И при его способности убедить в наличии оккультных сил и возможности их изучения с помощью сеансов и медиумов я, пожалуй, могу начать верить… по меньшей мере сейчас!…» – Карл, есть одна последовательность, которую я не понял: звук вызвало произнесенное тобой «красное каление»? Или же надвигающийся звук передался тебе и превратил твою диафрагму в «раскаленный свод»? – Ты высмеиваешь меня. Неведомое можно наблюдать, но нельзя рационально объяснить. Для нас, исследователей, сказать, что неведомого не существует, – значит иссушить один из главных родников любознательного человеческого ума. Я понимаю, ты не хочешь более обсуждать эту тему. Вернемся к вопросу, о котором мы говорили перед обедом, о том, что я называю двумя видами подсознания, личного и коллективного. Личное включает все приобретенное в результате личного опыта, иначе говоря, то, что забыто, подавлено, прочувствовано. Но в дополнение к такому содержанию подсознания есть и другое, не приобретаемое личным путем, а унаследованное структурой мозга. Таковы мифологические ассоциации; их мотивы и образы могут возникнуть вновь в любой век и в любой стране вроде бы без исторических традиций или миграций. Я называю это коллективным подсознанием. Зигмунд проводил чету Юнг в отель «Регина», ставший к этому времени официальной резиденцией для врачей и больных, приезжавших в Вену на встречу с профессором Зигмундом Фрейдом. По пути в отель они обсудили личные дела: строительство дома в Кюснахе, возможность приезда Зигмунда и Марты на неделю туда и прогулок на лодке Карла к дальним берегам Цюрихского озера. Возвратившись домой, Зигмунд приложил руки к вискам. Он чувствовал себя неважно, ибо под влиянием Юнга он на какой–то момент уверовал в возможность оккультных явлений. Но такая вера длилась недолго; спустя два дня, когда вечером он работал над рукописью, раздался треск со стороны книжных полок. Он облегченно вздохнул: причиной треска была плохо высушенная древесина, из которой были сделаны полки. Он радовался, что на этом инцидент был исчерпан. В конце апреля преподобный Оскар Пфистер, тридцатишестилетний священник цюрихского прихода, посетил Берггассе после четырех месяцев переписки с Зигмундом. Тощий, жилистый, высокого роста Пфистер был одет в костюм обычного швейцарца с туго затянутым темным галстуком. Он был гладко выбрит, оставались лишь скромные усы, допускаемые его верой. Его темные волосы были тщательно подстрижены, на узком лице выдавался волевой подбородок, живые глаза сочетали мягкость с твердостью. По его письмам Зигмунд пришел к выводу, что пастор представляет собой еще не виданную им породу людей. Марта прочитала несколько писем пастора Пфистера и поэтому могла судить о нем, но дети были захвачены врасплох. Они ожидали увидеть священника, облаченного в мрачное и суровое одеяние вроде тех, что носят серьезные, глубокомысленные пасторы, о которых они читали r книгах. Однако кипучий нрав Оскара Пфистера, его любовь к молодежи увлекли их. Во время обеда дети Фрейдов говорили наперебой, но их заглушал голос Оскара Пфистера, обращавшегося к каждому из них лично… во всяком случае, они так думали. После обеда впервые молодежь окружила гостя и просила отца не уводить его в свой кабинет. – Уверен, ему больше захочется провести время с нами, чем толковать, о медицине в твоем кабинете, – сказал Оливер. Улыбаясь, Зигмунд заметил Пфистеру: – Пожалуйста, не думайте, что всегда бывает так, когда я привожу друга к фрау профессорше Фрейд. Подобное произошло лишь с Шандором Ференци. Вы завоевали моих ребят. Хорошо, дети, отведите пастора в гостиную, а затем отпустите его для беседы со мной. Преподобный Оскар Пфистер покупал книги Зигмунда в книжных лавках Цюриха и, наблюдая за своими прихожанами, убедился в том, что психоанализ является здравым в своих принципах и его следует применять в целях терапии, особенно для лечения детей. – Возможно, вам интересно знать, профессор Фрейд, почему вначале я собирался стать учителем. Однажды в детском саду один из моих маленьких друзей заснул во время урока. Учительница отхлестала его. Я не мог забыть оскорбленного выражения лица больного ребенка, который не смог сдержаться, и его рвота попала на платье истязательницы. Через несколько дней он умер. Мы пели ему отходную над открытой могилой… После этого я переехал в Цюрих, где попал в школу, которой руководил неисправимый алкоголик. Он вколачивал знания в ягодицы с помощью линейки. При этом особенно злоупотреблял таким методом в отношении двух слабоумных девочек. Он заявлял, что, задавая им трепку, может научить их читать. Несчастные девочки не научились читать, а учитель, отхлестывая их розгами, испытывал каждый раз извращенное удовольствие. Мне было жаль этих девочек. – Обращаясь к теологии, пастор Пфистер, полагали ли вы, что ее можно сочетать с образованием? – Весьма неопределенно. В Базельском университете я посещал лекции по психологии чаще, чем по теологии, и был близок к докторской степени по философии. Я никогда не сомневался в милости Божией, но начал ставить под вопрос христианскую веру в чудеса. Считаю, что истинный христианин должен вести себя именно так. Ортодоксальная вера страшит меня; в ней мало любви и еще меньше понимания того, что вы назвали «обычным человеческим несчастьем». Зигмунд подумал: «Он обладает тем же свойством, что Адлер, Юнг, Ференци, – умеет внушать свои мысли другим». Гость олицетворял внутреннее спокойствие; чувствовалось, что он понимает состояние человека и не осуждает его. Но, как пришлось убедиться учителям Пфистера, а затем его духовным наставникам, никто не мог бы поставить под сомнение его независимый характер. Он был последовательным борцом за христианскую этику: за любовь к ближнему. Отказался возглавить престижную кафедру в Цюрихском университете и предпочел остаться в своем приходе и продолжить работу с подростками. Зигмунд вежливо сказал: – Когда в моих письмах я обращался к вам «дорогой Божий человек», ощущали ли вы, какое удовольствие доставляет мне, неисправимому еретику, поддерживать дружбу с протестантским священником? – Господин профессор, согласно иудейско–христианской традиции, я должен стоять на том, что вы тоже добрый христианин. Зигмунд усмехнулся: – Один из моих друзей в Праге, Кристиан фон Эренфельс, опубликовавший недавно поучительную книгу о сексуальной этике, назвал нас «сексуальными протестантами». Расскажите, как вы преподаете теологию детям из различных социальных слоев. – Мой метод заключается в том, чтобы не быть равнодушным. Если учащийся засыпает на уроке, то это моя вина. Во–вторых, я преподношу религию как спасение, как источник радости и опоры в тяжелые моменты. Зигмунд рассудительно ответил: – Когда–то религия подавляла неврозы… Сам по себе психоанализ не является ни религиозным, ни антирелигиозным, он – бесстрастный инструмент, который могут применять и священник и неверующий, оказывая помощь больному. Пфистер встревожился. – Со взрослыми да, согласен, я должен помогать тем; кто приходит ко мне, слепо страдающим. Но как быть с детьми? – В каком смысле? – Немногие учителя, если вообще кто–либо из них, понимают, что происходит в уме ребенка, не говоря уже о подсознании. Мы должны обучить учителей фрейдистским принципам. Если мы сможем внушить любовь к Богу и к просвещенному учителю, то половина наших проблем будет решена. Это мечта моей жизни. Вы увидите, господин профессор, что, прежде чем уйти в небытие, я оставлю след в мрачной церкви и в гнетущей школе в Швейцарии.5
С каждым годом дом Фрейдов становился все прочнее. Это было счастливое семейство, несмотря на то, что зимой каждый час Зигмунда был строго расписан. В семь часов утра он принимал душ, затем парикмахер приводил в порядок его бороду и шевелюру. После этого семья завтракала; во время завтрака Зигмунд успевал перелистать «Нойе Фрайе Прессе». В восемь часов он был в своем кабинете, дети уходили в школу, а Марта – на рынок. Зигмунд не увлекался более традиционным гуляшом и кофе в одиннадцать и пять часов дня; его единственной слабостью оставались сигары, тут он позволял себе быть расточительным. Ежедневно после обеда он направлялся в табачную лавку около церкви Микаэлер, где покупал двадцать превосходных сигар. После многих лет падений и взлетов его медицинская практика стала постоянной. Он принимал десять – двенадцать пациентов в день, а также частенько направлял больных к молодым врачам из своей группы психоаналитиков. Получая сорок крон за каждый час приема, он смог приобрести для Марты страховой полис, который обеспечивал ей безбедную жизнь в случае его смерти, и вложить часть сбережений в государственные облигации как гарантию образования для детей. Дети жили дружно и в согласии, ссоры между ними были редкими. По субботам они ходили вместе на танцы; если у девочек были билеты в театр, Зигмундвыбирал время своей вечерней прогулки с таким расчетом, чтобы после спектакля проводить их домой. Он давал им карманные деньги, заботился о том, чтобы они хорошо одевались, что, на его взгляд, важно для их психического комфорта. Он не хотел, чтобы дети испытывали трудности, подобные тем, какие пережил он в молодости. Теперь, когда они подросли, им требовалось больше денег на расходы, и он поровну распределял между ними свой скромный гонорар за книги. Он научил их играть в карты, считая, что эта игра сближает, и выкраивал для этого в неделю пару часов. Матильда и ее муж часто присоединялись к ним. Из Марты так и не получилось картежницы, но она любила наблюдать за игрой всей семьи. Каждое воскресенье утром Зигмунд посещал Амалию и Дольфи. Амалии исполнилось семьдесят три года, но ее здоровье оставалось крепким. Марта часто приглашала родственников на воскресный ужин – Розу и ее детей, Александра с женой, Паули с дочерью, Амалию и Дольфи. Она ставила блюда с яствами на отдельный столик, и каждый брал столько, сколько хотелось. Иногда вечером по вторникам Зигмунд читал лекции в обществе «Бнай Брит»; он был признателен членам этого общества за то, что они были его слушателями в те времена, когда у него не было другой аудитории. После вечерних встреч Венского общества психоаналитиков по средам он направлялся с коллегами и гостями в соседнее кафе отдохнуть и побеседовать. После лекции вечером в субботу в Венском университете он посещал Леопольда Кёнигштейна, где его ждал ужин, а потом он, Оскар Рие и доктор Людвиг Розенштейн играли в карты. Часто в субботние вечера Марта наносила визиты знакомым дамам. Она также установила дни приемов у себя. Фрау профессорша Кёнигштейн, фрау докторша Мелани Рие, другие женщины приходили к пяти часам на кофе с печеньем. В воскресенье после полудня, когда Зигмунд отдыхал и не занимался рукописями, он посещал с детьми два превосходных музея искусств, которыми славилась Вена. Они знали каждую картину, особенно Рембрандта, Брейгелей, Старшего и Младшего; их интерес обострялся тем, что Зигмунд сопоставлял экспонаты с теми, что видел в Италии, ибо Габсбурги собрали превосходные картины Тициана, Тинторетто, Рубенса, Веронезе. Он был заботливым отцом, под опекой которого дети взрослели, как предписывала их собственная натура. Во многих семьях Вены его сочли бы слишком уступчивым к детям. Он позволял им принимать собственные решения, после того как выполнена работа по дому и школьные задания. Когда они подросли, Зигмунд предоставил им возможность посетить Германию, Голландию и Италию. Шестнадцатилетняя дочь София по кличке Воскресное Дитятко была ласковой проказницей. Хорошенькая и нежная, она унаследовала натуру матери. При первой возможности она садилась на колени к отцу, когда он устраивался в большом кресле. Между Зигмундом и тринадцатилетней Анной существовали особые узы любви и взаимопонимания. Она была прилежной и любознательной ученицей. Анна и София при всей противоположности их натур не афишировали своего соперничества и поддерживали отношения, доставлявшие родителям радость. Умный и привлекательный, семнадцатилетний Эрнст был известен в семье как удачливое дитя, он добивался успеха во всем, за что брался. В квартире на Берггассе часто собиралась молодежь, хотя Марта не устраивала каких–то вечеринок. Зигмунд вел себя просто, как радушный хозяин. Он не всегда был свободен, но дети знали, что он постоянно помнит о них; если они опаздывали на обед или вовсе не появлялись за столом, он беспокоился и, указывая вилкой или ложкой на свободный стул, спрашивал Марту, почему нет такого–то. Дети знали, что отец становится все более известным, но, учитывая его врожденную скромность, никогда не поддавались тщеславию. Они воспитывались под влиянием его сдержанного остроумия, от которого получали большое удовольствие, одновременно им приходилось выслушивать язвительные шутки и выпады тетушки Минны. Как и у Эрнеста Джонса, у нее был язык остер, как иголка, но высмеивал слабости лишь чуждых ей людей. Марта была столь же дисциплинированна, как и Зигмунд. Она не позволяла себе провести целый день за книгой или чередуя отдых с чтением, ибо еще мать обучила ее, как следует хозяйке дома вести себя. Иногда она покидала дом, чтобы посетить друзей, встретиться с подругами за чашечкой кофе. Зигмунд предлагал ей присоединиться к нему для послеобеденной прогулки, но она соглашалась сопровождать мужа только в том случае, когда был заранее установлен маршрут: отнести гранки Дойтике или Хеллеру, зайти в табачную лавку за сигарами. Если же он просто предлагал погулять часок вокруг Рингштрассе, она отвечала: – Спасибо, у меня уже была физзарядка. Вечер был для нее лучшим временем дня. Зигмунд работал с пациентами до девяти часов, а тетушка Минна ужинала с детьми, давая тем самым Марте и Зигмунду возможность побыть час вместе. Иногда он уносил почту и рукописи в рабочий кабинет, а она, сидя в глубоком кресле рядом, читала Томаса Манна или Ромена Роллана. Когда ей не хотелось оставаться одной, она читала в его кабинете до полуночи. Давно стало ясно, что Минна – прирожденная тетушка; всем своим существом она была создана для такой роли. Шесть детей принадлежали ей в той же мере, как и Марте. Она никогда не выдавала их секретов. Она не вмешивалась в ведение хозяйства; если кто–то из прислуги обращался к ней, тетушка Минна отвечала: – Спросите фрау профессоршу. Она искусно вышивала, готовя подарки к дням рождения, юбилеям, Рождеству. Казалось, что с возрастом она становилась выше и крупнее. Она носила длинные юбки, закрывавшие ботинки. Марта как–то заметила: – Никогда не представляла себе, что у нее есть ноги. Это было сплоченное, трудолюбивое семейство. Зигмунду всегда хотелось, чтобы его избранница была ласковой и приветливой. Эти свойства Марты унаследовали и ее дети. В конце 1908 года Зигмунд получил из штата Массачусетс письмо президента Университета Кларка Стэнли Холла с приглашением приехать в Америку и выступить с серией лекций в ознаменование двадцатой годовщины университета. Хорошо известный и уважаемый воспитатель президент Холл – сторонник фрейдистского психоанализа – писал: «Я не имел возможности познакомиться с вами лично, но многие годы проявлял интерес к вашим работам и тщательно изучил их, а также работы ваших последователей». Зигмунд знал, что это истинная правда, ведь год назад Холл опубликовал книгу «Юность», где было пять ссылок на работу Фрейда «Об истерии». Холл предсказывал, что исследования доктора Зигмунда Фрейда приобретут большое значение для понимания сути искусства и религии. Он хотел, чтобы доктор Фрейд приехал в Америку в начале июля, и был готов выплатить гонорар в четыреста долларов Общественность Соединенных Штатов созрела для смелых высказываний основателя психоанализа. Лекции Фрейда «явятся, видимо, эпохальным рубежом в истории подобных исследований в нашей стране». В перерыве между приемом пациентов Зигмунд показал письмо Марте, подчеркнув: – Впервые один из всемирно известных университетов приглашает меня выступить с изложением моих взглядов. Это меня радует. – Конечно, ты поедешь? – Увы! До университета шесть тысяч километров и неделя плавания. Четыреста долларов покроют мои расходы, но я потеряю месяц практики. А ведь это время, когда я наиболее загружен, стараясь восстановить здоровье пациентов, чтобы они могли понаслаждаться летом. – А жаль! – сказала Марта. – Это позволило бы тебе увидеть Соединенные Штаты, а также помочь Бриллу и Джонсу. Мы глупцы, ведь мы копим деньги на худой случай, а может быть, разумнее вкладывать их в банк «на добрый случай»? Президент Холл не унимался, он ответил на письмо Зигмунда сожалением и сделал новое предложение: гонорар будет увеличен до семисот пятидесяти долларов, доктор Фрейд может прочитать лекции в сентябре. Университет Кларка намерен присвоить ему почетное звание доктора права. – Теперь–то ты должен поехать, – возбужденно твердила Марта. – Президент Холл отрезал тебе все пути отступления. Зигмунд робко улыбнулся. – От доктора права не отказываются; это старейший престижный титул. Вероятно, он будет единственным почетным званием, которое я когда–либо получу, и, следовательно, надо использовать сполна представившуюся возможность. Я смогу составить тексты лекций на пароходе. Может быть, спросить Шандора Ференци, согласен ли он поехать со мной? Зигмунд показал письмо членам Венского психоаналитического общества, и оно их взволновало. Альфред Адлер выступил от имени всех и сказал с гордостью: – Это еще один шаг на пути к официальному признанию. Мы должны завоевать университеты, эти наиболее важные бастионы идей. Нам представилась редкая возможность, профессор Фрейд и я надеюсь, что вы договоритесь о публикации лекций. Ференци принял предложение. Позже Зигмунд с радостью узнал, что Университет Кларка пригласил также Карла Юнга прочитать лекции о методе словесной ассоциации, начало которому было положено в Цюрихе. Предполагалось, что и Юнгу будет присвоено почетное звание доктора права. Сообщая за обеденным столом эту новость Марте и Минне, Зигмунд подчеркнул: – Это поднимет значение того, что мы делаем. Сегодня же я должен написать Юнгу и предложить ему поехать вместе с Ференци и со мной.6
1908 год оказался плодотворным. В научных журналах появились пять его статей: «Литературное творчество и дневные грезы», «Истерические фантазии и их связь с бисексуальностью», «Цивилизованная» сексуальная мораль и современные нервные болезни», «О сексуальных фантазиях детей». Сообщения о публикации его монографии «Характер и анальный эротизм» вызвали новые бурные нападки. Наиболее яростные из его оппонентов наклеивали на него самые грязные, не произносимые в культурном обществе ярлыки. Он показал, что для сексуального возбуждения в распоряжении ребенка есть такие части тела, как гениталии, рот и анальное отверстие, которые являются эрогенными зонами. Работая со взрослыми пациентами, Зигмунд выяснил, что некоторые дети склонны более остро ощущать анальную зону. Их первым проявлением было нежелание испражняться, ибо так они рассчитывали самоутвердиться, осуществляя контроль при испражнении; они также получали удовлетворение, отказываясь выполнить просьбу матери. Такие индивиды позднее очаровывались собственными испражнениями, гордились их производством, тратили время на их изучение, приравнивали испражнения к богатству, боготворили их. Если родители столь сильно желают, чтобы были испражнения, то почему они не могут быть самым ценным подарком, который может предложить им ребенок? По мере взросления ребенка повышенная чувствительность к этому исчезала и сосредоточение внимания на анальной зоне переносилось на половые органы. Но анальный эротизм оставлял отчетливый отпечаток на характере; такие люди, как правило, становились любящими порядок, точными, скупыми и упрямыми. Зигмунд сталкивался со многими случаями хронических запоров, которые не могли вылечить врачи–терапевты; он увидел в этом форму невроза, вызванного тем, что испражнения принимались за золото: «Не отдам своего богатства!» Путем переноса из подсознания в сознание причины нервного расстройства Зигмунду удавалось облегчить положение больных, хотя иногда приходилось проводить их по всему пути – от древневавилонского «золото есть исчадие ада» до современного вульгаризма, порицающего мотовство. Не всем удавался такой процесс; многие гомосексуалисты, приходившие за помощью к Зигмунду, так и не смогли преодолеть стадию анального эротизма. Зигмунд думал об обрушившейся на него ярости, когда он впервые опубликовал сведения об обнаруженной им сексуальности детей. Он заметил Отто Ранку, делавшему записи о поступившей серии медицинских журналов, что даже врачи стараются не замечать детской сексуальности. – Им следовало бы вспомнить свое детство, – пробормотал Ранк, толстые стекла очков которого делали его глаза огромными. – Совершенно верно. Требуется искусная ловкость со стороны пожилых людей, чтобы не заметить раннюю сексуальную активность или отмахнуться от нее. Но кто сказал, что человеческая раса не способна на выдумки? Она может превратить явную правду в ложь, а затем продать иллюзию обществу, словно она – Священное Писание. Ранк улыбнулся. – Это не сойдет так легко, профессор. Вы учите людей понимать, что нет неприятной правды и нет прекрасной лжи. Зигмунд похлопал Ранка по плечу. – Кончай скорее университет, Отто, и добейся своей степени. Ты будешь первым психоаналитиком без звания врача и поможешь нам выполнить нашу задачу. Теперь Зигмунд работал особенно продуктивно, поскольку в эту зиму и весной исходный материал был необычайно богатым. Исследование было для него процессом, а не самоцелью. Один из его пациентов, рафинированный Молодой человек двадцати пяти лет, был помешан на одежде. Он элегантно одевался и требовал того же от любой молодой женщины, с которой появлялся на людях. Фиксируя свое внимание на матери, он стал психологическим импотентом, и это было неудивительно: мать страстно любила его и даже взрослому позволяла ему лицезреть, как она одевается и раздевается. В детстве он приходил в восторг от своих испражнений. Он испытывал эротическое возбуждение от ботинок с сильным запахом кожи. Зигмунд знал по опыту других пациентов, что «фетишизация ботинок вызывается первоначальным удовольствием от грязных, пахнущих ног». Это было остаточным чувством от тех дней, когда предшественник человека ходил на четвереньках и его нос был близок к земле, а запах давал ему одновременно и защиту и удовольствие. Теперь впервые доктор Фрейд мог связать воедино «обонятельное» удовольствие от испражнений, получаемое в детстве, с его нынешней фетишизацией ног и ботинок. Психоанализ восстановил потенцию молодого человека, но удовольствия от интимных контактов он не получал. Аналогичным был случай с привлекательной домашней хозяйкой, обожавшей собственные ноги. Ежедневно по часу она массировала их с кремом и делала аккуратный педикюр. Затем она направлялась в венские лавки и покупала туфли всех цветов и фасонов, иногда по дюжине в день, несмотря на то, что дома в шкафу уже стояла сотня пар. За помощью к доктору Зигмунду Фрейду пришел ее муж. Его жена не только пренебрегала домом и детьми и заработала репутацию свихнувшейся, но и ставила семью на грань банкротства своими непомерными расходами. Не может ли доктор Фрейд помочь его жене вернуться в нормальное состояние? После нескольких сеансов Зигмунд выяснил, что молодая женщина покупала туфли для украшения своих ног. В отличие от пациента, фетишизировавшего ноги, ее поведение не было связано с удовольствием от запаха ног и кожи. Сначала это смутило его, но затем он обнаружил, что пациентка все больше и больше возвращается в мыслях к тем дням, когда ей казалось, что у нее, как и у младшего братишки, есть пенис. Потребовалось время, чтобы она поняла, что ее клитор не может вырасти в пенис, и эта мысль не давала ей покоя. В дни разочарования она влюбилась в свои ноги. Зигмунд медленно подвел пациентку к этому открытию; и вновь он добился лишь частичного излечения: молодая женщина перестала скупать туфли, но продолжала массировать свои ноги и делать педикюр. Ему довелось также заниматься мужчиной, страдавшим фобией в отношении красного цвета, который обычно связывают с кровью. Это был третий из аналогичных случаев: лечение продолжалось в первом случае с перерывами пять лет, во втором прекратилось через две недели. В третьем случае мужчина страдал приступами потливости, а также резким покраснением, сопровождавшимся бессмысленной яростью, он боялся бриться по той причине, что может порезаться, и ощущал комфорт только тогда, когда оказывался на морозе. Зигмунд поставил диагноз: истерия, вызванная страхом, однако было трудно определить ее место среди сексуальных неврозов. Казалось, что в основе обеспокоенности лежал стыд, но по какому поводу? Пациент, имевший в Вене репутацию плута и «сексуального негодяя», наконец восстановил воспоминания детства: он слишком рано узнал о сексе от своих родителей, обсуждавших интимные связи в терминах, которые не мог понять шестилетний мальчуган. Зигмунд записал: «Страх перед красным порождается стыдом по неосознанным причинам». В первом случае Зигмунду не удалось добиться излечения даже после пяти лет, хотя он помог мужчине справиться с жизненными трудностями. Второй пациент прекратил посещения. Теперь же, имея больше опыта, он не только восстановил работоспособность пациента, но и полностью устранил у него донжуановский комплекс («я должен все время овладевать новыми женщинами, чтобы доказать, что я мужчина!»), и тот, женившись, смог начать нормальную семейную жизнь. Его посетил молодой человек, которому досаждали «безумные сновидения». По слухам он знал, что профессор Фрейд разработал разумный метод толкования сновидений. Как следует поступить в связи со странным сновидением прошлой ночью? – Мною заинтересовались два знакомых профессора. Один проделал какую–то процедуру с моим пенисом. Я боялся операции. Другой вталкивал мне в рот железный прут так, что выбил один или два зуба. Меня запеленали в шелковую ткань. Психоанализ показал, что молодой человек еще не имел половых сношений. Хотя шелковые ткани наводили на мысль о знакомстве с гомосексуалистом, у пациента никогда не было желания иметь связи с такого рода мужчинами. В действительности его представления были крайне запутанными: он воображал, будто мужчины и женщины занимаются любовью, возбуждая друг друга руками. Зигмунд истолковал его сновидение: страх перед операцией на пенисе отражал страх по поводу кастрации в детские годы; железный прут во рту указывал на акт извращенного сношения, память о котором также была заложена в его подсознании, а потеря зубов была установленной им самим платой за это извращение. Озадачил случай, увиденный в санатории, который скрывали отчаявшиеся родители психически больного мальчика. Зигмунд посетил его во время приступа, симулировавшего половое сношение или выражавшего отвращение к нему; все это сопровождалось плевками, словно больной хотел показать, что извергается сперма. Затем начались слуховые галлюцинации. Зигмунд понял, что перед ним сочетание истерии и навязчивого невроза с ранним слабоумием, не поддающимся излечению. Он провел с пациентом много времени и определил, что мальчик симулировал интимный акт, совершавшийся родителями на его глазах. Фрейд помог мальчику избавиться от симптомов истерии, и родители были ему признательны. Затем он обследовал физическое состояние мальчика и, к своему удивлению, обнаружил, что его половые органы были в неразвитом состоянии. – Глубоко сожалею, – сказал он родителям, – но, если быть честным, я не надеюсь на излечение. В этот период к Зигмунду зачастили пациенты–мужчины. Наиболее интересным был «умственный мазохист», агрессивный, садист по натуре, готовый причинить боль и страдания другим, но поменявший местами эти элементы на собственное желание чувствовать самому боль и страдание в виде унижения и умственных мук. Он разрушал не только свои отношения с другими, но и самого себя. Его трудности начались несколько раньше, когда он позволил себе издеваться над своим старшим братом, к чему его подталкивал подавленный гомосексуализм. Поскольку метод свободной ассоциации не сработал, Зигмунд встал на путь разбора сновидений, о которых мужчина охотно рассказывал. – Сновидение состояло из трех частей: в первой мой старший брат поддразнивал меня. Во второй два взрослых мужика вели себя как гомосексуалисты. В третьей мой брат продал предприятие, в котором я собирался стать директором. Я проснулся в отчаянии. – Это был сон с мазохистским желанием, – объяснил Зигмунд, – и он может быть истолкован следующим образом: «Поделом мне, если брат поставит меня перед фактом продажи в качестве наказания за мучения, которые он терпел от меня». Когда пациент согласился с таким толкованием, Зигмунд добавил: – В сексуальной конституции многих людей присутствует мазохистский компонент как антипод агрессивного, садистского компонента. С этого момента психоанализ развивался успешно, позволяя Зигмунду проникать в элементы садизма и мазохизма, заложенные в подсознании, и исследовать, как эти компоненты, уходящие корнями в детство, влияют на характер и действия взрослых.7
Подошло время выезжать в Соединенные Штаты. 19 августа семья попрощалась с ним на вилле в Нижнем Тироле. Он отдохнул и был в хорошем настроении. В Мюнхен он ехал через Обераммергау, а в самом городе съел что–то расстроившее желудок, и поездка из Мюнхена в Бремен превратилась в сущую муку; он почти не спал. Почувствовав себя несколько лучше после теплой ванны в гостинице, он прогулялся по городу и по живописным докам Бремена, написал три письма Марте о своих впечатлениях. Карл Юнг прибыл из Цюриха, а Шандор Ференци – из Будапешта в такой час, что Зигмунд мог пригласить их на ланч. Он заказал бутылку вина в знак этой встречи. Когда Юнг, великий трезвенник, отказался нарушить запрет, унаследованный от Блейлера и Фореля, Зигмунд и Ференци убедили его, что крошечная рюмка не повредит ему, и в конце концов Карл уступил. Но вино произвело на него странный эффект, он оживленно заговорил о так называемых болотных телах, которые должны находиться в Северной Европе, – о доисторических людях, либо утонувших в болотах, либо захороненных там сотни тысяч лет назад. В болотной воде присутствует гумусная кислота, она растворяет кости, но вместе с тем дубит кожу и волосы, и они прекрасно сохраняются. Так происходит процесс природной мумификации, в ходе которого тела сдавливаются под тяжестью торфа. Вино опьянило Юнга; вместо того чтобы назвать Скандинавию, где находились мумифицированные в торфе тела, он утверждал, будто мумии хранятся в свинцовых подвалах Бремена. Зигмунд спросил: – Почему вас так интересуют эти останки? – Они всегда привлекали меня; это ведь способ знать, как выглядели мужчины и женщины тысячи лет назад. Оказавшись в городе, где находятся эти мумии, я вспомнил о них. Мне хотелось бы увидеть их. – Не думаю, что эти мумифицированные в болотах тела и мой шницель совместимы, – сказал Зигмунд, – кроме того, их нет в Бремене, они обнаружены торфодобытчиками севернее – в Дании и Швеции. Юнг положил вилку, выпрямился, удивленно потряс головой. – Вы абсолютно правы. Но почему вы предположили, что я перенес эти тела в Бремен? Вы говорите, что никто не ошибается случайно. Какими могли быть мои мотивы? У Зигмунда закружилась голова, он почувствовал, что ему плохо. Он хотел выпить вина, но не смог поднять бокал. Он очнулся на кушетке в кабинете управляющего. Юнг поднял его с пола, когда он упал, и вынес так осторожно и незаметно, что никто не обратил внимания на случившееся. Ференци держал пузырь со льдом на голове Зигмунда. Открыв глаза, Зигмунд увидел над собой Юнга, который сказал: – Прекрасно. Я впервые за пятнадцать лет попробовал вина, и вы упали в обморок! Серьезно, что с вами? Зигмунд сел, у него все еще кружилась голова. – Не знаю. Быть может, пища в Мюнхене, которую не принял мой желудок. Быть может, бессонная ночь в поезде до Бремена. Быть может, перевозбуждение от мысли, что завтра посадка на корабль. Но у меня никогда не было обмороков, так что должна быть глубоко скрытая причина. Разговор о мумиях взвинтил меня. В Бремене был я, а не тела, мумифицированные в болотах. Могла ли быть связь? Могло быть у вас желание, чтобы я умер? Это была последняя мысль, мелькнувшая у меня перед тем, как я потерял сознание. Корабль вошел в Нью–йоркскую гавань после полудня в пятницу 27 августа. Был удивительно ясный день. Зигмунд стоял на носу корабля. Юнг – по одну сторону от него, Ференци – по другую, когда на фоне неба обрисовался силуэт Манхэттена, сначала туманная линия на горизонте, а затем сами здания: высокие, величественные, как бы вырастающие из воды. Зигмунд был очарован очертанием острова, его суживающимся началом у Баттери и расширяющейся основной частью к северу. Он думал: «Интересно, смотрю ли я на Соединенные Штаты теми же глазами, что Эли Бернейс? Он искал для себя новый дом и новый образ жизни и, видимо, спрашивал себя: «Могу ли я принадлежать к этому миру? Стану ли я американцем?» Миллионы европейцев питали такие же надежды и ставили такие же вопросы, глядя на эту волнующую картину. Но я здесь пробуду лишь несколько недель. Когда лекции будут прочитаны, я упакую свой багаж на постоялом дворе, надену рюкзак и вернусь в Вену». Проплывая мимо статуи Свободы, Зигмунд воскликнул: – Не удивятся ли американцы, услышав то, что мы им скажем?! Юнг повернулся и ответил дружелюбно: – Сколько же у вас амбиций! В порту их встречал А. А. Брилл. У него был такой вид, словно он хотел каждого задушить в своих объятиях, настолько была велика его радость по поводу приглашения рассказать о психоанализе в Соединенных Штатах. Единственный репортер на борту проявил так мало интереса к группе европейских врачей, что неправильно записал имя Зигмунда; на следующее утро газеты сообщали, что «профессор Фрейнд из Вены» прибыл в США. Однако Зигмунд, увидев, что обслуживавший его стюард читал «Психопатологию обыденной жизни», не счел себя обиженным. Молодой человек сказал ему: – Доктор Фрейд, знаю, что написанное вами в этой книге правильно, потому что я сам совершал все такие действия. Когда они прошли таможню, сгустились сумерки, и Брилл отвез группу в отель «Манхэттен», к востоку от Пятой авеню на Сорок второй улице. Там Зигмунда ожидало письмо от президента Холла, пригласившего его быть гостем в его собственном доме во время недельного пребывания в Ворчестере. Зигмунд попытался позвонить по телефону сестре Анне и Эли Бернейсу, но они уехали отдыхать. В то время как Брилл помогал Юнгу и Ференци удобно устроиться в отеле, где были забронированы номера, Зигмунд вышел на улицу осмотреть город, как он это делал в Париже, когда приехал стажироваться в Сальпетриер: побродить по улицам, почувствовать под ногами мостовую, осмотреть витрины магазинов, вглядеться в лица прохожих. Брилл засунул ему в карман план города. На Пятой авеню Зигмунд осмотрел котлован под здание будущей Публичной библиотеки. Затем быстрым шагом он прошел по Пятой авеню мимо добротных домов, церквей и дорогих магазинов. На Пятьдесят девятой улице увидел только что открывшийся отель «Плаза», прошел по его внутреннему садику, где играл оркестр и неторопливые нью–йоркцы гуляли после полуденного чая. Зигмунд возвратился в отель уставший, но с чувством удовлетворения. Он видел всего полторы дюжины кварталов города, но Нью–Йорк уже не казался ему странным или чуждым. Разве он не исходил его пешком, как родной Земмеринг? Он не мог сравнить Нью–Йорк с Веной, Берлином, Парижем или Римом. Это был новый город – со своей многолюдной, бурлящей, энергичной жизнью. Город с его небоскребами выглядел, звучал, даже ощущался человеком совершенно иначе, чем знакомые ему города. Брилл пригласил их на легкий ужин, но затем понял, что поскольку они встали в этот день в пять утра, пережили волнения, связанные с прибытием в новый для них город, то буквально валятся с ног. Он обещал появиться на следующий день к завтраку и показать им город. Осмотр начался утром от Баттери, откуда открывался превосходный вид на залив. Затем Брилл провел их мимо зданий судоходных компаний к Уолл–стрит через узкий каньон улиц, благоухавших ароматами кофе и специй, тюки и ящики еще стояли на тротуарах перед экспортно–импортными фирмами. На Уолл–стрит Зигмунд заметил несколько знаменитых банков и компаний, названия которых были напечатаны крупными золотистыми буквами. Зигмунду хотелось узнать, где находятся иностранные кварталы, и Брилл провел их на Ист–Сайд – в район разносчиков, который показался Зигмунду похожим на Нашмаркт, здесь воздух благоухал запахами всех видов специй, домашние хозяйки толпились около прилавков, стремясь сделать покупки подешевле и получше. Затем Брилл показал им Китайский городок, здесь Зигмунд впервые увидел китайцев с длинными косами, в длинных черных шелковых или сатиновых робах, халатах с широкими рукавами. Когда они заходили в лавки, где продавались экзотические китайские продукты и травы, ухо резали пронзительные голоса продавцов. Он заметил, что нет ни одной женщины. Воздух в лавках был пропитан благовониями. У Брилла не было заранее продуманного плана, и он поспешно провел друзей через живописный итальянский район Хьюстон–стрит, затем они заглянули на Баури, где наблюдали, как татуируют моряков, сошедших на берег с кораблей, прибывших в Нью–Йорк. Когда Брилл решил, что гости устали, он нанял экипаж, который отвез их на Кони Айленд, в Луна–парк, славившийся своими развлечениями. Зигмунд писал, что этот парк превосходит размерами Пратер. После возвращения на Манхэттен Брилл показал друзьям большие универсальные магазины Джона Ванамейкера на Бродвее и Восьмой улице, двадцатидевятиэтажное здание «Флатирон», тогда самое высокое в мире, центр мужской одежды на Двадцать седьмой улице, магазин шляп на Тридцать первой улице, лавки сладостей. Гостей более всего удивили не только огромность зданий, контраст между увиденными авеню и улицами, но и многолюдность и разноликость толпы. Вернувшись в отель, Зигмунд погрел ноги в горячей ванне. Он сказал Бриллу: – Впервые в жизни мои ноги не выдержали дневного поединка. Но теперь я знаю, что имел в виду Эли Бернейс, писавший мне о Нью–Йорке, уподобляя его плавильному котлу. Сольются ли воедино все его составные части? И что станет с Америкой, когда потухнет пламя под котлом? На следующее утро по просьбе Зигмунда Брилл сопроводил его в Метрополитен–музей осмотреть экспонаты искусства античной Греции. После часового осмотра мраморных скульптур Зигмунд повернулся к Бриллу и сказал с веселыми искорками в глазах: – Знаю, что я в стране будущего, и могу судить об этом по тому, как здесь люди ходят, говорят, питаются. Тем не менее, я чувствую себя более счастливым в цивилизации прошлого. – Странно слышать это от вас, профессор Фрейд, – ответил Брилл, – ваша работа больше, чем показанное мною вам в Нью–Йорке, изменит будущее. Пойдемте в Колумбийский университет. Я рассчитываю, что буду преподавать там фрейдистский психоанализ, и вам следует посмотреть, как красиво размещен университет. Из Торонто приехал Эрнест Джонс. Состоялась сердечная встреча, а вечером пять коллег пообедали в висячем саду Хаммерштейна, в одном из наиболее модных ресторанов Нью–Йорка. На Зигмунда произвели впечатление фешенебельный и в то же время шумный ресторан, изысканно одетые женщины, многие в платьях с глубоким декольте, мужчины, по словам Брилла, – влиятельные бизнесмены, превращающие Америку в богатую индустриальную страну. – Их пища также слишком богата, – простонал Зигмунд после обеда. – Не думаю, что мой желудок приемлет американскую кухню. Завтра я буду поститься. Карл Юнг сказал, усмехнувшись: – Господин профессор, это не совсем справедливо в отношении американской кухни. Вы сказали в Бремене, что ваш желудок не принял обед в Мюнхене и вы провели тяжелую ночь. Перед сном они посмотрели комедийный фильм; он развлек Зигмунда. Следующее утро выдалось пасмурным; небо казалось еще более мрачным из–за того, что у всех расстроился желудок. В полдень они отправились на пароходе в Ворчестер. Пароход обошел выступ Манхэттена, поднялся по Ист–ривер, пройдя под Бруклинским и Манхэттенским мостами в сыром, пронзительно–холодном воздухе среди барж, буксиров, паромов. От Фолл–ривер они поехали поездом до Бостона. В то время как Эрнест Джонс показывал им исторические достопримечательности города, старый Дом правительства, старую церковь, а затем гавань, где состоялось так называемое Бостонское чаепитие, ставшее искрой, которая воспламенила войну американцев за освобождение от британской короны, Зигмунд спросил его потихоньку: – Где ближайшая уборная? – Таких нет, господин профессор. – Что?! Что же тогда делать? – Вернемся в деловой квартал и найдем какую–нибудь контору или правительственное здание. Когда, наконец, Джонс провел Зигмунда в огромное здание, тот должен был спуститься в подвальное помещение и пройти длиннющий коридор, прежде чем добраться до мужского туалета. Он едва успел дойти, не совершив греха. Выйдя оттуда, он спросил Джонса: – Что это за страна без общественных уборных? Создавая новую цивилизацию, она упускает из виду наиболее важный вклад Старого Света. – Видите ли, профессор Фрейд, – рассмеялся Джонс, – это пуританская страна с большими ограничениями, чем в моей викторианской Англии. О процессе облегчения живота не принято говорить. Вы убедитесь, что это относится и к другим человеческим функциям. Тем не менее вас прекрасно примут в Новой Англии, ибо ваши работы уже известны. В прошлом году, когда я гостил у доктора Мортона Принса в Бостоне, было два или три вечера, на которых присутствовали около шестнадцати докторов и университетских профессоров, включая доктора Джеймса Патнэма, профессора неврологии Гарвардского университета, и несколько ведущих психиатров этого района. В мае профессор Патнэм и я представили доклады о психоанализе и подсознании на встрече в Нью–Хейвене. Мы пробудили значительный интерес, была, разумеется, и оппозиция, но главное – возникла оживленная дискуссия. Я слышал также, что из Гарварда собирается приехать известный философ Уильям Джеймс на ваши лекции. Как вы думаете, могу ли я прочитать текст одной–двух ваших лекций до выступления? Зигмунд смущенно покачал головой. – Я не написал ни строчки. Шесть дней на пароходе с Ференци и Юнгом я отдыхал. Мы разбирали сновидения друг друга, играли в глупые палубные игры и рассказывали забавные истории. Кстати, Юнг полагает» что мне следует ограничиться в моих лекциях толкованием сновидений, ибо это открывает широкий доступ к американским слушателям. Как вы думаете? – Не согласен, вы тем самым ограничите себя. Конечно, следует уделить значительное время толкованию сновидений, но вы должны также представить картину ваших открытий так, чтобы аудитория понимала, с чего вы начали научный поиск и куда вы идете. Окрестности Ворчестера были своеобразными: низкие холмы, леса, скалистые площадки с небольшими озерами и домами, выкрашенными в привлекательный зеленый или серый цвет, а отдельные – в красный. В то время как остальные устроились в отеле «Стендиш», Зигмунда пригласили в дом президента Холла – большой и удобный, куда то и дело заходили люди. Полы были устланы коврами, а половину стен занимали книги. Чета Холл любезно приветствовала Зигмунда. Президент, на вид около семидесяти лет, выглядел достойно; его жена была «полной, веселой, с добрым характером, крайне некрасивой и чудесной стряпухой». Зигмунду предоставили просторную угловую комнату с видом на величавые деревья. Два негра в белых жакетах прислуживали за столом. В каждой комнате на столике лежала коробка с сигарами. Когда он вышел на сцену зала имени Джонаса Кларка, своего рода центра научной активности университета, то увидел, что аудитория, рассчитанная на четыреста человек, переполнена. Ему сообщили, что в зале находятся наиболее выдающиеся члены Гарвардского университета, включая известного антрополога Франца Боаса, философа Уильяма Джеймса и доктора Джеймса Патнэма. У Зигмунда не было ни заготовленной лекции, ни тезисов к ней. Его подготовка ограничилась тем, что рано утром он совершил прогулку с Ференци, обсудив с ним схему и содержание лекции. Он говорил по–немецки спокойно и в разговорной манере. Многие из присутствовавших понимали язык. – Дамы и господа, с необычным для меня чувством я нахожусь в Новом Свете, выступаю с лекцией перед аудиторией и ожидаю от нее вопросов. Несомненно, мне оказана честь, благодаря тому что мое имя связано с психоанализом, и поэтому я не намерен говорить о нем, а постараюсь дать возможно более краткий обзор истории и развития этого нового метода. Если создание психоанализа можно считать достижением, то оно принадлежит не мне. Я не стоял у его истоков. Я был студентом и готовился к экзаменам, когда венский врач доктор Йозеф Брейер впервые в 1880–1882 годах применил эту процедуру к девушке, страдавшей истерией. Обратимся непосредственно к этому случаю и его лечению, подробно изложенному в книге «Об истерии», опубликованной Брейером и мной… Всматриваясь в затаившую дыхание аудиторию, он думал: «Это подобно немыслимому сбывшемуся сну: психоанализ больше не мечта и не грезы, он стал реальностью». Он говорил почти час, и ему аплодировали. Затем его поздравляли и жали руку. Юнг сказал: – Я был готов к возражениям. Вы словно были на седьмом небе, и я от всего сердца рад видеть вас таким. Зигмунд был действительно растроган. – Спасибо, Карл. Я чувствовал себя изгоем в Европе, здесь же выдающиеся люди Америки отнеслись ко мне как к равному. – И по праву! Мы обретаем почву, и число наших последователей растет. Зигмунд отечески похлопал Юнга по плечу: – Рад слышать, что ты говоришь слово «наш». В этом и есть наше будущее, ибо ты будешь тем, кто продолжит наше дело, когда я не смогу его вести. Неделя лекций прошла необычайно хорошо. В конце каждого выступления были теплые аплодисменты. Зигмунд подробно описал процесс, с помощью которого индивиды отторгают неприятное, вытесняя из сознания и тем самым из памяти неприемлемые идеи, но они продолжают существовать в подсознании. Он описал далее, как подавленные идеи переносятся из подсознания в сознание. Он осторожно разъяснил слушателям мужскую истерию, метод свободной ассоциации, объяснил, как нужно толковать сновидения, понимать концепцию подавления, регрессию, детскую сексуальность. Подойдя к сексуальной этиологии невроза – теме четвертой лекции, – он откровенно признал, что в 1895 году, когда была опубликована его книга «Об истерии», он еще не пришел к такому заключению. Он рассказал о трудностях, которые испытывал с пациентами, пытаясь убедить их рассказать о своей сексуальной жизни, и признал, улыбнувшись: «Обычно люди не откровенны в интимных вопросах». Затем он сделал категорическое заявление: – Психоаналитические исследования позволяют проследить симптомы заболевания, с поразительной регулярностью ведущие к впечатлениям, полученным в начале эротической жизни. Это говорит нам, что патологические импульсы заключены в природе эротических инстинктных компонентов; и это заставляет предположить, что среди воздействий, ведущих к заболеванию, решающее значение должно быть отведено нарушениям в области эротики, и это относится к обоим полам. Я осознаю, что это мое утверждение будет принято неохотно. Даже исследователи, готовые последовать за моими психологическими заключениями, склонны думать, будто я переоцениваю роль сексуальных факторов; они спрашивают, почему другие возбудители психики не ведут к явлению, названному мною подавлением, и к подмене представлений. Я могу лишь ответить, что не знаю, почему бы им не влиять таким образом, и я не против того, чтобы они влияли, но опыт показывает, что этого не происходит и в большинстве случаев они лишь подкрепляют воздействие сексуального фактора, не заменяя его… Здесь, в аудитории, находятся мои ближайшие друзья и последователи, они приехали со мной в Ворчестер. Спросите их, и вы узнаете, что они не верили моим утверждениям о сексуальной этиологии как решающем факторе, пока их собственные эксперименты не убедили их в этом. Зигмунда удивляло дружественное отношение печати. Ворчестерская «Телеграмм», воздерживавшаяся от критических оценок, старалась передать содержание основных мыслей Зигмунда. Консервативная бостонская «Транскрипт» дала точное изложение лекций и направила репортера взять интервью у Зигмунда в доме президента Холла. Репортер оказался разумным и желающим понять; в результате интервью, опубликованное в «Транскрипт», точно, в сочувственном духе отражало фрейдистский психоанализ. Прочитав статью, Эрнест Джонс прокомментировал ее Зигмунду: – Своего рода ирония. Американский пуританизм родился в Бостоне. Однако именно в Бостоне консервативная газета оказывает фрейдистскому психоанализу дружественный прием, такой, какого я еще не видел. Быть может, в этом и выражается Новый Свет? А. –А. Брилл, как новообращенный американец, выступавший в большей мере патриотом, чем местные уроженцы, сказал: – Не было и намека на критику ни идей Фрейда, ни того факта, что Университет Кларка пригласил его. Осмелюсь предсказать, что эта страна станет самым плодородным полем для практики психоанализа и его развития. Дни проходили в быстрой смене лиц, сцен, студентов и аудиторий, лекций по истории, о Дальнем Востоке, о системе образования, в череде ланчей и обедов; на некоторых Зигмунд был почетным гостем. Он смог присутствовать лишь на одной из трех лекций Юнга о результатах цюрихских тестов словесной ассоциации и о том, как этот метод сочетается с фрейдистским психоанализом. Юнга принимали хорошо. Когда в конце недели в доме президента Холла Зигмунд облачился в мантию и шапочку и вместе с Карлом Юнгом, также в мантии и шапочке, присоединился к процессии, направлявшейся к гимназии Кларка, у него появилось чувство удовлетворения. Он занял свое место на сцене. Президент Холл накинул на него мантию и зачитал: – «Зигмунд Фрейд из Венского университета, основатель школы педагогики, богатой новыми методами и достижениями, ведущий среди изучающих психологию секса, психотерапию и психоанализ, – доктор права». Пока почтенные лица, участвовавшие в церемонии, аплодировали, Зигмунд думал: «Это первое официальное признание моих усилий. Это также признание зрелости психоанализа».8
Его успех и признание в Соединенных Штатах не возымели никакого воздействия на Европу. В печати не сообщалось о его лекциях и о том, что их слушали выдающиеся американцы. Для Вены и немецкоговорящего мира профессор Фрейд никогда не покидал дома. Частично чувство разочарования, а частично давление президента Холла, ДжеймсаПатнэма, Эрнеста Джонса и А. –А. Брилла, а также Отто Ранка, Абрахама и Ференци побудили Зигмунда согласиться записать пять прочитанных им лекций. Работа заняла полтора месяца; обладая хорошей памятью, он все же предпочел вернуться к обдумыванию с самого начала, чтобы определить структуру каждого раздела и содержание логически развивавшейся серии. Когда лекции были переведены и опубликованы в «Америкэн джорнел псайколоджи» под редакцией Стенли Холла, Брилл и Джонс не скрывали своего восторга: отныне они располагали учебником на английском языке. Событием, на которое Зигмунд переключил все свое внимание, был второй конгресс; его проведение намечалось в Нюрнберге в конце марта. Он надеялся увидеть большое число делегатов из ряда стран и образовать Международное общество психоаналитиков с рабочими отделениями в Нью–Йорке, Лондоне, Берлине, Цюрихе, Будапеште. Это придало бы психоанализу официальный статус, подвело бы солидную базу под накопленные знания. Тем временем он работал над книгой о Леонардо да Винчи, а также над лекцией для нюрнбергского конгресса «Перспективы психоаналитической терапии». Пришла приятная новость: Дойтике готовится издать наконец–то вторую, расширенную версию «Толкования сновидений»; потребовалось почти десять лет, чтобы продать первые шестьсот экземпляров. Каргер в Берлине печатал третье, расширенное издание «Психопатологии обыденной жизни». Зигмунд испытывал все большее удовлетворение, по мере того как поступал богатый материал от его собственной группы и от врачей и пациентов из различных стран, подтверждавший справедливость его заключений. Оба издателя были уверены, что отныне невозможно игнорировать Зигмунда Фрейда, что его будут читать хотя бы для того, чтобы нападать, что они могут каждые два года выпускать пересмотренные и расширенные издания. – Итак, тебе не вернули рукописей, как в девятисотом году! – поддразнивала Марта. – Теперь остается лишь ждать новых просителей твоей руки. Несмотря на успехи в других странах, дома, в венской группе, он сталкивался с трудностями. Ее участники не отличались от любой другой группы: все зависят друг от друга и борются за место под солнцем. Один хотел урвать у Зигмунда побольше времени для развития идеи или редактирования манускрипта, другой – получить от него больше пациентов. Они состязались за место на страницах ежегодника. Яблоком раздора, как это бывает и в других научных органах, являлся вопрос о приоритете: кто первый открыл новую идею или развил старую в более широкую или содержательную. Они работали в том же направлении; довольно часто двое из них приходили с одной и той же идеей, схожим докладом в один и тот же момент. Кто должен получить за это кредит на международной арене? Если один выдвинул интересную концепцию, а другой исследовал ее и довел до стадии опубликования, то кому принадлежит приоритет? Зигмунд беспокоился, зная, что спор из–за приоритета разрушил многие профессиональные общества. Он работал с обиженным участником группы целыми неделями, чтобы помочь ему пережить огорчение. Это была нескончаемая битва за то, чтобы поддерживать между членами группы мирные отношения. Все они начали работать вместе, все они были связаны с ограниченным числом постулатов, на которых строилась наука психоанализа. Они резко критиковали работы друг друга. По средам вечерами каждый был обязан высказать замечания, невзирая на свою волю. Иногда можно было услышать легкую похвалу, но, как правило, участник группы находил что–либо не понравившееся ему в докладе другого, зачастую утверждая, будто его исходный материал и заключения ценнее, а методика совершеннее. Зигмунду все чаще приходилось осторожно вмешиваться: – Не будем переходить на личности, ограничим критику рамками обсуждаемых теорий. Когда двое ссорились, он приглашал их поужинать вместе и устраивал умиротворяющий вечер, обсуждая материалы, втягивая обоих в разговор, старательно слушая, восхищаясь их умением схватить суть вопроса, восстанавливая уверенность не только в них самих, но и друг в друге, так что они уходили из дома на Берггассе, 19, под ручку… У него не было иного выбора, как выступать в роли отца семейства: эти дети жили в его идеологическом поле, он должен был заботиться об их счастье. Тем не менее, бывали времена, когда несколько старых членов огорчали его своими междоусобицами. К числу драчливых относился доктор Исидор Задгер. За четыре года он так и остался чужаком. Никто не знал, где он живет, есть ли у него семья. Все знал о нем лишь тридцатилетний племянник Фриц Виттельз, которого он привел в группу. Он не появлялся в кофейне, где иногда задерживался Зигмунд для часовой беседы. По характеру безупречных монографий Задгера Зигмунду давно было ясно, что его тревожил подавленный гомосексуализм, но не было возможности помочь ему освободиться от раздирающих его внутренних противоречий, которые он изливал на других членов группы. Каждый уважал его, каждый жалел его, но никто не знал, что с ним делать. Другим источником огорчений был доктор Эдуард Хичман с его вспыльчивым остроумием, задевавшим гордость тех, кто не мог так быстро и ярко реагировать в ответ. Хичман успешно действовал как практикующий терапевт, у него была растущая группа пациентов, нуждающихся в психоанализе, он был щедрым и беззлобным. Хичман просто не мог промолчать, когда ему приходил на ум забавный ответ – пусть даже такой, который станет поперек горла другому или разнесет в клочья выдвигаемый кем–то пример. Почти каждый в группе был жертвой его выпадов и поклялся ему отомстить. Поскольку, видимо, не было никакого способа парировать замечания Хичмана, его коллеги возмещали поруганную гордость изничтожением его докладов, как бы хорошо они ни были подготовлены и какими бы ни были правильными. Зигмунд заметил, что постоянно возникала трудность, когда кто–то зачитывал доклад, а потом все обсуждали его. Критические замечания даже по мелким поводам глубоко западали в душу, и подвергнувшийся разбору выжидал доклада оппонента, чтобы взять реванш. Сильнейшим из нападающих был Вильгельм Штекель, способный сокрушить любой новый подход. Когда же наступал его черед зачитывать разделы только что законченной книги, его жертвы самым безжалостным способом разносили в клочья его рукопись. Он обладал даром терапевта, но его доклады зачастую бывали бессодержательными, основанными на догадках. Зигмунд был благодарен ему за статьи в газетах, популяризировавшие психоанализ, однако его иногда раздражал и сентиментальный стиль написанного, и упрощенческие, ошибочные оценки. Когда Зигмунд упрекал его за недостаточную проработку материала, Штекель отвечал: – У меня оригинальная идея. Пусть другие исследуют ее и найдут подтверждение того, что я прав. Какой бы доклад ни читался, Штекель с энтузиазмом восклицал: – Это как раз тот случай, что был у меня сегодня утром! Над ним давно уже посмеивались в группе из–за его «утренних пациентов в среду». Штекель был не только обижен такими шутками, но и удивлен. Некоторые из молодых, принятых в группу, принесли с собой множество новых проблем, разрешение которых заняло бы всю жизнь. Одним из них был Виктор Тауск, красивый, голубоглазый, во всем сомневавшийся хорват, сказавший о себе: – Я неизлечимо душевно болен. Все мое прошлое видится мне лишь как подготовка к распаду моей личности. Прошлое Тауска было по вине родителей сложным в эмоциональном отношении. Он порицал с горечью отца и настроил других против него. Мать била Тауска за такое поведение. Виктор обладал способностями к языкам и успешно учился, но после ссоры с учителем на религиозной почве и за организацию забастовки был исключен из школы перед самыми экзаменами на аттестат зрелости. Без копейки денег и с больными легкими он все же закончил курс в Венском университете, получил степень в юриспруденции, которую презирал, мечтая быть врачом. В возрасте двадцати одного года Тауск женился на дочери процветающего печатника в Вене, но между ним и деверем возникла ненависть, и он вместе с женой уехал в Хорватию, где нашел работу адвоката. Тем временем родились два сына, но это не помешало ему развестись с женой. Тауск отправился в Берлин как малоизвестный поэт, музыкант, артист и журналист. Обладая смазливой внешностью, он пользовался успехом у женщин. Однажды ему попал в руки медицинский журнал со статьей Зигмунда Фрейда. Он обратился к профессору Фрейду за разрешением посетить его в Вене. Зигмунд думал, что Виктор Тауск был врачом, и пригласил его к себе. Приглашение спасло Тауску жизнь, ибо он был на грани самоубийства. В воскресное утро весной 1909 года Зигмунд провел несколько часов с Виктором Тауском, а затем достал из письменного стола сто пятьдесят крон и положил в его карман. Психика молодого человека была глубоко травмирована, но сомневаться в его интеллектуальных качествах не приходилось. Зигмунд представил его группе, и ее участники осознали глубину эмоционального кризиса Тауска, но полагали, что его решимость вернуться в Венский университет и получить медицинское образование, чтобы стать психоаналитиком, может поставить его на правильную стезю. Хичман, Федерн и Штейнер ссудили ему четыре тысячи крон; Зигмунд добавил сумму, чтобы обеспечить учебу в течение двух первых лет в клинической школе. Тауск так был тронут этим, что вышел из комнаты в слезах, поклявшись в вечной верности. Иногда Зигмунду приходилось разубеждать энтузиастов. Таким был Рудольф фон Урбанчич, сын известного специалиста–ушника, владелец фешенебельного санатория. Он прочитал статьи Фрейда и несколько его книг и стал горячим поклонником фрейдистского психоанализа. Его несколько раз предупреждали, что он слишком ретиво пропагандирует психоанализ. Тридцатилетний Рудольф, исповедовавший католицизм, обслуживал католическую клиентуру. Он попросил принять его в венскую группу и был встречен с распростертыми объятиями. Затем сведения просочились в медицинские круги, и ему стали угрожать закрытием санатория. Он пришел к Зигмунду. – Профессор Фрейд, я просто не могу поддаться таким угрозам, считаю, что под удар поставлены мое мужество и честь. Я должен твердо стоять, даже если мне придется закрыть санаторий. Я всегда заработаю на жизнь в Вене… Зигмунд положил руку на плечо молодого человека. – Вы в начале своей карьеры; вы слишком молоды, чтобы выступать на рыцарском турнире в Ареццо. Используйте возможности прочно закрепиться в своей профессии и дайте нам шанс самим завоевать нашу репутацию. – Профессор Фрейд, встречи по вечерам в среду дают мне единственную возможность обучиться психоанализу. – Никому не пойдет на пользу, если мир узнает, что связь с нами равноценна потере практики, – настаивал Зигмунд. – Мой добрый совет вам: уходите, но останемся друзьями. Как и другие группы, они спорили между собой, но перед публикой выступали единым фронтом. У них было чувство локтя, и порой они, зная, что причинили коллеге неудобства, старались либо направить к нему пациента, либо оказать содействие в публикации доклада. Они щедро шли на предоставление финансовой помощи, что напоминало Зигмунду о тех днях, когда он был «вторым врачом» в Городской больнице и сорок работавших там молодых людей делились друг с другом в случае нужды своими скудными гульденами. Зигмунд следил за тем, чтобы члены группы не бедствовали. Он ссужал небольшие суммы, когда они были в стесненном положении, или же, если это казалось неделикатным, давал более крупные «займы», не собираясь требовать возмещения. Он сплачивал своих последователей, направляя пациентов к молодым врачам, когда у тех была недостаточная практика или же не было материала для исследований, при этом заботился, чтобы эти случаи не были слишком сложными. Он старался также передать пациента с такой формой невроза, какой он сам занимался в прошлые годы и какая не могла открыть ему самому чего–либо нового. Все это достигалось довольно просто, если его посещали восемь – десять больных и он мог зарабатывать достаточно, чтобы покрыть растущие семейные расходы, расходы по приему гостей и на образование детей. К пятидесяти трем годам его практика стала достаточно постоянной, но ему редко удавалось отложить хотя бы несколько тысяч крон в сберегательный банк. Он не обладал качествами делового человека и поэтому не рассчитывал на большую прибыль от своих вкладов. Во всяком случае два с половиной месяца летнего отдыха, поездки и работа над книгами почти всегда «съедали» сбережения, накопленные за рабочий год. Более серьезную опасность, чем личные разногласия, представляло образование кланов, а с годами эта тенденция становилась все сильнее. Она зародилась в отношениях между теми, кто поддерживал Зигмунда Фрейда, и сторонниками Альфреда Адлера, которых он одного за другим привлекал к встречам в кафе «Центральное». Их набралось девять: Д. Бах, Стефан Мадей, барон Франц фон Гие, Карл Фуртмюллер, Франц и Густав Грюнеры, Маргарет Хильфердинг, врач и первая женщина, допущенная в группу, Поль Клемперер, Давид Оппенгейм. Лишь немногие были врачами, но Зигмунд одобрил их включение в группу, считая, что теория психоанализа нуждается в сторонниках. Однако теперь новая психология, разрабатывавшаяся Адлером, его теории о том, что органические нарушения, а не сексуальная этиология являются главным в формировании характера, что мужской протест – доминирующий фактор неврозов, раскалывали группу. Ни один из членов ассоциации, верных Фрейду, не восхвалял вклад Адлера, сколь бы блестящим по форме и информативным по содержанию он ни был. Сам Фрейд, однако, говорил, что теория недостаточности органа важна в определении человеческой психики. По тому же признаку друзья Адлера были настолько лояльны к нему, что неохотно хвалили доклады кого–либо из группы Фрейда. По мере продвижения работы Адлера становилось очевидным, что он не хочет, чтобы его считали фрейдистским психоаналитиком. Почему он должен быть таким, если его собственная психология отлична от психологии Зигмунда Фрейда и ничем не обязана исходным теориям Фрейда?! Он начал также намекать, что группе не следует больше собираться на квартире Фрейда, потому что при таком порядке она превращается в палату профессора Зигмунда Фрейда, а члены ее оказываются под его слишком большим влиянием. Не лучше ли найти зал или лекционное помещение, куда можно было бы время от времени приглашать публику послушать наиболее интересные доклады, и таким образом стать признанным учреждением, а не быть семейной группой, встречающейся в доме «отца»? Вильгельм Штекель, оказавший активную помощь в образовании первоначальной группы в 1902 году, подпал под влияние Альфреда Адлера и присоединился к завсегдатаям кафе «Центральное». Это задело Зигмунда. Марта, знавшая все оттенки его настроения, сказала: – Зиги, вечера в среду приносили тебе много радости. Теперь же они стали неприятными. Что случилось? Он покачал головой и сказал: – Бесполезно обсуждать проблемы. Нужно найти пути к их решению.9
Карла Юнга пригласили в Америку для чтения цикла лекций в Чикаго. Зигмунд опасался, что это может поставить под удар конгресс в Нюрнберге, намеченный на конец марта. Однако неутомимый Юнг принял все необходимые меры до отъезда и дал слово Зигмунду, что вернется вовремя и займет кресло председателя. Абрахам, Эйтингон, Хиршфельд, Генрих Кёрбер и Лёвенфельд будут представлять Германию; Хонеггер, Альфонс Медер и американец Тригант Барроу, студент Юнга, прибудут из Швейцарии. Из Америки никто не сможет приехать: Брилл, Джонс и Патнэм из Гарвардского университета заняты учебным процессом и несут другие обязанности. Во время подготовки возник непредвиденный инцидент. Мюнхенский психиатр Макс Иссерлин просил разрешения прочитать доклад. Зигмунд согласился. Венская группа узнала, что доклад Иссерлина представляет собой не изложение интересного психоаналитического случая или теории, а яростную атаку на концепцию подсознания. Несколько членов собрались в кафе, чтобы обсудить процедуру, а затем пришли к Зигмунду с требованием отменить доклад Иссерлина. Зигмунд попросил дать ему текст или изложение. Через несколько дней ему доставили заметки, подтверждающие справедливость обвинения. На конгресс отводилось два дня, и число представляемых докладов было ограниченным. Стоило ли давать Иссерлину ценное время, отведенное на доклады, а затем публиковать его нападки, как якобы исходящие от официального психоаналитического конгресса? Поскольку Юнг был в Америке, Зигмунд послал от своего имени записку Иссерлину, уведомив, что его просьба отклонена. Он полагал, что избежал неприятного инцидента. Последствия оказались печальными. Случившееся с доктором Гансом В. Майером из Бург–хёльцли, членом Общества психоаналитиков, имело другую причину, но вызвало не меньший шум. Майер был проницательным врачом и хорошим автором. Он пытался осуществить синтез психиатрии и психоанализа, причем психоанализ ставил на второе место. Недовольный Зигмунд промолчал, пока Майер не начал раскрывать содержимое фрейдовского портфеля, унижая и дискредитируя каждую из теорий Фрейда. Он также потребовал публикации его докладов в ежегоднике, а он имел на это право как член общества. Когда стало ясно, что его статья состоит на девяносто процентов из психиатрии Крепелина – Блейлера и на десять процентов сдобрена фрейдизмом, чтобы подсластить пирог для членов общества, Зигмунд решил, что пора действовать. Вопрос был сформулирован Отто Ранком, прочитавшим последнюю статью Майера в журнале, который всегда был недружественным к психоанализу. – К чему нам предатель в наших рядах? Почему доктор Майер желает оставаться членом общества? Он осуждает нас, а не просто не согласен. Если мы сохраним его в обществе, над нами будут смеяться, говорить, что даже члены общества не верят в свои выдумки. Нельзя ли вежливо намекнуть доктору Майеру, чтобы он не платил своего взноса в следующий раз? – Поскольку он швейцарец, предложение, быть может, должно исходить от одного из цюрихцев, а не от нас? Ранк был вежлив, но настойчив. – Ну профессор Фрейд, вы знаете, что ни один швейцарец не предложит цюрихцу выйти из организации. Они сочтут это актом предательства. – Обсудим в таком случае вопрос на венской группе в среду вечером. Обсуждение в следующую среду получилось односторонним. Все они читали статьи Майера, содержавшие нападки на основные элементы их веры; они не любили цюрихцев, и голосование было единодушным: предложить доктору Майеру выйти из общества. Зигмунд поступил в соответствии с решением; это вызвало недовольство в Цюрихе. Плохих сообщений из Цюриха хватало. В растущем противоборстве между Карлом Юнгом и Ойгеном Блейлером Юнг полностью отошел от Бургхёльцли и перенес клиническую практику в свой дом в Кюснахе. Он намеревался преподавать в свободной или торговой школе, не имевшей связи с Цюрихским университетом. Зигмунд все еще не понимал причину ссоры, ибо оба оппонента были уважаемы в полудюжине стран Европы, каждый имел множество друзей. Зигмунд все больше чувствовал, что в поведении Юнга есть элемент бунта против отца, против старшего. Он слышал, как Юнг разносил Блейлера, но он никогда не слышал от Блейлера ни одного слова против своего молодого ассистента. Это был иной случай раздора, чем тот, с которым столкнулся Абрахам, имея дело с Юнгом. Расхождения становились серьезными. Подобно Зигмунду, Юнг считал, что для психоанализа надо создать широкую основу, не допуская к нему противников, от которых не жди пользы. Блейлер не соглашался. Он верил в то, что любая наука, искусство и гуманитарные дисциплины лишь укрепляются, выслушивая выступления противников – наиболее проницательных и красноречивых. Он полагал, что такая процедура оттачивает мозг и дает возможность сторонникам находить аргументы против оппонентов. Из Цюриха приходили слухи, что Юнг намерен выдворить Блейлера из Цюрихского общества психоаналитиков! Это казалось Зигмунду безмерной трагедией. Он выехал в Нюрнберг на день раньше венской делегации, с тем чтобы иметь время для беседы с Карлом Абрахамом и Шандором Ференци, последний должен был представить конгрессу подготовленное им предложение. За два года со времени посещения Вены Абрахам стал самым близким другом, верным учеником Зигмунда и первым практикующим в Берлине психоаналитиком. Ему приходилось трудно, как всегда бывает, когда есть лишь один аналитик в большом городе. Почти тридцатитрехлетний Абрахам был не только настойчивым по натуре, но и неисправимым оптимистом. На него было приятно посмотреть: чисто выбритый, скромные усы, широко расставленные глаза – все его черты отражали доброту натуры. Мягкие волнистые черные волосы обрамляли его скульптурно вылепленную голову, ладно сидящий костюм дополнялся светло–серым галстуком. Большую часть его скромного дохода все еще составляла оплата психиатрических справок для судебных дел. Карл выполнял свое обещание «спорить разумно» с другими врачами Берлина. Хотя он и не привлек никого к психоанализу, но и не нажил себе врагов. На берлинских конгрессах делались нападки на Фрейда, но не на Карла Абрахама. – Это само по себе маленькое чудо, – сказал Зигмунд Абрахаму, когда они бродили по улицам Нюрнберга. – Продолжай следовать моей тактике с оппонентами, обращайся с ними, как с пациентами, спокойно игнорируй их отрицания и продолжай свои разъяснения, не настаивая на том, что они не могут принять. Абрахам хотел получить совет в отношении некоторых наиболее трудных случаев. Двоюродный брат его жены доктор Герман Оппенгейм, основатель психиатрической клиники в Берлине, направлял к нему пациентов, на которых не действовали другие методы. Абрахам сознался Зигмунду: – Что мне делать с моим неисправимым параноидным брюзгой, который после двух лет лечения продолжает судиться со всеми, с кем вступает в контакт? Как добиться устранения невроза? – Я должен вскоре опубликовать мои методические приемы, – сказал Зигмунд. – Они очень помогут, господин профессор. – И он робко добавил: – Я могу рассказать лишь о немногих явных случаях излечения, но почти всегда мне удавалось ослабить симптомы. Речь шла о гомосексуалистах, ищущих помощи, но боящихся раскрытия болезни: о сорокадвухлетнем мужчине, десять лет состоявшем в браке, и все эти годы остававшемся импотентом; о двух случаях навязчивого невроза, первый выражался в глубокой задумчивости, переходившей в молитву. Свободная ассоциация позволила найти причину невроза: в возрасте семи лет мальчик случайно увидел женщину, задравшую в ссоре с соседями юбку и показавшую в знак презрения голую задницу. Когда он рассказал о виденном горничной, та угрожала, что его арестуют, если он будет вести себя плохо; мальчик испугался, начал молиться, писать слова молитвы на каждом клочке бумаги, попадавшем под руку. Более глубокий анализ показал, что сцена с соседкой прикрывала в памяти ранее случившиеся проступки: задирание ночной рубашки няни; повторение того же, когда он спал с матерью. Что бы он ни брал в руки, все переворачивал, осматривал спереди и сзади. Задумчивость, переходившая в чтение молитвы и исчезнувшая после наступления половой зрелости, вернулась, когда он подошел к среднему возрасту, и острые симптомы стали угрожать его душевному здоровью. Второй случай, описанный Абрахамом, касался пациента, который в раннем детстве питал к своей матери чувства собственника и ревновал ее к отцу и брату. Когда его направили в школу–интернат, мальчик почувствовал невыносимое сексуальное отторжение, напрочь отвергал мать, уничтожал ее подарки, никогда более не упоминал ее имени; все это привело к приступам непроизвольного крика. Когда его побранил за это отец, он ответил: – Кричится само по себе, папа. Затем у него появилась склонность произносить неприличные слова в семье, особенно слова, относящиеся к женским гениталиям. – Я медленно разъяснил ему эдипов комплекс, – объяснил Абрахам, – и избавил его от приступов крика и чувства вины по отношению к матери. Куда же вести теперь расследование? – Дорогой коллега, умственные изменения не бывают быстрыми. Проблемы «куда вести расследование» не должно быть. Пациент указывает путь, говоря обо всем, что приходит ему в голову. Время от времени он как бы открывает свой рассудок. Одержимостью надо заниматься раньше, с еще молодыми пациентами, и тогда лечение – триумф и удовольствие. Но не поддавайтесь разочарованию с людьми среднего возраста, удерживайте их возможно дольше. Такие больные часто бывают удовлетворены раньше врача. Вы упомянули о переключении вашего больного от молитв к атеизму и обратно к молитвам. Это характерно для навязчивого невроза; больные вынуждены выражать оба противоречивых побуждения, обычно одно немедленно после другого. Друзья обходили старинные стены и рвы города. Абрахам рассказал о своем доверительном разговоре с женой пациента средних лет с целью успокоить ее относительно импотенции мужа. – Едва я успел сказать ей, что потенция может быть восстановлена, женщина, до этого спокойно державшая в руках сумочку, начала открывать и закрывать ее. Колокола церквей пробили полдень. Они повернули назад, к гостинице. Абрахам продолжал: – Две психически неуравновешенные женщины, о которых я вам писал, имели общий симптом: они жаловались на сильное ощущение стягивания рта, как если бы он сжимался. Не переносят ли они эрогенную зону вверх? Я знаю, что обе пациентки страдают отвращением к своим мужьям, у одной оно подавлено, и она едва выдерживает половое сношение, а временами у нее возникает физическое отвращение. Не может ли ощущение стягивания рта быть смещенным вагинизмом? Ведь последний в конце концов всего лишь выражение отвращения. Когда они возвратились в гостиницу «Гранд Отель», их ждал Шандор Ференци. Абрахам извинился и ушел. Зигмунд провел Ференци в свой номер, где они могли поговорить наедине. Положение Ференци в Будапеште было иным по сравнению с положением Абрахама в Берлине. Он был известен, и к нему хорошо относились не только врачи и правительство, но и значительная часть населения как к одной из ярких личностей города. Он имел надежную частную практику и мог обеспечить себе средства к существованию и не научив Венгрию ценить психоанализ. В Будапеште не отвергали идей Зигмунда. Первая лекция Ференци перед Будапештским обществом психиатрии и нервных болезней не стала «красной тряпкой для быка». Он был дипломатичен, обращаясь к венгерской медицинской аудитории, комментировал «лишь совершенно очевидные, легко понимаемые, убедительные факты». Он писал Зигмунду: «Я лишь повредил бы делу неожиданной наступательной тактикой и сознательно показывал образцы выдержки». Так он и действовал – размеренно, без выпадов, помогая группе врачей осознать, что в этой фрейдовской психологии что–то есть; и они начали направлять пациентов к Ференци. Зигмунд углубился в дискуссию, ради которой он просил Ференци приехать в Нюрнберг на день раньше. – Шандор, когда доклады будут прочитаны и научная дискуссия завершена, мы должны преобразоваться в рабочее заседание и создать постоянную организацию. Я хотел бы, чтобы ты представил меморандум заседанию. Ференци покраснел от гордости, снял очки и энергично протер их носовым платком, словно хотел получше разглядеть оказанную ему честь. – С удовольствием принимаю, господин профессор, но не следовало бы вам, быть может, выбрать одного из старых ваших последователей из венской группы? – Нет, – прозвучало повелительно. – Венцы меня больше не удовлетворяют. Я несу тяжкий крест со старшим поколением – Штекелем, Задгером, Адлером. У меня такое чувство, что вскоре они сочтут меня препятствием и будут соответственно относиться. Ференци был искренне удивлен. – Не могу поверить, господин профессор. Но займемся делом. – Он вытащил записную книжку из внутреннего кармана пиджака. – Итак, скажите точно, какую структуру вы намечаете для организации… – Во–первых, я хотел бы, чтобы было внесено предложение об организации Международной ассоциации психоаналитиков с обществами в каждой стране, учреждаемыми по мере готовности. Я хотел бы, чтобы Карл Юнг был избран президентом Международной ассоциации… пожизненно. Ференци присвистнул, не отрывая глаз от блокнота. – По этой причине мне хотелось бы, чтобы основной центр психоанализа переместился из Вены, ставшей негостеприимным местом, в Цюрих, который был готов принять новый метод с самого начала, несмотря на то, что группа должна была реорганизоваться под иным названием. Риклин согласился действовать в качестве секретаря, собирать взносы, договариваться о публикациях, короче говоря, служить управляющим. Другой важный шаг, который нам надлежит сделать, – это защитить себя от обманщиков и неспособных любителей и не допускать неприемлемый материал на страницы ежегодника. Мы должны дать Карлу Юнгу право рассматривать все представленные статьи и решать, какие он желает опубликовать. – Поскольку вы также в составе бюро, то было бы безопасным… пока вы и Юнг остаетесь друзьями… Теперь была очередь Зигмунда удивляться. – Но мы всегда будем друзьями! Я считаю его своим преемником. – Хорошо, господин профессор. Полагаю, что у меня есть все. Я напишу к завтрашнему утру, к кофе. – Одно предостережение, Ференци, – венцы будут недовольны некоторыми из этих соображений, но ты достаточно умен, чтобы справиться с их возражениями. Научная часть встречи прошла хорошо. Доклад Абрахама о фетишизме и доклад Адлера о психическом гермафродитизме были встречены с энтузиазмом; Юнг, Медер и Лёвенфельд также представили ценные соображения, доклад Зигмунда о будущем психоаналитической методики был встречен более спокойно, чем его рассказ о «Человеке, одержимом крысами» два года назад в Зальцбурге. Первое предложение Ференци – об образовании Международной ассоциации психоаналитиков – вызвало аплодисменты, но, когда он высказался за то, чтобы выбрать Карла Юнга пожизненным президентом, венцы зашевелились, послышался ропот недовольства. Ференци поднял руку, требуя тишины, а затем продолжил авторитетным тоном: – Штаб–квартира Международной ассоциации психоаналитиков будет находиться в Цюрихе. Доктор Риклин согласился работать исполнительным секретарем; в этом качестве он официально зарегистрирует новые отделения, открывшиеся в Берлине, Будапеште, Лондоне, Нью–Йорке. Он будет собирать годовые взносы, наблюдать за публикациями, начнет выпускать двухмесячный бюллетень, чтобы доводить до сведения членов ассоциации новости о ее деятельности. Такую концентрацию власти в руках швейцарцев венская группа встретила ледяным молчанием. Венцы взорвались, когда Ференци закончил замечанием: – Все материалы, публикуемые в ежегоднике, должны вначале получить одобрение президента Карла Юнга. Только таким путем мы сможем развивать психоанализ как чистую науку. Шесть делегатов немедленно с криками вскочили со своих мест: Штекель, Адлер, Федерн, Задгер, Виттельз, Хичман. Зигмунду казалось, что наступил ад кромешный. Сквозь шум до него доносились лишь отдельные выкрики: «Нам не нужен диктатор!», «Это чудовищная цензура!», «Настаиваем на свободных выборах!». Затем в наступившей тишине прозвучал вопль отчаяния: «Почему ущемляют венцев в пользу Цюриха?» Шандор Ференци, обычно обходительный и вежливый человек, отрезал: – Потому что подход цюрихцев более научный и по форме и по содержанию. Все они психиатры с университетским образованием в отличие от венцев. Они пользуются уважением в медицинском мире. Вы же отверженные, у вас ничего нет: ни университета, ни больницы, ни даже приличной клиники! Венцы снова вскочили, потрясая кулаками и понося Ференци. Председатель стукнул три раза молотком и, перекрывая шум, сказал: – Заседание закрыто! Зигмунд вышел из зала заседания расстроенный. Не говоря ни с кем, он поднялся в свой номер и закрыл за собой дверь на ключ. Чтобы успокоиться, выпил стакан холодной воды, а затем погрузился в глубокое бархатное кресло, пытаясь оценить нанесенный ущерб. Печально, что Ференци был поставлен в положение, когда ему пришлось принизить венцев в глазах всего конгресса. Гражданская война неминуема… Он встал, зашагал по комнате. Виноват только он! Он пожаловался Ференци на венцев, сказал ему, что они задираются, что, сколачивая кланы, хватая друг друга за фалды и стремясь вырваться вперед, они создают для него неудобства. Это стало явным, когда стали нападать на Ференци за унижение венцев. Ведь именно он, Зигмунд, навел на такую мысль Шандора. Он поступил неосторожно с Ференци. – Это я оттолкнул венцев, – сказал он вслух. В дверь постучали. Он открыл и увидел Отто Ранка, в его лице не было ни кровинки. – Господин профессор, думаю, что вам следует пойти в комнату Штекеля немедленно. Большинство венцев там. Они оскорблены и разгневаны и угрожают уйти с конгресса. Ранк не преувеличивал. Более десятка разъяренных людей набились в комнату Штекеля, в том числе и его верные последователи. Они смолкли, когда вошел Зигмунд; тишина была враждебной, как в семье, которую предал отец. Адлер заговорил первым; было очевидно, что в условиях кризиса группа обратилась к нему за разъяснениями. – Господин профессор, мы желаем знать прежде всего, что побудило Ференци сделать выпад против нас. – Доктор Адлер, подобных критических замечаний не должно было быть. Но поскольку Ференци был моим представителем, я должен взять на себя всю вину. Извиняюсь и прошу вас забыть этот неприятный инцидент. – Хорошо, – закричал Штекель, – но как мы можем забыть, если нами, вашими старыми сторонниками, вновь пожертвовали в пользу цюрихцев? Мы страдали вместе с вами семь с половиной трудных лет, терпели осложнения, жертвы, оскорбления. Мы были верными вам, вашей методике. Ну а цюрихцы? В течение нескольких месяцев проводили еженедельные встречи, а затем вообще их прекратили. Блейлер отказался присоединиться к нашей организации. Юнг, которого вы хотите назначить постоянным президентом, лишь наполовину фрейдист; он часто нападает на сексуальную этиологию неврозов… Зигмунд поднял руку, чтобы остановить поток слов. – Господа, я обратился к швейцарцам, потому что мы в них крайне нуждаемся. Невозможно добиться принятия новой отрасли медицинской науки, если она не привязана к клинической школе или больнице университета. Бургхёльцли – наша единственная надежда. – Он глубоко вздохнул. – Я могу сказать, что лишь благодаря участию Юнга психоанализ избежал опасности быть привязанным к евреям. Лишь имея Юнга в качестве президента и штаб–квартиру в Цюрихе, мы сможем противостоять растущему антисемитизму, используемому нашими оппонентами в качестве оружия против нас. Эта спокойно произнесенная речь далась ему нелегко, он все еще не мог перевести дыхание, когда смолк. Но его слова не произвели впечатления на обиженную когорту. Чувствуя, что создававшееся им в течение многих лет висит на волоске, он хрипло сказал: – Мои враги хотели бы видеть нас голодающими, готовы отнять у меня последнюю рубашку. Озлобление иссякло у вызывающе настроенной группы, когда она увидела, в каком отчаянии находится их профессор и каким постаревшим он выглядит. Заговорил Поль Федерн, один из близких друзей Зигмунда: – Хорошо, профессор Фрейд, мы принимаем Цюрих как административную штаб–квартиру для Международной ассоциации. Но соглашаемся, чтобы Юнг был президентом лишь два года. В конце концов должны быть свободные, открытые выборы. – Согласен, Федерн. Пусть будет так. Следующим выступил Хичман; он также был последовательно верным. – Мы не потерпим цензуры над нашими публикациями. Если Юнг будет единолично контролировать материалы, направляемые в ежегодник, он сможет низвести фрейдистский психоанализ до мистицизма. – Я никогда не хотел такого, Эдуард. Я требовал от него обеспечения всем свободы исследований. Я лишь хотел защитить нас от плохих работ, таких, как доклады Майера, которые вы осудили. Я предложу, чтобы у нас была редколлегия, состоящая из представителей от обоих городов. Напряжение в комнате спало. Большинство не скрывало огорчения, что профессор Фрейд подвергся критике. Но Зигмунд решил довести дело до конца. Он полностью овладел собой, его голос стал спокойным, и в уголках губ появилась слабая улыбка. – Теперь, когда мы перевязали наши раны и устранили взаимные обиды, обратимся к более созидательным идеям. Долгое время я желал освободиться от роли председателя Венского общества психоаналитиков. Я всегда осознавал, что естественным преемником является доктор Альфред Адлер. На следующем нашем заседании в Вене я подам в отставку и предложу вместо меня Адлера. Раздались аплодисменты. Альфред Адлер, не ожидавший такого заявления, был удивлен. – Далее. Думаю, нам очень нужно иметь еще одно издание, в Вене, которое обеспечит дополнительные возможности для публикации наших собственных статей. Я даже придумал название: «Центральный журнал психоанализа». Двумя редакторами стали бы Штекель и Адлер. Вновь раздались аплодисменты. Кто–то воскликнул: – Теперь, профессор, силы сравнялись! При Адлере как председателе нашей группы и ежемесячном журнале столица психоанализа останется в Вене. Зигмунд вернулся к себе в номер, разделся и лег в постель, но, что с ним случалось редко, не мог заснуть до утра. Анализируя самого себя, он признал, что пережил небольшой срыв и впал в истерию. Он считал себя исцелившимся от всех неврозов, но, очевидно, напряжение, давление, нападки, поражения затронули его психику глубже, чем он предполагал. Он поступил опрометчиво, не поговорив заранее с собственной группой. Было бы разумнее, чтобы меморандум представил Адлер. Выбрав Ференци, он не должен был показать свое недовольство венской группой. Но теперь все исправлено; утром родится Международная ассоциация психоаналитиков. Юнга выберут на два года. Риклин будет избран его помощником. Ради этого он приехал в Нюрнберг. Несмотря на его ошибки, положение исправлено и конгресс будет успешным. Он уснул в тот момент, когда первые лучи солнца проникли в окно.Книга пятнадцатая: Армагеддон
1
Международный конгресс психоаналитиков, состоявшийся в марте 1910 года, завершился вопреки всему на приятной ноте. Зигмунд нашел подтверждение в письме Карла Абрахама, который сообщал, что на обратном пути в Берлин немецкая группа обсуждала девять часов интересные доклады и теории, представленные на конгрессе. По словам Абрахама, Берлинское общество психоаналитиков в лице десяти его членов присоединилось к Международной ассоциации. В Вене обнадеживающим моментом для Зигмунда стало присоединение к группе бескорыстного человека – доктора Людвига Ёкельса. Он был родом из Лемберга (Львова), изучал медицину в Венском университете, а до того как присоединиться к Венскому обществу психоаналитиков, семнадцать лет занимался общей практикой. Накопив денег и отказавшись от практики, он решил в возрасте сорока двух лет посвятить все свое время психоанализу. На его голове с запавшими щеками и острым носом сохранился единственный жидкий пучок волос, зачесанный от правого уха к левому. Члены группы оценили редкостные качества Ёкельса: он не выставлял себя на первый план, предпочитал писать, а не говорить и стал известен как «джентльмен старой закалки, для которого термины «достоинство» и «честь» превыше всего». Его жажду знаний невозможно было утолить, и он настаивал на обдумывании каждой психологической проблемы до ее конечного разрешения. Это задерживало публикацию его рукописей, но к моменту их завершения Ёкельс докапывался до истины. Он начал также переводить книги Зигмунда на свой родной польский язык. Зигмунд направил к нему больного для лечения методом психоанализа. Ёкельс справился хорошо. Когда Зигмунд поздравил его с успехом, тот скромно ответил: – Рад, что мог вам помочь. Трения между Зигмундом и Вильгельмом Штекелем продолжались, но на сей раз они возникли не по воле последнего. Когда Зигмунд беседовал с Гуго Хеллером о публикации нового журнала для психоаналитиков, Хеллер твердо ответил: – Профессор Фрейд, если вы будете редактировать журнал, то я охотно его выпущу. Однако я не могу согласиться с Вильгельмом Штекелем как редактором. Мне не нравятся его небрежность и его неумение проводить исследования. Зигмунд помолчал, затем произнес: – Не будем больше говорить об этом. Он просил Штекеля найти нужное издательство. Штекель получил еще два–три отказа, но в конце концов нашел в Висбадене фирму, принявшую заказ. Зигмунд обратился к Альфреду Адлеру как второму редактору журнала с просьбой прочитывать и редактировать каждую статью со свойственной ему придирчивостью. Потребовалось несколько встреч по средам, прежде чем венская группа избрала Альфреда Адлера президентом, а Зигмунда Фрейда – научным председателем. В конце апреля Адлер добился осуществления своего желания: после семи с половиной лет встреч в кабинете Зигмунда Фрейда Венское общество психоаналитиков переехало в помещение коллегии врачей. Туда приглашалась публика. Однако пришлось отказаться от старого правила, что каждый член общества должен участвовать в дискуссии. Отныне там проводилась официальная лекция, давались одно–два замечания, и на этом вечер заканчивался. После каждой лекции вокруг Зигмунда собиралась группа. Входившие в эту группу шли в кафе «Альте Эльстер» или «Ронахер», где усаживались на несколько часов, беседуя не только о психоанализе и прослушанной лекции, но и о новых пьесах и книгах, о политическом положении. Адлер не скрывал своей неприязни к Шандору Ференци и частенько говорил о его неуместном меморандуме, «против которого пришлось защищать венскую школу». С меньшей горечью он добавлял: – Что касается научной стороны дела, то наше удовольствие от совместной работы бесспорно возрастет, как только установится взаимное доверие. И это позволит нам и в будущем пользоваться неоспоримой репутацией венской школы как ведущей научной силы. Зигмунду было приятно услышать такие слова. Фриц Виттельз, умевший попасть в точкуодной–двумя фразами, заметил: – Цюрихцы имеют клиническую подготовку, чтобы стать фрейдистами; они, видимо, любую другую доктрину отстаивали бы с тем же чувством правоты и в том же слезливом тоне. С другой стороны, Венское общество сложилось исторически; каждый из нас страдал неврозом, что необходимо, чтобы понять учение Фрейда; сомнительно, страдали ли этим швейцарцы. Замечание вызвало смех за столом: разве кто–либо слышал о швейцарце с неврозом? Однако Зигмунд знал, что в Бургхёльцли было много больных неврозами, цюрихцы занимались такими случаями. Тревожило то, что состоявшаяся в Гамбурге встреча неврологов обсудила доклады психоаналитиков в Нюрнберге и приняла резолюцию «бойкотировать те санатории, которые применяют методы лечения Фрейда». Это могло вызвать осложнения для Макса Кахане, многие пациенты которого прибыли из Германии. Макс почти не прибегал к психоанализу в своем санатории, однако продолжал уверять Зигмунда, что уходит с каждой встречи в среду с новым осознанием психологии, помогающим ему лечить пациентов. Постановления Венского общества психоаналитиков гласили: «Общество ставит своей целью развивать и продвигать психоаналитическую науку, основанную в Вене профессором Зигмундом Фрейдом». Однако через несколько недель Альфред Адлер представил документ, указывавший на то, что он почти полностью порвал с сексуальной теорией Фрейда. Он предлагал рассматривать сексуальность в сугубо символическом смысле. Адлер говорил примерно следующее: – В нашей культуре у женщин появляется тенденция к неврастении, потому что они завидуют превосходству мужчины в современной культуре… Если бы они захотели стать мужчинами, отказаться от своего пола, то они страдали бы от других невротических симптомов… Зигмунд жаловался Марте, что встречи по средам вызывают у него головную боль, но Адлер часто предлагал разумные, разъясняющие понятия. Так, понятие «слияние влечений» разъясняло сложность либидо – энергии инстинктов. Зигмунд был благодарен Адлеру за это понятие и ввел его в свои работы. Другая концепция Адлера касалась «чувства неполноценности». Она развилась из его оригинальной концепции о недостаточной активности органа, влияющей на формирование характера. Недостаточная активность органа в результате дефекта, слабости, болезни должна быть выправлена, компенсирована, ибо в противном случае возникает эмоциональное расстройство. Зигмунд не мог сразу принять идею Адлера. Он объяснил коллегам: – Я не всегда могу принять на слух новые идеи. Я должен повозиться с ними дни, а иногда недели, прежде чем интегрирую их в свое мышление. Он преуспел и в этом: вскоре термин «комплекс неполноценности» вошел в качестве одного из столпов в теорию психоанализа. Адлер был слишком творческим мыслителем и лидером, чтобы довольствоваться ролью подчиненного Карла Юнга в Цюрихе. Всю свою жизнь он страдал, бунтуя против старшего брата, болезненного и поэтому пользовавшегося особым вниманием матери. Быть вторым было для него подобно анафеме. Он последовательно стремился отмежеваться от фрейдистского анализа, от лежавшего в его основе эдипова комплекса и сексуальной этиологии неврозов, старался заменить их теорией неполноценности органов и реакцией мужского протеста. Зигмунд знал, что в этом нет подвоха или заносчивости: Альфред Адлер был порядочным человеком. Его отношения с больными, семьей, друзьями были вне всяких подозрений. И, тем не менее, каждую среду, когда Адлер читал свой доклад или выступал с критикой кого–либо из коллег, он причинял огорчение Зигмунду, срезая живой слой со ствола фрейдистского психоанализа.2
Зигмунд целиком погрузился в работу. В феврале, перед поездкой на конгресс в Нюрнберг, он согласился принять на лечение богатого молодого русского, с которым занимались Крепелин в Мюнхене и лучшие психиатры Берлина, в конце концов отказавшиеся от него как от неизлечимого. Сергей Петров страдал острыми приступами меланхолии, не мог ухаживать за собой, даже поесть или одеться без чужой помощи. У него были хронические запоры, и дважды в неделю ему ставили клизму. Шесть раз в неделю после утренних сеансов в санатории он посещал Зигмунда и, казалось, охотно укладывался на кушетку для психоанализа, однако в течение всего часа он ничего не рассказывал о своем прошлом и своем детстве. После нескольких месяцев лечения Зигмунд впал в отчаяние, но пути назад не было. Он уже потратил много времени, обучая Сергея процессу психоанализа и объясняя, что может быть заложено в подсознании. По его убеждению, болезнь молодого человека – результат детского невроза и она не имела ничего общего с гонореей, подхваченной им в восемнадцать лет, с которой, по словам родителей, начались его неприятности. Зигмунд решил установить окончательную дату прекращения сеансов, если к этому времени он не сможет помочь Сергею. Сергей сначала не верил ему, но через несколько недель, по мере приближения к последнему сеансу, понял серьезность намерений врача. Через несколько месяцев, прислушиваясь к профессору Фрейду, он осознал, что имеет дело с честным и способным человеком. Опасения по поводу прекращения лечения и привязанность к врачу заставили его раскрыться. Сергей родился в богатом поместье в России, в семействе молодых, влюбленных друг в друга родителей. Однако счастливое детство вскоре было искалечено различными напастями. У его матери заболел желудок, и она перестала уделять внимание сыну. Его отец, поначалу обожавший мальчика, перенес затем свое внимание на старшую дочь, затем у отца начались приступы меланхолии, и он попал в санаторий. Сестра Сергея, старше его на два года, получала удовольствие от того, что пугала его рисунками волка в популярной книжонке. Стоило Сергею увидеть эту картинку, как он начинал вопить, что придет волк и съест его. Первые несколько лет Сергей был спокойным, послушным ребенком. Когда мальчику было четыре с половиной года, его родители летом вернулись в поместье и нашли его сильно изменившимся. Его воспитывала старая добрая няня–крестьянка, но на время своего отсутствия родители отрядили в поместье английскую гувернантку, которая ссорилась с детьми и с няней. Следующие восемь лет Сергей был болен, вел себя плохо, с ним было почти невозможно ладить. Посредством свободной ассоциации Сергей вспомнил об инциденте, случившемся, когда ему было полтора года. Он страдал от лихорадки, и его люльку перенесли в спальню родителей. Поздно после полудня он проснулся и увидел родителей, соединившихся в половом акте сзади. Зигмунд назвал это «первичной сценой»; она не имела значения для Сергея или, во всяком случае, для его психического здоровья. Но в возрасте четырех лет он увидел сон, повторивший этот случай в символических терминах. Ему снилось, что он лежит в кровати и видит перед собой окно, выходящее на старый орешник в саду. – Я знал, что в момент сновидения была зима. Вдруг окно самопроизвольно открылось, и я с ужасом увидел, что на дереве перед окном сидят шесть или семь волков. Волки были совсем белые и походили скорее на лисиц или овчарок, у них были большие лисьи хвосты, а уши стояли торчком, как у сторожевых собак. В страхе, что меня съедят волки, я закричал и проснулся. Сергей добавил описание дерева и белых волков; у старого волка хвост был обрезан. После долгих обсуждений сказок вроде «Красной шапочки и серого волка», с помощью которой сестра терроризировала его, они наконец подошли к выяснению того, почему волки были белыми. Сергей рассказал врачу, что его поразили два элемента в сновидении: абсолютная неподвижность волков и напряженность, с какой они на него смотрели. Сцена казалась Сергею настолько реальной, что, как знал по опыту Зигмунд, содержание сновидения должно было иметь связь с действительным инцидентом, а не с фантазией. Еще до того как ему исполнилось пять лет, сестра научила Сергея некоторым детским сексуальным играм. Когда они ходили вместе в туалет, она говорила: «Покажем низ», и они спускали штаны. Когда они оставались одни, она брала его пенис в руку и играла с ним, объясняя, что его няня делала то же самое с садовником. Чтобы отомстить своей любимой няне, он стал играть со своим пенисом в ее присутствии. Няня закричала: – Не нужно этого делать. Мальчики, которые этим занимаются, теряют свой маленький член, а взамен получают рану. Подсознание Сергея, к этому времени полностью оформившееся, подтолкнуло его к неистовству против себя и окружающего мира, – Таившееся в нем чувство обиды неохотно раскрывалось за прошедшие месяцы, потому что он был пассивным членом в сексуальных отношениях с сестрой и позволил ей играть мужскую, или агрессивную, роль. Когда ему исполнилось пять лет – в этом возрасте его психика должна была подпасть под контроль нормального интереса к генитальной зоне, – он пережил возврат к анальной стадии, сопровождавшейся садизмом; он хотел подвергаться избиению и действительно вынуждал своего больного отца стегать его якобы за проступки. В течение второго года лечения сложилась во всех деталях картина невроза Сергея и произошел возврат памяти к старому волку с обрезанным хвостом, здесь снова выплыла сцена, увиденная Сергеем в спальне родителей. Отец был всегда образцом для него; он хотел во всем походить на отца и вырасти таким, как он. Сцена в спальне родителей повернула его сексуальность к отцу. Это вновь отбросило его рассудок к пассивной роли в сексуальной жизни, вызвав еще одну травму в его психике: он полагал, что его мужские гениталии исчезнут и на их месте появится «рана», то есть женские гениталии. Сергей пробился сквозь внешнюю картину сновидения о волке и наконец дошел до скрытого элемента: во сне он вдруг открыл глаза и увидел волков, неподвижно сидящих за окном. Месяцы напряженных поисков дали ему ключ, почему волки были белыми: его родители были в белых рубахах во время увиденной им сцены. Но почему белые волки были неподвижными на дереве, тогда как его родители вели себя совсем по–другому в постели? Зигмунд объяснил, что сработал механизм защиты: Сергей превратил возбужденное движение родителей, противное и неприятное ему, в неподвижность волков, сидящих на дереве. В течение ряда лет он страдал депрессией, усиливавшейся во второй половине дня. Сергей смог назвать обычное время послеобеденного отдыха в их поместье в России в жаркий летний день – оно заканчивалось около пяти часов. Пик его депрессии наступал, когда его подсознание возбуждало эмоции, посеянные в уме полуторагодовалого ребенка сценой в спальне родителей. Зигмунд получил примечательное свидетельство того, что болезнь пациента возникла по причине увиденного им случайно необычного сексуального акта. К концу второго года пролился свет на причину другого навязчивого невроза Сергея. Достигнув половой зрелости, он был в состоянии полюбить какую–либо женщину, если видел ее стоящей на четвереньках. Заметив служанку, мывшую полы либо в поместье, либо в его собственном доме, он чувствовал возбуждение, с которым не мог совладать. Он влюблялся в нескольких девушек, увидев их в такой позе, и в такой же позе имел с ними половое сношение. Он пробовал нормальное положение, но это давало мало удовлетворения, и он отказался от него. Он не знал, почему его мучает такая одержимость; теперь он сам осознал мотивы и выложил их врачу. В заметках, написанных в ходе лечения Сергея Петрова, Зигмунд говорил о нем как о «человеке, одержимом волком». Он намеревался описать и опубликовать этот случай навязчивого невроза. Нужно было доказать ошибку врачей–психологов, утверждавших, будто все неврозы появляются в результате конфликта между взрослыми. Ценность дела «человека, одержимого волком» заключалась в том, что после года интенсивной работы Сергей сумел сделать много собственных выводов, освободивших его от навязчивого невроза. После того как Зигмунд сказал Марте о своем удовлетворении исходом дела, она спросила: – Что случилось бы, если бы ты сумел убедить Сергея Петрова возвратиться в Мюнхен и предстать перед Крепелином излечившимся от меланхолии и фобии, которые тот объявил неизлечимыми? Признал ли бы он действенность твоей науки? Зигмунд засмеялся и, обняв жену, шутливо сказал: – Фантазия! Пусть я буду тем, кого обвиняют в выдумках и кто ловко их навязывает беззащитным пациентам!3
Богатый источник сведений о подсознании содержится в книге «Воспоминания нервного пациента» Даниеля Поля Шребера, в прошлом судьи апелляционного суда в Германии. В октябре 1884 года, когда Шребер председательствовал в нижнем суде, у него произошел нервный срыв, главным симптомом которого стала ипохондрия. Опытная медицинская помощь, оказанная доктором Флешингом из Лейпцигской психиатрической клиники, где Шребер провел шесть месяцев, казалось, обеспечила его полное излечение. Признательность семьи Шребер доктору Флешингу была так вели–ка, что фрау Шребер повесила фотографию доктора в своей спальне. Второй приступ произошел, когда Шребер был повышен в должности и переведен в высший суд, а фрау Шребер находилась четыре дня в отъезде. В это время Шребер пережил полосу фантазий, сопровождавшихся семяизвержениями каждую ночь. Его изнуряли сновидения о возобновлении нервного срыва; на рассвете, когда он еще спал, ему пришла в голову мысль; «В конце концов, наверное, приятно быть женщиной, совершающей совокупление». Его направили в Лейпцигскую психиатрическую клинику, где его нервный криз стал настолько явным, что его перевели в приют Зонненштейна. Его мучила навязчивая мысль: он болен чумой, с его телом отвратительно обращаются, он мертв, и его тело разлагается. Он пытался утопиться в ванне и просил служителей дать «цианистый калий, ему предназначенный». Желание смерти сменилось «иллюзией», будто он стал искупителем, а Бог – его естественным союзником. Его новый религиозный орден создаст государство всеобщего благоденствия, в котором Божьи лучи проникнут в каждого достойного и позволят испытать духовное наслаждение. Однако Шребер не мог искупить мир или возвысить его до состояния блаженства, пока его, Шребера, не «превратят из мужчины в женщину». Он не желал превращения в женщину, но оно составляло обязательную часть того, что он называл божественным порядком; он должен пережить перевоплощение, дабы спасти мир. Ипохондрия вернулась к нему с наслоением иллюзий: он живет без легких, внутренностей, желудка и мочевого пузыря; вместе с пищей он заглатывает часть своего горла. Однако Бог направил божественное чудо в виде лучей, которые исцелят его и ускорят его превращение в женщину. Поскольку Бог наделил его набором женских «нервов», из его тела выйдет новая и славная раса людей, несущая в себе божественность. Все узнанное Шребером сообщили ему голоса «говорящих птиц». Пробыв восемь с половиной лет в приюте, судья Шребер обратился к государству с просьбой выпустить его. Получив свободу, он опубликовал книгу. В ней было много нападок на доктора Флешинга с описанием страшных вещей, которыми тот занимался, будучи его врачом. Книга попала в руки Зигмунду в августе 1910 года, во время отдыха с семьей на морском побережье в Голландии. С жадным интересом он дважды перечитал ее. Возвратясь в Вену, Зигмунд попросил Отто Ранка отыскать в каталоге психиатрических и неврологических журналов ряд обзоров и дискуссий, касавшихся книги. Книгу рассматривали как классический случай паранойи на почве религиозной одержимости, ведь Шребер прошел через стадию роли Иисуса Христа, прежде чем перейти к роли Богоматери. Психиатры Европы решили, что ядро паранойи Шребера составляли религиозные фантазии. Заявление, что для свершения своей миссии он должен перевоплотиться в женщину, было обойдено как маловажный симптом болезни, потому что психиатры поверили заявлению Шребера, что он хочет остаться мужчиной и лишь неохотно становится женщиной, чтобы произвести на свет новую расу людей. Прочитав первые обзоры, Зигмунд воскликнул: – Они ставят телегу впереди лошади! Религиозная система, которую он построил, порождена подавленной гомосексуальностью. В этом связь между его желанием превратиться в женщину и его интимными отношениями с Господом Богом. Если мы не станем отталкиваться от подавленной гомосексуальности Шребера, мы окажемся в положении человека, «держащего решето под козлом, когда кто–то другой доит его», описанного Кантом в его «Критике чистого разума». Безумный Шребер блестяще раскрыл в печатной форме почти полное содержание своего подсознания. Зигмунд увидел возможность довести до широкой аудитории метод психоанализа. Он опубликует анализ болезни Шребера сначала в ежегоднике, а позже в виде отдельной книги. Согласно Шреберу, доктор Флешинг был его изначальным «душеубийцей», главой ритуального заговора с целью уничтожить его. Однако в течение восьми лет после выписки из Лейпцигской психиатрической клиники он любил и уважал доктора Флешинга и, ложась в постель, смотрел на его портрет! Шребер не описал в книге фантазии, вызывавшие у него семяизвержение во время четырехдневного отсутствия его жены, но сновидения имели связь с болезнью в прошлом и с лечением у доктора Флешинга. Подсознательная гомосексуальность Шребера нашла естественную цель в человеке, которого он любил и уважал. Поскольку эти желания были глубоко запрятаны, он между приступами жил спокойно с женой восемь лет. Затем чувство любви переросло в ненависть. Теперь он мог думать с ненавистью о докторе Флешинге и говорил о нем в таком духе большую часть дня, слышал голоса не только птиц, но и различных людей в облике Флешинга, даже написал книгу, в которой Флешинг стал главным разрушающим душу злодеем. В книге Шребера преследовал неизменно присутствующий страх сексуального нападения со стороны доктора Флешинга; даже находясь в больнице в Лейпциге, он опасался, что его «бросят служителям с целью сексуального насилия». Подсознательные гомосексуальные фантазии Шребера были столь сильны, что позволили ему выдумать особую религию. Зигмунд не мог выяснить, почему Шребер был счастлив в браке добрых восемь лет, а затем заболел как раз в тот момент, когда отсутствовала его жена; что стало причиной: напряжение, вызванное повышением в должности, или отъезд жены? Возраст Шребера мог иметь к этому прямое отношение, ибо ему было пятьдесят три года, а в этом возрасте у мужчин начинается климакс. К этому моменту накапливается большая эротическая энергия, которая должна найти выход. Это проявилось сначала в том, что Шребер назвал ночным семяизвержением, затем в форме защиты от гомосексуализма и в конечном счете в решительном подавлении реальности, которую он не принимал. Все это вызвало срыв: его отказ принять жену, когда она возвратилась после четырехдневного отсутствия, возобновление его ипохондрии, фантазии и одержимость, которые вскоре привели его в приют. Возникла мания преследования, свойственная этой форме паранойи. Зигмунд не задавался вопросами, которые могли поставить в тупик психиатров: как могло случиться, что книга ходила по рукам в течение семи лет и никто так и не понял, что причиной паранойи Шребера была подавленная гомосексуальность, что «невроз возникает в основном из конфликта между «я» и сексуальным инстинктом»? Психиатрия отказалась признать сексуальный инстинкт человека основным, она отказалась признать существование подсознания. Что же она скажет теперь, перед лицом бесспорных фактов? Он написал монографию объемом в шестьдесят страниц и был очень доволен. Он обещал Отто Ранку, что, когда тот закончит университет, сможет открыть свой кабинет психоаналитика, но сам Зигмунд не одобрял эту идею. Он все еще надеялся, что психоанализ будет рассматриваться как часть медицинской науки, а подключение к профессии человека со стороны могло бы нанести ущерб такому представлению. Ганс Закс помог изменить такое мнение. Закс происходил из семьи преуспевающих образованных юристов. Он также получил степень юриста и вместе с братом занялся адвокатской практикой. Однако он проявлял больше интереса к литературе, чем к праву, писал стихи и переводил на немецкий «Казарменные баллады» Киплинга. В 1904 году он прочитал «Толкование сновидений», и это изменило его жизнь. Два года он изучал книги Фрейда, а затем посетил вместе с двоюродным братом одну из субботних лекций Зигмунда в университете. Он был слишком скромным и не представился профессору Фрейду; потребовалось еще четыре года, чтобы Закс набрался смелости и обратился с просьбой принять его в Венское общество психоаналитиков. Он сразу же понравился Зигмунду и был хорошо принят членами общества, завязал особую дружбу с Отто Ранком и Эрнестом Джонсом, часто бывавшими в Вене. Закс был образцом светского венца: благородные манеры, широкая литературная и художественная подготовка, неистощимое чувство юмора. Среднего роста, склонный к полноте, с круглыми щеками и двойным подбородком, он не пользовался успехом у женщин. Участники заседаний по средам встречали его с удовольствием благодаря его остроумию, знаниям и скромности. Когда Зигмунд спросил его относительно юридической практики, Закс ответил: – Какой из меня юрист? Меня нужно вечно подталкивать. Однако, несмотря на модную одежду, склонность к мимолетным любовным интрижкам, ранний брак, длившийся всего несколько лет, эпикурейские вкусы, жизнь в театре, опере, постоянные поездки, его рукописи были настолько глубокими, что спустя несколько месяцев после присоединения к обществу ему было предложено подготовить доклад к очередному конгрессу, который намечалось провести в Веймаре в сентябре 1911 года.4
Не Карл Юнг побудил Ойгена Блейлера выйти из Швейцарского общества психоаналитиков. Блейлер вышел по своей воле. Это было тяжелым ударом для Зигмунда, ведь он рассчитывал, что Блейлер станет президентом этого общества. Одной из причин расхождений стала отмена доклада доктора Макса Иссерлина. Для Зигмунда и венской группы эта отмена представлялась всего–навсего актом нейтрализации противника, но Блейлер тяжело воспринял отмену. Зигмунд написал пространное объяснительное письмо. Ответы Блейлера были дружественными, но, когда Зигмунд обнаружил, что обмен письмами не удержит Блейлера в швейцарской группе, он попросил личной встречи, надеясь уладить разногласия. Блейлер согласился. Они собирались встретиться в Мюнхене, имевшем прямое железнодорожное сообщение с Веной и Цюрихом. В качестве даты были выбраны свободные дни Рождества. Встретившись в Байеришерхофе, они с удовольствием пожали друг другу руки. Между ними сохранилось теплое чувство. Они сняли номер на верхнем этаже, чтобы иметь тихое место для беседы. После обычного обмена приветствиями, вопросов о здоровье членов семьи они углубились в предмет спора. – Профессор Блейлер, позвольте мне разъяснить вам то, что я пытался сделать в письмах: наше общество не отвергает спорных мнений. Оно было образовано по двум важным мотивам: во–первых, для ознакомления публики с подлинным психоанализом; во–вторых, из–за злостных вымыслов, изливавшихся на нас. Вы присутствовали, когда ваш коллега Хохе назвал меня сумасшедшим отщепенцем, и вы знаете, что Циен заявил, что я пишу глупости. Поскольку мы должны быть готовыми к ответу нашим оппонентам, то было бы неправильным отдавать право ответа на усмотрение одного индивидуума. В интересах нашего дела отсылать полемику центральному органу. – Не боитесь ли вы, профессор Фрейд, впасть в ортодоксию? – Почему вы так думаете? Мы не жесткие люди. Наши умы открыты для всех гипотез. – Потому что принципы «кто не с нами, тот против нас», «все или ничего» необходимы религиозным сектам и политическим партиям. Я могу понять такую политику, но считаю ее вредной для науки. Абсолютной истины не существует. Из комплекса понятий один может выбрать одну деталь, другой – другую. Я не признаю в науке ни открытых, ни закрытых дверей, там нет ни дверей, ни барьеров. – Несомненно, профессор Блейлер. Но нельзя порицать Международную ассоциацию психоаналитиков за то, что она принимает в члены лишь тех, кто согласен с концепцией психоанализа. Однако ассоциация не позволяет себе объявлять не входящих в нее гангстерами и идиотами. Ассоциация не является замкнутым образованием в том смысле, что она не запрещает своим Членам входить в другие гуманитарные и социальные общества, даже в Германскую ассоциацию специалистов по нервным болезням, которая всячески третирует нас в Берлине! Юнг и я, мы принадлежим к этой ассоциации. Блейлер встал и спокойно спросил: – Может быть, прогуляемся по главной улице к ратуше? Люди как раз возвращаются из церквей к рождественскому обеду. Окна лавок были увешаны праздничными украшениями. Мюнхенцы, укутанные из–за сильного холода, гуляли вместе с детьми, которые оживленно щебетали о рождественских подарках, полученных в это утро. Блейлер спокойно выразил свое несогласие: – Чем выше ценят значение дела, тем легче переносят неприятности. По собственному опыту, а также по опыту других я знаю, что лишь нанесу ущерб делу и не принесу пользы, если поступлю вопреки своим чувствам. Между нами существуют разногласия. Для вас, очевидно, стало целью и смыслом жизни утвердить вашу теорию и добиться ее признания. Я отказываюсь верить, что психоанализ – единственно правильное учение. Я стою за него, потому что считаю его здравым и чувствую, что в состоянии судить, поскольку работаю в смежной области. Но для меня не имеет решающего значения вопрос, будет ли разумность этих взглядов признана годом раньше или годом позже. Поэтому у меня меньше, чем у вас, соблазна жертвовать собой ради продвижения дела. Зигмунд долго молчал. Затем он сказал рассудительно: – Мы назначили Адлера президентом венской группы, хотя в области психологии он мой противник, и он злит меня каждую неделю. Однако я не требую его исключения. Я считаю, что должен придерживаться взглядов, сложившихся у меня за пятнадцать лет. Не нужно путать последовательность с нетерпимостью. Он помолчал минуту, а затем, глубоко вздохнув, сказал: – Вы обвиняете нас в изоляционизме; между тем нет подобной группы, которая менее всего хотела бы быть изолированной. Мы желаем, чтобы наше движение стало во всех отношениях мировым. Нас грубо оттолкнули психологи и неврологи. Именно поэтому мы должны держаться вместе как группа единомышленников, объединенная собственной внутренней силой. Мое самое сильное желание, чтобы вы были связующим звеном между теоретическим психоанализом и академической психиатрией. – Я понимаю ваше желание иметь такую связь, – сказал Блейлер. – Я также искренне убежден, что вы, профессор Фрейд, переоцениваете мое влияние. Поговорим, однако, как нам отделаться от некоторого привкуса нетерпимости, который я начинаю ощущать? – Профессор Блейлер, хотел бы сделать вам конкретное предложение. Скажите, пожалуйста, какие изменения вы считаете нужными в ассоциации, чтобы она стала приемлемой для вас, и какие коррективы нашей политики по отношению к нашим оппонентам вы считаете правильными? Я лично отнесусь с самым большим вниманием к вашим пожеланиям и идеям и, таким образом, помогу вам их осуществить. Блейлер улыбнулся, взял Зигмунда за руку, и некоторое время они шли молча по хрустящему снегу. – Психоанализ как наука докажет свою ценность со мной или без меня, потому что он содержит много правдивого и потому что его разрабатывают такие люди, как вы и Юнг. Политика «закрытых дверей» отпугнула многих друзей и сделала некоторых из них эмоциональными оппонентами. – Он посмотрел на Зигмунда долгим взглядом и продолжал: – Неважно, сколь велики ваши научные достижения, психологически вы производите на меня впечатление художника. Даже с этой точки зрения понятно, что вы не хотите, чтобы ваше творение было уничтожено. В искусстве есть единство, которое не может быть нарушено. В науке вы сделали большое открытие, которое сохранится. Неважно, что слабое отпадет. Но я позволю себе лишь одно предсказание: вы скоро увидите, что я ближе к вам, чем номер два в вашем руководстве – Карл Юнг. Рубеж нового года сопряжен с импульсом, заставляющим людей, давно задумавших принять какие–то решения, наконец осуществить их. Это было справедливо и в отношении доктора Альфреда Адлера, когда наступил 1911 год. То, что раньше было медленным, постепенным отходом от теории Фрейда о сексуальной этиологии неврозов, переросло в отрицание в том смысле, что теория Адлера и теории Фрейда стали взаимоисключающими. Зигмунд и группа, встречавшаяся по средам, решили, что Адлер должен изложить полностью, в чем заключается его позиция. Они предложили ему в течение трех сред подряд начиная с середины января выступить с серией лекций, а обсуждение провести после завершения последней, третьей лекции. В зал не будут допускаться посетители. Адлер был доволен предложением и пожал руку Зигмунда с большей теплотой, чем за все время после дискуссии в Нюрнберге. Его красивый, мелодичный голос, каким он начал читать первую лекцию, завладел вниманием коллег. Своей отправной точкой он выбрал либидо, которое Зигмунд определил как энергию, связанную с сексом. Адлер предпочитал рассматривать либидо как чисто психическую энергию, не обязательно связанную с инстинктом. – Мы спрашиваем себя, следует ли то, что невротик демонстрирует как либидо, принимать за чистую монету. Мы сказали бы «нет». Сексуальное проявление страдающего неврозом – вынужденное. Его влечение к рукоблудию служит вызовом и защитой против демонической женщины… его извращенная фантазия, даже его активные извращения помогают ему держаться дальше от естественной любви. Каким же образом в таком случае сексуальность вмешивается в невроз и какую роль она в нем играет? Когда существуют недостаточность и сильный мужской протест, она пробуждается преждевременно и обостряется… Вокруг ключевых слов «недостаточность» и «мужской протест» Адлер строил свою новую психологию. Его вторая лекция углубляла его исходный тезис: – Органическое подавление представляется в таком случае не чем иным, как выходом при крайней необходимости, показывающим, что возможны изменения в способах действия. Это едва ли имеет какое–либо отношение к теории неврозов. Подавленные побуждения, подавленные комплексы, подавленные фантазии, подавленные события из жизни и подавленные желания рассматриваются как естественные… Фрейд говорит: «Человек не может отказаться от удовольствия, которое он когда–либо испытал». Хотя открытие представляло важный шаг вперед, оно было сопряжено со склонностью конкретизировать и замораживать психику, которая на деле постоянно работает в ожидании грядущих событий. Адлер закончил, Зигмунд и его друзья, делавшие заметки, сложили записные книжки и один за другим покинули зал, даже не пожелав друг другу доброй ночи. Придя на третью лекцию, Адлер, казалось, сиял от удовольствия. Он поднялся на подиум беспечной походкой, с довольным лицом. Он хотел раз и навсегда разъяснить, что не считает энергию либидо сексуальной по происхождению и не принимает детскую сексуальность, не согласен с тем, что существует подсознание, в котором хранится подавленное, не говоря уже об эдиповом комплексе. – По нашему мнению, постоянным фактором выступают культура, общество и его институты. Наши побуждения, удовлетворение которых являлось якобы конечной целью, действуют лишь в роли средств, указывающих на удовлетворение в отдаленном будущем. Здесь возросшее напряжение так же необходимо, как и подавление. Отсюда нужна и система защиты, определенную часть которой образуют неврозы. Побуждение–удовлетворение и, следовательно, качество и сила побуждения меняются и поэтому не поддаются измерению. В рассуждениях о сексуальности и неврозах я пришел к заключению, что внешне проявляющиеся чувственные и сексуальные тенденции у невротиков, как и у нормальных индивидов, никоим образом не позволяют сделать заключения относительно силы и составных частей полового влечения. Как только в эдиповом комплексе проявляется мужской протест, пропадают основания говорить о комплексе фантазий и желаний. Остается лишь понять, что эдипов комплекс – всего–навсего малая часть избыточной невротической движущей силы, стадия мужского протеста, которая сама по себе не имеет значения, хотя и поучительна. Зигмунд Фрейд почувствовал озноб. Закончив речь, Адлер сел на место, уверенный в неоспоримости своих тезисов. По выражению его лица Зигмунд догадывался, что он ждет поздравлений и аплодисментов. Перед глазами Зигмунда возникла картина: восемь лет назад он подарил Адлеру складной перочинный нож, инкрустированный слоновой костью. Адлер ломал одно лезвие за другим, заменяя их новыми. Затем наступила очередь и самой инкрустированной ручки, пружин и тому подобного – в итоге все было заменено. И теперь Адлер пытается убедить, будто он был безмерно бережлив и внимателен к подарку. – Посмотри, у меня тот самый нож, что я получил восемь лет назад. Лезвия остры как бритва. «Нет, – сказал мрачно про себя Зигмунд, – это не тот нож, что я подарил. Это совершенно иной нож. Такого я ему не давал, он сам смонтировал его часть за частью и пусть держится за него!» Он никогда не позволял себе раздражаться, даже если коллеги вели себя на встречах вызывающе, бестолково и безответственно. Но он решил, что только страстная речь, опирающаяся на логику, может расчистить авгиевы конюшни поверхностной психологии Адлера. Используя право выступить первым, он встал и высказал мысль, что в докладе Адлера много неясного. Далее он сказал: – Лично я плохо понимаю автора, когда он говорит о вещах, связанных с принятыми понятиями, и не приводит выдуманные им термины в соответствие со старыми. Так, складывается впечатление, будто в мужском протесте существует подавление, и неясно, что с чем совпадает или же речь идет об одном и том же феномене, но рассматриваемом под разными углами. Даже наша старая идея бисексуальности названа психическим гермафродитизмом, словно в этом термине есть что–то новое. Автор также отказался от подсознания, выступил в защиту бесполого детства и принизил значение симптомов при неврозах. Такое направление несостоятельно и обрекает работу на бесплодие. Адлер выкрикнул: – Мужской протест указывает на то, что мужчина никогда полностью не избавляется от сомнения, возникшего еще в детстве, действительно ли он мужчина. Он стремится к идеальным мужским качествам, неизменно понимаемым как обладание свободой, любовью, властью… завоевание женщин или друзей, превосходство или преобладание над другими. Зигмунд быстро ответил: – Вся доктрина реакционна и ретроградна. По большей части она относится к биологии, а не к психологии подсознания и затрагивает лишь внешние проявления. Сторонники Фрейда углубились в свои записи. Они поочередно брали слово, оспаривая концепцию Адлера, что подсознания не существует, что дети асексуальны, что теория подавления ошибочна, что сексуальное влечение не имеет первостепенного значения. Атака была такой сильной, что Вильгельм Штекель вскочил и закричал: – Эта группа подготовила свое наступление на теорию психологии доктора Адлера! Зигмунд опроверг это утверждение. Лицо Адлера вытянулось и приобрело сероватый оттенок. – Я прошу вас, доктор Адлер, поверьте моему слову, ничего заранее против вас не организовывалось. Я не обсуждал ваши лекции ни с кем из коллег. Каждый делал заметки самостоятельно, и поэтому вы видите перед нами листки бумаги. Это и есть правильная процедура, позволяющая в споре с вашими тезисами цитировать точно. Адлер ответил хриплым голосом: – Это не мое обвинение. Я никогда не приписывал вам личных мотивов. Но вы неправильно понимаете мои мотивы. Вы считаете, что я пытаюсь заменить психоанализ Фрейда психоанализом Адлера. Такого намерения у меня нет. Я пытался добиться синтеза, взяв лучшее из наших теорий. Очевидно, я не сумел этого сделать. – Доктор Адлер, вы биолог, отсюда ваш упор на влияние недостаточности функций органов. Вы социолог, поэтому другая половина вашей теории основана на размышлениях о влиянии общества, в котором вырастает человек, на формирование его характера. Там и здесь есть элементы истины, но это еще отнюдь не рабочая гипотеза, на которую следует опираться в психоанализе. Адлер встал, собрал бумаги и холодно сказал: – Позвольте мне не согласиться. – Затем, окинув взглядом комнату, добавил: – Я уверен, вы понимаете, что для меня здесь нет больше места. Я ухожу с поста президента Венского общества психоаналитиков. Я также оставляю пост редактора журнала. До свиданья, господа. Он направился к двери. Группа его друзей и коллег, которых он вовлек в организацию, встали, чтобы уйти вместе с ним. Вильгельм Штекель также встал с недовольным выражением на лице и примкнул к группе Адлера. Зигмунд быстро подошел к Адлеру и спросил его, не может ли он поговорить с ним с глазу на глаз. Адлер остановился, его лицо было застывшим, неподвижным. Остальные, как сторонники Адлера, так и сторонники Фрейда, вышли из зала. Несмотря на неприятности, которые многие годы доставлял ему Адлер, Зигмунд сказал с тоской: – Это печальный момент в моей жизни. Впервые за девять лет существования нашей группы я потерял ученика. Адлер твердо ответил: – Я не ваш ученик и никогда им не был. – Принимаю эту поправку. Плохо, когда теряешь старого коллегу. Но на деле вы отошли от нас еще раньше. Адлер снял пенсне. Его глаза увлажнились. Он сказал, не глядя на Зигмунда: – Разрыв – дело ваших рук. – Каким же образом, доктор? – Совершив то же самое научное преступление, которое вы, как я слышал, приписывали Шарко и Бернгейму вы заморозили собственное развитие! Зигмунд был глубоко шокирован. Обвинение тронуло его больше, чем что–либо иное, исходившее от его врагов. Его голос охрип, словно вновь воспалилась гортань: – Напротив, доктор, когда я делаю ошибки, я их признаю и продолжаю исследование. Я с гордостью включил в теорию психоанализа идеи, выдвинутые вами. Каковы же действительные причины вашего ухода из Венского общества психоаналитиков? Мучительное страдание отразилось на гордом, выразительном лице Адлера, и он сказал: – Почему я должен выполнять мою работу под вашей сенью?5
Мартин Фрейд сломал бедро, катаясь на горных лыжах, и должен был лечь в санаторий. Психоанализ также бросало вверх и вниз по метафорическим горкам, что, понятно, увеличивало спортивный интерес, но не обходилось без шишек и синяков. Один австрийский невролог был уволен с работы за то, что практиковал фрейдистский психоанализ. Шведский психиатр доктор Поул Бъерре выступил с докладом о методах Фрейда перед Ассоциацией шведских врачей. Он прибыл в Вену сообщить Зигмунду, что в Швеции дела идут хорошо. В образованном в Берлине Обществе психоаналитиков Абрахам сталкивался с трудностями; он не мог привлечь других врачей к практике психоанализа. Лишь Вильгельм Флис установил связь с Абрахамом, интересуясь, могут ли они стать друзьями. Шандор Ференци натолкнулся на некоторые препятствия в Будапеште, где сначала венгры беззлобно отнеслись к психоанализу, а затем среди врачей, осознавших последствия психоанализа, начала складываться оппозиция. В Нью–Йорке А. –А. Брилл основал Общество психоаналитиков, и вскоре после этого Эрнест Джонс, получивший отпуск в Торонто, выехал в Балтимору и учредил там Ассоциацию психоаналитиков. Зигмунда посетил Сазерлэнд из Индии, переводивший «Толкование сновидений». В дом на Берг–гассе приезжали два голландца: Ян ван Эмден, пожелавший учиться у Зигмунда, и Аугуст Штерке, который сообщил, что с 1905 года практикует психоанализ в Голландии. М. Д. Эдер прочитал впервые отчет о психоанализе перед неврологическим отделением Британской медицинской ассоциации. Эрнест Джонс решил вернуться в Лондон, чтобы не только начать там свою практику, но и образовать Общество психоаналитиков. Пришли сведения и из России. Из Одессы приехал доктор Л. Дрознец, информировавший о начале работы Русского психоаналитического общества. Доктор М. Е. Осипов с группой друзей переводил книги Фрейда на русский язык; Московская академия предложила награду за лучший очерк по психоанализу; один врач объявил в Санкт–Петербурге, что его кабинет открыт для пациентов, желающих воспользоваться психотерапией. Когда доктор М. Вульф был уволен с работы в Берлине за то, что поверил во взгляды Фрейда, он переехал в Одессу и продолжил свое обучение через переписку с Зигмундом и Ференци. Доктор Дж. Модена из Асконы перевел «Три очерка к введению в теорию сексуальности» на итальянский. Однако во Франции мало что делалось, быть может, потому, что доктор Пьер Жане, унаследовавший от Шарко звание крупнейшего невролога, утверждал, будто он первым изобрел психоанализ, ибо использовал до Фрейда слово «подсознание», пусть в другом контексте, а затем, выдвинув свой приоритет, объявил медицинскому миру, что отвергает свое открытие! Однако независимый невролог по имени Р. Моришан–Бошан написал из Пуатье, сожалея, что пренебрегают работой Фрейда, и обещая больше успехов в будущем. В Австралии углубленным изучением фрейдистской психологии занялась группа сиднейских врачей под руководством Дональда Фрезера, врача и священника пресвитерианской церкви. Несмотря на то, что доктор Эндрю Дэвидсон, секретарь отделения психологической медицины, пригласил Зигмунда в Сидней для выступления перед Австралийским медицинским конгрессом, доктору Фрезеру пришлось уйти из своей церкви на том основании, что он выступил в защиту книг Фрейда; такая же судьба могла постигнуть преподобного Оскара Пфистера в Цюрихе, где добивались его отречения. Более серьезные нападки обрушились на доктора Мортона Принса: полиция в Бостоне грозила ему судебным преследованием за публикацию «непристойностей» в «Журнале аномальной психологии». В Канаде был закрыт «Приютский бюллетень» под тем предлогом, что Эрнест Джонс написал для него статью о психоанализе. Зигмунд чувствовал, что ум и сердце подобны полю битвы, на котором умножались его победы, но оно было сплошь усеяно жертвами. С каждой зимой здоровье тетушки Минны становилось хуже, хотя Зигмунду так и не удалось установить характернедомогания. Он старался каждый год брать ее на отдых, иногда с Мартой и детьми в Голландию, когда была хорошая погода, или в короткие поездки по Италии. Гражданская жена Эрнеста Джонса – Лоу – заболела психически и пристрастилась к морфию. Зигмунд согласился взять ее под свой контроль. Джонс привез ее в Вену, где Зигмунд с помощью психоанализа медленно сократил потребление морфия наполовину, а затем до четверти. У близких к Фрейду нарождалось новое поколение: у Александра был сын, у Карла Абрахама – дочь, у Бинсвангера также появилось потомство, чета Юнг вывезла своего сына в Кюснах. Доктор Хонеггер покончил с собой, и никто в Цюрихе не знал почему. Мать Марты умерла в возрасте восьмидесяти лет от рака. Марта и тетушка Минна ездили на похороны. Здоровье Зигмунда пошатнулось: в сырой зимний вечер он простудился на прогулке. Марта уложила его на несколько дней в постель, потчевала горячими напитками и в конце концов поставила на ноги. Однако после этого наступило некоторое ослабление способности к размышлению, каждый день завершался головными болями. Он думал, что с ним что–то серьезное, пока не обнаружил утечку газа в лампе, медленно отравлявшего воздух в кабинете. – Мне везет, – заметил он Марте, – старый часовщик внизу подорвался из–за утечки газа. Я же потерял месяц работы над рукописями. В какой–то момент я думал, что моя творческая энергия пошла на спад. У Зигмунда было в свое время предчувствие, что он умрет в возрасте сорока одного – сорока двух лет. Он часто писал своим друзьям, что стареет и скоро ему потребуется замена. Но когда доктор Джеймс Патнэм, отозвавшись благоприятно о лекциях Зигмунда в Университете Кларка в «Журнале аномальной психологии», включил в текст замечание, что доктор Фрейд уже не молод, радость Зигмунда по поводу публикации была омрачена. Представление о том, что он умрет в возрасте сорока одного года, сменилось новой фантазией: теперь ему казалось, что это случится на пятьдесят первом году, то есть при сложении суммы циклов Вильгельма Флиса в двадцать восемь и двадцать три года. Когда же он перешагнул и этот рубеж, то решил, что шестьдесят один год – более логичная дата смерти, а потом заметил, к своему удовольствию, что он систематически добавляет себе по десятку лет жизни! Зигмунд и связанная с ним группа, насчитывавшая двадцать человек, принялись за дело. В нее входили четыре человека, не являвшиеся профессиональными врачами: Макс Граф, Гуго Хеллер, Отто Ранк и Ганс Закс, но никто из них еще не применял психоанализ на практике и не лечил пациентов. Глядя на своих лояльных последователей, Зигмунд восхищался их молодостью: Отто Ранку – всего двадцать восемь, Фрицу Виттельзу – тридцать два, Виктору Тауску – тридцать три, Гвидо Брехеру – тридцать пять. Большинству остальных было едва за сорок: Эдуарду Хичману и Иосифу Фридъюнгу – по сорок одному, Полю Федерну – сорок два, Задгеру и Ёкельсу – сорок четыре, Рейтлеру и Штейнеру – сорок семь… Учитывая их возраст, Зигмунд в свои пятьдесят пять лет думал о себе как о старике и вместе с тем радовался, что есть молодое поколение, которое продолжит его дело. Ныне, когда разброд в их рядах был преодолен, каждый углубился в исследования и приступил к написанию работ, многие из которых предназначались для предстоящего Международного конгресса в Веймаре. Продуктивность была высокой, хотя лишь часть работ относилась непосредственно к медицине. Было решено учредить психоаналитический журнал под названием «Имаго», редакторами которого были назначены Отто Ранк и его близкий друг Ганс Закс. В нем печатались статьи, посвященные проблемам антропологии, политической экономии, искусства, литературы. Зигмунд столкнулся с трудностями в подыскании издателя, ибо никто не верил, что сможет продать достаточно экземпляров, чтобы покрыть расходы по печатанию. Наконец Гуго Хеллер взял дело на себя, руководствуясь больше чувством верности обществу, чем желанием подзаработать. Он сказал Зигмунду: – В любом случае у меня есть книжная лавка, и я могу выставить «Имаго» в витрине и на прилавках. Таким образом мы продадим несколько экземпляров. Семья провела лето в Тироле, где Зигмунд приступил к написанию четырех больших работ, которые он собирался опубликовать по частям в журнале, а затем в виде отдельной книги. В августе он писал Ференци, что «полностью отгородился от света», настолько глубоко он погрузился в увлекательный материал. 14 сентября 1911 года Марта и Зигмунд отметили серебряную свадьбу. Дата выпала на четверг, и было решено устроить торжественный обед. Зигмунд заранее пригласил родственников и друзей. Он обследовал окрестности, чтобы снять помещения для гостей в соседних виллах. Приехали Оскар Рие и Леопольд Кёнигштейн. Отто Ранк разместил приехавших по виллам. Гости поднимались в горы, собирали ягоды, устраивали пикники, плавали и ловили рыбу, вечерами они увлекались рассказами, смеялись около костра, на котором поджаривали яблоки, нанизанные на длинные прутья. Матильда приехала со своим мужем, она расцвела в супружестве; Эрнст, младший сын, упорно готовившийся к экзаменам, страдал язвой желудка; София, веселая средняя дочь, объявила, что она, подобно Матильде, не намерена ждать своей свадьбы до двадцати четырех лет. Зигмунд окинул взглядом обеденный стол, за которым просто и с достоинством председательствовала Марта. Прошло двадцать девять лет с того памятного воскресенья, когда они поднялись на вершину горы за Медлингом с братом Марты Эли Бернейсом, а затем вернулись в дом их друзей, где они сидели в саду под липой; двадцать девять лет с момента первого поцелуя и двадцать пять лет супружества; воспитание шести детей, изоляция и забвение, иногда нехватка средств – все это никак не сказалось на доброй натуре Марты. Ей недавно исполнилось пятьдесят лет, но она не постарела духом, она была слишком занята. Марта вела свое домашнее хозяйство с такой скрупулезной аккуратностью, что один из коллег Зигмунда заметил: – Ваш дом подобен острову в венском море. И все же время взяло свое: в волосах, уложенных в высокий шиньон, появилась седина, под глазами набухли небольшие темные мешки, вокруг губ появились морщинки. Но это был нормальный след времени. И этот след углублялся так постепенно, что Зигмунд замечал его не больше, чем седину на своих висках. Зигмунда мучил невроз, и он научился переносить его, однако в одном из самых важных аспектов его жизни – в браке – все было столь же естественно, как солнце или капли дождя. «Будь благословенна, – думал он, – за доброту и за радость, доставленную мне, за то, что вынесла все, не выдавая своим видом, что неумолимое время стучится в ворота». Обед по случаю серебряной свадьбы прошел весело. Марте помогали молодые женщины, жившие по соседству. Застолье получилось шумным. К полудню, когда были произнесены все тосты, вручены и осмотрены подарки – книги, старинные фигурки, украшения, заиграл тирольский оркестр и начались танцы. Когда опустились сумерки, Зигмунд спросил, может ли он рассказать то, что написал о тотемах и табу. Марта была довольна тем, что творческий подъем укрепил за лето здоровье и улучшил настроение Зигмунда. Она вывела всех на веранду; стулья были расставлены полукругом перед Зигмундом. Он заговорил мягким, проникновенным голосом, смягчавшим, подобно мерцанию звезд, наступавшие сумерки. Он попытался навести мосты между изучением таких предметов, как социальная антропология, филология и фольклор, с одной стороны, и психоанализ – с другой. Все культуры возникли в результате подавления инстинктов. В современном обществе сохранилось большое число табу, но тотемизм давно отброшен и заменен новыми формами. Наилучший путь добраться до первоначального значения тотемизма – это изучать его остатки, сохраняющиеся в детстве. Что имело место в предыстории человека, в событиях и условностях того времени и сохранилось в памяти современников? Изучая аборигенов Австралии «как самых диких, несчастных и жалких, не почитающих высших существ, – писал Зигмунд, – мы узнаем, что они поставили себе целью с тщательной заботливостью и мучительной строгостью избегать инцестуозных половых отношений. Больше того, вся их социальная организация направлена к этой цели или находится в связи с таким достижением». Каждый клан имеет свой тотем и принимает имя этого тотема, обычно имя животного. Этот тотем, по предположениям Зигмунда, является праотцем всей семьи, кроме того, ангелом–хранителем и помощником, принадлежащим именно этой группе, которого никто другой не может захватить и никто не может отбросить. Каждый в клане обязан ему полной верностью и послушанием. Но почему тотем настолько всесилен и вездесущ, что ни один клан австралийских аборигенов не обходится без него? И какое отношение к психоанализу может иметь система тотемов? Зигмунд попросил принести лампу и рукопись, из которой зачитал: «Почти повсюду, где имеется тотем, существует закон, что члены одного и того же тотема не должны вступать друг с другом в половые отношения, следовательно, не могут также вступать между собой в брак. Это и составляет связанную с тотемом экзогамию…» Цель и структура тотемного клана заключались в регулировании браков для предотвращения кровосмешения в группе и запрещения браков между дальними родственниками в клане. «Невротик обнаруживает постоянно некоторую долю психического инфантилизма. Для нас поэтому важно, что на диких народах мы можем показать, что они чувствовали угрозу в инцестуозных желаниях человека, которые позже должны были сделаться бессознательными, и считали необходимым прибегать к самым строгим мерам их предупреждения». Написание первого очерка доставило ему такое удовольствие, что он незамедлительно приступил к следующему – «Табу и амбивалентность чувств». Он провел различие между ограничениями табу и религиозными, или моральными, запретами. Запреты, табу лишены всякого обоснования. Они неизвестного происхождения. Непонятные для нас, они кажутся чем–то само собой разумеющимся тем, кто находится в их власти. Такое поведение весьма схоже с тем, которое встречается у «страдающих навязчивостью», они «болеют табу». Табу у невротиков, подобно табу примитивных племен, лишены мотивов, и происхождение их загадочно. Запреты возникают каким–то образом и должны соблюдаться вследствие непреодолимого страха. Зигмунду представлялось очевидным, что запрет, продиктованный табу, должен быть связан с «активностью, к которой сильно влечет». Австралийские аборигены «должны поэтому иметь амбивалентную направленность по отношению к их запретам табу; в бессознательном им больше всего хотелось нарушить их, но они в то же время боятся этого; они потому именно боятся, что желают этого, и страх у них сильнее, чем наслаждение. Желание же у каждого представителя этого народа бессознательно, как и у невротика…». С таким выводом согласуется многое из того, говорил Зигмунд, что мы узнали из анализа неврозов. В характере невротиков, страдающих навязчивостью, нередко проявляется черта преувеличенной совестливости как симптом реакции против притаившегося в бессознательном искушения, и при обострении заболевания от нее развивается высшая степень чувства вины. Третий очерк, который Зигмунд решил назвать «Анимизм, магия и всемогущество мысли», был посвящен происхождению религии, искусства, магии и волшебства. Связь между анимистским мышлением, то есть относящимся к представлениям о душе, и мышлением невротика заключается в том, что то и другое построено на вере во «всевластие мысли». Невротик, подобно занимающемуся магией и колдовством, живет в обособленном мире, где «невротическая валюта» может казаться имеющей реальную цену. «Первичные навязчивые мысли таких невротиков по природе своей в сущности носят магический характер. Если они не представляют собой колдовства, то противодействие колдовству с целью предупредить возможную беду, с которой обычно начинается невроз. Всякий раз, как мне удавалось проникнуть в тайну, оказывалось, что это ожидаемое несчастье имеет своим содержанием смерть». Друзья, сидевшие вокруг Зигмунда, глубоко вздохнули. Чувствуя внутреннее удовлетворение, Зигмунд перешел к четвертому очерку – «Инфантильное возвращение тотема». Первобытный человек обращал свой страх к тотемному животному. В современной жизни у всех молодых людей роль тотемного животного перешла к отцу. «Если животное–тотем представляет собой отца, то оба главных запрета тотемизма, оба предписания табу, составляющие его ядро, – не убивать тотема и не пользоваться в сексуальном отношении женщиной, принадлежащей тотему, – по содержанию своему совпадают с обоими преступлениями Эдипа, убившего своего отца и взявшего в жены свою мать, и с обоими первичными желаниями ребенка, недостаточное вытеснение или пробуждение которых составляет, может быть, ядро всех психоневрозов. Если это сходство больше, чем вводящая в заблуждение игра случая, то оно должно дать нам возможность пролить свет на возникновение тотемизма в незапамятные времена. Другими словами, нам в этом случае удастся доказать вероятность того, что тотемическая система произошла из условий комплекса Эдипа, подобно страху маленького Ганса перед животными. Половая потребность не объединяет мужчин, а разъединяет их, разъединяет сына и отца. Тотемистическая религия произошла из сознания вины сыновей, как попытка успокоить это чувство и умилостивить оскорбленного отца поздним послушанием. Все последующие религии были попытками разрешить ту же проблему. Это повело к возникновению одного из старейших обычаев – раз в год жертвовать тотемным животным, мясо которого поедалось каждым членом клана. Повсюду жертвование связывалось с празднеством, и праздник не мог отмечаться без жертвы. Принося в жертву клановое животное, клан выражает тем самым свой триумф над отцом. Тотемистическая религия несет в себе выражение угрызения совести и попытку искупления, выступая одновременно напоминанием триумфа над отцом. Бессознательно каждый ребенок таит желание убить отца, и таким же образом частью жизненной системы примитивного человека стало убийство отца в предписанное время в виде заклания тотемного животного и раздачи его мяса. Психоаналитическое исследование показывает с особенной ясностью, что каждый создает бога по образу своего отца». На мгновение воцарилась тишина. Все замерли. Затем послышались негромкие голоса: от возбуждения или от шока? Зигмунд был неуверен. Он встал, Марта была около него. Их окружили гости и наперебой благодарили за чудесно проведенный день. – Долгих вам лет! И чтобы было счастье в доме!6
Зигмунд выехал в Цюрих навестить Карла Юнга в Кюснахе и пробыть с ним четыре дня, а затем они вместе должны были направиться в Веймар на конгресс. Юнг встретил его на железнодорожной станции в Цюрихе. Слишком сдержанный, он никогда не обнимался на публике, однако радость на их сияющих лицах выдавала взаимное восхищение и уважение. Поездом они прибыли в деревеньку Кюснах, где у Юнга был просторный дом, спроектированный его родственником, в стиле восемнадцатого века. Расположение дома на местности произвело на Зигмунда большое впечатление. К дому вела длинная дорожка, обсаженная молодыми деревьями, над красивой входной дверью на каменной перекладине были вырезаны слова: «Здесь смеются». Широкая лестница вела из прихожей на второй этаж, деревянные перила привлекали своим рисунком. Архитектор постарался удовлетворить пожелания Карла и Эммы, мечтавших об удобном и красивом жилище для себя и детей. К прихожей примыкала комната со стенами бирюзового цвета, декорированная в стиле французского барокко, с пианино в одном углу. В центре дома находилась главная комната с видом на озеро. Это была просторная гостиная с внушительным камином, около него стояли софа, диван, стулья, кофейные столики. Пол в центре комнаты был устлан ковром, на котором стоял раздвижной обеденный стол. Здесь обедала семья, здесь же принимали гостей. Эмма радостно встретила Зигмунда и пригласила его наверх, в гостиную, чтобы полюбоваться панорамой озера. Юнг провел его затем в крыло дома, в проектировании которого он сам принимал участие. Здесь находился его рабочий кабинет. На первых порах пациентов было немного. Карл Юнг занимался преимущественно исследованиями и написанием книг, но вскоре стали приходить люди; они прибывали и поездом, и на катерах к доктору, о котором ходили слухи, что он гениальный лекарь. В доме был скромный зал ожидания и две уютные комнаты; одна довольно просторная, с большими окнами, выходившими на озеро и пологую лужайку, спускавшуюся к ангару, в котором Юнг хранил парусную лодку. Юнг принимал пациентов в большой комнате; в меньшей, с красочными витражами комнате он писал книги: здесь на большом письменном столе лежала огромная тетрадь вроде амбарной книги, в которой Юнг делал зарисовки и наброски. Зигмунд заметил, что в отличие от его собственного кабинета в приемной не было кушетки, а лишь большое удобное кресло, в котором пациент сидел лицом к Юнгу. В зимние холода в комнате топился камин, хотя остальные члены семьи жаловались, что из–за отца, которому всегда жарко, дом обычно промерзал. В юности Юнг мечтал быть археологом и много путешествовал, но собрал ничтожно мало археологических находок – какой–то случайный щит и копье. Но зато он в изобилии набрал эскизов и образов, которые затем воплощал в резьбе по дереву, а иногда и по камню. Его не привлекали античные фигурки, которые так нравились Зигмунду. Зигмунд подумал с любовью: «Он совершенный человек в лучшем смысле слова, художник от природы». Зигмунд встал в половине седьмого утра, чтобы помочь Карлу Юнгу и поработать в саду и на огороде. Они съели легкий завтрак, а затем сели в лодку и, когда к ним присоединилась семья, проплыли под парусом в дальний конец озера между островами, один из которых хотел купить Карл Юнг и построить на нем летнюю резиденцию. Оставаясь вдвоем, Зигмунд и Юнг обсуждали психоанализ. У них были некоторые разногласия в вопросах методики: как подойти к пациенту? Как получить наибольший объем информации? Юнг охотно согласился стать наследником «империи» Зигмунда и трудился над тем, чтобы сделать ежегодник влиятельным и интересным изданием. Наблюдая, как Карл Юнг занимается резьбой по дереву или собирает камни для нового участка стены, Зигмунд ощущал резкий контраст между образом жизни Юнга в Кюснахе и собственным в Вене. У него и Марты были лишь мебель и домашняя утварь, большая часть которой была приобретена к свадьбе. Квартира, за которую они вносили арендную плату, принадлежала им только в сугубо венском понимании, ведь венцы снимали квартиру на всю жизнь. У Юнгов же был собственный дом, несколько акров земли с огородом, садом и участком леса на берегу озера. Он подумал: «Они владеют кусочком мира, и он навсегда их. Какое, должно быть, это приятное чувство. Они живут в доме, построенном по их проекту на берегу озера, с высокими окнами в спальне, из которых можно любоваться красотой окрестных гор, прелестью отражения на воде восхода и захода солнца. Это, видимо, создает свой тип философии, нерасслабленной, хотя, может быть, и такое есть, а главное – ощущение долголетия, стабильности. Дом в Кюснахе построен, чтобы стоять столетия на этом просторном участке; перед его хозяином также открыта возможность жить здесь целое столетие. Ну, – рассуждал он, – я рад за Карла, Эмму, за их детей. Они выбрали поистине райское место. Карл выполнит здесь большую работу без спешки, тщательно и завоюет известность». У него не было ни капли зависти, поскольку он не мог владеть подобным, да такое и не соответствовало венской традиции. И все же различие в образе жизни было разительным. Через два дня из Бостона приехал доктор Джеймс Патнэм, любезный, приятный человек, сведущий в психологии и философии. Оказываясь втроем, они говорили по–английски, хотя Патнэм хорошо знал немецкий язык. Его радовал успех в распространении психоанализа в Америке. Во время своих частых визитов из Канады Эрнест Джонс основал надежное ядро в Новой Англии; А. –А. Брилл набрал уже около двадцати членов в Нью–Йоркское психоаналитическое общество. Юнг подшучивал над Зигмундом, намекая на его нездоровье во время поездки в Америку: – Могли ли вы подозревать, что гостеприимная к психоанализу страна наградит вас колитом? Зигмунд, Карл Юнг, Джеймс Патнэм, Франц Риклин и Людвиг Бинсвангер отправились вместе поездом в Веймар. Основанный в девятом столетии, город все еще сохранял средневековый колорит: узкие кривые улочки в старой части города и оживленный, красочный рынок, окруженный домами с островерхими фронтонами. Прежде чем обосноваться в гостинице, пятерка оставила свои чемоданы и направилась к дворцу, построенному еще во времена Гёте. В отличие от предыдущего конгресса в Нюрнберге конгресс в Веймаре проходил в более спокойной и дружественной атмосфере. В нем участвовали пятьдесят пять человек, включая несколько врачей–женщин, специализирующихся в области психоанализа. На этот раз приехали четыре американца. Доктор Джеймс Патнэм открыл конгресс докладом о значении философии для дальнейшего развития психоанализа. Его скромные манеры и поставленные им высокие моральные задачи вызвали энтузиазм. Всем было известно, какую успешную борьбу ведет он в Америке за психоанализ. Карл Юнг был в превосходной форме. Он вел заседание непринужденно и легко, прочитав от своего имени доклад о символизме при неврозах. Зигмунд был рад видеть Блейлера, приехавшего с группой из Цюриха. Он был сердечен со всеми и прочитал проникновенный доклад о самоуглублении в фантазию. Преподобный Оскар Пфистер прибыл вместе со своим приятелем, священником Адольфом Келлером. Доктор Ян ван Эмден приехал из Лейдена, доктор А. В. ван Рентергем – из Амстердама; Магнус Хиршфельд, считавшийся авторитетом в области изучения гомосексуализма, – из Германии; Карл Абрахам завоевал уважение конгресса своим исследованием маниакально–депрессивного безумия; Ганс Закс зачитал доклад о связи психоанализа с психологией; вклад Ференци в понимание гомосексуальности получил одобрение доктора Хиршфельда. Доклад Отто Ранка также удостоился высокой оценки, он касался смысла описания обнаженного тела в поэзии и легендах. За завтраком участники конгресса получили повод посмеяться: местная газета сообщила, что сделан «интересный доклад об обнаженности и других текущих проблемах». Все знали, что Альфред Адлер и его сторонники покинули Венское психоаналитическое общество и основали собственное Общество свободного психоанализа. Однако никто не высказал тревогу по этому поводу. Одной из наиболее примечательных фигур на конгрессе была Лу Андреас–Саломе, давняя знакомая Зигмунда. Она получила основательную подготовку по психоанализу у своего любовника, шведского психотерапевта Поула Бъёрре, пригласившего ее на конгресс в качестве гостьи. Лу родилась в богатой, культурной семье в России. Она вышла замуж за некоего Андреаса, угрожавшего покончить с собой, если она не примет его предложения. Лу согласилась, но при условии, что она не обязана иметь с ним интимных сношений, и Андреас это условие принял. Для альковных целей была нанята молодая служанка, подарившая ему двух сыновей. Лу Андреас–Саломе имела полную свободу ездить по миру. Она получила известность как автор романов, стихов, очерков, дружила с литераторами многих стран, длительное время ее любовником был Райнер Мария Рильке, и именно на эти годы падает расцвет его стихотворного творчества. В нее безнадежно влюбился Ницше. Ницше говорил о ней: «Она, как никто иной, подготовлена к принятию той части моей философии, которая еще не полностью сформулирована». Доктор Бъёрре заявил Зигмунду: – Лу мгновенно поняла сущность психоанализа. Лу Андреас–Саломе исполнилось пятьдесят лет. Она не была красивой, но всегда смышленой, непосредственной, очаровательной, привлекавшей всех мужчин и многих женщин. Исключением была, пожалуй, лишь сестра Ницше, которая ревниво называла ее архидьяволом. Лу Андреас–Саломе отклонила домогательства Ницше на брак и с презрением отвергла мысль, будто она роковая женщина. Она претендовала всего лишь на вольность, на право быть «независимым человеческим существом». Она влюблялась только в очень талантливых мужчин и никогда не теряла голову в любовных делах. Когда любовь увядала и находился другой интересный мужчина, она прекращала любовную интригу и начинала новую. Никто не знал, сколько на ее счету любовных увлечений за истекшие тридцать лет, никто не считал ее склонной к случайным связям. Она сохраняла свое внутреннее «я», вступая в связь с очередным мужчиной и поднимаясь на более высокую ступень интеллектуального и эстетического развития. Зигмунда поразили проницательность и ясность ее ума. В ее манерах не чувствовалось ни скованности, ни развязности. Она спросила, может ли она писать ему в Вену и навестить его. Он дал согласие. Успех двухдневного конгресса вызвал у участников большие надежды на будущее. Зигмунд задержался на несколько дней для бесед с Абрахамом, Бриллом и Джонсом об их делах, о проблемах и терапевтической методике. Он возвратился в Вену в добром здравии и превосходном настроении.7
Маятнику положено качаться. В швейцарской печати усилились нападки, в ней ставили под сомнение не столько ценность психоанализа, сколько его нравственные аспекты. Его объявляли темной наукой, порочной в своей основе, исчадием ада, предназначенным развратить мир. Речь шла не об отдельных выпадах; они были ориентированы и взаимосвязаны. Зигмунду становилось ясно, по мере того как в его руки попадали оскорбительные сообщения, что они рождаются не в редакциях газет и журналов. Неизменно просматривались теологические вкрапления, указывавшие на то, что значительная часть материала подсказана церковью, а часть – высокими правительственными сферами. В Швейцарии психоанализ объявлялся противоречащим национальным интересам швейцарцев. От психиатров требовали, чтобы они прекратили заниматься грязным делом; швейцарской публике рекомендовалось не посещать врачей, которые верят в психоанализ Фрейда. Друзья Зигмунда в Цюрихе, в особенности члены Швейцарского психоаналитического общества, основанного год назад, сразу же почувствовали последствия. Многие пациенты перестали приходить на сеансы, новых не прибавлялось. Риклин просил Зигмунда направлять им пациентов из Австрии и Германии, чтобы иметь не только средства к существованию, но и возможность не терять навыков психоанализа. Примерно в то же самое время «Нью–Йорк таймс» сообщила о заявлении доктора Аллена Старра перед неврологическим отделением Нью–Йоркской медицинской академии, который утверждал, будто он работал с Зигмундом Фрейдом в лаборатории Мейнерта в Вене, где тот имел репутацию венского распутника, а «не человека, живущего достойным образом». Единственный американец, с которым встречался Зигмунд в лаборатории Мейнерта, был Бернард Закс. Если бы сообщение «Нью–Йорк таймс» не наносило ущерба нарождавшемуся движению, которое возглавил А. –А. Брилл, его можно было бы принять за курьез: в студенческие годы, когда он работал у профессора Мейнерта, Зигмунд относился к тем безденежным книгочеям, которым было не до девушек, а часто и не до пива. Во время работы в клинике он был помолвлен с Мартой и вел жизнь отшельника. Зигмунд проверил записи клиники Мейнерта, а также Городской больницы; имя Аллена Старра там не значилось. Он мог оказаться в клинической школе на какое–то короткое время в качестве гостя. Излагая комментарии доктора Старра, «Таймс» представляла дело так, будто теории Зигмунда Фрейда порождены его аморальной жизнью. В семье отказывались принять статью всерьез. Минна иронизировала: – Только подумать, а мы и не подозревали, что все эти годы среди нас подвизался венский распутник. В апреле Зигмунд получил из Швейцарии письмо от Людвига Бинсвангера, сообщавшего, что при операции аппендицита у него была обнаружена злокачественная опухоль. Ему осталось жить один – три года. Сообщение сильно огорчило; Бинсвангер оставался лояльным и отважным другом, стойко выдерживавшим нападки. Затем заболела Амалия. И в свои семьдесят шесть лет мать Зигмунда была полна жизни. Он пригласил терапевта. Осмотрев ее внимательно вопреки настойчивым протестам с ее стороны, врач прописал ей постельный режим и множество лекарств. Дольфи обещала, что она как–нибудь заставит мать их проглотить. Когда Амалия почувствовала себя лучше, Зигмунд написал Карлу Юнгу, что выезжает в Крейцлинген на Констанском озере, чтобы посетить Людвига Бинсвангера. Хотя в его распоряжении всего два дня, они могли бы, конечно, встретиться и поговорить. Бинсвангер поправлялся после удаления опухоли. Они прошлись вдоль озера, обсуждая, как выстоять под массированными нападками в Швейцарии. В воскресенье Бинсвангер отвез Зигмунда в поместье своей семьи, где собралась группа друзей и родственников, пожелавших встретиться с учителем Бинсвангера. День прошел приятно, но к вечеру Зигмунд почувствовал тревогу. Почему не приехал Карл Юнг? От Кюснаха до Кокстанского озера всего пятьдесят километров. К тому же есть удобное железнодорожное сообщение. Зигмунду надлежало вернуться в Вену в ту же ночь, чтобы уже утром в понедельник быть на месте к приходу пациентов. Наверняка Карл и Эмма Юнг желали бы провести день с Людвигом Бинсвангером, старым другом, да и с самим Зигмундом. Карл Юнг так и не появился, не прислал он и весточки. Зигмунд был огорчен. Что могло случиться? Все прояснилось через несколько дней. От Юнга пришло письмо, крайне оскорбительное и разъяренное, полное упреков. Почему Зигмунд приехал в Швейцарию и не посетил его? Почему он написал так поздно, и Карл Юнг не смог получить вовремя сообщение и приехать на Констанское озеро? Что случилось с их дружбой, если Зигмунд, совершив длительную поездку из Вены, не проявил желания провести несколько часов с семьей Юнг, в Кюснахе, где его принимали за год до этого? Зигмунд немедленно послал ответ, уведомив его о том, что он написал Юнгу заранее, Юнг должен был получить это письмо и знать, что Зигмунд проводит конец недели с Бинсвангером, желая подбодрить того и ускорить его поправку. Это была спокойная записка, просто и ясно излагающая факты, связанные с его поездкой. Вскоре после этого Юнг сообщил, что ему предложили прочитать серию лекций в Университете Фордгама в Нью–Йорке в сентябре и он принимает это предложение. Это означает, объяснил он, что не сможет присутствовать на очередном конгрессе и участвовать в его подготовке. На этот год он просто выбывает. Зигмунд прочитал между строк, что, поскольку президента Карла Юнга не будет в Европе в сентябре, конгресс невозможен. Возникла дилемма. Зигмунд не считал правильным для себя узурпировать пост президента. Если созвать конгресс без Юнга, может показаться, что тот согласился на серию лекций с целью избежать участия в конгрессе. Если кто–то иной займет кресло председателя, то это обидит Юнга и тем самым будут ослаблены узы, связывающие движение. Зигмунд раздумывал несколько дней, затем с сожалением решил отложить конгресс до следующего года. Гуго Хеллер издал два выпуска журнала «Имаго» с первыми двумя частями книги Зигмунда о тотемах и табу. Журнал вызвал интерес у читателей. И вот Гуго ворвался в его кабинет. Склонный к вспышкам гнева, он был охвачен яростью. – Гуго, у тебя такой вид, будто небо обрушилось. – Обрушилось! В виде дюжины моих покупателей. Тех самых, которые оставались верными магазину с момента его открытия. Они заявили, что, если я не удалю все экземпляры «Имаго» с витрины и не уберу их из лавки, они не будут покупать у меня. Это шантаж! Но что я могу сделать? Это мои лучшие покупатели. Без них мне придется туго. Зигмунд спросил спокойно: – Как идет подписка и продажа в других городах? – На удивление хорошо, около двухсот подписчиков к настоящему времени. Я не тревожусь по поводу расходов на издание журнала. Мне не нравится, когда мне приказывают, как управлять собственной книжной лавкой. Это меня унижает. В Вене больше не выставлялся и не продавался журнал «Имаго». Новое письмо Юнга вызвало у Зигмунда еще большее чувство смущения. В течение ряда лет Юнг начинал письма словами «Дорогой друг!». Теперь же Зигмунд получил письмо, начинавшееся словами «Уважаемый доктор!». Тон письма был холоден, в нем говорилось об идейных расхождениях и спорах и выражалось несогласие с некоторыми мыслями Зигмунда. Зигмунд подозревал, что гнев Юнга по поводу поездки Зигмунда на Констанское озеро, его нежелание взглянуть на венский почтовый штемпель или спросить жену, когда пришло письмо, неожиданная поездка в Нью–Йорк в сентябре не были случайными: подавленный в уме Карла Юнга материал начал выходить наружу, переходить в сознание. Зигмунд серьезно расстроился и каждую свободную минуту обдумывал возникшую проблему. Он питал огромную любовь и уважение к Юнгу. Он верил также в то, что будущее психоаналитического движения связано с ним. Преданность, сила, лояльность и энтузиазм Юнга, подготовка конгресса, руководство заседаниями, его умение общаться с людьми, прочитанные доклады, публикации – все это составляло часть ядра движения. Он написал Юнгу, высказав мысль, что любые идейные разногласия между ними, разумеется, честные разногласия и они не должны стать причиной разрыва отношений между ними. Средняя дочь Фрейдов София, отдыхавшая в Гамбурге, объявила о своей помолвке с фотографом Максом Хальберштадтом. – Ей всего лишь девятнадцать! – взбунтовался Зигмунд. – К чему такая спешка? И почему она сообщила о помолвке в письме? Почему не могла приехать и рассказать нам? Кто такой Макс Хальберштадт? Марта пожала плечами: – Не знаю, дорогой. Матильда сообщила о помолвке из Мерана, и мы не знали Роберта Холличера. Однако тебе очень нравится Роберт и ты, так же как я, доволен тем, что она беременна и мы скоро станем дедушкой и бабушкой. Как–то ты сказал относительно Матильды, что нам пора заиметь зятя; наступило время иметь и внуков. С Матильдой случилась беда. У нее резко подскочила температура, и беременность, как писал Зигмунд Эрнесту Джонсу, «надлежало прервать». Гинеколог не был уверен, сможет ли Матильда иметь другого ребенка. Это был тяжкий удар для семьи. Отход Альфреда Адлера и его друзей не оставил глубоких ран, и в последующие месяцы обошлось без обмена колкостями. В 1911 году Адлер опубликовал три статьи в «Централь–блатт» по вопросу о сопротивляемости и женском неврозе и работал над книгой «Невротическая конституция», намеченной к публикации в Висбадене в следующем году. В книге предпринималась попытка разгромить фрейдовский психоанализ. Сторонники Адлера, менее склонные считаться с нормами вежливости, чем он сам, прибегли к личным нападкам, обвиняя Зигмунда в создании «рабской» психологии в отличие от «свободной» психологии Адлера, называя его тираном, не терпящим возражений и не позволяющим никому возвыситься над собой. Отто Ранк, записавший протоколы более ста пятидесяти заседаний за шесть лет, пришел с интересными данными: – Посмотрите, профессор Фрейд, о чем свидетельствуют протоколы. Адлер представил столько же докладов, сколько и вы, а что касается длинных выступлений, то он занял в дискуссиях больше времени, чем вы. Я не нашел ничего, что можно было бы назвать разносом Адлера. Прошу вашего разрешения распространить этот материал. Зигмунд вздохнул: – Нет, Отто. Это не поможет. Слухи живут как бабочки–однодневки.8
Признаки надвигающейся бури появляются заранее; их могут не заметить люди, поглощенные своими проблемами или игнорирующие такие сигналы, полагая, что гроза «пройдет мимо». Зигмунд Фрейд посчитал симптомы по пальцам: два года назад Карл Юнг прислал ему первую половину рукописи «Изменения и символы либидо». Зигмунд обнаружил в ней многочисленные отправные точки, заимствованные из его, Фрейда, посылок. Тем не менее он написал Юнгу несколько страниц с предложениями, как усилить главное направление. Когда он посещал летом Карла и Эмму, Юнг хотел обсудить рукопись, но Зигмунд поменял тему разговора. Эмма наблюдала за сценой и позже сказала Зигмунду: – У вас, видимо, есть сомнения в отношении новой книги Карла? – Эмма, я уже высказал Карлу замечания, какие считал подходящими. Нет смысла поучать его. Карл отклонит сказанное мною; в любом случае он должен действовать по собственному разумению. Эмма положила свою руку на руку Зигмунда, сидевшего за кофейным столиком. – Понятно, профессор. Вы наиболее сведущий человек из всех, с кем был связан Карл, и мне не хотелось бы, чтобы между вами были расхождения. В мае следующего года Карл Юнг сообщил ему, что работа продвигается, но он намерен развить концепцию Зигмунда относительно либидо. Он рассматривает либидо как расширение зоны общей напряженности, не обязательно и не исключительно относящейся к сексуальности. Зигмунд счел за самое мудрое не отвечать на письмо. Однако в ноябре получил личную записку от Эммы Юнг, любезную, но с сигналом тревоги. «Боюсь, дорогой профессор, что Вы не одобряете или Вам не нравится то, что излагает мой муж во второй половине «Символов либидо». Смысл моей записки – предупредить Вас и просить вспомнить наш краткий разговор в Кюснахе: Карл должен идти собственным путем, но сохраняя дружбу с Вами». Зигмунд показал письмо Эммы Марте. – Хорошо, что Эмма написала мне, но я уже представляю направление, куда идет Карл. Следующим, на чем он станет настаивать, будет утверждение, будто эдипов комплекс и тяга к кровосмешению не активная часть подсознания, а символы, представляющие какие–то высшие идеи. – Под «высшими» он подразумевает религиозные? – Не в обычном смысле слова. Мистические идеи берут начало в других источниках. Марта всматривалась в его лицо. Между бровями пролегли морщинки, свидетельствовавшие об озабоченности. – Зиги, можете ли вы быть вместе при таких расхождениях? – Да, хотя и нелегко. В течение многих лет он публично защищал меня, когда это было опасно и рискованно для него. Никто иной не заслужил в такой мере моей любви и благодарности. Этот небольшой шторм не сбил их с курса. Карл Юнг, когда был полон желания, проявлял себя хорошим администратором, но он начал пренебрегать своими обязанностями президента общества: не желал тратить время на организационную работу, берег его для собственных исследований и монографий. – Я не могу порицать его за это, – признался Зигмунд Марте во время одной из прогулок. – Это одна из причин, почему я сам не хочу занять пост президента. У Карла есть энергия, напористость, умение руководить людьми. – Не думаешь ли ты, что пост президента теряет притягательность? – спросила она. – Быть может. Но Карл также находится под сильным давлением: он хочет оставаться возле меня и в то же время желает отойти как можно дальше. Это также понятно: все официальные ведомства Швейцарии оказывают на него сильный нажим, чтобы он отказался от меня. В последних лекциях он старался не упоминать моего имени. Франц Риклин уловил настрой Карла Юнга и начал пренебрегать обязанностями секретаря–казначея общества. Письма оставались без ответов, взносы не собирались, счета издателей не оплачивались. Зигмунд решил заменить его на очередном конгрессе в Мюнхене. Но кем заменить? Позволит ли Карл Юнг, чтобы отстранили его родственника? Сообщения из Нью–Йорка, где Юнг читал свои лекции, вовсе не обнадеживали. Доктор Джеймс Патнэм специально приехал из Бостона послушать выступления Юнга. Он направил отчет в Вену через своего друга Эрнеста Джонса: Юнг говорил аудитории в университете Форд–гама, что, сохраняя веру в ценность психоанализа, он не уверен, что этиология невроза берет начало в детские годы. Психиатр должен учитывать условия окружающей среды, существовавшие непосредственно перед вспышкой невроза. – Признаки Альфреда Адлера, – бросил Зигмунд Отто Ранку, смотревшему на него широко раскрытыми глазами. – Затем мы узнаем, что Юнг станет называть себя социальным психологом. Когда Юнг вернулся из Америки, он написал Зигмунду: «Я сумел сделать психоанализ более приемлемым для Америки, обойдя сексуальные темы». Зигмунд сухо ответил: «Не нахожу в этом ничего разумного. Можно вообще забыть о природе человека, и тогда психоанализ станет еще более приемлемым». Бродяга Эрнест Джонс, разъезжавший по миру больше, чем Зигмунд Фрейд и вся венская группа, прибыл в Вену с одним из своих очередных визитов к Фрейду. Зигмунд только что получил журнал, в котором Карл Юнг выразил неверие в существование детской сексуальности. Прочитав статью, Джонс удивленно воскликнул: – Как это возможно? Совсем недавно он опубликовал исследование поведения собственного ребенка, описывая с максимальной четкостью стадии развития детской сексуальности. Зигмунд грустно улыбнулся: – Не только наши пациенты сомневаются в проницательности врача. Наши психоаналитические знания должны были бы наделить нас иммунитетом и способностью спокойно относиться к отступлениям. – Аналитики могут заблуждаться, как и другие смертные. – Да, Эрнест, и мы еще многое увидим, прежде чем доведем до логического конца наше дело. Осложнения в отношениях с Юнгом имели для Зигмунда глубокие эмоциональные, интеллектуальные и профессиональные последствия. Молодость – это то время, когда цементируется дружба между коллегами и студентами. Зигмунд любил рано ушедших из жизни Игнаца Шёнберга, Эрнста Флейшля и Иосифа Панета. Он наслаждался тесной дружбой с Йозефом Брейером и Вильгельмом Флисом в годы своего активного творчества. Эти люди помогли ему принять Землю как обитаемую планету. Роясь в собственной психике, он не мог понять, почему потерял таких чудесных компаньонов. Альфред Адлер никогда не входил в число его близких друзей и избегал доверительных отношений с ним, но отход Адлера был вызван и его, Фрейда, виной. Если бы он проявил достаточно разумности, чтобы ввести Адлера в состав цюрихской группы, и отвел бы ему ключевую роль в образовании и контроле Международного психоаналитического общества, это,несомненно, помогло бы. Альфред Адлер должен был неизбежно пойти собственным путем, стать независимым, возглавить группу, как это и случилось. Углубляющиеся расхождения между ним и Карлом Юнгом, который был моложе его на девятнадцать лет, – совсем иное дело. Зигмунд любил Юнга всей душой, как он любил Брейера и Флиса. Невозможно сравнить способности людей, когда они работают в совершенно различных областях. Зигмунду повезло в том смысле, что он общался с наиболее творческими умами своего времени: Брентано – в философии, Брюкке – в физиологии, Мейнертом – в психиатрии, Нотнагелем – в терапии, Бильротом – в хирургии, Шарко – в психиатрии, Бернгеймом – в гипнозе; с талантливыми друзьями, такими, как Брейер, Экснер, Флейшль, Вейс, а также с Вильгельмом Флисом, который выслушивал и поощрял его в годы изоляции. Карл Юнг не уступал самым лучшим из них. Зигмунд был однолюбом по натуре: он женился на Марте на всю жизнь и принял Карла Юнга как своего преемника. Ему казалось немыслимым, чтобы шесть лет близких отношений, полных взаимных симпатий, могли раствориться без следа в тумане споров, тем более что они признали свои расхождения. Действительно ли признали? Душа не принимала возможную потерю Карла Юнга, однако приходилось признать, что в их отношениях что–то неладно. Его коллеги чувствовали, что с ним не все в порядке, и каждый со своей стороны – Оскар Пфистер, Людвиг Бинсвангер, Ференци, Абрахам, Джонс – обращался к Карлу Юнгу, чтобы поправить дело. Зигмунд Фрейд не отговаривал их; скорее он уверял каждого, что восстановление их личных чувств исключит опасность разрыва. Новый момент появился из немыслимого источника, ибо в открытой натуре Эрнеста Джонса не было ничего от конспиратора. В начале лета Зигмунд уехал с Мартой в Карлсбад на воды в расчете вылечить благоприобретенный «американский колит». Минна пошутила: – Зиги, национальность указана неправильно. У тебя не американский, а швейцарский колит, именно там ты его получил. Заставь Карла Юнга перестать ошкуривать твое древо знаний, и твой толстый кишечник поведет себя нормально. Эрнест Джонс работал с Ференци в Будапеште, когда получил письмо от Зигмунда Фрейда, в котором тот высказал мысль, что психоанализ вовсе не его личное дело, он касается Джонса и многих других. Джонс показал письмо Ференци, который заметил: – Если среди нас и дальше будут раскольники, такие, как Адлер и Штекель, а теперь, возможно, и Карл Юнг, справедливо предположить, что мы и впредь будем страдать от расколов по мере роста общества. Наиболее жизнеспособный план защитить нас от расхождений и от разделения науки психологии на многие направления – это организовать небольшие группы врачей, которые прошли бы через руки профессора Фрейда в каждой стране. Они давали бы отпор всяким заблуждениям, приписываемым фрейдистскому психоанализу. – Это невозможно, Ференци, ибо только ты и Макс Эйтингон принадлежите к числу тех, кто прошел обучение психоанализу у профессора Фрейда. У меня есть, однако, другое предложение. Почему бы нам не организовать небольшую закрытую группу надежных членов «старой гвардии»? Это даст профессору Фрейду гарантию, что у него есть верные друзья. Это оградило бы его от дальнейших раздоров, и, как вы предлагаете, мы оказывали бы помощь в отпоре критикам. – Превосходно! Напишем профессору? Эрнест Джонс составил в тот же вечер письмо Зигмунду, изложив план. Зигмунд прочитал его во время завтрака с Мартой, Минной, Софией и Анной в ресторане «Гольденер Шлюссель» в Карлсбаде. Прочитав письмо, Зигмунд радостно улыбнулся. Марта сказала: – Поделись добрыми новостями с нами, Зиги. Ты кис все эти дни. Он пустил письмо по кругу. Все были в восторге. Сидя на теплом солнце в эркере комнаты, он писал Джонсу: «Меня захватила идея тайного комитета, состоящего из наиболее надежных людей, который заботился бы о развитии психоанализа и защищал дело против личностей и случайностей, когда меня не станет… Я знаю, что в этой концепции присутствуют мальчишеские и, быть может, романтические элементы, но, видимо, ее можно приспособить к реальности… Осмелюсь сказать, что жизнь и смерть станут легче для меня, если я буду знать, что существует ассоциация, пестующая то, что я создал». Вернувшись в Вену, Зигмунд не торопился рассказать Отто Ранку, с которым он ежедневно встречался, об образовании новой группы. Венское психоаналитическое общество собиралось приобрести пишущую машинку, чтобы Отто Ранк мог отвечать на переписку и рассылать извещения о лекциях и публикациях. Зигмунд полагал, что не следует просить кого–либо присоединиться к специальной группе во избежание осложняющих дело отказов. Спустя несколько месяцев после обмена письмами Эрнест Джонс поговорил с Отто Ранком. Тот пришел в восхищение. Ранк получил наконец университетскую степень. Зигмунд оплатил его поездку в Грецию, что было давнишней мечтой Отто; он все еще был не в состоянии добывать себе средства на жизнь. Два года назад Зигмунд сказал, что Отто Ранк будет первым психоаналитиком без врачебного диплома, и не изменил своего мнения. Однако он считал, что Ранку нужна более основательная подготовка, и не был уверен, следует ли направлять ему пациентов. Ганс Закс также не принимал пациентов; он продолжал заниматься адвокатской практикой. Венское общество психоаналитиков выплачивало Ранку скромный оклад как секретарю, хотя он стоил в десять раз большего, и Зигмунд восполнял расходы Отто из собственного кармана. Эрнест Джонс, слывший жуиром, любил дорогие одежды, был завсегдатаем лучших ресторанов, гостиниц, знатоком вин и быстро подружился с венским «господином мира» Гансом Заксом. После того как Джонс рассказал Ранку о планах, тот пошел к Гансу Заксу и информировал его. Закс немедля присоединился к комитету. Джонс и Ференци считали необходимым привлечь Карла Абрахама, но с ним они не могли поговорить. Несколько месяцев никто не ездил в Берлин, а пересылать приглашение по почте они опасались. Только через шесть месяцев после представления Джонсом плана Ференци профессору Фрейду Карл Абрахам приехал в Вену для совместной работы с Зигмундом. Переговоры с ним были доверены Отто Ранку. Отто выждал три дня, пока Абрахам обсуждал с Зигмундом наиболее сложные виды заболеваний, получал советы и консультации. Когда Абрахам освободился, Ранк пригласил его на прогулку и рассказал о намеченном. Он получил полное согласие Абрахама.9
Вильгельм Штекель, выйдя из общества, забрал с собой «Центральблатт» и отыскал издателя, после того как Гуго Хеллер отказался взять его к себе редактором. В свою очередь Зигмунд и его сторонники вышли из редакции. Теперь перед ними возникла задача основать собственный журнал. Зигмунд считал важным, чтобы новый журнал стал официальным органом Международного психоаналитического общества. Хеллер согласился издавать его. В ноябре 1912 года в Мюнхене было созвано заседание с участием Зигмунда Фрейда, Карла Юнга, Эрнеста Джонса, Шандора Ференци, Карла Абрахама, Франца Риклина и Альфонса Медера из Цюриха. Карл Юнг продолжит редактировать ежегодник. Зигмунд надеялся, что встреча в Мюнхене принесет подлинное примирение. Ведь в те дни, когда они оказывались вместе, возрождались добрые отношения, появлялся творческий стимул и взаимное удовлетворение. Разумеется, думал Зигмунд, при встрече с Юнгом их обоюдная личная привязанность позволит им уладить все проблемы. Зигмунд выехал в Мюнхен ночным поездом. Устроившись в гостинице «Парк Отель», он принял ванну, сменил одежду, чтобы встретиться с Эрнестом Джонсом и позавтракать вместе. Джонс отдыхал месяц во Флоренции. В его глазах мерцали задорные огоньки. – Профессор, Карл Юнг внес новый вклад в вашу «Психопатологию обыденной жизни». Вместо того чтобы послать приглашение на конференцию мне домой, он умудрился направить его моему отцу в Уэльс. К тому же он обозначил дату нашей встречи завтрашним числом, двадцать пятым ноября, вместо двадцать четвертого, так что мы бы уже разъехались. Лишь случайно, получив письмо от венского коллеги, я узнал, что встреча назначена на сегодня, и быстренько приехал из Флоренции. Это явная ошибка подсознания. Зигмунд рассмеялся, затем сухо ответил: – У джентльмена не может быть такого подсознания. Заседание открылось в девять часов утра в гостиной «Парк Отеля». У всех было доброе настроение. Карл Юнг приветствовал Зигмунда, затем Джонса, Абрахама и Ференци с присущей ему сердечностью и естественностью. Доктор Иоганн ван Опхьюзен, голландский психоаналитик, заменил Альфонса Медера. Когда Зигмунд предложил рассказать о трудностях, возникших с Вильгельмом Штекелем и журналом «Центральблатт», Юнг вежливо сказал: – Дорогой профессор, нам известно, что вы пережили. Мы согласны с вашим мнением, что должен быть учрежден новый журнал взамен старого. Мне очень нравится предложенное вами название – «Интернационале Цайт–шрифт фюр Психоанализе». – Спасибо, вы очень любезны, но я полагаю необходимым зафиксировать это в протоколе. Позвольте мне для сведения всех сказать, какие трудности мы пережили. Заседание длилось два часа. Согласие было полное. Три цюрихца считали, что новый журнал следует издавать в Вене. Формат журнала и его основное содержание были быстро согласованы, и было принято решение выпускать его ежеквартально. Редакторами назначались Шандор Ференци и Ганс Закс. К одиннадцати часам официальная часть была завершена. Зигмунд встал, подошел к Карлу Юнгу и сказал с улыбкой: – Может, прогуляемся? Спустимся по Максимилиан–штрассе к Изару и посмотрим на чудесные скульптуры. Затем пересечем площадь Макса Йозефа, осмотрим королевский дворец и византийскую дворцовую церковь. Они шли в быстром темпе. В пешей ходьбе Зигмунд мог обогнать и более молодого. Юнг начал первым: – Я должен извиниться перед вами, профессор. Теперь я понимаю, что случилось в Троицын день. Весь конец недели меня не было дома. Об этом я запамятовал, когда узнал, что вы посещаете Бинсвангера в Крейцлингене. Мне показалось, что письмо пришло в понедельник, как раз перед моим возвращением, и, следовательно, было послано из Вены слишком поздно, чтобы я мог воспользоваться вашим пребыванием в Швейцарии. Я был так расстроен, что не спросил Эмму, когда пришло письмо, и не потрудился взглянуть на венский почтовый штемпель. – Я полагал, что дело обстояло именно так. – Как видите, профессор, мой невроз все еще одолевает меня. Иногда мне трудно простить самому себе, но прошу вас извинить мой невроз. Он возник в детстве из–за чувства одиночества… – Дорогой друг, вынужден прочитать нотацию наподобие голландского дядюшки. Вам не следует терять доверия ко мне и действовать сломя голову. Видимо, где–то в вашей голове скрыты совсем иные вещи, чем те, на которые вы сетуете. – Нет, профессор, это неверно. У меня возникают сомнения, и иногда я думаю, что вы не правы, например по вопросу о кровосмешении. Мне представляется, что инцест создает личные осложнения лишь в редких случаях. Обычно он имеет религиозный аспект, именно поэтому тема кровосмешения играет важную роль почти во всех космогониях и многочисленных мифах. Я полагаю, что вы трактуете ее в буквальном смысле и не схватываете духовного значения инцеста как символа. Еще в начале нашей переписки, а затем при встречах вы давали понять, что любые расхождения наших идей и выбранные нами пути не должны влиять на нашу личную привязанность друг к другу. – Спасибо, я рад, что вы это сказали. Стоило приехать в Мюнхен уже ради того, чтобы обрести уверенность в неизменности наших отношений. Они возвратились в гостиницу и примкнули к компании, готовившейся к ланчу. Настроение Зигмунда поднялось. Ему казалось, что неприятности позади. Юнг дал ясное обещание уделять достаточное время выполнению обязанностей президента Международного психоаналитического общества и оптимистически высказался относительно содержания и распространения ежегодника. Риклин также заверил, что по возвращении в Цюрих возобновит деятельность в качестве секретаря. Но ко времени завершения ланча у Зигмунда возникло ощущение неловкости. Когда был подан десерт, из глубин сознания выскочил вопрос, который он не намеревался задавать и который представлялся излишним после устранения разногласий с Юнгом. Он повернулся к Юнгу и спокойно сказал: – Дорогой коллега, как могло случиться, что в своих последних лекциях и публикациях вы не упомянули мое имя? Наступила неловкая тишина, затем Карл улыбнулся и сказал небрежно: – Дорогой профессор, все знают, что основателем психоанализа является Зигмунд Фрейд. Нет больше необходимости упоминать ваше имя, когда мы даем историческое резюме. Острая боль пронзила грудь Зигмунда. Он обманывал сам себя! Небрежный ответ Юнга раскрыл истину. Глубоко в подсознании Карла Юнга скрывалась мощная сила, которая медленно сжималась, чтобы затем, высвободившись, взорвать их отношения. Сознательным умом Юнг очень желал примирения, он все еще не кривил душой во время двухчасовой прогулки, уверяя Зигмунда, что все доброе в их взаимоотношениях восстановлено и они должны в будущем работать вместе. Но в мимолетной улыбке на лице Юнга и в небрежном ответе Зигмунд почувствовал подавляемые эмоции, которые невозможно долго скрывать, они отражали стремление Карла Юнга быть свободным, независимым, стать самим собой. Зигмунд почувствовал головокружение. Потолок столовой закачался над его головой. Он попытался ухватиться обеими руками за стол, но не успел, заморгал, хотел что–то сказать, чтобы привлечь внимание соседа, затем почувствовал слабость, потерял сознание и рухнул на пол. Как и три года назад, Карл Юнг взял Зигмунда на руки, словно ребенка, и отнес на софу в гостиной. Эрнест Джонс массировал кисти рук и лоб Зигмунда, чтобы привести его в сознание. Через минуту или две Зигмунд открыл глаза, посмотрел на Джонса, стоявшего над ним, и прошептал: – Какой сладкой должна быть смерть.10
Все врачи старшего возраста имели обширную практику. Зигмунд же ограничился одиннадцатью пациентами – их лечение занимало ежедневно одиннадцать часов все шесть дней в неделю, – чтобы иметь свободными хотя бы несколько вечерних часов для работы над книгой «Тотем и табу», для написания статей, объясняющих появление в сновидениях заимствований из сказок и выдумок детей, о чем он узнал от пациенток. В первой выдумке «непослушная, самовольная, самоуверенная девочка» превратилась в робкую и скромную из–за того, что ей потребовалось несколько монет на краску для пасхальных яиц, которые она собиралась подарить отцу. Когда же ей отказали, она изъяла немного денег для покупки красок из более крупной суммы, данной ей отцом на другие цели, а затем лгала. «Это был поворотный момент в моей жизни» – так описала пациентка доктору Фрейду свой случай, восприняв суровое наказание как свидетельство отказа отца от дочери. Вторая пациентка, стремясь порадовать отца тем, что она лучшая ученица в классе, солгала, будто использовала компас для рисования круга, но была уличена учителем. Карл Абрахам сумел отказаться от медицинских заключений для судебных заседаний, благодаря тому что его посещали в среднем десять пациентов в день. Он просил Зигмунда прислать ему на помощь обученного психоаналитика. Одним из новых и наиболее талантливых адептов был Теодор Рейк, завершавший свои тезисы на получение степени доктора философии в Венском университете. Рейк, урожденный венец, на тридцать лет моложе Зигмунда, происходил из семьи гражданского служащего. Его интерес к работам профессора Фрейда вызывался нападками на них. Он прочитал «Толкование сновидений» и стал убежденным сторонником Фрейда. В университете его главной дисциплиной была психология, но он увлекался французской и немецкой литературой и в возрасте двадцати двух лет, перед тем как набрался смелости представиться профессору Фрейду, опубликовал книгу о Беер–Гофмане, австрийском поэте и драматурге, где упоминалось имя Зигмунда Фрейда. Худой, чисто выбритый, Рейк был приятным, привлекательным молодым человеком, у него был нос с горбинкой, полные губы, а за стеклами очков сверкали живые глаза. Правда, шея казалась коротковатой. Рейк вошел в Венское психоаналитическое общество в 1910 году и смело вступил в спор с профессорами об обоснованности психоанализа, заявив, что напишет на эту тему первую диссертацию на докторскую степень. Когда Рейк впервые пришел к Зигмунду, у него было намерение пройти клиническую школу, но Зигмунд разубедил его, поскольку у Рейка не было склонности к медицине. Сам Рейк подсказал Зигмунду убедительный довод в пользу такого совета, когда однажды проговорился во время закуски на скорую руку у Зигмунда, состоявшей из сыра, салями, хлеба и кофе: – Еще подростком я искал источник, который удовлетворил бы мою заинтересованность в познании таинственных глубин человеческой души. Я думал, что наделен даром выявления следов забытого прошлого в явлениях настоящего. Теодор Рейк знал, что каждый вечер в девять часов Зигмунд совершает прогулку по Рингу. Он ожидал профессора у Оперного театра, там произошла их встреча. Теперь, когда Отто Ранк имел пациентов и начал зарабатывать на жизнь, Зигмунд настоял на избрании Теодора Рейка секретарем общества с целью помочь ему в финансовом отношении. Рейк взял Зигмунда под руку и прошел с ним вместе вдоль Ратхаусштрассе. Он просил совета, следует ли ему жениться на своей возлюбленной, которую знал с детских лет, и как ему найти занятие, которое должно стать смыслом жизни. Зигмунд ответил: – При маловажных решениях спрашивай сознание. Для важнейших решений своей жизни позволь быть хозяином подсознанию. В таком случае не сделаешь ошибки. Рейк завершал доклад под названием «Ритуалы половой зрелости у первобытных племен». Зигмунд убедил его поехать в Берлин с невестой, где Карл Абрахам подвергнет его психоанализу, а он, Рейк, может оказать помощь Абрахаму в его редакторской и издательской деятельности. Зигмунд оплатил расходы по поездке. Прошло всего два года после разрыва с Зигмундом, и Вильгельм Штекель потерял интерес к группе Альфреда Адлера, оставил «Центральблатт»; журнал не получал больше интересных статей, а число подписчиков убывало. Зигмунд узнал, что Штекель пытается основать Ассоциацию сексуальных наук, и предлагал Карлу Абрахаму присоединиться. В том же Берлине доктор Вильгельм Флис стоял за группой, учредившей Общество сексологии. Однако все попытки Вильгельма Штекеля и Вильгельма Флиса обойти психоанализ оказались безуспешными. Семье Фрейд понравился жених Софии Макс Халь–берштадт. В середине января Марта организовала красивую свадьбу дочери. Наперекор высказываниям покупателей против журнала «Имаго» Гуго Хеллер подготовил к выпуску четыре очерка о «Тотеме и табу» в виде книги. Тем временем Зигмунд написал введения к работам своих друзей: преподобного Оскара Пфистера «Психоаналитический метод» и Макса Штейнера «Психические расстройства мужской потенции». А в Соединенных Штатах А. –А. Брилл закончил перевод «Психопатологии обыденной жизни» и «Толкования сновидений». Эти книги Зигмунда выдержали несколько изданий в Европе. Американское издание встретило меньше возражений, чем в Австрии и Германии. Обращение Карла Юнга в праведную веру оказалось кратковременным. Вернувшись в Швейцарию, он отошел от ряда концепций Фрейда, в которые больше не верил: от сексуальных символов в сновидениях, от сопротивления и подавления в подсознании. Письма Юнга были путаными и иногда невразумительными. Зигмунд сказал Марте, которой всего несколько месяцев назад рассказывал о чудесной встрече в Мюнхене: – Полагаю, нет надежды исправить ошибки цюрихцев. Я решил порвать личные отношения с Юнгом. Трудно поддерживать дружбу при таких разногласиях. Солидарная с ним молодежь работала превосходно. Новая книга Отто Ранка «Мотив кровосмешения в поэзии и сагах» пользовалась значительным успехом. Шандор Ференци поместил в ежегоднике уникальную статью о переносе воспоминаний из подсознания в сознание. Эрнест Джонс опубликовал семь статей в «Центральблатт», стал известным как авторитет в области сублимации и представил свои рукописи в новый журнал Зигмунда «Цайтшрифт» и в «Джорнел оф аномал псайколоджи». Статьи Карла Абрахама появлялись регулярно в «Имаго», «Цайтшрифт» и в берлинском издании по психоанализу. Он работал над диссертацией, которая позволила бы ему получить место профессора в университете. Оскар Пфистер публиковал статьи о педагогике в бернском журнале «Земинарблеттер». Новым успешным «приобретением» стал итальянский студент Эдоардо Вейс из Триеста, посетивший впервые Зигмунда, когда ему было всего девятнадцать лет, и обратившийся за советом, как ему подготовиться, чтобы стать психоаналитиком. Он окончил медицинский факультет Венского университета, вошел в общество и весьма быстро написал интересную статью о рифмах и припевах. Четырьмя годами ранее Зигмунд рекомендовал, чтобы Вейс обучился психоанализу у Поля Федерна. В Вену приехала Лу Андреас–Саломе, желавшая пройти обучение у профессора Фрейда. Привлекательная женщина любила носить русские блузки и высокие воротники. На ее лице выделялись глубоко посаженные глаза, пухлые выразительные губы и блестящие, расчесанные на пробор волосы. Она импонировала Зигмунду как личность, ее непосредственность доставляла ему удовольствие. У него сложилась привычка следить за выражением ее лица во время лекций в университете по субботам вечером. Когда однажды она пропустила лекцию, он огорчился и написал ей об этом. На правах гостя ее допустили к дискуссиям по средам, где стало ясно, что она интуитивно понимает психоанализ. Зигмунд удовлетворил ее просьбу провести несколько часов с ним, чтобы обсудить личные, а не медицинские дела, и позволил ей прийти к нему в кабинет в воскресенье в десять часов. Они беседовали до часу ночи, а затем он проводил ее в гостиницу. Лу Андреас–Саломе понравилась Марте, и она пригласила ее на ужин. Марта спокойно отнеслась к тому, что Андреас–Саломе, не задумываясь, стала любовницей Виктора Тауска. Зигмунд объяснил Марте и Минне, что такая связь полезна Тауску, несмотря на то, что он был на восемнадцать лет моложе Лу Андреас–Саломе: она делает его эмоционально более стабильным. За ужином у Фрейдов русская женщина рассказывала чудесные истории. Минна все же задалась вопросом: – Вы не заметили, что Лу Андреас–Саломе всегда обрывает рассказы на середине? У Зигмунда возникли осложнения с Тауском. Тауск, которого иногда обвиняли в рабской привязанности к Зигмунду Фрейду, периодически ощущал необходимость выступить на публике и показать свое мужество, пытаясь отвергнуть одну из теорий профессора Фрейда. Он обладал таким отважным, способным к импровизации умом, что иногда приближался к успеху. Когда обнажились раны его психики, он вел себя агрессивно в венской группе и находил доводы в свою пользу. В такие моменты Зигмунд искал помощи Лу Андреас–Саломе в попытке понять своего трудного ученика, который писал проникновенные статьи о мазохизме и теории познания. Альфред Адлер перенес встречи группы по средам из кабинета Зигмунда в публичный лекционный зал. Поначалу Зигмунд не оценил должным образом такое решение. Теперь же он радовался этому, ибо после каждой встречи он направлялся со своими ближайшими союзниками – Ранком, Федерном, Заксом, Тауском и Лу Андреас–Саломе, когда она была в Вене, – в ресторан «Альте Эльстер» или в кафе «Ландтман», где они усаживались за центральным столом и беседовали о многом, что Зигмунд предпочитал не обсуждать публично: о передаче мыслей, о парапсихологии. Было интересно наблюдать, как его ученики ищут собственные направления исследований, приближаются к областям, которые он не считал родственными своим исследованиям или же не определял их отчетливо, не имел времени и желания их изучить. Карл Юнг уехал на пять недель для чтения лекций в Америку. – Скорее для прославления Карла Юнга, чем психоанализа, – заметил Зигмунд. На Пасху он с младшей дочерью Анной совершил поездку в Венецию. По пути они остановились в Вероне, наиболее очаровательном средневековом городе Северной Италии, где жили Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти, затем поездом поехали в Венецию и на гондоле добрались до своего отеля. Стройная, высокая семнадцатилетняя Анна слегка напоминала отца, ее здорового цвета лицо обрамляли пышные светлые волосы, зачесанные на прямой пробор. После замужества Матильда и София покинули родительский дом, Анна сблизилась с отцом. Она была умной, примерной студенткой. Когда к ним перешла квартира Розы, Марта и Зигмунд предоставили ей собственную спальню с окнами, которые выходили на Берггассе, чтобы Анна имела собственный уединенный уголок для учебы. Она проявляла большую заинтересованность к работам своего отца. Две старшие дочери относились к ним равнодушно, как к чему–то не предназначенному для молодых женщин. Анна, напротив, не смущалась, она читала книги и статьи отца с того времени, когда была способна понять их. Если же содержание оказывалось слишком сложным для понимания в шестнадцать, а затем семнадцать лет, она шла к Зигмунду и настаивала, чтобы он разъяснил прочитанное более простыми терминами. Несмотря на молодость и неопытность, она была хорошо осведомлена об эдиповом комплексе, о тяге к инцесту, о подавлении и действии подсознания. Не участвуя во встречах по средам, она иногда спрашивала разрешения присутствовать на его беседах с Джонсом, Ференци или Абрахамом. Она постепенно и осторожно установила отношения дружбы с Отто Ранком, Гансом Заксом и в особенности с Максом Эйтингоном, который ей явно симпатизировал. Коллег Зигмунда не смущало ее присутствие, и они откровенно говорили о своих пациентах и рукописях, словно Анна была их коллегой, это служило признанием ее ума и профессионального отношения, перенятого от отца. В отличие от Матильды и Софии она не стремилась выскочить замуж; она намеревалась продолжать учебу дома и разделять бремя отца в той мере, в какой позволяли обстоятельства. Для Зигмунда она стала незаменимым компаньоном в путешествиях. Анна обладала родственным ему складом ума, и им не приходилось много говорить: казалось, они читали мысли друг друга по взгляду, выражению лица, изменившемуся настроению. Зигмунд удивлялся тому, что самая младшая из его детей, и к тому же девочка, оказалась ближе к нему по темпераменту, чем его сыновья, с которыми он проводил лето в горах, на воде, в прохладных, пахнущих смолой лесах. Если бы Анна была мальчиком, то следующей осенью поступила бы в Венскую клиническую школу. Младший сын Эрнст, которому исполнился двадцать один год, изучал в Венском университете архитектуру и проявлял незаурядный талант. Двадцатидвухлетний Оливер завершал курс прикладной математики, в то время как Мартин в свои двадцать три года все еще учился в коммерческом колледже Экспортной академии, той самой, где Александр опередил Зигмунда в получении звания профессора. Зигмунд воспринял без энтузиазма поступление Мартина в Экспортную академию, но и не сопротивлялся желанию старшего сына. Видимо, судьбе было угодно, чтобы мальчики не пошли по стопам отца, а возможно, и потому, что Зигмунд не поощрял интерес сыновей, потеряв вкус к собственной профессии, которая превратила его в изгоя на такой длительный срок. Сыновья, судя по всему, были довольны своим выбором. Немногим женщинам удавалось закончить клиническую школу. В своей группе он имел одну такую женщину – доктора Маргариту Хильфердинг. Анна же, казалось, была счастлива, посещая школу собственного отца, который охотно занимался со своей целеустремленной и интересной дочерью. Зигмунд говорил, что по красочности нет места, сопоставимого с Венецией, особенно когда видишь в первый раз город, построенный на наносных островах лагуны. Анне понравились площади Сан–Марко, Дуомо, фигуры, ударяющие по колоколу на часах Кампаниле, Лоджетта Сансовино, прогулка на гондоле по Большому каналу, мост Дель Академиа, посещение рыбного рынка против моста Риальто, осмотр галереи Дель Академиа, в которой хранится прекрасная коллекция картин Венециано, Мантеньи, Тициана и Тинторетто, и затем поездка на пароходе в Мурано и Торчелло. Когда он вернулся в Вену, его ожидали два приятных известия. Шандору Ференци наконец–то удалось основать Будапештское психоаналитическое общество с участием полдюжины врачей. Поступило также сообщение, что в конце мая все пять членов комитета соберутся на Берггассе, чтобы утвердить свою организацию и разработать стратегию на предстоящие месяцы в связи с намеченным на сентябрь 1913 года конгрессом в Мюнхене. Зигмунд бросил взгляд на золотое кольцо на своей руке, в которое он вмонтировал любимую им греко–римскую камею с головой Юпитера. Он купил дюжину подобных камей в итальянских лавках древностей. Из своей коллекции он отобрал пять с самой искусной резьбой, пошел к Марте и показал ей камеи, лежавшие на ладони его руки. – Марта, думаю, что следовало бы подарить каждому из членов комитета по одной такой камее. Они могут носить ее в кармане жилета как талисман… – …Или вмонтировать в кольца, как ты, Зиги. Думаю, что это прекрасная идея. – В ее глазах мелькнула насмешка. – Это будет наподобие кровного братства. Зигмунд улыбнулся в ответ: – Сентиментально, признаюсь, и романтично. Пять членов комитета приехали одновременно на обед, и каждый принес Марте скромный букет цветов. Собрался в полном смысле слова семейный совет, ибо трое мальчиков оказались дома: на время летних каникул им предоставлялась свобода выбора. Марта посадила около каждого участника комитета по члену семьи Фрейд. Когда служанка внесла массивную супницу, Зигмунд осмотрел с приятным чувством сидящих за столом. Рядом с Анной сидел смуглый, темноволосый Отто Ранк, с трудом прятавший за темными очками выражение счастья на своем лице. Рядом с тетушкой Минной восседал величественный Эрнест Джонс, на бледном лице которого выделялись темные брови. Около Марты пристроился округлый, с двойным подбородком Ганс Закс. Шандор Ференци был зажат между Эрнстом и Оливером. Около Зигмунда находился строго выглядевший, коротко постриженный Карл Абрахам. В стекле дверцы буфета с посудой Зигмунд поймал собственное отражение. – Для мужчины, перевалившего за пятьдесят семь, – рассуждал он, – я выгляжу неплохо. Его волосы все еще сохраняли свой цвет, и только на правой стороне, где появилась залысина, они слегка поседели. Однако его усы и небольшая бородка совсем побелели. Он знал, что когда размышлял, то на лбу и от носа к губам появлялись морщины, но сейчас, окруженный семьей, друзьями и учениками, он выглядел счастливым и довольным. Лишь его темные глаза оставались серьезными. После обеда гости удалились в кабинет Зигмунда, где в атмосфере взаимного дружелюбия они попыхивали сигарами. Зигмунд вытряхнул пять камей из конверта на ладонь: – Господа, у меня в руках официальная печать нашего ордена. Будьте добры, возьмите по камее из моей руки, но с закрытыми глазами. Тогда каждому достанется талисман, предназначенный ему судьбой. Один за другим присутствующие взяли по камешку с ладони Зигмунда. Они дождались, пока все пять отобрали по камее и могли сопоставить свои приобретения. Прозвучали слова радости и признательности. Эрнест Джонс на правах председателя комитета сказал: – Дорогой профессор, мы глубоко тронуты, Не могло быть подарка более приятного и свидетельствующего о нашей близости, чем ваш. Можем ли мы получить разрешение вмонтировать камеи в кольца, как сделали вы? Никто не узнает, что они означают, но мы будем носить их на руке день и ночь. Посмеявшись над каламбуром Джонса, Зигмунд заявил: – Всем сердцем согласен. Затем собравшиеся перешли к деловым вопросам: каковы могут быть обязанности и потребности группы? Они будут часто писать друг другу, сообщать подробно, что происходит там, где они работают, о новых публикациях о психоанализе, о тех, кто критикует и кто одобряет, об интересных случаях, которыми им придется заниматься, о новых идеях в терапии. Они договорились встречаться не менее двух раз в год не только в Вене, но и в Будапеште, Берлине и Лондоне. Поскольку они отдыхали в одно и то же время, в августе или сентябре, то договорились проводить вместе несколько недель, быть может, в горах или у моря.11
Несмотря на старания коллег Зигмунда преодолеть углубившийся разрыв между Цюрихом и Веной, периоды молчания становились все более длительными и, откровенно говоря, были предпочтительнее обмена все более резкими письмами между Зигмундом Фрейдом и Карлом Юнгом. При получении Зигмундом враждебного письма из Кюснаха у него обострялось воспаление гортани. Пик напряжения определился в июне, когда доктор Альфонс Медер, один из крупнейших психоаналитиков, практикующих в Швейцарии, написал Шандору Ференци, что разногласия между двумя группами вполне естественны и нормальны, поскольку цюрихцы – арийцы, а венцы – евреи. Приехавший через пару недель в Вену в сопровождении Эрнеста Джонса Ференци показал Зигмунду письмо. Прочитав его, Шандор заметил: – Нет такой вещи, как арийская и еврейская наука. Результаты науки одинаковы, разница лишь в том, как они излагаются. Острый на язык Эрнест Джонс воскликнул: – Очевидно, мне следует перенести свою практику в Вену. Иначе как же мы положим конец сомнительным выводам Медера? В одной из ваших гинекологических клиник в Городской больнице женщины умирали тысячами от родовой горячки… пока Земмельвейс не научил врачей мыть руки мылом и горячей водой. Значит, чистота в медицине также принадлежит евреям? Карл Юнг не участвовал в подобных глупостях. Он сдержал обещание, данное Зигмунду, активно действовать в роли президента и осуществил подготовку к конгрессу в Мюнхене в сентябре 1913 года. Узнав, что Зигмунд не собирается представить свой доклад, Юнг написал письмо, утверждая со всей решительностью, что значение конгресса окажется ослабленным, если профессор Фрейд не выступит на нем со своим сообщением. Абрахам, Ференци и Джонс также проявили настойчивость в этом вопросе. В конце концов Зигмунду пришлось дать согласие. Он отдыхал с Мартой и Анной в Мариенбаде, где начал писать статью о причинах предрасположения к навязчивому неврозу. Холодная и сырая погода обострила боли в руке, и он мог писать лишь с большим трудом. Он сообщал Эрнесту Джонсу: «Не могу припомнить другое время, столь же наполненное мелкими неприятностями и досадой, как это. Обрушилась такая плохая погода, что ждешь, кто возьмет верх – ты или злой гений времени». Покинув Мариенбад, они поехали в Сан–Мартино ди Кастроцца, расположенный на высоте полутора тысяч метров в Далмации. Здесь к семье присоединились Абрахам и Ференци. Боли прошли, депрессия исчезла, и они провели несколько приятных недель до отъезда в «Байери–шерхоф» в Мюнхене. Зигмунд надеялся, что конгресс пройдет мирно, как в Веймаре, что разногласия отступят перед интересами их подвергающейся нападкам науки. Он отредактировал и смягчил тон рукописи Эрнеста Джонса, в которой тот высказал критические замечания относительно подхода Юнга к терапии. Зигмунд спросил Марту, не хотела ли бы она поехать вместе с ним на конгресс, ведь там будут присутствовать некоторые жены и женщины–врачи, а после этого съездить на пару недель в Рим. Марта поблагодарила за приглашение, но предпочла провести время в более прохладных горах. У тетушки Минны весь год было плохо со здоровьем, и она редко выходила из дома. Минна любила путешествовать, и ей особенно нравился Рим. Марта полагала, что поездка больше пойдет на пользу сестре, и Зигмунд с ней согласился. Зигмунд и Ференци выехали в Мюнхен ночным поездом. Они направились прямо в «Байеришерхоф». Зигмунд настоял, чтобы по традиции они остановились в том же отеле, что и цюрихцы. Члены комитета – Абрахам, Закс, Ранк, Ференци и Джонс – завтракали вместе с ним. За завтраком они условились о том, кто из членов ответит на критику, которая может возникнуть в дискуссии. Профессор Фрейд не должен участвовать в спорах! В ноябре на встрече в Мюнхене было решено, что обсуждению подлежат только основные доклады. Теперь же Карл Юнг требовал урезать время докладов и после каждого проводить обсуждения. Опасность заключалась в том, что время могло быть исчерпано до того, как будут представлены все сообщения, конгресс превратился бы в яростный спор, вызывая недовольство сторон. Первое утреннее заседание конгресса прошло успешно. Присутствовали восемьдесят семь членов и гостей, хотя Зигмунда огорчало отсутствие Ойгена Блейлера. Эрнест Джонс сделал сообщение о сублимации, в этой области он был первооткрывателем. Голландский психоаналитик Ян ван Эмден представил анализ псевдоэпилепсии. Виктор Тауск сделал солидное сообщение о нарциссизме. Один из швейцарских психоаналитиков представил основательный доклад о причинах гомосексуальности. Участники позволили себе прервать лишь выступление Тауска, главным образом из–за споров о методологии. Опасность ссоры наметилась во время ланча. Карл Юнг и его группа сели за один столик, Зигмунд Фрейд и его друзья – за другой. Зигмунд не понимал, как это случилось. Исчезли дружба и общение при встречах. Зигмунд сказал разочарованно Гансу Заксу: – Я надеялся, что, находясь в одной гостинице, мы будем вместе в обеденный час. Но взрыв произошел, когда Ференци, а затем Абрахам поднялись, чтобы сделать свои сообщения. Они попросили для выступления по часу, необходимому для раскрытия темы. Однако Карл Юнг посмотрел на золотые часы, вынутые из кармана жилета: если он даст им час, то не останется времени для дискуссии. Он предложил им сократить выступления. Ференци и Абрахам запротестовали, их поддержала венская группа, но безрезультатно; Юнг был председателем, а его слово – закон. После этого Юнг сам начал критические нападки, отрицая эдипов комплекс, детскую сексуальность, стремления к инцесту и сексуальную этиологию. Другие члены швейцарской группы поддержали его. Венцы вскочили со своих мест, пытаясь оспорить услышанное. Юнг стукнул председательским молотком и воскликнул: – Час истек. Переходим к следующему сообщению. Когда послеполуденное заседание окончилось, венцы были разъярены. Они считали, что тяжелый на руку Карл Юнг допустил произвол в своих действиях и так провел заседание, чтобы осмеянию сообщений сторонников Фрейда был придан публичный характер. На следующий день намечались выборы. В номерах гостиницы проходили частные встречи. Шандор Ференци заметил сардонически: – Юнг больше не верит во Фрейда. Карл Абрахам добавил мрачно: – Не думаю, чтобы кто–либо из нас голосовал за возобновление его полномочий! Почему бы не опустить наши бюллетени незаполненными? Лицо Зигмунда вспыхнуло. – Прошу вас не делать такого бесполезного и унизительного для Юнга шага. Он в любом случае будет переизбран – на его стороне большинство. Итак, несмотря на наше разочарование… – …Обиды! – крикнул Ференци. – Хорошо, обиды, не будем углублять пропасть. Разрыв неприятен и для Юнга. Произвол с его стороны частично вызван конфликтом в его собственном сознании. Он разрывает его на части! Поверьте мне на слово. Он поступает так под воздействием своей натуры и воспитания, под давлением швейцарских и немецких медицинских обществ, швейцарских церковников, правительства и прессы. Он отважно боролся за нас, когда никто другой не решался на это. Мы не можем унизить публично такого человека. На следующих выборах мы можем выдвинуть одного из наших в качестве кандидата. Это была убедительная просьба. Никто из двадцати двух последователей Зигмунда не сомневался в его искренности, но и ни один из них не уступил его просьбе. Когда на следующий день состоялся подсчет голосов, то Юнг получил «за» пятьдесят два; остальные двадцать два бюллетеня оказались незаполненными. Юнга разъярила полученная им пощечина. Он не сказал ничего Зигмунду, но, выходя из зала, отвел Эрнеста Джонса в угол и спросил: – Джонс, ты оставил свой бюллетень пустым, не так ли? – Боюсь, что да, Юнг. – А я думал, что ты христианин! Уэльсец Джонс был крайне чувствителен к национальным и религиозным предрассудкам. Он пошел прямо в комнату Зигмунда. – Господин профессор, нет ли привкуса антисемитизма в этом замечании? Зигмунд подумал о такой путающей возможности. – Честно говоря, я так не думаю, Эрнест, Юнг – человек широких взглядов. Он уважает все религии и культуры. – Что же, черт побери, он имел в виду тогда? – Быть может, он ожидал, что ты проявишь христианское милосердие и проголосуешь за него, несмотря на давление твоих венских друзей? Погода в Риме была теплой, но не душной. В первое утро после завтрака он встретил Минну в фойе, и они прошли по улицам, где жизнь уже била ключом, вдоль Виа дей Фори Империали, мимо руин старинного Форума. Перед Колизеем они повернули налево и поднялись по холму к церкви Святого Петра в цепях, чтобы взглянуть на скульптуру «Моисей» Микеланджело. Моральные раны, нанесенные Зигмунду на Мюнхенском конгрессе, были глубокими; впереди ожидались трудные времена. Но, стоя перед скульптурой, изучая рисунок пальцев, запущенных в бороду, руку, прислоненную к каменной таблице с десятью заповедями, выражение лица Моисея, описанное им впоследствии как «смесь гнева, боли и презрения», он почувствовал, что его ум просветлел. Он ощущал глубокое восхищение этим прекрасным произведением искусства. При нем была записная книжка, и он занес в нее свои первые впечатления при виде законодателя. Каждое утро он и Минна выбирали маршрут: Палатин, площадь Кампидольо со статуей Марка Аврелия, театр Марчеллус, заложенный Юлием Цезарем, станцы в Ватикане, расписанные Рафаэлем, – или же совершали поездки на раскопки в античную Остию. После полудня и вечерами он писал введение к книге «Тотем и табу» и статью о нарциссизме. Он расширил прочитанный в Мюнхене доклад о навязчивом неврозе и для смены впечатления написал первый вариант статьи о Моисее.12
Зигмунд возвратился на Берггассе к началу своего медицинского года и обнаружил, что его приемная заполнена пациентами. Первым был молодой парень,который выстрелил себе в голову и не мог объяснить, почему он это сделал. Его родители пришли вместе с ним к профессору Фрейду, чтобы выяснить случившееся, ведь парень был в добром здравии и в хорошем настроении в момент выстрела. Зигмунду не потребовалось много времени, чтобы добраться до первопричины. Старшая сестра парня вышла замуж за год до случившегося и уехала с мужем в другой город. Будучи на седьмом месяце беременности, она приехала навестить семью. Увидев свою беременную сестру, парень вышел в соседнюю комнату и выстрелил в себя. К счастью, его умение целиться было столь же ничтожным, как желание умереть. Однако его родители боялись, что он может повторить попытку. Поскольку парень был слишком молод, чтобы понять значение и смысл табу, Зигмунд постепенно объяснил ему, к чему ведет инцест, почему со времен первобытного человека брак между членами семьи запрещен. Развивая осторожно тему, он разъяснил парню, что тяга к инцесту не является противоестественной, но что ее надо распознавать и держать под контролем, что через несколько лет, когда он повзрослеет, он найдет другой объект любви, вне своего клана. Подросток понял все правильно. К концу второго месяца он заверял своих родителей, что им не следует тревожиться по поводу его состояния. Следующему пациенту Зигмунд не смог помочь. Молодой человек страдал неврозом одержимости. Каждую ночь ему приходили в голову фантазии или сны, будто он слышит людей, старающихся проникнуть через крышу дома и кастрировать его. Почта доставила весть, что у Джонса в Лондоне трудности, возникшие в связи с только что созданным им Психоаналитическим обществом. Едва он успел начать, как отклики бунта Юнга докатились и до Англии. «Бритиш медикэл джорнел» комментировал: «Швейцарцы возвращаются к нормальному здравому смыслу». Некоторые из коллег Джонса переметнулись к Карлу Юнгу, поддержав его концепцию коллективного подсознания. Поступило также сообщение из Америки, что доктор Стенли Холл, пригласивший Зигмунда в Университет Кларка и популяризировавший фрейдовские теории, разделял точку зрения Адлера. Зигмунд и Карл Юнг обменялись письмами, в них речь шла о ежегоднике и Международном психоаналитическом обществе, и ни о чем больше. Карл Юнг не хотел слышать о психоанализе Фрейда. Ежегодник мог оказаться недоступным для венцев и для сторонников Зигмунда Фрейда. Организация ежегодных конгрессов находилась в руках Юнга, тот мог созывать их по своему желанию, называть выступающих с докладами и определять позицию общества в области психиатрии. – Я сам сделал это, – стонал Зигмунд, – и не могу сказать, что меня не предупреждали. Карл Абрахам… Ойген Блейлер… мои венцы… Между членами комитета шла интенсивная переписка. Ференци добивался, чтобы все сторонники Фрейда вышли из общества. Карл Абрахам и Эрнест Джонс не разделяли его мнения. Они писали: «Если мы уйдем, то общество окажется полностью в руках Юнга. А себя мы обессилим. Юнг, видимо, не останется слишком долго на посту редактора. Когда он созреет, то удалится в Кюснах и начнет сплачивать своих последователей». Зигмунд согласился с умеренными соображениями. Абрахам и Джонс оказались правы. В октябре 1913 года Юнг оставил пост редактора ежегодника. Не откажется ли он вскоре от поста президента Международного психоаналитического общества? Зигмунд принял известие об отставке Юнга со смешанным чувством. Он почувствовал облегчение, и в то же время его огорчала потеря друга, которого он искренне любил. Где–то в глубине рассудка он навсегда останется благодарным ему и сохранит эти чувства. Ненависть выступала обратной стороной медали. Он не позволит себе ненавидеть Карла Юнга или третировать его. Если, как он сам твердил много лет, для сознания не существует случайностей, то в равной мере справедливо, что нет и сокрытия. Он поморщился, вспомнив строку из письма Юнга, отвечавшего на обвинения, что он начинает говорить, как Альфред Адлер. Юнг писал Зигмунду с возмущением: «Никто не может обвинить меня в том, что я сторонник Адлера или что примкнул к вашей группе». Под «вашей» он имел в виду группу Адлера. Подсознание Юнга прорвалось здесь и раскрыло истину. Карл Юнг не был похож на людей типа Альфреда Адлера. Он никогда бы не выпалил: «Почему я должен всегда работать под вашей сенью?» Ему никогда не приходили в голову такие мысли. Он верил лишь в то, что должен сделать научный вклад, который сравняет его с Зигмундом. Юнг не станет сколачивать в Кюснахе соперничающую, враждебную группу вроде той, какую основал Адлер у себя на Доминиканерштрассе. Он не намерен вредить Зигмунду Фрейду и разработанному им психоанализу. Зигмунд перечитал переписку за последний год; десятки писем подтверждали, какое огромное напряжение испытывал Юнг. Ведь и Карлу Юнгу, как и ему самому, разрыв нанесет травму. Юнг преподавал и пропагандировал психоанализ с 1900 года, тринадцать лет, и вложил в это огромный труд. Шесть с половиной лет назад он посетил Вену, и он и Зигмунд ощутили тогда связывающую их общность. Карлу Юнгу следовало бы знать, что, отходя от Зигмунда Фрейда, он отрывает себя от самого дорогого друга, от мастера, которому он обязан больше, чем даже своему бывшему руководителю Ойгену Блейлеру. Ему следовало бы знать, что означает отказ от двух престижных постов редактора ежегодника и президента Международного психоаналитического общества. Зигмунд также знал, что человек со способностями и волей Карла Юнга не может отрешиться от своих убеждений, сделать вид, будто он следовал указке Фрейда лишь до того момента, когда смог найти более универсальную веру. В конечном счете проделанный Зигмундом анализ не сделал потерю Карла Юнга менее горькой. Зигмунд в отличие от других осознавал мощь ума и личности Юнга. Если Юнг будет продолжать работать и пропагандировать свою теорию психологии, произойдет раскол на отдельные и противостоящие лагери. Нет способа умерить силу удара. Пережив период скорби, Зигмунд понял, что существует лишь один путь преодолеть последствия отхода Юнга – он должен написать книгу об истории психоанализа и его методике, точно показав, в чем истина. В критике в адрес Карла Юнга объектом должны стать мистицизм Юнга, его обращение к сагам и мифам. Во время первой лекции двенадцати студентам в университете 26 октября 1913 года, когда он рассказывал о своих отношениях с Йозефом Брейером, его вдруг осенило. Он сказал про себя: «Налицо полная аналогия между отказом Брейера признать сексуальность причиной неврозов и отчуждением Юнга! Это лишний раз подтверждает, что именно здесь ядро психоанализа». Что же, он ведет борьбу за умы людей. Истина утвердит себя. Он знает силу своего оппонента: многое, о чем пишет Карл Юнг, правильно, ибо он глубокий исследователь археологии, антропологии, мирового искусства и литературы. Но многое окажется окутанным мистикой и не выдержит проверки разумом и логикой. Плотный спиритический налет приведет к мистике под предлогом стремления примирить человека со своей судьбой. Намерение Зигмунда иное. Его главная цель – дать возможность человеку познать собственное подсознание, инстинктивные устремления, силы, действующие в его душе. Короче говоря, познание человеком самого себя и других, знание, которое дает последнюю великую надежду живущим на земле.13
На Рождество он выехал поездом в Гамбург, чтобы навестить дочь Софию, которая была на шестом месяце беременности. Он и Макс Хальберштадт ладили между собой, благодаря тому что Зигмунд не вставал в позу поучающего тестя. София чувствовала себя хорошо и выглядела крепкой, увлеченной вынашиванием плода. Зигмунд с нетерпением ждал, когда станет дедом. Он помнил замечание Марты, вернувшейся после посещения Софии: – У матери особое чувство при виде беременной дочери. Это классический способ для женщины увековечить свое имя. По пути домой он заехал в Берлин, где консультировался с Карлом Абрахамом, которого он мечтал видеть президентом Международного психоаналитического общества, после того как Карл Юнг подаст официальную просьбу об отставке. Абрахам был согласен занять этот пост. Заодно Зигмунд решил воспользоваться возможностью, чтобы посетить свою сестру Марию, ее мужа Морица Фрейда и их четверых детей. За истекший год бывали дни, когда он уделял пациентам по тринадцать часов. Ныне же, вернувшись в Вену, чтобы отметить в кругу семьи новый, 1914 год, он обнаружил, что по необъяснимым причинам число пациентов уменьшилось вдвое. Временами на прием приходили всего четыре–пять больных. Пациентку, не принимавшую жизнь такой, какая она есть, и рассказывавшую невероятные вымыслы о подарках и щедрости мужа, удалось подвести к воспоминаниям детства, когда она, дочь небогатого торговца, хвасталась в школе, будто каждый день за обедом ест мороженое, которое приносит богатый отец. На деле же она даже не знала вкуса мороженого. Ныне же она раздвинула рамки своих фантазий, выгораживая мужа. Затем пришла молодая женщина, у которой не сложилась супружеская жизнь. Ей нельзя было давать деньги, она тут же выбрасывала их на улицу как нечто плохое, грязное. Потребовалось значительное время, прежде чем она вспомнила, что неоднократно видела свою няню, отдававшуюся врачу прямо в кабинете. Каждый раз няня и врач давали ей деньги «за молчание» на покупку сладостей. Ныне, после свадьбы, деньги и интимные отношения превратились в синонимы. Она с отвращением выбрасывала «плохие» деньги на улицу и с тем же чувством изгоняла мужа из постели. Профессору Фрейду удалось ослабить симптомы: она больше не выбрасывала деньги и могла выполнять супружеские обязанности. Зигмунд все же сомневался в ее способностях к полнокровной половой жизни. В третьем случае речь шла о женщине, которая считала себя высокоодухотворенной и требовала от мужа удовлетворения своих мазохистских наклонностей, видя в этом гарантию верности. Муж должен был истязать ее и грубо с ней обращаться при половом акте, а она при этом фантазировала, что окружающие зрители наслаждаются зрелищем. В промежутках между интимными актами она страдала приступами головокружения. Психоанализ стал продвигаться лишь тогда, когда доктор Фрейд совместил два свидетельства: что у ее отца также бывали обмороки и что в ее фантазиях он часто присутствовал в качестве зрителя в момент совокупления. Будучи ребенком, она отождествляла себя с отцом, который в ее присутствии оскорблял ее мать и насильно загонял в спальню. Доктору Фрейду удалось избавить пациентку от головокружений, последующие сеансы раскрыли женщине глаза на причины ее склонности к мазохизму. Пациентка сдержанно благодарила его: – Господин профессор, теперь, когда вы вернули меня к норме, смогу ли я оставаться верной мужу? Самой судьбе было угодно, чтобы сократилось число пациентов, ибо он был полон желания в первые месяцы года составить историю психоаналитического движения и опубликовать ее в ежегоднике к тому моменту, когда об отставке Карла Юнга станет известно в Европе, Англии и Америке. В основе его политического кредо был принцип никогда не находиться в обороне. Однако данная рукопись послужит обороне: нужно было изложить правду о том, как возникла и развивалась теория психонализа, что он открыл, разработал, привел в движение и что сделали Альфред Адлер и Карл Юнг. Он попытается написать историю откровенно и честно. «Субъективный характер предлагаемой истории психоаналитического движения не должен вызывать удивления, так же как роль, которую мне довелось в нем играть. Психоанализ создан мною, я был единственным, кто занимался им в течение десяти лет, и все недовольство, вызванное этим новым явлением у современников, оборачивалось критикой в мой адрес. Я чувствую себя вправе утверждать, что и в наши дни, когда я давно уже не единственный психоаналитик, никто не может знать лучше меня, что такое психоанализ, чем он отличается от других способов исследования психической жизни и что именно следует этим словом обозначать». Он описал, как обнаружил психоанализ, начиная со случая с Бертой Паппенгейм, которую лечил Йозеф Брейер; остановился на мужской истерии, открытой Шарко; упомянул о том, как был подвергнут остракизму профессором Мейнертом и медицинским факультетом; рассказал о работе в Нанси с Бернгеймом и Льебо, о первом применении метода убеждения с помощью гипноза и легкого нажима на лоб больного, о разработке метода свободной ассоциации; о том, как высветились подсознание, эдипов комплекс, детская сексуальность, подавление, перенос из подсознания в сознание… Он писал о многом, касавшемся его лично, включая разрыв с Альфредом Адлером и Карлом Юнгом, а также об осознании им собственной вины в том, что, говоря словами Геббеля, «нарушил покой мира». «Вся моя личная чувствительность в те годы, на счастье, притупилась. От ожесточения же меня оберегало одно обстоятельство, которое выпадает на долю не всякому первооткрывателю–одиночке. Последний мучительно доискивается причин безучастия или неприятия со стороны современников и видит в них мучительное несоответствие правоте собственных убеждений. Я же в этом не нуждался, поскольку психоаналитическая теория давала мне возможность оценить такое отношение окружающих как необходимое следствие аналитических посылок. Если верно, что раскрытые мной взаимосвязи изолируются от сознания больных людей внутренним аффективным сопротивлением, то такое же сопротивление должно возникать у здоровых, когда вытесненный материал поступал к ним в виде информации извне. Неудивительно, что они стремились мотивировать аффективное отрицание интеллектуальными выкладками. Столь же часто это встречалось у пациентов, и приводимые доводы, которые проще пареной репы, как говорил Фальстаф, были теми же самыми и вовсе не отличались остроумием. Разница лишь в том, что с больными можно было пользоваться средствами принуждения, чтобы заставить их осознать и преодолеть сопротивления, тем же, кто считает себя здоровым, так не поможешь». Как заставить здоровых людей рассмотреть проблему в трезвом и научно объективном духе, оставалось нерешенной задачей, которую лучше доверить времени. «История науки дает много примеров того, как положение, вначале вызывающее только возражения, через некоторое время получало признание, не имея новых доводов в свою пользу». Он закончил рукопись к концу февраля 1914 года и отдал ее в печать. Карл Абрахам, заменивший Юнга на посту редактора ежегодника, полагал, что сможет опубликовать ее в первом редактируемом им выпуске, возможно, в июне. Зигмунд почувствовал большое облегчение, что вскоре увидит свет исторический обзор. Через несколько дней его дочь София еще более укрепила его хорошее настроение, родив крепкого мальчугана. В начале мая Зигмунд почувствовал недомогание. Он сказал Марте: – Кроме болезни Эрнеста Джонса в Лондоне, дела идут хорошо. Мы получили официальное прошение Юнга об отставке с поста президента. Карл Абрахам займет его место и подготовит следующий конгресс в Дрездене. Я намерен описать случай «человека, одержимого волком». По набору фактических доказательств описание этого случая может стать наиболее убедительным свидетельством, которое я был когда–либо в состоянии привести. Меня пригласили прочитать курс лекций в Лейденском университете осенью; это первое важное признание в Европе. Ведущий голландский психиатр А. В. Рентергем объявил публично о достоверности нашего толкования сновидений и теории неврозов… Впервые после неполадок с сердцем двадцать лет назад Марта всерьез встревожилась по поводу здоровья Зигмунда. Ее расстроило намерение доктора Вальтера Цвейга, специалиста по пищевому тракту, провести ректоскопию, чтобы удостовериться в отсутствии рака прямой кишки. Зигмунд не хотел признаваться в том, что многие из расстройств вызывались перегрузкой, волнениями, усталостью. – У тебя было более чем достаточно неприятностей, Зиги. Дело Юнга попортило тебе кровь; а теперь доктор Стенли Холл объявил о поддержке Альфреда Адлера. Обследование проходило болезненно, но доктор Цвейг не нашел признаков злокачественной опухоли. Зигмунд объявил об этом Марте: – Боги дают отсрочку. Доктор Цвейг не нашел ничего тревожного относительно того, что я ласково именую моим американским колитом. Будем считать, что я ошибся в своих ощущениях. Вскоре выйдет ежегодник с историей открытия психоанализа, и это расставит все по своим местам. А тем временем подумаем о лете. – Да. Анна хочет навестить Софию и ребенка. – Хорошо. Она может остановиться там на пути в Англию. Я обещал ей, что она проведет лето в семье Эммануэля, как я, когда был в ее возрасте и отец наградил меня поездкой за успешную сдачу экзаменов на аттестат зрелости. – Считает ли доктор Цвейг, что нам следует поехать в Карлсбад? – Такую рекомендацию он дал. Почему бы не провести большую часть июля на вилле «Фазольт», затем август – в Южной Далмации? В сентябре ты сможешь сопровождать меня в Дрезден на конгресс. Это славный город, быть может, самый колоритный в Германии. Его интерес к политике не выходил за рамки интереса простого человека; он ежедневно читал газеты, не придавая особого значения международным новостям в отличие от Альфреда Адлера и его друзей – завсегдатаев кафе, которые ежедневно читали несколько иностранных газет. Политический кризис, угрожавший Зигмунду, его семье и друзьям, мог быть вызван вступлением в должность мэра Вены Карла Люгера. Он был избран на этот пост, но не утвержден императором Францем–Иосифом из–за его антисемитской избирательной платформы. Однако когда Люгер был повторно избран и принес присягу, он заявил: – Я сам буду решать, кто еврей, а кто нет. Люгер объявил ряд своих друзей неофициальными арийцами и назначил некоторых на посты в своей администрации. Он проявил себя прогрессивным мэром. Во время его правления, до смерти в 1910 году, антисемитизм оставался приглушенным. Это, естественно, успокаивало. В течение нескольких лет военные тучи отбрасывали свою тень на венские газеты. Зигмунд вчитывался в сообщения, но было трудно распознать, где блеф, а где гроза. Карл Абрахам присылал из Берлина успокаивающие письма, что войны не будет. В таком же духе писал ему из Будапешта Ференци. Эрнест Джонс в Лондоне и Пфистер в Цюрихе тоже не высказывали тревоги. Зигмунд знал, что сербы пытаются оторвать хорватов от Австро–Венгерской империи и образовать собственный союз, что эрцгерцог Франц–Фердинанд обещал хорватам автономию, как только он сменит престарелого Франца–Иосифа на троне. Он понимал, что такой акт мог означать войну с Россией, державшей войска на австрийской границе, однако все эти тревоги и прокламации повторялись много раз в течение длительного времени и никто не принимал их всерьез. Зигмунд говорил: – Оставляю дискуссии о войне на совести кофеен. Он был захвачен врасплох, когда эрцгерцог Франц–Фердинанд был убит на мосту в Сараеве сербом, находившимся в конспиративной связи с теми, кто хотел подчинить себе хорватов и не дать им возможности получить независимость из рук эрцгерцога. Прочитав известия в газетах, он написал Ференци: «Пишу под влиянием шокирующего убийства в Сараеве, последствия которого трудно предвидеть». Когда гроб с телом эрцгерцога везли ранним утром по пустынным улицам Вены, как везли из Майерлинга двадцать пять лет назад тело последнего принца Рудольфа, Зигмунд сказал Марте: – За этим скрывается что–то нечистое. Но как узнать что? – Я боюсь, Зиги. – Ее глаза наполнились слезами. – Если это война, а у нас три взрослых сына… Он обнял ее: – Разве ты не помнишь, Марта, в декабре двенадцатого года мы были на грани войны с Россией из–за Сербии? Была тревожная политическая ситуация, но ничего не произошло. Ожидавшегося шума не было, по меньшей мере в венских газетах. Были лишь эмоциональные разговоры в кафе об обмене нотами и переговорах между министерствами иностранных дел стран Европы. Затем через неделю, когда не было признаков войны, Зигмунд послал Анну в Гамбург навестить Софию, а затем она должна была отправиться в Англию и провести там остаток лета. Он строил планы взять с собой Марту на конгресс в Дрезден. Конгресс станет чисто психоаналитическим, доклады будут представляться в обстановке согласия и симпатии, без Альфреда Адлера, Карла Юнга и без венских и цюрихских диссидентов. Его ближайшие сотрудники встретят его на несколько дней раньше, чтобы обсудить текущие дела и новую структуру общества. Комитет проведет вместе приятные часы. Брилл приедет из Нью–Йорка, Джеймс Патнэм – из Бостона, Теодор Рейк и Абрахам – из Берлина, Пфистер – из Цюриха, Осипов – из Москвы, Эдоардо Вейс – из Триеста…Книга шестнадцатая: Опасное путешествие
1
Война все же разразилась. Германский император Вильгельм II заверил императора Франца–Иосифа, что, если Австрия окажется втянутой в конфликт с Россией из–за австрийской акции возмездия против Сербии, Германия «встанет с ней рядом как союзник». Австрия объявила войну Сербии. Россия провела мобилизацию. Германия объявила войну России. Франция объявила мобилизацию. Германия объявила войну Франции и в тот же день вторглась в Бельгию. Англия, выполняя свой договор с Бельгией, объявила войну Германии. Мартин Фрейд пошел добровольцем в артиллеристы. Эрнст Фрейд вступил в армию. Оливер участвовал в прокладке туннеля в Карпатах. Комитет и Венское психоаналитическое общество не остались в стороне от войны. Виктор Тауск, Ганс Закс, Отто Ранк были призваны на военную службу, Поль Федерн стал армейским врачом. Шандор Ференци был зачислен на военную службу в Будапеште, Карл Абрахам направлен в военный госпиталь в Германии. Непригодный для военной службы в свои пятьдесят восемь лет, профессор Зигмунд Фрейд был тем не менее полон патриотических чувств. Впервые за многие годы он ощущал себя австрийцем, гордился тем, что Австрия явила миру свое мужество. Ее армия быстро разгромит сербов, захватит Белград, положит конец беспорядкам на Балканах. Австро–Венгерская империя вернет потерянные территории и станет сверхдержавой. Он не сомневался в том, что эта война справедливая, и был уверен в ее исходе. Австрия была права, начав войну. Германия поступила правильно, выполнив обещание, данное Австрии. Он сказал Александру: – Все мои чувства на стороне Австро–Венгрии. Значительную часть своей энергии он отдавал заботам об Анне, находившейся в Англии. Австрийский посол обеспечил ее безопасность, и она благополучно вернулась в Вену. Он восхищался молниеносностью, с которой германская армия разгромила противников, но опасался, что ее успехи, способные завершить войну к Рождеству, могут стать причиной национального самодовольства. В лихорадке войны неврозы в Европе отступили на задний план. Пациенты Зигмунда испарились. Лишь действительно больные получали медицинские документы, освобождавшие от призыва в армию. Его пациентами теперь были незнакомые лица, требовавшие подтвердить непригодность для фронта из–за нервных заболеваний. К нему пришли два пациента–венгра, но один быстро исчез. Зигмунд использовал свободное время, чтобы описать историю «человека, одержимого волками». Письма, пробивавшиеся через нейтральные страны, удивляли его. Эрнест Джонс писал из Лондона, что англичане и французы выиграют войну. Зигмунд раздумывал: а не потерял ли Джонс рассудок? Доктор Тригант Бэрроу, участвовавший в заседаниях Цюрихского психоаналитического общества, предлагал ему убежище от австрийских бедствий. Зигмунду была понятна такая близорукость, ведь этот доктор находился на расстоянии тысячи километров от места событий. Но его эйфория длилась недолго. Она начала рассеиваться, когда армия императора Франца–Иосифа потерпела первое поражение от сербов. Второй удар был нанесен, когда немцы не сумели захватить Париж. Его огорчила шутка, услышанная в кафе: – Наше отступление в Галиции осуществляется по плану, чтобы заманить противника. Он все еще надеялся на победу в войне, но уже стал склоняться к мысли, что она откладывается, быть может, до следующего Рождества. Отрезвление наступило лишь тогда, когда сыновья его друзей и коллег пали первыми жертвами на поле брани. Мартин писал, что его фуражка и рукав пробиты пулями. Зигмунд посещал госпитали и видел молодых людей с ампутированными руками и ногами, с рассеченными головами. Затем он понял, каким был дураком, слепым, опасным дураком. Превозносить войну! Ощутить омоложающее волнение, пережить взлет патриотических чувств из–за того, что его страна вознамерилась завоевать весь мир! Никто не в состоянии завоевать кого–либо. Смерть – единственный победитель. Сколько тысяч погибнут? Десять? Сто? Сколько будут искалечены? Его унижало то, что он, профессор Зигмунд Фрейд, посвятивший лучшую часть своей жизни разъяснению инстинктивных и подсознательных мотиваций мышления человека, позволил обмануть себя, превратить в жертву самых примитивных стремлений – сражаться, убивать, захватывать! У него не было возможности предотвратить войну, но он мог применить свой опыт, чтобы разгадать ложь, с помощью которой обманывали. Он в той же мере достоин порицания, как неграмотный крестьянин, блаженствовавший в лучах славы бессмысленной войны до своей гибели в грязи скотного двора, принадлежащего другому крестьянину, или же до заточения в палату, созданную Карлом Абрахамом для свихнувшихся солдат. Глубоко в сознании затаилось чувство, что он пострадает от собственного безумия. С каждым месяцем у него обострялось ощущение, что Вена изматывается. Он предвидел горечь и лишения грядущих лет. Даже в наиболее напряженные дни работы было слишком мало пациентов, чтобы покрыть хотя бы половину текущих расходов. Марта экономила на всем. Его сбережения таяли. Власти не требовали его услуг как невролога. После каждой кровавой схватки он переживал приступы депрессии и на душе оставался отпечаток ужасов войны. Он думал: «Это как длинная северная ночь… Нужно ждать восхода солнца». Не хватало продовольствия даже тем, у кого были деньги. Многие товары повседневного спроса исчезли с прилавков магазинов. Не было мяса. Опустела даже лавка мясника на нижнем этаже дома на Берггассе. На Зигмунде, считавшем мясо своей основной пищей, это сказывалось самым чувствительным образом. Он похудел, похудели Марта, Минна, Анна. Затем стали исчезать дрова и уголь. Цены, как уже было с продовольствием и одеждой, возросли в два–три раза по сравнению с довоенным уровнем. А потом не стало угля, и их кафельная печь не топилась. По вечерам он сидел в кабинете вместе с Гансом Заксом, освобожденным от армии из–за плохого зрения, закутанный в тяжелое пальто, обмотанный шарфом, в шляпе, пытаясь писать окоченевшими пальцами. Оливер завершил инженерные работы в туннеле и вступил в армию. Макс Хальберштадт получил ранение на фронте. Вместе с Софией они жалели его. Публикация ежегодника прекратилась. Журнал «Цайт–шрифт» выходил нерегулярно. Международное психоаналитическое общество существовало только на бумаге. О конгрессе не приходилось и мечтать. После того как 1916 год передал трудную эстафету 1917–му и русская революция свергла царя, а Соединенные Штаты вступили в войну на стороне Англии и Франции, трудности семьи возросли. Инфляция обесценила остававшиеся у Фрейдов кроны. Племянник Герман Граф, сын Розы, был убит на итальянском фронте. Три их сына часто оказывались под огнем. Марта со страхом вставала утром: она боялась известия, что один из сыновей ранен или убит. Иногда, когда в Вену просачивались сведения об австрийских жертвах, она падала духом. Подозревая, что семья Фрейд испытывает большие финансовые трудности, Эли Бернейс еще до объявления войны Соединенными Штатами перевел в Вену значительную сумму. Друзья в Голландии переслали Зигмунду сигары, зная, что их нет в его табачной лавке. Ференци, воспользовавшись своим положением офицера, переправил запрещенные к пересылке ящики с провиантом. Доктор Роберт Бараньи из Упсалы выдвинул Зигмунда кандидатом на Нобелевскую премию. Пациент, которого ранее лечил Зигмунд, завещал ему 2026 долларов, они были поделены между детьми и двумя овдовевшими сестрами. Зигмунд возобновил чтение лекций в университете, их посещали девять студентов. Он стал записывать лекции перед их чтением, чтобы незамедлительно публиковать под названием «Вводные лекции по психоанализу». «Психопатология обыденной жизни» вышла пятым изданием, несмотря на трудности с бумагой. Брилл продолжал переводить и публиковать книги Зигмунда в Америке. Эрнест Джонс переправлял письма через Швейцарию или Голландию, сетуя, что переведенные Бриллом тексты плохи и неточны и поэтому наносят ущерб репутации психоанализа. В начале войны Зигмунд и Марта прожили несколько недель в Берхтесгадене: в это время Амалия находилась поблизости, в Ишле, и они хотели отметить ее восьмидесятилетие. Следующим летом они провели две недели в Зальцбурге, навестили Софию и ее ребенка, встретились с Матильдой и Робертом Холличер, Александром и его женой, Анной и, самое приятное, с сыновьями Мартином и Эрнстом, получившими увольнительные. После возвращения на службу Эрнст заболел туберкулезом. К концу 1917 года Зигмунда начали посещать больные. Он понял почему. Хотя в Германии еще поддерживался искусственный оптимизм, австрийцы примирились с фактом, что война проиграна и конец ее близок. Пациенты Зигмунда, а их было около десяти каждый день, решили, что, коль скоро придется жить в побежденной стране, имеет смысл подлечиться; возбуждение, вызванное войной, уже не притупляло страданий. Они обращались к профессору Фрейду за помощью, в которой давно нуждались. В 1918 году, в последний год войны, Ференци организовал для семьи Фрейд отдых на курорте в Татрах. Эрнст лечился в соседнем санатории. Ференци сумел подготовить созыв Международного психоаналитического конгресса в сентябре в Будапеште. Вместе с Зигмундом на конгрессе присутствовали Марта и Эрнст, а также сорок два аналитика и энтузиаста из Голландии и Германии, Австрии и Венгрии. Их разместили в новом отеле «Геллертфёрдо» с его горячими источниками и прекрасными садами. Мэр обратился с приветствием к делегатам, им был предоставлен катер для поездки по Дунаю, в их честь были устроены официальные приемы и обеды. На конгрессе присутствовали официальные лица из Германии, Австрии и Венгрии, озабоченные тем, как оказать помощь солдатам, страдающим военным неврозом. В Будапеште под руководством психоаналитика открылся центр по лечению контузий. Ференци обещали присвоить звание профессора и открыть в университете курс лекций по психоанализу. Подобно Эйтингону в Берлине и Абрахаму в армейском госпитале в Алленштейне, он добился в Будапеште хороших результатов, работая с пациентами, заболевшими неврозом на фронте. – Мы жизненно нужны! – резюмировал Зигмунд в комитете Ференци, Абрахаму, Заксу и Отто Ранку. – Впервые нас принимают как признанную научную организацию… – …Могущую внести ценный вклад, – вмешался возбужденно Ференци. – Профессор Фрейд, мы не только нужны, нас просят. Ах! Быть нужными! Я годами мечтал об этом. Война закончилась 11 ноября 1918 года. Скоротечная революция низложила наследника Франца–Иосифа императора Карла, Габсбурги сошли со сцены. Венгрия объявила о своей независимости. Империя рассыпалась. Мартин исчез, потерялся в последние недели хаоса. Зигмунд и Марта были глубоко встревожены: не погиб ли сын? Тяжело ранен? Найдут ли они его? Спустя несколько недель они получили от него почтовую открытку с весточкой, что он лежит в итальянском госпитале: он попал в плен и перенес малярию. Вена пала духом. «Недели без мяса» сменились «месяцами без мяса». Австрийская валюта обесценивалась так быстро, что за буханку хлеба требовали целый чемодан банкнот. Семья Фрейд потеряла все, включая, сбережения, которые Зигмунд вложил в австрийские облигации и в страховку Марты. Его пациенты не появлялись из–за безденежья. Эрнест Джонс советовал Зигмунду переехать в Лондон, где он мог гарантировать ему практику. У Джонса было девять пациентов и еще шестнадцать ожидали своей очереди. Марта спросила: – Не хочешь ли поехать, Зиги? В Австрии будущее так мрачно. Прожив вместе так долго, они вновь оказались в положении, в каком были вскоре после свадьбы. Зигмунд вздохнул: – Нет. Вена – мое поле битвы. Я должен оставаться на своем посту. Он направил всю свою энергию на то, чтобы не только положить на бумагу идеи, вызревавшие за последние годы, но и возместить время, потерянное им самим из–за шовинистического безумства. В годы войны Дойтике опубликовал его исследование о невротическом побуждении к рецидиву. Вслед за этим Зигмунд выпустил новую работу о том, как происходит подавление в подсознании. Затем вышли монографии «Инстинкты и их превратности» и «Наблюдение по переносу любви»; в последней он проследил процесс, когда пациентки влюбляются в своих врачей в порядке подмены отцов, которых они любили в детстве. В 1917 году была опубликована работа «Оплакивание и грусть», а в 1918 году Хеллер выпустил историю «человека, одержимого волком» под названием «Из истории детского невроза». Описание заняло сотню страниц и стало наиболее убедительным изложением, когда–либо написанным им о происхождении неврозов в детстве и психоаналитической истории их устранения. После этого он приступил к серии из двенадцати очерков о метапсихологии, пытаясь сформулировать теорию функционирования ума: из чего оно складывалось, его структура, физиология. Хеллер выпустил «Вводные лекции по психоанализу» в трех томах. Полярная ночь прошла, но заря была сумрачной, безрадостной.2
Только что родившаяся Австрийская республика с трудом держалась на ногах. Война измотала всех. Вена выглядела унылой, ее валюта ничего не стоила, лавки были пусты, а госпитали переполнены. Не хватало угля и продовольствия. Значительная часть населения голодала и не имела работы. Ни один из трех сыновей Фрейда не смог найти подобающего места. Скудный заработок Зигмунда был единственной опорой для его матери и Дольфи, для его овдовевших сестер Розы и Паули и их детей, для Мартина, Оливера и Эрнста; для Марты, Минны, Анны и для него самого. Ему приходилось кормить шестнадцать ртов, не имея при этом надежного источника доходов. Он пытался также помочь Александру и его семье. Положение было немыслимо тяжелым. Марта трудилась не покладая рук. Она выходила из дома рано утром со своей хозяйственной сумкой, покупала немного уже несвежей зелени в одном месте, кость для супа в другом, иногда рыбешку для супа, а в удачные дни немного чечевицы, гороха, бобов или ячменя у бакалейщика. Супница была все такой же большой, но ее содержимое все более жидким. У каждого от голода сосало под ложечкой, но об этом не принято было говорить. Зигмунд писал Эрнесту Джонсу: «Мы переживаем тяжкие времена, но наука – могучее средство, чтобы жить с высоко поднятой головой». В последнее военное лето, когда он, Марта и Анна находились в Татрах, в Венгрии, Зигмунд стал личным врачом и другом богатого тридцатисемилетнего пивовара Антона фон Фрейнда, нескольким родственникам которого помог Ференци с помощью психоанализа. Тони – так он просил Зигмунда называть его – был доктором философии, человеком необычайно одаренным. У Антона фон Фрейнда возникла серьезная проблема: у него обнаружился рак яичек. Несколько месяцев назад ему удалили одно яичко. Хирург уверял, что вычистил все следы раковой опухоли и нет никаких физиологических причин, препятствующих Антону возобновить нормальную половую жизнь. Обычно энергичный, фон Фрейнд впал в депрессию и стал психологическим импотентом, не способным к интимным отношениям со своей привлекательной молодой женой Рожи. Фон Фрейнд и Шандор Ференци многие годы были близкими друзьями. Ференци не смог помочь Антону. «Кстати, профессор Фрейд вскоре приезжает в Венгрию, – сказал Ференци, – вам больше повезет с мастером». Тони фон Фрейнд спросил профессора Фрейда, не возьмется ли он лечить его. Зигмунд охотно согласился. Они договорились проводить послеполуденное время в Татрах, используя прогулки для лечения. – Тони, у нас нет ни времени, ни необходимости для того, что мы, психоаналитики, называем сквозной работой, которая является длительным процессом, ведущим к перестройке характера. Вы получили психоаналитическую подготовку у Ференци, и, таким образом, мы будем работать совместно, чтобы добиться ослабления симптома. Мы двинемся прямо к катарсису в надежде достичь неожиданного, почти взрывного открытия причин обеспокоенности. – Как вы добьетесь этого, профессор Фрейд? – Не я, а вы совершите это, Тони. Благодаря силе познания, которая позволит вам преодолеть страх, расчленить его на отдельные понятные элементы. Вы думаете, что ваша временная импотенция вызвана операцией, но это лишь видимый признак. Стимул связан, по–видимому, с детскими страхами и тревогами, которые обрели такую психологическую силу. – Понимаю, профессор. – Тогда мы можем приступить к быстрому раскрытию идей с упором на сексуальные аспекты вашего детства, почти исключая другие. Антон припомнил, что, когда ему было лет шесть, он наблюдал за поваром, разделывавшим птицу и резавшим колбасу, и тогда у него возникла боязнь, что острый нож отрежет что–нибудь у него. Его восхищали и пугали мастеровые, ходившие по улицам с точильными кругами. Он также вспомнил шутку, услышанную в то время: разница между мальчиками и девочками в том, что у девочек удалена «маленькая частичка»; он ощущал страх, оказываясь рядом с острым ножом или ножницами. Прошли дни, и Антон фон Фрейнд вспомнил свои первые опыты рукоблудия, за которыми его застал отец и полушутя предупредил мальчика, что если он не прекратит это баловство, то потеряет свои интимные части. Тони продолжал трогать руками свой пенис, но каждый раз, когда он делал это, его чувство вины и страха углублялось. Ему казалось, что пенис исчез или омертвел. Удаление хирургом яичка вызвало из подсознания эти детские страхи. Когда воспоминания вышли наружу, Зигмунд попытался вернуть Антону уверенность. – Все мужчины боятся кастрации. Я ее также боюсь. Все мужчины боятся, что выйдет наружу женское начало их бисексуальной природы. Я также боюсь этого. Все мужчины ежедневно сталкиваются с проблемами, мешающими их половым функциям. У меня они также есть. В голубых глазах Антона появилась еще одна искорка. За многие дни он впервые улыбнулся. – Понял, что вы говорите: нарушение половых функций не означает, что что–то не в порядке с половыми органами! Это выражение нарушений в другой зоне. – Именно так! Теперь мы сможем переключить вашу тревогу относительно пениса на другие стороны вашей жизни. Поскольку Антон последовательно утверждал свою личность, он восстановил уверенность в себе, необходимую, чтобы устранить ощущение импотенции из уязвимой зоны. Он сумел ослабить симптом. Двое мужчин проводили вместе день на озере Цорба на высоте более тысячи двухсот метров среди прекрасных лесов. Прошел дождь, миновали буря и заморозки, и в этот ясный день они могли погреться на теплом солнце. – Профессор Фрейд, я вынашиваю план. Я поговорил со своей семьей, прежде всего с матерью и сестрой Катей. Мы все согласны: я учреждаю для вас фонд в миллион крон (четверть миллиона долларов), который будет использован для развития психоанализа. Зигмунд глубоко вздохнул. Они стояли на просеке над озером. Он прислонился к аккуратно сложенным бревнам, пытаясь обрести опору. – Миллион крон! Трудно поверить! Наше движение всегда было нищим. Почти ни одна из наших публикаций не окупала расходов. Мы сможем возобновить публикацию ежегодника и восстановить ежеквартальный выпуск журнала. Это дар Божий. Антон уселся на бревно, его лицо светилось радостью и удовлетворением. – Никаких условий, профессор Фрейд. Я переведу кроны на счет, как только вернусь в Будапешт. По мере продвижения вашей работы, когда возникнет нужда в средствах, дайте мне знать, и необходимые суммы будут пересланы вам. Зигмунд был глубоко тронут. – Тони, если бы вас не было, то вас следовало бы выдумать. В этот вечер Зигмунд поведал о своих мечтах Марте. Ливень стучал по крыше спальни. Голос Зигмунда перекрывал шум дождя. – Мы больше всего нуждаемся в собственном издательстве. Не только для того, чтобы возобновить ежегодник, но и чтобы издавать журналы «Цайтшрифт», «Имаго», книги. Тогда не придется ходить с протянутой рукой, чтобы напечатали наши работы. Мы смогли бы по мере необходимости основывать новые научные журналы и регулярно выпускать их. Мы сможем заказывать книги по нашей тематике, которые в ином случае не готовились бы или залеживались в ящиках столов из–за того, что они не принесут доходов. Марта откинулась на подушки, Зигмунд стоял у изголовья. Военные годы оставили свой след: около ее губ появились бороздки морщин, волосы поредели, но к глазам вернулось философское спокойствие. Она слушала, увлеченная планами Зигмунда. – Да, Зиги, выгоды очевидны. Не будет нового Вильгельма Штекеля, чтобы отобрать «Центральблатт» под тем предлогом, что он нашел издательство для печатания. Но, вероятно, потребуются опытные люди? – Разумеется. Они придут, как только у нас будут средства, чтобы открыть типографию, купить печатные машины… Он возвратился в Вену с пятьюдесятью тысячами крон из фонда Антона фон Фрейнда и арендовал помещение для издательства «Интернационалер психоаналитикер Ферлаг», или просто «Ферлаг». Отто Ранк, перенесший приступ депрессии в Кракове, где находился во время войны, но сумевший тем не менее жениться на красавице Беате Тола Минсер, вернувшись в Вену, немедленно взял в свои руки издательство с присущими ему настойчивостью и энергией. Он объявил, что намерен издать собрание сочинений Зигмунда Фрейда в кожаном переплете, тогда читающая публика получит представление о ценности томов. Пятьдесят тысяч крон (десять тысяч долларов) ушли на оборудование конторы и склада, приобретение быстро исчезавшей в Вене бумаги, оборудования и подписание контрактов. Зигмунд был спокоен: в будапештском фонде оставалось еще девятьсот пятьдесят тысячкрон. Члены Венского психоаналитического общества постепенно возвращались домой и возобновляли свою практику. Были восстановлены связи между членами комитета. Шандор Ференци блестяще начал свою послевоенную карьеру в Будапеште: тысяча студентов университета изъявили желание слушать его лекционный курс. Когда власть перешла в руки коммунистического режима Белы Куна, Ференци получил полную поддержку в качестве профессора университета и строил планы основать психоаналитический институт по подготовке врачей. Поскольку психоанализ был официально признан в Будапеште, а фонд фон Фрейнда находился там, Зигмунд думал направить Отто Ранка в Будапешт для основания издательства. Не станет ли этот город центром европейского психоанализа? В начале 1919 года возобновились вечерние встречи по средам. Война оставила свой след на каждом из участников; теперь же группа пережила еще один удар. Виктор Тауск потерпел неудачу в попытке стать признанным психоаналитиком. Сразу после окончания клинической школы он был призван в армию. Годы войны, проведенные в Люблине и Белграде, не излечили его от невроза. Лу Андреас–Саломе возвратилась к себе в Геттинген, в Германию, рассчитывая заниматься там психоанализом. Тауску требовалось, как никогда, внимание Зигмунда; ему нужно было, чтобы им восхищались, им занимались. Одновременно он стремился к независимости от профессора Фрейда и поэтому оспаривал суждения Зигмунда, выступая с теоретическими выкладками на встречах по средам. Зигмунд уважал тонкий ум Тауска, но тревожился по поводу его шизофрении. Наконец в сорок лет Виктор Тауск открыл свой кабинет психоанализа. Затем он влюбился в молодую музыкантшу Хильду Леви, о которой писал как о «самой дорогой женщине, когда–либо входившей в мою жизнь… благородной, чистой и доброй». Зигмунд надеялся, что Тауск сумеет построить эмоционально устойчивую семейную жизнь и профессиональную практику, которую искал все одиннадцать лет. Этого не произошло. Когда Виктору Тауску надлежало пойти за свидетельством о браке, он написал прощальное письмо своей невесте и профессору Зигмунду Фрейду, составил опись своего имущества, накинул на шею петлю из веревки от гардины, приложил свой армейский пистолет к правому виску. Выстрел снес часть головы, и труп повис в петле. Фрейду принесли прощальное письмо. Зигмунд был ошеломлен, пережил шок, жалость, гнев. Почему Виктор совершил такой безумный поступок, когда был так близок к осуществлению мечты своей личной и профессиональной жизни… после того как группа потратила столько энергии, внимания, средств, чтобы помочь его становлению? Прощальное письмо мало о чем говорило: «Дорогой профессор… Благодарю за все доброе, что Вы сделали для меня. Сделано было много, и это наполнило смыслом последние десять лет моей жизни. Ваша искренняя работа гениальна, я ухожу из жизни, сознавая, что был свидетелем триумфа одной из величайших идей человечества… Сердечно приветствую Вас Ваш Тауск». Похороны на Центральном кладбище прошли скверно. Присутствовали члены его семьи, а также семьи первой жены, но никто не подумал об отпевании. Пришли Зигмунд и многие участники венской группы, однако никто не выступил. Молча опустили гроб Тауска в могилу: слышался лишь звук падавших комков земли, сбрасываемой могильщиками. С болью в сердце Зигмунд возвращался домой. Он ругал себя за то, что в этот момент не чувствовал любви к Виктору, им владела лишь жалость… и чувство безнадежности. Тауск был так нужен! Он вспомнил проницательные слова, сказанные когда–то Вильгельмом Штекелем: – Не убивает себя тот, кто не хочет убить другого или по меньшей мере не желает смерти другому. Было ли самоубийство актом агрессии? Или мести? Или желания избежать худшей судьбы, убийства или сумасшествия? Так много следовало бы выявить психоанализу относительно причин и мотивов самоубийства. Зигмунд написал некролог о Викторе Тауске для журнала «Цайтшрифт». Позже он отмечал в другой статье: «Быть может, никто не обнаружит той духовной энергии, которая требуется, чтобы покончить с собой, если только, поступая таким образом, самоубийца, во–первых, не убивает одновременно того, с кем он идентифицировал себя, и, во–вторых, обращает против себя желание смерти, направленное против этого другого». В ноябре 1919 года венгерское правительство Белы Куна было свергнуто контрреволюционными силами и румынской армией. Адмирал Хорти возглавил правительство и в начале 1920 года присвоил себе пост регента. Это был диктатор крайне правых взглядов и ярый антисемит. Одним из его первых шагов стало изгнание Шандора Ференци из университета, закрытие его неврологической клиники и принуждение уйти из Венгерского медицинского общества. Затем адмирал Хорти издал распоряжение о замораживании всех банковских счетов и запрещении вывоза денег из страны. Это означало, что Будапешт терял роль центра психоанализа и фонд Антона фон Фрейнда прекращал свое существование. Расходы по издательству Зигмунду пришлось покрывать из собственного скудного кармана. Поступили новые трагические известия. У Антона фон Фрейнда вновь появилась раковая опухоль с метастазами в печень и грудь. Он приехал в Вену в надежде получить лучшее медицинское обслуживание. Зигмунд устроил его в санаторий «Фюрт». Рак был запущен, и операция уже не могла помочь. Зигмунду не оставалось ничего иного, как сидеть у изголовья и успокаивать Антона. Позже он писал жене Антона: «Тони хорошо знал о своей судьбе, он воспринимал ее как герой, но, подобно настоящему человеку, гомеровскому герою, он время от времени горевал по поводу своей участи». Зигмунд держал руку Антона в тот полдень, когда он умер. Он нежно опустил веки и накрыл одеялом его лицо. Возвращаясь домой в морозный январский полдень, дрожа от холода, несмотря на пальто, он думал о желании Антона помочь психоаналитическому движению, о котором он сказал Зигмунду, что его ожидает большое будущее. Размышляя о том, какую радость испытывал он, когда познакомился с Антоном, и о своих надеждах, Зигмунд вспомнил изречение: «Пьющий на ужин вино жаждет воды на завтрак».3
Эпидемия инфлюэнцы прошла волной по Европе. Заболела Марта. Зигмунд и Минна ухаживали за ней дома несколько месяцев, а когда Марта окрепла, она поехала в санаторий в Зальцбурге, где быстро поправилась. Было это прошлогодней весной и летом. Ныне же, в тот самый день, когда Зигмунд и Венское общество хоронили Антона фон Фрейнда, Зигмунд получил телеграмму из Гамбурга от Макса Хальберштадта с известием, что заболела дочь София. Зигмунд обратился за помощью к Александру. – Зиг, я очень сожалею. На Берлин нет поездов, а ты должен попасть туда, чтобы добраться до Гамбурга. – А как насчет завтра? Лицо Алекса помрачнело. – Не завтра. Быть может, через несколько дней будет поезд Антанты. Оливер и Эрнст все еще ищут работу в Берлине? Пошли им телеграмму. Они смогут оттуда доехать до Гамбурга. Оливер и Эрнст выехали поездом в Гамбург. Их сопровождал Макс Эйтингон; он должен был проследить, сделано ли все необходимое. Марта сказала: – София молодая и крепкая. Если я, на тридцать два года старше ее, выкарабкалась, то у нее будет все в порядке. В этот вечер они вспоминали о посещении ими Софии и ее старшего почти шестилетнего сына Эрнста, говорили о годовалом Гейнце, которого еще не видели. Как мать, София не утратила прежних качеств их «воскресного дитяти»: веселая по натуре, обожавшая родителей, счастливая и гордившаяся своими умными, привлекательными детьми. София умерла от воспаления легких, вызванного инфлюэнцей. Оливер, Эрнст и Макс Эйтингон прибыли в Гамбург к похоронам. Зигмунд послал Матильду и ее мужа Роберта на поезде Антанты, чтобы утешить осиротевшего Макса Хальберштадта и позаботиться о двух малышах. Безутешная Марта слегла, но не проронила слезы. Зигмунд знал, что он не может поддаться горю: он нужен Марте. Четыре года войны они жили в тревоге за трех сыновей, а смерть унесла дочь. Эли Бернейс оказал существенную помощь семье Фрейд во время войны, вернув в десятикратном размере деньги, ссуженные ему Зигмундом для переезда в Соединенные Штаты. Теперь же дело Эли перенял его двадцативосьмилетний сын Эдвард, крепкий и динамичный, всем сердцем преданный дядюшке Зигмунду и его работе. Прибыв в Париж в 1919 году, первое, что он сделал, – послал в Вену коробку хороших сигар. Затем, когда Эдвард получил немецкий экземпляр «Вводных лекций по психоанализу», попросил права на перевод, обещая хороший гонорар. Зигмунд дал согласие. Энергичный Эдвард договорился о выгодном контракте с авангардистским нью–йоркским издательством «Бони энд Ливеррайт», роздал главы нескольким студентам Колумбийского университета, чтобы ускорить перевод, а затем уговорил издателей предложить профессору Фрейду десять тысяч долларов для поездки в Нью–Йорк с целью рекламы книги в серии лекций. Зигмунд отклонил предложение, хотя и нуждался в деньгах. – Эдвард, – сказал он Марте, – несомненно, один из великих толкачей всех времен. Увы, в их число я не вхожу. Эдвард выполнил обещания насчет гонорара; к сожалению, спешно сделанный группой перевод оказался неровным и страдал ошибками. Незадолго до этого Зигмунд занял у Макса Эйтингона две тысячи марок: ему требовалась твердая валюта для поездки в Берлин и Гамбург. Теперь же колесо фортуны вновь повернулось. Он получил в университете звание полного профессора. Титул оставался почетным, ему не предложили вести студенческие группы в клинической школе, и тем не менее «продвижение» было воспринято в Австрии как важное и способствовало восстановлению его частной практики. Британский врач Дэвид Форсайт приехал для семинедельного курса обучения. Эрнест Джонс направил к нему американского дантиста, работавшего в Англии. Из Соединенных Штатов приехал пациент, прослышавший, что «в Вене есть психолог, добивающийся хороших результатов». Коллеги направляли к нему больных, которым они не могли оказать помощь. Он требовал один и тот же гонорар – пять долларов за час, значительно меньше довоенной ставки, но с наличностью было трудно, и он был благодарен, когда платили в иностранной валюте, что позволяло ему содержать семью. Сергей Петров, «человек, одержимый волком», потерявший свое состояние в русской революции, приехал в Вену в поисках новой помощи. Он хорошо оплатил оказанную ему в прошлом помощь, и теперь Зигмунд отвечал добром на добро, принимая его бесплатно. К марту 1920 года Зигмунд скопил достаточно средств, чтобы вернуть долг Эйтингону. Оливер и Эрнст нашли работу в Берлине. Мартин работал во вновь учрежденном банке в Вене. Александр вернулся к занятиям бизнесом: на железных дорогах возобновилось движение, подвижной состав пополнился. Жизнь входила в нормальную колею. – Если под нормальным понимать, – сухо заметил Марте Зигмунд, – что дорожное полотно починено! Новое Швейцарское психоаналитическое общество было организовано верными сторонниками – пастором Пфистером, Людвигом Бинсвангером, Германом Рорахом, разработавшим оригинальные психологические тесты для исследования подсознания. Ганс Закс, заболевший во время войны и уехавший в Швейцарию, где он искал последнее убежище, поправился и открыл в Цюрихе психоаналитический кабинет. Эрнест Джонс и Шандор Ференци не без передряг добрались до Вены и остановились в гостинице «Регина», в верхней части Берггассе. Шандор Ференци наконец–то женился на своей Гизеле, после того как ее муж, с которым она давно была в разводе, в 1919 году покончил с собой. До Вены дошли слухи о любовной связи Ференци с одной из дочерей Гизелы и о сложном для него выборе, на ком жениться: на матери или на дочери. Ференци имел неплохую частную практику. Вскоре после свадьбы Эрнест Джонс привез с собой свою новую жену показать ее семье Фрейд. Молодая Катрин Ёкль родилась в Вене, затем жила в Цюрихе, где обучалась в школе экономики. Она работала секретарем у владельца гостиницы «Бор–о–Лак», зарабатывая на жизнь для себя и матери. Затем она встретила Ганса Закса, который имел интимную связь со старшей сестрой Катрин. Закс пригласил Катрин и ее мать на чай в кафе «Террас». Когда они пришли, то там не оказалось Ганса Закса, а был привлекательный мужчина в белом костюме, представившийся другом Закса доктором Эрнестом Джонсом. На следующий день, в субботу, Джонс послал Катрин большую корзину цветов, а в воскресенье пригласил ее на прогулку. После часовой прогулки он сказал: – Что вы скажете, если я попрошу вас поехать со мной в Италию… в качестве моей жены? Зигмунд, увидев Катрин, сказал вполголоса Джонсу: – Ты сделал хороший выбор. И всего за три дня! Ференци и Закс подшучивали над Эрнестом Джонсом, что он женился на Катрин, чтобы войти в круг избранных. Состоялась первая встреча комитета после начала войны. Был приглашен и принял приглашение Макс Эйтингон. Зигмунд подарил ему золотое кольцо с камеей. Было решено, что Эрнест Джонс откроет отделение издательства в Лондоне для перевода и публикации научных журналов в англоговорящих странах. Джонс привез с собой сигнальный экземпляр американского издания «Вводных лекций по психоанализу». Он шумел: – Профессор Фрейд, вы не должны так, наскоком, отдавать права на английский перевод ваших работ. Теперь возникнут осложнения с публикацией в Англии! – Он потянул себя за мочку уха, низко расположенную на его величественной голове. – Дорогой профессор! Мы должны отклонить все переводы Брилла как несостоятельные. – Нет, – твердо ответил Зигмунд. – Я предпочитаю иметь хорошего друга, чем хорошего переводчика. – Мы не можем позволить себе такой роскоши, – настаивал Джонс. От войны больше всех пострадали австрийские дети, оставшиеся круглыми сиротами. Их положение было настолько бедственным, что группа американских врачей создала фонд в три миллиона крон (608 тысяч долларов), чтобы найти для них приют–лечебницу. Они просили профессора Фрейда присоединиться к декану медицинского факультета и мэру Вены в управлении фондом. Через неделю Эли Бернейс добавил от имени своей жены Анны миллион крон (202 333 доллара) в фонд. Теперь сироты имели кров, были накормлены и одеты. Медицинский факультет был удивлен, узнав, что американские врачи предложили кандидатуру доктора Фрейда на этот пост. Почему именно Зигмунд Фрейд? Макс Эйтингон, получавший средства из Соединенных Штатов, решил, что Берлину следует иметь школу по подготовке психоаналитиков. Он поручил молодому Эрнсту Фрейду разработать проект здания. Эрнст прекрасно справился с заданием, предусмотрев лекционный зал, библиотеку, классы и учебные кабинеты. Эйтингон оплатил строительство и оснащение, передав все в собственность Берлинскому психоаналитическому обществу. Руководство взял на себя Карл Абрахам. Ганс Закс согласился переехать из Цюриха в Берлин, чтобы заняться подготовкой врачей. После открытия Берлинского центра венская группа пожелала иметь собственный клинический центр. Зигмунд возражал против этого, полагая, что Вена всегда противилась психоанализу и «вороне не следует рядиться в белые перья». В этом споре общество взяло верх, и появились планы открыть амбулаторию. Однако планы были отложены, когда доктор Зигмунд Фрейд вновь впал в немилость венских медиков. Инцидент возник в связи с его показаниями против профессора Вагнер–Яурега, обвинявшегося в злоупотреблениях при электролечении неврозов, вызванных шоками на фронте. К профессору Фрейду не обращались с просьбой применить психоанализ для лечения австрийских солдат, вернувшихся в Вену и страдавших неврозами, а Вагнер–Яурег пытался лечить электрошоком. Бывшие армейские пациенты обвиняли его в жестокости, в том, что он применял или разрешал применять в своей психиатрической клинике чрезмерное и страшно болезненное лечение электроразрядами. Судьи просили Зигмунда представить доклад, а затем выступить с оценкой результативности лечения шоками и сказать, не применялись ли сознательно мощные шоки против тех, кого Вагнер–Яурег называл «симулянтами, уклоняющимися от сражений». Зигмунд согласился с тем, что симуляция могла иметь место, но она была непредумышленной, что плоха терапия, делающая электрошок более страшным испытанием для солдат, чем поле брани. В показаниях он назвал случаи применения излишних шоков, но, по его убеждению, профессор Вагнер–Яурег никогда не поднимал до чрезмерного уровня напряжение электроразряда. – Я не могу поручиться за других врачей, которых не знаю, – сказал доктор Фрейд. – Физиологическая подготовка медиков в целом явно недостаточна… Зигмунд полагал, что защитил честь своего бывшего коллеги. Однако Вагнер–Яурег обиделся за то, что профессор Фрейд не выступил в его защиту более решительно. Впрочем, недовольство Вагнер–Яурега было пустяком по сравнению с раздражением психологов, занимавшихся нервнобольными солдатами. Они открыто выступили против психоанализа, назвав его мошенничеством. Зигмунд ответил памфлетом, опубликованным в 1918 году, в котором психоаналитик из Берлина доктор Зиммель, возглавлявший госпиталь в Позене для солдат, страдавших военными неврозами, дал примеры «исключительно благоприятных результатов, достигнутых в тяжелых случаях военных неврозов благодаря введенным мною психотерапевтическим методам». У Зигмунда было достаточно пациентов, чтобы скопить деньги на летний отдых семьи. Когда Марта уехала в Ишль, чтобы повидать Матильду, у которой опять хромало здоровье, Минна составила компанию Зигмунду в Га–штейне, где они оба прошли курс лечения на водах. Зигмунд и Анна посетили Гамбург, где встретились с Максом Хальберштадтом и двумя внуками Зигмунда, а затем отправились в Гаагу на первый послевоенный Международный конгресс, проходивший в сентябре 1920 года. Зная, что члены обществ психоаналитиков в странах Центральной Европы лишились своих сбережений и им трудно найти средства на поездку, голландские коллеги собрали пятьдесят тысяч крон на расходы. Они гостеприимно разместили участников в своих собственных домах на четыре дня конгресса. Окинув взглядом аудиторию, где собрались на первое заседание сто девятнадцать участников конгресса и гости, Зигмунд почувствовал с глубоким удовлетворением, что Международная психоаналитическая ассоциация возродилась, что дружба не разрушена, что нет зияющих ран войны. Он подумал: «Мы выдержали испытание братством, собравшись вновь, ибо многие из нас всего два года назад находились вместе со своими странами в состоянии войны. Хорошо быть врачом: мы лечим пострадавших от войны». Эрнест Джонс и британская группа организовали завтрак в честь профессора Зигмунда Фрейда и его дочери. Анна произнесла благодарственную речь на превосходном английском языке, что понравилось Британскому психоаналитическому обществу и восхитило отца.4
6 мая 1921 года Зигмунду Фрейду исполнилось 65 лет. Он приближался к этой дате, осознавая, что осуществил свои давние честолюбивые замыслы, созревавшие еще в лаборатории физиологии профессора Брюкке: стать исследователем и наставником, а не врачом–практиком. Ныне у него было больше последователей, чем пациентов, больше заявок на обучение психоанализу, чем рабочих часов на протяжении дня. Он уже дал согласие осенью принять на обучение десять человек, что было тяжелым обязательством для него, поскольку вечерами и в воскресенье он продолжал писать. Его радовало новое, растущее талантливое поколение психоаналитиков. Большинство из них либо были врачами, либо имели звание докторов философии: Елена Дейч, Феликс Дейч, Георг Гродлек, Генрих Менг, Ганс Цуллигер, Август Эйхгорн, Зигфрид Бернфельд, Гейнц Гартман, Эрнст Крис, Геза Рогейм. Его восхищала талантливая английская супружеская пара – долговязые и тощие Джеймс и Алике Стречи, независимо друг от друга пришедшие к заключению, что психология – это наиболее увлекательная и наиболее перспективная наука. Джеймс Стречи открыл для себя «Толкование сновидений», самостоятельно выучил немецкий язык, желая прочитать книгу в оригинале, затем пошел к Эрнесту Джонсу и спросил его, как он может сделаться психоаналитиком. Джонс ответил: – Учись на врача. Стречи, проработав в госпитале всего шесть недель, решил, что медицина не для него. Получив согласие Зигмунда, он приехал в Вену для психоаналитической подготовки. Зигмунд обнаружил в нем самого восприимчивого студента. Алике Стречи, также проявившая интерес к методам профессора Фрейда, спросила, не могла бы и она подвергнуться психоанализу. Зигмунд согласился, заметив: – Я никогда не подвергал одновременно психоанализу мужа и жену. Это, должно быть, крайне интересно. После прибытия четы Стречи в октябре 1920 года Зигмунд писал Джонсу: «Я принял господина Стречи для подготовки с гонораром гинея за час и не сожалею об этом, но его речь настолько невнятная и странная для моего уха, что мне мучительно трудно понимать его». Через несколько недель он отзывался о Джеймсе Стречи как «хорошем приобретении». Зигмунда больше всего поразило в тридцатитрехлетнем Стречи его стремление добиться совершенства в переводах; большую часть свободного времени он посвящал изучению немецкого языка, переводил на английский короткие работы Зигмунда, а затем показывал профессору Фрейду, насколько путаными и труднопонимаемыми были прежние переводы. На Зигмунда произвела большое впечатление страстность Стречи, более убедительная, чем настойчивость Эрнеста Джонса в утверждении, что старые переводы неточны и вводят в заблуждение, что переводами должна заняться талантливая группа психоаналитиков и пересмотреть их под эгидой Британского психоаналитического общества. – Стречи, у меня есть предложение. Не хотели бы вы взять на себя перевод описания пяти клинических случаев: Доры, «человека, одержимого крысами», маленького Ганса, Шребера и «человека, одержимого волком»? Они составят неплохой том для нашей библиотечки, если согласен Джонс. – Очень хотел бы, профессор Фрейд. – Добро. Это будет хорошим инструментом для обучения. Том потребует от вас значительных усилий. А тем временем я хотел бы, чтобы вы занялись двумя небольшими монографиями: «По ту сторону принципа удовольствия», опубликованной прошлой осенью, и «Психология масс и анализ человеческого Я», которую я заканчиваю и которая печатается этим летом. В монографии речь идет об исследовании отличия группового разума при случайной встрече людей или с определенной целью от индивидуального разума, в котором проявляются собственные инстинкты и особенности характера. Не могли бы вы в воскресенье прийти с женой на ужин? Мы обсудим это. Голубые глаза Стречи выражали радость. – Признательны вам, профессор. Алике также становится превосходным переводчиком. Воскресный ужин удался. Марта проявила то же материнское чувство к чете Стречи, какое она питала к молодой Катрин Джонс. Зигмунд увел Джеймса и Алике в свой рабочий кабинет с его коллекцией античных фигурок, где они без промедлений углубились в обсуждение монографии «По ту сторону принципа удовольствия», которую Джеймс и Алике изучали вместе и которую Зигмунд считал наиболее важной за последние годы. Он зачитал выдержку из монографии: «В психоаналитической теории мы без колебания принимаем положение, что течение психических процессов автоматически регулируется принципом удовольствия, возбуждаясь каждый раз связанным с неудовольствием напряжением и принимая затем направление, совпадающее в конечном счете с уменьшением этого напряжения, другими словами, с устранением неудовольствия или получением удовольствия». Зигмунд изложил то, что он считал новым и важным поворотом в психоанализе: удовольствие и неудовольствие соотносятся с мерой возбуждения в рассудке. Неудовольствие соответствует увеличению раздражения, а удовольствие – уменьшению. Умственный аппарат старается держать раздражение на возможно низком или по меньшей мере на постоянном уровне. Это наилучшая формулировка принципа удовольствия, «ибо, если работа умственного аппарата направлена на то, чтобы удерживать раздражение на низком уровне, тогда все, что ведет к увеличению этого уровня, будет ощущаться в качестве отрицательного фактора для функционирования аппарата, то есть как неудовольствие». Он разъяснил Стречи, что «принцип удовольствия вытекает из принципа постоянства». Мысленно он вернулся к тем дням, когда пытался убедить Йозефа Брейера в том, что психоанализ может стать точной наукой, и старался привязать свою концепцию к теории Гельмгольца о постоянстве, которую он изучал в лаборатории Брюкке. Он даже чертил диаграммы, чтобы доказать правоту своей точки зрения. В силу действия инстинктов собственного «я» в направлении самосохранения принцип удовольствия сменяется принципом реальности, который требует и вводит «сдерживание удовлетворения, отказ от некоторых возможностей достичь удовлетворения и временную терпимость в отношении неудовольствия как шаг на длинном окольном пути к удовольствию». По его мнению, невротическое неудовольствие есть удовольствие, которое не может быть воспринято как таковое. Он проводил отчетливое различие между инстинктами, которые в силу своего стремления к покою направлены в сторону смерти, и сексуальными инстинктами, действующими в направлении продолжения жизни: Эрос и Танатос, любовь и смерть – две полярные силы человеческой природы. Для того чтобы переключить пациента от принципа удовольствия к принципу реальности, надо подсознательное превратить в сознательное. Пациент, который не может сознательно помнить все подавленное в его уме или зачастую его существенную часть, вынужден пережить подавленное как опыт настоящего времени. Врач же должен помочь ему вспомнить об этом принадлежащем к прошлому. «В таком случае кажется, что инстинкт есть побуждение, присущее органической жизни, к восстановлению прежнего состояния вещей, от которого живущее существо было вынуждено отказаться под влиянием внешних раздражителей». Истина, не знающая исключений, в том, что «все живущее умирает по причинам естественным, возникающим в нем самом, и вновь превращается в неорганическую природу». Поэтому Зигмунд оказался перед необходимостью заявить, что цель всей жизни – смерть. «Если мы твердо придерживаемся идеи исключительно консервативной природы инстинктов, то не можем прийти к иному пониманию источника и цели жизни… Гипотеза относительно инстинктов самосохранения, которые мы приписываем всем живым существам, выступает яркой противоположностью идее, что в целом инстинктивная жизнь стремится к смерти». Инстинкты самосохранения служат лишь тому, чтобы «организм двигался к смерти своим собственным путем». Сексуальные инстинкты – это подлинно жизненные инстинкты. «Они противостоят всем другим инстинктам, которые толкают к смерти; и этот факт указывает на то, что существует давно признанное теорией неврозов противоборство между сексуальными и иными инстинктами». За исключением сексуальных инстинктов, нет других, которые не стремились бы восстановить начальное состояние… небытие. Среди желающих стать психоаналитиками была красивая высокая англичанка Джоан Верраль Ривьер. Она занималась психоанализом уже три года, обучалась у Эрнеста Джонса и сделала прекрасный перевод «Вводных лекций». Джеймс Стречи познакомился с Джоан Ривьер во время учебы в Кембридже. В ответ на вопрос Зигмунда о ней Стречи ответил: – Мы из одной и той же породы людей конца викторианской эпохи, принадлежащей к среднему классу, профессиональному, образованному. Она меня немного страшит, но у нее есть три бесценных дара: блестящее знание немецкого языка, совершенный литературный стиль и проницательный ум. Зигмунд заметил в отношении нее, что Джоан подобна «концентрированной кислоте, которой можно пользоваться только в разбавленном виде». Ей были одинаково неприятны как похвалы, восторги или поздравления, так и неудачи, упреки или осуждения. Зигмунд поставил диагноз – нарциссизм. Однако прошло немного времени, и он проникся к ней добрыми чувствами, покоренный ее вдумчивостью, особенно после того, как она принесла макет собрания его сочинений, лучший из когда–либо предлагавшихся ему. Джоан Ривьер боролась не за свое избавление от невроза с помощью Зигмунда, а за право поставить свое имя редактора перевода на титульном листе всех английских изданий работ Фрейда.5
Во вводной части книги «Об истории психоаналитического движения», изданной в 1914 году, Зигмунд привел легенду о парижском гербе, изображающем корабль, а под ним слова «Fluctuat nec mergitur»[13]. Прожив остаток 1921 года и 1922 год, он решил, что это изречение подходит к нему столь же хорошо, как к Парижу. Благодаря неутомимым усилиям Поля Федерна и Эдварда Хичмана в Вене открылась наконец клиника, но через шесть месяцев городские власти приказали под нажимом венских психиатров закрыть ее без объяснения причин. Венское издательство, открытие которого сулило столько надежд, стало нескончаемым источником осложнений и неприятностей. Зигмунд вкладывал свои гонорары в издательство, отдавал все, что мог, из заработка, а типография так и не выкарабкалась из долгов. Лишь героическими усилиями Отто Ранка она держалась на плаву. Не было бумаги для журналов – он крутился как мог, набирая лист за листом. Не хватало литер для набора, краски, типографских рабочих – он выпрашивал, брал взаймы, безудержно льстил, дабы отпечатать готовый материал. Когда выяснилось, что дешевле печатать в Чехословакии, то договорились о печатании книг и журналов там, но типографские рабочие не знали немецкого языка и делали множество ошибок. Печатное дело в Лондоне находилось в столь же отчаянном положении. Эрнест Джонс не располагал средствами для финансирования вновь основанного «Международного журнала психоанализа», в котором помещались статьи на английском и переводы из немецких журналов. Если ошибки на немецком языке раздражали, то ошибки на английском смешили. Джонс направил в Вену молодого англичанина для правки оттисков; подключилась к делу и Анна Фрейд. Тем не менее иногда требовался целый год, а то и больше, чтобы Джонс получил в напечатанном виде рукопись, посланную в Вену. Перегруженному работой, измочаленному Отто Ранку нужен был козел отпущения, и он выбрал Эрнеста Джонса, присылавшего плохо изготовленные оттиски и настаивавшего на том, чтобы были устранены такие германизмы, как «фрау» вместо «миссис». Ранк изложил свои жалобы Зигмунду, который поначалу расстроился из–за ссоры между двумя ключевыми фигурами комитета, а затем, устав от нескончаемых жалоб Ранка по поводу характера и качества работы Эрнеста Джонса, написал тому критическое, даже жесткое письмо. Джонс ответил спокойно на все замечания Зигмунда и показал, что задержки и срывы происходят не в его епархии. С запозданием Зигмунд понял, что нужна проверка. Пришлось извиняться перед Джонсом, благодарить его за то, что тот не обиделся, и Зигмунд начал тревожиться по поводу Отто Ранка, заметив у него в кармане армейский пистолет. Было ясно, что нервная система Ранка расшатана. Зигмунд сделал все, чтобы уменьшить нагрузку и освободить время Отто для практики психоанализа, помогавшей восстановить равновесие. Оказалось, Ранк не жаждал пациентов, ему нужно было свободное время для работы над двумя рукописями. Племянница Зигмунда двадцатитрехлетняя Цецилия забеременела и покончила жизнь самоубийством. Его сестра Мария, овдовевшая в Берлине, возвратилась в Вену. Герман Роршах скоропостижно скончался в Швейцарии от перитонита. Однако корабль держался на плаву. Амбулаторию восстановили. Анна Фрейд служила секретарем и была избрана в Венское психоаналитическое общество, после того как выступила с докладом «Фантазии и грезы истязаний». Многочисленные переводы на другие языки и большие тиражи работ Зигмунда привели на Берггассе, 19, новых именитых друзей. В их числе были английский писатель Герберт Уэллс, Уильям Буллит, входивший в состав американской делегации на Версальской мирной конференции в 1919 году, Артур Шницлер, один из немногих писателей, понимавших и правдиво писавших о сексуальной природе человека, немецкий философ граф Герман Кайзерлинг. Лондонский университет объявил курс лекций о великих философах–евреях: Фило, Меймониде, Спинозе, Фрейде и Эйнштейне. Зигмунд, Марта и Минна провели бурную дискуссию по этому поводу за ужином. Минна воскликнула: – Философ Альберт Эйнштейн! Я думала, что он получил в прошлом году Нобелевскую премию за физику? – Поставить мое имя рядом с Меймонидом и Спинозой! – сказал с усмешкой Фрейд. – Какая почтенная компания. От такого комплимента может закружиться голова. Но я скромный… – …Прячет под спудом свой ум, – возразила Марта. – Кстати, что это значит – «под спудом»? Какой это пуд? Чего? Зерна? Рыбы? Или скал, на которых ты пренебрегаешь высечь свое имя? Высшей точкой стал Берлинский конгресс 1922 года. Зигмунд посвежел после шестинедельного отдыха в прохладной красоте Оберзальцберга, где по утрам работал над черновым вариантом «Я и Оно», а после полудня совершал прогулки по извилистым лесным тропам вместе с Мартой и Анной. После перемирия Международное психоаналитическое общество неизмеримо выросло: в нем насчитывалось уже двести тридцать девять членов, сто двадцать из них участвовали в конгрессе, который почтили своим присутствием сто пятьдесят гостей. Одиннадцать членов общества приехали из Америки, тридцать один – из Англии, девяносто один – из Берлина, что свидетельствовало об усилиях Карла Абрахама, Макса Эйтингона, а также Ганса Закса и Теодора Рейка. Несмотря на постоянную оппозицию и соперничество, из Швейцарии приехали двадцать членов организации. Глядя на большой зал и вспоминая раскол на Мюнхенском конгрессе десять лет назад, Зигмунд размышлял: «Нас много, и мы сильны, чтобы устоять. Мы добились этого! Мы можем потерять отдельных членов обоснованно и беспричинно, но мы твердо стоим на ногах, как любое психиатрическое или неврологическое общество. Психоанализ не исчезнет». Доклад Абрахама о меланхолии и сообщение Ференци о теории пола вызвали восхищение участников конгресса. Зигмунд Фрейд с большим удовольствием слушал доклады молодых членов: Франца Александера, Карен Хорни по вопросам женской психологии, Гёзы Рогейма, перенесшего психоанализ в плоскость антропологического мышления. Зигмунд представил собственный доклад под названием «Заметки о подсознании», основанный на рукописи «Я и Оно». В докладе он дал ясно понять собравшимся, что был прав частично, выделяя лишь сознание и бессознательное. Он пошел по пути чрезмерного упрощения. Углубленное изучение привело его к новой концепции, ибо в науке знания, полученные вчера, сегодня становятся уже полуистиной. С точки зрения взаимосвязи подсознание сдерживается неким «я», – посредником между индивидом и реальностью. Как он писал три года назад в работе «По ту сторону принципа удовольствия», «весьма вероятно, что значительная часть «я» в свою очередь подсознательна». Согласно новой терминологии, Зигмунд разделил умственную структуру человека на «оно», «я» и «сверх я». «Оно» как термин появилось впервые в писаниях врача Георга Гроддека, концепция которого относительно «оно» восходит к Ницше. Зигмунд позже писал: «Это скрытая, недоступная часть нашей личности; то немногое, что мы о ней знаем, мы выявили в изучении образования сновидений и становления невротических симптомов, всего того, что носит негативный характер и может быть определено как образующее нечто, противостоящее «я». Мы подходим к «оно» по аналогии, называем его хаосом, котлом, наполненным бурлящими возбуждениями. Мы представляем его себе открытым с одного конца соматическим влияниям и вбирающим в себя инстинктивные потребности, находящие в нем свое психическое выражение, но не можем сказать, на каком уровне. «Оно» наполнено энергией, поступающей от инстинктов, но не обладает организацией, не обобщает коллективную волю, а лишь стремится к удовлетворению инстинктивных потребностей при соблюдении принципа удовольствия». «Я» Зигмунд применил в качестве термина, обозначающего наиболее рациональную часть самой личности как целого. «Я» пытается переложить влияние внешнего мира на «оно» и его тенденции и старается подменить принцип удовольствия принципом реальности, беспрепятственно действующим в рамках «оно». Для «я» перцепция[14] играет ту роль, которая в «оно» выпадает на долю инстинкта. «Я» представляет то, что можно назвать рассудком и здравым смыслом в противоположность «оно», которое содержит в себе страсти. Зигмунд сделал замечание, что «оно» не обладает возможностью проявить к «я» ни любви, ни ненависти. «Оно» не может сказать, чего хочет; «оно» не несет объединенной воли. В нем борются эрос и инстинкт смерти… Можно было бы представить себе «оно» находящимся под господством молчаливых, но мощных инстинктов смерти, которые хотят, чтобы их не трогали (подталкиваемые принципом удовольствия), хотят заставить успокоиться озорного Эроса. Новой сущностью стало «сверх я», производное ранних детских восприятий соотношения между объектами, то, что он раньше считал «идеалом я», представителем общества внутри психики, включая сознание, мораль, стремление. «Сверх я» выступает как сторож над «я», проводит различие между правым и неправым и старается удержать «я» от совершения проступков, которые привносят чувство вины и последующую совестливость. После этого он записал то, что, по его мнению, было главным в докладе: «Психоанализ есть инструмент, позволяющий «я» добиться победы над «оно». Психоанализ явился также средством достичь понимания того, как работает подавляемое человеческое сознание под влиянием надвигающегося конфликта между Эросом и Танатосом, любовью и смертью.6
Началось с того, что он заметил пятнышко крови на ломте хлеба, который жевал. Оттянув правую щеку одним пальцем, а другим верхнюю губу, он увидел в зеркале место, откуда сочилась кровь, но не придал этому значения: пройдет! Через два дня кровотечение возобновилось. Он прикоснулся к этому месту кончиком языка, а дотронувшись до него пальцем, обнаружил кровавое пятно. Он помнил расхожую фразу клинической школы: «Бойся кровотечения без боли». Кровь сочилась позади последнего зуба, и он приписал кровотечение вспухшей десне или больному зубу. Проходили недели, и он стал замечать, что пятно расширяется и становится шероховатым на ощупь. Когда же припухлость стала распространяться на нёбо, он решил, что следует обратиться к врачу. Выбор пал на профессора и главу университетской клиники уха, горла, носа в Городской больнице доктора Маркуса Гаека, с которым он познакомился более года назад. Гаек опубликовал признанные важными работы о заболеваниях полости рта. Несмотря на свою нелюбовь к телефону, Зигмунд позвонил Гаеку, но так, чтобы никто из членов семьи не мог его слышать, и договорился о приеме на Бетховенгассе. Маркус Гаек, которому исполнился шестьдесят один год, был на пять лет моложе Зигмунда Фрейда. Он родился на Балканах, изучал медицину в Венском университете и получил ученую степень в 1879 году, двумя годами раньше Зигмунда Фрейда. Выглядел он неряшливо – седоватая борода и облысевшая голова, жидкий хохолок волос посередине, торчащий вверх, а затем закручивавшийся неописуемым образом. Его красили лишь чудесные глаза – широко расставленные, печальные, сочувствующие. Доктор Гаек быстро провел осмотр, затем выпрямился и небрежно изрек: – Ничего серьезного. Всего лишь начало лейкоплакии на слизистой оболочке твердого нёба. – Исчезнет ли она со временем? – Не думаю. Лучше удалить ее. Это несложная операция. Приходите в мою амбулаторию в Городской больнице рано утром. Я произведу удаление, и к полудню вы будете дома. Несколькими днями позже в дом Фрейдов пришел молодой врач–терапевт Феликс Дейч. Один из наставников Мартина Фрейда в университете, он стал другом Зигмунда, а затем и семейным врачом. Став сторонником психоанализа, Дейч опубликовал доклад под названием «Значение психоанализа для лечения внутренних болезней». Его жена Елена Дейч также окончила клиническую школу Венского университета и обучалась психиатрии у Вагнер–Яурега и у Крепелина в Мюнхене. В годы войны она познакомилась с книгой Зигмунда Фрейда, затем перечитала остальные труды и начала посещать его лекции. Она просила Зигмунда подвергнуть ее психоанализу. Он занимался с нею, а затем сообщил ей: «Психоанализ не нужен, у вас нет невроза». Она включилась в психоаналитическую работу с больными, которых ей направлял Зигмунд, и Елена и Феликс Дейч превратились в активных участников Психоаналитического общества. Зигмунд попросил Феликса Дейча осмотреть больное место и показал ему, где оно находится – на нёбе с правой стороны сразу за зубами. Лицо доктора Дейча ничего не выражало, когда он закончил осмотр. – Диагноз доктора Гаека правильный; это обычная лейкоплакия. Было бы разумным удалить ее, пока она не стала больше. Впервые Зигмунд почувствовал беспокойство; оно было вызвано не тем, что сказал Феликс Дейч, а озабоченным выражением его лица. – Дейч, обман пациента ради его спокойствия в подобных случаях сохраняется недолго. Меня беспокоят два момента: моей матери восемьдесят семь лет, и она не вынесет моей смерти… Он поднялся из кресла, прошелся туда–сюда по кабинету, а затем, повернувшись к доктору Дейчу, сказал: – …Я должен умереть достойно. Поэтому для меня так важно знать истину. Феликс Дейч пожал плечами и ласково улыбнулся. – Уважаемый профессор, зачем вы бередите себя такими мыслями? После внешнего осмотра я сказал, что доктор Гаек прав. Как только будет произведено удаление, вы обо всем забудете. Два месяца Зигмунд хранил молчание по поводу нароста во рту. И зачем было посвящать в это семью? Он умолчал и о том, что отправляется в городскую больницу в клинику доктора Гаека на операцию. Если он возвратится домой к обеду, хоть и со слегка болезненным ощущением во рту, стоит ли беспокоить своих? В то утро он поднялся решительным шагом по Берг–гассе и по Верингерштрассе, повернул направо, к Городской больнице, затем пересек ее территорию в направлении «новой клиники». Это былаклиника, где принимали больных без предварительной записи для осмотра и небольших операций в полости рта. Зигмунд прошел мимо десятка людей, сидевших на деревянных скамьях в длинном коридоре, и еще большего числа находившихся в зале ожидания. Молодая сестра в ослепительно белом халате и белом чепце, закрывающем волосы и ниспадающем на плечи, немедленно провела его к доктору Гаеку. Комната с высокими потолками была залита апрельским солнцем, проникавшим через угловые окна. Там были два кресла с прямыми спинками, к которым прислонились столики, вращающееся кресло для врача и плевательница на стойке для сплевывания во время операции. Доктор Маркус Гаек усадил Зигмунда в кресло в углу у окна, попросил его расстегнуть воротник, снять галстук и прополоскать рот раствором антисептика. Через увеличительное стекло он еще раз обследовал нарост, повязал салфетку вокруг шеи Зигмунда, обезболил больное место кокаином и наложил анестезирующее лекарство на оперируемый участок. С другой стороны рта была введена деревянная распорка для доступа к зоне опухоли. Сестра достала скальпель из стерилизатора и подала инструмент врачу. Кровотечение было обычным при первом надрезе. Доктор Гаек ожидал, что ему потребуется не более двадцати минут, чтобы удалить пораженное место. Зигмунд начал кашлять и сплевывать кровь в плевательницу. Чем глубже входил в тело скальпель, тем сильнее становилось кровотечение. Пытаясь сплюнуть кровь, Зигмунд вытолкнул распорку, и поле операции закрылось. Это помешало Гаеку быстро удалить опухоль и остановить приток крови. Он закричал Зигмунду: – Профессор Фрейд, держите рот раскрытым! Попытайтесь не закрывать! Сестра, откройте рот профессора. Из–за того что Гаек был вынужден торопиться, его движения стали менее точными. Он почти вырезал опухоль и требовался лишь последний разрез ткани, удерживавшей опухоль, и в этот момент он перерезал крупный кровеносный сосуд. Фонтаном хлынула кровь прямо в лицо Гаека. Гаек, который не успел удалить опухоль, закричал: – Держите открытым рот, профессор! Кровь текла по рубашке и брюкам Зигмунда, обрызгала Гаека и сестру–ассистентку. Зигмунд не только захлебывался и кашлял, но из–за потока крови конвульсивно наклонился вперед в кресле, в то время как сестра пыталась удержать его. Гаеку нужно было хорошее поле обзора, а он почти ничего не видел. Однако он, искусный и опытный мастер, последним надрезом удалил сине–красную опухоль диаметром с пятак, похожую на ягоду. В то время как Зигмунд кашлял и сплевывал кровь, чтобы не задохнуться, Гаек быстро взял марлевый тампон, вложил его в рану и твердо прижал его, засунув свой большой палец в правую часть полости рта Зигмунда. И пациент и врач запаниковали, когда хлынула кровь. Зигмунд еще не решался говорить, но его глаза вопрошающе смотрели на Гаека, потерявшего присутствие духа. Гаек понял его вопрос и сказал: – Профессор, мне казалось, что это поверхностное поражение, но чем дальше я продвигался, тем очевиднее становилось, что опухоль большая. Я почти потерял надежду добраться до ее основания, когда перерезал крупный кровеносный сосуд. Ни один хирург не может продолжать операцию при открытом кровотечении. Но полагаю, что я удалил опухоль полностью. Вам придется побыть в кресле около часа, я и сестра по очереди будем держать тампон на вашей ране. Как только прекратится кровотечение, мы переведем вас в более удобное место. Зигмунд был почти в состоянии шока. Он знал, что Гаек ответственно относится к своему делу. Если врач был вынужден углубиться более чем на сантиметр, то он считал нужным поступить именно так, чтобы полностью удалить опухоль, и тогда это нечто большее, чем поверхностное поражение ткани. Удалил ли Гаек опухоль полностью последним движением скальпеля? Или же поток крови из артерии закрыл место операции и не позволил Гаеку распознать природу нароста? Он слышал, как врач сказал: «Я позвоню вашей семье». Кровотечение было остановлено, ассистент помог Зигмунду выйти из операционной. Его усадили на жесткий стул в зале ожидания. Длительное время сестра удерживала тампон на ране, а затем попросила Зигмунда прижать его большим пальцем. В его голове промелькнул ряд вопросов. Вскоре перед ним возникли Марта и Анна с чемоданом, в котором было спальное белье. В их глазах застыл молчаливый вопрос: «Почему не сказал нам? Почему пошел на операцию и не сообщил нам?» Никто не просил объяснений, что произошло; было ясно, что никто не ожидал случившегося. Марта и Анна стоически скрывали свое отчаяние при виде одежды Зигмунда, запачканной кровью. Словно совы, они уставились друг на друга и не могли что–либо вымолвить, и уж тем более слов упрека. Молчание нарушил ассистент доктора Гаека. В отчаянии покачивая головой, он сказал: – Дурацкое положение! В клинике нет ни одной свободной койки. Все заняты пациентами. Попытаюсь еще раз; может быть, мы найдем место? Вновь они остались втроем – Зигмунд, Марта и Анна; три человека, любившие друг друга больше всего на свете, не были в состоянии выразить свои чувства. Ассистент возвратился с выражением притворного отчаяния на лице: – Профессор Фрейд, простите меня, я нашел койку, но единственное место, где мы можем разместить ее, – это маленькая комната, в которой мы держим карлика–кретина. Вы не будете возражать? Зигмунд пробормотал: – Итак, там будут двое. Ассистент, Марта и Анна провели Зигмунда через коридор в боковую комнату, редко используемую, сняли с него одежду и уложили на койку так, чтобы не возобновилось кровотечение. Карлик–кретин, опершись на локоть одной руки, наблюдал с соседней койки за их действиями. Зигмунд знал, что он должен объяснить случившееся жене и дочери, но любая попытка заговорить может сдвинуть тампон в ране и вызвать новое кровотечение. Марта и Анна понимали это. Незадолго до полудня пришел доктор Гаек, чтобы осмотреть больного. Он казался спокойным, без тени тревоги. Он уверил их, что все в порядке, кровотечение прекратилось и на следующий день Зигмунд вернется домой. В полдень появился служитель из числа тех, кто следит за порядком в больнице, и объявил: – Сожалею, фрау профессорша Фрейд и фрейлейн Фрейд, но наступил обеденный час, и мы должны накормить пациентов. В это время посетители не могут находиться в больнице. Анна вроде бы хотела протестовать, но Зигмунд поднял руку, показывая на выход, и она смолчала. Марта подошла к изголовью и впервые заговорила с ним, поглаживая волосы Зигмунда: – Постарайся заснуть, дорогой. Мы вернемся в два часа, когда возобновится время посещений. Зигмунд почувствовал слабость, пытался заснуть, но тщетно; несмотря на успокаивающее лекарство, которое дал ему доктор Гаек, боль во рту не утихала. Затем вновь пошла кровь. Вначале она просочилась в горло. Он резко поднялся, сел, склонился над плевательницей на столике около кровати. Это ослабило тампон, и кровь изо рта пошла сильнее, пачкая его ночную рубаху и постельное белье. Он дотянулся до шнура правой рукой, дернул его – никакой реакции. Несколько попыток позвонить убедили его, что звонок не работает. Кровь шла теперь так сильно, что он не мог позвать на помощь, да и кого звать? Карлик, наблюдавший за ним с широко раскрытыми глазами, выскочил из постели, выбежал в коридор и вызвал помощь. Немедленно пришли ассистент Гаека и медицинская сестра. Через некоторое время с помощью свежего тампона кровотечение было остановлено. Сестра сменила белье на койке. Когда Марта и Анна вернулись в палату в два часа дня, они были шокированы и напуганы. Если бы сосед Зигмунда по комнате не позвал на помощь, он мог бы истечь кровью! Анна объявила о намерении оставаться в палате до тех пор, пока Зигмунда можно будет взять домой. Правила запрещали родственникам оставаться с больными на ночь. Но это не остановило Анну. Она добилась у доктора Гаека разрешения остаться на ночь. Марта неохотно покинула палату, после того как сестра напомнила ей о нарушении режима. Ночь, наполненная полуосознанными страданиями, казалась Зигмунду бесконечной. Доктор Гаек дал ему сильнодействующие успокоительные лекарства, но пульсирующая боль была такой острой, что Зигмунд не мог заснуть. На рассвете Анну охватила тревога, что отец слабеет и не в состоянии выдержать боль. Она отыскала ночную сиделку, часто заглядывавшую в палату и беспокоившуюся о здоровье профессора Фрейда. Анна и сиделка попытались разбудить дежурного хирурга и убедить его осмотреть больного, но он отказался. Анна возвратилась в палату и до утра старалась облегчить страдания отца. Рано утром пришел доктор Гаек. Зигмунд умолчал о кровотечении, ибо оно прекратилось. Гаек сменил тампон, сказав, что кровь остановлена и что Зигмунд может идти в полдень домой. – Но я хотел бы показать ваш случай группе студентов сегодня утром. Можно сделать это, профессор Фрейд? Анна намеревалась запротестовать, но Зигмунд ответил: – Это учебное заведение. Студенты имеют право учиться, и доктор Гаек обязан демонстрировать все интересные случаи, которыми располагает клиника. Демонстрация прошла гладко. Доктор Гаек был осторожным и не прикасался к тампону. Когда студенты ушли и Гаек остался один в палате, Зигмунд спросил тихо: – Один вопрос, доктор Гаек. У вас есть анализ биопсии? –Да. – Что говорит лаборатория? – Точно то, что я определил в диагнозе: не злокачественная. – Тогда нет раковой опухоли? – Никакой. Вы можете спокойно возвращаться домой. Отдохните пару дней и восстановите свои силы.7
Младший сын Софии Гейнц, четырех с половиной лет, перенес в Гамбурге несколько инфекционных заболеваний и простуд. Врач рекомендовал удалить гланды, но операция не помогла. Он рос хилым ребенком, как говорят, кожа да кости. Его отец Макс Хальберштадт делал все возможное, но Зигмунд полагал, что сможет обеспечить в Вене лучший уход за ребенком. Старшая бездетная дочь Фрейда Матильда хотела, чтобы Гейнц жил у нее. К концу мая, с наступлением теплых дней, мальчика привезли из Гамбурга. У него были красивое лицо, унаследованное от матери, и улыбчивые глаза, он был резвым ребенком с добрым характером. При каждой встрече Зигмунд испытывал нечто вроде шока, перед ним была вылитая София в детском возрасте. После обеда Зигмунд и Марта заходили к Матильде, чтобы повидать мальчика. Зигмунд звал его ласковым именем Гейнеле и впервые в своей жизни усаживался на пол, чтобы помочь ребенку сложить кубики. В семье стало обыденной шуткой, что Гейнеле может быстрее построить мост или дом, чем дед привинтить колеса к повозке. Гейнца привезли в Вену через месяц после операции Зигмунда. Он возобновил работу, но плохое настроение не покидало его; он подозревал, что Гаек не удалил полностью опухоль и говорит ему неправду. Привлекательный внук с его живым умом стал источником радости в жизни Зигмунда. Когда погода была теплой, Матильда и Роберт Холличер приводили мальчика в дом на Берггассе, где тот выпивал стакан молока с печеньем, а Зигмунд подсаживался к нему с чашкой кофе. Из–за операции гланд Гейнц еще испытывал трудности при глотании. – Дед, а я уже могу глотать корочки. А ты? Зигмунд смеялся, прижимал к себе ребенка. – Нет, еще нет. Гейнеле, ты опять обогнал меня. Гейнц слег с высокой температурой. Зигмунд позвал доктора Оскара Рие, который привез с собой лучшего молодого педиатра Вены. Было абсолютно ясно, что у Гейнца крупозное воспаление легких. Зигмунд метался, стараясь спасти мальчика. Матильда и Роберт немедленно увезут его в Египет, где теплый сухой климат… Маленький Гейнц угасал. Его любознательный дух и гибкий ум не могли восстановить больные легкие. Он умер девятнадцатого июня, лишь на несколько месяцев украсив жизнь деда и бабушки лучистым теплом своей любви. Зигмунд чувствовал, что в нем что–то словно умерло и он больше не сможет насладиться полнотой любви. Он не мог сдержать слезы, когда хоронили мальчика. Впервые семья увидела его плачущим на публике. В конце июня Зигмунд и тетушка Минна выехали в Бад–Гаштейн на воды, где они обычно лечились. Марта подтрунивала: – Вы напоминаете мне итальянок, которые каждое лето уезжают на воды промыть свою печень. На деле это предлог для разговоров; они мечтают о таких поездках всю зиму. У них нет никаких неполадок с печенью, как у вас с желудком, но это поможет вашей психике. Первого августа он приехал к Марте и Анне в гостиницу «Дю Лак» в Лавароне, куда неоднократно выезжала семья и где она была окружена вниманием владельцев. Комитет проводил заседания в долине, в местечке Сан–Кристофоро. Зигмунд знал, что комитет переживает трудное время; вновь вспыхнула ссора между Отто Ранком и Эрнестом Джонсом по поводу управления издательством в Лондоне. На стороне Ранка был Ференци, но не Абрахам и не Закс. Зигмунд прослышал, что Ранк намерен просить комитет об отставке Джонса, но надеялся, что другие члены не допустят такого. Комитет должен сохраняться в целостности! Однако Зигмунд считал, что ему не следует вмешиваться. Нужно, чтобы члены комитета сами решали собственные внутренние проблемы и работали вместе сплоченной группой, какой они были все одиннадцать лет. Комитет уладил свои затруднения, насколько мог, затем его члены прибыли в Лавароне для встречи с Фрейдом. Зигмунду предстояло пережить мучительный период, ибо нёбо еще не зажило. Он знал, что требуется два–три месяца, чтобы затянулась рана, но прошло четыре, а ощущение было такое, что вновь растет опухоль. Он просил доктора Феликса Дейча приехать в Лавароне. Дейч тщательно обследовал нарост, но вновь отказался высказать свое мнение. Зигмунд давно собирался съездить с Анной в Рим в сентябре, чтобы показать ей любимый им город. – Прекрасная идея! – воскликнул Дейч. – Покажите Анне все, что вам нравится в Риме, но постарайтесь вернуться домой к концу месяца. Тогда мы решим, что делать дальше. В день, когда Зигмунд и Анна возвратились в дом на Берггассе, появился Феликс Дейч. Он выслушал их рассказы о Риме, затем двое мужчин удалились в рабочий кабинет Зигмунда. Дейч не просил разрешения обследовать полость рта Зигмунда, а сказал с серьезной миной на лице: – Профессор Фрейд, я договорился о встрече в конце недели с профессором Гансом Пихлером. Он самый известный в Европе хирург, оперирующий полость рта. – Я о нем не слышал. Дейч поморщился. – А он не слышал о вас. Такое случается в нашей профессии, ибо медицина все более специализируется по направлениям. – Расскажите мне о нем. – Гансу Пихлеру сорок шесть лет, он венец, получил медицинскую степень в университете в девятисотом году и начал свою подготовку как хирург уха, горла, носа под руководством доктора Антона фон Эйзельсберга, который был первопроходцем в этой области. Однако его карьера очень рано прервалась из–за экземы. Ему пришлось отказаться от хирургии. Он уехал в Чикаго, в Северо–Западную стоматологическую школу, где выдержал экзамены, излечил экзему и возвратился в Вену, где успешно занимался зубоврачебной практикой. Однако его увлечение хирургией полости рта не ослабло, и он вернулся в клинику Эйзельсберга, чтобы продолжить работу в области хирургии полости рта. Война предоставила ему более чем достаточную возможность оперировать на солдатах, чьи челюсти, нижние части лица были повреждены осколками. Говорят, что он возвращал раненым солдатам нормальные лица. Этому человеку вы можете полностью довериться. Я договорюсь о встрече в санатории «Ауэрсперг». Вы знаете, где он находится? Это вблизи театра Йозефштедтер. На этот раз Зигмунд сказал Марте и Анне равнодушным голосом, что встречается с доктором Пихлером, и заверил их, что не будет никакой операции. Женщины выслушали его сообщение молча. Санаторий «Ауэрсперг» внешне казался очаровательным с его двумя нижними этажами из гранита; между ними и последующими тремя этажами висели ряды ящиков с пунцовыми, желтыми и красными цветами. Когда Зигмунд вошел в приемную доктора Ганса Пихлера, то, к своему удивлению, обнаружил, что доктор Пихлер выглядел скорее американцем, чем австрийцем: невысокого роста, с бросающейся в глаза уверенной жизненной силой, гладко выбритый, виски подстрижены почти до верхней кромки ушей. Низкий мягкий воротник и фланелевый костюм были схожи с теми, которые Зигмунд видел во время поездок в Нью–Йорк и Бостон. Очевидно, пребывание в Чикаго не только вылечило экзему и возвратило Пихлера к прежней профессии, но и придало импонирующий ему американский вид. Профессиональная этика требовала присутствия и доктора Маркуса Гаека. Зигмунд увидел на столе Пихлера свою историю болезни, начатую Гаеком. В то время как доктор Пихлер осматривал полость рта Зигмунда, тот разглядывал правильное, строгое, аскетическое лицо доктора с тонким носом, выдающимся подбородком, решительной линией рта и глубоко посаженными задумчивыми глазами. Пихлер досконально осмотрел Зигмунда в течение десяти минут, попросил его застегнуть пуговицу воротника, отошел к рукомойнику в углу комнаты, вымыл горячей водой руки и вытер их белым полотенцем. Его глаза казались Зигмунду еще менее постижимыми, чем ранее, однако в голосе не было ничего непостижимого. – Профессор Фрейд, вы врач и ученый. Вы хотите знать всю правду? – Конечно, доктор Пихлер. – У вас серьезное раковое образование во рту. Мы можем поставить его под контроль только путем операции. Последствия будут неприятными – отверстие в нёбе, которое, к счастью, мы сможем закрыть с помощью протеза. Я должен провести операцию в две стадии, чтобы держать под контролем кровотечение, которым сопровождаются такие операции. У Зигмунда что–то оборвалось внутри. Он подозревал об этом, но все же оставалась надежда на менее серьезный диагноз и менее серьезную операцию. Диагноз рака являлся смертным приговором. Эту отвратительную болезнь нужно было скрывать, подобно тому как скрывают сифилис, хотя и по другим мотивам. Любому заболевшему раком приходится мириться с тем, что за очень короткое время болезнь может резко обостриться. Он прислушивался к словам доктора Пихлера. – Во–первых, я удалю часть зубов с правой стороны. Через несколько дней я оперирую правую сторону шеи. Через разрез мы перевяжем внешнюю сонную артерию; затем я удалю верхние лимфатические узлы, чтобы предотвратить распространение рака на жизненно важные органы. Зигмунд знал, с какой целью доктор Пихлер вскроет верхнюю часть шеи: нужно добраться до сонной артерии, которая питает кровью наружную часть головы и место, пораженное раком. Он, Зигмунд, не сможет остаток жизни рассчитывать на эту артерию, но потеря невелика, ибо другие артерии будут снабжать кровью верхнюю часть головы и рот. – И вторая часть, доктор Пихлер? – Она тоже представляется серьезной, поскольку нужно устранить все следы рака. Судя по осмотру, опухоль сначала локализовалась в области твердого нёба, но теперь она распространилась на мягкие ткани, челюсть и прилегающую часть языка, а также на внутреннюю поверхность правой щеки. Мне придется удалить часть мягкого нёба, часть языка и внутренней поверхности правой щеки, а также часть ткани, покрывающей челюсть сразу за зубами. Зигмунд подумал некоторое время, затем спросил: – Это серьезная операция, не так ли? – Да, но я удалю только то, что необходимо удалить. Лучше удалить пораженное раком, чем оставить его следы. Я не стану вырезать то, что можно оставить. До того как удалить зубы, я сниму слепок для вашего протезиста, и протез будет готов к вашей поправке. Протез закроет отверстие в нёбе и отделит полость рта от носоглотки. Доктор Пихлер проводил Зигмунда до двери. Зигмунд резко остановился, повернулся и сказал: – Доктор Пихлер, хочу, чтобы вы поняли, что я выплачиваю нормальный гонорар за операцию и последующий уход. Не хочу быть обузой. Впервые за время встречи Пихлер улыбнулся, губы его слегка дрожали. – А, да. Я наслышан о ваших работах в области подсознания. Предъявляя мне ваши условия, вы полагаете, что я мог бы невольно признаться в грехе послабления моим платным клиентам?8
Он должен был известить своих домашних; это было столь же тяжко, как узнать диагноз доктора Пихлера. Он не хотел тревожить семью, но неуместно и обманывать ее. Лучше сказать им правду, изложить факты. Он чувствовал, что может положиться на Марту, Минну и Анну, они не станут устраивать сцены; две пожилые женщины хорошо знали жизнь, чтобы роптать на ее приговор. У Анны чувство привязанности и верности отцу было настолько глубоким, что она примет без колебаний его решение. Три пары женских глаз уставились на него из разных углов комнаты и сумели выразить стоицизм, которого, как они понимали, он желал. Но в тот вечер никто не притронулся к ужину и никто не мог заснуть. Удаление зубов было предварительной мерой. Затем во второй половине дня 3 октября 1923 года он переехал в санаторий. В его комнате стояли удобная простая кровать, столик с лампой для чтения, два шифоньера с резьбой, небольшой письменный стол. Стены комнаты были оклеены веселыми обоями, а в дальнем углу за ширмой находились ванна и туалет. Окна комнаты выходили на уютный внутренний дворик. Комната казалась скорее помещением частного клуба, чем больницы. Рано утром его ввезли на коляске в операционную. Вместо завтрака дали легкие успокаивающие средства. Операционная являла собой чудо современного дизайна: высокие потолки, огромное «хирургическое» окно, выходящее на север, и прямо перед ним подвижное операционное кресло, которое доктор Пихлер мог наклонить так, чтобы было удобно оперировать. Когда два ассистента помогли Зигмунду устроиться в операционном кресле, вошел доктор Пихлер и сказал: – С добрым утром! – Затем он спросил: – Как вы себя чувствуете, профессор Фрейд? – Как врач, уверен, что вы полностью удалите пораженные ткани. То, что от меня останется, надеюсь, приспособится к жизни без злокачественной опухоли с ее непрестанной угрозой моему умственному и физическому существованию. Его выбритое лицо намазали раствором йода, глаза и лоб закрыли повязкой, открытыми оставались щеки, нос, рот и подбородок. Доктор Пихлер в халате, перчатках и маске стоял справа от него; один из его ассистентов – слева. Рядом с хирургом расположилась сестра с инструментами; две другие подавали нужный материал. Первая операция была простой. Доктор Пихлер применил местное обезболивание вдоль линии предстоящей операции. Сделав косой разрез снизу челюсти к гортани, Пихлер быстро открыл доступ к внешней сонной артерии. Зигмунд почувствовал, словно у него что–то вытягивали внутри шеи. Пихлер предупредил: – Будет острая боль при зажиме артерии, но она скоро пройдет. Затем Пихлер приступил к работе внутри разреза, на лимфатических узлах, которые он нашел затвердевшими и огрубевшими, возможно, в результате ракового перерождения. Он сделал еще один укол в зону лимфатических узлов, а затем искусно удалил их. Зигмунд стиснул зубы, предчувствуя боль, но ее не было. Крови вытекло мало. Пихлер работал не торопясь, тщательно. Наконец он зашил разрез. Операция длилась час сорок пять минут. Зигмунда отвезли в палату, он чувствовал себя несколько ослабевшим, но отнюдь не плохо. Сидя проглотил довольно вкусный ужин: санаторий славился своей кухней. На следующий день Зигмунд смог самостоятельно пройти в ванную комнату, хотя ноги ступали еще неуверенно. Силы быстро восстанавливались, и уже на третий день он чувствовал себя нормально, озадачивало лишь болевое ощущение на шее. Он спустился в гостиную и расположился в удобном кресле для чтения. Зигмунд пригласил Марту, Минну и Анну пообедать с ним в полдень в частной столовой. Марта принесла ему романы Мережковского, Золя, Марка Твена, Киплинга, Мейера; одни он хотел прочитать, а другие перечитать. Друзьям разрешалось посещать его в любое время дня, кроме позднего вечера. Зигмунд воспользовался возможностью увидеться с некоторыми коллегами. Вторая операция была проведена через неделю. Хирург, которому передали шприц с локально действующим анестезирующим средством, сказал: – Профессор Фрейд, я введу иглу; боль будет скоротечной. После этого он сделал уколы вдоль линии нового разреза. Шприц предназначался для четырех–пяти уколов; сестра приготовила для хирурга достаточное число шприцев, чтобы сделать двадцать вливаний вокруг опухоли. Около пяти минут Пихлер выжидал действия новокаина, уверенно успокаивая Зигмунда, что все идет прекрасно. – Если вам требуется что–либо, профессор Фрейд, дайте мне знать. Зигмунд не нашел ответа на это предложение. С закрытыми глазами он ничего не видел, но, как опытный врач, проведший месяцы в операционной Бильрота, понимал смысл движений рук Пихлера. Пихлер разрезал скальпелем его верхнюю губу, затем сделал надрез около носа к правому глазу. Зигмунд не ощущал сильной боли, но чувствовал, что вся его щека приподнята. Ассистенты Пихлера следили, чтобы не было кровотечения. Немного крови попало Зигмунду в рот из разрезанной губы, и он начал кашлять, но Пихлер резко крикнул: – Сестра, отсос! Сестра вложила в рот Зигмунда трубку, отсасывавшую кровь и слюну. Виртуозно орудуя скальпелем, доктор Пихлер удалил раковую опухоль в полости рта Зигмунда, поразившую часть языка и щеки. Сестра взяла скальпель и передала Пихлеру долото и деревянный молоток. – Вы почувствуете, как я буду стучать, профессор Фрейд. Доктор врубился в кость нёба Зигмунда, отсек пораженный раком кусок с частью мягкого нёба. Удары в полости рта Зигмунд чувствовал так, словно там находилась гранитная каменоломня и рабочие вырубали в нёбе каменные плиты. Затем доктор Пихлер взял инструмент для удаления кости. Он принялся удалять пораженную раком часть челюсти. Зигмунд повторял про себя: «Я не должен закрывать рта! Однако сколько рук и инструментов в моем рту! Теперь я понимаю, как страдают пациенты от клаустрофобии». На какой–то момент его встревожило не то, что доктор Пихлер удаляет из его рта, его больше пугало, выдержит ли он испытание. Зигмунд задыхался от натекавшей крови. Он думал о том, как трудно пациентам переносить операции такого рода под местной анестезией; в то же самое время он знал, что нельзя применять общую анестезию, потому что пациент может захлебнуться собственной кровью. Операция длилась два часа. Пихлер удалил раковую опухоль и затронутые части кости. Дыра в нёбе Зигмунда была закрыта марлевым тампоном, задерживавшим кровотечение. Был мимолетный кризис, когда Зигмунд пытался выкрикнуть: «Мой рот забит. Я не могу дышать!» Пихлер дал знак ассистентам. Те привели тампон в более удобное для Зигмунда положение. Пихлер подождал пять – десять минут, чтобы быть уверенным, что кровотечение прекратилось. Затем он осмотрел рану. Убедившись, что вся злокачественная опухоль удалена, он наложил кусок кожи, снятой с левого предплечья Зигмунда, затем пришил на место щеку. Сестра удалила повязку с глаз и лба Зигмунда. Он заметил искорку одобрения в глазах Пихлера, хотя и не был уверен, поздравлял ли Пихлер себя с виртуозной работой или же профессора Фрейда с его выдержкой под молотком и долотом, щипцами и скальпелем. Два ассистента перенесли Зигмунда на коляску и отвезли в палату. Там он получил новую дозу болеутоляющего. При нем постоянно находилась сестра с марлей в руках, осушая его рот. Зигмунд лежал на подушке. Его первым чувством было облегчение, что операция прошла и он перенес ее удовлетворительно. Он чувствовал себя в состоянии легкого опьянения. Он уже не волновался, ведь все осталось позади. В комнату вошел доктор Пихлер в обычном костюме, поздравил Зигмунда с успешной операцией и дал ему анальгин против боли, которая вскоре появится. Процесс поправки шел медленно и трудно. Первые несколько дней Зигмунда кормили через нос, так как нельзя было раздражать рану в полости рта. Первые сутки ощущалась боль, пока ткани не привыкли к трубке. Поскольку он получал лишь жидкость, то терял вес и силу, выглядел усталым, как находили Марта и Анна, дважды в день посещавшие его; он терпел сильные боли во время смены тампонов в отверстии нёба. На ночь ему делали инъекцию морфия для сна, в середине ночи сестра повторяла укол. Через неделю, когда он мог вновь есть ртом, ему разрешили лишь жидкую пищу. Пихлер снял швы через десять дней. Правая щека Зигмунда оставалась парализованной. Он не мог читать и с трудом мог сосредоточиться, но он уверенно знал одно – Пихлер сказал, что выпишет его из больницы к концу октября, и он принял решение возобновить встречи с пациентами после первого ноября. Только работа восстановит силы. Во рту сохранялись болевые ощущения, и он не мог принимать твердую пищу, но доктор Пихлер, ежедневно навещавший его раза два в день, уверял, что все идет нормально и процесс излечения ускорится. Он не сможет столь же энергично жевать, как в прошлом, но будет получать удовольствие от более мягкой пищи. Пихлер не пытался поставить на место протез, посмотреть, подходит ли он, и помочь Зигмунду научиться пользоваться им. Доктор Пихлер полагал, что ткань в полости рта еще слишком чувствительна. Когда Зигмунд сказал хирургу, что намерен начать лечить пациентов с первого ноября, и уже произведена запись, Пихлер одобрительно похлопал его по плечу, но всем выражением своего лица дал понять: «Дорогой профессор, вы не знаете, что на вас свалилось!» Решимость вернуться к работе первого ноября, через несколько дней после выписки из больницы, поддерживала силы, но оказалась иллюзорной: он просто еще не окреп, чтобы заниматься проблемами других; кроме того, ткани рта были все еще слишком раздражены, чтобы вставить протез. Пробка в отверстии нёба причиняла боль и дурно пахла после одного–двух приемов пищи. Он наносил ежедневно визит Пихлеру для осмотра. В ноябре Пихлер заметил пятно на мягком нёбе. Он отщипнул кусочек для биопсии. Ткань оказалась раковой. Это был сильный удар для Зигмунда. В его голове мелькнула мысль, хотя он не произнес ее: «Избавлюсь ли я наконец?» Пихлер сказал: «Мы удалили все», но удалено было не все. Пихлер прочитал это в глазах Зигмунда. Он уверенно ответил: – Я не резал достаточно широко, стараясь сделать рану поменьше. Это был сознательный риск. Теперь я должен удалить большую часть вашего правого мягкого нёба.9
Зигмунд возобновил работу после нового, 1924 года. Внешне он почти не изменился. Он носил усы и бороду, несколько более густую, чтобы закрыть послеоперационные шрамы. Но ему пришлось приспосабливаться, поскольку операция вызвала потерю слуха с правой стороны, он осматривал пациента на кушетке с левой стороны и слушал левым ухом. Минна пошутила по этому поводу: – Зиги, не уверяй, будто ты действительно прислушиваешься ко всем глупостям! Со временем его силы восстановились. Он начал с шести пациентов в день – достаточная нагрузка даже для здорового человека. Большинство его пациентов были направлены Эдоардо Вейсом из Триеста, Оскаром Пфистером из Цюриха, Эрнестом Джонсом, Стречи и Джоан Ривьер из Лондона, А. А. Бриллем и его группой из Нью–Йорка, а также их последователями в Бостоне. Он продолжал вечерами писать, хотя и не работал допоздна, как в прошлом. Для книги, озаглавленной «Эти полные событий годы», он написал главу под названием «Психоанализ: исследование скрытых тайников разума», а также письмо во французский журнал «Ле Диск Верт», посвятивший номер Зигмунду Фрейду и психоанализу. Исполненный решимости не позволить болезни мешать его творчеству, он написал ряд статей о неврозах. Большую проблему создал протез. Однажды, когда он решился есть вместе с семьей за обеденным столом, пища пошла носом. Это неприятное зрелище огорчило его. Все сделали вид, что не заметили, но он понимал, как это неприятно. После обеда он отвел Марту в сторону и сказал: – Думаю, мне следует питаться отдельно, пока не научусь есть как положено. Марта вспыхнула от возмущения. – Буду есть в одиночестве, когда стану вдовой! Протез, закрывавший большую дыру, образовавшуюся в результате удаления половины нёба, должен был входить плотно, как пробка. Однако, чем плотнее он подгонялся, тем больше раздражались окружающие здоровые ткани. Зигмунд подвергался облучению рентгеновскими лучами, согласно предписанию доктора Пихлера, считавшего, что это предотвратит распространение раковой опухоли, но облученные ткани рта становились чувствительными к твердому протезу, и боль становилась нестерпимой; временами Зигмунду приходилось снимать протез. Это приносило облегчение, но он не осмеливался быть долго без протеза из опасения, что ткани стянутся и он не сможет поставить его на место. В полдень он посещал кабинет доктора Пихлера; там осматривали заживающие ткани и подгоняли протез так, чтобы он закрывал плотно отверстие. К шарнирам были приделаны застежки, это помогло, но иногда конструкция так заклинивалась, что, когда он хотел закурить сигару, приходилось прибегать к помощи бельевой прищепки, чтобы развести челюсти. Днем, занимаясь с пациентами, он не осмеливался снимать протез, несмотря на мучительную боль. Его пациенты и без того уже страдали от некоторых его недостатков: из–за разрезанной губы его голос стал хриплым, носовым, словно у него была заячья губа. Ему не делали замечаний по этому поводу, во всяком случае пациенты, но Зигмунд сам слышал свой голос и понимал его недостатки с профессиональной точки зрения. Вскоре стало очевидным, что ему нужна помощь в обращении с протезом, который теперь называли «монстр». Больничные сестры обладали нужными навыками, но он не хотел, чтобы кто–то из посторонних находился в доме и был около него, когда он ведет обычные дела. Заботу взяла на себя Анна; она днями находилась в больнице, наблюдая, как сестры ухаживают за ее отцом, и постепенно заменила их. Когда Зигмунд в течение получаса не смог поставить протез, встревоженная Анна помогла ему и успешно выполнила эту операцию. Зигмунд долго, напряженно смотрел на свою младшую дочь. Он прошептал: – Я не буду жалеть себя, а ты не выражай сочувствие. Анна кивнула. Этот уговор они никогда не нарушали. Умер Леопольд Кёнигштейн, один из старейших друзей Зигмунда, остро воспринявшего потерю. Но одновременно пришло и пополнение: у Эрнста, женатого на Люси четыре года, родился сын, а у Мартина, женатого на Эсти, – дочь: поколения сменяли друг друга. В день его шестидесятивосьмилетия городские власти Вены, отступив от правила отмечать лишь семидесятилетие, присвоили ему звание почетного гражданина. – Они не надеются, что я доживу до семидесяти, – заметил Зигмунд Марте, которую не порадовал этот сардонический юмор. Земля вращалась, как обычно, вокруг своей оси. Зигмунд частенько думал, что у этой оси должно быть что–то ироническое. Один из наиболее любимых им талантливых французских писателей, Ромен Роллан, приехал с визитом и сказал, что он знал о работах профессора Фрейда, восхищался им целых двадцать лет и все это время не сообщал ему об этом! Почти двадцать пять лет назад по настоянию Марты Зигмунд отнес экземпляр «Толкования сновидений» в гостиницу, где остановился известный датский критик Георг Брандес, лекции которого он посещал вместе с Мартой. Брандес не подтвердил получение книги. Ныне же, прибыв в Вену, он послал Зигмунду записку с просьбой посетить его для доброй беседы. Помимо манипулирования с «монстром» его единственной серьезной проблемой стали осложнения в комитете. Расхождения углублялись из–за двух книг, написанных и опубликованных почти втайне. Зигмунд знал содержание первой книги – «Развитие психоанализа», ибо ее авторы, Ранк и Ференци, обсуждали с ним отдельные ее части. Когда они натолкнулись на серьезные возражения других членов комитета и Зигмунд обратил внимание на некоторые ошибки, Ференци согласился с ним и помирился с группой. Однако иначе поступил Отто Ранк, который с годами, казалось, становился все более недовольным и раздражительным. Он пережил шок, узнав, что у его наставника и почти отца рак полости рта и будущее неопределенно. Когда об этом было заявлено в комитете, Отто Ранк начал истерически смеяться. Услышав об этом, Зигмунд процитировал французскую поговорку: – Нужно смеяться, чтобы не плакать. Ранк в Вене, а Джонс в Лондоне поистине героически работали над публикациями; они действовали так из–за приверженности делу, не требуя ничего взамен. Новая проблема возникла со второй книгой, которую опубликовал Отто Ранк, не показав никому рукопись. Он назвал ее «Родовая травма». В книге описывалось воздействие акта рождения на индивида, выходящего из теплой матки, где он был в безопасности и всегда сыт, в чуждый и враждебный мир и получающего при этом шлепок по ягодицам, что заставляет его начать дышать, пробуждает чувство голода и заставляет плакать. Ранк приписывал этой изначальной травме при рождении нервные и духовные невзгоды человека, его комплексы, озабоченность, страхи, смятение, навязчивую тревогу и неудачи. В группе сторонников Фрейда считали, что книга Ранка подрывала признание эдипова комплекса как основы неврозов. Зигмунд нашел в книге хорошие места; в то же самое время он чувствовал, что многое в «Родовой травме» основано на ложных посылках. Он решил, что лучшее – проигнорировать книгу и дать ей возможность незаметно сойти со сцены. Когда Ганс Закс написал в Берлин о сомнениях Фрейда относительно книги, то это усилило уже существовавшее неудовольствие тамошних членов по поводу теории Ранка. Пытаясь уладить спор, Зигмунд обратился к друзьям с письмом, призывавшим к согласию, если даже «исключается полная договоренность по научным аспектам новой темы среди десятка людей с различными темпераментами, да она и нежелательна». Один из наиболее миролюбивых, Карл Абрахам, оказался провидцем и проявил, как позднее признал Зигмунд, лучшее понимание человеческого характера, чем сам профессор Фрейд. Абрахам, наблюдая за Альфредом Адлером и Карлом Юнгом, предсказал, что они отойдут от группы и будут действовать самостоятельно. Строгий по отношению к тому, что должно войти в теорию психоанализа, он не мирился с фальсификациями и ошибками. Не сумев убедить Зигмунда выступить с критикой книги Ранка, Абрахам написал профессору Фрейду предостережение против опасности, связанной с таким «научным отступлением». Отто Ранк тяжело воспринял происходившее. Он понимал, что переживает собственную травму – необходимость порвать с профессором Фрейдом, с которым была связана вся его взрослая, сознательная жизнь. Подобно Альфреду Адлеру, Карлу Юнгу и Вильгельму Штекелю, он чувствовал, что пришло время самоопределиться, пойти собственной тропой, не работать более под крылом или сенью профессора Фрейда. Революция, совершавшаяся в его психике, доставляла ему мало удовольствия, она свалила его, и он слег. Когда он выздоровел, то получил приглашение выступить в Нью–Йорке с лекциями в течение нескольких месяцев; это представлялось разумным выходом из тупика. Ранк принял приглашение. Доктор Пихлер сделал новый протез, но он оказался хуже старого. С течением времени здоровье Зигмунда окрепло. Однако, продолжая курс рентгеновского облучения, он получил излишнюю дозу, и это вызвало интоксикацию. Он написал аналитическую работу «Сопротивления психоанализу» и «Автобиографию», изданную в виде небольшой книжки и выглядевшую скорее историей психоанализа, чем собственным жизнеописанием. По этому поводу тетушка Минна шутила: – Зиги, когда ты смотришься в зеркало, ты видишь себя или коллективное подсознание Юнга? Минна оставалась одной из немногих, позволявших себе отпускать шутки в адрес Зигмунда. Он возразил: – Не коллективное подсознание Юнга, Минна. Если бы он услышал от тебя это, то обвинил бы меня в том, что я подглядываю в замочную скважину. Я же вижу совокупное подсознание всех лечившихся у меня пациентов. Это образует более привлекательный портрет, чем моя мрачная личина. Карл Абрахам выехал в Голландию в мае 1925 года для чтения трех лекций, а когда вернулся, то слег с острым бронхитом. Вскоре, в июне, умер Йозеф Брейер. Волна воспоминаний нахлынула на Зигмунда: его студенческие дни, первые встречи с Брейером в физиологической лаборатории Брюкке, годы, когда он свободно приходил в дом Брейера в качестве младшего брата, окруженного вниманием и поддержкой. Зигмунд отправил утешающее письмо Матильде Брейер. Он написал также некролог для «Цайт–шрифт», в котором откровенно сказал, что Йозеф Брейер был «творцом метода катарсиса, который неразрывно связан с психоанализом». Йозеф уже не мог отказаться от такой чести. Смерть Брейера напомнила Зигмунду, что ему и Марте часто попадалось в немецких газетах и журналах имя Берты Паппенгейм, ставшей одной из ведущих фигур в движении за права женщин, которое успешно добивалось законов о мерах безопасности на предприятиях, повышения заработной платы и правовой защиты замужних женщин. Берта Паппенгейм так и не вышла замуж, но внимание Йозефа Брейера спасло ей жизнь и сделало ее ценным членом общества. В сентябре в Хомбурге должен был состояться очередной конгресс психоаналитиков. Зигмунд решил, что не поедет туда. Он послал Анну прочитать его доклад «Некоторые психологические последствия анатомического различия между полами». С ним происходили разные, как он считал, нелепые случаи. Он получил несколько предложений снять кинофильм о психоанализе. Сэмюэл Голдвин предложил ему сто тысяч долларов для поездки в Голливуд на правах консультанта в фильмах о величайших любовных историях. Уильям Рэндолф Херст предлагал послать пароход для доставки Зигмунда и его семьи в Нью–Йорк, где он составлял бы разумные отчеты по делу Леба и Леопольда, двух чикагских парней, вознамерившихся совершить «превосходное» преступление – убийство четырнадцатилетнего мальчика. Через несколько дней полковник Мак–кормик из чикагской газеты «Трибюн» прислал по телеграфу предложение приехать в Чикаго и провести психоанализ Леба и Леопольда; гонорар достигал двадцати пяти тысяч долларов. Тетушка Минна причитала: – Зиги, почему этого не случилось в твои тридцать лет? Подумать только, ты мог бы стать кинозвездой и высокооплачиваемым журналистом. Осенью пришло печальное известие об ухудшении состояния здоровья Карла Абрахама. Видимо, во время посещения Голландии вего легкие попала рыбья кость, вызвавшая серьезную инфекцию. Доктор Феликс Дейч направился в Берлин, чтобы помочь ему. Но в 1925 году на Рождество Карл Абрахам умер в возрасте сорока восьми лет. Зигмунд, думавший, что после потери Гейнца его уже не так взволнует чья–либо смерть, находился в отчаянии. Карл Абрахам был гением германского движения психоаналитиков: он поехал в Берлин, когда никто не верил в психоанализ; он утвердил веру и уважение к этому направлению медицинской науки, создал центр по подготовке и собрал вокруг себя группу молодых талантливых врачей. Его доклады были всегда тщательно взвешенными и ясными в изложении. Он не ввязывался в демонстративные драки, подобно Шандору Ференци, потому что это противоречило его натуре. Он был самым надежным и дисциплинированным членом комитета, презиравшим леность и глупость. Зигмунд не питал иллюзии, будто человеческая судьба подчинена логике, но, узнав о смерти Абрахама, воскликнул: – Карлу Абрахаму было сорок восемь. За плечами осталось тридцать лет творческой работы. Мне шестьдесят девять, удалена половина полости рта, а я остаюсь в этом мире, в то время как мы потеряли Карла.10
«Сначала мы долгое время озабочены тем, чтобы остаться живыми; затем тревожимся, как бы не умереть; в этом есть тонкое различие». Через некоторое время он перестал считать число перенесенных операций, электроприжиганий и рентгеновских облучений. Доктор Пихлер вынужден был удалить кусочек ткани около прыщика, затем произвести пересадку кожи, потом с помощью диатермии удалить еще одну припухлость. В последующие месяцы вновь были и удаления и пересадки кожи. Чем больше он старался сократить разного рода юбилейные празднества, тем крупнее они становились. Их вдохновителем выступал Макс Эйтингон, обходивший все преграды. В день семидесятилетия Зигмунда его дом утопал в цветах, пришли сотни писем, телеграмм со всего света, были доставлены в подарок египетские и греческие фигурки. Он не пытался скрыть радость, ведь поздравительные письма прислали люди, которых он уважал. Он не получил весточки от Карла Юнга, но Ойген Блейлер написал ему из госпиталя Бургхёльцли. Блейлер много лет назад сказал ему, что останется верным после ухода Карла Юнга. Блейлер поздравил Зигмунда с его последними работами. Не было ни одного часа в течение дня, чтобы он не страдал от боли. Протезы переделывались и менялись чуть ли не каждый день, но продолжали раздражать слизистую рта, вызывая болезненные нарывы. Врач из Берлина изготовил совершенно новый протез, Зигмунд уповал на чудо, а его не получилось. Еще один дорогостоящий протез был сделан экспертом из Бостона, но протез оказался не лучше других. В один особенно мучительный год было проведено шесть хирургических удалений и прижиганий. Казалось, что доктор Пихлер будет всегда держать свой скальпель в полости рта Зигмунда и вырезать там что–то. Утешало лишь то, что ни один из наростов не имел раковых клеток. Постоянное рентгеновское облучение держало зверя под контролем. – Мы научились достойно жить, – заявил Зигмунд. – Дабы придать смысл борьбе с муками, я должен выполнить свою лучшую работу. Зигмунд отказался принимать болеутоляющие лекарства, даже аспирин, из–за опасения, что это может разрушить его мозг и помешать оттачивать мысль и точно ее формулировать. Он редко приглашал друзей на обед, чтобы не ставить их в неловкое положение. Но он не чувствовал себя одиноким: его радовало высокое качество работ, публиковавшихся молодыми специалистами, созревшими под его крылом. В известном смысле он стал отцом большого семейства; ежедневно на его стол ложились десятки писем из различных стран от изучавших, писавших и публиковавших, и почти все они расширяли сферу психоанализа за пределы, о которых не мечтали его основатели. Он писал введения и предисловия к работам Макса Эйтингона, Эдоардо Вейса, Германа Нунберга, Августа Эйхгорна. Он особенно восхищался доктором Георгом Гроддеком, поэтом и романистом, владельцем частного санатория в Баден–Бадене. Гроддек обратился к психоанализу, пытаясь лечить психические заболевания, возникшие без видимой органической причины. Он был тепло принят Зигмундом на Гаагском конгрессе 1920 года, но оттолкнул от себя всех присутствующих, кроме профессора Фрейда, объявив с трибуны: – Я дикий, необученный аналитик. Гроддеку принадлежало выражение «психосоматическая медицина», определявшее фрейдовские методы лечения психических расстройств, этиология которых была связана с эмоциональными факторами или же в основном вызвана ими. Эта фраза помогла общественным кругам понять направленность и цели психоанализа. Идея Гроддека о том, что наше «я» ведет себя в основном пассивно в жизни, нами руководят неизвестные и неконтролируемые силы, Зигмунду показалась достойной внимания. Задача Зигмунда состояла именно в том, чтобы сделать эти силы известными и контролируемыми. Иногда, удаляясь в часы послеполуденного отдыха с бутылкой горячей воды, прижатой к ноющей челюсти, он задумывался: сколько пройдет недель, месяцев, лет после его смерти до того, как профессора в клинической школе начнут преподавать науку психоанализа? Сколько потребуется времени, чтобы пациенты в психиатрических палатах, ранее находившихся под началом профессоров Мейнерта, Крафт–Эбинга и Вагнер–Яурега, которые даже не пытались добраться до первопричин их заболеваний с помощью фрейдовских методов, воспользовались бы преимуществами его терапии? Сколько времени нужно, чтобы рассеять предрассудки? Или же они никогда не будут рассеяны? Тогда какое право он имеет жаловаться, если даже Галилея по сей день не простили официально за его ересь? Наиболее необычной женщиной, вошедшей в его жизнь, после того как Лу Андреас–Саломе вернулась в Геттинген, была принцесса Мария Бонапарт, сорокатрехлетняя женщина, родственница брата Наполеона I, состоящая в браке с князем Георгом Греческим. Мать Марии умерла от тромбоза через месяц после ее рождения, оставив ей большое состояние. Находясь у смертного одра своего отца в 1924 году в фамильном доме Сен–Клу в пригороде Парижа, она начала читать книгу Фрейда «О психоанализе». Книга оказалась пробным камнем для ее собственных эмоциональных и сексуальных проблем, а также для проблем тех пациенток, с которыми она работала в госпитале Святой Анны в Париже. Несколько раз Мария Бонапарт писала профессору Фрейду, умоляя его принять ее как пациентку. Подозревая, что она может оказаться светским дилетантом, он отказывался. Она не принадлежала к числу тех, кто легко принимает отказ. Приехав в Вену, она произвела весьма благоприятное впечатление на Зигмунда; он усмотрел в ней отважную, проницательную женщину с настойчивым характером. Ее прошлое было тяжелым: воспитанная строгой бабушкой в мрачном одиноком доме в лесном поместье, она не имела подружек, лишь случайно наезжавшие кузины скрашивали ее одиночество. Она страдала приступами меланхолии, считая себя виновной в смерти матери, и в особенности ей досаждало то, что она называла «обеспокоенностью дырой», поскольку дыра стала для нее символом женского начала. Она считала, что извечно оставаться женщиной означало интеллектуальное принижение, поэтому она мечтала стать мужчиной. В течение ряда лет ей было свойственно защитное нервное недомогание, которое, как она полагала, спасет ее от брака и беременности, способной отнять у нее жизнь. Ее мечта стать врачом не осуществилась, отец запретил ей учиться, полагая, что эта профессия подорвет ее шансы на достойный брак. Однако Мария Бонапарт преодолела сопротивление отца, изучила самостоятельно медицину и проводила долгие дни в госпитале Святой Анны, где женщины находили у нее сочувствие и рассказывали ей о сексуальных проблемах, превративших их в душевнобольных. Мария с удивлением узнала, что многие из них страдали фригидностью. Разбирая бумаги в поместье своего отца, она нашла пять маленьких записных книжек, заполненных ею в возрасте от семи до десяти лет. Она запамятовала, что вела этот дневник, однако странное, символическое содержание книжек, которое она уже не понимала, напугало ее. Она решила, что воздействие прошлого на ее подсознание можно устранить лишь с помощью фрейдовского анализа. За год до этого она анонимно опубликовала «Заметки об анатомических причинах фригидности у женщин», в которых подчеркивала, что многие пациентки в госпитале Святой Анны получали сексуальное удовлетворение, возбуждая клитор. Зигмунд увидел перед собой высокую женщину с широкими плечами и величественной осанкой, с несколько мужскими чертами в повадках и внешнем облике. Она пришла к профессору Фрейду как к пророку, способному вернуть к нормальной жизни душевнобольных пациенток госпиталя Святой Анны и несказанное число лиц, томящихся в психиатрических палатах. Она была счастлива в браке с князем Георгом, который был значительно старше ее; родила дочь, крепкую физически и душевно. Ныне, когда она встретилась с профессором Фрейдом, она была полна решимости осуществить мечты своей юности и стать ученым в области медицины. Поскольку Мария Бонапарт намеревалась исследовать женскую сексуальность и фригидность в надежде написать работу на эти мало раскрытые темы, она хотела получить от Зигмунда знания в области терапии и психоанализа. После сеансов в течение нескольких месяцев, используя ее записные книжки, Зигмунд вернул ее к детским воспоминаниям, страхам, тревогам, чувствам вины, к ее первым конфликтам с «дырой» как с наказанием, обрушившимся на женский пол. Он перенес смысловое значение ранних записных книжек из подсознания в сознание, позволявшее ей смотреть проблемам прямо в лицо. Однако в ходе психоанализа Зигмунд обнаружил нечто поставившее его в тупик. Толкуя сны Марии Бонапарт, он пришел к выводу: – У меня более нет сомнения, что в детстве вы лицезрели половой акт. Не было такой истины, которую Мария Бонапарт не приняла бы с открытым забралом. Но это ее шокировало. – Это нереально, профессор Фрейд. В моем доме не могло быть соития. Помимо няни там жили лишь мой отец и бабушка. – Все ваши подсознательные воспоминания идут в одном направлении. – Глубоко сожалею, но не могу согласиться с вами. Должна отвергнуть такую схему. Она мне кажется не только невероятной, но и невозможной. – Тогда не будем продолжать. После того как Мария Бонапарт вернулась в Париж, она отыскала конюха своего отца, незаконного сына ее деда. В результате искусно поставленных вопросов конюх признал в конце концов, что, когда ей не исполнилось и года, он имел интимный акт с кормилицей в ее же комнате. Она изложила в письме профессору Фрейду беседу с конюхом, подтвердившую суждение Зигмунда. Зигмунд ответил: – Теперь вы понимаете, насколько могут быть безразличны отрицание и признание правоты, когда обладаешь уверенным знанием. Так было со мной, и поэтому я перенес недоверие и неверие без огорчения. Жизнь научила его этому. Во время визита к Эрнсту в Берлин он встретился с Альбертом Эйнштейном, уже автором теории относительности и великим математиком и физиком. Они отнеслись сдержанно друг к другу, сидели по разные стороны стола и говорили каждый о своей диалектике: Эйнштейн – математическими терминами, а Зигмунд – психоаналитическими. Ни один не понял ни слова из сказанного другим. Главное различие было в том, что профессор Фрейд воспринял научное открытие Эйнштейна как необратимую истину, тогда как Эйнштейн был откровенным скептиком в отношении подсознания и возможности его регулирования с целью улучшения человеческого здоровья и знания. Кандидатуру Зигмунда выдвигали несколько раз на Нобелевскую премию, но награда досталась Вагнер–Яурегу за его работу по лечению пареза. Кое–кто был разочарован тем, что премия досталась Вагнер–Яурегу, но среди них не было Зигмунда Фрейда, ибо для него было важно то, что Вагнер–Яурег совершил смелый творческий прорыв.11
Постоянные удаления тканей в полости рта, сильные дозы рентгеновского облучения и диатермии, наличие протеза нарушали, естественно, работу организма: вновь появились осложнения на сердце, расстройство пищеварительного тракта стало органическим, Зигмунд стал подвержен простуде, гриппу, лихорадке. Ему требовался личный врач. В марте 1929 года, когда Мария Бонапарт приехала к нему и застала его больным и в плохом настроении, она сказала: – Профессор Фрейд, позвольте мне сделать предложение. В Вене есть тридцатидвухлетний врач–терапевт, который обучен также анализу. Я встретилась с ним несколько месяцев назад, доктор Эдельман направил его ко мне для анализа крови. Честность просто написана на его лице. Когда я недавно заболела, а доктора Эдельмана не было в городе, Макс Шур прекрасно ухаживал за мной. Доктор Эдельман, учивший Макса Шура и поддерживающий с ним дружбу со времен учебы в Венской клинической школе, предложил, чтобы я записалась в пациенты к доктору Шуру, поскольку мы оба сторонники психоанализа. Могу ли я привести к вам доктора Шура? Он живет в десяти минутах ходьбы, на Мелькергассе. – Пожалуйста. Меня заинтересовало то, что вы сказали о докторе Шуре. Доктор Шур появился через час. Он был чуть выше среднего роста, его каштановые волосы сильно поредели, и он относился к числу тех, кто изнашивает, а не носит одежду. Мария Бонапарт уже предупредила Зигмунда: – В первый день, когда Макс Шур надевает новый костюм, друзья не узнают его. На второй день мы не узнаем костюма. Но Зигмунду понравилось выражение уверенности на гладко выбритом лице. Зигмунд сделал вывод, что психика его нового знакомого находится в мире с ним самим. Доктор Шур взял историю болезни Зигмунда, изучил ее, а затем осмотрел пациента. Однако Зигмунд заметил, что Шур, подобно молодому Йозефу Брейеру, «угадывал» болезнь. Зигмунд сознавал, что слово «угадывал» применялось неправильно; Йозеф Брейер и Макс Шур были вдохновенными психоаналитиками, осознававшими наличие тесной связи между психикой и сомой. После того как доктор Шур осмотрел Зигмунда и выписал рецепты, Зигмунд сказал: – Полагаю, что вы и я можем установить отношения пациента и врача на основе взаимного уважения и доверия. К сожалению, у меня был неудачный опыт с вашими предшественниками, и поэтому я должен получить от вас обещание. – Какое, профессор Фрейд? – Говорить мне только правду. Макс Шур ответил: – Обещаю. Обязуюсь выполнить обещание. – Верю. Спасибо. С появлением доктора Макса Шура в семье Фрейд многое изменилось. Он ежедневно сопровождал Зигмунда в кабинет доктора Пихлера, наблюдая за работой над протезами. Шур, подобно Анне, мог интуитивно, без единого слова угадывать состояние здоровья профессора Фрейда. Марта чувствовала себя более спокойно, ибо не приходилось опасаться, что их обманывают. Отношения между пациентом и врачом стали близкими и доверительными. Хотя Зигмунд был на сорок один год старше Шура, между ними установилась дружба. Профессор Фрейд занял центральное место в жизни Макса Шура. Зигмунд направлял пациентов к доктору Шуру для осмотра и лечения, когда сам не был уверен, в какой мере болезнь является физической, а в какой связана с психикой. Макс Шур начал приводить по воскресеньям в дом на Берггассе свою невесту Елену. Она изучала медицину в Венском университете, была умной и воспитанной девушкой, которую семья Фрейд приняла с такой же любовью, как и самого Шура. В 1930 году, после издания одной из его наиболее глубоких монографий, «Неудовлетворенность культурой», Зигмунд был удостоен премии имени Гёте. Он послал Анну во Франкфурт принять почетную награду, но сам он не понимал гримасы судьбы, которая отказала ему в Нобелевской премии за медицину, но присудила премию за искусство. Многие из его критиков утверждали, что в психоанализе больше искусства, чем науки. Премия имени Гёте, казалось, подтверждала, пусть отчасти, такой парадоксальный вывод. Свою речь при получении премии, которую зачитала Анна, он начинал словами: «Вся моя работа была подчинена единственной цели. Я наблюдал за скрытыми нарушениями умственных функций у здоровых и больных и пытался таким образом прийти к заключению – или, если вам больше нравится, догадаться, – как устроен аппарат, обслуживающий эти функции, и какие соперничающие и взаимно противодействующие силы действуют в нем. То, что мы – я, мои друзья и сотрудники – сумели выяснить, следуя по этому пути, представляется нам важным для содержания науки об уме, позволяющей понять нормальный и патологический процессы как части единого и в то же время естественного хода событий». Начальные годы жизни движутся медленно, и они схожи с перегруженными повозками. Последние годы пролетают, подобно падающей звезде. Так многое еще хотелось сделать и обдумать Зигмунду, написать и опубликовать, с тем чтобы оставить после себя надежные ключи к области, к которой он лишь подступил. Время шло так быстро, что порой казалось или он чувствовал себя так, будто его запеленали. Он писал каждый вечер и по воскресеньям после посещения Амалии, которой было уже за девяносто; она ослабела, но всегда выходила навстречу Зигмунду, едва заслышав его шаги по лестнице. Она умерла во сне в сентябре, ей было девяносто пять лет. На следующий год его родной город Фрайберг почтил Зигмунда, вывесив памятную доску на доме слесаря, где он родился и где его няней была Моника Заиц. Зигмунд ядовито заметил: – Я начинаю чувствовать себя монументом.12
Чем дольше живешь, тем короче кажутся проходящие годы и месяцы. Время теряет свое содержание. Начавшееся как новый день утро быстро завершается уставшим вечером. Границы стираются, грани становятся нечеткими, год истекает раньше, чем замечено его начало. Едва ему удавалось отговориться от юбилея по случаю дня рождения, как на него обрушивался новый юбилей. Не было необходимости как–то убивать время: оно само Собой улетучивалось. «Время – поезд, – думал он, – а люди – безбилетные пассажиры на нем… которые доберутся до Карлсбада, если вынесут поездку!» Воспоминание о добряке–отце Якобе с его рассказами о простаке, в которых сочетались детский юмор и мудрость, поддерживало Зигмунда всю жизнь. Его комитет распался. Было ясно, что потерян Отто Ранк; он уехал в Париж, поспешно вернулся, • чтобы получить прощение и примириться, но не сумел залечить разрыв. В Нью–Йорке Ранк, наконец–то добившись независимости, проповедовал анализ, основанный на «родовой травме». А. –А. Брилл был вне себя от ярости, написал профессору Фрейду, что Ранк отверг сексуальную этиологию неврозов, обходится без разбора сновидений и сводит все к истолкованию родовых травм. Зигмунд был огорчен потерей Отто Ранка. Он написал Ранку пару примирительных писем, не скрывая того факта, что считает его заблуждающимся в теории травмы при рождении. Отто Ранк не мог вернуться в Вену ни физически, ни символически. Он делил свое время между Парижем и Нью–Йорком. Трудно было терять талантливого человека, бывшего его правой рукой пятнадцать лет, но была и компенсация, ибо другие отколовшиеся, такие, как Вильгельм Штекель и Фриц Виттельз, обратились с письмами и спрашивали, могут ли вернуться в «семью». Но некем было возместить потерю Шандора Ференци, к которому Зигмунд был эмоционально привязан как ни к кому в движении и частенько обращался к нему как к сыну. Первая напряженность в их длительной дружбе возникла в связи с тем, что Ференци вместе с Отто Ран–ком написал и опубликовал книгу, не уведомив Зигмунда. Затем Ференци поддержал книгу Отто Ранка. Но эти разногласия быстро рассеялись. Вплоть до 1931 года проблемы не возникали, но после этого Ференци стал писать реже, а затем предложил новый терапевтический метод. Когда в ходе анализа пациент подводился к детской стадии и выявлялось нарушение, вызванное грубостью, безразличием или пренебрежением родителя, доктор Ференци полагал, что он должен заменить родителей, особенно мать, и проявить к пациенту любовь, которой он лишился как ребенок, снять таким образом раннюю травму и ее последствия. Он разрешал своим пациентам обнимать и целовать себя, соглашался на возможность физической любви, когда, по их мнению, они в ней нуждались. Зигмунд Фрейд узнал об этом от пациента, которого лечили он и Ференци. Он был глубоко шокирован, ибо он сам и психоанализ, который он разработал, были непреклонными в отношении этого критического момента: никаких физических контактов с пациентом! Это было чудовищным извращением, ломавшим перегородку между врачом и пациентом, способным возмутить медицинский мир, если станет известно об этом. Сомнений быть не могло: это станет смертельным для психоанализа. Он написал Ференци: «Вы не делали секрета из факта, что целовали своих пациентов и позволяли целовать себя… Вскоре мы согласимся… щупать интимные места…» Ференци просто перестал писать. К апрелю 1932 года Зигмунд написал Эйтингону, что Ференци стал опасен для судьбы психоанализа. «Он счел себя оскорбленным, потому что другим неприятно слышать, как он разыгрывает роли матери и ребенка со своими пациентками». Тем не менее Зигмунд объявил, что поддержит кандидатуру Ференци на пост председателя Международного психоаналитического общества; он полагал, что это образумит Ференци. Ференци отклонил предложение. Они обменялись колкими письмами, но до открытого разрыва дело не дошло. Затем письма Ференци вновь стали теплыми и дружественными. Через год он умер от злокачественной анемии. Зигмунд писал с огорчением Оскару Пфистеру: «Очень печальная потеря». Издательство оказалось в столь безнадежном положении, что Мартин оставил хорошо оплачиваемую работу в банке и занял пост управляющего. Типография была в долгах, ее будущее было туманно, но Мартин, поэт с детства, знал, насколько важно для дела его отца продолжать публикации. Это был акт верности и веры, который высоко оценил Зигмунд. Денежные средства типографии убывали с каждой новой публикацией, и ее спасали от банкротства только ее друзья. Зигмунд решил, что единственный способ спасти фирму – это написать новую популярную книгу. Он назвал ее «Новые вводные лекции по психоанализу». «Новые вводные лекции» выполнили свою задачу; ничего поразительно нового в них не было, но Зигмунд так доходчиво изложил материал, что книга завоевала сторонников и была переведена на ряд языков, принеся достаточно прибыли, чтобы Мартин Фрейд мог сделать фирму платежеспособной. Послевоенная Веймарская республика в Германии пала. У власти оказались воинствующий диктатор и воинствующая партия. В Париже одновременно на немецком, французском и английском языках вышла переписка между Зигмундом Фрейдом и Альбертом Эйнштейном под названием «Зачем война?». В переводе приняла участие Лига Наций. Нацисты запретили книгу в Германии. Эйнштейн покинул Германию и нашел убежище в Бельгии. Писатель Арнольд Цвейг отправил жену и детей в Палестину, куда он намеревался за ними последовать. Альфред Адлер запаковал свое имущество и уехал в Америку. Страну, покинули почти все германские психоаналитики. Оливер и Эрнст Фрейды и Макс Хальберштадт писали, что думают уехать из Германии: наш горизонт омрачен событиями в этой стране. Эрнст Фрейд вывез жену и детей в Англию. В Вене знали Адольфа Гитлера, поскольку он родился в Верхней Австрии, прослушал курсы по искусству в Мюнхене, затем возвратился в Вену в надежде поступить в Художественную академию. Отвергнутый, обедневший, он нашел в антисемитских речах мэра Карла Люгера выражение своей собственной ненависти к обществу. Венская пресса, сообщив о пивном путче Гитлера в Мюнхене в 1923 году, о суде над ним и о его заточении, свела все это к забавной теме для болтовни в кофейнях. Но теперь время плоских шуток прошло. Адольф Гитлер приобрел политическую власть и оказался личностью, обладающей гипнотической притягательностью для среднего немца, обедневшего после 1929 года в результате депрессии, для безработных и для промышленников, напуганных подъемом коммунизма. Национал–социалистская партия Гитлера переросла в организацию одетых в щеголеватую форму террористов и пропагандистов и завоевала большинство мест в рейхстаге. Гитлер был назначен Гинденбургом на пост канцлера, а затем возложил ответственность за подозрительный поджог рейхстага на коммунистов, объединив значительную часть германского народа под двумя лозунгами: «Тысячелетний третий рейх!», «Смерть всем евреям!». Немцы, выступавшие против гитлеровского террора, либо оказались в изгнании, в могиле, в концлагерях, либо бессильно замолкли. Раздавив последнюю оппозицию, Гитлер развернул безжалостную войну против евреев: конфискация домов, предприятий, отказ в рабочих местах, в собственности, затем физическое насилие, не исключая нападений на женщин и детей, далее концлагеря, трудовые лагеря и в конечном счете лагеря смерти. Немецкие евреи, своевременно увидевшие опасность, бежали из страны зачастую с пустыми руками, сохранив жизнь, в страны, согласившиеся их принять. Другие остались, надеясь на лучшее. Австрийские евреи не показывали открыто, что они встревожены. Даже как союзница Германии Австрия оставалась независимой республикой. Происходившее в Германии не могло случиться в Австрии. Германская армия никогда не вторгнется; Версальский договор гарантирует права меньшинств в Австрии. Несмотря на то, что Зигмунд считал себя пессимистом в оценке инстинктивной природы человека, он был готов к нацизму не в большей мере, чем к войне 1914 года. Предупреждений поступало более чем достаточно: его книги сжигались на кострах в Берлине, Берлинское психоаналитическое общество было распущено, психоаналитики бежали, спасая свою жизнь. Многие немецкие специалисты выехали со своими еврейскими коллегами, не желая жить и работать при нацистах. А он не усматривал опасности для себя и семьи в Австрии. Ему, Марте, тетушке Минне, его сестрам было за семьдесят; сколько им еще оставалось жить? Беспокоиться в Вене могли лишь Мартин и его семья, а также Анна. Но они не обсуждали этот вопрос. Он продолжал принимать пациентов и писать за своим большим столом. Если не было возможности провести время со студентами в кафе после субботней вечерней лекции или прогуляться по Рингу, то он оставался наедине с любимыми им предметами искусства, являвшимися символами вечной цивилизации, которой он восхищался. Временами он впадал в депрессию, представляя, что написанное им со времени «Тотема и табу» утратило свое значение. Однако в послесловии к автобиографическим запискам он отмечал: «После того как всю жизнь я посвятил естественным наукам, медицине и психотерапии, мой интерес обратился к той культурной проблеме, которая когда–то вряд ли захватила бы пробудившегося к размышлению юношу». Его репутация в мире продолжала крепнуть и расширяться. Даром судьбы, помогавшим скрашивать старость и преодолевать страх перед очередными операциями, была Аннерль, – этим ласковым именем он называл свою младшую дочь. Она приняла решение раз и навсегда, встав на сторону отца и психоанализа. Анне было уже сорок лет. Ее знания производили впечатление на членов комитета, а также на психоаналитиков из других стран, с которыми она встречалась на конгрессах, где читала доклады отца. Она продолжала выполнять роль сиделки Зигмунда: спокойная, терпеливая, неутомимая, она помогала ему прилаживать протез, привыкать к нему. Они никогда не говорили о «монстре», за исключением тех случаев, когда было нужно отнести его к доктору Пихлеру или к его коллегам, чтобы подправить гуттаперчу, завулканизировать, поставить новые пружинные державки в бесконечных попытках сделать так, чтобы протез не причинял боль, добиться облегчения. Анна была хорошим товарищем; она понимала, как страдает Зигмунд, и внутренне ощущала его боль как свою, но не выдавала своих эмоций и соблюдала договоренность: «Никакой жалости, никакого сочувствия». Она была более чем сиделкой; его радовало, как мужал ее ум, овладевавший проблемами образования и детской психологии. Он писал Пфистеру: «Из всех областей приложения психоанализа действительно процветает открытая Вами область образования. Я очень доволен тем, что моя дочь начинает выполнять здесь хорошую работу». Много молодежи приезжало в Вену обучаться психоанализу, и Анна имела большую возможность завязывать дружбу и вести общественную деятельность. Она посещала театр вместе с Джеймсом и Алике Стречи; однажды они взяли ее в гостиницу «Регина», а потом позволили одной добираться до Бергтассе. На следующий день Зигмунд решительно порицал их за то, что они оставили Анну ночью одну. Стречи заметил: – Это был страшный аналитический час! Иногда она устанавливала дружбу с каким–либо пациентом Зигмунда, но не ранее завершения психоанализа. Одной из ее подруг стала американка Дороти Бэрлингем; замужняя, имеющая детей, она пересекла Атлантику в поисках помощи у профессора Фрейда и так привязалась к Вене и Фрейдам, что сняла квартиру на Берггассе, 19. Она помогала Анне основать школу для детей, где Анна могла приложить свои новые теории к малолеткам. Они сняли вместе деревенский коттедж в Хохротерде, примерно в сорока пяти минутах езды на автомашине от Вены. Летом Зигмунд иногда навещал их там. Он собирался написать книгу о Моисее, которая дала бы ему простор для рассуждений. За несколько лет до этого он написал небольшую работу о скульптуре Микеланджело «Моисей». Моисей давно восхищал его как личность, чье легендарное происхождение совпало с появлением многих мифических религиозных лидеров, как отметил Отто Ранк в книге «Миф о рождении героя». У Зигмунда не было желания отнимать у еврейского народа человека, которым он гордился как величайшим из своих сынов. Зигмунд был согласен с историками, что Моисей – реальное лицо, возглавившее исход евреев из Египта в тринадцатом или четырнадцатом веке до Христа. Но был ли Моисей евреем или же египтянином? Его имя египетское, а не еврейское. Если Моисей был египтянином, то почему он ушел от своего народа и вывел чужой народ из разваливавшегося египетского династического государства? Не был ли он сторонником религии атен, возникшей в период ранних династий при Ахенатоне и проповедовавшей строгий монотеизм, правду и справедливость как высшую цель жизни, запрещавшей церемонии и магию? Религия атен была ликвидирована последними фараонами; если Моисей хотел сохранить ее, к кому, как не к меньшинству, следовало обратиться, а потом вывести его из рабства и воссоздать для этого меньшинства религию атен, с которой, заметил Зигмунд, так согласовывалась в важных аспектах более поздняя еврейская религия? Зигмунд знал, что ступает по тонкому льду. Он надолго отложил рукопись, но проблема продолжала волновать его. Он всегда наслаждался перепиской. В дни, когда он был отверженным, переписка для него служила главной опорой. Ныне, когда он принимал лишь немногих гостей и вел всего три сеанса психоанализа в день, у него в достатке было времени и энергии, чтобы писать письма. Он писал Арнольду Цвейгу, романом которого «Спор об унтере Грише» он восхищался: «У меня еще такая большая способность наслаждаться, что я недоволен навязанной мне отставкой. В Вене неприятная зима, и я месяцами не выходил на улицу. Мне трудно приспособиться к роли героя, страдающего за человечество, которую Вы любезно приписали мне. Настроение плохое, мне мало что нравится, самокритика стала еще более острой. Я поставил бы ей диагноз старческой депрессии. Я вижу, как над миром, даже моим крохотным миром, сгущаются тучи бедствий. Я должен напомнить себе о светлом пятне: моя дочь Анна совершила прекрасные аналитические открытия в настоящее время и, как мне говорят, мастерски читает лекции. Это – предостережение не думать, что мир кончается с моей смертью». В похожем приятном тоне было написано письмо, полученное от Альберта Эйнштейна, нашедшего пристанище в Принстонском университете: «Уважаемый господин Фрейд! Счастлив, что нынешнему поколению повезло иметь возможность выразить свое уважение и признательность Вам как одному из величайших учителей. Вы, несомненно, не облегчили скептикам задачу прийти к независимому суждению. Лишь в последнее время я сумел понять умозрительную силу Вашего образа мышления и его огромное воздействие на современное миросозерцание, не будучи, однако, в состоянии сформировать определенное мнение относительно содержащейся в нем истины. Не так давно тем не менее я услышал о нескольких примерах, не столь важных самих по себе, которые, по моему мнению, могут быть объяснены только теорией подавления. Я был рад тому, что их нашел, ибо всегда приятно, когда великая и красивая концепция оказывается созвучной реальности». Напряженно продвигаясь к восьмидесяти годам, ощущая потерю столь многих ушедших в иной мир друзей, он подошел к такой точке в своей жизни, когда был готов простить отколовшихся в прошлом и теперь. Оставался лишь один нарыв. Эдуард Пишон, зять Пьера Жане, дружественно настроенный к Зигмунду, обратился с просьбой, может ли Жане навестить его. С самого начала Жане был последовательным и суровым критиком психоанализа. Фрейд написал Марии Бонапарт: «Нет, не хочу видеть Жане. Я не могу удержаться от упрека в его адрес за то, что он вел себя несправедливо в отношении психоанализа, а также меня лично и никогда не исправил содеянного. Было достаточно глупо с его стороны заявить, что идея сексуальной этиологии неврозов могла возникнуть лишь в атмосфере города, подобного Вене. Затем, когда французские авторы пустили в ход клевету, будто я слушал его лекции и украл его идеи, он мог одним своим словом положить конец таким разговорам, ведь я никогда не видел его и не слышал его имени во времена Шарко. Такого слова он не сказал». Он вступил в такой возраст, когда человек, оглядываясь на прожитые годы, предается воспоминаниям, подводит итог неудачам и свершениям. В полости рта вновь появилась раковая опухоль; требовались более обширные операции. Но разве он не перенес почти тридцать операций и не прожил тринадцать лет с того страшного дня, когда в кабинете доктора Пихлера узнал правду? Иногда он не верил, что выдержит еще час мучительной боли; однако вплоть до сегодняшнего дня он занимался больными, обучал молодых аналитиков, писал третью часть своей книги «Моисей и монотеизм». Его неизбывная любовь к жизни заставляла смерть отступать. Он поморщился бы, если бы говорили о «героическом» свершении его друзья и последователи. Его не покидало чувство юмора. Когда посетительница поинтересовалась его здоровьем, он ответил: – Как себя чувствует восьмидесятилетний – это не тема для разговоров. Психоанализ еще не был включен в учебные программы австрийских медицинских школ, однако университеты пользовались книгами Фрейда, и на них воспиталось целое поколение студентов. «Вводные лекции по психоанализу» в русском переводе продавались в тысячах экземплярах в Москве. Говорилось, что если психоанализ вообще правилен, то он применим только к западному человеку. И тем не менее Зигмунд вскоре держал в руках свои книги, переведенные на японский язык. Фрейдовская психология подсознания распространялась в Азии. Это было приятно сознавать. Двадцатые годы XX века прославились романами, основанными на так называемом потоке сознания. Эта литературная форма развилась благодаря его методу свободной ассоциации. Всемирной славой пользовалась фрейдистская по характеру пьеса драматурга Юджина О'Нила «Странная интерлюдия». Фрейдистской была интерпретация роли Гамлета актером Джоном Бэрримором. Имя Фрейда стало нарицательным. Каким же неприметным должен был быть городок, если бы в нем не прозвучало: «Сорвалось с языка по Фрейду!» Фрейд изменил представление человека о самом себе. Нельзя было больше оставаться в неведении о силах, действующих в человеке. Однако существовали некоторые пласты умственного склада, к которым он не пробился, их формировали те люди, которые считали, что исследование сексуальной природы человека аморально и унизительно. Он размышлял: «А можно ли вообще убедить таких людей?» Он не завершил свою работу во многих начатых им областях. Он тешил себя словами из Ветхого Завета: «Не вам завершить труд, и вы не свободны воздержаться от него». За ним идут люди, исследования которых пополнят знания в этих областях. Он допускал ошибки, признавал их и шел вперед. В двадцати трех объемистых томах его писаний, переведенных и изданных в Англии, имелись ошибочные концепции, полуправда, фальшивые заключения. Но скольких молодых врачей и не овладевших профессией врача он обучил? Они пойдут дальше, преодолеют его ошибки и недостатки, модифицируют и изменят психологию путями, неведомыми ему, сидящему в 1936 году в своем кабинете на Берггассе, 19. Нет нужды, чтобы все написанное им воспринималось как Священное Писание. Разве он не говорил во многих своих книгах по социологии, антропологии, истории, что рассуждает на основе имеющихся свидетельств? Его метод психотерапии также изменится; уже появляются школы, защищающие различные формы психоанализа. Однако он был убежден, что главная часть его открытий относительно подсознания и психоаналитической теории разумна и останется незыблемой. После всех видоизменений, которые, конечно, появятся в предстоящие десятилетия, в неприкосновенности сохранится, по крайней мере, восемьдесят процентов его работ. Они будут действенными даже для бунтующих против творца психоаналитики, мечтающих создать свои собственные, отличные, независимые отрасли терапии. Какой ученый не был бы рад достигнуть позитивных результатов в восьмидесяти процентах своих лабораторных исследований? Остальные двадцать будут восполнены молодыми умами, начинающими с того рубежа, на котором он остановился. Оглядываясь на прошлое, он понял, что его жизнь завершила полный круг. Изначальная критика, будто его суждения приложимы лишь к венским евреям среднего достатка, звучавшая в какой–то момент, не может более серьезно приниматься, ибо открытое им подсознание признано почти во всех странах мира, среди всех рас, религий, классов, культур, верований, уровней образования. Наибольшей наградой явилось обращение, написанное и зачитанное Томасом Манном перед Академическим обществом психологической медицины по случаю его восьмидесятилетия. Манн приехал к Зигмунду на виллу в Гринцинг и зачитал ему еще одно обращение, подписанное выдающимися артистами и писателями: Гербертом Уэллсом, Роменом Ролланом, Жюлем Роменом, Вирджинией Вульф, Стефаном Цвейгом… «Восьмидесятилетие Зигмунда Фрейда дает нам приятную возможность передать первооткрывателю новых и более глубоких знаний о человеке наши поздравления и наше благоговение. Во всех важных областях своей деятельности, как врач и психолог, как философ и художник, этот отважный наблюдатель и исцелитель был в течение двух поколений проводником в доселе неизведанные области человеческой души. Независимый духом, «человек и рыцарь с неумолимым и строгим лицом», как сказал Ницше о Шопенгауэре, мыслитель и исследователь, знающий, как выстоять в одиночку, а затем увлечь за собой многих, он пошел своим путем и добрался до истин, которые казались опасными, потому что они обнажили боязливо скрывавшееся и осветили темные уголки. Широко и глубоко он раскрыл новые проблемы и изменил старые представления; в своих поисках и проникновениях он расширил исследование разума и сделал даже своих противников своими должниками благодаря полученному ими от него творческому стимулу. Даже если будущее изменит и исправит тот или иной результат его исследований, никогда не исчезнут вопросы, поставленные перед человечеством Зигмундом Фрейдом; его вклад в знание нельзя ни отрицать, ни замалчивать. Разработанные им концепции, выбранные им слова для них уже вошли в живой язык и принимаются как они есть. Во всех областях человеческих знаний, в изучении литературы и искусства, в эволюции религии и предыстории, мифологии, фольклора, педагогики и поэзии его достижения оставили глубокий след; и мы уверены, что если какие–либо деяния нашей расы останутся незабытыми, то это будут его деяния по проникновению в глубины человеческого ума». Наиболее понравившимся Зигмунду посланием было написанное верным навечно Ойгеном Блеилером из Цюриха. Он покопался в своих папках, нашел письмо и зачитал последние строки: «Всякий пытающийся понять неврологию и психиатрию, не имея представления о психоанализе, показался бы мне динозавром. Я говорю «показался бы мне», а не «кажется», потому что нет более таких людей даже среди тех, кому нравится поносить психоанализ!» Зигмунду было трудно улыбаться, но он радовался в душе. Когда он ухаживал за Мартой как за возлюбленной, он сказал ей, что ему нет нужды высекать свое имя на скале. Позже Эрнест Джонс назвал это «рациональным подходом». В возрасте, близком к тому, в котором умер его отец Якоб. Зигмунд был готов признать, внутренне улыбаясь, что такое желание было одним из доминирующих элементов его натуры. Имя Фрейда он вырезал на скале, которая может слегка выветриться от порывов ветра и другой непогоды, но которая устоит в веках.13
В марте 1938 года Зигмунд все еще чувствовал себя в безопасности в Вене, ибо канцлер Шушниг был твердым лидером и преданным австрийцем, стойко державшимся, несмотря на угрозы и посулы Гитлера. Он принял декрет о проведении плебисцита, чтобы определить, присоединится ли Австрийская республика к «третьему рейху». Зигмунд знал, что значительная часть австрийской молодежи опьянена униформами, парадами, лозунгами нацистов, но он считал, как и все венцы среднего класса, что австрийцы отвергнут на плебисците аншлюс и поддержат независимость. Плебисцит не был проведен. 11 марта 1938 года германская армия вторглась в Австрию и захватила ее. Германские самолеты приземлились на австрийских аэродромах. По Вене скрежетали гусеницы нацистских танков. Долго таившиеся австрийские нацисты высыпали на улицы в коричневых рубашках со свастикой. Бюро Венского психоаналитического общества было распущено. Было решено, что тот, кто в состоянии, должен бежать. Зигмунда убеждали покинуть Вену и найти убежище у старых друзей во Франции, Голландии, Швеции, Англии, Соединенных Штатах. Он отказывался. Он писал другу, что не допускает мысли, чтобы нацисты не соблюдали правилаВерсальского договора о правах меньшинств. Разве евреи не были меньшинством, пусть даже не тем политическим меньшинством, которое упомянуто в Версальском договоре? В ближайшее воскресенье он почувствовал перемену. Упрямо звонил звонок входной двери. Там стоял вооруженный отряд штурмовиков. Они ворвались в помещение, оставив в дверях одного, чтобы никто не мог выйти. Марта наблюдала, как штурмовик нервно поднимал, а затем опускал свою винтовку, стуча прикладом о паркет. Она сказала твердым голосом: – Будьте добры, поставьте ваше ружье в подставку! Нацист был так поражен, что выполнил ее указание. Другие штурмовики прошли в столовую. Марта невозмутимо последовала за ними. – Присядьте, господа! Они были удивлены, но лишь переступали с ноги на ногу. Марта спросила: – С какой целью вы пришли в наш дом? Через некоторое время один из них пробормотал: – Нам поручено конфисковать всю иностранную валюту. Марта пошла в кухню, взяла хозяйственные деньги на неделю и положила банкноты в центре стола столовой комнаты, а затем сказала на чистейшем немецком языке, каким приветствовала в течение полувека гостей своего мужа: – Господа, берите сами! Штурмовики поморщились: сумма не была достаточно большой, чтобы ее можно было достойно разделить. Анна почувствовала их раздражение. Она попросила последовать за ней в другую комнату к сейфу и открыла его; штурмовики поспешно обшарили его и удалились с шестью тысячами шиллингов (840 долларов). Зигмунд, который слышал, как они громко считали деньги, вышел из своего рабочего кабинета такой обессиленный, что его опрокинул бы порыв ветра. Молодые нацисты побледнели под огнем его глаз. Они быстро ушли. – Что им было нужно? – спросил он Марту. – Деньги. – Сколько они получили? – Шесть тысяч австрийских шиллингов. – Это больше, чем я получаю за визит. Пришел Мартин Фрейд в сопровождении Эрнеста Джонса. Фрейды не знали, что он в Вене. Мартин выглядел так, словно побывал под прессом. Он работал над отчетностью издательства, когда банда вооруженных молодчиков, называвших себя нацистами, арестовала его, захватила всю наличность и грозила сжечь все книги. В этот момент вошел Эрнест Джонс. Его вызвали по международному телефону Дороти Бэрлингем из Вены и Мария Бонапарт из Парижа с просьбой спасти семью Фрейда, пока не поздно. Джонс был также задержан, пока не прибыл нацистский офицер и не разогнал молодых наглецов. Семья не обсуждала больше вторжение. Мартину и Джонсу дали поесть, Джонс вполголоса попросил Зигмунда переговорить с глазу на глаз. Они прошли через угловую комнату Анны, выходившую на Берггассе, и через приемную Зигмунда в его рабочий кабинет, где он проводил личные беседы последние тридцать лет. – Профессор Фрейд, во время броска из Лондона в Прагу, а затем перелета на маленьком моноплане были моменты, когда я опасался, что никогда не доберусь до Вены, чтобы обратиться с просьбой. После того, что произошло сегодня, вам следует как можно скорее уехать с семьей из Вены. Тысячи венцев на тротуарах вопят «хайль Гитлер!». – Я слышу их. А как не слышать? – Тогда вы понимаете, что должны уехать. – Нет, мое место здесь. – Но, дорогой профессор, вы не одиноки в мире! – воскликнул в отчаянии Эрнест. – Ваша жизнь дорога многим. – Одинок? Увы, если бы я был одинок. Я слишком слаб, чтобы путешествовать. Я не смогу даже подняться в вагон поезда. – Неважно. Я понесу вас. – Но ни одна страна не даст разрешения на въезд и не предоставит работу. – Мария Бонапарт может получить для вас визу во Францию, хотя вам не разрешат заниматься там медицинской практикой. Англия является подходящим местом, мы хотели давно видеть вас там. Я уверен, что мое правительство будет приветствовать вас и даст разрешение на частную практику. – Я не могу покинуть мою родную страну. Это все равно, как если бы со своего поста дезертировал солдат. – Профессор, вы слышали историю об офицере «Титаника», которого выбросило на поверхность океана, когда взорвался котел? Его спросили: «В какой момент вы покинули корабль?» Он гордо ответил: «Я никогда не покидал корабля, сэр; он покинул меня». Намек на улыбку просквозил в грустных глазах Зигмунда. – Я подумаю. Спасибо, дорогой друг. Из Парижа приехала Мария Бонапарт, как и Эрнест Джонс, полная решимости вывезти семью Фрейд из Австрии. Джонс вернулся в Лондон, чтобы получить соответствующие разрешения. Через неделю пришла группа штурмовиков, постарше и более решительных. Они обшарили все углы в доме, заявив, что ищут «подрывную литературу». Зигмунд и Марта сидели рядом на бархатной софе, молча, не двигаясь, пока нацисты проводили тщательный обыск. Они не нашли ничего, что хотели бы взять с собой… кроме Анны Фрейд. – Что это значит? – воскликнул Зигмунд. – Почему вы забираете мою дочь? И куда? – В отель «Метрополь». Мы желаем задать ей несколько вопросов. – Отель «Метрополь», – прошептала Марта, – это штаб–квартира гестапо! – Моя дочь не знает ничего, что может вас интересовать! – закричал Зигмунд. – Если вам нужна информация, то ее могу дать только я. Я готов пойти с вами. Нацистский офицер, чопорно поклонившись, ответил: – У нас есть приказ арестовать вашу дочь. Анна старалась успокоить их безмятежным взглядом, когда покидала дом в сопровождении двух штурмовиков. Марта была бледной, но не плакала, несмотря на тот факт, что, как было известно, арестованные и взятые в гестапо венские евреи подвергались физическому насилию, многие тайком вывозились в трудовые лагеря. Это могло случиться и с Анной; они способны истязать ее, отправить этой же ночью в концлагерь, откуда обратной дороги нет. «Мыслимо ли, чтобы я убил мою собственную дочь? – спрашивал себя Зигмунд, затягиваясь сигарой и одновременно пытаясь скрыть свое волнение от Марты. – Я был глуп, наивен… Все, кто имел шанс выбраться, сбежали с семьями. Но не я! Я не дезертирую с поста. Но почему я не подумал об Анне и Мартине?! Мы старые, Марта, Минна старая. Мои сестры старые. Неважно, что случится с нами. Но Анна и Мартин еще должны жить. Что я оставлю здесь? Почему я не заставил Анну и Мартина присоединиться к Оливеру и Эрнсту? Они были бы в безопасности. Боже мой, что я сделал со своей дочерью? Что они сделают с ней в гестапо?» Все перенесенные им операции не причиняли ему такой боли. Он пережил агонию осужденного минуту за минутой в эти мучительно медленно тянувшиеся часы. Зазвонил телефон. Он подбежал к аппарату и взял трубку дрожащей рукой. Звонил американский поверенный в делах господин Уайли, он предлагал свои услуги в воскресенье, узнав о вторжении нацистов в дом Фрейда. – Профессор Фрейд, я узнал об аресте вашей дочери и немедленно выразил властям официальный протест. Мне удалось добраться до чиновника высокого ранга. Полагаю, что он серьезно отнесся к моему протесту. Будьте уверены, я буду настаивать, пока ваша дочь не будет освобождена. Часы ползли, как улитки. Зигмунд бродил из комнаты в комнату, пытаясь приглушить свой страх дурманом сигар, которые он курил одну за другой. Дом молчал, как покойницкая в полночь. Никто не старался успокоить другого. Что можно было сказать? Они могли лишь молиться и ждать, не послышатся ли шаги Анны на лестнице. Прошел полдень, четыре часа, пять… Ни слова, ни знака. Зигмунд сказал про себя: «Если я потеряю Анну, если ее изувечили или выслали, то для меня наступит конец мира. Я и только я навлек такой ужасный конец на нашу семью». Сумерки усугубили муки. Никто не зажигал лампы. Подали кофе. Никто не прикоснулся к нему. Марта лучше выносила напряжение, но это был тот самый случай, когда она не могла помочь мужу. Пришел Мартин, он метался из комнаты в комнату, как тигр в клетке. Затем наконец появилась Анна, она открыла дверь своим ключом. Все вопрошающе смотрели на нее. Она сказала: – Со мной все в порядке. Помог американский поверенный в делах, но в конечном счете ее спасли острая наблюдательность и здравый смысл. Она знала, что всех задержанных, которых не допросили в течение дня, выбрасывают как падаль, загоняют в грузовики, затем в товарные вагоны и увозят неизвестно куда. Она не позволила, чтобы подобное произошло с ней, напоминала о своем присутствии, настаивала, чтобы ее допросили. В конце концов ее допрашивали около часа, а затем освободили. Зигмунд воскликнул: «Слава богу, ты цела. Завтра начнем готовиться к отъезду из Вены». Эрнест Джонс обивал пороги в Лондоне, чтобы получить для Фрейдов британские визы и разрешение на работу. В тот печальный период Англия неохотно принимала беженцев; они должны были располагать материальной поддержкой британских граждан, а разрешения на работу почти исключались. Джонс направился прямо в Королевское общество, которое присудило Зигмунду Фрейду почетное звание два года назад; общество редко вмешивалось в политические дела. Президент общества всемирно известный врач Уильям Брегг обещал свою поддержку и выдал Джонсу рекомендательное письмо министру внутренних дел сэру Сэмюелу Хору. Джонс блестяще изложил дело Фрейда; еще в середине беседы он понял, что министр внутренних дел сочувствует каждому его слову. Он предоставил Джонсу право заполнить документы с разрешением на въезд профессору Фрейду, его семье, домашнему врачу, всем тем, кто требуется ему. Наступил критический момент. Прошло три месяца, три месяца отчаяний и опасений, что нацисты не выпустят столь видного заложника. Зигмунд проводил время, отвечая на корреспонденцию, работая над третьей частью книги «Моисей и монотеизм», переводя с помощью Анны книгу Марии Бонапарт о ее собаке Топси. Дело профессора Фрейда приобрело известность. Нацисты наложили руку на его вклад в банке, конфисковали все книги в издательстве, вынудили Мартина возвратить публикации и деньги, которые он поместил в швейцарские банки. Американский посол в Париже Уильям Буллит просил президента Франклина Рузвельта вмешаться в пользу Фрейда. Президент Рузвельт выполнил эту просьбу. Буллит просил германского посла в Париже предоставить необходимые документы. Бенито Муссолини, которому однажды Зигмунд послал экземпляр своей книги по просьбе отца одного из своих итальянских пациентов, обратился непосредственно к Гитлеру с просьбой позволить Фрейдам выехать из Вены. Тетушка Минна находилась в санатории после удаления катаракты. Дороти Бэрлингем, имевшая американский паспорт, сумела вывезти ее в Лондон. Мартин ускользнул от нацистов и присоединился к жене и детям в Париже. Матильда и Роберт Холличер бежали в Англию десятью днями позже. Сын Александра Гарри Фрейд заметил свастику на стене намного раньше старшего поколения. Не сумев убедить своих родителей, он организовал нечто вроде деловой поездки в Швейцарию. Его двоюродный брат в Нью–Йорке Эдвард Бернейс помог ему перебраться в Америку. На квартиру Александра пришли из гестапо арестовать Гарри. Александр понял намек. Он назначил выдающегося нацистского адвоката, штурмовика своим душеприказчиком, передал ему свои значительные сбережения при условии, что тот обеспечит ему необходимые паспорта и визы. Разрешение на выезд поступило в мае. Они пришли на Берггассе попрощаться с Зигмундом и семьей. Прощание было спокойным, каждый мечтал о скорой встрече в Лондоне. – В следующем году в Иерусалиме, – прошептал Зигмунд Марте, когда они стояли у окна, наблюдая, как Александр и Софи садятся в такси, которое доставит их на вокзал, с багажом в виде небольшого саквояжа. Зигмунд, не горевший желанием помочь самому себе, сумел уберечь от беды некоторых друзей и коллег. Пришла вдова старшего сына Йозефа Брейера и сообщила, что она и ее дочь будут арестованы. Зигмунд через А. А. Брилла обеспечил им американскую визу. Он помог Теодору Рейку и его семье получить въездную визу в Соединенные Штаты, куда уже уехали Елена и Феликс Дейч, а также Макс Граф, Франц Александер, Карен Хорни. Когда Теодор Рейк пришел попрощаться, Зигмунд обнял его за плечи. – Вы мне всегда нравились, – сказал он. Рейк наклонил голову, будучи не в силах сказать слово. Зигмунд продолжал тихим голосом: – Людям не нужно приклеиваться друг к другу, когда они принадлежат друг другу. По Соединенным Штатам разошлась выдумка, родившаяся в Бостоне, будто Зигмунда держат ради выкупа. Через репортера Зигмунд рассказал, что это неправда. Но по существу это было правдой: нацисты требовали 4824 доллара в виде налогов, природу которых никто не мог объяснить. Мария Бонапарт использовала свои связи во французском и греческом правительствах, добилась освобождения Фрейда, быстро выплатив сумму наличными. Так был преодолен последний барьер. В квартиру на Берггассе прибыл чиновник с документами в своем портфеле. – Профессор Фрейд! Вы должны лишь подписать эти разрешения, и вашей семье и сотрудникам будут выданы выездные визы. В документе говорится, что со времени аншлюса Австрии с германским рейхом германские власти, и особенно гестапо, относились к вам со всем уважением и вниманием, как того требует ваша научная репутация. Зигмунд пробежал глазами лист бумаги, сказал с улыбкой, более вымученной, чем позволяла его парализованная правая щека: – Охотно подпишу при условии, что добавлю фразу. – Как хотите, господин профессор. Под подписью Зигмунд добавил: – Могу от всей души аттестовать гестапо перед кем угодно. 4 июня 1938 года они выехали восточным экспрессом на запад через Австрию и Германию, пересекли Рейн в три часа утра у Кёльна, ниже Страсбурга. Зигмунд, Марта, Анна и двое слуг, обслуживавших их в течение многих лет, имели в своем распоряжении купе. Эрнест Джонс добился также разрешения на въезд для доктора Макса Шура и его жены Елены. Доктор Шур слег с аппендицитом, и Елена осталась ухаживать за ним. В последний момент им удалось получить выездную визу для подруги Анны Жозефины Штросс, которая как врач должна была обслуживать Зигмунда во время переезда. Никто в купе Фрейдов не мог заснуть. Германская пограничная охрана бодрствовала в три часа утра и действовала эффективно. Каждая бумага была проверена трижды. Когда поезд переехал Рейн, Зигмунд облегченно вздохнул, обменялся взглядами с женой и дочерью. Французские чиновники на другой стороне не были столь придирчивы: группа Фрейда имела лишь транзитные французские визы, пограничники проштамповали их, а затем вежливо пожелали спокойной ночи. Опустошенный физически и эмоционально от напряжения, Зигмунд провалился в сон. В Париж они прибыли утром. Их встречал сын Эрнст, приехавший из Англии, чтобы сопроводить их на последнем этапе путешествия. Мария Бонапарт ожидала на вокзале с автомашиной и шофером. Среди встречавших находился посол Уильям Буллит, он улыбался, довольный успешным результатом своих усилий. Гарри Фрейд приехал в Париж, чтобы приветствовать их и заверить, что его родители вскоре присоединятся к семье в Лондоне, где Матильда и Роберт Холличер сняли для них дом. Мария Бонапарт забрала всех к себе. Они смыли ночную копоть после поездки в поезде, а затем пошли на завтрак в столовую дворца Бонапартов. Они сидели в висячем саду под теплым и ласковым французским солнцем. К ним подошла Мария Бонапарт, пряча что–то за спиной. – Посмотрите, что я выкрала, когда уходила последний раз с Берггассе, из вашего кабинета. Эту изящную Афину. Я всегда знала, что она ваша любимица. Теперь вы можете взять ее с собой в Англию и поставить на своем столе. Зигмунд взял Афину в руки, нежно погладил ее, как он это делал всегда в прошлом. – Спасибо, дорогой друг. Теперь мы будем жить под ее защитой. Она возместит мне коллекцию, которую я собирал всю жизнь и которая теперь навсегда потеряна. – Не скажите! – воскликнула Мария Бонапарт. – Мои люди в Вене спасли часть ее, а также часть библиотеки, не говоря уже о рукописях. Возможно, они уже отправлены в греческое посольство в Лондоне; но когда вы начнете вновь работать в Лондоне, вас будут окружать памятные предметы вашей жизни. Зигмунд и его семья провели чудесное время в доме Бонапартов, «окруженные, – как говорил Зигмунд, – любовью все двенадцать часов». Они сели на паром, переплывавший Ла–Манш. Их охватило чувство мира и покоя; день, проведенный в Париже, восстановил его чувство достоинства. Утром они высадились в Дувре. Зигмунд позволил своим домочадцам пройти вперед. Он смотрел на белые скалы, мысленно возвращаясь в далекое прошлое, когда он девятнадцатилетним парнем посетил Англию. Он думал: «Здесь я умру в условиях свободы». Он повернулся, подошел как можно ближе к краю воды, постоял, вглядываясь через пролив. Он мысленно совершил поездку на восток – через Францию, Германию, Австрию, пока не добрался до дома. До Вены.ИРВИНГ СТОУН ТЕ, КТО ЛЮБИТ



Роман
Книги 1–7
Моей жене Джин Стоун — министру без портфеляКНИГА ПЕРВАЯ ВЛЮБЛЕННЫЙ ПУРИТАНИН
1
Абигейл сидела посреди кровати, в которой спала вместе со своей старшей сестрой Мэри. Подогнув под себя стройные ноги и наслаждаясь утренним октябрьским солнцем, ласкавшим ее лицо и плечи, она поглаживала рукой листок письма. В углу комнаты, рядом с книжным шкафом, заполненным английскими изданиями, стоял французский секретер, но она предпочла поставить досточку с промокашкой и чернильницей на темное стеганое покрывало и быстро писала. В окно, откуда открывался вид на холмистую местность, она видела младшего брата Билли, кормившего кроликов и гусей. Он осторожно ходил между ними, словно спокойно беседуя со своими подопечными. Устремив взгляд на письмо, только что полученное из Хэнгема от кузины Ханны Куинси, вышедшей замуж за доктора Бела Линкольна, она прочла: «Попроси одного из твоих ухажеров привезти тебя к нам». Она хихикнула с оттенком иронии и довольства.«Ты советуешь мне попросить одного из моих ухажеров… привезти меня к тебе, — писала она. — Ну, как я вижу, по-твоему, их так много, как сельдей в косяке. Между тем, увы! Здесь их так же не хватает, как справедливости, честности, осмотрительности и многих других достоинств».Общительная Ханна с достаточным основанием полагала, что у семнадцатилетней Абигейл уйма поклонников, и у нее, конечно, был повод так думать: Ричард Кранч, помолвленный с Мэри, не скрывал, как приятно ему посещать уютный дом полковника Джошиа Куинси, выходивший тыльной стороной к заливу Массачусетс; в этом доме часто бывал и Джон Адамс, молодой адвокат из Брейнтри, и, когда он прекратил визиты, пошел слух, что один обошел другого. — Неужто Ханна красивее меня? — спросила себя Абигейл. Она привстала на колени, стараясь выбраться из кровати с балдахином, подвешенным на четырех столбах, а затем подумала, что дочери священника не пристало поддаваться тщеславию, завидев свое отражение в зеркале… хотя оно, висевшее над комодом, так притягивало ее. Абигейл вновь рассмеялась: она вспомнила, как невольно бросала взгляд на свое отображение в зеркале, проходя мимо него. Она закрыла глаза, стараясь представить свое лицо. — Красива ли я? Не совсем. Но привлекательна, не так ли? У нее были приятные черты лица: высокий выпуклый лоб, удачно сочетавшийся с выступающими скулами, плавным и в то же время четко очерченным овалом нижней части лица, переходящим в смело вылепленный подбородок. Губы ее небольшого рта были пухлыми, а ослепительно белые зубы — ровными и мелкими. Лучшей частью ее лица были глаза: большие, тепло-карие, прозрачно-ласковые под нежным изгибом бровей. Ее нос… Она быстро открыла глаза. — Боже мой! — воскликнула она. — Римский нос на узком лице! Это же нос ее отца в миниатюре. Если бы он был поменьше и не такой горбатый ниже глазниц. Но в таком случае, решила она, что делала бы наделенная классической красотой дочь священника в деревне Уэймаут? Кожа Абигейл была нежной, бархатной, смуглой, на щеках играл румянец. Ей нравились ее густые каштановые волосы, переливающиеся на свету, когда Абигейл зачесывала их назад. Сейчас же они были плотно уложены и перевязаны сзади голубой лентой. Ее внимание вновь переключилось на письмо. Ханна писала: «Разве мы не сможем поддерживать дружбу с помощью переписки?» Абигейл вспомнила прочитанные накануне строки стихов доктора Юнга:[1]
«Друг ценнее любого риска…»Здесь никто ей не поможет. Она должна сама найти друзей. «Что ж, хорошо, — подумала Абигейл, слегка усмехнувшись по поводу своей серьезности, — результат наших пожеланий не совпадает с тем, что мы желаем». Сестра Мэри крикнула снизу: — Нэбби, Ричард здесь! Он привел гостя на чай. — Кого? — Того самого адвоката из Брейнтри, который не нравится маме. Они привязывают лошадей у ворот. Абигейл живо выпорхнула из постели, поправив рукой свою высокую прическу, взглянула на себя, неспешно проходя мимо зеркала. В ее глазах вспыхнул озорной огонек. За боковой занавеской она взяла голубое платье с мягкой шерстяной отделкой, скользнула в него, застегнула пуговицы лифа, поправила оборку на груди. Это было самое нарядное платье, какое ей позволяли носить, в нем она выглядела особенно привлекательной.
2
Когда три сестры подняли бунт по поводу того, что им приходится спать и одеваться в одной комнате, преподобный мистер Смит поставил перегородку; Абигейл и Мэри достались две третьих площади, а Бетси — треть. Бывшая большая комната обогревалась одним камином, и перегородка мешала равномерному распределению тепла. Абигейл прошла мимо камина через часть комнаты, выделенной Бетси. Абигейл выработала свой особый ритм спуска по лестнице: один, два, три — быстро, на четвертой ступени пауза; на пятой, шестой, седьмой — быстрее, при счете «восемь» она выпрыгивала на площадку первого этажа. Ее отец говорил, что, поскольку танцы запрещены для дочерей священников, Абигейл нарушала принятую конвенцию: она танцевала, вместо того чтобы мирно шагать по жизни. Мэри помогла Ричарду Кранчу снять пальто, повесила его в шкаф под лестницей, где хранились верхняя одежда и обувь прихожан, нуждавшихся в совете преподобного мистера Смита и ожидавших его на деревянной скамье перед дверью библиотеки. Кранч родился в Англии и шестнадцать лет назад приехал в Массачусетс вместе с сестрой и ее мужем, обладая значительным капиталом и знаниями в области горного дела и гидравлики. Человек с открытой душой, он щедро делился знаниями в нескончаемых беседах о технике и одновременно ухаживал за Мэри. Он был склонен к церемонности и несколько манерным, довольно привлекательным, если не обращать внимания на его нос, который, казалось, был вылеплен на его лице двумя сильными пальцами. Он был одного роста с Мэри и широкоплеч. Кранч основал в нескольких милях от Уэймаута, в Джермантауне, на берегу залива, фабрику, производившую стекло, керамику, шоколад, чулки и продукты из китового жира, но после нескольких разорительных пожаров продал ее, а затем объединился с другими промышленниками, чтобы захватить рынок спермацетовых свечей. Он щедро одаривал Абигейл книгами — поэзией Грея, Драйдена, Мильтона и Попа. Мэри любила Ричарда. — На него можно положиться, Нэбби, — призналась она сестре в тот день, когда ответила согласием на предложение Кранча. — Он обладает постоянством. Не опасайся, если в следующий раз увидишь еще одного Ричарда. — Это приятно. — Да, верно, Нэбби. Но я не хотела бы выйти замуж за одного мужчину, а потом обнаружить, что в нем еще девяносто девять других, и не знать, какой из них стучится в парадную дверь. — Думаю, лучше не знать, какой приходит домой! — воскликнула Абигейл, подмигнув при этом. — Это превратило бы замужество в более увлекательную игру, чем жмурки. Впрочем, в Новой Англии многомужество запрещено. Мэри нравился приправленный солью юмор Абигейл, пока у нее не возникли серьезные намерения в отношении Ричарда Кранча. Поскольку ее жених не понимал большинство шуток, она перестала воспринимать жизнь с юмором. Держась за руки, Мэри и Кранч вошли в гостиную. Абигейл хотела последовать за ними, но вдруг в библиотеке заметила Джона Адамса, стоявшего между письменным столом отца и книжными полками, закрывавшими всю стену. В руках он держал по одному раскрытому тому, попеременно нюхая то тот, то другой. Его плечи были приподняты, словно он хотел отгородиться от постороннего вмешательства. У Абигейл было странное ощущение, когда она увидела его… как бы в трансе… в комнате, которую она любила больше всех: ведь в ней отец выполнил свое обещание обучить ее с помощью не только Библии и обширного собрания проповедей, но и произведений Шекспира и Бена Джонсона,[2] перемежая это занятие изучением грамматики, арифметики, географии и таких книг по истории, как «Рассуждение и мнение о Виргинии». Благодаря строгому образу мышления отца, ее дядюшки Исаака Смита и дедушки Куинси, а также природной любознательности, которую она удовлетворяла пытливым чтением, Абигейл смогла получить начальное образование, одновременно овладев ценным инструментом логики и умением трезво рассуждать. «Чем он занимается?» — думала она, наблюдая, как Адамс поставил на полку книги и взял две другие. Впервые она получила возможность рассмотреть молодого человека, обычно проявлявшего недовольство, если ему казалось, что за ним наблюдают. Глядя на него сбоку, она заметила второй подбородок и плотную фигуру, подумав при этом, что он полная противоположность двум мужчинам, которых она любила и которыми восхищалась больше всего: высокому, угловатому, сильному и тощему — ее отцу и двоюродному дядюшке — доктору Коттону Тафтсу. Толкнув ногой дверь, она переступила порог. Застигнутый врасплох, Джон Адамс повернулся, его щеки покраснели. Потом он протянул к ней обе руки с открытой книгой в каждой: — Знаете ли вы, мисс Смит, что по запаху бумаги можно определить, из какой части света пришла книга? Эта биография Коттона Матера была отпечатана в Бостоне, у нее острый запах волокнистой циновки. А «Хронологическая история» отпечатана в Лондоне, у нее аромат спрессованного мокрого тряпья. — Поразительно, мистер Адамс. — Почему? — Я полагала, что аромат создается самим предметом книги. Ваши юридические книги могут отдавать сыростью тюремной камеры, а сборник проповедей на столе отца может напомнить вашему обонянию… — Серу! — выпалил он. — Точно. Он оценивающе посмотрел на нее. Они направились к двери и вошли в красиво меблированную гостиную Элизабет Куинси Смит. Окна — два по фасаду здания и два по бокам — были задернуты сатиновыми занавесками лимонного цвета. На полу лежал толстый брюссельский ковер: на его белом фоне выделялись зеленые листья и лимонно-желтые цветы. На каминной полке напротив окон, выходивших на фасад, стояли подсвечники из цветного стекла и масляные лампы из бронзы. По обе стороны от них красовались веджвудские медальоны. В углу комнаты, за камином, стояла софа, обтянутая желтым камчатным полотном, а в центре стол, сервированный для чая. Вокруг стола были свободно расставлены шесть удобных стульев из красного дерева с мягкими сиденьями. В комнате было много лиможских фигурок, подаренных миссис Смит семейством Куинси. Джон Адамс плюхнулся на софу рядом с преподобным мистером Смитом и тут же ввязался в дискуссию об «уэймаутском деле». Этот вопрос, как помнилось Абигейл, давно волновал пастора Смита. Когда в Уэймауте в 1639 году, через семнадцать лет после основания самого поселка, была учреждена первая конгрегационалистская церковь,[3] городской совет даровал священнику земли. Спустя девяносто лет была образована вторая, или южная, конгрегационалистская церковь, и ее священник потребовал признать законными его права на половину земельных угодий первоначального дара. Абигейл устроилась на соседнем стуле из красного дерева и наблюдала за мистером Адамсом, излагавшим ее отцу весомые юридические доводы. Джон Адамс посещал их дом уже более двух лет, приходя на чай по воскресеньям или в день милиции. Они так и не подружились; более того, ей казалось, будто он ее избегал. В то же время она чувствовала, что ее отец нравился Джону Адамсу. «Скорее, он уважает отца», — думала она. Абигейл слышала, как он повышал голос, словно приближаясь к решающему пункту своего заключения. Она наклонилась вперед, вслушиваясь в слова этого человека; его голос, не особенно приятный при обмене любезностями, менялся в силе и тембре по мере того, как Джон, отходя от личных моментов, погружался в юридические тонкости. — Пастор Смит, исходная дарственная четко определена. В документе нет и намека на то, что земельный участок должен или может быть разделен. — Мистер Бейли из второго прихода не согласится с этим. Джон Адамс повернулся и мрачно взглянул на Абигейл, проверяя свои мысли и стараясь вспомнить, как ей показалось, какая из трех дочерей Смита сидит перед ним. Затем он повернулся к ее отцу, в глазах которого, обычно серьезных, мелькнула искорка улыбки. — А что бы сказал преподобный Бейли, если бы предложили разделить церковные земли между всеми сектами, возникающими в поселке: анабаптистами, квакерами, сепаратистами? Поскольку земля была дарована общиной, каждый новый священник имеет равное право — если счесть правильной позицию мистера Бейли — потребовать часть земли. Преподобный Бейли может кончить тем, что у него не останется даже земельного клочка под стойло для своей лошади. Уильям Смит смачно стукнул рукой по своему правому колену: — Боже милостивый, мистер Адамс, думаю, что вы положили конец этим нескончаемым спорам. Мистер Бейли никогда не станет предъявлять мне иск, если поймет, что тем самым он создаст прецедент иска к нему самому. — Хорошо, — сказал Джон Адамс, оседая, словно из него, как из надувной игрушки, выпустили воздух, — приятно выиграть дело. — Он добавил с грустной улыбкой: — Мисс Абигейл, не кажется ли вам, что я заслужил клубничный пирог? Она принесла тарелку с пирогом и вновь наполнила чаем чашку Адамса, заметив уважительный взгляд отца. По-иному думала ее мать: она выхватила поднос, стоявший перед Адамсом, и перенесла его к Ричарду Кранчу. Абигейл подумала: «Хорошая жена священника должна быть вежливой даже с теми, кто ей не нравится». — Джон Адамс всего лишь адвокат! — презрительно закричала ее мать, когда имя ее кузины Ханны Куинси было упомянуто вкупе с его именем. — Адвокаты — самые презренные типы в Новой Англии. Так думают все. Их следует поставить вне закона. — Хороша шутка, мама! — весело воскликнула Абигейл. — Шутка? Какая шутка! Ты знаешь, Нэбби, что я не шучу. Массачусетс был священным поселением, пока адвокатам не разрешали заниматься своим колдовством. — Массачусетс никогда не был идеальной общиной, — мягко вмешался ее отец. — И мистер Адамс не колдун. Бывают моменты, когда я нахожу его разумным. — Разумным? Если бы он не провел четыре года в колледже Гарварда, он стал бы священником. Не для этого ли нужен Гарвард? Абигейл не знала, для чего нужен колледж Гарварда. Он явно не подходил девушкам, хотя отец взял ее с собой послушать выступления выпускников 1761 года, а потом состоялся пикник на берегу реки Чарлз с семьями молодых людей. Октябрьские сумерки надвигались, словно низкие тучи. В комнате стемнело. Миссис Смит зажгла на столах бронзовые лампы, а затем сдвинула шторы. Это было сигналом, что скоро ужин. Джон Адамс встал, чтобы откланяться. — Останьтесь на ужин, мистер Адамс, — сказала миссис Смит. Абигейл с восхищением посмотрела на мать. Несмотря на то что ей не нравился Адамс, Элизабет Смит не нарушала традицию: все присутствующие в доме в такой час приглашались на ужин. Она заметила также, что слова матери удивили мистера Адамса, но он не проявил желания покинуть их компанию.3
Ее родители прошли впереди них через дверь в гостиную, которая находилась в первой постройке, воздвигнутой на этом участке на вершине холма вплотную к первой церкви, которую называли Ясли Господние.[4] Постройка имела полтора этажа и остроконечную крышу с четырьмя слуховыми окнами, смотревшими на верхние спальни основного дома, именовавшегося особняком. Это было большое деревянное побеленное строение, которое построил и присоединил к первой хижине преподобный мистер Торри, бывший пастор Уэймаута. В хижине находились кухня, столовая, две спальни и рабочая комната, где миссис Смит разместила свои ткацкие станки. Стены комнаты были обшиты гладкими деревянными панелями. Миссис Смит заняла свое место во главе длинного стола, за ее спиной находилась кухня. Пастор Смит сел по другую сторону стола между двумя окнами, рамы которых были переделаны по образцу окон особняка. Билли втиснулся в кресло, самое дальнее от отца. Бетси села рядом с отцом, Мэри и Кранч выбрали кресла около камина, против них сели Абигейл и Джон Адамс; перед их глазами маячил массивный буфет. Прихожане не одобрили приобретения органа для церкви, и посему преподобный мистер Смит приволок старое семейное фортепьяно из Чарлзтауна. Поодаль на подставке стояли французские часы. Это была уютная комната, здесь не допускалось каких-либо семейных споров и распрей, пока шла трапеза. Феб, одна из рабынь семьи Смит, была принята в дом священника семь лет назад, после смерти негритянки Пэг. Она раскладывала в кухне в тарелки холодную баранину, а Том, муж Пэг, вносил блюда с пудингом, бисквитами и кувшины с молоком. Обветренное лицо Тома было цвета отполированного красного дерева, а коротко остриженные седые волосы торчали щетинкой на голове. Во время сева и уборки урожая он работал бок о бок со священником. Он также прислуживал за столом, когда собиралась компания. Пэг ухаживала за девочками, тогда еще маленькими; теперь же эту роль взяла на себя приземистая толстушка Феб с грудным голосом. Она стала женой Тома. Слабый свет подвешенной к потолку масляной лампы заставил их сесть ближе друг к другу, когда беседа перешла к излюбленной теме окрестных жителей о том, как взошедший на престол король Георг III[5] произнес перед парламентом свою первую блестящую речь. В комнате стало оживленно и тепло. Все они были англичанами, глубоко преданными своей родине и гордившимися империей. Они говорили по-английски; их мысли и ощущения, их моды и в значительной мере их поэзия, архитектура, мебель, посуда, серебро, пьесы, политика, проповеди, их музыка, законы, конституция, их культурное наследство были английскими. Массачусетс был вторым домом. Англия — хотя только Кранч пожил там — была источником всего хорошего и надежного в их жизни. Случались семейные распри вроде той, что началась двадцать восемь лет назад, в 1733 году, когда парламент принял закон о патоке, установивший высокие пошлины на сахар и патоку, ввозившиеся в колонии из Вест-Индии. Поскольку Массачусетс перерабатывал патоку в ром, один из основных товаров экспорта, а новые пошлины грозили подорвать производство и разорить большую часть торговцев, он отказался выплачивать налог. Контрабанда превратилась в почетное, уважаемое искусство. Англия проявляла снисходительность, иногда, правда, делая гримасы, но, подобно доброму родителю, не настаивала на проведении закона в жизнь. Согласие царило до начала прошлого года, когда Англия разослала своим таможенникам постановления о выполнении закона и общие полномочия на обыск, наделявшие их правом насильственного досмотра любого судна, склада, мастерской или дома в поисках контрабанды. Массачусетс, страшно обидевшись, возразил: «Дом человека — его крепость. Такими же являются его судно, склад, лавка. Они подвластны ветру и дождю, но не королю!» Джеймс Отис, самый блестящий из массачусетских ученых-юристов, произнес в Верховном суде страстную речь, отвергавшую эту пагубную несправедливость. Все были убеждены, что Англия вскоре отменит постановления. В Массачусетсе полагали, что родина, допустившая ошибку в своих действиях, исправит ее. Такие случайные размолвки всегда улаживались так, как хотела Новая Англия, усиливая узы лояльности между Британией и ее обожаемыми, хотя и не всегда вежливыми колониями. Если иногда Англия считала, что колонии, в особенности сварливый Массачусетс, действовали, как избалованный выводок, то было справедливо и другое: они были быстро растущими и эффективно действующими отпрысками, наполнявшими казну короля благодаря своей внешней торговле, строго регулировавшейся Англией, которая не допускала отклонений от правил. Жители Новой Англии вели себя плохо только в тех случаях, когда считали, что их родное правительство пытается ущемить их «политические права как свободных англичан». В то время как Феб и Том подавали яблочный пирог и фрукты, Абигейл восторженно цитировала те разделы речи Георга III, в которых король обещал опекать религию, британскую конституцию, права и свободы всех своих подданных; Массачусетс объявил, что такие чувства достойны короля-патриота. Теперь, когда ужин был окончен, миссис Смит выполнила свой долг хозяйки. — Есть и такие, которых нельзя считать настоящими англичанами, — сказала она. — Возьмите, к примеру, Сэмюела Адамса, он всегда старается учинить беспорядки. Ее муж тихо спросил: — Онваш близкий родственник, мистер Адамс? Абигейл, сидевшая рядом с Джоном, почувствовала, что его вовсе не застали врасплох. И вместе с тем поняла, что в нем пробудился дух борца. — Мы не столь близки, как кузены: у нас общий прадедушка. Но мы близки как друзья. Мне нравится Сэм, и я им восхищаюсь, даже когда с ним не согласен… а это бывает почти всегда. — Однако чем тут восхищаться? — упорствовала миссис Смит. — Он несколько раз заваливал дело. Промотал все наследство родителей, занявшись пивоварением. Теперь же, когда стал сборщиком налогов, в его отчетах, по слухам, недостает значительной суммы. Так утверждает молва. — Согласен, Сэм неважный бизнесмен. — Джон Адамс сказал скорее с задором, чем с раздражением, очевидно, он умел справляться с неприятными ситуациями. — Сэм хотел стать адвокатом и вырос бы в одного из величайших авторитетов в юриспруденции. Но видите ли, миссис Смит, мать Сэмюела презирала право. Есть люди такого склада ума, как бы странно это ни звучало. Миссис Смит покраснела от смущения. — Сэм превосходный теоретик в вопросах политики и писатель. Эти слова озадачили преподобного мистера Смита. Он наклонился над столом и, стараясь быть ближе к Джону Адамсу, спросил: — Но не находите ли вы его теории поджигательскими? — Вовсе нет, пастор Смит. Сэм пытается осуществить в политике то, в чем вы преуспели в религии: нерушимая и полная независимость. — Но у нас, конгрегационалистов, много проповедников, придерживающихся той же концепции. Сколько же Сэмюелов Адамсов имеется в наличии? — Слава богу, всего один! Это замечание вызвало смех. Абигейл спросила: — В таком случае вы согласны с моим отцом? — Напротив. Мы многое бы потеряли, не имея хотя бы одного Сэмюела Адамса. Лицо преподобного мистера Смита покрылось красными пятнами. — Полагаю, что должен отвергнуть ваше сравнение религии и политики. — Почему? Разве вы разрешаете епископам контролировать ваш приход? Разве вы разрешаете католической церкви Англии посылать вам пасторов, диктовать вам условия веры? Разумеется, нет! Мой отец был дьяконом конгрегационалистской церкви Брейнтри в течение двадцати пяти лет. Более строптивой конгрегации никогда не было. Если бы священник из Бостона предписал им, каким деревянным свистком пользоваться при исполнении их гимна, то они обмазали бы его смолой и вываляли в перьях. Пятна на лице отца поблекли, а глаза заблестели. — Не без преувеличений, но справедливо. — Таковы же настроения Сэмюела Адамса в отношении политики. Все встали из-за стола и направились в гостиную. Абигейл посмотрела Джону Адамсу прямо в глаза и подумала: «А вы с характером!»4
В субботу утром она проснулась рано, растормошила Мэри, которая крепко спала, потом быстро спустилась в кухню, где Феб кипятила воду в чанах, подвешенных над огнем. — Вы выбрали хороший день для своего пикника, мисс Нэбби. — Верно, Феб, не правда ли? — Она добавила холодной воды в кипяток, налитый Феб в таз. — Но это не случайно. Я хотела, чтобы так было. Феб удалилась в кладовку, чтобы подготовить угощение для пикника, дав возможность Абигейл раздеться, потрогать воду, а затем усесться в ванну, упершись подбородком в колени. Растирая мыло по телу фланелевой салфеткой, она удивлялась, как удается более крупным членам семьи Смит умещаться каждый субботний вечер в этой старинной и изрядно потертой ванне-бочонке. Собранная из дубовых клепок, стянутых медными обручами, эта ванна стала для нее мерилом. Она судила о длине своих стройных ног по тому, насколько ее округлые коленки поднимались над водой; и как чудесно, что за несколько недель до семнадцатилетия, как она ни старалась сесть поглубже, под воду не уходила ее хорошо сформировавшаяся грудь. Феб положила полотенце на теплый полок. Абигейл ступила на шерстяной круглый половичок, завернулась в полотенце, похлопала по нему, но не стала растираться, дабы не покраснела кожа. — Феб, наполни ванну для Мэри. Она скоро спустится. Приятная теплота от купания исчезла, когда она проходила через столовую в гостиную и вдруг услышала разговор на повышенных тонах. — Почему ты вдруг стал таким дружелюбным к мистеру Адамсу? — сказала мать хорошо поставленным, властным голосом. — До этого я не замечала, чтобы ты им восхищался. — Признаюсь, так было. Хотя я наблюдал за ним. Абигейл раскачивалась в проходе, стоя на одной ноге. Впервые услышала она спор между родителями относительно достоинств молодого человека, посещавшего их дом. — В таком случае, как ты можешь поощрять… Он сын мелкого землевладельца и адвоката. — Я хочу, чтобы у Нэбби были друзья. Время подошло, особенно теперь, когда Мэри помолвлена. — Какое отношение могут иметь друзья к поездке на лодке на остров Рейнсфорд в осеннюю погоду, которая может испортиться? Ты же знаешь, что она подвержена простуде. Абигейл поднялась по лестнице в свою комнату. — Что случилось? — спросила Мэри, готовая спуститься вниз, чтобы принять ванну. — Ты бледная, а глаза покраснели. Спокойную по характеру Мэри трудно было растревожить. Она выступала в роли примирителя между сестрой и матерью с того дня, когда Абигейл было отказано в поездке на санях, поскольку мать сочла, что это выше сил ее дочери. Тогда Абигейл закричала в отчаянии: — Я одна, а она давит, как шесть человек! На вопрос Мэри она тотчас же ответила: — Мать не хочет, чтобы я поехала с тобой и Ричардом, хотя и не представляю, против чего она больше всего настроена: против мистера Адамса или против лодки. — Я поговорю с ней, — сказала Мэри успокаивающим тоном. — Надень шерстяные чулки и непромокаемые ботинки. Она присела на край шерстяной простыни — искусство ткачества Элизабет Смит передала своим трем дочерям, — и к Абигейл стало возвращаться хорошее настроение. Мать любит ее и желает ей счастья. Поскольку Абигейл давно решила, что не позволит матери обречь себя на пассивную жизнь затворницы, зачем же расстраиваться?Мужчины провели на веслах плоскодонку до острова Рейнсфорд, во время плавания Абигейл и Мэри сидели на корме, глядя на тихое течение и прикасаясь пальцами к воде, казавшейся им прохладной. Оба мужчины были прирожденными гребцами, Джон Адамс хранил молчание, и ему явно нравилось испытывать физическое напряжение. Ричард Кранч рассказывал в ритм с ударами весел о водяных устройствах на Темзе, о том, как по всему Лондону распределяется вода с помощью насосов и зубчатых колес. Иногда мужчины забрасывали удочки, но рыба не клевала, и они, проведя лодку вокруг острова, вытащили ее на берег. Девушки нашли среди желтых цветов и болотного розмарина плоский камень и разложили на нем приготовленные Феб кушанья: жареные цыплята, сидр и лепешки. После еды Мэри и Кранч отправились искать морские ракушки. Джон расстелил свое пальто у берега под стогом сена, которое Адамс-старший обычно покупал по пять шиллингов за тюк. Абигейл присела на пальто, любуясь видом окрестностей, скалистым островом, утопавшим в зарослях цветов, и вслушиваясь в крики морских чаек. Когда Джон Адамс упомянул одно из дел, над которым он работает, она повернулась и посмотрела на него. — Почему люди говорят, что право — это грязный бизнес? — Потому, что это так! — Ее поразила его запальчивость. — Возьмите, к примеру, Брейнтри. Вы никогда не видели, какое постыдное шарлатанство творится в этом городе. Смешных тяжб стало так много, что даже камни вопят об этом. В нашей провинции существует поговорка «сутяжнический, как Брейнтри». — Почему так получилось? — У нас множество крючкотворов, выдающих себя за присягнувших адвокатов. Простите меня за резкость, но в прошлом году один из них, капитан Холлис, пытался опорочить мою репутацию, после того как я доказал городу, что этот капитан никогда не приносил присягу в качестве адвоката. Он трясся от ярости. Она нежно прикоснулась пальцем к его руке: — Но он вам не навредил? Ее сочувственный голос больше, чем прикосновение пальца, успокоил Джона. — Нет. Я намерен оставаться в Брейнтри и покончить со сварой, учиненной этими нечистоплотными неучами в праве. Они побуждают городских жителей затевать тяжбы друг с другом. В этом их преступление. Некоторые из них так ловки, что прибирают к рукам поместья наших соседей. Вы слышали обвинение, брошенное судьей Дайером: «Адвокаты кормятся за счет грехов народа»? — Вероятно, поэтому адвокаты были издавна запрещены в Новой Англии. — Эти люди не адвокаты, мисс Абигейл. Они никогда не изучали право. Большинство из них это возбудители процессов, развлекающих завсегдатаев таверн. Это подобно тому, как если бы доктор Коттон Тафтс принялся ходить по городу, призывая жителей принимать отравленную пищу, а потом стал взимать с них мзду за лечение. — Но если право состоит из того, что вы назвали «грязным крючкотворством и смехотворными тяжбами», то почему вы хотите заниматься юридической практикой? Его возбуждение сразу же испарилось, и выражение лица потеплело. Она заметила, что его глаза подобны поверхности моря и их окраска зависит от погоды: жемчужно-серые, когда облака нависают над головой, лазоревые на ярком солнце, зеленые при дожде и фиолетовые при буре; переменчивый человек с перепадами настроения подобен океану, в котором отражается небо. Он глубоко вздохнул, как бы уйдя в себя. — У меня была склонность к проповедям. Я учился упорно и много сил отдал изучению теологии. Но в конце концов у меня не сложилось убеждение, что могу быть ортодоксально верующим. Ни священник, ни сам папа не имеют права сказать, чему я обязан верить, и я не поверю ни единому их слову, если полагаю, что оно не основано на разуме и не является откровением. Каждый человек имеет право говорить, думать и действовать по своему разумению в религии, так же как в политике. — Мой отец не стал бы оспаривать эту концепцию. — У меня пытливый ум. Временами я обнаруживаю, что думаю как поклонник антиномии,[6] и поскольку один из проповедников, с которым я жил в пансионате во время учебы, был изгнан из конгрегации за такую ересь… — Короче говоря, вас не допустили до службы? Он повернулся и посмотрел ей прямо в лицо. — Я восхищаюсь юриспруденцией, мисс Абигейл. Право — это кодифицированный разум. Право — это справедливость. Оно гарантирует наши права. Без кодифицированного права мы жили бы как дикари. Истинные юристы тратят свое время на то, чтобы избавлять людей от неприятностей. Когда я решил посвятить себя праву и пошел в ученики к мистеру Путнаму, знаете, какой вопрос я задал самому себе? Она улыбнулась; теперь она не в силах остановить Джона Адамса. Он вытянул свои короткие руки перед собой так, что пальцы пухлых ладоней почти соприкасались, словно он обнимал и судью, и присяжного заседателя. — Я спрашивал себя: какие правила следует соблюдать, чтобы стать видной фигурой, быть полезным и уважаемым? И принял твердое решение никогда не допускать подлости и несправедливости в юридической работе, просиживал за книгами по вопросам права, по меньшей мере, шесть часов в день, добиваясь ясного понимания справедливого и неправедного, законного и беспристрастного. Я искал ответа в римских, французских, английских трактатах о естественном, гражданском, обычном и конституционном праве. Старался извлечь из анналов истории представление об истоках и предназначении правительства, ведь все цивилизованные правительства основаны на беспристрастном законе. Сравнивал влияние правительства во все века на общественное благосостояние и личное счастье. Изучал труды Сенеки и Цицерона, Винниуса… Его голос звучал звонко и ясно, с чувством гордости за самого себя. Вдруг его глаза затуманились, и его тяжелая голова на короткой шее поникла. — Я произнес целую речь, верно? — спросил он вполголоса. — Меня она взволновала. — Меня также. В Гарварде я входил в клуб студентов, и они часто просили меня почитать на их встречах, главным образом трагедии. Им казалось, что я обладаю способностями оратора и что из меня получится скорее адвокат, чем священник. — В его голосе зазвучала ирония. — Мне недавно исполнилось двадцать шесть лет, и вот уже шесть лет, как я изучаю право. Из двадцати шести лет жизни так мало использовано по целевому назначению. Я все еще плоховато знаю латынь и греческий… — У вас склонность к самобичеванию, — сказала Абигейл. — Каждый вечер даю себе клятву, что встану с восходом солнца и прочту книги Литлтона и Кока. Однако вместо этого сплю. Я сознательно перестал изучать математику и философию, чтобы высвободить время для Локка и Монтескье. Я жажду больше познать этику, мораль и английскую литературу: Мильтона, Чосера, Спенсера, Свифта. — После этого на что вы используете ваше время? — Буду ухаживать за девушками. Она с удивлением уставилась на него широко раскрытыми глазами, недоверчиво приоткрыв рот. Потом они расхохотались. — Это неправда, знаете, — прошептал он. — Что неправда? — Что она очаровала меня. Я никогда не ухаживал всерьез за вашей кузиной Ханной. Ох, я мог бы, если бы Джонатан Сиуолл и Эстер Куинси однажды вечером не захватили нас врасплох и не вмешались в нашу беседу. Он вскочил со стула и принялся ходить взад-вперед около своего пальто, расстеленного на песке. — Тот брак поверг бы меня в нищету и безвестность. Ваша кузина Ханна мастер поддразнивать: она обхаживала Ричарда Кранча, Парсона Уиберда, меня и в то же время писала страстные письма с признаниями доктору Белу Линкольну. Он вдруг остановился. — Правда, я посещал дом Куинси так часто, что в ее семье зародилась мысль, будто я ухаживал за ней. Мой отец пресек это. Он сказал: «Сплетни о тебе и Ханне так широко расползлись, что если не женишься на ней, станут говорить, что или она водила тебя за нос, или ты ее». Ханна же продолжала уверять меня, что в ближайшие пять лет она не собирается замуж; да и после этого срока не собирается. — Вот почему вы не боялись посещать ее? У него была обескураживающая манера смотреть на собеседника, он как бы пожирал его. Невозможно было отвести свои глаза от него. — У меня не было выбора. Знаете ли вы, что каждый видный, занимающий положение человек в этой колонии хочет, чтобы его дочь вышла замуж за мужчину, который с ней никогда не встречался? — Я была несправедлива к вам, мистер Адамс, — ответила она. — Я подумала, что Ханна обидела вас. — Я был также несправедлив к вам, мисс Смит. Помнится, два года назад мне казалось: Ханна милая и любящая, а дочери пастора Смита не столь влюбчивы и нежны. — Но это было в самом начале… — Я спрашивал себя: дочери Смита остры умом, но откровенны ли, нежны и искренни? Нет, ответил я себе, не нежны, не откровенны и не искренни. — Поистине вы меня удивляете! — Преднамеренно. Чтобы вы видели, каким дураком может быть молодой человек. Он неожиданно сел подле нее, своим плечом неловко соприкоснувшись с ее. Для мужчины, казавшегося полным, его плечо было слишком твердым. Она посмотрела на море и, увидев надвигавшуюся пелену тумана, вздрогнула. Джон Адамс спросил: — Вы не сердитесь на меня за такие слова? Перед ее мысленным взором возникла ее собственная фигура, когда ей было пятнадцать лет, — тощая, плоскогрудая девочка-подросток. — Я удивлена тем, что вы вообще серьезно обо мне подумали. — В графстве Суффолк мало населения, — презрительно усмехнулся он. — Наши предки пуритане говорили, что мы должны жениться, чтобы давать миру святых. Поскольку в этих вопросах я намерен оставаться ортодоксом, то придерживаюсь позиции наблюдателя. Подражая его резкому голосу, она сказала: — Сыновья Адамсов обладают острым умом, но откровенны ли они, влюбчивы и искренни? — Я слишком искренен в ущерб самому себе, мисс Абигейл, искренность создает мне врагов. Уверен, что могу быть любящим. Но у меня было так мало возможностей. Абигейл не заметила, как сзади к ним подошли Мэри и Ричард. Она вздрогнула, когда Мэри сказала: — Лучше вернуться до наступления прохлады. Она поднялась. Настроение было испорчено.
5
Порыв ветра с юга взбаламутил воды залива. Ричард Кранч оказался настолько подвержен морской болезни, что Джон Адамс направил плоскодонку к острову Хэнгмен, на две мили ближе к берегу материка. Кранч свернулся клубком на прибрежной траве и быстро заснул. Адамс отыскал место, не столь продуваемое ветром, снял пальто и закутал в него Абигейл, пытаясь обернуть им ее плечи и не подавая вида, что держит ее в своих руках. Солнце уже спускалось за горизонт, но ей было тепло и удобно. — Я знаю, что Ричарду неприятно, — сказала Мэри спустя некоторое время, — но мама беспокоится. Возможно, она боится, что мы утонули около Хьюс-Нека. Джон заставил Ричарда подняться, уложил его в лодку так, что голова лежала на коленях Мэри. Абигейл, укутанная в пальто Джона, сидела по другую сторону, наблюдая игру его мускулов, плеч и спины, когда он, работая веслами, вел лодку сквозь белое молоко тумана. Она не считала его очень сильным мужчиной, а до прошлой недели даже не думала о нем. И тем не менее ее восхищала мощь, с какой он вел тяжелую лодку наперекор ветру и водяной стихии. Эта картина стояла перед ее глазами и после того, как она улеглась в свою постель под теплое пуховое одеяло, выпив приготовленный отцом горячий чай и выслушав страстные упреки матери, что глупо рисковать своим здоровьем, пускаясь на безрассудные авантюры. — Ты права, мама, не следовало на исходе осени выходить на лодке в залив. Она почувствовала угрызения совести в следующий вечер, узнав от Ричарда Кранча, что Джон Адамс простудился. Она вновь ощутила бархатистость его пальто, которым он заботливо укутывал ее. — Надеюсь, он не сильно заболел? — Всего лишь приступ ревматизма. Он жалуется также на расстройство желудка и болезненные колики. Вы знаете, ведь он склонен к ипохондрии. — Не ожидала. — Это результат чтения книг. И письменных занятий. Кажется, он считает своим долгом написать две страницы, прочитав одну. Слишком усиленная учеба вредит пищеварению и ведет человека к краю гибели. Озадаченная Абигейл сказала: — Я попрошу дядюшку Тафтса сварить кувшин снадобья против простуды, если вы согласитесь отвезти его в Брейнтри по пути домой. Она пригласила брата Билли и, выйдя через парадную дверь и пройдя через отцовский, в это время года не засаженный огород, обнесенный штакетником, оказалась в поле. Через открытые ворота скотного двора были видны две коровы из числа принадлежавших семье Смит, склонившиеся над кормушкой. Абигейл и Билли прошли по утоптанной дороге Норт-стрит, между Беринг-Хиллом и Грейт Оук-Хиллом, мимо дома Уитманов и Митинг-Хауз, где Чёрч-стрит поворачивала на север. Здесь ее двоюродный дядюшка доктор Коттон Тафтс держал свою контору и лавку. Она постояла некоторое время, затем откинула капюшон назад, посмотрела на светлое небо Массачусетса, прозрачно-чистое и яркое, омытое предзакатным дождем, и почувствовала, как по ее жилам струится животворный поток крови. Она вдыхала сладкий аромат затянувшегося дождя, могучих дубов на холмах, острый запах свежескошенного сена на соседних фермах: Баррела — на ближайшей дороге к Милл-лейну; старого дома Элиша Джонса с необычно высокой крышей совсем близко — наискосок; Джемса Хэмфри — чуть поодаль, на тропе Дуксбери. Она уловила запах обгоревшей древесины и кованого железа, доносившийся из кузни лейтенанта Ярдли Ловелла за двором Баррела, у поворота на Милл-Лейн. Она испытывала глубокую привязанность к Уэймауту. Ее домом была вся деревня, а не только приход священника. Она побывала во всех хижинах много раз, когда приглашали священника по случаю рождения, смерти или когда ее дядюшке Тафтсу предстоял визит к больному и он хотел, чтобы его кто-нибудь сопровождал. Она остановилась, зажмурив глаза. — Почему ты закрыла глаза? — спросил Билли. — Это особый способ созерцать, Билли. Я как бы рисую себе карту Уэймаута: прямо к югу от нас холм Холлоу, за ним пруды Уитмана и Уортлбери, на дороге в Плимут в направлении реки Манатикьот дом Джона Уайта, следующий за ним Томаса Уайта, потом таверна Арнольда и через дорогу… — Зачем тебе нужно помнить все эти дома? Она открыла глаза: — Они — часть нашей семьи. — Не моей семьи, — сказал задиристо пятнадцатилетний парень. — У меня и так слишком большая семья. Я намерен уехать из Уэймаута. — Ты уедешь в Гарвард. Разве ты можешь стать священником, не поучившись в колледже? — Лучше умереть! Она заметила слезы в глазах Билли и хотела обнять его, но он вырвался и уставился на нее ненавистным взглядом. — Я-то думал, что ты на моей стороне, что поможешь мне против него. — Но, Билли, отец лишь хочет помочь тебе добиться большего. — Нет, не хочет. Он желает, чтобы я стал таким же, как он. Но я не намерен походить на него. Я не собираюсь читать проповеди. Мне не нравится, когда мне приказывают: делай то-то, и я не собираюсь навязываться кому-либо. — Даже когда нужна помощь? — Да! — Но ты помогаешь животным, когда они нуждаются в этом. — Мы друзья. Никогда не причиняем друг другу горе. — Разве отец не желает тебе счастья? Предположим, ты не станешь священником. Предположим, я уговорю его позволить тебе уехать в Гарвард и стать тем, кем ты хочешь быть. Билли скривил рот: — Спасибо, Нэбби, но я вообще туда не собираюсь. Убеди-ка папу согласиться с этим, хорошо? Если не убедишь, я сбегу… в долину Огайо. — Не будь так жесток с ним, Билли. Он не виноват, что ты единственный сын. — Ну и что? Не моя вина, что вы все родились девочками. Скажи ему, чтобы он оставил меня в покое. Билли повернулся и побежал по Норт-стрит. Абигейл, огорченная, побрела к дому доктора Тафтса. Удар будет болезненным для ее матери, поскольку все мужчины семейства Куинси учились в Гарварде. Но еще тяжелее будет отцу, ведь он надеялся, что его единственный сын примет в свое время по наследству приход в Уэймауте и старательно подобранное им собрание английских и американских проповедей, прочитанных Джоном Донном и другими вплоть до Джеремии Тейлора. В окне она увидела доктора Коттона Тафтса, работавшего при свете двух больших свечей и всем своим обликом напоминавшего алхимика четырнадцатого века. Это был долговязый мужчина, кожа да кости. Склонившись над своей конторкой, он молол в каменной ступке содержимое будущего лекарства. Коттон Тафтс приходился Абигейл дважды родственником: с материнской стороны как дядюшка по браку, а с отцовской — кузен по крови. Старшего брата Коттона обучил медицине их отец-врач, а тот в свою очередь передал знания младшему брату. Десять лет назад, объезжая Массачусетс в поисках подходящего места для лечебной практики, Коттон приехал в Уэймаут, чтобы навестить своего дядюшку преподобного Смита и свою золовку Элизабет Смит. Он оказался в районе, где свирепствовала дифтерия, от которой погибли сто пятьдесят взрослых и детей. В деревне не было врача. Коттон знал методы лечения этой болезни. Семилетняя Абигейл с широко раскрытыми от удивления глазами наблюдала, как он готовит на кухонном столе Пэг лекарство, смешивая с индийским ромом, патокой и салатным маслом травы, которые, по поверью, излечивают от змеиного укуса. Ему было тогда всего двадцать лет, и он не обладал достаточным медицинским опытом, тем не менее Коттон обеспечил лекарствами всю деревню, ухаживал за больными и сумел обуздать эпидемию. Вся округа, охватывавшая на севере территорию между реками по обе стороны Грейт-Хилла вплоть до тенистого леса и большого пруда, верила, что Уэймаут обрел постоянного доктора. Абигейл открыла переднюю дверь, и раздался звон колокольчика. — Поздновато работаешь, кузен Коттон. Он поднял голову, все еще удерживая пестик своими длинными пальцами. Коттон носил очки, был почти безбородым, со впалыми щеками и выступающими скулами. — Я всегда могу сказать, как ты расположена ко мне, Нэбби, по твоим первым словам. Если ты сердита, то я — дядя Тафтс, но если рада, то я — кузен Коттон. Его темно-карие глаза и большие губы с неизменной трещинкой посреди нижней улыбались ей. — Только модные бостонские врачи могут позволить себе удовольствие поручить приготовление лекарств аптекарям. Ведь они считают ниже своего достоинства такие вещи, как хирургические операции и удаление зубов. Они говорят, что это удел брадобреев. Вот почему я всегда при деле. Абигейл быстро оглядела придорожную лавку доктора. После десяти лет практики он был не в состоянии обеспечить жену и ребенка за счет гонораров за лечение. Сторона дома, выходившая на тропу Дуксбери, служила аптекой: полки были аккуратно заставлены цветными банками с глистогонными препаратами, нюхательными солями, ароматическими эликсирами, помадами для укладки волос. Вдоль задней стены лежали хирургические инструменты, бусы, помогающие прорезанию зубов у младенцев, ночные горшки, ланцеты, соски. На стене дома, выходившей на Чёрч-стрит, на полках размещались прочие товары: чай, специи, имбирь, сахар, селитра, нюхательный табак, растительное масло, конфеты. Как бы ни было временами трудно, Коттон не принимал в оплату за услуги скоропортящиеся продукты, он наотрез отказывался от роли мясника и зеленщика. — Я немножко устал сегодня, Нэбби. По ту сторону ручья Филиппс вспыхнула дизентерия. Три ночи я занимался больными: пускал кровь, заставлял делать упражнения и пить лекарство с кипяченым молоком. Это для снятия отека слизистой оболочки. — А есть ли у тебя лекарство от простуды? — Кто заболел в семье? Она покраснела и была рада, что свечи Коттона освещают лишь травы и порошки, растиравшиеся им. — Не в семье. Для друга. Коттон уперся локтями о грубые доски стола. — Могу ли я спросить: что это за друг, которому я должен прописать лекарство? — Джон Адамс. — Джон Адамс?! — Он открыл от удивления рот. — Ну, этот ученый-самоучка никогда не упускает возможности получить от меня рецепт. Последний раз, встретив его чихающим и кашляющим, я повторил совет Бена Франклина: «Свежий воздух лечит, спертый помогает простуде». Черт возьми, он прочитал мне целую лекцию о том, что простуду вызывает холодный воздух, особенно если человек перегрелся. Абигейл хихикнула: — Дядюшка-кузен, вы лучший врач в северном Уэймауте, если не единственный. Но в данном случае мистер Адамс, быть может, и прав. Он и в самом деле перегрелся, когда отвозил на лодке к острову Хэнгмен заболевшего морской болезнью Ричарда, а поскольку было ветрено, он снял свое пальто и укутал меня. — Ну и ну, это первый романтический поступок Джона Адамса с тех пор, как кузина Ханна обвела его вокруг пальца. Она чуть было не сказала: «Его не обвели вокруг пальца», но остереглась. Коттон повернулся к ящичку под его хирургическими инструментами, извлек пачку заметок, поискал формулу лечения простуды. Она знала, что Коттон действовал решительно. За те десять лет, что она общалась с доктором, его находки и достижения были зафиксированы на этих мелко исписанных страницах. — Не отыскать и пары врачей, которые охотно сотрудничали бы друг с другом, — сказал он с грустью, — не опасаясь, что могут ненароком выдать свои секреты и дать другому возможность переманить пациентов. Каждый практикующий относится к накопленным знаниям как к частной собственности, как к мачтовому лесу, который следует огородить от нарушителей. Чем больше накопленный опыт, тем ревнивее охраняют они свои предписания и снадобья. У нас нет школ для подготовки, нет клубов врачей, где можно было бы разрешить наши общие проблемы. Мы не публикуем книг и памфлетов, в которых содержались бы предписания, помогающие другим врачам вылечить больного или остановить эпидемию. — Однако ты нашел формулу для лечения горла, — вмешалась она. — По чистой случайности, Нэбби. Когда мне было семнадцать лет, я услышал о враче, который смешал некоторые травы с ромом. Я записал формулу в свой дневник. Без этой формулы еще сотня детей и взрослых могли бы скончаться в Уэймауте. Она нахмурила брови: — Что ты говоришь, дядюшка, значит, человек в Хэнгеме может болеть и даже умереть, потому что его доктор не знает формулы, которой лечили в Брейнтри? — Именно так, Нэбби. Каждый из нас работает вслепую, быть может, при свете маленькой свечки или пары свечей, пока их не задует костлявая смерть. Если бы все врачи Массачусетса могли объединить свои знания, мы превратили бы медицину в науку и перестали вести отчаянную игру отгадывания ребусов. — А кто-нибудь пытался? Он робко усмехнулся: — Пытались, но безуспешно. Я пытался, цепляясь за каждого встречного доктора, обращаясь с письмами. Они думают, что я дурак, пренебрегающий наследством. Я говорю им: чем больше мы отдаем, тем больше получаем. Последний врач, с которым я беседовал, заметил: «Сын, ты ошибся призванием. Тебе нужно было бы стать проповедником». Он перелистал свою записную книжку и прокудахтал: — Скажи своему мистеру Адамсу, пусть на день уляжется в постель с томом Геродота, крепким мясным бульоном и кувшином барбадосского рома. С помощью этой триады природа вылечит его. — Он не мой мистер Адамс. И вряд ли он согласится на кружку барбадосского рома. Вчера он мне сказал, что написал для «Бостон газетт» статью против таверн и рома. Коттон добродушно рассмеялся, а затем сжал свои большие губы: — Мне нравится Джон Адамс. Он более переменчив, чем погода в Новой Англии: то тепло, то холодно. Но он — борец, а мне нравятся отважные люди. Лишь бы ему не казалось, будто он умирает при каждой нашей встрече.6
Она сидела в церкви на семейной скамье третья слева, сжимая в ладонях, укрытых в муфте, печеную картофелину, а ее ногам было тепло в обогревателе на древесном угле, которым она пользовалась вместе с сестрами. Это было третье строение Божьего хлева после образования конгрегации в 1623 году. Первое строение на холме над домом священника сгорело, второе было разнесено в щепы, когда неведомым образом загорелся пороховой склад поселка. Воздух в дощатом здании был таким холодным, что ей казалось, будто она вдыхает ледяные иголочки. Ее мать в красивом бархатном платье стояла, отказавшись последовать примеру дочерей, державших в руках печеный картофель, а ноги в обогревателе, желая показать, что жене священника всегда тепло в доме собрания конгрегационалистов. Мужчины сидели по другую сторону прохода. Билли восседал с Коттоном Тафтсом, чья скамья находилась в задних рядах, ибо семья Тафтс была в числе последних, осевших в Уэймауте. — Если и есть нечто более ненавистное, чем школа, — ворчал Билли, шагая рядом с Абигейл во внушительной когорте Смитов, члены которой облачились в праздничные одежды, — так это молитвенный дом. На Норм- и Чёрч-стрит толпились прихожане: женщины в своих лучших черных шерстяных платьях, мужчины в черных сюртуках, бриджах и черных чулках, круглых шляпах с широкими полями. В Новой Англии посещение церкви было обязательным: с двухлетнего возраста Абигейл ходила на воскресные и праздничные службы и участвовала в крестном ходе. Лишь лежавшие на одре не ходили к Божьему хлеву, ибо хорошая молитва не действовала лишь на немногие хвори. — Ну, Билли, папа самый уважаемый проповедник в Новой Англии. Другим священникам для чтения проповеди требуется все утро, а он даже не переворачивает песочные часы. Большинство пасторов заставляют нас молиться целую вечность; папа заканчивает молебен в десять минут. — Господь не глухой, — сказал Билли, подражая строгому голосу отца. — Он с первого слова слышит наши молитвы. — Повремени с отъездом отсюда, — предупредила она, — а то окажешься в приходе проповедника, грозящего адским огнем и осуждением, который шесть часов подряд будет терзать тебя двумя воскресными проповедями. Билли милостиво повернул к ней свое лицо кающегося. — Полагаю, что папа не так уж плохо звучит на собраниях. Во всяком случае, нашему десятнику никогда не приходилось будить прихожан своим посохом. Преподобный мистер Смит был редким пуританином, скупым на слова. В обществе Новой Англии, где все еще уважали бережливость, жили экономно и скромнее, чем позволяли средства, пуритане были словоохотливыми: они употребляли дюжину слов там, где можно было обойтись одним. Этот восьмой смертный грех помогал воздержанию от семи остальных. Когда Абигейл и Уильям Смит занимались вместе в библиотеке, отец объяснял своей дочери, что рассматривает себя лицом, сглаживающим излишества своей конгрегации. По этой причине он отказался от голосования на собраниях поселка. Церковь играла роль государства в Массачусетсе, ибо только правоверные члены конгрегации имели право голоса. Он считал случившееся в Салеме[7] — избиение и казнь женщин через повешение за ведовство — следствием вмешательства церкви. — Любовь и милосердие — умиротворяющие темы, Нэбби, и поэтому мне нет нужды чрезмерно напрягать легкие, как это делают торговцы травами и рыбой в Бостоне. Популярность известных бостонских проповедников Инкриза и Коттона Матера основана на их способности греметь с кафедры. Мне не так уж нравится тембр собственного голоса. К тому же тихая деревня Уэймаут не жаждет удовлетворять страсти Бостона, помешанного на развлечениях. — Ты говоришь, будто выслушивание проповедей может стать пороком, подобно карточной игре и запою? — Разумеется, так и было первые сто лет в Массачусетсе. Священники читали проповеди так долго и упорно, что члены конгрегации впадали в транс. У них не оставалось ни времени, ни духовных сил для выполнения повседневной работы и для создания семьи. Мастерские и школы были постоянно закрыты, чтобы проповедники могли удерживать прихожан на сборищах. Я не думаю, что наши люди стали более похотливы и жадны, чем те, на кого обрушилась кара и кто постоянно вдыхал дым ада. — Я думаю, что в этом твое достоинство, папа. Он рассмеялся, ласково положил свою крупную руку на хрупкое плечо дочери. — У меня есть и другое достоинство, Нэбби. Я далее больше фермер, чем проповедник. С ранней весны до уборки урожая осенью Абигейл видела его в работе: в домотканой одежде и высоких сапогах, он склонялся над плугом, в который были впряжены волы, шагал за бороной, подрезал яблони и груши, собирал урожай. Она наблюдала, с каким желанием он возводил каменную ограду, расширял хлев, выкорчевывал березы и ели, расчищал площадку для нового сада, и могла заключить, что работа от зари до заката доставляет ему удовольствие. Уильям Смит был сыном преуспевающего морского капитана в торговой семье из Чарлзтауна, что находится по другую сторону реки от Бостона. В семье хранилась превосходная коллекция столового серебра. Уильям владел хорошей фермой, и, когда дьяконы Уэймаута призвали на свою кафедру этого двадцатисемилетнего мужчину, обязавшись выплачивать ему ежегодно сто восемь фунтов стерлингов и обеспечивать дровами, он обрел независимость, заказывал обувь и одежду у лучших мастеров Бостона. В 1738 году, за два года до женитьбы на Элизабет Куинси, он выкупил удобный дом и пасторский надел за наличные средства, предпочтя пользоваться домом на правах владельца, а не на правах предоставленного конгрегацией, не взимавшей плату. Ее взгляд устремился на отца, стоявшего в своей длинной черной сутане с накрахмаленным белым воротничком и манжетами за простой деревянной кафедрой, возвышавшейся на платформе. Когда перестраивался молитвенный дом, церковные старосты отклонили предложение пастора сделать ее более низкой и покрасить спинки скамей, которые были так высоки, что виднелись лишь головы прихожан. Сиденья были жесткими и узкими, как полки в чулане. Но пуритане — предки Абигейл были твердо убеждены, что молитвенные собрания проводятся не ради удобства. Она прислушалась к отцовскому басу, когда он читал из Послания евреям в Новом Завете: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым». Она подумала, как схожи трое совершенно различных мужчин: ее отец, кузен Коттон и Джон Адамс. Все они — бунтари: ее отец недоволен поведением священников; Коттона приводит в ужас ограниченность врачей, а Джона Адамса — то, что он называл «изобилием крючкотворов». Во время Великого пробуждения,[8] за пару лет до рождения Абигейл, когда самозваные «великие странники» потрясали Новую Англию проповедями о возрождении веры, вводя в неистовство прихожан и вызывая приступы эпилепсии у тысяч участников собраний на открытом воздухе, а многие видные священники во главе с Джонатаном Эдвардсом помогали проповедникам возрождения, Уильям Смит выступил против, несмотря на опасность лишиться работы и сана. Примкнув к ассоциации священников, основанной Чарлзом Чаунси, и поддержав его книгу «Своевременные мысли», преподобный мистер Смит энергично боролся в Уэймауте за целостность своей конгрегации, за ее достоинство и приверженность выбранному вероисповеданию. Голос отца объявил номер заключительного гимна. Все встали, откидные сиденья поднялись со стуком. Многие гимны молитвенника были такими продолжительными, что для их исполнения требовался целый час, но преподобный мистер Смит всегда выбирал самые короткие, учитывая, что прихожане не в состоянии спеть длинную мелодию и они были благодарны выбору священника. Повернувшись к выходу, Абигейл увидела Джона Адамса, его круглое краснощекое лицо. Он стоял рядом с Коттоном Тафтсом, певшим с воодушевлением. Она была поражена их присутствием на службе в Уэймауте. Абигейл не видела Джона и не слышала от него ни словечка с тех пор, как две недели назад послала ему рецепты кузена Коттона. Он явно предпринял трехмильную поездку в Уэймаут не ради совета врача: он выглядел совершенно здоровым. К моменту, когда она завершила череду взаимных воскресных приветствий, Джон Адамс удалился вместе с семейством Тафтс. Абигейл была огорчена, что упустила Джона.Чай во второй половине дня в Уэймауте был светским мероприятием. За чаепитием встречались друзья и родственники; они ели свежее печенье, цукаты и орехи, запивая ароматным чаем, обменивались последними новостями и обсуждали насущные проблемы, такие, как образование нового графства, отделяющегося от Суффолка, или блестящую защиту молодым адвокатом Джеймсом Отисом интересов колоний от пагубных постановлений британских властей. По воскресеньям в доме преподобного мистера Смита вместо ужина подавали чай с закусками. Для миссис Смит это был «звездный час». В доме собиралось около сорока прихожан: здесь были члены семейств Хэмфри, Ловелл и Торр, проживавшие к северу от Бэк-Лейн, дьякон Джошиа Уотерман, владевший землей по обе стороны дороги от пруда Уайтман до Хэнгхэм-Лейн, и члены семьи Бикнелл, жившие за домом Уотермана в конце Шип-стрит. Аппетитный набор кексов всегда привлекал добрую компанию. Элизабет Куинси Смит получала удовольствие, разливая чай, с достоинством и грацией восседая во главе стола. Высокая прическа придавала ей аристократический вид. Миссис Смит гордилась своими голландскими скатертями, красивым английским серебром, чайной посудой с синим рисунком из Делфта, хорошо сервированным, но без показухи столом, где многое было щедрым приданым семейства Куинси. Абигейл восхищалась легкостью, с какой ее мать разливала порции чая во множество чашек и одновременно смотрела на гостей, задавая им вопросы о детях, здоровье, урожае и текущих нуждах церкви, последние, как правило, приводили в конечном счете к определенным решениям. Абигейл чувствовала, что жители Уэймаута слегка благоговеют перед видной богатой женой пастора и почитают ее. Не позволяя себе иметь близких друзей, ее мать не искала себе фаворитов и не создавала врагов. С раннего детства Элизабет Куинси готовилась к нелегкой роли жены священника. Уэймаут прощал ей убежденность, что она первая леди общины, и то, что она выезжала в роскошном фаэтоне — единственном в округе. Прощал потому, что Элизабет Смит сама покупала шерсть, приглашала бедняков промывать ее, сучить пряжу, ткать, кроить и шить, и все это происходило в комнате, расположенной по другую сторону от столовой. Готовая одежда отвозилась в Бостон на продажу. Элизабет Смит отличалась активностью, способностью щедро делиться своим временем и энергией, а ее муж оказывал благотворительную помощь бедным мальчикам деревни. Абигейл вошла в большой дом и увидела Коттона Тафтса с женой и тетей Люси Куинси Тафтс. Она заметила Джона Адамса раньше, чем он увидел ее, и задержалась в проходе, соединявшем оба здания, чтобы посмотреть на него. Парик Джона был напудрен, аккуратно расчесан и собран назад, придавая владельцу облик английского судьи, восседающего на мешке с шерстью. На нем был прекрасный воротничок из отбеленного льна, шерстяной сюртук и жилет с длинным рядом пуговиц. Она никогда не видела его столь хорошо одетым. Джон Адамс приблизился к ней быстрыми энергичными шагами, взял ее руку в свою. — Спасибо, мисс Абигейл, — сказал он достаточно громко, чтобы услышал Коттон Тафтс, — за то, что вы попросили средство от простуды у вашего кузена-знахаря. — В нашей семейной традиции, мистер Адамс, помогать больным. Джон усмехнулся в ответ. Он откинул голову назад, напрягая мускулы щек, и это придало его лицу выражение не худобы, как заметила Абигейл, а компактной силы. Лицо Джона было весьма привлекательным: смелый рисунок темных бровей, короткий нос красивой формы, строгий рот, пропорциональный широко расставленным ясным глазам. — Сегодня Коттон не в себе, — ответил Адамс. — Он засунул свою книжку рецептур внутрь жарившегося гуся, и я почувствовал себя обязанным сказать ему, что некоторые из его формул напоминают похлебку ведьм. К ним подошли Коттон и тетя Люси. — Ну разве это не крючкотвор-адвокат? — спросил Коттон. — Он думает, что непотребная стряпня в его юридических книгах выправит любое известное человеку зло. Но когда он познал мои научные медицинские законы… Нэбби, мне захотелось пить. Можно ли чаю? Миссис Смит вежливо спросила Джона Адамса о его простуде, наливая ему первую чашку чаю. Пастор Смит тут же вовлек его в дискуссию относительно плохого качества печати бостонских газет. Джон сетовал по поводу малого прогресса в печатном деле со времен Библии Гутенберга, изданной в 1456 году. Медленно опускались массачусетские сумерки. Гости прощались и расходились по домам, противизмороси были закрыты тяжелые ставни. Коттон и Люси также исчезли после третьей чашки. Но не мистер Адамс, как заметила Абигейл. К моменту, когда мать налила ему пятую чашку, он был последним оставшимся визитером. Миссис Смит поднялась во весь свой величественный рост, превышавший на несколько дюймов гостя, и протянула ему руку. — Благодарю вас за то, что вы пришли, мистер Адамс. Надеюсь, вы скоро снова будете в Уэймауте. В таком случае доставьте нам удовольствие вновь видеть вас. Второй раз за этот день Абигейл почувствовала разочарование. Она хотела поговорить с Адамсом с глазу на глаз. Возражать матери она не могла. А ее отец мог. В то время как Джон Адамс торопился поставить чашку на безупречно чистую скатерть миссис Смит, Уильям Смит дружелюбно сказал: — Я хотел бы осведомиться у мистера Адамса относительно некоторых последствий дела Уэймаута. Я знаю, что у тебя был трудный день, дорогая, и уже скоро восемь часов. Почему бы тебе не подняться наверх? Я присоединюсь к тебе через несколько минут. Инициатива перешла в другие руки. Миссис Смит не могла возразить пастору на людях. Ее обошли, и это ей не нравилось. Она церемонно откланялась и поднялась по лестнице. Преподобный мистер Смит поболтал с Абигейл и Джоном столько времени, сколько посчитал нужным, чтобы заснула жена, затем поднялся и пожелал им доброго вечера. Удивленная Абигейл озорно улыбнулась отцу: «Как он узнал, что я хотела остаться с этим молодым человеком?» Она положила несколько подушек лимонного цвета перед камином, села, спрятав под себя ноги и закутавшись в платье. — Не принесете ли вы пару поленьев из дровяного ящика? Он у входа в столовую. Джон Адамс принес охапку березовых дров, показав тем самым, что намерен оставаться долго или, по меньшей мере, обеспечить комфорт. Сухие поленья быстро загорелись. Абигейл показала жестом, чтобы он сел рядом с нею. Он опустился несколько неуклюже, словно не привык сидеть на полу. Огонь за латунной решеткой охватил дрова, освещая их бликами света и обдавая теплом. — Рад, что ваш отец не относится ко мне враждебно. — И мама также. Она просто не одобряет. — Почему? — Вы не священник. — Если все станут священниками, то некому будет сидеть на собраниях конгрегации. Она этого хочет для вас? — Очевидно, мама думает, что мой удел — тихая жизнь жены священника. — Вы кажетесь мне крепкой молодой женщиной! — выпалил он. Она покраснела от столь прямолинейного комплимента, к тому же его взгляд устремился на ее грудь. — Мистер Адамс, допустимо ли отвечать на вопрос вопросом? — Обычная процедура. — Тогда не думаете ли вы, что многие наши разочарования вызваны тем, что у нас складываются ложные представления о вещах и людях? — Из-за романтичных взглядов на реальность? — Или же мы даем волю воображению. По своей прихоти мы создаем сказочную страну счастья, а когда разочаровываемся, сердимся не на себя, а на того невинного, о котором мы составили ложные представления. — Означает ли это, мисс Абигейл, что вы не хотите рисковать своим счастьем из-за того, что жизнь может не оправдать ожиданий? — Напротив, мистер Адамс. Человек, не способный вынести разочарования, не должен жить в столь изменчивом мире, как наш. — С этим я согласен! — Он сдвинул свой довольно увесистый зад так, что из-под него выскользнула подушка. — Но откуда такая мудрость? Из книг? Вы слишком молоды, чтобы опираться на личный опыт. — Вы намекаете, что я повторяю чужие слова? — Она наклонилась вперед, чтобы поправить выскользнувшую подушку, и огонь из камина осветил каштановую прядь волос и темно-карие глаза. — Трудно такое сказать, не так ли? Тому, кто проглотил сотню книг. — Честно, а также разумно, — произнес он. Затем она увидела мелькнувшее в его глазах озорство. — В начале этого года я написал пространный очерк с поучениями нескольким гипотетическим племянницам, как стать превосходными молодыми женщинами. Хотите послушать некоторые из моих ученых рассуждений? — Для вашей идеальной девушки? Да, думаю, что могла бы. — Одно из моих правил поведения молодых женщин в смешанной компании заключается в том, что им не следует быть педантичными в латыни, греческом языке, в науках, не быть разговорчивыми. Полагаю, что они должны высказывать свое личное мнение, когда им интересуются, если они знают что-то нужное компании, не превращать разговор в болтовню о собаках, кошках и служанках или о мелочных личных проблемах. Она откинула назад голову и звонко рассмеялась. Он последовал ее примеру, но его смех звучал натянуто. — В состоянии морального возмущения я написал, что ни один свободный мужчина не должен слепо бросаться в объятия леди, которая, быть может, кажется светлым ангелом, но, более вероятно, является адской ведьмой! Он ожидал услышать иронический смех. Но вместо этого она помрачнела, и на ее глазах показались слезы. Ей захотелось взять в руки его по-детски округлое лицо, как она делала это с младшим братом Билли, когда его обижали или ему было больно. — Неужели и мужчинам так трудно возмужать? — тихо спросила она. — Я этого не знала. Думала, что только мы, девушки, обречены бродить впотьмах и молить о встрече с родственной душой.
7
Следующее, что дошло до нее от Джона из Бостона почтой через Джермантаун, была приписка к письму Ричарда Кранча, адресованному Мэри, которую Джон Адамс вывел своим характерным почерком: «Мое — не знаю что — владычице Нэбби». — Никто не смог бы так выдать себя, — проворчала Абигейл, когда Мэри прочитала ей постскриптум. — Он хочет выразить какое-то уважение, но, не понимая свои чувства ко мне, что же он может выразить? — А ты осознаешь свои чувства к нему? Расчесывая за туалетным столиком длинные волосы, Абигейл бросила искоса взгляд на сестру. Не прозвучал ли упрек в ее голосе? — Ты права, Мэри. Если бы я писала, то также не знала, какие чувства выразить. Джон Адамс интересует меня как сложный человек. — Ты имеешь в виду переменчивость его настроения? — По правде говоря, он далеко еще не взрослый и когда поступает как мальчишка, то расстраивается. — В свои семнадцать лет ты мнишь себя совсем взрослой. Абигейл протянула руку за письмом. Она прочитала текст, написанный Джоном Адамсом. Его добрые пожелания, «которые на радость вам, вашей семье и соседям», Абигейл восприняла как выражение сравнительно нового чувства, ибо в течение двух лет ему удавалось скрывать свой энтузиазм по отношению к клану Смитов, — Джон делал вид, что ревнует ее из-за теплых чувств к молодому королю Георгу: «Хотя до сих пор моя приверженность была неизменной, я приложу все силы, чтобы разжечь восстание». «Пишет, как юрист из Брейнтри, — подумала она, — маскируя свои чувства витиеватым юридическим языком». Это тронуло и озадачило ее. Очевидно, его оборона против очарования молодых леди ненадежна и слаба; он предпочитает уберегать себя от ран. Но тогда она сама проявила тот вид заинтересованности, какой присущ осторожным молодым людям. — Мэри, как ты пришла к выводу, что Ричард и есть тот самый единственный? Отец и Коттон приглашали немало молодых мужчин на чай и воскресные обеды. Когда ты поняла, что все остальные не такие, как Ричард? — Дорогая, зря себя мучаешь. Любовь прозрачна, как вода. Ричард и я искали для брака любимого человека, ну и нашли. Вот и все. — Все? — Могут быть и неудачи. Монополия Ричарда на рынке свечей, изготовленных из китового жира, не состоялась, но он намерен открыть мастерскую по ремонту часов. Потом мы купим землю и построим дом, такой же большой, как у дедушки Куинси. Ричард станет церковным старостой, будет выбран… — Мэри, ты говоришь так, словно все уже произошло. — Мы будем жить с удобствами. У нас будут дети. Посетим семью Ричарда в Англии. Накопим красивых вещей, наподобие маминого фарфора и серебра семейства Смит. Нэбби, с тобой будет то же самое. Абигейл сдвигала брови и поджимала губы, когда сосредотачивалась. — Не-е-ет. Я хочу идти в неизведанное. Возможно, моя жизнь еще до ее начала предопределена на небесах, но я не хочу знать заранее все о ней. — Не жди сюрпризов. — Значит, заранее лишиться ожидания удовольствия! Мэри надела через голову теплую фланелевую ночную рубашку, нырнула под одеяло и прикрыла колпачком фитиль масляной лампы, стоявшей на столике с ее стороны. — Я не хотела огорчать тебя, — пробормотала она, натягивая на себя одеяло, — и быть неприличной, но в эти зимние ночи куда теплее делить ложе с мужем, чем с сестрой. Абигейл не стала раздумывать над этим замечанием. Когда Мэри выйдет замуж и уедет, Абигейл возьмет маленькую Бетси в свою постель. До появления мужа, в чьих объятиях она могла бы спать, согреваться, наслаждаться любовью в зимние или в любые другие ночи, было еще очень далеко.Абигейл узнала с удовлетворением, что Джон Адамс впервые включен в число приглашенных на традиционный обед и прием в доме ее дедушки полковника Джона Куинси, патриарха округи и уже почти сорок лет политического лидера колонии залива Массачусетс. Удалившись на свою обширную ферму и в поместье, он все же придерживался правила быть в курсе всего происходящего в Массачусетсе. Джон Адамс часто посещал соседний дом кузена полковника Джошиа, куда его влекла дружба с Ханной, а также с Сэмюелом и Джошиа-младшим: они оба были начинающими юристами. Однако ранее Джона никогда не приглашали к дедушке. Не выведал ли ее дедушка, что Джон Адамс нанял экипаж, чтобы отвезти от дома полковника ее, Мэри и Ричарда Кранча на чай, сервированный в его только что открывшейся юридической конторе? Накануне Нового года выпал обильный снег, но после запоздавшей зари выглянуло бледное солнце. Абигейл надела новое голубое шелковое платье поверх голубой стеганой нижней юбки, бархотка на шее подчеркивала ее очаровательные плечи. Волосы она прикрыла бархатным капором. Семейство Смит проехало три мили от Уэймаута до Брейнтри на санях мимо двух домов семейства Адамс, стоявших бок о бок на пустынной дороге Плимут — Бостон, и продолжило поездку в Маунт-Уолластон, поднимаясь вверх по дороге, обсаженной липами и огороженной частоколом. Дом дедушки Куинси размещался на обширном земельном участке, дарованном Бостоном первому Куинси в 1633 году. Дедушка Абигейл построил свой дом в 1716 году, когда ему было двадцать семь лет, а затем пристроил к нему красивые крылья в стиле английских сельских домов, которым он восхищался. Предки Абигейл устраивали приемы в отдельной тронной комнате. Седовласый полковник, крепкий в свои семьдесят два года, приветствовал гостей в превосходной библиотеке, которая занимала всю заднюю часть дома, выходившую на Бостонский залив с его островами и маяками. В окна полковник с помощью старинных подзорных труб наблюдал за прибытием и отбытием каждой бригантины, шлюпа и судна, приходивших из всех портов мира. Именно в этой библиотеке дедушка Куинси, предпочитавший политику всем другим искусствам и занятиям, обучал Абигейл, используя тексты «Государства» Платона, «Утопии» Мора и эссе Локка. В комнате, предназначенной для приемов и отделанной с большим вкусом, восседала Элизабет Куинси. Она тепло обняла Абигейл, они поверяли друг другу самое интимное, ибо из всего обширного клана Куинси обладали схожими характерами. Бабушка Куинси отличалась природным остроумием, которое впитала Абигейл, проводя каждое лето в этом приятном доме. — Нэбби, дитя мое, ходят слухи, что новый молодой адвокат придет на обед. Ты слышала что-нибудь на этот счет? — Нет, бабушка, ты знаешь, что папа не разрешает сплетничать в Уэймауте. Но я подозреваю, что дедушка слышал об этом. — Да, действительно. Он надеется, что слухи не дойдут до твоей матери. Они одновременно хихикнули: ведь дедушка Куинси всегда немного опасался своей дочери Элизабет. Абигейл извинилась перед бабушкой и ушла, чтобы быть рядом с дедом, когда придет Джон Адамс. Он явился в библиотеку, одетый в алый чесучовый жилет поверх белой сорочки с оборками на воротнике и манжетах. Его светлые бриджи в обтяжку спускались ниже колен, а белые шелковые чулки блестели, подобно серебряным пряжкам на его туфлях. Его ноги были удивительно длинными и красивой формы. Очевидно, он приобрел такое одеяние для новогодней встречи. Его глаза блестели в предвкушении празднеств. Дедушка Абигейл поднялся из своего кресла. — Джон Адамс! Приветствую вас в моем доме. Ваше лицо напоминает мне о тех годах, когда двадцать лет назад я потерпел поражение в борьбе за командование милицией. Ваш добрый отец, лейтенант Адамс, отказался служить под началом Джозефа Гуча, выгнавшего меня, и таким образом помог мне быть переизбранным на пост командующего. Абигейл села на скамеечку у ног своего деда, а в это время присутствующие мужчины, известные в семействе Куинси под кличкой Лояльные Дикобразы, затеяли спор о последних попытках Англии держать под своим контролем торговлю колонии. Абигейл нравились политические дискуссии. С ранних лет она с удовольствием прислушивалась к ним. — Нэбби, я всегда утверждал, что мужчина — политическое животное. Может быть, и женщина тоже? — Дедушка, ты знаешь, что слово «мужчина» обозначает вообще человек, а это понятие включает и женщин. Я всегда верила в это, хотя мама утверждала обратное. Она говорит: мужчина есть мужчина, а женщина есть женщина, и они не должны вмешиваться в сферу деятельности друг друга. — У твоей матери есть склонность обобщать. Но жизнь не состоит из серии жестких альтернатив: хороших и плохих, правильных и ошибочных. Нет ни сугубо мужского, ни сугубо женского мира. Они соприкасаются, переплетаются. Ее советы были, как правило, верны. Разве это лишало ее женственности? К часу дня все, что стояло на длинном столе: мясо индейки и ветчина, оленина и говядина, консервированные фрукты, сливовый пудинг с подливой на коньяке, яблочный сидр и смесь вина с молоком, — было съедено гостями. Ричард и Мэри, Абигейл и Джон Адамс потихоньку ускользнули в сарай, где их ждали сани с упряжкой, нанятые Адамсом. Впереди сели Мэри и Ричард. Абигейл завернули в полость с ног до головы. — Я обещал твоему отцу, что не простужу вас. — Вы всегда так предупредительны? — Всегда, когда это доставляет удовольствие. Мне не нравится та часть пуританского учения, которая гласит, что человек более всего счастлив, когда несчастен. — Но однажды вы признались, что обладаете способностью делать себя несчастным. — Сегодня, мисс Абигейл, я еретик, жаждущий мирских удовольствий. Я ждал этого момента с тех пор, как принес присягу в Верховном суде Бостона и открыл свою первую контору в доме, доставшемся мне от отца. Она заметила в его голосе волнение и горделивую нотку. От дома Куинси до Брейнтри поездка была короткой, всего пара миль. Они остановились перед домом семейства Адамс, завещанным Джону. Другой дом занимали его мать и два младших брата. Абигейл знала эти два дома, в народе их называли «ящиками для соли». Затененные развесистыми вязами и дубами, они стояли под углом друг к другу на расстоянии нескольких метров у подножия Пенн-Хилла на дороге от Уэймаута к Бостону. Джон открыл новую покрашенную дверь, а Ричард отвел лошадей в стойло. Молодые женщины вошли в дом. — Ой, как красиво! — воскликнула Абигейл. — Я надеялся, что вы так и подумаете, — тихо сказал Джон. — Я врезал новую дверь, чтобы клиенты могли приходить и уходить, не тревожа домочадцев. Мэри прошла через контору в гостиную, Ричард присоединился к ней. Абигейл оставалась в конторе с Джоном, прислонившимся к двери, которую он запер за собой. Он смотрел на нее, не отрываясь. На какой-то момент ее внимание было поглощено помещением конторы, показавшимся ей единым и цельным. Она чувствовала, что эта большая комната с невысокими потолками, которой уже целый век, с побеленными стенами, старыми балками, тяжелыми дверьми и отциклеванным полом из планок произвольной длины, с глубоким кирпичным, хорошо очищенным камином отражает надежность и безупречность восстановившего ее человека. Это была, вне всякого сомнения, рабочая комната, письменный стол и приставка к нему были завалены памфлетами, газетами и листами бумаги, исписанными аккуратным почерком Джона Адамса. — В старом доме, пока не сделали пристройку, это была кухня, — объяснил он, когда Абигейл встала перед камином. Он открыл ящик для дров, положил два полена на теплую золу от утренней растопки. Сухие дрова тут же заполыхали, наполняя низкую комнату с потолочными балками теплом и светом. Перед камином стоял продолговатый стол с оловянными стаканами для свечей и перьев. По обе стороны стола размещались стулья с изогнутой спинкой, предназначенные для клиентов, а у противоположной стены письменный стол Джона со стопкой справочников и сдвижной деревянной шторкой, за которой Джон складывал свои бумаги и записные книжки. С грубо обтесанной балки свисала стеклянная масляная лампа. По всей стене за письменным столом стояли книжные полки, сделанные из той же темной древесины черешни, что и мебель. Это было единственное помещение, которое он обставил, а сам продолжал жить с матерью и двумя братьями в доме, где родился. Она подошла к письменному столу, беря одну за другой книги, читала вслух их названия: «О духе законов», «Правовые институты Рима», «Толкование по Юстиниану». — Мои профессиональные инструменты, — произнес Джон. Она перешла от стопки юридической литературы к полкам с книгами общего характера. Многие названия она знала, а некоторые сочинения прочитала, но не на языке оригиналов — латинском и греческом, как Джон Адамс: Вергилий, Сенека, Цицерон, Гораций, Гомер. — У вас хорошая библиотека. — Это моя первая потребность. Но посмотрите, какие большие провалы во всех областях — не только в праве и политике, но и в истории, философии, теологии. — Примечательна разница между вами и моим отцом. У вас целая стена книжных полок… — Я сам сделал их, — прервал он. — Я неплохой столяр. А когда-нибудь стану достойным хозяином десяти акров, оставленных мне отцом. — …в то время как мой отец никогда не добавляет полку в своей библиотеке, — продолжала она, игнорируя его замечание, — пока не приобретет книги, которые будут на ней размещены. — Потому что он может заполнить весь дом полками, а я не могу. Мне приятно, что вам понравилась моя контора. Впервые она почувствовала, что можно ожидать от ее собеседника. Где-то в тайниках своего ума она думала о нем как о малозначительном человеке. В тех небесных мечтах о своей будущей любви, о которой грезит молодая девушка, она видела и представляла мужчину, возвышающегося над ней. В своей юридической конторе, среди книг, записей, бумаг, Джон Адамс был властелином. Есть множество путей к тому, чтобы стать великим или никудышным. Она была благодарна хозяину за то, что смогла осознать это. — Мне очень нравится ваша контора. Я просто взволнована. Странным образом она… больше выражает вас, чем вы сами. — Она подняла глаза на Джона, сидевшего на краешке стула, и робко спросила: — Я вас не обидела? — Я просто удивлен тем, что кто-то может видеть столь ясно мое нутро. — Я не претендую, что вижу вас насквозь. — Мисс Абигейл, вне стен этой комнаты я веду пустопорожние разговоры и выпячиваю грудь, иначе говоря, изображаю себя честолюбцем. Порой я презираю себя за то, что удивил людей своей самоуверенностью. — После длинного монолога он сделал вдох и наклонился вперед. — Но здесь, в этой комнате, я один, у меня работа, в которой сталкиваются мышление и творчество, различные по времени и пространству. Знаете, что сказал Платон? «Учение очищает душу». Я хочу изучить все, что известно о праве и истории цивилизации, а также то, чем на самом деле должна стать юриспруденция. Здесь я спокоен. Но бывают трудные моменты, когда я не могу удержать перо в руке. Абигейл откинулась на спинку кресла, ее глаза потемнели и стали серьезными, ее молодое лицо и вся фигура обостренно воспринимали интенсивность его чувств. Она подумала: «Ни один мужчина с такими глубокими убеждениями не задержится надолго в Брейнтри». Словно угадывая ее мысли, он сказал: — Так мало можно сделать здесь в роли окружного адвоката. Все большие дела, важные вопросы вершатся в Бостоне. — Вы говорили, что Брейнтри нуждается в вас. — Да, Брейнтри нужен опытный юрист, чтобы сделать здешнюю юридическую практику почетной профессией. Но здесь мелкие дела. Начитавшись Кока, Болингброка[9] и Локка, я занимаюсь защитой людей, пострадавших в драке в таверне, и тяжбами по поводу цены на шляпу или границ коровьего выпаса. Редко когда мне удается написать реферат по общим принципам. Вроде того, что я написал в прошлом августе о младшем Пратте, безотцовщине, мать которого не могла содержать его. Парню было всего десять лет, когда мать отдала его в подмастерье ткачу. Хозяин обязался обучить мальчика читать, писать и считать и, понятно, не выполнил своего обещания. Могу ли я прочитать отрывок из моего заключительного выступления? Думаю, это лучшее из написанного мною. Он подошел к письменному столу, извлек из ящика грубо сшитую записную книжку карманного размера и принялся читать вслух проникновенным голосом: — «Закон, господа, крайне мягок и снисходителен к таким случаям. Ибо такова добросердечность и человечность английской конституции, которая берет под свое покровительство и защиту слабых, беспомощных и беззащитных… Но дорогой Пратт должен пользоваться преимуществами по иной причине: английский закон всемерно поощряет образование. В любом английском графстве необходимо образование, знание алфавита, чтобы человек мог занять какое-то… Мы знаем, что наш долг научиться читать, анализировать и судить как самого себя, так и других ради выявления, что правильно… Основа наших свобод — в свободе выбора. Каждый человек обладает в сфере политики и религии правом думать, говорить и действовать сам за себя. Никто, ни король, ни его подданный, ни священник, ни мирянин, не имеет права приказать мне избрать то или иное лицо в качестве законодателя и правителя. Я должен сам решать. Но как я могу судить, как может судить любой человек, если его сознание не созрело и не обогатилось благодаря чтению?» Она откинулась на жесткую спинку стула, прислушиваясь к словам, эхом звучавшим в комнате. Или в ее сердце? Она начала понимать, чего хочет этот беспокойный, энергичный, честолюбивый, временами тщеславный и позирующий молодой человек и почему он постоянно осуждает себя за то, что недостаточно читает, не изучает документы с нужным упорством, и считает, что должен писать яснее, более проникновенным английским языком. Джон Адамс стремился обрести мудрость. Это было его мечтой. Он стремился овладеть не информацией, которая может удовлетворить простого человека, а мудростью, которая способна вооружить пониманием характера мира и человека, помочь преодолеть частное ради осознания общего. Это было, как чувствовала она, призвание, которое отличает случайного человека на земле от того, который намерен стать ее хозяином. При всех недостатках Джон Адамс был мужчиной. Никто и ничто не в состоянии разрушить это его свойство. Он изучал выражение ее лица. — Вы крайне красноречивы, несмотря на сомкнутые губы и горящие глаза. В воздухе витают ваши невысказанные мысли. — Мои мысли принадлежат только мне, — мягко сказала она. — Итак, все, что мы можем поделить сейчас, мисс Абигейл, это — слова. Быть может, когда мы станем большими друзьями, то у нас появятся общие мысли? Он поднялся и стоял, неуклюже прижав руки к телу, шевеля пальцами, а его глаза блестели. Не схож ли он с мужчиной, с трудом сдерживающим желание обнять и поцеловать девушку? Она не делала ничего, чтобы помочь ему или удержать его. Ему решать, подходят ли время и место. Что касается ее самой, то какая девушка не думает с надеждой о первом поцелуе? Ей исполнилось семнадцать лет, за ней никто не ухаживал. Ухаживает ли за ней Джон Адамс? Они оба были явно готовы к чему-то, но она не знала к чему. К дружбе? Несомненно. К любви? В этом она не была уверена. К любви надо подходить осторожно. Любая ошибка может на всю жизнь обречь на страдания. Он отошел и повернулся. Ее глаза затуманились. — Мои поздравления, мистер Адамс. — Что же, кто трусит и убегает, того другая битва ожидает. — Битва, мистер Адамс? — Ее глаза вновь заблестели. — А я-то думала, что правильное слово — «объятие». Его глаза широко раскрылись. — Откуда вам известно это слово? — В Массачусетсе его знают все. Оно описывает причину, по которой моему отцу часто приходится освящать поспешные браки. Он хихикнул. — Я помню, как в воскресный вечер Боб Пейн и доктор Вендель увели с собой Кейт Куинси и Полли Джексон в отдельную комнату. Они смеялись и визжали, целовались и обнимались, а затем вышли разгоряченные. — Мужчина, который уделяет много времени флирту, когда-нибудь должен разгорячиться. Он покраснел. Его щеки стали пунцовыми. — Виноват, ваша честь, но я повинен лишь в мелких правонарушениях. Мой девиз: ни девушки, ни ружья, ни карты, ни скрипки, ни одежда, ни табак, ни лень не должны отрывать от книг. Она подумала: «Этот человек действительно станет несчастным, если не найдет себе кого-то, согласного с тем, что „учение очищает душу“». В проходе за ними стукнула дверь. — Это служанка моей матери принесла чай. Не присоединиться ли нам к Мэри и Ричарду в гостиной? Он взял ее под руку и повел в гостиную. — Знаете, мисс Смит, вы мне нравитесь во всех отношениях. Но я помню также два совета, которые дал мне три года назад мистер Джеремия Гридли, принимая у меня присягу при допуске в Низший суд в Бостоне: «Во-первых, стремись изучать право и не получать от него выигрыш; во-вторых, не женись рано. Ранний брак помешает твоему совершенствованию и втянет тебя в расходы». Абигейл резко остановилась и высвободила свою руку. Затем, увидев удрученное выражение его лица, поняла, что он стал жертвой собственной неудачной шутки. Она покачала головой, сделав вид, что в отчаянии. — Мистер Адамс, вы очень трудный молодой человек. — Не поддавайтесь на мои провокации, мисс Абигейл, я сам создаю для себя трудности. Она стояла на пороге гостиной и с удивлением осматривала очаровательную обстановку: стаффордширскую фарфоровую посуду, стоявшую на низком столике перед камином. Мэри, сидевшая на софе, наливала, наклонившись вперед, четыре чашки. Абигейл повернулась к Джону Адамсу. Они смотрели друг на друга молча, испытующе. Она подумала: «Может быть, это и правильно, мистер Адамс. Но я должна знать наверняка».
8
Абигейл читала «Клариссу, или Историю молодой леди» Сэмюела Ричардсона,[10] когда постучал, а затем вломился в ее спальню Билли с позеленевшим лицом. — Вы опять поссорились! — Он не позволяет ссориться с ним. Просто повторяет: «Если я отрекусь от моего долга, то буду на всю жизнь отверженным». — Так и будет, Билли. — Но почему он хочет откупиться моей бедой от своих неприятностей? Он говорит, что обучит меня латыни и греческому языку, чтобы я смог выдержать вступительные экзамены в Гарвард в следующем году. Я говорил тебе, Нэбби, если он вынудит меня сдавать экзамены, я сбегу. Ты меня больше тогда не увидишь. Его лицо выражало такое отчаяние, что она испугалась, как бы он не выполнил свою угрозу. Она встала, положила руки ему на плечи. — Я помогу тебе. Если ты убежишь, это станет публичным оскорблением отца. Но чем ты заменишь его предложение? — Рано или поздно появятся деньги для собственной фермы. — Ты должен знать, что отец откажется от своего плана, если будет предложено что-нибудь реальное. — Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Разве это не альтернатива? — Не для единственного сына. Мы должны составить план, чтобы ублажить его. — Ты сможешь сделать это на самом деле, Нэбби? — В его глазах показались слезы. — Когда в следующий раз папа поедет в Чарлзтаун, я попрошу его отвезти меня в Бостон к дядюшке Исааку. В конце следующей недели пастор Смит объявил о своем намерении съездить в Чарлзтаун, осмотреть отцовскую ферму и участки, которые он отвел под сад. Поскольку Абигейл раз в году проводила месяц у дядюшки Исаака и тетушки Элизабет, она легко получила согласие матери сопроводить отца. Джон Адамс узнал о намечавшейся поездке от Ричарда Кранча. Он пришел на чай. — Как удачно! — сказал он ей. — Примерно в то же время я должен быть в Бостоне для слушания в суде. Может быть, мы вместе походим по городу? — Мне бы хотелось. Бостон такой красивый, в нем много приятных глазу видов. — Действительно, мне трудно учиться в Бостоне. Мои глаза отвлекаются на перевозчиков леса, торговцев, кареты, лошадей, дилижансы, рынки, моряков, а в ушах шумит от городского гула, и поэтому я не могу долго думать о чем-либо, требующем внимания. Вместо этого я уделю внимание вам. Абигейл выпрыгнула из коляски на Куин-стрит, попрощалась с отцом и побежала по дорожке, вымощенной красным песчаником и обсаженной старыми деревьями, к парадной двери красивого трехэтажного кирпичного дома, выкрашенного в белый цвет. Одна из служанок тетушки впустила ее в дом. Перешагнув через порог, она глубоко вдохнула: этот дом, подобно лавке и складу дедушки, был пропитан ароматом экзотических продуктов, доставлявшихся капитанами его судов. Она вошла в гостиную: ее украшали богатый турецкий ковер, стены, обшитые панелями из тика, черные лакированные шкафы, столы и кресла, привезенные из Китая. Высокие окна выходили на огороженный каменной стеной дворик, потолок рассекала балка, обшитая тиковым деревом. Посередине балки висел стеклянный шар, привезенный, по словам дедушки, из Персии. В выпуклых зеркалах отражались портреты тетушки и дядюшки, принадлежавшие кисти Джона Синглетона Копли. За задней стеной дома простирался большой сад, а еще дальше — площадка, на которой дядюшка Исаак содержал своих любимцев-животных. Тетушка Элизабет спустилась по лестнице вниз и тепло обняла Абигейл. Она была невысокой женщиной с пышной грудью и розовыми щеками и обладала приятными манерами, унаследованными от отца, Эбенезера Шторера, пользовавшегося уважением всего Массачусетса. Она отвела Абигейл в свою спальню, которую всегда уступала племяннице. Абигейл протестовала и говорила, что не хочет лишать тетушку ее собственной кровати, но Элизабет получала удовольствие, делая приятным для племянницы пребывание в ее доме. Это была простенькая комната, в которой стояла кровать с балдахином на четырех стойках. Абигейл привлекла ниша для чтения, в которую были встроены удобный письменный столик и книжные полки. Окно комнаты выходило в сад, и из него был виден зоопарк дядюшки Исаака. Дядюшка Исаак разрешил ей принести сюда из нижней библиотеки ее любимые книги, преимущественно описания путешествий, исследований и происшествий, позволявшие Исааку заочно побывать в странах, откуда он импортировал деготь, скипидар, пробку, специи, слоновую кость, какао. Здесь она прочитала «Поездки по Франции и Италии» Смолетта, «Естественную историю Норвегии» Понтоппидана, «Описание Востока» Покока и впервые представила себе, как живут в других странах и в иное время. Дядюшка был миниатюрной копией ее отца, словно родители исчерпали весь материал на девятом ребенке. — Дядя Исаак, я приехала, чтобы доверительно поговорить с тобой. — Если ты планируешь открыть лавку или построить судно, могла бы найти лучшего советника. — А также другие пути, дядя. Это по поводу Билли. Папа пытается воспитать его по своему образу и подобию, но Билли не книгочей. Папа говорит, что Билли должен получить образование в Гарварде. Билли грозится убежать. Ты добился успеха, не обучаясь в колледже, и тебя считают преуспевающим торговцем в Массачусетсе. Исаак был польщен; он любил своего старшего брата и гордился тем, что преуспел, не обладая преимуществами Уильяма. — Ну, Нэбби, ты обхаживаешь своего беззащитного дядю, а это значит, что хочешь добиться от меня чего-то особого. Выкладывай начистоту. — То, что я стараюсь купить, дядюшка Исаак, — это счастье для Билли. Он так несчастлив дома. Он умный и честный, ему будет здесь хорошо, если ты возьмешь его подмастерьем в свое дело. — Знает ли твой отец, что ты делаешь? — Нет. — Он может обидеться. — Да, но если Билли сбежит в Огайо-Вэлли, папа будет еще хуже себя чувствовать. — По правде говоря, я хотел бы поднатаскать племянника. — Исааку нравилась идея, что единственный сын брата Уильяма предпочитает жить с ним и последовать его примеру. — Нашему Уильяму и Исааку-младшему шесть и двенадцать лет, а мама настроила их уже на Гарвард. Билли без образования и я, мы имеем много общего. В следующий раз, когда дома возникнет спор, убеди своего отца привезти ко мне Билли.Джон Адамс постучал в дом Смита вскоре после ланча. День был ясный и прохладный, мостовая подсыхала после небольшого дождя. Они шагали быстро, но не спеша, поскольку у них не было определенного плана. Он вел ее под руку, немного по-хозяйски, подумала она, но ей было приятно идти рядом с таким проводником. Бостон сгорал дотла раз десять. Каждый раз город перестраивался в лучшем вкусе и из более прочных материалов. Ставший третьим крупнейшим городом колонии после Филадельфии и Нью-Йорка, он насчитывал две тысячи домов и более пятнадцати тысяч жителей. С птичьего полета город мог показаться схожим с неудачно склеенным бумажным змеем: пруд Милл размещался по одну сторону его головы, а гавань — по другую, основная часть города раскинулась от Бартонс-Пойнта на севере к Роуз-Уорфи на юге, а далее к Роксбери город сужался на полосе земли, называвшейся Бостон-Нек. На площади они прошли мимо садовой лавочки для сплетниц и любителей посудачить, рядом раскинулся небольшой прудик. Над ними маячила сигнальная башня. Они повернули и пошли по склону к Скул-стрит и Кингс-Чапель — первой епископальной церкви, построенной в Бостоне. — Эти бостонцы — сварливые люди, — прокомментировал Джон. — Они настроены против квакеров, которых вешали на площади, равно как и против католиков. Они с трудом терпят единственную церковь английской конгрегации. Им нравится сражаться между собой, они, несомненно, находят это более приятным и не требующим многих жертв. Через квартал по Корнхилл-стрит они подошли к книжной лавке «Уортон энд Боуес». Джон Адамс сказал доверительно: — Здесь я транжирю свои тощие сбережения. Две трети домов Бостона представляли собой деревянные, в несколько этажей строения, остальная треть — кирпичные, в хорошем архитектурном стиле. Главные улицы города были широкими, добротно вымощены булыжником, между ними извивались многочисленные узкие и грязные проезды. Метрополия давно считалась богатым центром Новой Англии. Здесь строились суда, отсюда они направлялись во все уголки мира, чтобы доставить товары из Вест-Индии и с Востока; небольшая часть товаров предъявлялась в соответствии с законами, но большая часть контрабандным путем обходила британскую таможню, и поэтому прибыли достигали баснословных размеров, и благодаря этому на обсаженных деревьями площадях Боудойн и Сколлей вырастали большие здания, славившиеся коврами, предметами искусства и дорогостоящей мебелью. — Можете ли вы привыкнуть к такому страшному шуму? — спросила Абигейл. Отвечая ей, он возвысил голос, так громко цокали подковы по булыжной мостовой и грохотали окованные колеса повозок. Шум дополнялся более приятной и мелодичной какофонией разносчиков лекарственных снадобий, расхваливавших свой товар; рыботорговцев, продававших рыбу из садков; фермеров, предлагавших молоко, налитое в баки на двухколесных тачках; замазанных сажей трубочистов, кричавших резкими голосами; городских глашатаев, объявлявших время и новости; колоколов, призывавших на церковную службу, на собрания, в школу, на тушение пожара; торговцы с сумками за спиной на той и другой стороне улицы привлекали покупателей звоном ручных колокольчиков. Джон и Абигейл продолжали прогуливаться по Корнхилл-стрит, мимо городской ратуши к Фанейл-Холл, сгоревшему год назад: от него остались лишь наружные стены из красного кирпича. Этот дом долгое время был центром Бостона: на первом этаже находились когда-то лавки, в которых продавалась различная снедь, ношеное и годное к использованию белье, а наверху — большой зал, где проходили собрания и каждый, «подлежавший обложению налогами на поместье в размере двадцати фунтов», имел право выражать свою точку зрения и голосовать. Пожарище было расчищено, но строительство еще не велось. Лишь торговцы, которым обещали бесплатную аренду в случае восстановления ими своих лавок, копошились в подвалах и в ларьках на первом, на уровне улицы, этаже. Джону Адамсу захотелось пройти по узкому проулку Дамнейшн-Алее на Кинг-стрит. Через несколько шагов они оказались перед таверной «Виноградная гроздь» на Макрил-Лейн. В окрестных лавках было много красивых товаров, происхождение которых легко угадывалось: английских, голландских, французских, итальянских, испанских. — Взгляните на эту превосходную карету с шестеркой ухоженных лошадей и лакеями в ливреях! — крикнул Джон, показывая на экипаж, проехавший по улице. — Посмотрите вон туда, на тех мужчин в заломленных шляпах, в желтых и зеленых сюртуках. Представляю себе: Лондон должен быть чем-то вроде этого. — Я часто думала об этом, находясь у дядюшки Исаака. Я чувствую себя лучше в деревне, где я знаю, кто и в каком доме живет. Там спокойнее. Здесь, в Бостоне, я могу знать дюжину людей, а остальные для меня чужаки. Он прижал к себе ее локоть. — Но знаете, быть с вами здесь, в большом безликом городе, совсем не то, что в иных местах. По каким-то причинам пребывание здесь заставляет меня почувствовать вас ближе, словно мы одни, как вы сказали, в толпе чужаков. — У меня такое же чувство, — призналась она. — Это как если бы вы оказались в ином свете. — Ну, я рад, что свет Бостона не так уж хорош, — проворчал он. — И особенно на этих кривых улочках. Не думаю, чтобы я выглядел красавцем при ярком освещении. — Мы говорили не о чертах вашего лица, мистер Адамс. Мы говорили о вас как о личности. Если вы поймете меня правильно, то хотела бы сказать, что мне доставляет удовольствие личность, с которой я брожу по улицам Бостона. — Да. Кажется, мы обрели некоторую близость, недостижимую для нас в Уэймауте или Брейнтри. В Уэймауте я думаю о мисс Абигейл Смит и о мистере Джоне Адамсе как о двух совершенно отдельных личностях, которые встречаются, когда это удается, чтобы час-другой побыть в хорошей компании. — А в Бостоне? — Теперь ее глаза дразнили его. — Я говорю серьезно. Это словно откровение, и очень счастливое для меня. Я чувствую, словно мы стали владеть небольшой частичкой друг друга. — Возможно, это хорошее определение дружбы. — Да, мой добрый друг. — Вероятно, мы можем быть друзьями? Полагаю, что такие взаимоотношения самые прекрасные. — Даже более прекрасные, чем любовь, мисс Абигейл? — Не знаю. Я не любила. Быть может, дружба — это сердцевина любви. Может быть так? — Может. Хотя я знаю о любви так же мало, как вы. Абигейл остановилась. Она нахмурила брови и отвела со лба локон, хотя в этом не было нужды. Ее щеки порозовели. — Я хотела сказать следующее: если люди хорошие друзья, а также любят друг друга, то не придаст ли дружба иное измерение их любви? — Вы имели в виду, что она позволит любви пережить тяжелые времена? — Да, именно это я имела в виду. Даст ли она мужчине и женщине более широкую основу делать приятное друг другу в различные моменты их жизни? Они возобновили прогулку, от Лонг-Уорф прошли к месту, где добровольные бостонские пожарники направляли высоко в воздух водные струи, «прогоняя луну». — Это легче, чем затушить пожар Бостона, — заметила Абигейл. Они повернули назад, обошли Индиа-Уорф, где были пришвартованы грузовые суда дядюшки Исаака, прибывшие с Востока. В воздухе пахло дегтем и рассолом. — Вам не холодно, мисс Абигейл? — Думаю, меня согреет чашка чаю. Солнце садилось. Абигейл застегнула верхние пуговицы своего плаща. — Это в пределах досягаемости. Они прошли в южном направлении по Килби-стрит к Форт-стрит, затем мимо шести канатных дорожек, где команда вязальщиков, двигаясь взад и вперед, закручивала тяжелые пряди в канаты для оснастки судов. Абигейл никогда не бывала в этой части города. Они прошлись неторопливо по Перл-стрит, повернули в Kay-Лейн и оказались в районе частных причалов, к которым массачусетские торговцы доставляли свою богатую добычу. Наконец достигли Перчейз-стрит, где внушительные жилые дома с огородами и садами выходили к морю. — Вот дом моего кузена Сэмюела, — сказал Джон. — Этот? — Она была искренне удивлена, поскольку знала, что Сэмюел Адамс находится в стесненных обстоятельствах. — Какое прекрасное поместье. Хотя и запущенное. — Все разваливается. Это большое здание в саду было цехом по производству солода. Он закрылся в прошлом году. Первый Адамс, прибывший в Массачусетс, наш общий предок, был специалистом по приготовлению солода. Боюсь, что Сэмюел — последний. Он пренебрег своим личным бизнесом ради того, что он называет общественным благом. Я сказал ему, что мы будем рядом. Он предложил мне зайти на чай. — Мне хотелось бы встретиться с любимым великаном-людоедом моей матушки.
Им открыла девушка-негритянка, из-за которой выглядывали двое детей Адамса и огромный ньюфаундленд, перекрывавший проход. Жена Сэмюела умерла около пяти лет назад. Собака узнала Джона и повела их в кабинет Сэмюела. Письменный стол стоял у окна, выходившего на улицу, чтобы освещение было возможно лучшим. Сэмюел Адамс стал известной фигурой в Бостоне, его лампа горела до полуночи, его профиль был хорошо виден прохожим, когда он писал и читал. Абигейл подошла к порогу заставленной книгами комнаты, ее некогда роскошная мебель выглядела потертой. Сэмюел поднялся с сердечной улыбкой и пошел навстречу, приветствуя ее, он протянул вперед обе руки, а она еще не успела поднять свои, прижатые к бокам. В эти несколько секунд она заметила, что его голова и руки дрожат; хотя ему было всего сорок лет, в его густой шевелюре уже появилась седина. — Мне приятно принимать друга кузена Джона, мисс Смит. — Для меня это счастливый сюрприз, мистер Адамс. Ваш кузен Джон не сказалмне, куда мы идем, пока не постучал в дверь. Жестом он пригласил ее сесть в удобное кресло. — Некоторое время я думал, что Джон станет закоренелым холостяком. Рад, что он вновь ухаживает за девушками. — Жена нужна тебе, Сэм, — вмешался в разговор Джон Адамс. Абигейл, сидя в кресле, разглядывала Сэмюела Адамса. Она отметила, родовое сходство с Джоном, хотя нос Сэмюела был длиннее, губы толще, лицо и шея — уже. Он был такого же роста и крепкого сложения, как и Джон. Она слышала, что его называли вспыльчивым, легко возбудимым, но, по ее мнению он был открытым, веселым человеком. — Ну, кузен Джон, разве найдется умная женщина, чтобы выйти за меня замуж, учитывая мое положение? — Он повернулся к Абигейл: — Мисс Смит, вы слушаете самого плохого бизнесмена в Бостоне. Когда умер мой отец, он оставил мне этот дом, процветавшую пивоварню и третью часть изрядного поместья. Теперь, через четырнадцать лет, я настолько беден, что мои друзья обвиняют меня в недостатке способности оценивать богатство в его реальной ценности. — Действительно, что понимать под реальной ценностью, мистер Адамс? — Это вопрос, над которым испокон веку ломают головы философы. Кузен Джон, ты правовед. Ответь мисс Смит. — Ценность богатства, Сэм, в том, чтобы позволить двадцатишестилетнему парню начать издавать еженедельную газету «Паблик адвертайзер», как это сделал ты, и заполнять ее полосы хорошими политическими обзорами. Осмелюсь спросить, счета приходят большие? — Довольно большие. — Ну что ж, за удовольствие надо расплачиваться. Ценность богатства в том, что оно дает возможность не обращать внимания на производство солода и проводить часы в этой прекрасной библиотеке, составляя для прессы статьи об английской тирании… правда, я не могу сейчас вспомнить, на какую тиранию ты жалуешься. — Ты вспомнишь, Джон, — мягко ответил Сэмюел, — когда вопрос возникнет вновь. Но я счастлив, что ты одобряешь мою бедность. — Напротив, я порицаю. Ты просил меня представить мисс Смит твое дело. Но каким бы бесстрашным и блестящим адвокатом я ни был, сомневаюсь, что мог бы оправдать твой способ взимания налогов. Служанка принесла чай. Сэмюел грустно улыбнулся, отодвинул в сторону стопку исписанных страниц и поставил чашки на письменный стол. Закуска была скудной. Джон был прав: Сэмюелу нужна жена. Джон сделал глоток горячего чая и затем обратился к Абигейл: — Сэмюел превосходен как сборщик налогов в Бостоне, когда ощипывает богатых. Но у него слишком мягкое сердце, когда речь идет о бедных… — …которые не должны вообще платить налоги, — перебил его Сэмюел. — Ну, ты это и устраиваешь! Он использует средства, полученные в виде налогов от богатых, чтобы платить за бедных. Сэм, точно, сколько ты задолжал? — Если бы я вел учет, то не потерял бы пивоварню. — В таком случае откажись от поста сборщика налогов прежде, чем доведешь Бостон до банкротства. — Как я могу отказаться? Мы живем только за счет крошечного оклада. Он первый рассмеялся, понимая абсурдность своего положения. Однако, как бы ни обнищал он, Абигейл знала, что Сэмюел один из наиболее уважаемых и влиятельных людей в Бостоне. Он создал чуть ли не первый политический клуб в Массачусетсе, чтобы следить за каждым шагом губернаторов и судей, назначавшихся короной, и восставать против того, что члены клуба считали несправедливым. Он был бесспорным лидером молодежи города, особенно ремесленной и мастеровой, ссужал молодым людям деньги, когда они у него были, помогая им в образовании. Он достиг такого положения законно: его отец служил в интересах Бостона в Общем суде, был одним из наиболее сильных публицистов, выступавших против узурпации Англией колониальных прав, и привилегированным членом бостонского закрытого собрания политических лидеров, действовавших за кулисами для продвижения своих ставленников на политические посты Массачусетса. Сэмюел вырос в атмосфере противоречивой политики, и это повлияло на его образ мышления. Слушая дискуссию двух Адамсов относительно политики Понедельнического ночного клуба, нападавшего на губернатора Фрэнсиса Бернарда и его заместителя Томаса Хатчинсона, Абигейл догадалась, что Сэмюел был прирожденным учителем. Он обучал молодых людей в клубе с помощью своих газетных статей; в тавернах, где собирались по вечерам его друзья, хотя сам, суровый пуританин, желавший превратить Бостон в новую Спарту, не брал и капли в рот. Его противники обзывали его поначалу Сэм Солодовник, а затем Сэм Бывший Солодовник, и тем не менее его уважали за личную честность. Члены комитетов, назначавшихся законодательным собранием Массачусетса для составления тех или иных проектов, приходили в резиденцию Адамса на Перчейз-стрит за советом и зачастую упрашивали Сэмюела написать требуемые документы. Несмотря на то что единственное поручение, с которым он успешно справился, было связано с постом инспектора школ Бостона и ему предстоял скандал по поводу недобора налогов, он занимал в Бостоне второе место после Джеймса Отиса в области формирования общественного мнения. Бостон давно узнал, что он неподкупен не только в отношении денег, но и в отношении наград, славы и влияния. Джон рассказал Абигейл во время их прогулки: — Сэмюел самый опытный политический ум в колонии. Всю свою интеллектуальную мощь, которую он мог бы употребить, чтобы стать великим юристом, он направил на изучение политики. — Зачем? — спросила она озадаченно. — Чтобы иметь возможность попасть в законодательное собрание, стать его спикером, может быть, губернатором провинции Массачусетс. — Ну, Джон, чего ради король, парламент назначат своего самого решительного оппонента? — Потому что он лучше всех знает, что нужно Массачусетсу, чтобы население оставалось лояльным Англии и было счастливо в качестве колонистов. — Его противники утверждают, что Сэмюел Адамс не будет счастлив, если не спровоцирует революцию. Лицо Джона стало красным как кирпич. — Сэмюел не напечатал ни одной строки с такими утверждениями. Я лояльный англичанин. Я люблю законы Англии, ее конституцию, ее культуру. Я горжусь тем, что я — англичанин. — Мы говорим не о вас, Джон Адамс. — Мисс Абигейл, если бы Сэмюел проповедовал государственное предательство, то я знал бы об этом. Он проповедует свободу. В Лондоне, как и в других местах, допускают ошибки: к нам направляют плохих деятелей, потому что они пользуются влиянием. Принимаются недействующие законы, потому что никто не знает наших проблем. Сэмюел подает тревожный сигнал, зажигает слабые огни, чтобы Бостон вновь не сгорел. Глядя теперь на Адамса-старшего, сидящего за письменным столом с двумя детьми, прижавшимися к его коленям в ожидании отцовского рассказа, на его глаза, излучающие нежность, Абигейл поняла, что противники человека редко могут быть объективными биографами. Нежность его характера подсказывала, что он — набожный человек. Он взглянул на нее. — Мисс Смит, вы изучаете меня и оцениваете. Каково же решение суда? Смутившись, она сказала заикаясь: — Нет, я… хорошо… да… наши частные мысли можно услышать, не так ли? Все, что я думала о вас, доброе. Он повернулся к своему кузену и медленно сказал: — Мне нравится твоя мисс Абигейл Смит. Она берет быка за рога. Но мягко. Ты ухаживаешь за ней? — Согласно моим определениям, да. — Как мой кузен определяет понятия, мисс Смит? — Осторожно… слегка неопределенно. Сэмюел засмеялся. — Джон, не говорит ли она, что ты сам себя не знаешь? — Нет, Сэмюел, по-моему, она говорит, что мы оба двигаемся осторожно… — Не могу представить себе почему! — прервал Сэмюел. Он вновь повернулся к Абигейл: — Мы, Адамсы, лояльный клан. Если он окажется достаточно смелым, чтобы сделать предложение, а вы — достаточно глупой, чтобы принять его, пожалуйста, переезжайте в Бостон и будьте рядом с нами. Кузен Адамс и я можем составить неплохую команду. — В чем? — язвительно спросил Джон. — В спаривании? Подзадоренная их размолвкой, Абигейл сказала с усмешкой: — Ваш кузен и я решили, что мы — деревенские жители. Итак, неважно, с кем мы вступим в брак, я намерена оставаться в Уэймауте, а Джон Адамс — в Брейнтри. — Я расстраиваюсь при мысли, что не смогу пригласить вас на чай в Бостон. Пробило шесть часов и стало темно, когда они подошли к выходной двери дома Смита. Перед ужином улица опустела. Они повернулись друг к другу, чтобы попрощаться, и робко смотрели в глаза. Затем Джон притянул ее к себе, и она оказалась в его объятиях. Она почувствовала его губы, теплые, глубоко волнующие. Прошло много времени, прежде чем их руки разжались. Ее сердце учащенно билось, и она видела его лицо словно в тумане. Наступила неловкая пауза. Ошеломленные, они смотрели друг на друга, поражаясь силе взаимного влечения. Потом она отошла к двери. Он повернулся, спустился по ступеням и пошел по плитам красного песчаника, сгорбившись, неуверенно… Глубоко дыша, она стояла перед входом в дом дяди. Когда из поля зрения исчез Джон, ей показалось, будто она смотрит в глубокий туманный коридор прошлого и в то же время на яркое солнце, способное обжечь глаза. Она озабоченно прошептала, переступая порог прихожей: — Боюсь, что ноги не донесут меня до спальни.
10
Когда Абигейл возвратилась домой, все было по-прежнему на своих местах, но мир уже казался иным. В Уэймауте легче дышалось; каждый вид одарял красотой: зимний свет подчеркивал пронзительно белый цвет берез, чаек, летавших полукругом над ее головой; дома, сгрудившиеся вдоль Чёрч-стрит, под ногами пружинила земля. Она удивлялась сама себе: неужели она была так возбуждена и взвинчена, так счастлива и полна желания, ощущая пробудившуюся чувственность? — И все это благодаря одному поцелую? — подшучивала она над собой. Но острота чувств не отступала; она была по-прежнему взволнована, как совсем недавно, перед парадной дверью дядюшки Исаака, когда перед ее мысленным взором раскрылась целая панорама жизни. Был ли столь важен для Джона Адамса этот страстный поцелуй? Для нее он был первым. Но он, признавшийся в том, что обнимал и целовал кузину Ханну таким же образом? Или какую-либо другую соседскую девушку? В конце концов, таковы деревенские обычаи, даже если положение дочери священника ставило ее особняком. Она положила на стол щетку, которой расчесывала волосы, и продолжала смотреть на огонь в камине. Ей хотелось знать, что думает Джон Адамс о случившемся. Она же питала к нему сильное чувство. Ей вовсе не хотелось возвращаться в скучный, обыденный мир, в равной мере она не могла выставить свои чувства на посмеяние. Она мечтала о взаимной любви, осознание и ощущение которой одновременно и в равной степени было присуще обоим партнерам. Но она читала достаточно много стихов о неразделенной любви и знала, что такое случается. Джон Адамс не держал ее долго в неведении. Через несколько дней он приехал из Брейнтри по обледеневшей дороге и появился в тот самый момент, когда Феб вытирала посуду. Абигейл показалось, что он поднял брови, увидев ее в шерстяном платье из темно-красной ткани, которую она соткала сама. Но все это произошло так быстро, что она не была уверена в своих оценках, поскольку через несколько секунд он втянулся в политическую дискуссию с ее отцом. Прошел час. По окнам застучали капли дождя. Ее мать встала и сказала: — Спокойной ночи, мистер Адамс. Надеюсь, у вас есть накидка? Джон также встал, покраснев от столь бесцеремонного намека. — Ну, моя дорогая, — вмешался преподобный мистер Смит, — не такая погода, чтобы человек тащился по грязи три мили. К тому же еще рано, и я уверен, что молодые не устали так, как мы. — Он повернулся к Джону: — Подождите, пока погода улучшится. Не сомневаюсь, Нэбби составит вам компанию. — Мистер Смит! — возмутилась жена. — Вы знаете, где лежат дрова? Подбросьте несколько полешек и согрейтесь как следует перед поездкой. Он взял под руку жену, которая неохотно прошла через прихожую к лестнице и поднялась наверх. Абигейл сидела тихо, от невольной улыбки дрожали уголки ее рта. Не поднимая головы, она сказала: — Подберите такой толщины дрова, чтобы их хватило до окончания дождя. Он бросил на нее быстрый взгляд. — Есть и другие критерии, — прошептал он. Когда он вернулся, в его руках были три толстых сосновых полена. — Будет долгая холодная зима, — сказала она, подражая тону уэймаутских фермеров, глазеющих на серое ноябрьское небо. Он положил два полена на огонь, энергично толкнул их в глубь камина. Затем повернулся. И неизбежное вновь произошло. Она поднялась из кресла, он пошел от камина ей навстречу. Их руки соединились, словно они боялись потерять вновь обретенную радость, губы прижались к губам. Он сильно прильнул к ней, как бы стараясь вобрать ее в себя, ее груди соприкоснулись с его мускулистой грудью, через ткань нижних юбок она чувствовала его упругие бедра. Тот обжигающий поцелуй в Бостоне не был случайным, ничего не значащим пустячком. И для нее и для Джона. Все было ясно: они понимали друг друга, стремясь утолить обоюдную жажду; любовь заявила о себе, пронзила их тела с головы до ног, утонувших в ворсе брюссельского ковра, словно они были готовы пустить корни и оставаться навеки соединенными в страстном объятии. Почти благоговейно держась за руки, они сели на софу, обтянутую желтым дамастом, и вытянули к камину ноги. — Когда ты догадался? — прошептала она. — Никогда. — Никогда! — Ты мне нравилась. Я восхищался тобой. Я ждал момента, когда мы снова можем быть вместе. Но осознание? У меня его не было. — Что же тогда произошло? — Я стоял на ступеньках дома твоего дяди Исаака, думая о прекрасном, несравненном дне, который мы провели вместе. Вдруг кто-то или что-то толкнуло меня сзади… — Дьявол, как сказала бы Феб? — Вероятно, Бог, предвосхищающий наше будущее. До того, как я поцеловал тебя, я был одинок и мною пренебрегали. После этого я узнал тебя, и нас было двое. — Откуда такая уверенность? Может быть, ты захватил меня врасплох? Быть может, я заигрывала с тобой? — Знание, моя восхитительная Абигейл, выше таких вещей. Но ты также догадываешься о многом, если сумела убедить своего отца отклонить возражения матери. — Мой отец понимает мой тон и мои манеры столь же отчетливо, как ты понимаешь Блэкстоуна. — Милая леди будет еще менее благосклонна ко мне, если узнает, что между нами есть некая доля кровосмесительства. — Джон Адамс, о чем ты говоришь? — О нас. Моя мать проследила это через генеалогию Бойлстона. Одна из твоих прабабок по линии отца принадлежала к семейству Бойлстон. Это означает, что твоя прабабушка и мой прадед были сестрой и братом. — Ох, и это все? Ты напугал меня. Мой отец говорит, что все массачусетские семьи связаны родственными узами и это делает их сварливыми. — Знаешь, Нэбби, я был несправедлив к твоему отцу. Мне казалось, что я ему не нравлюсь. Улыбнувшись по поводу того, что он использовал ее уменьшительное имя, она спросила: — Почему не нравишься? — Угрызения совести. Случилось это два с половиной года назад, когда я пил чай в этой самой комнате. Я подумал: «Пастор Смит поднаторел в роли священника. Он скрывает от прихожан свое собственное богатство, чтобы они не стеснялись преподносить ему подарки. Он фамильярно говорит с ними, чтобы завоевать их доверие. Он себе на уме». Все это я записал в свой дневник в этот вечер в Брейнтри. Он поднялся с софы, встал спиной к огню, скрестив за спиной руки. — Это одна из глупостей, за которую я должен просить у тебя прощение. Я несколько раз обратил внимание на то, как серьезно твой отец всматривался в мое лицо. Тогда я думал о глупых вещах, и мне казалось, то, что он видит, его не вдохновляет. — Не могу отвечать за отца, за то, что ты думаешь о нем, а он о тебе. Зная вас обоих теперь, прости меня за нескромность, скажу, что вы здорово дополняете друг друга. Что же касается твоего лица, то оно мне нравится. Он вновь опустился на софу. — Если тебе нравится мое лицо, тогда я красивейший мужчина в Новой Англии. Вот ты прекрасна! — В его голосе прозвучала торжественность. — Твоя кожа изумительно гладкая, твои губы сладострастны, твои зубы белы, как снег, столь совершенных не смог бы изобразить сам Копли. Но больше всего мне нравятся твои глаза. — Почему? Они не такие уж большие и прозрачные, какие бывают у некоторых девушек Новой Англии. — Мне потребовалась бы вся жизнь, чтобы ответить на один этот вопрос, Нэбби. Сейчас же скажу: я люблю все, что в них отражается. Они свободны от злобы и греховности. Они не спешат с суждениями, они никогда не бывают скрытными. Они согревают меня, их доброта и нежность говорят о том, что жизнь приятна, ценна и полна смысла. — Разве это так? — Мы сделаем ее такой. Он соскользнул на пол, сел на ковер перед ней и оперся спиной о ее колени. В нем она ощутила надежность и обеспеченность их будущего. Несколько недель назад, когда Абигейл была в его адвокатской конторе, у нее еще не было такой уверенности. Но разве любовь, когда она приходит, не сильнее любых сомнений, колебаний, неверия? Их любовь была не слепой, а сознательной. Поэзия говорила о любви, как о заколдованном оазисе, где никто и ничто не могло нарушить глубину чувств. Найденное ею было своего рода откровением, которое убережет их любовь. Бесспорно, ее рассудочность уходила корнями в пуританское наследие Новой Англии: она восприняла мысли отца о «зрелом принятии несовершенства человека». Решающим было обоюдное чувство и глубокое понимание, что они принадлежат друг другу и их любовь — сама справедливость. К ее чувствам примешивался страх, вызванный обожествлением Джона Адамса как человека, давшего ей возможность перевоплотиться из веселой, бойкой девушки в женщину, способную познать всю глубину страсти. Время уподобилось для нее звукам набегающей симфонии, гармонии и мелодии, которые захлестнули ее сердце. Слова «любовь» и «Бог» настолько сблизились, что стали почти синонимами. Но каким иным образом два ранее чужих друг другу человека могут сблизиться и слить воедино вроде бы несовместимые черты характера? Ее охватило чувство ликования. Она подумала: «Я нашла друга».11
Для Абигейл наступил период неописуемой радости. Желание быть вместе нарастало с каждым часом и усиливалось тем чудом, которое возникает, когда один человек доверчиво открывается другому. Они не говорили о браке, ибо нужно было дать любви время созреть. Для Абигейл эта весна была триумфальной: она любила и была любима; дни, наполненные лиризмом, ночи, полные чувства, открыли ей доступ к новым переживаниям. Джон Адамс сказал ей: «Моя стихия — право, а не поэзия». Но дни были поэтическими, лишенными сомнений, страха, тягот, лучезарными. Не меньше ее удивляло то, что она открывала в самой себе, вступая в новый мир чувственного возбуждения, если Джон Адамс брал ее руку или обнимал за плечи. Абигейл знала кое-что о физической любви между мужчиной и женщиной, трудно было бы не знать, живя в приходе в Новой Англии, где совершалось так много браков из-за интимных сношений. Она не подозревала, что способна на сильное возбуждение в его объятиях. Они целовались до боли в губах, но взаимная страсть не слабела. Она ощущала это каждой клеточкой своего тела, когда Джон, откинувшись на софу, притягивал ее к себе, а его губы искали ее уста. Они оба осознавали, что могучая сила их страсти никогда не исчезнет. Это давало ей приятное чувство уверенности. Что бы ни сулило будущее, Абигейл понимала: у нее хватит душевной отваги и стойкости все выдержать. Новые отношения между ними привели к некоторым изменениям. По Уэймауту поползли сплетни о ее поклоннике, судачили о том, что дочь преподобного мистера Смита ухаживает за парнем более низкого положения. Джон Адамс приезжал из Брейнтри три раза в неделю по вечерам и по субботам ночевал у Коттона Тафтса. Чета Тафтс была на его стороне. Пристанищем был ее дом. Сестра Мэри знала, что она и Джон любят друг друга, хотя вслух об этом не говорили. Миссис Смит твердо держалась позиции: «Если не обращать внимания, тогда все пройдет». Но отец понимал, что вовсе не пройдет. В его присутствии Абигейл и Джон чувствовали себя свободно, раскованно, держались за руки и беседовали, не скрывая своих чувств. Доверие отца прикрывало их. — Нэбби, к девяти часам мама заснет. После этого дом в твоем распоряжении. Гостиная или моя библиотека, если предпочитаешь. Все молодые пары должны иметь возможность побыть наедине, когда они ухаживают друг за другом. Прошу об одном: не засиживайтесь за полночь. Ты должна выспаться, чтобы хорошо выглядеть, иначе мне от мамы достанется. Она ласково положила ладонь на руку отца, наклонилась и поцеловала его в щеку. — Спасибо, папа. Ты же понимаешь, как много значит для меня твое одобрение? Не быть скрытной? Но должна сказать, мой преподобный мистер Смит, вы меня удивляете. Не низложат ли тебя за такую ересь? В глазах отца появилась тревога, как это случалось, когда она неожиданно заставала его в поле. Он подвел ее к креслу, предназначавшемуся для прихожан, около большого письменного стола, а сам сел в кресло священника. — Моя дорогая мисс Абигейл Смит, я должен кое-что сказать тебе как твой пастор. Я не могу излить мои чувства в молельне, но здесь, в тиши кабинета, могу это сделать. Более того, обязан, ибо люблю тебя. Она сидела как вкопанная, поражаясь серьезности его тона, и заметила глубокие морщины на его лбу. — Неверно, что пуританин отрицательно относится к физической любви, к страсти между мужчиной и женщиной. Нет истины в громоподобных заявлениях с кафедры, что половая любовь греховна, если не предназначена для продолжения рода; что она — зло, что она — отвратительна и дело рук дьявола, за которое ее соучастники будут наказаны своей совестью или общиной. Дочь моя, плотская близость между любящими друг друга людьми — одно из наиболее благородных деяний Бога. Дьявол, если таковой есть, может унизить любовь, если женщина продает свое тело за деньги или же если мужчина возбуждается благодаря опьянению или религиозному экстазу, как было во времена Великого пробуждения. Мы, пуритане, — здоровое племя, хотя имеются и такие, кто хотел бы уничтожить радостный дар жизни. Разумеется, мне не нужно добавлять, что предназначение должно проявить себя в надлежащее время. После свадьбы ты не должна допускать, чтобы ваша страсть друг к другу ослабела. Она опустила очи долу, будучи не в состоянии вынести выражение скорби на лице отца. — Я хочу, чтобы ты была счастлива во всем, Нэбби. Тот же самый акт любви, творящий детей, может создать им счастливый очаг. Читая всю жизнь Священное Писание, я пришел к убеждению, что такова воля Господня. На ее глаза набежали слезы. — Спасибо, папа. Она не сказала ничего Джону Адамсу о разговоре с отцом; достаточно того, что отец предоставил им укрытие для спокойных бесед, изучения мыслей и чувств друг друга, чтобы потом так же бесхитростно, как осенний дождь, упасть в объятия и поцеловаться, словно соприкосновение губ может подтвердить сверкающую ценность и красоту, зримую в их глазах. Однажды она спросила: — Как думаешь, сколько раз мы целовались? — За каждый, полученный мною, я отдал, по меньшей мере, два или три миллиона. Итак, счет в огромной степени в мою пользу. В полночь, когда прохладное весеннее небо было усыпано звездами, она проводила Джона, подождав, пока он ловко сядет в седло, а затем неторопливо поднялась в свою спальню с чувством любящей и любимой. Сестра Мэри должна была выйти замуж за Ричарда Кранча в ноябре. До этого не могло быть и речи о браке Абигейл. По той же причине Джон не привозил ее в Брейнтри, чтобы представить своей матери и двум братьям. Время от времени он писал ей вычурные записки юридическим языком:«Я получил наилучший совет по вопросу о Вашей судьбе и нашел, что Вы не можете заставить меня заплатить, если только не откажусь от брака, чего я никогда не допускал и не сделаю, напротив, я готов стать вашим в любое время».Он не был, конечно, готов; и она знала это лучше самого Джона Адамса. Порывистый в любви, он был консервативным в финансовых делах: законченный дом и действующая ферма, обеспеченная юридическая практика — вот что должно предшествовать осознанному браку. — Боги должны меня ревновать, — заметил он летом, — с тех пор как я влюбился в тебя, я полностью отошел от суда. О, у меня было несколько второстепенных дел. Сейчас, когда мне больше чем когда-либо нужны деньги, я их делаю меньше и никогда не был так счастлив. Чем не добрая бессмыслица? Абигейл не спешила. До свадьбы Мэри оставалось полгода. По всей вероятности, через год, когда ей будет девятнадцать лет, а Джону двадцать восемь, они также будут готовы. Поскольку она раз и навсегда намеревалась выйти замуж за Джона, она дорожила оставшимися беззаботными днями. — По-твоему, выходит, мир потерян для любви? — Не совсем, дорогая: это означает, что любовь делает мужчин идиотами. Слышала ли ты когда-нибудь о жителе Новой Англии, который был бы счастлив, не делая деньги? Это невозможно, как невозможно жить не дыша. И чтобы доказать, что мой мир перевернулся вверх тормашками, я трачу даже не заработанные мною деньги. — Ну, это серьезно, — сказала она, передразнивая его с суровой миной. — Нужно узнать, нет ли у кузена Коттона снадобья, чтобы излечить тебя. Солнце припекало, но бриз с моря веял холодком, когда они отправились верхом в Брейнтри. Джон поставил лошадей в сарай, такой же заброшенный, что и окрестные поля, как заметила Абигейл на пути к ручью. Дом, который Джон Адамс-старший завещал своему первому сыну, сдавался в аренду доктору Элиша Сэвилу, чья жена была родственницей Джона Адамса. Семья Сэвил не занималась обработкой полей. Оба берега ручья заросли кустами имбиря, ивами, ольхой, вереском. — Я нанял соседа вырубить и сжечь кустарник. Потом я осушу болото, поставлю каменную ограду и засею расчищенную площадь клевером. Посмотри, как захирел яблоневый сад. Нужно обрезать деревья, выкорчевать пни. Но в первую очередь я намерен купить столбы и жерди, чтобы отгородиться от дороги, ручья, моего дядюшки Адамса, чья ферма примыкает к нашей, и моего брата Питера, унаследовавшего нашу большую ферму. — Забор, чтобы отгородиться от брата? Но ведь ты его любишь. — Заборы подобны законам, — торжественно ответил он, — поставьте их правильно, и они будут прививать честность и справедливость. Каждый знает, где он сам и где его поле. Отбившаяся лошадь и случайный аргумент не в состоянии тогда вызвать тяжбу. Мне нравятся заборы. Они начали взбираться на Пенн-Хилл. На полпути выехали к роднику, бившему из расщелины в большой плоской скале. Абигейл набрала в ладони воду и выпила ее. Вода была прохладной и вкусной. — Считается, что она очень хороша, — сказал Джон, — ручей берет начало в горах и течет на север. Перед ними простирались Джермантаун и залив Хэнгем. На зеркальной глади воды виднелись белые паруса небольших барок. Джон приблизился к Абигейл, прикрывая ее от довольно сильного ветра, и, одной рукой описывая широкие круги, показывал, где посеет кукурузу, посадит картофель, капусту, где высадит дикую черешню: ягоды можно будет продавать на рынке, а древесину — столярам. С вершины Пенн-Хилла открывалась чудесная панорама островов в гавани Бостона и часть города, не отгороженная высотами Дорчестера. — Звучит весьма честолюбиво. Но ведь потребуется время? А ты хороший фермер? — Потребуется время. Что же касается меня как фермера, то я хотел им быть еще в двенадцать лет. Я очень любил своего отца, и если бы фермерство отвечало его призванию… Но церковный староста Адамс был мудрецом; он заставил меня завершить обучение и отправил в Гарвард. Благодаря ему я могу теперь быть и адвокатом и фермером. Одно будет давать мне силы для другого; когда устану и заболею от множества книг и судов, я смогу восстановить силы, распахивая поле. — В таком случае хорошо. Я стану женой фермера. Вилли научил меня доить коров, Феб — сбивать масло и варить сыр. Я умею заготавливать солонину. На вершине холма стало холоднее. Они спускались вниз размашистыми шагами по извилистой тропинке, по шаткому мостику, перекинутому через ручей, а затем, расседлав лошадей, вошли через заднюю дверь пристройки в его кабинет, где служанка оставила чайники и кувшины с горячей водой, прикрытые стегаными колпаками, а также поднос с теплыми пончиками и ежевичным джемом. Пока Абигейл разливала чай, Джон принес сверху стопку недавно купленных им книг. Она заметила, как гордо держал он книги, на глазах превращаясь из фермера в ученого. В июне он отправился на выездную сессию суда, открывшуюся в Таунтоне. Он старался скрыть возбуждение, вызванное перспективой поездки, а также легкую грусть. — Я вряд ли получу какое-нибудь дело, — объяснил он, увидев, что она пытливо разглядывает его лицо. — Я еще слишком молод и неизвестен. Более опытные адвокаты привлекут к себе клиентов. Однако я многому научусь, наблюдая за процессами. Вряд ли я смогу написать тебе письмо, но привезу полный отчет. Элизабет Смит еще не осознала, что Джон Адамс ухаживает за ее дочерью, а та отвечает ему взаимностью. После отъезда Джона в манерах матери исчезла натянутость, Абигейл восприняла это как первый безошибочный признак, что мать знает о происходящем. И Абигейл чувствовала себя кающейся: она не хотела неприятностей для семьи. Она хотела бы обсудить назревавший вопрос, но миссис Смит не сдавалась. С ее точки зрения, сражение еще не было проиграно. — Мама, мне следует заняться моим приданым. У Мэри уже полный комплект белья, и она предлагает свою помощь. — Разумеется, Нэбби, мы все поможем… когда придет время. — Большинство девушек начинают в четырнадцать лет. — Ты еще слишком мала. — Когда почти восемнадцать? — Я говорю о твоем здоровье, дорогая. Сотни часов, что ты провела за ткацким станком… — Целый год у меня не было даже насморка. — Потому что мы бережем тебя. Абигейл сдержала улыбку, вспомнив о том, как она и Джон прочесывали лес, взбирались на скалы, проводили многие часы на охоте, что так нравилось Джону. — Через несколько месяцев Мэри выйдет замуж. Придет и моя очередь подумать о муже. — Увидев болезненную гримасу на лице матери, умевшей контролировать свои чувства, она уткнула свое лицо в плечо пожилой женщины. — У меня также должен быть дом, дети, моя собственная жизнь. — Вспоминая одно из шутливых описаний Джона, она спросила: — Ты ведь не хочешь, чтобы у меня сложился характер и привычки старой девы? Миссис Смит вздрогнула, погладила дочь по голове. — Нет, моя дорогая Нэбби, я не позволю тебе остаться старой девой. Я прошу только о двух одолжениях: чтобы ты вышла замуж в свое время и за подходящего мужчину. — Но ты доверишься моему выбору? Элизабет Смит посмотрела дочери прямо в глаза. Абигейл выпрямилась во весь рост, ее карие глаза сверкали. Если бы перед ней было зеркало, она увидела бы, что стоит так же прямо и величественно, как ее мать. Миссис Смит моментально сникла. — Хорошо, мы начнем со столового полотна и полотенец. Сделай как можно больше, остальное купи в Бостоне. — Нет, мама. Все, что может быть соткано и сшито, я сделаю сама. Итак, начнем ткать мои простыни, подушки и одеяла. Если я не стану старой девой, то у меня должна быть свадебная постель. Миссис Смит повернулась к ней спиной. — Абигейл, понимаю, ты полагаешь, что логика на твоей стороне. Но все больше и больше ты говоришь как крючкотвор-адвокат.
12
Это была временная передышка, позволившая сохранить внутреннее спокойствие. Ее мысли не отрывались надолго от Джона. Тем не менее было хорошо остаться на какое-то время в одиночестве, разобраться в своих чувствах после месяцев страстного ухаживания; иметь возможность поехать с Билли в Бостон, помочь ему устроиться у дядюшки Исаака и понаблюдать, как он начинает свое обучение ремеслу на дядюшкином складе; заниматься с Мэри закупками медной посуды и тарелок; провести дружеские часы с младшей сестрой Бетси. Абигейл свободно передвигалась по дому и ферме, набираясь опыта в тех хозяйственных работах, которые ей придется выполнять в своем собственном доме. В кухне она положила два длинных шеста на стулья, к шестам прикрепила свечные стержни, к каждому из которых были привязаны по восемь крученых фитилей. Когда сало в горшочках растопилось, она опустила в него фитили; вынимая их и давая застыть салу, она повторяла эту операцию столько раз, сколько требуется для получения свечей нужного размера. В другие дни она варила мыло из жира и древесной золы, накопившейся в каминах, добавляя щелок. В конечном счете она изготовила бочонок мыла из шести бушелей золы и двадцати четырех фунтов жира. Мать помогла ей усовершенствовать технику изготовления пряжи из льна и шерсти. Мэри, любившая рукодельничать, научила ее вышивать на пяльцах. Феб показала, как мариновать красную капусту, зеленые грецкие орехи, барбарис, рыбу и варить варенье, чтобы оно не бродило и не прокисало, когда откроют крышку. Том даже научил ее, как извлечь птичье перо для письма с помощью чулка, надетого на голову гуся, чтобы он не ущипнул. Отец поделился с ней опытом засолки трески и копчения ветчины и оленины. Она набила руку в приготовлении густого супа с перловой крупой и говядиной, пекла пироги в печи, которая занимала часть кирпичной стены по соседству с открытым камином. Появившийся через три недели Джон Адамс, казалось, тоже был доволен разлукой; во всяком случае, после недельных путешествий и общения с молодыми друзьями-юристами он вернулся домой посвежевшим. Они сидели на решетчатых качелях в прохладе заднего крыльца, выходившего на холмы Уэймаута. Его губы сдвинули ее мягкие волосы назад от уха. — Я забыл, какая ты милая и как приятно быть с тобой. Несомненно, ты не тратила время, предаваясь тоске обо мне. Ты стала пухленькой, как куропаточка. — Это результат спокойной жизни, советник. Папа закармливал меня, мама заботилась об отдыхе. Они, видимо, боялись, что мне предстоит суровая зима. — Предстоит, дорогая, предстоит. Любить любому из нас никогда не будет легко. Но любовь будет прочной. Разве плоха такая сделка с сатаной? — Я должна посоветоваться со своим адвокатом. Говоря о юриспруденции, как оценивают тебя? Озорная улыбка загнула уголок его губ, затем опустила другой. — Я заработал жалкие крохи. — Поскольку ты не выглядишь несчастным, полагаю, что вернулся с некоторым запасом знаний? — О да, кое-чему я научился! — Его голос звонко звучал в ночной тишине. — Но скорее о судьях, чем о законе. Знать судей столь же важно, как положения суда. Немногие из них имеют юридическую подготовку, особенно работающие в деревнях. Поверишь ли, Нэбби, ни один из судей не счел себя обязанным объяснить свое решение по делу! Я сказал — по делу? Нужно сказать — по беспорядку. — Ты должен взять меня на какое-нибудь дневное судебное слушание. Например, в Таунтоне. Джон посмотрел на нее, пытаясь понять, говорит ли она серьезно. Ему была свойственна живая речь. Годы практики позволяли ему воссоздать бурные краски и шум толпы, собравшейся на базаре в рыночный день: адвокатов, клиентов, сутяг, обвиняемых, набитых в душные камеры судов; непрерывный приток селян с утренними покупками, втиснутыми в корзины, ради того, чтобы получить развлечение, слушая тяжбы соседей. Он рассказал ей о судье, который, усматривая намек на мятеж против королевского правительства, не раз пресекал попытки его друга Роберта Трита Пейна вызвать свидетелей со стороны короля. — Поверишь ли ты, что судья был против перерыва заседания на час, чтобы заслушать приговор присяжных заседателей, но требовал, чтобы жюри оставалось на месте всю ночь до следующего заседания суда утром? Летом было мало юридической работы, но у него все же нашелся один клиент — поселок Брейнтри. — Самый лучший клиент для начинающего юриста, — уверял он ее, — хотя мои услуги, как и услуги других, бесплатные. Он с удовольствием рассказывал ей о своей работе. Южные общинные земли были сданы на несколько лет в аренду различным фермерам, но поступления в казну городка были значительно меньше, чем раздражение тех, кто добивался аренды, но получил отказ. Между тем Брейнтри нуждался в фондах для прокладки новых дорог, строительства школ и помощи бедным. Джон Адамс вместе с двумя другими жителями был назначен полномочными гражданами Брейнтри в группу, призванную найти решение этих двух проблем. — Наше предложение было простое: разбить южные общинные земли на участки и продать их на открытых торгах. Полученные средства передать на нужды города. Когда доклад комитета был принят, Джон Адамс был «назначен и получил полномочия составить акт передачи имущества и гарантий, касающихся южных общинных земель». Он был доволен собой, признавшись Абигейл: — Это хорошо вдвойне: как первое признание, что я единственный опытный адвокат в Брейнтри, и как шаг к тому, чтобы занять место отца в качестве выборного лица. Ох, год или два нужно подождать. Я не хочу, чтобы старые члены думали, будто меня толкают амбиции… хотя ты знаешь, что это так.Наступила осень, и с первого объявления в церкви о предстоящем событии в проповеди преподобного мистера Смита, напомнившего Святое благовествование от Луки, она втянулась в водоворот подготовки к свадьбе Мэри. Преподобный Смит провозгласил: «А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». На церемонию явилась значительная часть жителей Уэймаута: церковные старосты, старейшины, выборные лица, старые друзья по конгрегации, а также сотня различных Куинси, Нортонов, Смитов со всего Массачусетса. Феб и Том командовали служанками, разносившими на подносах копчености и дичь. В доме священника танцы не допускались, но ром был неотъемлемой частью жизни Новой Англии, как и соленая треска; а когда были выбиты пробки на бочонках, мужчины принялись рассказывать непристойные истории округа Суффолк, как всегда бывало на свадьбах. Джон Адамс пришел в дом пастора вместе с Коттоном Тафтсом. До полудня он старался не показываться на глаза миссис Смит, а кончил тем, что получил от нее благодарность за то, что спас Мэри от молодых парней Уэймаута, пытавшихся ее умыкнуть. «Кража невесты» была излюбленной шуткой в Массачусетсе. Если бы мужчинам удалось затащить Мэри в соседнюю таверну, где закуски и выпивка стояли на столе, а музыканты были готовы играть всю ночь, Ричарду Кранчу пришлось бы оплатить такой разгул, а Мэри отложить свою первую брачную ночь. Предупреждение Джона позволило молодоженам благополучно добраться до своего нового дома в Джермантауне. — Как ты узнал о заговоре? — спросила Абигейл. — Я не могу раскрыть мою систему шпионажа. Но могу рассказать историю, которую услышал в комнате, где собрались джентльмены, чтобы «подогреть настроение». Появился один из давних приятелей моего отца, старый Горн, который в юные годы моего отца был адвокатом, — он играл роль насмешника и шута. Он остановил рыночную девицу в районе Нек и спросил, не может ли он потискать ее. В ответ она сказала: «А что это даст? Какая будет польза?» Старина Горн ответил: «Ты потолстеешь». — «Будь в таком случае добр, — сказала девица, — потискай мою кобылу. Она страшно тощая». Когда ушел последний гость, Абигейл надела свое теплое пальто и пошла с Джоном к коновязи, где стояла его лошадь. Их прощальный поцелуй был затяжным. Она раздумывала: — Уйду ли я с ним в следующем году?
13
Преподобный Смит разобрал перегородку в спальне девочек и убрал койку Бетси. Это порадовало Абигейл. Бетси была милым ребенком, не таким анемичным, как Мэри, и не таким неугомонным, как она сама. Идя по стопам Билли как баловня семьи, Бетси не была близка со своими старшими сестрами. Теперь, оказавшись с Абигейл в одной постели под балдахином, она воскликнула: — Как приятно в конце концов быть с сестричкой! До этого меня словно окружали три мамы! После свадьбы Мэри Абигейл поняла, что не считаться со временем нельзя. Ей пришлось заняться составлением списка приданого, внушительным перечнем простыней, внесенных ею в реестр, — одним словом, всем, что будет нужно ее будущей семье в течение доброго десятка лет. Как положено претенденту на руку и сердце дочери, следующей на выданье, Джон Адамс также приобрел деловую жилку. Он взялся за судебные дела о невозвращенной находке, о выселении, о подтверждении завещания. С началом 1763 года его поездки в Бостон стали приносить плоды. Он работал вместе с наиболее талантливыми массачусетскими адвокатами: Джеремией и Бенджамином Гридли, Оксенбриджем Течером, Бенджамином Кентом, Робертом Окмюти-младшим, Сэмюелом Фитчем, разрабатывая четыре правила, которые должны быть представлены судьям, с тем чтобы никто не мог участвовать в процессе, не принеся присягу и не имея лицензии. Он не скрывал своей радости. — Это делает нашу адвокатуру профессиональной. Мы получим шанс установить этические нормы и юридическую процедуру. Его радость была недолгой. В первую неделю февраля он возвратился из Бостона помрачневший от разочарования и ярости. — Надули! Одно ядовитое дуновение Отиса — и вся система рассыпалась в прах. — Твой друг Джеймс Отис, который помог тебе принести присягу? Ты считал его лидером в политике и в юриспруденции. — Больше не считаю. После того как Гридли зачитал судьям наши правила, назвав их «нормами, не допускающими исключений, согласованными адвокатурой», поднялся Отис и заявил, что не голосовал за подобные правила, что они направлены против юриспруденции и против прав человека. Судьи отвергли нормы. От нас выступил Течер, воскликнув: «Кто проголосует за то, чтобы он получил пост старше полицейского, достоин анафемы!»Абигейл не могла сказать точно, когда начались малоприятные изменения. В эту весну он работал крайне напряженно, и если она реже, чем прежде, встречалась с ним, то полагала, что вызвано это постоянными поездками в Бостон. При встречах он был по-прежнему страстным, но обходил в разговорах дату свадьбы. Быстро наступило лето, жаркое и расслабляющее. Хотя Джон часто бывал мрачным, он не скрывал своего удовлетворения, когда в «Бостон газетт» в номере от 18 июля был опубликован его очерк по сельскому хозяйству за подписью Хемфри Плафджоггера.Использование псевдонимов стало обычной практикой. Она знала, что он старательно учится и, появляясь в Уэймауте в конце недели, привозит книги в своей седельной сумке. Абигейл не была склонна к сомнениям и беспокойству. Она чувствовала себя превосходно с тех пор, как заявила: «Я люблю», и в ответ услышала: «Ты любима». У нее было достаточно энергии и уверенности, чтобы не обращать внимания на то, что Адамс спокойнее смотрит на их взаимоотношения. Она не подавала вида, заметив некоторое охлаждение его пыла. Она знала, что он все время беспокоится о деньгах. Массачусетс понес финансовые потери после окончания французской[11] и индейской войн. Несколько банков закрылись, денег было мало, и в суды передавались лишь неотложные дела. — Дело вовсе не в том, что я не могу заработать как юрист, — ответил он на ее робкий вопрос, — а в том, что у меня уйма крайне важных предназначений для каждого заработанного фунта: дом нуждается в покраске внутри и снаружи; надо отгородить комнату в пристройке и у южной стены выложить камин. В гостиной есть софа, а наверху нет никакой мебели. Ферма не станет самоокупаться, если я не расчищу новые поля и не пророю ирригационные каналы. Из Англии поступают книги, которые я должен купить. Они дорогие, но мне нужны, если я хочу знать больше других о праве. Кажется, что моим потребностям нет конца: растут быстрее доходов. У нее было больше понимания положения, чем возможности его утешить. Этот горький процесс будет бесконечным, ибо потребности Джона приобретать, улучшать, инвестировать, коллекционировать были столь же сильны и имели ту же самую причину, по которой он хотел знать больше, чем другие. Обнищание не означало для Джона Адамса, что у него не было средств на еду и крышу над головой, оно означало, что он не имел достаточно денег, чтобы немедленно реализовать свои надежды на будущее. При всем ее долготерпении Джон сумел ее расстроить. Однажды в августе он пообещал навестить ее, но не появился и не сообщил о причине. Она подумала, что заболел; он жаловался на расстройство желудка, применял рвотное для его очистки и неделями питался только молоком и хлебом. Она полагала, что если он на самом деле заболел, то поставил бы ее в известность. К вечеру она сильно разволновалась и не была уверена, сказал ли он ей: «Я приеду в Уэймаут в субботу», или же ей так показалось, поскольку он навещал ее по субботам. Она села за письменный стол в спальне и написала ему письмо:
«Уэймаут, 13 августа 1763 года Мой друг! Если бы я была уверена, что твое сегодняшнее отсутствие вызвано ожиданием компании или выполнением хорошей работы, я, признаюсь откровенно, была бы более спокойна, чем сейчас. Однако беспокойство возникает не по поводу невнимания или пренебрежения, а из-за тревоги, не заболел ли; ведь ты говорил, что только это может тебе помешать…»Ответа долго ждать не пришлось. Его привез Коттон Тафтс, возвратившийся из Бостона. У нее сердце оборвалось, когда она почувствовала формальный тон письма, не содержавшего ни приветствия, ни ласковых слов. Он не приехал потому, что в субботу и воскресенье его навестил старый друг. Записка заканчивалась обещанием, что будет послушным и приедет из Бостона в Уэймаут на следующей неделе. Ей не понравилась фраза «будет послушным». Он приедет к ней потому, что она этого потребовала! Она мысленно ссорилась с ним, и ее раздражение проявлялось в резких движениях, когда она занималась домашними делами. Но к концу следующей недели вновь восторжествовал присущий ей здравый смысл. Она больше не думала об инциденте и, следовательно, была не подготовлена к его письму из Джермантауна, написанному в следующую субботу утром в комнате для гостей в доме ее сестры Мэри. Он не продолжил путь от Джермантауна до Уэймаута, потому что «плавание на весельной лодке и пеший переход между ними обескураживают уставшего путешественника». Ей не нравились потуги продемонстрировать душевную теплоту. Если бы не завершающая патетическая фраза: «Твой с понурой головой Дж. Адамс», то она обозлилась бы настолько, что была готова оседлать коня, поехать в Джермантаун и отстегать его кнутом. Но она выждала две недели и только после этого написала:
«Тебе доставило удовольствие сказать, что получение письма… всегда радует тебя. Было ли это комплиментом (признаюсь, ты не падок на них) или истиной, тебе лучше знать. Однако если мне дозволено судить о сердце некоего лица на основании того, что доходит в мой кабинет, то я была бы склонной считать сие истиной. А почему бы и нет? У меня часто появлялся соблазн полагать, что комплимент и истина отлиты в одной и той же форме лишь с той разницей, что твоя отливка из более прочного металла… А. Смит».На следующей неделе Джон приехал в карете и взял ее с собой на заседание суда в Уорчестере. Дорога была неровной: камни да ямы. Абигейл боялась, что у нее оторвется голова. Она шутила: — Надеюсь, что семейная жизнь не похожа на эту поездку. Чувствуя свою вину, он наклонился и поцеловал ее. — Ты права, упрекая меня, но, подобно ангелу, сделала это так ласково. Ты могла бы поколотить меня. — Я полагала, что я… поступаю, как леди. — Тогда будь уступчивой еще раз. — В связи с чем? — С нашей свадьбой. — В скором времени? — Немножко рановато, — жалостливо взмолился он. — Я имею в виду ноябрь. Мне нужно больше времени. Она повернулась к нему, ее лицо было бледным. — Джон Адамс, ты не подсудимый. Я буду благодарна тебе, если перестанешь говорить мне о свадьбе, коль скоро ее перспектива бросает тебя в дрожь. Для меня брак — святое дело. Я вовсе не хочу, чтобы меня гнали в него толчками, как на этой дороге. — Тебя не станут вталкивать. У меня хорошие виды на зимние и весенние судебные процессы. — Думаю, нам лучше найти процесс восстановления любви. — Я люблю тебя, Нэбби, и буду всегда любить, хотя тебе придется и пожалеть об этом. — Думаю, не пожалею, — решительно сказала она. — В моем представлении ты никогда не был идеальным. Но не сможешь ли реже ходить с понурой головой в предстоящие месяцы?
14
Они договорились о свадьбе в феврале, но сильная вспышка оспы нарушила их планы. По мнению доктора Коттона Тафтса, эпидемия могла стать по всем признакам столь же смертоносной, как в 1721 году, когда более половины населения Бостона оказалось ее жертвой. Та, более ранняя, эпидемия подтолкнула и к доброму делу: доктор Забдайл Бойлстон, родственник Абигейл и прадедушка Джона, сделал в Бостоне первые прививки, к чему его подвигли видные священники — Инкриз и Коттон Матер. Против выступили все другие врачи города, а также выборные лица, приказавшие ему не делать прививок из-за опасений, что они приведут к распространению болезни. Стоически уверенный в своей правоте, доктор Бойлстон сделал прививки двум своим сыновьям шести и тринадцати лет, а затем более двухсот сорока прививок тем, кто, страшась смертельной болезни, поверил ему. Почти тысяча отказавшихся от прививки скончались всего за несколько месяцев. А среди тех, кому доктор Бойлстон сделал прививки, погибли лишь шесть человек. Через тридцать лет, во время эпидемии 1752 года, когда заразилась треть населения города, число жертв среди двух тысяч, кому сделали прививки, было столь мало, что пришлось признать правоту доктора Бойлстона и священников Матеров. Абигейл и Джон обедали с ее кузиной Коттон и тетушкой Люси в январский ветреный вечер, когда объявился Коттон. — Бостонской эпидемии требуется всего лишь несколько часов езды на лошади, чтобы оказаться в Уэймауте и Брейнтри. Джон, вы и я бываем в Бостоне каждые несколько дней. Мы можем подцепить оспу, притащить ее сюда и заразить всех в округе. В Бостоне открыты два частных госпиталя с квалифицированным персоналом. Я пойду туда, чтобы пройти полный курс лечения: прививка, нагноение, диета и медикаменты, заживление язвочки и выздоровление. Думаю, и вам следует пойти. Избавясь от оспы, я проживу сто лет. — Если не упадешь с лошади. — Почему я должен упасть с лошади, Джон? Я достаю ногами до земли с обеих сторон. Когда человек отпускает плохую шутку насчет чего-то, он, вероятно, делает эта из-за собственной боязни. Нэбби, я собираюсь предложить твоему отцу взять с собой в госпиталь Билли. — А как насчет меня, кузен Коттон? Доктор Тафтс уставился на нее, затем пробормотал: — Нет. Женщинам не делают прививок. — Но они могут заболеть оспой и умереть. — И умирают. — Если это так важно для тебя, Джона, Билли, Сэмюела и Джошиа, то почему не для тетушки Люси и меня? Доктор провел языком по нижней губе. — Где может женщина лечиться? Госпитали только для мужчин. — Должна сказать, ты меня разочаровываешь. Половина из вас так же консервативны, как врачи, против которых вы боретесь. — Верно. Я лишь наполовину герой. Но и это что-то значит, не так ли? Она поднялась, обошла вокруг стола и обняла длинную, как у гуся, шею кузена. — Прости меня, дорогой кузен. Джон Адамс не прислушивался. — Ты прав. Поскольку я совершаю большие объезды, мне вдвойне нужна защита. Но я не могу заняться этим сейчас. Мне предстоит уладить пару дел. К середине февраля… Я возьму также брата. Сколько времени требует вся процедура? — Зависит от того, как умно себя поведешь. Три-четыре недели в госпитале, еще две-три дома для выздоровления, не принимая посетителей. — Он бросил быстрый взгляд на Абигейл. — На самом деле никого! Эта проклятая болезнь передается даже на последней стадии. Абигейл принялась считать на пальцах, спрятанных в подоле платья. По выражению лица Джона Адамса она поняла, что он также занимается подсчетом. Через шесть — восемь недель наступит середина апреля.Больницы Бостона были полны, а врачей крайне не хватало. В какой-то момент показалось, что эпидемия оспы отступает. Затем она вновь усилилась. Из небольших городков Массачусетса были посланы в Бостон около двадцати врачей для проведения прививок. Коттон Тафтс поехал первым после такой суровой диеты, что, как заметил Джон, его свалит с ног даже небольшой порыв ветра. Лишь 13 апреля Джон наконец отправился в Бостон. — Сожалею о задержке, — объяснял он. — Мне пришлось выжидать составления судебных повесток. Я хотел накопить деньги на расходы. — Ты не мог знать, что они никогда не попадут в суд. — Мне не разрешат изучать дела и работать. Моим главным занятием будут письма к тебе. Она не сознавала, как натянуты ее нервы, пока не села писать письмо кузине Коттон, чтобы передать ей вести из дома Тафтса. Ее тетушка страдала зубной болью, да и в любом случае не любила писать письма. Она попросила Абигейл написать Коттону:
«С момента Вашего отсутствия я была очень прилежной и посещала Вашу жену почти ежедневно. Она поручила мне написать Вам от ее имени, но я сказала, что у меня нет в настоящее время склонности… переписываться с любым мужчиной на правах жены. Кроме того, у меня не было мужа и я не знаю, как в таком случае обращаться».Она откинулась на спинку стула и подумала: «Не очень-то вежливо с моей стороны. Прочитавший это чужой человек может вообразить, что я жалуюсь, а это ведь не так». Она размечталась, фантазировала, будто Джон Адамс не затягивал свадьбу. Разве ожидание — потеря? Не может того быть, иначе что было бы с чудесным словом «терпение»? Им было трудно разлучиться, особенно в связи с тревожными письмами Джона до его отъезда из Брейнтри. Его контора неожиданно стала «притоном воров и сценой менял». Очевидно, его соседи предъявляли счета, полагая, что он умрет. Лишь его последнее письмо ободрило ее. Он закончил его словами «уважение, любовь и восхищение», которые способны поднять дух девушки в дни одиночества. Ее мать проявила нежность. Миссис Смит вошла в спальню Абигейл, когда та писала. Абигейл заколебалась, держа перо в руке. Мать оказалась на высоте, сказав: — Передай мистеру Адамсу мои наилучшие пожелания. Абигейл импульсивно обняла мать. — Ты добрая и заботливая, я люблю тебя. — Я также люблю тебя, моя дорогая, хотя порой ты слегка сомневалась в этом. Я прошу тебя только об одном: удостоверься, что Том тщательно обкуривает все письма мистера Адамса, прежде чем ты их вскроешь. — Мистер Адамс сам обкуривает их. Ей сделали прививку в его отсутствие, Джон Адамс выполнил свое обещание и описал ей все подробности операции. Доктор Перкинс надрезал ланцетом кожу на левой руке, подождал, когда выступит кровь, а затем ввел зараженную иглу в ранку. На царапину была наложена ватка, на нее мягкая ткань, и все это — забинтовано. Брату Джона такую же операцию сделал молодой врач по имени Джозеф Уоррен, по описанию Джона, «красивый, высокий, вежливый, бледнолицый… джентльмен». Им дали некоторое количество красных и черных пилюль, а затем позволили бродить по дому, под крышей которого находилось десять человек, не получивших прививки. Она посылала Джону табак, свежее молоко, яблоки. Он успешно выдержал «приступ дрожи и приступ высокой температуры, потерю аппетита» и оспу, какой он мог похвастаться: «Около восьми — десяти язвочек… две из них на лице, остальные рассыпаны по телу. Они подсыхают хорошо и регулярно». Когда он вернулся в Брейнтри, то его заперли в комнате материнского дома. Было тяжело не видеть его, даже через окно. Наступило лето, прежде чем они встретились. Энергия бурлила в нем, когда он прижимал ее к своей груди. Они снова уселись на уголок софы в гостиной дома священника, она положила голову на его плечо. — Восхитительная мисс, позвольте мне убрать с пути неприятное, прежде чем перейдем к приятному. Ты помнишь, что некоторые из моих… ну, оппонентов в Брейнтри перед моим отъездом в Бостон приставали ко мне из-за денег. Это и стоимость госпиталя в Бостоне… у меня почти не осталось наличных средств. — Деньги! Они вечно требуют пополнения. Так будет всегда? — Нет. Я намерен добиться самой выгодной практики в Массачусетсе. У меня несколько важных дел к осенней сессии суда. Начнем немедля приготовления. Я подберу солидную мебель в Бостоне по твоему вкусу. Мы поищем в округе хорошую девушку, которая будет жить у нас и помогать тебе. — Когда, по твоему мнению? — спокойно спросила она. — Скажем… октябрь? Конец октября. К этому времени я встану на ноги и у нас будет все, что требуется для начала. — Во всяком случае, ты так хочешь.
Лето пролетело быстро. Элизабет Смит была верна своему слову и помогла Абигейл приобрести оловянную столовую посуду, стаканы, плошки, серебряные кувшины, прялку, внутренние решетки камина, мехи, чугунок с ножками, под который можно подгребать тлеющие угли. Джону удалось наскрести денег, чтобы купить для их северной спальни высокую кровать, шкаф, ночной столик, кресло и небольшие коврики на пол. Время было трудное для меблировки дома. Товаров не хватало, экономическое положение Англии и ее колоний было неблестящим. Задолжав более миллиона фунтов стерлингов, частично из-за французской и индейской войн в Канаде, Англия отчаянно нуждалась в средствах. В апреле 1764 года парламент принял закон о сахаре, снизивший налоги и одновременно установивший таможенную службу для сбора денег. Раздосадованный по поводу беспрецедентной жесткости со стороны родины-матери и считавший, что его права ущемлены, Массачусетс ответил тем, что отказался покупать все, что выращивалось и производилось в Англии. Свадьба была назначена на 25 октября. Абигейл решила провести пару недель в Бостоне, купить латунные и медные котелки, ткань для оконных занавесок. Из-за бойкота она не стала покупать английские материалы, а хороших американских тканей было немного. Она получила от Джона письмо, датированное 30 сентября. Он не смог купить остальную часть необходимой мебели, потому что его позвали дела, но он пошлет в Бостон возчика с телегой, и тот доставит в Брейнтри ее приобретения. Он продолжал:
«Завтра утром я отплываю в Плимут с нездоровым желудком, бледным лицом, больной головой и тревожным сердцем. И какая там будет компания? Ну, несколько сварливых адвокатов, пьяных мировых судей и бестолковых, назойливых клиентов. Если ты понимаешь это, моя дорогая, поскольку согласилась делить со мной судьбу, то подчинишься с меньшей неохотой разочарованиям и тревогам, которые могут встретиться тебе в собственных делах… Моя мама говорит, что ее прислуга хорошо послужит тебе… она не нужна ей этой зимой, и ты можешь взять ее, если нужно, и вернуть весной… Это предложение весьма разумно. И бережливость — это качество, которому ты и я должны научиться. Тем не менее я готов на любые расходы ради твоего удобства и комфорта, доступные для меня».Было очевидно, что он вновь впал в панику и напуган. В чем причина его несчастья: нездоровье, больная голова, тревога в сердце? Несмотря на то, что Джон часто соблюдал диету и жаловался на недомогания, он был крепок, как дуб. Если что и случилось, то просто он не заработал столько денег, сколько хотел. Она чувствовала, что, будь у него достаточно смелости, он попросил бы новую отсрочку, скажем, на три или шесть месяцев! Тогда уж, конечно, у него будут нужные средства. Но на сей раз было проведено слишком много приготовительных мероприятий; он не мог отступать назад, не обидев ее. Его боль чувствовалась в каждой строчке письма, несмотря на желание прикрыть ее словами о том, как он в ней нуждается.
«Ох, моя милая девочка, я благодарю небо, что следующая пара недель вернет тебя мне после столь долгой разлуки. Моя душа и тело выведены из равновесия твоим отсутствием, и один-два месяца разлуки превратили бы меня в самого толстокожего циника в мире. Я не вижу ничего, кроме недостатков, безумства, слабостей и пороков в тех, с кем в последнее время встречаюсь».В письме он предлагал ей взять к себе на зиму служанку матери по имени Джуда. Они и раньше обсуждали этот вопрос. Абигейл спокойно, но твердо сказала, что не одобряет эту идею. Она не сможет заставить служанку миссис Адамс делать так, как она хочет, слишком мало времени для обучения. Она не хотела быть должницей миссис Адамс из-за служанки; не хотела держать в своем доме девицу, которая станет распространять слухи. Джуда лишила бы Абигейл независимости. Она предпочитала обходиться вообще без служанок и работать сама, пока они не найдут хорошую девушку вроде Рейчел Марш — способной молодой женщины, ищущей постоянный дом. Джону все это было известно. Он согласился с ее доводами. И вот он снова поднимает вопрос. Конечно, она подчинится, ведь это не предмет для ссоры. На следующий день Абигейл получила еще одну записку, в резких выражениях критикующую ее за то, что она обменяла его секретер и стол на более дорогие. Она села за письменный стол в нише спальни тетушки. Она любила Джона Адамса, но понимала, что теперь должна быть откровенной и суровой с ним.
«Бостон. 4 октября 1764 Я весьма обязана тебе за заботу о помощи. Я готова пойти на некоторые неудобства, чтобы сократить твои расходы, которые, как мне кажется, были слишком высокими за последние двенадцать месяцев, и, хотя ты знаешь, что у меня нет особой любви к Джуде, все же, учитывая все, вместе взятое, поскольку твоя мама и ты считаете, что лучше ее взять, я больше не стану противиться. Телега, о которой ты писал, прибыла вчера, и я послала с ней столько груза, сколько потянула лошадь. Остальные мои вещи будут готовы в понедельник после твоего возвращения из Таунтона. И тогда, сэр, вы можете забрать меня, если хотите. Надеюсь, к этому времени восстановится Ваше здоровье и спокойствие духа… Действительно, кое-что меня расстроило: мне было предложено раздражающее, тогда как успокоительное лучше отвечало бы доброй цели…»Передав письмо в надежные руки, она легла в постель, ее зубы стучали от озноба. Ее тетка позвала доктора Джозефа Уоррена, о котором так высоко отзывался Джон Адамс. Билли сидел у ее изголовья, стараясь развлечь ее. Кузен Исаак-младший, красивый пятнадцатилетний мальчик с тонкими светлыми волосами, узким лицом и прекрасными зелеными глазами, читал ей по-французски. Она наслаждалась музыкой языка, хотя воспаленный ум не позволял внимательно следить за содержанием. Ее дядя гордился своим сыном, блестящим студентом, уже объявившим о готовности стать священником. Когда Исаак-младший вышел из комнаты, дядя сказал с довольной искоркой в глазах: — Хвастаться — плохая манера, Нэбби, мой брат Уильям воспитал сына, ненавидящего книги. Я же, не имея образования, получу священника, которого так желает иметь твой отец. Она послушно принимала пилюли доктора Уоррена и огорчалась, понимая, что тот был в отчаянии, будучи не в состоянии определить причину ее болезни. Она чувствовала себя ослабевшей и упавшей духом и сильно похудела. — Нэбби, дорогая, как, по-твоему, не следует ли послать весточку твоим родителям? — спросила тетушка. — И просить их отложить свадьбу? — Нет, тетя, мне станет лучше. — Но это так скоро, всего через пару недель. Доктор Уоррен не знает, чем ты больна. — Я знаю, чем больна, и найду способ вылечиться. Прежде всего вообще глупо болеть. Она просто поддалась нерешительности, панике и страхам Джона. Мысленно она вспомнила о первом дне, когда у нее возник интерес к Джону Адамсу. Она жаловалась кузине Ханне, что ей недостает «искр», и припомнила строку стихов доктора Юнга: «Друг стоит всех опасностей, которые мы можем встретить». Она спросила себя с прискорбием: «Какие опасности передо мной?» Теперь она их узнала.
КНИГА ВТОРАЯ ЭТО ЗАДИРИСТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
1
Абигейл уютно устроилась в своей кровати с балдахином на четырех столбах с полуопущенными занавесями, хранившими тепло от пронизывающего декабрьского ветра. В дальнем окне через неплотно задернутый занавес она видела, как кружились снежинки. Главная балка низкого потолка, покрытая темной морилкой под цвет верхней полки камина, нависала прямо над постелью и шла к похожему на иллюминатор окну, сквозь которое струился тусклый ночной свет. Под покровом стеганого одеяла ей казалось, что ее ложе напоминает судно, плывущее по морскому простору к новым причалам. Было за полночь, и Джон спал, ритмично дыша, а она лежала, прижавшись к его спине и любовно положив руку на его плечо. Ее голова покоилась на высоких подушках, и, глядя поверх Джона, она видела ярко горевшее полено, подброшенное им в камин перед тем, как лечь спать. Над камином возвышалась деревянная панель, которую Абигейл отскоблила от сажи, накопившейся за полвека, и она стала гармонировать с плитками камина. У боковых стен стояли такого же цвета комоды, а над ними висели английские репродукции охотничьих сцен. По обеим сторонам кровати стояли стулья для одежды и ночные столики со свечами и книгами, которые они читали перед сном. Она любила каждый уголок коттеджа. Но эта спальня была особенно дорога. От соседей в первые шесть недель замужества ей стало известно, что она не первая, а третья Абигейл в здешних местах с 1680 года, когда тут была построена первая хижина. «Но я вовсе не собираюсь быть последней», — подумала она. Угловую комнату за стеной Абигейл переделала в небольшой кабинет для себя. Там стоял французский секретер и книжный шкаф красного дерева, сделанный ее отцом. Сорок книг, принадлежащих лично ей, были аккуратно расставлены по жанрам: описания путешествий, подаренные дядюшкой Исааком, романы из личного собрания бабушки Куинси — «Памела», «Жизнь и необыкновенные приключения Робинзона Крузо» и политические книги, принадлежавшие дедушке Куинси, — «Государь» Макиавелли, «Идея о Короле-Патриоте» Болингброка, собрание проповедей ее отца, ее собственная коллекция книг по американской истории. Оборудовав свой кабинет по образцу алькова тетушки Элизабет и подобрав схожие занавеси для единственного окна, выходившего на задний двор с колодцем, помпой и турникетом, ведущим к более старому дому Адамсов, где родился Джон, она превратила его в уютную, уединенную обитель; здесь на столе лежали ее письма, домашние счета и недочитанные книги. От ощущения счастья она не могла заснуть. Свадьба устранила накопившееся бремя напряженности и условностей, ощущение пустой траты времени. Воплощение их любви было более восхитительным, чем она могла мечтать. Это был возвышенный, превосходный сплав плотского единения и духовного экстаза. Искренне любящие мужчина и женщина не знают ограничений в любви. Нежная и сильно возбуждающая физическая страсть, охватывавшая их каждую ночь, была жизненным даром, подобно урагану уносившему их в открытое море, а когда ураган стихал, они медленно и плавно дрейфовали к берегу, в укромный залив, где могли спокойно встать на якорь и заснуть в объятиях друг друга. Ей вспомнился день свадьбы. В семьях жителей Новой Англии вторая дочь испытывала те же трудности, что и второй сын. У первого сына было право поступить в колледж, а у первой дочери — право на пышную свадьбу. Дело не в том, что родители не могли устроить подобную свадьбу Абигейл, просто это считалось не только ненужным, но даже неприличным. На свадьбу приглашалось такое же большое число гостей, выставлялось почти столько же яств и напитков. Семья доказала, что она в состоянии организовать превосходное свадебное торжество — изобильное и веселое. Абигейл не придавала этому значения. Ей очень понравилась свадьба Мэри, но она была готова довольствоваться менее пышным празднеством. Ее тревожило другое: хотя в церкви было много родственников, друзей и соседей, на ее свадьбе не царило то чувство удовлетворенности, как на церемонии Мэри. Каждый желал ей благополучия, однако оставалось подспудное чувство, что привлекательная, страстная мисс Абигейл сделала не лучший выбор. Свадебная проповедь ее отца, основанная на Святом благовествовании от Луки, прозвучала как-то неловко. Когда он читал: «В нем бес», послышался приглушенный вздох, все опустили головы и повернулись. Уж не обвиняет ли преподобный мистер Смит прихожан за то, что они настроены против Джона Адамса? Или же согласен с ними? Невысказанные мысли витали в воздухе, впиваясь в стены молельни. Джон зашевелился в постели, слегка повернулся. Она приподнялась на локте, посмотрела на его умиротворенное лицо и вспомнила, о чем они говорили перед сном. — Как работает Джуда? — спросил он. Джуда работала нехотя; она довольно хорошо стирала белье, мыла полы и посуду. Но ей не нравилось, когда ее гоняли туда-сюда, из дома в дом. Абигейл узнала, что из-за Джуды между родителями Джона возникали ссоры, когда его отец, опекавший бедняков города, впервые привел в дом сироту. Она не хотела, чтобы это стало традицией. — О, с ней будет все в порядке, — ответила Абигейл. — Ты помнишь девушку, Рейчел Марш, которая так тебе нравилась? Я видел вчера ее опекуна. Похоже, он собирается отдать ее чужим людям. — Надеюсь, она останется здесь, пока ты не будешь готов… — Нет необходимости. Я был не прав. Мне не следовало навязывать тебе Джуду ради нескольких пенсов экономии. Я уже сказал маме и опекуну Рейчел. Мы можем привести ее домой завтра после утренней службы. Признав ошибку, я люблю исправлять ее как можно быстрее. Отныне, миссис Адамс, я занимаюсь правом, а ты — хозяйством. Она тепло поцеловала мужа. В первом противостоянии она успешно провела свою линию. — Странно, все вопросы, которые волнуют мужчину перед браком, — сказал он, — если их перечислить, займут не больше места, чем судебное резюме. — Быть может, потому, что мужчина волнуется перед свадьбой, а у женщины эта тревога приходит позже. — Ты встревожена? — Я так счастлива, и это меня пугает. — Шесть лет я пытался убедить Брейнтри, что предназначение адвоката — не создавать неприятности, но предотвращать их, а в худшем случае разумно улаживать. Я женился на тебе, и на следующий день люди стали верить мне. Женившись на тебе, я приобрел силу, которой мне не хватало в годы моих колебаний и неопределенности. Иногда мне безумно трудно понять странное существо, каковым я являюсь. Удивительно, что ты полюбила меня. — Я разглядела, что таится под твоей скорлупой с шипами. — Ты единственная, кто сумел понять это. — Можно ли сказать, что ты смирился с перспективой брака? — Видимо, скажут, что мои шипы срезаны, а брак сгладил мою шероховатость. Прижав ее к себе так крепко, что у нее перехватило дыхание, он прошептал ей на ухо: — Твоя любовь заставляет меня любить себя. — Твоя любовь заставляет меня любить себя, — вторила она.2
Она проснулась с первыми лучами тусклого зимнего света, проникавшими сквозь занавеси окна, выходившего на восток. Царила тишина. Она любила дом в такие ранние часы, когда могла неслышно двигаться и любовно прикасаться к личным вещам, к стенам, столам, серебряной посуде, ей было неловко выказывать свою привязанность к ним в дневной суматохе. Дощатый с односкатной крышей и кирпичной трубой дом был в два раза меньше особняка ее родителей в Уэймауте и не имел всех удобств. Втайне друг от друга ее отец и мать подарили ей значительную сумму денег, причем доля матери была большей, чем отца. Были также скромные подарки в пять — десять фунтов стерлингов от многочисленных тетушек, дядюшек и кузин. Но Абигейл берегла свои деньги: в Брейнтри могут обидеться, если она станет сорить деньгами и слишком быстро обустроит свой дом. Она старалась установить добрые отношения со своими новыми соседями. Не следовало торопиться с предполагаемым устройством и с приобретением новой мебели. Однако, придя в дом как миссис Джон Адамс, она с неподдельной гордостью полюбила скромный коттедж. Накинув на плечи теплый стеганый халатик и повязав лентой небрежно зачесанные назад волосы, она подбросила в камин полено, чтобы прогреть спальню к моменту пробуждения Джона, затем спустилась вниз в крохотную прихожую, по крутой лестнице, с которой было так легко упасть. По этой узкой лестнице ей приходилось несчетное число раз в день спускаться и подниматься. В пристройке к кухне все еще тлели угли, излучая тепло. Она положила на угли щепу и затем два полена из ящика для дров, стоявшего в углу. Когда вода согрелась, она вымыла руки и лицо душистым мылом, которое дядюшка Исаак вложил в пакет, как он говорил, «со всего мира» подготовленный для ее нового дома. Кухня представляла собой сравнительно недавнюю пристройку, длинную и узкую, ее деревянный потолок шел наклонно от внутренней стены к стене заднего дворика, где ее высота была чуть больше двух метров. В кухне была сложена плита с двумя подовыми печами по бокам, а в плите сделаны проходы для прогрева воздуха. Это помещение было разрешено Абигейл оборудовать по своему вкусу. Здесь она поставила чугунный котел для варки картофеля, большой котел для овощей, сковороды, вафельницу, тостер с длинными ручками; большой чайник и рашпер; кастрюльки с крышками, мелкие сковородки; латунные и медные настольные подогреватели на пару; котел для выпечки на ножках, позволявших ставить его на горящие угли; голландскую печурку, открытую с одной стороны к огню, с небольшой дверцей с другой; ухват, которым ставила посуду в печь, а в углу около плиты несколько таганов, где размещались котелки и кастрюли на нужной высоте над углями. Абигейл доставляло удовольствие возиться с новыми медными кастрюлями и приспособлениями к ним. Она часто обжигала пальцы, к тому же у нее не было навыков в пении гимнов, служивших способом отсчета времени, когда варились яйца и жарился бифштекс на углях. Вчера утром она пропела восемь стихов четвертого псалма слишком медленно, и яйца в мешочек, которые любил Джон, сварились вкрутую. В доме были единственные часы — напольные, громоздкие, и находились они в гостиной. Джон вошел в кухню с сонным видом, взлохмаченный, указательный палец его правой руки был погружен в книгу, словно закладка, отмечающая место, где прошлым вечером он кончил чтение. Она отрезала ломоть копченой ветчины, положила его на сковороду, а Джон приподнял ее волосы и поцеловал в затылок. Опустившись в плетеное кресло около печи, он наблюдал, как она смешала масло для пончиков, поставила сковороду в печь и стала напевать колыбельную, завершение которой обозначит, что пончики покрылись золотистой корочкой. — Будучи холостяком, я клялся каждую ночь, что проснусь на рассвете и стану читать. Мне запомнилось также солнце, светившее в лицо. Теперь, когда я достопочтенный женатый мужчина, то вижу себя изучающим при отблеске свечи очередную книгу в шесть часов утра в выстуженной комнате. Не потому ли это, что у меня честолюбивая жена? — Или слишком шумная. Мне никак не удается положить полено в камин спальни, не уронив его. — Не беспокойся, дитя мое. Как только ты выскальзываешь из постели, я пробуждаюсь одиноким и заброшенным. — В последнее время не замечала, чтобы ты просил меня вернуться. — Хорошо, одно из удовольствий жизни — горячий завтрак в морозное утро. Я все больше вхожу в роль избалованного гостя и, видимо, должен признать, что поступил мудро, женившись на тебе… — Он лукаво взглянул на нее. — И удивляюсь, почему так долго медлил. — Могу ли я напомнить тебе твой рассказ о невесте Б. Бикнола? «Утром она поражалась, почему она так боялась брака». Абигейл придвинула к очагу складной столик, достаточно большой для целой компании, а в сложенном виде уютный для завтрака наедине с Джоном. Вернувшись после завтрака в спальню, хорошо прогретую пылавшими в камине дровами, они стали одеваться, чтобы пойти на собрание. Абигейл надела новый бархатный плащ и шляпу, длинные белые перчатки. Побрившийся на кухне Джон гордо натянул на себя свадебный сюртук из чесучи, плащ и бриджи, теплые хлопчатобумажные чулки и ботинки с блестящими серебряными пряжками. Последним он надел белый парик. — Он меняет твой вид, — посетовала она, рассматривая мужа. — Ты выглядишь… официально. В Брейнтри посещение церкви в воскресное утро было формой общения. Звонарь рано ударял в колокол и звонил долго, вплоть до начала службы, поэтому у дальних прихожан было достаточно времени, чтобы дойти до церкви. На Коуст-роуд чета Адамс встретила чету Сет Манс и кузнеца Уизи. Под ногами хрустел снег, когда они догнали Сэмюела Кертиса, а впереди себя разглядели ближайших соседей с северной стороны — Фисков, а также семьи Миллер, Клеверли и Апторп. Они шли по дороге словно растущая в походе армия: через каждые несколько метров к ним присоединялись группы с чистенькими детишками, они забегали вперед, лепили снежки, бросали друг в друга, что запрещалось по субботам. Абигейл обменялась приветствиями с ее новыми соседями, держа с собственническим чувством руку Джона: теперь Брейнтри был ее городом и ее домом. К сожалению, фраза, прозвучавшая на свадебной церемонии, — «оставляя всех других», — подразумевала и ее любимый Уэймаут. Поселки находились друг от друга всего в трех милях, но с точки зрения привязанности это было все равно что проплыть три тысячи миль через Атлантику. Были, однако, небольшие различия, к которым Абигейл пришлось привыкнуть. Уэймаут представлял собой естественно замкнутую общину: девять миль земли с Грейт-Хилл в одном конце и Денс-Вудс — в другом, с Милл-Ривер, впадающей в Грейт-Понд, и с Грейт Оук-Хилл над дорогой Даксбери — Трейл. Брейнтри был искусственным: его создали люди, проведя на карте, с помощью линейки, прямые линии и нарисовав неправильный квадрат, потому что южное основание было короче других и линия на север, оканчивавшаяся у заброшенного железоделательного завода на реке Манатикьот, сворачивала направо, оставляя северо-восток открытым к морю. Их дом находился недалеко от Пенн-Хилла, близ проведенной человеком линии, разделявшей неустроенный южный Брейнтри и густонаселенный северный Брейнтри, где жили родственники и друзья Адамса. Два дома Адамсов были последними на обсаженной вязами дороге к южному округу. Сверху, вплотную к их участку, стоял столб с отметкой «одиннадцать миль к югу от Бостона»; за ним — дом семейства Фиск, по диагонали от него виднелись церковь Христова и Епископальное кладбище. На широкой площадке, примыкавшей к дороге, стоял молитвенный дом, или Дом собраний, за ним находились кладбище и через дорогу — школа. Метрах в двухстах ниже размещался городской причал. Там, где прибрежная дорога резко поворачивала на запад, высились дом Хэнкока и таверна Басс; на дороге к востоку в направлении горы Уолстон — особняки семейства Куинси. Брейнтри был вдвое больше Уэймаута, он насчитывал двадцать пять тысяч жителей, славился процветающими судостроительными верфями, развитием рыболовства и выделкой кож. Абигейл показалось, что поселок отличается живым характером, в нем находился один из самых крупных универмагов между Бостоном и Плимутом, рекламировавший: «Все, начиная от скрепок и кончая стаканчиком рома». Церковь Брейнтри, выкрашенная изнутри, была фундаментальнее молитвенного дома ее отца в Уэймауте, а кафедра преподобного Антони Уиберда солиднее и с удобным креслом в отличие от хрупкой кафедры ее отца. Джон Адамс-старший в течение ряда лет сидел вместе с другими церковными старостами в ряду, предназначенном для «старых уважаемых переднескамеечников». Места мужчин и женщин были разделены центральным проходом. Скамьи продавались или сдавались в аренду в соответствии с общественным положением претендентов или суммой, какую они были готовы заплатить. Владение скамьей считалось ценным активом семьи. Скамья семьи Адамс находилась слева от кафедры. Преподобный Уиберд приходил на чай к Джону Адамсу. Переход в новое состояние был трудным для Абигейл: ведь речь шла о том, что она, входившая в первую по положению семью Уэймаута, опускалась до скромного общественного положения семейства Адамс. Тот факт, что ее дедушка и бабушка, Джон и Элизабет Куинси, были в течение сорока лет самой уважаемой семьей Брейнтри, нисколько не поднимал ее статус. Выйдя замуж за одного из Адамсов, она отныне принадлежала к Адамсам. Брейнтри ожидал, что она будет вести себя как Адамсы, скромно. Именно этого требовало ее положение, и именно поэтому она не использовала свои «подслащающие подарки» — наличные деньги, чтобы поставить ограждение на винтовой лестнице, прорубить окно в восточной стене пристройки, обшить досками два подвала, где хранилось варенье, солонина, вяленая рыба, сидр и мадера. По этой же причине она не пользовалась частью приданого: постельным бельем и столовым серебром и просила Джона не покупать угловой буфет, необходимый для гостиной. После церковной службы они посетили попутно друзей-прихожан, а затем направились по Коуст-роуд к дому. На этот раз уже Джон Адамс, как собственник, держал под руку жену. — На сегодняшней службе никому не потребовались обогреватели и муфты. Румянец твоего лица озарил молитвенный дом, словно августовское солнце. Прихожане могут быть капризными с новичками, в особенности с женами. Но то, как ты вошла и как гордо сидела, вслушиваясь в каждое слово проповеди Уиберда, основанной на книге Екклезиаста, где говорится: «Ибо человек не знает своего времени…» — это согрело их сердца. — А как быть с ногами? — Куда сложнее в декабре… если ты намерена стать постоянной жительницей Брейнтри. Сегодня утром ты обеспечила мне, по меньшей мере, три судебных дела. — Ну, Джон, не собираешься ли ты стать наймитом в день Всевышнего? Из церкви они направились прямо в дом матери Джона. Члены его семьи заботливо отвели ей месяц на обустройство, несмотря на то что она вывесила на двери листок с приглашением зайти. Но сегодня был ее день. Она могла так думать, глядя на тщательно накрытый стол в старой кухне, а ныне столовой (кухня в коттедже была переделана в контору Джона) и ощущая соблазнительные запахи, доносившиеся из пристройки: жареной индейки, ароматной приправы из каштанов, сладкого картофеля, пирогов с черешней и тыквой. — Могу ли я помочь, мамаша Адамс? — Все почти готово. Ты будешь в роли хозяйки для мальчиков. Под «мальчиками» миссис Адамс понимала своих трех сыновей. Впервые в голосе свекрови Абигейл услышала ласковую нотку. Она тихо стояла, разглядывая пожилую женщину, соединяя воедино фрагменты того, что она слышала о Сюзанне Адамс, в девичестве Бойлстон, которая, как считали, осмелилась выйти замуж ниже своего общественного положения, выбрав фермера, кожевника, башмачника Джона Адамса. Семейство Бойлстон принадлежало к наиболее видным представителям Массачусетса, располагавшим крупной собственностью в Бостоне. Пятидесятипятилетняя Сюзанна Адамс была женщиной среднего роста, плотной, с темными с проседью волосами, моложавым лицом и серыми вдумчивыми глазами. Абигейл догадывалась, что, хотя Джон был нежен с матерью, большую привязанность он испытывал к отцу. Однажды он сослался на свое первое, плохо проведенное дело, которым не должен был бы заниматься, обладая недостаточным опытом, но ввязался в него из-за «вмешательства и жестких упреков матери». Очевидно, Сюзанну Адамс волновал вопрос о деньгах: ее муж был усердным работником, заботившимся о благосостоянии семьи, но он никогда не смог бы достигнуть того уровня, который имело семейство Сюзанны Бойлстон. Джон Адамс-старший служил церковным старостой и капитаном милиции Брейнтри, выборным лицом. Однако в конце концов Сюзанна Бойлстон Адамс пришла к выводу: несмотря на все старания и достижения мужа, она прогадала в своем браке. Пять членов семейства Адамс уселись за обеденный стол. Питер Бойлстон, угловатый, крупный мужчина, сидевший на месте отца, произнес молитву и с тупым упорством разрезал индейку. Он был на три года моложе Джона, но казался старше его из-за нарочитости речи и манер. Три зимы он посещал общественную школу в Брейнтри. Когда Джон уехал в Гарвард, Питер стал помощником отца: сильным, трудолюбивым, верным, но безынициативным. Тридцать пять акров земли, на которых он вел хозяйство, начали проявлять признаки истощения. В первый месяц замужества Абигейл дважды слышала, как Джон говорил Питеру о новых методах ведения хозяйства, а Питер отвечал: — Я делаю так, как делал папа. Для меня это вполне хорошо. Джон сказал по этому поводу Абигейл: — Может быть, и так, но у него нет того понимания земли, какое было у отца. Я стараюсь снабдить его самой лучшей информацией, дабы компенсировать отсутствие интуиции. — Но его акры могут обеспечивать семью? — Он не сможет накопить средств иприкупить землю. Я постоянно ощущаю вину за унаследованный нами от Англии принцип первородства. Я получил хорошее образование, а Питер — почти ничего. Это несправедливо. — Мы не должны допустить, чтобы такое случилось с нашими сыновьями. Мы должны вести дела так, чтобы, родив даже полдюжины сыновей, иметь достаточно средств для обучении их в колледжах. Его глаза удовлетворенно сверкнули. — Династия Адамсов, не так ли? Из всех членов семьи Питер был наиболее близок Джону. Именно потому Джон приложил столько усилий и обеспечил избрание Питера заместителем шерифа Брейнтри. Питер зарабатывал также небольшие суммы, проводя в жизнь судебные постановления Джона и достойных адвокатов — друзей Джона. Младший из Адамсов-мужчин — Элихью, двадцатитрехлетний парень, был худым, беспокойным, легковозбудимым. Он уже имел собственное хозяйство, жил в хижине на еще недостаточно обработанных девяноста акрах, оставленных ему отцом в южном Брейнтри. Элихью был интересным собеседником. В это воскресенье он рассказывал о Сэнкфул Уайт, согласившейся выйти за него замуж в следующем году, и басни о том, как он вступил в милицию, быстро раскусил ее офицеров и точно вычислил, сколько времени потребуется, чтобы получить чин младшего офицера. Абигейл окинула взглядом всех сидящих за столом. Какими различными, не похожими друг на друга были четыре Адамса. Если бы церковный староста Адамс был здесь, то и он, вероятно, отличался бы от присутствующих. Но разве это не справедливо и в отношении ее собственной семьи в Уэймауте? Она задумалась: на кого будут похожи ее дети — на Адамсов и Бойлстонов, на Смитов и Куинси? Или же появится новое поколение, составленное из кусочков Адамсов и Смитов, родившихся, сочетавшихся браком, работавших и умерших всего в нескольких милях друг от друга.3
С первого утра после их свадьбы перед конторой Джона неизменно стояли привязанные к столбу лошади; преимущественно жители Брейнтри, но и родственники Абигейл обращались к нему по юридическим вопросам. Ее дедушка Куинси пригласил его в Маунт-Уолластон выправить страшно запутанное завещание; ее кузен Джошиа Куинси, хотя и имевший двух сыновей-юристов, пришел с документом о продаже земли. Когда они остались вдвоем, дедушка сказал Абигейл: — Теперь, когда ты стала одной из Адамсов, мы должны сделать Джона одним из Куинси. Так мы сбережем семейную лояльность. Ее дядюшка Исаак написал из Бостона о своем желании, чтобы Джон оформил соглашение с английскими экспортерами, у которых он покупает товары. Когда Джон поехал в Бостон на январскую сессию суда, то к нему обратился его старый школьный друг, учившийся в Брейнтри, Джон Хэнкок. Он получил в наследство от дядюшки большое состояние и торговую империю, и ему нужно было навести порядок в строительстве судов. Имея клиентами Исаака Смита и Джона Хэнкока, Джон Адамс быстро получил предложения от нескольких других торговцев вести дела в суде. Начало было благоприятным. Несмотря на скромные гонорары, Абигейл почувствовала, что теперь она может потратить на дом часть своих денег. Изучив план дома, она обнаружила, что первоначально хижина состояла из комнаты, которую Джон оборудовал как свою контору, где находился большой камин, и клетушки сзади. Под этой старой частью дома не было подвала. Примерно в 1716 году два внука-плотника первоначального хозяина расширили переднюю часть дома, пристроили гостиную, а также вторую спальню наверху и чердак. Джон купил необходимый строительный лес. Она наняла плотника, чтобы настелить пол в той половине подвала, где хранилась провизия. После завершения этой работы было поставлено ограждение на лестнице и прорублено окно в восточной стене малой комнаты рядом с пристройкой, где жила Рейчел Марш. С другой стороны пристройки соорудили вентиляционную шахту, с помощью которой поступавший из подвала холодный воздух сохранял свежими продукты. Во второй спальне были заменены витражи, составленные из мелкого стекла, отциклеваны полы, а каминная доска и стены покрашены светлой краской. Джон рассчитывал нанять батрака для обработки принадлежавших им девяти акров, и половина чердака была отведена под его спальню. Завершив реконструкцию, Абигейл купила кровать из кленового дерева и секретер для второй спальни, комплект удобных стульев для гостиной и обтянула софу Джона прочной желтой тканью. Она также купила глубокое удобное кресло, чтобы муж мог читать, сидя перед камином в гостиной. Но к этому моменту Джон стал проявлять нервозность по поводу расходов, и она перестала заниматься покупками. Она открыла для себя, что между мужем и женой, только что сочетавшимися браком, деньги являются терра инкогнита. У Абигейл в юности не было собственных денег, они ей просто были не нужны, ибо все необходимое обеспечивали родители. Она сама не расплачивалась, но знала от матери, что товары имеют цену, и, часто сидя с отцом, наблюдала, как он старательно подсчитывает дневные расходы: средства, истраченные на строительство сарая, — около трехсот фунтов стерлингов — он расписывал по счетам на различные материалы — три тысячи гвоздей, столько-то тысяч дранки, столько то досок… и три галлона рома для строителей. Наряду с его выкладками числа детей, умерших от белой немочи горла, и цитатой из проповеди, содержавшей его религиозную философию: «Я покажу, как глупо и безумно безмерное рвение», она узнала цену сухих чернил, стоимость книжных переплетов, мытья и стрижки овец, цену чая, кукурузы, пшеницы, вязанки дров (ее отец расплачивался сеном за дрова). Она почти ничего не знала о доходах Джона Адамса и семейных ресурсах. Казалось, он проявлял сдержанность и не рассказывал о своих сбережениях. Очевидно, он никого не допускал ранее к своим делам и, уж конечно, не позволял кому-либо тратить его деньги или контролировать их. Она признала и уважала его щепетильность: мужчины Новой Англии накрепко завязывали свои кошельки, их кладовка была набита свадебными подарками — копченой свининой, соленой рыбой, бочками с яблоками и бочонками мадеры. Ей не нужны были большие суммы наличных денег для покупки повседневных продуктов. Она осторожно расходовала собственные деньги, лишь обсудив с Джоном, какие улучшения следует сделать в доме. Джону понравилось то, что он увидел. — Обычно леди не разбираются в финансовых делах. Но теперь я не уверен, следует ли мне состязаться с тобой в заключении сделок. Не окажусь ли я в итоге такой сделки хромой или одноглазой клячей. Она понимала, что он дразнит ее, но ответила: — Я не хитрая, Джон, просто я потомок процветавших торговцев и землевладельцев. Они всегда жили хорошо, но никогда не тратили фунта стерлингов, когда можно купить за шиллинг. Он обнял ее и нежно поцеловал. — Какая чудная лотерея — брак! Но мы должны быть внимательными, смотреть, сколько можем ассигновать на дом, на ферму, отложить на накопления. Будем держать наличные средства здесь, в закрытом ящике моего письменного стола, за исключением того, что нужно тебе ежедневно для питания. В конце года мы все сложим: расходы на питание, на благоустройство дома и фермы, на покупку необходимых вещей. Мне нравится ежедневно складывать полученные идеи. А гонорары? Вроде бы нет. Абигейл была поражена. Ведь это так не похоже на Джона. Она уставилась на него широко раскрытыми глазами. Много ли она узнала о Джоне Адамсе за период ухаживания? Впервые она полностью поняла строку из «Альманаха бедняка Ричарда» Бенджамина Франклина: «Трудно распознать мужчин и дыни». Ну что ж, чем плох брак, чтобы начать такое изучение.Джон вернулся из Бостона после окончания январской сессии суда крайне возбужденный. — Тебя назначили главным судьей Массачусетса? — Бери выше. Сядь рядом, согрей меня. У меня заледенела кровь. Вскоре после приезда в Бостон при смене судей ко мне подошел мистер Фитч и сказал, что мистер Гридли собирается сказать мне кое-что, но я должен держать язык за зубами. Она налила ему чашку горячего шоколада. — Я подождал мистера Гридли в его конторе, и он сказал мне, что решил в первую очередь привлечь меня, а также Фитча. — Ой, Джон, мистер Гридли — наиболее уважаемый адвокат в Массачусетсе. — Он сказал мне, что он и мистер Фитч хотят основать юридический клуб, частную ассоциацию, с целью изучения права и ораторского искусства и образовать общество, включающее его самого, Фитча, меня и Джозефа Дадли, для совместной работы. Он дал мне книгу Годфруа «Свод гражданского права». Мы соберемся завтра вечером и начнем изучение с феодального права и речей Цицерона. — Что-то вроде школы права. Ты так этого хотел. — Мы договорились о программе обучения. Мы введем в практику обмен книгами, каждый будет покупать книги, которых нам недостает. Я буду ездить в Бостон каждый четверг. Скажу тебе, Нэбби, я ожидаю, что это общество принесет мне самое большое удовлетворение в жизни. Она ласково поцеловала его, пытаясь скрыть невольный всплеск ревности. — Последнее время ты мало пишешь. Меня тревожит, что свадьба заставила тебя слишком много думать о гонорарах. — Мое сознание несколько ущемлено. Но благодаря обществу, уверен, в мои руки попадут хорошие правовые документы. В последующие месяцы Абигейл была поражена широтой интересов Джона. Он всегда изучал с азов попадавшие в его руки дела; теперь же он углублялся в историю правовой науки Запада, ее философию, стараясь добраться до исходных теорий, определяющих законодательные акты, и то, как формулируются, как развиваются законы, как они меняются в ходе столетий и развития цивилизации. Каждую пятницу он ночевал у Сэмюела Адамса, или у своего друга Джона Хэнкока, или у Джонатана Сиуолла, она же получала подробный отчет о том, что сделано. Он не был ученым-затворником, уединившимся в своем кабинете. Когда она заканчивала домашние дела, он либо звал ее к себе в контору, либо приносил книги в теплую кухню, раскладывал их на столе перед огнем, а она читала или шила, время от времени он поглядывал на нее, цитировал Руссо, назвавшего феодальную систему самой несправедливой и абсурдной формой правления, ведущей к деградации человека. Утомившись от учебы, Джон читал вслух Шекспира или Мильтона. Это было частью его с Гридли договора, что, содействуя развитию общества, адвокатура должна стремиться достичь чистоты, элегантности и духовности, превосходящих все то, что знала Америка. — Надеюсь, такое осуществится, Нэбби, я приступаю к диссертации по каноническому и феодальному праву. Ничего подобного в нашей стране еще не написано. На искорку оптимизма в его глазах она ответила своей искоркой. Прошел третий месяц, и у нее не оставалось сомнения: она беременна. — Убеждена, ты вступил в творческий период. Уже сотворил. У меня есть для тебя сюрприз. Он поднял глаза от трактата Руссо «Об Общественном договоре» и спросил, робко улыбаясь: — Почему ты решила, что сюрприз? — Каким образом ты догадался? — Ты мне сказала. — Ничего подобного. Я не сказала даже маме, когда на прошлой неделе из Уэймаута приезжала семья. — Я узнал это в тот же самый момент, что и ты, по твоим глазам. На протяжении первого месяца они смотрели на меня с обожанием. Затем появилось нечто новое: ужас. Словно я вдруг превратился в божество. Она засмеялась грудным голосом; так случалось, когда она была очень довольна. — Ты счастлив? Он обнял ее и нежно поцеловал. — Я очень счастлив… всем, что ты мне даешь. — Ты спокойно принял известие. Не потому ли, что удел всех молодых жен — полнеть. — Важные вещи я принимаю спокойно, неважные приводят меня в исступление. Послушай спокойно, я тебе прочитаю кое-что, чтобы наш ребенок родился с задатками хорошего стилиста в прозе. Его голос был визгливым и немузыкальным, но он читал текст, заряженный такой мощью, что она вздрогнула.
«Борьба между народом и конфедерацией… мирской и духовной тиранией стала грозной, неистовой и кровавой. Эта великая борьба воодушевила Америку. Не одна только религия, как повсеместно принято считать, но и любовь к всеобщей свободе и ненависть, боязнь, ужас адской конфедерации… дали импульс, способствовали осуществлению и завершению освоения Америки. Эта решимость была внушена разумными людьми, я имею в виду пуритан, находившихся в немыслимом положении. Они в целом стали образованными, и многие из них обучились… но их озлобляли, унижали, обирали, подвергали порке, вешали, сжигали… Прибыв сюда, они основали поселения и претворяли в жизнь планы формирования церковной и гражданской власти, противостоящей канонической и феодальной системе…»Он взглянул на Абигейл.
«Я всегда рассматривал с удивлением и изумлением заселение Америки как раскрытие большой сцены и как замысел Божий в целях просвещения несведущих и освобождения на всем земном шаре порабощенной части человечества».Она сидела рядом с ним, глядя на него и думая: «Он особый человек. Моя жизнь не будет скучной».
4
Абигейл казалось, что Джон также попал в интересное положение, работая с каждым днем все больше и больше. Каждое утро он вставал в пять часов и писал при свечах, дополняя и перерабатывая свой очерк. Городской совет Брейнтри назначил его в комитет по разделу и продаже северных общинных земель. Он и его два соседа, Найлс и Басс, наняли землемеров и топографов, работавших несколько недель. — Мы спотыкались, натыкались на камни и корни, преодолевали болота и заросли, но в конце концов разделили участок и составили план для аукциона. На следующей неделе мы займемся продажей и, надеюсь, сумеем все продать. Я подобрал для нас два участка и часть пастбища Роки-Ран. Она пошла на аукцион, проводившийся в Доме собраний. Со всей округи стекались люди, чтобы дать свои предложения и купить землю. Джон успешно выполнил роль аукционера, потом передал молоток Бассу и Найлсу, а сам занялся составлением купчих, сбором денег и проверкой платежеспособности. Ее соседи, в том числе те, которые жили поодаль и ей не были еще знакомы, поздравляли ее, тогда она покидала Дом собраний. — Поздравляют ли они меня с беременностью или же по той причине, что ты продал все земельные участки? — спросила она. — И по тому и по другому поводу. Я не могу выполнить твою работу, а ты — мою. Они радовались еще одному скромному успеху. На городском собрании Джона выбрали дорожным инспектором, честь весьма сомнительная, если учесть, что уже несколько десятилетий в Брейнтри фракции спорили относительно дорог. Проблема, объяснял Джон, проста и стара как мир: никому не хочется платить налоги, чтобы проложить новые дороги и держать их в хорошем состоянии. — Вернее, они не могут договориться, кто и какую долю налогов должен платить. Семья Пеннимана пользуется дорогами для доставки своего урожая на рынок, и колеса тяжелых повозок разбивают их вдребезги, у Тейерсов — лишь легкий экипаж, а семья Алленс ездит только верхом, Биллингсы ходят только пешком на городские собрания, к своим друзьям и родственникам. Она наблюдала, как он стремился найти решение проблемы на свой лад, не согласуясь с обычаями Брейнтри. Он отыскал дорожные законы соседних поселков, ее отец дал ему закон, принятый Уэймаутом, Джон получил также постановления Милтона, Хэнгема, Дорчестера. Он порасспрашивал в нескольких поселках, какие из принятых законов у них работают, а какие нет, проанализировал особые потребности Брейнтри и после этого составил собственные предложения. Когда он внес свой проект правил, тот был настолько убедительным, что получил всеобщее одобрение. Она подтрунивала: — Как чувствует себя законодатель? — У меня такой прилив душевных сил, какой случается редко. Приятно написать хороший контракт или завещание, но еще приятнее, когда можешь составить хороший закон, по которому станет жить город. Надеюсь, у меня будет множество возможностей предлагать законы. Когда они работают, они не менее ценны, чем поэзия. — А не потребуются ли для общественного блага новые законы, соответствующие временам года? И никто не сможет тебя остановить. Но она ошибалась. Нашелся способный выступить против Джона. Это был Сэмюел Адамс, приехавший со своей невестой Бетси и чемоданом, чтобы переночевать у них. Он привез из Бостона тревожные известия. Абигейл была поражена тем, как изменился Сэмюел. Во время их последней встречи он выглядел плохо, вздрагивал, медленно двигался, хотя ему не было и сорока лет. Теперь же он был в аккуратном сюртуке и бриджах, его белье было свежим, невзирая на десятимильную поездку из Бостона, но, что более важно, он двигался и говорил как энергичный молодой человек. Дрожь почти полностью исчезла. Абигейл разместила их во второй спальне, Рейчел принесла чай. Они уселись поболтать в апрельских сумерках. Абигейл спросила о детях. Сэмюел любовно взглянул на Бетси: — Клянусь, Абигейл, эта жуликоватая жена полностью развратила моего детеныша. — Ну, Сэм, — пробормотала Бетси чистым приятным голосом, — сумасбродство дозволено лишь богатым. — А кто богаче меня? Заместитель губернатора Хатчинсон? Джон Хэнкок? Дядюшка Абигейл Исаак Смит? Абсурдно! — Он повернулся к Абигейл, озарив своей веселой улыбкой гостиную. — Я женился на ведьме. В месяцы сватовства и свадьбы я зарабатывал мало, разрешите мне такое хвастовство, но Бетси субсидировала нас: дом покрашен, мебель обтянута новой тканью. Абигейл повернулась к своей свояченице. Элизабет Уэллс было двадцать восемь лет. Она происходила из семьи мастерового, и у нее не было наследства, чем и объяснялся ее запоздалый брак с обедневшим вдовцом с двумя детьми. Простота Бетси была самой привлекательной: гладкая чистая кожа, зачесанные назад волосы, строгие черты лица, короткий нос четкого рисунка для хорошего дыхания, сжатые губы для бесед, неровные, но ослепительно белые зубы, чтобы есть. Но вот глаза, подумала Абигейл, даны Бетси не только для того, чтобы видеть, но и заглядывать глубоко в душу и понять, насколько мила и ценна сама по себе эта женщина. Сэмюел поблагодарил Абигейл за вкусный чай, а потом перешел к делу, ради которого приехал на пару дней в Брейнтри для обсуждения со своим молодым кузеном: в бостонскую гавань этим утром доставлен по прошествии тридцати четырех дней пакет из Ливерпуля с официальной копией закона о гербовом сборе, принятого парламентом. Джон воскликнул: — Не могу поверить! Парламент не имеет права облагать нас налогами в погоне за доходами. Они знают это лучше нас. — Теперь не так, Джон. Вот экземпляр лондонской газеты с полным текстом закона, прошедшим три чтения. Теперь это закон империи. Каждая судовая бумага судна, входящего в наши порты и покидающего их, должна иметь штамп. Каждая выходящая газета должна иметь штамп, каждый альманах, памфлет, листок писчей бумаги; каждое удостоверение, свидетельство о профессии, купчая, каждый вызов в суд должны быть подписаны, решение, принятое судом, должно иметь штамп, чтобы считаться законным. Марки, отпечатанные в Англии, находятся уже в пути к нам. Лицо Джона побледнело. Когда он, наконец, нарушил отягченную яростью тишину, его голос охрип, словно он сорвал его внутренним криком: — Это означает: либо мы дадим Британии право все больше высасывать из нас заработанное нами, пока будем низринуты на положение рабов, либо откажемся покупать марки, прикроем наше судоходство, производство, торговлю, печатание, прекратим обращаться за справедливостью в суды. — Суды! — Да, Нэбби. Если мы откажемся покупать марки для судебных процессов, суды будут вынуждены закрыться. Без судов законы не будут проводиться в жизнь, невзирая на то, сколько патрульных будут ходить по улицам. И без законов не может быть организованного общества. — У тебя все еще есть девять акров, — сказала она, стараясь разрядить обстановку. — Парламент не наклеит марку на каждую репку, что торчит из-под земли. Бетси благодарно улыбнулась ей. Мужчины были настолько огорошены, что не понимали шуток. — Ну, хорошо, — смиренно сказала Абигейл, — Джон, разве премьер-министр Гренвил не протестовал на протяжении целого года, не говорил, что не хочет закона о гербовом сборе, что мы можем осуществлять сбор средств своим собственным путем? Почему не получилось? — Все и ничего, — ответил Сэмюел Адамс. — Это часть давней борьбы, и конца ее не видно. Вот так, пока мы не положим ей конец. — Ну, Сэм, — поправил Джон, оправившись от первого шока. — Вспомни закон о помощи и речь Джеймса Отиса против него. Это было в феврале шестьдесят первого года. Мне кажется, началось с этого. Предписание о помощи[12] явилось частью теории меркантилизма,[13] в соответствии с которой Англия управляла своей империей. Англия хотела, чтобы все ее колонии были в безопасности и процветали; но в первую очередь наиболее богатой и мощной должна быть сама Англия. Все сырье и готовые изделия должны были ввозиться в Англию до их продажи в других местах. При этом их надлежало вывозить на английских судах с английскими командами. Массачусетс мог производить сырье, судовые мачты, железо и кожу, но не мог производить шерстяные ткани, шляпы и сталь. Таким образом, в соответствии с законом о судоходстве Англия контролировала торговлю американских колоний и Массачусетса. В качестве компенсации Англия щедро предоставляла своим колониям право производить нужные ей товары: мачты, пеньку, деготь, индиго — и обеспечивала их защиту от французов на Севере и от испанцев на Юге. Система работала необычайно хорошо. Торговый контроль никогда не считался налогом. Закон о патоке 1733 года в Массачусетсе не соблюдался, словно его и не существовало, с помощью подкупа сборщиков пошлины, что обходилось судовладельцам в полтора пенса с галлона, в случае если возникали трудности с контрабандным вывозом. Заработная плата была высокой, работы хоть отбавляй, прибыли радовали, а если человеку надоедало жить в Массачусетсе, то на Западе раскинулись миллионы акров целинных земель, и земледельцы могли свободно взять наделы. Немногие осмеливались поставить под сомнение свое процветание и задать недоуменные вопросы… кроме, разумеется, кузена Сэмюела, смотревшего с удивлением на своих собеседников. — Система работала своеобразно, — сказал Сэмюел, продолжая беседу, — до завершения французской и индейской войн шестьдесят первого года. В этот год ты влюбился, мой дорогой кузен, и для тебя началась новая эра, а для Массачусетса закончилась старая. И по сути дела — для Америки. Когда Англия разгромила Францию и закрепила за собой Канаду, она решила, что мы должны помочь ей оплатить эту войну, а также расходы по содержанию на наших землях десяти тысяч солдат. Тогда и было решено провести в жизнь «обязанности». Но как неграмотные бостонцы толкуют слово «обязанности»? Как налоги. И мы отказались их платить. И впервые с тех пор, как пилигримы и пуритане вступили на землю Массачусетса, люди стали спрашивать: «Имеют ли они право обкладывать нас, свободных англичан, налогами без нашего разумения и согласия?» — Но они не провели в жизнь предписание о помощи, — ответил Джон. — Я находился в зале совета в ратуше, когда поднялся Джеймс Отис и подверг критике предписание. Я никогда не забуду этот день. В камине яркий огонь, вокруг него пять судей в мантиях из красной английской ткани, с лентами и в белых париках; заместитель губернатора Хатчинсон в роли главного судьи, а за длинным столом весь конклав адвокатов Бостона. — Он самодовольно улыбнулся. — Мне исполнилось всего двадцать пять, я был самым молодым адвокатом, готовым лопнуть от гордости. Отис взялся вести дело от имени торговцев. Ему предложили крупный гонорар, но он крикнул: «По таким делам я презираю все гонорары!» Он встал со стула. — Позвольте мне взять заметки, которые я сделал в тот день. Отис на два года отсрочил вмешательство британцев в наши дела. Джон возвратился в гостиную. — Речь Отиса была подобна вспышке пламени. «Это предписание противоречит основным принципам права. Акт, противоречащий конституции, не может иметь силы, Акт, вступающий в противоречие с естественным равенством, не имеет силы. Специальные предписания об обыске специальных мест могут быть выданы некоторым лицам под присягой, но я отрицаю возможность выполнения такого предписания. Оно направлено против каждого подданного во владениях короля. Имея такое предписание, любой может стать тираном. На якобы законном основании тиран сможет контролировать, бросать в тюрьму или казнить любого, на кого он сможет наложить руку…» Джон положил бумаги. Абигейл встала, пошла на кухню помочь Рейчел приготовить ужин, затем внесла поднос с четырьмя рюмками мадеры, предложила тост за Сэмюела и Бетси и тем самым переключила разговор с политики на другие темы. Но лишь на время. На следующее утро они отправились на церковную службу, где Сэмюел пропел чарующим голосом любимые гимны. Он строго соблюдал религиозный церемониал, перед каждым приемом пищи читал молитвы, перед отходом детей ко сну зачитывал им выдержки из Библии, церковные праздники проводились в молитвенном доме. Возможно, из-за его новой жены, возможно, из-за рвения, проявляемого им в пении гимнов и чтении Священного писания вслед за преподобным Уибердом конгрегация Брейнтри, которая всего неделю назад смотрела на Сэмюела Адамса как на подстрекателя, сегодня собралась у входа в дом, озабоченно задавая вопросы относительно закона о гербовом сборе. Почему премьер-министр изменил свое мнение и навязывает этот налог колониям? Какой ущерб может вызвать этот закон? Когда четверка Адамсов шагала по улице, Сэмюел сказал с усмешкой: — Новая роль для меня: консультант по законотворчеству парламента. Можно только радоваться. — Ты получаешь подсознательное удовольствие от осложнений с Англией, Сэм, — заметила Абигейл. Сэмюелу не хотелось дать прямой ответ на вопрос. Уклончивый совет позволял отделаться шуткой. — Инкриз и Коттон Матерс развлекаются вовсю, выступая с пуританских кафедр. Бостон в прострации лежит у их ног. Что может сказать в таком случае своей конгрегации ее священник? Будь благочестив, не посещай балов и празднеств, не украшай себя, как шлюха… Извиняюсь, кузина Абигейл! Роль проповедника перестала увлекать. Политика становится наиболее интересной профессией до конца нашей жизни. — Бетси, возьми своего мужа в руки, — поддразнивал Джон, — и скажи ему, что мы не намерены сдабривать нашего жареного гуся его политическим перцем. Бетси улыбнулась. — Сэмюел, дорогой, будем примерными гостями, чтобы кузина Абигейл приглашала нас и впредь. Рейчел поставила стол в гостиной перед камином, раздвинула его и застелила лучшей полотняной скатертью из приданого Абигейл, поставила хрустальную и серебряную посуду. Отведав теплый яблочный пирог и выкурив трубку, набитую вирджинским табаком, Сэмюел вновь заговорил о цели своего визита. — Джон, мне нужен твой совет. Как юриста. — Сэм, рад видеть, что в семье ты интересуешься делом. — Как лучше всего развенчать акт о гербовом сборе? Отказаться соблюдать его? Провозить контрабандой бумаги без штампа? Или же прикрыть все дела, требующие Гербового сбора? — Они не смогут провести его в жизнь, Сэм. Он исчезнет, подобно предписанию о помощи. — Ты недальновиден. Эти акты — всего лишь следствие. Основные причины конфликта сохраняются. — Какого конфликта? — спросила Абигейл. — Мой отец всегда говорил, что мы самые хорошо управляемые колонии в мире, какие знала история. Сэмюел встал и принялся ходить взад-вперед по турецкому ковру. — Согласен. Мы были. По двум причинам. Когда Англия пыталась предпринять что-либо против наших интересов, вроде закона о патоке, мы не считались с такими актами. Когда она пыталась заставить нас платить годовые оклады назначенным ею чиновникам, мы категорически отказывались делать это. Англия была слишком занята и преуспела в торговле и войнах, чтобы тревожиться по поводу наших действий. Она считала, что мы поступаем как капризные и избалованные дети… Но мы повзрослели. Англия запуталась в долгах, силясь выдворить французов из Канады. Она будет стараться переложить на нас часть расходов. Более важно, что новый король и парламент полны решимости предпринять нечто небывалое. Абигейл попалась на удочку. — Что именно? — Скажу. Они наконец решились настоять на своих правах и навязать нам свою конституционную власть. Это, мои дорогие молодые друзья, фатальная ошибка. С их стороны, не с нашей! Джон разволновался. Он порывисто поднялся и стал нервно ходить перед Сэмюелем. — Сэм, ты призываешь к драке. Мы всегда признавали за Британией ее законные права: право короны назначать губернаторов, стоящих над нашими выборными лицами в Массачусетском совете, право указывать, на каких судах мы можем перевозить рыбу, строевой лес, чугун, и покупать готовые изделия только у нее. Мы повзрослели, у нас нет нищих и безработных, как в Лондоне… — Кузен Джон, сядь. Я единственный одержимый политикой. Ты же уравновешенный и объективный адвокат. Согласен с этим. Три тысячи океанских миль делают более легким и благородным делом отклонение гнетущих законов британцев. Но что произойдет теперь, когда парламент решил обложить нас налогами не в области судоходства и торговли, а в сфере наших внутренних дел? Как быть с законом о гербовом сборе? Предположим, ты соглашаешься платить Англии налог за каждую юридическую бумагу, тобой составленную, а она повышает налог каждый год… — Мы не станем выплачивать его! Парламент имеет право регулировать внешнюю торговлю всей империи, в том числе и нашу. Он не может обкладывать нас налогами без нашего согласия. Лишь сами колонии могут устанавливать размер своего налога. Сэмюел провел языком по губам. — Парламент утверждает, будто налоги — всего лишь небольшая часть расходов на содержание войск для нашей обороны… — Мы можем защитить себя сами. У нас есть милиция. — …лишь небольшая часть расходов по изгнанию французов и открытию всего континента для заселения нашими соотечественниками. — Наши солдаты стояли на равнине Авраама.[14] Итак, Сэм, не зли меня. Англия никогда не пыталась обложить нас налогом без согласия наших представителей. Мы не позволим, чтобы чужаки навязывали нам налоги. — Ну, кузен Джон, как старая добрая Англия может считаться чужой? — Перестаньте подтрунивать друг над другом! — воскликнула Абигейл. — Это наша первая семейная встреча, а не политический диспут. Несколько живших по соседству молодых пар пришли на чай. Абигейл села во главе стола, осматривая гостей и беседуя с каждым, одновременно опытной рукой наливала в каждую чашку заварку. После чая Сэмюел и Бетси поблагодарили за приятный прием, пригласили приехать к ним в Бостон, а затем отправились восвояси. Поднимаясь в спальню, Абигейл спросила Джона: — Может быть, Сэмюел прав? — Нет, не думаю, что он прав. Во всяком случае, не во всем. Он сказал, что мы дети, а дети должны быть дисциплинированными. Мы так долго одни жили и так хорошо управляли сами собой, что не можем легко относиться к жесткому контролю. У англичан — лучшее правительство на земле; английские политики не настолько упрямы и глупы, чтобы сеять бурю. — Мне кажется, что Сэмюел жаждет беспорядков. Или я ошибаюсь? Глаза Джона помрачнели. — То, что мы называем беспорядками, Сэмюел называет свободой. Он пропагандирует свободу. — От кого? — От Англии.5
Проходили недели, и она чувствовала, что ее талия становится шире, и ей пришлось пришить пояс к халату. Необычное ощущение внутри себя новой жизни волновало ее. Движения плода становились все более настойчивыми, порой даже болезненными, но она считала себя вознагражденной, чувствуя, как шевелится ребенок. Сидеть прямо на плетеных стульях было неудобно. Она решила проблему, подбирая под себя ноги так, как делала это в своей кровати в приходе Уэймаут, когда писала письма. Утром и вечером, когда было прохладно и Джон совершал объезд, она выходила на прогулку в поле и вдоль ручья с матерью Джона или с братом Питером. Все были добры к ней, и эта доброта напоминала опекунство. Ее посещали члены собственного семейства: родители, Мэри и Ричард Кранч, сестра Бетси. Когда из-за полноты стало трудно ходить, она частенько сидела с нераскрытой книгой или журналом на коленях; настал период ожидания — удел женщины, размышляющей о будущем. Иногда ее охватывала паника при мысли, сможет ли она ухаживать за ребенком, если он заболеет? А вдруг родится ненормальным, шестипалым? Но она сама была здоровой, молодой, понимала, что ее любят и ею дорожит муж. Страхи испарялись. В спокойные счастливые дни Абигейл думала о том, как вырастить ребенка. Она хотела, чтобы ребенок вырос независимым, но тут же поняла, что сама она и ее муж сильны характерами, и это повлияет на малыша. Она была уверена в том, что их потомки, мальчики или девочки, станут хорошими студентами и получат подготовку, которая позволит им занять видное место в Новой Англии. Она не тревожилась за Джона, если он уезжал на сессии суда или проводил ночь в Бостоне на заседании общества. Это был период спокойствия, напоминавший то время, когда они обнаружили, что любят друг друга, а ему пришлось выехать на сессию, период, вбиравший в себя надежды и энергию следующего жизненного притока. Ее размышления прервали удары молотка по двери. Она открыла ее и увидела перед собой Джеймса Отиса и его сестру, миссис Мэрси Уоррен, которых сразу же узнала по образному описанию Джона. Мэрси Уоррен представилась, а затем сказала: — Мой брат и я хотели бы видеть миссис Джон Адамс. — Какой приятный сюрприз. Я только что думала, с кем бы мне выпить чашку чаю. — Вот мы и здесь, — сказал с усмешкой Отис. — Мы тряслись в коляске все десять миль от Бостона. Джон дома? — Нет, сэр. Его нет дома. Но позвольте оказать достойное гостеприимство. Она провела гостей в гостиную. Джеймсу Отису было сорок лет, он был женат десять лет (ходили слухи, что он женился, оказавшись одиноким после замужества сестры Мэрси), и у него было трое детей. Мэрси была на несколько лет моложе, вышла замуж за процветающего плимутского плантатора и стала матерью четырех сыновей. Удобно рассадив гостей, Абигейл попросила Рейчел принести побольше чая. Затем она села против брата и сестры, внимательно их рассматривая. Она заметила капризную игру природы, которая вылепила Джеймса более привлекательным: четкие черты его широкого, овального лица с высоким лбом и выразительным пропорциональным ртом говорили о его проницательном, остром интеллекте. Мэрси была высокой, плоскогрудой, ее тело было угловатым там, где у ее плотного братца изобиловали смягчающие линии. У нее также был высокий лоб, более узкое лицо, слишком длинный и тонкий нос. Впечатляли ее большие и светлые глаза. Джеймс разрешил Мэрси посещать уроки, которые давал ему дядюшка, слывший в Массачусетсе образованным человеком, правда, каким-то непонятным образом оказавшимся в Йеле и получившим там образование. Завершив обучение в Гарварде, Джеймс взял сестру под свое крыло и с ее участием выпустил обзор «Мировой истории» Рэлея. По настоянию брата Мэрси занялась сочинением стихов, очерков, театральных пьес. Джеймс Отис обладал подвижным характером. В свободное от юридических и политических занятий время он писал и публиковал небольшие пьесы на латинском и греческом языках. Никто, однако, не знал, какой очередной акт саморазрушения можно ожидать от него в ближайшее время. Он совершенно бессмысленно рассеял надежды Джона на разработку норм правовой этики, что вызвало горечь в Новой Англии. Разумеется, любые чувства по отношению к Джеймсу Отису менялись так же быстро, как менялось его собственное настроение. В некоторых кругах он был известен под кличкой Уходяка по той причине, что без объяснений уходил с заседаний Общего суда Массачусетса и городского совета Бостона, с вечеринок в резиденции своей семьи в Барнстейбле, устроенных для его близких друзей. Он блестяще вел дискуссии, писал памфлеты, статьи в газетах, речи против королевских чиновников, ущемлявших свободу колоний, и делавших это, по мнению Джеймса Отиса, почти беспрерывно. Абигейл разлила китайский чай, импортом которого занимался ее дядюшка Исаак, и пустила по кругу поднос с горячими пончиками и кексами. Вслед за этим Отис принялся анализировать закон о гербовом сборе, по поводу которого он был встревожен не меньше Сэмюела Адамса. — Мы должны сместить фокус нашего мышления. До настоящего времени мы молчаливо соглашались, что Англия имеет право регулировать нашу внешнюю торговлю, но не наши внутренние дела. Теперь оказалось, что различие здесь искусственное. Не выделив нам пропорциональное число представителей в парламенте, Англия не вправе предписывать нам законы. Не получив такого права, — а мы его никогда не имели! — мы потеряны. Прошли те времена, когда американцы могли стать нацией рабов. Британцы опоздали почти на полтора столетия! Свобода опьяняет сильнее рома. Мы в Массачусетсе заражены свободой. Джеймс встал, извинился, что должен посетить клиента по соседству, и оставил Абигейл и Мэрси. Абигейл была счастлива познакомиться поближе с Мэрси Уоррен. Женщины семейства Куинси посещали женскую школу и, окончив курс обучения, продолжали увлекаться поэзией и романами, но никто из них не испытывал тяги к политике, которую Абигейл унаследовала от своего деда и бабки. Мэрси Уоррен была первой в ее жизни женщиной, помимо бабушки Куинси, которая считала политику интересным делом и умела выражать свои мысли в письменной форме. — Писать не ради искусства, — объясняла Мэрси. — Писать, чтобы быть полезной. Если Джеймс говорит, что не может повлиять на народ своими памфлетами, то я стараюсь возбудить общественность с помощью поэзии. Если ему не удастся привлечь внимание к злодеяниям губернатора Бернарда, то я могу высмеять губернатора как персонажа пьесы. Все прочитавшие поймут гнусность его поведения. — И увидят это на сцене? Мэрси промолчала, затем сказала: — Увы, нет. Пуритане этой колонии никогда не разрешат театра с живыми актерами. Вы слишком молоды и не помните, что генерал Коурт провел в семьсот пятидесятом году закон, предотвращающий — и я дословно помню текст закона, настолько он огорошил меня — «вред поставленных на сцене пьес и других развлечений, которые ведут к растратам, отвлекают от производства, углубляют безнравственность, богохульство и презрение к религии». Миссис Адамс, слышали ли вы когда-нибудь более чудовищную глупость? Она не ожидала ответа. — При наличии великих английских пьес, «Фауста» Марло, «Алхимика» Бена Джонсона, трагедий Шекспира, возможно, я покажусь лишенной патриотических чувств, но не считаете ли вы, что нас, пуритан, покинул здравый смысл, когда мы отчалили от берегов Англии? — Охота за ведьмами в Салеме показала, что мы можем состряпать более бесчеловечную религию по сравнению с той, от которой убежали. — Абигейл, испытываете ли вы удовольствие, когда пишете? Абигейл покраснела: — Признаюсь, мне доставляет удовольствие заполнять строчками чистый лист бумаги.После возвращения из объезда, несмотря на жаркое июньское солнце, лицо Джона выглядело истощенным. — Неудача с делами? — спросила она. Его глаза сверкнули. — Ну вот! Я выиграл дело, к удовлетворению клиента. Компания Плимута наняла меня. Я дал согласие каждый год появляться в Верховном суде Фолмаута, чтобы проверять достоверность актов. — Какой приятный подарок для дома. У компании Плимута масса судебных дел. Он уселся в кресло перед холодным камином. — Ты знаешь, как меня захватывают поездки, поднимая мой дух. Дороги в штате Мэн! Где со времен создания земли не ездили в экипажах на колесах! От Фолмаута к Поуналборо сплошные глухие места, поросшие густым лесом. Мой конь то и дело оступался на корнях и сваленных стволах. Когда мы прибыли к месту назначения, там не оказалось постоялых дворов, мы нашли лишь дом с одной-двумя кроватями, а нас было полдюжины. И никакой пищи. — Все герои приезжают домой тощие и голодные. Наша кладовка набита провиантом, а спать ты будешь в постели, где разместятся трое… Казалось, он увидел ее впервые в жизни. За несколько минут до этого она развязала ленту, стягивавшую ее волосы, и они рассыпались по ее плечам, лучи заходившего солнца придали особый оттенок ее каштановым кудрям. Он уткнулся лицом в ее пышную прическу и прошептал, как хорошо быть снова с ней дома. Он поцеловал уголки ее губ, затем веки и процитировал из «Бедняка Ричарда»: «Нет ничего более красивого в мире, чем корабль под парусами и женщина с большим животом!» Вошла Рейчел с кувшином яблочного сидра. Джон жадно выпил и стал рассказывать Абигейл о том, что он зашел в дом Сэмюела в Бостоне перекусить перед отъездом в Брейнтри, что владелец «Бостон газетт» Бенджамин Идес, возможно, опубликует его очерк о каноническом и феодальном праве, о встрече с Джеймсом Отисом, который поздравил его с удачным выбором жены. Жена самого Отиса была властной дочерью богатого купца, связанного с королевскими чиновниками. Она презирала деятельность своего мужа, называя ее вульгарной и предательской. Разумеется, ничего предательского в ней не было, но некоторые идеи Джеймса Отиса и Сэмюела Адамса были новыми, необычными. — Подумай только! — воскликнул Джон. — Они убедили выборную Ассамблею Массачусетса пригласить другие двенадцать колоний Америки и созвать конгресс с целью недопущения гербового сбора. Абигейл была поражена. — Конгресс? Бывало ли такое ранее? — Однажды. Конгресс в Олбани в пятьдесят четвертом году для оказания помощи в войне с французами и усмирения индейцев. Он рассказал, что Бенджамин Франклин разработал для тринадцати колоний план Олбани, согласно которому они образовывали общее добровольное правительство, избирая делегатов, но сохраняя свою власть над внутренними делами. Федеральное правительство должно было обладать правом взимать налоги, строить форты, покупать земли у индейцев, набирать армию… — Король и парламент сорвали план? — спросила Абигейл. — Увы, это сделали мы сами. Колонии боялись, что другие ущемят их независимость. Но план Сэма и Отиса настолько прост, он гениален! Другие колонии также заинтересовались. Видишь, Нэбби, Англия никогда ранее не обращалась с намикак с подданными. Если мы будем действовать сообща, тогда парламент и министерство отступят. Если мы не хотим, чтобы они действовали как плохие англичане, то сами должны действовать разумно, и тогда-то империя останется свободной. — Я понимаю, — серьезным тоном ответила Абигейл. На ее глаза невольно набежали слезы. — Наши дети должны родиться свободными англичанами. Это самый почетный титул в мире. Сэмюел и Отис предложили еще одну оригинальную идею: учредить комитеты связи, группы жителей Массачусетса, которые напишут письма жителям других двенадцати колоний, чьи интересы схожи, хотя они и не знакомы лично, выражая возможно резче свое отношение к закону о гербовом сборе, рассылая памфлеты и статьи, опубликованные в «Газетт». Получателей таких писем попросят дать ответ и, в свою очередь, написать жителям других колоний, о которых они слышали, коллегам — священникам, торговцам, судовладельцам, врачам, адвокатам, ремесленникам, имея в виду создать сеть переписки, охватывающую Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильванию, Мэриленд, Делавэр, Виргинию, Северную и Южную Каролины и Джорджию и включающую сотни, в конечном счете тысячи людей, которые хотят предотвратить превращение разрушительного законопроекта в закон. К концу месяца возник еще один план. Действуя за сценой, Отис и Сэмюел Адамс сплотили группу, назвавшую себя «Верной девяткой». Это был комитет, созданный для действия. Какого действия? Никто не был уверен. Время и обстоятельства продиктуют, как лучше всего действовать. Отис и Сэмюел Адамс не могли лично войти в эту группу по той причине, что были избраны в Общий суд Массачусетса. «Верная девятка», которой Бенджамин Идес предоставил страницы своей «Газетт», состояла из солидных людей, процветающих лавочников и квалифицированных ремесленников, никогда не ввязывавшихся в споры. Их штаб-квартирой стал винокуренный завод «Чейз энд Спикмен» на Ганновер-сквер. Их заседания, подобно переписке, наводнившей страну, были секретными. Джон согласился присутствовать на заседании при очередной поездке в Бостон.
6
Вернувшись с церковной службы, Абигейл накрыла обеденный стол в гостиной своей лучшей скатертью и разложила салфетки. Она ожидала визита Джонатана и Эстер Сиуолл. Это была пара, которая вмешалась, когда Джон был на грани неосторожного заявления о возможной помолвке с Ханной Куинси. Эстер Куинси приходилась Абигейл отдаленной кузиной, — какой по счету, Абигейл плохо себе представляла, — и была на шесть лет старше. Джонатан на семь лет старше Джона, он был его самым близким другом еще со времен учебы в Уорчестере. Какая прекрасная пара, подумала Абигейл, открывая им дверь и восхищаясь накидкой Эстер из шелковой парчи цвета нефрита и ее туфельками из такой же ткани. Эстер и ее сестра Дороти, за которой ухаживал школьный друг Джона, Хэнкок, по праву считались красавицами в семье Куинси. Живая Эстер обладала заразительной способностью шутить и, хотя она призналась Абигейл, что, выйдя замуж за Джонатана, не прочитала ни единой книги, оставалась тем не менее острым наблюдателем. Джонатан занялся довольно поздно изучением права, но сумел стать одним из наиболее способных адвокатов в Массачусетсе с доходной частной практикой. Ему покровительствовала корона, и его включили в список кандидатов на пост прокурора. Его дядя Стефен Сиуолл был главным судьей колонии Массачусетс. Абигейл слышала, что Джонатан мечтает сравняться с дядюшкой. За столом царило веселье, Джонатан и Эстер были полны жизненной энергии. Сиуолл любил пошалить; находясь в Гарварде, он умудрился бросить в окно камень и попал прямо в постель профессору. Эстер буквально распирало от семейных сплетен и сельских прибауток: о тетушке Нэлл, сломавшей за обедом два зуба и старавшейся скрыть, что она их проглотила; о мистере Рейбене Баррелле, оставившем сваренное им жидкое мыло в бочонке, стоявшем в пристройке над колодцем, а пол под бочонком провалился. Джонатан доверительно сказал: — Я работаю весь день с огромным напряжением. Завершив работу, люблю посмеяться. Смех от души — чудесный дар природы. Я стараюсь им пользоваться. Я смеюсь не потому, что слышу что-то смешное. Я смеюсь первым. Такой смех порождает желание быть забавным, позволяет заглянуть внутрь вещей, отпустить лаконичную остроту, извлечь абсурдное из цепи событий. Однако после обеда Джонатан Сиуолл стал серьезным. — Джон, я пришел, чтобы отговорить тебя от дальнейших выступлений против законопроекта о гербовом сборе. Это совершенно законный и действенный парламентский акт. Акту невозможно помешать, он вступит в силу первого ноября. Но ты можешь навредить самому себе. Да и уже навредил. — Не согласен, Джонатан, — мягко ответил Джон. — Закон о гербовом сборе — это лишь начало. Присвоение права облагать налогом есть по сути своей претензия на захват. Вскоре парламент сможет отобрать у нас все, что имеем. Джонатан повернулся к Абигейл: — Ты не возражаешь, если мы обсудим это? Он проявил чуткость; его первый ребенок родился мертвым, и он не хотел расстраивать Абигейл. — Нет, Джонатан, нет, если вы спокойно, бесстрастно обсудите дело. Джонатан повернулся к Джону: — Подумай о заслугах Англии. За сто тридцать лет существования американских колоний кто давал и кто получал? Англия вложила миллионы фунтов стерлингов в колонии, помогая нашему развитию. Разве есть что-то неразумное в том, что нас просят оплатить двадцать пять процентов расходов на содержание войск? Обеспечение безопасности наших северных границ фактически поставило Англию на грань банкротства. У нее так много долгов, и англичанам приходится платить больше, чем нам, налогов. Это ведь тоже наш народ, наше правительство, которое просит помочь ему в кризисные годы. Мы беззаботно и небрежно относились к его простым просьбам: занимались контрабандой, фальсифицировали счета, игнорировали законы. А что делали корона, министерство, парламент? Успокаивали нас, снимали ограничения, которые мы называли давящими или тяжелыми… Где, в какой другой империи отчизна проявляла такое терпение? Почему мы не можем принять нашу долю ответственности за отчим столом? Неужели мы оставим в истории след нищих духом в этике и морали, которые проповедуют нам священники? Боже мой! Мне противно видеть себя в зеркале, когда бреюсь утром. Я, желающий выплатить свою долю, чтобы оставаться свободной республиканской империей. Мы вопим о свободе, но не потратили и пенса, чтобы поддержать эту свободу. Наша империя осаждена врагами: Францией, Испанией, Голландией, Россией — все они хотели бы вытеснить наш великий флот с морских путей и взять нас за горло в расчете, что мы капитулируем и станем их рабами. Но почему нам не предложить помощь? Или согласиться на скромное содействие? Разумеется, нет! Ты знаешь, в кого мы превращаемся, Джон? — В кого? — В монстров. Сиуолл возвысил голос, затем наступила болезненная тишина. Посмотрев на Абигейл, он продолжал более спокойным тоном: — Я знаю, что мне не удастся убедить Массачусетс в этом, братец Адамс, в условиях, когда твой друг Джеймс Отис и кузен Сэмюел внушают нашим людям ненависть и стремление к бунту. — Ну, Джонатан, не станем клеить ярлыки. Подобно тебе, Отис и Сэмюел делают то, что, по их мнению, они должны делать. — Ты один из самых дорогих мне друзей. Ты знаешь, что я люблю тебя, братец Джон. — Да, братец Джонатан. — Тогда позволь мне со всей страстью и красноречием, на какие я способен, попросить тебя не присоединиться к недовольным. Англия вправе получить от тебя лучшее. Поскольку ты любишь Англию, как я люблю ее, будь послушным, будь верным ей в тяжелые времена, с тем чтобы ее силы приумножились. Докажи, что Бостон и Лондон один и тот же город, населенный подлинными братьями-англичанами. Джон также изучал выражение лица Абигейл. Она кивнула, что можно продолжать. — Я готов на любые жертвы, чтобы доказать это, Джонатан, но не согласен с тем, что не имеет смысла. Мы не поможем Англии, позволив ей уничтожить наши права. Если мы откажемся от законных прав самим улаживать наши внутренние дела, собирать наши собственные налоги, мы потеряем для Англии и для самих себя всякую ценность как народ и колонии. Мы можем быть хорошими англичанами, сражаясь за наши политические права с той же решительностью, с какой бароны отстаивали в тысяча двести пятнадцатом году Магна Карту,[15] а впоследствии Долгий парламент[16] свою независимость с тысяча шестьсот сорокового по тысяча шестьсот шестидесятый год. Мы лучше послужим Англии, оставаясь сильными. Мы останемся сильными, если никому не позволим ослабить или перечеркнуть наши конституционные и уставные гарантии. От этого я не отступлю. Джонатан вздохнул: — Должен сказать тебе еще одну вещь, Джон. Молю Бога, чтобы ты прислушался. Это опасный курс. Отказываться выполнять законы Англии — это предательство. — Послушай, Джонатан, — вмешалась Абигейл, — Джон отказывается признавать антиконституционный акт. Это нельзя считать предательством. — Возможно, начало не в этом. Но этим закончится. И какие будут для тебя последствия? Потеря юридической практики. Осуждение… — Боже Всевышний! Джонатан, невозможно заточить в тюрьму четверть миллиона жителей Массачусетса. — Весь наш народ? Нет. Но лидеров? Да Отиса, Сэмюела Адамса, «Верную девятку», их всех можно арестовать… Абигейл мимикой дала мужу понять, что она узнала все то, что хотела. — Спасибо, дорогой друг, — сказал Джон, поднимаясь быстро из кресла. — Я понимаю, ты хочешь защитить меня. Но как можно защитить человека от самого себя? Я не буду участвовать в судах, где требуется гербовый сбор, и не стану наклеивать на юридические документы марки, присланные из Англии. Не станут делать этого и многие другие. Мы просто закроем суды. Это вызов, согласен, но не предательство. Если я не могу вести честный спор с родной страной, то, по мне, лучше участь сироты. Арест, суд, тюремное заключение… этого не будет. К удивлению Абигейл, глаза Джонатана наполнились слезами. — Ох, мои дорогие друзья! — скорбно воскликнул он. — Надеюсь, горячо надеюсь.Ее ребенок родился на следующий день, четырнадцатого июля. При первых признаках близких родов Джон убрал из комнаты письменный стол и кресло, заменив их жесткой койкой, какую предпочитали повитухи. Иногда женщинам приходилось проводить дни, даже недели в комнате для родов, но Абигейл сильно тянула за кожаные ремни, которые повитуха прикрепила снизу койки. Казалось, что и сам ребенок торопился выйти на свет божий, и вскоре после нескольких схваток Абигейл разрешилась девочкой с красным лицом, редкими влажными волосами на голове, но прекрасно сложенной. Убедившись в этом, Абигейл мирно заснула и спала чуть ли не сутки. Проснувшись, она позвала Джона и спросила его: — Ты не разочарован, что не мальчик? — Мне всегда хотелось иметь дочь. У нас еще много лет впереди, будут и сыновья. — Как назовем малышку? — Почему бы не Абигейл? Я неравнодушен к этому имени. Очевидно, и в вашей семье каждое поколение имело свою Абигейл. — Кто же побежит тебе навстречу, когда позовешь? — Обе. Хозяин дома вправе ожидать этого. Волнение Абигейл улеглось; ребенок в люльке не производил того впечатления, что ребенок в ее собственном теле. Затем девочка взяла грудь. Абигейл проводила чудесные часы, кормя дочку, ей казалось, что прошлое и будущее слились воедино в хрупком тельце на ее руках. Она радовалась, делясь с дочерью жизненным эликсиром, вскормившим бесчисленные поколения. Она изумлялась, есть ли что-либо другое, сравнимое с чудом создания человеческого существа из собственной крови, костей, мышц. Может ли человек познать иное, столь же полное чувство свершения? Она смотрела на сонное лицо Джона, жалея, что ему неведомо такое ощущение. Подошло время визитов друзей и родственников из Уэймаута, Бостона, Чарлзтауна; родственников из кланов Смитов, Бойлстонов, Куинси и Адамсов, церковных старост из Уэймаута, которые присутствовали при ее крещении двадцать один год назад. Крошку Абигейл, одетую в белое с накидкой платье для крещения и завернутую в мягкое шерстяное одеяло, отец принес на руках на первую для нее службу с участием нескольких десятков родственников. Абигейл стояла поодаль в светло-зеленом платье, которое она сшила сама за время отсутствия Джона. Поцеловав ее, Джон прошептал: — Ты краше, чем когда-либо. Она сама чувствовала, что ее кожа стала более гладкой и белой, волосы — более темными и блестящими, глаза и губы — более влажными и почти всегда улыбающимися. Ну а фигура! Она казалась ей самой хрупкой и гибкой… Она попросила Рейчэл накрыть стол в гостиной, принести подносы с горячими пышными пирожками, подававшимися в таких случаях по традиции, и бочонки с вином, которые хранились в самых прохладных местах подвала. Участники крестин вернулись в дом, к ним присоединилась группа соседей Адамсов. Были преподнесены скромные подарки: подушечки для булавок, детские одеяльца, легкие белые простынки для лета и теплые фланелевые — для зимы, кашемировая ткань с восточным рисунком, нижние юбочки из тонкой шерсти, серебряные ложки, мешочки с золотыми монетками. Разлили по бокалам вино и провозгласили тост в честь двух Абигейл Адамс. Абигейл прошептала Джону: — Мы, девушки из рода Смитов, вначале производим дочерей. Если проявишь терпение, появятся и варианты. — В матке скрываются великие события будущности. — Джон Адамс! Дразнить — не остроумно. — Помни, моя любимая, слова Джона Коттона: «В отношении женщин верно то, что нельзя сказать о правительствах: плохие лучше, чем никаких». Нельзя ли то же самое сказать о моих шутках? Оправившись после родов, она стала приходить на чай в кабинет Джона, где он часами работал над своими очерками по каноническому и феодальному праву, оставляя открытой наружную дверь для проветривания. Постепенно она угадала его намерения: описать рождение и упрочение политической свободы в виде исторического исследования законов, конституций, хартий и показать, как в определенные века в условиях неких цивилизаций эти свободы утрачивались под гнетом императоров, тиранов, военачальников, правящих классов, религий. Он стремился систематизировать политические права Массачусетса и определить скрытые методы, с помощью которых эти права могут быть ликвидированы. Теплые летние вечера они проводили на крыльце кухни; Джон выносил столик из пристройки, зажигал масляную лампу и читал ей написанное за день. Его вибрирующий голос звучал громко и взволнованно. Он начал очерк цитатой своего любимого автора, доктора Тиллотсона: «Невежество и неосмотрительность — две главные причины гибели человечества». Затем прочитал собственные слова: — «На заре человечества абсолютная монархия, казалось, была универсальной формой правления. Короли и некоторые их крупные вельможи и военные осуществляли жестокую тиранию над народом, который по уровню своего интеллекта был чуть выше верблюдов и слонов, перевозивших солдат и средства ведения войны. В настоящее время, видимо, невозможно определить, благодаря чему в средние века народ стал в целом более смышленым. Но несомненен факт, что по мере усвоения и распространения в народе общих знаний произвол властей и угнетение ослаблялись и исчезали…» Он положил бумагу на стол и посмотрел на нее. Она тихо спросила: — Почему ты хочешь опубликовать это анонимно? — Таким путем можно избежать личных неприятностей. — Важные идеи должны быть гласными, почему в таком случае не подписаться и не отстаивать свою точку зрения? Он поморщился: — В политических спорах нападки обладают способностью размножаться. Приходится думать только о том, как защитить себя. Ей нравилась роль матери. Она удивлялась, почему ее волнует купание ребенка, изменение режима питания, тревога по поводу колик. Ведь все шло своим чередом. Нэб росла крепким ребенком и сладко спала свои двенадцать часов. К счастью, ибо Джон бурлил энергией. Когда они бродили по усыпанным камнями полям и заброшенному целое столетие железоделательному заводу, он рассказал о своих новых планах. — Единственный способ заставить министерство и парламент понять, насколько сильны наши чувства, — это на каждом городском собрании принимать письменные инструкции представителям в Ассамблее. Я обращусь с петицией о специальном собрании в Брейнтри. Она улыбнулась про себя: его лицо выдавало его план. — И ты назначишь себя в комитет, который составит инструкции? Джон откинул назад голову и добродушно рассмеялся. — Умна, моя Нэбби. И красива, — ответил он. — Как только собрание одобрит идею инструкций, я потихонечку вытащу свой документ, так хорошо обоснованный, что нечего ни добавить, ни убавить. Они осторожно прошли по прогнившим доскам мостка и заглянули в примитивную вагранку, выпавшие из нее камни лежали около ржавого маховика. Через минуту она посмотрела на мужа: — Мой друг — Макиавелли. Если ты будешь с такой скоростью плести интриги, то станешь главным судьей Массачусетса. — Это не интриги, душа моя. Это предвидение. Признание необходимости и решимость что-то с ней сделать. И сделать лучше других. Как ты думаешь, это не очень самонадеянно? — Ой, нет, дорогой. К тому же мы знаем, что работу получит желающий. Ему потребовалось всего несколько дней, чтобы составить проект инструкций. — Знаешь, Нэбби, настоящих отходов не бывает. Те простые законы, написанные мною для дорог Брейнтри, и серия канонических и феодальных законов научили меня, как писать инструкции. Он взял ружье и отправился на охоту, попросив ее прочитать рукопись.
«Во всех бедах, выпадавших на нашу страну, у нас не было такой большой тревоги и таких устрашающих опасений, как в данном случае. Наша верность королю, наше уважение к обеим палатам парламента и наша привязанность к собратьям-подданным в Британии таковы, что шаги, показывающие недобрые чувства в этой стране к нам, ощущаются больно и остро. И мы не можем более ограничиваться сетованиями, что многие меры последнего министерства и некоторые акты парламента направлены, как мы опасаемся, на то, чтобы лишить нас наших прав и свобод… Поэтому мы считаем со всей определенностью несовместимыми с духом обычного права и основными принципами британской конституции попытки навязать нам налоги, принятые британским парламентом, где мы никоим образом не представлены…»Джон обошел Брейнтри, собирая подписи «уважаемых жителей» под своей петицией. Когда было созвано собрание, его попросили как ответственного за митинг выступить первым. Он призвал учредить комитет по инструкциям и был выбран в него. Когда он зачитал свой проект другим членам в доме мистера Найлса, документ получил одобрение без поправок. На следующем заседании единогласно, без поправок были одобрены резолюции.
7
Массачусетс обладал удивительной особенностью: известия распространялись там по воздуху, земле и морю, которое связывало многие города. Случившееся в Бостоне становилось сразу известным в Салеме и Ипсвиче на севере, Конкорде и Уорчестере — на западе, Даксбери и Плимуте — на юге. Люди ездили во всех направлениях, но даже самые быстрые курьеры не были повинны в том, что насилие, происшедшее в Бостоне, стремительно пронизало атмосферу Массачусетса. В то время как Абигейл выясняла подробности в Брейнтри, Джон собирал шокирующие известия в соседней деревеньке. Он немедля вернулся домой, погоняя во всю мочь коня. Бостону, считавшемуся в Новом Свете городом заядлых спорщиков, насилие нравилось само по себе. Пуритане никогда не были смирными даже в отношениях друг с другом. Но город впервые увидел толпу, бегавшую по улицам с откровенным намерением покалечить, если не растерзать, сокрушить собственность. Абигейл встретила Джона в дверях. Они мрачно кивнули друг другу, a затем прошли в кабинет Джона, чтобы обсудить события, грозившие поломать их жизненные планы. — Чья версия первая? — Твоя. Брейнтри поближе. — Вот что дошло до нас: на Ньюбери-стрит около дома церковного старосты Эллиота утром собралась толпа. Несколько тысяч человек промаршировали по улицам с чучелом Оливера, повесили чучело на сук дерева, под которым проводила свои встречи «Верная девятка». — Оно называется Деревом Свободы. Сообщение о назначении Оливера распространителем марок, должно быть, прибыло из Лондона. — Думаю, что нет. Полагаю, что все это подготовка к тому, чтобы он не принимал поручения, когда оно будет доставлено. Повесив чучело, толпа пошла к ратуше, где заседали губернатор Бернард, заместитель губернатора Хатчинсон и совет. Потом толпа направилась к пристани Оливера и разрушила его новое здание. Полностью. Не осталось и щепки. — Я слышал, что толпа разрушила его дом. — Нет, еще не разрушила. Вначале сровняли с землей контору, где он собирался раздавать марки. Потом толпа пошла к его дому, перед входной дверью отсекла голову чучелу, поднялась на вершину Форт-Хилла и там сожгла чучело на костре, сложенном из досок его разнесенной в щепы конторы. Абигейл предложила перейти на кухню, где влажным полотенцем вытерла лицо Джона от пота и пыли. — Хорошо, — сказала она, — теперь расскажи мне остальное. Они говорили почти шепотом, словно заговорщики. Спалив чучело Оливера, толпа вернулась к его дому, поломала мебель, содрала со стен красивые деревянные панели, после этого закидала камнями заместителя губернатора Хатчинсона и шерифа, единственных мужчин в Бостоне, осмелившихся разогнать толпу. Дом Оливера устоял, но был поврежден. — Согласно той информации, какой я располагаю, только до завтра, — сказал Джон. — Утром Оливера посетят члены комитета и потребуют его отставки как распространителя марок. Согласится ли он? Согласится… если не хочет, чтобы его дом был снесен, как контора, и, быть может, сгорело его тело вместо чучела, сожженного на Форт-Хилле. — Джон, они не совершат убийства! — Толпа называет свое действие карательной справедливостью. — Он встал, подошел к окну, выходившему на Плимутскую дорогу, и хрипло спросил: — К тому же, кто они такие? — Толпа. — Кто организовал толпу? — «Верная девятка»? Или верные девяносто? Он быстро приблизился к ней. — А кто организовал верных девяносто? Абигейл уставилась на его лицо, бледное, искаженное гримасой. Она не пыталась даже ответить. — Кузен Сэмюел. Джеймс Отис. И я… — Ты, Джон? Но ты встречался с ними всего лишь раз. — Я помогал найти мотивы. Случившееся сегодня — это восстание. Против законной и конституционной власти. Восстания не происходят случайно. Идеи, доводы, призывы создают политический климат. В первую очередь толпа должна почувствовать, что ей есть за что бороться. Такое убеждение привносится людьми, возбуждающими эмоции, обеспечивающими логику, боеприпасы, веру действовать только так. Я не одинок, но первая публикация «Канонического и феодального права» была направлена на то, чтобы убедить общественность, что право на нашей стороне, и, приняв закон о гербовом сборе, мы будем уничтожены. — Политически, да. Но разумеется, ты не подстрекал кого-либо к насилию. — Политика, дорогая, это не философия, которую можно мирно обсасывать в монастырских кельях. Политика убила больше, чем религия и оспа. Он весь покрылся потом. — Итак, дорогой, не слишком ли много ответственности ты берешь на себя за случившееся? — Да. Но я должен сделать ясным для себя, что не они виноваты. Повинны только мы. Это не окончание насилия, а его начало. Мы должны смотреть в лицо фактам; мы все вовлечены в происходящее и отвечаем за него. Они сидели молча. Суровое предупреждение Джонатана Сиуолла словно возвело барьер между ними. Снаружи доносились звуки позднего лета: мужчины убирали на полях урожай, в прохладном хлеве животные переступали с ноги на ногу, скрипели телеги, везущие продукты на рынок, купец, дубильщик, медник делали свое дело в укрывшихся за деревьями мастерских. Неожиданно почувствовав себя плохо, она ухватилась за предплечье Джона в поиске утешения. — Мы не правы, не так ли? Разрушив контору Оливера, совершив набег на его дом, забросав камнями заместителя губернатора… Он сел, зажав свои руки между коленями, склонив голову к груди. Когда он поднял голову, в его глазах сверкнули искорки. — Оливер подвергся нападению. Разве есть какое-либо свидетельство того, что он представил в ложном свете характер нашего народа, наши религиозные принципы и принципы управления? Разве есть какие-либо указания на то, что он советовал министерству наложить на нас внутренние налоги? Или что добивался поста распределителя марок? Нет, ничего подобного нет. В таком случае слепая ярость толпы допустила в отношении него непоправимую несправедливость. Он помолчал некоторое время. — С другой стороны, позволь мне спросить. Пусть шурин Оливера, заместитель губернатора Хатчинсон, родился в Массачусетсе, но разве он не захватил четыре самых важных в провинции поста: заместителя губернатора, главного судьи, главного нотариуса, президента совета? Оливер занимает одно из самых высоких мест в правительстве. Вместо того чтобы предотвратить опасения и отчаяние нашего народа, они действовали вместе, мешая нам убедить министров в Лондоне не предпринимать поспешных, непродуманных, безумных действий в вопросе о гербовом сборе. Ныне же мы в Массачусетсе и Лондоне ведем себя подобно дикарям. Будучи не в состоянии оставаться в четырех стенах, они прошли по дороге к привлекательному дому Борленда, построенному владельцем плантации сахарного тростника. Они остановились выпить чай в коттедже преподобного мистера Уиберда. В доме стоял затхлый запах теологических памфлетов, разбросанных на столах, стульях и просто на полу. Священник, невзрачный, с искривленным позвоночником, был давним другом Джона. Они вернулись домой теплым вечером. По пути увидели первые лампы в окнах соседей. Воздух был насыщен ароматом мальвы. Джон отправился в свой кабинет. Абигейл заметила, что он молча стоит перед остывшим камином. В его глазах отражалась быстрая смена мыслей, а губы были плотно сжаты. — С точки зрения политической я могу оправдать то, что произошло вчера. Но, как юрист, не могу. Закон, не защищающий противника, не может действовать в момент вашего обращения к нему. Вот почему короткое слово «закон» так близко к слову «божество». Это единственная концепция, одинаково всех защищающая. Если я хочу сохранить порядок для себя, я обязан обеспечить защиту закона для моего противника. Многие в истории, стоя по колени в пепле, кричали: «Посмотрите, я выиграл! Я победитель!» Над кем? Сам того не ведая, он уничтожал сам себя в час триумфа. — Но как же с восстаниями, Джон, и революциями? На протяжении всей истории угнетенные народы восставали и убивали в борьбе за свободу. Он принялся ходить по кабинету. — Несправедливость незаконна. Право, ведущее к рабству, должно быть свергнуто. — Силой? — Если исчерпаны все законные возможности. — И лопнуло терпение порабощенных народов! Джон, не горит ли под нами почва? — Шатается, да, но не горит. Иногда нужна демонстрация силы, чтобы изменить пагубный закон. — Но демонстрация силы, как в Бостоне, может привести к насилию. Насилие незаконно. Единственный способ преодолеть законы — это прибегнуть к неприятным для нас незаконным действиям. О, дорогой, мы в тупике. — Безысходном. — Он грустно улыбнулся. Хотя Бостон успокоился, Абигейл почувствовала изменения в своей жизни. Джон отказался отозвать остающиеся три статьи из редакции «Газетт». Вторая статья была напечатана через пять дней после бурных событий. Имя Джона Адамса не было названо, но многие из группы, называвшие себя патриотами, знали, кто автор статьи. — Вскоре я лишусь работы как адвокат, — признался Джон. — Я должен собрать книги, привести в порядок счета, сократить наши расходы… — Они уже сократились. Из моих рук не ушла ни одна мелкая монета. Джон выезжал в Бостон через каждые несколько дней для встреч с кузеном Сэмюелом, Джеймсом Отисом и другими юристами, с которыми тесно сотрудничал: Гридли, Тэчером, Окмюти, Сэмюелом Куинси, Уильямом Брауном, Сэмюелом Фитчем, Бенджамином Кентом. Каждый раз он возвращался с нежным выражением на лице. Но Абигейл все же чувствовала напряженность. Город вроде бы простил Оливера, разгромив его дом, но в самом Бостоне продолжались волнения. Заместитель губернатора Хатчинсон все еще сопротивлялся посылке в Лондон официального протеста колонии залива Массачусетс. Оставалось всего два месяца до вступления в силу закона о гербовом сборе, как раз столько времени и потребовалось бы при самой благоприятной погоде добраться до Лондона и вернуться обратно. Девять колоний согласились собраться в Нью-Йорке на конгресс о гербовом сборе. Однако конгресс должен был открыться в октябре, что ставило под сомнение ноябрьскую сессию суда. Чтобы не расстраивать Абигейл, Джон неохотно обсуждал с ней вопросы политики, но она убедила его, что для нее такие беседы более естественны, чем разговоры с соседями о том, как удержать служанок от лишних трат в продовольственных лавках. — Массачусетс должен стоять твердо, — сказал ей Джон. — Мы стояли прочно в тридцать втором году, когда английское министерство приняло закон о шляпах, запретивший нашим скорнякам экспортировать бобровые шкуры. Этот закон остался бездействующим. — А что будет, Джон, если и колонии, и парламент будут стоять на своем? — Есть выход из положения. Джеймс Отис опубликовал блестящий памфлет «Подтвержденные и доказанные права британских колоний». Он выдвинул идею колониального представительства в парламенте. Здесь все считают это превосходным решением вопроса. Мы даже обсуждали возможность формирования американской аристократии. — Ты станешь лордом Адамсом, а я леди Адамс! Будешь ли ты заседать в палате лордов? — Она разыграла шутливую пантомиму, возложив на голову тиару и сделав книксен. — Единственное место, где я хочу служить, — это Верховный суд Массачусетса, — проворчал он. — Мне нужно прокормить семью. Я не встречал никогда такого любителя поесть, как крошка Нэб. Бостон был слишком нетерпеливым, чтобы бездействовать. 26 августа поступило известие, что в городе вновь вспыхнуло насилие. На Кинг-стрит около костра собралась толпа. По предложению уличного сапожника Эбенезера Макинтоша, жившего в южной части города, толпа разделилась на две группы. Первая направилась к дому адмиралтейского регистратора Уильяма Стори, где уничтожила значительную часть личных и официальных бумаг и разнесла в щепы внутреннюю отделку его красивого дома, построенного в стиле колониальной архитектуры Джорджии. Вторая группа пошла к дому таможенного контролера Бенджамина Хэллоуэлла, кузена Джона по браку. Там они разбили окна и выломали двери, оконные рамы и ставни, переломали изысканную французскую и английскую мебель, ворвались в винный погреб и опустошили его. Толпа захватила библиотеку, бумаги мистера Хэллоуэлла и унесла их неизвестно куда. Послышался стук копыт на дороге. Всадник остановился, привязал коня у дома Адамса и вошел внутрь. Это был Джошиа Куинси-младший, молодой кузен Абигейл, простецкого вида мужчина, косоглазый, добродушный и поэтому нравящийся всем; он направлялся домой в Маунт-Уолластон. В кабинет Джона ворвался солнечный луч, высветив напряженное лицо молодого Джошиа. — Толпы объединились, — рассказал он, — отправились к дому Хатчинсона. Вы не видели подобных беспорядков. Все восемнадцать окон, выходящих на Гарден-Корт-стрит, были выбиты. Все его картины, девятьсот фунтов стерлингов наличными, вся одежда и столовое серебро унесены. Были срублены даже деревья. На чем же остановится толпа? Абигейл в отчаянии покачала головой по поводу бостонских форм расправы, разрушения домов противников. — Вы не представляете, что сделала толпа с бумагами Хатчинсона! — воскликнул Джошиа. — Она выкинула его папки на улицу, втоптала в грязь. Вы же знаете, он собирал документы для второго тома «Истории колонии залива Массачусетс»? — Он один из лучших королевских чиновников, и его исторические работы написаны солидно, хорошо. Наступила мучительная пауза. Абигейл сказала: — Я слышу, Рейчел на кухне. Я прикажу ей накормить тебя. — Спасибо, кузина Абигейл, не нужно. Отец и твой дедушка Куинси ждут известий. Хотя значительная часть граждан представляла собой, по словам кузена Джошиа, «ослепленную яростью толпу», городское собрание Бостона приняло резолюции, резко осуждавшие насилие и призывавшие городских правителей подавлять в будущем беспорядки. Заместитель губернатора Хатчинсон, который с достоинством и отвагой перенес огромные личные потери, осудил впавших в безумие. Джон вернулся с виноградника Марты. Он обменялся с Абигейл мнением о насильственных действиях в Бостоне и спросил с горечью: — Почему толпа старается разрушить самые фешенебельные дома? — Вероятно, потому, что самые красивые дома принадлежат приверженцам короны, находящимся у власти, и у них есть деньги, чтобы их построить и отделать. Не звучит ли это цинично? — Это не цинизм, а бесспорный факт. Рейчел качала Нэб в кроватке, и то, что она услышала, расстроило ее. Абигейл поговорила с ней, заверив, что беспорядки до Брейнтри не дойдут, и, успокоившись, девушка занялась своими делами. По-иному чувствовала себя Абигейл; она несколько раз выходила в сад за свежими травами, к колодцу за холодной водой, отвлекаясь на размеренную физическую работу, а в голове гнездилась масса вопросов, которые она не могла задать мужу. Была ли на самом деле для Джона толпа безликой, безымянной? Знал ли он, кто плел заговор и зажег костер, уведомил бостонцев о времени и месте? Несет ли Джон ответственность за «демонстрацию силы»? Не скатываются ли они к предательству, как предсказывал Джонатан Сиуолл? Она должна дождаться ответа. Ожидание — удел женщин. Несмотря на то, что инструкции Сэмюела Адамса для Бостона были опубликованы на три недели раньше инструкций Джона, сорок поселков Массачусетса согласились с доводами Джона и списали его текст протеста. Инструкции Брейнтри были опубликованы анонимно, но не составляло тайны, кто автор. Кузен Сэмюел Адамс приложил руку к раскрытию тайны, как поняла Абигейл, когда тот посетил ее по пути на еще одно собрание. — Я больше горжусь и более тебя доволен, — прошептал ей Сэмюел, когда Джон удалился в кабинет, чтобы закончить бумагу, которую Сэмюел должен был взять на собрание. — Мы, Адамсы, сколотили бригаду. — Сэмюел, что будет? — Тупик. Марки доставлены, и их держат под замком в Касл-Уильям, куда сбежал губернатор Бернард. Конгресс в Нью-Йорке по вопросу о гербовом сборе принял сильную резолюцию, показывающую парламенту, что мы, колонисты, можем действовать сообща, когда наши права в опасности. Через несколько дней наша Ассамблея доложит губернатору, что практически каждый город и поселок в Массачусетсе отклоняют закон. — Ты на самом деле думаешь, что Бернард или Хатчинсон уступят? — Если этот закон вступит в силу, ни один торговец в Массачусетсе не станет покупать в Англии. Ни один из наших кораблей не выйдет в море с сырьем для Ливерпуля. Терпение, дорогая кузина. Мы не можем проиграть сражение, если будем вместе. — О, у меня есть терпение. Таким качеством обладают все матери. Сэмюел слегка потряс своей тяжелой головой, взглянув на нее с печальной улыбкой. — Мы теперь все стали матерями, беременными новым политическим ребенком. Помнишь, как мы называли наших детей — надеждой, милосердием и верой? Этот новый ребенок зовется независимостью. Она не решалась ответить, а он сказал: — Рождение идей тоже часть сотворения. Оно — вторая неделя работы Господа Бога после первых шести дней, в течение которых Он создал солнце и луну, сушу и море, рыб, змей, животных и человека. Новые идеи появляются реже, чем дети, их труднее зачать, родить, наделить достаточной способностью выжить. На сей раз у нас есть такая идея, одна из наиболее важных. — Независимость? И только-то? — Да, все! Об этом думают не только в Бостоне. Знаешь, что недавно признал губернатор Бернард? Что наши селяне говорят о разрыве с Великобританией как о самом обычном деле и заявляют, что, хотя британские силы могут овладеть побережьем и приморскими городами, они никогда не покорят внутренние районы! Что ты скажешь на это? — Скажу прямо, Самюел, что напугана, что не могу понять вашу «независимость». Джон работает не ради войны. Он борется за то, чтобы восстановить наши права английских подданных. — Англия не позволит нам этого. В министерстве и в парламенте нет никого, кто когда-либо посетил Америку. Наши друзья в Лондоне — великий Питт, Бёрк[17] — не возьмут верх. Этот кризис не война, а сражение, начало затяжной, кровавой кампании. Возможно, я плохой производитель солода, но приличный предсказатель в политике. — Ты хороший политический прозелит, Сэм, да, так. Ты пытаешься привить людям новую политическую веру. Но тебя могут сжечь на костре как политического противника, если будешь неосторожен. — Ну и хорошо, я всегда мечтал стать мучеником. — Сэмюел поцеловал ее в щеку. — Но мне никак не удавалось. Я слишком прост. Но есть Джон, он прекрасно подходит для такой роли. Я представляю его пишущим на вершине огромного костра трактат, который доказывает, что сжигание на костре незаконно. — О чем вы говорите? — спросил Джон, стоя в проеме дверей. — Почему я сижу на костре и строчу трактат?.. Абигейл вздрогнула. — У твоего кузена мрачный юмор.8
По мере приближения первого ноября население Бостона приходило во все большее возбуждение. На улицах собирались митинги, горели костры, проводились парады, звучали речи. Дети не посещали школы, деловая жизнь приостановилась, словно пыль, в воздухе висели отчаяние, брань, запугивание. На своей сборной площадке на Ньюбери-стрит под Деревом Свободы, на ветвях которого были повешены чучела Оливера и казначея лорда Гренвила, «Верная девятка» переименовала себя в «Сынов Свободы». В Уэймауте преподобный Смит отказался от своей прежней философии, что проповедники должны стоять в стороне от политики. Доктор Коттон Тафтс выкроил время, чтобы помочь написать инструкции для законодательного собрания Уэймаута. Губернатор Бернард был вынужден заявить, что марки, хранящиеся в Касл-Уильяме, не будут распространяться. Оливера принудили повторить, что он не будет служить распространителем марок. Судей Адмиралтейского суда заставили сообщить, что они не станут рассматривать судебные дела без присяжных, как это оговаривалось в законе о гербовом сборе. Совет не арестовал ни одного бостонца, получив после задержания Эбенезера Макинтоша предупреждение, что бостонская милиция откажется в случае нападения оборонять здание таможни. Жители Брейнтри решительно отвергали закон, но главные события развивались в Бостоне. Абигейл радовалась, что от Бостона ее отделяют десять миль. Она нуждалась в покое, поскольку Джон полностью втянулся в борьбу, проводил большую часть времени в Бостоне, стараясь держать открытыми суды в Массачусетсе. Но он и другие адвокаты потерпели поражение. В конце октября он вернулся из Бостона, отчаявшийся, измученный бессонницей. — Ничего? — Ничего. Лондон знает теперь, что девять наших колоний объединились в сопротивлении закону. Ассамблея Массачусетса выступила с твердой оппозицией совету. Но завтра суды закрываются, и они останутся закрытыми, пока парламент не признает своего поражения. Как долго? Месяц… год… десятилетие… — Завтра у многих будет траурное настроение. Он взглянул на нее с горькой улыбкой. — Верно. Губернатор Бернард созвал совет и приказал собрать милицию. Первый милиционер, появившийся на улице, разбил свой барабан. С милицией покончено. Утром зазвонят все колокола, и на Дереве Свободы вновь будет повешено чучело лорда Гренвила. В полдень чучело снимут с ветки, пронесут по улицам к виселице, вновь повесят, а затем разорвут в клочья. — Я думала, что театральные сцены незаконны в Массачусетсе? Он не обратил внимания на нотку сарказма. — Теперь все незаконно. Мы должны закрыть всю колонию. Кроме сельских ферм. — Он посмотрел на жену, его лицо оживилось. — Я расчищу лесной участок, купленный мною в Хэмлок-Суомп, затем луг в Роки-Ран. Откинувшись на спинку кресла, он добавил: — Во всяком случае, до сезона дождей. Она взяла ромовый пунш, приготовленный по ее просьбе Рейчел, и протянула ему. — Это поднимет твое моральное состояние и утолит жажду. Зимой у тебя будет время для исследований, как ты хотел. — Не знаю, Нэбби. Учеба не должна быть нашим последним прибежищем, спасающим от скуки. Человек должен браться за книгу с трепетным чувством, с каким обращается к невесте, предвосхищая неудержимое удовольствие… — В таком случае веди себя как твои предки-пуритане и получай удовольствие от своего чинного поведения. Ее замечание вызвало легкий смешок. Она помогла ему снять тяжелые сапоги для верховой езды, и он пошел на кухню, где Рейчел приготовила таз с теплой водой, чтобы вымыть руки и лицо, а затем ноги. Освежившись, он с аппетитом съел теплый обед и к ночи уснул летаргическим сном. Когда на следующий день мрачно зазвонили церковные колокола Брейнтри, он все еще спал. Наблюдая за ним, Абигейл пошутила: «Нелегко быть на сносях с пресловутым ребенком Сэма — независимостью». Прошло две недели. Теперь она знала, что ожидание может быть уделом и мужчины. Джон старательно читал, расчистил некоторые земельные участки, но оставался отчужденным, его мысли возвращались к почти парализованному Бостону, где его присутствие было бесполезным. Гавань Бостона была закрыта, английские товары не привозились. — Разве не странно, — спросил он Абигейл, — что не доставлено ни одного экземпляра закона и не прибыл ни один член комиссии? Прошло две недели, как закон вступил в силу. Эти странности поднимают мое настроение. Наступил декабрь. Выпавший снег слепил глаза. Абигейл решила не скупиться и приобрести некоторые предметы домашнего обихода, изготовленные в Америке. Они проехали в семейных санях Адамса по засыпанной снегом дороге кМаунт-Уолластону, желая узнать о том, что дедушка Куинси назвал «самой жаркой схваткой в этом районе за долгие годы». Звон колокольчика под дугой разносился далеко по заснеженному полю. Опершись своими узловатыми локтями на библиотечный стол полковника Куинси, словно на свою кафедру, преподобный мистер Смит наклонился к собравшимся вокруг стола. — Это было подлинное столкновение священников, — объяснял он. — То, чего мы, конгрегационалисты, старались избежать в Новой Англии. Проповедовавший в Хэнгеме преподобный мистер Гей утверждал, что исстари оружием церкви служили молитвы и слезы, а не дубинки, и советовал подчиниться властям. На ступенях молитвенного дома произошло чуть ли не восстание, люди советовали священнику заняться распространением марок. Преподобный мистер Смит возразил, произнеся в проповеди в Уэймауте изречение: «Кесарю — кесарево, Богу — Богово». — Я рекомендовал почет, вознаграждение и послушание добрым правителям, — говорил он слушавшим его, — и духовную оппозицию плохим правителям. По ходу действия я включил в проповедь декламацию на такую щекотливую и злободневную тему, как свобода.Прошел декабрь. Ни Верховный, ни внутренние суды не признали действующим закон о гербовом сборе. Нотариат и таможня были закрыты, деловая деятельность замерла. Джон то писал, то ворчал. Ежедневно он приносил ей несколько страниц своей будущей книги или же приглашал в кабинет посмотреть материал статей, которые он надеялся опубликовать в «Бостон газетт». Она стояла, часто с Нэб на руках, в окружении книг по праву, ощущая запах табака, чернил, иногда влажной бумаги, эманацию своего мужа, столь же сильную, как во время интимных объятий. Она прочитала часть, где Джон пытался ответить Уильяму Пиму, англичанину, опубликовавшему статью в газете «Лондон ивнинг пост», в которой тот утверждал, что «резолюция британского парламента может в любое время отвергнуть все хартии, какие когда-либо даровались нашими монархами». Джон писал: «Если какая-либо нарождающаяся страна заслуживает, чтобы ее ценили, — то это Америка; если какой-либо народ заслуживает чести и счастья, то это ее жители… Они наделены самым обыденным, радикальным пониманием свободы и самым высоким уважением к достоинствам. Они произошли от расы героев, которые, доверяясь Провидению, бросили вызов морям и небесам, чудовищам и дикарям, тиранам и чертям во имя религии и свободы… Это тот самый народ, мистер Пим, которому вы навязываете по дешевке угнетение на вечные времена». Абигейл восхищалась творчеством своего мужа даже в тех случаях, когда оно было пересыпано бранью. Его ворчливость была особой по своему складу. Она прочитала в одной из принадлежавших ей книг по истории Англии, что «англичане всегда страдали манией преследования». Иногда ей казалось, что это справедливо и в отношении англичанина по имени Джон Адамс. Он сказал ей, когда она, лежа в постели, вслушивалась в его слова: — Адвокатура представляется мне стаей подстреленных голубей. Их вроде перехватили, набросили на них сеть, и у них не хватает смелости взлететь. — Пытался ли ты убедить их? — Пытался. Меня начинают не любить. Но я убежден, что если мы подпишем коллективную петицию, включив в нее наши юридические и конституционные доводы, то это дало бы достаточно силы, чтобы обязать губернатора и прокурора разрешить открыть суды без их окаянных марок. Крошка Нэб заворочалась в своей кроватке. Джон вытащил полено из дровяного ящика, бросил его в камин, за экраном взлетел фонтан искр. Он прислонился к краю камина, глядя на огонь и продолжая сухим тоном, звучавшим как признак отчаяния: — Затянувшиеся праздность и безделье внесут расстройство в мои дела, если не повергнут меня в отчаяние и лишат способности ответить на требования, которые мне потом предъявят… Столь неожиданный перерыв в моей карьере весьма печален. Я едва успел войти в нормальный режим, только поднял паруса, и вот на судно наложено эмбарго. Тридцать лет жизни потрачены на подготовку к бизнесу. Мне пришлось бороться с нищетой, завистью, ревностью, злокозненностью противников, лишь немногие друзья помогали мне, вплоть до последнего времени я бродил в потемках и совсем недавно приобрел известность, завоевал скромную репутацию, когда появился этот отвратительный замысел, подрывающий мое положение, положение Америки и Великобритании. Самоупреки не были ей чужды. Еще до замужества она обрела такого рода опыт, когда слышала, как члены прихода Уэймаут изливали ее отцу свои горести. Уже в юные годы она поняла, что есть существенная разница между мужчинами-пуританами и женщинами. Женщины были мягче, устойчивее, мудрее в своих оценках настроений и событий. Мужчины любили жаловаться, нападать в процессе осуждения соседей и общей обстановки. Порой ей казалось, что конгрегационалисты сделали частью своей религии обычай проклинать себя и своих соседей если не до потери рассудка, то в любом случае до душевной боли. «Это, — думала она, глядя на сгорбленную спину страдавшего мужа, — особая форма пуританского самобичевания. Иногда допускается выпить ромовый пунш или стаканчик вина. Мы можем умеренно курить и не должны посещать театры. Прелюбодеяние смертельно наказуемо, а за половое сношение полагается кнут, заточение, обрезание ушей. Нам не разрешается взимать ростовщические проценты и требовать очень высокие цены за наши товары. Законы, определяющие расходы, жесткие, мы не можем носить драгоценности и дорогие кружева. Согласно нашей религии, мы не должны обожествлять материальные ценности и выставлять напоказ наше богатство. Помимо любви к жене и детям, дому и профессии пуританину трудно найти иные удовольствия. Поэтому неудивительно, что бедняк вынужден обращаться внутрь себя, чтобы слить воедино поля сражения и мирового театра. Я могу их пожалеть, если они не питают жалость к самим себе». То, как ухаживал за ней Джон Адамс, не опровергло ни одно из ее предположений. — Мой дорогой! — воскликнула она. — Разве нет обнадеживающих признаков? Наши торговцы получили от лондонских производителей, у которых они перестали покупать, корреспонденцию с обещаниями поддержки. Ни один королевский чиновник не желает распространять марки или открывать Адмиралтейский суд без присяжных. Он повернулся, глубоко вздохнул. — Да, есть хорошие признаки. Когда, наконец, были доставлены полномочия Оливера пару дней назад, его заставили пойти к Дереву Свободы и публично отклонить данное ему поручение. Мой старый друг прокурор Окмюти, да благословит его Господь, имел смелость посоветовать судовладельцам и королевским чиновникам выпускать суда из гавани без марок. Таможня может открыться… — Не следует ли из этого, что и суды откроются? Если суда могут отправляться в плавание без марок, то почему не постановления? Через несколько дней открылись таможня и порты. Корабли, давно стоявшие с грузом у причала, отплыли в Англию. Немедленно в Фаней Холл был проведен митинг с единственной целью добиться открытия судебных учреждений. На следующий день, когда губернатор Бернард входил в ратушу для встречи с советом, его глазам предстал плакат:
9
В Джоне Адамсе было нечто от сил природы: в глубинах своего организма он набирал энергию, способную опрокинуть все на ее пути. Если при этом он доводил жену до истощения, то это входило в брачный контракт, заключенный ею и надежно вшитый в досье Джона. Она не могла ничего изменить в муже. Потяни за спущенную петлю — и надорвешь ткань. Она уделяла много времени дочери, которой исполнилось шесть месяцев. Дочь росла задорным, спокойным ребенком с широким отцовским лицом и полной фигуркой, и ее глаза все больше походили на глаза Джона. Абигейл не могла определить для себя чем: безмятежностью или серьезностью взгляда. Когда Джон вернулся из Бостона, он показался ей задумчивым. Вместе они прошли по глубокому снегу на Пенн-Хилл, пытаясь отыскать старую тропу. В морозном воздухе дыхание клубилось белым паром. Помогая Абигейл подниматься на вершину, Джон рассказал, что довольно успешно справился с задачей. Их выслушали вечером в зале совета. Губернатор, в пурпурной мантии и в парике, удивил, потребовав, чтобы члены совета говорили по очереди, каждый должен представить различные стороны дела. Гридли и Отис вполне резонно попросили, чтобы их младший коллега взял слово первым. — Я так и поступил, но был холоден. Холоднее этого декабрьского воздуха Думаю, от меня ожидали взволнованную речь, но я оставался в рамках юриспруденции. Впрочем, как и вся наша тройка. Но мы высказали все, что требовали интересы дела. Наступила рождественская неделя. Второй сильный буран замел снегом все поля. В Новый год к ним пришли с традиционного приема, устроенного полковником Куинси, Коттон и Люси Тафтс. Коттон благодаря тому, что постоянно разъезжал по дорогам Массачусетса, составляя свой справочник медицинских предписаний и убеждая коллег учредить в Бостоне общество, обладал, как никто другой, широкими контактами с врачами. — Большинство принадлежит к патриотам, используя твой термин, Джон; но удивительно, многие все еще мечтают об ассоциации с Англией. Там учились они или их отцы и деды. Слишком многие принадлежат к англиканской церкви, как и большинство землевладельцев в округе в Маунт-Уолластон. Они верят, что король, министерство и парламент не могут поступать плохо. Марки не требуются для лечения горла, зачем тогда волноваться по этому поводу. На следующий день Джон прогнал свой рогатый скот по глубокому снегу к полынье доктора Савила у водопоя. Он вернулся к вечеру с раскрасневшимися щеками, набравшийся сил от прогулки. С ним пришел его брат Питер. Они сели ужинать перед плитой на кухне, в самом теплом месте дома. Питер был скромным, молчаливым человеком, подававшим голос только тогда, когда к нему обращались. Абигейл ценила его за преданность Джону, которого он бесконечно и бескорыстно любил, не питал к нему зависти в своем сердце земледельца. После десерта Джон объявил, что, по его мнению, ему следует выставить свою кандидатуру в городское собрание Брейнтри и занять там место отца. Не поможет ли ему Питер? Ведь он дружит со многими молодыми людьми в городе. Сможет ли он склонить их в пользу Джона? Глаза Питера засверкали. Абигейл сидела, положив руки на колени, в то время как братья анализировали раскладку голосов в Брейнтри. Нужно избрать пять представителей, все пять прежних участвуют в выборах. Чтобы выиграть, Джон должен победить одного из них. Старый враг Джона, владелец таверны адвокат Тейер, все еще держал под своим контролем собрание. Его клика настроена против Джона. Лидер группы англиканской церкви Клеверли, не осмелившийся публично голосовать против инструкций Джона, но настроенный против них, также станет противодействовать. Джон может рассчитывать на голоса людей, которым понравились инструкции, то, как он провел законы о дорогах, как продавал общинные земли. — Лучше я подсчитаю голоса, — сказал Питер. — Выборы в начале марта. Времени достаточно. Одна неприятность… Тейер покупает голоса. Каждому хочется выпить и закусить в его таверне. — Мы заранее знаем этих деятелей, — голос Джона звучал резко. — Не обращай на них внимания. Работай внутри своего округа. Если молодые поддержат нас… — Посмотрим. Восемь недель достаточно для расчистки поля и сева клевера. Я начну завтра. Питеру нужно было сделать всего тридцать — сорок шагов по снегу до своего дома. Джон подгреб угли в камине. — Что ты думаешь по этому поводу? — спросила она. — Когда Питер говорит «посмотрим» — это уже признак энтузиазма. Ты полагаешь, он так сдержан, потому что Бог наградил меня таким красноречием? Не заграбастал ли я все отведенное семье Адамс? Время обладает собственной сущностью. Каждый период ожидания имеет собственный рисунок. Для Абигейл этот был вышит золотыми нитями, ибо сообщения Джона о его деятельности в Бостоне были жизнерадостными. К нему обращались лица и группы, с которыми он ранее не был знаком. Когда он был на обеде у Ника Бойлстона, кузена по материнской линии, и встретился там с другим кузеном, Бенджамином Хэллоуэллом, таможенным контролером, дом которого был разрушен, тот яростно нападал на Сэмюела Адамса и Джеймса Отиса и вместе с тем признавал, что поведение Джона в деле патриотов было сдержанным. Когда Джон провел вечер с «Сыновьями Свободы» на винокуренном заводе «Чейз энд Спикмен», с участием винокура Джона Эвери-младшего, маляра Томаса Крафта, печатника «Бостон газетт» Бенджамина Идеса, медника Стефана Клеверли, капитана судна Джозефа Филда, ювелира Джорджа Тротта, то его включили как способного, объективного советника в роли противовеса Джеймсу Отису, бушевавшему в Бостоне, суждения которого не всегда совпадали с мнением патриотов. Губернатор Бернард поручил младшему брату своего заместителя — Фостеру Хатчинсону, пожелавшему председательствовать при условии, что ему не станут мешать марки, открыть внутренние суды и разморозить сотни накопившихся вопросов и дел. Работа обрушилась на Джона не только в день открытия суда в Брейнтри, но и в Бостоне, где ранее незнакомые люди обращались с просьбами составить заявки и вести их судебные дела. Джон отложил в сторону политические статьи, освободил длинный и письменный столы для клиентов. Абигейл сказала наивно сестре Мэри: — Забавно обнаружить, что в муже воплощены сотни различных мужчин. Разумеется, из двух-трех мужей, воплотившихся в нем, ей больше всего нравился адвокат Джон Адамс, склонившийся над юридическими документами с сосредоточенной миной специалиста. — Боже мой, как приятно работать по своей специальности! — Ты никогда не прекращал такую работу. — Посмотри, как красивы эти нескладно написанные просьбы! Знаешь, Нэбби, в жизни мало удовольствий, сравнимых с работой. Она — акт любви. Даже такое плебейское занятие, как делание денег… Человек должен прожить несколько месяцев без заработка, чтобы оценить, насколько это важно. Мы не должны боготворить богатство, но деньги вовсе не бездушный предмет для молитвы. Когда я веду дело, то обмениваю свое искусство на новое платьице для Нэб или на кусок говядины. Мне нравится зарабатывать. Мне нравится приобретать. Презирать деньги — ошибка, как и обожествлять их. — Тебе нелегко найти в Массачусетсе довод в пользу этой мысли. Каждое воскресенье, после церковной службы, заходил Питер, сообщавший, как идут дела. Он спокойно и настойчиво работал на Джона. Дядя Абигейл — Нортон Куинси, занявший в качестве выбранного лица место отца Джона, пришел на чай, чтобы обсудить соотношение сил в Брейнтри. — Племянница, ты пойдешь голосовать третьего марта? Решение вопроса может зависеть от одного-двух голосов. — Сколько женщин будут голосовать? — Немного. Главным образом вдовы, унаследовавшие ферму или дом. Не хочу влезать в твои дела, но ты имеешь облагаемое налогами имущество на сумму двадцать фунтов стерлингов, верно? Или личное имущество на пятьдесят фунтов стерлингов? Она прикинула, как оценивать в денежной сумме свое приданое: мебель, столовое серебро, ткани. — Да, дядя, у меня есть имущество на сумму пятьдесят фунтов стерлингов. — В таком случае ты должна голосовать. Заранее подтверди свои права. Все жители собрались по случаю сто двадцать шестой годовщины основания Брейнтри. Арбитром был избран Сэмюел Найлс, а клерком и казначеем — Элиша Найлс. Шесть основных кандидатов отдали свои бобровые шапки, они были развешаны на ограде скамей у дома собраний и к каждой прикреплен листок с именем кандидата. Имеющий право голосовать подходил к кафедре, где его имя сверялось со списком, и выдавалось пять бюллетеней. Джон пользовался правом голосовать, как и другие кандидаты. Избиратель шел по центральному проходу и опускал бюллетени в выбранную им шапку. Абигейл не спускала глаз с шапки Джона, пытаясь подсчитать отданные голоса. Нортон Куинси шепнул ей, что на его памяти голосование впервые имело значение не только для Брейнтри, но и для всей колонии: члены англиканской церкви стремились нанести поражение церковному старосте Пенниману, поддерживавшему патриотов. А те хотели провалить лидера англиканской церкви майора Миллера. Джон подошел к Абигейл, сидевшей на скамье Адамсов. Шесть шапок были принесены к кафедре и расставлены в ряд перед собравшимися. Арбитр вынимал бюллетени из каждой шапки, а Клер вел запись числа голосов. Абигейл оглянулась вокруг себя. Выражение удовлетворения или разочарования по поводу итогов считалось плохим тоном, однако в зале чувствовалось подспудное движение, а к концу подсчета голосов стал нарастать гул. Дядюшка Нортон Куинси, как ожидали все, получил наибольшее число голосов — сто шестьдесят. Церковный староста Пенниман был следующим — сто тридцать голосов. Корнет Басс мог рассчитывать на больший успех, если бы его сторонники, отправившиеся за выпивкой, не опоздали проголосовать. Майор Миллер провалился. Половина плюс один опустивших бюллетени проголосовали за Джона, что было неплохо для новичка. Джону предстояло задержаться для текущих обязанностей: подобрать сборщиков церковной десятины, надсмотрщиков, ремонтников, решить, как добиться хода местной сельди на нерест по реке Манатикьот. Абигейл шепнула ему: «Мои поздравления», — и отправилась домой подготовить закуски и разлить пунш, высоко поднимая локти по рецепту бабушки Куинси, чтобы «празднество началось поскорее».Парламент намеревался вновь обсудить закон о гербовом сборе. Заместитель губернатора Хатчинсон все еще отказывался открыть Верховные суды. — Я должен был бы восхищаться его последовательностью! — воскликнул Джон тоном, не выражавшим какого-либо восхищения. — Там где родившийся в Британии Бернард колеблется, здешний уроженец Хатчинсон предвосхищает любой наш шаг и ничего не боится, даже бостонской толпы. Подобно любому выкресту, он более ортодоксален по своим взглядам и действиям, чем член королевской семьи. Для короны он мощный бастион. Он станет нашим следующим губернатором. — Да поможет нам Бог. — Да поможет ему Бог. Он слишком горд, чтобы идти на компромисс. На следующее утро из Уэймаута пришло известие, что умер слуга преподобного Смита — Том. Он был глубоким стариком, служил еще у отца Смита. Джон запряг лошадь и коляску и отвез Абигейл в дом священника. В полдень они стояли на кладбище на могиле Тома. Вернувшись в дом викария, Абигейл села на кухне с Феб. — Феб, мой отец говорит, что он не станет покупать другого мужчину, он считает, что с этим надо кончать. Но он попросил меня узнать, не хотела ли ты поместить в бостонской газете объявление об освобождении. Отец записал в завещании: когда умрет, ты станешь свободной. Овдовевшая женщина посмотрела опухшими от слез глазами. — Свободная? Зачем мне свобода? Куда я могу пойти? Смерть освободила Тома. Когда умру, то стану тоже свободной. У нас нет иной доли. Как выбранное лицо Джон был назначен опекуном бедных, асессором, отвечающим за надзор над дорогами, связывающими соседние поселки, инспектором границ участков и школ. Он получал удовольствие от исполнения общественной должности; это позволяло глубже изучить законы и историю других поселков и понять, что лучше всего для Брейнтри. Когда пришло сообщение об официальном решении парламента отменить закон о гербовом сборе, семейства Адамсов и Смитов собрались в библиотеке дедушки Куинси, окна которой выходили на залив. Дедушка Куинси все еще считался родоначальником во всех политических делах. Полковник Куинси воскликнул: — Возрадуемся, что мы отомщены, но не будем злорадствовать! Мы не нанесли никому поражения. Мы просто убедили родину распознать свет. Бостон находился в двенадцати милях от Маунт-Уолластона — туда не долетал голос разума дедушки Куинси. «Сыны Свободы» и патриоты решили, что Бостон должен бурно отпраздновать событие. Сэмюел настаивал, чтобы Джон и Абигейл приехали на празднества. — Тетушка Элизабет просила остановиться у них, — сказала Абигейл. — Я смогу спокойно заняться некоторыми отложенными делами. Но они так и не увидели празднества в Бостоне. У Нэб начался кашель. Поначалу Абигейл подумала, что у дочки катар горла, но затем кашель усилился, и Абигейл поняла, что это коклюш. Вскоре заразилась и она сама. У Джона были свои осложнения. На его лице была печать раздражения, когда он вернулся с городского заседания Брейнтри, где надлежало выбрать представителя в Ассамблею колонии Массачусетс. На вопрос, что произошло, он ответил: — Ты можешь назвать случившееся пляской на могиле. Все окрестные поселки вышвырнули из своих ассамблей представителей, поддерживавших закон о гербовом сборе, и выбрали наиболее активно выступавших против него. Но не наш город! Покачивая кроватку Нэб, она думала: «Он говорил, что хочет заниматься не политикой, а личными делами, изучать и писать. Так почему же он так расстроен?» Словно читая ее мысли, Джон сказал вполголоса: — Откровенно говоря, я не хочу этой должности. Но думаю, что городское собрание должно было выразить мне доверие. — Джон, не фантазируешь ли ты? Городские заседают редко интересуются вопросами признательности. Он сидел молча, раздвинув ноги и опустив очи долу. Через несколько минут он поднял голову. — Недостойно быть столь щепетильным. Жалобу, высказанную тебе, я записал в дневник. Пойду вымараю ее. Если захочу всерьез податься в политику, я должен заниматься ею, как занимаюсь правом. Он пошел в свой кабинет, взял перо и вычеркнул шесть строк, выдающих ущемленную гордость. Усмехнувшись, Абигейл вытерла влажным полотенцем лицо Нэб и принялась мурлыкать мелодию «Крошка Салли Уотерс, сидя на солнышке», которую некогда напевала ее мама. Но вместо слов песни Абигейл нашептывала: «Ну и муж у меня. Он обременен слабостями, свойственными плоти и духу, но быстро замечает свои погрешности и готов искупить их».
10
Крошке Абигейл исполнился год, и она начала ходить, косолапя и крепко держась за палец матери. Она была миниатюрной копией отца: полненькое личико и тельце, яркие наблюдательные глаза, порывистые жесты. Абигейл усмехнулась: — Знаешь, Джон, выходя замуж, женщина должна быть готовой к тому, что, по меньшей мере, один ее ребенок будет напоминать мужа. Неудачи в политике испытал не только Джон Адамс. Джеймс Отис был смещен губернатором с поста спикера, несмотря на избрание. В отместку Ассамблея сняла заместителя губернатора Хатчинсона, Питера и Эндрю Оливера с постов советников при губернаторе, выбрав взамен совет патриотов. Губернатор Бернард лишил полномочий четырех избранных, произнес перед палатами «самую язвительную речь», о которой Джон рассказал Абигейл по возвращении из Бостона. Он поведал ей также о текущих судебных делах. Девушка-голландка обвинила Уильяма Дугласа в отцовстве рожденного ею незаконного ребенка. Процесс «Король против Фрэнсиса Кина» был вызван кражей бочки патоки. Дело «Король против Мэри Гардинер» свелось к обвинению «обычной сварливой задиристой женщины, возмутительницы покоя». Приговор о наказании: окунуть в пруд. — Все эти дела меня не касались, но я взял на заметку доводы и ловкие ходы адвокатов. — А нет ли хороших новостей, Джон? Да, были и хорошие новости. На встрече ассоциации адвокатов в Коффи-Хауз ее кузен Джошиа Куинси-младший был зачислен в число судей внутреннего суда. Были приняты правила, позволявшие молодым юристам, число которых росло, набираться опыта в Массачусетсе; требовалось четыре года для принятия в качестве юристов, и получения права на мантию адвоката. Ассоциация установила нормы старшинства и правила привлечения мошенников к суду. Каждая газета и памфлет, каждая официальная бумага и частное письмо, прибывавшие из Англии, продолжали отражать положительные настроения. Во всех государственных документах отмечалась крайняя осторожность. Даже решения палаты общин и рекомендации его величества относительно возмещения пострадавшим формулировались самым снисходительным языком. — Ты согласен с просьбой короля Георга возместить ущерб? — спросила Абигейл. — Да. Путем выделения Ассамблеей средств. Теперь, — заключил он, — мы снова можем жить мирно. Не думаю, что я рожден для противоречий. Они режут внутренности тупым ножом. И ставят меня в сомнительное положение, как теперь, когда я не одобряю многое, что сделали кузен Сэм и Джеймс Отис, чтобы возбудить толпу. Ее также радовало, что наступил мир. Она вновь забеременела. Кузен Коттон рекомендовал ей соблюдать двухлетний перерыв между беременностями. Ее пуританская семья и друзья нашли метод иметь столько детей, сколько захотят, если не допускать промашки в заранее намеченном сроке. Сестра Мэри была на три года старше Абигейл; она сама — на два года старше Билли; Билли — на три с половиной года старше Бетси. Сестра Мэри родила первого ребенка три года назад и с тех пор не забеременела. Мэрси Уоррен призналась, что хотя ее второй сын родился через полтора года после первого, следующего они ждали три года и еще два года четвертого. По расчетам Абигейл, зачатие наступило в октябре, а это означало двухгодичный перерыв между родами. Джон был рад, узнав от нее эту новость. Абигейл чувствовала себя хорошо, по утрам ее слегка мутило, а в полдень одолевала сонливость. Ко времени перехода на свободные платья она почувствовала внутри себя шевеление, схожее с движениями крыльев бабочки. Внутреннее озарение счастья придало ее глазам мистический блеск. Джон проявлял больше нежности, когда ее талия стала шире. В Уэймауте были в ходу приметы старых жен: если толстеешь в бока — будет девочка, если живот выпирает вперед — мальчик. — Толстей вперед! — приказал ей Джон. Он отправлялся на сессии суда, походя решая мелкие дела, споры, присущие Новой Англии, которые зачастую были для селян единственным развлечением. Во многих случаях обращения в суд рождались страстями, спором из-за городских должностей, наветами, ссорами и завистью. Тянувшиеся по многу лет, они дорого обходились сторонам. — Почему колонисты так задиристы? — жаловался Джон. — Отец говорит, что это началось с момента приезда поселенцев. Многие годы они приглядывались к личной жизни других, чтобы удостовериться в «спасении» человека, прежде чем принять его в свою конгрегацию. Когда пуритане «собирались» и заключали договор с Господом Богом, они обещали раскрывать малейший грех в своем сознании… и в сознании других. Отец говорит, что наши предки, благослови или покарай их, любили подглядывать, вмешиваться в чужие дела, шпионить и доносить. Когда образовывались первые конгрегации, они нуждались в «семи столпах» для основания церкви, и семь человек должны были выдержать публичный допрос, неведомый даже испанской инквизиции. Они утверждали, что небеса были их землей обетованной, и они создали в каждой крошечной общине, Бог свидетель, независимую республику. «Открывая другим свое духовное состояние», они сотворили особый вид конгрегационистского ада, до которого не додумались другие вероисповедания. Мой отец прилагал большие усилия, чтобы положить конец злокозненным слухам и вторжению в личную жизнь. Он говорил: «Живите в мире с соседом либо найдите себе другого проповедника». Поэтому жители Уэймаута реже обращаются в суд. — Я не гонюсь за деньгами. Но если я не возьму дело, его возьмет кто-то другой. Посмотри на кошелек с золотыми монетами — это наследство нашего сына. — Он добавил смиренно: — Я отнесу их на чердак. Над пристройкой было помещение с лестницей, о которой никто не знал и которая вела на потайной чердак. Из кирпичной трубы камина свободно вынимались два кирпича. Внутри было пространство, которое они называли особым банком Адамса. Сюда Джон прятал заработанные деньги за исключением той части, которая оставалась Абигейл на домашние расходы. Он зарезал корову, проредил и обрезал ореховые деревья и дубы: чтобы открыть доступ солнцу и воздуху, срубил несколько стоявших не на месте елей, закрывавших вид на ручей. Вечерами в гостиной перед камином Джон читал вслух «Политические речи» Юма, в дождливые дни работал над очерком «Кого следует считать лучшими людьми?», представлявшим собой ответ Джонатану Сиуоллу, который под псевдонимом Филантроп публиковал в «Бостон пост» серию статей на тему, каким великим был для Массачусетса губернатор Бернард. Роды вновь оказались легкими. Лежа на жесткой койке в родильной комнате, Абигейл благодарила Бога за выпавшую на ее долю удачу, а также за прекрасного сына, тощего, красного, телосложением похожего на сосиску. Джон был вне себя от радости. Он забросал ее подарками: цветами, кружевным платком, кольцом, тканью для платья. Спустя два дня после рождения мальчика в Маунт-Уолластоне умер ее дед полковник Джон Куинси. Ей разрешили не присутствовать на похоронах. Возвратившись, Джон сказал: — Мы подумали, что тебе захочется назвать мальчика в честь полковника. Она вытерла слезы и ответила с улыбкой: — Джон Куинси Адамс. Да, мне нравится это имя. Дедушка Куинси был хорошим человеком. Память о нем сохранится, если наш сын будет носить его имя. За радостью, вызванной тем, что она подарила мужу сына, последовало новое — чувство гордости. Абигейл хотела родить сына, но не была уверена, что ей повезет. Она понимала, что интуитивно найдет ответы на все вопросы дочери. Иметь дело с дочерью — своего рода продолжение игры в куклы: одевания в красивые платья, завязывания лент на прическе. Дочь была продолжением ее собственной знакомой жизни, сын приносил новое испытание. Абигейл была уверена, что он вырастет крепким мужчиной. Ей хотелось иметь больше мужской силы в доме и семье, даже если потребуется время для ее проявления. Она не станет облачать сына в изысканные одежды, предоставит ему свободу на ферме, пусть научится охотиться и ловить рыбу с отцом. Нэб будет оставаться дома, помогать в домашних делах и заниматься воспитанием малышей. Джонни же должен покидать пределы дома, быть независимым, с детства принять ответственность мужчины. Даже в возрасте нескольких недель он выглядел как мужчина, и ее любовь, не большая, чем к Нэб, была иной, более волнующей. Она ощущала, что, возможно, самое важное для женщины, имеющей сына, любить своего мужа. В таком случае мальчик получает возможность стать мужчиной сам по себе, таким же независимым, как отец. Ухаживая за Джонни, она была озадачена тем, что когда-то боялась этого. Расписание поездок Джона на оставшуюся часть года было определено в июле — Плимут, август зарезервирован для Суффолкского Верховного суда в Бостоне, в сентябре он должен присутствовать на заседаниях судов Уорчестера и Бристоля, в октябре — вновь в районах к северу от Плимута, затем — обратно в Кембридж, в ноябре — Чарлзтаун, на родине ее отца, в декабре — Барнстейбл и в третий раз — Плимут. Ее дни были заполнены многочисленными заботами. После ужина она читала в кабинете Джона бостонские газеты и газеты других поселков — Джон просил ее следить за событиями. По субботам было одиноко. Лежа в постели на высокой подушке, чтобы можно было видеть Нэб в ее кроватке и малыша — в люльке, Абигейл думала о том, что Джон должен завоевать широкую клиентуру, авторитет, чтобы иметь возможность вырастить свой молодняк. Казалось, что все дается им слишком дорогой ценой. Желание жить спокойно, без потрясений оказалось несбыточным. Уже спустя два месяца после рождения сына Джон предупреждал Абигейл, что формулировка решения об отмене закона о гербовом сборе не устранила возможность конфликта, но она сочла такое заключение следствием его склонности придирчиво вчитываться в парламентскую процедуру. Теперь же казначей Чарлз Тауншенд в роли главы британского министерства при Георге III провел через парламент три новых законопроекта. Они предусматривали получение средств от американских колоний. В Бостоне учреждалось специальное Бюро таможенных комиссаров для сбора пошлин с товаров, поступающих в американские порты только из Англии — с бумаги, стекла, типографской краски, чая и ряда других. Как можно было понять из первых английских газет, доставленных в Бостон, Тауншенд обосновывал свои законопроекты тем, что колонии выступали против закона о гербовом сборе, поскольку он вводил налоги на внутреннюю деятельность в Америке, а закон Тауншенда якобы вводил внешние налоги на ввозимые товары. Собранные средства должны пойти на оплату королевских чиновников в Америке. Это определит размер налогов и предоставит колонистам известную степень контроля над налогами. Новое Бюро таможенных комиссаров наделяется законными правами для сбора налогов, а также правом закрывать порты и открывать новые. Бюро может арендовать суда и набирать столько таможенников, сколько нужно для сбора пошлин. Штаб-квартира нового бюро будет находиться в Бостоне. Законопроекты предусматривали учреждение четырех новых адмиралтейских судов — в Галифаксе, Бостоне, Филадельфии и Чарлзтауне, с правом разыскивать, задерживать и подвергать суду американцев без присяжных и с участием судей, назначаемых из Лондона. Прошло всего шестнадцать месяцев с тех пор, как утихли страсти, вызванные законом о гербовом сборе. Джон спешно вернулся из объезда, нагруженный газетами, выходившими в Бостоне и Нью-Йорке. — Ассамблея Нью-Йорка распущена! — воскликнул он. — В чем она провинилась? Генерал Гейдж потребовал, чтобы Ассамблея предоставила казармы, средства и обеспечила снабжение британских солдат, которые будут там размещены без ее согласия. Нью-Йорк отказался. И теперь, согласно законам Тауншенда, Ассамблея распущена до тех пор, пока не подчинится генералу Гейджу! Если парламент может разогнать Ассамблею Нью-Йорка, то почему не Ассамблею Массачусетса? Виргинии? И Пенсильвании? Его трясло от ярости. — Законы Тауншенда хуже закона о гербовом сборе. Они опаснее предписаний о помощи шестьдесят первого года. Они якобы призваны собирать средства, на деле же направлены на подчинение колоний, постановку их под контроль, на отмену прав самоуправления. Если наши законодательные собрания не оплатят губернаторов и судей, те не станут прислушиваться к нашим словам. «Сыны Свободы» шумели в Бостоне: — …Мы пойдем по морю крови, оглушаемые ревом орудий. Слезы набежали на глаза Абигейл. Джон подошел к низкому креслу-качалке, в котором она раскачивалась, не скрывая волнения, и положил ей на плечо свою крепкую руку. — Мы не новички. Мы знаем, как действовать более быстро и решительно. Она посмотрела на мужа с загадочной улыбкой: — Я полагала, что мы вне политики. — Это, дорогая, не политика. Политика — погоня за должностью, стремление быть выбранным в Законодательное собрание. Сейчас же стоит вопрос о выживании. — Выживание означает конфликт. Так было испокон веков. — Так и есть: сопротивляться или пасть. Если парламент может принять закон о размещении войск в Нью-Йорке без согласия колонии, превратить Бостон в огромную таможню, контролирующую ввоз и вывоз из всех тринадцати колоний, собирать с нас деньги для оплаты своих чиновников, лишить нас права на суд присяжных, если он может делать все это, то что же он не может сделать с нами? Нам не разрешают избрать наших представителей в парламент. Как же можем мы продолжать позволять такому парламенту принимать законы, направленные против нас? Между Лондоном и Бостоном нет границ. Английские законы беспрепятственно пересекают Атлантику… Джон ходил взад-вперед по кабинету в тяжелых сапогах, оставляя следы на навощенном полу. — …Если мы не поставим преграду. Новая Англия сложена из камня. Мы соберем камни и построим волнорез, дамбу за тысячу миль к востоку. — Я верю — ты можешь! — сказала она. — Это и есть политика. Тебя не нужно выбирать, ты доброволец. Твои глаза блестят, щеки покраснели. Ты похож на человека, который избавился от праздности и желает выйти на арену, где дикие звери. После этих слов он покраснел еще больше. — Признаюсь. Чувствую, что в моей крови нет различия между политикой и правом. Я занимаюсь правом, я занимаюсь политикой. Как адвокат я работаю ради частного лица, как политик — ради колонии. — В качестве адвоката ты частный человек, ты и твоя семья. В качестве политика ты — общественная собственность, как общественные земли. Каждый может пасти свой скот на твоей траве. Любой возникающий конфликт тебя касается. Ты принадлежишь не только нам — Нэб, Джонни и мне. — Ты просишь меня стоять в стороне? Она твердо посмотрела ему в глаза. — Нет, Джон. Нас мало, мы трое зависим от тебя и малопригодны для борьбы, но мы пойдем за тобой до конца.КНИГА ТРЕТЬЯ ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ
1
В доме священника в Уэймауте новый, 1768 год был семейным праздником. Неуклюжий Билли, которому исполнился двадцать один год, а выглядел он все еще шестнадцатилетним, казалось, был доволен, находясь среди своих. Отобедав, они отодвинули стулья от стола, за которым, несмотря на тесноту, сидели тридцать человек. Завязалась беседа о законах Тауншенда. Характер противоборства изменился, ибо министерство подобрало со знанием дела пять новых таможенных комиссаров: Чарлза Пакстона — таможенного комиссара, обладавшего опытом работы в Бостоне, Джона Робинсона — сборщика налогов в Ньюпорте, в колонии Род-Айленд, Уильяма Берча и Генри Халтона — они только что прибыли из Англии, но уже пользовались репутацией людей, желающих сделать законы эффективными, Джона Темпла — бостонца по рождению. Министерство так удачно подобрало комиссаров, что «Сыны Свободы», превратившиеся из «Верной девятки» в организацию, подчинившую себе Бостон, переполнились решимости объявить бойкот всему, что выращивалось и производилось в Англии и облагалось большими налогами, — стеклу, бумаге, краскам и чаю. Последние месяцы 1767 года Абигейл провела в одиночестве; Джон все чаще уезжал в Бостон, где участвовал в политических митингах и во встречах с бизнесменами, жаждавшими его советов, в частности с бывшими клиентами недавно скончавшегося Джеремии Гридли. Вдруг Исаак Смит обратился к сидевшим напротив с вопросом: — Джон, когда ты и Абигейл переедете в Бостон? Рано или поздно вам придется это сделать. Ведь у тебя будет вдвое больше клиентов в городе. Абигейл и Джон посмотрели друг на друга. Они оба думали об этом, но не решались открыто обсудить. Неподконтрольные им силы расшатывали их интерес к Брейнтри. Если бы они жили в Бостоне, Джону не приходилось бы мотаться туда-сюда, спать где попало и так уставать, что у него не было сил добраться до дома в воскресенье. Абигейл вспомнила, как однажды вечером, появившись в Брейнтри, измученный, как его конь, он заметил: — Ехал верхом так долго, что невольно приходишь к мысли: мой зад куда важнее головы. Она любила свой коттедж, но переезд означал, что Джон будет уделять вдвое больше времени семье, ей и детям. — Нам не хочется, чтобы ты увез Абигейл и детишек за десять миль от нас, — комментировал преподобный мистер Смит, — но энергичные молодые люди в каждой стране переезжают в свои столицы — Лондон, Париж, Рим… — Дом — это корни, — заявил Джон, а затем импульсивно выпалил: — Но каким упорядоченным чтением, размышлениями или деловой активностью может заниматься человек, если сегодня он в Пауналборо, завтра — на виноградниках Марты, послезавтра — в Бостоне, а затем в Таунтоне, не говоря уже о Брэнсебле? Какое распыление сил! За столом послышался одобрительный шепот. В коляске, когда они возвращались домой, Абигейл спросила: — В деревне я чувствую себя как дома. Разве нам обязательно переезжать в Бостон? Ничего нельзя сделать? — У нас есть выбор, дорогая. Но суд Бостона разгребает все завалы. Нэбби, позволь мне проторить свою тропу. Она плотнее запахнула шубу. — Хорошо, будем ее прокладывать. — Мадам, к чему я стремлюсь? Какова цель моих исследований, испытаний, усилий плоти и ума, языка и пера? Стражду ли я денег или же гонюсь за славой? — Нет. — Меня так часто бросало из огня да в полымя, что не было свободного времени на досуге спокойно разобраться всобственных взглядах, целях, чувствах… Она заволновалась. — Мы продадим наш дом, нашу ферму? Он переложил поводья в левую, руку, а правой обнял ее. — Мы никогда не продадим наш дом. Он нужен нам на время летнего отдыха и праздников. Или для того времени, когда мы станем стариками или нам надоест жить в большом городе. Ее сердце забилось ровнее. — В какой-то момент мне почудилось, что могу лишиться корней, стать перекати-поле… Они решили не сдавать коттедж в аренду до весны, до окончания сезона дождей. Джон просил своих друзей подыскать возможных съемщиков. Когда список был готов, Бетси, которой вот-вот должно было исполниться восемнадцать лет, приехала из Уэймаута присмотреть за детьми. Джон вывез Абигейл в город. Тетушка Элизабет уступила им свою спальню. Несколько дней они осматривали дома, утруждая свои ноги подъемами по лестницам, а головы — бесконечным взвешиванием недостатков и преимуществ. Наконец она остановила свой выбор на приятном доме — он находился на юго-восточном углу Хиллерс-Лейн и площади Браттл напротив церкви. Это был двухэтажный кирпичный дом, выкрашенный белой краской и потому называвшийся Белым домом. Его фасад выходил на площадь и был отделен от соседнего дома широким проходом, засаженным кустарником и деревьями. Неподалеку находились Фанейл-холл и ратуша. Чтобы добраться до них пешком по мощенной булыжником площади Браттл, а затем через площадь у доков, Джону требовалось всего несколько минут. Джон предоставил ей право решать, но добавил: — Тщательно осмотри, как меблирован дом. Мне не хотелось бы заниматься перевозкой мебели. Если мы можем оставить коттедж в Брейнтри в его нынешнем состоянии… Это и определило ее выбор. Можно было снять более роскошный дом, но этот на площади Браттл имел преимущество: он был лучше меблирован, прихожая была просторной, лестница обшита деревянными панелями. В гостиной, окна которой выходили на площадь, у стены стояли девять стульев с прямыми спинками, перед камином — два кресла, напольные часы и стол с мраморной столешницей. На полу лежал кремовый ковер, занавеси на окнах были такого же цвета и поэтому комната напоминала обитель ее матери в Уэймауте. В малой гостиной на стенах между канделябрами из меди висели репродукции сцен охоты, на широком письменном столе красного дерева стояла стеклянная лампа, стены комнаты увешаны книжными полками. Джон вернулся из арендованной им конторы и застал Абигейл в малой гостиной. — Конечно, ты предполагала, что здесь будет мой кабинет. Я не стану перевозить сюда всю мою библиотеку, но лишь необходимые книги. Она снисходительно улыбнулась: — Книги, которые тебе не нужны, следует еще напечатать. Они осмотрели столовую и расставленную в буфетах посуду. В центре комнаты размещался овальный стол из красного дерева и восемь стульев, обтянутых красным бархатом. В кухне находилась не только утварь, оставшаяся с времен, когда здесь было поместье Джеремии Аллена, но и утварь снимавшего до них дом британского таможенного чиновника. Очевидно, тот решил, что выгоднее оставить здесь оловянные тарелки, дуршлаги, кастрюли, таганы, котлы и сковородки, а не везти их в Англию. Держась за руки, они вышли через заднюю дверь в сад. Сразу же за дверью стоял насос и цистерна, вмещавшая почти три тысячи литров воды. За решеткой сада скрывались два выкрашенных белой краской хозяйственных домика. Сад был удобен для домашнего хозяйства. Садовник посадил здесь горох, бобы, редис, турнепс, кабачки и шпинат. — Все лето мы будем питаться свежими овощами, — сказала Абигейл. Джон остановился на дорожке, ведущей в каретный сарай, и обнял Абигейл. Вернувшись в Брейнтри, Джон сообщил своим коллегам, что не может больше выполнять выборную должность. Городское собрание вынесло ему вотум доверия. Они переехали в Бостон в апреле. Абигейл решила взять с собой одежду, постельное белье и провиант, хранившийся в подвале. Джон позаботился о доставке. Абигейл выбрала для спальни комнату с камином на втором этаже, окна которой выходили на Хиллерс-Лейн и площадь Браттл. Там стояла кровать с балдахином и комод с мраморной доской, достаточно широкой для кувшинов и тазиков. В соседней комнате Абигейл разместила Джонни и Рейчел, которая ухаживала за ним, Нэб — вскоре ей исполнялось три года — получила отдельную комнату через коридор. Развитая не по годам, серьезная, она быстро запоминала колыбельные песенки и напевала их Джонни. Четвертая спальня в конце коридора предназначалась для посещавших Бостон членов семьи и друзей. Через день после приезда они отправились на Пёрчейз-стрит с визитом, Сэмюел в поношенной, но чистой рубашке был в своем кабинете, он писал, сидя перед камином. Хотя Джеймс Отис играл роль лидера в законодательном собрании, Сэмюелу приходилось составлять большую часть протестов, направлявшихся в Англию. — Как приятно, что вы прислушались к совету родственников и переехали в Бостон! — воскликнул он. — Ну, Сэм, ты советовал это шесть лет назад. — Неважно. На то и время, чтобы его тратить. Приветствуем вас в мятежном Бостоне. Если не ошибаюсь, я приглашал вас на чай, когда станете соседями. Бетси, чай готов? На Бетси было простое черное платье, оно придавало особый блеск ее коже и глазам. — Сэмюел, ты же знаешь, что мы никогда не пьем чай в пять часов. Это британская привычка, а ты презираешь все британское. Сэмюел положил ручку, которой писал. — Добро. Принеси вовсе не-чай с вовсе не-печеньем. И приведи вовсе не-моего ребенка. Сэмюел-младший был уже студентом Гарварда, и дома оставалась лишь Ханна. — Мы не мешаем написанию твоих зажигательных писем? — слегка поддразнил Джон. — Между прочим, довольно действенных. Мисс Абигейл, читали ли вы послания палаты, адресованные министерству, графу Шелберну, маркизу Рокинггэму и лорду Кэмдену? Бетси внесла чайные приборы. Абигейл взяла чашку ароматного китайского чая, дольку лимона, отколола кусочек от сахарной головы, продолжая обмениваться колкостями с Сэмюелом. — Покажи мне письмо, составленное тобой для англичан. Сэмюел порылся в куче бумаг, выудил одну. — Кое-что тебе покажется забавным, — сказал он, — после принудительного чтения сухих трактатов мужа. Прочту пару строк. «Вот, мой лорд, главные нормы конституции, которые, по скромному мнению, не могут быть изменены ни верховным законодательным, ни верховным исполнительным органом. Во всех свободных государствах конституция твердо закреплена; на ней законодательство основывает свою власть, поэтому оно не может изменить конституцию, не разрушая свою собственную базу. Если конституция Великобритании выражает в таком случае общее право всех британских подданных, то выносим на суждение вашего превосходительства следующее: может ли высший законодательный орган империи, осуществляя власть над подданными в Америке, выйти за рамки в большей мере, чем по отношению к подданным в Британии». — Написано не слишком плохо для человека, которому мать разрешила стать адвокатом. Городские Адамсы пишут гладко, — заметил Джон. — Поживем — увидим, — ответил Сэмюел. — Думаю, что ты приехал в Бостон в подходящий момент. Ты нам нужен.2
Условия жизни Абигейл внешне резко изменились. После переезда в Бостон чету Адамс каждый день приглашали в различные дома, дабы отметить их вхождение в круг бостонцев. Первыми это сделали Сэмюел и Бетси, организовавшие прием на пятьдесят персон, на который пришли Джеймс Отис, Бенджамин Идес, Джон Эвери-младший и многие другие торговцы и ремесленники из общества «Сыны Свободы». Их жены не были приглашены, и поэтому Абигейл оказалась в окружении оживленно беседующих мужчин. Ее озадачил вопрос: не является ли она женой одного из вожаков этой группы? И не попадут ли они, как говорится, из огня да в полымя? Ведь большинство гостей считали, что чета Адамс переехала в Бостон, чтобы лучше сражаться с парламентом. Когда ушел последний гость, Абигейл, поцеловав Бетси в благодарность за ее героические усилия, повернулась к Сэмюслу. — Сэм, я понимаю, ты делаешь вид, что это был политический обед. Но меня не проведешь. Среди гостей не было ни одного, кто не занимался бы некогда юридической работой. Сэмюел кивнул головой, как он делал всегда, будучи изобличенным. — Семье хватает одного плохого бизнесмена. Мне хотелось убедиться, что практика кузена Джона будет процветать, или же вы вновь затеряетесь за далекими рубежами Брейнтри. Дядюшка Исаак дал в их честь обед, пригласив коллег-судовладельцев и торговцев с женами. Женщины были элегантно одеты и причесаны по последней моде. Джона принимали его друзья-адвокаты: Роберт Окмюрти, Джонатан Сиуолл, ставший помощником генерального прокурора короны, Сэмюел Фитч, Бенджамин Гридли, Джон Лоуелл, Фрэнсис Дана. Кузен Абигейл Джошиа Куинси-младший пригласил молодых друзей на ужин в субботу. Джон Хэнкок, все еще ухаживавший за Дороти Куинси, устроил официальный прием, на котором струнный квартет исполнял произведения Баха. По этому случаю, дававшему возможность встретиться с богатейшей частью бостонского общества, Абигейл заказала у бостонского портного платье из парчи, обнажавшее ее красивые плечи. Подвязав нижнюю юбку и натянув платье, она прокомментировала: — Я рада, что ты решил найти в городе более доходную работу. Я уже израсходовала все деньги, которые ты намеревался заработать. Глядя на фигуру жены с нескрываемым восхищением, Джон сказал: — Только теперь я осознал, какой угловатой ты была, когда я на тебе женился. Такую плавность фигуре жены может придать только муж. Абигейл взглянула на себя в большое зеркало, довольная тем, что состоятельный владелец дома установил его так, что можно видеть себя в полный рост и, не стесняясь, доставлять себе удовольствие. Джон был прав. Ее грудь налилась, рождение двух детей придало ей более округлые, зрелые формы. Глядя в зеркало, она убедилась, что у нее все еще тонкая талия, а ниспадавший плотный шелк платья удлинял ее бедра и ноги. — Я рада, что тебе нравится платье. Оно по-королевски дорого. — Обычное капиталовложение, мисс Абигейл. Бостон будет знать, что у меня необыкновенно красивая жена, и, значит, ко мне обратятся с лучшими судебными делами. Они купили абонементы на вечерние концерты по вторникам в концертном зале Деблуа на Куин-стрит, где слушали вокальное пение и инструментальную музыку из цикла «Избранные произведения лучших мастеров», фаворитом среди которых был Гендель. Зал славился лучшим в Америке органом, исполнявшим религиозную музыку. Раз в месяц проводилось Большое собрание с хорошей танцевальной музыкой, плохим вином и пуншем. Театральные постановки оставались противозаконными, однако в Бостон приезжали артисты и читали с огрехами либретто «Оперы нищего» и «Любви в деревне», но арии были исполнены превосходно. Джон и Абигейл показали Нэб льва на шлюпе «Феникс», пришвартованном у пристани Лонг-Уорф, и отвели ее в лавку с механическим пианино. В погожие дни они ездили с друзьями к прудам Фреш и Южному на пикники, мужчины ловили рыбу, а женщины обсуждали домашние проблемы. Абигейл с удовольствием бродила по улицам и изучала их. Джон, вечный студент, собирал исторические сведения о домах и их обитателях. Ей нравилось ходить в лавку «Старое перо». Человек, построивший этот дом в 1680 году, примешал к штукатурке бутылочные осколки и таким образом выложил декоративные фигуры. Томас Холлис содержал в этом доме главную аптеку Бостона. Склад в виде треугольника у городского дока, откуда начиналась Маркет-стрит, представлял собой комбинацию башен: одна — в центре, а две другие — по углам, каждая была увенчана каменным шаром на железном шпиле. Одним из излюбленных маршрутов прогулки стал обход таверн. Вначале они шли к таверне Лэмб, где останавливались дилижансы по дороге на Провиданс, затем к соседним тавернам Уайт-Хорс и Лайон, служившим и местом клубных встреч, политическими центрами, а также питейными заведениями. У ратуши они наблюдали лес мачт судов, теснившихся в гавани. Абигейл вошла в роль жены-горожанки. Считалось, что ей не следует заниматься домашней работой и приготовлением пищи. Бетси Адамс наняла для нее повара-крепыша, своего дальнего родственника. Молодой бой наводил порядок на веранде и во дворике. Ранним утром Абигейл шла в порт за свежей рыбой или же к Фанейл-Холл, где с прилавков продавали парную говядину и баранину. Фрукты, молоко, масло и яйца приносили домой, фермеры предлагали также живую птицу. Нэб доставляли удовольствие утренние прогулки за продуктами, а Рейчел гордо вышагивала домой с плетеной корзиной, наполненной яств. В городе царило возбуждение. «Бостон газетт», выражавшая точку зрения патриотов, метала громы и молнии против законов Тауншенда, а «Ньюслеттер» и «Уикли адвертайзер», принадлежавшие тори, призывали чуму на головы патриотов. Бостонцы, не любившие политику, — и Абигейл удивлялась, почему их так много, — читали нейтральную «Кроникл» или независимую «Ивнинг пост». На перекрестках группки мужчин спорили с таким запалом, что порой их приходилось обходить по мостовой из опасения стать жертвой бушевавших страстей. Переехав в Бостон, Абигейл приятно удивилась, что деятельность Джона в пользу патриотов не привела к отчуждению лоялистов. На приеме, организованном в их честь Эстер и Джонатаном Сиуолл, большинство занимавших официальные королевские посты — Эндрью Оливер, Хэллоуэлл, Джозеф Гаррисон, Эдмунд Троубридж, Джон Темпл, а также богатые торговцы, оставшиеся верными королю и парламенту, — говорили Абигейл и Джону, что рады их переезду в Бостон. Абигейл поняла, что Джону Адамсу простили его инструкции Брейнтри и обращение к Ассамблее колонии залива Массачусетс; ведь тон его писаний был спокойным, основанным на хартии Массачусетса, и к тому же он считал необходимым возмещение пострадавшим от мятежа. Во время прогулки по саду Джонатан шепнул Абигейл: — Заместитель губернатора Хатчинсон на самом деле хотел прийти сегодня. Удивленно посмотрев на Джонатана, Абигейл сказала: — Верится с трудом. — Действительно, он просил выразить сожаление. Он восхищается талантами Джона. Признаюсь, губернатор Бернард игнорировал мое приглашение. Но уверен, если мне удастся свести вместе Джона и Бернарда, они станут друзьями. Чета Отис также проявила к ним внимание. Как-то вечером Джеймс Отис нанес визит. Он выглядел, как Джон, — коренастый, с намечающимся двойным подбородком. Его широко расставленные глаза выдавали быстро меняющееся настроение, а его магнетизм был настолько велик, что даже его молчание чувствовалось в комнате сильнее, чем слова большинства мужчин. — Прошу снисхождения. — Принято, — ответил Джон. — Хочу, чтобы вы пришли на обед после субботнего молебна. — С удовольствием. — Но только вероятно. Моя жена отказывается принимать моих друзей. Я исчезаю, когда к ней приходят ее друзья. — В таком случае зачем приглашать нас? — удивилась Абигейл. Отис посмотрел ей прямо в глаза. — Потому что, по моему мнению, она может принять вас обоих. Хотя вы и патриоты. Она упомянула, что слышала лестный отзыв о «новой миссис Адамс в городе». Джеймс Отис женился на Рут Каннингэм вскоре после того, как его сестра Мэрси вышла замуж за Джеймса Уоррена. Казалось, Рут должна была быть последней женщиной в Массачусетсе, на которую пал выбор. — …Или которая должна была выбрать его, — добавила Абигейл, когда Джон рассказал о тяжелой обстановке в доме Отиса. — Я слышала, что она красавица. — Несомненно. Но красавица властная. Отис представляет ее высокомерным тори. Она читает ему нравоучительные лекции о грязной толпе, с которой он заигрывает, о неумытых оборванцах, которыми пытается руководить, о позоре, который обрушил на гордое имя ее покойного отца, и что если не образумится, кончит свою жизнь на виселице за предательство. — Почему она не вышла замуж за сторонника короны? — Почему он не женился на патриотке? Можем ли мы объяснить браки? Я догадываюсь, что семейные неурядицы больше, чем что-нибудь другое, причина его раздражительности, подтачивающей его прекрасный ум. — Я не знала, что с ним такое происходит. — Я склонен верить, что ледяное молчание, которое царит в доме, побуждает его к возбужденным и эксцентричным разговорам. Он становится чрезмерно словоохотливым. Никто другой не в состоянии вымолвить слово. Согласен, в его монологах есть блеск, хорошие знания, юмор, но у него недержание речи, как у старика. А ведь ему всего сорок с небольшим. — Джон, а не был ли он и ранее эксцентричным? Его сестра Мэрси рассказывала мне, как в их доме в Брейнтри во время танцев Джеймс, исполнив несколько мелодий, поднял свою скрипку и выкрикнул: «Так Орфей играл на скрипке, и так танцевала скотина», а затем выбежал из дома. Дом Рут Отис всегда был безупречным. Абигейл прекрасно ладила с тремя детьми — Элизабет, Мэри и Джеймсом третьим. Сдержанная миссис Отис, казалось, приняла Абигейл почти как равную. Во время обеда мужчины упомянули о британском военном корабле «Ромни», вооруженном пятью десятками пушек, который, бросив якорь в гавани, нацелил свои тяжелые орудия на Бостон. Миссис Отис тут же выразила свое одобрение, а Джеймс Отис обрушился с ожесточенными нападками на лорда Хилсборо, пославшего войска в Бостон, и на командующего королевскими войсками в Северной Америке генерала Гейджа, который собирался послать несколько рот красномундирников из Галифакса в Бостон, чтобы обеспечить проведение в жизнь законов Тауншенда. Рут Отис изобразила ледяную мину, замолчала, и ее молчание стало непереносимым. После обеда Абигейл и Джон сразу же ушли. Эксперимент не удался. Их вхождение в бостонское общество закончилось незабываемым днем. От Джонатана Сиуолла пришла записка с просьбой, не может ли он «прийти один; есть нечто приятное». Лицо Джонатана расплылось в улыбке, когда он резво вбежал по четырем ступенькам с улицы. По окончании обеда он подчеркнуто поблагодарил Абигейл, а затем спросил: — Джон, не можем ли мы уединиться в твоем кабинете и побеседовать? — Если не сможем, то ты взорвешься, как петарда, прямо в столовой. Абигейл ушла на кухню, чтобы дать распоряжение повару на вечер, а потом удалилась в спальню. Примерно через полчаса она услышала стук входной двери, а затем тяжелые шаги Джона по лестнице. Плюхнувшись в плетеное кресло, он расстегнул пуговицы жилета, ослабил галстук на шее и объяснил, что Джонатан назначен прокурором Массачусетса. Он приходил по поручению губернатора Бернарда с предложением Джону занять официальный пост генерального адвоката в Адмиралтейском суде. Джон робко усмехнулся, но Абигейл заметила в его усмешке элемент напряженности. — Как сказал Сиуолл, губернатор Бернард и заместитель губернатора Хатчинсон едины во мнении, что с точки зрения таланта, репутации и влияния среди юристов я наиболее подходящий претендент на эту должность. У нее закружилась голова. Генеральный адвокат! Какая завидная должность! В истории Массачусетса ее привлекали лица, которыми более всего восхищался Джон. Она знала, сколь выгодно в материальном отношении это предложение: ведь генеральный адвокат сохранял право продолжать частную практику, и у него было для этого достаточно времени. Джон частенько говорил ей, что подобные предложения о назначениях короны были «первым свидетельством благорасположения короля и сулили продвижение по службе». Понятно, они не могли предвидеть такого развития событий. Абигейл не осмеливалась взглянуть на Джона и боялась сказать невпопад. Чувствуя, как велики последствия принимаемого решения, она понимала, что принять его должен был он, и только он. Через некоторое время он продолжил: — Я сказал Джонатану, что польщен оказанной губернатором честью, но прошу извинения за то, что не могу принять предложение. Она глубоко вздохнула. Абигейл предугадывала, каким должен был быть его ответ; но разве может кто-либо, даже жена, сказать, как следует реагировать на предложение, которое избавляет от неопределенности, обеспечивает положение, честь, деньги? — Он спросил, каковы мои возражения. Я сказал, что ему известны мои политические принципы, что принятая мною система — это взгляды патриотов, выступающих против любого покушения короны или парламента на наши законные свободы. Она повернулась к нему лицом, сияющим от гордости. — Джонатан отказался принять мое «нет» за ответ. Я пытался объяснить ему, что британское правительство упорствует в действиях, не совместимых с моим представлением о справедливости и честности. Разве могу я поставить себя в положение, когда мои обязанности тянули бы меня в одну сторону, а политические убеждения в другую? — Разумеется, он увидел логику в этом? — Напротив, он считает, что я идиотски нелогичен. Губернатор просил передать, что хорошо знает о моих политических взглядах и у меня будет полная свобода придерживаться собственного мнения, на которое не окажут влияния служебные обязанности. Губернатор сказал, что верит в мою добропорядочность. Он встал, подошел к кровати, где она отдыхала. — Ты, конечно, понимаешь, что именно я не могу принять. С законами Тауншенда, нависшими над ними, моя работа в качестве генерального адвоката заключалась бы в преследовании друзей, возможно, даже родственников. Сожалею, моя дорогая. Это был шанс стать богатым и могущественным. Другого может и не быть. Она встала, обняла его за шею и крепко прижала к себе. — Не будем сожалеть. Пойдем вниз и откроем бутылку самой лучшей мадеры, ввезенной контрабандой в Бостон.3
Взглянув на лицо и фигуру Джона Хэнкока, стоявшего в дверях, Абигейл сразу же поняла, что он принес огорчительные известия. Хэнкок считался самым дотошным в вопросах одежды. Он утверждал, что главная цель хорошего костюма, помимо прикрытия наготы, — придать приятный вид и краски городу. Абигейл не считала это замечание проявлением хвастовства и тщеславия. Почему светский человек не может одеваться так, как позволяют деньги и хороший вкус? Но в этот полдень, открывая дверь, она заметила, что его пальто цвета зеленых яблок и кружевной воротник выглядят неказисто. Джон Хэнкок, моложе Джона Адамса на пятнадцать месяцев, посещал вместе с ним школы миссис Белчер и мистера Клеверли. Отец Хэнкока умер, и мальчика приютил брат его отца Томас. Бездетная семья бостонских Хэнкоков входила в круг наиболее богатых торговцев и судовладельцев Новой Англии. В 1764 году Томас Хэнкок скончался, и Джон получил большую часть наследства: восемьдесят тысяч фунтов стерлингов, огромные земельные наделы в Массачусетсе и Коннектикуте; суда, лавки, доки, склады. Джон Адамс и Джон Хэнкок подружились во время трехлетнего пребывания в Гарварде. В семнадцать лет Хэнкок получил диплом магистра, а в последующие шесть лет прошел суровое обучение в бухгалтерии Хэнкока под руководством дяди и в двадцать семь лет взял под свой контроль операции мирового масштаба. Он допускал ошибки, потерял некоторые суммы, но теперь знал все тонкости бизнеса. Несмотря на огромное богатство, которым он рисковал, Джон Хэнкок примкнул к Джеймсу Отису, Сэмюелу Адамсу, доктору Джозефу Уоррену и Джошии Куинси-младшему в борьбе против закона о гербовом сборе. Однако Хэнкок решительно осуждал насильственные действия толпы, поэтому Сэмюелу Адамсу стоило огромного труда убедить его, как и Джона Адамса, в том, что цель оправдывает средства. — Примечательно, — заметил Джон, — что получение такого огромного наследства мало его изменило. Он всегда был последовательным, пунктуальным, трудолюбивым, неутомимым человеком дела. И он щедр, что редко наблюдается у богачей Бостона. — И Новой Англии… — В День папы римского в ноябре шестьдесят пятого года, когда жители северной и южной окраин города согласились объединиться, Хэнкок оплатил трапезу в таверне «Зеленый дракон». Понятно, что свою первую политическую речь он произнес в подготовленной аудитории, но ведь она была красноречивым призывом воспротивиться разорительному налогообложению со стороны Англии. Он ссудил также деньги Сэмюелу, чтобы покрыть его долги по налогам. Джон Хэнкок не выдался красавцем: длинный, задранный кверху нос, высокий лоб, непропорционально узкий подбородок. Его светлые глаза редко выражали интенсивность мысли, а его доброе лицо скорее говорило об умеренном разуме, а не о силе интеллекта. Абигейл и Джону он казался привлекательным. Недруги Хэнкока считали его лицо «противоречивым и слабым». Справедливо, что иногда ему требовалось слишком много времени для принятия решения. Теперь Джон Хэнкок оказался в беде. На лбу и щеках выступили капли пота. Он тяжело дышал после быстрой ходьбы. Джон Хэнкок никогда не наносил деловых визитов, предпочитая пользоваться услугами посыльного, и поэтому Абигейл поняла: что-то стряслось. — Миссис Адамс, прошу извинения. Не в моих привычках вторгаться столь бесцеремонно. — Мистер Хэнкок, входите, пожалуйста. Мистер Адамс будет с минуты на минуту. Могу ли я предложить вам что-нибудь освежающее? — Было бы неплохо. Холодный напиток будет в самый раз после такого сумасшедшего дня. Миссис Адамс, мой шлюп «Либерти» бросил якорь под угрозой пушек британского корабля «Ромни», его захватили! Абигейл тяжело вздохнула. — Было ли у вас время разгрузить судно? Хэнкок искоса посмотрел на нее, пытаясь понять, не шутит ли она. Убедившись, что она ничего не знает и слышит сказанное впервые, он ответил: — Конфликт возник по следующей причине. Когда таможенный чиновник, мистер Керк, поднялся на борт, чтобы осмотреть груз для определения налогов по законам Тауншенда, мой счетовод посадил чиновника под замок в каюте, а тем временем мои грузчики разгрузили судно. — Боже мой! — Вам легко говорить. Все это было сделано без моего ведома, разумеется. Они с невинной миной посмотрели друг на друга. Абигейл услышала энергичные шаги Джона по вымощенной булыжником площади Браттл. Она подошла к входной двери, чтобы впустить его. Он также задыхался и был взлохмачен. — Ну, братец Хэнкок — противник мятежа, должен сказать, что ты спровоцировал сегодня в полдень хорошенький бунт. — Ах, ты был в доках. — А разве не весь Бостон? Мне не приходилось ранее видеть такое сборище. — Может быть, вы, джентльмены, угомонитесь и перестанете кружить по ковру? Она дернула за шнур из китайского шелка, чтобы позвать Рейчел. — Будь добра, принеси джентльменам холодного сидра. Она прислушалась к разговору, перебивавших друг друга и не заканчивавших фраз мужчин. Шлюпки с военного корабля «Ромни» зашли в док Хэнкока, обрубили канаты, удерживавшие «Либерти», и отбуксировали судно к подветренной стороне «Ромни». Рабочие Хэнкока обрушили град камней на таможенников. Шум привлек внимание толпы, которая, узнав, что королевские власти совершили агрессивный акт против Массачусетса, обезумела, сломала саблю инспектора по импорту, захватила и проволокла по улицам лодку таможни и сожгла ее на площади. После этого толпа отправилась к домам контролера и инспектора и разбила там все окна. Хэнкок по-приятельски положил руку на плечо Джона. — Ты возьмешься представлять меня, конечно? — Разумеется. Сколько стоит «Либерти»? — Много тысяч фунтов стерлингов. В чем дело? — В том, что корона, очевидно, намерена удерживать судно, пока не соберет полностью пошлину и возмещение ущерба. — Можешь ли ты удержать их от этого? — Я не могу. А наша конституция может. Акты Тауншенда незаконны, следовательно, и захват «Либерти» незаконен. Мы потребуем от короны возмещения ущерба, причиненного злонамеренными действиями. Лицо Хэнкока просветлело. Он надел свою алую бархатную шапку, застегнул пуговицы сюртука из белого сатина с шитьем. — Я чувствую себя уже отомщенным. Не соблаговолите ли, миссис Адамс, пообедать у меня в воскресенье? Братец Адамс, отберите свои юридические книги поострее. До завтра! Абигейл видела, что ее муж не разделяет появившееся у Хэнкока чувство облегчения. Он попросил ее помочь ему снять сюртук и ботинки. Когда она спросила, насколько серьезно дело, он ответил: — Более серьезно, чем представляет себе Хэнкок. Бернард и Хатчинсон — очень хитрые. Они захватили «Либерти» не за контрабанду. Мадера уплыла в Бостон. Они поймали его в то время, когда он грузил деготь и масло без разрешения таможенной комиссии. С формально правовой точки зрения они поймали его. — Ты имеешь в виду, что «Либерти» в их руках? — Точно. Они намереваются объявить «Либерти» контрабандным судном. Офицеры короны намерены также предъявить нашему другу иск за прошлые сделки на сумму сто тысяч фунтов стерлингов. — Это же богатство Креза! — Это достояние Джона Хэнкока. Если короне удастся отобрать его. Штраф превышает всякие рамки. Возможно, это дьявольски хитроумная акция, чтобы нас запугать. Я узнаю больше, когда схожу в суд. Они испуганно взглянули друг на друга. — Да спасет Господь наши бренные души! Абигейл, представляешь, что случилось бы, если бы я согласился занять пост прокурора! — Да. — Ее голос стал хриплым. — Тебе пришлось бы преследовать Джона Хэнкока, конфисковать «Либерти» и его имущество. На лице Джона выступили капли пота. — Нэбби, если когда-либо у меня появится соблазн встать на сторону денег или власти против моих друзей, будь добра, напомни мне о предложении, которое могло бы стать фатальным. — Напомню. Но почему ты считаешь его фатальным? Ты ведь отверг предложение с ходу. А теперь пойди умойся. Мы идем на ужин к Нику Бойлстону. Ее замечание отвлекло внимание Джона. Он переживал шок, как человек, чья здравая юридическая подготовка вступила в конфликт с реальностью. — Насколько мне известно, Англия впервые использовала военный корабль, чтобы навязать Массачусетсу свою волю. Если сегодня корона пустила в ход военный корабль, то не использует ли она завтра солдат и пушки? Захватив «Либерти», корона поставила под угрозу свободу каждого мужчины, каждой женщины, каждого ребенка в тринадцати колониях. Смысл происшедшего был ясен. Действительно, весьма ясен.Митинг был созван на Ганноверской площади у Дерева Свободы, в месте, известном под именем «Либерти-Холл». Абигейл спросила, не совершит ли она ошибку, если пойдет на митинг. — Я имею в виду, будут ли там леди? — В толпе часто бывают женщины, и поскольку они не бросают камни, можно с уверенностью предположить, что это леди. Было приятное теплое утро, какие случаются в середине июня. На митинг пришло большинство бостонцев. Народа собралось так много, что голоса выступавших не были слышны в последних рядах. Официальное заседание городского совета собиралось в полдень в старой южной церкви. Абигейл и Джон шагали с Мэрси и Джеймсом Уорреном по Ньюбери- или Но Смокинг-стрит до того места, где она переходила в Марлборо-стрит и упиралась в старую южную церковь — кирпичное здание со шпилем, выкрашенное светлой краской. Они нашли места в боковом проходе. Джеймс Отис, выбранный арбитром, призвал сотни людей, заполнивших церковь, ее боковые приделы и балконы, соблюдать тишину. Отис отчетливо выделял каждый пункт: налоги по постановлениям Тауншенда были затребованы без предварительного уведомления и без согласия жителей; суверену были посланы надлежащие петиции, а в ответ в Бостон вторглись войска… Абигейл впервые слушала выступления патриотов. На трибуну поднимались доктор Джозеф Уоррен, Сэмюел Адамс, Бенджамин Чёрч, доктор Томас Юнг, Джон Адамс. Каждый говорил о своем: о том, что многие законы, принятые парламентом, исчерпали себя, что губернатор Бернард должен удалить военный корабль «Ромни» из гавани, что таможенные чиновники, сбежавшие на «Ромни», должны сойти с корабля, что судно «Либерти» должно быть возвращено Хэнкоку, что парламент должен ответить на петиции. Джеймс Отис был избран руководителем комитета из двадцати одного члена для написания и вручения петиции губернатору Бернарду. Джон Адамс вошел в комитет для составления бостонских инструкций Общему суду. — Я повешу на наш дом вывеску «Джон Адамс — сочинитель инструкций», — прошептал он. — Без ложной скромности, мой друг. Ты позируешь, как павлин. — Но не такой красивый. Он держал ее крепко под руку, когда они поднимались на Корн-Хилл, пройдя мимо церкви на Браттл-стрит. Джон прочитал Нэб басню Эзопа, пока Рейчел готовила чай. Нэб повторила эту басню Джонни, которому был уже почти год. Джон сел писать инструкции. Они были обращены к бостонским представителям — Отису, Сэмюелу Адамсу, Джону Хэнкоку и Томасу Кашингу. Стоя за его спиной, Абигейл читала написанные страницы, которые Джон сбрасывал с письменного стола на пол. Казалось, он пишет без малейших усилий.
«После отмены последнего акта о гербовом сборе с американцев мы были довольны, почувствовав приятную перспективу восстановления спокойствия и единства в нашей среде, гармонии и любви между нашей страной, откуда мы пришли, и нами, испытавшими уныние в связи с этим ненавистным актом. Но с крайним огорчением и тревогой мы обнаружили, что рано тешили себя надеждой, увидев, что корни горести все еще живы… С содроганием мы наблюдаем один за другим акты парламента, принимаемые с откровенной целью позволить властям, в создании которых мы не принимали участия, обобрать нас, отобрать у нас деньги без нашего на то согласия… …Мы полны неизбывной решимости на все времена утвердить и отстоять бесценные права и свободы, даже рискуя жизнью и благополучием, и мы верим всей душой в то, что никакие происки, направленные против этих прав и свобод, не достигнут своей цели».Написано было больше, но в этих словах содержалось главное. Никто в Лондоне, прочитав эти инструкции, — ни король Георг III, ни министры, ни парламент, — а они будут прочтены, как только быстроходный корабль их туда доставит, — не подумает, что Америка слаба, нерешительна и труслива. Если люди в Лондоне действительно считали себя кровными братьями бостонцев, то в таком случае постановления Тауншенда должны быть немедленно отменены. У Абигейл не было сомнения после митинга в старой южной церкви, что Джон Адамс выступает от имени Массачусетса. Сэмюел Адамс и Джеймс Отис утверждали, что он говорит и от имени других колоний. Сэмюел сказал как-то ей, что Англия создает новый тип человека — американца. Она собрала на поднос чашки и блюдца и отнесла их на кухню, а сама вернулась в гостиную. Раздвинув занавеску, она глядела на площадь, где мальчишки играли железными подковами на булыжной мостовой. Она спрашивала себя: — А что такое американец? У нее не было ответа. Понятие включало нечто большее, чем факт рождения на новом континенте. Она сама была воспитана как англичанка. Если бы какой-нибудь неосведомленный незнакомец спросил ее, ее отца или кузена Коттона, дядюшку Исаака, кто они, то каждый из них с гордостью и любовью ответил бы: «Англичанин». Но происходило так много огорчительного, что голова шла кругом. Она не только узнала, что первая речь Георга III в парламенте, побудившая уважать нового суверена за мудрость и честность, была написана ему графом Бютом, но и поняла, что Георг III не способен к отеческим, разумным чувствам по отношению к колонистам. Сообщения из Англии утверждали, что король был решительно против примирения с американцами, что он был ограниченным человеком, самодуром, невеждой и в то же время достаточно властным, чтобы навязывать свои взгляды министрам. Великие министры — Питт, Бёрк, Шелберн, наиболее способные для своего времени, впали в немилость и были отстранены от постов. Она чувствовала себя обманутой. Колонии должны идти своим путем. Джон писал о британском парламенте как высшем законодательном органе во всех необходимых случаях… Имел ли он в виду, что колонии имеют право сами решать, какие случаи считать необходимыми, а какие нет? Если это так, то тогда парламент высший законодательный орган лишь в тех случаях, когда колонисты решат, какой закон отвечает интересам дела. В течение прошедших четырех лет они заявили, что закон о патоке, закон о гербовом сборе, а теперь постановления Тауншенда не являются необходимыми. В то время как она наблюдает за молочником, трясущимся по булыжной мостовой, Джон, видимо, пишет в своем кабинете, что эти законы излишни, незаконны, разрушительны, недейственны, лишены силы: следовательно, их не нужно соблюдать. Джеймс Отис объявил на городском собрании: — Отказаться от гарантий жизни и имущества без борьбы так унизительно и подло, что такое даже в голову прийти не может. Ни Джон Адамс, ни мужчины, его единомышленники, не примут унижения и подлости. Они будут бороться. Они должны бороться. Такой у них характер. Абигейл отвернулась от окна. Медленно спускались сумерки. Рейчел зажгла лампу на письменном столе Джона. Стоя в проеме двери, Абигейл наблюдала за игрой дочери и сына на полу, за тем, как двигалась по бумаге рука мужа. Она спрашивала сама себя: — Что такое американец? Человек, который станет бороться? Который либо должен стать независимым, либо умереть? Она почувствовала, что ей не хватает воздуха. Спокойный мир, в котором она выросла, исчез. Мир, с которым она породнилась, став женой и матерью, полон конфликтов.
4
Лето было жаркое. На два-три дня Джон и Абигейл выбирались в Брейнтри и отсыпались на своих кроватях. Мужчина, которого Джон нанял издольщиком, вырастил хороший урожай клевера. Они получат скромную прибыль от своей продукции. Вот тут-то Абигейл обнаружила, что вновь забеременела. Она была недовольна, ведь прошел всего год после рождения Джонни. Ей хотелось выждать еще целый год. Но в суматохе переезда в Бостон… Все дни Джон работал над своими юридическими книгами. Бостон чувствовал, что постановления Тауншенда либо будут подтверждены, либо отозваны в зависимости от исхода дела «Либерти». Абигейл понимала, что для Джона она — всего лишь удобный, скромный слушатель. Даже когда она отвечала невпопад, ее ответы побуждали его выкрикнуть: «Нет, нет, ты не видишь последствий…» — и тут же углубиться в анализ. — Дилемма действительно болезненная, Нэбби. Следует ли мне добиваться немедленного открытия процесса, пока закон еще свеж и Лондон едва сдерживает себя; или же, как мне кажется, лучше выждать момента, когда парламент ощутит весомость наших петиций, а британские торговцы — последствия нашего решения не покупать у них? — Время было твоим союзником в вопросе о законе о гербовом сборе. — Да, но что произойдет тем временем с моим клиентом? Ведь меня нанял Джон Хэнкок, а не колония залива Массачусетс. «Либерти» Хэнкока находится в руках короны. Он терпит большие убытки. Ходят даже слухи, что судно могут продать. Адвокат несет твердые обязательства перед нанимателем. Однако, если требование Хэнкока о немедленном начале процесса возьмет верх, я могу проиграть по той причине, что его мнение возобладает над моим… — Хэнкок доверяет тебе. Есть и другие соображения. Если мы не избавимся от постановлений Тауншенда, Хэнкок останется почти не у дел. — Я должен рискнуть. Наш истинный противник — не местная таможня, а министерство. Если мне удастся добиться того, что суд Массачусетса отклонит лондонские законы, тогда парламенту ничего не останется, как отменить их. Я объясню Хэнкоку свои шаги и почему их предпринимаю, но не буду испрашивать его мнения. По срочной просьбе Джона процесс над «Либерти» был отложен до ноября. Джон отправился на выездную сессию и заработал немало на спорщиках Новой Англии. Абигейл чувствовала невероятную усталость по разным причинам: изнурительной жары в конце лета, формальных требований светской жизни в Бостоне, которые она не могла игнорировать даже в отсутствие Джона. Она тосковала по ферме с ее тенистыми деревьями и прохладным ручьем. Политическая свара между губернатором Бернардом, Законодательным собранием Массачусетса и выборными лицами держала город в напряжении. Циркулярное письмо, составленное в основном Сэмюелом, распространилось в тринадцати колониях; оно призывало колонистов к совместной борьбе против Англии. Британский государственный секретарь по делам колоний граф Хиллсборо был так рассержен, что приказал губернатору Бернарду заставить Ассамблею Массачусетса «отозвать и отклонить письмо». Ассамблея отказалась выполнить это требование. Бернард получил указание распустить Законодательное собрание. Поскольку депутаты не могли более собираться официально, как Ассамблея Массачусетса, они встречались неофициально. Во все города и селения Массачусетса были посланы письма с просьбой направить 22 сентября 1768 года представителей на съезд в Бостон. Джон не питал радужных надежд в связи со съездом, опасаясь, что горячие головы среди делегатов могут ввязаться в действия, которые нанесут ущерб и даже позволят обвинить в предательстве. Он направил посыльного к Сэмюелу на Пёрчейз-стрит с просьбой навестить его. Сэмюел пришел своей легкой походкой. Абигейл никогда не видела ссорящихся кузенов. Джон был тверд, предупреждая Сэмюела держать съезд в юридических рамках. Как адвокат, Адамс имел на руках дело, которое могло создать прецедент не только для Джона Хэнкока, но и для Массачусетса. Он не хотел дразнить королевских чиновников, настраивать их против колонистов, а такое могло случиться на съезде. — Я пытаюсь сказать, Сэмюел, что хотел бы вести в каждый момент только одну войну. Если хочешь, проводи свою встречу, но не обостряй проблемы. Доводы Джона не произвели впечатления на Сэмюела. — Если Бернард в состоянии запугать нас, то он может запугать и судей Адмиралтейского суда. Любая демонстрация силы поможет тебе. Если гражданам не нравится закон, они имеют право выбросить его, как выбрасывают мусор с корабля в море. — Такое помогает, — вмешалась Абигейл, — если мусор бросают по ветру. — Ну, кузина Нэбби, мне хватало неприятностей в споре с твоим мужем-правоведом. — Она совершенно права, — ответил Джон, — если твой съезд станет бунтарским, окажусь виноватым я, когда выступлю в Адмиралтейском суде. Я хочу доказать, что акты Тауншенда неконституционны. Мне не нужна поддержка в виде битья окон. Гнев Джона не вывел Сэмюела из равновесия. — Теперь и твои бостонцы, братец Джон. Помнишь? Ты связал свою судьбу с нами, грубыми демонстрантами набулыжных улицах. Тебе не удастся порвать с нами. Джон потерпел первое поражение. Таможенная комиссия продала судно Хэнкока «Либерти», не уведомив владельца и не выплатив ему компенсацию. Это был серьезный урон для Хэнкока и для престижа патриотов. Бостон считал, что вина лежит на Джоне Адамсе: он должен был отыскать закон или процедуру, которая спасла бы судно. Сам Хэнкок заверил семью Адамс, что он согласен ждать до ноября урегулирования более крупного вопроса — о штрафе в размере ста тысяч фунтов стерлингов. Королевская власть думала иначе. Джон был в Спрингфилде по судебному делу между негром и его хозяином. Абигейл едва успела поставить дату на письме к родителям, когда из окна кабинета Джона увидела полк в красных мундирах, выстроившийся на площади Браттл. Ее первая мысль была панической: они пришли арестовать Джона. Потом она поняла, что это глупость. Это были войска генерала Гейджа, доставленные морем в Бостон из Галифакса. Флот прибыл в гавань Бостона два дня назад, доставив два полка и артиллерию в казармы на остров Касл. Ранее в это утро восемь вооруженных кораблей с готовыми к бою пушками на случай сопротивления Бостона высадили тысячу солдат в Лонг-Уорфе, и солдаты с примкнутыми штыками и развевающимися знаменами продефилировали к центру города. Барабаны бухали, а флейты жалобно стонали, когда солдаты двигались к месту назначения. Абигейл видела, как хорошо они обмундированы, поверх красных мундиров были надеты белые портупеи, у них были готовые к бою ружья, штыки, рожки с порохом. — Но против кого? — спрашивала она себя. — Опять Бостон? У нас нет армии. Ни у кого нет ружей, кроме охотничьих. С какой целью они стали лагерем против моей двери? Ответ принес Сэмюел Адамс, пришедший во второй половине дня со свежими сахарными булочками, испеченными Бетси, и с ароматным чаем, купленным, как он объяснил, еще до решения об отказе ввозить чай из Англии. Распивая чай с булочками, Сэмюел объяснил: — Когда мы узнали, что перед твоими окнами встал на постой полк, то решили, что тебе, возможно, потребуется компания. — О, солдаты ведут себя хорошо. Среди них так много молодых, которые даже еще не брились. — Они побреются, — усмехнулся Сэмюел, — если задержатся здесь в надежде навязать тариф. — Смогут ли они, Сэм? — Могут попытаться. А если колонии будут стоять на своем? Нет. Как смогут англичане получать деньги? Стреляя в нас? Во всяком случае, ничего не получится, если парламент не найдет способ зарабатывать на смерти. Итак, наслаждайся музыкой барабанов и флейт. Парады любят все. Джон через день вернулся. Абигейл увидела из окна гостиной, как он шел через площадь, не обращая внимания на красномундирников, будто их не существует, солдаты тоже старались не видеть его, а он шел через их ряды, поднялся на тротуар, а затем вошел в дом. Он был красным от злости. — Я вижу, у тебя компания. — Да. Они привезли свое собственное музыкальное развлечение. — Они очень добры. Доставили ли они тебе неприятности? — Нэб и Джонни думают, что ты прислал их для развлечения. Упоминание о детях смягчило выражение его лица. — Прости меня, я был так расстроен, что не поздоровался. Как малыши? — Джонатан Сиуолл предупредил меня, что наступит день, когда ты предпочтешь поцелую жены нападение на Англию. — Одно не исключает другого. — Он обнял ее. Барабанщики и флейтисты на площади в этот момент заиграли мелодию «Прекрасной Розамунды». Радость Адамсов от воссоединения семьи была испорчена похожими на лай командами офицеров, направлявших несколько сот солдат на постой в Фанейл-Холл. Абигейл прокомментировала: — Джон, солдаты настроены вовсе не враждебно. Они стараются казаться дружественными, когда у них есть такая возможность. — Они здесь не из-за любви к нам, Нэбби, — сказал он хриплым голосом. — Они здесь, чтобы раздавить нас, как только поступит приказ. — Но ведь мы англичане и эти войска — английские, то же самые, вместе с которыми мы сражались против французов на равнине Авраама. — Согласен. Но эта война не за нас, а против нас. Я никогда не предполагал, что министерство окажется таким глупым и превратит Бостон в оккупированный город. — Губернатор Бернард уверяет, что войска здесь исключительно для поддержания мира. — А как он определяет мир? Делая то, что от нас требуют он и парламент? — Подойди, дорогой, выпей стакан портвейна и успокойся. Объезд был успешным? — Пища была несъедобной. Постели мятые. Я промок, пересекая реки. Однажды ночью я заблудился в лесу. Короче говоря, мне не хватало жены и детей, своей постели и еды. В остальном поездка была успешной. Была груда дел и постановлений в каждом суде. — Он усмехнулся. — Я получил свою долю, более того, привез домой не пустой кошелек, достаточный, чтобы выдержать дело «Либерти». Под окнами гостиной послышалась песня, сопровождаемая звуками скрипки и флейт. Джон стоял позади Абигейл, раздвигавшей занавеску. — Боже мой, кто это такие? — Друзья. Догадываюсь — «Сыны Свободы». Там доктор Томас Юнг и Уильям Молине. — И посмотри, кто мелькает позади певцов. Кузен Сэм! Группа пела «Мы рождены свободными и живем свободными», «Песню свободы» и «Песню янки»:5
В ночь перед началом процесса Абигейл плохо спала. Джон ворочался в постели, вновь и вновь повторяя свое завтрашнее выступление. Она выглядела слегка бледной утром, когда зазвонил колокол, призывая в суд противостоящие стороны. Джон с трудом проглотил завтрак — так он торопился к началу. Его глаза горели. Он надел свой лучший костюм, приладил белый парик, кружевной воротник белой сорочки туго стягивал шею. Белизну сорочки подчеркивали черный жилет и сюртук с крупными пуговицами, бриджи и темные чулки. Парикмахер пришел еще до завтрака, он побрил Джона и напудрил его парик; во время этой процедуры Джону пришлось дышать через бумажный конус. — Сегодня утром, адвокат, вы выглядите прекрасно, — пошутила Абигейл. — Я выигрываю дела не внешним обликом. Именно поэтому я читаю больше книг по праву, чем кто-либо после Джеремии Гридли. И сегодня утром мне потребуется каждое малейшее положение права, ведь я должен противопоставить мое толкование конституции толкованию короля, министерства и парламента. Это непростые противники для моего первого публичного дела. На площади перед ратушей уже собралась толпа. Поначалу Абигейл удивилась, почему люди стоят снаружи, а не в зале совета наверху. И быстро нашла ответ: губернатор Бернард перехитрил их, перенеся судебное заседание в небольшое помещение внизу, обычно используемое клерками Адмиралтейского суда. Была поставлена временная трибуна и за ней мешок с шерстью, рабочий стол для совета и около сотни стульев… и все были уже заняты. Абигейл заметила Эстер Сиуолл, она сидела рядом с женами нескольких королевских чиновников. Поскольку Джон отказался от поста прокурора и никто не был назначен на это место, Джонатану Сиуоллу было поручено предъявить от имени короля обвинение Джону Хэнкоку по делу «Либерти». Абигейл подошла к Эстер, та подвинулась, освободив ей место. Джон сел рядом с Сиуоллом на платформе под судейской трибуной. Судебный хранитель выкрикнул: — Встаньте все присутствующие, встаньте! Его честь, судья Адмиралтейского суда его величества. Да поможет вам Бог! Абигейл увидела, что судья в длинном белом парике — Роберт Окмюрти, член первого общества, организованного Джоном. Перед тем как Окмюрти неловко уселся на мешок с шерстью, Абигейл заметила два дорогих ей знакомых затылка. Это были преподобный Уильям Смит и доктор Коттон Тафтс. Они совершили длительную поездку от Уаймаута, выехав до восхода солнца, чтобы присутствовать и следить за ходом дела, послушать выступление Джона Адамса, представлявшего Массачусетс. Джонатан Сиуолл изложил иск от имени короны. Его жесты и тон были сдержанными. Но он твердо отстаивал интересы своей стороны, и некоторые его выпады против Джона Хэнкока были весьма болезненными. Согласно его заявлению, основные права англичанина вытекали из основных обязанностей подчиняться закону. Если Массачусетс не одобряет акты Тауншенда, то тогда колонии надлежит добиваться их отмены, как неизменно действовали англичане со времен Великой хартии вольностей, дарованной английским королем Иоанном Безземельным,[19] для охраны интересов крупных феодалов-баронов от королевской власти. — Мы пользовались защитой нашего милостивого государя, а также его чувством справедливости. Да будем же действовать как уважающие самих себя члены величайшей нации на земле, а не как дикие толпы с северных и южных окраин города. Империя разработала наилучшие способы принятия законов и их отмены. Такие решения должен принимать парламент, а не отдельный купец, который может подменить свою сознательность бухгалтерской книгой… Дни контрабандного ввоза товаров в колонию должны уйти в прошлое. Наступило время, чтобы Массачусетс стал бриллиантом в короне Британской империи. Так будем вести себя как англичане, гордые за свое правовое наследие и несущие свои обязанности на равных правах в самой благородной империи на земле. Сиуолл задал тон. Абигейл наблюдала, как люди шевелились на своих местах, словно их отхлестали батогами. Царила тишина, когда Джон Адамс перебирал свои бумаги, явно не спеша обнародовать свое первое выступление. Судья Окмюрти выждал сколько можно, затем попросил адвоката встать и изложить свое дело. Но и после этого Джон медлил, желая сгладить впечатление от слов Сиуолла. Начало речи Джона Абигейл слышала с трудом, хотя до трибуны было всего около десятка ярдов. Но после нескольких фраз голос Джона зазвучал громко и уверенно. Он начал с того, что назвал устав Георга III, на основании которого выдвигается обвинение, «уставом трудностей». Затем, откинув голову назад, авторитетным тоном изложил суду, судье Окмюрти, Массачусетсу, другим двенадцати колониям, королю, министерству и парламенту, отстоящим на три тысячи миль и два месяца неспокойной погоды, собственный анализ сути рассматриваемого дела в свете сложившейся обстановки. — Среди трудностей, связанных с этим уставом, первые, о которых следует всегда помнить, это… — он повернулся к сотне мужчин и женщин, сидевших в помещении, прежде чем повернуться к судье Окмюрти, — то, что он составлен без нашего согласия. Мой клиент, мистер Хэнкок, никогда с ним не соглашался. Он никогда не голосовал за него и никогда не голосовал за кого-либо, составившего этот закон. Поэтому мистер Хэнкок лишен величайшего утешения, доступного англичанину, пострадавшему от закона. Я имею в виду сознание того, что закон сотворен собственными руками. Действительно, согласие подданного с законами столь необходимо, что до сих пор никто не отважился отрицать справедливость такого положения. Составители этих законов допускают, что согласие необходимо, но подменяют подлинное согласие принудительным, произвольно истолкованным. Это — обман людей внешней видимостью вместо реального содержания. Уловки приводят к предательству там, где его не допускает закон… Произвольное толкование… всегда служило инструментом произвола власти, средством обмана и порабощения людей. Отходя от принципов и ясных позитивных законов, блуждая в лесу произвольных выдумок, нагромождая одно на другое, мы все больше отдаляемся от фактов, истины и природы, оказываемся затерянными в диких джунглях воображения и догадок, где произвол восседает на троне и правит, угрожая железным скипетром. Джон замолчал. Аудитория вновь зашевелилась на стульях, испустив вздох облегчения. Джону Адамсу удалось побороть настроение, созданное Джонатаном Сиуоллом, теперь аудитория была на его стороне. Следующая часть его изложения дела носила личный характер, раскрывала, что захват «Либерти», конфискация груза судна и требование непомерного штрафа под тем предлогом, что не была заблаговременно получена лицензия, создавали «большую диспропорцию между проступком и наказанием». Джон осудил акты Тауншенда за то, что они позволили возбудить в Адмиралтейском суде дело против Хэнкока «без присяжных, не по законам страны, и отдать его на усмотрение единственного судьи». Джонатан Сиуолл встал и заявил, что по решению парламента такие дела рассматриваются на основании обычных законов, и поэтому адвокат Адамс не вправе требовать перекрестного допроса свидетелей со стороны короны. Судья Окмюрти вынес решение, что мистер Сиуолл прав. Он стукнул молотком, объявив: — Суд его величества прерывает заседание. Слушание будет продолжено. Вслед за этим он выскочил из зала, волоча за собой по полу длинную мантию. Абигейл и Джон были поражены, наблюдая эту сцену через головы стоявших. На протяжении зимы было всего несколько дней, когда, как сетовал Джон, его «не извлекал из дома этот тиранический колокол». Джон сердился на самого себя и на весь мир. Он был прав, утверждая, что «королевские чиновники полны решимости вызвать всех жителей города в качестве свидетелей». Он устал от этого, по его мнению, «одиозного дела», но в свою очередь потребовал вызвать всех жителей города в качестве своих свидетелей. К Рождеству стало ясным, что никто с королевской стороны не хочет окончательного решения: ни Бернард, ни Хатчинсон, ни пять членов таможенной комиссии, ни судья Окмюрти, ни прокурор Джонатан Сиуолл. Чете Адамс казалось, что королевские чиновники боятся любого решения суда и надеются, что события затмят процесс, сделают его ненужным. — В этом смысле можно считать, Джон, что ты победил, — утешала Абигейл, — они не оштрафуют Хэнкока на сто тысяч фунтов стерлингов. — И они не признали его невиновным. Оправданием Хэнкока я попытаюсь осудить акты Тауншенда. — Королевские власти не захватили ни одного другого судна. — Нет, но английский военно-морской флот оказывает все большее давление на наших моряков. Она также была выбита из колеи. Новая беременность протекала иначе, чем две первых. Ощущение жизни внутри нее было более приглушенным. Каждую ночь ее мучила боль внизу живота и в ногах, сон давался с трудом. Она не любила болеть, это ей внушила мать, которую тревожило ее хрупкое телосложение. Однако она почувствовала себя крайне плохо в октябре и ноябре, когда было почти невозможно согреть дом, хотя Джон соорудил вторую угольную яму на заднем дворе. Ветер с залива, обвевавший площадь Браттл, дул в щели дверей и окон. Встревоженная, она пытливо допросила сестру Мэри, приехавшую в Бостон из Салема и навещавшую ее чуть ли не каждый полдень. Потом Абигейл послала за доктором Джозефом Уорреном, сделавшим Джону четыре года назад прививку против оспы. — Я знаю, что вы помогаете при родах, доктор, когда нет повитухи. — Врач мало что делает, миссис Адамс. Он просто стоит рядом. — Тогда вы не можете мне помочь? — У меня нет нужного опыта. Но если ваш муж не возражает, чтобы вас осмотрел акушер, то в Бостоне есть такой — доктор Джеймс Ллойд. Он из Нью-Йорка, обучался в Англии, посещал лекции Уильяма Смелли по акушерству, и он — первый врач в Америке, который принимает роды на научной основе. Доктору Ллойду было сорок лет. Это был мужчина с длинным лицом, лысеющий и зачесывающий свои редкие волосы под парик; у него были умные грустные глаза и самый большой нос, какой она когда-либо видела со времен приезда в Уэймаут. Он задал ей множество вопросов, казалось, распознал симптомы, но воздержался от замечаний. — У меня есть несколько повитух, которым я доверяю, но будет лучше, если вы согласитесь на мое присутствие при родах. В таком случае я смогу наилучшим образом позаботиться о вас и ребенке. — Разумеется, доктор. Утром в конце декабря, когда начались схватки, она послала за врачом. Он осмотрел влагалище, стараясь разглядеть состояние черепных швов ребенка. — Ребенок в перевернутом положении. Оно не самое благоприятное. Воды отошли быстро, но тянулись часы, а она никак не могла собраться с силами для заключительного толчка. Первая повитуха попросила перо, насыпала на него молотый перец и провела им под носом Абигейл. Та чихнула несколько раз. Джон и доктор Ллойд просидели около нее всю ночь. Она была почти без сознания. Еще одна повитуха, появившаяся на рассвете, привязала ремни к столбам балдахина, чтобы Абигейл, ухватившись за них руками, могла тянуть. К полудню повитуха заменила ремни скрученными простынями. Женщина держала Абигейл за ноги, умоляя напрячься. Ее силы были на исходе, но она понимала, что если сдастся, то погибнут и она и ребенок. Предприняв огромные усилия, скорее благодаря воле, чем физической силе, Абигейл освободилась от плода. Доктор Ллойд держал новорожденную в своих руках. Словно сквозь туман Абигейл заметила, что доктору никак не удается заставить крошку дышать. Не перерезав пуповину, он положил ее рядом с Абигейл — на постель и попытался сделать искусственное дыхание. Это оказалось недостаточным, и врач принялся давить на грудь ребенка. Затем поднял девочку за ноги, потер ей спину и резко ударил по подошвам. Она сделала вздох. Все находившиеся в комнате радостно закричали. Когда ее дыхание стало ровным, врач перерезал пуповину. — Все прекрасно, миссис Адамс, с вами и вашей дочерью. Спите. Вы заслужили длительный отдых.Начался мрачный период для четы Адамс. Силы Абигейл восстанавливались медленно. Она чувствовала себя хорошо, но была утомлена; требовалось время, чтобы встать на ноги. Родные и друзья одаривали ее вниманием, письмами, подарками. Но Сюзанна росла хилым ребенком: мало двигалась, довольствовалась минимумом молока, не орала во все горло, как Нэб и Джонни, когда чего-нибудь хотела, а лишь всхлипывала. Доктор Ллойд утверждал, что многие тщедушные дети вырастают крепышами. Джон проводил дни в скучной комнате Адмиралтейского суда с судьей Окмюрти и Сиуоллом, допрашивая бесчисленных свидетелей. Зеваки не появлялись более в зале. Другие дела Джона оказались на втором плане. — Конечно, мистер Хэнкок заплатит тебе по заслугам. — Разумеется. Но я должен заниматься делами сотни клиентов. Завтра опять новый день, и я отставлю еще одно судебное дело. Она стиснула его руку так сильно, словно это была ее единственная связь с внешним миром.
6
В конце зимы дом на площади Браттл был продан, когда семья Адамс еще жила в нем. Первое предложение было сделано им, но они не были уверены, хотят ли иметь дом в Бостоне. В первый солнечный весенний день Абигейл вывела Нэб и Джонни на прогулку по Кингс-Лейн, а затем к северу вдоль Колд-Лейна к Милл-Понд. Красномундирники, находившиеся в казармах в дождливую и снежную погоду, вновь стояли на площади Браттл по стойке «смирно». Идя навстречу бледному солнцу, Абигейл держала детей за руки и с правой стороны увидела таверну «Зеленый дракон», служившую штаб-квартирой «Сынов Свободы». Примерно в пятидесяти метрах от Милл-Понд в одном из окон дома, которым восхищалась, она заметила объявление «Сдается». Это была подходящая двухэтажная деревянная постройка со слуховыми окнами, выкрашенная светло-кремовой краской. Двадцать раздвижных окон смотрели на юг и запад, открывая доступ свету и теплу. Абигейл ощутила волнение. За обедом она рассказала Джону о доме. Он слышал, что дом принадлежит мистеру Файеруезеру, и обещал принести от агента ключи. К четырем часам он вернулся домой. Дом ей понравился с той самой минуты, как только она вошла в него. Там было восемь основных комнат, из них семь с каминами, намного большими, чем в доме на площади Браттл. Весь дом был обновлен, в нем было много мебели. Файеруезер был от природы веселый человек, ибо гостиная была выкрашена в светло-голубой цвет, а мебель обтянута более темным синим шелком; семейная комната была бледно-зеленой с кремовыми занавесками, столовая отделана под кедр, а библиотека обшита деревянными панелями. Чувствовалось, что дом хорошо утеплен и в нем не гуляют сквозняки. — У мистера Файеруезера не только хороший вкус, — заметила Абигейл, — он любит порядок. Многое из массивной мебели обтянуто заново. Принеси мне опись, и я осмотрю комнату за комнатой. — Она помолчала минуту. — Арендная плата высокая? — Да. Кто-то должен заплатить за свежую краску и штукатурку. — Он улыбнулся ей. — Но не стоит жалеть денег, если тебе будет здесь уютно. На следующее утро дом ей еще больше понравился. Спальни были просторными, с внутренними ставнями, и на сиденьях у окон лежали подушки ярких цветов. В стену их спальни был встроен мраморный камин с полкой. Кровати были удобными, там же стояла и другая мебель: небольшой письменный стол и секретер в одной комнате, гардероб и стол — в другой. С северной стороны окна выходили на Милл-Понд, с западной — на Вест-Чёрч. В библиотеке на первом этаже имелось достаточно книжных полок. Рано утром в субботу Джон отвез Абигейл и троих детей к ее тетушке Элизабет. К сумеркам он вернулся, чтобы перевезти семью в новый дом. Джон приступил к работе в новом кабинете, написав несколько инструкций для Бостонского законодательного собрания против продолжающегося присутствия в Бостоне британских войск. В мае и июне стояла мягкая погода. Джон купил небольшую парусную лодку и часто выезжал с семьей на прогулку. В душные жаркие дни от Милл-Понд дул освежающий бриз. Абигейл доставляло удовольствие то, что раньше казалось ей обременительным: длительные прогулки по улицам при закате солнца, обеды у друзей, пикники за городом с Сюзанной, которую носили в плетеной корзинке. Из Лондона поступали ободряющие известия. Агенты и друзья писали, что в парламенте ширится движение за отмену актов Тауншенда. Сообщалось, что «значительная часть кабинета», видимо, поддерживает точку зрения, что компромисс с колониями — в порядке вещей. Государственный секретарь, лорд Хиллсборо, разослал циркулярное письмо, в котором указывал, что кабинет «не питает намерений предлагать парламенту облагать Америку дальнейшими налогами в целях получения средств». Ряд бостонских торговцев, понимая, что соглашение о бойкоте Англии потеряет силу с отменой актов Тауншенда, начали заказывать британские товары, чтобы пополнить опустевшие полки. Джон порекомендовал Хэнкоку составить списки товаров и послать их своим агентам в Лондоне с предупреждением, что товары должны быть высланы лишь после отмены актов. Два месяца передышки оказались божьим даром. В июне Джон пришел домой из своей конторы около ратуши с землистым лицом, погруженный в мысли. На вопрос Абигейл он ответил: — Для каждого давно практикующего юриста наступает момент, когда ему приходится защищать людей, обвиняемых в убийстве. Я начинаю с попытки спасти не одну жизнь, а четыре. — Кто убил и кого, почему? — Ты хочешь сразу узнать все дело. Попроси Рейчел налить мне таз теплой воды. Меня знобило весь день. Судебное дело поручил мне Джеймс Отис; обвинителем выступит генерал Коурт, Отис занят с тамошними комитетами. И к тому же у него нет опыта в таких делах. — Не так уж неопытен, если передает дело тебе. Джон грустно улыбнулся: — Спасибо тебе, щедрая душа. Ты сбила мою температуру. Рейчел накормила детей. После этого Абигейл отпустила девушку. Абигейл и Джон облачились в шелковые халаты, привезенные дядюшкой Исааком из Китая. Вечером, когда они оставались одни, как в этот, то отправлялись на кухню, где ужинали творогом, свежеиспеченными булочками со сливочным маслом или компотом. Отдохнувший Джон рассказал ей историю четырех моряков, сидящих в исправительном доме на Бикон-стрит, поскольку тюрьма графства сгорела. Их обвиняют в убийстве лейтенанта Пантона с фрегата его величества «Роуз», обвинение носит политический подтекст, равноценный подтексту «Либерти». Объяснения Джона открыли Абигейл глаза на многое. Четыре моряка плыли на американском бриге «Питт Пакет» от Марблхэда. На обратном пути из Европы, когда оставалось шесть-семь лье до якорной стоянки, «Питт Пакет» был задержан и на его палубу поднялась вооруженная группа с фрегата «Роуз», возглавлявшаяся лейтенантом Пантоном. Лейтенант потребовал, чтобы экипаж судна выстроился на палубе. Моряк Корбет счел это действие «реквизицией», или захватом, после чего их заставят служить в британском военно-морском флоте с жесткой дисциплиной, сопровождающейся поркой и полу-рабством. Он и три его товарища укрылись в носовом отсеке судна. Обыскивая судно, лейтенант Пантон обнаружил их там. — Выходите, собаки! — закричал он. На это Корбет ответил: — Я знаю, кто ты. Ты, лейтенант с военного корабля, пришел, чтобы лишить меня свободы. Мы намерены защищаться. Британский гардемарин выстрелил из пистолета в отсек и раздробил руку одного моряка, державшего мушкет. Стоя у входа с гарпуном, Корбет провел линию по грузу соли, воскликнув: — Если ты перешагнешь эту линию, я буду считать это доказательством твоего желания реквизировать меня, и именем Господа Бога ты станешь покойником! Лейтенант Пантон взял для храбрости понюшку табака, перешагнул линию, прочерченную по соли, и пытался схватить Корбета. Корбет бросил гарпун и попал в яремную вену лейтенанта Пантона. Тот скончался на месте. С фрегата «Роуз» на борт «Питт Пакета» высадилось подкрепление, четыре моряка были арестованы и переданы шерифу в Бостоне с обвинением в предумышленном убийстве. Если Корбет будет признан виновным в убийстве, то будут сочтены в равной степени виновными и его три компаньона. Всей четверке грозит казнь через повешение. — Но ведь они защищали себя? — прошептала Абигейл. — Точно. Реквизиция моряков — самое гнусное преступление, совершаемое в настоящее время британским правительством. И самое незаконное вот уже шестьдесят лет. Однако британцы продолжают эту практику, загоняя мужчин во флот под предлогом непослушания, расстреливая их за попытки сбежать. Уже десятки лет для колоний такая практика равноценна гнойной язве. Может быть, нам удастся положить этому конец. — Каким образом, Джон? — Во-первых, я потребую суда присяжных. Это более надежный случай, чем с «Либерти». Если я не смогу добиться суда присяжных и дело будет передано в Адмиралтейский суд, то первый вопрос, который я поставлю, законна ли подобная реквизиция? Если реквизиция незаконна и лейтенант Пантон действовал как офицер, производящий реквизицию, то Макл Корбет и его друзья имели право оказать сопротивление. Если у них не было иного пути сохранить свою свободу, то, убивая его, они действовали в рамках закона. — Джон, бывают ли скучными важные дела? — Да, рутинные деловые вопросы, приносящие гонорары. А такие политические случаи причиняют лишь заботу. Кто мне заплатить гонорар? Четыре моряка? У них нет ничего. Мистер Хупер, владелец брига Марблхэд? В делах, влекущих за собой большие политические последствия, лучше чистые мотивы, чем деньги. Я не хотел бы, чтобы меня, как патриота, подозревали. Кабинет Джона был просторным, его окна выходили на боковой дворик, засаженный кустарниками и вязами. Он сказал ей, что рутинные дела будет хранить в конторе, а делом Пантона заниматься дома, чтобы не путать бумаги и мысли. Поскольку каждый из четырех моряков должен был ходатайствовать отдельно, Джону пришлось составить четыре документа, всякий раз со многими ссылками на прецеденты, уложения, мнения, высказанные в рамках законов Генриха III[20] и Вильгельма III.[21] Он ворчал, раздраженный тем, что приходится тратить столько вечеров, переписывая четыре раза ходатайства. — Не могла ли я выполнить роль писца? Если ты расскажешь мне о различиях в деле моряков и укажешь, где следует указать эти различия… — Я могу скорее использовать тебя как библиотекаря. Можешь ли передать мне «Британские статуты», «Институты…» Вуда… Он повернулся к ней, его лицо было задумчивым. — Если мне удастся положить конец реквизициям, то публикация по нашему делу может быть весьма полезной. Я хочу включить в нее различные полезные сведения. Думаю, что книга, которую напишу, будет пользоваться спросом. Абигейл внутренне усмехнулась, подумав, что Джон ведет себя как истинный пуританин, способный соединить верность идеалу с мыслью о выгоде от продажи. — Если эрудиция может выигрывать судебные дела, мой дорогой, то твои четыре моряка должны были бы уже праздновать в таверне «Дракон» свое освобождение. — Одной эрудиции недостаточно. Но я загоню противников в тупик. Ты видишь эту книгу, «Британские статуты»? Я заказал ее в Англии сразу после нашей свадьбы. В то время мой поступок казался страшно неразумным, поскольку я зарабатывал мало. Теперь же это единственный экземпляр книги в Массачусетсе. И моя экстравагантность спасет ныне четыре жизни. — Сама по себе? — Да. Послушай выдержку из книги: «Ни один моряк или другой человек, который служит на борту или нанимается на службу на борту частного судна или торгового судна или корабля, используемого в любой части Америки, равным образом моряк или другое лицо, находящееся на берегу любой части Америки, не подлежит реквизиции и задержанию, не может быть реквизирован или забран офицером или офицерами, принадлежащими военным кораблям Ее Величества, уполномоченными лордом Высоким адмиралом или иным другим лицом». Скажу тебе, Нэбби, если даже я не смогу добиться суда присяжных, я поставлю в тупик Хатчинсона. Она редко видела Джона столь возбужденным по поводу открывавшейся перед ним перспективы. Он выглядел значительно моложе своих тридцати четырех лет. Он приглашал ее стать свидетелем его триумфа. Его ходатайство прошло блестяще, сказались недели напряженной подготовки. Но прежде чем Джонатан Сиуолл собрался с мыслями для ответа Джону, главный судья Хатчинсон встал и объявил, что суд прерывается. Абигейл увидела, что Джон был буквально оглоушен отказом рассмотреть его просьбу о передаче дела суду присяжных. Чета Адамс вернулась домой. В течение всего полудня приходили друзья и сочувствовавшие с протестами и новыми слухами. К ночи появилось сообщение, что суд согласился на присяжных. — Не думаю, чтобы Джонатан хотел засудить четверку, — сказала Абигейл. — Ни один порядочный человек не захочет. А Джонатан — один из лучших, кого я знаю. Но состоящий на содержании у короны обязан выполнять ее волю. Расхаживая по комнате и устремив взгляд через окно на звездное небо, Джон мешал Абигейл заснуть. К рассвету она так утомилась, что осталась дома. Джон вернулся к полудню. — Что случилось, Джон? Не было времени ходатайствовать? — Никакого ходатайства! Я открыл мои книги, чтобы процитировать нужный пассаж. Едва я успел встать и сказать: «Позвольте, ваши превосходительства и ваша честь, моя защита заключенных состоит в том, что печальное действие, из-за которого их обвиняют, является оправданным убийством и поэтому не представляет преступления», — и подвинул «Британские статуты» к судье, как вновь выскочил этот попрыгунчик Хатчинсон и потребовал отложить заседание суда. — Чем он обосновал? — Ничем. Он преподнес свое предложение как папскую буллу. Судьи повиновались. — Джон расстегнул тесный воротник. — Город в отчаянии, ожидая утром смертный приговор. Мой мыльный пузырь лопнул! Газ вышел из моего пузыря, и я шлепнулся на землю. — Ну, дорогой, ты путаешь метафоры. — Моя неудача вызвана моим тщеславием. Я держал «Британские статуты» так, что корешок книги был направлен на Хатчинсона, как гарпун. Он, видимо, знал, что в книге есть статут против реквизиции. Дело закончено. Это был печальный конец после больших надежд. Никто не нанес им визита. Улицы опустели. Над городом нависла пелена. В полночь Джон сказал: — Я должен пойти в тюрьму и утешить моряков, передать, что о них думают, даже если им придется умереть. Что другое мы можем предложить им? Только… братство. Скорбная подачка в ночной мгле… — Но ведь ты потратил почти два месяца напряженного труда. — Да, но из исправительного дома я отправлюсь в свою постель, к жене, к горячему завтраку. А они отправятся навстречу приговору, к веревкам на виселице. Кто ответствен — моряк, бросивший гарпун, или адвокат, не добившийся оправдания? — Может тюремщик приготовить им чай? — Мы больше не ввозим чай. — Тогда я приготовлю наш. Ты отнесешь его в кувшине. — Завари покрепче, Нэбби. Он придаст нам смелость. На следующее утро она настояла на том, что пойдет в суд выслушать приговор. Такого мрачного настроения от роду у нее не было, когда она входила в судебное здание. Тюремщики ввели четырех моряков, бледных от ужаса. Они стояли перед пятнадцатью судьями, включая Бернарда, Окмюрти, коммодора Худа военно-морского флота Его Величества и «некоторых адвокатов Массачусетса». Губернатор Бернард Хатчинсон встал и с суровым видом произнес: — Убийство лейтенанта Пантона было оправданным в силу необходимости самозащиты. Арестованные оправданы и должны быть освобождены. Абигейл оцепенела. Оцепенели и все присутствующие в зале суда. Затем поднялся судья Роберт Окмюрти и глухим голосом объявил: — Решение суда единогласное! Началось вавилонское столпотворение. Люди кричали, смеялись, плакали, обнимали четырех моряков, которые остолбенели, не веря ушам своим. Среди вспышки радости и облегчения Абигейл, пытавшаяся пробиться к мужу и поздравить его, почувствовала, что ее держат за руки незнакомые люди, ее целуют незнакомые женщины. Пробиться к Джону было невозможно. Его окружили знакомые, хлопали по спине, восхваляли до небес. Так было до конца дня, приходили сотни людей с женами и детьми, приносили в подарок цветы, сладости, книги. Джонатан и Эстер Сиуолл также нанесли визит на пару минут. Эстер сказала Абигейл: — Никому не нравятся поражения. Но Джонатан горд за Джона сегодня. Весь Бостон горд. Когда они остались одни, Джон спросил, потирая своими пухлыми пальцами глаза: — Горд чем? Мне же не позволили изложить дело. Хатчинсон боялся, что если я его изложу, то все американские моряки будут сопротивляться и убивать, не давая возможности себя реквизировать. — Но именно ты вынудил их к такому решению. Твоя защита теперь доступна для любой колонии, если англичане вновь попытаются заняться реквизицией. Не огорчайся. Ты герой дня. Будь рад этому!Приятно быть калифом на час. Бокалами, выпитыми в их честь, можно было бы наполнить Бостонскую гавань. Мужчины снимали шляпы, встречая Абигейл на улице, женщины расплывались в улыбке, торговцы бросались ей навстречу, отталкивая приказчиков; даже в мясных, рыбных и овощных лавках перешептывались, завидев миссис Джон Адамс. Ей предлагали лучшие куски мяса, самые свежие фрукты и овощи, самую вкусную рыбу. Джон находился в Фолмауте. Он намеревался быть в Бостоне к июльской сессии суда, но к концу месяца прислал с друзьями два письма, сообщая, что, хотя он выиграл три дела, оставалось еще шестьдесят. — Ничто, кроме надежды заработать для моей любимой семьи, не может поддержать меня в этих нудных занятиях. Абигейл пришлось смириться с этим, ибо всякий раз, когда им удавалось отложить сто фунтов стерлингов, появлялось политическое дело, приковывавшее к себе внимание Джона, и их доходы падали, сбережения тратились на содержание дома и ежедневные расходы в Бостоне. Они надеялись, что смутная обстановка не нарушит окончательно их платежный баланс. Губернатор Бернард был вызван в Лондон для «консультации», что Джон расценил как более мягкий эквивалент слова «отставка». Когда судно губернатора отходило от причала, зазвонили колокола, с доков Джона Хэнкока загрохотали пушки, Дерево Свободы было украшено флагами, на Кинг-стрит и у Форт-Хилла горели костры. Ассамблея Массачусетса обратилась с петицией к королю Георгу III «снять с поста в его правительстве навсегда сэра Фрэнсиса Бернарда». Бостон был уверен в своей победе. Дела шли хорошо. Хотя соглашение об отказе от импорта из Англии все еще сдерживало деловую активность, появилась возможность нанять клерка, и Джон взял на работу приятного молодого человека по имени Джонатан Уильямс Остин, только что окончившего Гарвардский университет. Поскольку не было иной возможности обучаться праву, Джон счел своей обязанностью установить отношения типа мастер — подмастерье. Через десять дней его старый друг Джон Тюдор навязал ему своего сына. — Что я буду делать с двумя писцами сразу? — жаловался он Абигейл. — Что скажут Ассоциация адвокатов и свет? Что у меня много претензий? — Ты способен дать им такое хорошее юридическое образование, какое только можно найти в колониях. — Шутишь, дорогая. Мое понимание чести, совести, если хочешь, требует, чтобы я дал им интенсивную подготовку не только по книгам, но и по судебным процедурам, чем не занимался со мной Путнам, предпочитая обсуждать вопросы религии. — Ты стал лучшим мастером, не получив надлежащую подготовку как подмастерье. — Мне нравится обучать. Сидя в своем большом кресле в школе, я воображал себя диктатором в общине. Я мог выявить гениев, генералов, политиков в нижних юбках, богословов, а также пижонов и шутов. Зажечь в народившейся душе жажду к знанию! В то время я думал, что невозможно получить большего удовлетворения. — В таком случае подпиши бумаги молодого Тюдора. Это будет доброе дело, пока не подрастет Джонни. — Джонни! Ты на самом деле думаешь, что этот чертенок станет адвокатом? — Если ты привьешь ему любовь к законам. Он снял сюртук, сбросил кружевной воротник. Его глаза сверкали. — Мне хотелось бы иметь еще одного адвоката в семье. Эта идея укрепляет мои нервы и заставляет быстрее обращаться кровь. Быть может, мы сумеем основать династию юристов Адамсов. Могу заверить тебя в одном: ко времени, когда Джонни наденет мантию, он будет владельцем самой хорошей в тринадцати колониях правовой библиотеки. Она восхищалась силой любви. Пять минут назад он пришел домой озабоченный, что делать с двумя клерками. Стоило ей высказать мысль об обучении собственного сына, и он целует ее в восторге от идеи собрать большую библиотеку по юриспруденции для двухлетнего сына. Абигейл тревожилась за Сюзанну. Ей исполнилось уже восемь месяцев, а она не окрепла. Несмотря на теплое лето и ясное солнце, ее кожа имела желтоватый оттенок; не помогала и специальная пища, которую готовили по рецепту докторов Тафтса, Уоррена и Ллойда. Сюзанна ела недостаточно для поддержания своих жизненных сил. Врачи уверяли Абигейл, что ребенок оживет, станет крепче, но их уверения не рассеивали опасений. Абигейл охватило чувство вины. Она не сумела дать Сюзанне хорошего начала, чувствовала себя усталой во время беременности, подорвала силы ребенка затяжными родами. Даже сейчас ощущала свою беспомощность, не обладала мудростью и искусством вызвать у дочери стремление к выживанию. Прошли жаркие дни, наступили ранние холода; ребенок таял на глазах. В первую неделю февраля Сюзанна скончалась. Жизнь крошки угасла как свеча. Абигейл удалилась в свою спальню, уткнулась лицом в подушку и заплакала. Через какое-то время, выплакав все слезы, она примирилась с судьбой. Грех заниматься самоистязанием. Это бесполезно, что она могла еще сделать, выносив и родив Сюзанну? Она должна принять случившееся: значит, так угодно Богу, как бы ни было трудно. Впервые Его десница обратилась против нее. Но и такая мысль грешна. Много детей умирает в Новой Англии, они рождаются либо мертвыми, либо такими слабыми, что не переживают тягот первой зимы. Бог дает, Бог берет. У нее есть двое крепышей, она должна быть признательна Его благословению в прошлом и тому, что будет… Она поднялась и села на постели. Случившееся не скоро забудется, но у женщины всегда есть возможность воссоздать внутри себя замену — новую жизнь. Джон не произнес ни слова. Она оценила глубину его страданий по тому, что он старался не упоминать имя Сюзанны. Вернувшись с кладбища, она настроила себя на рождение следующего ребенка. Непреднамеренный случай, характерный для того смутного времени, окончательно захлопнул дверь в прошлое. Первым звеном в цепочке трагических событий стало убийство одиннадцатилетнего сына бедного немецкого иммигранта. Кристофер Снайдер шел с группой парней в толпе, угрожавшей Теофилу Лилье, ввозившему товары из Англии. Его лавка, находившаяся недалеко от Дома собраний Нью-Брик, была помечена карикатурной головой, насаженной на шест. Сосед Лилье Эбенезер Ричардсон, известный в округе как осведомитель таможни, пытался свалить шест. Толпа отогнала его градом камней. Ричардсон схватил мушкет и выстрелил в толпу, пуля пронзила сердце молодого Снайдера. Абигейл слышала похоронный звон бостонских колоколов; в ее сознании он слился с церемонией похорон собственной дочери, тупая боль перевоплощала Сюзанну в беспечного одиннадцатилетнего мученика Бостона. Она оплакивала его, не отделяя от своего личного горя. Лишь строгое предупреждение доктора Джозефа Уоррена не позволило ей принять участие в похоронном марше. По-иному действовал Джон. Возвращаясь из Уэймаута, он встретился с кортежем, который собирался под Деревом Свободы. — Во-первых, я выпил спиртное у мистера Роу, — признался он ей в этот вечер, — ты знаешь эти массачусетские дороги в феврале! Затем я примкнул к похоронному кортежу. Много мальчишек шли за гробом, а за ними мужчины, женщины, ехали экипажи. Я никогда не видел таких похорон. Возмущение народа явно не улеглось. Закутавшись в пальто, они пошли в книжную лавку, где Джон Мейн содержал библиотеку для тех, кто был в состоянии платить в год один фунт стерлингов и восемь шиллингов. Они выбрали новый роман и вернулись к ужину, расположившись перед камином в кабинете Джона, что не делали со времени смерти Сюзанны.
7
Вечером в понедельник, вскоре после того, как Джон уехал на собрание своего общества в доме Гендерсона Инча, вновь зазвонили колокола. Лишь большойпожар мог быть причиной для звона всех колоколов Бостона. Абигейл выпрыгнула из кресла-качалки, вызвала Рейчел быть наготове с детьми, а сама побежала вверх к смотровому окну на третьем этаже, откуда был виден весь город. Нигде не было ни пламени, ни дыма. Абигейл вызвала поденщика, работавшего в саду, и послала его узнать, в чем дело. Он вернулся, рассказав о чудовищной стрельбе и убийствах около ратуши. Вскоре вернулся Джон. — Случилось то, о чем мы предупреждали! — воскликнул он, — Утверждалось, что красномундирники имели приказ не стрелять. И два дня назад толпа с палками и дубинами разогнала пару рот. Один солдат выстрелил поверх голов. Но на этот раз стреляли в толпу. Трое убиты, четвертый — смертельно ранен. К тому времени, когда я добрался до ратуши, толпа рассеялась, забрав убитых и раненого. Утром я узнаю больше. Они проснулись в странной тишине. Город словно не пробуждался: никто не готовил завтрак, не собирался пойти на работу и в школу. Не было слышно шума повозок, доставлявших продукты, разносчиков, гула деловой части города и доков. Казалось, они проснулись на кладбище. Абигейл накормила Джона вареными бобами, ветчиной и бисквитами. Он поцеловал ее в щеку, сказав: — Лучше не выходи из дома. Она слышала его шаги по Колд-Лейн. Их ритм подсказал ей: «Идет с неохотой». Джон вернулся домой рано, чтобы рассказать ей о ситуации, хотя и не торопился начать рассказ. Он сдерживал себя, и в то же время чувствовалось, что дело затрагивало его непосредственно. Она подумала: «После пятилетнего замужества понимаешь каждую минуту молчания мужа». Наконец он сказал: — Надень пальто, и мы погуляем по саду. Между деревьями, сбросившими листву, были широкие проходы, снег лежал на крыше каретного сарая и на щитах над угольными ямами. Они сделали всего несколько шагов, когда Джон заговорил: — Потребуются недели, если не месяцы, чтобы установить истину. Во всяком случае, сотни людей передают случившееся по-разному. Он крепко держал ее под руку, рассказывая о напряжении, царившем в городе с момента размещения в нем красномундирников, о стычках между жителями Бостона и солдатами, о ругани, которой они обменивались, о страстях, подогретых смертью Кристофера Снайдера. Чувствуя враждебное отношение к себе, красномундирники чаще прибегают к штыкам и ружьям. Взрывчатого материала было предостаточно. Но трудно установить, что вызвало взрыв. Факты общеизвестны. К вечеру на улицах собрались бостонцы. Солдатам было приказано «оттеснить» толпы и продвинуться по главным улицам в порядке охраны. Первая стычка произошла на Браттл-стрит, где часовой около прохода Бойлстон, что напротив казармы, остановил трех или четырех парней, желавших пройти. Возникла драка, и один бостонец был легко ранен в голову. Это стало известно бродившим по улицам толпам. Тридцать — сорок человек на площади у доков, вооружившись палками и дубинами, — среди них было много американских моряков, ждавших повода для драки, — пытались пробиться к казармам. Разогнанные солдатами, они вновь сплотились и отправились на Кинг-стрит. Там, перед зданием таможни, стоял британский часовой. Мальчишки орали: «Убьем его! Свалим на землю!» — и забросали часового снежками. Тот зарядил ружье. Начали звонить городские колокола, первыми зазвучали колокола церкви Олд Брик, затем — Олд Саут. Какой-то мальчишка крикнул: «Красномундирник готов выстрелить!» Часовой закричал: «Гвардия!» Шесть гвардейцев, находившихся у ратуши на Кинг-стрит, прибежали к нему на помощь. Капитан Престон присоединился к отряду в тот момент, когда толпа высыпала на площадь из соседних улиц Кинг-стрит. Солдаты выстроились полукругом перед зданием таможни. На них посыпались ругательства, а затем и палки, из толпы кричали: «Стреляйте, если осмелитесь!» По ружью солдата Монтгомери ударили палкой. Он упал, и на него навалилась толпа. Кто-то выкрикнул: «Стреляй!» Поднимаясь на ноги, Монтгомери выстрелил в толпу. Вслед за ним выстрелили другие солдаты. Трое мужчин были убиты на месте, пять других — ранены. Толпа отшатнулась. Солдаты продолжали стоять на месте. Бостонцы двинулись вперед подобрать убитых и раненых. Солдаты, считая, что готовится новое нападение, подняли ружья. Капитан Престон быстро прошел по строю солдат, спуская рукой взведенные курки. Затем капитан приказал солдатам отойти к ратуше… Джон шагал быстро и настойчиво, словно не замечая Абигейл. Обернувшись, он заметил напряжение на ее лице. — Тебе холодно? — Рейчел принесет нам шоколад в твой кабинет. Джон растопил камин. Он сел на пол, протянув ноги к огню. Они молчали, попивая мелкими глотками шоколад. Затем Джон выпрямил спину и решительно сказал: — Я принял предложение защищать капитана Престона и солдат, участвовавших во вчерашнем убийстве. Я буду представлять короля. Некоторое время Абигейл молчала. Она плохо представляла, как совместить противоречивые чувства. — Ты вызвался сам? — Нет. Меня посетил мистер Джеймс Форрест, тот самый, которого зовут «ирландским дитятей». Я его немного знаю, это процветающий купец, дружественно настроенный к королевским чиновникам, и честный человек. Со слезами на глазах он сказал: «Я пришел по просьбе крайне несчастного человека, капитана Престона, находящегося в тюрьме. Ему требуется адвокат, а он не может найти его. Я обратился к Джошиа Куинси-младшему, который сказал, что взялся бы за дело, если вы ему поможете. Без вашего согласия он совершенно определенно откажется». Джон поднялся и, возбужденный, встал за стулом Абигейл. — Я принял предложение. Не колеблясь я ответил, что адвокат — самый последний, кого надо упрашивать в свободной стране. Ассоциация адвокатов должна, по моему мнению, сохранять независимость и беспристрастность во все времена и при всех обстоятельствах. Но он должен понимать, что дело крайне важное из всех когда-либо попадавших в суд и что любой адвокат должен считать себя ответственным не только перед своей страной, но и перед самым безупречным трибуналом. Поэтому он не должен ожидать от меня ни ловкости, ни уверток, ни ухищрений или предвзятости, а лишь суждений, оправдываемых фактами, свидетельствами и законом. Он мне сказал, что капитан Престон не требует и не желает ничего иного и все, что ему известно обо мне, убедило его, что он может доверить мне свою жизнь, основываясь на указанных выше принципах. После этого Форрест предложил мне гинею как гонорар, я взял ее. Это означает также, что я буду защищать и восемь солдат. — Сможет ли понять Бостон, — устало спросила она, — после того, как пролилась кровь, что по закону любой человек имеет право на защиту и что адвокат обязан ее обеспечить? — Так же трудно, как трудно Бостону понять, что кузен Сэмюел и «Сыны Свободы» возбудили толпу в такой степени, что она потеряла контроль над собой. Это продолжается по сей день, в каждом квартале, на каждой улице, в каждой лавке, таверне или доме людям внушают, что капитан Престон и солдаты совершили хладнокровное убийство. — Ты так не думаешь? — Потребуется немало времени, чтобы установить истину. Первое, что я сделаю, попрошу отложить слушание до осени. Если солдат станут судить прямо сейчас, то в Массачусетсе не найти присяжных, которые не осудили бы их. Послышался стук в дверь. Это был двадцатишестилетний кузен Абигейл Джошиа Куинси-младший. В возбужденном состоянии его левый глаз настолько косил к переносице, что, казалось, был готов совсем скрыться, а ямочка на подбородке превращалась в расщелину. Но его молодость, энергия и душевность наполняли любую комнату, в какую он входил. Он направился прямо к Джону, обнял его, прежде чем повернуться и поздороваться с Абигейл. — Кузен Адамс, ты поступил благородно. Я не взялся бы за дело без тебя, что придает нашей стороне солидность и уважение. Я только что посетил в тюрьме капитана Престона. Я откровенно изложил ему мое мнение о конфликте, а также то, что душой и телом принадлежу патриотам моей страны. — Ты молод, Джошиа, и Массачусетс простит тебе это дело по молодости. — Остальной Бостон для меня ничто по сравнению с моим отцом! — воскликнул Джошиа. — Я буду счастлив, если он позволит мне носить имя семьи. — Поскольку твой брат Сэмюел — королевский прокурор, — заметила Абигейл, — возможно, он выступит в роли обвинителя. Это явится отмщением и восстановит честь семьи. — Честь нашей семьи, Абигейл. Ведь ты также Куинси. — В настоящий момент ее положение спорно, ибо она принадлежит Адамсам, — заявил Джон. Едва успел уйти Джошиа, как появился Сэмюел Адамс. Он смотрел на них с загадочностью умудренного китайского философа. — Я хочу, чтобы ты не брался за это дело, братец Адамс. — По твоему мнению, я не должен? Сэмюел сказал самым мягким тоном: — Я уважаю убеждения. — Сэмюел, ты ведь не хочешь, чтобы повесили восьмерых солдат? — Дорогой, конечно нет. Насилие противно моей природе. Мы хотим лишь доказать, что Бостон прав. В этом я всегда буду против тебя. Он ушел, и после его ухода в воздухе запахло щелочным мылом, что варила Бетси. — Что он сделает? — спросила Абигейл. — Ничего, что каждый мог бы ожидать. Единственно, что предсказуемо у Сэма, так это его непредсказуемость. Последняя сессия Верховного суда Его Величества должна была открыться через неделю. Джон проводил время в поисках юридических прецедентов, чтобы добиться отсрочки. У себя в конторе или в ратуше он чувствовал, что отношение к нему окружающих изменилось, но держал это в себе, не комментируя и не высказывая волнения. Что же касается Абигейл, то она словно вдруг оказалась в иностранном городе или стала иной личностью. Люди, с которыми она встречалась ежедневно, не проявляли эмоций, делали вид, что не узнают ее. Лавочники, мясники, рыботорговцы не снимали шляпы в знак приветствия, не обращались к ней по имени. Ее и не игнорировали, и не демонстрировали враждебность. Через пару дней она нашла первое объяснение. Описывая, как соседи проходили мимо нее, будто она вообще не существовала, Абигейл сказала: — Они относятся ко мне как к анонимному лицу. У них нет ненависти, нет горечи, они просто не могут понять, почему ты взялся за это дело. — Не обращай внимания, — посоветовал он. — Когда процесс останется позади, станет лучше, если не переругаемся. В таком случае никому никого не придется прощать, включая и нас. На протяжении последующих нескольких дней Бостон походил на то, о чем рассказывал пастор Смит, когда религиозная истерия парализовала общину: по четыре — шесть часов в день проповедники метали громы и молнии со своих кафедр, лавки были закрыты, занятия в школах отменены, люди ходили по улицам словно лунатики. Теперь в городе главным было слово «политика». Собирались митинги, звучали яростные речи, в которых горько осуждались красномундирники как хладнокровные монстры, расстреливающие невинных миролюбивых патриотов, вся вина которых в том, что они верят в свободу. — «Сыны Свободы» блестяще проводят кампанию, — признал Джон. — За исключением сочувствующих короне, укрывшихся в своих домах и закрывших ставни на лавках, город горит желанием повесить каждого, кто попадет в список. Если последний раненый, Патрик Карр, скончается, боюсь, что воскресные проповеди обернутся призывами к мятежу. Карр умер этой же ночью. Новая волна ненависти захлестнула Бостон. Джон принял решение в субботу и воскресенье не выходить из дома. Но публикации в понедельник были хуже воскресных проповедей. Пол Ревер нарисовал пять гробоподобных блоков с мертвыми головами и с инициалами жертв, этот рисунок иллюстрировал в «Бостон газетт» статью о том, что получило название «бостонской резни». Жителям Бостона внушали, будто выстроившиеся в плотный ряд британские солдаты по команде, поданной саблей капитана Престона, стреляли в упор в толпу добропорядочных, хорошо одетых бостонцев, включая женщин, мирно прогуливавшихся по площади у ратуши. — Мистер Ревер должен понимать, что рисунок усилит ненависть и подтолкнет к насилию, — сказала Абигейл. — Он желает запечатлеть в каждой голове стигму резни, так распалить Бостон, что судьи станут опасаться за свою жизнь, если завтра утром они удовлетворят мою просьбу отложить суд. Слушание состоялось в полдень. Когда Джон вернулся домой, у него было усталое, но довольное лицо. — Дело отложено до осени. — Как хорошо. — Сэмюел собрал группу обедавших у него патриотов и привел ее в суд. Ты никогда не видела подобной сцены. Они шумели, угрожали, требовали немедленного начала суда. — Как тебе удалось нанести им поражение? — Они сами подсекли себя. Чем громче они орали, тем больше судьи убеждались в том, что в настоящее время невозможен справедливый процесс. В середине страстной речи некоего Сына свободы председательствующий судья воскликнул: «Процесс отложен!» Судьи удалились, прежде чем вернулся рассудок к патриотам. По правде говоря, я сам постарался побыстрей уйти. Она рассмеялась: — Что ж, Джон Адамс, не говори мне, что бежал из зала суда. — Ох, нет. Это было бы недостойно. Скажем так — это была быстрая походка, непривычная для Бостона.8
Чета Адамс жила, словно отгороженная рвом. Абигейл теперь осознала, каким блаженством было состояние, когда ее не замечали. Теперь же она стала той самой миссис Адамс. Завидя ее, торговцы отворачивались. Она перестала посещать большие лавки. Вечеринки и выезды за город полностью прекратились. Она не чувствовала себя покинутой: почти каждый день ее навещали сестра Мэри, родители, сестра Бетси. Тем не менее ей казалось странным, что лишь немногие адвокаты из общества Джона, согласные с тем, что он обязан взять на себя дело, заходили к ним. Джон уверял, что встречается с ними в конторе и в Ратуше и они шлют ей дружеские приветствия. Но по непонятным для ее женского ума причинам они не желали посещать дом Адамсов. У Джона были свои проблемы. Он пытался собрать и допросить сотню свидетелей стрельбы, поиски и опросы занимали бесконечно долгие утомительные часы. Его юридическая практика сократилась, об этом она узнала из собственных источников. — Бостон мстит тебе, Джон? — Не думаю. Для июльской сессии суда мало дел. Ассоциация адвокатов и клерки жалуются на то, что не хватает исков. Он отодвинул в сторону пачку свидетельств, лежавшую на его письменном столе, и открыл пошире окно, чтобы впустить больше воздуха. — У меня на руках восемь человеческих жизней. Если я их спасу, не сделав ничего другого в этом году, то буду рад и этому. — Веришь, что сможешь? — Если смогу подобрать группу беспристрастных присяжных. Но день ото дня такая возможность становится все менее вероятной. Это в значительной степени результат воздействия новой гравюры Поля Ревера «Последняя страшная резня на Кинг-стрит». Идес и Джилл рекламируют ее в «Газетт» за восемь пенсов, и, как я думаю, в Бостоне не найдется дома, где не было бы копии этой гравюры на стене. Ревер понимает, что его рисунок — фальшивка. Но если я попытаюсь вмешаться… — Может быть, мне вмешаться? Мы заказали несколько изделий из серебра у Ревера. Я могла бы сделать скромную покупку в его лавке и выяснить, смогу ли я убедить его забрать у газеты гравюру? — Упомяни об этом, но только к месту. — Всегда можно найти подходящий способ. На следующее утро она отправилась в лавку Ревера, расположенную в районе доков. В лавке были низкие потолки с закопченными балками, маленькие оконца-витражи. Ей навстречу вышел Пол Ревер — приземистый, коренастый человек с темными глазами и широким ртом на плоском лице. Внешне простецкий, он не носил парика, на нем был рабочий кожаный фартук. Он поклонился, казалось, был даже рад видеть ее, что поражало на фоне общего отношения. Абигейл заказала солонку, которой у нее не было. В то время как Ревер делал грубый набросок углем, она сказала: — Я слышала, что у вас есть дар изображать целые сцены. Улицы, людей, дома, даже собак. — Мэм, я получаю удовольствие от рисования. — Я слышала, что вы сделали эскиз Кинг-стрит после стрельбы. — Боже мой! Я нарисовал. Не хотите ли посмотреть? Рисунок в моем письменном столе. Она некоторое время изучала гравюру, а потом сказала: — Как я понимаю, ваши оттиски необычайно успешно продаются? — Около шестисот копий. Это достаточно большое число. На стене мой первый оттиск. Абигейл внимательно рассмотрела оригинал и гравюру: — Вы внесли несколько изменений. — Улучшил. — На оригинале тела Аттукса и Грея близки к солдатам. А на гравюре толпа находится на расстоянии. — Искусство, миссис Адамс. Чистое искусство. — Потому, что это более верно? — Потому, что более полезно. — Полезность, мистер Ревер, — критерий искусства? Я полагала, что критерием должна быть истина. — Это особое искусство. Искусство политики. — Да, понимаю. Политика вмешивается в великое искусство литературы и живописи. — Знаете, как Сэмюел Адамс определяет политику? «Искусство необходимого», — говорит он. Он, конечно, прав. — Служим ли мы нашим лучшим интересам, когда искажаем свидетельства, чтобы засудить людей, которые нам не нравятся? Ревер втянул свою голову в массивные плечи. — У нас нет ничего против красномундирников, миссис Адамс. Мы лишь говорим, что незаконно расквартировывать войска в Бостоне. — Согласна. Но что случится, мистер Ревер, если вы поможете создать прецедент осуждения на лжесвидетелях, а затем кто-то даст мне показания против вас? Ревер почесал свой скальп тупым концом карандаша. — Кто собирается обвинить меня, мэм? Ведь, если кто-то расскажет в суде лживые выдумки, у меня есть друзья, которые наврут еще больше и вызволят меня. Абигейл поняла, что проиграла. Она заплатила аванс за солонку, одобрив рисунок, и вышла из лавки. Когда она закрывала тяжелую деревянную дверь, прозвенел колокольчик. В своем доме она обнаружила Сэмюела Адамса, доктора Джозефа Уоррена, Джошиа Куинси-младшего, Джона Хэнкока и Джеймса Отиса, которые пили ромовый пунш Джона, провозглашая тосты. Увидев удивление на ее лице, Джон быстро объяснил, что капитан Скотт, командующий на судне Хэнкока «Галей», только что прибыл из Англии с известием, что королевский премьер-министр лорд Норт провел через парламент законопроект, отзывающий постановления Тауншенда, все налоги на импорт, за исключением чая. — Почему чая? — спросила она. — Возможно, потому, что каждая живая душа в Новой Англии пьет чай. Британия знает, что без чая не обойтись, — ответил Сэмюел. — Дело серьезнее, — сказал Джон. — Парламент сохранил нетронутой преамбулу к актам. Сохраняя налог на чай, он напоминает нам, что список может быть расширен в любой подходящий момент. Бостон не отпраздновал событие. Через несколько дней городское собрание владельцев собственности в Фанейл-Холл проголосовало за отклонение уступок со стороны Британии, подтвердив «неизменную решимость соблюдать договоренность об отказе от импорта». Как предсказывал Джон, Сэмюел Адамс нанес удар с неожиданного угла. Удар был нанесен после того, как Абигейл родила второго сына, которого они назвали Чарлзом. Это был крепыш, громко потребовавший кормежки через минуту после рождения. Она благодарила Бога за его щедрость. Шестое июня был теплый ясный день, в воздухе витал легкий привкус соленого морского бриза. Во второй половине дня она спустилась вниз и увидела Джона в гостиной: он лежал на софе, водил по лицу и лбу узелком, внутри которого был лед. Такого она еще не видела и была готова рассмеяться. — Джон, что случилось с тобой в такой прекрасный день? — Самое плохое. Я сидел в своей конторе, сопоставляя показания дюжины свидетелей, когда пришел посыльный с бумагой от городского совета. Мне сообщали, что я избран бостонскими владельцами собственности представителем Бостона в палате представителей и в Общем суде. — Но это же чудесно! Дедушка Куинси многие годы был представителем и членом Общего суда, даже спикером. Джон посмотрел на нее пустыми глазами. — Я немедленно отправился в Фанейл-Холл и в нескольких словах попытался объяснить, что не смогу оправдать их ожиданий. Они не слушали моих объяснений, думая, что я разыгрываю скромность. Затем я принял назначение. Но оно не доставило мне радости. — Ради бога, скажи почему? Он мучительно выкрикнул: — Принимая место в палате представителей, моя дорогая партнерша, я согласился тем самым с собственной гибелью, с твоей гибелью и с гибелью детей. Он положил узелок со льдом на лицо. Она поняла, что расстраивает его. Работа представителя не оплачивалась, она поглощала большую часть времени, не оставляя почти ничего для других занятий. Джон будет занят политикой настолько, что не сможет вести юридическую практику. Она понимала, что это будет означать для тающих запасов золотых монет. За дело Пантона гонорар не заплатят. Будет выделен лишь небольшой гонорар за защиту восьми солдат. Еще несколько подобных почестей — и они уподобятся кузену Сэмюелу. Она зарыдала, но тотчас же остановилась. Глупо оплакивать судьбу, которая ведет их неизменно вверх. Абигейл подошла к софе, взяла из рук Джона узелок со льдом. — С тобой я готова на любой риск. Положимся на Провидение. Неожиданно она осознала несуразность положения. — Это совершенно невозможно. Бостонцы ненавидят тебя! Они не могли выбрать тебя своим представителем. — Заключительная баллотировка показала, что у меня больше четырехсот голосов из чуть более пятисот. — Но как это могло случиться? — Сэмюел Адамс… Она села на стоявший рядом стул. — …Ему взбрело в голову, что я лучше всех в Массачусетсе пишу инструкции, законы и поправки. Он решил, что я нужен ему в Общем суде, чтобы бороться за патриотов, капитана Престона и красномундирников или вообще не бороться, вот я и попал. Странный способ начинать политическую карьеру, не так ли? — Ты начал свою политическую карьеру, написав первый закон о дорогах в Брейнтри. Политика это дорога через болото; однажды вступив на нее, можно выбраться лишь в конце пути. А тебе еще так далеко до конца. Она высказала неудачную мысль. Джон снова откинулся на софу. — Перед тем как взяться за дело капитана Престона, у меня была уйма дел в провинции. Теперь нам придется пробиться через все преграды и перепрыгнуть все рвы, не так ли? Мое здоровье не позволяет справиться с такой массой работы, с многомесячными процессами без всякой компенсации, в лучшем случае — за несколько гиней и в довершение всего — бесконечные ссоры с вице-губернатором, советом и Англией, в то время как я должен думать о семье. Я ввязываюсь в бескрайний труд и бесконечные тревоги, и все задарма, если оставить в стороне чувство долга. Абигейл сдержала улыбку, наметившуюся в уголках ее губ. — Для добрых пуритан, вроде тебя и меня, долг — кратчайший путь в рай небесный. Джон, как твой партнер, я хотела бы сделать предложение: ты заботишься о капитане Престоне и процессе, палате представителей и Общем суде, я же возьму на себя заботу о твоем ослабленном здоровье и питании для нашей ослабленной семьи.Процесс над капитаном Престоном начался в конце октября. Затем, 27 ноября, должен был открыться процесс над солдатами. «Сыны Свободы» были полны мрачной решимости добиться осуждения солдат, но Джон почувствовал, что их вражда к капитану несколько притупилась. — Ты знаешь почему, Джон? — Да, видимо. Если капитан Престон отдал приказ стрелять, то виновен только он один. Солдаты должны исполнять приказ, иначе их сочтут мятежниками. Его осуждение снимет обвинения с солдат. По мере приближения начала процесса Джон почувствовал, что не может есть мясо, затем рыбу, затем капусту, затем свежие летние и осенние фрукты, затем сладости. Абигейл спросила доктора Коттона Тафтса, в чем дело, когда тот приехал из Уэймаута. Волосы Коттона у висков поседели, и это делало его почти красивым. В ответ на вопрос он тихо рассмеялся: — Кузина, ты вышла замуж за полного мужчину. Джон может обходиться без еды целый год и не станет таким тощим, как я. Когда он жалуется на желудок, это означает, что он боится оказаться не на высоте и проиграть дело. Утром в день начала процесса над Престоном произошли странные вещи. Джонатан Сиуолл, который должен был выступить как прокурор, исчез из Бостона. Вместо него был назначен Сэмюел Куинси, и, таким образом, он должен был выступать против своего брата Джошиа Куинси-младшего. Один из старейших друзей Джона, Роберт Трит Пейн, также представлял прокуратуру. — Удачи, — прошептала Абигейл, когда Джон покидал дом. Следующий день совпал с годовщиной восхождения на трон короля Георга III. Абигейл, вынужденная половину ночи выслушивать рассказ Джона о вступительном заявлении Сэмюела Куинси, была поднята из постели залпами тяжелых орудий флота в гавани. Салют открыл корабль коммодора, а затем последовали залпы остальных кораблей. К ним присоединились залпы орудий замка Уильям и береговой батареи. «Выбрано неудачное время для демонстрации силы», — подумала она. Свидетели защиты, не пожелавшие торговать своей честью, показали, что капитан Престон ни разу не произнес слова «огонь». Он на деле старался предотвратить стрельбу и отвести солдат в казармы. Судьи — Бенджамин Линд, Джон Кашинг, Питер Оливер и Эдмунд Троубридж — сочли капитана Престона невиновным, присяжные быстро согласились с таким заключением. — Это многообещающее начало, — сказал Джон в тот вечер, вернувшись из суда. — Если солдаты стреляли без приказа, то тогда они сами должны и отвечать за свои действия. Нам нужно доказать, что их действия привели к неумышленному убийству. — Кажется, наступает время, когда мы сможем играть с нашими детьми и нам не будут мешать. — Это тревожное время, Нэбби. Но если я смогу провести дело надлежащим образом, то добьюсь достижения многих целей: спасу жизни, внушу мысль, что Англии следует отозвать солдат, а Бостону — отказаться от насилия. Только так мы сможем установить постоянный мир. Я страстно надеюсь, что в случае оправдания министерство отменит последние налоги. Тогда наступят счастливые дни, и мы сможем вновь стать друзьями Англии. Она вложила свою руку в его ладонь, прошептав: — Да будет лежать длань Господня на твоем плече.
9
Процесс над восьмью солдатами было намечено провести в зале совета на втором этаже ратуши, в величественном помещении с высокими потолками и окнами. Бостонцы восприняли начало суда как праздник: улицы города были заполнены экипажами, в которых сидели целые группы людей. Накануне всю ночь по мощенным булыжником дорогам подтягивались телеги из окрестностей. Поднимаясь по лестнице в зал совета, старожилы были убеждены, что это самый важный день, какой когда-либо имел место в колонии залива Массачусетс. К моменту, когда Абигейл вошла в зал, наиболее удобные скамьи были уже заняты. Армейские офицеры с полковником Даримплем, первым осуществившим высадку войск в гавани Бостона, блистали в своих красных мундирах и черных, доходивших до колен сапогах. Офицеры при саблях имели на мундирах соответствующие знаки различия, золотые полоски на шляпах, и их красочность явно доминировала в зале совета. Продвигаясь к первым рядам, отведенным для жен адвокатов, Абигейл заметила, что бостонцы, мужчины и женщины, также решили произвести самое лучшее впечатление. Наиболее роскошно были одеты дальние родственники Джона — мистер и миссис Томас Бойлстон. Жена была в синем сатиновом платье с белыми буфами и воротничком в горошек, прекрасная шляпа из белых кружев была подвязана под подбородком. Томас Бойлстон облачился в серый чесучовый сюртук, под которым виднелся темно-зеленый жилет. Оглядываясь вокруг, Абигейл заметила бархатное платье фиолетового цвета с серебряными пуговицами; несколько темного цвета костюмов из вельвета, какие обычно носят консервативно настроенные личности, и веселой окраски, какую предпочитают более общительные люди. Доктор Джозеф Уоррен явился в бархатном сюртуке и бриджах такого же цвета. Сама Абигейл надела скромное платье из шерстяной ткани с пуговицами до талии. Ее сестра Мэри была в синем шерстяном платье. Тетушка Элизабет предпочла темно-красное платье из дамаста с кружевными буфами. Часть зала была занята ремесленниками и работными людьми в традиционных кожаных бриджах, серых вязаных чулках и простых белых рубашках. Адвокаты заняли свои места за длинным столом у подножия судейской платформы. Голову Джона увенчивал белый парик. Он облачился в новую черную мантию, полностью закрывавшую его тело. Хотя Джошиа Куинси-младший был принят в Верховный суд и также имел право на мантию, он отказался надеть ее в знак протеста против «помпы и магии длинной одежды». Он был в простом черном костюме и белой сорочке. Вошедшие судьи были облачены в алые мантии, привезенные из Англии, их роскошные парики спускались завитушками на плечи. Все присутствовавшие встали. Клерк вызвал обвиняемых солдат. Они вошли гуськом и, выслушав выдвинутое против них обвинение, в один голос заявили: «Невиновны». Они были в безупречных мундирах, белые штаны закатаны в черные сапоги, доходившие до середины икры, красные сюртуки перекрещены белыми портупеями. На каждом была черная треуголка и новый парик, завязанный сзади черной лентой. Их выдавала лишь тюремная бледность и выражение страха на лице. Клерк выкрикнул: — Да пошлет вам Бог избавление! Вызываются присяжные. Двадцать пять вероятных присяжных были введены в зал из бокового помещения. Джон поднялся и сказал: — Милорд, заключенные договорились, что один из них, капрал Уильям Веммс, будет давать от их имени отводы присяжным. Джон и Джошиа несколько месяцев работали с солдатами. По их совету Веммс отвел четырех присяжных — жителей Бостона. Они были исключены из списка. Другая дюжина была безапелляционно отведена и удалена из списка, их судьбу решило тщательно составленное досье Джона. Привели еще восемь вероятных присяжных, и трое из них принесли присягу. Когда, наконец, было достигнуто согласие относительно двенадцати присяжных и они заняли свои места, Абигейл увидела, что все они из окрестных городков: Роксбери, Дорчестера, Брейнтри, Дэдхэма, Милтона, Стаугтона и Хэнгема. Стол адвокатов находился ниже судейской скамьи и выступал вперед примерно на ярд. На пару ярдов от судей отстояла ограда для свидетелей. Адвокатам предложили встать. Абигейл не так-то часто доводилось видеть, как выступает ее муж. Ей доставило удовольствие то, что она увидела. Джон Адамс держался уверенно и спокойно. Он все время говорил ей, что он не на чьей-либо стороне, а отстаивает закон и справедливость, которые, бесспорно, являются величайшей надеждой человека на Земле. Он выступал деловито, намереваясь ввести процесс в надлежащие рамки, где главенствуют факты и закон, а не страсти и предубеждения. Абигейл казалось, что за Джоном стоит авторитет права, накопленный за многие века, а также достоинство и самоуважение человека, намеренного действовать честно, согласно требованиям его благородной профессии. Смотревшие на Джона, выступавшего с неподкупной верой и отвагой, не могли представить, как нелегко ему было. Она посмотрела на другой конец стола адвокатов, где сидел ее другой, старший кузен Сэмюел Куинси. Она знала, что говорили «Сыны Свободы» в Бостоне: тридцатипятилетний, медленно говорящий Сэмюел — посредственный адвокат, завидующий своему брату Джошиа-младшему, моложе его на девять лет. Помимо ведения дел Куинси Сэмюел не пользовался популярностью в Бостоне, в то время как раскосый благодушный Джошиа, с его подвижным умом, был в фаворе среди «Сынов Свободы» и торговцев, сочувствовавших патриотам, и добивался впечатляющих успехов. Поскольку Сэмюел Куинси не ладил с патриотами, а корона нуждалась в его имени и солидности, — так утверждали «Сыны Свободы», — выбор губернатора пал на него, и таможенные комиссары предложили ему пост помощника генерального прокурора, заверив, что это обеспечит ему благосклонность короля. Абигейл достаточно хорошо знала своего флегматичного кузена и была убеждена, что он встал на сторону короны не из-за денег, а ради положения в свете. Джошиа стоял рядом с Джоном. Ни Джон, ни Абигейл не считали его столь блестящим адвокатом, каким он был в глазах Бостона. По тем же причинам они не верили в посредственность Сэмюела, которую приписывали ему «Сыны Свободы». — Дай время Сэму Куинси, и он найдет нужный закон, — говорил Джон. — Он не поразит вас своими знаниями, но никто не сможет расторгнуть составленный им контракт или завещание. Сэмюел изложил свое первое заявление. Оценка Джона оказалась справедливой. Сэмюел проделал кропотливую работу, добрался до сути дела, предъявленного прокуратурой, и собрал относящиеся к делу показания свидетелей. Целую неделю стороны воздерживались от риторики, стараясь опираться на достоверные факты. Каждый вечер, после того как закрывалось в пять часов заседание суда, к Джону приходил Джошиа, и они работали вместе до полуночи. Уложив детей спать, Абигейл спускалась в кабинет и сидела там, занимаясь вязанием или шитьем, а мужчины обсуждали заявления, сделанные в течение дня, отыскивали прецеденты и разрабатывали схему опроса собственных свидетелей. Сэмюел Куинси составлял резюме для короны. Брат — против брата. Сэмюел начал с доказательства, что свидетели прокуратуры — люди порядочные и их показания достоверны. Затем он подтвердил опознание заключенных и их непосредственное участие в стрельбе, после этого заявил: — После доказательства факта убийства закон требует, господа, чтобы заключенные представили все обстоятельства, смягчающие, извиняющие или оправдывающие их поведение, ибо закон признает случившееся преступным, пока не доказано обратное. Я должен также напомнить и о другом правиле — там, где речь идет о нескольких лицах, не имеет значения, кто нанес смертельный удар, все присутствовавшие при этом в глазах закона являются виновными. Это правило установлено после глубокого обсуждения судьями Англии… Общественные законы, господа, ограничивают людские страсти, и никто ни в какое время не может быть мстителем в собственном деле, ведь только право обеспечивает при абсолютной необходимости наказание неправого. Если бы человек мог в любое время мстить, тогда наступил бы конец праву… Поэтому оставляю дело таким, как оно есть, и не сомневаюсь, что, согласно имеющимся свидетельствам, факты, обвиняющие заключенных, полностью доказаны… В силу этих свидетельств вы должны вынести заключение — «виновны». После этого начался перекрестный допрос со стороны защиты. К концу недели дали показания восемьдесят два свидетеля. Каждая сторона описывала по-своему стрельбу. На столе Джона росла гора заметок и записок, то же самое должно было бы быть и у Сэмюела и Роберта Трита Пейна. Джон и Джошиа знали каждую строчку в показаниях прокуратуры, содержавшую хотя бы малейшие противоречия. Свидетель Бриджгэм сказал, что видел одного из обвиняемых, высокого мужчину, Уоррена; затем признал, что видел другого из того же полка, настолько похожего на Уоррена, что теперь сомневается, видел ли он вообще Уоррена. Один свидетель сказал, что именно солдаты расталкивали толпу. Вслед за ним другой сообщил, что пятьдесят человек задирались с солдатами, там же группа моряков с дубинками призывала к насилию, люди шумели, свистели, кричали: «Проклятые, стреляйте! Почему не стреляете?» Свидетель защиты мистер Дэвис клялся, что слышал, как погибший Грей кричал: «Я пойду и дам им в морду, пусть убьют!» Другой свидетель клялся, что Грей был пьян, ударяя людей по спине, бегая с криком: «Не убегайте, они не осмелятся выстрелить!» Свидетель прокурора Джеймс Бейли признал при перекрестном допросе, что из толпы в часового бросали куски льда величиной с кулак, а этого достаточно, чтобы ранить человека. Под нажимом Джона он признал также, что за семь-восемь минут до стрельбы он видел мулата во главе двадцати — тридцати моряков, и этот мулат держал в руках дубинку; что убитый Аттукс хотел выглядеть героем дня: он сколотил отряд на площади перед доками и провел его с флагами по Кинг-стрит. Джон воскликнул: — Если это не является незаконным сборищем, тогда таковых вообще не бывает! Заседание суда прервалось в субботу в пять часов. Присяжные заседатели не покидали здания суда. В понедельник утром Джон и Джошиа обратились к присяжным со своими последними ходатайствами. Они договорились работать порознь, составляя свои резюме. В конце недели Абигейл получила возможность побеседовать с мужем. Он сказал ей доверительно, что не станет писать речь и больше полагается на импровизацию. В субботу он работал до воскресного утра, уговорив ее в полночь лечь спать. Он разбудил ее в семь часов утра, чтобы пойти в церковь. После церковной службы Джон снова сел за рабочий стол. Ей нравилось видеть его работающим с максимальной отдачей: он глазами пробегал страницы, энергично листал книги. В понедельник 3 декабря 1770 года в девять часов утра Бостон напряженно ждал приговора. В зал совета набилось вдвое больше людей, чем до этого, был заполнен каждый кусочек пространства. Люди стояли тихо, почти неподвижно на лестницах, в комнатах клерков и других помещениях ратуши. Снаружи на Кинг-стрит на протяжении двух кварталов от ратуши к таможне, где была стрельба, люди собирались группками, некоторые беседовали, но большинство молчало, ожидая результатов. Первым от защиты выступил Джошиа Куинси-младший с последним ходатайством. Его аргументация соответствовала его таланту и темпераменту: он обращался непосредственно к симпатиям, к сердцам и чувствам Бостона и Массачусетса, моля о помиловании. В его задачу не входило проанализировать свидетельства и противоречия между ними. Это входило в задачу Джона. Абигейл обратила внимание на красноречие Джошиа. В зале царила мертвая тишина, его красивый голос завораживал. — Позвольте мне, господа, напомнить вам о значении процесса с точки зрения заключенных. Речь идет об их жизнях! Если мы примем во внимание число проходящих по процессу и учтем иные обстоятельства, то этот процесс — наиболее важный из всех, какие видела когда-либо страна, Все взоры обращены к вам. Терпение в слушании этого дела крайне существенно; искренность и осмотрительность не менее важны… Нет, для нашей страны представляет высшее значение, чтобы на этом процессе не было ничего, что ущемит нашу справедливость или запятнает наш гуманизм… Абигейл видела, как зашевелились присяжные, стараясь усесться поудобнее на твердых скамьях. Но не только это побуждало их двигаться, им нужно было обрести и душевный покой. Она помнила, как двое, ее муж и Джошиа, шарили по юридическим книгам в поисках заключительного пассажа: — Вместо гостеприимства, на которое рассчитывал солдат, он встретился с пренебрежением, презрением, недовольным ворчанием. Почти каждое выражение лица выдавало подавленное настроение и желание скрыть искру возмущения в глазах… У солдата есть свои чувства, свои ощущения и свои особые страсти… Закон научил его думать о себе уважительно. Научил рассматривать себя как специально назначенного охранять и защищать страну. И как болезненно получить стигму инструмента тирании и угнетения! Зал загудел — это была естественная реакция: Бостон был недоволен и ненавидел британских солдат с первого момента их высадки на Док-стрит. — Может кто-либо считать своим долгом присоединиться к действиям тех, кто собрался на Кинг-стрит? Не думаю, но пусть мое мнение невесомо, позвольте мне напомнить вам автора, сочинения которого хотелось бы видеть в руках каждого из вас… Я имею в виду третье письмо «Фермера Пенсильвании» своим соотечественникам. «Дело свободы… есть дело слишком большого достоинства, чтобы быть уничиженным волнением и смутой. Оно должно поддерживаться соответствующим его природе образом. Участвующие в нем должны вдохновляться уравновешенным и страстным духом, побуждающим их к действиям осмотрительным, справедливым, скромным, отважным, гуманным и великодушным!» Абигейл понимала этот хитроумный ход: использовать воздействие на присяжных их любимого автора. Джошиа подошел так близко к членам жюри, как позволил барьер, и взволнованным голосом процитировал:10
Абигейл было трудно понять свое новое положение. Первая стадия безвестности прошла; они больше не жили в крепости, огражденной рвом. Они стали, возможно, самыми известными в городе. Сторонники короны были довольны решением суда, но не осмеливались приближаться к чете Адамс. Бостон не осуждал и не одобрял, часть города считала, что приговор был самым лучшим из плохих решений, особенно потому, что красномундирники стояли теперь на постое в замке Уильям, а восемь подсудимых возвратились в Англию. У Абигейл было ощущение, что они больше не принадлежат к городу, что Бостон думает: «Вы англичане, доставленные из Лондона, чтобы защитить солдат. Вы добились их оправдания. Почему бы вам не вернуться домой?» Джон был слишком измотан и не хотел размышлять о последствиях процесса. Из апатии его вывела статья в «Бостон газетт», опубликованная через пять дней после вынесения приговора и подписанная «Виндекс». Приговор объявлялся плохим; свидетельство указывало на вину солдат, жертвы не сделали ничего плохого; жители Бостона ни в чем не виноваты. Было обещано опубликовать новые статьи, по одной каждую неделю, с целью доказать, что «в отношении Бостона допущена огромная несправедливость». Джон вернулся из редакции с полосами типографской краски на лице. — Я полагал, что дело закрыто, — хрипло прошептал он. — Джон, мы стали париями. Бостон не знает, что делать с нами. — «Газетт» знает: довести нас до гибели. Ну, кто напишет такую статью, соорудит поленницу для костра? Джон вернулся из редакции «Газетт» с удивлением на лице. — Кузен Сэмюел? — осмелилась она спросить. — Да. Кто еще? — Как он может оправдать такие нападки? — Легко. Он был в редакции. Сказал мне, что нападки не имеют ничего общего со мной. Сказал, что я превосходно вел защиту! Он гордится мной! Он даже рад, что заключенные освобождены… — Но? — …но что цели патриотов не отвечает признание вины Бостона. Когда он закончит серию статей, то станет совершенно ясно для Массачусетса, что Бостон не виновен, а солдаты виноваты. Таким образом, говорит Сэмюел, мы оба добьемся желаемых результатов. Они сидели молча. Джон спросил, сколько времени они прожили в Бостоне. — Почти три года. — Что мы получили за это время? — Крошку Чарлза. — Мы могли бы иметь его и в другом месте. За мою работу в последние восемь месяцев мне заплатили восемь гиней. Сколько сбережений осталось? — Очень мало. — Тогда я должен спросить: что мы выиграли, переехав в Бостон? Мы надеялись заработать больше денег, обеспечить будущее наших детей. Нам нечего показать. Как представитель в Общем суде, я служил в дюжине комитетов, помогал писать резолюции Ассамблеи, корреспонденцию в Англию и в колонии, помог в составлении планов по поощрению искусства, сельского хозяйства и мануфактур. Однако Бостон отвернулся от меня… Мы надеялись проводить вместе больше времени, но наплыв политических дел, «Либерти», лейтенант Пантон, теперь восемь британских солдат, отняли у меня так много времени и сил, что у меня оставалось мало для вас. Не вернуться ли в наш дом в Брейнтри? Она глубоко вздохнула, будто с ее плеч свалился тяжелый мешок с ячменем. — Мы можем, Джон. — Впереди еще столько лет жизни. Какой смысл оставаться в этом чуждом нам городе? Я сделал для него многое, помог добиться некоторых важных результатов. Мы положили конец захвату наших судов. Реквизиция стала незаконной. Мы спасли жизнь восьми солдатам. И все же мы — отверженные. Чем больше мы побеждаем, тем сильнее на нас нападают. — Тогда решено, — прошептала она. — Поедем домой. Будем гулять по полям, собирать плоды с наших деревьев, купаться с детьми в ручье, взбираться на Пенн-Хилл при заходе солнца, любоваться панорамой. Она прижалась к его плечу, словно ища защиты.КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ РАЗВЕРЗНИТЕСЬ, НЕБЕСА
1
Насколько более приятным казался Брейнтри: затененная вязами главная дорога, небольшая стайка домов, школа, церковь, мастерские ремесленников. За дорогой располагались фермы; как и в Уэймауте, ей была знакома каждая семья. Абигейл чувствовала себя более счастливой в небольшом городке потому, что помнила все и всех. Она переехала в Бостон еще совсем молодой женщиной — двадцати трех лет от роду и уже была замужем три с половиной года. Возвращаясь в Брейнтри через три года, она чувствовала себя зрелой женщиной. Обходя дом, раскладывая ковры, туго обвязанные веревкой, снимая с мебели чехлы из грубого полотна, отдирая промасленную бумагу с окон, она задавала сама себе вопрос о смысле столь молниеносного изменения в их судьбе. Есть ли в этом их вина? Вызвано ли это унаследованной слабостью их характера? Видимо, им свойственно быстро подниматься и так же быстро падать. Однако в какой супружеской жизни они допустили слабину в отношении себя и колонии залива Массачусетс? Почти десять лет прошло с тех пор, когда она, пританцовывая, спустилась по лестнице в доме пастора и увидела Джона Адамса в библиотеке отца, а казалось, будто окованные железом колеса телеги проехали по булыжной мостовой протяженностью в целую жизнь. Она спросила мужа, нет ли у него такого же ощущения. — Я отчетливо понимаю, что со мной случилось, — призналась она, когда они ужинали в кухне, где начищенные до блеска кастрюли, сковороды, подставки были аккуратно расставлены у камина. — Но понимаю ли я почему? Мне частенько кажется, что я не управляю нашей судьбой. Он отодвинул полупустую плошку, наклонился к ней, упершись локтями в стол и сцепив замком свои пухлые пальцы. — Ты полагаешь, что обстоятельства действуют сами по себе, а ты над ними не властна? Она благодарно улыбнулась в ответ. — Словно я беззащитна от нападок с северо-востока. Нет ли способа оградить себя от тумаков оттуда? — По сути дела, живешь как в осаде? Он набил свою трубку, задумчиво выпустил струю дыма. — Будем откровенны сами с собой, дорогая, мы должны помнить, что у нас всегда есть право решать. Мы никогда не были пешками на чужой шахматной доске. Если бы нашей совести отвечало присоединение к королевским тори, то я стал бы прокурором Адмиралтейского суда и начал бы взбираться вверх с благословения короля. Нужно ли мне идти таким путем? — Не задавай риторических вопросов. — Согласен. Когда Джеймс Форрест просил меня взять на себя защиту капитана Престона и восьми солдат, я мог бы ответить: «Сожалею, но я слишком занят». Если бы я поступил так, то ты сочла бы это лицемерием: ведь на протяжении многих лет я прославлял право и справедливость. Верность принципам обходится дорого… Это загнало нас в угол, заставило питаться творогом и тушеными фруктами, а не блистать на официальном балу в Бостоне. Она сурово сдвинула брови и сжала губы. — Прости меня за упрямство, но у меня кружится голова, если я застреваю на полпути в своих рассуждениях. — Позволь ухватиться за их нить. — Ты сказал, что у нас есть право решать? Двадцать лет назад ты мог бы занять пост прокурора, ибо все мы были мирными англичанами. Десять лет назад ты мог бы защищать группу британских солдат, не становясь при этом парией, поскольку не существовали постановления Тауншенда. Не означает ли это, что мы принимаем наши решения под давлением обстоятельств? Чувствуя, что столь острый спор трудно вести стоя, Джон принялся шагать по кухне и не глядел пустыми глазами на комнату, где так долго жила Рейчел Марш. Рейчел вышла замуж за ремесленника, которого «отыскала» в Бостоне. Джон остановился у очага и встал перед Абигейл, словно защищая ее своим телом от огня. — Нэбби, ты сказала, что каждый человек — дитя своего времени. Это очень верная мысль. Мы живем в мятежные годы. Самое большее, на что мы можем надеяться, это на периоды затишья. Сомневаюсь, что мы когда-либо познаем действительно спокойные годы. Вокруг нас все в брожении, и это меняет атмосферу, которой мы дышим, идеи, ценности и достоинства, которые зреют сейчас, и они поднимаются все выше из того теста, которое мы поставили в печь, когда были молодыми. — Ты говоришь, Джон, что мы уже набросали схему нашей жизни. Все, что происходило за минувшие шесть лет, не было случайным или навязанным извне, а сложилось из слияния наших характеров и условий нашего времени. — Да. Возможно, человек — хозяин своей судьбы в мирное время, но, возможно, и время кажется спокойным только в ретроспективе. Видимо, для того, кто с трудом пробивался сквозь него, оно было тревожным. Твоего отца определили в Уэймаут в тихое время, но вскоре он оказался втянутым в религиозные распри, пытался умерить рвение и истерику Великого пробуждения. Ему пришлось сражаться за отделение церкви от государства. Твой кузен Коттон родился в спокойное время, но на двадцать втором году жизни он повел в одиночку войну против секретности в медицине. Таковы условия жизни человека. Его убежденность придала ей силу. — Согласна с этим, Джон. И мне важно осознать это, преодолеть последствия шока, приобрести умение видеть перспективу при каждом повороте жизненного пути. Я не хочу без конца вопить: «Почему с нами происходит такое?» Он отвернулся. — Мы все время убеждаем себя сохранять самообладание. Это первый закон природы. Мы жаждем понять свою роль в развертывающейся на наших глазах драме. Что лежит в основе мистерии? Мы и история. Прошлое никогда не исчезнет, оно возвращается в иных облачениях, сшитых из тканей, которые мы помогли изготовить и раскроить. Будущее — одежда, прикрывающая нашу наготу, но не спасающая от ветров. Он повернулся и, взяв из вазы яблоко, бросил ей. Его лицо озарилось довольной улыбкой, когда она подняла руку и поймала яблоко. Джон и Абигейл насадили яблоки на заостренные палочки и ножами снимали кожуру, вьющуюся красной лентой. — Теперь ты готова ответить мне? — Да. — Не пора ли нам в постель? Иногда у меня бывает острая физическая боль, вызванная тоской по этому дому; по уютной кухне, кабинету, софе в гостиной, но больше всего по нашей спальне. Нигде я не сплю так хорошо, как в ней. Она рассмеялась. — Приятно сознавать, что в стремительно меняющемся мире некоторые вещи остаются незыблемыми. Когда Джон уснул, уткнувшись в подушку, она встала, зажгла две лампы на своем столике, над которым висело небольшое зеркальце. Свет был достаточно ярким, чтобы разглядеть свое истинное отражение. Ее каштановые волосы оставались такими же густыми, как в то время, когда она расчесывала их в уэймаутском пасторском доме, глаза блестели, предвкушая ожидание, а кожа не была столь бледной, как в дни юности, и, несмотря на суровый климат Бостона, оставалась безупречной. Наклонясь ближе к зеркалу, Абигейл не заметила ни складок, ни морщин в уголках глаз. Приоткрыв рот, она стала рассматривать изумительной белизны зубы. Как хорошо, что на ввоз чая наложили эмбарго: ведь от слишком частого питья горячего чая страдает зубная эмаль. Ее нос! Ни время, ни судьба не в силах изменить то, что даровано природой. Иногда Джон называл ее пухленькой голубкой, и тогда нос казался ей более пропорциональным, чем сейчас, когда овал ее лица выглядел узким. Она оттянула свою цветастую ночную сорочку с высоким воротником сатиновую и осмотрела контуры своей фигуры. Вскармливание четверых детей не изменило очертания ее груди, но она уже утратила свою возбуждающую свежесть. Абигейл сознательно поддалась греху гордыни, любуясь своим подтянутым телом, узкой талией, гладким животом, длинными стройными ногами, и молила Бога сохранить ей навсегда физическую привлекательность. Старые правоверные пуритане прокляли бы ее. Но не ее отец. Она снова скользнула в постель и тихо легла, прижав руки к бедрам и уставившись в потолок. В эти часы счастья и покоя в доме, куда она пришла шесть с половиной лет назад, она спрашивала сама себя, в какой мере были верны ее юношеские представления о любви и супружестве. «Если я не стану сомневаться в каждом шаге вместе с Джоном и глубоко переживать его мотивы, — думала она, — если я могу отдалиться, быть любящей, сочувствующей, но без обязательств, была бы в таком случае моя любовь более идиллической, более романтичной?» А может быть, все это заблуждение? Для любой жены? Либо она одно целое с мужем, страдает вместе с ним, либо же они существуют каждый сам по себе? Абигейл не отделяла себя от Джона, но такое возможно, учитывая непостоянство его характера. Она предпочитала муки отторжению. Безучастность была равнозначна утере любви. Она не ошиблась в Джоне в своих девичьих грезах. Непостоянный в своих чувствах, он поддавался настроению, переживая различные циклы: то взмывал на вершину гор, то погружался в пучину океана. Но это не касалось ее. Он понимал, что сам определяет свое поведение. Даже в порыве самоупреков житель Новой Англии никогда не будет вымещать на жене свои огорчения. Джон был приучен с детства бичевать самого себя, стегать розгами самокритики и осуждения и не уклоняться от признания собственной вины. Муж-пуританин может быть тяжелым, но никогда не станет невыносимым. Эта мысль утешила ее.2
В родных местах Джон Адамс был в известной мере видной фигурой. В отличие от Бостона в Брейнтри приходилось открещиваться от обвинений в подстрекательстве к убийствам. Раз в неделю вечером Джон посещал таверну Брекетта, где встречались мужчины и обсуждали политику, именно там они посадили ветвистое Дерево Свободы. Эбенезер Тейер высказал полное смирение, придя на воскресный чай с шапкой в руках, он попросил Джона взять клерком его сына. — Теперь вы первый адвокат в этой провинции, мистер Адамс, — сказал Тейер. Абигейл не смогла сдержать улыбку, наливая чай: ведь Тейер был тем мелким чиновником в суде, который обидел Джона, назвав его «адвокатишкой». Джон принял сына Тейера, не отличавшегося хорошим здоровьем. Как казалось Абигейл, это свидетельствовало о щедрости натуры мужа. Джон ответил на ее замечание, что Бостон также проявил широту своего характера. Приезжая в контору, Джон каждый раз находил новых клиентов. Его пребывание в Бостоне явно имело положительные последствия. Восхищение Брейнтри местным героем оказалось кратковременным. Сэмюел Адамс убедил Джона поддержать его в кампании на пост регистратора сделок графства Суффолк. Жители Брейнтри предпочли местного кандидата, который нанес решительное поражение обоим Адамсам. — Они резвились, как петухи на навозной куче, — сетовал Джон. — За все мои усилия мне достались лишь насмешки и презрение, словно я сам вручил джентри англиканской церкви палку, чтобы вздуть меня. Абигейл болела несколько раз простудой. Майское солнце исцелило ее. Рано утром она и Джон поднимались на вершину Пенн-Хилла, а домой возвращались лугами. Прогулки по полям были подобны плаванию в океане, пробуждая в теле ритмы волн: земля имеет свои приливы, не только вздымающиеся в виде зреющего урожая, но и проникающие через ступни к икрам, бедрам, животу, груди, мозгам. Не земля принадлежала ей, а она, Абигейл, принадлежала земле; такое единение с природой чуждо горожанам, привыкшим бродить по булыжным мостовым. Абигейл оделась и поехала с детьми на лошадях навестить дядюшку Питера и его двух малюток. У дядюшки Элиу было уже трое детей. В полдень она сидела во дворике, а дети играли около нее; с наступлением сумерек она накормила их, уложила спать, прочитала на сон грядущий сказку о колобке. Джон также не ершился, сберегая свою энергию. — Это древний закон Моисея, Абигейл, уважающий покой, отдохновение. Каждый седьмой год должен быть безмятежным. — Может быть, приложим болотный компост к самим себе? Подумай только, что мы могли бы вырастить. — Мои противники уже утверждают, будто в моих идеях слишком много навоза. Хорошо, если можно отделаться шутками. В Бостоне жизнь была невыносимо суровой. Здесь же самым неотложным делом для Джона была очистка деревьев от гусениц и сооружение каменной ограды, чтобы защитить луга от лошадей и коров дьякона Белчера, жиревших за счет посадок Адамса. Джон сеял горох, пастернак, свеклу, морковь, капусту, лук, картофель, а на скотном дворе откармливал телят, свиней, овец, цыплят, гусей. — И очень кстати, — заметила Абигейл. — Ведь когда я впервые приехала в этот дом, кладовка здесь была пуста. Когда созреют фрукты и ягоды, я сделаю запас варенья и джема на целый год. Если ты вытащишь из погреба бочонки, я выскоблю их и посушу на солнце. При хорошем улове насолю трески, сельди, макрели. — Добрая хозяйка Адамс, — прошептал он, — и землевладелец Адамс. Я нанял пару рабочих, они очистят на дрова несколько акров леса на наших участках. Когда дрова будут сложены, я отвезу навоз на наши поля. — Затем потребуется лишь хороший дождь, и на полях взойдут изумрудные посевы. Молодые девушки предлагали свои услуги. Наконец пришли две, понравившиеся Абигейл, Первой была Пэтти, далекая родственница Адамса, второй — Сюзи, девушка из Брейнтри из хорошей семьи, но бездомная. Обе мечтали об учебе, о приданом, без которого не найдешь мужа. Пятнадцатилетняя Пэтти была высокой блондинкой с отменным аппетитом, и поэтому Абигейл научила ее готовить для семьи. Опекун описал Сюзи как «фанатичную чистюлю», Абигейл обучила ее домоводству. Девушки поселились в комнате в конце пристройки. У Абигейл освободилось время для ухода за детьми. Какими разными могут быть и по внешности, и по темпераменту дети одних и тех же родителей, родившиеся друг за другом. Шестилетняя Нэб, хорошо проявившая себя в женской школе, оставалась коренастым ребенком не отличавшимся ни красотой, ни грацией. И в то же время она была сильной личностью: сдержанной, педантичной, с удивительным чувством ответственности в столь юном возрасте. Она редко улыбалась и делала все, чтобы семья была счастлива. У Абигейл иногда возникало ощущение, что Нэб опекает ее. Четырехлетний Джон Куинси был похож на свою мать: тот же овал лица, те же широко расставленные проницательные глаза, округлый подбородок и лоб; обладая гибким умом, он глотал книгу за книгой. — Он будет гениальным, — заявил однажды его отец. Чарлзу исполнился год, он был располагающим к себе забавным ребенком. Когда одна из коров отелилась, он требовал ежедневно сотню раз навестить «телю». Едва научившись ходить, вынуждал семью гоняться за ним по ферме, создавая тем самым смешные истории. Джон заметил: — Посмотри на Питера, Элиу и на меня. Могла бы ты представить себе, что три столь разных человека выросли в одной семье? — Не пора ли пригласить на воскресный обед все семейство Адамс, детей и взрослых? После проповеди пришли Питер и Мэри с двумя детьми, Элиу — со своей благоверной и тремя детьми. Мать Джона появилась с другой стороны двора со своим вторым мужем, Джоном Холлом. Джон смирился с ее вторым браком, но восторга не испытывал. Собралось четырнадцать Адамсов. Элиу, самый веселый член клана, любил поговорить о своем продвижении в милиции. Он все еще жил в примитивной хижине, выращивая ровно столько, сколько нужно, чтобы накормить и одеть семью. Он подчеркнуто не гнался за большим помещением, мебелью, вещами. — Зачем печь впрок? — вопрошал он. — Ведь хлеб заплесневеет. Питер обрабатывал теперь две фермы: свои собственные тридцать пять акров, доставшиеся ему от отца, и ферму своей жены около бывшей таверны Кросби, ставшей их домом. Он погрузнел, его движения и речь стали медленными. Питер составил для себя план на десять лет вперед. Прослужив надзирателем дорог, хотел стать констеблем, затем членом комитета по рыбоводству в реке Манатикьот и, наконец, выборным лицом. Он выглядел счастливым, но уставшим. Причина стала очевидной, когда мужчины раскурили трубки и принялись колоть орехи для женщин. — Джон, — сказал Питер, — две фермы слишком много для одного. Я хочу продать ферму отца. Не купишь ли ты? — Готов купить, Питер, и обрабатывать эти две фермы одновременно. — Хорошо. Считай, что договорились. — Не торопись. Мы должны установить цену. Затем я должен накопить денег. У меня их сейчас нет. — Я согласен принять твои расписки. — Я уже дал несколько расписок за соседние пастбища Элии Белчера. Заборы ветхие, и на их ремонт нужны большие средства. Но через год или два… Когда, казалось, все успокоились, Абигейл почувствовала, что Джон весь напрягся. Она поинтересовалась почему. — Послушай. Наше дело плохо. Патриоты не в фаворе. С момента назначения Хатчинсона губернатором я превратился в мальчика для битья. Он называет меня одним из немногих бунтарей, «мятежным писакой из Брейнтри», от которого продолжают исходить протесты в печати. Несколько наших бывших друзей перешли на сторону короля. Отис подкуплен взяткой и заявляет, что мы должны уважать пожелания Хатчинсона. Хэнкок устал. — Почему это беспокоит тебя? — Некоторые говорят, что я боролся против королевских законов, питая личную неприязнь к Хатчинсону. Не так-то просто оградить любые мотивы от подозрений. Куда бы я ни пошел в Бостоне или во время поездок на сессии суда, я слышу намеки, будто я и есть причина осложнений. Признаюсь, Нэбби, это гложет мою душу. — Понимаю. Я слышала, что в Коннектикуте есть изумительные источники минеральной воды. Почему бы не попробовать этой воды? Она поможет тебе взбодриться. Он уехал, радуясь возможности попить минеральной воды, оставив ее приучать детей доить коров и натаскивать по новому изданию «Начального учебника Новой Англии», по которому она сама учила алфавит. Нэб быстро запомнила буквы от «А» — Адам согрешил, а за ним и все мы — до «Ч» — чудо-юдо рыба кит; но Абигейл все еще не спешила объяснять малышам некоторые неприятные читалки: «Сгубить легко, а душе каково?», «Молодые мрут по выбору, старые поголовно». Шумный деловой Бостон был уже забыт. Временами ее обижало то, что женщин представляли домашними существами. Ныне она довольствовалась уходом за детьми и за дойными коровами. И, сидя под виноградной лозой и яблоней, она с удовольствием наслаждалась плодами своего труда. Хотя ее все еще не покидало жгучее чувство обиды за то, что она называла «неподобающим отношением Англии к бедной Америке», Абигейл внушала своим детям, что Англия — их родина, но Америка больше годится для счастья, потому что люди здесь равные, «здесь никто не богат так, чтобы господствовать над нами, и никто не беден, чтобы страдать». Однако она была порой сурова к Англии: — Лучше не познать прелесть свободы, чем воспользоваться свободой, а затем наблюдать, как ее отнимают у вас. Сэмюел Адамс не верил в магию седьмого дня. Как только Джон вернулся из Коннектикута домой, он тут же появился с Бетси. В одной руке он держал дорожную сумку, в другой — бумаги с записями. Они пришли, призналась Бетси, чтобы извиниться за статью Сэмюела в «Виндиксе». — Я убедила его, — сказала она, — что «Виндикс» звучит почти как каратель. После ужина в кухне Сэмюел сказал: — Джон, ты прав, добившись оправдания солдат. И я прав, оправдывая Бостон. Убийства были спровоцированы горсткой безответственных. — «Убийство» — слово, подброшенное пропагандой. — Хотя солдаты были спровоцированы и мы потеряли по их вине пять человек, это все же убийство. Но, — Сэмюел улыбнулся, — братец Адамс, ты знаешь, что мы не выпустили в тебя ни одной стрелы. Все, что мы сделали, так заключили Бостон в мягкий кокон. Он ему вскоре потребуется. Мы никогда не встанем по другую сторону баррикад. Обещаю тебе, Абигейл. — О Небеса! — воскликнула она. В Брейнтри Адамсы провели совсем немного времени, и вскоре появилась возможность вывезти семью в большой город. Джону пришлось выступить против королевского таможенника, изобличенного в том, что он требовал больше денег от торговцев Массачусетса, чем устанавливал закон. И вновь Джон выиграл процесс. Похвалы сыпались со всех сторон. — Люди говорят, что эта самая лучшая речь, какую они когда-либо слышали, равноценна великим речам, звучавшим в Риме или Греции. Нэбби, вот что значит использовать в пользу одного человека страсти, предрассудки и интересы всех собравшихся. Толпа способна превратить здравый смысл в глубокую мудрость, а собачье упрямство — в героизм.Осенью созрел отменный урожай, сарай был набит сеном и клевером, а подвал Абигейл — яблочным мармеладом, маринованными овощами и устрицами, орехами, бочонками с соленой рыбой. На зиму были заготовлены дрова, а щели в окнах замазаны от дождя и ветра. В семье также было все благополучно. За лето дети загорели. Отец взял Джонни на охоту и научил его стрелять. Нэб гордо разъезжала на своей лошадке. В «наличном банке» Адамсов за свободным кирпичом в теле трубы возросла коллекция монет, которую Джон называл «солью для каши». Вечерами они сидели перед горящим камином: Джон изучал «Утопию» Томаса Мора, а Абигейл читала пьесы Мольера, присланные ей из Плимута Мэрси Уоррен. В декабре Абигейл забеременела и была рада этому. Это будет ребенок, выношенный в Брейнтри, быть может, еще одна дочь для полноты семейства. Прошла зима. Их часто навещали ее родители и жизнерадостная сестра Бетси. Мэри и Ричард приезжали в санях из Бостона. Билли привез свою жену и представил ее клану Смитов. Катарина Луиза Солмон не блистала красотой, ее портили неровные зубы и бледное лицо. Она получила лучшее образование, чем муж, и обладала более проницательным умом, была крайне набожна, тогда как Билли ненавидел религию. Несмотря на такие различия, Билли казался счастливым и словоохотливым впервые, насколько помнила Абигейл. Катарина Луиза получила от матери и отчима в качестве свадебного подарка ферму и один из старейших домов в Линкольне, у верстового столба к северо-западу от Бостона, отмечающего пятнадцатую милю между Лексингтоном и Конкордом. Билли засевал шестнадцать акров ячменем и кукурузой и тридцать пять — пшеницей и травой для скота. Он взял у отца в долг значительную сумму под залог дома и фермы и на эти деньги купил коров, овец, свиней, а также кур, уток и кроликов. Продажа молодняка приносила достаточный доход. Как и Абигейл, Катарина Луиза была беременна. Джон отправился на выездную сессию суда. Абигейл проводила его, зная, как неприятны суды в мелких поселках с их мелочными тяжбами, убогими постоялыми дворами, переезды под проливным дождем и в снежном буране. Его первое письмо пришло из Плимута.
«Хотелось бы быть в Брейнтри. Мне все больше не по нраву эта бездомная, бродячая жизнь. Хочу каждый день видеть жену и детей. Хочу видеть наш зеленый луг, цветы, кукурузу. Хочу встречаться со своими работниками и, почти как Чарлз, хочу ласкать и гладить телят».В сентябре Абигейл родила мальчика, его назвали Томасом Бойлстоном. Огорчение тем, что родилась не дочь, возмещалось настырностью малыша, который, как говорил отец, появился на свет с убеждением, что мир обязан дать ему пищу, кров и тепло. Жизнерадостность безволосого, голубоглазого, пухленького Томаса Бойлстона заражала всех окружающих. — Мой отец мечтал иметь кучу внуков! — воскликнула Абигейл. — Быть может, один из моей троицы станет священником и унаследует его приход? Джоном вновь овладело беспокойство. Он все больше времени находился в Бостоне, порой за одну сессию суда участвовал в слушании до шестидесяти — семидесяти дел. Количество составляемых им проектов постановлений и резюме вынуждало его ночевать у того или иного родственника: у дядюшки Исаака, у Сэмюела или же у Мэри — сестры Абигейл. Порой он работал до полуночи и спал на диване в своей конторе. Выбрав спокойный момент, когда Томми исполнился год, Абигейл пристроилась у рабочего стола Джона. — Джон, о чем ты думаешь? Он виновато посмотрел на нее и, положив свою ладонь на ее руку, сказал: — Я не хотел огорчать тебя. — Тем, что ты сделал? — Покупкой дома. — В Бостоне? — Не возражаешь, Нэбби? Мы должны вернуться туда. Я не могу продолжать работу, сидя здесь. Она задумалась. — У нас было полтора года благостного мира. Я понимала, что пребывание здесь — лишь передышка. Как мы в ней нуждались и сколько доброго она принесла! Он прошептал: — Ты так мила, принимая пережитое спокойно. — Я сложу вещи четверых малышей. — А также горшки и сковородки, постельное белье и стулья. На этот раз мы будем жить в окружении собственных вещей. В таком случае, быть может, сумеем почувствовать: Бостон — наш дом. — Да будет так. Она поперхнулась и добавила глухо: — Мы всегда можем вернуться на ферму, когда на деревьях появятся гусеницы, а в кукурузе черви.
3
Дом стоял на углу Куин-стрит, к которой спускалась дорога от Корнхилла, покрытая булыжником, образуя небольшую площадь перед ратушей. Это был прелестный домишко из некрашеных кирпичей со строгими линиями, но меньший по размерам, чем арендованные ими ранее дома, а у них ведь было уже четверо детей. Дом показался Абигейл уютным, особенно после того, как рабочий и письменный столы Джона и несколько сот книг были размещены в передней комнате, выбранной под контору. Все шесть комнат дома отапливались. Нэб пожелала, чтобы Томми жил в ее комнате, это позволило разместить двух старших мальчиков в другой спальне. Пэтти и Сюзи, восхищенные переездом в большой город, получили спальню на третьем этаже. В доме была просторная кухня с пристройкой и внушительной плитой. Позади дома находились сад, колодец с насосом, затененный двумя зелеными вязами, две одинаково покрашенные уборные, постройки для хранения льда, дров и тележек. Гостиная была больших размеров, чем в Брейнтри. Расставив свою «толстушку» — софу, низкие столики и стулья с железными спинками так, как они стояли в Брейнтри, Абигейл почувствовала облегчение. Распаковывая бумаги Джона, она заметила запись высказывания майора Мартина, посетившего утром в этот день контору Джона:«Политика — самое славное исследование и наука о Вселенной… Она — величайшая, благороднейшая, полезнейшая, важнейшая наука из всех».Абигейл отвернулась, склонив голову и тяжело вздохнув. В воскресенье утром Джон и Абигейл, забрав старших детей, отправились на молитву вверх по Корнхилл через Портовую площадь к знакомой церкви на Браттл-стрит. Они сели в ряду, оплаченном ими несколько лет назад. Соседи поклонились, словно видели их на этих старинных скамьях в прошлое воскресенье. Они казались вежливыми, дружественно настроенными, но в глазах был какой-то налет задумчивости, словно что-то случилось в отношениях между ними и Адамсами, но что они не помнят. Однако приглашения на обеды и приемы не поступали. — А почему они должны быть? — спрашивал Джон. — Мы ведь не новички в этом бостонском религиозном ордене. Каждый день рано утром Джон отправлялся через улицу, в свою контору, где работал с тремя молодыми клерками, а после обеда оставался дома, подыскивая в библиотеке нужные справки для судебных дел. Он проиграл несколько сложных процессов, однако, как признавали в Бостоне и в выездных судах, было трудно превзойти адвоката Адамса в выявлении исторических прецедентов и в написании резюме. Им восхищались, ему предлагали вести дела, но бывали моменты, когда Абигейл чувствовала, что они находятся за пределами бостонского света. — Я никогда не был так счастлив, как сейчас! — восклицал Джон. — Моя решимость посвятить себя исследованиям, частной жизни облегчает мою душу и утешает меня. Их самыми близкими друзьями оставались Сэмюел и Бетси Адамс. Сэмюел посвящал все свое время делам общества, а Бетси по-прежнему обращала пенсы в фунты стерлингов. Она обновила крышу и окна в доме на Пёрчейз-стрит, оклеила его новыми обоями. На организованных Бетси обедах чета Адамс встретилась с блистательной группой гостей: с Джоном Хэнкоком, Элбриджем Джерри, Джошиа Куинси-младшим, Уильямом Филипсом — от движения патриотов; с Джонатаном Сиуоллом и младшими Хатчинсонами, Элишем и Томасом — сторонниками короля, а также с Томасом Кашингом, из числа умеренных. Сэмюел был осведомлен о каждом конфликте в Виргинии и Северной Каролине, в Коннектикуте и Пенсильвании. Он почти единолично руководил комитетом связи, поставившим целью взять в свои руки колониальное управление Америки против Британии. Для губернатора Хатчинсона подобное было актом предательства. — Но почему это противозаконно? — ухмыльнулся Джон, возвращаясь домой в коляске. — Как может губернатор препятствовать переписке людей, передаче ими новостей друг другу? — Джон, как Сэмюел умудряется зарабатывать на приличную жизнь? Ведь как член Массачусетской ассамблеи он не получает заработной платы. — Не получает. Это добровольная работа, такая же, как избранного лица. — В таком случае? — Не знаю, но осмелюсь предположить: он, видимо, включен в список оплачиваемых Джоном Хэнкоком и другими торговцами-патриотами. Сэмюел — их самый ярый защитник от постановлений Тауншенда. Они успешно ввозят контрабандой чай. Даже если из трех ящиков теряется один, прибыли остаются огромными. Сэмюела считают важным лицом в деле сохранения свободы действий. Она спросила не без тревоги: — Джон, неужели мы отождествляем свободу с прибылями? — Это одно из проявлений, — сказал он с нескрываемым упрямством. — Люди должны иметь свободу в управлении своими лавками и фермами, зарабатывать для своих семей, а также голосовать, писать законы, выражать свои мысли. — Согласна. Но я думаю, мы выглядим лучше, говоря о сохранении наших естественных, Богом данных или полученных по общественному договору прав, чем о наших бухгалтерских книгах. Джон добродушно рассмеялся. Временами ей казалось, что в облике ее мужа совмещаются сразу двое мужчин. Предновогодний день он потратил на то, чтобы написать запоздалое письмо британскому историку миссис Маколей, сетуя на мрачную перспективу: злобная и безжалостная администрация берет изо дня в день верх над патриотами. На приеме у Кранча в канун Нового года он вступил в спор с английским джентльменом по поводу попыток королевских властей арестовать в Провиденсе (Род-Айленд) тех, кто поджег королевский таможенный катер «Гэзпи», якобы переделанный из захваченного судна Джона Хэнкока «Либерти». — В Британии не больше справедливости, чем в аду! — кричал Джон. — Иногда я желаю войны, чтобы принудить англичан к благоразумию или же уничтожить их. Абигейл была поражена дерзкими высказываниями мужа. Да и он сам терзался упреками в свой адрес в момент, когда они прибыли домой. — Нэбби, я не могу корить себя за резкие, грубые, неумные выражения. Человек, не умеющий держать в узде свой язык, свой норов, годен лишь для детских игр и для общения с мальчишками! Следующее утро он весь кипел. Отошла на задний план тревога за мертвых и умирающих патриотов, было забыто самоосуждение за допущенную им язвительность. Он проснулся, напевая мелодию, сердечно обнял жену и за завтраком заявил: — Год будет для нас приятным, веселым, счастливым и благодатным. Пораженная такой сменой настроения, Абигейл пробормотала: — Для человека с встревоженной совестью ты спал удивительно хорошо. — С встревоженной совестью? Я? — Он повернулся к четверым детям с поднятыми руками, вывернув наружу ладони, чтобы подчеркнуть абсурдность вопроса. — Моя дорогая миссис Абигейл, вы не только моя жена, но и мать-исповедница. Ты прощаешь, выслушав меня. А затем я сплю как агнец. Не думала ли ты, что прощение твоего мужа — часть долга жены? — Откровенно говоря, не думала. Если бы знала, то это могло бы меня напугать. Однако в таком случае, если бы каждая девушка понимала то, что взрослая замужняя женщина знает… Он был в веселом настроении. — Не подсказываешь ли ты своим глазеющим детям, восторженно смакующим ежевичный джем, что ты огорчена браком со мной? — О, боже мой! Никак нет! Разве моряк отказывается выходить в море из-заопасения шторма? Я благодарна Господу Богу за то, что он не позволяет нам знать, пока мы не окажемся в ловушке, и не дает использовать знание для выхода из нее. Предвидение Джона, что грядущий год будет хорошим, оправдалось. У Англии появились свои внутренние проблемы. Все попытки собрать деньги, взимая налоги на ввозимые в колонию товары, прекратились, сохранился лишь налог на чай, напоминая операцию по спасению лица. Почему на чай, а не на стекло или краску, никто не понимал. Быть может, потому, что краску и стекло можно производить в Новой Англии. Американцы пристрастились к чаю. Он заменял им еду и лекарства, утешая в трудную минуту, они всегда ввозили большое количество чая. Поскольку было несложно ввозить ящики с чаем контрабандным путем и чай приобретался по большей части в Голландии и доставлялся на американских судах, у колонии было свое средство спасти собственное лицо. Единственным предметом раздора, поддерживавшим кипение политического котла, были резолюции комитетов связи, распространявшиеся в городах Массачусетса под заголовком «Список ущемлений и нарушений прав». В конце первой недели января 1773 года губернатор Хатчинсон встретился с выбранной Ассамблеей и выразил протест по поводу писем с жалобами. Американские колонии, утверждал он, были основаны как часть британских владений — доминионов, они находятся под властью верховного законодательного органа Британии. Не может быть двух высших законодательных властей. — Все вели себя так вежливо, — сказал доверительно Джон Абигейл, — что я подумал, почему бы мне не пойти и не выслушать ответ совета. На лице Абигейл отразилось сомнение. Он рассказал ей о сцене, разыгравшейся в ратуше. Двадцать восемь членов совета, избранные массачусетской ассамблеей, предложили разумный ответ на обвинения губернатора и заверили Хатчинсона, что они не помышляют о такой щекотливой идее, как независимость. Однако совет счел своим долгом «реабилитировать народ, якобы повинный в возбуждении недовольства в провинции, и приписать это недовольство актам парламента». Они отклоняли высшую власть Британии по тем соображениям, что народ под неограниченной властью неизбежно станет рабом. Зима выдалась ненастной, но политический климат оставался разогретым. Джон был вовлечен лишь в один конфликт, касавшийся назначения и оплаты судей. Он написал серию статей в «Бостон газетт», доказывая, что обычное право Англии запрещает пожизненное назначение судей, и если колонисты не станут оплачивать их содержание, то судьи окажутся в полной зависимости от короны. Абигейл обратила внимание на то, что муж подписывал статьи собственным именем. Здесь не было повода для споров, ведь речь шла о системе и традициях права. В знак признания усилий Джона Ассамблея Массачусетса выбрала его в совет. Джон не стремился к такому посту, но, когда Хатчинсон отклонил его избрание, он разъярился. Абигейл успокоила его, настояв на необходимости провести вместе с детьми несколько дней на ферме. Он согласился и обратил энергию своего гнева на возведение каменной ограды. Через день-два он восторгался прекрасным травостоем, поднявшимся благодаря дождям и своевременно заготовленному компосту. Джон и патриоты вновь рассердились на Хатчинсона, узнав, что он отправил в Лондон письма с требованием к министерству прислать достаточную военную силу, чтобы усмирить Бостон. Эти письма попали к Бенджамину Франклину, а тот, чтобы предупредить Массачусетс, переслал копии Джону и Сэмюелу Адамсам и Томасу Кашингу, настоятельно рекомендуя не публиковать эти письма в печати. Они были все же опубликованы. Джон клялся, что не отдавал письма в печать. Это мог сделать Кашинг, а скорее всего Сэмюел, понимавший, что они способны вызвать взрыв. С момента публикации писем в виде памфлета вопрос встал ребром: либо губернатор Хатчинсон будет выдворен из Массачусетса, либо он выдворит патриотов. Успокаивая жену, Джон уверял: — По моему мнению, у обеих сторон не хватит духа добиться окончательного решения вопроса. В предстоящие годы нас будет качать, словно маятник. Революцию, мысль о которой мы не можем сформулировать, увидят наши дети. Абигейл вздрогнула: — Слабое утешение.
4
Трудность операции по спасению лица, по мнению Абигейл, в том, что она никому не удавалась полностью. Джон подрядился вести загадочное дело Анселла Никерсона, обвиненного в убийстве трех или четырех человек на судне и утверждавшего, со своей стороны, что они были убиты пиратами. (Джону удалось добиться оправдания Никерсона, но он признался Абигейл, что не уверен, виноват или не виноват Никерсон.) Тем временем британское министерство ввязалось в процесс с Ост-Индской компанией — британской фирмой, накопившей на своих складах семнадцать миллионов фунтов чая. Когда быстроходное судно доставило в Бостон сообщение, что принято новое постановление о чае, патриоты возмутились. — Зачем постановление о чае? — спросила Абигейл. — Очень просто, — объяснил Джон. — Согласно британским меркантильным правилам, все товары, произведенные в любой части империи, должны быть доставлены в Англию, где они облагаются налогом. Как чай, например. Затем ящики перегружаются на другое британское судно и перевозятся в колонию, а там, в порту прибытия, облагаются новыми налогами. — Другими словами, чай преодолевает двойное расстояние, приходит к нам с двойным запозданием и стоит нам вдвое дороже. — Примерно так. И это выгодно британцам. Так было, пока голландский чай не стал конкурентом. Тысячи англичан, вложивших свои сбережения в Ост-Индскую компанию, узнали, что дефицит их компании равен миллиону фунтов стерлингов, что их акции вдвое упали в цене и банкротство Ост-Индской компании вызовет панику в Британии. Владельцы нажали на правительство, чтобы оно разрешило Ост-Индской компании доставлять чай из Китая и Индии прямо к нам. Даже после уплаты нашими торговцами пошлины в размере трех пенсов за фунт чай будет стоить дешевле голландского контрабандного чая. Британцы вообразили, будто мы так рвемся получить дешевый чай, что готовы выбросить в бостонскую гавань наши политические принципы. — Это означало бы больше чая для всех и конец контрабанде. — А также признание британского права навязывать нам налоги без нашего согласия. Ни один патриот не станет покупать этот чай. — Не думаешь ли ты, что мы купим? — Кто — мы? Бенджамин Фанейл-младший, Джошиа Уинслоу, Элиша и Томас Хатчинсон-младший назначены грузополучателями. Они с радостью заплатят налоги в надежде на солидный куш после прибытия каждого груза. Абигейл задумчиво спросила: — Не должны ли мы, другие, покупать у них до того, как они набьют свои кошельки такими барышами? — У нас может быть либо дешевый чай, либо дорогая свобода. Раздраженная Пенсильвания разделала под орех капризный Бостон. Джон принес домой экземпляр «Пенсильвания газетт» от двадцатого октября с набором резолюций: пошлины, наложенные парламентом на чай, выгруженный в Америке, есть налог на американцев, поборы, взимаемые с них без их согласия; преднамеренная цель взимания налога для поддержки правительства, осуществления судопроизводства и защиты владения его величества направлена на то, чтобы сделать бесполезными ассамблеи; постоянная оппозиция этому министерскому плану абсолютно необходима для сохранения хотя бы призрака свободы. Митинги протеста и гневные речи в Олд Саут и Фанейл-Холл звучали словно эхо событий 1765 года, когда таможенных чиновников насильно притащили к Дереву Свободы и принудили не выполнять еще не полученных поручений. Теперь же, в начале ноября 1773 года, люди, получавшие грузы, не прислушались к требованиям патриотов. Когда в 1756 году бостонцы громили контору Оливера и дома Хатчинсона и Хэллоуэлла, для защиты их собственности не было ни одного солдата. Теперь же в бостонской гавани стояли на якоре несколько британских военных кораблей, в замке Уильям размещались два полка королевских солдат. Джон заявил мрачно: — Завтра на городском собрании мы примем филадельфийские резолюции и потребуем от назначенных агентов Ост-Индской компании ради их собственного положения, а также мира и доброго порядка в городе… Это было всего лишь благое пожелание. — Я знаю, что они не уйдут в отставку. После восьми лет непрестанных усилий мы слабее, чем в самом начале. В Бостоне царило возбуждение. Импортеры чая опасались бросить искру. Фанейл, Уинслоу и фирма «Ричард Кларк и сыновья» распространяли слухи, что чай будет выставлен на продажу по такой низкой цене, что его аромат заглушит всякую оппозицию. 17 ноября было объявлено, что первые суда с чаем — «Дартмут», «Элеанор» и «Бивер» — вот-вот прибудут и что, согласно расписанию, «Дартмут» войдет в гавань в воскресенье, когда будут проходить богослужения. В воскресенье утром, выслушав проповедь доктора Купера, Абигейл и Джон вышли из церкви на Олд Саут и увидели, что толпа устремилась к пристани, где под порывами резкого северного бриза раскачивался стоявший на якоре «Дартмут». Капитан Холл поставил свое судно на якорь у верфи Гриффина, в квартале от дома Сэмюела Адамса. — Это никак не улучшит настроение Сэмюела, — сказала Абигейл, когда они примкнули к сотням бостонцев, заполнивших переулок Флаундер и площадку для перегрузки товаров между Белчер-Лейн и верфью. — Джон, они, разумеется, не станут разгружать в воскресенье, в день Господний. Он быстро повернулся: — Тогда пошли домой, прежде чем они опалят крылья нашей утке. Нэб и Джонни мучили и голод и любопытство. Шестилетний Джонни, остро интересовавшийся происходящим, спросил: — Папа, что они собираются сделать с этим чаем? Абигейл, кормившая с ложки Чарли смесью из тертых грецких орехов и хлеба, повернулась к хозяину дома. — Самый удачный вопрос. Ответь нам всем маленьким, папа. Джон надулся от важности. — Мне больше всего по душе роль ученого-всезнайки за собственным обеденным столом. Нам хотелось бы, чтобы при следующем приливе чай взял обратный курс и поплыл в Англию. — Хорошо, что чай не страдает морской болезнью, — заметила Абигейл. Дети хихикали. Джон сохранял серьезность. — Мы должны будем принять вскоре решение, потому что, если груз не будет спущен на берег за двадцать дней после прибытия, он может быть конфискован таможней. Когда приплывут другие суда, то мы можем стать свидетелями одного из трех возможных действий: суда отчалят в море, и это будет концом постановления о чае; их груз будет конфискован, и это явится концом постановления о чае, или… — Что или? — спросила Абигейл. Поскольку Джон молчал, она выпалила: — Или же они попытаются выгрузить чай на землю. Джон посмотрел задумчиво. — Они не столь безнадежно глупы.Джона и Абигейл посетил Сэмюел Адамс и рассказал им о результатах собраний выборных лиц и комитета связи. На следующий день намечался многолюдный митинг в Фанейл-Холл. Джон Хэнкок объявил, что, занимая пост полковника кадетского корпуса, он категорически отказывается привлечь молодых бостонцев для охраны тех, кто опрометчиво попытается выгрузить чай. К ним зашел также Джошиа Куинси-младший; он уведомил о прибытии в пятницу двух других судов и сообщил, что владелец «Дартмута» согласился развернуть судно и отправить его назад в Лондон с невыгруженным товаром. Джон попросил Абигейл открыть бочонок мадеры. Через некоторое время доктор Джозеф Уоррен воздал должное вину и добавил: губернатор Хатчинсон объявил, что он не подпишет бумаги, разрешающие выход трех судов в море, до того, как будет разгружен чай и передан заказчикам. Абигейл не пыталась скрыть усмешку. — Целые годы мы отрабатывали искусство контрабандного ввоза чая. Теперь нужно найти способ контрабандного вывоза. В понедельник на рассвете они были разбужены посланцем от Сэмюела, напоминавшим, что им следует прийти на собрание в Фанейл-Холл. — Если бы не это постановление о чае, то, думаю, Сэмюел и «Сыновья Свободы» зачахли бы за ненадобностью, — сказала Абигейл. Все обыденные дела были отложены. Абигейл надела зеленое шерстяное платье и зеленые туфли. Несмотря на то, что день сулил плохие предчувствия, в воздухе витало и что-то праздничное: звонили колокола, звучали возбужденные голоса прохожих под окнами. Выйдя на улицу, они заметили на стене ратуши объявление. Абигейл прочитала вслух: — «Друзья, братья, земляки! Окаянная чума, ненавистный чай, поставляемый в этот порт Ост-Индской компанией, прибыл в нашу гавань. Вы стоите лицом к лицу перед угрозой разрушения, если не предпочтете мужественное сопротивление махинациям тирании. Каждый друг своей страны призван ради самого себя и потомков собраться сегодня в девять часов (в это время зазвонят колокола) в Фанейл-Холл, чтобы совместными усилиями оказать успешное сопротивление этой последней, наихудшей и наиболее разрушительной мере администрации». Она прошептала: — Звучит как медоточивая проза нашего кузена Сэма. — Она известна как проза патриотов. Я могу назвать тебе дюжину бостонцев, включая себя самого, кто мог бы сочинить подобное. К десяти часам Фанейл-Холл был набит битком: мелькали знакомые лица из Уэймаута, Брейнтри, Хэнгема, Милтона. Она не знала, сколько вмещал зал, но, по ее прикидкам, собралось около двух-трех тысяч человек. Абигейл внимательно слушала Сэмюела, предложившего отправить чай в Англию, все с этим согласились. Толпа стала настолько плотной, что митинг пришлось отложить до трех часов и перенести в церковь на Олд Саут. В эту ночь двадцать пять вооруженных добровольцев несли охрану около судна, чтобы не допустить выгрузку чая. На следующее утро Абигейл пришла в церковь на Олд Саут, где присутствовала на возбужденном собрании, взорвавшемся, когда прибыл шериф графства Суффолк и зачитал заявление губернатора: — «Все участники этого митинга нарушают добрые и здравые законы провинции. Мы предупреждаем, увещевая и упрашивая незаконно собравшихся разойтись». Свист и возгласы возмущения загремели под сводами церкви. Владелец «Дартмута» Фрэнсис Ротч и капитан Джеймс Холл соглашались, что чай следует отправить назад без выгрузки. Аплодисменты в их адрес были настолько бурными, что комиссионерам «Элеанор» и «Бивера» пришлось встать и присоединиться. Сэмюел Адамс был назначен главой комитета, обязанного написать письмо всем портовым городам Массачусетса, Филадельфии и Нью-Йорка о происходящем в Бостоне. Беда любого успеха в его преходящем характере. Суда «Элеанор» и «Бивер» прибыли со своими грузами. Хозяева судов сдержали свое обязательство не выгружать чай и не платить пошлин, но губернатор Хатчинсон не дал разрешения отплыть и, дабы доказать, что не блефует, приказал зарядить пушки замка Уильям и выставить около них наряд. У входа в гавань, вблизи трех бригов с чаем, адмирал Монтегю разместил две канонерки. Судовладельцы оказались в ловушке. Если не выгружать чай в положенные двадцать дней, потеряют свой груз. Ежели попытаются удрать в Англию, воспользовавшись попутным ветром, их потопят канонерки. — Вскоре все решится, — сказал Джон. — Ты и в самом деле знаешь, каково будет решение? — поддразнивая, спросила она. — Мы распускаем столько слухов, что им трудно поверить. Завтра я выезжаю в суд Плимута. В городе царило спокойствие благодаря вооруженным патрулям на улицах, но напряжение росло. Ежедневно собирались митинги. Отряды вооруженных красномундирников из замка Уильям совершали набеги на окрестные поселки. В последний день перед конфискацией чая на «Дартмуте» стоимостью пять тысяч фунтов стерлингов в церкви на Олд Саут собралось две тысячи человек. Абигейл сидела в последнем проходе. Несколько тысяч человек набилось в церковь и окружили ее снаружи. Владельцу судна «Дартмут» было предложено поехать к губернатору Хатчинсону в Милтон и потребовать от него письменное разрешение на отплытие в тот вечер. Владелец судна должен был немедля вернуться и доложить собравшимся. Абигейл замерзла и устала, несмотря на зажигательные речи, гремевшие с трибуны. Она предпочла бы пройти один квартал по Корнхилл к своему дому и выпить чашку чая. Но выбраться из толпы в церкви было невозможно. Прошел час после наступления сумерек. Вернулся Рот. По сигналу ему освободили проход к алтарю. Церковь освещалась мерцающим отблеском свечей. Все лица были напряжены. — Ничего! — выкрикнул судовладелец. — Губернатор не выдает разрешение на выход из гавани. Чай будет выгружен и конфискован на заре, если мы не выплатим сегодня вечером пошлину! Встал Сэмюел Адамс, он поднял вверх руки, требуя внимания. Громким голосом, наполнившим огромное пространство церкви, он выкрикнул: — Только это собрание может спасти страну! В партере церкви прозвучал воинственный индейский клич. Ему ответили с хоров, а затем снаружи. Абигейл была буквально приподнята на руках и вынесена на колючий холод улицы. Не веря глазам своим, она увидела человек пятьдесят мужчин: их лица были замазаны краской, волосы собраны по индейской моде, на плечах небрежно накинуты индейские одеяла, они размахивали топориками. Толпа вопящих индейцев перед зданием церкви становилась все гуще. Абигейл казалась безумной мысль, что раскрашенные, вооруженные индейцы какого-то племени вторглись в Бостон. Затем она напряженно вгляделась в одного из вождей, расставлявшего своих воинов по два в ряд, поднимавшего руки, требуя внимания. Его широкий рот на плоском лице, плотная фигура и мускулистые жесты напоминали ей… — Не может быть, — прошептала она Бетси. — Поль Ревер? — Пойдем. Нам следует сохранять спокойствие. Банда индейцев множилась, их было уже, по меньшей мере, сотни две. Бетси держала ее под руку, они прошли молча и быстро, подталкиваемые толпой, через Милк-стрит, повернули направо на Пёрл-стрит, затем по Пёрл-стрит — к верфи Гриффина, где были пришвартованы суда с чаем. Абигейл стояла на вымощенной булыжником площади перед верфью Гриффина, когда индейцы на лодчонках подплыли к «Дартмуту». В сумерках были слышны приглушенные звуки гребущих весел. Она с трудом различала в темноте фигуры индейцев, взбиравшихся по веревочным лестницам на борт судна. Потом они куда-то исчезли, и тут же послышались звуки тяжелых ящиков, падавших на деревянный настил, звенящие удары топоров, взламывающих ящики, едва слышимые всплески падающего на воду чая. Потребовалось не более часа, чтобы сбросить с судна капитана Холла его груз. Вслед за чаем в море были выброшены ящики. Собравшаяся около гавани толпа не расходилась. Затем, словно по сигналу, индейцы перешли на «Элеанор» и проделали то же самое. Абигейл задавалась вопросом: кто организовал вылазку? Кто решил, что она должна быть замаскирована под налет индейцев? Каким образом ее участники столь тщательно подготовлены и дисциплинированны? Затем в душу проник холодок, подобный тому, что студил ее пальцы через тонкую подошву. Где британские солдаты, маршировавшие днем по городу с примкнутыми штыками? Может ли быть, чтобы они не знали о нападении, о том, что в течение уже двух часов индейцы сбрасывают чай с борта «Элеанор» и уже взобрались на «Бивер»? Ведь около семи тысяч бостонцев собрались в гавани, и впервые в истории города у верфи находится лишь горстка вооруженных патриотов и ни один солдат не появился по сигналу тревоги! Кто остановил их? Опять же, куда исчезла команда трех судов, ведь ни один член экипажа не появился, чтобы выразить протест? Сошли на берег? Спят? В стельку пьяны? Мертвы? А где британские военные корабли? Верно, что форт замка Уильям находится в трех милях, но зимняя ночь так ясна, что звук слышен над водой на много миль. Как далеко? Несомненно на расстояние, на котором бросили якорь два британских военных корабля, чтобы не допустить незаконного выхода «Дартмута» из гавани! Возможно, армия и флот его величества не желают или не способны противодействовать? Это казалось не менее вероятным, чем тот факт, что в гавани плавали тысячи фунтов чая и около трехсот пятидесяти разбитых ящиков покачивались на волнах в то время, как индейцы были доставлены на берег. Они молча потрясали в знак победы своими топорами, а после этого исчезли. Бетси провела ее через Пёрчейз-стрит в свой дом. Она зажгла огонь в конторе Сэмюела, поставила вскипятить воду, затем сняла туфли Абигейл и своими руками согрела ее одеревеневшие пальцы. Сэмюел появился в то время, когда они не торопясь пили обжигающий язык шоколад. Он сел около Абигейл и положил свою руку на ее плечо. — Сестренка Абигейл, я счастлив, что ты здесь. Все, что ты видела и слышала сегодня, ты будешь помнить всю жизнь. — Буду, Сэмюел, буду. — Могу ли я сказать тебе кое-что, чем я особенно горжусь? На судах было много ценных товаров без присмотра. Их не тронули. Не были повреждены ни трюмы, ни палубы судов. Один навесной замок был сломан, мы уже заменили его. Никто не был ранен. Это была мирная демонстрация мирных жителей. — А что с чаем, Сэмюел? — У Ост-Индской компании есть миллионы фунтов стерлингов, которыми она может поделиться. Пошлины не будут выплачены, потому что чай не был выгружен на берег. Суда можно теперь нагрузить оплачиваемыми товарами и вывести в море. Сражение состоялось. Мы победили.
5
Первые лучи света придали комнате еще более мрачный вид. В доме было пронзительно холодно. Абигейл встала, запахнулась в одеяло, прошла по комнатам, подбрасывая дрова на тлеющие угли и подвертывая одеяла под спящих детей. В кабинете Джона она села за письменный стол, собираясь составить успокаивающую записку своим родителям, но чернила замерзли в чернильнице. Джон прибыл в первой половине дня, посиневший от холода, но с сияющими глазами. Она сразу же повела его к кухонной печи, где он сказал, что несколько человек, пытавшихся выловить плававший в гавани чай, были изрядно помяты, что британский военный корабль уже отплыл в Англию с новостями о происшедшем. — Скажу тебе, Абигейл, это самый блестящий ход. В этом последнем усилии патриотов есть достоинство, величие, тонкость, и я этим восхищен. Народ не должен восставать, не сделав ничего приметного и поражающего воображение, остающегося в памяти. Уничтожение чая было столь рискованным, отважным и решительным и имеющим важные последствия, что я не могу не считать это историческим событием. — Есть вопрос, который терзал меня всю ночь, не давая заснуть: где были солдаты и военные корабли? Они могли тотчас же остановить эту чайную вылазку. Джон посмотрел в сторону: — Почему спрашиваешь меня? Спроси полковника Далримпла или адмирала Монтегю. Оба они прекрасные офицеры, и сегодня утром они злы как черти. Адмирал Монтегю написал лордам Адмиралтейства, что он мог бы легко помешать осуществлению плана, но к нему не обращались за помощью. — Могло ли случиться так, что полковник Далримпл и адмирал Монтегю не имели полномочий вмешиваться без указаний губернатора Хатчинсона, а он находился на вершине своего холма в Милтоне, слишком далеко, чтобы отдать нужные приказы? Джон ухмыльнулся: — Быть может, он предпочел пролить чай, а не кровь. В проеме двери в кухню появилась фигура в черной накидке и с мрачным лицом. Это был Джонатан Сиуолл, обрушившийся на них как ураган, его лицо искажала гримаса. Абигейл подумала: «Никто не спал в Бостоне прошлую ночь». — Джонатан, входи, — приветливо сказала она. — Не хочешь ли чашечку не такого уж вкусного кофе? Сомневаюсь, что Новая Англия когда-либо привыкнет к нему. Джонатан бросил взгляд на Джона и сказал задиристым тоном: — Очевидно, ты вскоре прольешь кровь, как чай. — Я не заявлял такое, Джонатан. — Вылазка прошлой ночью была покушением на собственность. Другая подобная вылазка может вызвать потерю жизней. Ты не станешь отрицать, что многие из твоих так называемых патриотов жаждут крови? Не осталось и следа от юмора Джонатана Сиуолла, шутника, человека, говорившего: «Я смеюсь первым, ибо смех помогает остроумию», человека, ценившего лаконичную задиристость, умение найти абсурдное в ходе событий. — Я не стану отрицать этого, Джонатан. Многим хотелось бы, чтобы в гавани плавало столько же трупов, сколько ящиков с чаем. — Но чьи трупы, Джон Адамс?! — воскликнул Сиуолл. — Твои? Наступила настолько тягостная тишина, что Джон невольно покраснел. Затем он ответил: — Если необходимо. Я тренировался и нес охрану с нашей милицией. Но, Джонатан, ведь на самом деле ты задаешь вопрос: нужно ли было уничтожать чай? Это было абсолютно необходимо. Чай нельзя было отослать назад, от этого не пострадали бы ни губернатор, ни адмирал, ни сборщик налогов, ни контролер. Его не могли взять солдаты и военные корабли. Допустить выгрузку чая означало бы уступить принципу налогообложения, навязанному силой парламентской власти, свести на нет наши усилия в течение десяти лет, подчинить нас самих и наших потомков египетским надсмотрщикам, ярму, неуважению, бесчестью, попранию и презрению. Голос Сиуолла звучал мрачно: — Братец Джон, сестра Абигейл, я любил вас, как любил немногих своих друзей. Позвольте мне изложить ваше дело, как я не излагал его ранее. Британия полна решимости сохранить свою систему. Ее мощь несокрушима. Каждый фут Бостона будет оккупирован войсками, а гавань — военными кораблями. Скоро! Очень скоро! Джон, Британия уничтожит тебя, как она уничтожит любого, выступающего против ее действий. Джон взглянул на Абигейл, прося ее разрешения продолжить. Это была не такая легкая просьба, она понимала, что они подошли к Рубикону. Затем Джон положил руку на плечо Джонатана: — Дражайший друг! Я понимаю, что Британия полна решимости сохранить свою систему. Эта ее решимость придает решимости мне. У нас нет хода назад. Выплыть или утонуть, жить или умереть, выжить или погибнуть вместе с нашей страной. Таково наше неизменное решение. Я вижу, что рано или поздно мы должны разойтись. Верь мне, это прощание наших двух семей, соединенных кровью и любовью, — самый острый шип, который вонзился в мое тело. Они обнялись. Затем расстались. Это был первый раскол внутри их семейного круга и среди друзей. Абигейл охватила скорбь, такая же как после смерти Сюзанны. Потеря кузена детства и близкого друга была близка смертельной потере. Через сколько смертей суждено пройти человеку, и все же остаться живым?У героизма бывает свое похмелье. Бостон чувствовал опустошенность. Абигейл простудилась. Вынужденную пассивность она использовала для написания писем, одобрявших покушение на «чай, этот губительный сорняк… сорняк порабощения». Она отослала Мэрси Уоррен ее экземпляр пьес Мольера с комментарием: «Утверждают, что Мольер был честным человеком… однако не все жизненные сцены годятся для подмостков». Для Абигейл, унаследовавшей нравы Новой Англии, собственность была столь же священна, как моральные ценности, и она чувствовала себя неловко из-за противоречий в своих взглядах. Абигейл поехала с Коттоном Тафтсом в Уэймаут, чтобы провести между Рождеством и Новым годом несколько дней с родителями. Едва переступила она порог пасторского дома, как начался сильный снегопад, и вся окрестность превратилась в белую равнину с непроезжими дорогами. Впервые она оказалась оторванной от мужа и детей и чувствовала себя не в своей тарелке. Скучая по дому, она писала Джону: «Я никогда не покидала столь большой выводок малышей». Женщина с четырьмя детьми и любимым мужем привязана к месту. Абигейл даже обрадовалась, узнав о небольшом семейном кризисе: она нечаянно забрала с собой ключ от ящика с бельем Джона. Она отослала ключ в Бостон с одним из работников отца в надежде, что Джон догадается вытащить верхний ящик, где лежали чистые рубашки. Она вернулась в Бостон радостная, что снова вместе со своим выводком. Прикорнув к плечу Джона, она рассказала ему о новом постояльце в пасторском доме, молодом Джоне Шоу, который преподает в школе Уэймаута и спит в комнате Билли. Шоу нравится ее сестре Бетси, во всяком случае, они страстно обсуждают литературу и политику, а это неплохое начало для влюбленности в доме священника. Джон рассказал ей, как он провез детей на санях к перешейку, где до весны укрыл лодку брезентом. Большинство его новостей касалось самого Бостона. — Патриоты и «Сыновья Свободы» все еще празднуют то, что они считают сокрушительной победой. Хатчинсон и сторонники короны полагают, что нас в пух и прах разбомбят. Придерживающиеся умеренных взглядов, вроде нашего друга торговца Джона Роу, говорят, что нам следует заплатить за чай и принести официальное извинение. — А что думаешь ты? — Что мы были втянуты с момента нашей свадьбы в заговор Бернарда, Хатчинсона и Оливьера. Бернард отозван, Хатчинсона вызовут в Лондон и упрекнут, что не обеспечил охрану чая, заместитель губернатора Эндрю Оливьер безнадежно болен. Я составляю документ об импичменте главного судьи Питера Оливера, чтобы мы избавились от него. Абигейл помолчала некоторое время. — А что в отношении Лондона? Мы не будем знать, что он готовит, пока не начнет действовать. Где и в чем мы найдем в таком случае помощь? — В том, что существовало всегда: сражаться с помощью имеющегося оружия. Он погладил ее волосы, как часто делал в момент волнения. — У Англии есть опыт разрешения таких проблем дружеским образом. Мы — англичане до мозга костей в речи, мышлении, ощущении и являемся неотъемлемой частью ее семьи. Потребовалось бы поразительное сочетание таланта, гениальности, чтобы составить набор репрессивных действий, которые были бы способны отделить нас от империи. — Очевидно, Англия обладает такой гениальностью. — Если бы только парламент разрешил нам избрать и послать представителей от каждой колонии для участия в обсуждении законов, принимаемых против нас. Патриотов поносили вовсю за сброс чая в море. Бенджамин Франклин, живший многие годы в Лондоне в качестве колониального агента, представлявшего Массачусетс, Пенсильванию, Нью-Джерси и Джорджию как перед короной, так и перед деловыми кругами, писал, что сожалеет о крайности, когда в споре об общественных правах уничтожают частную собственность. Утверждалось, будто некий член парламента кричал: «Преступление американцев просто гнусно! Нельзя добиться послушания законам в этой стране, не уничтожив это змеиное гнездо!» Король Георг III бросил фразу: «Мы должны взять верх над ними или же предоставить их самим себе и рассматривать чужаками». Американские газеты консервативного направления писали, что на Бостон следует смотреть как на Карфаген. В конце февраля Джон купил ферму брата Питера за четыреста сорок фунтов стерлингов. Абигейл поинтересовалась, могут ли они позволить себе такое. — Нет, мы не имеем средств, — упрямо ответил Джон. — Я купил дом в Бостоне, места в церкви, лодку. Я потратил состояние на книги, на улучшение наших десяти акров земли. — В таком случае я не понимаю, о чем ты думаешь. — В еще большей мере мы не можем позволить, чтобы ферма Питера ускользнула из наших рук. Ее могли купить другие. Я хотел приобрести эту ферму с момента нашей свадьбы. Имея тридцать пять дополнительных акров, мы можем жить за счет дохода с земли. Земля всегда плодоносит, невзирая на кризисы, каким подвержена юриспруденция. Бостон словно поджался. Трудно было чем-то заняться. Повсюду, где бывали Джон и Абигейл, люди обсуждали вопрос о чае, попивая кофе. Деловая активность резко снизилась. У Джона было мало судебных дел, и он поехал в Ипсуич, но не брался за судебные тяжбы в Плимуте. Стало меньше и административных дел, поскольку губернатор отложил или распустил Ассамблею Массачусетса, прежде чем она успела собраться.
6
В начале мая прибыло судно «Гармония» с известием о постановлении, касающемся бостонского порта. Абигейл уехала в Уэймаут проведать больную мать, а также восстановить отношения с Бетси, ставшей жертвой слухов о ее связи с Джоном Шоу, постояльцем в пасторском доме Смитов. Абигейл написала Бетси резкое письмо, она предостерегала ее, что следует беречь свое доброе имя, и приглашала приехать в Бостон. Ответ Бетси явился ударом для Абигейл: «Ты не можешь представить, как я была подавлена, узнав, что вызываю опасения у некоторых членов семьи…» Это была первая ссора Абигейл с сестрой. Она понимала, что отношения надо немедленно исправить. Ее письмо было щепетильным и назидательным, а когда она вспомнила часы, проведенные в одиночестве с Джоном перед камином в гостиной, где они обменялись, как говорил потом Джон, «миллионами поцелуев», ей стало стыдно. Она прочитала со своим отцом в библиотеке текст постановления о бостонском порте. Постановление было настолько чудовищным, что преподобный Смит воскликнул: — Все равно что читать собственный смертный приговор! Трудно было по-иному оценить обрушившееся на них бедствие. Бостонский порт закрывался. Ни одно судно, кроме британских военных кораблей, не могло войти или выйти из гавани. Генерал Гейдж, командовавший британскими войсками в Нью-Йорке, становился военным губернатором Массачусетса. Сюда переводились несколько полков, Губернатора Хатчинсона отзывали в Лондон. Бостон словно оцепенел в ожидании репрессивных мер Британии. Абигейл вернулась в город, и на нее обрушился шквал плохих известий. Бостон будет жить по законам военного времени. Британские войска будут расквартированы в домах горожан. В Массачусетсе запрещаются городские собрания. Выбранные лица не имели права созывать своих избирателей на собрания без разрешения губернатора. Один лишь король мог назначать членов совета, старших и иных судей. Местные шерифы отбирались военным губернатором. По сути дела, парламент отменял хартии колонии залива Массачусетс 1628 и 1691 годов, определявшие управление колонией с момента, когда первый корабль отплыл из Англии. Новым портом ввоза импортных товаров был объявлен Марблхэд, в пятнадцати милях к северу. Бостону грозило удушение: если нельзя было доставить товары и продовольствие по морю, то все это должно было провозиться но узкому перешейку, а перешеек Нэк легко блокировали британские войска. Бостону, его жителям, его бизнесу и культуре грозила медленная смерть. Его должны были покинуть все. — Именно этого хотят британцы, — комментировала Абигейл, — мы должны сдать в аренду наш дом. — Нет, Абигейл. Все и каждый должны остаться. Не думай, что я превратился в мусор. Дело обстоит иначе. Я могу уверенно сказать, что после этого сообщения ощущаю в себе большее присутствие духа и большую энергию, чем в былые годы. Я вижу в принимаемых мерах проявление отчаяния лорда Норта. — Но что же будет с Бостоном? — Бостон должен сыграть роль мученика. Он должен угаснуть. Наше единственное утешение в том, что он пострадает во имя благородного дела. Вероятно, он преобразится, достигнет благополучия, великолепия и влияния большего, чем когда-либо. Их навестил Коттон Тафтс, привезший медикаменты, которые он смог достать до того, как были исчерпаны английские запасы. На следующее утро они услышали оглушительную канонаду со стороны замка Уильям и гавани, где бросили якорь военные корабли. — Это в честь генерала Гейджа, высадившегося на пристани Лонг Уорф для выполнения своих обязанностей, — сказал Коттон; за стеклами очков его глаза были круглыми, как у совы. Джон, Абигейл и Коттон вышли на улицу. В своем шикарном пурпурном мундире полковник Джон Хэнкок стоял во главе красиво обмундированных кадетов — почетного караула генерала Гейджа. За кадетами в направлении ратуши, теперь благодаря усилиям Сэмюела Адамса ставшей Домом правительства, следовали роты красномундирников. Полковник Хэнкок, принятый бостонским светом Сын Свободы, вошел в зал совета как участник комитета по приему генерала. Джон провел Абигейл к теплому камину в своей конторе. На его столе были разбросаны бумаги, касающиеся земельного спора между Нью-Гэмпширом и Массачусетсом, а также импичмента главного судьи Оливьера. Ее наметанный глаз заметил, что на столе нет новых постановлений, контрактов, заметок. Джон наблюдал за ее взглядом. — Нет перспективы в отношении моих профессиональных дел в это лето. Я не заработал ни шиллинга за всю неделю. — В таком случае вернемся, будем заниматься нашей фермой. — Попросим Брекетта прислать фургон. Они приехали в Брейнтри под сверкающим сиянием июльского солнца. Дети убегали из дома с его первыми лучами. Джон работал на полях, удобряя их болотным илом для посевов многолетней травы. Затем он решил поехать в Ипсвич, Йорк и Фолмаут на открытие судебных сессий. — Как бы то ни было, я должен попытаться вернуть причитающееся мне. Он бродил по судам северного Массачусетса, получая работу, которая едва окупала его проживание и пропитание, затраты на овес для лошади. Единственной отдушиной были его пространные письма к Абигейл, иногда по два в один день:«Меня утешает мысль о возвращении в Брейнтри, к моим кукурузным полям, лугам, садам и лужайкам. Мое воображение… всегда рядом с тобой и по соседству с тобой; я мысленно гуляю с тобой и с нашей крошкой болтушкой Нэбби, Джонни, Чарли и Томми. Мы вместе поднимаемся на Пенн-Хилл, проходим мост к равнине, к садам».Абигейл научила Нэб и Джонни сбивать масло и варить сыры. Чарли кормил цыплят и уток. С наступлением сумерек, когда дом затихал, начиналась ее вторая жизнь: она спускалась в кабинет Джона и читала газеты соседних колоний. Англия закрыла порт Бостона 1 июня 1774 года, как было сказано в законе: даже простая лодка не проскочила бы через внушительную цепь военных кораблей — «Тартар», «Магдалена», «Лайвли», «Тамар». Никогда еще она и соседи не вели подобного нелегального образа жизни. Городские собрания были запрещены постановлением, вступившим в силу 1 августа, но в Брейнтри изменили название управляющего органа на «собрание графства», и это собрание стало проводить регулярные заседания. В Бостоне городское собрание было отменено, но по пути в Мэн Джон председательствовал на собрании, где представители Бостона проголосовали за решение не платить за чай, выброшенный в море. В сообщении из Чарлзтауна рассказывалось, что члены жюри отказывались принести присягу судьям, назначенным короной, и в результате пришлось отложить заседание судов. Горожане подчинялись своим шерифам, игнорируя назначенных короной должностных лиц. Массачусетс не мог поступить так, чтобы из бостонской гавани ушли военные корабли, но горожане не считались ни с одним положением регулирующих постановлений. Благодаря странному недосмотру не была распущена выбранная Ассамблея колонии — орган, в который входил Джон Адамс в качестве члена Генерального совета, или кабинета, но губернатор Хатчинсон отменил решение об избрании Джона. Ассамблея собралась в Бостоне, и ей было предложено переехать в Салем согласно предписаниям. Собравшись в Салеме, Ассамблея тут же призвала созвать Конгресс тринадцати колоний. Генерал Гейдж вопил: — Это незаконно! Ассамблея распущена! Но было уже поздно. Ассамблея Массачусетса утверждала, что ее призыв созвать комитеты законный. Конгресс стал преемником ранее состоявшегося конгресса по поводу закона о гербовом сборе, созванного комитетами связи Сэмюела, и должен был вновь собраться в Филадельфии. В Первом конгрессе участвовало девять колоний. Сколько колоний пошлют своих представителей на этот раз? Каждый город и поселок обещал поддержку и помощь репрессированному Бостону. Какие колонии из двенадцати сочтут страдания Бостона своими собственными? Из Ипсвича пришло письмо с загадочной и волнующей строчкой, добавленной почти как постскриптум: «Сейчас мне хотелось бы быть дома, чтобы обдумать вопросы одежды, прислуги, кареты, лошадей и тому подобное для поездки». Абигейл сидела, держа письмо Джона в руке, стук ее сердца был слышен в ушах. Какое путешествие? Куда он может поехать, чтобы потребовались одежда, прислуга, карета? Должно быть, в Филадельфию! На Конгресс! Абигейл сидела на софе, наклонившись вперед. Первое, что она испытала, — чувство гордости: Джон Адамс заработал право представлять Массачусетс. Затем появился страх: поскольку генерал Гейдж распустил массачусетскую ассамблею, не сочтут ли ее представителей мятежниками? Если так, то Джон Адамс окажется в критическом положении: суды присяжных для подобных дел отменены, все судьи-американцы отстранены. Его могут послать в Галифакс для осуждения Британским адмиралтейским судом или в Англию на кораблях «Кансо» или «Лайвли», стоящих под парусами, прежде чем она узнает, что он схвачен. Страх отступил, как ранее гордость. Она принялась думать о более практических последствиях. На поездку в Филадельфию потребуется, по меньшей мере, две недели. А как долго будет заседать Конгресс? Еще две недели, два месяца, кто сможет сказать? Она боялась долгой разлуки. Но понимала, что переборет свои опасения до возвращения Джона домой. Прогуливаясь поочередно с детьми в коляске, она чувствовала подъем энергии. Новости ободряли. Не участвовавшая в Конгрессе по поводу гербового сбора Виргиния на этот раз решила выступить еще до того, как получила призыв Бостона. Как только палата Бургесс — местное самоуправление — узнала о законопроекте по бостонскому порту, Томас Джефферсон предложил, а палата приняла решительную резолюцию, объявлявшую первое июня «днем поста, унижения и молитвы», испрашивавшую вмешательства Провидения, дабы предотвратить большое несчастье, «наделить нас одним сердцем и одним рассудком, чтобы твердо противостоять всеми справедливыми и надлежащими средствами любому ущемлению американских прав». Когда губернатор Виргинии, назначенный короной, распустил Палату Бургесс, ее члены собрались через несколько дней, назвали себя Ассамблеей и осудили закон о Бостонском порте как «самую опасную попытку уничтожить конституционную свободу и права всей Северной Америки», заявили, что нападение на одну колонию есть нападение на всех. Из газет, поступивших из Провиденса и Нью-Йорка, Абигейл узнала, что и они призывают к совместным действиям при чрезвычайных обстоятельствах. Во всех статьях прослеживалась одна общая мысль: постановление о бостонском порте, как и другие постановления, должно быть отменено. После объезда выездных сессий суда Джон вернулся домой, имея в кармане не больше фунтов стерлингов и шиллингов, чем в момент отъезда. Массачусетская ассамблея проголосовала в пользу того, что каждый из ее пяти представителей — Томас Кашинг, Джеймс Боудойн, Сэмюел и Джон Адамсы, Роберт Трит Пейн — получили по сто фунтов стерлингов для оплаты расходов по найму лошадей, экипажа и прислуги в Филадельфии, а также ночлега и питания. Жалованья никому не полагалось. — Кто оплатит сшитую вами одежду для Филадельфии? — спросила Абигейл. — Мы сами, — покраснел Джон. — Массачусетс не может выглядеть хуже, чем элегантно одетые Нью-Йорк и Виргиния. — Думаю, что не должен! К счастью, весной выпали хорошие дожди. Урожай зерна и кормовых трав должен быть хорошим. Я продам его в Бостоне. В суматохе отъезда он был равнодушен к домашнему хозяйству, заботясь о политической экономике… и о своих ограничениях. Мэрси Уоррен писала, что горда за Абигейл в связи с назначением Джона. Ее муж Джеймс как член Ассамблеи настаивал на этом назначении. Уоррен писал из Плимута, оценивая предстоящий Конгресс как собрание «великого достоинства и значения, как никакой другой, будь то древний или современный, какой когда-либо собирался… Я уверен, что большая часть участников явятся мастерами, поднаторевшими в политике… провидцами, проникнутыми подлинным духом предвидения, и государственными деятелями, мудрыми и справедливыми». Открытие Конгресса намечалось на сентябрь 1774 года. Тем временем Бостон переживал трудности, вызванные нарушением нормального снабжения города. Джон был назначен в комитет по сбору помощи бостонцам. Когда овощи и фрукты созрели, Абигейл нагрузила ими целый фургон, добавив яиц и сыра. Британцы все еще разрешали проезд по перешейку Нэк. Джон и один из его работников доставили фургон в город и передали продовольствие комитету. Они посетили также Ричарда Кранка и Сэмюела Адамса, снабдив их семьи продовольствием. Чета Адамс переживала и другие душевные неприятности. В начале июля Джон писал Абигейл о своих впечатлениях во время выездной сессии суда. В Фолмауте толпа ворвалась в дом консерватора, выкрала его документы, терроризировала жену, детей и прислугу. В других городах сторонники короны были обмазаны дегтем и вываляны в перьях. Те же, кто были несогласны с патриотами или утверждали, будто Бостон заслужил решение о закрытии порта, организовав хулиганскую вылазку с чаем, пострадали в свою очередь, их дома были разграблены возмущенной толпой. Вернувшись домой, Джон кричал: — Я полон возмущения и отвращения к такой вопиющей несправедливости! Мы не освободимся от плохих законов, терроризируя жен и детей. В Фолмауте Джонатан Сиуолл порицал меня латинской фразой «действовать чужими руками — значит обрекать себя». Он имел в виду, что я в той же мере виновен, как любой другой, на деле участвовавший в нападении. Больше всего он обозлен тем, что я согласился стать членом Конгресса. Он утверждал, что, участвуя в заседаниях в Филадельфии, я стану ренегатом, встав на путь, откуда нет обратной дороги. Джон встал, принялся шагать по комнате. — Я вступил на эту тропу давно, возможно, тогда, когда услышал зажигательную речь Джеймса Отиса в шестьдесят первом году против предписаний, но, несомненно, еще до шестьдесят пятого года и закона о гербовом сборе — ведь тогда я провел бессонную ночь. — В тревоге? — В изумлении. Относительно идеи, осенившей меня. Написать историю противоборства между Британией и Америкой, начиная, скажем, с вступления на трон Георга Третьего, или, быть может, назначения в Массачусетс губернатора Бернарда. Абигейл улыбнулась про себя. — Беспокоишься? — поддразнил Джон. — Удивляюсь. Ты скорее творишь историю, чем пишешь ее. Момент отъезда на Конгресс приближался. Они прошли через свои зеленеющие поля, поднялись на Пенн-Хилл. На западе пылал закат, прямо перед собой они видели парусные лодки и зеленые острова в заливе. — Нэбби, должен признаться, что ощущаю свою неподготовленность к этому важному делу. Не знаю качеств людей, составляющих двор Великобритании, а также людей, образующих нацию. Не обладаю полнотой знаний в области искусств и наук, особенно права и истории, географии и коммерции, военного дела и жизни, необходимой американскому государственному деятелю в настоящее время, какая требовалась британскому или римскому генералу. — Ты подготовлен, как никто другой в нашей колонии. — Возможно. Но наше образование в Новой Англии недостаточно, чтобы воспитать такие высокие качества. Если ему не хватало образования, чтобы считать себя молодым Демосфеном[22] или Питтом, то советов он наслушался. — Лучший совет я получил от моего старого друга Джозефа Хоули из Общего суда, — сказал он Абигейл. — Он учил меня быть терпеливым, умеренным и отважным. Самое главное, по его мнению, поскольку это первый континентальный конклав за десять лет, тщательно избегать всего, что вызывает отвращение, отчужденность, холодность или безразличие. — Он мудрый человек, — заметила она. — Он предупреждал нас, представителей Массачусетса, против высокомерия и превосходства. Мы не должны задевать чувства делегатов иного происхождения и религии. Он опасается, что в других колониях существует представление, будто патриоты Массачусетса попытаются диктовать, займут надменную позицию из-за свойственного им тщеславия и самодовольства. — Поступишь ли ты так, Джон? Солнце заходило, смеркалось. Он положил свою руку на ее плечо. Они пошли вниз по знакомой тропе. — Утверждаю, что наш характер хорош в той мере, в какой плохо наше настроение. У меня нет самомнения на собственный счет. Что касается нашей породы, то мы — островитяне, мы считаем нашу религию единственной, нашу новоанглийскую культуру выше всех остальных, а себя единственным истинно нравственным народом в мире. — Ты не должен даже думать о подобном в Филадельфии. — Не должен. Мы либо сможем добиться свободы, сосуществуя с нашими собратьями-колонистами, как бы они от нас ни отличались, либо над нами будут господствовать англичане, пусть схожие с нами. Они прошли мимо родительского дома, увидели мать Джона и мистера Холла, ужинавших на кухне. Около их собственной пристройки Абигейл неожиданно прильнула к нему: — Джон! Три-четыре месяца без тебя! Заботиться о детях, двух фермах, наших долгах. Ты должен совершить добрые дела, чтобы возместить все это. Он поцеловал ее, словно прося прощения. — Постараюсь, душенька. Сделаю все, что должен, по словам Джозефа Хоули. Буду думать о тебе и о малышах и буду самым скромным человеком на грешной земле Господа Бога.
7
19 августа 1774 года, во вторник, в полдень, Абигейл уехала в Бостон для участия в церемонии отъезда на Конгресс. Проезжая вдоль пристаней, она впервые увидела оккупированный город. Вид плотного кольца военных кораблей отозвался болью в ее сердце. Флагманский корабль стоял на якоре между верфью Лонг и верфью Хэнкока, корабль «Тамар» — у входа в Броад-Саунд, «Лайвли» — у губернаторского острова, «Кансо» — между Чарлзтауном и паромами Уиннисеммет, а «Галифакс» преграждал реку Чарлз. Дядюшка Исаак мрачно заметил: — Позвольте взять вас в путешествие по Британии! Прогуливаясь по городу, они видели королевских уэльских стрелков, ставших лагерем на холме Форт. Солдаты четвертого и пятого полков, в основном лондонцы, разбили свои палатки на общинной земле. Тридцать восьмой и сорок третий полки, солдаты которых в красных мундирах были набраны в северной части Англии, разместили свои лагеря на равнине около работного дома. Сделав остановку на перешейке Нэк, они увидели передовую группу пятьдесят девятого полка, высадившегося в Салеме и начавшего строить укрепления с целью изолировать Бостон. Возвращение домой, на Бикон-стрит, на заходе солнца было мрачным и безмолвным. Компания собралась после ужина. Их друзья также были в подавленном настроении. Сидя вокруг стола, они щелкали орехи, смаковали мадеру и, казалось, не решались выразить словами свои мысли. Будет ли Конгресс добиваться независимости? Попытается ли он сбросить частично или полностью правление короля Георга III и парламента? Намерены ли участники Конгресса образовать постоянное американское правительство, учрежденное тринадцатью колониями? Джон сказал спокойно: — Мы собираемся в Филадельфии, чтобы найти ответы на эти вопросы. Ее муж был осторожен, но за столом нашелся человек, казавшийся явно несимпатичным. Это был ее молодой кузен Исаак Смит-младший, двадцати пяти лет от роду, готовый к сану священника, начитанный и умеющий красиво говорить, с безупречными манерами, получивший основное образование в Англии и бывавший там не раз. Он был среднего роста и средней упитанности, с внимательными зелеными глазами, его светлые волосы свисали на лоб. Он сидел с вопросительно поднятой бровью, словно прислушивался к беседе чужих ему людей. Исподтишка наблюдая за ним, Абигейл поняла, что он раздражает окружающих. Ее дядюшка Исаак и тетушка Элизабет были страстными патриотами, щедро отдававшими свои время и деньги любому движению, связанному с «Сыновьями Свободы». Джошиа Куинси-младший появился позже. В прошлом году он тяжело болел, и доктор Коттон Тафтс, опасаясь смертельно опасного в семействе Куинси туберкулеза, отправил его на судне в Южную Каролину, в Чарлзтон. Джошиа поправился под теплым солнцем, а затем совершил поездку верхом вдоль побережья. Теперь он выглядел загоревшим, оживленным, его глаза сверкали. Джошиа поднялся в спальню, где в нише размещались книги и стоял письменный стол, за которым занималась Абигейл во время ежегодных наездов. Джон закрыл дверь. — Джошиа, ты готов отплыть? — Примерно через месяц. — Хорошо. Эта миссия весьма деликатная. Попытайся убедить министров и членов парламента, что мы не безответственные люди или горячие головы, какими изображают нас Бернард и Хатчинсон. Убеди их в том, что мы хотим быть в единой семье и что наша цель на Филадельфийском конгрессе не зачинать драку, а установить прочный мир. — Приложу все силы, Джон. Джон повернулся к своей жене: — Ты, Абигейл, и жена Джошиа, помимо членов комитета знаете, зачем он едет в Лондон. Если британцы заранее узнают, что он представляет Конгресс, они арестуют его или же отошлют назад. Он вновь повернулся к Джошиа: — Нам достаточно твоей доброй воли. У тебя великое имя, ты защищал капитана короля и его солдат, ты способный адвокат. Ты обладаешь харизмой, у тебя есть деньги, и ты джентльмен. Такую комбинацию не смогут побороть британцы. В эту ночь, жаркую и душную, спалось плохо. На сознание тяжело давила предстоящая разлука. Они попрощались на рассвете со смешанным чувством гордости и печали. Ни слова не было сказано о Бостоне, сверкавшем в прозрачном утреннем воздухе. День был праздничным. Горожане нарядились в одежды для мессы и собрались на площади около Дома правительства, чтобы торжественно проводить своих делегатов. Абигейл подумала о том, что церемония проходит на том же самом месте, где четыре года назад солдаты стреляли в толпу. Бостон отверг Джона, но сегодня он выезжает в Филадельфию представлять весь Массачусетс на генеральном Конгрессе. Куда их бросит следующий поворот судьбы? Карета, предназначенная для делегатов, перед которой гарцевала конная вооруженная охрана, а на запятках вытянулись четыре негра в ливреях, была готова к отъезду. Абигейл вдруг осознала, что пожимает руку Роберту Триту Пейну, бормоча добрые пожелания. По пути делегаты подберут Томаса Кашинга у его дома на Бромфилд-Лейн около общинных земель. Джеймс Боудойн и его жена были нездоровы, и он не смог выехать. Сенсацией на проводах стал Сэмюел Адамс: он натянул на себя сюртук цвета бордо с белыми оборками, на голове красовался цилиндр, а в руках трость с золотой рукоятью. На рукояти трости и блестящих запонках были выбиты эмблемы ремесленников, принадлежавших к «Сыновьям Свободы», которые участвовали в сборе такого блестящего обмундирования. Джон сжимал руку Абигейл дольше, чем другие, не сделав иного жеста, а затем четверо делегатов сели в карету, щелкнули бичи, раздался крик толпы. Взявшись под руку, Абигейл, Бетси Адамс и Мэри Кранч последовали за каретой, медленно шагая через расступавшуюся толпу, торжествующую, размахивавшую платками. Около пятидесяти — шестидесяти уверенно восседавших на седлах верховых застыли в качестве почетного эскорта перед домом Адамсов на Куин-стрит, чтобы сопровождать делегатов до Уотертауна. Три подруги в сопровождении толпы прошли мимо королевской часовни к общинным землям. Люди стояли вдоль тротуаров, махали платками и шляпами, выкрикивали добрые пожелания из окон и с порогов своих домов. Волнующим был момент, когда карета и эскорт приблизились к месту, где осужденные наказывались кнутом, и увидели там стоявший лагерем полк британских красномундирников, лениво бродивших вдоль границы общинных земель. Бостонцы остановились. Приветствия стихли. Члены Массачусетского комитета молча смотрели на британских солдат из своей кареты, двое на переднем, двое на заднем сиденье. Оторванные от родины солдаты, прибывшие во враждебно настроенную страну во имя неизвестной цели, беззлобно таращили в изумлении глаза, и все — члены комитета и солдаты, охваченные смущением, — не могли разобраться, где страх, а где гордость. В наступившем молчании, нарушавшемся цоканьем подков и скрежетом каретных колес по булыжнику, можно было почти ощутимо прочувствовать повисший в прозрачном жарком августовском воздухе вопрос, куда приведет этих людей конфронтация и какое решение они в конечном счете примут. Таким вопросом задавались Абигейл и Бетси за невкусным ужином в доме Сэмюела. Бетси спросила: — Не пересолена ли пища? — Не глотаю ли я слезы? Да. Не осмеливаюсь показать их. — И не нужно, Сэмюел и Джон были бы огорчены. — Возможно, и нет, сестра Бетси. Может случиться так, что до того, как наши уважаемые мужья возвратятся из этой поездки, и раз и два прольются слезы. Позднее, во время ужина в саду дома Смитов, услышав хвалу в адрес «Сынов Свободы», Исаак-младший потерял терпение и высказал негативные замечания. Абигейл заметила, как помрачнело лицо ее дядюшки. После ужина она постучала в двери Исаака и, в ответ на его приглашение, вошла. — Исаак, мы были друзьями в те годы, когда я посещала этот дом. Затем мы переписывались и во время учебы обменивались французскими книгами. Исаак поставил для нее стул около своего письменного стола и сказал с некоторым удивлением: — А почему, кузина Абигейл, ты ставишь все это под сомнение? — Из-за того, что ты говорил за ужином. — По поводу «Сынов Свободы»? — Да. — Разумеется, ты знаешь о их недостойных вылазках, налетах, мазании дегтем и вываливании в перьях. — Эти инциденты не отменяют обоснованности нашей позиции… — Сожалею, кузина, — прервал ее Исаак, откинув назад пальцами свои светлые кудри, — я не вижу обоснованности. Думаю, ты удивишься, узнав в случае войны, как много членов нашей семьи и друзей будут на стороне британцев. Правоверность в политике, я понимаю, столь же необходима для священнослужителя в наши дни, как ортодоксия в святости. Если меня отвергнут как еретика в том и другом, то мне нечего делать. Я ненавижу энтузиазм и фанатизм в любой форме. Но я готов подчиниться цензуре. Величайшие друзья этой страны и человечества зачастую сталкивались с той же самой тяжелой судьбой. Я вовсе не безразличен к добрым мнениям окружающих, но я не могу ради удовлетворения чувств других пожертвовать независимостью своих собственных взглядов. — Никто не требует от тебя этого, Исаак. — В какой период мы вступаем, кузина Абигейл, если самая малость сдержанности, любая склонность к миру и порядку, малейшее опасение за общественное благосостояние и безопасность считаются преступлением? Что это за дело, если оно не выдерживает малейшей проверки? — Мы не боимся признать собственные недостатки. Все колонии посылают лучших людей в Филадельфию. — Наше дело, говоришь ты, в очень хороших руках. Не спорю. Но разве к нему не тянутся плохие руки? Разве плохие люди не ввергли нас в состояние крайних бедствий и опасности? И не случится ли так, что сила и безрассудство этих людей ввергнут нас в пучину, которую не предотвратят объединенные усилия добрых людей? Он поднялся из-за стола и встал у окна спиной к ней. — Нэбби, надеюсь, ты не считаешь меня недостаточно любящим свою страну. Верно, я не кричал слишком громко против грубости, несправедливости, произвола последних постановлений парламента, как другие. Мой возраст, моя особая профессия, мои связи с семинарией мешали мне это делать. Но никто не хотел, чтобы они были проведены в жизнь. В то же самое время я должен признать без принуждения, что скорее спокойно соглашусь с этими и сотней других постановлений британского законодательного органа, чем стану жертвой каприза, неограниченного деспотизма горстки моих соотечественников или же увижу родную землю ареной взаимного истребления и отчаяния. Абигейл вспомнила, как Джон, расставаясь со своим дорогим другом Джонатаном Сиуоллом, сказал: «Это прощание — самый острый шип, который вонзился в мое тело». Исаак оказался острым шипом для нее.8
Абигейл возвратилась в Брейнтри, и забота о ферме легла теперь на ее плечи. Двое рабочих, нанятых Джоном, были опытными работниками, но несклонными выкладываться и прилагать слишком большие усилия. Она знала по опыту, что «ноги хозяина — это лучшее удобрение», и поэтому вскоре после восхода солнца уже была в поле, выводила на выпас скот и загоняла его в стойла в сумерках, доила коров, сбивала масло и варила сыр, а дети кормили птицу и свиней. Джон наказывал сделать два покоса сена, но засуха осушила пруды и ручьи. Он предупредил ее перед отъездом, что не станет рисковать, отправляя письма почтой, курсирующей между Филадельфией, Нью-Йорком и Бостоном, из-за того что англичане могут ее перехватить. Она терпела, из Филадельфии в Бостон не приходили сообщения, лишь газеты подробно описывали прекрасный прием делегатов в каждом городе, через который они проезжали, с подробностями о выпитых винах, меню и произнесенных тостах в ходе путешествия, затянувшегося более чем на две недели. Но когда сын Сэмюела Адамса получил письмо от отца, а миссис Томас Кашинг — от мужа, Абигейл почувствовала себя несчастной. Каждый день дети втискивались в ее кресло или усаживались к ней на колени, спрашивая: — Где папа сегодня? Когда он приедет домой? Пошли ему наш привет. Она писала Джону почти каждый день, излагая, что сделала за день, свои мысли, чувства, рассказывала о детях, об урожае. Как помогает умение писать! Нэб посещала женскую школу, а положение семилетнего Джонни Куинси, склонного учиться по книгам, внушало тревогу. Джон просил ее не пренебрегать обучением мальчика. Когда местный учитель Джозеф Кросби вышел в отставку, Абигейл и Джонни читали друг другу пассажи из «Древней истории» Роллина. Каждый вечер она готовила для Джонни письменные упражнения, но у нее не было целостной программы обучения. Она попыталась совместить две проблемы. В небольшой конторе Джона в Бостоне работали четыре клерка, желавшие обучиться ремеслу, несмотря на скудное число клиентов. Абигейл привезла в Брейнтри Джона Таксера-младшего и Натана Райса. Она выделила им в родительском доме комнату для работы и сна и кормила их за общим столом. Джон Таксер, девятнадцатилетний кузен Куинси, сын ее тетушки, приятный, мягкий парень, охотно согласился обучать Джонни Куинси латинскому и греческому языкам, а также истории. Нездоровье матери вынуждало Абигейл посещать Уэймаут каждые несколько дней. Мэри Кранч приезжала пожаловаться на невзгоды: Ричард по-прежнему проваливал все задуманные им дела, транжирил состояние семьи, явно не умея обратить свои технические знания и навыки к своей выгоде. Коттон Тафтс никогда не упускал возможности заглянуть для беседы. К концу августа она поняла, что не получит два покоса сена. Она страдала не столько из-за потерянных денег, сколько из-за опасения, что Джон подумает, будто она не оправдала его доверия. Глубокой ночью, когда Нэб уснула в ее кровати, Томми сопел рядом в люльке, а двое мальчиков спали в комнате через коридор, Абигейл села за стол в нише и изложила на бумаге свои тревоги. «Большое расстояние, разделяя нас, удлиняет время», — писала она. На деле не имело значения, было ли расстояние в пять или в пятьсот миль. Однако при его отъезде на сессию суда она могла мысленно представить Джона в маленьких городках, в суде со своими друзьями, и, скучая по нему, она все же не ощущала глубокого разрыва связи. Теперь же, когда Джон находился на совершенно чуждой ей сцене в окружении незнакомых лиц, она не могла связать свои мысли с его мыслями.«Глубокая тревога, какую я испытываю за свою страну, за тебя и за нашу семью, делает дни трудными, а ночи неприятными. Со всех сторон видятся скалы и зыбучие пески. По какому бы пути ни пойти, все будет зависеть от того, как повернется будущее. Неопределенность и ожидание дают раздолье уму. Завоевывало ли какое-либо королевство или государство свободу, будучи однажды захваченным, без кровопролития? Я не могу думать об этом без содрогания».Несмотря на бессонные ночи и тягостные воскресенья, пребывание на открытом воздухе, физическая работа укрепили ее организм. Казалось просто чудовищным, что в пору одиночества она чувствовала себя физически так хорошо. Но сила была ей нужна, чтобы преодолеть смятение. Сторонники короля в районе горы Уолластон были озлоблены участием Джона Адамса в «предательском конклаве», как они его называли, и не скрывали своей ненависти. Когда вошли в силу постановления, отменившие право выбора присяжных в городах, последующие отмена и закрытие судов дали им дополнительные доказательства, что с Массачусетсом каши не сваришь. В Бостоне, а также в Брейнтри умеренные считали, что горячие головы в Бостоне умышленно навлекли на них эти неприятности. Некоторые бывшие патриоты говорили: «Разве имеет значение, при какой власти мы обогащаемся?» Кровь и чувства были взвинчены у обеих сторон. Исаак-младший тут же столкнулся с трудностями. После его двух проповедей в Бостоне с призывом сохранять верность короне его прогнали с кафедры. Договоренности о проповедях в нескольких небольших городках, где он мог бы занять место пастыря, были отменены. Злая воля, порожденная сыном, затрагивала родителей, отрицательно влияя на давно сложившееся дело отца. Заместитель губернатора Оливьер был вынужден уйти в отставку под давлением четырехтысячной толпы не столь уж вежливых патриотов. Советники губернатора, которые всегда избирались Массачусетской ассамблеей, а теперь назначались губернатором Гейджем, под нажимом возмущенных общин отказались от предложенных постов. Генерал Гейдж установил пушку на Бикон-Хилл, вырыл траншеи в городе. Придерживавшиеся умеренных взглядов, отказывавшиеся принять ту или иную сторону, все более тревожились и искали защиты у британцев. Одним из первых был Томас Бойлстон, богатый торговец и родственник матери Джона. Миссис Холл проникла через заднюю дверь в кухню Абигейл. Она была бледна и явно встревожена. — Очевидно, британцы победят. — Мамаша Холл, могу ли я напомнить вам, что ваш сын участвует в Американском конгрессе в Филадельфии? — Что случится с Томасом Бойлстоном, если британским войскам придется уйти? — спросила миссис Холл, занятая собственными мыслями. Абигейл ответила сухо: — Осмелюсь сказать: то же самое, что случится с вашим сыном, но наоборот. Его собственность будет конфискована. Он будет списан как враг Массачусетса. Если он окажется вне страны, ему, возможно, не разрешат вернуться. Как Джону, если его вывезут в Лондон на суд — и он не сможет вернуться домой к семье. — Это страшная игра, — вздохнула пожилая женщина. — Томас Бойлстон, возможно, ведет игру. Мы не ведем. Мы боремся за принципы. Но я не стала бы беспокоиться за Томаса. У него есть суда, на которые он может погрузить свое имущество, если решит сбежать. — Абигейл, не будь такой язвительной. — Извиняюсь, мамаша Холл. Но мой муж давно уехал. Я давно не получала известий о его здоровье или благополучии. Вся моя жизнь и жизнь моих детей зависят от положения мужа. Поэтому, быть может, вы простите меня за мою пристрастность. Мать Джона протянула руку, погладила волосы Абигейл. Они редко сочувствовали друг другу. — Джону повезло. Он нашел женщину, которая способна любить свою собственную семью и в то же время слиться с семьей мужа. — Мой отец выгнал бы меня тростью из дома, если бы я делала вид, будто прежде всего принадлежу роду Смитов или Куинси, а только затем Адамсов. Конфликты стали обыденным делом во внешне спокойных семьях Новой Англии. На Уолластон-Хилл, в библиотеке Джошиа Куинси-старшего, собрались полдюжины Куинси и их родичей. Из комнаты открывался прекрасный вид на гавань, на холмы с садами, на созревшие поля. Абигейл знала, что через несколько дней Джошиа-младший отплывет на судне «Бостон-Пакет» в Англию. Он обсуждал со своим старшим кузеном Нортоном Куинси возникший политический тупик, приводя выдержки из речи, написанной для парламента епископом Святого Азафа Джонатаном Ширли. Все присутствующие повернули головы и прислушались. — «Северная Америка стала единственным гнездом, где пестуют свободных людей». Абигейл прокомментировала: — Как приятно в нашем трудном положении сознавать, что в Англии верят в нашу правоту. Сэмюел, брат Джошиа-младшего, согласился с замечанием Абигейл. Его жена Ханна, невоздержанная, коренастая женщина, спросила: — Если ты восхищаешься речью епископа, то почему тебе не нравятся выраженные в ней чувства? Сэмюел посмотрел невыразительно на своего молодого клерка Самнера, также состоящего в родственных связях с Куинси. — Мне нравятся. — Нет, не нравятся, — фыркнула его жена, — в противном случае ты не якшался бы с толпой сторонников короля. — Они имеют право на совет. — Пусть другие дают им советы. Я считаю, что время уйти из епископальной церкви. Если эта банда станет еще хуже, то тогда не с кем будет говорить, кроме красномундирников. Среди Куинси не было никого, отходившего от своего клана, и я не хочу, чтобы мой муж был первым. Сэмюел наклонил голову: — Это не ссора в День папы римского. Мы родились англичанами и таковыми умрем. Как наши дети. Джошиа-младший, не торопясь, сообщил, что отплывает в Англию. Его отец, почти отказавшийся от сына за то, что тот защищал капитана Престона и его английских солдат, не сдержал своего гнева и взорвался: — Зачем тебе это нужно? Патриоты скажут, что ты удираешь. Тори станут утверждать, что тебя послали на виселицу.
В начале сентября произошли одновременно два события, потрясшие колонию, словно взрыв двух пороховых погребов. Каким-то образом генерал Гейдж умудрился потерять на улице Бостона письмо, полученное им от бригадного генерала Уильяма Брэттла, командовавшего милицией Массачусетса. Письмо передавалось из рук в руки, а затем было опубликовано в «Газетт», и Бостон узнал, что Брэттл предательски советовал генералу Гейджу «расколоть» каждого офицера в милиции колонии, оставив ее таким образом без руководства, затем быстро развернуть войска для захвата пороха, имевшегося в каждом городе колонии. Одновременно стало известно о постановлении парламента Квебека. Нацеленное на то, чтобы ублажить канадских французов в Квебеке и закрепить их права на католическую веру, оно содержало положение, которое ужаснуло Новую Англию: провинция Квебек расширялась до реки Огайо на юге и Миссисипи — на западе и вся эта территория становилась частью Канады. Это означало, что американцы, переселявшиеся на Запад, становились канадскими подданными и подлежали юрисдикции французского гражданского кодекса. Могло случиться такое, что со временем существующие колонии окажутся окруженными католической церковью и потеряют миллионы акров богатой целинной земли в пользу Канады. Абигейл с головой погрузилась в работу на ферме, ухаживала за детьми, и это помогло ей отгородиться от внешних тревог. Поскольку засуха продолжалась, она писала с раздражением Джону: «Мои бедные коровы, несомненно, хотели бы послать тебе петицию со своими претензиями и с уведомлением, что их лишают исконных привилегий». Проблеск света промелькнул из Филадельфии — первое сообщение о заседаниях Конгресса. Оно пришло не от Джона, а из газет, принесенных Бетси Адамс. Джон обсуждал с ней первую и, вероятно, неразрешимую проблему Конгресса — проблему религии: как смогут делегаты, принадлежащие к различным религиям, работать вместе на общее благо, стараясь устранить, уничтожить религиозные верования других? Проблему разрешил Сэмюел Адамс. Когда возник вопрос, кто прочитает молитву при открытии заседаний, Сэмюел поднялся и сказал: — Я не фанатик и готов выслушать молитву набожного, достопочтенного джентльмена и одновременно друга нашей страны. Он добавил, что впервые находится в Филадельфии, но прослышал, что мистер Дюше отвечает всем этим требованиям, и предложил, чтобы епископальный священник Дюше произнес молитву при открытии Конгресса. Это предложение было поддержано и принято. Преподобный Дюше молился столь страстно за всех здравствующих, за всех американцев, что делегаты почувствовали свое единство и Конгресс сделал это единство традицией. Прослышав о постановлении о Квебеке, группа, примыкавшая в Брейнтри к англиканской церкви, попыталась сблизить епископальную церковь с конгрегационалистами, чтобы укрепить позиции перед лицом католических поселений на юге и западе. Сэмюел Адамс ловко изменил настроения, заявив, что в Филадельфии конгрегационалисты и епископальная церковь действовали вместе рука об руку не только с квакерами, унитариями[23] и анабаптистами, но и с католиками. Бетси Адамс, сияя от гордости, спросила Абигейл: — Возможно, это хорошее предзнаменование на будущее? Абигейл заверила Бетси, что так и есть, но события развивались настолько быстро, что ни у кого не было уверенности в будущем. Массачусетс оставался без законного правительства с момента, когда генерал Гейдж распустил Ассамблею. Городское собрание Бостона, не имевшее права собираться, тем не менее собралось и проголосовало за то, чтобы направить представителей в Дедхэм и сформировать правительство графства Суффолк. Комитет связи написал свои письма в другие графства Массачусетса, призывая их создавать графские правительства и одновременно не распускать свои городские собрания. Каждый город образовал свой комитет безопасности. Абигейл наблюдала за происходящим, сообщала об этом мужу, подчеркивая, что жители Новой Англии устанавливают самоуправление в своих приходах, в своих городских советах, своих ассамблеях и назначают выбранных представителей в Общий суд, как повелось с момента высадки первых колонистов. Свою власть над ними вершили губернаторы, назначенные королем, но права колонистов определялись хартиями, иногда лица, назначенные королем, создавали осложнения. Массачусетс, найдя свой модус операнди, процветал и помогал процветать Британской империи. На девяносто процентов Массачусетс правил сам собой. — И это, — Абигейл подвела итог Бетси, — то, с чего мы начинаем. Это столь же естественно и необходимо для нас, как воздух. Генерал Гейдж может перекрыть порт Бостона, британский парламент может лишить нас членства в Ассамблее, избранных лиц, судей, присяжных заседателей. Но как действовать нам? Можем ли мы последующим поколениям сказать, что не сохранили свою свободу? — Не можем, — сказала Бетси. — Именно поэтому наша вторая ветвь Адамсов находится в Филадельфии. — Бетси, если я не получу письма от моей ветви, то запрягу карету и отправлюсь за письмом в Филадельфию. На следующий день она услышала громкие шаги и подбежала к окну, выходившему на Коуст-роуд. Шла рота милиции, около двухсот человек с мрачными лицами, неровными рядами, с ружьями за спиной. Они были в длинных свободных рубашках, некоторые — в куртках из оленьей кожи, несмотря на теплый сентябрьский день, в тяжелых ботинках, в каких обычно работают в поле. Двигались они по дороге к тому месту, где хранились запасы пороха Брейнтри. Абигейл встала у открытого окна и ожидала, пока пройдет рота. — Миссис Адамс, вам не нужно пороха? — выкрикнул офицер, проходя под окном. — Спасибо, капитан, не нужно. — В городе слишком много тори, поэтому мы должны перенести порох и укрыть его в надежном месте. По рядам передавали, что это миссис Джон Адамс, жена делегата — участника Конгресса. Каждый милиционер отдавал честь, махал рукой либо просто улыбался, если его руки были заняты мешочками с порохом. Она не знала этих мужчин и даже города, откуда они пришли, но отойдя от окна, почувствовала, как бьется ее сердце. Что случилось бы, если бы рота красномундирников генерала Гейджа пришла захватить порох Брейнтри и столкнулась с этой ротой жителей Массачусетса, намеренной любой ценой сохранить порох? Через несколько дней она получила весточку от Джона и, усевшись в его кресло за письменным столом, приступила к чтению только что полученного письма. Сначала она прочитала заключительные строки. Если Джон выражал в них свою любовь к ней, тогда все хорошо. Если такого не было, тогда информация из Филадельфии не представлялась ей интересной. Даже шум шагов милиции по Коуст-роуд не затмила необходимость быть любимой. Он выразил свою любовь «с самыми нежными чувствами и заботой». Абигейл прослезилась. Ей казалось, что пролетела вся жизнь с того момента, когда она попрощалась с ним в Бостоне. Она нужна. Ее любят. И страшно и чудесно быть женщиной. Письмо было написано в конце августа, когда Джон находился в сорока милях от Филадельфии. Она отвела детей в кабинет и, усадив вокруг стола на стульях для посетителей, сказала: — Нэб, первое слово обращено к тебе. Папа шлет тебе свою нежную любовь и просит написать ему письмо, которое я приложу к своему. — Напишу, мама, но мой большой палец все еще болит. Папе не понравится мое чистописание. — Ему понравится. Следующее слово к тебе, Джонни. Папа пишет, что рад услышать о тебе как о добром мальчике, развлекающем маму чтением. Он просит тебя не якшаться с грубиянами. Джонни выглядел озадаченным. — Скажи отцу, я не буду якшаться с такими, если они мне попадутся. — Следующее обращение к малышам. — Она встала, обошла вокруг стола. — Папа говорит: поцелуй за меня крошку Чарли и Томми. Она поцеловала детей, а они поцеловали ее, Чарли захныкал: — Напиши папе, что мы ответили поцелуем. — Напишу. Теперь слушайте все внимательно последний наказ папы, я хочу, чтобы вы не забывали его:
«Я всегда думаю об образовании наших детей. Учи их быть порядочными, прививай им трудолюбие, активность и душевность. Сделай так, чтобы они считали позорным любой порок, недостойный человека. Внушай им честолюбие к большим и серьезным целям и презрение к мелким, пустым и бесполезным. Пришло время, дорогая, начать обучать их французскому языку. Они должны обрести благопристойность, высокие качества и честность».Когда она кончила читать, пухленькая, розовощекая Нэб спросила, насупив брови: — Ма, почему папа не хочет дождаться своего возвращения, чтобы сказать нам все это? — Возможно, потому, что, когда он так далеко от нас, вы кажетесь ему более дорогими. И он скучает по вам. Абигейл услышала приглушенный шум дождя, стучавшего по окнам, выскочила через дверь конторы и встала на дороге, подставив дождю свое иссушенное лицо. Ливень был проливным, и травы вновь поднимутся, но для второго покоса дождь запоздал.
9
Второе письмо Джона пришло быстрее. Она не могла разобрать начальные строчки:«Не знаю, когда и где застанет тебя это письмо. Не представляю, в какой обстановке отчаяния и террора. Мы получили из Бостона сумбурное описание страшной катастрофы».Затем она вспомнила: в окрестности прошли слухи, что генерал Гейдж открыл по городу артиллерийский огонь и многие жители были убиты. Она едва не выронила из рук письмо, тронутая сочувствием к нему, находящемуся за три сотни миль от дома и не ведающему, не пострадали ли жена и дети. Потом она быстро пробежала глазами письмо, отыскивая в нем дату возвращения Джона. Но он лишь сообщал, что до завершения работы Конгресса никто не сможет покинуть Филадельфию, а «по общему мнению, следует двигаться не спеша». Он советовал ей, если в Бостоне положение станет отчаянным и появится опасность голода, предложить возможно большему кругу друзей, в частности Бетси Адамс и миссис Кашинг, найти убежище у нее. Он просил не тревожиться за него.
«В Конгрессе собрались выдающиеся люди континента по своим способностям, достоинствам и достатку. Великодушие и общественное воодушевление, какие я вижу здесь, вынуждают меня краснеть за подлое, продажное стадо… В колониях такое настроение, а члены Конгресса обладают такими качествами, что на нас не может не обрушиться напасть, которая не охватила бы целый континент, поставив его под угрозу опустошения, а кто захочет жить в таких условиях?»Атмосфера и время, казалось, были насыщены судьбоносными событиями. Из Бостона поступали сигналы тревоги и быстро передавались дальше, в Плимут и Таунтон. Система разведки «Сынов Свободы» была настолько всепроникающей, что Поль Ревер, наиболее энергичный и находчивый курьер патриотов, объезжал на одном из самых рысистых своих скакунов окрестные города, в то время как генерал Гейдж и его штаб все еще решали, на какой город следует сделать набег для захвата тамошних запасов. Абигейл посетила Мэрси Уоррен, привезя рукопись своей пьесы. Это была сатира на лорда Норта и других британских политических деятелей. Остроумная и блестяще владеющая языком, Мэрси вылила ушат презрения на английских писателей, заявлявших в печати, будто бостонцы — торгаши, «возбужденная, мятежная толпа, которой не следовало бы… беспокоиться по поводу политики и управления, недоступных ее пониманию». Конвент графства Суффолк, заседавший под руководством доктора Джозефа Уоррена в Стоугтоне, Дедхэме и Милтоне, принял серию резолюций, копии которых доставил ей родственник сестры Мэри — Джозеф Палмер, представлявший Брейнтри. Абигейл внимательно перечитала резолюции: Массачусетс не обязан подчиняться принудительным постановлениям; любая попытка навязать неприемлемые меры встретит сопротивление; рекомендовалось порвать торговые отношения с Британией и отказаться от выплаты денег казначею графства до тех пор, пока управление провинцией не будет вновь поставлено на конституционную основу; приносилась клятва «уважать и подчиняться» всем мерам, какие предложит Конгресс «для восстановления и утверждения наших законных прав… и для возобновления той гармонии и союза между Великобританией и колониями, каких искренне желают все добрые люди». Поль Ревер доставил суффолкские резолюции в Филадельфию в невероятно быстрый срок — всего за пять дней. Из письма Джона, привезенного ей Ревером, она узнала, что Конгресс бурно аплодировал резолюциям. Его члены единодушно приняли решение: «Ассамблея глубоко сочувствует страданиям земляков в заливе Массачусетс… члены Ассамблеи полностью одобряют мудрость и мужество, с которыми осуществлялось сопротивление против злонамеренных министерских мероприятий, и искренне рекомендуют своим братьям и впредь вести себя столь же твердо и сдержанно…» Экземпляры суффолкских резолюций и решения о принятии их Конгрессом были распечатаны в Филадельфии и быстро доставлены в Бостон Ревером. Абигейл искренне гордилась, узнав первой в Массачусетсе о единодушии делегатов. Это было первое публичное заявление Конгресса о политике. Джон писал: «Моя дорогая…» — а потом замазал чернилами слово, но не так густо, чтобы его не разобрали глаза одинокой жены. Слово было «очаровательница» — она была в этом уверена, — и оно доставило ей такое удовольствие, что Абигейл сидела, смакуя его. Она поняла, почему он решил вымарать это слово: если бы письмо попало в руки недруга, такой знак личной привязанности мог бы быть использован для высмеивания Адамсов. Но уже одно это вымаранное слово утешало ее в неприятностях, связанных с тем, что их наемный работник Брекетт ежедневно после работы накачивался ромом в тавернах Брейнтри, и ей приходилось каждый вечер ждать его, беседовать с ним, пока у него не начинал заплетаться язык и он не взбирался по лестнице к своей лежанке. Слухи множились, подобно червям в кукурузе. Брейнтри обвиняли в том, что поселок плохо относится к жителям — прихожанам англиканской церкви. Абигейл присутствовала на тайном заседании жителей поселка, где было принято заявление, что ни один епископальный прихожанин не подвергался третированию. Ходили слухи о восстании негров в Бостоне, вооруженных тори и посланных на дороги убивать патриотов. Она написала мужу, выражая отвращение к подобной истерии:
«Я искренне хотела бы, чтобы в провинции не было ни одного раба. Мне всегда казалось крайне несправедливым бороться за то, что мы ежедневно отнимаем и забираем у тех, кто имеет такое же право на свободу, как мы».Она получила встревоженное письмо от Джона, предлагавшего ей вывезти из Бостона конторскую мебель, книги и документы, а также двух оставшихся клерков — Хилла и Уильямса, поселить их в доме при условии, что они будут платить за питание. Она опросила дюжину родичей Куинси и убедилась в том, что можно не опасаясь оставить адвокатскую контору и в ней двух молодых клерков, по меньшей мере, на некоторый срок. Клерк Джона — Хилл приехал из Бостона с письмом, доставленным в контору. Ей бросилась в глаза строка: «Если окажется необходимым оставаться здесь до Рождества или больше, чтобы осуществить наши цели…» Первой реакцией Абигейл была скорее тревога, чем разочарование: в Плимуте находился контингент красномундирников, а каждый поселок и каждая деревня в Массачусетсе создавала новые отряды милиции. Дееспособные мужчины работали, обедали и спали с ружьями под боком. В Новой Англии получила популярность фраза о преподобном мистере Муди из Йорка; ее привез Джон с одной из выездных сессий суда: «У него близкие отношения с Богом, но егомушкет всегда наготове». Это знали пуритане и пилигримы с момента высадки в Америке: без Бога и ружей они не выжили бы.
Абигейл получила от отца записку, извещавшую, что он выезжает на день в Линкольн, чтобы навестить Билли и Катарину Луизу. Если она хочет с ним поехать, то он заедет за ней завтра в семь часов утра. Они переехали реку Чарлз у Уотертауна и по испещренной колеями дороге направились на запад, затем через Линкольн добрались до Бей-роуд. Линкольн не был деревней, хотя его и не закладывали как город с центральным домом собраний, кладбищем, таверной, общим складом и лавками вокруг площади. Он представлял скорее объединение сельских районов трех соседних городов: Конкорда, Лексингтона и Уэстона. Центр образовался из участков пахотной земли, дарованной для постройки красивой белой церкви с высоким шпилем. Рядом стояла дубильня, но еще не было мельницы; несколько сельских домов выходили окнами на центр, около двадцати могил разместились беспорядочно по склону кладбищенского холма. Пространство между Домом собраний и верхними могилами было известно как старый плац, где обучалась местная милиция. Абигейл и ее отец проехали еще две мили до возвышенности, на которой, затененный гигантским вязом, стоял дом, отданный в наследство Катарине Луизе. Утверждали, что это самый старый дом в Линкольне. Первоначально в нем имелась лишь одна комната, теперь же он превратился в двухэтажный, весьма просторный, с огромным камином, выложенным из необожженного кирпича, с внушительным подом и дымовой трубой, известной под названием «десять заповедей» потому, что труба чем-то напоминала каменные скрижали Моисея. Катарина Луиза украсила дом ситцевыми занавесками и яркими турецкими половиками. В то время как Билли показывал своему отцу пруд, вырытый для водопоя животных, просторный хлев на девять молочных коров, Катарина Луиза расставила в гостиной вокруг стола о восьми ножках тяжелые деревянные стулья, доставшиеся ей в наследство. У нее была служанка, помогавшая ухаживать за детьми. Билли купил в Бостоне обученного молодого негра, занятого на полевых работах, сам же он трудился на скотном дворе. — Билли доволен, — восторженно сказала Катарина Луиза. — Он копит деньги, чтобы через пять лет открыть лавку. А сейчас в Линкольне около сотни семей, и все они покупают в Конкорде или Лексингтоне. Соседи любят Билли. Его выбрали лейтенантом милиции. Билли гордился милицией Миддлсекса. Всего три недели назад британские солдаты захватили в Чарлзтауне несколько бочонков пороха и в Кембридже — две пушки. Несколько сот милиционеров из Конкорда, Лексингтона и Линкольна отправились в Кембридж, часть с оружием, готовым к бою, на случай встречи с красномундирниками. Патриоты в Бостоне считали, что следует ожидать новых неожиданных вылазок британцев. — Поэтому мы настаиваем на чрезвычайном призыве, — сказал Билли, сверкая от гордости глазами. — Я имею право призывать раз в неделю. После обеда он отвез отца и Абигейл в центр поселка, поставил коляску около церкви, взбежал по лестнице на колокольню и принялся звонить в колокол, словно все графство Миддлсекс было охвачено огнем. Тут же из ферм и домов выбежали мужчины с кремневыми ружьями, на ходу поправляя ранцы и патронташи и направляясь на плац между Домом собраний и кладбищем. Первый отряд собрался в считанные минуты. Следующая группа прибежала со стороны ферм, расположенных к югу от центра, в направлении пруда Флинт; дубильщики с закатанными рукавами, в кожаных фартуках бежали в легких рабочих туфлях, их руки и лица были покрыты коричневыми пятнами от дубовой коры и дубильной кислоты, брызгавшей из чанов. Затем появились фермеры от Бей-роуд, около дома Билли; они оставили сельскохозяйственные орудия на полях, где работали, привязали поводья своих лошадей и волов к ближайшим кольям и на ходу хватали ружья, пороховые рожки, патроны, рюкзаки. Последними появились мужчины, бывшие в тавернах Брукса и Хартуэлла на Бей-род, некоторые прискакали, сидя по двое, на лошадях. Всего за несколько минут рота была в сборе, около сорока человек, готовых выступить и сражаться. Билли стоял, подняв вверх правую руку, его грудь перекрещивала зеленая лента. Капитан с розовой лентой на груди осматривал свою роту из сорока человек, проверяя состояние кремней, штыков, подсумок. Билли встал на одном фланге, знаменосец с синей лентой на груди — на другом. Завершив осмотр, капитан отдал команду лейтенанту Смиту. Билли рванулся к середине роты: — На плечо! Шагом марш! Он быстро зашагал по плацу к Абигейл и отцу, прижимая ружье к груди, в то время как за ним печатали шаг остальные милиционеры. Когда рота подошла к углу церкви, Билли крикнул: — Стоп! Прицелиться! Огонь! Все подняли ружья. Некоторые мужчины встали на колено, чтобы не так дрожали ружья. Они прицелились, нажали на спусковые крючки. Но грохота не было, не было и пуль. Пороха было мало, и он был слишком дорог, чтобы расходовать его на учениях. — Кроме того, — почти прошептал преподобный мистер Смит, — они не нуждаются в практике. Мы начинаем охотиться с момента, когда можем держать в руках ружье. Возвращаясь от Билли, они решили заглянуть в Бостон, чтобы узнать, что там происходит. Перешеек был укреплен, но не перекрыт. Американские солдаты, участвовавшие в войне против французов и индейцев, высмеивали укрепления как стены, вылепленные из грязи. Абигейл спросила отца, почему они так плохо сложены. — Потому, что ни один из наших мастеров не станет помогать. Похоже, что британцы не привезли инженеров. — Нужны ли инженеры, чтобы подчинить своей власти крестьян в глуши? Дюжины людей собрались у прохода в стене, некоторые плакали, другие горячо спорили, Они либо держали свои пожитки в руках, либо везли их на тележках или же приторочили к седлам: напутанные тори пытались найти укрытие в Бостоне, более осторожные патриоты старались выбраться из города. Несмотря на то что британские офицеры начинали считать всех конгрегационистских священников предателями, наклеивая ярлык «черного преосвященства», они все же позволяли им свободно перемещаться. Лейтенант разрешил проехать Абигейл и ее отцу. Она не верила глазам своим. За четыре месяца блокады бостонской гавани британцы умудрились превратить шумный, веселый, оживленный город в умирающий поселок. Неудачливый бумажный змей, каким представлялась физическая структура Бостона, лежал поверженным на земле. Исчезли кареты с лошадьми одной масти и слугами в ливреях; не стало элегантных джентльменов в заломленных шляпах; заглохли призывы уличных продавцов патентованных лекарств, торговцев рыбой, трубочистов, глашатаев, объявляющих время и новости, колоколов церквей на Олд Саут и Браттл-стрит. Не видно было фермеров с бидонами молока, наполняющих у порога кувшины служанок; исчезли модно одетые женщины, высматривавшие последние импортные товары из Лондона и Парижа; не видно было бродячих сапожников; не слышно скрежета колес и шума подков по булыжным мостовым. Улицы были полупустынны: проходили британские солдаты на смену караула; бостонцы осторожно прижимались к стенам домов, вроде бы ни к чему не приглядываясь, а на самом деле следя за перемещением каждой роты, отряда, отдельного солдата оккупационных сил. Проезжая через площадь Браттл, Абигейл повернулась к отцу: — Отец, я смотрю на Бостон с таким же чувством, как на тело почившего друга. — Твой друг в коме, — заметил преподобный мистер Смит, — но не мертв. — Взгляни, Фанейл-Холл закрыт. Я обычно покупала фрукты и овощи с прилавков на улице, а мясо — внутри рынка. Что же случилось, чтобы вон те красивые дома так обветшали за столь короткое время? Отец Абигейл сурово посмотрел на нее: — Нэбби, ты никогда раньше не видела оккупированного города. Подожди, пока в частных домах разместят солдат. Они оставят кирпичи да строительный лес, и ничего больше. Поцеловав дядюшку Исаака и тетушку Элизабет, Абигейл смыла дорожную грязь и присоединилась к семье в гостиной, где было подано кофе с булочками. Кофе не нравился никому, но все получали удовольствие от осознания того, что не пьют черный чай. После ухода отца, отправившегося посетить Мэри, Абигейл спросила: — Не можем ли мы прогуляться, дядюшка Исаак? Это не опасно, не так ли? — Конечно. Днем, — ответил он, — солдаты не задираются с прохожими, если только не выпьют. Они больше дерутся между собой, чем с нами. Полагаю, не следует отказывать им в таких христианских удовольствиях. На улице, в полдень, несмотря на поздний сентябрь, было тепло. Дядюшка Исаак и Абигейл прошли мимо дома Адамсов на Куин-стрит. Заколоченный дом был закрыт на замок. По улице маршировали безупречным, четким шагом под музыку «Янки дудл» несколько отборных королевских полков, возвращаясь в штаб-квартиру или же к транспорту, перевозившему их к замку Уильям. Дядюшка Исаак оказался экспертом по униформам полков; Абигейл сообразила, что он постиг это ради особых целей. Шляпы с широкими полями и низко посаженным значком короны у большинства солдат были лихо заломлены. Гренадеры носили шляпы с высоким бронзовым украшением или украшением из темного металла. На пехотинцах красовались плотно сидящие на голове кожаные шапки с металлической пластиной спереди. Мундиры были алыми, роты и полки различались по цвету лацканов или оторочке петель. Королевские полки имели голубую отделку, стрелки 5-го Нортумберлендского — нежно-зеленую, пограничники 24-го Южно-Уэльского — густо-зеленую, солдаты 54-го Дорсетширского — ярко-зеленую. Барабанщики и флейтисты шли в накинутых на плечи медвежьих шкурах. На их рукавах нашивки доходили до плеч. Музыканты были любимцами британских полков; даже перед двумя солдатами, маршировавшими куда-либо, включая смену караула, вышагивали флейтисты и барабанщики. Дядюшка Исаак объяснил, что это были старинные, традиционные полки с прекрасными командирами. Затем, повернув круто от Кинг-стрит в сторону таверн, где «Сыны Свободы» проводили собрания, он прокомментировал: — Теперь ты увидишь простого британского солдата. У него нет традиций, им командуют расхлябанные, равнодушные офицеры. Они презирают американцев и утверждают, что покончат со всеми милиционерами в колонии в тот день, когда генерал Гейдж прикажет выступить. Они хотят вернуться домой. Им не хватает английских развлечений и пивнушек. Хотя тори развлекают полковых офицеров, ни один дом не примет этих солдат. Дядюшка Исаак и Абигейл прошли к докам. Там все еще стояла линия британских военных кораблей. Причалы опустели, если не считать нескольких лодок, перевозивших моряков с кораблей и на корабли. Не было видно ни одного крупного американского торгового судна. Американцам было запрещено проводить шаланды к Дорчестеру и пользоваться паромом через реку Чарлз к Чарлзтауну. Было запрещено даже перевозить кирпичи, древесину, скот от пирса к пирсу. Площадки для скручивания канатов, которые она впервые посетила с Джоном, наблюдая, как плетут канаты для больших парусников, опустели. Но некоторое число рабочих находилось в порту и на улицах. — Что они делают? — Ремонтируют улицы и пристань. Выполняют ту работу, какую можно найти. Это ремесленники и работные люди, оставшиеся без занятий. У нас изобилие продовольствия, доставляемого изо всех уголков Новой Англии. Рыбаки Салема и Марблхэда продают часть улова. Полковник Израэль Путнэм пригнал из Коннектикута целое стадо овец. Но наши выборные лица решили, что никто не должен получать провиант из общего фонда, не заслужив его. Они прошли мимо группы рабочих, укладывавших булыжную мостовую. Мужчины уставились на них. — Кого они ненавидят? — спросила она. — Британцев или выборных лиц, заставляющих зарабатывать на жизнь? — Я не могу разобраться в анатомии ненависти. Как ты убедилась, ею пропитан воздух Бостона. — Я чувствую и ощущаю ее. — Она вызывает слезы, чувство тошноты и раздражает легкие. Пойдем лучше домой, пока не стемнело. Солдаты уйдут с постов, и не с пустыми карманами. Абигейл посетила церковную службу в церкви на Браттл-стрит вместе с семьей Смит. За площадью британские конники проводили шумные соревнования. Выйдя из церкви, они услышали на площади перед портом приглушенную дробь барабанов и стук грубых башмаков. Мимо нее, дрожавшей от озноба перед закрытыми дверями Фанейл-Холл, прошли лучшие оркестры и полки Англии, и тут она увидела страшную картину: в повозке находился мужчина, связанный так, что он не мог сесть; все его тело, голова и лицо были обмазаны черным дегтем, к которому прилипли белые перья. Когда он повернулся, Абигейл заметила лишь две дыры на лице — это были его глаза. — За что? — прошептала она. — Узнаем завтра. Мы примем меры для выяснения. Абигейл почувствовала себя плохо. Исаак взял ее под руку, стараясь поддержать. — Они переняли этот «очаровательный» урок от нас. Первого января я видел, как бостонская толпа вымазала дегтем и вываляла в перья сторонника тори Джона Малькольма. Он пытался укрыться на втором этаже, угрожал саблей и пистолетом, а толпа приставила лестницы к его окнам, вытащила из дома, раздела до пояса, обмазала дегтем и выпустила на него пух из двух подушек. После этого его поместили на тележку и возили по всему Бостону: к виселицам на перешейке, потом к Дереву Свободы и на вершину Копп-Хилл. Около тысячи человек участвовали в процессии, и, по правде говоря, ничто не мешало ее участникам хлестать кнутами Малькольма на каждой остановке. Когда он пытался очиститься от дегтя и перьев, с его тела сходила кожа. Помолчав некоторое время, он печально прошептал: — Иногда я слышу голос моего сына: «У нас нет больше выбора». В эту ночь она, страдая от бессонницы, думала: «Исаак-младший сказал: у них нет выбора. Но выбор есть. Каждый должен сделать выбор. Это не значит, что кто-то может быть всегда прав. Это значит, что правда на чьей-то стороне».
10
Первое ноября, когда урожай был уже убран, Абигейл сидела в своей конторке перед раскрытыми бухгалтерскими книгами. Одну пачку бумаг составляли предъявленные ей счета: налоги, которые надлежало уплатить за собственность в Брейнтри, церковные взносы, заработная плата Брекетту, погашение долгов за дом в Бостоне на Куин-стрит и за ферму Питера. Во второй пачке лежали подсчеты, сколько продовольствия потребуется семье до следующего лета: фруктов, овощей, рыбы, мяса, муки, ячменя, сидра. Третий список содержал перечень предметов, которые надлежало купить: сахар, специи, кофе, мадеру. Четвертый список был трудным для принятия решения: какую часть урожая следует продать, чтобы покрыть долги и купить недостающее, а также сколько фургонов продовольствия послать Комиссии Бостона для распределения. Видимо, придется отдать часть мяса и овощей, которые предназначались для семейства. Дядюшка Исаак обеспечил ей справедливые цены за поставленное продовольствие. Она выплатила долги. Наличных денег, чтобы пополнить особый банк Адамсов, не осталось, но 1775 год они встречают без долгов. Возможно, Джону удастся — хотя бы немного — заняться правом и привезти домой немного звонкой монеты на лечение детей, домашние расходы и пошив одежды. Едва она успела завершить расчеты, как приехал Джон, столь же уставший, как его конь, но довольный, что он снова дома. Единственной сложностью в пути, уверил он ее, были бурлящие энтузиазмом комитеты встречи в каждом городе и поселке, жаждавшие организовать триумфальные обеды для делегатов. — Энтузиазм, с которым каждая колония встретила Конгресс, глубоко радует, — сказал Джон Абигейл, распаковывая большую связку документов. — По несколько раз в день я упрашивал отпустить меня к соскучившимся жене и детям. — Мы были в отчаянии! — воскликнула она. Джон растопил камин в кабинете. В холодной комнате потеплело. Они сели рядом на скамью перед очагом, положив руки друг другу на талию. Приятно быть вместе. — Мисс Абигейл, ты располнела, как голубка. А я полагал, что ты худеешь от тоски. — Оставаясь в одиночестве, я торчу на кухне и вечно жую. Не удивительно ли это? Наверное, думал, что усохну до скелета. Джон обнял ее: — Я счастлив, что ты не усохла. Ужин был веселым, дети рассматривали подарки отца и слушали его рассказы о жизни в странном, очаровательном городе Филадельфии. Джон передвинул коляску Томми в другой угол спальни, а затем растопил камин. Он не скупился на дрова, желая разогреть комнату и придать ей уют, который создает живой огонь. Любовная близость была чудесной. — Мы не можем похвастаться реальными результатами, — признался Джон позже, рассказывая ей о Конгрессе. — Но суть дела в том, что со времен афинского собрания, римского сената и средневековых ганзейских городов Германии никогда не было такой согласованной работы пятидесяти шести человек из двенадцати различных колоний, представляющих различные географические районы, религиозные, культурные и экономические самобытности, склонных к компромиссу, признающих поражение, когда большинство против. Такой подход лучше для будущего, чем отдельные резолюции. Джон выпрыгнул из кровати, надел сатиновые тапочки и встал перед камином в ночной рубашке до щиколоток, энергично растирая спину и впитывая согревавшее его тепло. — Нам предложили два зала заседаний: Дом правительства и вновь отстроенный Зал плотников. Примерно пятьдесят депутатов встретились в городской таверне и отправились в Зал плотников. Мы тут же заметили, что его строили настоящие мастера. Внизу находилась просторная комната для заседаний, обшитая красивыми панелями, там же была комната для заседаний комитета, между ними длинный коридор для частных переговоров. Наверху размещалось Библиотечное общество Филадельфии, основанное Бенджамином Франклином, все книги разумно расставлены за железной сеткой. Общее решение было: «Принимаем!» Тем самым мы совершили два мастерских хода: отмежевались от королевского правительства, которое всегда проводило заседания в государственном доме, и дали понять мастерам Америки, что представляем не только богатых плантаторов и торговцев, но и простой народ. Абигейл выпрямилась и села, опершись на подушки, и попросила его описать делегатов. Она отвела волосы за уши, как часто делала, когда ее интересовал рассказ. — Опусти занавески и закрой двери на щеколду, чтобы наши предки не знали, что мы совершаем театральное действо, — усмехнулась она. — Джентльмены из Виргинии представлялись наиболее одухотворенными и последовательными. Трудно найти более отличающуюся от нашей культуру, но по всем спорным вопросам у нас было совершенно единое мнение. Ричард Бланд — образованный человек, можно сказать, книжник. Пейтон Рэндольф — крупный, хорошо выглядит. Патрик Генри оказался нашим лучшим оратором. Он утверждал, что не учился в нормальной школе, но в пятнадцать лет уже читал Вергилия и Ливия.[24] Ричард Генри Ли из виргинской группы — высокий и худощавый человек, хорошо владеющий собой. Я не могу сказать такого же о делегатах Коннектикута. У Роджера Шермана — светлая голова и разумные суждения, но когда он пошевелит рукой, то невозможно примыслить более противоречащего действия. Элифалет Дайер держится в стороне, он какой-то неясный, туманный и скользкий. В отличие от него шестидесятисемилетний губернатор Род-Айленда Гопкинс после дневного заседания занимал нас разговорами до полуночи. Угощая ямайским ромом и содовой водой, он преподнес урок остроумия, юмора, использования анекдотов, науки и прецедентов из греческой, римской и британской истории. Меня больше всего интересовали представители Нью-Йорка. Джон Джей — прилежный исследователь и хороший оратор. Джеймс Даун — быстро схватывающий и хорошо подкованный, сдержанный. У него хитрый, слегка подозрительный взгляд, в какой-то мере нарочитый. Мистер Олсоп — приятный, мягкий человек, но ненадежный с точки зрения обязательств. Другой представитель нью-йоркской группы, Филип Ливингстон, крупный, настойчивый, торопливый. С ним невозможно вести надежные переговоры. Он тут же уходит в сторону. Пенсильванская группа расколота. Джон Дикинсон — просто тень: высокий, тонкий, как тростник, серый, словно пепел. Он очень скромный и искренний человек и в то же время очень приятный, очень сердечный, и дело страны ему близко. Я не могу сказать такого же в отношении его соотечественника Джона Галлоуэя, ибо он поддерживал фракцию Хатчинсона в 1765 году, когда мы пытались добиться отмены закона о гербовом сборе. Томас Миффлин от Пенсильвании — одухотворенный оратор, но Сэмюел Чейз ударяется в крайности. Он говорит запальчиво, перегибая палку… Абигейл казалось, что спальню заполнили делегаты, стоявшие в два-три ряда около ее кровати. Она зримо видела каждое лицо и каждую фигуру, слышала голоса, вслушивалась в содержание споров, в разноголосицу мнений, пытаясь понять, чем же был готов пожертвовать тот или иной представитель колонии ради общего блага. — Джон, я не сомкну глаза всю ночь, настолько я возбуждена рассказом об этих людях. Но, произнеся эти слова, она тут же заснула и крепко проспала до утра. Джон уже успел съесть кашу вместе с детьми. Она застала всю пятерку за работой: они энергично переставляли мебель в конторе. Джон был одет в свою лучшую темную одежду адвоката. Глаза детей сверкали от радостного волнения. — Куда вы все отправляетесь? На вторую сессию Конгресса? — Мы идем в школу, мама! — крикнула Нэб. — Папа — новый учитель, — добавил Джонни. — Мы заключили с ним контракт вроде того, какой был у него в Уорчестере, перед тем как он стал адвокатом. Недовольным был лишь Чарли. — Это не школа. Это право. — Ты имеешь в виду адвокатскую контору, — поправила его сестра. — Это одно и то же. — Чарли прав, — сказала Абигейл. — Я принесу новую карту колонии Массачусетс, которую купила у Генри Нокса. Джон, у тебя в письменном столе лежат репродукции, повесь портреты Юлия Цезаря и Кромвеля. — Поскольку суды закрыты, не может быть и юридической конторы. Посему объявляю властью, данной мне Конгрессом, что эта комната перестает быть адвокатской конторой и становится латинской школой Адамса! Абигейл пошла на кухню за чашкой кофе, оставив двух младших детей за грифельными досками с мелками в руках, напротив них старших с бумагой, чернилами и ручками, тогда как отец стоял за своим письменным столом, готовый начать первый урок в школе, которая умещалась в одной комнате. По выражению его лица она поняла, что он вовсе не развлекает детей. Джон был абсолютно серьезен и составил расписание: чистописание, чтение вслух, арифметика — два часа утром; история, философия, естествознание — два часа между чаем и ужином. Абигейл занялась обычными делами, а когда вернулась, то застала детей за работой: Томми старался с помощью букваря запомнить алфавит, Чарли разглядывал картинку химического аппарата, привезенную Джоном из библиотеки Бенджамина Франклина, Джонни и Нэб писали сочинение на тему о содержании первой главы «Прогресса пилигрима». Абигейл уселась в дальнем конце комнаты и с удовольствием стала вязать, впервые принявшись за эту работу спустя несколько месяцев. Опустив глаза, с улыбкой, застывшей в уголках губ, она прислушивалась к тому, как Чарли и Томми повторяют уроки, и размышляла: выдержка. Вот что нам очень и очень нужно. Вдруг наступила тишина. Она подняла глаза и увидела, что муж и дети наблюдают за ней. Словно по команде они вскочили и закричали: — С днем рождения! Из потайных мест за книжными полками и в письменном столе Джона они извлекли свои подарки и по очереди вручили ей: экземпляр книги Лоренса Стерна[25] «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», шарф, голубой вязаный кошелек, обшитый кружевами носовой платок и от Джона — пакет с пятью томами «Истории Англии» Дэвида Юма,[26] о которой она мечтала. Подарки пропутешествовали всю дорогу в седельной сумке Джона. — Дорогая очаровательница, я привез книги к твоему дню рождения! Подумать только, на скольких торжественных обедах мне пришлось побывать, прежде чем добрался до тебя, когда ты отмечаешь зрелый тридцатилетний возраст! С улицы донеслись звуки подъезжающих экипажей, некоторые из гостей явно встретились в условленном месте: в первом были ее мать и отец вместе с Бетси, в других — Тафтсы из Уэймаута, семейство Смит, Бетси и Сэмюел Адамс, семья Кранч из Бостона, Билли и Катарина Луиза из Линкольна и в последних — семейство Куинси: ее дядюшка Нортон, Джошиа, его жена, Сэмюел Куинси с женой. Пэтти и Сюзи извлекли припасы — выпотрошенные утки — и поставили их на огонь. Когда все уселись — Джон во главе стола, Абигейл на другом конце, ближе к кухне, — Джон сказал: — Пересчитай гостей, Нэбби. Получается по одному родственнику на каждый год твоей жизни. Через несколько дней Джон был избран представителем Брейнтри на Первый провинциальный конгресс в Кембридже. Абигейл поехала с ним в Бостон. Она спросила: — Как ты думаешь, Джон, этот провинциальный Конгресс выберет делегатов на Второй конгресс? — Да, но, видимо, я не попаду в их число, — утешил он ее. — Мы договорились, что на каждой сессии будет присутствовать новая группа депутатов. Таким образом каждая колония заимеет группу людей, обладающих друзьями в других колониях, привыкшими работать над общими проблемами. Если возникнет нужда в центральном правительстве, которое станет управлять тринадцатью колониями, у нас будут опытные деятели и накопятся прецеденты. Потребовалось всего два дня, чтобы увидеть ошибочность предсказаний Джона. Массачусетский провинциальный конгресс восхищался тем, как работали делегаты, и переизбрал их на Второй конгресс на тот случай, если действия короля Георга и парламента сделают необходимой новую встречу. Джон Хэнкок был выбран взамен Джеймса Болдуина, не участвовавшего в заседаниях Конгресса по болезни. Джон сокрушался по поводу вынужденной разлуки с Абигейл. — Я не допущу, чтобы все месяцы до мая были печальными, — твердо ответила она, — по той причине, что тебе, возможно, придется нас вновь покинуть. Я научилась спрессовывать время в блоки вроде тех, что вырубают изо льда зимой на реке. Если бы ты мог возвести для меня дом времени рядом с нашим ледником-хранилищем!.. Они приготовились провести вместе зиму, предвестником которой явились дожди, пришедшие с северо-востока, за ними последовал снегопад, укрывший землю белым пухом. Нужны были четыре-пять месяцев, прежде чем станет известна реакция Британии на петицию Конгресса с жалобами. Через месяц после ее дня рождения Джон принес 12 декабря 1774 года копию «Бостон пост бой». Он буквально позеленел, увидев статью за подписью «Массачусетсы». Написанная без истерии и шельмования, она шаг за шагом крушила позицию патриотов, блестяще развенчивая тезисы, разработанные в течение ряда лет Джеймсом Отисом, Сэмюелом и Джоном Адамсами и их единомышленниками относительно прав и конституционных привилегий колоний. — Это мог написать только Джонатан Сиуолл, — сказал Джон. — Никто другой не обладает ясностью, остроумием и убедительным проникновением, характерными для Джонатана. Он прочитал вслух: — «Когда народ так или иначе попадает в положение, при котором все дорогое ему с человеческой и гражданской точки зрения ставится под угрозу, тогда не только простительно, но и похвально для отдельного лица предложить общественности все, что, по его мнению, способно отвратить надвигающуюся опасность. Печать, открытая для всех партий и не находящаяся под чьим бы то ни было влиянием, является благотворным инструментом в свободном государстве… но когда партия обрела доминирующее влияние, такое, что становится надсмотрщиком над печатью… сама печать превращается в орудие угнетения. Слишком очевидно, чтобы отрицать, но с момента возникновения наших противоречий с Великобританией печать в этом городе слишком предана сторонникам свободы… Столь назойливо звучат обвинения в угнетении, тирании и рабстве, что днем и ночью они постоянно вибрируют в наших ушах; подошло время спросить самих себя, не обманываемся ли мы пустыми звуками. Дорогие соотечественники, избавимся от предубеждений, посмотрим на наше нынешнее бедственное положение и сравним его с нашим прежним счастливым, изучим тщательно причины и поищем заботливо средства, чтобы избежать зла, ощущаемого ныне нами, и предотвратить то, какое мы можем ожидать… Не удивятся ли будущие поколения, когда узнают, что нынешнее смятение возникло из-за налога в три пенса на чай, и не назовут ли они это необъяснимым помешательством, более недостойным, чем записанная в анналах истории Америки борьба с ведьмами? В следующем номере газеты я попытаюсь проследить шаги и вехи продвижения к нынешнему состоянию…» — Джонатан намерен написать целую серию! — воскликнула Абигейл. — Насколько я знаю его, он уже написал серию. По одной статье на каждую неделю до того, как доставят из Лондона решение парламента. Он планирует подготовить народ к тому, чтобы принять поражение как мудрое и конституционное решение. Я собираюсь ответить ему, пункт за пунктом. Пока он будет продолжать публикацию своих очерков, в «Газетт» я буду помещать мои очерки. — Полемическая война, — прошептала Абигейл. — Мне больше всего нравится такая форма — столкновение тяжелой брони идей и философии. Джон покачал головой, изображая деланное отчаяние. — Я все еще слишком многословен, слова затмевают мою главную тему. Но я лучше знаю историю, чем Джонатан, и больше соображаю в вопросах структуры правительства. Вышло шесть номеров газеты со статьями Джонатана, ставшими притчей во языцех Массачусетса, прежде чем Джон сумел закончить свой первый очерк, удовлетворявший его, и поместить в «Газетт» под псевдонимом Нованглус. Он поставил на первое место суть обвинения Джонатана в адрес патриотов: утверждение, что все люди от рождения равны; что короли — слуги народа; что их власть дана им народом. Далее следовал его ответ:«Это — так называемые революционные принципы. Но они — принципы Аристотеля и Платона, Ливия и Цицерона, Сидни,[27] Гаррингтона[28] и Локка. Принципы природы и вечного разума… Достойно удивления, что писатели, называющие себя друзьями правительства, могут в наше время и в нашей стране быть столь непоследовательными в своих рассуждениях, столь неосторожными, столь нескромными, сея сомнения в отношении их… Автор настоящего очерка так же ошибается, утверждая, что народы, разумеется, в конечном счете проиграют. Они едва ли проиграют в случае неуспеха, ведь они смогут жить как рабы, а не оказывая сопротивления, они оставались бы рабами. Таким образом, ничто не пропадет. Если они погибнут, то нельзя сказать, что они проиграли, ибо смерть лучше рабства. Если они преуспеют, то их выигрыш огромен. Они закрепят свои свободы…»Джон стал таким одержимым, словно на его плечах покоилась свобода Америки. Он продолжал выполнять роль школьного учителя, за одним исключением: занятия с детьми он начинал на кухне при свечах, когда они завтракали, съедая кашу и запивая ее горячим молоком. Он выезжал в Бостон только за тем, чтобы купить или взять взаймы нужные ему справочники, подборку памфлетов и газет. Его глаза были воспалены от чтения до глубокой ночи. — Знаешь, Джон, ты берешь верх над Джонатаном. Люди говорят, что ты формулируешь самое убедительное обоснование точки зрения колоний, какое было когда-либо написано. Он поднял глаза от написанных чернилами заметок, глаза, вокруг которых отчетливо обозначились черные круги. — Так должно быть в день, когда будет доставлено решение парламента. Джон уехал, опубликовав три очерка из намеченной серии, когда король Георг обвинил в недоброжелательстве Массачусетс и другие колонии. Прочитав речь в «Массачусетс спай», Абигейл села за стол и дрожащей рукой написала Мэрси Уоррен:
«Жребий брошен. Вчера нам доставили такую тронную речь, которая покроет вечным позором правление Георга III, решившего привести в действие постановления, принятые парламентом, и подтвердить власть законодательного органа над всеми своими доминионами. Ответ палаты общин и палаты лордов показывает, что против нас будут приняты самые злонамеренные и враждебные меры… Мы, несомненно, предпочтем умереть как последние свободные британцы, чем жить как первейшие британские рабы… кажется, только это осталось американцам».Вернувшись из Бостона в этот вечер, Джон попытался успокоить ее. — Нэбби, король Георг еще не видел нашей петиции из Филадельфии. Мы должны дождаться ответа короля и парламента на нашу петицию. Я готовлю еще четыре очерка. Будем выполнять нашу ежедневную работу. Она — единственный способ определить наше будущее. Поблагодарив его за утешительные слова, она пошла на кухню, повесила котелок над огнем, а когда содержимое закипело, налила членам своей семьи крепкий пунш с ромом. Король Георг не удосужился ответить на петицию. Второй континентальный конгресс должен был собраться 10 мая 1775 года. Джон опубликовал свою двенадцатую статью и приготовился к отъезду в Филадельфию.
11
День начался как еще один апрельский после самой теплой зимы, какую помнили в Брейнтри. Дети вели себя беспокойно в ранние школьные часы, передвигая свои стулья поближе к восточному окну и подставляя плечи под теплые солнечные лучи. И вот они уже внизу у пруда. Чарли промочил ноги, бегая по лужам. Нэб пыталась выстроить в одну линию утят, вслед за матерью, плывшей впереди выводка. Джон сажал картофель, по четыре клубня в лунку, а Абигейл, сидя на пороге, сбивала масло, солнце согревало ее волосы, свободно спускавшиеся по плечам. День был по-настоящему весенним, поля зазеленели, фруктовые деревья покрылись облачками цветов, небо было прозрачно-голубым: такая погода помогает человеку углубиться в размышления, а земле родить обильные плоды. Но благодать длилась недолго. Высокие напольные часы в гостиной показывали десять часов, когда Абигейл вышла на крыльцо. Вдруг послышался грохот подков на прибрежной дороге и хриплый голос мужчины: — Сражение! Сражение на Лексингтон-Грин! Войска стреляли по нашим милиционерам! Есть убитые и раненые! Сражение, сражение!.. В просвете между домами Адамсов она увидела скачущего наездника без шляпы, в забрызганной грязью одежде, его лицо было покрыто потом и пылью, конь весь в мыле, с мундштука уздечки стекала пена. Джон побежал ей навстречу и схватил за руку. Абигейл позвала Пэтти и попросила ее спуститься к детям у пруда. Вместе с Джоном она бегом пересекла дворик. Улица наполнялась людьми, бегущими к Дому собраний. Отовсюду так же стремительно собирались соседи: семьи Кэртис, Фиск, Миллер. Из кузен, мастерских, таверн сбегались дубильщики, мукомолы, бондари, канатчики, пригородные фермеры со своими кремневыми ружьями, пороховыми рожками и ранцами, готовые к немедленному выступлению, сплотившиеся за месяц до того в отряды в Брейнтри, как и во всех других поселках Массачусетса, и обязавшиеся встать в строй в течение одной минуты. Курьер вернулся из южного Брейнтри, сопровождаемый целыми семьями, на лошадях сидели по два-три человека. Приближаясь к Дому собраний, Джон и Абигейл заметили, что школа опустела, что лодочники и рыбаки в тяжелых башмаках подходят с городской пристани, спешат милиционеры от таверны Басса и группы домов, стоящих вразнобой вокруг старого дома Джона Хэнкока. Собрались все жители городка в разных одеяниях и полуодетые, в том числе семейство Куинси из Маунт-Уолластона. Перед таверной Брекетта уже выстроились четыре роты готовых выступить по первой команде: рота капитана Сет-Тернера из Южного Брейнтри — под Деревом Свободы, три роты полка полковника Бенджамина Линкольна — на старой прибрежной дороге; собравшиеся у Дома собраний и у таверны Брекетта соединились вместе на дороге. Каждый старался подойти ближе к курьеру. Воцарилась тишина, но обстановка была натянутой, напряженной. Курьер начал рассказ. Толпа внимала каждому слову, подвигаясь ближе к курьеру и сжимаясь, подобно гибким березам под порывами ветра. Накануне, в десять тридцать вечера, по приказу генерала Гейджа отряд гренадеров и легкой пехоты численностью около тысячи человек построился на общинном поле Бостона между питейным кварталом и позорным столбом, затем погрузился на лодки, переплыл реку Чарлз и высадился у фермы Фипса. Оттуда отряд пошел в сторону дороги, ведущей к Менотоми, Лексингтону и Конкорду, намереваясь застать жителей врасплох и захватить внушительный склад оружия у Конкорда в двадцати одной миле от него. «Сыны Свободы» не бездействовали. Доктор Джозеф Уоррен вызвал Уильяма Дауэса и Поля Ревера и от имени комитета безопасности приказал им предупредить жителей, а также Джона Хэнкока и Сэмюела Адамса, которые участвовали в заседаниях комитета безопасности и находились в Лексингтоне у преподобного мистера Кларка. Дауэс выехал до того, как солдаты стали грузиться на лодки; Ревер выждал, а затем вывесил два зажженных фонаря на шпиль церкви на Олд Норт, чтобы предупредить Чарлзтаун, что британцы высаживаются с моря. После этого Ревер переплыл на гребной лодке в Чарлзтаун, где взял скакуна, разбудил капитана Хэлла, командующего готовыми немедленно выступить милиционерами Медфорда, чтобы тот поднял тревогу, и поскакал дальше, поднимая на ноги каждую семью на своем пути, включая деревню Менотоми, и к полуночи добрался до Лексингтона, в то время как британцы лишь наполовину завершили паромную операцию. Ревер отправился прямо в дом преподобного Кларка, чтобы разбудить Сэмюела Адамса и Джона Хэнкока и таким образом спасти их от опасности пленения. Громко и повелительно загудел колокол церкви. Милиционеры Лексингтона, численностью сто пятьдесят человек, готовые немедленно выступить, собрались на общинной земле через полчаса после полуночи в полной экипировке. Они стояли на холодном ветру в строю целый час. Поскольку британцы не появлялись, их распустили по домам, живущие в отдалении были размещены в близлежащих тавернах. Капитан Паркер послал разведчиков, чтобы быть в курсе дела. В четыре тридцать утра четвертому разведчику удалось избежать пленения, и он возвратился в Лексингтон с сообщением, что британские войска всего в полумиле от города. Шестнадцатилетний Уильям Дайемонд забил в барабан, вызывая бойцов. Минитмены[29] высыпали из домов и таверн. Семьдесят семь человек выстроились в две шеренги с заряженными ружьями. Вокруг общинной земли расположились россыпью остальные, также готовые к бою. При первых лучах солнца в пять часов утра в Лексингтон вступили шесть рот британских пехотинцев под командой майора Джона Питкерна, выстроившиеся в боевом порядке у края общинной земли. Майор Питкерн приказал американцам сложить оружие и разойтись. Капитан Паркер крикнул: — Оставаться на месте! Не стрелять, пока не выстрелит другая сторона. Две вооруженные группировки стояли друг против друга на расстоянии сотни ярдов. Видимость была неважной, но достаточной, и капитан Паркер убедился, что противник обладает огромным численным перевесом. Он подал приказ разойтись. Люди пришли в движение, хотя и не торопились расходиться. Затем произошло непоправимое. Кто-то выстрелил. — Кто? — выкрикнул один из жителей Брейнтри. — Мы не знаем, — ответил курьер. — Скорее всего, британский солдат, но говорят, будто это был минитмен за оградой. После этого британцы дали залп. Наши люди не были готовы, половина ушла с позиции. Восемнадцать человек упали. Восемь убиты. Десять других серьезно ранены. Женщины заплакали. Мужчина из задних рядов выкрикнул: — Разве мы не ответили? Разве мы не убили ни одного из этих проклятых красных раков? — Отдельные выстрелы. Не попали ни в кого. Наши ряды нарушились. Мужчины побежали. Поле сражения осталось за британцами. На общинную землю вступил основной контингент под командой подполковника Фрэнсиса Смита под звуки оркестра, красномундирники праздновали свою победу. Горожане подобрали убитых и раненых. Британцы прошли через Лексингтон на дорогу к Конкорду, где находятся наши запасы. Курьер провел тыльной стороной ладони по запекшимся губам и поскакал дальше. Преподобный мистер Уиберд отслужил молебен по погибшим. Офицеры милиции провели совещание. Всем четырем ротам было приказано нести дневную и ночную службу. Нужно было получить дальнейшие сообщения, прежде чем двинуться на Лексингтон. По прибрежной дороге были посланы разведчики к Бостону, Маунт-Уолластону и Уэймауту, чтобы наблюдать с холмов на тот случай, если генерал Гейдж задумает высадку с моря. Совещание закончилось, и собранные по тревоге роты получили кремневые ружья, пороховые рожки, боеприпасы, ранцы. Абигейл и Джон возвращались домой озадаченные. Подобно сокрушающим волнам, на сознание набегали встревоженные мысли. Восемь жителей Массачусетса полегли от британских пуль: было ли это непредвиденной схваткой или же жизнью посреди поля боя? Через несколько дней Джон отправился в Филадельфию. Какое воздействие на Конгресс произведет это убийство? Не появится ли у делегатов больше решимости к сопротивлению, или же они утвердятся в мысли, что британцы непобедимы? В груди Абигейл бушевали чувства: скорбь по убитым и раненым; ненависть и отвращение к обученным солдатам, стрелявшим по сельским жителям; неопределенность будущего; страх, что ее мир охватит пожар; сожаление, что минитмены потерпели поражение; опасения, что могут обвинить Джона Адамса из-за его статей за подписью «Нованглус», призывавших твердо стоять, оказывать сопротивление в условиях, когда они не были подготовлены и не имели снаряжения для самозащиты. И наконец, огорчение, огорчение по поводу всех пострадавших семей. Пришел Питер Адамс с пылающим от унижения лицом. Элихью Адамс был вне себя от злости. Командующие офицеры решили держать своих бойцов в Брейнтри. Если генерал решит покорить Массачусетс одним стремительным наступлением, то его войска вскоре появятся на дороге из Бостона. Брейнтри должен остановить их, блокировать дорогу на Плимут. Курьер привез сообщение, что милиционеры окрестных поселков стекаются в Конкорд и Лексингтон. Но мужчины Брейнтри даже форсированным маршем не смогут прибыть в Конкорд до наступления темноты. Лучше стоять в карауле на месте. — Когдаидет сражение, — кричал горько разочарованный Элихью, — нужно быть там, где оно происходит! Не надо ждать, когда бой придет к вам. Питер был более сдержанным. — Джон, что бы ни делали британцы в Конкорде, они не могут встать там лагерем. Они должны вернуться в Бостон. Если слишком поздно оказать помощь у Конкорда, то почему бы не пойти к Менотоми или Медфорту и не перехватить их? — Выжди время, — посоветовал он. — Мы вскоре узнаем, где больше всего требуются наши люди. Эта дорога крайне важна британцам. Мы должны подождать. «Да, — подумала Абигейл, — но чего? Новых сражений? Чтобы минитмены удерживали позиции и сражались? Это означает также падать под огнем и умирать. Восемь убитых в восьми домах Лексингтона, неужели они думают о принципах свободы и воли? Лучше ли сражаться и умирать или вообще никогда не сражаться? Что она может сказать, если сама не была солдатом, рискующим жизнью?» Приходили друзья, соседи, родственники. Абигейл предлагала им перекусить. Лишь немногие притрагивались к пище. Элихью и Питер принесли из погреба бутыль рома в оплетке. Мужчины наполнили оловянные стаканы. Алкоголь не притупил их эмоции и не развязал языки, не изменил он и выражения их озабоченных и в то же время гневных глаз. Скоро, может быть, через несколько часов, между Лексингтоном и Конкордом будет столько массачусетских милиционеров, сколько британских солдат. Некоторые из родственников и соседей были убиты. Если в них стреляли, то почему им не стрелять в ответ? Если они не станут сражаться, тогда все потеряно. Можно развеять по ветру все очерки, речи, резолюции. Король Георг III, его министры, парламент будут презирать слабого противника. После десяти лет сопротивления Массачусетс сотрут в порошок. В заключительном абзаце своей последней статьи в «Газетт», опубликованной всего два дня назад, Джон заявил:«Массачусетское товарищество приплыло в Америку и привезло с собой свою хартию. Прибыв на место, оно вышло из английского королевства, доминионов, государства, империи, называйте их как хотите, и из-под юрисдикции парламента».Если было правильным, как свидетельствовали сообщения, поступавшие к ним со всех концов колонии залива Массачусетс, что очерки Нованглуса убедили большинство населения в отсутствии у парламента права облагать налогами колонии в Америке и навязывать принудительные постановления, тогда вспыхнет революция, ибо люди верят в свое право оказывать сопротивление. Капитан Паркер, командовавший минитменами в Лексингтоне, был неуверен в отношении своего положения и не желал самочинно начать войну, он приказал не стрелять. Но как долго офицеры будут придерживаться подобных приказов? И как долго будут соблюдать их милиционеры? Новые сообщения поступили в Брейнтри через пять часов. Молодой Сэмюел Прескотт из Конкорда, ухаживавший за девушкой в Лексингтоне, услышал сразу после полуночи шум двигавшихся солдат. На своем коне он выехал вместе с Полем Ревером и Дауэсом и направился домой, чтобы предупредить селян. Ревер и Дауэс были захвачены в пути. Лишь Прескотту удалось прорваться в Конкорд. По дороге туда он отклонился в сторону и разбудил сержанта Сэмюела Хартуэлла. Миссис Хартуэлл перебежала через поле, чтобы предупредить соседей — семью Билли Смита. Билли сел на самого резвого скакуна и отправился в Линкольн, где поднял тревогу и в течение одной минуты, не считая времени на одевание, собрал свою роту. Вновь избранный капитан Смит провел своих людей в Конкорд, находившийся в четырех милях. Его линкольнская рота первой пришла в соседний городок. Когда Прескотт добрался до Конкорда и передал свое сообщение, Амос Мелвин подал сигнал тревоги. В два часа утра три роты минитменов и резервной роты, обязанной подняться по тревоге, образовали фронт у таверны Райта. Несколько часов в дикой спешке из домов Конкорда изымались порох, свинец и кремни, такая же операция была проведена в Доме собраний, в тавернах и на прилегающих к городку фермах. Когда передовые британские соединения достигли Конкорда, бочонки с порохом были спрятаны за сельскими домами, пули мушкетов, кремни и патроны размещены в бочонках, укрытых на чердаках и замаскированных перьями. Основная часть британских войск подошла к центру Конкорда в семь часов, На общинной земле не было ни одного минитмена, чтобы их приветствовать, но более двухсот милиционеров расположились на хребте, возвышавшемся над городом. Британцы отправили отряды легкой пехоты во фланги. Милиционеры отступили к северу, ко второму хребту, Гренадеры приступили к обыску домов. В семь тридцать подполковник Фрэнсис Смит отдал приказ семи ротам легкой пехоты выступить в направлении северного моста, что заставило милиционеров отступить за реку Конкорд. К девяти часам колонисты получили подкрепления из Карлайсла, Челмсфорда, Уэстфорда и Литтлтона, и их численность достигла более четырехсот человек. Когда британцы в Конкорде подожгли городскую ратушу и мастерскую Рейбена Брауна по производству упряжи, колонисты подумали, что Конкорд разрушен, и решили, что наступил момент оказать помощь. Когда они стали спускаться с гребня хребта, британцы вытащили расшатанные доски панели северного моста и сделали три предупредительных выстрела. Милиционеры продолжали идти вперед. Красномундирники выстрелили в милиционеров и ранили двух. Раздался залп передовой британской роты. Два американца были убиты. Майор Баттрик, командовавший милицией, воскликнул: — Стреляйте, ребята, ради бога, стреляйте! Милиционеры выполнили его приказ. Три солдата в красных мундирах упали. Строй британских солдат рассыпался, и они побежали в Конкорд, под прикрытие главного контингента. Чувствуя, что можно взять реванш за Лексингтон, милиционеры стали преследовать британцев, но подполковник Фрэнсис Смит подтянул подкрепление. В десять часов утра английские солдаты сгруппировались на общинной земле Конкорда и остались там. Брат Абигейл Билли вызвался провести своих бойцов из Линкольна через северный мост и разогнать красномундирников, его предложение свидетельствовало о желании каждого мужчины в Массачусетсе сражаться. Через два часа в Брейнтри прибыл новый посыльный с депешей. После этого курьеры и посыльные приезжали через каждые полчаса. Британские роты оставались в Конкорде в течение двух часов, до полудня, чтобы дать отдохнуть солдатам, совершившим ночной переход. Они конфисковали матрасы для переноса раненых в Бостон. Когда роты вышли из Конкорда, милиционеры, находившиеся на вершине хребта, увидев, что британцы направляются к Мериамс-Корнеру, выбрали путь покороче, пройдя через большой луг. Другие группы минитменов и милиционеров были уже у Мериамс-Корнера, прибыв из Биллерики и Ридинга с севера и Восточного Сэдбери с юга. По численности американцы уже превосходили британцев. И вновь казалось, что перестрелка и сражение начались случайно. Британцы перешли небольшой мост у Милл-Брук. Переходя мост, последний гренадер под влиянием озлобления или отчаяния выстрелил. Приняв это за сигнал начала сражения, американская милиция двинулась вперед по обеим сторонам дороги и с тыла и открыла огонь. Два красномундирника были убиты, несколько человек ранены. Через полчаса англичан атаковала у Брукс-Хилла милиция Сэдбери. Под прикрытием этой атаки колонисты пересекли по кратчайшему пути ручей Таннер и спрятались в прилегающих лесах, укрывшись за деревьями и каменными оградами. Когда британцы подошли к лесу, их встретил плотный огонь. Восемь солдат были убиты, значительное число ранено. Погибли и три милиционера, по которым британские солдаты ударили с тыла. В следующие полтора часа, в полдень, британские солдаты были разгромлены. Из Фрамингема и Уоберна прибыли свежие роты милиции, готовые вступить в бой. Британцы устали до изнеможения, боеприпасы были на исходе, число раненых росло, лишая их маневренности. Крушение британских войск произошло у Фиск-Хилла в самом Лексингтоне, где местная милиция ждала почти десять часов, чтобы отомстить за убитых и раненых горожан. Милиционеры атаковали англичан со всех сторон. Большое число британцев погибло. Раненые были брошены на поле боя своими товарищами, бежавшими в беспорядке через Лексингтон и общинную землю. Разгром был бы полным, если бы британские офицеры не приказали солдатам остановиться под угрозой расстрела. В отчаянии солдаты осознали, что им грозит либо смерть, либо пленение презираемой местной милицией. И все же это было самое серьезное поражение британской армии за всю ее длительную историю. Брейнтри ликовал. В дом набились мужчины и женщины: они смеялись и плакали, не отдавая отчета в том, что делают. Для колонии Массачусетс это был великий день: она доказала, что никто не может поставить ее на колени. Затем поступило известие, что эта славная победа вырвана из рук колонистов. Утром в девять часов из Бостона под командой лорда Перси вышла тысяча отдохнувших солдат, в рядах которых находились закаленные в боях ветераны морской пехоты с двумя тяжелыми пушками. Но это было далеко не всё. Лорду Перси было приказано провести свою тысячу через Кембридж и усилить окруженные милицией войска. Из Кембриджа вели шесть разных дорог, и лишь одна-две были хорошо обозначены. Патриотам сообщили, что у британцев нет карт местности. Жители Кембриджа были предупреждены. На поспешно собранном митинге жители согласились закрыться в своих домах и не выходить, пока не уйдут красномундирники. Дорожные знаки были сняты, и в результате дороги представляли собой плохо различимые лесные тропы. Было также условлено, что если лорд Перси случайно захватит какого-нибудь жителя Кембриджа и его спросят, где дорога на Конкорд, он должен указать противоположное направление на переправу Фипса. В полдень лорд Перси и его батальон, посланный вызволить окруженные войска, достигли Кембриджа. Англичане встали по стойке «вольно». В этот момент из колледжа Гарварда вышел молодой человек, прошел на общинную землю и указал лорду Перси правильную дорогу на Лексингтон и Конкорд. Знал ли кто-либо, кем был этот лазутчик? Никто не знал, было лишь известно, что он выглядел слишком пожилым для студента. Его принялись искать. Когда лорд Перси достиг пункта в полумиле к востоку от общинных земель Лексингтона, его солдаты прикрыли отчаявшихся, бегущих красномундирников. Лорд Перси нацелил свои две пушки на американцев, дал своим войскам возможность отдохнуть полчаса, затем начал шестнадцатимильное отступление к Бостону. Но до конца было еще далеко. Американцы преследовали британцев по обеим сторонам дороги, стреляя из-за домов, сараев, деревьев, заборов. Англичане падали убитыми и ранеными. И если их не перебили под перекрестным огнем, то это объяснялось тем, что американские кремневые ружья стреляли точно в цель лишь на расстоянии сотни ярдов. Желая подойти поближе и получше прицелиться в отступающих британцев, милиционеры иногда забывали о солдатах, охранявших колонну, которые, оказавшись в тылу американцев, могли найти нужную им цель. Наиболее кровопролитная схватка разыгралась в Менотоми, где двадцать милиционеров были окружены в доме Джезона Рассела и около него, попав в ловушку между колонной и боковой охраной. Одиннадцать человек были убиты на месте. Через несколько ярдов дальше по дороге яростные залпы американцев по британской роте, вышедшей на открытое место, уложили двадцать красномундирников и ранили еще большее число. Солнце клонилось к закату, когда лорд Перси вывел свои потрепанные, понесшие большие потери войска в Чарлзтаун, где они смогли укрыться под защитой пушек британских кораблей. Но в то же время сюда стянулись американцы даже из таких отдаленных поселков, как Салем на севере и Пепперелл на западе. Их собралось около пяти тысяч. Здесь, в Чарлзтауне, генерал Уильям Хит и доктор Уоррен решили организовать милицию на постоянной основе. Они разместили часовых вдоль дороги вплоть до Чарлзтаунского перешейка. Британцы, находившиеся в сравнительной безопасности на базе Банкерс-Хилл, договорились о перемирии с выборными лицами Чарлзтауна с тем, чтобы их могли вывезти в Бостон на кораблях его величества. К утру американцы все еще находились там, готовя пищу на кострах, спали, завернувшись в одеяла, рядом со своими кремневыми ружьями. Бостон был осажден милицией Массачусетса.
12
До Адамсов информация доходила не скоро. Человек из Уэймаута, посетивший Уотертаун, доставил доверительное сообщение от церковного старосты Джозефа Палмера, зятя Мэри Кранч. Член комитета безопасности от Брейнтри Палмер был в Уотертауне, чтобы принять участие в заседании комитета, когда получил известие о перестрелке на общинных землях Лексингтона. Он направил посыльных на север Массачусетса и на юг через Коннектикут к Нью-Йорку в целях мобилизации милиции. Церковный староста Палмер сообщил, что осведомителем, показавшим войскам лорда Перси дорогу на Лексингтон, был Исаак Смит-младший. Эта новость должна уже стать известной в Бостоне. Молодому священнику могла потребоваться защита. Кто мог взять ее на себя, как не его родственник по браку Джон Адамс? В горле Абигейл стоял комок, и она потеряла способность говорить. Но, взглянув на лицо Джона, успокоилась. Она спросила соседа: — Сложно проехать по бостонскому перешейку? — Могут быть трудности, мэм. Но британское командование парализовано шоком. Часовой у укреплений, похоже, не получил четкого приказа. Там вавилонское столпотворение, приезжают и уезжают сотни людей со скотом, фургонами и телегами, нагруженными мебелью. В любой момент проезд может быть закрыт. Куин-стрит была сумрачной, старые деревья отбрасывали густую тень на плиты красного песчаника. Однако в нижних комнатах трехэтажного дома из белого кирпича горел свет. Их впустил в дом младший сын Уильям с красными от слез глазами. Семья сидела в гостиной, окна которой были закрыты шторами. На поверхности подвешенного к потолку стеклянного шара, отражавшей, как помнила Абигейл, турецкий ковер, китайские стулья, обитые тиковыми панелями стены, сейчас были видны вытянутые огорченные лица дядюшки Исаака и тетушки Элизабет. Все забыли о приветствиях. Хотя семья Смит не посылала за Адамсами, было ясно, что их ожидали. Атмосфера в гостиной, пропитанная слабым запахом китайских благовоний, была натянутой. Исаак-младший, казалось, единственный в комнате не испытывал волнения. Его глаза цвета морской волны оставались ясными и спокойными, а седоватые волосы гладко зачесаны ото лба, придавая лицу аскетическое выражение. Он явно предполагал, что Джон начнет допрос. Но Джон сидел молча, ожидая, что его пригласят подключиться к дискуссии. Начала Абигейл: — Кузен Исаак, вы показали лорду Перси и его войскам правильное направление на Лексингтон, и они пошли туда? — Да, кузина Абигейл. — Могу ли я спросить, почему? — Потому что он меня спросил. — Было ли вам известно, что в Кембридже договорились не раскрывать ему направления движения? И что ответ на вопрос подобного рода надлежало дать ложный, направить лорда Перси к переправе Фипс? — Нет. Абигейл повернулась к родителям: — В таком случае Исаак невиновен в нарушении какого-то соглашения. — Никакой разницы здесь нет, — сурово ответил Исаак. — Я все равно указал бы правильную дорогу, сколько бы инструкций ни давалось бы в Кембридже. Джон впервые мягко вмешался в разговор: — Почему ты поступил таким образом, Исаак? — Когда меня посвящали в священники, я дал обет говорить правду, чего бы это ни стоило. — Чего бы ни стоило другим? — Мне. Вмешалась Абигейл: — Библия учит нас, что бывают моменты, когда молчание высокоморально. — Сокрытие правды, когда вы ее знаете, — это форма лжи. Преподобный Смит воскликнул в горести: — Как я мог вскормить такого невыносимого педанта? Он поднял руки, сплетя пальцы, словно хотел ими воспользоваться как дубиной для удара по голове сына. Джон поспешил поставить юридический вопрос: — Исаак, ты не выходил сознательно навстречу лорду Перси с желанием информировать его? — Нет. — Предположим, ты увидел Перси из окна, когда тот растерянно смотрел на шесть различных дорог; твой моральный долг побуждал тебя выйти из комнаты и броситься на помощь ему? Исаак молчал. — Я хочу сказать, что ты находился на общинных землях в тот момент случайно. Случайность не управляет нашей жизнью. Когда был задан тот вопрос, ты мог бы повернуться и уйти. Отец Исаак воскликнул: — Пятьдесят американцев убиты и еще сорок ранены или пропали без вести, не говоря уже о сотне убитых британцев и двух сотнях раненых или пропавших без вести из-за тебя. Голос его сына звучал спокойно: — Я не убивал этих людей, папа. Если бы милиция не сопротивлялась, то не было бы стрельбы. Я был бы рад вылечить раненых, помочь им поправиться. — Ты сделал для них достаточно! И для других, которые будут убиты и искалечены по той причине, что ты указал дорогу к войне. — Нет, папа. Я пытался отвести от нее. Никто в Массачусетсе не поверит в это. Но я прошу об одном: не думай обо мне как об убийце. Эти схватки готовились десять лет, со времени закона о гербовом сборе, когда ты вел борьбу против него, Джон Адамс. Твоя рука была на спусковом крючке, подобно моей, в Лексингтоне и Конкорде. И пальцы всех патриотов. Я пытался проповедовать мир и был отлучен от своей собственной церкви. Я продолжаю исповедовать мир и должен бежать, чтобы спасти собственную жизнь. — Каждый человек имеет право на защиту, — сказала Абигейл. — Быть может, ты был так увлечен учебой, что не знал о намерении британцев захватить во всех городах запасы пороха? — Я знал, что их войска продвигаются по местности, но не знал, с какой целью. Джон выпрыгнул из своего кресла. — Исаак, думаю, что мы подошли к сути проблемы. Пожалуйста, пойми, что мы здесь, чтобы помочь тебе. — Мне не нужна помощь. — Очевидно, она тебе требуется. Как я понимаю… Исаак-младший прервал: — Именно это я твержу тебе все время: толпа не знает никакой этики, кроме бессмысленной силы. — Не в этом дело, Исаак. Согласен ли ты с тем, чтобы британские войска обходили окрестные города Массачусетса, отбирая запасы пороха? — Да. — Почему? — Когда нет пороха, не может быть и стрельбы. Когда нет войны, не будет и убитых. — Большое число людей погибли вчера из-за того, что ты указал правильный путь лорду Перси. Бледное лицо Исаака-младшего стало мрачным. — Я категорически отвергаю это утверждение. Убийство было начато милицией Лексингтона и британскими солдатами. Оно было продолжено британскими солдатами на мосту Конкорд и милиционерами, преследовавшими британцев и обстрелявшими их. Если вы хотите сделать из этого судебное дело, тогда я могу доказать, что, указав лорду Перси правильную дорогу, я спас сотни жизней. Абигейл подошла к своему кузену. — Ты утверждаешь, что британцы не несут никакой или совсем мало ответственности в последних схватках? — Никакой. Или очень малую. В Лондоне парламент принял закон. Мы в Массачусетсе отказываемся его выполнять. Мы в течение многих месяцев готовим минитменов, вбивая им в головы идею сопротивления. Британские рейды могут иметь одну-единственную цель — захват пороха во избежание физических конфликтов. Я выступал против так называемых патриотов, призывавших к насильственным действиям. Теперь я, очевидно, навлек подобную беду на собственную голову. Он посмотрел на присутствующих пустыми глазами. — Хорошо. Вы выступили в роли обвинителей, судей и присяжных заседателей. Каков ваш приговор? Следует ли повесить меня на виселице бостонского перешейка? — Исаак, мы пытаемся спасти тебя. — От чего точно, кузина Абигейл? От толпы или же от моих моральных правил? — Если ты скажешь Бостону, что одобряешь захват британцами наших запасов и будешь вновь им помогать, тебе не жить в этой стране. — Я не собираюсь жить в ней. Мать Исаака медленно встала и обняла сына. — Мой дорогой, что ты замышляешь? — У меня нет планов, мама. Я просто сяду на следующее судно, отплывающее из Марблхэда в Англию. Отец Исаак воскликнул: — Исаак, неужели ты не видишь, что это означало бы признание вины? Тебя отзовут тори! Исаак повернулся к Абигейл: — Ты сказала мне, что я принесу большое несчастье матери и отцу. Ты права. Но что ты доказала? Что насилие обладает своей внутренней логикой, и ее не в состоянии преодолеть истина, сколь бы великой она ни была. Я люблю отца и мать. Я не хочу причинять им вреда. Но всегда приходится делать выбор. Я знаю, что ты сделала бы все, чтобы помочь мне, если бы представилась малейшая возможность. Но ты должна понимать, что я не могу этого сделать. Исаак повернулся лицом к родителям: — Не страдайте за меня, я вовсе не несчастен. Я найду пути, чтобы проповедовать и обучать в Англии, и устрою там свою жизнь. Когда все неприятное останется позади и заживут старые раны, я, быть может, вернусь. Он церемонно поклонился Джону. — Будь добр, пусти по Бостону слух, что мои родители вовсю давили на меня, чтобы я осознал свою ошибку. В таком случае Бостон, возможно, простит им. Исаак вышел из комнаты. Они сидели молча в гостиной, прислушиваясь к шагам наверху, где Исаак-младший укладывал книги и одежду в дорожные сумки. Затем он тяжелой поступью спустился по лестнице и вышел через заднюю дверь. Через несколько секунд послышался стук подков увозившей его лошади. Абигейл сидела, зажмурив глаза. Потерян первый член их тесной семьи. Будет ли он и последним? Ответ поступил в тот момент, когда она стояла с Джоном у входной двери, не решаясь так быстро покинуть тетушку и дядюшку, хотя и осознавая, что к закату солнца англичане могут перекрыть укрепления на перешейке. Исаак и Элизабет советовали поторопиться. Послышался звук торопливых шагов человека, который шел по Куин-стрит, а затем переступил порог дома. Исаак-старший открыл дверь. В проеме двери стоял посыльный. Абигейл не узнала его, а дядюшка Исаак узнал: — Да, Джереми, в чем дело? Мужчина стоял, нервно теребя шляпу. Он сказал сдавленным голосом: — Сожалею, что доставляю такое известие. Ваш племянник Билли Смит… Убит. У Конкорда. Когда вел свою роту из Линкольна через мост.КНИГА ПЯТАЯ ЖЕНЩИНА В ШАТРЕ
1
Блеклое и словно неуверенное в себе апрельское солнце стояло высоко, когда они прибыли в Линкольн к дому Билли. Возле дома не было ни души. Поднявшись на парадное крыльцо, они услышали стоны раненого. Абигейл воскликнула: — А сказали, что Билли убит! Джон открыл толчком дверь. На них обрушилась волна мучительных страданий. Катарина Луиза вышла навстречу, на ее ситцевом платье были пятна крови. Абигейл поспешила в пристройку, откуда раздавались стоны, заглянула в открытую дверь. На кровати в разорванной красной униформе с нашивками своего полка лежал юный британский гренадер. Служанка Катарины — Анна вошла в комнату, осушила рваную рану на его груди повыше сердца и наложила чистую повязку. Гренадер открыл глаза и процедил сквозь зубы: — …Золотой соверен… под подкладкой мундира. Когда я умру… возьмите его. Катарина бросила с порога: — Вы не умрете. Мы послали за доктором. Мы выходим вас. Абигейл пристально смотрела на свояченицу. На ее лице не было горя по погибшему мужу, а лишь сострадание к молодому парню с белокурыми волосами и ярко-голубыми глазами. Ошеломленная, Абигейл взглянула на Джона, он был в таком же состоянии. Абигейл подошла к свояченице. — Билли? — прошептала она. Лицо Катарины-простушки засияло от гордости. — Он — герой, сестра Абигейл. У раненого заклокотало в горле. Катарина намочила тряпицу в холодной воде и вытерла пот со лба солдата. Абигейл почувствовала, что ее подташнивает. Не так ли умер и Билли? — Анна нашла этого солдата в поле на рассвете. Она и батрак принесли его домой. — Катарина Луиза, а как с Билли? Скажи, пожалуйста. — Он ушел в Бостон со своей ротой и останется в милиции Массачусетса, пока не прогонят красномундирников. — Но мост в Конкорде? Капитан, который повел роту через мост, был убит. Мы узнали это вчера вечером в Бостоне. — Это был капитан Исаак Дэвис из Актона, — мрачно произнесла Катарина. — Вместо Билли он получил приказ и был скошен первым же залпом. От неожиданного облегчения у Абигейл помутилось сознание. Она почувствовала, что Джон, поддерживая ее под мышки, ведет в затемненную гостиную. — С Билли все в порядке, Нэбби. Произошла ошибка. Многие слышали, как Билли приказали отбить мост. Потом началась стрельба. Видимо, так и не поняли, что первую контратаку возглавил капитан Дэвис. Абигейл прослезилась. Джон прижал ее лицо к своему сюртуку из грубой ткани. — А этот несчастный парень здесь. Ему раздробило половину груди, — повторяла она, всхлипывая. — Да поможет нам Бог! Я должна быть благодарна, ведь Билли уцелел, а этот английский парень умирает в агонии на наших глазах. — Дорогая моя, вчера погибли многие, многие тяжело ранены, как этот парень. Многие еще умрут. Война и смерть — синонимы. Катарина подняла голову. — Ради любви к Господу не будем питать ненависть к тем, кто послан сюда убивать нас и кого убиваем мы. Катарина принесла плошки с горячей овсяной кашей. Она предложила по одной плошке Абигейл и Джону, а затем вдруг удивленно спросила: — Почему вы проехали весь путь до Линкольна? Джон сразу же ответил: — Чтобы убедиться, что с Билли все нормально. — Какое внимание с вашей стороны! Но Билли способен сам о себе позаботиться. Он — хороший солдат. Сестрица Абигейл, съешь, пожалуйста, овсянку. Ты, похоже, исхудала. Абигейл не могла проглотить кашу. Из пристройки доносились стоны гренадера, рыдания, вызывая у нее нестерпимую боль. Только сейчас, видя израненного парня вместо якобы погибшего Билли, Абигейл до конца осознала кровавые последствия той долгой борьбы, которую вел Джон и она сама. Вот так пули будут крушить грудные клетки мужчин, многие из них погибнут, множество матерей, сестер, жен, детей потеряют близких и будут убиты горем. И они могут лишь молить: «Милостивый боже, только не мой! Умоляю тебя, только не мой!»Они вернулись в Брейнтри после полудня. Абигейл рано легла спать и проснулась на рассвете. Протянув руку, чтобы коснуться мужа — это всегда придавало ей уверенность, — она обнаружила, что его нет. Она накинула на плечи теплый халат, зачесала волосы и спустилась по крутой лестнице в кабинет Джона. Дверь была открыта. Он писал за своим столом при свете лампы. — Джон, ты всю ночь не спал. Почему бы тебе не отдохнуть утром? Он поцеловал ее в щеку. Его лицо пылало румянцем. — Я поспал несколько часов. И этого мне достаточно. — Тебя что-то взбудоражило. Пойдем на кухню и поделись со мной, пока я приготовлю завтрак. Он подбросил дров в печь, а она принесла из кладовки яйца, поставила на огонь сковороду. Он настроил ножи крошилки специй для своего омлета, затем подержал над огнем тостер с ломтиками хлеба. — Я собираюсь поехать в тот самый лагерь и проследить каждый шаг на пути от Конкорда через Лексингтон к Кембриджу. Соберу свидетельства не только офицеров и солдат, участвовавших в стычке, но и домовладельцев. Никто об этом не думает, а нам потребуются такие факты в будущем, чтобы определить ответственность и научиться выигрывать сражения. Мы должны бороться. Конгресс захочет знать обо всем этом. Ты не станешь возражать, если побудешь в одиночестве пару дней? — Кто-то должен взять на себя бремя историка. Кроме того, у меня просто нет сил. Джон простудился и вернулся через несколько дней с высокой температурой. Абигейл уложила его в постель, напоила по оригинальным рецептам кузена Коттона крепким бульоном и ромом и попросила рассказать о Билли. — Он в отличном состоянии. Даже при таком количестве раненых и убитых население района вдоль дороги Конкорд — Лексингтон более чем когда-либо настроено в пользу независимости. Энтузиазм в защиту нашего дела весьма высок. Доктор Уоррен рассказал мне, что девять тысяч милиционеров закрепились на позициях. Британские войска находятся в Бостоне на положении пленников. Они могут выбраться оттуда только морем. Его глаза стали грустными. — Но наши солдаты спят на земле, без палаток и одеял, питаются только тем, что приносят из соседних деревень. Отхожие места не подготовлены. Вонь стоит ужасная. Изобилие проповедников, но, если не считать кузена Коттона и немногих бостонских врачей, настоящей медицинской помощи нет, нет лекарств, некому ухаживать за больными. Нам нужна добротная медицинская организация, но основа ее еще не заложена. Абигейл принесла Джону завтрак в постель. От природы он был собеседником и хорошим едоком, способным гармонично объединить оба искусства без ущерба для каждого из них. Хотя провинциальный совет Массачусетса назначил двух командующих генералов — Уильяма Хита и Артемаса Уорда, милиционеры предпочитали оставаться в рядах местных рот и подчиняться только своим выборным офицерам. Солдаты приходили и уходили без разрешения, не несли обязательств находиться в строю, не имели возможности как следует помыться. Кому не повезло найти место под крышей, подцепили инфекционные заболевания из-за скученности и были похоронены в неглубоких могилах. Британская армия имела в своем составе прачек, но, после того как два брандера были выдворены с позором из американского лагеря, женщин больше не допускали в ряды военных. Не хватало пороха и других боеприпасов. Офицеры не могли пополнить их, не имея ни денег, ни власти. Отдельные милиционеры, у которых была хоть какая-то наличность, обеспечивали себя и своих друзей. Армия не имела ничего, кроме воли к сопротивлению. Если местные милицейские роты не вольются в массачусетскую армию, а массачусетская армия — в армию Новой Англии, а та — в американскую армию, образованную из войск, выставленных всеми колониями под командованием офицера, назначенного Конгрессом, и если Конгресс не изыщет средства на пушки, порох, продовольствие, одежду, палатки, одеяла, формирующаяся армия может рассыпаться. — И тогда мы проиграем, — сказал мрачно Джон, наливая горячее молоко в свою плошку, чтобы подкрепиться. — Король Георг Третий, его министры и парламент полны решимости покончить с тем, что они называют бунтом. У них есть все: армия, военно-морской флот, центральная власть, организация, миллионы фунтов стерлингов для оплаты своих ставленников. Он умолял разрешить ему встать с кровати. Абигейл накрыла его плечи шерстяным одеялом, наблюдала, как он ходил по комнате. Пот, выступивший на лице, свидетельствовал, что у него жар, а под глазами означились темные круги. Сэмюел Адамс и Джон Хэнкок, видимо, были уже в Уорчестере; Роберт Трит Пейн и Томас Кашинг отправились в Филадельфию. Джону следовало бы немедленно выехать. Она подумала: «Не попросить ли у отца двуколку?» Она понимала, что Джону станет лучше, если он займется неотложными проблемами военной организации. Она угадала это по блеску его глаз. — Абигейл, мы должны создать армию из лучших офицеров и стрелков от каждой колонии. Так хотят жители Массачусетса и виргинцы. Командование должно быть единым. В Новой Англии есть мужчины, закаленные в войнах против французов и индейцев, — Уорд, Томас, Джон Уайткомб, Джозеф Фрай, Израэль Путнэм. Но разумно ли поручить командование представителю Новой Англии? Кто-то иной сможет представлять все колонии. В таком случае все согласятся служить под его началом. — У тебя есть на примете такой человек? — Попытаюсь убедить массачусетских делегатов проголосовать за него. Он — виргинец. Пятнадцать лет участвовал в заседаниях палаты Бургесс. С юных лет солдат и офицер, в двадцать два года подполковник, помощник генерала Бреддока, затем полковник и главнокомандующим вооруженными силами Виргинии. Владея большой плантацией в Маунт-Верноне, он остается скромным и приветливым человеком. На поле боя он прирожденный вожак, от него исходят выдержка, достоинство и внутренняя сила. Если мы сделаем его генералом американской армии, это сплотит колонии. — Предлагался ли кто-либо еще на этот пост? — До стычки у Лексингтона и Конкорда у нас не было нужды в командующем. Теперь же мы должны найти человека, способного превратить милицию в сплоченную армию и подготовить стойких солдат. Мы не имеем права ошибаться. Джордж Вашингтон[30] способен справиться с задачей. Джон перестал ходить по комнате. — Если бы я смог уговорить сына Басса помочь мне, то немедленно выехал бы в Филадельфию. — Я пошлю Джонни позвать его, и он отвезет тебя в Уэймаут. Оттуда ты поедешь в удобной двуколке отца, ее крытый верх защитит тебя от непогоды.
2
Через два дня, 26 апреля 1775 года, в сопровождении молодого Басса Джон уехал в экипаже отца Абигейл с такими большими колесами, что они возвышались над спиной лошади. Абигейл и Джон пришли к согласию, что после событий у Лексингтона и Конкорда отделение колоний от Британии стало неизбежным. И понимание этого вызывало чувство болезненной пустоты. После потери родины, какой была для колонистов Англия, все будет выглядеть по-иному. Абигейл ощущала боль в сердце, понимая, что она уже не англичанка. Свои настроения она излила в письме к Мэрси Уоррен:«Утешает лишь справедливость нашего дела… О Британия, Британия, как померкла твоя слава, когда ты запачкала кровью своих детей свои скрижали».Было бессмысленно оглядываться в прошлое. Они потеряли самую дорогую для них страну на земле, но не оставалось ничего иного, как создать взамен другую, родную им страну. Колония залива Массачусетс была слишком маленькой и слабой, чтобы занять свое место на правах государства среди таких гигантов, как Россия, Франция, Испания и Англия. Тринадцать колоний, имеющих общие корни и интересы, образовав Союз, смогут построить государство, способное оставаться свободным. Каждая колония в состоянии помочь его созданию. Абигейл понимала, насколько это трудно. Джон показал ей свои записи, отражавшие разногласия, расхождения, зависть, споры и ссоры между пятьюдесятью шестью делегатами. Она видела глубоко укоренившееся нежелание отделиться от Британской империи; в присутствии некоторых делегатов нельзя было произнести само слово «независимость», опасаясь, что они покинут Конгресс. И все же по более мелким вопросам делегаты научились свободно дискутировать, уважать различные точки зрения и подчиняться воле большинства. Каждый делегат находил силы подавлять свое недовольство в некоторых важных для него и его колонии вопросах; осознавал, какую степень примирения следует продемонстрировать по отношению к королю и парламенту и какую меру контроля следует передать Конгрессу. И каждый делегат не терял надежду добиться «восстановления законных прав свобод», привезя ее с собой через сотни миль разбитых, неведомых ранее дорог. Джон выехал на Второй конгресс, движимый желанием добиться политического единства тринадцати колоний. События в Лексингтоне и Конкорде способствовали осуществлению такой задачи. Он решил действовать в пользу создания Союза, считая, что большинство колоний должны сговориться между собой, прежде чем приступить к его формированию. Абигейл услышала звук подъехавшего к дому экипажа и открыла дверь. Перед ней стояла кузина Ханна Куинси Линкольн, та самая, которой она писала, сидя на постели в доме священника в Уэймауте, четырнадцать лет назад, когда Мэри позвала снизу: — Нэбби, пришел Ричард. С друзьями. С этим адвокатом из Брейнтри. После смерти мужа, доктора Бела Линкольна, бездетной Ханна вернулась в дом отца — Джошиа Куинси. Хотя она жила по соседству в поселке Хэнгетм, Абигейл редко виделась с ней. Ходили слухи, что доктор Линкольн не ладил с семьей Куинси. Ханна не сочла нужным присутствовать в суде над британскими солдатами, которых обвинял ее старший брат Сэмюел, а младший — Джошиа — защищал. Теперь же ходили слухи, что Ханна помышляет о браке с братом тетушки Абигейл, Элизабет Смит. Если такое случится, то Ханна войдет в семью Абигейл по отцовской и по материнской линии. Ханна прошла в гостиную и села на краешек желтой кушетки, сжав колени своими ладонями. Это была уже не та миловидная девушка, какой ее помнила Абигейл. По лицу Ханны разбегались морщинки, хотя ей не было и сорока лет, и все же правильные черты, присущие семейству Куинси, сохраняли ее привлекательность. — Я пришла по поводу моего брата Сэмюела, — объяснила Ханна. — Сражение при Лексингтоне — Конкорде поставило его перед выбором. С первым судном он отплывает в Англию. — Сожалею, Ханна. Я слышала, что он поссорился из-за этого с женой. — Именно поэтому я осмелилась попросить его встретиться у тебя. Не хочу огорчать отца. Гибель в море моего старшего брата, отсутствие Джошиа-младшего… — Мой дом в твоем распоряжении, Ханна. Абигейл принесла себе и гостье по чашке шоколада. Они сидели молча, смакуя густую сладкую жидкость. Послышались громкие удары во входную дверь. Абигейл впустила в дом Сэмюела Куинси. Он и Ханна смотрели друг на друга. Абигейл спросила: — Не желаете ли побыть наедине? — Нет, останься, — ответил Сэмюел. — Ты член семьи. Ханна не стала рассыпаться в любезностях. — Сэмюел, один из наших братьев погиб на море. — Я не утону. Буду жить долго. — Ты скажешь, что здоров, но тронулся умом и требуется нечто большее, чем помощь врача. — Сестра, ты намекаешь, что желающий вернуться домой не в своем уме? — Кузен Сэмюел, ты разрешил мне остаться, — вмешалась Абигейл. — Могу ли я в таком случае сказать, что твой дом здесь? Мы все родились в радиусе не более десяти миль от этой комнаты. — Родной очаг там, где чувствуешь себя дома, кузина, — мягко ответил Сэмюел, повернувшись к своей сестре. — Список адвокатов, которые уедут из Массачусетса в Англию в предстоящие месяцы, длинный и внушительный. Уезжает учитель Джона Адамса, племянник Джеремии Гридли — Бенджамин Гридли, а также судьи Верховного суда Эндрю Казно и Уильям Браун. Кузина Абигейл, я слышал, как твой муж говорил, что судья Браун никогда не был тори. Два других адвоката, работавшие вместе с Джоном, Роберт Окмюти и Сэмпсон Солтер Блоуерс, не замедлят последовать за ними. И старый друг Джона — Дэниел Леонард. Сэмюел Фитч, которого Джон рекомендовал на место уходившего генерального прокурора Джонатана Сиуолла. Не говоря уже о Тимоти Рагглзе и Уильяме Браттле. Сестра, разве они тронулись умом? Я упомянул лишь половину лучших адвокатов колонии залива Массачусетс. Абигейл была ошеломлена, услышав список имен. Она не верила ушам своим. Ханна положила руки на широкие покатые плечи Сэмюела. — Сэмюел, пусть не говорят в Америке и не пишут в Великобритании, что ты сбежал, бросив жену, любимых детей, своего старика. Сэмюел, ради бога, наберись смелости, пусть возобладает разум, повинуйся зову души. Забудь то, что я сказала под влиянием момента, считай, что это вызвано тревогой сестры за твое благополучие. Ведь твоя страна — это страна молочных рек и кисельных берегов, неравенство в ней наказуемо, и здесь нет религиозных идолов. Неужели ты покинешь ее ради страны, где совершаются безнаказанно злые дела? Можешь ли ты проглотить огонь и при этом не обжечься? Сэмюел обнял свою сестру: — Ханна, давно решено. Я отплыву со следующим приливом. Мои пожитки погружены. Я пришел сюда не для того, чтобы меня отговорили, а попрощаться. Он вышел. Ханна опустилась в кресло. — Я не сумела найти нужные слова. Абигейл накрыла своей ладонью сжатый кулак кузины. — Нет правильных слов, Ханна. Есть лишь слова и доводы, которым мы верим. Все эти годы мне не приходилось слышать о переубежденных на той и другой стороне. Они ошибаются, глубоко заблуждаются, но ничто им этого не докажет, даже наша независимость. В нынешней схватке они в подлинном смысле слова потерянные души. Никому они не нужны: ни Англии, ни Америке. Пусть сжалится Господь над ними.
3
Когда Джон уехал на Первый конгресс, Абигейл была в Брейнтри единственной женщиной, чей муж отбыл на войну, и она думала о нем, как о солдате, окопавшемся в Филадельфии и ведущем ту войну, какую он знает, как вести. Теперь же многие окрестные фермеры примкнули к массачусетской армии, осаждавшей генерала Гейджа и его войска в Бостоне. Жены этих фермеров, находившихся всего в нескольких милях, тосковали о них, как Абигейл о Джоне, уехавшем за триста миль. Между Абигейл и этими женщинами возникло чувство родства. Обычно мужчины в Брейнтри недолюбливали взаимные женские визиты, исключением были встречи после проповеди. Мужчины пили в тавернах, играли в шахматы, охотились, рыбачили, проходили милицейскую подготовку и в день отбора артиллеристов устраивали бега. Жены оставались дома, и их жизнь от рассвета до заката проходила в непрерывных домашних хлопотах. Никто не страдал от безделья. Лишь немногие женщины умели читать, поскольку мужчинам казалось, что образование сбивает с толку простецкий женский рассудок. Теперь же женщины собирались после полудня в различных местах, пили кофе, обменивались новостями о массачусетской и британской армиях. Они делились рецептами и лекарствами для лечения детей. У каждой домашней хозяйки на кухне или в гостиной было разложено на длинном столе одеяло, которое она стегала, а Абигейл в это время читала вслух последние сообщения газет. В своей гостиной Абигейл поставила козлы и около них стулья, чтобы женщины могли с удобством заниматься рукоделием. Она с нетерпением ждала таких встреч, любуясь женщинами в подвязанных лентами белых капорах, с вьющимися волосами, спадавшими на плечи, когда они склонялись над шитьем; их закрытыми платьями с пышными рукавами и длинными, широкими юбками из голубой или серой домотканой шерсти, льняными воротничками и манжетами, кипельно белыми и отглаженными. Сюзанна Бэкстер была на седьмом месяце беременности, Теодора Биллингс — на пятом, Ханна и Мэри из семьи Кларков развлекали подружек забавными слухами. Самой пожилой была Энн Сэвил, ее муж, доктор Элиша Сэвил, снимал дом, где ныне жила Абигейл, до того, как Джон унаследовал и перестроил его под первую адвокатскую контору в Брейнтри. Заходили женщины из семейства Адамс:жены Элихью, Питера, кузина Мегитабль, а также молодые прелестные жены семейства Тейер. Вскоре во встречах пожелали участвовать и другие соседки. Муж Деборы Уайлд был смотрителем оград, Сары Спир — дорожным мастером, Деборы Мэнн — пожарным. При обсуждении вопросов, касавшихся Конгресса, горожанки обращались к Абигейл. Есть ли возможность улучшить их участь? Как женщин и жен, учитывая, что колонии имеют теперь Конгресс? — Можно ли добиться чего-либо для женщин? — спрашивала Абигейл. — Конечно, сейчас самое время. Женщины заговорили все разом, но это не вносило сумятицы. Ведь каждая знала свое положение: на женщин смотрят как на вассалов; их наследство и приданое переходят под контроль мужей; они не имеют права голоса, если не обладают внушительной собственностью; их влияние в церкви ничтожно; они не могут без согласия мужей поехать куда-либо, делать что-либо; не могут принимать решения в отношении собственных детей; законы и суды отдают всю полноту власти мужьям, многие из которых самодуры. Сара Арнольд, муж которой лишился руки при взрыве пушки, скромно спросила: — Цель Конгресса принять законы, не так ли? Женщины смолкли в ожидании ответа. — Да, в определенных областях. Но нынешний Конгресс занят вопросом независимости. И снабжения армии. — Ничего относительно личной жизни? Это выпалила женщина среднего возраста, чей муж был известен в городе как бочар, кровельщик, дубильщик, но в то же время как домашний тиран. — Если мы останемся англичанами, — спокойно ответила Абигейл, — нам придется жить по английским законам. Если же приобретем независимость, будем иметь свои собственные законы. Заговорила Сюзанна Белчер, узколицая женщина с резкими манерами, получившая, как и Абигейл, домашнее образование. — Мы должны заявить мужчинам в Филадельфии, какие законы нужны нам, женщинам. — Я думала об этом, — заверила ее Абигейл. — Когда вернется мой муж, я выступлю вашим адвокатом. Женщины уходили к себе домой во второй половине дня. К наступлению сумерек милиционеры приходили на ужин и на ночлег в одиночку или небольшими группами по дорогам из Плимута, Таунтона, Барнстейбла и Кембриджа, некоторые присоединялись к своим ротам, другие же шли на свои фермы, где работали день, а то и неделю. Они появлялись в доме Адамса, обросшие щетиной, оборванные и грязные, в куртках и в бриджах, затянутых ниже колен, в грубых чулках и в ботинках из коровьей кожи. Их накидки и сюртуки, слишком плотные для теплой погоды, являли всю гамму красок, какую способны дать сумах и дубовая кора. Некоторые были в длинных льняных и шерстяных панталонах, другие в хлопчатобумажных сюртуках. Сабли офицеров были выкованы местными кузнецами, а у солдат — разномастное вооружение: старые французские ружья, захваченные у Луисбурга; испанские ружья, отвоеванные за десять лет до этого в Гаване; тяжелые ружья времен завоевания Канады. Каждый был и собственным оруженосцем и арсеналом, немногие могли вообще выстрелить, не заняв порох и свинцовую пулю у соседа. Все они считали своим долгом представиться Абигейл: — Солдат Эб Нетчер, милиция Бриджуотера, мэм. — Сержант Менк из Даксбери, возвращаюсь. К ночи около дюжины, а то и больше поглощали тушенку из огромного котла, куда она бросала все, что было под рукой: кукурузу, ячмень, картофель, куски говядины, свинины или баранины. Каждый держал своей оловянный котелок, когда неутомимая Пэтти разливала похлебку и раздавала теплый хлеб. Трудолюбивая и компанейская Пэтти помогала Абигейл отыскивать провиант, когда запасы Адамсов опустошались. После ужина солдаты мыли свои миски и ложки под насосом во дворе, складывали их в походные сумки, рассказывали Абигейл о новостях, оставляли на столе Джона записки для тех, кто прибудет позже, затем брали одеяла и кремневые ружья в сарай и отправлялись спать на сене. Для приходивших без снаряжения Абигейл собрала одеяла и матрасы, которые ей удалось реквизировать. Если приходило больше, чем мог вместить сарай, мужчины ложились спать на кухне или же в конторе Джона, подкладывая под головы собственные шляпы. Приходившие из лагеря под Кембриджем иногда просили разрешения постирать рубашки и носки, которые они не снимали неделями. Она давала каждому кусочек мыла из семейных запасов. Серьезную проблему создавали больные из лагерей Роксбери и Кембриджа, страдавшие воспалением горла, сыпью на теле, поносами. Абигейл не умела лечить такие болезни, да и лекарств у нее не было. Каждый вечер перед ужином приходил доктор Томас Фиппс, а Коттон Тафтс рыскал по окрестностям в поисках медикаментов. Абигейл могла лишь обеспечить им компанию, помочь сберечь для тяжелобольных такие деликатесы, как вареное яйцо, стакан молока, кусочек жареной курицы, глоток рома перед сном. Утром они наспех завтракали кукурузной кашей или свежеиспеченным пудингом, надевали ранцы, патронташи, брали ружья и уходили со словами благодарности. — Наилучшие пожелания вашему мужу, мэм. — Передайте ему, чтобы он постарался за нас в Филадельфии. К семи часам утра, когда дом пустел, она проветривала помещения, подметала пол, приводила в порядок кухню, готовясь к послеобеденному наплыву; сколько их будет — десять или пятьдесят, она никогда не знала заранее. Второй дом, за который она платила Питеру, когда ей удавалось скопить деньги, Абигейл отвела жителям Бостона, попавшим в беду, семьям патриотов, получившим разрешение покинуть голодающий город. Генерал Гейдж обещал предоставить им возможность забрать личные пожитки, но, когда они подъезжали к укреплениям на перешейке, солдаты обыскивали повозки и кареты, выбрасывали мебель, отбирали ценные вещи, зачастую оставляя беженцев в чем мать родила. Каждая ферма в Брейнтри принимала столько беженцев, сколько можно было разместить. Некоторые семьи имели троих-четверых детей, и не было возможности предоставить больше одной комнаты прибывшим. Абигейл размещала в гостиной, на чердаке, в сарае. Во время чрезвычайного положения мать Джона и полковник Холл переехали к одному из сыновей Холла, чтобы освободить еще одну комнату. Бетси — сестра Абигейл — приезжала, когда могла, на телеге отца, нагруженной продовольствием для общего котла Абигейл. В те дни Бетси не чувствовала себя счастливой; у нее испортились отношения с семьей из-за слухов о ее связи с беззаботным двадцатишестилетним учителем Джоном Шоу. Абигейл видела несколько раз этого легкомысленного парня со светло-каштановыми волосами и глазами, хорошего учителя и студента; он успешно учился в Гарварде и объявил, что станет священником, но не торопился принять обряд. Жители Уэймаута не были благосклонны к нему, возможно, по той причине, что он сочувствовал кальвинизму.[31] Джону нравилась его откровенность, но прихожане преподобного Смита решили, что он допустил глупость и неосторожность, поспешив с предложением Бетси, не имея надлежащих средств. Бетси горячо защищала его, заявляя: — Не думаю, чтобы кто-либо в семье осмелился утверждать, будто слышал от него достойное порицания. И все же Джону Шоу пришлось убраться из дома Смита. — Бетси, что мне делать с этими бедными беженцами? Они просятся на одну ночь, а задерживаются на неделю. Я вынуждена отказывать обессилевшим людям, говоря, что негде спать. По их лицам я вижу, что они не верят мне. — Повесим объявление «Комнаты на ночь». Ты предоставишь места семьям в первую ночь их выезда из Бостона, когда они отчаянно нуждаются в дружеском отношении. Утром они должны отправиться в более отдаленные деревни. — Видела ли ты их лица, когда им предлагают ехать дальше? Многие из них полагают, что, чем дальше они уедут, тем меньше шансов вернуться к себе домой. Перед отъездом Джон предупреждал ее: — Будь собранной и спокойной. Не расстраивайся из-за безответственных сообщений и ложных тревог. — Потом добавил: — В случае реальной опасности, о которой тебе заранее сообщат, скрывайся с детьми в лесу. Каждый день был по-своему тревожным. Семейство Куинси, жившее на побережье, несколько раз за неделю покидало свои дома, когда наблюдатели милиции замечали приближение британских транспортных судов. В одно из воскресений Абигейл проснулась в шесть часов утра, услышав, что в Уэймауте стреляют сторожевые пушки и звонит колокол церкви ее отца. Она послала в Уэймаут гонца, и вскоре ее родители приехали в Брейнтри, их примеру последовали семьи, жившие рядом с пасторским домом. Оказалось, что из Бостона приплыли три британских шлюпа и катер, бросив якорь у подножия Грейт-Хилла. Пришло сообщение о высадке трехсот красномундирников и их марше на город. Тетушка Абигейл, Люси Тафтс, приказала погрузить на телегу постельные принадлежности, и слуга доставил ее в Бриджуотер. Милиционеры Брейнтри, включая Элихью и Питера, немедленно выступили на оборону Уэймаута. Через несколько часов в этом поселке сосредоточились две тысячи солдат графства Суффолк. Однако британцы намеревались захватить не поселок, а сено на острове Грейп. Милиционеры погрузились на лодки, прогнали британцев и сожгли сено. Элихью ликовал. — Они бежали! Это показывает, что мы можем остановить их в любом месте. Сестра Абигейл, помоги мне получить пост офицера в армии Массачусетса. — Элихью, твоя мать решительно возражает. — По той причине, что она тревожится за Билли. Но ведь Билли не был убит. Абигейл отвернулась, рассматривая через окно поля, на которых созревал урожай. Уже один человек в семье погиб, но на похоронах ему не были отданы солдатские почести. Добрый, приятный, верный Джошиа Куинси-младший провел зиму во влажном студеном Лондоне, завоевывая колониям и их делу друзей. Доктор Коттон Тафтс был прав, обращая внимание на опасные последствия туберкулеза. Джошиа не вынес переезда домой, скончавшись в тот момент, когда показалось побережье Массачусетса. Он выполнил поручение, это подтверждал его дневник, хотя жизненно важная секретная информация исчезла вместе с ним. Во время похорон Джошии до семейного дома донеслись предостерегающие крики часовых на вершине Грейт-Хилла. Британские войска приготовились к высадке. Женщины сочли за лучшее бежать; Абигейл взяла к себе тридцатилетнюю вдову Джошиа-младшего и ее трехлетнего сына. Положение Абигейл Куинси было тяжелым: за несколько дней до этого умерла ее дочь. Однако она не потеряла присутствия духа. — Я выращу своего сына со светлой памятью об отце, — сказала она Абигейл. — Не стану оспаривать волю Господа Бога. С воспоминаний Абигейл переключилась на просьбу стоявшего рядом Элихью Адамса. — Джон в письме ко мне спрашивает, намерен ли ты или Питер занять командный пост в армии. Он пишет, что решение за тобой, но если у тебя есть такое желание, обратись к полковнику Палмеру и доктору Уоррену. Элихью засиял от радости. — Не напишешь ли доктору Уоррену? Он самый влиятельный. — Сделаю, как ты хочешь. Но, Элихью, не перекладывай ответственность на Джона. Твоя мать никогда не простит ему. — Никто ни за кого не отвечает, сестра Абигейл. Мы все вправе делать то, что считаем нужным. Абигейл села за стол и написала доктору Джозефу Уоррену:«Брат Адамса, капитан роты этого города, желает завербоваться в армию, если получит должность; он предпочел бы должность майора».Закончив составление записки, она подумала: «В самом деле, разве мы не несем ответственность за других? Джон знал, что у Джошиа-младшего слабые легкие. Следовало ли отговорить его от поездки, все же считая наиболее подходящим для выполнения деликатной задачи в Лондоне? Должна ли я остановить Элихью по той причине, что мать дрожит за него, а он отчаянно хочет сражаться? Разве я сама не боялась, что моего мужа могут арестовать и судить как предателя? Я никогда не пыталась удержать Джона. Следовало ли мне поступить таким образом?» Она вздохнула: «Много вопросов и ни одного ответа».
4
Следующий выстрел с британской стороны был произведен писателем, щеголявшим в форме английского генерала в силу необходимости. Он прибыл вместе с генералами Генри Клинтоном и Уильямом Хау на корабле «Цербер», посланном Георгом III для усмирения бунтарей. Когда корабль входил в гавань Бостона, Бургойн спросил: — Какова численность регулярных войск в Бостоне? Ему ответили: — Около пяти тысяч. Бургойн воскликнул: — Что! Десять тысяч крестьян держат в осаде пять тысяч королевских солдат? Ну, пошевелимся и выйдем на простор! Бургойн был убежден, что для роспуска милиции в Роксбери и Кембридже достаточно блестяще написанной прокламации: местные жители осознают безумие своего мятежа и попросят прощения. Генерал Гейдж разрешил Бургойну сочинить прокламацию. Во вторник утром Абигейл получила экземпляр прокламации, отпечатанной в Бостоне 12 июня 1775 года. Бургойн описал сражение у Лексингтона и Конкорда как оскорбление подвергшихся нападению королевских войск. Он высмеивал милицию и ее «нелепую демонстрацию военных мероприятий с целью держать армию в осаде». Для того чтобы избежать гибели большого числа милиционеров, британцы милостиво предлагали простить всех, кроме архипредателей Сэмюела Адамса и Джона Хэнкока. Патриоты Брейнтри сочли себя униженными тем, что не упоминался их представитель, Джон Адамс. Прокламация возмутила жителей Новой Англии, выставила осажденных в Бостоне британцев на посмешище и увеличила приток рекрутов в ряды сторонников Массачусетса. И вовремя. Через пару дней до провинциального Конгресса, заседавшего в Уотертауне, дошло известие, что генералы Гейдж, Клинтон, Бургойн и Хау согласовали курс действий. Они поставили целью установить контроль над высотами, с которых просматривается Бостон, и над двумя проходами — Дорчестер-Хейтс и Банкер-Хилл — Чарлзстаун и перешейка, через которые возможно наступление. В таком случае британцы в безопасности и могут быть избавлены от бомбардировки, если даже колонистам удастся обзавестись пушками. Сообщение об этом плане дошло до провинциального Конгресса окольным путем. Британские офицеры были слишком болтливы. Посетивший Бостон житель Нью-Гэмпшира получил сведения о британских намерениях. Не зная в Бостоне ни одного патриота, которому он мог бы довериться, он выехал в Экстер. Там он передал полученные сведения выборным лицам. На следующее утро из Экстера в Уотертаун был послан курьер. Через два дня, 15 июня, собрался комитет безопасности, решивший, что, поскольку британцы предусматривают укрепление Банкер-Хилла 18 июня, милиция даст им бой там. Весь день 16 июня царило ожидание надвигающихся событий. В Брейнтри пришло сообщение, что колледж Гарварда вывозит свою библиотеку. Никто не знал точно, что происходит. Абигейл утешала себя; она знает больше, чем любой британец, настолько совершенными были система американской разведки в рядах британской армии и одновременно меры предосторожности против проникновения в штаб-квартиру Гейджа сведений о намерениях мятежников. В пятницу Абигейл легла спать с тревогой в душе. В ее доме не было солдат на постое. Милиционеры стягивались в лагеря. В четыре часа утра, когда едва забрезжил рассвет, послышался выстрел пушки. Прежде чем раздался второй, она успела выскочить из постели и одеться при свете свечи. При третьем выстреле разбудила Джонни. Он быстро натянул одежду, и они помчались через поле, пробежали по мосту и поднялись на вершину Пенн-Хилла. — Что происходит, мама? — Не знаю, Джонни. Но я уверена — стреляют корабельные пушки. — По каким целям? Ведь они не могут разбомбить наши лагеря у Кембриджа и Роксбери. — Происходит что-то иное. Дождемся рассвета. Долго ждать не пришлось. Вновь загрохотали тяжелые орудия. Абигейл видела, как взрываются снаряды над Бостоном: вначале огненный шар, затем клубок дыма, влекомый ветром. После каждого взрыва воздух потрясали звуки других пушек, стрелявших с регулярными интервалами. Купол неба над Бостоном полыхал огнем. Затем наступила тишина. Взошло солнце. День был светлым, без тумана и облаков, солнце согревало лицо. — Пойдем домой, Джонни. Надо разбудить малышей. — Совсем прекратилось, мама? — Трудно сказать. Мы не знаем, чем вызвана стрельба. Вскоре прискачет к нам гонец. И раньше бывали стычки. Милиция захватила британское судно, шхуну «Диана», во время рейда 27 мая на острова Хог и Ноддл. Шхуна была вооружена четырьмя четырехфунтовыми орудиями и несколькими легкими пушками на турели, она села на мель, и британцы бросили ее. Американцы поднялись на борт шхуны, забрали все, что могли унести, а корпус подожгли. Но никогда ранее Абигейл не слышала столь интенсивной канонады. Готовятся ли британцы к крупному наступлению? Если так, то по дороге к ее дому развернется основное сражение. Переходя поле и направляясь к дому, она увидела группу людей, одни стояли на дороге, другие спешили к Дому собраний и таверне Брекетта. Нужно было принять некоторые меры. Во-первых, послать батрака в дом Элихью в южном Брейнтри, чтобы уведомить того, что если перестрелка станет более интенсивной, то она со своей семьей переедет к нему. Во-вторых, проследить, чтобы Нэб, Чарли и Томми были надлежащим образом одеты, приготовить каждому узелок с бельем на крайний случай. Затем уложить продовольствие в корзинки, а их поместить в тележку, запрячь лошадь и быть готовой к немедленному отъезду. Пробило восемь часов, когда все приготовления закончились. Абигейл собрала около кухонной двери детей, лица которых выражали страх и тревогу. После восьми часов бомбардировка усилилась, непрерывно гремела канонада, словно все восемь британских военных кораблей выстроились у Бостона и палят из сотни девяти- и двенадцатифунтовых пушек, которые едва успевали заряжать артиллеристы. Дом сотрясался от ударов, дрожали окна, сковородки соскакивали с крючков у очага. Дельфтское блюдо, стоявшее на буфете, упало и вдребезги разбилось на твердом полу. Дети вбежали в дом с полными страха глазами. Ее зять Питер ворвался в кухню, держа в руках ружье и патронташ. — Мы направляемся к укреплениям Роксбери, сестра, вся рота. Если красномундирники пройдут по перешейку, мы ударим по ним там. Мы пришлем лазутчиков, как только появится, что сказать. — Буду ждать сообщений, Питер. — У тебя достаточно времени, чтобы увезти детей. Все пять рот Брейнтри залягут на нашей дороге. Выведи лошадь с телегой из сарая и поставь под большим деревом. Тогда по звону колокола ты сможешь сорваться с места. Я отправил Мэри и детишек к Элихью. Ждите там до тех пор, пока Элихью или я не придем за вами. — Договорились. Желаю удачи! Он подбежал к каменному забору, построенному Джоном, перепрыгнул его и исчез. Собранная по тревоге рота, состоявшая из стариков и мальчишек, растянулась между таверной Брекетта и Домом собраний. Абигейл отвела детей в кабинет Джона, приказала им занять свои обычные места вокруг стола. Грохот пушек оглушал. Она с трудом заставила себя почитать детям из книги «Сбивающая с толку шляпка». — Не тревожься, ма, — сказал успокаивающе Джонни. — Мы посидим тихо, в ожидании отъезда. Абигейл сидела, склонив голову и зажав руки между коленями. Солнце стояло в зените, и воздух становился все теплее, когда послышались крики, и она распахнула дверь кабинета Джона. Первый из гонцов остановился около Дома собраний. Колокол не звонил, это означало, что красномундирникам не удалось форсировать перешеек. Абигейл могла спокойно воспользоваться дорогой. Местные женщины, которых она посещала, с которыми шила, те, что помогали кормить и укрывать солдат два последних месяца, собрались около Дома собраний. На его крыльце стояли двое старейших выборных, и курьер возбужденно разговаривал с ее дядюшкой Нортоном Куинси. Члены роты, поднявшиеся по тревоге, образовали внешнее кольцо толпы, все смотрели на стоявших на крыльце. — Это не то, что мы думали! — выкрикнул Нортон Куинси. — Британцы не атакуют наших у Роксбери и Кембриджа. — Тогда что же происходит? — Это наши. Мы навязали бой британцам. Наши из Кембриджа, три полка, восемьсот человек. При движении к Чарлзтауну к нашим присоединились еще двести человек из Коннектикута. С наступлением ночи они подошли к перешейку Чарлзтауна и вышли на дорогу к Банкер-Хиллу. Там построили укрепления. Огнем пушек британцы попытались разбить наши окопы. Но ни один снаряд не попал в наших. Мы удерживаем высоты. Возвращайтесь по домам все, кроме милиции. Мы будем сообщать новости по мере их поступления. Лишь в час тридцать после полудня полностью экипированные британские солдаты с ружьями, штыками, стофунтовыми ранцами и скатанными одеялами за спиной отплыли от Северной батареи и высадились на полуострове Чарлзтауна. Небольшие лодки могли принять всего по нескольку человек одновременно, и лишь к трем часам пополудни Чарлзтауна достигли более полутора тысяч красномундирников, готовых к первой атаке. Во второй половине дня пришло тревожное известие: массачусетская армия, выделившая три с половиной тысячи мужчин на строительство укреплений и их оборону, допустила ночью фатальную ошибку. Вместо того чтобы выкопать траншеи и воздвигнуть укрепления на Банкер-Хилле, милиционеры окопались на Бридс-Хилле, в нижней части склона. Если бы они укрепили Банкер-Хилл, а британская атака оказалась бы слишком мощной, массачусетская армия имела возможность отступить по перешейку Чарлзтауна в безопасное место. Но Бридс-Хилл оказался ловушкой. Британцы могли высадить свои войска у подножия холма и, окружив массачусетскую армию, начать наступление на нее со всех сторон. У окруженной милиции не было путей отхода. Все население Бостона, как тори, так и патриоты, взобралось на крыши домов и окрестные холмы, наблюдая за битвой. Говорили, что тори ликовали, как необученная крестьянская армия Массачусетса допустила тактическую ошибку. К ночи осада Бостона будет снята.— Ма, хотела бы ты быть в нашем доме в Бостоне, — спросил Джонни, — чтобы наблюдать? — Не знаю, Джонни. Пойдем на Пенн-Хилл. Может быть, увидим что-то. Поднявшись на вершину холма, они принялись всматриваться в невысокие поросшие лесом возвышенности к северу, в сероватые воды залива. Большие столбы черного дыма вздымались высоко к небу. У Абигейл перехватило дыхание. — Они подожгли Чарлзтаун. Британские военные корабли, бросившие якорь у побережья, продолжали выпускать снаряд за снарядом. Абигейл и ее старший сын стояли, держась за руки, прижавшись друг к другу, когда в небо взметнулось красное пламя. Чарлзтаун будет превращен в пепел: отчий дом, имущество родителей, их сараи и сады, церковь и Дом собраний. Впервые в жизни Абигейл Смит Адамс кляла судьбу за то, что родилась не мужчиной. Тогда она могла бы находиться на Бридс-Хилл с ружьем в руках, готовая сражаться, когда по склону начнут подниматься шеренги красномундирников. Она слышала быструю стрельбу: острые, короткие залпы, звучавшие с предельной ясностью в светлый летний день. Она не знала, чьи это залпы, в кого стреляют, поскольку Бридс-Хилл был прикрыт другой грядой холмов. Но по ружейному огню она догадывалась, что развернулось крупное сражение. Стрельба оборвалась столь же резко, как началась. Наступила гнетущая тишина. Абигейл видела, как ветер гнал по небу белесый пороховой дым. Она положила руку на плечо сына. Тишина могла означать, что британцы окружили и захватили Бридс-Хилл, а продолжение стрельбы — что еще не все потеряно. Она все еще стояла, напряженно прислушиваясь. Наконец стрельба возобновилась, и, вероятно, через час после первого залпа достигла крещендо; потом снова наступила тишина; за ней последовала менее интенсивная, но длившаяся дольше. С наступлением сумерек воцарилась полная тишина. Абигейл двинулась по проторенной дорожке, Джонни провел ее по принадлежавшим им полям к кухне. Вновь придется сидеть у очага и ждать. Только к полуночи до Брейнтри дошла исчерпывающая история, доставленная Питером, Элихью и грязным, голодным курьером. Британцы не сумели окружить американцев. С рассветом полковник Уильям Прескотт заметил ошибку милиции на Бридс-Хилле и понял, что ее позиции могут быть обойдены. Он убедил милиционеров построить укрытия прямо у воды. Там были поставлены преграды из жердей и каменные стены. Британцы атаковали левый фланг американцев, надеясь преодолеть редут, но из укрытий был открыт такой шквал огня, что после двух безуспешных вылазок британцы отказались от своих намерений. Шеренга красномундирников с перекрещенными на груди белыми ремнями, с тяжелыми ранцами за спиной предприняла лобовое наступление на Бридс-Хилл. Американцы, укрывшиеся за земляным валом и кучами хвороста, соблюдали приказ не стрелять, пока не станут видны «белки глаз». И когда британцы подошли на такую дистанцию, американцы открыли огонь. Их залп скосил шеренгу британских солдат, упавших либо мертвыми, либо тяжело раненными. Большинство британских офицеров погибли при первых выстрелах. Уцелевшие побежали вниз по склону. Там они получили подкрепления из свежих рот и снова бросились во фронтальную атаку на Бридс-Хилл под огонь американцев. Только при третьей попытке к концу дня, когда им разрешили сбросить ранцы, а у американцев иссяк порох, британские солдаты смогли подойти вплотную к укрытиям и завязать рукопашный бой, выбить американцев с Бридс-Хилла. — В таком случае британцы победили? — вскрикнула Абигейл. — В их руках форт и холм, — мрачно ответил Питер. — Но какой ценой! — возразил Элихью. — Боже мой, мы были близки к тому, чтобы уничтожить всю их армию. Британцы утверждали, будто мы не станем сражаться. Мы вогнали их в землю. В могилы. Им потребуется несколько дней для захоронения погибших. Должно быть, около тысячи лучших британских солдат убито и ранено; практически все их офицеры сейчас в Бостоне, врачи ампутируют им руки, ноги. — Как много пострадало наших? — Голос Абигейл звучал глухо, встревоженно. Воцарилось молчание. Ответить осмелился курьер: — Мы не считали. Убито, ранено, взято в плен, может быть, двести, может быть, триста. Мы привезли наших раненых с холма в хорошем состоянии. Нам не нужны потери. Мы одолели британцев, отгоняя их вновь и вновь. Сурово, не глядя ни на кого, он продолжил: — Были ошибки. Притом серьезные. Наши солдаты на вершине Банкер-Хилла следили за сражением, но не пришли на помощь. Предполагалось, что из Кембриджа подойдут свежие роты. Они могли бы подойти вовремя из Роксбери. Но приказы не выполнялись. Никто не знал, кто же командует. Некоторые из наших милиционеров отказывались пересечь перешеек Чарлзтауна, оправдывая свое бездействие пальбой военных кораблей. Те же, кто действительно сражался, бодрствовали всю ночь, весь день ждали, когда подбросят пищу и воду, обеспечат боеприпасами. Если бы подошли несколько рот, хватило бы боеприпасов, мы удержались бы на Бридс-Хилле.
5
В три часа пополудни на следующий день, в воскресенье, по-прежнему грохотали пушки. Абигейл и дети провели беспокойную ночь. Ожидалась новая атака британцев. С рассветом милиция промаршировала со сторожевого поста в Роксбери к Проспект-Хиллу, готовясь к крупному сражению. Дети не могли подавить страх. Абигейл задала им работу по дому: Нэб пекла в формочке имбирный пирог, мальчики разбирали и чистили яблоки, Джонни выстругивал деревянный совок для зерна. Абигейл поднялась наверх и написала письмо Джону.«Мой дорогой друг. Наступил день, возможно решающий, от которого зависит судьба Америки. Не могу не излить свою сердечную боль. Только что узнала, что, отважно сражаясь за свою страну, из этого мира ушел наш дорогой друг доктор Джозеф Уоррен. Он говорил, что лучше умереть с честью на поле боя, чем позорно болтаться на виселице… Гонку выигрывает не быстрый, сражение — не сильный, ибо волей своей Бог Израиля одаряет силой и мощью верный ему народ… Полагают, что сегодня ночью британцы пройдут по перешейку и произойдет ужасное сражение… Да обретем мы поддержку, чтобы перенести страшный конфликт. Я буду здесь до тех пор, пока друзья не сочтут, что возникнет опасность, и, к тому же, я договорилась о переезде к твоему брату, великодушно предложившему мне часть своего дома».В ту ночь британцы не пошли по перешейку; они были заняты похоронами своих убитых, переформированием поредевших полков. Элихью получил должность капитана и уехал в армейский лагерь в Кембридж. Питер остался на месте в качестве офицера роты милиционеров Брейнтри, готовых дать бой, если британцы атакуют по дороге Бостон — Плимут. У массачусетской армии не хватало боеприпасов, но и моральное состояние британских войск было подорвано. Американцы показали, что они не трусы, не крестьянские увальни, а противник, достойный уважения. Передавали, что генерал Клинтон сказал о захвате британцами Бридс-Хилла: «Победа досталась слишком дорого, еще одна такая уничтожила бы нас». После сражения Абигейл приняла неожиданного посетителя — кузину Эстер, жену Джонатана Сиуолла, одну из самых миловидных девиц семейства Куинси, со светло-голубыми глазами и золотистыми волосами. Ее лицо выдавало тревогу. Абигейл провела кузину наверх, поставила в свою комнатушку стул из спальни Джона. Эстер осмотрела комнату, затем встала и заглянула в спальню. — Абигейл, Джонатан собирается бежать. В Галифакс. Или в Лондон. Я же не хочу уезжать б Англию. Хочу остаться здесь. С семьей и друзьями. Но я не представляю, кто прав, кто виноват! Знаю, ты понимаешь ситуацию потому, что читаешь газеты и журналы. Ты обсуждала со своим мужем эти вопросы и способна иметь свое суждение. — Как и ты. Эстер разрыдалась. Впервые Абигейл увидела, что ее кузина потеряла выдержку. — Последний раз я читала сообщения в печати до знакомства с Джонатаном. Когда он начал ухаживать за мной, я перестала думать о серьезных вещах, их затмевало счастье в любви. А потом, когда мы поженились, пришлось создавать домашний очаг, воспитывать детей… — Эстер смолкла, на ее лице Абигейл увидела выражение страха. — Верно, нужно что-то делать, пусть даже ужасное, но если понимаешь, что делаешь. Абигейл, ведомо ли тебе, как страшно не знать, почему происходит такое, кто виноват, что ждет нас в будущем? Я напугана… Абигейл взяла Эстер за руку. — Мы все встревожены, — сочувственно сказала она. — Ведь было чудесное время. Теперь все погибнет. — Не обязательно, Эстер. — Я не могу отпустить мужа, вся моя жизнь в нем и в детях. Жена кузена Сэмюела — сильная женщина. Она считает, что Сэмюел сглупил, покинув друзей и родственников-патриотов. Но иначе обстоит дело с Джонатаном. Ему сопутствовал успех, он обладал властью, у него было высокое положение, деньги. Разве можно сказать ему, что он ошибался? Уезжая в чужой для меня мир, должна ли я понимать, права или нет в своих поступках? — Тебе было бы легче, кузина Эстер. Но если ты за истекшие десять трудных лет, когда возникали кризисы из-за закона о гербовом сборе, о сахаре, о бостонском порте и о принудительных мерах, не пришла к выводам для себя, тогда я не в силах тебе помочь. — В таком случае мне следует уехать? — Очевидно, кузина, очевидно. Абигейл сидела, вспоминая визиты в ее дом Джонатана, предостерегавшего о последствиях позиции Джона. Он проявил себя как истинный пророк: ход событий отделил родичей от родных, друзей — от близких. Повсюду опасность. Однако сбегает Джонатан Сиуолл, а не Джон. Джонатану будет труднее. Сообщения, приходившие из Бостона в Брейнтри, были грустными. Британцы заняли все дома, покинутые беженцами-патриотами. В городе не было топлива. Исчезали запасы муки, соли, сахара, яиц, цыплят, молока. Свежую пищу выдавали только раненым. Девятнадцать американцев, заточенных в тюрьму, скончались от ран. Даже тори, радостно наблюдавшие с крыш красочный спектакль триумфального наступления красномундирников на Бридс-Хилл, теряли надежду. Брат Абигейл Билли, ставший капитаном массачусетской армии, находился в лагере около Кембриджа. Ее посетил отец. Преподобный Смит потерял все в Чарлзтауне, но это вызвало у него чувство не столько потери, сколько справедливого возмущения. — Я охотно делюсь тем, что имею, — жаловался он, взгромоздившись на небольшую кушетку, обтянутую желтой тканью. — Это капля воды. Но что остается делать американцу, как не сражаться, когда он видит случившееся с Чарлзтауном? Сопротивление горстки милиционеров, прикрывавших наш правый фланг, никак не оправдывает действие британцев, спаливших поселок. Пришло приятное известие, что Конгресс в Филадельфии договорился о едином командовании. Кампания Джона об утверждении виргинца Джорджа Вашингтона командующим армией оказалась успешной, хотя и потребовала ловких маневров, чтобы разубедить делегацию Массачусетса, желавшую видеть на этом посту представителя Новой Англии. В день прибытия Вашингтона в Кембридж, чтобы принять командование массачусетской армией, Абигейл получила письмо от Джона. Пятого июля, обещавшего с рассвета знойный день, к ней заехал на чашку кофе Коттон Тафтс, направлявшийся в лагерь Роксбери, где он нес повседневную медицинскую службу. — Кузен Коттон, можно поехать с тобой? — спросила она. — Я там никогда не была. — Буду рад. Они застали лагерь в почти полном хаосе. Солдаты из полков Массачусетса и Коннектикута были плохо одеты из-за потери части обмундирования на Бридс-Хилле. Бросались в глаза поспешные попытки построить укрепления: бостонскую дорогу преграждал частокол, а по обе стороны вблизи таверны Джорджа вырыты траншеи, вторая полоса находилась недалеко от кладбища по дороге на Дорчестер. Единственным солидным укреплением выглядел форт на холме около Дома собраний. Вооружение солдат казалось недостаточным, организация питания, ночлега, медицинского обслуживания плохо налаженной, но отхожие места были выкопаны, и многие офицеры проводили строевую и боевую подготовку своих рот. Стоя вплотную к оборонительной полосе в виде засеки — стволы и сучья поваленных деревьев были направлены в сторону вероятной атаки британской легкой кавалерии, — Абигейл увидела мужчину, скакавшего во главе небольшой группы. Она опознала его по описанию Джона, выдержанному в благоприятном тоне. Разглядывая приветствовавшего главнокомандующего, Абигейл отметила, что он держался с прирожденным достоинством. В синем мундире с блекло-желтыми отворотами и внушительными эполетами, в жилете и бриджах такого же желтого цвета, с саблей на поясе, в черных сапогах, доходивших до колен, он представлялся величественным и в то же время скромным. Когда генерал Вашингтон соскочил с коня, Абигейл заметила, что он на голову выше окружающих, широк в плечах, груди и бедрах по сравнению со стоящими около него. Его мощное тело увенчивала казавшаяся небольшой голова, но в то же время лицо выглядело широким, со смело вылепленным лбом, густыми прямыми бровями над широко расставленными, проницательными глазами; его крупный сухой нос был более римским по рисунку, чем у ее собственного отца, широкие плоские щеки спускались к упрямому, почти квадратному подбородку. Когда Вашингтон проходил вдоль жалких укреплений, Абигейл поймала себя на том, что она сравнивает его с Джоном. Насколько они различны! Вашингтон — человек действия, с юных лет стоявший во главе войск, боровшихся с врагом. Она первая готова признать, что Джон Адамс лишен грации и уверенности, присущих Вашингтону. Джон невысок, коренаст, подвержен мгновенному изменению настроений и замыслов. Но если Джон не способен вести за собой армии, то Джордж Вашингтон не в состоянии разработать политические концепции и исторические по значению идеи, покорившие мышление Новой Англии. Абигейл заметила давнишнего друга-книготорговца толстяка Генри Нокса. Оставаясь гражданским лицом, доброволец Нокс старался использовать все извлеченные им из книг знания о роли артиллерии в боевых действиях. Увидев Абигейл, он поспешил представить ее главнокомандующему: — Генерал Вашингтон, имею честь представить вам миссис Джон Адамс, жену делегата Конгресса от Массачусетса. Вашингтон снял шляпу и поклонился. Ему не нужно было пояснять, кто такой Адамс. Ведь генерал находился в зале Конгресса, когда депутат Адамс предложил его кандидатуру на пост главнокомандующего. Теплая улыбка на мгновение озарила его лицо. — Мое почтение, миссис Адамс. Вы получили письмо вашего мужа? Я привез его. — Получила, генерал, благодарю вас. Как чувствует себя мистер Адамс в Филадельфии? — Он один из самых деятельных делегатов, и у него отличное настроение. — В таком случае он чувствует себя действительно хорошо. Благодарю вас за вселяющие бодрость слова. Уверена, генерал, все рады вашему назначению и хотели бы пожать вашу руку. — Я убедился в этом за три дня пребывания в Кембридже. Но следовало бы превратить добрые пожелания в порох, ружья… — Наморщив лоб, он посмотрел на импровизированные укрепления на перешейке, — в инженеров, артиллерию. He стану обременять вас такими проблемами, миссис Адамс, ими занимается ваш муж в Филадельфии. Когда станете писать ему, прошу, передайте ему выражение моего высокого уважения. В ответ на смелую реорганизацию генералом Вашингтоном двух лагерей в Роксбери и Кембридже британцы объявили военное положение в Бостоне. Из города были изгнаны все патриоты. В поисках укрытия для себя и своих пожитков по дорогам потянулись толпы беженцев. Семья Исаака Смита сняла дом в Салеме, Бетси Адамс переехала в коттедж в Делхэме. Брейнтри был забит до отказа, даже чердаки использовались под жилье. Соседи Абигейл — семейство Визи приютило три полных многодетных семьи; семейства Бассис, Эттер и Сэвил укрыли у себя по две семьи. В своих двух домах Абигейл смогла дать кров шести семьям, включая семью Кранч. Ричард вновь лишился своего бизнеса в Бостоне. Отдаленные родственники Адамсов — семья Джорджа Тротта — нашли приют у жены Питера Мэри, но когда у той начались родовые схватки, Абигейл пришлось приютить и эту семью. Абигейл переместила стол Джона на кухню, секретер перенесла в гостиную, а книги и документы в свою спальню, и семья Тротт получила возможность спать в бывшем кабинете Джона. Семье Кранч удалось арендовать небольшой дом около церкви. Абигейл и Мэри поставили на кухнях ткацкие станки, наподобие тех, на каких мать обучала их ткать в Уэймауте. Пришлось забросить шитье лоскутных стеганых одеял. К зиме армии требовалось тринадцать тысяч шерстяных шинелей, и их могли изготовить лишь домохозяйки. Двадцать овец фермы Адамсов были острижены, шерсть расчесана, изготовлена пряжа, соткана ткань, выкроены и сшиты шинели, теплые, просторные. По примеру соседей на внутренней стороне шинелей помечалось: Абигейл Адамс, Брейнтри; Мэри Кранч… Изготовленные на дому шинели предназначались в дар тем, кто согласился служить восемь месяцев, и поэтому женщины понимали: каждая шинель означает приход в армию еще одного солдата. Будущее Джона озадачивало Абигейл. Некто Коллинз сообщил ей, что он не приедет до весны. — Не раньше весны? Еще целых восемь месяцев! На следующей неделе она получила от Джона записку: он приедет самое позднее через месяц. У нее голова пошла кругом: уж лучше вообще не думать о Джоне, а отдать свои силы обеспечению питанием и кровом полдюжины семей. В начале августа курьер привез сообщение, что в лагере в Кембридже Элихью Адамс заболел дизентерией. За ним ухаживала миссис Холл, однако через неделю он скончался. Элихью командовал ротой милиции и, несомненно, обладал задатками хорошего офицера и вот умер без единого выстрела. Абигейл и Питер приготовили фургон для перевозки тела, но затем пришло известие, что Джон в Уотертауне докладывает Массачусетскому законодательному собранию о работе Конгресса. Он съездит в лагерь и доставит останки Элихью в Брейнтри. Это была печальная встреча. Элихью был похоронен на новом кладбище в южном Брейнтри. Подавленный Джон сидел, понурив голову, скрестив на груди руки. Он произнес, не поднимая головы: — Почему уходят первыми те, у кого сердце полно радости? — Абигейл не нашла ответа, и он хрипло продолжил: — Он был простым и добрым по натуре, как дитя. От жизни добивался одного — получить пост в милиции. Я не мог отказать ему в помощи. Разве я мог сказать: «Мы все должны сражаться, но только не мой брат». Абигейл видела, как по щеке Джона пробежала слеза, на мгновение задержалась на морщине у уголка рта, а потом соскользнула на грудь. Она не видела его плачущим, даже когда умерла крошка Сюзанна. Абигейл отвернулась и промолчала, дав ему возможность выплакать свое горе.
6
Мать Джона забрала Сенкфул и ее троих детей в свой дом, и это позволило Джону восстановить прежний порядок в своем кабинете. Сроки его поджимали, и он мало спал. Абигейл делала все возможное, чтобы дети не досаждали ему и не будили не вовремя. — Па, — спрашивал Чарли, раскатисто грассируя, — ты приехал насовсем? — Увы! Лишь на время перерыва в работе. Мы должны вернуться в Филадельфию к пятому сентября. Нэб закричала: — Ой, папа, нет! Осталось всего три недели! Джон утешал их: — Три недели лучше, чем ничего. В противном случае вы не увидели бы своего отца до весеннего сева. Ведь так было бы хуже. — Могу ли я высказаться за мой выводок, — спокойно ответила Абигейл, — это неизмеримо лучше. Члены семьи проводили дни в работе. Сухая погода не позволила собрать большой урожай, но Исаак умудрился накосить достаточно сена. Джон поблагодарил Абигейл за прекрасное состояние скота, сада и грядок с овощами, которые она и дети старательно поливали. — Джон, какую часть выращенных нами продуктов мы можем оставить дома, а какую послать армии? — Половину. Конгресс выпускает кредитные карточки для уплаты по обычной цене. Как у нас обстоит дело с деньгами? — Мы никому ничего не должны. — Ты хорошая хозяйка. Я сохранил выданные мне ваучеры. Ты можешь потратить аванс на сотню фунтов стерлингов. Законодательное собрание компенсирует все расходы. — Поднимемся на холм. Там прохладнее. Действительно, на вершине дул легкий бриз, а раскидистый дуб бросал плотную тень. — Вы отсюда наблюдали за сражением у Бридс-Хилл? — Да. Видели, по меньшей мере, перестрелку и пожар в Чарлзтауне. — То, что вы наблюдали в тот день, определило работу Конгресса. До семнадцатого июня сильная группа в Конгрессе склонялась к примирению,ее возглавлял Дикинсон из Пенсильвании. По сути дела, протягивая Англии оливковую ветвь, мы составили и подписали еще одну петицию. Абигейл прислонилась к плечу мужа, ощущая самую надежную защиту — быть вместе с ним. Составной частью дружбы между ними было то, что Джон относился к ней, как к коллегам в законодательном собрании, предлагая им безоговорочно сотрудничество, разделяя поражения и свершения, все, что происходило на второй сессии Конгресса. Такое отношение помогало Абигейл переносить его отсутствие: ведь рано или поздно она узнает все о происходившем. В состав делегации Пенсильвании вошли несколько новых членов, в том числе Бенджамин, вернувшийся из Англии, которого сразу же попросили организовать почтовую систему тринадцати колоний. Он организовал ее и занял пост генерального почтмейстера. Наконец, в Конгрессе появился делегат от одного прихода в Джорджии, и таким образом обрели представительство все тринадцать колоний. Пейтон Рэндолф отказался от кресла председателя на том основании, что стал спикером палаты Бургесс в Виргинии, и Джон Хэнкок был избран председателем. — То, что мы сделали, — взволнованно рассказал ей Джон, — важно, ибо тринадцать колоний решили действовать сообща. Мы учредили комиссии для переговоров с индейцами, согласовали меры по организации армии численностью пятнадцать — двадцать тысяч человек и после назначения генерала Вашингтона главнокомандующим выбрали генералов от каждой территории. Назначен комитет для сбора шести тысяч фунтов стерлингов на порох. Мы проголосовали за право отчеканить для обороны два миллиона испанских долларов. Двенадцать колоний обязались покрыть такой кредит. Вечер, когда мы услышали о Бридс-Хилле, — в сообщении говорилось о Банкер-Хилле, — стал для большинства днем рождения Америки как нации. Но и тогда нас сдерживали консерваторы типа Дикинсона… — Разве он против независимости? — Этот грошовый гений старался придать нашим действиям глупейшие формы. По его мнению, мы должны взять в свои руки законодательную, исполнительную и судебную власть на всем континенте, принять совершенную конституцию, создать военно-морские силы и распахнуть наши порты; взять под стражу всех друзей британского правительства и держать их в качестве заложников, дабы облегчить положение жертв в Бостоне. Однако я считал, что нельзя рушить единство Конгресса. Нужно двигаться постепенно, если хотим действовать как единый народ. Дни проходили словно в идиллии. Джон и Абигейл прогуливались по окрестным полям и лугам, наблюдая, как дети барахтаются в ручье. Они устраивали по вечерам пикник на вершине Пенн-Хилла, любуясь заходом солнца, окрашивавшим небосвод в розовый, ярко-красный, пурпурный цвета. Казалось, война прекратилась, полностью затихла. Остановилась и адвокатская работа, несмотря на то что Массачусетское законодательное собрание послало в Конгресс петицию с просьбой определить форму самоуправления Массачусетса, что, между прочим, обеспечило бы открытие судов. Они посетили Уэймаут и провели там целый день с семьей Смит. Ее отец превратился в седовласого патриарха, противящегося всякому примирению. Он и похожий на скелет Коттон Тафтс составили пару, посещавшую армейские лагеря и соседние деревни с яростными проповедями. Ее мать чувствовала себя то лучше, то хуже, но, когда на обед прибыли семейство Адамс с четырьмя внучатами и семейство Кранч с тремя, миссис Смит облачилась в свое лучшее платье. Джон рассказал им о наиболее драматических моментах дебатов в Конгрессе. Позже миссис Смит отвела в сторону Абигейл: — Абигейл, хочу, чтобы в любом случае ты знала: твой муж был прав, говоря о законах и адвокатах. Ошибалась я. Меня и твоего отца радуют слова Джона. Верую, что его цепкий ум поможет создать прекрасную новую страну. Абигейл обняла свою мать. — Если мужчина способен возбудить любовь не пробудившейся еще девушки, это уже новый мир. Все, что он свершает затем, она воспринимает как логическое, естественное продолжение. Единственная тень, омрачившая их медовый месяц, длившийся три недели, появилась в результате просчета, от которого Джон так старался оградить себя. 24 июля 1775 года в Филадельфии он написал письма Абигейл и Джеймсу Уоррену и попросил находившегося там юриста Бенджамина Хичбурна доставить эти письма. На пароме у Ньюпорта Хичбурна задержали англичане. Вместо того чтобы бросить письма в воду, он отдал их британскому морскому офицеру. В отличие от «безопасных», скупых писем, которые получала Абигейл, захваченные были составлены, когда перегрузка работой ослабила бдительность Джона. Владелица «Массачусетс газетт», сочувствовавшая тори, опубликовала письма. На каждой кухне Массачусетса начались пересуды, ибо Джон клеймил Джона Дикинсона, как в разговоре с Абигейл, называл его «грошовым гением», трусливым консерватором, сдерживающим работу Конгресса. И хуже того, революционные мысли и обращения Джона к Конгрессу раскрылись во всей своей полноте.«Дело, которое я обдумываю, так велико и важно, что трудно доверить его одному человеку. Сложность его просто невероятна. Когда группе в пятьдесят или шестьдесят человек поручают разработать конституцию великой империи, сплотить страну протяженностью в тысячу пятьсот миль, вооружить и подготовить миллионы, заложить военно-морскую мощь, наладить широкую торговлю, провести переговоры с многочисленными индейскими племенами, создать постоянную армию численностью в двадцать семь тысяч человек, оплатить ее, обеспечить снабжением и офицерами, мне жалко членов этой группы».Немедленно последовал шок. Некоторые из коллег Джона возмущались, что он обнажил наличие расхождений в Конгрессе. Другие, полагая, что некоторая часть патриотов все еще не теряет надежды на примирение с Георгом III, огорчились раскрытием, страстного стремления Джона сколотить мощную армию, военно-морской флот и центральное правительство, призванное занять свое место в расстановке международных сил. Не все соседи Абигейл в Брейнтри обладали способностью переварить столь крутое блюдо. Члены англиканской церкви порвали с ней отношения. Некоторые из друзей, участвовавших в кружке шитья, перестали ее посещать. Мужья этих женщин не блистали отвагой: было небезопасно связывать себя с открытыми врагами правительства его величества. До Абигейл и Джона дошли сведения, что оригиналы писем отправлены в Лондон для изучения и опубликования, что подтвердило бы впечатление, которое губернатор Бернард хотел внушить Англии: «Проклятый Адамс, каждое движение его пера кусает, подобно гремучей змее». Сэмюел Адамс восторгался тем, что он назвал «чудесно своевременным открытием». Специально приехав с Бетси из Дедхэма, он поздравил Джона с изложением в самых энергичных выражениях позиции и направленности работы Конгресса. — Было любезно с вашей стороны проделать такой путь, кузен Сэм, — сказала Абигейл. — Я полагала, что вы, пара Адамсов, достаточно насмотрелись друг на друга в Филадельфии. — С трудом встречались друг с другом, — ответил Сэмюел. — Мы заседаем в различных комитетах. Сэмюел выглядел хорошо, казался помолодевшим, подумала Абигейл. Следы легкого паралича исчезли, щеки порозовели, глаза блестели, ибо Конгресс в Филадельфии, встающая на ноги нация, которую так неосторожно описал Джон Адамс в перехваченном письме, были делом рук Сэмюела Адамса больше, чем кого-либо другого. Так сказала Абигейл. — Верно, если не считать короля Георга Третьего, — вмешался Джон, — и лорда Норта. Абигейл прислушивалась к тому, как двоюродные братья задирали друг друга, и думала, как сильно выросли они оба с того момента, когда она впервые увидела их вместе в доме Сэмюела на Пёрчейз-стрит. Прошло тринадцать лет с той выпитой вместе чашки чая. Сэмюел сказал ей тогда: — Мне доставляет удовольствие принять друга кузена Джона, мисс Смит. Переезжайте в Бостон, и мы устроим вечеринку с чаем. Да ведает Бог, он сдержал свое обещание, превратив бостонский порт в огромную чашу холодного чая. Она посмотрела на мужа, оживленно беседовавшего с Сэмюелом о конфедерации и постоянном союзе, что Бенджамин Франклин предложил обдумать членам Конгресса. Оба Адамса одобрили выдвинутую структуру, одобрил ее и виргинец Томас Джефферсон, но утверждал, что план напугает «робких членов». Абигейл поняла, что, как полагают Джон и Сэмюел, статья о конфедерации могла бы пройти незамедлительно. Даже не обеспечив безупречного правительства, она, по меньшей мере, определила бы рамки, в которых у колоний появилась бы возможность для эксперимента. Из разговора она также поняла, что они оба полны решимости не покидать следующей сессии Конгресса до утверждения независимости Америки и сформирования центрального правительства. — Но такого, какое мы сможем защитить, Сэм, — сказал Джон. — Сейчас же все, что мы имеем, это пакетботы и шлюпы, построенные людьми вроде Джона Хэнкока и Исаака Смита. Как мы можем быть независимыми и обороняться, не построив военных кораблей, не оснастив их пушками, чтобы отогнать огнем британцев? Сэмюел повернулся к Абигейл и сказал, дружелюбно улыбаясь: — Твой муж способен убедить любого. Он хотел, чтобы Джордж Вашингтон командовал войсками. Не могу припомнить, как долго он обрабатывал меня. И был прав. Теперь он добивается создания военно-морского флота. Я не слышал, чтобы кто-то в Филадельфии говорил о строительстве флота. Но ты что-то знаешь, Абигейл? — Да, кузен Сэм. У нас будет военно-морской флот. Именно поэтому я мирюсь каждый раз с четырехмесячным отсутствием Джона, в одиночку заботясь о ферме и семье.
Едва Джон успел уехать на конференцию в Уотертаун до отъезда в Филадельфию, как батрак Исаак заболел дизентерией. Его доносившиеся с чердака стоны говорили о такой острой боли, что Абигейл, Сюзи и Пэтти стали по очереди ухаживать за ним. Через два дня сама Абигейл слегла в постель с тяжелым приступом. Увидев, как плохо ее матери, Нэб спросила: — Мама, не послать ли за папой в Уотертаун? Ему важно знать, как серьезна твоя болезнь. Абигейл немного подумала. — Он мне нужен, Нэб, но боюсь вызывать его в Брейнтри. Эпидемия распространяется. Дай мне индийское лекарство и вскипяти для меня в молоке корни тутовника. И болезнь отступила. Но едва Абигейл поднялась на ноги, как свалилась Сюзи. Абигейл удалось уговорить соседей перенести Сюзи в сторожку, но через несколько часов заболел Томи, а за ним Пэтти. За несколько дней из здорового, кровь с молоком мальчика Томми превратился в тощего, вялого. Пэтти становилось все хуже. Вскоре у нее появились пролежни и гнойные язвы. Дизентерия была настолько острой, что не представлялось возможным содержать в чистоте ее тело и постель. После каждого посещения ее комнаты Абигейл едва сдерживала позывы к рвоте. Ферма стала подлинным лазаретом. В каждой кровати лежал больной. Так было у всех соседей: полагали, что ребенок миссис Рэндалл уже не жилец, тяжелобольные лежали в доме Белчера, Брэкетта и Миллера, преподобный мистер Грей находился при смерти, а преподобный Уиберд еле дышал. Эпидемия докатилась до Уэймаута. Никто не знал ее причину. Доктор Коттон Тафтс ухаживал за больными, пока не свалился сам. Известие, что слегла ее мать, заставило Абигейл выехать в Уэймаут. Бетси и Феб обладали опытом медицинских сестер, но они валились с ног от усталости, день и ночь обслуживая заболевших. Каждый день Абигейл металась между Брейнтри и Уэймаутом, проводя многие часы с Томми и другими детьми, затем ехала в фаэтоне, чтобы подменить Феб, дать ей возможность немного поспать. Томми поправился. Он быстро располнел, и его глаза заплыли. А в Уэймауте мать Абигейл таяла на глазах, несмотря на то что Коттону Тафтсу удалось получить из Виргинии для лечения плоды опунции. Четыре субботы в Доме собраний Брейнтри не читались проповеди. У Абигейл кончились лекарства. Она писала Джону полные отчаяния письма:
«Будь добр, пришли унцию турецкого ревеня… Я была бы рада получить унцию индийского корня. Лекарств не хватает».Дети чувствовали себя хорошо, и ей удалось провести пару дней в Уэймауте. Она спала в своей старой кровати над библиотекой отца. Утро она провела на кухне, готовя чай для матери, и отнесла его ей в комнату. Казалось, что мать спит. Абигейл осторожно положила руку на ее голову и помогла ей приподняться. Мать проглотила несколько капель, вздохнула, откинулась на подушку, затем открыла глаза, и их выражение пронзило сердце Абигейл. Несколько часов жизнь продолжала теплиться в ее теле. Преподобный мистер Смит молился, склонившись у ее кровати. При наступлении сумерек Элизабет Смит скончалась. Ее похоронили на кладбищенском холме. Проститься с ней пришел весь поселок. В эту ночь в темноте, с опущенными пологами детской кровати с четырьмя колоннами, Абигейл вспоминала сцены юных лет. Она поняла, какой хорошей матерью была Элизабет Смит, как хорошо воспитала она своих дочерей, умело сочетая любовь с дисциплиной. В девичестве Абигейл частенько бунтовала из-за того, что, опасаясь за здоровье, мать не пускала ее в школу. Абигейл понимала, что именно мать, упорно внушавшая детям религиозные принципы и веру в Бога, привила им стойкость к испытаниям жизни. Мать никогда не была навязчивой, она ничего не требовала для себя. Абигейл ощущала, что ей не хватает матери. Она надеялась быть столь же хорошей матерью для своих малышей, что в свое время они также будут оплакивать ее по ночам и чувствовать утерю самого дорогого в жизни. Она чувствовала себя старше, понимая, что уже не может найти опору у матери. Преподобный мистер Смит, казалось, принял смерть жены с выдержкой христианина. Но через день-два придя к Абигейл со слезами на глазах, он сказал: — Дитя мое, я вижу твою мать, пойдем ко мне домой. Его постаревшее и потемневшее лицо прорезали глубокие морщины, Абигейл села рядом с ним за стол, через силу проглотила несколько ложек, чтобы побудить его съесть свою долю. Ее усилия были напрасными. Одежда висела на нем, как на скелете. Абигейл добралась до дома, опустошенная душой и телом, ища покоя и утешения. Но ее ожидало новое горе — умерла Пэтти. Она похоронила девушку на кладбище Брейнтри около могил Адамсов и вернулась домой по раскиснувшей от дождя дороге. За несколько месяцев она проводила в мир иной Джошиа-младшего, свою мать и теперь Пэтти. Желая отвлечь Абигейл от мрачных мыслей, Джошиа Куинси пригласил ее на обед с участием Бенджамина Франклина. Франклина уважали во всех колониях. Он был одним из немногих американцев, завоевавших признание ученых и естествоиспытателей Европы. Не получив официального образования, но обладая оригинальным, творческим умом, Франклин смог практически во всех областях знания внести свой вклад непреходящего значения. Бенджамин Франклин стоял в дальнем углу библиотеки ее кузена, окна которой выходили на бурное октябрьское море. Он был увлечен беседой с гостями, и Абигейл хорошо рассмотрела его. Длинная шевелюра Франклина закрывала уши и спускалась до воротника, оставляя открытым его высокий лоб. Он выглядел плотно сколоченным мужчиной: мощная голова, покатые плечи, массивные руки, широкая грудь и объемистый живот, прикрытый сорочкой с оборками; всю фигуру обтягивали помятые бархатный жилет и коричневый сюртук. Его широко раскрытые глаза говорили об интересе к собеседникам. Абигейл знала, что ему скоро исполнится семьдесят лет, но единственным признаком почтенного возраста служили висящие бриджи и морщинистая шея. Представленная кузеном Куинси, Абигейл нашла Франклина общительным, но неразговорчивым. «Но когда он говорит, выслушать его полезно», — заметила для себя Абигейл. Надежда Конгресса на образование Союза опиралась на идею Бенджамина Франклина. Его план Союза был принят двадцать один год назад Первым конгрессом Олбани в 1754 году. Многое доброе, что было в жизни Филадельфии, предложил именно он: первая публичная библиотека, городская больница, полиция, освещение и очистка улиц, философское общество, академия для обучения молодежи, эксперименты для определения погоды, исследования электричества. Широко цитировался его «Альманах бедняка Ричарда». Франклин рассказал ей о вкладе Джона в работу Конгресса. — Я горжусь работой мужа, мистер Франклин, — ответила Абигейл, — но порой мне его страшно не хватает. — Полагаю, как и ему вас. — Мой муж по уши ушел в выполнение своих задач, он встречается с людьми. Я же вроде монашки в монастыре. После его отъезда я посетила лишь отца и сестру. — В таком случае почему бы не поехать на зиму в Филадельфию? Она была моим домом более сорока лет. Вы увидите город культуры и образования… — В Филадельфию! Интересная мысль. Мистер Адамс описывал ее как красивый город. Ему особенно понравились ее прямые, параллельные реке улицы. Но, увы, мне предстоит весенний сев. Улыбка Франклина выглядела торжественной. — Политика и сев. Комбинация, заложенная Цинциннатом[32] за пять веков до Иисуса Христа.
7
Она смирилась с тем, что проведет праздники без мужа, и вдруг за несколько дней до Рождества он ворвался в дом, прискакав на черном жеребце, в шляпе и плаще, припушенными снегом. Абигейл удивилась, увидев его. — Джон, мы прослышали, что Конгресс не собирается прерывать свою работу. — Не собираюсь и я. Я просто встал из своего кресла и попросил предоставить мне отпуск. Джон привез рождественские подарки — детям книги, а Абигейл — предметы, какие исчезли после закрытия бостонского порта: упаковки заколок, стоивших столько же, что их вес в золотых дублонах, иголки, застежки, шнурки для ботинок, барселонские носовые платки. Глубокой ночью в постели, когда дети уснули и в камине приятно потрескивали поленья, они прижались друг к другу. Джон доверительно сказал: — Эти заколки и носовые платки — жалкие подарки, хотя они тебе очень нужны. Моя дорогая девочка, убежден, я требую от тебя слишком много. — Разве я жаловалась в письмах? Вовсе не собиралась. Ты просил сообщать тебе новости, но в эти дни хороших так мало. Джон сбросил теплое покрывало, сел перед камином в своей излюбленной позе: ноги широко расставлены, руки за спиной. — Абигейл, все бремя легло на твои плечи. Не отрицай, это так. Я ничем не жертвую, объезжаю колонии, работаю с превосходными людьми, нахожусь в гуще волнующих конфликтов, много работаю, не имея тех многочисленных обязанностей, которые сваливаются на тебя каждое утро. Абигейл приподнялась, оперлась на локоть, чтобы лучше видеть Джона. Его заявление звучало необычно. — Думаю, что мне следует отказаться от участия в Конгрессе в следующем году, остаться дома, заняться фермой и образованием детей. Тебе пришлось нелегко. Она всматривалась в его лицо, прищурив глаза, словно желая лучше понять услышанное. Затем поднялась и подвинула плетеное кресло к камину. Ее волосы свободно ниспадали на плечи, широко раскрытые глаза выражали удивление, а уголки губ — ироническую улыбку. — Случилось что-то неприятное, Джон? Нечто лишающее смысла твое пребывание в Филадельфии? — Разумеется, письма Дикинсона, он не разговаривает со мной, а его друзья оспаривают любой мой шаг. Испортились отношения и с моим старым другом Робертом Тритом Пейном, когда я поддержал Джеймса Уоррена в ссоре между ними. Я пытался удержать Массачусетский совет от назначения меня главным судьей, понимая, что это обидит Пейна. Яркий огонь высвечивал все оттенки его лица. — Но это не единственная причина желания выйти в отставку? — Нет. Я просто думаю, что настал мой черед заботиться о семье Адамс. Совесть не позволяет думать иначе. Через год или около этого, обеспечив семью, я мог бы вернуться в Филадельфию. Абигейл закрыла глаза, желая повторить услышанное и прочувствовать тон, каким это было сказано. Она не заметила намерения выставить себя героем или человеком, достойным жалости. Мотивы Джона казались искренними, исходящими из любящего сердца. — Джон, готов ли ты предоставить мне возможность выбора? — Да. — Если ты уйдешь в отставку сейчас, не перечеркнет ли это большую часть сделанного тобой? В таком случае пережитое мною одиночество окажется неоправданным. Есть ли в Конгрессе люди, способные столь же хорошо, как ты, выполнить работу? Он вздрогнул, скрестив руки на груди. Ему не была свойственна нарочитая скромность. — Есть историко-правовой довод, который я могу изложить в Конгрессе или комитете столь же хорошо, как любой колонист… Позволь взять в кабинете мои записки. Он вышел из спальни и тотчас же вернулся с блокнотом, переплетенным в темно-красную кожу. Выдвинув фитиль масляной лампы, Джон принялся читать свои заметки. Его голос передавал стремительность, остроту экономических дебатов и личных конфликтов. Казалось, словно огромная птица перенесла ее на своих крыльях в Филадельфию. Абигейл представляла себе Джона шагающим взад-вперед по дворику Дома правительства со своими друзьями-делегатами и пытающимся убедить их, что его план организации внешней торговли вовсе не «сумасбродный, экстравагантный и романтический», а может открыть американские гавани для иностранных судов, минуя британские военные корабли, и в Америку будут доставлены порох и другие необходимые предметы. А американские суда, нагруженные сырьем, смогут просочиться через дырявую британскую блокаду и обеспечить колониям денежные поступления. Это подразумевало, что американский военно-морской флот должен быть построен «за счет континента» и сформирована боеспособная морская пехота с целью захвата ценных призов и грузов. Джон считал, что в каждой колонии надлежит образовать правительство с целью «широкого и свободного представительства народа» и «ввести такую форму правления, которая наилучшим образом обеспечит счастье народа и с наибольшей эффективностью укрепит мир и добрый порядок». Необходимо создать континентальную армию с профессиональными офицерами и достаточно высокими окладами, чтобы побудить мужчин к военной службе; Конгресс должен снабдить армию солидными средствами, обеспеченными серебром и золотом, а не бумажными деньгами, которые обесценены в такой степени, что их не принимают в оплату товаров… Джон продолжал говорить, но Абигейл уже не слушала ею. Ведь каждое произнесенное им слово оправдывало продолжение его участия в Конгрессе. Он, конечно, сам не верил, что она позволит ему выйти в отставку по той причине, что дома у нее есть проблемы. Времена трудные, и всем приходится туго. Абигейл прикрутила фитиль лампы, подошла к Джону, обняла за шею и крепко поцеловала. Затем прошептала: — Возвращайся в Конгресс, Джон, но, пожалуйста, помни, когда пишешь законы в Филадельфии: нужно дать кое-что и женщинам!Проведенный вместе месяц был насыщен делами. Джон взял ее с собой в поездку в Уотертаун на заседание Массачусетского совета, где он объяснил задержки и колебания Конгресса в разработке соглашения о независимости, и в Кембридж, где по просьбе генерала Вашингтона изложил свое мнение, что Нью-Йорк, подобно Массачусетсу, должен находиться под командованием Вашингтона и войска Новой Англии могут быть посланы для обороны этого города. Однако большую часть времени они проводили дома. Джон работал в нескольких комитетах, написал как член Массачусетского совета прокламацию законодательного собрания об открытии массачусетских судов. Хотя и ходили слухи о правонарушениях, «насилиях, совершенных злоумышленниками и непорядочными лицами», за пятнадцать месяцев бездействия судов и отсутствия мер по укреплению законности беспорядков было мало, если не считать рукопашные схватки в тавернах. Каждая община управлялась с общего согласия, споры улаживали выборные лица и церковные старосты. Джон признался: — Прокламация — дело рук одного человека. Как приятно обойтись без комитетчиков, которые перепишут все от начала до конца. Послушай: «Хрупкость человеческой природы, потребности отдельных лиц и многочисленные опасности, окружающие людей в течение всей жизни в любом возрасте, в каждой стране, вынуждают образовывать общества и создавать управление. Поскольку счастье народа — единственная цель правительства, то согласие народа — единственное основание с точки зрения рассудка, морали и естественного соответствия… Принципиально при любом управлении должна существовать высшая, суверенная, абсолютная и неподкупная власть; но такая власть всегда принадлежит народу…» Абигейл тронули эти слова, выражавшие революционное политическое мышление. Нигде в поднебесном мире, ни в Европе, ни в Азии, ни на Ближнем Востоке, власть не принадлежала когда-либо народу. — «Верховный и Общий суд счел необходимым выступить с данной прокламацией, — продолжал читать Джон, — требуя и ожидая от добропорядочных людей колонии, что они будут вести разумную, богобоязненную и спокойную жизнь, избегая богохульства, пренебрежения Священным писанием и уважая День Божий, не допуская любых иных преступлений и проступков, распущенности, непристойности, коррупции, продажности, мятежных и буйных действий и иных аморальных шагов… И судьи, члены магистрата, шерифы, присяжные, сборщики церковной десятины и другие должностные лица колонии настоящим обязуются и соглашаются содействовать, в меру своих полномочий, советами, усилиями и личными примерами исправлению нравов, и налагать надлежащее наказание на каждое лицо, которое совершит вышеупомянутое преступление или проступок… и прилагать усилия к претворению в жизнь решений Конгресса и добрых разумных законов колонии». Когда он закончил читать, она произнесла комплимент, доставивший ему удовольствие, а затем, поддразнивая, сказала: — Знаешь, Джон, если ты добьешься описанного тобой прекрасного мира, где не будет дебошей, коррупции и преступлений, то исчезнет всякая необходимость в судах. — Пока существуют люди, составляющие законы, сохранятся и нарушающие их. Именно поэтому в штатах должна существовать сильная судебная власть, столь же крепкая, как законодательная и исполнительная, такой она должна быть в центре. Если идеи и документы успешно продвигались вперед, то в военной области дела обстояли иначе. В течение зимы насчитывалось мало прямых схваток. Генерал Вашингтон направлял усилия на организацию вооруженных сил и их оснащение. Он снарядил быстроходные шхуны для перехвата британских судов, вооружил американских солдат мушкетами, кремнями и порохом, а они отчаянно нуждались в этих припасах, которых не мог ни изготовить, ни купить Конгресс. Конгресс в Филадельфии задумал нападение на Канаду, казавшуюся богатой добычей, легко превращающейся в четырнадцатую колонию, что усиливало безопасность северной границы. Генерал Вашингтон послал из Кембриджа полковника Бенедикта Арнольда со значительными силами на север вдоль реки Кеннебек к Квебеку. Арнольд, уроженец Коннектикута, приобрел опыт в войне против французов и индейцев в 1757 году и вместе с лидером жителей Зеленых гор — Этаном Алленом захватил форт Тайкондерога около канадской границы. Второй базировавшийся в Тайкондероге отряд, под командованием популярного, ставшего американцем, ирландского бригадного генерала Ричарда Монтгомери, должен был, двигаясь от озера Шамплейн, атаковать Монреаль, соединиться с полковником Арнольдом и захватить Квебек. При попытке взять Квебек американские силы были так потрепаны британскими солдатами и моряками, франко-канадскими милиционерами, что в итоге Монтгомери и шестьдесят других офицеров и солдат полегли, полковник Арнольд — ранен, а более четырехсот взяты в плен. Это было первое болезненное поражение американцев. Моральный дух колоний расшатался до нижней отметки, когда шестьсот уцелевших солдат добрались зимой и ранней весной в Новую Англию и рассказали о случившемся. Через несколько недель после отъезда Джона Абигейл получила от него памфлет под заголовком «Здравый смысл», опубликованный в Филадельфии. Памфлет не был подписан, но, прочитав первые строки введения, Абигейл уверилась в том, что его автор — Джон: «Дело Америки — в значительной мере дело всего человечества. Много обстоятельств уже возникало и еще возникнут, которые имеют не локальное, а всеобщее значение и затрагивают принципы, касающиеся всех гуманистов… Безопасность есть подлинное предначертание и цель правительства, и из этого неотвратимо вытекает, что при любой форме правления предпочтительно, чтобы обеспечиваемая им безопасность вызывала наименьшие расходы и приносила наибольшую выгоду». Вчитываясь в сокрушительную критику священного права королей, бедствия, навлекаемого монархией, наследственным правом, и «всеми коронованными разбойниками, какие когда-либо жили», углубляясь в «Мысли о нынешнем состоянии американских дел» с их звенящим, красноречивым призывом к отделению от Англии и смелым требованием к созданию нового государства, которое уже издавна было «убежищем преследуемых сторонников гражданской и религиозной свободы во всех уголках Европы», Абигейл осознавала, что в стране зазвучал новый голос, столь же ясный и убедительный, как голос Джона Адамса. В Новой Англии считали, что памфлет принадлежит Джону Адамсу. Абигейл старалась убедить друзей и родственников, что Джон не был его автором. Последующие слухи, привезенные путешественниками, — не столь лестные — также требовали опровержения. Миф распространялся быстрее эпидемии дизентерии: Джон Адамс и Джон Хэнкок — предатели, сбежали в Англию. Абигейл узнала, что такое обвинение состряпано в среде тори Брейнтри и передавалось через членов англиканской церкви. Видимость достоверности мифу придавали сведения о военном корабле, на котором они отплыли, об имени капитана, багаже, взятом каждым, часе отплытия, о том, сколько денег изъяли они из фондов Массачусетского законодательного собрания, о выкраденных ими и переданных британскому парламенту для опубликования документах Конгресса. В последовавшие девять дней слухи разбухали как снежный ком. Люди вновь сторонились говорить с ней, они отводили глаза, рассматривая подвешенные к потолку лавки птичьи клетки и жестяные тазы. Некоторые не скрывали своего ликования, поглядывая на нее с демонстративным удовлетворением, написанным на лицах. Утром, на десятый день, к Абигейл за столом во время завтрака обратились дети. Они только что спустились сверху после оживленной беседы. Накануне вечером в таверне Брекетта случилась драка. Исаак сообщил: — Несколько человек выбросили из таверны за распространение скандальной лжи. — Мама, — сказала Нэб, самая старшая и поэтому выступавшая за всех. — Мы хотим задать тебе вопрос. — Пожалуйста. — Нам нужен прямой ответ, — сказал Джон Куинси. — Где отец? — выпалил Чарли с покрасневшим лицом. — В Филадельфии. — А ты уверена? — спросил юридически мыслящий Джонни. — Он не может быть в другом месте. — Это не ответ, мама, — заплакала дочь. Абигейл обняла двух малышей и через их головы обратилась к старшим: — До вас дошли лишь слухи. — Некоторые люди верят им. — Щеки дочери зарделись. — Знаю, Нэб, вульгарные зеваки готовы поверить всему плохому о человеке. Слухи распространяются в целях навредить твоему отцу и мистеру Хэнкоку, подорвать их репутацию и наше дело. — Она повернулась к Джонни: — У меня нет доказательств правового толка, я могу лишь заявить, что папа любит семью, любит Брейнтри, Массачусетс и Америку. Помните, что сказал Бедняк Ричард:[33] ложь стоит на одной ноге, правда — на двух. Потом вернулся сопровождавший Джона в Филадельфию и помогавший ему там устроиться Басс. Его приезд положил конец неприкрытой клевете; но в ночь приезда Басса Абигейл не могла заснуть, ее трясла дрожь, резко поднималась температура при воспоминании о склонности людей к козням. Злокозненность — всепроникаема. Чем выше поднимется человек, чем больше сделанное им, тем злее нападки. Такова общественная жизнь, а Джон Адамс стремился участвовать в ней. Почва не оттаяла в промозглый март. Абигейл проводила много времени перед камином, благо, что в дровах недостатка не ощущалось. Она шила, читала, делала все, чтобы продолжить обучение детей в соответствии с планами Джона. Ее мучила тоска по весне, по теплому солнцу, по проснувшейся от зимней спячки земле. Если британские войска не захватят ферму, она посеет ячмень, удобрит поля, пройдет по грядам сладко пахнущей перевернутой земли. Мэрси и Джеймс Уоррен часто навещали свой дом в Плимуте, проезжая через Уотертаун. Мэрси провела несколько дней с Абигейл, поглощенная написанием политических пьес. Она посвятила Абигейл в курс деятельности законодательного собрания и генерала Вашингтона, которые не могли бездействовать, подобно фермерской жене в зимний сезон. Вашингтон призывал к широкому нападению на британские войска до того, как весной они получат подкрепление из Британии. Конгрессмены советовали потерпеть: не хватало пороха. Вашингтон приказал Генри Ноксу доставить из Тайкондероги пушки, захваченные в мае за год до этого Бенедиктом Арнольдом и Этаном Алленом. Почти немыслимое поручение, но Нокс, еще не числившийся официально в армии, не задумывался над этим. Он лишь помнил, что сказал Вашингтон: «Их так не хватает, что не надо жалеть ни усилий, ни расходов, чтобы получить». Ноксу помог выехать из Кембриджа его брат Уильям. В Тайкондероге Нокс отобрал из изношенной массы вооружений пятьдесят девять пушек, гаубиц и мортир. Реквизировав шаланду, пирогу и судно, он доставил на них по озеру в Форт Джордж орудия, кремневые ружья и свинец для пуль. Там он сколотил восемьдесят два фургона и купил восемьдесят упряжек волов. С помощью солдат и наемных граждан Нокс погрузил на телеги стофунтовые и более тяжелые пушки, весившие пять тысяч фунтов. Предстояло проехать по дорогам протяженностью триста миль, по которым «никогда ранее не перевозились орудия». Нокс сумел провести свой караван через вечнозеленые леса и горы Беркшира с бесчисленными каньонами, обрывами, глубокими долинами. Участники перехода валились с ног от холода. Но не Генри Нокс. Неистощимый, полный радостной преданности, он получил от Конгресса назначение на пост полковника в тот самый момент, когда переходил наиболее опасные участки пути, Нокс сумел доставить командующему все без исключения пушки. Скрывая укрепление Дорчестерских высот, проводившееся ночью, как укрепление Бридс-Хилла, генерал Вашингтон приказал полковнику Ноксу и артиллеристам нацелить пушки на британские позиции вокруг Бостона, а не в городе. Пенн-Хилл обеспечивал Абигейл выгодную точку наблюдения. Светлые ночи позволяли проследить траекторию каждого пушечного выстрела. Она подсчитывала: американцы выстрелили одиннадцать раз из тяжелых мортир и тринадцать раз из восемнадцатифунтовых пушек, снаряды для них были доставлены из Нью-Йорка в Кембридж Генри Ноксом. Перестрелка продолжалась три ночи подряд. А 5 марта курьер привез радостную весть: американцы укрепились на Дорчестерских высотах в ходе блестящей операции по выходу к заранее вырытым траншеям, осуществленной тремя тысячами возниц, артиллеристов и прикрывавших их войск. На трехстах фургонах были подвезены фашины, сады вырублены и устроены завалы, подготовлены для накатки на врага заполненные камнями бочки. К рассвету возникло шесть отдельных фортов, на замену уставшим пришли три тысячи солдат, получившие продовольствие, воду, порох, и пули. Несмотря на длинные конвои фургонов, все эти приготовления осуществлялись без шума, и британцы изумились, увидев на рассвете, что укрепления на Дорчестерских высотах могут выгнать их корабли из гавани. Гробовая тишина воцарилась над Брейнтри. Никто не приходил, никто не работал. Жители поселка ожидали с тем же напряжением, как и находившиеся на Дорчестерских высотах в Бостоне. Каждый спрашивал себя: «Что станут делать британцы?» Они ответили канонадой военных кораблей, продолжавшейся два часа. Но снаряды не долетали до укреплений. Оставалось либо штурмовать Дорчестерские высоты, что привело бы к куда большим потерям, чем сражение у Бридс-Хилла, либо эвакуировать войска и корабли, прежде чем пушки Генри Нокса разнесут их в клочья. Генерал Вашингтон подготовил и осуществил мастерский удар. Британские солдаты погрузились с запозданием на небольшие лодки для доставки на транспортные суда. Время прилива было упущено, и к тому же начался шторм. Используя задержку с наступлением британцев, Вашингтон разместил шесть двенадцатифунтовых пушек на вершине холма, еще более укрепил форты, призывая американцев отомстить за убитых братьев в Конкорде, Лексингтоне, Бридс-Хилле. В Кембридже стояли наготове четыре тысячи солдат для наступления на Бостон, в случае если британцы нападут на Дорчестерские укрепления. Питер Адамс находился на Дорчестерском перешейке в рядах милиции Брейнтри, готовый отразить наступление регулярных британских войск. Британцы все же не атаковали. Они решили уйти из Бостона. К генералу Вашингтону явился парламентарий: генерал Хау согласен не разрушать Бостон, если Вашингтон не станет обстреливать корабли. Обычно флегматичный, Питер был вне себя от радости и гордости. Восхищенным жене, матери и золовке он рассказывал на кухне у Абигейл: — Я видел пролетавшие надо мной вроде комет четыре бомбы! Наш полковник объявил: «Клянусь, застрелю любого побежавшего от врага. Приказываю убить и меня, если я дрогну». Нас не пугали взрывы бомб. Без ложной скромности скажу, я был одним из самых стойких! Победа была столь большой, что Абигейл верила с трудом, пока не оказалась с отцом на вершине холма и не проследила за отплытием британских судов и пакетботов, увозивших семьи тори. Они шли в окружении военных кораблей и транспортов, вывозивших войска. Абигейл не скрывала слез радости, наполнивших ее глаза. Отец положил ей на плечи свою руку. Прижавшись друг к другу, они стояли на открытом месте под прохладным ветерком. Абигейл повернулась к отцу: на ее бледном лице резко выделялись темные глаза. — Мы ошибались. Не было поражения у Бридс-Хилла. Была победа. Воспоминание о Бридс-Хилле вынудило британцев уступить и убраться. Преподобный мистер Смит прижал к себе дочь. — Первая половина сказанного тобой верна. Вторая — нет. Британцы не сдались. Они решили сами определять, где дать бой. Звучит по-военному, но конца войны еще не видно.
Коттон Тафтс отсоветовал Абигейл выехать в Бостон, где бушевала эпидемия оспы. Из лагеря в Кембридже разрешалось посетить город только тем милиционерам Массачусетса, которые переболели оспой. Коттон обещал сообщать все городские новости. — Кузен Коттон, мне нужна прививка. И детям. Не можешь ли ты сделать ее прямо здесь, в нашем доме? — Прививка небезопасна, кузина. Мы откроем больницы в Бостоне немедленно, как только поставим под контроль эпидемию. Я позабочусь, чтобы тебя обслужили со всем вниманием. — Не мог ли бы ты заглянуть к смотрителю дома Крейну и выяснить у него, в каком состоянии наш дом на Куин-стрит? — Я поставлю тебя в известность. На следующий день он так и сделал. Абигейл посадила Тафтса перед кухонной печью, согрела еду, а он тем временем снял тяжелые ботинки и умылся. — Во-первых, Крейн обследовал твой дом. В нем проживал британский полковой врач. Мебель, занавески, половики — все исчезло. Дом захламлен, но стены целы. — Ты думаешь, что в доме можно жить? Не могу поверить. Словно приобрела собственность, за которую месяц назад не дала бы шиллинга. Коттон взглянул на нее поверх очков: — Предупреждаю тебя, кузина, нужна большая чистка. — Полна решимости выскоблить дом как можно скорее. Когда эпидемия оспы сойдет на нет, поеду в Бостон и сдам дом в аренду. Нам нужны деньги. Расскажи мне о городе. Он вытер дочиста свою тарелку, набил трубку табаком Джона и откинулся назад в плетеном кресле. — Должен сказать, некоторые англичане, не лишенные чувства чести, оставляли оплату за занимавшиеся ими дома. К сожалению, это не ваш случай. Другие оставляли деньги на ремонт поломанной мебели. За домом Джона Хэнкока хорошо ухаживали, а в доме нашего кузена Сэмюела Куинси многое поломано. Не думаю, что было приказано ломать. Все зависело от личностей. Встречаются джентльмены, встречаются и свиньи. На следующее утро сообщения о происходящем в Бостоне распространились со скоростью стаи птиц, летящей на юг. Британцы заклепали свои пушки, но значительное число осталось в рабочем состоянии. Полковник Генри Нокс быстро установил над ними контроль и принял меры к восстановлению поврежденных, лавки, склады и частные дома патриотов подверглись разграблению, но многие британские лавки остались нетронутыми. Тысячи бежавших сторонников короны не смогли вывезти свое имущество, и оставшееся вполне возместило украденное, поломанное, сожженное. Абигейл написала Джону о своих настроениях перед началом сева и о том, как она чувствовала себя, когда красномундирники еще находились в Бостоне.
«Тогда мы не знали, можно ли посеять и посадить для себя, удастся ли собрать плоды нашего труда, сможем ли мы остаться в своих домах, или же придется искать убежище в дюнах; теперь же мы чувствуем, что можем сидеть в своем саду и наслаждаться тем, что родит наша земля. Я ощущаю в сердце невиданную радость. Мне кажется, что солнце посветлело, птицы поют мелодичнее и природа стала добрее. Мы наслаждаемся мирным состоянием, и бедные беженцы возвращаются в покинутые ими дома».После ухода чужеземного врага из Бостона в городе распространились слухи, что следующая битва произойдет в Нью-Йорке, где англичане сосредоточили крупные силы. Абигейл обратила внимание на противника домашнего очага — мужчину, написав мужу, своему личному адвокату в Конгрессе:
«В новом своде законов, который, как я полагаю, тебе надлежит составить, я хотела бы, чтобы ты помнил о женщинах и проявил к ним больше щедрости и благосклонности, чем твои предшественники. Не отдавай в руки мужей неограниченную власть. Помни, все мужчины тираны, когда это им удается. Если не будут проявлены особая забота и внимание к женщинам, мы поднимем бунт… Откажись от грубого титула хозяина в пользу более нежного и дорогого титула друга. Почему бы не лишить злобу и беззаконие возможности бездумно проявлять к нам грубость и бесчестие? Разумные мужчины всехвозрастов возмущены обычаями смотреть на нас как на вассалов вашего пола. Считайте, что само Провидение поставило нас под вашу защиту, и в подражание Всевышнему используйте эту власть ради нашего счастья».Джон ответил немедленно. Втянутый в борьбу за то, чтобы накормить солдат, снабдить их ружьями и одеялами, он написал, что просьба Абигейл о чрезвычайном своде законов для женщин увлекла его.
«Нам говорят, что наша борьба ослабила повсюду власть правительства. Дети и подмастерья не слушаются старших, в школах и колледжах брожение, индейцы убивают стражей… Но твое письмо — это первый сигнал, что появляется более многочисленное и мощное племя недовольных. Это довольно ловкий комплимент, но ты настолько проницательна, что я сберегу твои мысли. Верь мне, мы предусматриваем нечто лучшее, чем просто отмену системы мужского превосходства. Хотя она действует, но действует, как ты знаешь, лишь в теории. Мы не осмеливаемся пользоваться всей полнотой власти, вынуждены действовать мягко и осторожно и, ты понимаешь, на деле мы — подчиненные. Мы лишь по имени хозяева, но если отбросить такое название, то тогда мы окончательно подпадаем под господство нижних юбок. Надеюсь, генерал Вашингтон и наши бравые герои станут сопротивляться».Абигейл все же оставила за собой последнее слово, считая себя вправе поступить так, ибо обещала подругам заступиться за них.
«Не скажу, чтобы ты был очень щедр к леди, ибо, обещая мужчинам мир и добрую волю, освобождая все нации, ты настаиваешь на сохранении абсолютной власти над женами. Но ты должен помнить, что произвол, как и все другие жесткие вещи, хрупок».
9
Лето наступило, прежде чем Абигейл смогла выехать с детьми в Бостон для прививки оспы. Некоторые дома и мастерские лежали в руинах после обстрела пушками полковника Нокса и британской корабельной артиллерией. От некоторых домов остались лишь обгоревшие остовы. Британские солдаты растащили на дрова несколько сот деревянных домов. Улицы выглядели как челюсти стариков с выпавшими зубами. Большинство деревьев на общинной земле были срублены, равно как и тенистые платаны, обрамлявшие тротуары. От Дерева Свободы остался жалкий пень. Воздвигнутая в 1677 году северная часовня пошла на дрова. Церковь на Браттл-стрит, которую посещала Абигейл, использовалась как казарма, и ее всю изгадили. Старая южная церковь оказалась в еще более плачевном состоянии: британцы ненавидели ее за то, что многие важные городские собрания проходили именно в ней, включая собрание накануне знаменитого «бостонского чаепития». Они выломали кафедру и скамьи прихожан, само здание превратили в конюшню; некогда резные панели порублены, книги и манускрипты церковной библиотеки сожжены; дом священника полностью разрушен. Совершая скорбный объезд по городу, Абигейл заметила, что, отправляясь со своей армией в девять-десять тысяч человек к Нью-Йорку для сражения с генералом Хау, генерал Вашингтон сохранил в городе нетронутыми британские укрепления. Форты на перешейке были настолько надежными, что массачусетские войска, выделенные генералом Вашингтоном для обороны Новой Англии, всего две с половиной тысячи человек, были убеждены, что противник не сможет выбить их без больших потерь. Внешне два редута выглядели внушительными, но даже беглым взглядом Абигейл уловила, что неглубокие траншеи на Бикон-Хилле и узкая цепочка бочек на Коппс-Хилле, набитых землей, могли в лучшем случае лишь отпугнуть нападающих. Многие дома пустовали либо были брошены. В результате отъезда сотен семей тори ощутимо сократилось число людей на рынках и в лавках. Некоторые лавки и склады, беззастенчиво разграбленные британскими солдатами, не могли открыться. В деловой части города появились незнакомые для Абигейл имена. В районе порта Абигейл поразили поваленные заборы, сметенные с лица земли знакомые склады и верфи. Воодушевляли уличные сценки большого города: женщина с корзиной живых угрей на голове, мужчина с плетенкой, наполненной утками и курами, разносчики с вениками и другим хозяйственным товаром, мусорщик, трубочист, точильщик, объявления парикмахера и брадобрея, вывеска сапожника, украшенная в центре большим сапогом. И все же Бостон утратил свою прежнюю активность, красочность, радостный взлет. Люди ходили по улицам не спеша. Не было очаровательных английских карет, расписанных золотой вязью и завлекательными картинками, с шестерками одномастных лошадей цугом; не было одетых по последней английской моде, в высоких заломленных шляпах, с золотыми пуговицами и пряжками. Не было жен и дочерей, затянутых во французские шелка, в шелковых туфельках под цвет платья и с такими же зонтами. Патриоты Бостона предпочитали суровые черные костюмы. Абигейл проходила мимо особняков друзей и бежавших родственников: Сэмюела Куинси, Джонатана Сиуолла, Томаса Бойлстона, Дэниела Леонарда, Сэмюела Фитча и Роберта Окмюти. В садиках перед домами играли незнакомые ей дети. В величественных кирпичных зданиях, которые, видимо, не были еще проданы или куплены, зияли выломанные окна, выбитые двери. Материальный ущерб можно возместить, но как возродить семьи, втянутые в водоворот гражданской войны. Ее собственный дом на Куин-стрит поверг ее в шок. В одной из комнат устроили курятник, в другой — хранили уголь, в третьей — соль. Здание отсырело, с потолка осыпалась штукатурка, обои отклеились и висели лохмами, полы покрылись плесенью. В плачевном состоянии находились детские спальни; через разбитые окна их заливал дождь. Когда Абигейл и дети осматривали дом, на их лицах был отпечаток горечи и печали. Если бы король Георг слышал детские замечания в адрес британцев, он бы покраснел до ушей. Абигейл наняла двух рабочих очистить дом и вывезти грязь. Затем она открыла настежь двери и окна, желая просушить помещения, и вместе с детьми, которые записывали, где и какой ремонт следует произвести, обошла весь дом, прикидывая вероятную стоимость ремонта. Нужно было заменить полы, заново оштукатурить потолки и стены, ошкурить и покрыть лаком деревянные панели в кабинете Джона. На эту работу потребуется не менее пятидесяти фунтов стерлингов, а у Абигейл таких капиталов не было. Они посетили дядюшку Исаака. Семья Смит все еще находилась в Салеме, а их дом служил кровом для родных и знакомых. Здесь Абигейл встретила семью Кранч с тремя детьми; дочь брата Билли из Линкольна; сестру Бетси с Феб, которая помогала по дому; сына Коттона Тафтса — Коттона-младшего; Джона Такстера — кузена Абигейл и клерка-адвоката Джона; дочь дядюшки Исаака и четырех служанок Смита, которые готовили для всех. Каждая семья привезла матрасы, постельное белье, одеяла и даже корову, сено, дрова и продовольствие. Дом именовали семейным госпиталем Смита. Его обитатели укладывались спать ровными рядами, подобно солдатам в казарме. В Бостоне было много больных, приехавших из соседних поселков. Дом дядюшки Исаака посетил доктор Булфинч, чтобы сделать прививки против оспы. Даже малыши вели себя хорошо, проявляя терпение. Они обсуждали, кто окажется счастливчиком, кто будет первым, на кого подействует прививка, у кого появятся первые язвочки. С тех пор, когда Джон еще до свадьбы отправился в Бостон, желая выработать иммунитет, обстановка серьезно изменилась. Тогда Джона положили в госпиталь, теперь же Абигейл и детям было разрешено выходить в город, посещать друзей до появления первой язвочки. В полдень на следующий день Абигейл получила из Филадельфии пакет. Вместе с двумя письмами Джона в конверте находились листы бумаги, исписанные его смелой, взволнованной рукой. Рукопись была озаглавлена: «Декларация представителей Соединенных Штатов Америки, собравшихся на Генеральный конгресс». Абигейл прочитала: «Когда в ходе человеческой истории один народ оказывается перед необходимостью расторгнуть политические связи, соединяющие его с другим, и занять среди держав мира самостоятельное и независимое положение, на которое он имеет право согласно законам природы и ее Творца, то уважение к мнению человечества обязывает его изложить причины, побуждающие к отделению». Абигейл воскликнула: — Независимость! Она выбежала из спальни тетушки Элизабет, где поселилась с Нэб и двумя младшими сыновьями, позвала семью и быстро спустилась в гостиную, за ней по пятам бежал Джонни. Абигейл подождала, когда все были в сборе; после этого взрослые расселись на стульях и диванах, а девять ребятишек — полукругом на полу. — Это Декларация независимости. Та самая, какую мы ждали два года. Послушайте, как она прекрасна! «Мы считаем самоочевидными истинами, что все люди сотворены равными, и все они одарены своим Создателем очевидными правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма правительства становится гибельной для этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и организующее управление в таких формах, которые должны наилучшим образом обеспечить безопасность и благоденствие народа». Все засыпали ее вопросами. Она воздержалась от чтения разделов, осуждавших британцев. Потом Абигейл перешла к последним пассажам. Она читала медленно, тщательно выговаривала слова, стремясь донести их до каждого. — «Мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшись на Генеральный конгресс, призывая Всевышнего быть свидетелем искренности наших намерений, именем и властью доброго народа наших колоний торжественно и во всеуслышание объявляем, что наши колонии отныне являются, и по праву должны быть, свободными и независимыми штатами, что они полностью освобождаются от верности британской короне, и что всякая политическая связь между ними и государством Великобритания расторгается, и что они приобретают полное право объявлять войну, заключать мир, вступать в союзы, вести торговлю и совершать любые акты и действия, все то, на что имеет право всякое независимое государство. В подтверждение настоящей Декларации с твердой верой в покровительство Божественного Провидения мы даем взаимный обет жертвовать своими жизнями и своим состоянием и свято блюсти нашу честь». В ее груди громко стучало сердце; она была горда тем, что свершили вместе колонии; горда участием ее мужа в составлении документа, который должен явиться самым важным из когда-либо написанных на американской земле. Настолько полно Декларация оправдывала ее усилия по укреплению семьи и ее благосостояния. Джон может быть доволен достигнутым, вернуться домой и возобновить юридическую практику. Вечером в город пришел отпечатанный текст Декларации. Абигейл обнаружила, что, хотя в текст были внесены стилистические изменения, его смысл и значение остались неизменными, за исключением написанной Джоном страницы об отмене работорговли, которая была опущена. Это огорчило ее, но она поняла, что это компромисс ради согласия южных колоний. Город готовился к небывалым в своей истории празднествам. На Абигейл обрушился поток поздравлений и похвал. У нее воспалилась рука, временами мучила головная боль, но оспенная язвочка пока не появилась. Каждое утро девять ребятишек просыпались больными, их рвало, а затем наступало облегчение. Бостону потребовалось пять дней для подготовки к церемонии. В четверг 18 июля 1776 года, выслушав добрую проповедь, Абигейл отправилась со своей семьей на Кинг-стрит. Перед правительственным домом стояли полевые орудия. Войска, оставшиеся в городе после передислокации генералом Вашингтоном основной части на оборону Нью-Йорка, выстроились в шеренги. Накануне по такому важному случаю солдаты помылись и побрились, их мундиры были выстираны и отутюжены. Патриоты Бостона запрудили площадь. На балконе правительственного здания появилась группа мужчин, среди них были офицеры армии, выборные лица, члены законодательного собрания Массачусетса. Призвав к вниманию, полковник Крафтс высоко поднял в руках документ. Толпа замолкла. Ясным звучным голосом, наполнившим площадь, полковник начал читать: — «Когда в ходе человеческой истории один народ оказывается перед необходимостью расторгнуть политические связи, соединяющие его с другим, и занять среди держав мира самостоятельное и независимое положение, на которое он имеет право согласно законам природы и ее Творца, то уважение к мнению человечества обязывает его изложить причины, побуждающие к отделению». Каждое слово ясно звучало в жаркий июльский день. Абигейл, знавшая Декларацию наизусть, прислушивалась к своему внутреннему голосу: она вспоминала годы, проведенные в Бостоне, успехи и неудачи, свою жизнь без Джона в Брейнтри. Раскатистым голосом полковник Крафтс прочитал последний, заключительный параграф Декларации: — «Мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшись на Генеральный конгресс, призывая Всевышнего быть свидетелем искренности наших намерений, именем и властью доброго народа наших колоний торжественно и во всеуслышание объявляем, что наши колонии отныне являются, и по праву должны быть, свободными и независимыми…» С балкона раздалось: — Боже, спаси наши американские штаты! Боже, спаси Соединенные Штаты Америки! Трижды эти слова приветствовались с бурным одобрением. Зазвонили церковные колокола Бостона, в гавани раздался салют возвратившихся американских судов, им ответили пушки фортов. Роты солдат, выстроившиеся на площади, развернулись и прошли перед Домом правительства, жители расступились, давая им проход. Мистер Баудойн сделал шаг к балюстраде балкона и выкрикнул: — Предлагаю пожелать американской независимости стабильности и вечности. С Дома правительства был сброшен и сожжен на костре на Кинг-стрит королевский герб. Абигейл прижала к себе детей: — Будь ваш отец с нами, он сказал бы: так кончается в этом штате королевская власть. Нэб, поздравляю тебя, теперь ты свободная, независимая американка. — Спасибо, мама. — Джонни, Чарли, Томми, поздравляю вас, отныне вы свободные и независимые американцы. — Спасибо, мама. — Постарайтесь остаться такими. — Останемся такими, мама.10
Бетси Адамс пригласила Абигейл на чай. Британцы столь небрежно обращались с домом на Пёрчейз-стрит, что Сэмюелу пришлось арендовать у властей Массачусетса дом Роберта Хэллоуэлла, отчужденный как собственность тори. Дом не был столь шикарным, как тот, что принадлежал таможенному контролеру и был разграблен толпой одиннадцать лет назад. Сэмюел обставил его мебелью, принадлежавшей тори и данной ему как возмещение за не выплаченное за два года жалованье секретаря палаты. — Пойдем в новый кабинет Сэмюела, — сказала Бетси с ироническим смешком. — Я перевезла сюда все его книги и документы из Дедхэма. Чай почти готов. «Чай» стал условным, практически ничего не означавшим в последние два года термином; им могли быть кофе, шоколад, пунш, заваренные листья малины, разновидность примулы, цветка под названием «золотой жезл», мяты, ежевики. Но когда вошла Бетси с подносом и поставила его на письменный стол Сэмюела у окна, Абигейл почувствовала самый приятный из всех ароматов. — Бетси, это всерьез? Настоящий, неподдельный чай! — Правда, чудесно? Сэмюел прислал мне с мистером Джерри целую коробку зеленого чая. Абигейл отвернулась от Бетси, занятой разливанием чая, чтобы скрыть выражение своего лица. Если Сэмюел мог послать Бетси коробку чая, то почему этого не сделал Джон? Ведь Джерри остановился у дома Исаака Смита, чтобы передать привет от Джона. Он вполне мог приторочить еще один мешочек к седельной сумке. — Я изголодалась по вкусу чая! — воскликнула Бетси, протягивая Абигейл дымящуюся чашку. — Но мне хотелось выждать момент, когда ты можешь присоединиться ко мне. Чувство зависти покинуло Абигейл. Она наклонилась и поцеловала Бетси в щеку. Усевшись с чашками в руках, обе женщины, сверкая от удовольствия глазами, вдыхали аромат свежего чая и наслаждались его вкусом. — Этот пагубный сорняк, — прошептала Абигейл, — стимулирует по-настоящему. — Именно из-за нехватки его было так много заболеваний за последние два года, — согласилась Бетси. — Нет такой дизентерии или душевного расстройства, какие не излечил бы чай. Они сделали второй медленный глоток и вновь испытали блаженство, ни с чем не сравнимое ощущение. — Мы, наверное, выглядим сейчас как завсегдатаи таверны, — сказала Бетси. — То есть как пьянчужки. Не кажется ли тебе, что быть чаевницей так же грешно, как любительницей рома? — Убеждена в этом. Наш проповедник уверяет: греховно все, что дает наслаждение. Еще чашку, кузина? — Конечно, кузина. Через час Абигейл встала, все обуревавшие ее смутные чувства испарились. Направляясь к выходу, она задала сама себе вопрос: «Поделится ли Бетси чаем? Конечно, отдаст не половину, это было бы слишком много, и даже не четверть, это также расточительно. Но выделить одну десятую? Крошечную чашечку, которую при бережливом отношении можно растянуть на месяц и даже больше?» Бетси ничего не предложила. Ей даже не пришла в голову такая мысль. Затем Абигейл получила письмо от Джона с сообщением: «Джерри привезет тебе коробку чая». У Абигейл перехватило дыхание. — О боже, Джерри отдал чай не той миссис Адамс! Она заочно попросила у Джона прощение за мелькнувший в ее сердце упрек, что он не прислал ей чая. Потом она попросила у Господа Бога прощения за греховную зависть, после этого подошла к главному, как вернуть чай, как лучше всего довести до сведения истину. Она надеялась, что Бетси не почувствует себя неловко и не огорчится. Обдумывая подход повежливее, она пришла к выводу, что он вовсе не нужен. Вслед за этим Абигейл словно укололо: поскольку допущена ошибка и Бетси считала чай своим, не следует ли поделиться с нею? Отдать ей не половину, это было бы слишком, и даже не четверть, что также расточительно. Может быть, одну десятую? Крошечную чашечку, которая при бережливом отношении… Такой родственный жест сгладит неловкость ситуации. Услышав новость, Бетси моргнула, но только раз. Она принесла из кухни коробку чая и решительно подала ее Абигейл. Они обе тотчас рассмеялись. — Кузина Бетси, позволь приготовить хороший крепкий чай на твоей кухне. — Что справедливо — то справедливо. Я приготовила чайник, когда чай был мой, теперь же, когда он — твой, ты можешь заварить чай для меня.Дядюшка Исаак приехал по делам из Салема. Абигейл попросила его осмотреть дом на Куин-стрит и проверить расчеты по ремонту. Дядюшка, понурив голову, некоторое время размышлял. — Должна ли я попытаться отремонтировать дом сейчас, дядюшка Исаак? Я могла бы получить двадцать пять фунтов стерлингов, сдав дом в аренду. Откровенно говоря, мне нужны деньги. — Мы все нуждаемся после понесенных убытков. Британцы растащили на дрова два моих склада. Не хватает материалов и мало рабочих. Цены высокие. К тому же придется наблюдать за ремонтом на месте. — Это мне нежелательно. — Когда ты ожидаешь приезда Джона? — Он должен вскоре приехать. Он отсутствовал уже больше шести месяцев. — Пусть он нанимает рабочих и сам следит за работами. Он сможет добиться большего за меньшую сумму, да и ответственность не будет лежать на твоих плечах. Наконец заявили о себе прививки от оспы: начали появляться язвочки. Заболела Нэб, затем Джонни и Ричард Кранч, но они держались хорошо. Потом одновременно возникли язвочки у Абигейл и Мэри Кранч. Абигейл чувствовала себя необычно во время процесса иммунизации, но она и Мэри оставались на ногах. Все дети вели себя разумно, за исключением Томми и Чарли, которые не реагировали на прививки. Томми сделали прививку повторно, и она прошла успешно, он с гордостью показывал почти дюжину покрасневших мест. Три прививки Чарли остались без каких-либо последствий. Но потом он заразился оспой от соседнего мальчика, с которым играл; болезнь протекала тяжело, два дня его жизнь была в опасности. Семейный госпиталь Смита действовал успешно. Его пациенты начали возвращаться в родные места — Уэймаут, Линкольн, Салем, Брейнтри. До отъезда Абигейл прибыл Сэмюел Адамс, измочаленный семью месяцами интенсивной работы. Джон писал, что опасается за здоровье Сэмюела, ему следовало бы вернуться домой еще несколько месяцев назад. Сэмюел стал совсем седым, у него вновь дрожали руки и голова. Он целыми днями просиживал в кресле, не читая ни книги, ни свеженаписанные страницы, что говорило о его явном истощении. — Я работал не больше, чем Джон, — парировал он, когда Абигейл присоединялась к Бетси в упреках, что он перестарался. — Джон встает в четыре часа утра и работает в бюро по вопросам военного и артиллерийского снабжения, потом отправляется в Конгресс и там до трех-четырех часов дня участвует в обсуждении статей о конфедерации. После этого до ужина работает в комитете по согласованию государственной печати Соединенных Штатов, а после ужина вновь встречается с группой, составляющей законы о конфискации британской собственности. Затем пишет до полуночи в своей комнате. Абигейл была шокирована: — Ни прогулок пешком, ни поездок верхом? — Нет времени. Кроме того, Джон экономит, он отказался держать в Филадельфии лошадь. Ненужная экономия, кузина Абигейл. Ты должна послать ему верховую лошадь. Абигейл хихикнула: — С помощью новой почтовой системы Бенджамина Франклина? Как выдерживает Джон такое напряжение? — Понимаешь, кузина, лучше меня. Он получает облегчение от жалоб на свое здоровье, как католик от исповеди. Болезни проходят, если ему удается пожаловаться на резь в глазах, на бесконечный насморк, на перегрузку, на нестерпимую жару. Довольна ли ты ответом, кузина? Джон никогда не чувствовал себя лучше. В Конгрессе немало блистательных умов, но в разработке базовых документов он, вероятно, сделал больше, чем кто-либо из делегатов. Она не могла скрыть довольную улыбку. — Ты не можешь себе представить, как мы гордились, читая Декларацию независимости. — Ее написал не Джон, а Томас Джефферсон.[34] Она подумала, что ослышалась. — Как так, Сэм? У меня был оригинал, написанный рукой Джона. — У тебя была написанная Джоном копия проекта Джефферсона. Джон участвовал в комитете и высказал некоторые соображения. Но Декларацию написал Томас Джефферсон из Виргинии. На основе предложенной им преамбулы к конституции штата Виргиния. Абигейл расплакалась. Бетси обняла ее, успокаивая. Слезы исчезли так же быстро, как появились. — Обуяла гордыня, не так ли? Важно, что Декларация написана. И с радостью принята. — Явившаяся итогом полуторавекового проживания народа на новом континенте и нелегко доставшегося опыта управлять самим собой, — добавил устало Сэмюел. Выпив в охотку чай, она вернулась в дом дядюшки Исаака, поднялась в свою спальню, взяла Декларацию, лежавшую в столике у кровати, вновь перечитала блестящий текст. — Декларация мистера Джефферсона — работа подлинного гения! — воскликнула она в гулкой комнате. Соединенные Штаты декларировали свою независимость. Теперь им предстояло завоевать ее.
11
Второго сентября они возвратились в Брейнтри, избежав оспу и считая, что им повезло, ибо у всех были чистые, без рябин лица. Такого же нельзя было сказать о лице только что родившейся республики; его испятнали вынужденные отступления и поражения. Начиная с сообщений о сражении на Лонг-Айленд, огорчительные известия нахлынули в Бостон и Брейнтри. Отец Абигейл был прав: британцы не убежали, они решили развернуть более серьезную кампанию. Генерал Уильям Хау получил под свое командование самую крупную британскую армию, когда-либо отправлявшуюся за рубеж, — тридцать две тысячи обученных и безупречно снаряженных человек, включая армии генералов Клинтона и Корнваллиса, сосредоточенные вокруг Нью-Йорка; десять тысяч английских солдат, прибывших с внушительным флотом вице-адмирала Ричарда Хау в Нью-Йоркский залив, состоявшим из линейных кораблей и тяжеловооруженных фрегатов, а также дополнительно 8 тысяч гессенских наемников, составлявших первую группу из почти тридцати тысяч, набранных Георгом III у многочисленных германских князей, доводившихся ему родственниками. Силы генерала Вашингтона насчитывали всего 10 тысяч дисциплинированных континентальных войск и еще 10 тысяч милицейских короткого срока службы, со своими мушкетами и охотничьими ружьями, хранившимися американцами обычно над каминами. В конце лета 1776 года милицейские обрели сомнительную славу из-за выпивок, разврата и самовольных отлучек в Нью-Йорк, где их ждали развлечения. Нью-Йорк не скрывал своей неприязни ко многим тысячам горячих сторонников короны, контролировавших значительные районы в самом Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании. Двадцать второго августа генерал Хау под прикрытием кораблей перевез со Стетен-Айленда на Лонг-Айленд пятнадцать тысяч человек, за которыми последовали пять тысяч гессенцев. По приказу Конгресса Вашингтон распределил свои войска между Манхэттен-Айленд и Лонг-Айленд, укрепил Бруклин-Хейтс и другие стратегические районы, стремясь предотвратить захват Нью-Йорка британцами. Выявив с помощью разведки слабые участки обороны армии Вашингтона, Хау начал хорошо запланированное наступление. Повсюду войска Вашингтона сталкивались с неожиданностью, оказывались в меньшинстве перед лицом маневренного противника. Американцы потеряли полторы тысячи человек. Если бы генерал Хау атаковал главные американские силы, окопавшиеся в Бруклине, американцы потеряли бы половину своих войск, ибо, подобно сражению на Бридс-Хилле, американцы не оставили себе путей отхода, за исключением реки Ист-Ривер, в которой могли лишь утонуть. Хау не атаковал. Подошли подкрепления, включая 14-й Массачусетский полк из Марблхэда. С помощью моряков Марблхэда под покровом ночи Вашингтон перевез на лодках в Нью-Йорк всю свою армию. Первый британский лазугчик, прибывший на пароме на заре, в половине пятого утра, заметил последнюю лодку, увозившую Джорджа Вашингтона. В письме своему мужу Абигейл выражала общие мысли патриотов:«Думаю, что поражение не означает нашего порабощения. Народ, воодушевленный, подобно римлянам, любовью к своей стране и свободе, рвением к общественному добру и благородным стремлением к славе, не потеряет мужества и присутствия духа из-за неблагоприятных событий. Подобно римлянам, через поражение мы обретем способность стать непобедимыми».Такая неколебимая вера требовалась в предстоящие месяцы. Регулярные войска и милиция Вашингтона терпели поражение за поражением, охваченные паникой, когда после двухчасовой бомбардировки с моря британские гренадеры вторглись на Манхеттен. В этом отступлении участвовали и солдаты Новой Англии. Поражение в Нью-Йорке частично было компенсировано в середине сентября у высот Гарлем-Хейтс. Обозленный звуками британских рожков, наигрывавших мелодию охоты за лисами, Вашингтон осуществил маневр, выведший его войска на фланг и в тыл британцев, и нанес им сокрушительный удар. Солдаты из Новой Англии смогли вернуться в родные места, а небольшая, символическая победа позволила Вашингтону отвести без помех свою армию в северном направлении. Генерал не выигрывал войны, но и не проигрывал ее; это давало некоторое утешение жителям Массачусетса, воевавшим уже полтора года после сражения у Конкорда и добившимся эвакуации британцев из бостонской гавани. Ободряли сообщения, что южные штаты приступили к организации своих полков и начали строить укрепления вдоль побережья. Крупных сражений еще не было; тори Северной Каролины попытались захватить Уилмингтон, но были отогнаны, а длительная бомбардировка укрепленного острова Салливен, прикрывавшего Чарлстон, не удалась. Израсходовав свои боезапасы, британские корабли вернулись в Нью-Йорк. По всем сообщениям, война предстояла длительная. Главной проблемой семьи Адамс, как признал в ходе переписки Джон, было его возвращение домой. Судя по календарю на столе Джона, прошло уже полных восемь месяцев с момента его отъезда. Помимо своей воли Абигейл оказалась в положении жен бостонских моряков, которые за целый год находятся дома всего месяц. Джон делал все возможное, чтобы получить отпуск, но обстоятельства были против него — он остался в Конгрессе единственным работоспособным представителем Массачусетса. Он непрестанно писал спикеру Ассамблеи Джеймсу Уоррену, настаивая на увеличении числа делегатов законодательного собрания, благодаря чему новый представитель мог бы занять его место. Абигейл следила за прохождением просьбы Джона, но заседания законодательного собрания прервались. При возобновлении работы идея Джона Адамса получила одобрение, но в то же время члены собрания не приняли резолюции, которая освобождала бы его или выдвигала замену. Джон просил Абигейл прислать ему лошадь, чтобы добраться до дома. Из-за отсутствия денег он не мог купить или нанять коня в Филадельфии. Не было средств и у Абигейл. Урожай был низким: находясь в Бостоне, она не могла вовремя нанять дополнительных работников. Из полученных скромных сумм пришлось уплатить в первую очередь налоги, затем тридцать четыре фунта стерлингов в качестве последнего взноса за дом на Куин-стрит. То, что осталось, могло бы обеспечить семью на зиму, но Абигейл израсходовала значительный куш, чтобы отправить в Филадельфию молодого Басса с двумя конями. Абигейл писала: «Я представляю, сколь тяжелы твои общественные обязанности, и поэтому горжусь, когда вспоминаю, что ты делаешь». Она сообщила ему о стоимости ремонта дома в Бостоне, затем о гниющей на верфи лодке; еще год — и она потеряет всякую цену. Большая семейная ферма в тридцать пять акров, купленная у Питера, не оправдала себя. Нужно либо всерьез заняться ею, либо сдать в аренду. Долгов не было, но не было и сбережений. Она и дети хорошо питались, шили собственную одежду, заготавливали дрова. Так шла жизнь. Но и после приезда Басса в Филадельфию Джон оставался на месте. Абигейл догадалась, что есть еще одна — третья сила, приковавшая Джона Адамса к его письменному столу, — он сам. В роли председателя Континентального бюро по снабжению армии и артиллерии он по уши погряз в армейских делах. Отстаивая необходимость создания регулярной боеспособной армии, он одновременно добивался стабилизации валюты, заключения с европейскими странами договоров, закрепляющих независимость Соединенных Штатов. Он имел отношение к строительству боевых кораблей и вооруженных сухогрузов для захвата «призов» на море. Его «Мысли о правительстве» легли в основу дискуссий о новых правительствах штатов. Джон входил в комитеты, занимавшиеся вопросами шпионажа и предательства, аттестации офицеров, методами ведения войны. В далеком Брейнтри ей казалось, что Джон Адамс стал подобием Атланта, несущего на своих плечах целый мир, что в этот трудный переходный период его некем заменить и он не может оставить свой пост, пока не почувствует, что дело в надежных руках. Не тщеславие ли двигало Джоном? Она этому не верила. Абигейл знала, что им руководит чувство долга. Она писала Мэри Уоррен: «Наша страна словно второй Бог и самый важный прародитель». Если ее чувства были такими сильными, то какими должны быть чувства Джона? Джон выехал из Филадельфии 13 октября 1776 года — через тридцать восемь дней после прибытия Басса с лошадьми. Две недели поездки верхом через Пенсильванию, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Массачусетс укрепили его физические силы. Он с такой радостью обнял Абигейл и детей, что, казалось, она осветила весь дом. В начале ноября выпал снег. Абигейл и Джон лежали под теплым одеялом в кровати с балдахином. Отодвинутый полог позволял видеть в отдаленном окне медленно кружившиеся снежинки. Кровать напоминала Абигейл судно, которое возвращается в родной порт с ценным грузом, сулящим покой и удовлетворение. Она вспомнила свою первую брачную ночь в этой постели, свои мысли о чуде супружества. Отпали волнения по поводу переизбрания Джона в Конгресс; законодательное собрание приняло его предложение назначить дополнительных делегатов, и каждый из них официально уполномочен выступать от имени Массачусетса. Это означало, что Джон будет отсутствовать самое большее два-три месяца в году. Джон пошевелился. — Ты не спишь? — прошептала она. — Нет, — ответил он шепотом, — я дремлю. Мне чудится, будто я дома, в собственной постели. Какое-то время она лежала молча, а затем спросила: — Джон, не хотел бы ты еще одного ребенка? Я думала об этом все прошедшие месяцы. — Моя дорогая, не обнаружила ли ты некое таинственное значение в цифре пять, какого лишена четверка? — Да. Если будет девочка. — Ух! — Он повернулся так, чтобы увидеть ее глаза. — Ты хочешь иметь еще одну дочь. Ты не забыла Сюзанну. — А разве ты забыл, Джон? — Нет. — Ты должен дать одно обещание. — Какое? — Что ты будешь дома во время родов. Что я не буду одна. — Даю честное слово. Вновь открылись массачусетские суды, и Абигейл, пригласившая на обед судей, когда суд заседал в Брейнтри, удостоверилась в выгоде судейства. Молодые адвокаты, вступившие в ассоциацию, когда Джон находился в Конгрессе, богатели, занимаясь «призовыми» делами — захватами британских торговых судов с ценными грузами. Гонорары бывших клерков-адвокатов Джона достигали сотен фунтов стерлингов. — А я не могу вести ни одного, даже самого ничтожного, дела, — сетовал Джон. — Не понимаю почему. Ты мог бы получить самые крупные дела. — Я все еще главный судья Высшего суда Массачусетса, хотя никогда в нем не заседал. И меня только что переизбрали делегатом в Конгресс. — Ты говорил, что подаешь в отставку с поста главного судьи. — Да, в скором времени. — Тогда почему не сейчас? — Я должен дождаться выбора преемника. Ведь, занимаясь общественными делами, я не могу вести частные дела. Понимаю, что, блюдя юридическую честность, я наполняю банк Адамсов паутиной вместо звонкой монеты. Пойдем завтра вместе в Бостон. Я начну ремонт дома и оттащу лодку в ангар для покраски. После этого мы сможем сдать дом в аренду и продать лодку. — Я не собираюсь вмешиваться в твои частные дела, — сказала Абигейл с усмешкой, — но, может быть, скажешь мне, что ты имеешь в виду в качестве своего судебного иска? — Деньги. Несколько адвокатов и торговцев, которые были моими должниками в течение ряда лет, неожиданно разбогатели. Война. Нехватки. Поскольку они богатеют за счет налоговых документов Массачусетса, я полагаю, что осуществляю небольшое законное уравнение, потребовав выплаты процентов за долги. — Ростовщические проценты. — Предпочтительно. И Законодательное собрание обещало с января оплатить все мои расходы и, кроме того, то, что оно называет услугами. — Значит ли это, что речь идет о заработной плате? — Когда нанимаешь работника. Однако поживем — увидим. Каждый сдержал свое обещание. Ко второй неделе января Абигейл сообщила мужу, что она беременна. Он поздравил ее и показал сумму, собранную им со своих давних должников, а также проект решения Законодательного собрания о выплате ему двухсот двадцати шести фунтов шести шиллингов и двух пенсов за девять месяцев службы в 1776 году. Сидя за столом, предназначенным для клиентов, Джон изучал записи о годовых расходах. — Клянусь, не в состоянии сказать, что эти цифры отображают мои расходы и остались еще какие-то фунты за оказанные мною «услуги». Иногда я забывал записать расходы, скажем, на писчую бумагу, свечи или конюшню. Каждый раз, когда я подбивал итог, общая сумма оказывалась на пять или десять фунтов меньше, чем я предполагал. — Сравни с предыдущими годами. Например, с семьдесят пятым годом. Джон подошел к секретеру, повернул замок и вытащил бухгалтерскую книгу. — Посмотри: с апреля по август расходы составляли тридцать четыре фунта восемь шиллингов. За период с августа до декабря они достигли ста двадцати семи фунтов семи шиллингов и десяти пенсов. В этот год я совершил две поездки. — Даже в таком случае общая сумма составит около двухсот шестидесяти фунтов, и она, разумеется, не включает жалованье. Джон вздохнул: — Не включает. Возможно, я сэкономил двадцать фунтов, отказывая себе кое в чем. Но этой суммы хватит заплатить батраку. — Ничего себе! — Не огорчайся. Если общественную службу сделать выгодной, тогда слишком много сомнительных деятелей захотят получить должность. До настоящего времени все служащие были добровольцами, а это значит, что они работали в десять раз старательнее наемных. Новый закон облегчит наше положение: делегатам станут платить двадцать два шиллинга в день. Это не ахти какое богатство, но на нового ребенка хватит. В ее глазах мелькнула смешинка. — Честная сделка. Твой труд не мой. — Когда ожидаешь роды? — Где-то в июле. — Я должен уехать через несколько дней. Но буду дома к апрелю или маю. — Постарайся. Последние недели перед родами тягостны. Перед отъездом Джон сделал все, чтобы до его возвращения у Абигейл был минимум обязанностей. Он отыскал плотника, взявшегося отремонтировать сарай и погреб, нанял двух батраков на целый год, купил семена, удобрения, починил каменные заборы, обрезал деревья в саду, привел в порядок сельскохозяйственные орудия. Он взял с собой сто фунтов стерлингов, а ей оставил всю сумму, сохранившуюся после оплаты ремонта дома в Бостоне. Ежедневно или же через день Джон писал ей забавные письма, пересказывая уморительные анекдоты, которые ему поставлял болтливый парикмахер. Он скупыми красками описывал работу Конгресса, но Абигейл знала: он ведет дневник и после его возвращения она будет полностью в курсе дела. Когда британцы создали угрозу для Филадельфии, делегаты переехали в Балтимору и проводили заседания в перестроенной таверне. Джон писал, что Балтимора показалась ему красивым городком, окруженным процветающими фермами. Ландшафт выглядел тем более приятным, что здесь не нашлось места для сторонников британской короны. Он жаловался на чудовищные цены и на грязные, замусоренные улицы. И одновременно радовался укреплению Континентальной армии, восхищался поведением колонии Мэриленд, образцово выполнявшей указания Конгресса по созданию местного управления. Когда в течение нескольких дней не поступали письма от Джона, Абигейл уединялась в кабинете, перечитывала ранее полученные, и это поднимало ее настроение. В «Континентал джорнел» 6 и 13 февраля Абигейл поместила объявление о сдаче в аренду дома на Куин-стрит. Дом снял за двадцать два фунта стерлингов в год печатник мистер Уиллис. В середине февраля выпал обильный снег. Хорошие зимние дороги позволили посетить семейство Кранч, отца и Бетси. Брейнтри и Уэймаут наводнили милиционеры, обязавшиеся отслужить три месяца, но дезертировавшие из-за не утихавшей эпидемии оспы. Из продажи исчезла пшеничная и ржаная мука; мясники предлагали лишь жалкие обрезки, в Бостоне назревали хлебные бунты: пекари продавали по одной булке на семью. Абигейл посадила детей на скудную диету в ожидании прихода в бостонскую гавань одного из судов дядюшки Исаака с грузом муки, заказанной Джоном, когда тот был дома. Абигейл чувствовала себя хорошо. Конечно, случались неприятности: заболел Джонни, и Коттон Тафс не смог поставить диагноз. У Томми появились глисты, и он страшно похудел, пока ей удалось получить от Джона коробку с лекарствами доктора Райана. Принадлежавшая им корова Рагглз провалилась под лед. Сестра Бетси сообщила о намерении выйти замуж за Джона Шоу, удостоенного сана священника. Известие огорчило семейство Смит, ибо Бетси настойчиво отрицала свою любовь к Джону Шоу, покинувшему дом Смитов три года назад. Видимо, они встречались втайне или вели переписку в течение всего этого времени. Джон написал, что он в восторге от такой новости; Абигейл не спешила передать добрые пожелания Джона, опасаясь, что Бетси обманула семью. Бетси вроде бы не замечала сдержанности Абигейл; ее увлекли заботы по созданию собственного семейного гнездышка. Преподобный Джон Шоу получил приход в Хаберхилле, и бракосочетание намечалось на осень. Новая Англия была наводнена противоречивыми слухами: Конгресс связал руки Джорджу Вашингтону, и он не может сражаться; Конгресс превратил генерала Вашингтона в диктатора; Англия предложила новый договор и новые условия Конгрессу. Солдаты Новой Англии — трусы, бегущие с поля битвы… С Катариной Луизой приехал брат Билли в форме капитана только что созданных отрядов морской пехоты и провел у Абигейл ночь до отплытия на корабле «Америкен Тартар». Ее навестил Джеймс Уоррен, выразивший восхищение состоянием фермы. Ричард Кранч купил ферму по соседству. В Брейнтри открылись два госпиталя для прививок солдатам против оспы, в одном из них работал Коттон Тафтс. Единственным печальным известием было сообщение о смерти бостонской подруги — миссис Хауард. Абигейл писала Джону:
«На прошлой неделе она родила… сына или дочь. Омертвение плода вызвало смерть. Подобное, естественно, смертельно пугает оказавшегося в таком положении. Каким великим должен быть рассудок, способный преодолеть страх смерти! Как волнуется сердце родителя при виде беспомощных малышей думающего, как горько покидать их в мире, полном ловушек и соблазнов, какие они не в состоянии предвидеть и избежать».Снег растаял, дни стали более длинными. Во второй половине апреля Джона привлекли к составлению статей о Конфедерации, согласно которым тринадцать штатов становились единым государством. Вернувшиеся в Филадельфию делегаты, после того как британская угроза захвата города отпала, ввязались в затяжные споры по поводу компромисса, обеспечивающего достаточно сильное центральное правительство, чтобы защитить отдельные штаты, но не за счет ущемления их законных прав. Прошел шестой месяц беременности; ребенок вел себя активно, то и дело напоминая о себе. Она уже поняла, что Джон не вернется к обещанной дате, и не могла настаивать на выполнении им обещания приехать к родам. Если срочные вопросы окажутся нерешенными из-за его отъезда в разгар дебатов, она никогда не проститсебе этого. Ей не хотелось услышать упреки Джона: «Я не был так уж нужен тебе. Мог бы завершить свою работу». Абигейл написала ему, выразив благодарность за письма, которые «утешали… в холодные зимние ночи», и косвенно давая понять, что он вправе закончить начатые им дела. «По мере приближения лета возникают заботы, часть которых отпала бы, будь ты со мной. Но я не вправе ожидать такого удовольствия… я обязана призвать все терпение, каким наделена, чтобы пережить то, что положено пережить». Май и июнь прошли спокойно. В июле, как она писала сестре Мэри, Абигейл почувствовала себя неважно. Она старалась отогнать воспоминания о своей подруге миссис Хауард, но они то и дело возвращались. Из Уэймаута был вызван Коттон Тафтс. Он, видимо, спешил сломя голову, но, когда вошел в спальню, постарался скрыть это. Он походил на преподобного Смита: высокий, с карими глазами и впалыми щеками. — На что жалуешься, племянница? — Болит голова. В глазах все плывет. Опухают ноги. — Вроде бы все обычное. А как ребенок? — Шевелится. — Ты ждешь роды примерно через неделю? — Около того. — Лежи в постели. Не ходи по лестницам. Я подберу тебе книги для чтения. Ноги Абигейл отекли, но чувствовала она себя сравнительно комфортно, читая «Путешествие Хэмфри Клинкера» Смоллетта и «Викария Уэйкфилда» Оливера Голдсмита. В полдень ее навещал Коттон Тафтс. Однажды, сидя напротив Абигейл у переднего окна ее спальни, чтобы подышать свежим воздухом, он заметил полный отпечаток ступней ребенка на ее тонком платье. — Этот ребенок торопится родиться. — Кузен Коттон, ваши слова ободряют крепче ромового пунша Джона. — И за меньшую цену, — рассмеялся он, — теперь, когда мы не ввозим патоку из Вест-Индии. Ночью ее била сильная дрожь. В комнате не было часов, и она не могла определить, когда начались схватки, но предполагала, что прошло минуты три, прежде чем дрожь прекратилась. Сознание Абигейл затуманилось. Затем наступил глубокий сон. Пробуждение на заре напоминало подъем со дна глубокого озера. Она поняла, что это был не сон, а кома. В полдень пришел доктор Тафтс, и она рассказала ему о конвульсиях. — Кузен Коттон, боюсь, что ребенок мертв. Коттон молча посмотрел на нее поверх своих очков; его лоб покрыли глубокие морщины. — Кажется, твои глаза в порядке, кузина Абигейл. Ты видишь отчетливо? — Да. — Хорошо. А как головная боль? — Исчезла. — А щиколотки? Абигейл откинула легкую льняную простыню. — Отеки пропали. — Твое состояние хорошее. Возможно, ребенок занял лучшее положение для родов. — Не считаешь ли ты, что ребенка можно вытащить из меня теперь? — Этими страшными инструментами? Конечно нет. Они скорее убивают, чем спасают матерей. Дождемся нормальных родов. — Будь добр, попроси Мэри позвать повитуху. Когда Мэри вернулась, она мягко отчитала Абигейл: — Тебе просто почудилось. — Может быть. Десятого июля вечером из Бостона пришло письмо Джона. Абигейл забыла о своих неприятностях, выбралась из постели и написала веселое письмо, сообщив ему о хороших видах на урожай и о начале родовых схваток. После этого она улеглась в кровать и крепко заснула. С рассветом начались схватки, острые и короткие. Она напряженно ждала плача ребенка. Ни звука. Абигейл приподнялась на локте и увидела, что разродилась миловидной девочкой. Но кожа малютки имела синеватый цвет. Повитуха шлепала ребенка по заду и груди. Абигейл слышала, что кто-то торопится в спальню: Коттон Тафтс схватил ребенка и принялся делать искусственное дыхание рот в рот. Все было напрасно. Ни доктор, ни повитуха не смогли нащупать пульс ребенка. Причину смерти вызвал зажим пуповины. У помогавшей повитухе Мэри глаза были сухими. Коттон подавлял рыдания. Наконец, взяв себя в руки, он опустился на колени перед постелью Абигейл, взял ее за руку и попросил прощения: — Я врач. И стыжусь своей неграмотности. Когда ты впервые сказала мне о своих сомнениях, я должен был помочь. Еще было время спасти ребенка. Что давало тебе уверенность, когда я полагал, что ребенок все еще жив? Абигейл ответила с грустью: — Ребенок был во мне, а не в тебе. Мне стало легче, когда у меня внутри прекратилась борьба. У нее щемило сердце. Нэб разрешили войти в спальню, и, узнав о случившемся, она зарыдала. Мэри хотела вывести девочку из комнаты. Абигейл возразила: — Пусть остается. Мы утешим друг друга. Нэб, дорогая, иди сюда и поплачь у меня на плече. Мертворожденной дочери дали имя Элизабет и похоронили ее на кладбищенском участке Адамсов. Отец Абигейл, сестра Мэри и мать Джона сопровождали преподобного Уиберда к могилке. Через пять дней Абигейл была уже на ногах и написала Джону письмо. Она считала, что должна сама сообщить ему печальную новость, заверить, что в случившемся нет его вины. В комнату вошел Коттон Тафтс. Положив перо, Абигейл повернулась к нему: — Будь добр, скажи: мне не следует рисковать и заводить нового ребенка, верно? — Твоя жизнь была под угрозой дважды: при родах Сюзанны и теперь — Элизабет. Думаю, что больше не нужно рисковать. Она помолчала немного. — Я ожидала такой ответ. С момента, когда не услышала крика. Бог был милостив. Он дал мне четырех чудесных детишек. Видимо, мне не суждено иметь больше. Я была бы неблагодарной, не поблагодарив его за щедрость и не приняв безропотно Его волю. Вновь склонившись над столом, Абигейл взяла перо и написала:
«Присоединись ко мне, мой близкий друг, в благодарности Небесам за то, что ценная для тебя жизнь была пощажена и пережила скорбь и опасность, а милый ребенок ушел к праотцам… У меня столько оснований хранить благодарность в своей печали, что не питаю ни единого упрека… До свиданья, дражайший друг, до свиданья».
12
Абигейл повезло: она быстро оправилась, и у нее не пропало желание ухаживать за плодородной нивой фермы под палящим солнцем. Жалованье в сто долларов, предложенное солдатам выборными лицами Брейнтри и Массачусетским законодательным собранием, привело к оттоку работников с ферм. Урожай кукурузы и пшеницы радовал, но негр-батрак ушел с фермы в разгар сенокоса. Трехдневная жара, сменившаяся дождливой погодой, грозила ускорить созревание яблок. Ричард Кранч успешно завершил сельскохозяйственный год. Поскольку нанятый им работник изъявил готовность поработать еще несколько дней, Ричард отправил его к Абигейл. Так же поступили ее отец и Коттон Тафтс. В сезон уборки урожая они работали бок о бок с Абигейл и детьми, перенося зерно в закрома. Молочных продуктов было немного, и они стоили дорого. Абигейл смогла получить изрядную сумму за проданное молоко, масло, сыр, яйца и птицу. Вечерами она изучала карты, пытаясь с помощью отрывочной информации, доходившей до нее, установить расположение американских и британских войск, проследить их движение, стычки, бои. Американская армия подверглась на севере ряду сокрушительных ударов. «Джентльмен Джонни» Бургойн выступил из Канады с хорошо организованной и снабженной армией численностью около десяти тысяч человек при ста сорока пушках. Укрепив холм над фортом Тайкондерога, он выбил из него генерал-майора Артура Сент-Клера и его плохо вооруженные континентальные полки. Таким образом, он повторил маневр генерала Вашингтона, который выдворил британцев из Бостона, укрепив Дорчестерские высоты, разместив на них пушки Генри Нокса, доставленные из того же форта Тайкондерога. 7 июля 1777 года в Вермонте у Хаббардтона Бургойн разгромил арьергард драпавших американцев и начал наступление в направлении Олбани и Манхэттена, где намеревался соединиться охватывающим движением с армией генерала Хау. Вашингтон с основными американскими вооруженными силами действовал в Пенсильвании не лучшим образом. В сражении при Брэндиуайн генерал Хау с пятнадцатью тысяч солдат вступил в бой с силами Вашингтона, состоявшими из восьми тысяч континентальных солдат и трех тысяч милиционеров. Хау обошел Вашингтона, послав половину своих сил в тыл американцам, опрокинул их правый фланг, тогда как Вашингтон ожидал наступления на центральном участке. Американцы стойко сражались до заката, затем отступили на север, оставив на поле боя тысячу убитых и раненых. Это крупное поражение позволило Уильяму Хау занять 27 сентября Филадельфию без боя. На сей раз Конгресс переместился в Йорк в Пенсильвании. Генерал Антони Уайн, готовивший удар в тылу британцев, был захвачен врасплох ночной атакой у Паоли около Валли-Форджа. Почти весь его отряд, насчитывавший несколько сот американцев, погиб в штыковом бою. 4 октября Вашингтон отправился маршем на Джермантаун в надежде внезапным ударом сокрушить девятитысячную армию Хау; он почти прорвался через линию Хау, но из Филадельфии подоспел с подкреплениями Корнваллис, и американцы вновь понесли большие потери. Вашингтону удалось вывести с поля боя свои основные силы, но это не отменяло крупного поражения. Известия о потерях причиняли острую боль Абигейл и другим патриотам; в сердце словно вонзили штык. После каждой неудачи на страну опускалось кладбищенское покрывало, подобно тяжелому, удушающему, черному облаку. Патриоты не скрывали своей неугасимой ненависти к тори, сражавшимся на стороне красномундирников, гессенцев и индейцев. Абигейл уважала чувства людей, таких, как Джонатан Сиуолл, Исаак Смит-младший и Сэмюел Куинси, которые предпочли покинуть страну и не сражаться против Англии. Она считала их поступок честной ошибкой. Однако невозможно было понять урожденных американцев, примкнувших к британцам, — а таких у Бургойна было шестьсот человек в сражении у высот Бемис, — их участия в братоубийстве. Сторонники короля, принадлежавшие к церкви Христовой, утверждали также, что их мужья и сыновья отдают жизнь за свои убеждения, но хрупкой барке логики было трудно преодолеть бурное море политики. К девяти часам вечера веки тяжелели, словно посыпанные песком. С гнетущим настроением она поднималась в спальню, спала при открытых окнах в надежде на бриз и иногда видела сновидения: Джон, вернувшись домой, холодно ее приветствовал. Затем она получила письмо, из которого узнала, что Джон в Йорке, в восьмидесяти восьми милях от Филадельфии. Йорк заинтересовал ее одним: ближе или дальше от дома Джон. Он писал, что находится в районе, населенном немцами; там преподают и читают проповеди на немецком языке, и человек может прожить всю жизнь, так и не выучив ни единого английского слова. Каждый день приносил различные новости. Кузина Ханна Линкольн вышла замуж за брата тетушки Элизабет — Эбенезера Шторера, брак оказался удачным. Ее сестра Бетси вышла замуж за преподобного Джона Шоу и переехала в приходский дом в Хавер-Хилле. По мнению Абигейл, супружество нельзя назвать удачным. Зять Ричарда Кранча Дикон Палмер отправился с милицией на Род-Айленд в расчете на наступление, но отступил без боя и поэтому оказался в опале. Затем с севера пришло известие о крупном успехе: у Саратоги Бургойн сдал в плен генералу Горацию Гейтсу целую армию в пять тысяч человек со всем ее снаряжением. Это была крупная победа американских войск. Выезжая в Бостон, Абигейл взяла с собой в поездку Нэб, чтобы «она приняла завтра с друзьями участие в благодарении», — писала она Джону. «Хвала Всевышнему, который так замечательно передал врагов в наши руки». Форт у Ред-Бэнка в колонии Нью-Джерси на реке Делавэр оборонялся, по словам Джона, с достоинством; британская атака на форт Миффин в Пенсильвании была отбита, и их два военных корабля подожжены. Джон, несколько разочаровавшийся в Вашингтоне после его поражений на Лонг-Айленде и у Джермантауна, доверительно поведал Абигейл: «Конгресс назначит день благодарственной молитвы, и одним из мотивов должно послужить то, что честь изменения хода войны не принадлежит непосредственно главнокомандующему и войскам Юга. В противном случае обожествление и преклонение стали бы столь безудержными и чрезмерными, что наши свободы оказались бы под угрозой». Спустя пару недель она узнала, что корабль ее брата Билли «Америкен Тартар» со всем экипажем захвачен британцами. Билли как военнопленный отправлен на Ньюфаундленд. Британцы плохо обращались с пленными американцами, и поэтому, когда в Брейнтри появилась Катарина Луиза, Абигейл старалась держаться бодро. — Дорогая сестра, ты сама говорила, что Билли умеет постоять за себя. Распакуй свои вещи и погости у нас несколько дней. Приближался конец ноября, когда Джон прибыл в Брейнтри. Он отсутствовал без малого год. Она не собиралась говорить о мертворожденном ребенке, но после первого поцелуя они почувствовали себя неловко. Джон не смотрел ей в глаза, и она поняла, что нужно разрядить ощущение вины, омрачившее их отношения. Она стояла прямо, прижав руки к телу. — Мне следовало быть вместе с тобой! — воскликнул он. — Я не могу избавиться от чувства вины. — И я упрекаю себя. Поступила ли я в чем-то неправильно, могла бы сделать лучше? Уверена, каждая мать мертворожденного ребенка ощущает это. Он обнял ее за талию. Прядь волос спустилась на его лоб. Отбросив ее ладонью, она почувствовала пот на его лбу. — Мне не за что себя упрекнуть. И ты не должен мучиться. Было бы приятно, если бы был здесь, но это не изменило бы судьбы малышки. Мы должны еще больше любить друг друга, пережив такую утрату. Он прижался щекой к ее щеке. — Уж тебя-то я не могу любить меньше, — прошептал он, — а вот себя могу. Он пробыл дома недолго, но она заметила, что это уже другой Джон Адамс, совсем не тот, какой возвращался после четырех предшествующих сессий Конгресса. То, как твердо шагал он по дому, как раскладывал документы в своем кабинете, как составлял список нужных продуктов после осмотра погреба, скотного двора, амбара, — все это выдавало в нем человека, принявшего решение. Шесть членов семьи Адамс сидели тесным кругом за столом, подвинутым к камину, и эта близость радовала их. Джон и Абигейл предложили тосты в честь малышей, подняли рюмки с первым ромом, изготовленным из початков кукурузы, созревшей на полях Новой Англии. — Дети, у меня есть подарки для каждого из вас. Не догадываетесь какие? — Книги! — хором закричала четверка. Джон сделал вид, что огорчен. — Как узнали? — Но, папа! — воскликнул Джонни. — Ты всегда привозишь нам книги. — Ты привез и мне подарок, Джон, — пробормотала Абигейл, — но я не догадываюсь какой. — Дарю себя, если это ценный подарок. Я покончил с Конгрессом. Статьи о конфедерации согласованы. Департамент военного и артиллерийского снабжения организован. Более молодые лучше справятся с работой. Я не соглашусь на переизбрание. — Джон принял решение, и сидевшие за столом почувствовали это. — Отныне я занимаюсь лишь местной политикой. — А как с большой политикой? — спросила Абигейл. — Согласно твоим статьям о конфедерации, центральное правительство должно иметь руководящих служащих? — Разумеется. Но я не принадлежу к ним. Завтра в семь часов утра я вновь займусь юридической практикой. За те четыре года, что отдал общему делу, заработал право трудиться на благо семьи! — Аминь! После разлуки они вели себя как друзья и любовники, дорожили чудом взаимности, и им казалось, что так будет всегда. — Нам повезло, — заметила Абигейл уже глубокой ночью, а они не разлучались даже во сне, заполняя одиннадцатимесячную разлуку потоком мыслей и чувств. — Наша привязанность никогда не ослабнет. Нам обоим нужна любовь. С ней мы все, а без нее — ничто. Звезды поблекли, на востоке заалел горизонт. Джон встал, накинул на себя теплый халат, подбросил полено в огонь, подтянул одеяло к подбородку Абигейл. — Я займусь детьми. Спи, пока хочется. — А ты, Джон? Тебе также нужно поспать. — Нет. Я слишком счастлив быть дома. Я хочу навести порядок в книгах по юриспруденции, разобрать документы и известить графство Суффолк, что адвокат Адамс вернулся в свою контору и рад принять клиентов. Абигейл спала до полудня. Когда она спустилась вниз, то увидела несколько человек в гостиной, им не нашлось места в кабинете Джона. Старые клиенты не забыли его. На следующий день появились новые доверители, нуждавшиеся в услугах. Абигейл разместила их в гостиной, подбросила дрова в камин и предложила им по рюмочке. — Ром собственного изготовления, — гордо сказала она. — Ко мне обращаются с просьбами отовсюду по поводу самых важных тяжб, — заявил Джон с нескрываемым удовольствием. — Разве могло быть иначе, адвокат? Ты осуществил мечту своей молодости, став лучшим юристом ассоциации адвокатов Брейнтри. Джон рассмеялся: — Даже ассоциации графства Суффолк. Помнишь сообщение в газетах о судне «Лузанна», принадлежащем Элише Доану? Это судно приписано к Кейп-Код, но имело на борту британские документы и поставляло китовый жир в Англию. Оно было захвачено кораблем Нью-Гемпшира и отведено в Портсмут в качестве «приза». Захватившие утверждают, что судно и груз принадлежат теперь им. Доан хочет, чтобы я выступил в его защиту и вернул судно. — Дело кажется интересным. — И выгодным. Но это означает, что я буду отсутствовать пару недель, отстаивая дело. — Джон повернулся к старшему сыну: — Джонни, поторопись стать адвокатом, в таком случае ты сможешь обслужить всех клиентов в мое отсутствие. — Готов, папа. — А как ты, Нэб, не хотела бы стать первой женщиной-адвокатом в Новой Англии? — Нет, отец. Будет проще, если я выйду замуж за адвоката. Джон воскликнул: — Выйдешь замуж! Сколько тебе лет, молодая леди? — Двенадцать с половиной. Джон повернулся к Абигейл и спросил, широко раскрыв от удивления глаза: — Не рано ли такой юной девице рассуждать о замужестве? — Замужество — это женская профессия, — ответила Абигейл. — Чем раньше девушка задумывается о ней, тем лучше.13
Абигейл проводила дни за чтением и шитьем перед камином. Ежедневно она каталась с детьми на санках с Пен-Хилла. Это был период покоя, удовлетворения присутствием главы семьи дома, снявшего с ее плеч всю ответственность. Дети заметили это, подчеркнув, что никогда не видели ее столь красивой, как сейчас. Абигейл позволила себе роскошь обтянуть новой тканью желтый диван в гостиной. Это была короткая временная передышка. В середине декабря, когда Джон находился в Портсмуте по делу судна «Лузанна», посыльный из Нью-Йорка доставил ей три письма: первые два от делегатов-друзей Джона — Джеймса Ловелла и Дэниела Робердо, а третье — от Генри Лоуренса, недавно заменившего Джона Хэнкока на посту председателя Конгресса. Она вскрыла первым письмо Ловелла, прочитала несколько строк, и радужное настроение последних дней лопнуло как мыльный пузырь.«Все обеспокоенные за процветание наших дел во Франции поручили мне настаивать на том, чтобы ты принял поручение, для выполнения которого тебя избрали. Принесенные тобой личные жертвы побуждают надеяться, что ты возьмешь на себя это новое дело… Нас беспокоит преклонный возраст доктора Франклина. Нам нужен безупречно честный человек в посольстве».Абигейл пошла к освещенному солнцем креслу у окна, выходившего на запад. Что означает это письмо? Дрожащей рукой она вскрыла письмо Робердо.
«В данном случае мы не спрашивали твоего мнения о домашнем счастье, а думали о необходимости, испытываемой страной, использовать в ее интересах твои таланты. Я ожидаю согласия с чувством радости на столь почетное обращение, которое, не сомневаюсь, не окажется столь длительным испытанием для тебя и твоих близких, а для штатов явится благословением… Я посоветовал бы тебе взять с собой книги на французском и французского спутника…»На глаза Абигейл набежали слезы, когда она вскрывала третье письмо, но и затуманенными глазами она увидела, что это было официальное предложение:
«Сэр, имею честь переслать в этом конверте выдержку из протоколов Конгресса от сегодняшнего дня, подтверждающую ваше избрание представителем при Французском дворе… Позвольте мне, сэр, вместе с друзьями Америки поздравить вас со столь высоким назначением и пожелать всяческих успехов и счастья. Имею честь быть с глубоким уважением и почитанием вашим покорным слугой Генри Лоуренс, председатель Конгресса».Прочитав за пару минут эти строчки, Абигейл впала в глубокое отчаяние. Не прошло и двух недель счастья — и вот новый заговор. Поездка в Европу неопределенна по времени, она сопряжена с риском и опасностью. Ее жизнь превратится в бесконечное одиночество, наполненное тревогой и опасениями. В остудившейся спальне не горел камин, и у охваченной отчаянием Абигейл не было сил растопить его. Она скинула платье, скользнула с головой под стеганое одеяло и задернула пологи кровати, пытаясь отгородиться от внешнего мира. Но всю ночь продолжалась ее отчаянная борьба против этого мира. Не приходится сомневаться, назначение Джона отвечает общественным интересам. Он входил в комитет, составлявший «План соглашений», написал документы, с которыми американские представители выехали в Париж. Нет, это назначение было логическим следствием его деятельности. Победа в войне должна принести серию соглашений с архиврагом Британии — Францией; они дадут Америке продовольствие, инструменты и машины, чтобы развернуть собственное производство, порох, оружие, артиллерию, деньги, обученных офицеров, инженеров, суда. В эту мучительную бессонную ночь Абигейл поняла, что оказалась перед самым тяжелым конфликтом. Чтобы доехать до Конгресса, требовалось две недели пути, и всегда под угрозой, что делегатов может перехватить генерал Хау. Но Париж, Париж! Более трех тысяч миль, два — четыре месяца в пути и более для обмена письмами. Разработка соглашений — дело медленное, кропотливое; Джон может уехать на… годы! Считая себя несчастной, покинутой, Абигейл промочила слезами подушку. Тихие ночные часы и одинокая постель стали безжалостным полем битвы без поддержки от кого-либо. Измученная, словно заблудившаяся в густом непроходимом лесу, она начала долгий, медленный подъем из болота отчаяния на открытую, пусть и усеянную камнями дорогу к солнцу. Абигейл никогда не ограничивала мужа, а действовала так, чтобы он был свободен в своих делах. Поручение такой важной и почтенной миссии свидетельствовало о высоком уважении Конгресса к Джону Адамсу. Она сочла бы унижением и ущемлением ее гордости, если бы Джон Адамс отказался от поста из-за того, что его жена против. Это было бы оскорблением самоуправления, которое он стремился утвердить в последние три года. Может ли она перечеркнуть пережитые годы страданий и жертв? Ведь ее основной капитал, улыбнулась она сама себе с грустью, видимо, состоит из принесенных жертв! Абигейл встала, зажгла две свечи на письменном столе, повернула подсвечник так, что свет падал прямо на Библию. Она взяла увеличительное стекло и быстро отыскала стихи в Книге судей Израилевых:
«Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Хевера Кенеянина, между женами в шатрах да будет благословенна! Воды просил он; молока подала она, в чаше вельможской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников; ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился, пал; где склонился, там и пал сраженный».Абигейл осенило, что она — не Иаиль. Она — Сисара. Взяв в правую руку деревянный молоток плотника, она должна нащупать внутри себя и разбить то место, которое выступает врагом ее мужа. Она должна пронзить собственный лоб, чтобы все слабое и корыстное упало к ее ногам; беспомощное, умирающее. Тогда, и только тогда, о ней могут сказать: «Да будет благословенна Абигейл, жена Джона, между женами в шатрах да будет благословенна». Ощущая в себе новые силы, Абигейл поняла, что путь, на который они вступили как супруги тринадцать лет назад, не имеет конца. Она разожгла камин, разбила тонкую корочку льда, образовавшуюся в тазике для умывания, ополоснула холодной водой свое воспаленное лицо и лоб. Накинув халат, молча спустилась вниз, посмотрела на напольные часы — было около трех утра, подбросила хворост на тлевшие угли, подвесила котелок над вспыхнувшим огнем. Вода закипела, и Абигейл приготовила порцию чая «Сучонг», привезенного Джоном. Самопознание дается трудно; признание неотвратимого еще труднее. Когда напольные часы пробили четыре, ее пронзила мысль: Джон Адамс примет назначение. К пяти часам она поняла: сама должна настаивать на поездке Джона во Францию для переговоров о соглашениях. Как решить такую дилемму? Рассвет наступил прежде, чем она приняла решение; и когда при третьей чашке чаю оно пришло, Абигейл удивилась, как она могла быть такой бестолковой, так мучить себя. На кухню пришла Нэб, сонная, встревоженная. — Мама, я искала тебя. Но тебя не было в постели. — Я в кухне с трех часов. — Ты выглядишь лучше. Даже улыбаешься. Мама, что вычитала в письмах? — Твой отец получил назначение в Париж для заключения соглашения с французами. — Папа уедет? — Да. Нэб отличалась стойким характером, она умела сдерживать свои чувства и редко плакала. — И опять бросит нас? — Нет, Нэб, мы поедем с ним. — Мы все? — Да. При условии, что его нежность согласится, чтобы мы сопровождали его. Разбуди Джонни. Я хочу попросить его доставить письма в Бостон к дядюшке Исааку. Нэб раздумывала некоторое время. — Мама, ты всегда говорила, что боишься океана. — Боюсь страшно. — Почему же ты решила ехать? — Потому что страх перед неизвестным слабее страха перед известным. Джон возвратился до рождественского приема, назначенного Абигейл для общей встречи семей Адамс, Смит и Куинси. Она скрывала, что считает путешествие схожим с описанным Данте путешествием из ада в чистилище. Джон внимательно выслушал ее. — Я узнал о предстоящей поездке почти одновременно с тобой. Когда я вел судебное дело в Портсмуте, из Филадельфии прибыл Лангдон; он мне конфиденциально сообщил, что Дин отозван и меня назначают во Францию. Я не принял сообщение всерьез, потому что в Йорке, когда Элбридж Джерри уведомил меня о намерении предложить мою кандидатуру для Франции, я сказал Джерри, что вопрос не подлежит обсуждению. Потом я у дядюшки Исаака обнаружил письма. Первое, о чем я подумал, — о жене и детях. Затем вспомнил, что плохо знаю французский язык и, конечно, не смогу общаться с французским королем и его министрами. Меня мало волновали трудности плавания по морю-океану, особенно зимой. Британские военные корабли представляли более серьезную опасность. Известия о моем назначении и приказ военно-морской гавани в Бостоне подготовить фрегат «Бостон» для доставки меня во Францию станут известными на Род-Айленде, где стоят на якоре британские военные корабли. Шпионы тори известят британцев о моем отъезде… «Нашем отъезде», — подумала Абигейл. — …С другой стороны, как можно отказаться от поручения, когда генерал Вашингтон и жалкие остатки его армии стягиваются в замерзающий лагерь Валли-Фордж и он пишет Конгрессу, что солдаты едва одеты? — Он взглянул на нее. — Ты понимаешь, что я приму назначение? Абигейл кивнула. — Ты неизменно вдохновляла меня. Знаю, что и на сей раз поддержишь. — Ты также уверен, что поеду с тобой, а за мной потянется и вся четверка? — ответила Абигейл. Он был несколько удивлен, затем улыбнулся. — Сразу после Рождества изучим вопрос.
Праздники Рождества отмечались бурно, дом переполнили родственники и дети. Двадцать три взрослых и восемнадцать детей едва втиснулись в кабинет Джона, гостиную и на кухню, где были накрыты столы. Абигейл, полагавшая, что ей не скоро предстоит встреча с семьей, устроила праздник в лучших традициях матери: зажарила индеек с каштанами, молочного поросенка, приготовила рыбу, бекон, горошек, крем и фрукты. Она не подала вина, учитывая, что генерал Вашингтон в целях экономии не ставил его на стол, но все отменно пили и хвалили ром, изготовленный из початков кукурузы, утверждая, что он ничем не хуже лучшего рома Вест-Индии. На следующий день вместе с Сэмюелом и Бетси Адамс Джон уехал в Бостон, чтобы выяснить условия переезда семьи во Францию. Он возвратился на следующий день к вечеру. Его уставшие глаза были затуманены, а губы сжаты. Она обратилась к нему после того, как он раскурил трубку и вытянул ноги к огню камина: — Джон, это намного труднее, чем мы ожидали? — Не-ет. В некоторых отношениях. — Важных, я полагаю. — Да. В подобных поездках все важно. Если меня захватят, то поместят в тюрьму Ньюгейт. Дух мстительности, с каким британцы ведут войну, запрещает мне надеяться на направление в Тауэр в качестве государственного преступника. Постановление парламента дает основание судить меня за предательство и казнить. — А как с женой и детьми? Он отвернулся, чтобы не смотреть ей в лицо. — Никто в Бостоне не знает. — Есть ли еще проблемы? — Мирского характера. Конгресс оплатит расходы: переезд, надлежащую одежду, питание на борту, обслугу, снабжение, жилище в Париже, все нормальные расходы, необходимые для успешного выполнения поручения. — Разумеется, мы будем питаться вместе и спать вместе? — Нет, дорогая, получается вовсе не так. Во-первых, мы обязаны оплатить твой проезд и проезд малышей по обычным ценам… — Но ты сказал мне, что «Бостон» — континентальный фрегат, вооруженный двадцатью четырьмя пушками. Это правительственный, а не частный корабль. Почему же мы должны оплачивать проезд? Ведь мы не добавим расходов, пересекая океан. — Капитан Сэмюел Такер — офицер американского военно-морского флота. «Бостон» повезет столько платных пассажиров, сколько может взять на борт. Правительству нужны деньги. — Понимаю, — с грустью сказала Абигейл. — Мы должны погрузить на борт судна провиант и напитки на все время плавания: шесть овец, восемнадцать кур, сорок — пятьдесят дюжин яиц, свежую говядину, свинину, бочонки с яблоками, сидром, двадцать головок сахара, сухофрукты, ящик сливочного масла, сыры, кукурузу, муку для выпечки хлеба, ящики с ромом и мадерой. — Все это у нас есть, — спокойно ответила Абигейл. — Того, чего нет, мы можем выменять баш на баш. Его лицо просветлело. — Ты права, у нас есть все благодаря твоей работе на ферме. Но одежда… Нужна новая одежда, подходящая для Парижа, может быть, даже для королевского двора. — Мы можем обменяться, обновить то, что имеем. Мы получим плату за аренду… — Да, я надеюсь на гонорар за несколько недель адвокатской работы, его, возможно, хватит для оплаты переезда. Я не отчаиваюсь. Дети восторгались по поводу предстоящей авантюры. Нэб работала с матерью, занимаясь шитьем и сбором провианта, Джонни был самым спокойным, но он лучше всех понимал, что будет означать для него жизнь за рубежом. — Папа, сможем ли мы путешествовать? Я хотел бы увидеть Италию и Испанию. — Не торопись. Мы еще не выехали из Брейнтри. — Меня интересуют иностранные государства, папа. Дядюшка Исаак отдал мне свои книги о путешествиях. Я привез их домой вчера в седельных сумках. — Тени моего детства! — воскликнула Абигейл, чувствуя ностальгию по прошлому, — Ты читаешь те же самые экземпляры «Естественной истории Норвегии» Понтопидана и «Описания Востока» Покока, что читала я. Трудности возникали на каждом шагу. Невозможно найти ответственного арендатора дома и фермы. Если их отдать кому-то незнакомому или не пользующемуся доверием, то что найдешь по возвращении? Мать Джона посоветовала закрыть на замок дом, а она будет присматривать за ним. Но они нуждались в поступлениях от ренты. Не хотелось также сдать в аренду тридцать пять акров старому съемщику, который работал плохо. Джону удалось завершить мелкие юридические дела, остальные пришлось уступить другим адвокатам; посему гонорары были скромными. Пошив одежды для шестерых отъезжающих потребовал чудовищных затрат. Батист стоил по тридцать пять долларов за ярд, нитки были невероятно дороги. Если сдать дом в аренду обставленным, то придется купить матрасы, одеяла, подушки, посуду и серебро. Конгресс проголосовал за предоставление Джону приличного оклада — около двух тысяч фунтов стерлингов в год, но он получит их после возвращения… Джона все время тревожило ее волнение, а вдруг их захватят британцы… К середине января Абигейл поняла, что потерпела фиаско. Джон боролся, стараясь выколотить средства у своих должников, изыскивая пути накопить деньги, не вползая в долги. Капитан судна, только что возвратившегося из Франции, откровенно говорил, что обзавестись хозяйством в Париже дороже, чем в Массачусетсе. В этот вечер они отчужденно лежали в постели, каждый на своей стороне. — Не выходит, Джон. — Виноват я. Если бы занимался правом, отложил на черный день пару тысяч фунтов стерлингов… — Ты должен поехать один. Это единственно возможное решение. Он промолчал. — Разве, Джон, это не разумно? — Вроде бы. — Следует быть осторожными? Он не отвечал. — Хорошо. Мы останемся дома. Как было в последние одиннадцать месяцев. Джон повернулся к ней лицом, но не обнял. — Выдержишь ли ты? Ведь почты не будет месяцами. Многие письма затеряются. Мы не будем ничего знать друг о друге, даже живы ли мы. — Понимаю, буду страдать. Я достаточно привыкла. Буду ждать и терпеть в меру своих сил. Утром, когда они сообщили детям о своем решении, Джонни не показал вида, что взволнован. — Я еду. — Нет, Джонни, мы решили. — Я настроился ехать. Я буду помогать папе. Около него должен быть один из нас. — Ты будешь прекрасным помощником для меня, Джонни. Но как быть с мамой? Абигейл сдержала слезы. Джонни помогал ей во многом, не говоря уже о том, что доставлял почту. Ей будет его страшно не хватать. В трудные моменты он составлял ей компанию, был также другом для других детей. К тому же ей придется волноваться за двух уехавших так далеко. Сын смотрел ей в глаза и умолял: — Мама, ты позволишь мне поехать, не так ли? Я обучусь многому. Получу хорошее образование. Здесь такого нет. Ты сама это говорила. Абигейл взглянула на детей. Они наблюдали за ней молча, с широко открытыми глазами. — Да, Джонни, ты можешь ехать. Она повернулась и вышла из комнаты. Это было самое трудное в ее жизни решение. В середине февраля Абигейл одиноко стояла на вершине горы Уолластон, ветер развевал ее волосы, тот самый ветер, который влек фрегат «Бостон» на северо-восток к линии горизонта. На сердце у нее было тяжело. Она вспомнила строки из Книги судей Израилевых: «Левую руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников; ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал, к ногам ее склонился, пал; где склонился, там и пал сраженный».
КНИГА ШЕСТАЯ КАКИМ ВИДИТСЯ АД
1
Перестройка адвокатской конторы Джона в галантерейную лавку завершилась. На столе, предназначавшемся для клиентов, Абигейл разложила рулоны марли, стопки носовых платков, цветных лент, перьев, митенок и перчаток, французское столовое стекло, голландские краски. Коренастый Томми, которому в этот жаркий июльский день 1781 года исполнилось девять лет, снял с полок юридические книги отца, завернул их в старые экземпляры «Бостон газетт» и отнес на чердак. На освободившиеся места Абигейл положила рулоны тканей, доставленные из Европы, — ситец и сатин, барселонские льняные ткани, а также ткани из Бенгалии, нанку, персидский шелк, шерстяные ткани, крашеные, блестящие. Из секретера Джона Абигейл извлекла его бумаги, пометила, связала отдельными пачками, а затем аккуратно сложила в сундук на чердаке. В ячейки секретера она поместила шпильки, игральные карты, искусственные цветы, сургуч, черный китайский чай. Стоя у выходившей на дорогу Бостон — Плимут двери, через которую, не нарушая покоя остальной части дома, в лавку входили покупатели, Абигейл с удовлетворением обозревала свое хозяйство. К ней подошел Томми. Он не обладал живостью ума, присущей Джону Куинси, и заразительным юмором Чарли, но Абигейл ценила его как наиболее практичного из трех сыновей. На него всегда можно было положиться; медлительный и методичный, он неизменно завершал начатое дело. — Прекрасный вид, ма. — Лучше, чем торговать за кухонным столом, Томми. Ты очень помог мне. И ты, Нэб. — Рада, что ты довольна, мама, я же нет. Абигейл бросила острый взгляд на свою шестнадцатилетнюю дочь. После отъезда Джона Нэб превратилась из рыхлого ребенка с простецким лицом, напоминавшим отца, в изящную длинноногую красотку с синими глазами, короной каштановых волос, смуглой бархатистой кожей, пухлыми яркими губами и ослепительно белыми зубами. Занятая заботами, навязанными войной, управлением фермой и закупками товаров, Абигейл не приглядывалась к дочери и не замечала ее гордой высокой груди и узких бедер, а теперь вдруг обнаружила, что Нэб повзрослела и, весьма вероятно, будет считаться в графстве Суффолк достойной невестой. Однако от Абигейл не ускользнуло то, что по мере взросления дочь становилась замкнутой, скрывала свои чувства и настроение. Она держалась с царственным достоинством, унаследованным от бабушки Смит. Нэб усердно трудилась, украшая лавку, поэтому Абигейл удивила прозвучавшая в голосе дочери неодобрительная нотка. — Ты чем-то недовольна, Нэб? — Мне не нравится, что мы стали мелкими лавочниками. — К чему ты относишь «мелкие» — к своей матери или к нашим товарам? — Мама, ты уклоняешься от ответа. Я думаю, что семье американского посланника в Европе негоже торговать шпильками и ситцами в своем доме. — Мне нравится иметь лавку! — выкрикнул покрасневший Томми. — Встречаться с людьми. Абигейл ответила дочери: — Если бы твой отец находился дома и занимался правом, то мы чувствовали бы себя комфортно. Он предпочитает со скромным окладом служить своей стране за рубежом. Но я обязана сохранять нашу ферму и дом, копить деньги, чтобы три мальчика могли поступить в Гарвард, и в то же время не делать долгов, поэтому нужно зарабатывать любыми честными путями. — Мы могли бы обойтись без лишних вещей. Скромная бедность не тревожит меня, но мне претит то, что ты отмериваешь ткань на рабочем столе отца. — Нэб, каждый из нас чем-то торгует. Твой дядюшка Коттон продает свои врачебные услуги. Товар твоего дедушки Смита — религия и вера в Бога; твой отец продает постановления, завещания, обращения к судьям и присяжным. — Но наша торговля дает так мало дохода, мама. Половина грузов, заказанных отцом, погибла в море. Последние рулоны ситца подмокли и покрылись плесенью. — Мы продадим их, — прервала ее Абигейл, — они уже подсохли. — Да, но за какую цену? Знаешь ли ты, сколько следует потребовать за товар, если у тебя нет накладной? Подсчитывала ли, сколько твоих товаров покоится на дне Атлантического океана?.. Абигейл подошла к столу, чтобы посмотреть в глаза дочери-бунтарке, которая была уже выше матери ростом. — Поэтому я и не подсчитываю, Нэб. Абигейл вышла к открытой двери, и на нее дохнуло летним зноем. Даже спустя три с половиной года она не получила от Конгресса деньги за услуги Джона. Поначалу он разрешил ей взять скромные суммы со счета на его имя во Франции и Голландии, где вел переговоры о займе для Соединенных Штатов; но затем попросил ее не выписывать больше чеков, на его счете не осталось денег. Душили налоги, настолько большие, что арендаторы угрожали уйти с ферм, включая и их ферму. Многие владельцы тщетно пытались продать свои земельные участки. За последние месяцы Абигейл пришлось выплатить шестьдесят долларов налога за землю, которой они владели в Мильтоне, в дополнение к приходскому налогу в пятьдесят долларов; оплатить налоги штата, графства и города по поставкам армии говядины и зерна; и тридцать долларов налога для оплаты шестимесячной службы солдат от Брейнтри. Все дни она думала о том, как наскрести необходимые суммы. Налоги были столь велики и многочисленны, что она не представляла, как вывернуться. Инфляция обесценивала сбережения и недвижимость. Говядина стоила восемь долларов за фунт, баранина — девять, бушель ржи — сто тридцать три доллара, галлон патоки — сорок восемь долларов, фунт кофе — двенадцать долларов, чай — девяносто долларов, бушель кукурузы — пятнадцать долларов. Она выдерживала эти кошмарные цены благодаря тому, что торговцы брали ее сыр по десять долларов за фунт, а масло по двенадцать долларов. У нее не было сомнений, что инфляция может оказаться более опасным врагом, чем британцы; стремление к независимости может быть похоронено скорее инфляцией, а не поражением на поле боя. Как может Конгресс, не имея средств, вооружить и снабжать армию по ценам, возросшим в сто раз? Трем подрастающим сыновьям нужно дать образование, а дочери — обеспечить приличное приданое. Абигейл считала, что обязана сделать это; они не должны в зрелом возрасте оказаться у разбитого корыта. И она тщательно копила доллары, чтобы купить детям земельные участки во вновь открытом районе Вермонта. Владение фермой означало личную независимость. Иногда она чувствовала себя в роли бобра, пытающегося перегородить плотиной поток. Абигейл повернулась к дочери. — Нэб, — мягко сказала она, — когда у тебя будет муж и дети, ты ради содержания семьи станешь заниматься более плебейскими делами, чем торговля в лавке. Но я понимаю твои чувства и не буду просить тебя обслуживать покупателей. — Я буду продавать, ма, когда ты не сможешь, — предложил Томми. — Мне нравится работать в лавке. Послышался звук экипажа, поднимавшегося по дороге. Богато украшенная карета, памятная Абигейл по дням, проведенным в Бостоне, была запряжена гнедыми. Карета остановилась перед открытой дверью. Грумы помогли спуститься двум дамам. Эти светские бостонские леди явно ничего не слышали о законах, ограничивавших расходы. Более высокая была одета в роскошное шелковое платье, из-под которого виднелись вышитые нижние юбки. Золотое ожерелье дополняли два браслета. У той, что поменьше ростом, густо напудрены и напомажены волосы, прикрытые широкой шляпой с плюмажем. Они принадлежали к кругу нуворишей Бостона, чьи мужья илипокровители сколачивали состояние, спекулируя на поставках правительству и армии. Более высокая сказала: — Миссис Адамс, мы узнали из доверительных источников, что вы получили из Парижа груз. — Точнее, из Амстердама. — Но у вас есть французские товары? — Французское сейчас в моде, вы знаете, — добавила та, что была ниже ростом. Абигейл показала с гордостью товары: они были доставлены со многими потерями вследствие захвата в открытом море, воровства, необъяснимого исчезновения. Томми снял с полки черные шелка, узорчатый батист, потом открыл ящики отцовского стола и показал более мелкие вещи. Женщины проявили интерес только к ящикам на столе. — Мы хотим иметь все, что делает нас красивыми! — воскликнула напомаженная, сгребая ленты и перья. — Этот зеленый зонт выглядит божественно, я возьму его! — воскликнула высокая. — Божественен лишь Господь Бог, — прошептала про себя Абигейл, заполняя счет. Кучер унес покупки. Когда подошло время расплачиваться, женщины вытащили пачки бумажных денег. — Сожалею, — сказала Абигейл, — но мы платили за товары твердой валютой. Мы не можем принять обесцененную. — Вы возьмете те деньги, что мы предлагаем, — раздраженно сказала высокая. — Это деньги страны, так говорит мой друг. — В таком случае прикажите, пожалуйста, своему другу оплачивать ими ваши услуги. Томми, принеси из кареты наши свертки. — Ох, нет! — воскликнула та, что пониже, готовая расплакаться. — Мы обыскали весь Бостон и не нашли ничего лучше. Аманда, перестань хитрить. Расплатись фунтами стерлингов, ты же знаешь, что у нас их более чем достаточно. Аманда расплатилась звонкой монетой. Они обе выскочили за дверь. Абигейл перестала наблюдать за ними, когда они садились в карету, и заметила, что мрачная Нэб стоит у противоположной двери. — Они унизили себя, а не меня, — прошептала Абигейл в свою защиту. Она недооценила свою дочь. Нэб подошла к матери и поцеловала ее в щеку, это была первая на ее памяти подобная демонстрация за довольно длительное время. — Мама, отныне мы разделим покупателей, ты возьмешь на себя джентльменов, а я буду вести дело с этими шлюхами. — Нэб! Здесь же Томми! Где ты подцепила такое слово?2
Когда Джон был дома, время не существовало для Абигейл как отдельная, ощутимая сущность. Дни незаметно переходили в ночи, недели — в месяцы; жизнь протекала плавно. Когда же Джон отсутствовал, как последние три года, время замедляло свой бег: каждый час становился пригорком, каждый день — хребтом, каждая неделя — пиком, каждый месяц — горной цепью. Устав, она оглядывалась с хребтов и пиков, желая увидеть, сколько уже прошла, какие уступы преодолела, не подозревая, что впереди еще более высокие хребты. После того как успокаивалось дыхание и переставало бешено биться сердце, она начинала взбираться на новые Гималаи. Она говорила себе: «Я отсчитываю каждую проходящую неделю и каждую субботу вечером радуюсь трудно завоеванной победе». Таким способом она делила время на терпимые периоды. Перспектива полного месяца одиночества без мужа могла бы сломить ее, но прожить неделю без него, накопить силы для новой недели она вполне могла. Абигейл хорошо знала изречение: «Несут службу и те, кто лишь стоит и ожидает». Облачившись на заре в свою собственную броню, женщины также вступают в отчаянную битву, в которой скрещиваются мечи и рвутся бомбы. Означает ли «стояние и ожидание», описанное Мильтоном,[35] безмятежное согласие? Ожидание из месяца в месяц, из года в год требует от жен и матерей особой отваги, не меньшей, чем та, которая нужна ддя жизненно опасных авантюр. Едва успел скрыться за горизонтом фрегат «Бостон», на котором отплыли муж и сын, как до Абигейл дошло известие, что около Парижа британские агенты якобы закололи Бенджамина Франклина и следующей жертвой станет комиссар Джон Адамс. Уговоры членов семьи, что нет оснований тревожиться за безопасность Джона, ибо теперь он будет настороже, лишь усугубляли мучивший ее по ночам страх. Убийство Франклина оказалось выдумкой, но облегчение было мимолетным. Вслед за этим известием пришло сообщение, что «Бостон» захвачен британцами и отведен в Англию, в Плимут, а капитан и экипаж взяты в плен. Не было информации, что случилось с десятилетним Джоном Куинси. Подробные описания, появившиеся в нью-йоркских газетах, заставляли верить прочитанному. Абигейл жила в страхе и тревоге, но не впадала в отчаяние, даже когда задергивала полог своей кровати, оставаясь в одиночестве. Ко всему примешивалось чувство скованности: к воздуху, которым она дышала, к пище, которую ела, к утешениям, с которыми обращалась к Нэб, Чарли и Томми. К концу июня она получила от дядюшки Исаака весточку, что в городе находится капитан «Бостона» Уэлш и у него есть послание к ней от Джона. «Бостон» действительно был захвачен британцами, но при рейсе обратном. Ее муж и сын в безопасности во Франции, они поселились у Бенджамина Франклина в Пасси. Дети были против ее поездки в Бостон без сопровождающих. Чарли кричал: — Ма, ты слишком взвинчена! Я лучше управлюсь с лошадьми. Абигейл уступила. Они отыскали капитана Уэлша в судоходной компании. Это был крепкий, коренастый мужчина, несдержанный на язык, но вместе с тем вежливый. — Капитан Уэлш, у вас есть письма для меня? — Прошу прощения, мэм, были. Сейчас они на дне морском. Абигейл подошла на шаг ближе. — Капитан Уэлш, пожалуйста, объясните. — Черт побери! Нас захватили! У меня были письма вашего мужа, часть была написана на борту судна, часть — во Франции. Но мне пришлось выбросить их в Атлантику. Как и мои бумаги. Она вышла из конторы, понурив голову. Возвращались домой молча. Потеря писем явилась тяжелым ударом. Описание плавания и прибытия в Европу подкрепило бы их силы лучше, чем пища. Когда они подъехали к столбу, отмечавшему четвертую милю от города, Абигейл взяла себя в руки и успокоила детей: — Отец и Джонни в безопасности в Париже. Господь Бог был милостив к ним. В июле из Парижа пришло первое письмо от Джона. Прочитав его на одном дыхании, Абигейл села за письменный стол и написала:«Нужно ли говорить моему самому дорогому, что при виде написанного его рукой, первой строки, которая осчастливила мой взор после четырехмесячного отсутствия, в течение которого я не получала ни единого слова от него и моего любимого сына, мои глаза наполнились сегодня утром слезами радости…»Абигейл стойко переносила существование, противное ее склонному к порядку рассудку. Она не могла найти кого-либо, кто помогал бы на ферме, не могла и сдать ее в аренду. В Брейнтри не было ни школы, ни учителя для мальчиков; отправить их в интернат в другое место значило уплатить за каждого по сорок долларов, а у нее таких денег не было. Она настояла, чтобы Нэб провела несколько месяцев в Бостоне у дядюшки Исаака и тетушки Элизабет, прочитала их книги в библиотеке и насладилась городской культурной жизнью. Волю Абигейл парализовало отсутствие сведений о работе Джона в Париже, оправдывавшей их разлуку. Знойное, душное лето она переносила почти так же тяжело, как последние дни перед родами. Не утешала и возможность писать Джону, ведь она написала около тридцати-сорока писем, но основная масса их, как и ответные письма Джона, вероятно, мокли в соленой морской воде. Письма Джона, доставленные наконец — одна партия на судне «Аллайенс» в середине августа, вторая в начале октября — были грустными. Он не получил ее писем. Письма Джона представляли лишь часть написанного им и сообщали о непонятных для нее делах. Но она была уверена в одном: ему не нравилась роль комиссара в Париже. Ко времени его прибытия три американских представителя — Бенджамин Франклин, Артур Ли и Сайлас Дин — уже заключили с Францией два договора. Французский министр иностранных дел Верженн подписал их от имени короля Людовика XVI. В договорах признавалась независимость Соединенных Штатов и содержались обязательства по поставкам необходимых товаров и материалов: орудий и пороха, обмундирования, говядины и судов. Французскому народу и двору так нравился Франклин, что благодаря остроумию и искренности он мог добиться практически всего от французов для блага Америки. Джон пришел к выводу, что нет необходимости в трех представителях и поэтому рекомендовал Континентальному Конгрессу назначить одного — Бенджамина Франклина. Для комиссара Джона Адамса не оставалось места в Европе, но он не тревожился. Поскольку у Джона не было дипломатической работы, он занялся решением скучной, но важной задачи. В американском представительстве не велось досье писем в Конгресс относительно сделок, заключенных самими представителями или американскими агентами и посредниками в счет французского займа для покупки товаров во Франции. Джон положил этому конец и быстро покончил с практикой, которой запятнал себя Сайлас Дин, занимавшийся частным бизнесом под вывеской представительства Соединенных Штатов. Несмотря на то что Конгресс не выделил для Джона клерка, он проверил использование денег, полученных комиссарами, проверил все, что было приобретено и послано в Соединенные Штаты. Благословляемый и одновременно проклинаемый жителями Новой Англии за честность, он сумел навести порядок в бухгалтерии и делах комиссии. Неожиданно для человека с таким характером он проявил большой дипломатический такт. Джон отклонил поручение по поводу конфликта, связанного с действиями Сайласа Дина, ограничившись тем, что навел порядок в его запутанных делах. По приезде он оказался между двух огней: Франклин и Артур Ли, оба по-своему талантливые и приверженные делу Соединенных Штатов, враждовали между собой. Джон сумел найти не присущий пуританам тактический ход. 4 июля он дал в Париже обед американцам, чтобы сблизить Франклина и Ли на неофициальной основе. Этот обед был почти последней услугой, которую Джон смог оказать США, в то время, когда все три комиссара искали в Европе, где можно занять деньги для своей страны. Абигейл получила сообщение из Филадельфии, что совместная комиссия распущена, как рекомендовал Джон; Франклин останется посланником во Франции, Артур Ли — в Испании. Для Джона не было места. Сама война, приблизившаяся к ее дому настолько, что Абигейл видела дым и огонь, перекинулась в другие районы страны. 18 июня 1778 года британцы эвакуировали Филадельфию. Вашингтон вытеснил генерала Клинтона к Нью-Йорку. Две главные армии столкнулись у Монмаут-Кортхауза. Хотя не победила ни та ни другая сторона, показательная выдержка американцев явилась результатом многомесячной подготовки в Валли-Фордж под руководством прусского специалиста барона фон Штейбена, примкнувшего к Вашингтону в феврале 1778 года в качестве добровольца. Фон Штейбен прибыл с рекомендательными письмами от Франклина и французских офицеров, знавших его как специалиста по подготовке хорошо обученной прусской армии. Прибывший вскоре в Северную Америку командующий французским флотом граф д'Эстен пытался захватить Ньюпорт на Род-Айленде. Вашингтон послал в подкрепление сухопутные войска. Ураган серьезно потрепал французские корабли; они были вынуждены укрыться для ремонта в гавани Бостона. В Пенсильвании в центре колонии Нью-Йорка велись операции на изматывание. Полковник Джон Батлер с добровольцами-тори и индейцами выступил из Канады и нанес удар армии патриотов. У Уинтермута полегло много американцев; поселок Уилкес-Барр исчез с лица земли, а долина Вайоминг в Пенсильвании опустошена. Когда в сентябре тори обрушились на Джерман-Флетс, американцы под предводительством полковника Уильяма Батлера нанесли ответный удар, сровняв с землей поселок Шести Наций Унадилла. Через три месяца после начала войны схватки и стычки вылились в кампанию на изматывание. Проголосовав за роспуск комиссии, Конгресс не посылал инструкций в Париж до января 1779 года. Это время Джон мог бы быть со своей семьей, заниматься адвокатской практикой, ужинать за своим кухонным столом и спать в своей кровати. А оно было омрачено не только проливными дождями, а затем снегопадами, но и тем, что муж неоправданно долго отсутствовал. Абигейл не знала, как поправить финансовое положение и что делать с землей. Дом, семья и ферма отчаянно нуждались в хозяине. Ее личные неприятности порой отвлекали внимание от величия революции, от героической борьбы ее соседей, от появления молодой, выросшей в борьбе нации. Экзальтация — не шатер, где можно укрыться ночью и днем. И все жертвы не одинаковы. Абигейл замечала спекуляцию, дезертирство, апатию в то самое время, когда на поле боя умирали мужчины. Тысячи служивших в армии и военно-морском флоте в течение года и больше вдали от родных мест, получавшие жалованье обесцененными бумажками, лишились возможности помочь своим семьям и фермам, мастерским и лавкам. Жены, матери, дети были брошены на произвол судьбы; в любой момент могло прийти известие, что глава семьи убит или умирает в далеком, пораженном инфекцией лагере. Брейнтри, насчитывавший три тысячи жителей, отправил шестьсот мужчин на войну. Трудно было найти семью, которая не потеряла бы мужа или сына. Абигейл понимала, что в обстановке тревоги и смуты может отказать отвага, увянуть решимость. Ни один патриот Новой Англии не откажется от своих взглядов; но наступили трудные времена. Она не стала бы отрицать, что порой ее охватывало отчаяние. Однако она обладала способностью сохранять понимание той великой задачи, которую поставил перед собой американский народ: свободу для себя и как цель — свободу для всего мира. Соединенные Штаты Америки становились первой страной за многие столетия, которая сбрасывала цепи самозваных правителей и объявляла, что истоки права следует искать среди тех, кем правят. Это было такое уникальное и такое яркое явление, что нелегко было найти правильные слова, чтобы объяснить детям. Здесь, в поселках на Атлантическом побережье, зарождалась новая цивилизация.
3
Абигейл почувствовала удовлетворение, когда ее молодой кузен, Джон Такстер, работавший клерком в конторе Джона Адамса, оставил пост секретаря Конгресса в Филадельфии и возобновил изучение права. Он остановился в доме Адамсов и вновь занялся обучением детей. Гибкий, как тростник, с вечно взъерошенными волосами, он носил очки, держался спокойно и сдержанно, за исключением учебных занятий. Под его надзором мальчики вели себя хорошо. Для Абигейл его присутствие в доме было подобно присутствию младшего брата. Женщины Брейнтри продолжали собираться в своем обществе. Сюзанна Бакстер и Теодора Биллингс, беременные во время первых встреч в дни Лексингтона, Конкорда, Бридс-Хилла, обзавелись уже несколькими детьми. Мэри и Ханна из семейства Кларк не утратили чувства юмора, но нелегко было шутить в те дни. Недоставало нескольких родственников Абигейл: Анна, жена доктора Савила, постарела, и ей было трудно двигаться, Мэри, жена Питера, болела, Сенкфул Элихью вновь вышла замуж и уехала. Участники общества собирались дважды в неделю на час в гостиной Абигейл, аккуратно причесанные, с ухоженными лицами, но без белых кружевных воротничков и манжет, которые они отдали на нужды армии. Каждая приносила немного печенья, щепотку чая или кувшин сидра, женщины рассаживались кругом на диване и стульях, склонив головы над вязанием. Они советовались и утешали друг друга, от этого неприятности и тяготы становились легче, излагали свои мысли, не опасаясь критики или слухов. У нескольких женщин мужья или сыновья служили на американских военных кораблях, так как Брейнтри издавна был связан с морем. Миссис Ньюкомб, помогавшая Абигейл по дому, и дочь Билли Катарина Луиза, поселившаяся у Абигейл, обслуживали собрание женщин. Семейство Смит понесло первую жертву — Билли. Выпущенный из британской тюрьмы на Ньюфаундленде, он пристрастился к выпивке. То ли он не вернулся в морскую пехоту, то ли был отчислен за бытовое пьянство. Во время запоя он играл в азартные игры и, как правило, проигрывал. На ферму в Линкольн приходили незнакомцы с расписками Билли. Узнав, что у Катарины Луизы нет ни пенса, они требовали уплаты долга от Абигейл или от преподобного Смита. Абигейл платила, если могла, а отец Билли платил по настроению. Билли оторвался от дома. Ежегодно он появлялся в Линкольне, задерживаясь достаточно долго и оставляя Катарину Луизу беременной. Затем поступали сообщения, что там-то он напился, а в другом месте живет с какой-то женщиной, но ни разу не наведывался в Уэймаут и Брейнтри. Катарина Луиза посещала Абигейл раз в месяц, приводя с собой своих детей. Она высоко держала голову, несмотря на то что весь ее доход ограничивался тем, что давал ей свекор. Абигейл предложила: — Сестра, не будем жестокими к Билли. Он был хорошим мужем и отцом до войны. — Да, он был таким. — С ним произошло что-то в тюрьме. Что-то испортилось в его характере, как бывает с солдатами, получившими тяжелое увечье. — Она положила руку на худые плечи Катарины Луизы. — Сестра, могу ли я дать интимный совет? Не рожай больше детей. Это тяжело для тебя и твоих детей. По завещанию моего отца ферма отойдет к тебе, но у тебя и так большой выводок. Катарина Луиза повернулась к Абигейл своим продолговатым, бледным лицом и сказала: — Сестра, прости меня, но порой я думаю, что Билли на самом деле погиб на мосту у Конкорда. Насколько лучше было бы это для него… и нас. Герой Конкорда капитан Уильям Смит любим и уважаем всеми. Порой по ночам у меня появляется такое желание, а когда встаю, молю Бога на коленях простить меня. Прошло десять месяцев с тех пор, как Конгресс распустил Парижскую комиссию и Джон возвратился на короткий срок в Брейнтри. Он привез добрую весть, что Испания, владеющая третьим по размеру флотом в мире, присоединилась к войне против Англии, стремясь отомстить за поражения в прошлом и отвоевать такие утерянные территории, как Гибралтар и Западная Флорида. Джон приехал домой мрачный. Континентальный конгресс принял резолюцию, строго осуждающую всех комиссаров за их «подозрительность и вражду». Джон не скрывал своего раздражения: по какому праву Конгресс осудил его? Абигейл посоветовала ему запросить копии протоколов заседаний. Радость ей доставил сын Джонни, подросший на два дюйма и хорошо державшийся. Массачусетс, не считавший себя более колонией, избрал Джона в Конституционный конвент из тридцати членов, который затем сузился до трех — Джеймс Баудойн, Сэмюел и Джон Адамсы. Комитет поручил Джону Адамсу составить проект документа. В бабье лето в конце сентября 1779 года в семью Абигейл вернулось счастье. Просыпаясь на рассвете, они поднимались на вершину Пенн-Хилла и наслаждались красками восходящего солнца. За завтраком шесть членов семьи Адамса и дочь Билли сидели вплотную друг к другу, заставляя Джона и Джонни рассказывать о дворцах и соборах Франции. К семи часам ученики школы Адамса усаживались за стол, с которого убирались товары, и Джон вступал в права учителя. В половине девятого в занятиях объявлялся перерыв. Абигейл с интересом наблюдала, как ее муж изучал уже имеющиеся конституции штатов, отбирая для Массачусетса все, что представлялось разумным и эффективным, и дополняя собственными соображениями, чтобы превратить Массачусетс в самую прогрессивную общину, какую знал мир. Он широко использовал текст закона, принятого в Виргинии и объявившего, что люди рождаются свободными и независимыми и обладают «очевидными естественными, основными и неотъемлемыми правами, среди которых следует считать право пользоваться и защищать свою жизнь и свободы; право приобретения, владения и защиты своей собственности…». Долг людей в обществе публично чтить Всевышнего; сохранять доброе поведение; «народ этого содружества обладает единственным и исключительным правом самоуправления как свободного, суверенного и независимого штата». Джон составил положения о свободных выборах, о равных правах всех жителей мужского пола, «обладающих достаточной квалификацией… выбирать должностных лиц и быть выбранными для занятия публичной должности», гарантирующих каждому гражданину Массачусетса «право быть полностью выслушанным в свою защиту»; подчеркнул право на суд присяжных и права «на свободу слова, написания и опубликования своих мнений»; определил механизм установления общественных фондов для образования молодежи, а также для поощрения литературы и науки. Комитет 30-ти и Конвент внесли небольшие изменения в проект Джона. Тем временем делегаты одиннадцати штатов в Континентальном конгрессе в Филадельфии выбрали Джона Адамса комиссаром для переговоров с Великобританией при посредничестве английского посла во Франции о заключении соглашений о мире и торговле. Он должен был немедленно возвратиться в Париж! Абигейл и Джон вновь подсчитали наличные средства. Конгресс все еще не дал добро ваучерам Джона за первую поездку. Бенджамину Франклину было направлено указание оплатить расходы Джона за счет французского займа в Париже, но в то же время умалчивалось о выплате зарплаты в размере одиннадцати тысяч двухсот пятидесяти долларов в год. Помимо четырехсот долларов, полученных Джоном за участие в заседаниях Массачусетского конвента, в их распоряжении находилось столько же твердой наличности, сколько перед вступлением в брак. Абигейл продала часть своего молочного стада и птицы для уплаты нового массачусетского налога. Имелась еще одна проблема, и Абигейл понимала, что именно ей придется ее затронуть. — Джон, как долго продлится война? Мы уже сражаемся четыре с половиной года. Преподобный Смит только что уехал, попрощавшись с Джоном. В затихшем доме Абигейл и Джон лежали в постели. Джон встал, надел халат. Обдумывая ответ, он не смог припомнить ни одну победу американского оружия, дающую основания на скорый мир. С середины лета 1779 года обе стороны добились небольших, не решающих исход войны успехов. Под командованием генерала Генри Клинтона британцы захватили Нью-Хейвен, Фейрфилд и Норуок, разграбили и сожгли эти города. Двумя неделями позже патриоты нанесли поражение солдатам Клинтона: прорвавшись через британские укрепления, они овладели штурмом под покровом ночи Стони-Пойнтом, убили, ранили и взяли в плен более пятисот британцев. В августе майор Генри Ли-младший атаковал британцев у Паулюс-Хука около Нью-Йорка, захватил британский лагерь; в то же время массачусетские экспедиционные силы в Пенобскоте под командованием бригадного генерала Соломона Ловелла и девятнадцать кораблей коммодора Дадли Солтонстолла были так серьезно потрепаны и было уничтожено так много кораблей, что уцелевшим американцам пришлось отходить в Массачусетс по суше. Если другие европейские страны, помимо Франции и Испании, не вмешаются в борьбу против Англии, война может продолжаться годы. У Джона не было причины считать, что британцы примут комиссара для переговоров о мире и согласятся на независимость Соединенных Штатов. На такое не приходилось надеяться, если британские войска не потерпят серьезного поражения или английский народ откажется поддерживать войну. У американцев не оставалось никакого выбора. Так или иначе Абигейл была вынуждена отпустить Джона в поездку. Решение ей далось трудно, ибо она знала, что разлука может оказаться бесполезной, поскольку его миссия весьма сомнительна. Джон Куинси не рвался уехать с отцом, но его успехи в обучении за рубежом были очевидны, и поэтому она набралась мужества и дала согласие на поездку Чарли, чтобы он мог познакомиться с иностранной культурой. Это был единственный подарок, каким могли одарить детей ее оскудевшие руки. Джон и двое мальчиков отплыли на корабле «Ля Сенсибль» 13 ноября 1779 года. Абигейл стояла с Томми в маленькой лавке, сжимая рулон только что прибывшей из Франции марли. Нэб она отправила в Бостон на зимний сезон к Исааку и Элизабет Смит. Даже ее молодой кузен Джон Такстер покинул дом, ибо на сей раз Конгресс разрешил Джону нанять секретаря, и Такстер согласился на такую работу. В середине января 1780 года, собрав в кулак волю, она решила написать Джонни и излить свою душу: «В такое время, как нынешнее, жить следует гениям. Великие характеры формируются не в застойной жизни и не на мирной глади. Блистал бы Цицерон как выдающийся оратор, не будучи пробужденным, воспламененным и возмущенным тиранией Катилины, Верреса и Марка Антония?[36] Особенности мощного ума формируются в борьбе против трудностей. В этом убедит тебя история, ведь мудрость и проницательность есть следствие опыта, а не плод безразличия и лени. Острая необходимость пробуждает достоинства. Когда рассудок разбужен и воодушевлен сценами, берущими за душу, тогда дремлющие в иных условиях качества восстают к жизни и формируют характер героя и государственного деятеля… Твоя судьба, мой сын, быть очевидцем бедствий, захлестнувших родную страну, и в то же время жить среди народа, который мужественно отстоял свои находившиеся в опасности свободы и с благословения небес при поддержке щедрого и мощного союзника передаст это наследство еще не родившимся».4
В начале конфликта Абигейл спрашивала себя: «Когда кончится эта война?» Теперь же в моменты усталости невидимая рука сняла слово «когда» и вопрос звучал иначе: «Можно ли покончить с этой войной?» Такой же вопрос задавал себе в Париже и Джон Адамс. Отпрыск бунтарского поколения, он не мирился с подчиненным, зависимым положением Соединенных Штатов по отношению к Франции и решил доказать, что, нанося поражение Англии, Франция получает больше, чем отдает, что Соединенные Штаты не должны допускать, чтобы к ним относились как к колонии короля Людовика XVI. Его личным противником был граф де Верженн, министр иностранных дел Франции. Верженн не любил комиссара Адамса, считая его тупым, упрямым, неблагодарным и сующим нос в чужие дела. Он рекомендовал Джону Адамсу не информировать британцев о полномочиях заключить договор. Джон внимал его советам полгода, а затем понял, что позволил Верженну контролировать американскую внешнюю политику. Он потребовал реальных прав вести переговоры с британцами о мире. Верженн отказал, настаивая на передаче возникшего между ними спора на суд Континентального конгресса. Джон был вне себя от ярости. Он не мог смириться с тем, чтобы делами Соединенных Штатов верховодил Париж. Он написал несколько обстоятельных писем Верженну:«Я полон решимости не упустить ни единой возможности передать Вашему Превосходительству мои чувства в отношении всего, что мне представляется важным для общего дела…»Вслед за этим он изложил министру иностранных дел, как следует использовать корабли французского военно-морского флота в американских водах, как вести войну в Вест-Индии. Верженн выразил протест Франклину, заявив, что «он больше не вступит в дискуссию с мистером Адамсом и не станет отвечать на его письма». Франклин согласился с Верженном, заметив, что, поскольку Джону Адамсу нечего делать, он, «кажется, пытается выделить то, что, по его представлению, отсутствует в моих переговорах». Итак, пути Джона Адамса и Бенджамина Франклина разошлись. Джон сказал Бенджамину: — Америка была слишком щедра в выражении признательности Франции… Она более обязана нам, чем мы ей, и… мы должны проявить характер в наших обращениях… Немного открытой напористости, больше независимости и смелости в наших требованиях обеспечат нам помощь… Франклин, понимая, что Соединенным Штатам все еще требуется от Франции много средств, пушек, солдат и моряков, ответил, что Людовику XVI нравится мнить себя щедрым защитником Соединенных Штатов, и добавил: — Думаю, более правильно подыграть королю признанием нашей благодарности, и это не только является нашим долгом, но и соответствует нашим интересам. Джон проиграл в глазах Верженна и Франклина. Он выехал в Голландию, надеясь получить заем от голландцев и тем самым ослабить зависимость Соединенных Штатов от Франции. Верженн отплатил тем, что попросил Франклина отправить в Конгресс всю переписку между ним и комиссаром Адамсом. Франклин запросил Джона, не желает ли он добавить что-либо в порядке объяснения. Джон отказался; он уже послал в Конгресс копии своих писем. Когда письма Верженна дошли до Конгресса, поручение Джону лично вести переговоры с британцами о мире было отозвано и назначены четыре новых участника: Бенджамин Франклин, Джон Джей, Генри Лоуренс и Томас Джефферсон. Полномочия Джона на переговоры о торговом соглашении с Великобританией были отозваны полностью. Конгресс обязал комиссаров «предоставлять откровенные и доверительные сведения по всем вопросам министрам нашего щедрого союзника — короля Франции; не предпринимать ничего в переговорах о мире и перемирии без их уведомления и согласия… и в конечном счете руководствоваться их советами и мнением». В таких условиях Джон Адамс не мог работать, да и не хотел. Это понимали все: и Конгресс, и Франклин, и Верженн. Абигейл полагала, что он может подать в отставку и возвратиться домой. Ей следовало бы лучше знать своего мужа. Он не принадлежал к числу тех, кто подает в отставку. Джон убедил большинство членов Конгресса, что можно добиться займа от Голландии, миллионы гульденов; во всяком случае, следует попытаться. Джон Адамс был назначен полномочным посланником в Голландии и обосновался в Амстердаме.
Из-за неопределенности для Абигейл размылась граница между прошлым и настоящим. Прошло целых девять месяцев, а она не получила весточки от мужа и сыновей. За это время то, что началось как американская революция против Англии, переросло в крупную международную войну. Французский и испанский флоты сражались с британским в Ла-Манше, в Вест-Индии, у Гибралтара. Испанцы разгромили британцев у Пенсаколы и захватили Западную Флориду. Французы оспаривали контроль над Индией. Россия, которая считалась дружественно настроенной по отношению к Великобритании, выступила против нее с Декларацией о вооруженном нейтралитете. К ней присоединились Дания, Швеция и Пруссия, полные решимости взломать блокаду Англии против Франции и Испании, направив в эти страны суда и товары. Голландия снабжала морскими товарами Францию, использовала остров Святого Евстахия в Вест-Индии для торговых поставок в Америку настолько крупных, что Англия объявила войну Голландии. Голландский и британский флоты столкнулись в Северном море у Доггер-банки, сражение окончилось безрезультатно. Цепочка кораблей и солдат Англии, опоясавшая земной шар, стала тонкой и непрочной. Корабли, предназначенные для снабжения британских войск в Америке и для блокирования американских портов, были вовлечены в схватки с врагами в других морях. Осенью 1781 года Абигейл получила известия, вернувшие ее к мыслям о текущих делах. Четырнадцатилетний Джон Куинси находился в пути на Санкт-Петербург в роли секретаря американского посланника в России Фрэнсиса Дана. Чарли возвращался в Массачусетс. Недели и месяцы были заполнены каждодневными заботами. Лавка Абигейл опустела. Партия голландского фарфора, отправленная Джоном, застряла в Филадельфии, и у Абигейл не было средств переправить ее в Бостон. Она задолжала шестьдесят долларов налога штату и графству. Через четыре месяца после сообщения, что одиннадцатилетний Чарлз вроде бы отплыл в Америку, она узнала, что ее сын вместе с другими американцами застрял в Бильбао в Испании, Не было никаких известий от Джона Куинси и о том, как проходит его поездка в Санкт-Петербург; не приходили письма и от мужа. Она не знала ничего, кроме одного: ему не подходит влажный климат Нидерландов. Сдерживая свои чувства, Абигейл управляла фермой, прогуливалась на вершину Пенн-Хилла, навещала отца и Коттона Тафтса. Она зачесывала волосы назад, связывая лентой. Ей было почти тридцать семь лет, но случайные взгляды в зеркало утешали: ее лицо неподвластно времени, как бывает с людьми, отчужденными от окружающей действительности. Кожа огрубела от ветра; она не уделяла ей внимания, работая на скотном дворе и в загоне для коров. Самыми странными казались ей собственные глаза: невыразительные, безучастные, утерявшие блеск и ясность, почти не желавшие реагировать на внешний мир, вышедшие из-под контроля. Личной жизни у Абигейл не было, но она выступала в привычной роли помощницы для близких. Когда жена Питера Адамса Мэри умерла после родов, Абигейл взяла в свой дом их одиннадцатилетнюю дочь. Она ухаживала за матерью Джона, лишившейся мужа — Холла, а затем и за своим отцом, одиноко коротавшим свою жизнь в доме священника в Уэймауте. Судно «Эссекс», на борту которого находились выходцы из Брейнтри, было захвачено британцами, и члены семей взятых в плен обратились к ней с просьбой написать мужьям с целью добиться их освобождения, она выполнила их просьбу. Когда некий мерзавец, которому задолжал Билли, принялся угрожать Катарине Луизе физическим насилием, Абигейл передала ей четыреста долларов, полученных от Массачусетса за участие Джона в Конституционном конвенте. Эти деньги она хранила на черный день. Приятно осознавать свою полезность для людей. Кто лучше Абигейл знал одиночество как острую, мучительную болезнь, которой изо дня в день были подвержены ее тело и разум. Абигейл бродила из комнаты в комнату, стараясь расслабить сведенные судорогой руки, массируя грудь, которую пронзала острая боль, словно ей не хватало воздуха. Ее окружали темные демоны с угловатыми крыльями, царапавшие глаза; спасаясь от них, она взбиралась по винтовой лестнице в спальню, бросалась навзничь на кровать, прятала под подушку голову, ожидая исчезновения шума в ушах, ослабления колющей боли в груди, восстановления дыхания. Когда приступ проходил, она вставала, умывала лицо холодной водой, расчесывала волосы и спускалась вниз для работы. У Джона были свои неприятности. Его усилия добиться своего признания в Голландии в качестве полномочного представителя Соединенных Штатов оказались безуспешными, не преуспел он и в обеспечении займа для правительства. Он писал Конгрессу:
«Мои перспективы общественного и личного порядка настолько мрачны, а жизнь, которую я веду в Европе, скучна, меланхолична и малополезна для общества, что я согласился бы с намерением Конгресса отозвать меня».Действия британского генерала Корнваллиса зимой 1781 года имели своим следствием то, что Соединенные Штаты, Джон и Абигейл Адамс смогли наконец избавиться от бед: страна вышла на долгую, иногда извилистую дорогу восстановления своей мощи, а Абигейл и Джон — на дорогу воссоединения.
5
Зима 1780–1781 годов оказалась крайне тяжелой для американской армии. Силы Вашингтона в лагере Гудзон-Хайлэнде около Вест-Пойнта находились не в столь бедственном положении, как два года назад в Валли-Фордж. Было больше продовольствия и теплой одежды. Но моральный дух солдат упал намного ниже, чем после сражения на Лексингтон-Грин шесть лет назад: успехи на поле боя можно было пересчитать по пальцам, а поражений и катастроф более чем хватало. Жалованье солдат свелось почти к нулю из-за инфляции. Многие, завербовавшиеся на три года или на весь срок войны, считали, что их несправедливо удерживают в вооруженных силах. Вспыхнули два вооруженных мятежа. Шесть пенсильванских полков в Морристауне вышли в Филадельфию строем и встретились у Принстауна с комитетом Конгресса. Получив заверения, что жалобы будут рассмотрены, а прослужившие полные три года отпущены, они вернулись в лагерь. Три полка Нью-Джерси, взбунтовавшиеся около Помтона, были подавлены войсками Новой Англии по приказу Вашингтона. Победитель сражения у озера Шамплейн Бенедикт Арнольд переметнулся на сторону британцев, вторгся в Виргинию и захватил Ричмонд. Британский генерал-майор Филиппс выдворил американский флот с реки Джеймс. Английский подполковник Тарлетон захватил Шарлоттесвилл, где заседало законодательное собрание Виргинии, взял в плен нескольких законодателей; губернатору Томасу Джефферсону с трудом удалось спастись. Вашингтон послал двадцатитрехлетнего маркиза Лафайета, уже имевшего звание генерал-майора, с двенадцатью тысячами солдат из Новой Англии в Виргинию разгромить вооруженные силы Бенедикта Арнольда. Две армии так и не встретились. Адмирал Дэтуш, командовавший французским флотом в Ньюпорте, отплыл в Виргинию с задачей снять британскую блокаду. Ему помешал британский адмирал Арбатнот. Шла подготовка к решающей схватке, но передислокация войск требовала времени. Корнуоллис принялся сосредоточивать силы вокруг Йорктауна, ожидая подкрепления в лице британских морских эскадр, подходивших к Нью-Йорку. В конце лета 1781 года Вашингтон осуществил бросок в южном направлении; его силы были подкреплены французскими войсками под командованием Рошамбо. В ходе совместной операции американцы и французы окружили Йорктаун. Главное командование осуществлял Вашингтон, а друг семьи Адамс генерал-майор Бенджамин Линкольн возглавил американские силы. Под его началом дивизиями командовали Лафайет и фон Штейбен. Французская армия Рошамбо, включавшая силы маркиза де Сен-Симона, насчитывала почти восемь тысяч закаленных войск. Французский адмирал де Грасс выделил отряд испытанных в боях морских пехотинцев: он поставил на якорь свой внушительный флот из двадцати восьми линейных кораблей у входа в Чесапикский залив, перекрывая британским эскадрам доступ в него. Генерал Корнуоллис укрепил новую британскую базу у Йорктауна, разместив там восемь тысяч солдат и тысячу морских пехотинцев. Сражение началось 28 сентября, когда из Уильямсбурга вышли маршем союзные силы, намереваясь взять в клещи британцев и прижать их к реке Йорк. На расстоянии семисот ярдов от британских укреплений были выдвинуты пушки Нокса и тяжелые осадные орудия французов. Укрепление позиций заняло неделю, после чего американо-французская армия приступила к рытью подходных траншей. 9 октября французские осадные пушки открыли огонь, за ними заговорили американские батареи. Генерал Корнуоллис и его войска были захвачены врасплох. Мощный и точный артиллерийский огонь вывел из строя многие британские орудия; сохранившиеся прекратили стрельбу из-за нехватки боеприпасов. Британцы понесли большие потери. В ночь на 11 октября патриоты проложили новую линию траншей, уже в трехстах ярдах от восточных укреплений Йорктауна. А три дня спустя американские и французские офицеры вступили в спор, кому повести солдат на штурм британских фортов. Обе стороны сражались героически; офицеры и солдаты падали замертво в рукопашных схватках. К десяти часам вечера пал первый британский форт. 16 октября союзная артиллерия сровняла с землей остатки британских укреплений и сам Йорктаун. На следующее утро, в четвертую годовщину капитуляции Бургойна у Саратоги, на парапет поднялся в половине десятого британский барабанщик, подавший сигнал о готовности к переговорам. Британскому офицеру, вышедшему с белым флагом, были завязаны глаза, и он был отведен в штаб-квартиру Вашингтона. Офицер передал письмо генерала Корнуолиса с просьбой о «прекращении военных действий на двадцать четыре часа». Вашингтон согласился приостановить военные действия на два часа. Он отклонил требование британской стороны разрешить всем солдатам вернуться в Великобританию и Германию. В переговорах участвовали четыре комиссара. Утром 19 октября состоялось подписание документов. В два часа дня французские и американские войска выстроились с развевающимися знаменами вдоль дороги на Йорктаун. Британские и гессенские солдаты вышли из города со свернутыми знаменами под приглушенные звуки оркестров и барабанов. Офицеры складывали свое оружие на поле, окруженном французскими гусарами. Более восьми тысяч вражеских солдат и моряков сдались в плен. В этой решающей битве за Северо-Американский континент американцы потеряли около пятидесяти человек убитыми и шестьдесят пять ранеными; французы — шестьдесят человек убитыми и менее двухсот человек ранеными. Потери британской стороны убитыми, ранеными и пропавшими без вести составили около пятисот человек. Победа была поистине ошеломляющей. Брейнтри и Бостон гордились Массачусетским полком, отличившимся при штурме британских редутов. Вашингтон и генералы под его предводительством добились решающего успеха. Нация переживала взлет патриотических чувств. Тори чувствовали себя поверженными. В Англии возбуждение было не меньшим. Против лорда Норта, руководившего войной от имени короля, в парламенте поднялась мощная оппозиция. Услышав о капитуляции Корнуоллиса, лорд Норт заметался из угла в угол в своих апартаментах, повторяя: — Боже мой, боже мой! Все кончено! Все кончено! Так же полагали в большей части мира, хотя требовались еще целые месяцы, чтобы отвести корабли и вывезти остатки британских войск из Нью-Йорка. Голландцы, сопротивлявшиеся уговорам Джона Адамса признать Соединенные Штаты и предоставить им значительный заем, пошли на признание независимости Америки. Он подписал соглашения с частными банками о предоставлении новому государству пяти миллионов гульденов под пять процентов годовых с возвратом займа через десять лет. Его работа в Нидерландах оправдалась. Теперь он надеялся заняться делом, ради которого его послали в Европу, — договориться о мире с Великобританией.Добрые новости подобны всходам клевера — появляются на свет все сразу. После двухлетнего отсутствия считавшийся в течение нескольких месяцев пропавшим Чарлз прибыл на судне «Цицерон» в конце января 1782 года. С момента отъезда он вырос на целую голову. Чарли тосковал по дому, перенес простуду; заграничный опыт превратил его из веселого мальчика в сдержанного юношу. Он не привез писем отца, но ему было что рассказать. Благодаря Чарли Абигейл смогла почувствовать, чем были наполнены дни Джона. Чарли нравилось находиться в центре внимания, он осознавал себя связующим звеном между семьей и ее отсутствующими членами. Он поселился во второй спальне с Томми и не скрывал своего превосходства над младшим братом. Приход весны принес в дом Абигейл романтику, веселое настроение и бесконечные осложнения. Виновником этого был двадцатичетырехлетний Ройял Тайлер, происходивший из почтенной семьи Массачусетса. Владелец дипломов Гарварда и Йеля, он изучал право под руководством Фрэнсиса Дана. Отец парня умер, когда ему было тринадцать лет, оставив сынудобротное поместье стоимостью семь тысяч фунтов стерлингов. Ходили слухи о его бесшабашной юности, о прожигании наследства. Но все это, казалось, кануло в Лету; он поселился у Ричарда Кранча, старательно учился и уже заимел клиентов. Спустя несколько недель после того, как Тайлер поселился у Кранча, Абигейл посетила взволнованная сестра Мэри. Дела у Кранча пошли лучше, после того как Ричарда выбрали представителем Брейнтри в Генеральном суде. Еще до отъезда Джон помог Ричарду получить пост местного судьи. После прекращения боевых действий Кранч занялся импортом часов и других механизмов из Голландии, пользуясь содействием Джона в получении кредитов. — Сестра, ты умеешь хранить тайну? — спросила Мэри. — Попытаюсь. — Ты помнишь нашего постояльца, мистера Ройяла Тайлера? Он и моя Элизабет увлекаются прогулками. Вечерами он читает ей стихи и пьесы. Как по-твоему, это хорошо? Элизабет больше ни о ком не говорит. Сестра, могу ли я привести его в воскресенье на чай? Я хотела, чтобы ты присмотрелась к нему. В воскресенье семья Кранч пришла с постояльцем в обычное для Брейнтри время на чай — в четыре часа дня. Когда в дом вошли Мэри с Ричардом и сыном Билли по одну сторону, а незнакомый молодой человек между Элизабет и Люси — по другую, мысли Абигейл унеслись в прошлое, к тем дням, когда Ричард ухаживал за Мэри. Как быстро растет новая смена! Брак не принес Мэри того, к чему она стремилась: особняка, такого же большого, как у полковника Куинси, частых поездок в Англию и посещения семьи Ричарда, коллекции столового серебра. Замужество Мэри вылилось в жизнь с бродячим специалистом по продаже и ремонту часов, преуспевающим владельцем лавок в Салеме, Бостоне и теперь в Брейнтри. Но никто не догадался бы, глядя на Мэри, что она не осуществила честолюбивых замыслов своей молодости. Высокая, статная, усвоившая аристократические манеры, Мэри держалась как повелительница капризами судьбы. Абигейл посмотрела на свою племянницу-простушку, а затем на Ройяла Тайлера в элегантном пунцовом сюртуке, белом жилете и плиссированной сорочке. Красивый мужчина, подумала она, ему к лицу темные изогнутые брови, короткий нос, четко очерченный рот. Его густая темная шевелюра напоминала парик, закрывая наполовину уши и спускаясь сзади на затылок. Глаза, выдававшие быструю смену настроений и мыслей, подчеркивались слегка потемневшими полуокружьями, а голос был живым и мелодичным. Ройял Тайлер производил впечатление человека, который спешит высказать хотя бы половину глубокомысленных замечаний, приходящих ему на ум. Он цитировал прочитанные пьесы, декламировал наизусть стихи. Его остроумие разогрело атмосферу. Абигейл наслаждалась искренностью и блестящим интеллектом молодого человека. Казалось, что ее настроение разделяют и другие. Все, кроме Нэб. Она сидела в углу, у буфета, положив руки на колени, потупив взор, не говоря гостю ни слова. — Тебе не понравился молодой человек? — спросила Абигейл после ухода визитеров. — Да, понравился. — Почему же ты сидела, как бука? — Ты так считаешь? Я просто слушала. На следующий день, когда Абигейл писала письма, послышался стук в входную дверь. По лестнице поднялась миссис Ньюкомб и сообщила, что приехал мистер Тайлер. Один, принес книгу. Его лицо озарилось улыбкой при виде Абигейл. — Простите мое вторжение, миссис Адамс. Вы проявили интерес к упомянутой мною пьесе. Я осмелился принести вам экземпляр. — Вы очень любезны. Входите. Кажется, самое время для чая. — Я был бы неискренним, миссис Адамс. Я пришел, как надеялся, в нужный момент. Чай и беседа позволяют заполнить рабочий день. Вошла Нэб. — О, мистер Тайлер! А где кузина Элизабет? — Предполагаю, дома. Ваша мама была настолько любезна, что пригласила меня на чай. — Рады видеть всех соседей. Его возбуждение спало. Но не надолго. За чаем он заявил, что пришел попросить на время одну из книг Джона Адамса по праву. — Не в порядке лести, миссис Адамс, но мне хотелось бы стать таким же исследователем в области права, как мистер Адамс. Я прочитал его «Мысли о правительстве». — Правда? Маска занимательного собеседника исчезла. Перед ними предстал серьезный юноша. Он изложил Абигейл резюме прочитанных им за последнее время работ: Кока, Блэкстона и Эшерли, а также Селдена, Хаукинса и Гейла. Абигейл поняла, что он обладает цепким аналитическим умом, и, подобно молодому Джону Адамсу, расширяет научную основу, тщательно изучая классических авторов: Ливия, Горация, Марка Аврелия.[37] Абигейл нравился молодой человек, и он заинтриговал ее. Она поинтересовалась мнением Тайлера о жизни в Брейнтри, он ответил: — Здесь она исключительно хорошая. Признаюсь, мама была против моего выбора. Она мечтала, чтобы я открыл контору в Бостоне. Я сказал ей, что если Брейнтри оказался достаточно хорошим для карьеры Джона Адамса, то он будет хорош и для меня. Не хотел бы сравнивать себя, мэм, но у каждого молодого честолюбца должен быть свой идол, для меня это Джон Адамс. Абигейл была польщена. Нэб не выразила согласия с Ройялом Тайлером, не бросила на него оценивающего взгляда. С этого момента Тайлер ежедневно появлялся в доме Адамсов в часы чая с радушной улыбкой и небольшими подарками: со сладостями или тоненькой книжкой стихов и преподносил их как своего рода пропуск. Его взоры и беседы все больше обращались к сдержанной и державшейся отчужденно Нэб. К концу недели Абигейл решила, что нужно внести ясность. Когда по ее сигналу Нэб покинула комнату, Абигейл, налив себе и гостю по второй чашке чаю, посмотрела серьезно на посетителя и сказала: — Мистер Тайлер, ваше присутствие доставляет нам удовольствие… — И вашей дочери тоже? Боюсь, что нет. — …Моя сестра, миссис Кранч, сказала мне, что вы интересуетесь Элизабет. — Лишь как друг, миссис Адамс. — И ничего больше? — Ничего больше. — Тогда почему Элизабет думает иначе? — Возможно, я допустил нескромность. Поскольку я живу в их доме, то пытался стать братом для двух девушек. — Ничего больше? — Честное слово. — Могу ли я доверительно спросить, чем вызвана оказываемая вами честь нашему дому, который вы посещаете семь дней подряд? — Это самый располагающий к размышлениям дом в Новой Англии. — Скажите чем? — Здесь слышишь замечательные, заразительные беседы. — И ничего больше? Ройял Тайлер покраснел. — Да, есть еще кое-что. Не скрою, очарован вашей дочерью. — Раз так, то есть, что скрывать. Молодой человек удивленно поморгал и сухо спросил: — Можно знать что? — То, что вы гуляете с Элизабет. Ее мать полагает, что вы любите друг друга. Ройял Тайлер вскочил со стула и взволнованно заходил по гостиной. — Я не давал ни малейшего повода думать так! Ни Элизабет, ни миссис, ни мистеру Кранч. — У них сложилось такое впечатление. — Тогда я должен его исправить. Миссис Адамс, могу ли я просить у вас разрешения ухаживать за мисс Нэб? Абигейл бесстрастно ответила: — Мисс Нэб сама принимает решения. На следующий день рано утром появилась Мэри Кранч. Абигейл редко видела свою сестру такой раздраженной. — Этот молодой человек, Ройял Тайлер… Знаешь, что он сказал мне? Что он испытывает к Элизабет лишь братские чувства! Она резко опустилась на стул. — Но это лучшее, что могло произойти. До нас дошли страшные истории о его молодости. Он выпивал, играл в азартные игры, водился с бездельниками. — Огорчена узнать об этом, сестра. — Характер человека не меняется. Если он был безответственным в юности, таким останется и на всю жизнь. Тайлер пришел в полдень, и Абигейл пересказала ему обвинения. Он спокойно ответил: — Многое справедливо. Я был несчастлив в связи с тем, что мать вышла замуж второй раз. У нас была неподобающая компания, мы действительно играли. Я промотал половину своего наследства, прежде чем понял, что делаю. Но все это прекратилось пять лет назад. С тех пор я взял себя в руки, усиленно работал… При встрече в следующее воскресенье во время церковной службы Мэри Кранч была вновь в ярости. Ричард Кранч заявил со спокойствием юриста, что молодой человек действовал в рамках своего права и останется их постояльцем. Ройял Тайлер стал другом семьи Адамс. Никто не мог утверждать, что он обхаживает Нэб; его внимание касалось всей семьи. Он водил на охоту мальчиков, используя старые ружья Джона, ловил с ними рыбу на островах Рейнсфорд и Хэнгмен. Он увлек Абигейл дискуссией о роли права в прошлых цивилизациях. Слушая его с закрытыми глазами, она видела перед собой молодого Джона Адамса. Ей доставляли удовольствие его поэтические опыты. Молодая Катарина Луиза льнула к нему, он был неизменно добр к ней. С Нэб держал себя несколько отчужденно. Однако его ежедневное присутствие оказывало воздействие и на нее. Трудно было противостоять Тайлеру, его человечной теплоте, искреннему смеху, его звучному голосу, наполнявшему маленький коттедж даже после его ухода. Однажды ночью в спальне, разделенной низкой перегородкой, Нэб, лежа в постели, спросила: — Мама, ты написала отцу о мистере Тайлере? — Нет. Пожалуй, не о чем писать. — Потому что я сдержанно отношусь к нему? Нужно ли изменить поведение? — На такой вопрос ответить можешь только ты. — Сколько было тебе лет, когда ты встретила отца? — Сколько сейчас тебе. — Поощряла ли ты его? Абигейл улыбнулась в темноте. — Он не нуждался в поощрении. Мы подружились. — Ты говорила, что отец был твоей первой любовью. — Да. — Ройял Тайлер — моя первая любовь? — Ему хотелось бы быть ею. — Он не рассказывал своих желаний. — Понимаешь ли ты, насколько прочна твоя оборона за твоими бесстрастными глазами? — Я люблю двух мужчин. Абигейл слушала, пытаясь найти ключ к необычной откровенности дочери. — Моего отца и моего брата. — Наступило молчание. — Я чувствую себя… заброшенной. Любит ли меня отец? Он отсутствует столько лет. Джонни и я были близкими друзьями. Я давно не получала от него ни словечка. Я понимаю, почему мистер Тайлер здесь; он ждет дня, когда сможет открыто ухаживать за мной. Откровенно говоря, он мне нравится. Он талантливый и с широкими интересами. — Нэб замолкла в темноте, затем спросила: — Как может девушка думать о любви, не зная, любят ли ее дома? Абигейл хотелось обнять и утешить девушку. Однако она сухо ответила: — Почему ты сомневаешься в их любви? У меня нет сомнений в том, что они меня любят. — Это другое. Ты — жена и мать. А я всего лишь дочь и сестра. Слова «всего лишь» сокрушили терпение Абигейл. — Послушай, Нэб, твой отец и брат тебя очень любят. По прихоти судьбы они далеко от нас, их позвал долг. Любовь слаба, если не выдерживает разлуки. — Мама, я знаю о твоих жертвах и перенесенных горестях. Абигейл никогда не была так близка к своей дочери. — Горести — да. Одиночество более болезненно для сердца, чем любая невралгия. Но я никогда не теряла веру в свою любовь к мужу и семье или семье ко мне, никогда! Не должна сомневаться и ты. Клянусь своей жизнью, что отец любит тебя со всей присущей ему нежностью. — Согласна. Но я должна видеть и чувствовать это. — Однако как насчет дружбы? — спросила Абигейл. — Я добивалась этого задолго до любви. Дружба — единственно верный путь к любви. Я помню строки доктора Юнга:
6
В 1782 году Бенджамин Франклин начал зондировать возможности заключения мирного договора с Великобританией. Для участия в переговорах во Францию прибыл Джон Джей, а вслед за ним из Голландии — Джон Адамс. Генри Лоуренс, захваченный британцами и заточенный в лондонский Тауэр, приехал за Джоном Адамсом, но пятый комиссар — Томас Джефферсон не смог вовремя выехать из Соединенных Штатов. Комиссарам предстояло добиться наиболее выгодных условий договора и восстановить дружбу между двумя странами. Широкая торговля между Великобританией и Соединенными Штатами была нужна для американского процветания и прогресса. Джон фиксировал в своем дневнике хорошее сотрудничество четырех комиссаров в осуществлении основного требования Континентального конгресса: признание независимости Соединенных Штатов; вывод всех британских войск с американской территории; отказ британцев от вывоза негров и иной собственности американских жителей. Джон обеспечил для Новой Англии право на ловлю рыбы в водах около Гренд-Бэнк и других отмелей Ньюфаундленда, а также право обработки рыбы на берегах Ньюфаундленда. После того как сообщения о семимесячных переговорах пересекли Атлантику и дошли до Филадельфии и Бостона, пришло осознание того, что и американским комиссарам пришлось пойти на некоторые уступки. Английские кредиторы получали обещание выплаты им «реальной стоимости в фунтах стерлингов по всем обоснованным долгам…». Конгресс рекомендует всем законодательным собраниям соответствующих штатов обеспечить возмещение за все поместья, права и собственность, которые конфискованы у тори. Джон одобрил эти меры как законные и справедливые. Итак, 14 января 1784 года наступил мир. Тринадцать штатов занялись устройством своих конституционных порядков, последние солдаты вернулись домой, заработали фермы, оживилась деловая жизнь. Предвосхищая признание Голландией Соединенных Штатов, Джон Адамс приобрел за пятнадцать тысяч гульденов первое здание для американского посольства в Европе. Это был принадлежавший графине де Куадт Викерадт прекрасный городской дом, расположенный в «отличном районе и… на престижном участке». У Джона не было полномочий Конгресса на покупку, но цена была соблазнительной, а Соединенные Штаты должны были иметь постоянного посланника в Гааге. При покупке он заплатил десять тысяч гульденов, большая часть суммы покрывалась за счет займа от голландского банкира и старого друга Америки Яна де Нефвилла. Когда же потребовались дополнительные средства для оплаты налогов по передаче недвижимости, Джон опустошил собственный карман. Если бы конгресс не одобрил его действия, он продал бы дом при отъезде из Голландии. Все соглашались, что покупка весьма удачная, и у Джона не было оснований для тревоги. Он обставил дом за счет полученного им жалованья. Абигейл написала Джону, что готова отправиться в Европу. Нэб упрашивала отца разрешить ей приехать в Гаагу в роли экономки. Джон ответил жене и дочери, что он скоро вернется домой. Он писал Нэб:«Миссис Роджерс доставила мне твое очаровательное письмо, на котором ты не поставила даты. Твое предложение приехать в Европу и вести домашнее хозяйство папы, заботиться о его здоровье свидетельствует о понимании дочернего долга и любви; идея мне нравится как таковая, но не в практическом плане. Я слишком дорожу тобой, мое дорогое дитя, чтобы позволить тебе пересечь Атлантику. Ты не представляешь себе, что это такое. Если Господь Бог оградит меня и твоего брата при возвращении домой, что, как я надеюсь, случится следующей весной, то я не хотел бы слышать о том, что кто-то из моей семьи вновь пересекает океан».Молодая миловидная миссис Фрэнсис Дана, жена американского посланника в России, у которого Джонни служил личным секретарем, побывала на обеде в Брейнтри и не скрывала, что крайне расстроена своей разлукой с мужем. В отличие от Абигейл она не считала нужным скрывать свои чувства. Временами Абигейл была готова согласиться с таким поведением, но она предпочла бы отрезать себе язык, чем заявить об этом публично. Выборный Брейнтри спросил ее: — Если бы вы знали, что мистер Адамс задержится на столь длительный срок за границей, согласились бы вы на его отъезд? Абигейл подумала несколько минут, а затем под бряцание тазов и птичьих клеток, качавшихся под стропилами лавки, сказала то, что ей продиктовало сердце: — Если бы я знала, сэр, что суждено свершить мистеру Адамсу, то не только согласилась бы на одиночество, каким бы болезненным оно ни было, но и не возражала бы против еще трех дополнительных лет, избави Господи! Рада, что могу пожертвовать личными чувствами ради общего дела и показать пример того, что считаю себя и семью песчинкой в великом содружестве. Для некоторых ее друзей революция и победоносная война ушли в прошлое. Семья Уоррен приобрела дом бывшего губернатора Томаса Хатчинсона в Милтоне. Губернаторы Бернард и Хатчинсон скончались в Лондоне. Дом находился всего в нескольких милях от Брейнтри и был окружен зелеными лугами и плодородными полями. Участие этой семьи в обеде у Абигейл вылилось в мрачное событие. Мэрси утверждала, что буйства революции вызвали потерю рассудка у ее брата Джеймса Отиса. Джеймса Уоррена настолько озлобили годы войны, в ходе которой он дослужился до ранга генерала, что он дважды отказывался представлять Массачусетс в Континентальном конгрессе. Его попросили в третий раз; жители графства Суффолк были настроены против него, раздраженные его нежеланием считаться с интересами страны. — Для меня все кончилось, — заявил он, выплевывая скорлупу ореха в ладонь своей огромной руки. — Хватит с меня нового, демократического класса, пришедшего к власти, людей, которые в прошлом годились лишь на то, чтобы чистить мои сапоги. Абигейл не могла понять, чем вызвано раздражение этого доброго человека. Но все больше таких людей встречалось ей в Бостоне и Брейнтри. Иногда это были лица, не сделавшие карьеры на каком-либо посту, иногда — потерявшие в ходе войны ферму, профессию, лавку. Встречались и такие, кто скорее выиграл, чем потерял, и тем не менее и они были разочарованы, по их словам, ошибочным идеализмом. Это причиняло Абигейл боль, создавая впечатление утери веры в Федерацию, высмеивая саму мысль, что независимые штаты, ввязавшиеся в споры о границах, деньгах, торговле, долгах, разделении властей, могут когда-либо стать единым народом и государством. Самым же печальным было случившееся с Сэмюелом Адамсом. Он сыграл важную роль в революции, но, когда Соединенные Штаты достигли независимости, нужда в особых талантах кузена Сэма отпала. Его продолжали выбирать членом Континентального конгресса, он принимал участие в дебатах, но неприятности возникли в тот момент, когда Джон Хэнкок ушел с поста председателя Конгресса и возвратился в Массачусетс, где стал первым губернатором. Джон Хэнкок долгие годы дружил и тесно сотрудничал с Сэмюелом Адамсом, теперь же они стали непримиримыми врагами, тратившими большую часть энергии в усилиях подорвать политическое влияние друг друга. Политическая машина губернатора Хэнкока, установившая полноту власти в Бостоне, обрушилась на Сэмюела, обвиняя его в отказе вступить на длительный срок в армию Соединенных Штатов, в попытках подорвать контроль Джорджа Вашингтона над армией, в обмане Конгресса, спровоцировав во Франции спор между Сайласом Дином и Артуром Ли. Сэмюелу пришлось спешно вернуться из Филадельфии в Бостон и защищать свою политическую карьеру. Абигейл редко встречалась с кузеном Сэмюелом и с Бетси. Сэмюел заседал в Конгрессе несколько лет, но по возвращении в Бостон год назад был выбран в сенат Массачусетса. Абигейл решила, что подошло время исправить положение, и послала Бетси записку, настаивая привезти к ней на субботу и воскресенье Сэмюела для беседы. На эти дни она переведет мальчиков на чердак. Голова Сэмюела с поседевшими взлохмаченными волосами заметно дрожала. Его глаза бегали, лицо прорезали глубокие морщины. В субботу вечером она, Бетси и Сэмюел устроились перед камином в гостиной, где некогда четыре Адамса сиживали в годы борьбы и кризиса. Абигейл решилась спросить в открытую: — Кузен Сэмюел, что испортилось теперь, когда окончилась война? Мы добились независимости, которой вы посвятили свою жизнь. Чем вы недовольны? Сэмюел взглянул на нее, в его глазах мелькнула искра. — Поедем в Бостон, и ты увидишь новые лица. Кто ныне контролирует наш штат и наше государство? Патриоты, которые привели к независимости и сражались на войне? Конечно нет! Контролируют барышники и спекулянты. Почтенные купцы вытеснены из бизнеса. Скороспелые джентри скупили особняки тори и заняли их место в обществе. Встань на углу какой-нибудь бостонской улицы и понаблюдай за подонками в самых дорогих каретах. Кто они такие? Джеймс Уоррен скажет тебе: «Это те, кто пять лет назад чистил бы мне сапоги». А чем они занимаются? Изображают, будто в любом пустом развлечении и пустяке они самые что ни на есть англичане. Именно это мы импортируем сегодня. Британские безделушки и пустячки. Я ненавижу старых тори и питаю к ним отвращение. Я буду драться до конца против восстановления их собственности, но, честное слово, какая разница между ними и нуворишами? Какие это патриоты! Посмотри, как Джон Хэнкок отметил назначение на пост губернатора. Вечеринки и обеды, балы и оргии, каких Бостон не видел со времен Бернарда и Хатчинсона. Некогда Бостон стоял на переднем крае защиты религии и свободы. Джон Хэнкок подрывает любовь нашего народа к свободе роскошью и соблазном легкой жизни. Скажу тебе, дорогая кузина, революция состоялась не ради этого. Разве ты не понимаешь, что как пуритане мы проиграли эту войну? Он сел на край стула, сжав между коленями руки и стараясь скрыть их дрожь. — Разумеется, Сэм, это временно. Мы находили в прошлом руководителей и вновь найдем их. — Нет, кузина. Потерян пуританизм, наша добропорядочность. Люди жертвовали, страдали, умирали; твой муж жил в разлуке с тобой и детьми долгие годы, а награду получили алчные и коррумпированные. В нашей стране погибло величие. Сэмюел извинился и устало пошел наверх, в спальню. После долгого молчания Абигейл сказала: — Кузина Бетси, трудно тебе. Я раньше не понимала. Бетси посмотрела на Абигейл. Ее лицо было бледным, но глаза — ясными. — Меня волнует, когда Сэмюел доводит себя до болезненного состояния. Ведь он был стойким борцом всю жизнь. Он обладает влиянием в Бостоне, хотя и отрицает это. Ныне он председатель сената и в состоянии продолжать борьбу. Мне горько лишь тогда, когда Сэмюел говорит, что он перевалил пик своей жизни, страна и народ не нуждаются больше в его услугах. — Мы не были бы свободной страной без таланта и опыта Сэмюела Адамса, — решительно заявила Абигейл. Бетси грустно улыбнулась и прошептала: — Бывают приятные моменты. Но ему хотелось бы играть решающую роль в созданной им стране. — Она поднялась: — Извини меня, я пойду к нему наверх. Абигейл не могла заснуть. В отчаянии она ходила в темноте по комнатам нижнего этажа. Неужели ради этого все эти годы она была далека от мужа и любви ради того, чтобы итогом были такие печальные настроения?
7
Вместе с семьей Кранч Абигейл наняла молодого Томаса учить ее мальчиков и Билли Кранча. Томас преподавал в течение школьного семестра, а затем подался в бизнес. Абигейл подыскала другого учителя, сына плимутского священника, использовавшего нередко пустовавшую лавку для занятий. Через несколько месяцев молодой Роббинс подключился к семье, основавшей свое дело в Бордо. Абигейл не оставалось ничего, как обратиться в частные школы; ее сыновья должны получить хорошее образование. Из Андовера ответили, что в школе уже полный набор. Такие же ответы поступили из других мест. Абигейл отчаивалась: если сыновья не получат образования, их не примут в Гарвард. Время бежало, и ей больше чем когда-либо нужна была квалифицированная помощь мужа. Джон обязан знать, что будущее его младших сыновей поставлено под угрозу. Что ж, на худой конец она сделает их фермерами, владельцами земли. Она купила в Вермонте пять земельных участков по триста тридцать акров каждый, но из-за недостатка средств ей пришлось дать расписку. Двенадцать человек, захваченных британцами на судне «Эссекс», в защиту которых она просила вмешаться Джона, благополучно вернулись в Брейнтри. Они пришли с домочадцами к Адамсам, чтобы засвидетельствовать свое уважение. Каждый явился с суммой денег, выданной Джоном Адамсом. Абигейл приняла признательность, но сочла, что не может взять деньги. — Просим извинить, мэм, — сказал от имени группы Джоб Филд, — почему нет? — Мне не сообщил муж. Он мог выдать вам деньги Конгресса. — Это не деньги Конгресса, миссис Адамс. — Будьте добры, джентльмены, — настаивала она, — оставьте их у себя до возвращения мистера Адамса. После начала сезона дождей Ройял Тайлер изменил свое расписание: он вставал в пять часов утра и работал над книгами по праву, а вечера проводил вместе с семьей Адамс у гудящего камина. Молодой человек все больше нравился Абигейл. У него появилась скромная клиентура, для особо сложных дел он пользовался сборниками Джона по правовым постановлениям. В знак признательности за гостеприимство он попросил разрешения вытребовать гонорары Джона, которые ему задолжали тори и некоторые купцы. И ему кое-что удалось собрать. С наступлением зимы Абигейл поняла, что допустила серьезный просчет. Ройял Тайлер был уже почти девять месяцев постоянным визитером, а она не написала Джону ни слова о молодом человеке. Поначалу Нэб проявляла сдержанность к нему, и Абигейл не хотела тревожить беспричинно Джона. Иногда она вроде бы замечала, что Нэб оттаивает, но столь же быстро девушка замыкалась и становилась скованной. Теперь выяснилось, что намерения Тайлера серьезнее и, возможно, появляются первые ростки любви. Джон вправе обозлиться. Поскольку имелись шансы его скорого возвращения из Европы, Абигейл откладывала сообщение, предпочитая рассказать обо всем при личной встрече. Предположим, Нэб действительно влюблена. У Абигейл возникнут неприятности с мужем: ведь он окажется перед фактом спустя год после появления мужчины на сцене и объявления им, по меньшей мере косвенным путем, желания жениться на мисс Адамс. Абигейл слишком долго откладывала, но в конце концов сочла за лучшее описать немедля Джону всю историю. В письме от 22 декабря 1782 года она набросала полный портрет Тайлера, рассказала, что он изучал право у мистера Дана, открыл девять месяцев назад контору в Брейнтри и стал постояльцем семьи Кранч.«Он наделен талантами, и поведение ничем не выделяло его с момента поселения в городе, благодаря этому его клиентура расширялась изо дня в день. Он станет приметной фигурой в своей профессии, если будет настойчиво ею заниматься. Я не знаю другого молодого джентльмена, равного ему в литературе, в умении судить с большей точностью и деликатностью. Я частенько гляжу на него и думаю, что ты получил бы большое удовлетворение, имея такого ученика».Затем, решив, что муж должен знать всю правду о молодом человеке, она описала его буйную молодость и прожигание наследства. В его оправдание она написала:
«Но даже во время кутежей он неизменно уделял утренние часы занятиям, благодаря чему накопил много полезных знаний».Тут ей пришло в голову, насколько велик ее проступок. Она побежала в комнату Нэб и резко сказала: — Дитя, думаю, что ты должна провести остальную часть зимы с дядюшкой Исааком и тетушкой Элизабет. Нэб не расстроил тон матери. — Я готова. — Я скажу мистеру Тайлеру. — Хорошо, мама. Болезненно осознавая свою вину, Абигейл так и поступила в тот же вечер. — Мистер Тайлер, полагаю, что мой муж вернется весной. Я не считаю правильным, чтобы рассудок моей дочери был привязан… — Если рассудок и был привязан, она не выдала себя ни одним словом. — Поскольку ваша юридическая практика недостаточно большая, чтобы думать о постоянном… Как бы то ни было, я имею лишь один голос, и этот голос принадлежит мистеру Адамсу. Пока я не услышу его мнения, я посылаю Нэб на зиму в Бостон. — А я останусь здесь работать. Я буду делать все так, чтобы одобрили и вы, и мистер Адамс. Я знаю, что в моей молодости было сомнительное прошлое, и по этой причине стану работать вдвое усерднее и вести строгую жизнь. Ответ Джона звучал как возмущенный вопль отца, неожиданно узнавшего, что может потерять маленькую дочку. Он не представлял, что за годы его отсутствия она выросла в длинноногую женщину с высокой грудью. Поскольку ответ Джона был воспринят Абигейл как суровая отповедь, обмен письмами стал резким. В горячке Джон писал так, что впервые глаза Абигейл видели лишь отдельные строки:
«…Поступило твое письмо от 23-го. Его содержание пробудило все мои эмоции и пролило свет на необходимость моего возвращения. Признаюсь, мне вовсе не нравится тип. Мой ребенок слишком юн для таких мыслей, и мне не по вкусу слово „кутежи“… Я бы взял адвоката, но он в этом возрасте должен проводить вечера и ночи за книгами, а не около камина леди…»«О боже мой! — подумала Абигейл. — Неужели Джон забыл долгие вечера в гостиной моего отца?»
«Юноша, достаточно легкомысленный, промотавший свое состояние или половину его на развлечения, не для меня… Я не ищу ни поэта, ни профессора художественной литературы… Я со всей определенностью запрещаю всякую связь моей дочери с молодым человеком, который не избавился полностью от пристрастия к забавам и расточительности».Джон добавил, что ему не нравится манера обхаживать мать! Абигейл была ошарашена неистовым письмом Джона. Однако, прочитав письмо второй раз, она была вынуждена признать, что, находясь вдали от дома, он был вправе возмутиться. Спустя три недели он писал:
«Мир, облегчивший положение остальной части Вселенной, мне кажется, обостряет мою растерянность и обеспокоенность. Я просил Конгресс об отставке, но не предвижу быстрого решения, окажусь в подвешенном состоянии… Я, несомненно, вернусь весной… поэтому тебе не следует что-либо делать, а дождаться твоего старого друга».К моменту получения этого письма, когда на яблонях набухли почки, а в полях появились светло-зеленые полоски всходов, Нэб вернулась в Брейнтри. То, что в душе Нэб не пробудило внимание Ройяла Тайлера, разлука осуществила в полной мере. Исчезла ее скованность, которую отец восхвалял как величайшую доблесть. — Мама, теперь, когда отцу известно о мистере Тайлере, нет причины, почему бы он не мог нас навещать, не так ли? Абигейл колебалась. Она не рассказала Нэб о возмущенном ответе отца. — За последние месяцы ты не слышала ничего неприятного о мистере Тайлере? — спросила Нэб. — Напротив, он работал, как крот. Визиты Ройяла Тайлера ограничились двумя в неделю: часовой прогулкой с Нэб в полдень и единственной чашкой чаю перед возвращением к изучению права. Число судебных дел, поступавших к нему, увеличилось, но он понимал, что сможет зарабатывать на семейную жизнь лишь через два года. Внимание Абигейл вновь переключилось на бедственное положение с образованием мальчиков; одному исполнилось десять лет, другому — двенадцать. Свободных мест в частных школах не было. Оставалось единственное — просить помощи у мужа Элизабет, преподобного Шоу.
Чтобы добраться из Бостона в Хаверхилл, предстояло проехать восемь часов на дилижансе, и поездка стоила дорого: восемь шиллингов за взрослого и шесть шиллингов за каждого ребенка. Город был основан английскими пуританами, о которых говорили: «Господь Бог просеял всю нацию, чтобы засадить Новую Англию». Во вторую волну иммигрантов входили воинственные отпрыски шотландцев и ирландцев, которых выборные лица Бостона отправили на северо-запад Массачусетса, на земли, вдававшиеся в индейские территории. Хаверхилл представлял компактную, с близко отстоящими друг от друга домами, деревню, насчитывавшую около двух тысяч жителей. Покорив индейцев, они продолжали враждовать между собой. Население жило зажиточно, главная улица деревни протянулась вдоль реки Мерримак, по которой в Ньюберипорт на Атлантическом побережье сплавлялись солонина, бочарная клепка и обручи, сыры и масло, различные виды поташа. Мэйн-стрит взбегала на холм, над общинными землями возвышалась белая церковь с плацем и парадной площадкой около нее. Пасторский белый дом с большими окнами стоял немного отступя от Плезант-стрит. В прошлом церковь и площадка около нее были свидетелями бурных сборищ, ибо общину будоражил религиозный раскол. Пять проповедников не сумели усмирить приход. Преподобный Шоу не отличался сильным характером, но, обладая христианской мягкостью, сумел умерить и похоронить религиозные различия. Наибольший мир, видимо, царил в доме священника с четырьмя колоннами, придававшими ему вид особняка виргинского плантатора, а не церковника, получающего сто фунтов стерлингов в год. Девушкам в семье Смит повезло: Мэри, Абигейл и Элизабет вышли замуж по своему выбору. Абигейл еще мучила совесть, что она осуждала Джона Шоу. «В самом деле — почему? — спрашивала она сама себя, целуя двух детишек Шоу. — Потому, что не распознала в молодом студенте зрелого мужчину?» Она извинилась в душе перед Элизабет, счастье которой не требовало огласки, и поблагодарила свою изящную, быструю умом сестру за то, что Джон Шоу никогда не узнал о ее сопротивлении. Теперь же Абигейл нуждалась в доброте и лояльности зятя. Она откровенно изложила свои заботы: никто другой не может обучить Чарлза и Томми, подготовить их к поступлению в колледж. — Сестра и брат Шоу, не приютите ли вы их на следующий год или два? Элизабет обошла комнату, зажигая свечи в стенных бра: — Решение за моим мужем. В свои тридцать пять лет преподобный Шоу уже ссутулился. — Мы не оставим тебя, сестра. Я обучу их всему, что знаю. Абигейл прослезилась. Она сделала вежливый реверанс: — Семья Адамс будет вашим вечным должником. — Если семьи начнут считать свои долги, ростовщики распухнут от денег, — ответил Шоу. — Теперь я оставлю вас одних, сестры, договориться о деталях. Я должен дописать воскресную проповедь. Я бьюсь, как птица, попавшая в шторм, вытягиваю каждую фразу, как утка лапы из липкой грязи.
8
Джон находился в отъезде три с половиной года. Разлука была столь долгой, что Абигейл охватило оцепенение. В ее сознании все сжалось в комочек, как моряки сжимаются под водонепроницаемыми робами во время шторма на море. Летняя жара действовала, подобно наркотику. Абигейл навестила многих друзей: семью Уоррен, миссис Фрэнсис Дана в Бостоне, семью Шоу в Хаверхилле, своего дряхлеющего отца в Уэймауте, Коттона Тафтса, избранного сенатором штата, семью Кранч. Приходила она по приглашениям на чай, ужин, поскольку собственный дом угнетал ее. Как приятно избавиться от тоски и одиночества в беспечной беседе; удивительно, как бессодержательная болтовня может заполнить пустоту и ускорить бег времени. Осенью резко изменился ритм ее жизни. К началу сентября стало ясно, что семидесятилетний преподобный Уильям Смит умирает от уремии. Абигейл созвала семью. Ее отец шептал в перерывах между приступами: — Есть лишь одна причина, по которой я желаю, чтобы Бог сохранил мне немножко дольше жизнь: мне хотелось бы видеть возвращение твоего дорогого друга. Он умер через два дня в кругу дочерей и четырнадцати внучат. Не было только Билли; отчаянные усилия трех сестер отыскать блудного сына окончились ничем. Преподобный Смит не называл имени Билли, но каждый раз, когда кто-то входил в его комнату, в его глазах зажигалось ожидание увидеть сына. Утеря Билли явилась тяжким ударом и разочарованием в его долгой и полезной людям жизни. Прощание с семьей вылилось в последнюю проповедь: — Я старался сотворить все доброе, что мог, дарованными мне талантами и делами своими возблагодарить Господа Бога. Шесть дьяконов церкви пронесли по извилистой тропе на кладбище простой дощатый гроб. Там собрались все жители Уэймаута и окрестных поселков: несколько сот, которых за сорок девять лет своей службы пастор крестил, наставлял, женил, а затем крестил их детей. Никто не плакал, даже Абигейл; казалось, что это был момент ликования, что такой добрый и требовательный человек прожил такую долгую жизнь и им служил. Церемония произвела самое сильное впечатление на Нэб. Ей исполнилось восемнадцать лет, и она решила, что наступило время внести ясность в ее отношения с Ройялом Тайлером. Она не сказала ничего матери, но Тайлер не скрывал своего возбуждения, его бодрость и честолюбие били через край. Он преуспел в сборе денег среди должников Джона, что облегчило финансовое положение Абигейл. В одно из прохладных ноябрьских воскресений восторженные Нэб и Тайлер возвратились с послеобеденной прогулки. — Миссис Адамс, не пройдетесь ли вы с нами? — пылко спросил Тайлер. — Мы должны показать вам кое-что. Абигейл накинула на себя теплый плащ и пошла с молодой парой по бостонской дороге мимо столба, обозначавшего одиннадцатую милю, Дерева Свободы, школы, Дома собраний и кладбища. Через четверть мили после камня, отмечавшего десятую милю, они повернули на запад, пошли по проселочной дороге и остановились у дома Вассал-Борланда. — Вы хотели это показать? — Да. Семья Борланд принадлежала к тори, чьи дома и фермы конфискованы по решению суда. Миссис Борланд разрешили вернуться после подписания мирного договора. Она выставила на продажу дом, сотню акров, а также пятьдесят акров леса. Цена высокая, тысяча фунтов стерлингов, но это самое хорошее поместье в округе. Они миновали ограду из выкрашенных белой краской жердей, прошли по дорожке к крыльцу. У Тайлера оказался ключ, и он, открыв дверь, распахнул ее. Абигейл вошла в прихожую. Справа была столовая, слева — гостиная, отделанная панелями красного дерева, наверху две спальни, а еще выше — две небольшие комнатки со слуховыми окошками. Короткими переходами дом соединялся с кухней и помещениями для прислуги. Он был построен майором Вассалом, владельцем сахарных плантаций в Вест-Индии, вложившим много средств, чтобы сделать дом прохладным летом и теплым зимой. Здание было сравнительно узким, но высоким и величественным, создавая впечатление традиций дома Куинси в Маунт-Уолластоне. В нем были хорошие камины с полками, широкая лестница, прекрасная фигурная балюстрада. С восточной стороны к дому примыкала каменная стена с воротами, достаточно большими для проезда карет в каретный сарай сзади дома. На заднем дворе росли клены и вязы, перед домом были проложены дорожки из гравия и посажены кусты. — Я могла бы жить здесь сама! — воскликнула Абигейл. — Дом создает впечатление постоянства и достоинства. Что бы я добавила, так это библиотеку. Тайлер и Нэб обменялись улыбками. — Ферма может обеспечить хороший достаток семье, — сказал с энтузиазмом Тайлер. — К сожалению, мои знания в сельском хозяйстве скромны, но я намерен обучиться земледелию. — Он вглядывался в лицо Абигейл, поднимаясь по пологому склону к дороге. — Как по-вашему, одобрит ли мистер Адамс? Абигейл не хотелось столь легко попасть в ловушку. — Вам решать, ведь речь идет о ваших деньгах и вашем будущем. Но мистер Адамс знает ферму, земля здесь хорошая. — Спасибо. Я куплю поместье, как только смогу обратить в наличность некоторые из моих бостонских инвестиций. Дома, оставшись вдвоем с Нэб, Абигейл решила поговорить с ней начистоту. — Тебе нравится дом Вассал-Борланда? — А почему бы нет?! — Ты склоняла Тайлера к покупке? — Не совсем. — Он не спрашивал, хочется ли тебе жить в этом доме? — Да. — Что ты ответила? — Что он должен потерпеть, пока я не увижу отца и получу его одобрение. От Джона пришла серия писем. В первом он писал, что, поскольку Чарли и Томми остаются в Хаверхилле, а «ты сама и мисс Нэбби были бы со мной, я смог бы прожить в Европе еще год или два. Но я не могу больше жить без жены и дочери и не буду». После восстановления Конгрессом его полномочий на ведение переговоров с Великобританией о торговом соглашении он писал:«Это решение Конгресса заслуживает моей благодарности. Оно крайне почетно и восстанавливает во мне чувства, отнятые предыдущим решением. В настоящее время удовлетворился бы отзывом, если Конгресс найдет его нужным, а также пребыванием в Европе до завершения дела, при условии, что ты приедешь ко мне».Через три дня он добавил:
«Переговоры о торговом соглашении с Великобританией задержат меня в Европе, по меньшей мере, до следующей весны, а может быть, и дольше… Я поспешу встретить тебя, как только услышу о твоем приезде».Восьмого ноября он писал:
«Приезжай в Европу с Нэбби поскорее и удовлетвори свою любознательность, отточи свой вкус, осмотрев здешние блестящие сцены. Побывай на спектаклях. Обойди выставку, полюбуйся картинами, почувствуй красоту зданий. Посети в течение нескольких месяцев промышленников. А затем, если так захочет Конгресс, возвратись вместе со мной, чтобы осмыслить увиденное».Он предложил ей взять с собой двух слуг для домашнего хозяйства. Время уже не бежало, оно летело галопом. Во-первых, она устроила свадьбу для Феб, которая обрела свободу по завещанию преподобного Смита и годовую ссуду. Феб и ее новый муж решили жить в коттедже на время отсутствия семьи Адамс. Абигейл договорились со съемщиком ее земель об аренде исполу на время ее отсутствия. Все бухгалтерские книги, активы, сведения об обязательствах и налогах передала Коттону Тафтсу, который за последний год удачно производил вклады в ценные бумагиштата из расчета семь шиллингов за фунт стерлингов. Коттон согласился продавать продукцию их фермы, получать плату за аренду дома в Бостоне и оплачивать расходы. Выполняя свое обещание, ее отец завещал ферму в Линкольне Катарине Луизе. С рыданиями Абигейл отпустила ее дочь. После этого она встретилась с семьей Шоу в Хаверхилле, желая уладить вопрос о ферме Мидфорд, половина которой по завещанию преподобного Смита принадлежала семье Адамс. Абигейл договорилась, что эта половина пойдет на содержание ее двух сыновей. Семья Кранч унаследовала особняк в Уэймауте и тамошнюю ферму. Ройял Тайлер купил поместье Вассал-Борланда. Он попросил Абигейл во время ее пребывания в Европе подобрать для дома хорошую мебель, ковры, предметы искусства. Абигейл закрыла лавку, Тайлер вновь превратил помещения в юридическую контору, используя как свою собственную, перенес книги Джона с чердака и расставил их на полках. Для обслуживания за границей она наняла тридцатилетнего Джона Брислера, рекомендованного Ричардом Кранчем как добропорядочного и надежного. Абигейл наняла также дочку соседа Эстер Филд, помогавшую ей в Брейнтри. Известие об отъезде облетело окрестность. Начался парад друзей, выражавших свое уважение и добрые пожелания Джону; женщины из общества по шитью; семьи мужчин, с которыми работал Джон на правах выборного; преподобный Уиберд, странно согнувшийся, прочитал молитву об их безопасности; ее друзья по церкви и церковные старосты; члены ее семейства из Уолластона, Нортон Куинси и вдова полковника Джошиа Куинси, Катарина Луиза и ее дети из Линкольна, члены семьи Кранч. Ей надлежало прибыть в Лондон. Там она получит весточку от Джона, куда ехать дальше. Дядюшка Исаак настойчиво советовал не садиться на судно, где надо самой заботиться о пище, столовой посуде и поваре. Он найдет судно, на котором от нее потребуют лишь постельное белье. Друзья и родственники, побывавшие в Европе, предостерегали не брать с собой платья, стиль которых не подойдет для заграницы. Наконец в последний раз она закрыла за собой дверь спальни и легким шагом спустилась по лестнице. Не верилось, что после четырех с половиной лет разлуки она встретится с мужем и старшим сыном, вернувшимся к отцу в Гаагу. Ей еще не было сорока лет, а она уже почти двадцать лет замужем и у нее четверо детей. Заметит ли Джон печаль последних нескольких лет? В ее мелодичном смехе прозвучали низкие ноты: ведь и Джон постарел на такое же число лет! Нэб ожидала в карете. Взглянув на свою красивую дочь, накинувшую на себя плащ для путешествий, и поправив волосы под новой бархатной шляпкой, Абигейл позабыла о своем страхе перед океаном и о замечании Джона: «На море нет места для леди».
9
Благодаря днищу, обшитому медными листами, и опытному капитану судно «Эктив» отличалось хорошей мореходностью. Владельцы судна братья Фостер требовали большую плату — по сто десять долларов с пассажира, но обеспечивали добротной пищей, и поэтому Абигейл не пришлось запасаться провиантом. Абигейл и Нэб ждали в доме дядюшки Исаака завершения погрузки масла и поташа, а также подходящих для отплытия прилива и ветра. Младший сын Исаака — Уильям ожидал их в Лондоне. Младший из владельцев судна — Джозеф Фостер заверил, что у нее будет отдельная каюта со всеми удобствами и обслуживанием. Капитан Натаниел Лайд, крепко сколоченный мужчина, ходивший вразвалку, также счел нужным успокоить ее, сказав: — Море никогда не бывает скучным, мэм. Всегда случается что-то интересное. С вашего разрешения научу вас, как пользоваться штурвалом. Абигейл встретилась с многими пассажирами: с миссис Лавли Адамс, единственной из Адамсов, не принадлежащей к родственникам Джона, миловидной женщиной примерно тридцати пяти лет, ее муж — врач имел практику в Англии с начала войны; и с ее молодым братом Лоуренсом, отправлявшимся в Англию для дальнейшего обучения. Полковник Бериа Нортон, серьезный пятидесятилетний мужчина, состоял членом сената Массачусетса. Его сопровождал мистер Спир, любитель шуток. Доктор Джон Кларк, путешественник и приятный человек, заверил Абигейл и Нэб, что будет помогать им во время плавания. Высокомерный шотландец по имени Грин не замедлил уведомить Абигейл о положении в обществе и состоянии каждого из пассажиров. Еще до отплытия, ранним утром, когда Абигейл сидела в алькове тетушки Элизабет, объявили, что пришел Томас Джефферсон. Она спустилась вниз и встретила Джефферсона в библиотеке дядюшки. Он просматривал книги, прочитывая отдельные страницы. Абигейл старалась разглядеть посетителя. Она тут же вспомнила, как Джон Адамс в кабинете ее отца попеременно заглядывал в две открытые книги, которые бережно держал в руках. Джефферсон был высоким, стройным, грациозным мужчиной, около сорока лет, со светлыми волосами и веснушками на верхней части скул; у него был выдававшийся суховатый нос, полные мягкие губы и лоб столь же благородный, как на мраморных бюстах римских императоров. Его темные глаза выражали грусть: двадцать месяцев назад умерла его любимая жена при родах, а до этого две дочери и сын. На нем был просторный черный сюртук и плиссированная белая сорочка; было очевидно, что он обращает мало внимания на моду. Его зачарованное внимание привлекало другое: живопись, архитектура, музыка, литература, различные предметы натурфилософии, науки, геометрии, астрономии, а главное — государственные дела, доказательством чего были его блестящие документы, написанные для Виргинии и Соединенных Штатов. Около Джефферсона стояла его одиннадцатилетняя дочь Марта, по прозвищу Патси. Она унаследовала от отца большие глаза, высокие скулы, мягкий рот и гладкий округлый подбородок. Расчесанные на прямой пробор волосы дополняла небольшая челка. Джефферсон повернул голову. Его глаза выражали удовольствие. Он вежливо поклонился: — Миссис Адамс! Как приятно видеть вас! — И мне приятно видеть вас, мистер Джефферсон. Элбридж Джерри написал мне, что вы приезжаете в Бостон. — Я поспешил с путешествием, надеясь получить удовольствие проводить вас в Париж и устранить трудности, которые могут возникнуть. — Да будет так, мистер Джефферсон. «Эктив» отплывает в Лондон через пару дней. Не можете ли вы составить нам компанию? — Увы, судно отплывает слишком рано. Я договорился провести неделю в Портсмуте, затем вернуться в Нью-Йорк и выехать во Францию на французском пакетботе. Я обеспечил бы вам возможность выбора, если вы решите присоединиться к нам. Владельцы судна обещали, что отплытие будет приурочено к нашим переездам. Абигейл не устраивала длительная поездка в Нью-Йорк, она предпочитала быстрее пересечь Атлантику и встретиться с Джоном. — Вы были любезны, думая обо мне. И мне хотелось бы, чтобы Патси была со мной: ведь ей было бы приятнее переплыть Атлантику вместе с двумя женщинами. Но я уже заплатила за поездку четырех человек и думаю, что владельцы не в состоянии в оставшийся срок найти нам замену. — Понимаю. Абигейл повернулась к Патси, которая, казалось, хорошо держалась для своего возраста. Они договорились, что увидятся в Париже и обменяются впечатлениями о своих встречах с французами. Утром 12 июня Фостер послал за ними карету. Их сопровождали дядюшка Исаак, тетушка Элизабет и Ройял Тайлер, приехавший ради этого в Бостон. Поездка по Корт-стрит мимо Дома правительства была как бы путешествием через время, тогда как «Эктив» перенесет их через пространство. У Дома правительства десять лет назад состоялось первое прощание с Джоном и кузеном Сэмом, отъезжавшими на первый Континентальный конгресс. «Эктив» был пришвартован у верфи их знакомого — Джона Роу. К западу, у верфи Гриффина, она и Бетси наблюдали в свое время за обещанным Сэмюелом Адамсом «бостонским чаепитием». «Эктив» удерживали канаты, и судно казалось компактным и грациозным в очертаниях. Трехпалубное, трехмачтовое судно было выкрашено в черный цвет, за исключением верхней палубы, сохранившей естественный цвет дерева. Абигейл, видавшей многие суда, пришвартованные в доках Бостона, «Эктив» показался пугающе маленьким и хрупким, чтобы пересечь бескрайний океан. Она попрощалась с провожающими. Ройял Тайлер выглядел совершенно подавленным. Он словно стал ниже ростом, плечи его опустились, глаза покраснели. Дядюшка Исаак вывел его из порта. Абигейл и Нэб поднялись по качающимся мосткам, под которыми поблескивала вода. Абигейл поддерживали своими сильными руками капитал Лайд и краснолицый шотландец мистер Грин. Молодой парень проводил их по узкой палубе и по крутой лестнице без перил. На нижней палубе, на носу судна, находился камбуз, а напротив него — помещение с двенадцатью койками, подвешенными в три ряда одна над другой, для пассажиров-мужчин. Посреди был закреплен квадратный стол. Абигейл и Нэб прошли через это помещение к двери, ведущей в их каюту. Абигейл остановилась на пороге с широко раскрытыми глазами. Каюта была крошечной: примерно два с половиной на два с половиной метра. По обе стороны стояло по две койки, и проход между ними был предельно узким. Маленькое решетчатое окно выходило во внутренний коридор. Проникавший через него запах отдавал жиром. Воздух поступал в каюту через дверь, выходившую в мужское спальное помещение. — Это также столовая для пассажиров, — предупредил бой. Абигейл, Нэб и Эстер, молодая девушка-служанка из Брейнтри, заняли три койки. Часть их имущества была положена на четвертую. Крупные ящики остались в трюме. — Со всеми удобствами, какие вы пожелаете, — передразнила Нэб. Лицо Эстер стало желто-зеленым. — Разве вы не чувствуете, как качает? Она села на койку и начала жалобно стонать. — Боже мой! — воскликнула Абигейл. — У Эстер морская болезнь, а мы все еще в Бостоне, у площади Браттл! Нэб, пойдем на палубу и посмотрим, как отчаливает судно. Дул мягкий свежий бриз. Абигейл испытывала наслаждение, вслушиваясь в команды и наблюдая за свертыванием канатов, подъемом парусов, медленным движением судна в залив, затем его поворотом на север. Тем временем здания Бостона исчезли в дымке горизонта, тонкая полоска земли словно растворилась в воздухе, и вокруг раскинулся океан — чистый, сверкающий, огромный, бесконечно таинственный, неизвестный. Каким бы горестным ни было чувство Нэб от расставания с Ройялом Тайлером, она забыла обо всем, восхищаясь тем, как ставились паруса, надуваемые усиливающимся ветром. Это было последнее удовольствие, испытанное за много дней. Через два часа, когда они погасили свет, пришел капитан Лайд и сказал: — Леди, пожалуйста, наденьте морские одежды и подготовьтесь к качке. Эстер уже успела запачкать каюту. Взбадривая себя, они облачились в непромокаемые робы, сняли туфли… и тут же почувствовали себя не в своей тарелке. Они легли пластом на койки, за ними закрылась дверь в общее помещение. Судно качалось с борта на борт. Через небольшое окошко в их каюту проникал запах поташа, смешанный с запахом масла. Наступила ночь. Сама мысль о еде вызывала отвращение. В крошечной каюте стало нечем дышать. Нэб сказала: — На другой стороне двери есть занавесочка. Если ее приподнять, пойдет немного воздуха. Абигейл уставилась на свою дочь и прошептала: — Могла ли я подумать, что придется спать в одном помещении с полудюжиной джентльменов? — Не обращай внимания, мама, они страдают той же морской болезнью, что и ты. За исключением доктора Кларка. Я вижу, как он старается помочь другим. Может быть, позвать его? — Не нужно, спасибо, деточка. Она провела самую скверную ночь в своей жизни. Они лишь наполовину сбросили одежду. Занавески раскачивались, повторяя колебания судна. Верно, леди не место на море; Абигейл была благодарна тому, что Джон не присутствует при этом спектакле. Утром стало легче. Молодой Лоуренс, плывший в одной каюте с сестрой, был готов перейти спать в общее помещение и уступить свою койку Нэб. Абигейл с благодарностью приняла предложение. Оставшись вдвоем с Эстер, она располагала большими удобствами, хотя воздух был пропитан запахами готовившейся пищи. Эстер неподвижно лежала на койке, ее мучила рвота. — Миссис Адамс, пожалуйста, мэм, попросите выбросить меня за борт. Еще раз… меня вывернет наизнанку. Лучше умереть. Доктор Кларк толкнул ногой дверь, осмотрел каюту и пошел за Брислером. Брислер был в неважном состоянии, но помог Абигейл надеть туфли, накинуть тяжелый водонепроницаемый плащ и с помощью Лоуренса и Фостера вынес ее по крутой лестнице на холодный соленый воздух моря. Абигейл вздохнула с облегчением. Фостер волновался по поводу неудобств для Абигейл. Он не мог прекратить качку судна, но отыскал для Эстер отдельную койку, стюард и два боя перенесли ее, как вымокшее в болоте бревно. Прежде чем окончательно свалиться, Брислер выскреб в качестве своего последнего вклада каюту Абигейл. После этого Абигейл не видела его пять дней, а Эстер — целую неделю. Капитан Лайд выделил ей помощника взамен Брислера. Джоб Филд принес ей немного сливок и свежего молока от находившейся на борту коровы и две ночи спал на сундуке около ее двери на тот случай, если потребуется помощь. Чтобы не выпасть, Абигейл держалась за края койки так, что у нее болели руки. Несмотря на боль, она была рада сильному ветру, с помощью которого, по уверению капитана, судно продвигалось с большой скоростью к Англии. Через некоторое время Абигейл обрела способность спать даже при качке. Она поднималась на палубу, но там было холодно и сыро; даже теплое пальто не спасало от озноба, и она не могла долго оставаться наверху. Лишь раз в течение дня ей удавалось пройти через общее помещение без посторонней помощи. Все старались помочь. Джентльмены ежедневно покидали на час каюту, чтобы позволить женщинам помыться. Доктор Кларк дал Абигейл успокоительное лекарство и развлекал ее забавными историями о своих путешествиях на Восток. Он был внимателен к Нэб, так же вели себя Лоуренс и холостяк Спир. Мужчины проявляли повышенное внимание, стараясь не ставить женщин в неловкое положение. Хотя Абигейл не потребляла твердой пищи, она приходила в большое помещение ради компании. Квадратный стол был привинчен к полу, пассажиры частенько удерживались на месте, поддерживая руками друг друга и упираясь в стол ногами, чтобы не соскользнуть и не поломать кресла. На восьмой день море успокоилось. Проснувшись, Абигейл увидела в дверях Эстер, изможденную, но с улыбкой на лице. — Доброе утро, миссис Адамс. Я думала, что помру от морской болезни, но теперь я ее превозмогла. Принести вам завтрак? — Хорошо, Эстер, я боялась, что больше не увижу тебя в добром здравии. Не нужно никакой еды, но открой сундуки и достань чистое белье. Принеси также ведро теплой воды и мыло. Абигейл совершила чудо, поднявшись на верхнюю палубу без посторонней помощи. День выдался ясным, судно шло со скоростью меньше обычных семи-восьми узлов из-за того, что ветер утих. Капитан Лайд сообщил, что судно находится в восьмистах милях от Бостона, а это превышало четверть всего пути. К ним присоединилась Нэб. Абигейл придирчиво рассматривала дочь: та высоко держала голову, на щеках появился румянец, глаза светились. В полдень они спустились вниз на обед. Впервые Абигейл ела за квадратным столом. К своему удивлению, она обнаружила, что на всех не хватает ножей и вилок, а чашек и того меньше. Ее удивление стало еще большим, когда подали пищу. Первое, что принес стюард из кухни, была покрытая щетиной нога поросенка; четверть часа спустя — пирог; через полчаса он торжественно внес пару зажаренных цыплят, а через двадцать минут — кусок говядины. Когда все кончили жевать, на столе появилось блюдо вареного картофеля. Абигейл сидела большую часть времени сжав зубы. Когда стюард принес ведерко свежего молока, мистер Фостер неодобрительно поморщился, повернулся к Абигейл и спросил: — Миссис Адамс, не могли бы вы посоветовать, как вычистить ведерко? Полагаю, что его не мыли с того момента, как мы покинули Бостон. По моему мнению, повар каждый день доит в него. — Я удивлена, что вы еще не отравились. Дайте мне ведерко. Я сама его отмою. Она отмыла ведерко чистыми тряпками и порошком из собственных запасов. Когда она вернулась с ведерком, доктор Кларк зааплодировал первым. Через несколько дней капитан Лайд направил к ней делегацию с сообщением, что в результате последнего шторма корова заболела. Полковник Нортон из Массачусетского сената объявил: — Вам решать, миссис Адамс. Должна ли корова умереть мучительной смертью или же избавить ее от мук? Все напряженно ожидали. — Если вы согласны, что бедное животное должно умереть… С огромным трудом они подняли корову на палубу. Капитан Лайд прочитал отходную молитву, и корову выбросили за борт. Разразился шторм с молниями, громом и дождем. Все укрылись в каюте, где мистер Фостер и полковник Нортон играли в триктрак. Абигейл либо читала книгу Уильяма Бьюкэна «Домашняя медицина», либо беседовала с женщинами. Остальные резались в карты. Началась килевая качка, она показалась Абигейл еще более неприятной, чем бортовая. Мистер Грин сообщил, что они прошли шестьсот миль. Абигейл повторяла всю ночь эту приятную новость, уцепившись руками за края койки.Переход через Атлантику занял ровно месяц. Увидев на море двадцать различных парусов, они поняли, что приближаются к южному побережью Англии. Шкипер небольшого суденышка, промышлявшего контрабандой, заверил их, что они близки к цели. Один-два дня при хорошем ветре, и они войдут в порт. Но безветренный день задержал «Эктив». — Терпение, терпение, терпение, — повторяла Абигейл, — первое, второе и третье достоинство моряка, нужное ему, как и государственному деятелю. На следующее утро они увидели утесы Дувра, замок и город. Шел проливной дождь, но промокшая Абигейл радовалась мысли, что она не только соединится с мужем, но и, наконец, увидит свою родину. В то время как подходила лодка лоцмана и капитан поставил судно на якорь в протоке у небольшой деревни Дил, Абигейл мысленно вернулась к тем дням, когда Англию любили как источник всего хорошего и правильного в жизни. Она вспомнила, как выучила наизусть отдельные части коронационной речи короля Георга III в парламенте, как во время первой прогулки по улицам Бостона Джон говорил ей, что Бостон во многом должен уподобиться Лондону. Она представила себе путеводители из библиотеки дядюшки Исаака, где прочитала описание мягких английских пейзажей. Ее охватила эмоциональная ностальгия; она никогда не уезжала из Массачусетса, а теперь ее волновала перспектива увидеть большой мир: сначала Лондон, а затем Париж. Ожидание осуществления давнишней мечты так взволновало, что ей пришлось прислониться к борту судна, чтобы не потерять равновесия. Капитан Лайд посоветовал уложить самое необходимое в небольшие сундучки. «Эктив» простоит неделю в Ла-Манше, а затем поднимется по Темзе, высадит их в деревне Дил, и они проедут до Лондона семьдесят миль в почтовой карете. Их одели в непромокаемые робы и спустили с судна в лодку размерами с паром в Чарлзтауне. К берегу лодку пригонят волны. Бурун достигал высоты почти в два метра. При отходе от судна лодка оказалась на гребне волны, а затем нырнула так глубоко, что Абигейл потеряла из виду «Эктив». Стоявший впереди нее мистер Фостер прислонился к борту лодки, крепко удерживая Абигейл, которая стояла лицом к берегу.
10
Абигейл и Нэб провели беспокойную ночь в небольшой гостинице в деревне Дил и в пять часов утра уже были на ногах. Меняя почтовые кареты, они проехали восемнадцать миль по вымощенной булыжником дороге в Кентербери. Абигейл поражали широкие обработанные, словно сады, поля пшеницы, овса, бобов, хмеля, подступавшие вплотную к дороге. В отличие от Новой Англии здесь не было оград. На постоялом дворе в Кентербери были заказаны новые дилижансы. Пока их готовили к отъезду, пассажирам судна подали обильный завтрак. Абигейл поразило то, что Кентербери с его готическими соборами оказался более крупным городом, чем Бостон. Она обратила внимание на закрытые железными решетками окна соборов. Дилижанс был готов довезти их до Рочестера, где предстояло пересесть на другой, едущий в Чатем. При въезде во двор элегантной гостиницы их окружили лакеи. Вперед вышла хорошо одетая хозяйка. Абигейл предложили подписать счет. Через полчаса, отведенные для туалета, пассажиров пригласили к обеду; в порядке вежливости первое блюдо предлагалось бесплатно. За ним последовали семь блюд, включавших рыбу, дичь, мясо и овощи. Кучерам посоветовали миновать Блэкхит до наступления темноты, ибо накануне там была ограблена почтовая карета. Проехав две мили, они увидели захваченного стражниками вора. Им оказался молодой человек примерно двадцати лет, одетый в рваную одежду и дрожавший от страха. — Суд соберется в следующем месяце, — кричал один из стражников, — и тогда, парень, ты покачаешься на виселице! В этот вечер, в восемь часов, почтовая карета высадила их перед гостиницей Лоу в Ковент-Гардене. Джон Адамс не встречал их, не было даже записки от него. Абигейл попросила одного из пассажиров, мистера Спира, отыскать ее кузена Уильяма Смита. Менее чем через полчаса в ее гостиной появились Уильям и племянник Элизабет Смит — Чарлз Сторер. Они прошли целую милю от таможни до отеля. — Рады видеть тебя! — кричали они Абигейл. Они рассказали, что Джон Куинси просидел в Лондоне целый месяц, дожидаясь ее приезда, и, разочарованный, вернулся в Гаагу. Уильям узнал от своего отца о предстоящем приезде Абигейл на судне, прибывшем на три дня раньше. Он немедленно зарезервировал номер в гостинице «Осборнс нью фемили» и написал Джону Адамсу, что ждет Абигейл и Нэб с часу на час. Они были уверены, что Джон прибудет из Гааги на первом пакетботе. Молодые люди доставили Абигейл и Нэб в гостиницу «Осборнс». В ней останавливался Джон во время первого визита в Лондон. Дюжина членов американской колонии нанесли визит и приглашали Абигейл и Нэб на обед, чай, предлагали совершить ознакомительные поездки. Первым нанес визит Бенджамин Хэллоуэлл с супругой. Супруг, кузен Джона, служил королевским контролером таможни, его дом был разгромлен бостонской толпой. Чета Хэллоуэлл настаивала, чтобы Абигейл и Нэб пришли на обед, захватив с собой Уильяма Смита и Чарлза Сторера. В доме Хэллоуэлла она встретила еще одного кузена Джона — Томаса Бойлстона. Им подали типичный обед Новой Англии: соленую рыбу, жареную баранину, отварной язык и дичь, гороховый суп, пудинг. Чета Хэллоуэлл жила в достатке, но не купалась в роскоши, как в Бостоне накануне своего бегства. Лондон понравился Абигейл. Город оказался более крупным, чем она предполагала, красивым, с многочисленными открытыми площадями. На нее произвели большое впечатление широкие, прямые улицы, каменные и кирпичные дома на площади Гровенор и вдоль Гайд-парка. В лавках продавались британские ткани, лучшего качества, чем в Америке. Абигейл прогуливалась часами по ровным плитам тротуаров. Посетила Коплея, американского художника, написавшего портрет Джона, побывала в Вестминстере и в соборе Святого Павла, прошлась вдоль Темзы, наблюдая за судами, прибывшими со всех концов света. Через пять дней в лондонский порт вошел «Эктив» с ее сундуками и с Брислером. Она и Нэб съездили в карете в Кью-Гарден и к Виндзорскому замку. Абигейл поняла, насколько наивными были она сама и Джон, воображая, будто Бостон — это «маленький Лондон». Лондон — мировая столица с внушительными зданиями, с многочисленными и шикарными экипажами. Несмотря на то что договор о мире между Англией и Соединенными Штатами был подписан шесть месяцев назад, англичане вовсе не стали более дружественно настроенными к американцам. В их поведении Абигейл замечала не столько вражду, сколько безразличие: желание забыть последние неприятности и всех тех, кто с ними был связан. Абигейл провела в Лондоне восемь дней, а от Джона не поступало никаких вестей. Может быть, он и Джонни уехали в Париж, прежде чем до них дошла записка Уильяма Смита? Тем временем она получила сведения о старых друзьях и родственниках: Исаак Смит-младший незадолго до ее приезда отплыл в Америку после девяти лет спокойной жизни школьного учителя и проповедника в Девоншире. Сэмюел Куинси был контролером в Антигуа в Вест-Индии. Джонатан и Эстер Сиуолл проживали в Бристоле, там жизнь была дешевле. Джонатан не смог приобрести юридическую клиентуру в Англии, и семье приходилось довольствоваться скромным годовым доходом в шестьсот фунтов стерлингов, дарованным Джонатану королем в дни, когда он служил судьей вице-адмиральского суда в Новой Шотландии. Абигейл писала письмо своей сестре Мэри, когда вбежал запыхавшийся, с покрасневшим лицом Брислер: — Мадам, приехал молодой мистер Адамс! — Джонни! Где он? — В соседнем доме, мэм, он зашел туда, чтобы причесаться. — Причесаться?.. — Ну, мама, он хочет получше выглядеть! — воскликнула Нэб. Некоторое время спустя в комнату вошел молодой человек, рослый, красивый, безупречно одетый, с припудренными волосами и аристократическими чертами лица — высокий, изящно очерченный лоб, выразительные глаза, римский нос, полные чувственные губы. Он напоминал кого-то Абигейл, но лишь его глаза казались предельно знакомыми. Она не верила, что перед ней семнадцатилетний Джонни, пока он не воскликнул: — Ой, мама! Этот мужчина — ее сын! Абигейл подошла к нему. Ей хотелось прижать его к груди, поцеловать много, много раз. Она встала на цыпочки и поцеловала в щеку старшего сына. Он не только выглядел по-иному, но и был весь иным: белая пудра на волосах, одеколон, которым освежил его лицо парикмахер, даже иная ткань его хорошо скроенного сюртука и белого галстука. Джонни, как и его мать, удивил приветственный поцелуй. Он поднял руки, словно собираясь ответить объятием; его лицо светилось от счастья. — Ох, Джонни, я все время помнила тебя мальчиком, отплывшим на судне «Ла Сенсибль», а ты тем временем постарался вырасти. — Совершенно нормально, ма, мне не пришлось как-то стараться. Нэб стыдливо держалась на втором плане. Абигейл чувствовала, что Джонни и Нэб ищут глазами друг друга. Она прошептала: — Посмотри, как изменилась Нэб. Джонни, сделав шаг к Нэб, спокойно сказал: — Узнаю свою сестру в любом уголке мира. Они стояли в центре комнаты, их глаза были широко раскрыты, а губы дрожали. Джонни скованно поклонился, согнувшись в талии, и спросил сестру, как перенесла она плавание. Нэб сделала легкий реверанс, как подобает в таких обстоятельствах. Признавая опытность Джонни, отец поручил ему купить в Лондоне прочную английскую карету — они были дорогими, лучшие стоили сто пятьдесят фунтов стерлингов — и в карете доставить в Гаагу мать и сестру, погрузив ее на борт судна у Гарвича и выгрузив в Геллевётслуисе, при хорошей погоде переезд по морю займет двадцать шесть часов. Абигейл хотела отправиться в Гаагу немедленно, однако Джонни решительно взял в руки бразды правления. — Мама, карету не купишь за час, как шляпу. В Европе дороги отвратительные, сплошные колдобины и ямы. На следующий день он нашел за небольшую цену крепко сколоченную карету, некоторое время ей пользовался некий английский джентльмен. Джонни настоял подождать еще день, пригласил опытного каретника, который проверил качество экипажа, и только после этого уплатил деньги. Абигейл сгорала от нетерпения. Всего в трех днях пути от Джона и все еще так далеко! Однако она понимала, что осторожность Джонни оправданна; во всяком случае, она не задела чувств молодого человека, не отстранив его от власти. Абигейл укладывала сундук в гостиной отеля и вдруг услышала быстрые, нервные и тем не менее уверенные шаги в коридоре. Она едва успела распрямиться, как открылась дверь. Увидев ее, Джон Адамс расплылся в улыбке. За короткое мгновение она успела заметить, что он похудел, а от уголков его глаз расходятся глубокие морщины. Потом мысль о годах испарилась, время убежало. Они вроде бы никогда и не разлучались. Джон всматривался в ее лицо на расстоянии нескольких дюймов. Его глаза светились любовью. — Наконец-то, дорогая, мы снова вместе. Ты ничуть не изменилась. Увидев тебя, я помолодел на двадцать лет. Она не могла словами выразить то, что чувствовала сердцем. Оно было слишком переполнено. Она прошептала: — Что ты делаешь в Лондоне? Мы собирались завтра утром выехать к тебе в Гаагу. — Я не хотел, чтобы ты переезжала пролив без меня. Мы поедем прямо в Париж. — Он прижался губами к ее губам, поцеловал несколько раз, нежно откинул ее волосы с ушей. — Абигейл, для меня вновь начинается жизнь, когда мы вместе. — О, Джон, я чувствую возрождение души. Я вновь юная девушка, жаждущая жизни и любви.КНИГА СЕДЬМАЯ В СТАНЕ ПРОТИВНИКА
1
Они сняли номер с тремя спальнями и гостиной в отеле «Йорк» на левом берегу Сены, на узкой, чистенькой улице Жакоб. Из окон спален, выходивших в сад, виднелся старинный собор Сен-Жермен де Пре. Поездка из Лондона в Дувр в новой карете была восхитительной. Англичане предоставили превосходных лошадей в красивой сбруе и форейторов. Их хорошо принимали на постоялых дворах, вежливо обслуживали и хорошо кормили. Абигейл и Джон, свободные от забот, по-детски радовались тому, что они вместе. При переезде из Дувра в Кале они столкнулись с удручающей ситуацией. Им дали меринов в сбруе из потертых веревок, какими в Америке впрягают лошадей в плуг, и форейторов в рваной одежде. Через каждые шесть миль приходилось менять лошадей. Постоялые дворы были настолько пропитаны запахом пищи, что Абигейл и Нэб предпочитали питаться в карете. Из окон кареты был виден красивый пейзаж, деревни же с узкими улицами, приземистыми глиняными домами с окнами без стекол и соломенными крышами производили убогое впечатление. Целые семьи вместе с детьми работали в поле; в отличие от английских фермеров французские крестьяне выглядели угнетенными, задавленными непосильным трудом, мрачными. Поля, посевы, дома, скот, люди — все создавало впечатление нищеты. Пролив между двумя странами был узким, но Абигейл казалось, что их разделяют столетия. Ее раздражали грязь и зловонные запахи Парижа. Она привыкла к оседавшей на снег саже Бостона, здесь же грязь въелась в старинные дома. На улицах лежали отбросы: испражнения, кухонные очистки, в канаве дохлая собака с вытянутыми окостеневшими лапами. Вонь источали сами дома, и казалось, нечем было дышать в знойной застойной атмосфере. Проезжая в карете по улицам, Абигейл то и дело прижимала к носу смоченный одеколоном носовой платок, чтобы не ощущать миазмов Парижа. Она стыдилась своей реакции, оказавшись в одном из величайших центров мировой культуры. Абигейл ожидала, что Джон станет успокаивать ее, но ошиблась. Он спросил: — Видимо, ты не хотела бы жить в Париже? — Нет, если есть возможность выбора. — Удачного. У меня также не вызывают восторга зловонные улицы. Поэтому я попросил нашего генерального консула Томаса Барклея договориться об аренде дома графа де Руо в пригороде Отейль. Он находится около Булонского леса, у Сены, окружен красивыми садами и при этом недорог. — Звучит утешительно. Однако удобно ли жить там? — Не совсем. Пригород в четырех милях от центра. Карета доставит нас в театр, оперу или на обед к друзьям за полчаса. Мы поедем туда завтра утром, и ты оценишь. Сам Барклей снимал одно время этот дом; он перевез меня к себе в прошлом году, когда я заболел, и ухаживал, пока я не поправился. Замок был известен под названием «Безумство графа де Руо» в силу того, что его строительство довело аристократа до банкротства. Центральные окна и главный вход трехэтажного здания из белого камня украшали декоративные скульптуры. Полукруглые пристройки углублялись в сад с аккуратными живыми изгородями, урнами на постаментах, гравийными дорожками на газонах, грядами цветов за колоннадой; в глубине сада возвышались ряды деревьев, их густая листва создавала прохладные тенистые островки. — Замечательно! — воскликнула Абигейл. — В Новой Англии подобных дворцов нет. Примыкавший к просторной прихожей салон, где они будут принимать гостей, был на треть больше основного зала в новом доме Уоррена в Милтоне, и в нем полностью разместился бы их дом в Брейнтри. Стены салона украшали изысканные зеркала. Стеклянные двери выходили в сад и внутренний дворик. Столовая по другую сторону от прихожей также была в зеркалах. Кухня казалась слишком маленькой, чтобы обслужить то число гостей, какое вмещала столовая. В боковой пристройке для прислуги было десять отдельных спален. Комнаты для семьи находились наверху. Но здесь Абигейл поджидали неприятности: взбираясь по грязной лестнице, она была вынуждена поднимать юбки. — Как в скотном дворе, — шептала она про себя. Джон и Абигейл вошли в длинный коридор с шестью окнами, выходившими на тихую, засаженную деревьями улицу Отейля. Против каждого окна располагалась отдельная комната с кроватями и небольшой прихожей. Каждый член семьи мог иметь изолированное помещение, и еще две комнаты предназначались для гостей. Абигейл подсчитала, что вместе с боковыми пристройками можно одновременно рассчитывать на сорок спальных мест. В тот же вечер Джон подписал арендный договор, и уже на следующее утро Абигейл и Нэб отправились на поиски прислуги. Джону Брислеру отводилась роль камердинера. Эстер — горничной; но Абигейл нужно было быстро найти дворецкого: он выполнял бы роль старшего надзирателя и занимался закупками для семьи, а также кухарку, служанку, садовника, грума и полотера. Она не понимала, что должен делать полотер. Предложивший свои услуги продемонстрировал ей. Выложенные красной плиткой полы в салоне и в столовой не застилались коврами. Полотер намазал пол салона воском, надел на ногу щетки и стал танцевать, как Веселый Эндрю, натирая до блеска каждый дюйм. Говоривший по-английски дворецкий заметил: — Мадам должна нанять полотера. Никто другой не способен содержать в чистоте полы. — Но восемь слуг… — вздохнула Абигейл. — Дома подумают, что я стала транжирой. Дворецкий не понял ее слов, заметив: — Это минимум, допускаемый хорошим тоном, мадам. Если честно, для такого дома нужно десять. Я буду служить мадам в качестве ливрейного лакея, если вы мне дадите костюм джентльмена. Мадам должна обслуживать личная парикмахерша. Я бы рекомендовал Полину, она молодая и хорошо шьет. Абигейл возвратилась в Париж в шоковом состоянии. Джон доказал ей, что даже при десяти слугах они проживут в Отейле с меньшими расходами, чем в Париже, имея одновременно в своем распоряжении замок и парк. Дом, используемый для официальных приемов, должен быть в некотором роде величественным. — Мон дье, прости мой американский акцент, — простонала Абигейл, — целый день уйдет на то, чтобы приглядывать за прислугой. Джон Куинси также постарался успокоить мать. Его уверенность утешала Абигейл. После возвращения из Санкт-Петербурга он на добровольных началах служил секретарем Джона, вел его переписку и снимал копии нужных документов. — Это несложно, мама. Я заведу бухгалтерские книги и буду сам оплачивать счета. Не тревожься по поводу прислуги, ты будешь ее редко видеть. На следующий день они переехали в дом графа де Руо. Джон и Абигейл предпочли для себя две смежные комнаты. Впрочем, Джон заметил: — Тебе нужна отдельная спальня. Слишком много лет я спал один. Джонни и Нэб выбрали смежные комнаты с общей гостиной в конце коридора. Только теперь Абигейл узнала, что замок расположен в той части долины Сены, где жили и прогуливались великие поэты, философы, государственные деятели Франции. Из дома и сада открывался чарующий вид на Сену; летом сквозь прозрачный воздух виднелись холмы Монмартра и Монпарнаса. Арендная плата составляла менее тысячи долларов в год, и поэтому замок был меблирован лишь частично. Джон полностью обставил дом в Гааге, но ничего ценного перевезти оттуда в Париж не смог: слишком высокой была стоимость перевозки, а французские таможенные тарифы непомерно раздуты, поэтому Конгрессу было выгодно выкупить у Джона приобретенное им имущество и оставить в целости посольство. Абигейл купила постельное белье, скатерти, три дюжины серебряных вилок и ложек, чайные столики, столовый фарфор, рюмки, графины. Абигейл поняла, почему в чистом доме лестницы грязные: уход за ними не входил в чьи-либо обязанности. Каждый из слуг имел свои особые. Три четверти времени они слонялись без дела, но, когда Абигейл попросила молодую парикмахершу Полину проветрить спальню, та ответила: — Это не мое дело. Как-то она попросила грума принести дрова. Покачав головой, тот заявил: — Так не положено. Эстер и Брислер вымыли лестницы горячей водой; они следили за чистотой верхних этажей и терпеливо вели себя в частых стычках с прислугой, то и дело объявлявшей: — Нет! Это не мое дело! Иные злословили по поводу простой прически Эстер, без пудры, и та, зареванная, приходила к Абигейл. В конце концов Абигейл сказала: — Думаю, что лучше уступить им. Волосы — самая важная часть французской жизни и моды. Молодой человек, который обслуживает мистера Адамса и Джонни, ежедневно заходит в деревенскую парикмахерскую и укладывает свою шевелюру. Полина, которая причесывает меня и Нэб, платит парикмахеру, приводящему в порядок ее прическу. Я прикажу, чтобы она причесывала и тебя. Эстер нравилась ее высокая, с гребнем, и густо припудренная прическа. Брислер был в восторге, а остальная прислуга расцеловала Эстер. Затем наступила очередь Брислера воспользоваться услугами парикмахера, который обслуживал Джонни. После этого уже никто не смеялся больше над американской прислугой.На свой первый официальный обед Абигейл пригласила Бенджамина Франклина, жившего на вилле в Пасси, расположенной всего в одной миле от дома Адамсов, и Тома Джефферсона с его дочерью Патси. Встреча была дружеской: ведь трое мужчин работали рука об руку в Континентальном конгрессе и многое сделали для выработки статей Конфедерации. Троица, выступавшая в роли посланников Соединенных Штатов в Европе, имела поручение заключить договоры, а также урегулировать вопрос о берберских пиратах, захватывавших американские суда в Средиземном море. Джон глубоко уважал Джефферсона. Джон и Франклин расходились в подходе к французскому правительству, но теперь они действовали совместно, преодолевая многие досадные промахи, и начали ценить способности друг друга, забыв о соперничестве. После обеда мужчины остались за столом покурить. Абигейл, Нэб и Патси пошли в салон. Патси стала еще больше походить на отца, верхнюю часть ее скул усеяли веснушки, а в глазах затаилась грусть. Неожиданно для Абигейл и Нэб Патси доверчиво сказала, что они пересекли океан за девятнадцать дней при солнечной и тихой погоде. Патси должна была поселиться в одной из лучших монастырских школ Франции, старинном аббатстве Пантемон на улице де Гренель, благодаря патронажу графини де Брион и при посредстве одного из друзей Джефферсона. Патси чувствовала себя неуверенно. — Патси, дорогая, что тебя огорчает? — спросила Абигейл. — То, что школа католическая и там наряду с другими дисциплинами уделяется большое внимание религии? Патси выпалила: — Я не знаю ни слова по-французски! Положив руку на плечи девочки, Абигейл сказала: — А не хотела бы ты жить у нас? Джонни будет учить тебя. Плоть от плоти своего отца, Патси высоко держала голову на изящной лебединой шее. — Спасибо, миссис Адамс, но я должна посещать нормальную школу. Если в ней не говорят по-английски, я быстрее выучу французский. Но мне хотелось бы иногда, по праздникам и воскресеньям, приходить к вам. Отец говорит, что мне не нужно беспокоиться по поводу религии. В аббатстве много девочек, исповедующих протестантскую веру. Там понимают, что мы не должны говорить о религии и я должна выйти из школы такой же доброй протестанткой, какая есть сейчас. Мужчины вошли в салон и уселись тесным кругом на позолоченных, обитых красным бархатом стульях. Они составляли довольно необычную группу: высокий, худой, светловолосый и самый молодой Джефферсон, ему шел сорок первый год; с мощной грудью Франклин, обеспокоенный своим весом, ему шел семьдесят девятый; и Джон Адамс, приближавшийся к своему пятидесятилетию. Эта группа сплотилась на чужой земле, каждому было что сказать важного другим. Мягким, с модуляциями, голосом Джефферсон, участвующий в работе Конгресса предшествовавшие полгода, рассказал о положении дел в этом исчерпавшем себя и распадавшемся органе. Он поставил в известность, что подготовил проекты ряда государственных документов, в их числе «Заметки об установлении денежной единицы», касавшиеся введения основанного на десятичной системе доллара, который вскоре заменит существующие американские деньги. Рекомендация об отмене рабства на всех западных территориях после 1800 года, которую он считал наиболее важной, не проходила в Конгрессе, равно как и его предложение о незаконности сецессии[39] любой западной территории. Слушая рассказ Джефферсона о его усилиях в Конгрессе, Абигейл мысленно возвращалась к 18 июля 1776 года, когда она читала своим детям написанную Джефферсоном Декларацию независимости. Тогда борьба только начиналась, теперь же, когда независимость была завоевана, появились новые препятствия и вселявшее надежды название Соединенные Штаты Америки отступало перед Сепаратными Штатами Америки. Англия перестала быть врагом; противником Америки стал Континентальный конгресс — выразитель концепции сильного центрального правительства, способного подавить свободу штатов. Центральное правительство, которому трое мужчин служили, отдавая способности своего ума и сердца, выродилось в зыбкую, ссорящуюся, погрязшую в долгах группу лиц, не только боявшихся, но зачастую и презиравших друг друга. Штаты не направляли своих лучших людей в Конгресс; нередко отказывались являться туда. Некоторые желали, чтобы Конгресс отстранился от дел и к штатам вернулись прежние полномочия. Составленные после восемнадцати месяцев терпеливого изучения и дебатов статьи Конфедерации скрепили единство нации во время войны; но теперь их игнорировали, нарушали, поливали грязью. Казалось, концепция объединения равноправных и суверенных штатов в интересах создания сильной нациирассыпалась. Независимость — одно, единство — другое. Может ли устоять образ жизни, сбросивший столетние путы человечества, концепция и принявший концепцию, согласно которой правительство берет свое начало только в согласии управляемых, и ни в чем ином? Может ли выжить республика в монархическом и аристократическом мире, где большинство едва сводит концы с концами, будучи рабами потомственных господ? Забрезжила надежда, что в Новом Свете родилось нечто замечательное — мир огромных просторов и ресурсов, где никто не может возвыситься над другим, где каждый свободен проявить свои природные таланты к работе и созиданию. Что же произошло за короткий период, всего за восемь лет, с того момента, когда Абигейл стояла на площади Бостона и тысячная толпа плакала и радовалась рождению свободы? Абигейл пережила многое: необеспеченные бумажные деньги, обесценившиеся сбережения, безудержную спекуляцию, усталость от войны и угасание идеализма, личную вражду, разочарование, соперничество между основателями республики; потерю многих тысяч семей тори, что помимо ущерба, причиненного ими делу патриотов в годы конфликта, лишило страну таланта, интеллекта, профессионального и технического умения, которыми они обладали; безумство войны: гибель молодых мужчин, уничтожение естественных ресурсов, разрушение домов, мастерских, урожая, имущества. Соединенные Штаты в состоянии вынести тяжелые потери, постепенно залечить раны, восстановить свою энергию, воссоздать собственность и богатство. Американцы — молодой, жизнеспособный, удивительно активный народ. Крест, на котором они распинают себя как нацию, — это внутреннее соперничество и во многом застарелый страх передоверить индивидуальные свободы штатов сильному центральному правительству. Сейчас, когда ненависть к общему врагу уже вроде бы не объединяет, эта вечно присутствующая в природе человека подозрительность обращается против всех, район против района, штат против штата, они оспаривают границы, долги, дискутируют, какими свободами пожертвует каждый в обмен на безопасность. Видимо, не пожертвуют ничем, пока, по меньшей мере, нет врага у их порога. Джон и Бенджамин Франклин рассказали о положении в Европе; они знали это лучше других американцев. Видимо, от России на востоке и Испании на юге — вся Европа против Соединенных Штатов как сильного государства с центральным правительством. — Разве это не вина Англии? — запальчиво спросил Джон. Великобритания подписала мирный договор с Соединенными Штатами, но уклоняется от выполнения обязательств, содержит войска, на северных постах вокруг Детройта и Буффало, хотя обязалась вывести их оттуда; удерживает негров, захваченных в ходе военных действий, хотя приняла пункт об их возвращении; отказывается вести переговоры о торговом соглашении, несмотря на то, что Джон Адамс стучится во все ее дипломатические двери. Не только союзники, такие, как Франция, Испания и Голландия, но и дружественные государства относились с растущим пренебрежением к неоперившемуся Союзу, который не в состоянии решить внутренние проблемы и оплатить долги чести. Не было желания ссужать распадающемуся Союзу штатов, и, помимо договоров о дружбе и торговле, о которых Джон вел переговоры со Швецией и Нидерландами, никто другой не спешил к заключению такого рода соглашений. Презрительное отношение раздражало Континентальный конгресс и американский народ, множились выступления против направления представителей в Европу. Пусть сидят дома! И пусть иностранные государства отзовут своих послов, которые вмешиваются в работу Конгресса и показывают демократической Америке плохой пример своими богатствами, хвастовством, драгоценностями и балами. В Америке росли изоляционистские настроения — Абигейл знала это по Новой Англии. Задача трех дипломатов была непростой: нужно добиться уважения к их стране, заключить с двадцатью европейскими и средиземноморскими странами соглашения о режиме наибольшего благоприятствования Соединенным Штатам, чтобы страна преодолела летаргию и повела активную выгодную торговлю. Складывается своего рода порочный круг: Европа не подпишет договоры с Соединенными Штатами, пока они не станут достаточно крепкими, способными выполнять свои обязательства; Соединенные Штаты не смогут преодолеть борьбу внутри страны, пока не станут международно признанной державой. Что делать? Франклин был стар и болен, несколько раз он просил Конгресс об отставке. Джефферсон — новичок на арене. А Джон Адамс? Абигейл приглядывалась к мужу. Скрыть последствия постоянной борьбы он был не в силах: со дня их свадьбы ему пришлось растратить немало энергии, отдавая ее непрестанно, порой безрассудно. Не бросал ли он свое семя в бесплодную почву? Не исчерпали ли они себя за годы борьбы, войны, поражений и побед? После ухода гостей Абигейл и Джон вышли на прогулку в летний теплый сад, где густой аромат цветов преследовал их на освещенных луной дорожках, покрытых гравием. Абигейл всматривалась внутрь себя с обострившимся желанием, вызванным отрывом от Новой Англии. Если использовать любимое выражение Джона, заимствованное из Евклидовой математики, ее жизнь состояла из трех равных частей: собственной ежедневной борьбы, зачастую в одиночку, по разрешению возникавших в доме проблем; каждодневных настойчивых шагов Джона в Конгрессе и в Европе и ежедневных усилий молодого государства в интересах укрепления единства и стабильности. Ради собственного выживания Абигейл приходилось состыковывать эти части, ни одна из них не была предпочтительней других, хотя порой она упускала это из виду под давлением неприятностей, которые обрушивались на нее. Все, что происходило с Джоном в Европе, все, что делал или не смог сделать Конгресс из-за междоусобного соперничества, прямо затрагивало интересы семьи Адамс. Абигейл ценила умение Джона видеть в будущем развитие в целом, а не какую-либо его частность. Джон обладал даром предвидения, он доказал это в дни Конкорда и Лексингтона, предрекая, что Соединенные Штаты Америки станут сильным, независимым, энергичным, процветающим государством, способным наравне с другими занять свое место на международной арене. Предвосхищение этого поддерживало его в годы разочарования и одиночества, давало ему то, что конгрегационалисты называют верой. Абигейл не сомневалась, что и поведение Джона и ее собственное имели под собой религиозную основу. Они стремились сделать Америку «городом, стоящим на верху горы», подобно тому как первые поселенцы старались превратить колонию залива Массачусетс в «город на холме». Американцы должны стать такими же, как признававшиеся святыми члены конгрегации. Конгрегационистский святой обязан добиться святости через моральную и духовную чистоту, по этому же пути должна пойти Америка, превратив себя в свободное сообщество людей: свободных думать, чувствовать, говорить, действовать, владеть, руководствуясь общей пользой; общество, в котором каждый человек обладает возможностью расти, а те, у кого меньше таких возможностей, будут не эксплуатироваться, а скорее опекаться представителями народа, свободно избранными служить нации и всем ее гражданам. Такая светлая и, быть может, более труднодостижимая мечта побудила первых пуритан и пилигримов пересечь океан и высадиться на неведомых пустынных землях. И ранее люди сражались за религиозную свободу и добивались ее, пусть небольшими группами; их английские предки, сбежавшие в Голландию ради религиозной свободы, доказали это. Но сбросить всех властителей, правивших со времен римских императоров: королей, князей, принцепсов, пап и епископов, владельцев доменов, вождей, конкистадоров, навсегда покончить с тиранией, побудить человека повиноваться только законам, составленным и одобренным его коллегами; предоставить ему равные возможности в торговле, законодательных собраниях, судах и городских собраниях!.. Если это окажется успешным, то свершится самая важная революция в истории человечества. Это должно быть сделано и будет сделано. Цена этого будет высокой, результаты — мессианскими. Матфей сказал в Святом благословении: «Не может укрыться город, стоящий на верху горы».
2
Абигейл пробудилась с солнцем, струившимся в окно, хотя и не так рано, как на своей ферме, когда ей приходилось кормить индеек и гусей и выпускать из хлева коров. Сначала она разбудила Нэб, а затем постучала в дверь Джонни. Он встретил ее с открытой книгой в руке. За столом собралась вся семья, обсуждая планы на предстоящий день. Когда Джону не нужно было ехать в Пасси на совещание с Франклином или Джефферсоном, он уединялся в своем кабинете и работал над документами. Джонни переводил с латинского Горация и Тацита,[40] а Нэб изучала французскую грамматику. Абигейл возвращалась в спальню, давала поручения прислуге и писала письма. В полдень Джон покидал кабинет, вместе с Нэб совершал поездку верхом по французскому кавалерийскому треку в Булонском лесу — по затененной деревьями дорожке, с крутыми поворотами для отработки маневров. В иные дни все вчетвером шли на прогулку в Булонский лес, собирали дикорастущие цветы, наслаждались тенистой прохладой и через два часа возвращались на обед. Нэб и Джонни часто выезжали в Париж на аттракционы. Когда они возвращались из театра «Комеди дю Буа де Булонь», где спектакли начинались в пять часов, сердце Абигейл наполнялось гордостью: как привлекательно они выглядели. — Понравилась комедия? — Музыка да, а актеры едва терпимы, — честно ответила Нэб. — Вообще-то я не поклонница комедии; я пошла скорее с целью улучшить знание французского, чем для развлечения. — Сказано истинным жителем Новой Англии, — прошептал Джон. — А каково твое впечатление, Джонни? — Я прожил в Европе достаточно долго и понял, что самые яркие персонажи преподносятся в комической, а не в трагической форме, начиная с Аристофана[41] и кончая Мольером. Комедия призвана высмеивать цивилизацию и вызывать смех. После чая на стол выкладывались математические таблицы, книги Джонни, по которым Джон обучал своего сына. Занятые чтением женщины до девяти или десяти часов не слышали ничего, кроме слов: теорема, деление, анализ. Затем стол освобождали от книг и бумаг и собирались партнеры для игры в карты. Они чувствовали себя счастливыми. Как-то Абигейл зашла в спальню Нэб, когда та расчесывала свои длинные, до самой талии косы. При виде дочери в глазах Абигейл блеснула искорка, и она сказала: — Мисс Прелестница, ранее ты никогда не излучала такого счастья. Нэб, сидевшая перед зеркалом, повернулась. — Я никогда не испытывала такое смятение духа. Мои мысли все чаще и чаще возвращаются к мистеру Тайлеру с любовью. — Рассказал ли тебе отец о письме, которое он написал нам перед нашим отплытием и которое мы так и не получили? Он предоставил мне право решать вопрос о твоей свадьбе в Брейнтри, если я увижу, что ты хочешь выйти замуж. — Я не говорила с отцом о мистере Тайлере. Если семейная жизнь Абигейл проходила спокойно, то соприкосновение с французским образом жизни бросало ее в дрожь. Первое потрясение она испытала на субботнем обеде у Бенджамина Франклина в Пасси. Среди французских женщин Франклин давно пользовался славой романтической фигуры. В возрасте семидесяти восьми лет, рассуждала Абигейл, ему давно бы следовало избавиться от такой славы, но вскоре поняла свою ошибку. Ожидая Франклина в гостиной скромной, обветшавшей виллы, она увидела, как вошла в помещение мадам Гельвециус. Эта вдова воздвигла памятник своему мужу и теперь готовилась поставить памятник Бенджамину Франклину. Шестидесятилетняя мадам Гельвециус вплыла в гостиную, как показалось Абигейл, небрежно одетая в прозрачный газ, столь же выцветший, как ее былая красота. Ее кудрявые волосы прикрывала небольшая шляпка с несвежей газовой лентой. Держа в одной руке крохотную собачку, а в другой — черный газовый шарф, она подбежала к Франклину, схватила его за руку, затем смачно поцеловала в щеки и в лоб. Абигейл была шокирована поведением мадам Гельвециус. Как можно вести себя так на публике! За столом мадам Гельвециус, сидевшая между Франклином и Джоном и оживленно беседовавшая, то брала Франклина за руку, то клала свои руки на стулья двух мужчин, то касалась шеи Франклина. В гостиной она, сев на диван, довольно беззастенчиво обнажила свои ноги выше щиколотки. Мадам Гельвециус то и дело целовала свою собачонку, а когда та оросила пол, она подтерла пуделя своей сорочкой. Абигейл, видимо, не смогла скрыть своего отвращения, ибо, когда уходили, Франклин сказал ей с легкой улыбкой: — Мадам Гельвециус — истинная француженка, не связанная жесткими нормами поведения. Абигейл взглянула на мужа и сына, ведь они часто обедали у мадам Гельвециус и привыкли к ее поведению. Очевидно, она даже им нравилась! Через несколько дней ей пришлось пережить новое потрясение, во время посещения балета. Красота исполнителей в прозрачных шелковых костюмах поверх коротких нижних юбок очаровала, но, когда начались танцы, ее деликатная натура не выдержала; ей казалось постыдным смотреть такие танцы. Танцовщицы порхали по сцене, обнажая подвязки и штанишки. Абигейл, не посещавшая театра, если не считать противоречащего общественным нормам и слабого исполнения оперы в Бостоне, не могла сдержать своего возмущения; вместе с тем она восхищалась превосходным искусством постановки и удивительно отточенными движениями танцоров, обученных в королевской академии. Вспоминая прочитанные истории об этих девушках, согласившихся взять в любовники и покровители тех, кто предлагал наибольшую цену, она почувствовала отвращение и излила это Джону в карете при возвращении домой. — Нет связи между удовольствием, доставляемым балетом, и частной жизнью балерин, — мягко сказал Джон. — Когда балет загубят, ты будешь возмущена не менее парижан. Частная жизнь девушек не имеет никакого отношения к искусству. «Боже мой, — подумала Абигейл, — моя семья занимается софистикой!» Ее третье разочарование имело более глубокий, скорее религиозный, чем моральный характер. Томас Джефферсон пригласил ее и Нэб ранним утром в Конвент на церемонию принятия присяги двумя монашками. Они встали в семь часов утра, надели новые атласные платья, сшитые портнихой, которую рекомендовала жена американского генерального консула во Франции миссис Томас Барклей. После завтрака Абигейл и Нэб отправились в церковь. Патси встретила их в вестибюле. Она была в темно-красном платье с кисейными манжетами и воротником. Патси выглядела хорошо ухоженной. На вопрос Абигейл, нравится ли ей в монастыре, Патси спокойно ответила: — Очень. С каждым днем мой французский становится лучше. Они прошли по центральному проходу церкви, и их посадили против алтаря. Через красочные витражи струился свет, придавая особые оттенки одеяниям священников, изображению Мадонны с младенцем Пьете — оплакиванию Христа Богоматерью, картинам «Вознесение Господне». Монашкам и учащимся было отведено отгороженное место. Перед алтарем на полу лежал красивый ковер, на котором склонились коленопреклоненные монашки. Раздвинулся занавес, и в церковь торжественно вошли настоятельница монастыря, послушницы и учащиеся пансионата. Каждая послушница несла в руках зажженную свечу. Две принимавших присягу выступили вперед, они были одеты в белые шерстяные рясы, широкие, свободные, а их головы — покрыты вуалью. Они опустились на колени перед алтарем; зазвучал хор, и читались молитвы с попеременным вставанием с колен, затем с восточной стороны алтаря вошел священник, подававший какие-то непонятные сигналы. Священник произнес проповедь на французском языке, Абигейл и Нэб довольно хорошо ее поняли, ибо он восхвалял доброту короля и достоинства всех классов общества сверху донизу. После этого послушницы простерлись ниц на ковре. Восемь учащихся принесли черное покрывало с нашитым на него белым крестом и держали покрывало над новообращенными, в то время как священник читал вторую часть молитвы, а монашки пели хором. Церемония не могла не волновать. Две девушки лежали ниц целых полчаса. Когда они встали, что символически обозначало воскресение, настоятельница набросила на них монашеские одежды. Священник окропил их святой водой и окурил ладаном. После этого новые монашки преклонили колена перед настоятельницей, которая возложила на каждую венок из цветов; в их руки были вложены горящие свечи, и прочитана месса. Церемония завершилась… и священник призвал всех присутствующих девушек последовать примеру двух новых монашек. Мать и дочь возвращались домой молча, словно зачарованные. Они не могли воспринять официальную религию Франции. Было понятно, почему две молодые девушки, — француженка и ирландка, — добровольно решили провести остальную часть своей жизни в монастыре. Патси рассказала им, что монашки находят удовлетворение делать счастливой жизнь учащихся, они всегда полны радости и веселы. Абигейл не представляла себе подобного. Ее поразила церемония: ведь ранее она не посещала католической церкви. Джон заходил в церковь в Филадельфии во время заседаний Конгресса и писал Абигейл о церковной музыке и предметах искусства. Она перенеслась мысленно в Дом собраний в Уэймауте, увидела за кафедрой своего отца, произносящего в холодном помещении проповедь, основанную на Благовествовании от Матфея или от Луки. В эти ясли Господни не допускается самый скромный орган или пианино, не разрешается даже покрасить стены. Здесь совершенно иной мир, и его трудно понять. Воскресенье, которое в Новой Англии занято посещением церкви и, как правило, двумя молитвами в день, чаепитием и манерными беседами, во Франции отдается бьющей ключом радости. Утром мимо их замка проезжала вереница карет и колясок, направлявшихся в Булонский лес. Абигейл садилась у окна и наблюдала за проезжающими экипажами, лошадей часто вели под уздцы, а не погоняли, на скамьях сидели разряженные парижанки в окружении детей, спасаясь от зловония города в прохладном чистом воздухе леса. Часам к десяти утра все члены семьи Адамс, наряженные, вливались в толпу. Играла музыка, парижане танцевали, многие семьи устраивали пикники на траве, работали киоски, где продавались пирожные, фрукты, вино; детишки бегали, прыгали, безудержно кричали. Женщины в красочных платьях прикрывали головы капорами и накидками, оберегая причудливые прически. Мужчины держали шляпы в руках, желая не потревожить напудренные до белизны волосы. На дорожках было так же много народа, как на общинных землях Бостона в церемониальный день. Возвращаясь извилистой тропой в Отейль, Абигейл заметила: — Удовольствие здесь вроде жизненно важного бизнеса. — Пуритане живут ради работы, — ответил Джон, — французы работают ради жизни. Можем ли мы утверждать, что они не правы? По дороге от Кале ты видела, как бедствуют крестьяне: крытые соломой, грязные дома, без окон, с земляными полами; крестьян обирают землевладельцы, они задавлены налогами, в сотни раз большими, чем те, что ты выплачивала в Брейнтри во время войны. Неуплата долгов влечет либо наказание кнутом, либо тюрьму; и так рождаются поколение за поколением рабы, привязанные к земле, неграмотные и лишенные надежды. — В таком же положении городские рабочие? — Все богатство сосредоточено в руках, скажем, одного, самое большее двух процентов французов. Ты видела Версаль, поместье принца Конде в Шантийи… Землевладельцы живут не менее роскошно, чем аристократия. — В таком случае шесть дней в неделю, — подсчитав, сказала Абигейл, — Америка обладает лучшей цивилизацией. Несомненно, наши воскресенья не столь приятные, — в них мало веселья для работавших всю неделю. Но остальные шесть дней они живут и работают как свободные люди. Французы, должно быть, или очень терпеливы, или махнули на все рукой. — Они также очень древний народ, — сказал Джон. — Иль де ля Сите на Сене[42] был заселен до Рождества Христова. У американцев миллионы акров свободной земли, ее может взять любой, обладающий энергией двинуться на Запад. Французский народ попал в ловушку. Он не видит, как сбросить со своих плеч гнетущий груз. Поэтому французы копят несколько монет, завивают волосы и едут в Булонский лес в единственный свободный день. Это делает их жизнь сносной. Абигейл искоса посмотрела на мужа. Как прозрел он за шесть лет пребывания в Европе; стал космополитом, а она… все эти годы оставалась домашней затворницей — экономкой, молочницей… Ей не подобает допустить, чтобы Джон перерос ее; она также должна освободиться от провинциализма Новой Англии. Она рассмеялась про себя. Это будет, видимо, самая трудная задача. Со временем добьется своего, но она привезла с собой на судне «Эктив» полный сундук предубеждений! Самый большой шок Абигейл пережила при посещении сиротского госпиталя, дававшего приют шести тысячам незаконнорожденных за год в Париже. День и ночь в дверях приюта дежурили монашки, принимавшие младенцев, которых оставляли в ящиках в специально отведенных местах Парижа. Сестры милосердия ухаживали за детьми. Абигейл провели в светлое просторное помещение, где к стене были подвешены сотни люлек, а в центре стояли в два ряда кроватки. Многие дети спали, некоторые плакали, но Абигейл заметила, что младенцы ухожены; каждая кроватка застелена чистым бельем; дети накормлены. Сопровождавшая Абигейл сестра милосердия объяснила, что в приют поступают ежедневно около двадцати детишек; умирает, несмотря на уход и заботу, примерно треть. Многие попадают в приют уже переохлажденными, и сестрам не удается отогреть их даже при постоянно горящем камине. Пораженная Абигейл смотрела во все глаза, как сестры милосердия в рясах до пола и в накрахмаленных высоких головных уборах самоотверженно выполняют свои обязанности. — Первый шаг в образовании пуританина, — прошептала она мужу и дочери, когда они вернулись домой. — Я не могу не восторгаться благотворительной работой. Сестры восхитительны… — Они поистине должны быть причислены к лику великих душ на Земле, — согласился Джон. — Монашки ведут трудную, хлопотливую жизнь; бесформенное платье — их единственная собственность. Они спят в крошечных кельях на жестких койках, едят самую простую пищу, беспрекословно подчиняются. И в обмен получают право служить Господу Богу. Они достойны восхищения. — Но, Джон, какой разврат делает необходимым такого рода милость! Мне сказали, что половина детей, родившихся в Париже, — незаконнорожденные. — И у нас есть подкидыши, — вмешалась Нэб. — Но мы заставляем родителей жениться, — возразил Джон. — Это дает ребенку имя и положение в обществе. Тысячи подкидышей — естественный продукт надменного отношения французов к браку: каждый муж имеет любовницу, каждая жена — любовника. Абигейл побледнела и взглянула на Нэб. — Путешествия раздвигают горизонт, — сказал вполголоса Джон.3
Знакомство с французской моралью и нравами бросало в дрожь Абигейл. У Джона были более существенные проблемы с европейской дипломатией. Испанский двор, бывший военный союзник, отказывался обсуждать торговый договор, пока Соединенные Штаты не пошлют посланника в Мадрид. Джон Джей провел там два года во время войны Испании против Англии, но испанский двор упрямо не признавал независимость Соединенных Штатов. Англия отклоняла предложения о переговорах о торговом соглашении, пока не будет назначен посланник, аккредитованный при английском королевском дворе. Базировавшиеся в Марокко, Алжире, Тунисе и Триполи берберские пираты захватывали американские суда и моряков. Пираты стремились получать ежегодную дань наличными и только в таком случае соглашались пропускать американские суда в Средиземное море. Освобожденное от военных тягот английское судоходство вновь доминировало на море. Лишь прусский король Фридрих изъявил готовность иметь дело с тремя комиссарами. Пруссия нуждалась в американском хлопке, табаке, рисе и пшенице, а силезский лен мог найти хороший сбыт в Соединенных Штатах. Что касается множества писем, предложений, документов, заявлений о мощи и производительной способности Америки, то они явно не достигали цели. Соединенные Штаты все еще продолжали находиться в оковах колониальной системы, против которой они восстали: Испания и Португалия не разрешали своим колониям торговать с новым государством, не разрешала и Великобритания, включая перспективную выгодную торговлю в Вест-Индии. Обедая в Отейле в конце 1784 года, Томас Джефферсон ворчал, обращаясь к хозяевам: — Европейские страны мало знают о нас, их представления сводятся к тому, что мы мятежники, успешно сбросившие ярмо родины-матери. Они не осведомлены о нашей торговле и возможностях обмена товарами, выгодных обеим странам. Поэтому и сторонятся. Джон сочувственно простонал: — Мы должны продолжить усилия, чтобы привлекать Россию, Данию, Саксонию, Сицилию. Рано или поздно мы сможем заразить их энтузиазмом и верой в будущее нашей страны… Каждый вторник три посланника присутствовали в Версале на церемонии пробуждения короля Людовика XVI. Семьи посланников не приглашались, и поэтому Абигейл увидела дофина только в одно из воскресений, когда сады Версаля были открыты для публики. Джон не любил дворцовые сборища. Король, придерживавшийся правила беседовать с каждым иностранным посланником, всегда задавал один и тот же вопрос: — Вы приехали сегодня из Парижа? Джон не мог припомнить случая, чтобы ему дали возможность ответить. Он использовал время для закрепления отношений с полномочными представителями других стран, приглашая их по субботам на обед. Испанский посол приехал в роскошной карете в сопровождении восьми ливрейных лакеев. В ходе таких протокольных обедов Джон Адамс, Джефферсон и Франклин исподволь разъясняли доброжелательно настроенным гостям взгляды молодого американского государства, и постепенно они становились достоянием монархов и кабинетов. Многие послы принадлежали к состоятельным людям; даже Франклин и Джефферсон имели значительный личный доход. Абигейл вскоре поняла, как это важно. После смерти восьмилетнего принца, отец которого состоял в союзе с Людовиком XVI, вышел королевский указ: все посетители должны быть в траурной одежде. Джефферсон обратился к портному, и тот за сто тридцать пять долларов сшил ему великолепный костюм, отороченный соболями. Семья Адамс не могла позволить себе такие расходы ради одиннадцатидневного траура; если кого-либо еще угораздило бы умереть вскоре после дней траура, пришлось бы снова менять покрой одежды, ибо старая не годилась. Из-за траура церемония пробуждения короля во вторник была отменена. Не оповещенный заранее Джефферсон приехал забрать Джона вместе с секретарем комиссаров полковником Дэвидом Хэмфри. Джефферсон был в элегантном костюме, его волосы причесаны и припудрены по французской моде. Узнав, что все его старания и расходы напрасны, он воскликнул: — Волосы! Они — поистине центр французской жизни. У меня соблазн постричься наголо. Не надеюсь, что проживу много лет, а, занимаясь прической, могу потерять целый год. Абигейл утешила его чашкой чаю. Встреча перешла в праздничную. Приехал Томас Бредли с женой, привезя с собой богатого филадельфийского финансиста Уильяма Бингхэма и его молодую миловидную жену; виргинца Уильяма Шорта, служившего у Джефферсона секретарем и проживавшего во французской семье в соседней деревне Сен-Жермен с целью изучения языка. С Франклином прибыла мадам Гельвециус. Абигейл считала ее приятной гостьей, чья любовь к американским друзьям обладала способностью озарить светом замок графа Руо. Хорошо, что у Абигейл был такой тесный американский кружок. Она почти не общалась с французами, поскольку ей было трудно вести увлекательную беседу на французском языке; помехой была также практика, требовавшая, чтобы наносивший первым визит оставлял свою визитную карточку. Наконец, собравшись с силами, она объехала полдюжины домов и оставила там свои карточки. В течение следующих недель наносившие ответные визиты леди оставляли свои карточки на серебряном подносе на столе из оникса, стоявшем в прихожей. Этим и ограничивались светские контакты. Верно, все так бы и осталось, не будь маркизы Адриенны де Лафайет. Джон познакомился с маркизом во время его службы под началом Вашингтона. Однажды Лафайет[43] доставил Абигейл письма от Джона. Абигейл и Нэб нанесли визит, и ехавший с грумом дворецкий отнес их карточки. Едва успела карета отъехать от подъезда, как подбежал слуга и сообщил, что маркиза рада их видеть. Действительно, маркиза спустилась к входной двери. Свободно, на правах старого друга она взяла Абигейл за руку и расцеловала в обе щеки. — Миссис Адамс, я рада видеть вас. Пойдемте в спальню, где мы будем чувствовать себя по-семейному. В просторной, залитой солнечным светом спальне, где в одном углу стояли стулья и шезлонг, маркиза представила Абигейл и Нэб своей матери и сестре, занятым вязанием. Одеты они были по-домашнему и не ожидали посетителей. — Я не могу вас так просто отпустить. Я давно ждала встречи с вами. Я так привязана к американцам; мой муж обожает вашу страну. Сейчас он здесь. Извините, пожалуйста, я приведу моих детей и представлю их вам. Они прекрасно говорят по-английски; по настоянию отца они начали изучать ваш язык почти с рождения. Она возвратилась с дочерью семи лет и сыном Джорджем Вашингтоном де Лафайет. Они действительно говорили почти без акцента и просили рассказать о героических сражениях отца в Соединенных Штатах. Сложилось некое подобие семейного собрания, какое могло быть в Уэймауте или Брейнтри. Абигейл заметила, что маркиза обожает мужа и глубоко любит своих детей, образованием которых она занимается сама, свято дорожит своим домом и браком, выдержавшим столь же длительные разлуки, какие пережили Адамсы. Характер и репутация моложавой, среднего роста, грациозной, хорошо воспитанной женщины с добрым сердцем были вне всяких упреков. Ее мать герцогиня д'Айен была фрейлиной королевы Марии-Антуанетты. Маркиз происходил из старинной и высокопочитаемой французской аристократии, обладающей большим богатством, драгоценностями. Однако его семья не увлекалась развлечениями французского двора. Жизнь маркизы проходила в кругу семьи. — Я увидела новую сторону Франции, — прошептала Абигейл в карете, отъезжавшей от городского дома Лафайета. Неужели она, Абигейл, была несправедлива к французам? Через несколько дней Адриенна де Лафайет нанесла ответный визит. Нэб и Джонни уехали в Париж посмотреть и послушать новую сенсацию — «Фигаро». Джон заперся в кабинете, где изливал свое раздражение в замечаниях на полях книги английского священника доктора Ричарда Прайса «Заметки о значении Американской революции». Горячий сторонник Соединенных Штатов, доктор Прайс, к сожалению, включил в свой памфлет письмо, написанное ему бывшим французским министром финансов Тюрго,[44] в котором тот нападал на конституции американских штатов как на недееспособные ввиду разделения властей. Благодаря доктору Прайсу письмо циркулировало по всей Европе, подрывая доверие к способности американцев управлять самими собой. На следующий обед с участием нескольких послов с женами Абигейл пригласила маркизу Лафайет. Маркиза приняла приглашение, сообщив об этом через посыльного. Во время обеда жена одного американца прошептала Абигейл: — Ох, дорогая! Это маркиза де Лафайет? Как скромно она одета и без украшений. Среди всех этих сверкающих бриллиантов. Абигейл прошептала в ответ: — Достоинство леди ставит ее выше всех условностей. Сидя за столом в окружении величественных иностранных мундиров и роскошных платьев, Абигейл подумала: «Как далеко я продвинулась в осознании достоинства французского общества». Главной проблемой для Абигейл в Париже, как и дома, оставались деньги. Она никак не могла свести концы с концами. Ей мало кто сочувствовал, некоторые соседи в Новой Англии, узнав, что семья Адамс живет в замке с восемью слугами, думали, что она подражает наследственным аристократам. Континентальный конгресс выражал недовольство по поводу того, что приходится держать в Европе посланников, срезал их оклад и субсидии на две тысячи двести пятьдесят долларов. Оклад комиссаров держался на уровне девяти тысяч долларов в год. Как ни старалась Абигейл экономить, она принимала гостей, посещала оперу и театр лишь раз в неделю; подсчеты старшего сына Джонни по оплате счетов в конце каждого месяца показывали, что они тратят больше, чем получает Джон. Их доходы в Америке от собственной фермы и фермы, находившейся в совместном владении с семьей Шоу в Медфорде, едва покрывали уплату налогов, обслуживание и ремонт дома, расходы Чарли и Томми в Хаверхилле. Она сократила закупку продовольствия и других товаров для дома, но вскоре узнала, что ее высмеивают прислуга и соседи. Комиссары не могли выколотить из Конгресса ни одного дополнительного доллара. Все расходы американских официальных лиц в Париже и проценты по французским долгам покрывались Джоном за счет займа, о котором он договорился. Франклин, публично нападавший на Джона Адамса, когда тот отправился в Голландию разведать, «можно ли что-либо сделать, дабы уменьшить нашу зависимость от Франции», сам оплачивал свое пребывание во Франции за счет кредита Джона Адамса в голландских банках. Джон был удовлетворен этой невинной местью: теперь он работал в согласии с Франклином. Однако он еще не знал о том, что написал год назад Франклин государственному секретарю Роберту Ливингстону и что отрицательно аукнется для него в будущем: «Он полон добрых намерений по отношению к стране, всегда честен, зачастую разумен, но иногда кое в чем безрассуден». Их материальное положение было подобно стоянию с протянутой рукой. В Новой Англии чаевых не давали. Во Франции же они должны были подавать на чай слугам в каждом доме, куда приходили на обед или чай; служителям в лавках и на рынках, в театре, опере, балете, ресторане; доставлявшим пакеты или оказывавшим какую-либо услугу по дому. Нельзя было сделать и шагу, не имея в кошельке мелких монет. По праздникам, и особенно в Рождество, каждому нанятому работнику полагалось выплачивать годовое вознаграждение, даже если семья не видела его в глаза. Такая практика была настолько закреплена обычаями, что если выдавалась меньшая сумма, то с возмущением требовали «положенного». Лакеи в Версале определяли сумму, какую должны получить к Новому году повара, заваривавшие кофе, носильщики, ливрейные лакеи, камердинеры. К постоянной раздаче чаевых добавлялись непредусмотренные расходы, исчисляемые многими сотнями долларов. Потребовался месяц, чтобы Абигейл поняла, что ее на каждом шагу обманывают поставщики товаров и услуг. Способы вымогания денег были настолько остроумными, что Джонни с трудом обнаруживал их при проверке счетов. Им помогли французские друзья, рассказавшие об отработанных в ходе столетий методах, как нагреть руки за счет заказчика. Торговцы не обижались, когда их ловили с поличным: ведь стало традицией обманывать богатых, особенно иностранцев. Джон переложил все бремя финансовых расходов на Абигейл. Она посетовала в ответ на его отказ изучить бухгалтерские книги: — Мистер Полномочный Посланник, вы так долго были государственным деятелем, что я не могу уговорить вас подумать о домашних делах. — Почему я должен, дорогая, когда ты так умело с ними справляешься? — В таком случае могут притупиться и мои способности. Я занимаюсь сложением и вычитанием вот уже десять долгих лет. — И всегда оберегаешь нашу платежеспособность! Мне бы твои таланты, и Соединенные Штаты уже давно заключили бы договоры о наибольшем благоприятствовании с шестнадцатью европейскими странами. Абигейл не клюнула на лесть. — Джон, я очень хочу освободить тебя от забот, но с моей стороны это скорее выглядит как желание уступить, чем поделить власть. Почувствовав свою вину, Джон встал из-за письменного стола и положил руку на ее плечо. — Справедливо. Принимаю критику. Могу ли я предложить прийти к согласию по этому вопросу? — Нет. Ты поведешь дело так, что я вообще останусь без прав. — Ну, моя дорогая. Я не столь уж ловок в переговорах. Договоримся, ты будешь командовать в замке и вести дела с Коттоном Тафтсом, сестрой Элизабет Шоу и другими. Через полгода-год мы вернемся в Брейнтри. После этого обещаю вести все наши дела. Во время кризиса Абигейл прибегала к чрезвычайным мерам, идя наперекор советам отца и древним традициям Новой Англии. Она продала некоторые государственные бумаги и армейские сертификаты даже в убыток, использовала сбережения для покрытия текущих расходов. Абигейл много писала родным домой, а получала от сестер лишь редкие весточки. Вечером 4 января 1785 года они сидели перед камином, Джон читал любимого Платона, а Абигейл на французском языке увиденную накануне пьесу Мольера «Смешные жеманницы», как вдруг вошел Брислер с двумя большими пакетами. Абигейл воскликнула: — Из Америки! Знаю, из Америки! Она взяла ножницы и вскрыла пакеты. Несколько писем Ройяла Тайлера предназначались Нэб. Абигейл отложила их в сторону. Она и Джон прочитали вслух остальные письма. Первым она прочла письмо Элизабет, желая узнать новости о сыновьях. Оно содержало много мелких подробностей, которые пролили бальзам на ее душу. Лето прошло для Чарли без обычной сенной лихорадки; оба мальчика успешно учатся в танцевальном классе; они чувствуют себя счастливыми в семье Шоу. Мэри Кранч поведала о новостях Брейнтри. Коттон Тафтс, все еще сенатор Массачусетса, посетил дом Адамсов и убедился, что Феб и ее муж хорошо следят за ним: правда, некоторые шерстяные костюмы и платья Абигейл, убранные для хранения, пострадали от моли. Он уведомил, что большой дом и ферма Аллейн выставлены на продажу. Не захотят ли Адамсы приобрести их по возвращении? В десять часов домой вернулась молодежь. Ветреной темной ночью на всем пути из Парижа вдоль Сены горели фонари. Залаяла собака, зазвонил колокольчик въездных ворот, предупреждая, что карета приехала. Нэб вошла первой, кутаясь в накидку цвета морской волны. — Какую пьесу смотрели сегодня? — спросил Джон. — Варьете из Пале-Руаяль. — Джонни высмеял некоторые названия пьес Мольера. — Мы видели «Мещанина во дворянстве», «Лекаря поневоле». — Нэб, у меня есть новогодний подарок для тебя! — воскликнула Абигейл. Она отдала дочери письма Ройяла Тайлера. Усевшись в кресло в дальнем углу комнаты, Нэб принялась читать, хихикая, краснея и вздыхая при этом. Джон смирился с тем, что Тайлер ухаживал за дочерью, и, по всей видимости, удовлетворился полученными им сведениями о молодом человеке. Джона заинтересовало сообщение о поместье Аллейн, которое осталось в его памяти просторным домом, отвечающим его новому положению. Прожив семь-восемь лет в голландских особняках и во французском замке, он считал, что их коттедж в Брейнтри слишком тесен для семьи. — Неужто дом уменьшился, а ты располнел? — спросила Абигейл. — Это напомнило мне историю одного министра королевы Елизаветы,[45] посетив дом которого она сказала, что он слишком мал для министра. «Могу ли я заметить, ваше величество, — ответил министр, — дом достаточно просторен для одного человека, но вы сделали его слишком великим для дома». — Отлично, если Континентальный конгресс сделал тебя слишком великим для коттеджа, какие же средства потребуются, чтобы обеспечить вашей личности подходящее жилье? — Полагаю, поместье Аллейн обойдется в девять тысяч долларов. После нескольких дней подсчета активов, выплат, предстоящих расходов, прибыли Джонни представил им сводный счет:Дом и девять акров — тысяча восемьсот долларов Бывший дом Питера и тридцать пять акров — две тысячи долларов Дом в Бостоне — две тысячи четыреста долларов Мебель в Гааге — четыре тысячи пятьсот долларов Доля Абигейл в ферме Мидфорд — тысяча восемьсот долларов Смешанные права на земельную собственность — тысяча триста пятьдесят долларов Карета и оборудование замка в Отейле — тысяча двести долларов Итого: пятнадцать тысяч пятьдесят долларов.Не выплатив зарплаты, Конгресс задолжал Джону, но немыслимо склонить его членов признать задолженность, ибо они слишком запутались в расчетах. — За счет продаж, — вмешался Джонни, — можно набрать девять тысяч. — Но если мы продадим мебель этого дома и в Гааге, у нас не останется ничего, чтобы обставить дом в Аллейне, — заметила Абигейл. — А ведь к тому же потребуется ремонт и приведение фермы в приличное состояние. — Придется отказаться почти от всего имущества, — добавил Джонни, просматривая свои подсчеты. — Как в таком случае оплатить образование сыновей? — спросила хриплым голосом Абигейл. — Вы трое должны закончить колледж, а это будет стоить более тысячи долларов в год. А ведь после окончания колледжа требуется еще время, чтобы накопить опыт. Поэтому нет смысла покупать поместье. Мы не можем поставить под удар будущее мальчиков ради жизни в более просторном доме. Джон одобрительно кивнул головой. — Я прав, настаивая на том, чтобы ты оставалась нашим министром финансов. Исходя из нынешнего настроения Конгресса, мы просидим здесь не очень долго. Чем мне заниматься остальную часть жизни? Вернуться к праву? Прошло уже десять лет с тех пор, как я вел судебные дела. Предположим, что я не растерял завоеванное тяжким трудом умение составлять постановления, выступать перед присяжными, смогу ли я возвратиться к ведению тяжб и иной мелочи, составляющих основную часть практики адвоката? Но если я буду сидеть в своей конторе и громогласно утверждать: «Берусь только за серьезные и важные дела», то не только оскорблю чувства жителей Новой Англии, но и окажусь надолго в одиночестве. — В таком случае вернемся в наш коттедж? — Вернемся в коттедж. Джон удрученно вздохнул. — Джонни, брось-ка свои подсчеты в камин. Твоя мать вновь обеспечила платежеспособность семьи Адамс.
4
Зима пришла неожиданно. Улицы Отейля превратились в болото, по ним нельзя было пройти без сапог или сабо. Деревья сбросили листву, цветы отцвели, даже кустарники впали в зимнюю спячку; сад выглядел заброшенным, унылым. Никто не отваживался прогуливаться в нем.Замок уподобился бы монументальному ледяному дворцу, не будь в каждой комнате камина. В такую мерзкую погоду друзья оставались в Париже и не совершали неожиданных визитов. Чтобы развлечь Абигейл, Джон настоял на выездах в Париж несколько раз в неделю. Абигейл не шокировали более пачки и штанишки балерин, и она особенно полюбила французский театр, его трагедийные пьесы. Она посмотрела священную для французов драму Расина «Атали» и пьесы Корнеля[46] и Кребийона. Ее знание французского языка позволило оценить красоту поэзии. После театра они прогуливались в нарядной толпе, заполнявшей бульвары. Абигейл свыклась с обычаями, привычками и образом жизни французов, признала, что румяна делают женщин более привлекательными. Ее больше не смущало поведение женщин, когда они, входя в салон, обнимали и целовали в обе щеки знакомых мужчин. Не оскорбляло ее и то, что приходившие на обед джентльмены, прежде чем отведать жареную куропатку, склонялись над блюдом, вдыхая аромат. Однако она не могла смириться с тем, что из-за толпившихся у камина мужчин тепло не доходило до женщин, сидевших в другом конце комнаты. Абигейл смирилась с бесконечными чаевыми; ведь это была для многих единственная возможность содержать свои семьи. Абигейл стала поклонницей мадам Гельвециус, поняла, что заблуждалась в оценке французских мужчин, казавшихся ей недалекими и неискренними. На самом деле они оказались душевными, отзывчивыми, наделенными рассудком, обогащенным остроумием и воспитанием. Порой вспоминая принятые в Новой Англии условности, сводящие беседы за обеденным столом к банальностям, к разговорам тет-а-тет, к приглушенному голосу и взглядам искоса, словно речь шла о заговоре, Абигейл ловила себя на еретической мысли, что французы интереснее американцев. Большую помощь в принятии французского образа жизни ей оказала Адриенна де Лафайет. Они стали близкими друзьями. Маркиза понимала, как трудно переключиться с одной культуры на другую, а в случае с Абигейл — на явно противоположную. Адриенна рассказала о французском институте брака, согласно которому юноши и девушки в возрасте от десяти до четырнадцати лет могут быть обручены за глаза родителями и впервые увидят друг друга лишь на свадебной церемонии. Делается это с целью сохранить чистоту крови и семейное состояние. Да и саму ее выдали замуж таким образом. Она была счастлива в браке, ибо обожала мужа, а он обожал ее. Многие из ее друзей были также счастливы. В конце января начались проливные дожди. Небо заволокли густые серые тучи. Стоило отойти немного от камина, как охватывал озноб. Члены семьи читали при свечах или керосиновых лампах, все столы и кресла были придвинуты к очагам. Зимняя стужа вызвала недомогания, болезни, осложнения и неприятности. Первым заболел Франклин, его так мучили камни в почках, что он был прикован к постели. Он боялся, что не протянет и умрет не у себя дома, в Америке. Томас Джефферсон снял то, что он называл «маленькой гостиницей», в тупике Тэбу, чтобы не слышать шума и грохота Парижа. Он вложил почти пять тысяч долларов в дом, лампы, посуду, серебро, мебель. Поскольку он находился в центре парижского общества, ему пришлось нанять больше прислуги, чем Абигейл. Джефферсон произвел яркое впечатление на французов своей душевной теплотой, врожденной мудростью и опытом, накопленным во всех областях человеческой деятельности. Джон Адамс любил Томаса Джефферсона, как немногих в своей жизни. Не получавший похвал за присущую ему скромность в суждениях, он пришел к заключению, что Джефферсон, пожалуй, наиболее мощный ум, когда-либо появлявшийся на Американском континенте. Такое впечатление все более закреплялось по мере того, как Джефферсон брал на себя все большую часть работы Франклина в переговорах с европейцами. Мрачная рука смерти нанесла еще один удар Томасу Джефферсону. Вернувшийся из Америки маркиз де Лафайет привез ему письмо из Виргинии. Двухлетняя дочь Джефферсона Люси, родившаяся за несколько месяцев до смерти матери, скончалась в доме тетушки ее матери от «осложнений, вызванных прорезыванием зубов, глистами и сухим кашлем». Таким образом, Джефферсон потерял трех дочерей, единственного сына и любимую жену Марту. У него оставались крепышка Патси и шестилетняя Мэри, которую дома звали Полли и которая также жила в Виргинии у своей тетушки, и все же смерть ребенка подкосила Джефферсона, ввергла его в отчаяние, он не мог вернуться к работе. Джон и Абигейл приглашали его к себе в Отейль. Они не могли сделать ничего иного для испытавшего удары судьбы человека. Сидя у изголовья его постели, они держали его за руку и вытирали лоб полотенцем. Джефферсон отказался участвовать в церемонии пробуждения короля в Версале по вторникам. У него не было сил для поездок в Отейль на воскресные обеды, даже после того как Нэб и Джонни съездили в аббатство Пантемон и привезли оттуда Патси. Джон оставался единственным работоспособным американским посланником в Европе. Возникли трудности и у Нэб. Казалось, месяцы пребывания во Франции были самыми счастливыми в ее жизни. Она и Джонни непрестанно развлекались, проводили все время вне дома, посещая театральные постановки и осматривая соборы Парижа. Адриенна де Лафайет первая заметила и доверительно спросила Абигейл после обеда в городском доме Лафайет на рю де Бурбон: — Что случилось с вашей дочерью-красавицей? Она стала не то чтобы опечаленной, а серьезной. Это было так. У Нэб исчезла ее обычная жизнерадостность. От Ройяла Тайлера не было вестей, помимо пачки писем, полученных несколько недель назад. Ричард Кранч сообщал, что Тайлер корпит над своими книгами, по другим сведениям, его обуяла меланхолия, он мучается, считая, что больше не увидит Нэб. Нэб не могла понять подобного малодушия. — Может ли влюбленный быть столь мнительным? — спрашивала она мать. У Абигейл были свои вопросы: собирается ли Нэб вернуться весной или летом в Америку и выйти замуж за Тайлера? Если собирается, то она явно никому не сказала. Не хочет ли она приезда Тайлера в Европу по случаю свадьбы? Абигейл ничего не слышала на этот счет. Джон согласен на любой вариант. В конце концов у Тайлера имелись личные средства, рано или поздно он получит по наследству значительное состояние своей матери. Он сможет содержать жену и детей. Но казалось, Нэб была так счастлива в своей нынешней семье и увлечена достопримечательностями Франции, что не думала о браке. Не почувствовал ли Ройял Тайлер это по ее письмам? Затем начались полеты на воздушных шарах. Члены семьи Адамс вместе с увлеченным наукой Бенджамином Франклином заплатили по кроне за право быть допущенными в сентябре в Тюильри наблюдать за полетом. Сшитый из тафты воздушный шар имел форму яйца. Франклин объяснил, каким образом он держит теплый воздух и что подвязанная под шаром платформа предназначена для воздухоплавателя и балласта. В одиннадцать часов воздушный шар отбуксировали на открытое место, канаты удерживали самые знаменитые люди королевства. И вот канаты обрублены, воздушный шар взмыл ввысь и долго оставался в поле зрения, пока воздухоплаватели сбрасывали балласт. В шесть часов того же вечера воздушный шар опустился у Бёвр, в пятидесяти лье от Парижа. Эксперимент вызвал фурор. Весь Париж аплодировал отваге и искусству воздухоплавателей. Франклин развлекал семейство Адамс, описывая, как они вернутся домой на воздушном шаре и ветры донесут их из Парижа в Бостон за три дня вместо тридцати. Дела обернулись иначе, когда Ройял Тайлер поднялся на воздушном шаре в Бостоне. То, что было отважным, авантюристическим экспериментом французских воздухоплавателей, стало для Тайлера глупым, безответственным действом. Жители Новой Англии осудили его вылазку, порицал ее и Джон. Когда Абигейл напомнила ему, как он и Франклин восхваляли французских воздухоплавателей, Джон резко обрезал: — Это их профессия. Они построили воздушный шар. Они показали, что люди могут преодолевать по воздуху большие расстояния. Некоторые из них погибнут, пытаясь доказать научные гипотезы. А какое отношение к этому имеет Ройял Тайлер, юрист, готовящийся получить практику в Верховном суде? Для него это — забава, нечто возбуждающее и опасное, своего рода самовосхваление. Скажу тебе откровенно, Абигейл, мне это не нравится. Оно пробуждает во мне все прошлые сомнения насчет серьезности молодого человека. Нэб была на стороне своей матери, но неодобрение отца причинило ей боль. Наступил черед Абигейл ощутить себя несчастной, хотя дочь конгрегационалистского священника с трудом могла допустить, что выполнение долга может сделать человека несчастным. После нескольких месяцев домашних споров она пришла к выводу о необходимости этой весной отправить восемнадцатилетнего Джонни домой для поступления в Гарвард и завершения академического образования. Им будет страшно не хватать Джонни. Он служил отцу секретарем; вел бухгалтерские книги матери и помогал ей в немыслимых усилиях поддерживать замок в порядке. Ближайший друг и товарищ Нэб, Джонни занимал особое положение в семье; все боготворили его, доверяли ему. Без него их жизнь станет беднее. Втихую они прольют поодиночке слезы, но Абигейл прокомментировала: — Америка — подходящая арена для молодого честолюбивого парня, намеревающегося показать себя в науке и литературе… — Или в праве, — вмешался Джон. Тяжелая атмосфера с зимними холодами, опустившаяся на американцев, казалось, нависла и над французами. Семья Адамс присутствовала на богослужении в соборе Парижской Богоматери, которое давалось по случаю рождения у Людовика XVI наследника — Людовика-Карла. Угрюмые, безразличные толпы парижан не скрывали своей неприязни к участникам парада французской аристократии. По улице Риволи вытянулась в сплошную линию полиция, полицейских было больше, чем зевак. Несомненно, на улицах собрались не любители удовольствий. Абигейл поразило, что никогда ранее она не видела столь откровенную ненависть на лицах в толпе, такого, бесспорно, не было даже на физиономиях английских солдат в тот день на общинных землях Бостона, когда они наблюдали за тем, как их заклятые противники Джон Адамс, Сэмюел Адамс, Томас Кашинг и Роберт Трит Пейн отправлялись на заседание Конгресса. Люди, стоявшие на улицах Парижа, были соотечественниками короля, но их угрюмые взгляды давали ясно понять, что король Людовик XVI, королева Мария-Антуанетта, королевский двор их непримиримые враги. Наконец, и над Джоном Адамсом нависли тучи. Он написал доклад секретарю по иностранным делам в Континентальном конгрессе Ливингстону, рекомендуя назначить полномочного посланника в Великобританию и дополнив его соображениями о качествах, какими должен обладать американский посланник при Сент-Джеймском дворе. Эти соображения выглядели как подробный, блестящий автопортрет: каждый мог заметить, что Джон Адамс предлагает себя на этот пост. Написанное Джоном было верно и справедливо, но в свете времени оно совпадало с тем, что написал о нем Бенджамин Франклин: «Иногда и кое в чем безрассуден». Дебаты в Конгрессе, подтверждавшие к началу 1785 года правоту Джона Адамса, который утверждал, что сговориться с британцами, не имея американского посла, невозможно, были затяжными и язвительными. То делегаты Нью-Йорка не соглашались назначить Джона Адамса на пост под тем предлогом, что он уделял слишком большое внимание рыболовству Новой Англии; то южане сопротивлялись назначению на том основании, что как противник рабства он не станет добиваться возвращения рабов, угнанных британцами; то делегаты центральных штатов возражали, ссылаясь на то, будто он признает законность американских торговых долгов Англии до начала войны и поэтому не станет добиваться отмены процентов. Многие ссылались на его вопиющее, наглое честолюбие. На вакантный пост посла в Англии был выдвинут Джон Ратледж, затем предложили Ливингстона, пользовавшегося сильной поддержкой. Друзья Джона Адамса из Новой Англии действовали упорно и убедительно уже при первом голосовании Джон Адамс получил пять голосов, Ливингстон — четыре и Ратледж — два. Два дня продолжались дебаты. Наконец сторонники Джона, возглавлявшиеся Элбриджем Джерри, Фрэнсисом Дана и Артуром Ли, сумели убедить Конгресс, что он, как наиболее опытный в иностранных делах, незаменим для Америки. Девять штатов из одиннадцати проголосовали за Джона, обеспечив ему необходимое большинство. Итак, Джон Адамс добился успеха. Он был избран на желаемый пост. Однако победа отдавала горечью. Пространное письмо Элбриджа Джерри, излагавшее полный отчет о сказанном относительно полномочного посланника Джона Адамса из Массачусетса, не было увлекательным чтением. Его это сильно задело, и он несколько дней буквально не отрывался от стола, погрузившись в написание напичканной философскими рассуждениями пылкой речи о природе тщеславия, которое, как он утверждал, является наиболее созидательной разновидностью «самолюбия». Абигейл кивнула в знак согласия. Французские приключения закончились.Бенджамин Франклин получил разрешение вернуться домой Томас Джефферсон назначен полномочным посланником во Франции, что удовлетворило его. Ему нравились французы, он стал бегло говорить по-французски, изучать историю искусства Франции. Он был рад осесть в Париже на несколько лет, особенно если к нему приедут Полли и Патси. Никакой иной житель Новой Англии не был бы способен почувствовать родство с французами и их культурой, какое ощущал виргинец Томас Джефферсон. Джон и Абигейл дали званые обеды, за столом провозглашались тосты с лучшим французским вином. Члены семьи Адамс прогуливались вдоль Сены, наслаждаясь ароматом весенних цветов, видом покрывшихся листвой деревьев, под солнцем, согревавшим своими лучами улицы и дома. — Как я могла говорить, что Париж грязный? — спросила Абигейл. — Или что он дурно пахнет? Он прекрасен. Поедем на Монмартр, чтобы с его высоты взглянуть последний раз на красные черепичные крыши, которые навсегда останутся в моей памяти. — Ностальгия, — прошептал Джон, — самое приятное чувство. Наступил день отъезда. Джонни уехал первым в Нью-Йорк на судне «Ле Курьер де л'Америк» с рекомендательными письмами к друзьям его отца. Семью Адамс посетила мадам Гельвециус, обнявшая и расцеловавшая каждого. В ясный майский день приехали с подарками для всех маркиз и маркиза де Лафайет. Перед посадкой в карету, отвозившую их в Кале, где они должны были сесть на судно, отправлявшееся в Дувр через Ла-Манш, их окружили слуги, не скрывавшие слез прощания. Абигейл почувствовала с болью в сердце, что привязалась к разношерстной прислуге, с которой мирно прожила десять месяцев. Она тепло попрощалась с каждым, отдавая себе отчет, что больше никогда их не увидит; ее удручала мысль, что закончилась красочная, волнующая часть ее жизни. В момент расставания она поняла, в чем гений Франции: меньше чем за год он превратил твердокаменную пуританку Массачусетса в терпимую, умеющую наслаждаться жизнью гражданку мира.
5
В конце мая Лондон был особенно многолюден: продолжалась сессия парламента, праздновался день рождения короля Георга III, а в Вестминстерском аббатстве проходил фестиваль музыки Генделя. В отеле «Адельфи» не оказалось свободных номеров. К счастью, Чарлз Сторер, порыскав по городу, нашел для Абигейл и Джона номер из четырех комнат в гостинице «Бат» на Пикадилли. Гостиница находилась в дворцовой части города и была не столь уж приятной: денно и нощно там скапливались кареты, грохотавшие железными шинами колес по булыжнику. Оплата — одна гинея в день — включала услуги горничной, повара и официанта; о питании они должны были заботиться сами. К каждой спальне примыкала окрашенная в блекло-зеленый цвет с позолотой гостиная, помимо обеденного стола стоял ломберный столик, а стены украшали зеркала. — Выглядит элегантно, — заметила Абигейл, — но на треть дороже, чем замок в Отейле. По карману ли нам такая роскошь? — Ненадолго. Мы найдем подходящий дом. Он станет первым американским посольством в Англии. Здание должно выглядеть достойно, как дорогое городское строение высшего класса, производящее впечатление на британцев. — Нет ли вести от Конгресса, что тебе повысили оклад как первому американскому посланнику в Британии? — Конгресс не занимается частностями. — Как ты в таком случае определишь, за какую сумму можешь снять дом? — Этим займешься ты. Я должен немедленно начать работу с министрами и двором. — Приятно вновь использовать по назначению язык и не крутить им беспомощно, стараясь произнести звуки, которые я принимала за французские. Распаковывая сундуки, они услышали стук в дверь. Джон впустил в номер молодого человека лет тридцати, смуглого, высокого, гибкого, с подтянутой фигурой, свидетельствовавшей о годах военной службы. Он вежливо поклонился и сказал басовитым тоном: — Посол Адамс, разрешите представиться. Я — полковник Уильям Смит, бывший адъютант вашего друга генерала Вашингтона, а теперь, по решению Конгресса, секретарь американской миссии в Лондоне. Короче говоря, ваш скромный и, надеюсь, полезный помощник. При мне официальные полномочия Конгресса, наделяющие вас рангом полномочного посланника. Могу ли я вручить их вам, сэр? Джон приветствовал мужчину, представил его Абигейл и Нэб. Он казался благодушным от природы, романтичным, с хорошо подвешенным языком, держался гордо и прямо, выпятив грудь вперед. Абигейл заказала чай в свою гостиную. У полковника был отменный аппетит, он умял поднос бутербродов и печенья, запив их полудюжиной чашек и одновременно просвещая Адамсов относительно положения дел дома, в Америке. Он задержался достаточно долго, рассказывая о своей принадлежности к крупной процветающей семье землевладельцев Нью-Йорка, о том, что он завербовался в армию и участвовал в войне в качестве адъютанта генерала Салливена, а затем Вашингтона; был участником успешной эвакуации войск из Бруклина в Манхэттен, отплыв в последней лодке с Вашингтоном; ранен при сражении у высот Гарлема. За отвагу в сражении при Трентоне удостоен звания подполковника, получил назначение помощника генерала при Лафайете, участвовал в комитете, который вел переговоры с британцами об их эвакуации из Соединенных Штатов, и в качестве помощника Вашингтона выступал в роли офицера, принимавшего капитуляцию Нью-Йорк-Сити. Когда наконец полковник Смит встал и откланялся, семья Адамс была озадачена и возбуждена. Нэб спросила: — Папа, что делает секретарь миссии? Джон сухо ответил: — Как гласит старинное выражение, секретарь содержит посольство, а посол — любовницу. — Боже мой, мы становимся светской семьей! — воскликнула его жена. На следующий день в час дня в сопровождении полковника Смита Джон посетил министра иностранных дел Великобритании лорда Кармартена и вручил ему копии своих верительных грамот. Встреча была вежливой. Лорд сообщил Джону, что в следующую среду его примет в королевском кабинете король Георг III и на этой встрече он может вручить свои верительные грамоты. В тот же вечер семья Адамс получила известие, что Джонатан и Эстер Сиуолл приехали в Лондон на несколько дней и остановились на постоялом дворе на окраине Лондона. Джон воскликнул: — Мы должны их немедленно посетить! Чета Сиуолл была поражена тем, что полномочный посланник Адамс нанес им визит. Но их изумление не было столь глубоким, как удивление Абигейл и Джона при виде Джонатана. Некогда красивый, жизнелюбивый, с блестящими глазами мужчина выглядел постаревшим и уродливым; его лицо покрыли карбункулы. Абигейл слышала, что он много пьет уже в течение ряда лет. Эстер выглядела миловидной, в традиции семьи Куинси, но ее лицо напоминало маску. Женщины обнялись. Джон взял руку Джонатана в свои. — Как поживаешь, старина? Счастлив тебя видеть. Эстер суетливо сдвигала четыре стула в спальне с единственным небольшим окном, выходившим на конюшни и конный двор. — Простите наши скромные апартаменты, — сказал Джонатан. — Мы только что приехали из Бристоля по делам на пару суток. — Как твои дела, Джонатан? — спросил Джон. Пожелтевшие веки почти накрыли глаза Джонатана. Опустившиеся уголки губ придали особую выразительность его грустному настроению. — Когда война закончилась, лорд Норт и его преемники умыли руки, забыв о нас — лоялистах.[47] Они вытолкнули меня в Англию, а уже черт удержал меня здесь. Абигейл мгновенно бросила взгляд на лицо Эстер. Она не хотела покидать семью, друзей, рвать корни, связывавшие ее со страной. Означает ли услышанное, что Джонатан желает возвратиться в Массачусетс? Ведь другие тори вернулись. До Джонатана дошел смысл обмена взглядами между женщинами. — Я не изменил свою точку зрения. Вы были не правы, прав был я. Случайный исход войны ничего не меняет. Джон, у тебя сердце, настроенное на дружбу и способное на лучшие чувства, хотя, быть может, непримиримо к тем, кого ты считаешь врагами. — Я никогда не считал тебя врагом, Джонатан; ценил в тебе друга, к сожалению отдалившегося от меня. Джонатан понизил голос, пытаясь выразить то, что целое десятилетие сверлило его мозг: — Возможно, во время борьбы в Америке безмерное честолюбие и необузданный энтузиазм, направленные на достижение иллюзорной или реальной славы твоей страны, помешали проявлению твоих общественных и дружеских принципов; однако твой визит подтверждает, что они живы. Джон, ты можешь радоваться осуществлению двух твоих желаний: независимость Америки признана и ты поднялся на вершину славы. Ну, Джон Адамс, после такой полной победы даже сам дьявол обрел бы готовность к любви и дружбе, не говоря уже о человеке, в сердце которого не умерли добропорядочные общественные и человеческие принципы. Джон счел за лучшее согласиться с комплиментом и пропустить мимо ушей критику. Эстер хотела услышать новости о своей семье. Джон интересовался, есть ли возможность помочь закадычному другу. Происшедшее с Джонатаном было типичным для любого американского тори: вначале их принимали в Англии с распростертыми объятиями, а затем постепенно забывали о них. Затянувшаяся война осложняла положение в стране по мере того, как все большее число государств выступало против Англии, топились ее корабли, истреблялись ее солдаты, сокращалась ее торговля… и Англия начала ненавидеть тори, символизировавших потери и разочарования. Джонатану не удалось получить пост в Англии. Его ежегодный оклад — шестьсот фунтов стерлингов, полагавшиеся судье-комиссару вице-адмиралтейского суда Новой Шотландии, не был отозван, но за переезд пришлось заплатить более четверти этого оклада. Семья Джонатана жила туго, и при доходе чуть более двух тысяч долларов ей были не под силу лондонские цены. — Джонатан, мирный договор с Англией предусматривает оплату всей собственности, захваченной в Соединенных Штатах. — Предусматривает! Что это значит? Континентальный конгресс не может заставить Массачусетс… — Не может, но я твердо убежден, что штат возместит собственность, взятую по решению суда. Сколько стоила твоя? — Мои материальные потери близки к шести тысячам фунтов. — Ты не получишь двадцать семь тысяч долларов, но обещаю, кое-что получишь. — Эстер, не придешь ли ты с Джонатаном завтра к нам на обед? — вмешалась Абигейл. — Ты не видела Нэб, она повзрослела. За Эстер ответил Джонатан: — Кузина Абигейл, твое приглашение столь любезно, но огорчен, что не могу его принять: я решил не наносить визитов и не отвечать на приглашения в Лондоне… на том основании, что ранее отклонил приглашение отобедать у сэра Уильяма Пепперелла и у других друзей. В глазах Эстер показались слезы. — Мы вернемся в Бристоль, а потом ты захочешь переехать в Новую Шотландию. И, возможно, мы больше не увидим кузину Абигейл и кузена Джона. — О, не глупи, Джонатан! — воскликнул Джон. — Мы не просто друзья, а одна семья. Джонатан и Эстер не пришли. Однако до Абигейл и Джона дошла информация о том, какие слухи распространял Джонатан Сиуолл о Джоне Адамсе. Впрочем, он лишь повторял многочисленные измышления после получения в Лондоне известия, что Джон Адамс назначен первым полномочным посланником Америки. Теперь, когда честолюбивые мечты посланника Адамса свершились, он окажется не в своей тарелке. Бесспорно, его способности отвечают кабинетной стороне работы посла, но их недостаточно. Он не умеет танцевать, выпивать, охотиться, льстить, обещать, одеваться, ругаться с джентльменами, болтать и флиртовать с дамами; короче говоря, не обладает важными светскими качествами и лоском, необходимыми придворному. Есть тысячи таких, которые, не имея и десятой доли его способности вникать в дела, значительно обошли бы его при любом дворе Европы. Абигейл грустно улыбнулась двум американским друзьям, посетившим ее и сообщившим о таких разговорах, желая тем самым предупредить посланника. — Джон Адамс — пуританская Жанна д'Арк; его сжигали на костре бесчисленное число раз. Но, подобно Фениксу, он возрождался каждое утро из пепла. Джон и Абигейл были готовы к тому, что их пребывание в Англии окажется нелегким. Джонатан Сиуолл подтвердил наличие враждебных настроений в отношении первого американского посла. Наиболее ответственный момент наступил 1 июня: в этот день полномочному посланнику Джону Адамсу надлежало предстать перед королем Георгом III, который, как ходили слухи, давно считал, что Американскую революцию организовало «племя Адамсов». Встреча могла вылиться в самую болезненную конфронтацию в жизни Джона. Поначалу Джон был склонен молча вручить свои верительные грамоты и тут же откланяться, но лорд Кармартен предупредил его, что, обращаясь к королю, посланник Адамс должен произнести полную похвал речь. Несколько дней Джон мучительно составлял эту речь и зачитывал ее Абигейл. Теперь он стоял в гостиной в тщательно напудренном парике, красивом сюртуке, сшитом в Париже по совету герцога Дорсетского специально для предстоящей церемонии, в черных шелковых бриджах и шелковых чулках, в туфлях с серебряными пряжками; он непроизвольно касался эфеса шпаги и комкал в руках перчатки, читая высоким, эмоциональным голосом обращение, от которого во многом зависело его пребывание в Лондоне. — «Сир, Соединенные Штаты Америки назначили меня полномочным посланником при вашем величестве и поручили мне вручить вашему величеству настоящую грамоту, подтверждающую это назначение. Следуя их указам, имею честь заверить ваше величество в их единодушном стремлении и желании развивать самые дружественные и широкие связи между подданными вашего величества и их гражданами и в самых добрых пожеланиях доброго здоровья и счастья вашему величеству и вашей королевской семье. Назначение посланника Соединенных Штатов ко двору вашего величества — это эпохальное событие в истории Англии и Америки. Я считаю себя самым счастливым из всех моих соотечественников, удостоившись высокой чести оказаться первым, представшим перед вашим королевским величеством в дипломатическом качестве, и я сочту себя счастливейшим человеком, если смогу быть полезным в представлении моей страны доброжелательности вашего королевского величества и в восстановлении полного уважения, доверия и благосклонности; или, лучше сказать, старого доброго характера и старого доброго духа в отношениях между народами хотя и разделенными океаном и управляемыми различными правительствами, но имеющими один и тот же язык, схожую веру и родственную кровь. Прошу разрешения вашего величества добавить, что, хотя моя страна и ранее давала мне поручения, ни одно за мою жизнь не было столь приятным, как это». В час дня церемониймейстер приехал в отель «Бат» за Джоном. По мнению Абигейл, он выглядел самым шикарным придворным в королевском дворце. Джона повезли в карете лорда Кармартена ко двору Сент-Джеймс. Когда они вошли в прихожую, министр иностранных дел удалился для беседы с королем. Джон стоял там, где обычно стоят министры, впервые представляемые двору. Оглянувшись, он увидел, что комната полна государственных министров, епископов, придворных. Ему показалось, что все смотрят на него. Он знал, что многие из присутствующих не только ждут, но и желают, чтобы его визит к королю не прошел гладко. Возвратившийся лорд Кармартен попросил Джона проследовать с ним к его величеству. Джон прошел вместе с лордом через приемную залу в кабинет короля. За ними закрылась дверь. Полномочный посланник Джон Адамс стоял перед его величеством королем Георгом III в почти пустом помещении. Джон заранее отработал три поклона, какие надлежало сделать, приближаясь к особе короля: первый у двери, второй — на полпути и третий — перед самим королем. Джон знал такой обычай по другим европейским дворам. Услышав свой голос, он почувствовал меру охватившего его напряжения и возбуждения. Закончив речь, Джон впервые посмотрел прямо в лицо королю. Это был невысокий, коренастый мужчина, весьма схожий по облику с самим Джоном Адамсом, одетый в изысканный костюм с кружевным воротником и манжетами. На его красном лице выделялись седые брови, толстенные губы и пухлый подбородок. Король выслушал речь с чувством столь же глубоким, какое испытывал сам Джон. Слушая ответ короля, Джон почувствовал, что голос короля дрожал даже сильнее, чем его голос: — Сэр. Обстоятельства настоящей аудиенции настолько необычны, язык, к которому вы прибегли, настолько соответствует моменту, проявленные вами чувства так отвечают происходящему, что, должен сказать, я с удовольствием принимаю уверения в дружественном расположении Соединенных Штатов и весьма рад их выбору посланника, павшему на вас. Я бы хотел, сэр, верить, что в Америке поймут мое стремление в последнем противостоянии не делать ничего по своей инициативе, и если я делал что-либо, то только в силу своего долга перед моим народом. Буду с вами откровенным, я был бы последним, согласившимся на отделении; но коль скоро оно состоялось и стало неизбежным, то я говорил и говорю сейчас, что первым приму дружбу Соединенных Штатов как независимой державы. Видя ваши чувства и желание принести дань уважения моей стране, я говорю: пусть родство языка, религии и крови обеспечит естественный и полный эффект. Наступила короткая пауза, король улыбнулся и любезно спросил: — Вы прибыли из Франции, мистер Адамс? — Да, ваше величество, всего несколько дней назад. Король весело рассмеялся: — Некоторые считают, что из всех ваших соотечественников вы не особенный сторонник французских манер. Замечание смутило Джона. Его глаза сверкнули, и, слегка улыбаясь, он твердо ответил: — Такое мнение не ошибка, сир. Я должен признаться, ваше величество, что питаю любовь только к своей собственной стране. Обладавший мгновенной реакцией король Георг ответил: — Честный человек не может действовать иначе. Король повернулся к лорду Кармартену, давая понять, что аудиенция окончена. Соблюдая обычаи двора, Джон, не поворачиваясь, отступил назад и сделал последний поклон у двери. Ожидавший церемониймейстер провел Джона через приемную залу к парадной двери, где лакей вызвал карету. Джон вернулся в гостиницу «Бат». Абигейл, Нэб и полковник Смит, которым в скором времени также надлежало пройти церемонию представления при Дворе, желали узнать о ритуале каждую, даже самую ничтожную подробность, но их главным образом интересовало, как была принята речь Джона. Сказав, что не гарантирует абсолютную точность слов короля, Джон обстоятельно описал разговор. Абигейл была на седьмом небе. Ведь о холодном приеме стало бы сразу известно через министерство и иностранные посольства. — Я полагаю, что наше пребывание здесь будет менее трудным, чем мы ожидали, — сказал Джон. — Столь откровенное внимание со стороны короля заставит замолчать многих ворчунов. Но говорить об успехе моей миссии преждевременно. Последствия сердечной встречи с королем не замедлили сказаться. После полудня и вечером Джона стали осаждать визитеры из английского министерства, из парламента, несколько послов, прежде всего симпатизировавшие послы Швеции и Голландии. Через пять дней в их номер доставили экземпляр газеты «Паблик адвертайзер». Они прочитали в газете:«Посол из Америки! Боже мой, какое сочетание! Несомненно, газете не приходилось ранее сообщать о столь экстраординарном событии, да оно и не ожидалось. Ведь о подобном явлении в дипломатическом корпусе трудно было сказать, вызовет ли оно возмущение или будет воспринято как нахальство со стороны назначивших такое лицо или низость со стороны его принимающих. Ничего подобного не бывало при прежних правительствах, даже при правительстве лорда Норта».Джон и Абигейл посмотрели друг на друга в изумлении. Прекрасный прием у короля был не более, чем звуком фанфар, маршем почетной гвардии по арене Колизея перед смертельной схваткой гладиаторов.
6
Абигейл сосредоточилась на решении двух самых неотложных проблем: торопилась подыскать для посольства дом и усилить внимание к расстраивавшимся сердечным делам Нэб. За полгода Нэб не получила ни одного письма от Тайлера, и, чтобы успокоить дочь, Абигейл напомнила ей, что и она сама подолгу не получала писем от Джона. Нэб холодно ответила: — Это было во время войны. Капитаны судов часто уничтожали доверенную им личную переписку, опасаясь захвата. Теперь другие условия. Просто мистер Тайлер не побеспокоился написать мне. — Я просила Джонни по приезде в Брейнтри немедленно посетить его. Через несколько недель мы получим его сообщение. Нэб так крепко сжала пальцы, что суставы побелели; Абигейл узнала в этом собственный жест в минуты отчаяния. — Дело не в том, что он не удосужился написать: некоторым трудно выразить на бумаге свои чувства. Но до нас дошло, что мистер Тайлер ведет себя странно, мрачно настроен и не занимается, как положено, адвокатскими делами. Он знает, что должен привести эти дела в порядок перед свадьбой. Я сегодня же напишу мистеру Тайлеру и выложу все, что думаю. — Не теряй веры, — спокойно сказала Абигейл. — Наслаждайся Лондоном. Полковник Уильям Смит старался изо всех сил сделать их пребывание в Лондоне приятным. Симпатичный, хорошо воспитанный молодой человек, он согревал семейную атмосферу своей жизнерадостностью, ревностно служил семье Адамс, уделяя наибольшее внимание Нэб и не спуская с нее влюбленных глаз. Поначалу Нэб слегка краснела, а затем, улыбнувшись, сказала Абигейл: — Должна сказать, что полковник Смит весьма приятный джентльмен, и он способен предложить дружбу. Поиски дома оказались более сложным делом, чем казалось Абигейл. Она покидала рано утром гостиницу, проезжала по всем предложенным ей адресам, но ничего подходящего за сумму девятьсот долларов в год, не считая налогов в размере двухсот семидесяти долларов, не попадалось. И все же ей повезло. 9 июня она нашла приятный домик на северо-восточном углу площади Гровенор, чуть-чуть в стороне от центра города. Арендная плата была сравнительно невелика по той причине, что дом можно было снять на остающийся срок еще действовавшей аренды, который, по мнению Джона, вполне мог совпадать с вероятным сроком их пребывания в Англии. Поскольку за аренду просили семьсот двадцать долларов в год и владельцы согласились покрасить две комнаты на нижнем этаже, Джон не задумываясь подписал контракт. Площадь Гровенор — одна из наиболее красивых площадей в Лондоне. Застроенная добротными домами, она была огорожена решеткой и каждую ночь освещалась шестью десятками фонарей. Живая изгородь из подстриженных кустов создавала в центре площади чудесный изолированный парк, куда приходили лишь жители окрестных домов, обладавшие ключами. В центре зеленого парка высилась конная статуя короля Георга, вокруг нее вились гравийные дорожки с участками, засаженными невысокими деревьями и густым кустарником. Против дома, снятого Джоном, находилась резиденция лорда Норта, а ближним соседом был лорд Кармартен. Первый этаж арендованного дома был сложен из известняка, три этажа над ним из кирпича. Над первым этажом возвышался балкон, по обе стороны которого шли ряды больших окон. Пятый низкий этаж предназначался для прислуги. Джон принял меры, чтобы привезти из Гааги свою мебель. Министерство иностранных дел обеспечило провоз багажа через таможню. Поскольку среди мебели, по словам Джона, не было подходящих столов, Абигейл позаботилась о том, чтобы заказать столовую мебель на шестнадцать — восемнадцать персон, больше комната не вмещала. Ей пришлось заменить свою французскую кухонную утварь, не подходившую для английских каминных решеток. Улицы Лондона кишели людьми, по их одежде, походке и настроению Абигейл стало ясно, что цель их жизни — бизнес. Лондонские леди без париков, в хлопчатобумажных платьях ходили пешком, и Абигейл вышагивала вместе с ними по плоским каменным тротуарам. Теперь Джон был недоволен городом, его задымленностью, сыростью, запахами кухонь, подвалов, конюшен, которые раздражают пешеходов на узких тротуарах. Абигейл чувствовала, что Лондон создавал впечатление большего богатства и величия, чем Париж; бесспорно, лошади и кареты выглядели лучше. Выезжая за город, они видели тщательно обработанные поля, не было на них изможденных крестьян, вид которых так угнетал их во Франции. Они испытывали удовлетворение, посещая конгрегационалистскую церковь, хотя она считалась «диссидентской» и ее священники были ограничены в правах и не могли совершать церемонию бракосочетания. Джон и Абигейл узнали, что пастор конгрегации прихода Хэкни — доктор Ричард Прайс был давним другом Джона и с 1776 года отстаивал независимость Америки. Каждое воскресное утро они отправлялись в карете в Хэкни, слушали проповеди, так приятно звучавшие в ушах после десятимесячного пребывания в католической стране. Церковь доктора Прайса не была столь же суровой, как Ясли Господние в Уэймауте, но он произносил проповеди за пюпитром, похожим на подвесной пюпитр отца Абигейл. Наступил день, когда Абигейл и Нэб должны были сопровождать Джона ко двору и быть представленными королевской семье. Одежды англичанок, представляемых двору, были столь же изысканными, как и француженок. Абигейл просила портниху сшить элегантное, но вместе с тем простое платье. Длинное, из белого атласа, платье было отделано белым крепом, украшено фестонами из лент сиреневого цвета, а широкий кринолин кружевами. Абигейл осталась довольна тем, что называла «прикладом»: гофрированными манжетами, оборками из кружев в три слоя, капором с кружевными нашивками и двумя белыми перьями, обвязанным кружевами носовым платком, двумя жемчужными булавками в волосах и жемчужными серьгами, купленными у лондонского ювелира по этому торжественному случаю. Платье Нэб было также белым, трен был сшит из белого крепа и украшен белыми лентами. Вскоре после часа дня они выехали из гостиницы «Бат». Абигейл и Нэб ехали в одной карете, Джон и Смит вслед за ними в другой. В два часа они вошли в круглую гостиную королевы Шарлотты, миновав несколько помещений, где было полно зевак. При входе в гостиную их встретили лорд Кармартен и церемониймейстер. До прихода графини Эффингем Абигейл не увидела ни одной знакомой женщины. Там были три молодые леди, дочери маркиза Лотиана, которых должны были представить, и две невесты. Около двухсот человек расставили в круг; семья Адамс и полковник Смит стояли близко к двери, через которую должен был войти король. Король Георг пошел по кругу направо, королева и принцессы — налево. Король сказал несколько приятных слов Джону, потом повернулся к Абигейл. Он говорил почти шепотом. Его слова могли услышать лишь стоящие рядом. Абигейл сняла правую перчатку. Георг III прикоснулся к ее левой щеке. — Миссис Адамс, вы сегодня прогуливались пешком? Абигейл могла бы ответить, что все утро готовилась к встрече с королевской семьей. Но вместо этого она сказала: — Нет, сир. — Почему? Вы не любите ходить пешком? — спросил король. — В этом отношении я довольно ленивая, ваше величество. Король Георг III откланялся, а затем ему представили Нэб. Прошло целых два часа, прежде чем к Адамсам подошли королева Шарлотта, дочь короля и принцесса Августа с фрейлинами. Фрейлина королевы представила Абигейл королеве, которая, казалось, внутренне сжалась. Абигейл чувствовала, что Шарлотта смущена; да и она сама не могла отрицать неприятное ощущение. И все же она должна была признать, что король выглядел человечным. Королева спросила: — Миссис Адамс, вы въехали в ваш дом? — Нет еще, ваше величество, но мы ожидаем получить со дня на день нашу мебель из Гааги. — Извините, как вы находите новый дом? — Все прекрасно, ваше величество. Особенно приятен простор площади Гровенор и парка. Королева быстро откланялась и направилась к следующим визитерам. Тем временем Абигейл была представлена дочери короля, произнесшей с сочувственным взглядом: — Вы не очень устали, миссис Адамс? — Немного. Благодарю за внимание, принцесса. — Сегодня гостиная действительно полна. Прием окончился через полтора часа, королевская семья удалилась, и семья Адамс также отбыла из дворца. Абигейл чувствовала себя измочаленной. Ныли ноги, но Джон был доволен своей женой. — Его величество соблаговолил приветствовать тебя, моя дорогая миссис Адамс. Все в гостиной наблюдали, как поведет себя король по отношению к тебе. К вечеру об этом будет знать весь Лондон. — У меня получилось не столь хорошо с королевой. — Она говорила с тобой так же сердечно, как с другими, а это важно. Из сегодняшнего приема можно сделать довольно уверенный вывод, что королевская чета и министры хотели бы относиться к Америке, как к другим иностранным государствам. Это то, что нам как раз нужно, и ты внесла в это свой вклад. Абигейл вздохнула: — О, дорогой, это означает, что я должна присутствовать на церемониях дважды в месяц летом и каждую неделю во время зимнего сезона? — Да, так. Большая часть жизни дипломата тратится на соблюдение протокола. Без протокола мы никогда бы не добились соглашения с Англией. — Подаю в отставку. Знаешь ли ты, что ни мне, ни Нэб не разрешено надевать то же самое платье дважды в год? Не стану говорить, сколько стоили нам эти платья. — Я смирился с мыслью, что мы вернемся домойбанкротами. Но если я смогу приехать с надежным торговым договором в руках, то не стану возражать. Мебель прибыла в полной сохранности. Абигейл быстро расставила ее по местам, чтобы покинуть дорогой отель. Ее порадовал хороший вкус Джона. Ей особенно понравилась кровать с покрывалом цвета зеленых яблок, три стула, обтянутых зеленым бархатом, письменный стол с зеркалом и секретер, который она поставила в комнату Нэб. В качестве подарка от отца она поместила в этой комнате книги английских поэтов, изданные компанией Белл, и переплетенное в кожу Полное собрание сочинений Шекспира. Абигейл поразила расточительность Джона, который купил комплект обтянутых красным бархатом стульев для столовой, а также зеленый диван и глубокие кресла для гостиной. Обставив дом, Абигейл занялась поисками прислуги. Ей казалось невероятным, что в Лондоне потребуется больше слуг, чем в Отейле, и к тому же платить им придется намного больше. Она нашла дворецкого, в его обязанности входило следить за наличием вин, заниматься закупками, наблюдать во время приемов за состоянием стола и буфетов, полировать столовое серебро, а также командовать другими восемью-девятью слугами. Его называли «мистер» не только слуги, но и члены семьи Адамс. Следующей по рангу шла горничная: она причесывала женщин, следила за постельным бельем, а в остальное время занималась шитьем; далее шел повар и за ним уборщица. Дворецкий предположил, что Абигейл потребуется еще трое слуг — экономка, прачка и швейцар. У семьи Адамс должен был быть также ливрейный лакей, и пришлось заказать ливрею для Брислера, поскольку нельзя было выезжать в карете без двух лакеев. Джон привел кареты в первоклассное состояние, дополнительно расходуя на лошадей и кучера пятьсот долларов в год. Однажды, когда Джон находился у друга на чае, кучер напился до положения риз, упал с козел, разбив два фонаря и расщепив переднюю поперечину кареты. Работавший в паре с Брислером ливрейный лакей-немец не понимал английского языка, но был честным и спокойным парнем и поэтому Абигейл решила оставить его. Ей не хватало Джонни. Он мог бы взять на себя многие мелкие дела и особенно учет расходов. К тому же он освоился с психологией торговцев, а она обнаружила, что в Лондоне в не меньшей степени, чем во Франции, мясник недовешивал мясо. Джон и Абигейл изо дня в день ждали от Джонни весточку о том, что его судно прибыло в Америку и он добрался до Брейнтри. Но проходили недели, а сведений о нем не было. Неопределенность финансового положения она скоро почувствовала. Конгресс не восстановил первоначальный более высокий оклад Джона. Чтобы найти средства на свои вечерние платья, она попыталась экономить на питании. Поскольку ей не удалось убедить дворецкого быть бережливым при закупках, она стала покупать продукты сама, отправляясь, как в Бостоне, каждое утро на рынок за свежими фруктами, овощами и рыбой. Расходы резко сократились, но поползли слухи, а в газетах появились заметки о том, как миссис Адамс ездит в своем экипаже на рынок. Джон мягко заметил: — Боюсь, дорогая, что мы не можем позволить себе такую бережливость. — Понимаю, — грустно ответила Абигейл, — но газеты также намекают, что американский посланник до сих пор не дал обеда другим посланникам. — Это не личные нападки, а нападки на представителей Америки. Газеты получают четырнадцать — девятнадцать долларов за полдюжины строчек оскорбительных очерков. Платят те, кто хотел бы поставить Америку на колени. Теперь нам понятно, почему король Георг относился по-глупому к американским колониям, толкал их к войне и независимости в то время, как они хотели оставаться лояльными и любящими англичанами. Он, видимо, был окружен плотной стеной придворных, министров и советников, сквозь которую не могла пробиться правда об Америке. Однако они правы в одном: мы должны дать обед посланникам, сколько бы это ни стоило. Джон и Абигейл подружились с группой американских художников: пользовавшимися успехом в Англии Бенджамином Уэстом, Джоном Синглтоном Копли и Джоном Трамбаллом.[48] Им нравилось после рабочего дня привозить своих жен в дом на площади Гровенор, посидеть за рюмкой вина и с раскуренной трубкой, поговорить об искусстве. Художник Матер Браун попросил у всех трех членов семьи Адамс разрешения написать их портреты. Адамсы частенько наведывались в Шутер-Хилл к Джошуа Джонсону, брату бывшего губернатора Мэриленда. Он поселился в Англии еще до революции как представитель аннаполисской фирмы, женился на англичанке и произвел на свет стайку миловидных дочерей. Джонни проводил довольно много времени в Шутер-Хилле в то время, когда ожидал приезда матери и сестры на «Эктиве». Абигейл понимала, что у любви особое расписание, в ней не придерживаются правил протокола и логики, ее границы расплывчаты и не могут быть измерены материалистическими инструментами и определены законами алгебры. Тем не менее она проглядела два события, определившие остальную часть жизни Нэб. В начале августа исполнилось четырнадцать месяцев, как она разлучилась с Ройялом Тайлером, и за это время получила от него еще во Франции лишь одну пачку из четырех писем. Хотя в Массачусетсе давно знали о назначении Джона в Англию, от Тайлера не пришло ни поздравления, ни какого-либо сообщения о желании встретиться. Нэб искала утешения у родителей. Они пробудут в Англии еще два года, какой смысл в таком случае тянуть дело? Ведь неопределенное положение неприятно для всех. Джона расстраивала эмоциональная нестабильность Тайлера; он был явно не тем молодым человеком, какому можно доверить судьбу дочери. Нэб написала Тайлеру:«Сэр, с настоящим вы получите ваши письма и миниатюру вместе с моим желанием, чтобы вы вернули мою моему дядюшке Кранчу, надеюсь, что вы довольны нынешним положением дел. А. А.».В отказе Ройялу Тайлеру не говорилось ни слова о полковнике Уильяме Смите, влюбившемся в Нэб с первого взгляда. Абигейл он показался скромным, достойным, внимательным, правда, с отдельными перепадами настроения; с самого начала она предвидела, что семья будет удовлетворена, породнившись с ним. Он жил по соседству и питался у Адамсов, частенько бывая в их семейной столовой, чтобы написать памятки и письма для Джона на столе, освобожденном от кувшина с шоколадом и подносов с булочками, маслом и джемом. Уильям Смит не отличался глубокомыслием и нельзя сказать, чтобы много читал; английская пресса даже называла его неграмотным. Однако он старательно снимал копии с писем и отчетов Джона Конгрессу, держался независимо, был жизнелюбив, у него был узкий выступающий нос и чувственные губы. Он не увлекался поэзией и чтением театральных пьес, но с женщинами был потрясающе сентиментален и импульсивен. Прожив неделю в доме на площади Гровенор, Абигейл и Нэб стали совершать послеобеденные прогулки в карете. Как-то раз полковник Смит привез к их дому в своем экипаже генерала Стюарта, прибывшего из Америки. Абигейл сказала через открытое окно кареты: — Мы хотели попросить вас, полковник, сопроводить нас, но убедились, что вы заняты. Полковник Смит заразительно улыбнулся и крикнул: — Кучер, открой дверь! Втиснув свое мускулистое тело на сиденье между женщинами, он крикнул своему другу: — Генерал Стюарт, посол Адамс дома. Будьте добры, извините меня! Пролетали недели, и три члена семьи Адамс обнаружили, что мысли полковника Смита совпадают с их собственными соображениями. Он был домоседом и, подобно им, не любил дворцовые приемы. Обожествляя генерала Вашингтона, он упорно отказывался носить значок Ордена Цинциннати, основанного Вашингтоном и его офицерами в 1783 году. Джон считал Орден недемократическим и опасным, поскольку тот объединял замкнутую военную аристократию — в него могли входить лишь дети основателей Ордена. Джон опасался, что однажды Орден может взять верх над Конгрессом и превратить себя в новый американский королевский двор. Абигейл задавалась вопросом: порвала бы помолвку с Ройялом Тайлером Нэб, если бы под рукой не было приятного, внимательного молодого секретаря миссии, демонстрировавшего каждым взглядом и жестом, что обожает ее? Видимо, нет. Или же, по меньшей мере, она выждала бы, выразила желание вернуться в Брейнтри или же попросила разрешения пригласить Тайлера в Англию. Но рядом был полковник Уильям Смит; как заметила Абигейл, он старался быть на виду, редко пропускал обед или ужин в посольстве. Однако выиграет ли Нэб, отказавшись от отсутствующего Ройяла Тайлера в пользу неизменно присутствующего Уильяма Смитта? Это не понравится жителям Массачусетса, и они примутся судачить. Абигейл решила, что лучше держать молодого полковника в сторонке до тех пор, пока Нэб и Ройял Тайлер окончательно разорвут помолвку. Помогла судьба. В начале августа полковник Смит заговорил о предстоящих военных маневрах в Пруссии. Не разумно ли направить туда компетентного наблюдателя и потом доложить Конгрессу? Джон согласился; он дал разрешение полковнику отправиться в месячное путешествие. Искрометный молодой человек отбыл. Ни он, ни Нзб, как заметила Абигейл, не грустили при расставании… Из чего Абигейл сделала вывод, что между ними существует договоренность. Через несколько недель она получила от него письмо из Берлина; он просил походатайствовать за него перед мистером Адамсом. Она не показала письмо Нэб, но ответила, призывая к терпению. За десять дней до даты Абигейл разослала приглашения на дипломатический обед. Лорд Кармартен тут же принял приглашение, немедленно положительно ответили члены дипломатического корпуса, около пятнадцати иностранных посланников. Меню обеда включало три блюда. К счастью, знакомый капитан Хей, возвратившийся из Вест-Индии за несколько дней до обеда, привез в подарок семье Адамс черепаху весом сто четырнадцать фунтов. Абигейл включила черепашье блюдо в меню. Поскольку леди не участвовали в обеде, Абигейл с Нэб поужинали у своей знакомой миссис Роджер. Вернувшись домой в девять часов, Абигейл обнаружила, что еще не все джентльмены уехали. Они уверяли ее, что мясо черепахи было отменным, обеспечив успех обеду. Ей доставило немалое удовольствие то, что английские газеты напечатали подробный отчет об обеде. Они высоко отзывались о шикарном обеде, данном полномочным посланником и миссис Адамс, о изящно обставленном столе, хорошем обслуживании гостей…
7
Часть второго этажа дома была превращена в служебные помещения. Джон занял большую светлую угловую комнату, окна которой выходили в парк. К кабинету Джона примыкала комната поменьше для секретаря, эту должность на добровольной основе исполнял молодой Чарлз Сторер. Имелась также комната для Абигейл, в которой стояли письменный стол, стулья и диван; здесь Абигейл хранила бухгалтерские книги и свою переписку. Поскольку в доме не было комнаты, надлежащим образом обставленной для чтения по вечерам, она превратила спальню в гостиную, поставив здесь два удобных кресла в чехлах из ситца и переносную лампу на китовом жире, подобную той, что стояла на их ночном столике в Брейнтри. Джон упорно трудился над решением двух задач: заставить Англию соблюдать мирный договор и провести переговоры о торговом соглашении, обеспечивающие США режим наибольшего благоприятствования. В официальных кругах его принимали вежливо, он был даже приглашен в Виндзорский замок для беседы с Георгом III, принц Уэльский явился на ужин в посольство. Но дальше этого дело не сдвинулось. Англия делала вид, что у нее столько же претензий к Соединенным Штатам, как у Джона к Великобритании. Его беседы с лордом Кармартеном и интервью с премьер-министром Уильямом Питтом[49] окончились ничем. Когда Джон потребовал, чтобы согласно договоренности британцы эвакуировали форты на северо-западе, и показал, как неприятно американцам видеть тысячи британских солдат, расквартированных в Детройте, Освего и Буффало, подстрекающих индейцев к набегам, лорд Кармартен ответил, что Англия выполнит условия договора лишь в том случае, если штаты отменят законы, советующие американским купцам не выплачивать английским миллионные долги. Для Британии в равной степени неприятны заявления законодательных собраний штатов о незаконности процентов по этим долгам. Посланник Адамс написал хорошо обоснованную с точки зрения права просьбу к британскому правительству возвратить рабов, увезенных из Америки, лорд Кармартен тянул три месяца с ответом. При этом он заявил, что рабы будут возвращены после того, как Соединенные Штаты разрешат тори вернуться и возместят им конфискованную собственность. Положение Джона и Абигейл в обществе было шатким и зависело от событий в Соединенных Штатах. Когда англичане были довольны, дом на площади Гровенор наполнялся радушно настроенными джентльменами и леди, при плохой политической погоде он пустовал. Абигейл постепенно поняла, что главная функция американского посланника в Англии быть объектом оскорблений. Большинство англичан, особенно высокопоставленных, никогда не простят американцам завоеванной ими свободы. Осевшие в Англии американские тори были рады излить свою желчь на посланника. Семья Джона Адамса с ее пуританизмом и не склонная к показухе оказалась уязвимой для таких выпадов. Пресса не без удовольствия именовала их «крохоборами». Тем не менее положение Джона Адамса при дворе Сент-Джеймс было особым. Ведь среди дипломатов он был единственным, кто принимал участие в создании нового правительства. Некоторые политические деятели в Англии читали и восхищались написанными им статьями конфедерации и конституцией Массачусетса. Его книги «Мысли об управлении» и «Диссертация о каноническом и феодальном праве» были опубликованы в Англии и переведены на несколько европейских языков. Если по справедливому замечанию Джонатана Сиуолла, он не обладал даром танцевать, охотиться, льстить, то не менее справедливо было и то, что он получил признание в качестве историка в области политической философии и управления. Одной из самых трудных задач для Абигейл быть сдержанной в беседах с английскими леди, которых она развлекала в то время, как их мужья вели деловые разговоры с посланником Адамсом. — Несомненно, вы предпочитаете Америке Англию?.. Разумеется, наша культура находится на более высоком уровне, чем в Америке?.. Вы, очевидно, обнаружили большое различие между Америкой и нашей страной в манерах, обычаях, поведении… Как-то раз, потеряв терпение, Нэб воскликнула: — Чего-чего, а у американцев больше вежливости и дружелюбия, чем у жителей этой страны! После ухода англичанок Нэб попросила прощения у матери за вспышку. Абигейл сказала ей задумчиво: — Мне очень хотелось бы понять стремление англичан утвердить свое превосходство. В молодости я читала, что англичане страдали целые столетия чувством неполноценности. Как они могут совмещать одновременно эти два недуга? Выдержкой, с какой члены семьи Адамс переносили оскорбления в печати и слухи, они действовали в интересах своей страны больше любой другой американской семьи. Им удалось обзавестись несколькими надежными друзьями среди англичан. Тем не менее, гуляя вместе по Гайд-парку, обсуждая события дня, анализируя скромные успехи и постоянные неудачи, они были вынуждены признавать, что ни на йоту не приблизились к заключению торгового соглашения по сравнению с тем временем, когда год назад прибыли в Англию и разместились в гостинице «Бат». — Но почему, Джон? — растерянно спрашивала Абигейл. — Мы больше не воюем. Почему мы не можем успешно вести вместе дела? Ведь так было целое столетие перед войной. — Их непосредственная цель — не столько увеличение собственного богатства, числа кораблей и матросов, — объяснял Джон, — сколько уменьшение нашего. Я полагаю, что ими движут страх перед нашей возможной мощью и опасения, что Соединенные Штаты станут их самым опасным соперником. Именно поэтому они вновь ввели в силу Навигационный акт шестьсот девяносто шестого года. Производившиеся нами и приносившие значительную прибыль товары доставлялись некогда в Вест-Индию на наших судах: мачты, бушприты, шпангоуты, смола, деготь, скипидар. Теперь же, согласно Навигационному акту, они могут доставляться только на судах, принадлежащих подданным его величества. Запрещено импортировать в Англию произведенные у нас вяленое мясо, рыбу и молочные продукты. Они позволяют поставлять некоторые товары в Великобританию, но на тех же условиях, что из британской колонии. Их меньше страшит увеличение числа французских судов и моряков, чем американских, в предвидении, что, если Соединенные Штаты получат тот же рынок для построения судов, какой они имели десять лет назад, мы окажемся в столь уважаемом положении, что британские моряки, промышленники и купцы перебегут к нам. Лондон не хочет, чтобы Соединенные Штаты стали крупной мировой державой. Абигейл нахмурила брови и спросила: — Не пытаются ли британцы переиграть проигранную войну? Могут ли они добиться чего-либо положительного? — Намеченная политика дает им многое. Кораблестроители Новой Англии парализованы. У них нет спроса на суда. Мы должны найти новые рынки для наших товаров. В конце концов мы их найдем. Тем временем большая часть денег Америки расходуется на покупку промышленных товаров и предметов роскоши, полностью производимых в Англии и перевозимых в Америку на британских судах. Никакая другая страна не может конкурировать с Англией по красоте и качеству товаров. Но если мы перестанем покупать английские товары, пока англичане не покупают наши, мы вновь станем чисто сельскохозяйственной страной, еще более зависимой от Англии, чем в прошлом, когда были колонией! Джон немного помолчал, его лицо было мрачным. — Скажу тебе, Абигейл, мы никогда не добьемся торгового соглашения, пока Англия не почувствует, что оно нужно ей. Ее смех был вынужденным: — В таком случае мы останемся в Англии до конца нашей жизни.К началу декабря в семье Адамс появилась тревога за полковника Уильяма Смита. Было известно, что он уже несколько месяцев находится в Берлине, но, по слухам, прусский король не разрешил ему присутствовать на маневрах. В течение этого времени Уильям Смит не писал, даже не приступил к исполнению своих обязанностей в посольстве. Разрешение посланника Адамса о поездке могло быть продлено не более чем на месяц, а полковник Смит отсутствовал уже пятый месяц. Поскольку Чарлз Сторер возвратился в Америку, у Джона Адамса не было никого, кто выполнял бы повседневную и весьма объемистую работу, связанную с отчетами и переписками. Смит получал полный оклад, и не было разумных оснований для его отсутствия. Внешне Джон Адамс не возмущался, несмотря на то, что ему приходилось самому писать и снимать копии документов. Нэб скучала по полковнику и была обижена тем, что не получила от него ни весточки за эти месяца. Она задумывалась над тем, не является ли полковник кровным братцем Ройяла Тайлера. Больше всех огорчалась Абигейл. Она дала молчаливое согласие на брак. Каково же положение сейчас? Вечером 5 декабря, когда, вернувшись из театра, где смотрела пьесу «Конфедерация», вся семья Адамс сидела в маленькой гостиной, в проеме двери показалась голова Уильяма Смита, который обратился к Джону: — Добрый вечер, сэр! Вот полковник Хэмфри из Парижа. Я привез вашего друга как символ мира. Его безмерная радость не позволила им задать накопившиеся вопросы. Несмотря на неоправданное отсутствие, Адамсы были рады видеть его. Узнав от Нэб, что она разорвала свои отношения с Ройялом Тайлером, Уильям Смит написал Абигейл официальное письмо, прося руки ее дочери и объясняя, почему ему легче обратиться к ней, чем к посланнику Адамсу. Он приложил к письму документы и письма, свидетельствовавшие о его почетной службе во славу американской армии и о достоинствах его семьи, и откровенно признал, что «лучше выйти замуж за джентльмена, занимающегося бизнесом, чем за лицо без профессии», но просил простить его за то, что вместо приобретения профессии он завербовался в армию и прослужил в ней всю войну. У Абигейл отлегло от души, когда она получила это письмо, ибо Ройял Тайлер узнал о существовании Смита и объяснял полученный им от Нэб отказ присутствием молодого полковника. Абигейл не могла отрицать, что в его обвинении есть доля истины, но была убеждена, что Тайлер сам виноват в своем несчастье. Он вел себя непорядочно, храня длительное молчание, и явно лгал, утверждая, будто затерялись его письма, посланные через Гаагу. Семью Кранч удивило странное поведение Ройяла Тайлера, когда он, просидев несколько дней в запертой комнате, спустился к обеду, держа в руке пачку писем Нэб и делая вид, будто взволнованно их читает. Джонни сообщал из Бостона, что, хотя ценил общение с Тайлером и его проницательный ум, после отъезда Нэб он повел себя безрассудно и растерял многих своих бывших друзей. После этого Абигейл решила, что ей по душе брак Нэб и полковника Уильяма Смита. Джон одобрил помолвку. Ему нравился полковник. Нэб исполнилось двадцать лет — самое время выходить замуж.
На приеме в полдень и на вечернем балу по случаю дня рождения королевы семейство Адамс пользовалось особым вниманием. Но дела Джона в английском министерстве оставались на точке замерзания. Он провел успешные переговоры с посланником Португалии и заключил договор с Пруссией, который был представлен на одобрение Континентального конгресса и короля. Добился Джон прогресса и в решении проблемы пиратства в Средиземном море. Посол Триполи дал понять, что огорчен невниманием посланника Адамса, до сих пор не нанесшего ему визит. Джон тотчас же отправился в посольство, чтобы оставить свою визитную карточку, но его ввели в комнату и усадили в кресло перед горящим камином, предложив трубку длиной около двух метров, чубук которой опирался на ковер. Следуя примеру посла Триполи, Джон делал затяжку вслед за ним, запивал в той же последовательности крепким кофе, между тем, рассуждая о мирном договоре. Через несколько дней посол Триполи посетил американскую миссию. Абигейл увидела посла через верхнее окно. У него была длинная борода, и по турецкой манере он был закутан в ткань оранжевого цвета, затянутую в талии, в сандалиях и тюрбане, на который ушло не менее двадцати метров тонкой ткани. Посла сопровождала пара слуг. — По сути дела, он не говорил о мирном договоре, — сказал Джон доверительно Абигейл после ухода посла. — Он довел до моего сведения, что Америка может иметь дружественные отношения с берберами, они перестанут захватывать наши суда и моряков при условии, если мы согласимся выплачивать около миллиона долларов в год. — Миллион долларов в год! Это же явный шантаж. — Верно. Но нам выгодно, поскольку мы теряем много больше товаров, судов, моряков. Я напишу мистеру Джефферсону и попрошу его приехать в Лондон. Думаю, что вдвоем мы сможем заключить договор с Португалией и провести переговоры со средиземноморскими пиратами. Из Парижа приехал Томас Джефферсон, и семья Адамс была рада новой встрече с ним. Джефферсон полюбил Францию, ее литературу, политику, философию и энциклопедистов, но испытывал большое недовольство Англией. Он и семья Адамс провели приятное время в беседах. Все они, включая полковника Смита, скучали по родине и в разговорах часто вспоминали о Новой Англии, Нью-Йорке и Виргинии. Джефферсон, подсчитавший, что постройка и содержание флота для защиты американских моряков в Средиземном море обойдутся дешевле, чем выплата ежегодной дани, высказался отрицательно по поводу договора с берберскими странами. Однако он согласился с мнением Конгресса и вместе с Джоном встретился с послом Триполи, пытаясь свести к минимуму размер дани. Работа эта была неприятной и раздражала. В целях отдыха двое мужчин решили совершить недельную поездку по Англии. Абигейл осталась дома, занявшись приданым Нэб, для чего ввела режим жесткой экономии, а также шитьем новых воротничков, манжет и рубашек для трех сыновей в Массачусетсе, чтобы помочь Элизабет Шоу и Мэри Кранч в обеспечении мальчиков одеждой. Из Америки приходили плохие вести: тетушка Абигейл — Люси Тафтс после долгой болезни скончалась. Коттон остался один в своем доме в Уэймауте. Брат Абигейл — Билли, о котором несколько раз сообщали, будто он умер, влип в пренеприятное дело. Его арестовали за подделку банкнот и передали уголовному суду. Абигейл скрипела зубами, негодуя по поводу позора, обрушившегося на семью. О процессе писали много. В конце концов присяжные заседатели оправдали Билли: он сам не печатал фальшивые банкноты. Став безнадежным алкоголиком, он лишился средств к существованию и перестал бывать дома, не встречался со своими сестрами, лишь изредка писал соседям, спрашивая о детях, но никогда о своей жене. После вынесения оправдательного приговора он написал единственное письмо Катерине Луизе, интересуясь, имеют ли дети все необходимое для жизни и какое образование она намерена им дать. Он уверял, что когда сможет выгрузить судно с британскими товарами, то окажет посильную помощь семье. Судно Билли не объявилось. На следующий год один знакомый сообщил Мэри Кранч, что Билли умер от желтухи. Абигейл даже не знала, где он похоронен, и порой задумывалась, не была ли права Катарина Луиза, считавшая, что было бы лучше, если бы Билли погиб во время первого штурма моста Конкорд. Абигейл была решительно против того, чтобы брачную церемонию ее дочери проводил священник англиканской церкви в епископальной церкви. Не потерпит она и того, чтобы церемония проводилась враждебно настроенным к Америке священником. Брак, освященный добрым доктором Прайсом, будет считаться незаконным. Для проведения свадебной церемонии дома требовалось специальное разрешение архиепископа Кентерберийского, которое выдавалось лишь членам парламента и аристократии. Полковник Уильям Смит спешно отправился к архиепископу. Просьба озадачила архиепископа, поскольку полковник Смит утаил, что семья Адамс исповедует диссидентскую веру. Однако он решил, что положение иностранного посланника дает Джону Адамсу право на ранг епископа и, следовательно, на особую милость. После этого Абигейл попросила встречи с епископом прихода Сент-Азаф, пользовавшимся уважением патриотов за его речь в парламенте в 1774 году, в которой он назвал Северную Америку «единственной великой колыбелью свободных людей, сохранившейся на земле». Епископ любезно пригласил семью Адамс на обед вместе с доктором Прайсом и, к счастью, дал согласие совершить бракосочетание. Поскольку ему предстояла поездка по стране, свадьба была назначена на 12 июня 1786 года, за месяц до того, как Нэб исполнится двадцать один год. Церемония состоялась в гостиной посольства: здесь у окон, выходивших на улицу, был водружен небольшой алтарь. Абигейл сожалела, что не могут присутствовать ее сыновья. Она пригласила на чай семью Копли, не сказав им, что они станут свидетелями на свадьбе. Вслушиваясь в слова, звучавшие на церемонии, и смотря на Нэб, стоявшую рядом с Уильямом Смитом, она поймала себя на мысли: не верит, что у нее взрослая, готовая вступить в брак дочь, и как абсурден свадебный ритуал. Когда Нэб повторяла за епископом: «Я, Абигейл, беру тебя, Уильяма», Абигейл сочла эти слова вводящими в замешательство больше, чем реверанс, которым невесты-конгрегационалистки выражают свое согласие. Добрый симпатичный епископ снял ее напряжение, воскликнув: — Никогда ранее я не совершал обряд с таким удовольствием, ибо никогда не видел более отчетливого предзнаменования счастья! Молодая пара сняла небольшой домик на Уимпол-стрит, недалеко от площади Гровенор. Они каждый день приходили на обед в посольство. Джон собирался немедля поговорить с полковником о срочных, по его мнению, делах. Абигейл сочла, что было бы лучше предоставить им двухнедельный медовый месяц. В третье воскресенье после семейного обеда Джон отодвинул от стола свой стул, пригубил рюмку кларета и обратился к зятю: — Полковник, миссис Адамс и я думали о вашем будущем. Приданое, какое мы можем обеспечить, скромное по ряду причин. Я хотел бы предложить нечто более ценное, чем какую-то сумму денег. Уильям Смит повернул к тестю свое смуглое красивое лицо. — Что, господин посол? — Я могу существенно высвободить твое время, взяв на себя некоторые твои обязанности и таким образом предоставить возможность изучить право здесь, где родилось наше обычное право. Наступила тишина. — Ты мог бы поступить в Темпл[50] и посещать курсы в Вестминстере, это позволит обрести бесценный опыт. К концу нашего пребывания ты будешь подготовлен для практики в Нью-Йорке или Бостоне. Полковник продолжал молчать. Нэб сменила тему разговора. Джон удрученно вздохнул, чувствуя себя побежденным. Абигейл подумала о своих отсутствующих сыновьях. Двое младших писали не часто; сестра Элизабет и преподобный Шоу честно соблюдали обещания и докладывали о состоянии и успехах мальчиков. Их дела шли хорошо. Джонни был принят в Гарвард на третий курс, Чарли поступил на первый курс прошлой осенью. Через несколько месяцев Томми присоединился к братьям в Кембридже. Каждую зиму Джон обещал, что весной они вернутся домой; но обещание повторялось столько раз, что Абигейл не воспринимала это всерьез. Вместо поездки домой Джон поехал с Абигейл на месяц в Голландию, имея при себе копию договора с Пруссией, ратифицированного Континентальным конгрессом. По желанию прусского короля обмен ратификационными грамотами намечался в Гааге. Джон хорошо знал Голландию, где прожил два года, и у него было там много друзей. Они не спеша проехали через Роттердам, Делфт, Гаарлем, Лейден, который особенно понравился Абигейл своими широкими улицами и чистенькими кирпичными домами, Амстердам, Утрехт и другие очаровательные поселки, чьи названия она не могла запомнить. Из Гааги они совершили экскурсию в Шевенинген, проплыли до Саардама, где проходила ежегодная ярмарка, ради которой голландцы нарядились в свои красочные национальные костюмы. Путешествие по Голландии казалось сплошным удовольствием. Песчаные дороги были настолько хороши, что не слышался даже стук колес. Сельские жители выглядели сытыми, опрятно одетыми, довольными жизнью. Многие голландцы положительно воспринимали идеи свободы, рожденные в Америке. Джон и Абигейл узнали, что самые талантливые умы Голландии были привлечены к разработке новых конституций семи штатов Соединенных Провинций, используя в качестве образца конституции Америки. Джон и Абигейл находились в Утрехте в тот день, когда новая магистратура, выбранная свободным волеизъявлением народа, приносила присягу. В присутствии жителей всего города и наблюдателей от других городов церемония проходила с удивительным достоинством. Это была, как прошептал Джон жене, образцовая революция.
8
Поступившие из Америки за время их месячного отсутствия письма и газеты в унисон твердили о тревожном положении: в 1786 году Соединенные Штаты Америки оказались на грани распада. Джон и Абигейл сидели в согретой теплым сентябрьским воздухом гостиной, открытые окна которой выходили на площадь Гровенор. На полу были рассыпаны письма, в комнате царила атмосфера какой-то недосказанности. Наиболее суровой была участь Массачусетса. Штат обанкротился, исчезла звонкая монета, и торговля практически прекратилась. Яблоневые сады гнили на корню, в поле стояла несжатая пшеница. И не было смысла снимать урожай из-за отсутствия покупателей. Шла небольшая бартерная торговля, люди, казалось, замерли в оцепенении. Кредиторы брали под свой контроль фермы. В тех районах штата, где положение было наиболее тяжелым, мужчины снимали со стен свои кремневые ружья, выстраивались в военный порядок и маршировали по городам под командой офицеров — участников Революционной войны, стремясь воспрепятствовать созыву судов. Для Джона восстание имело даже более серьезное значение. Кончив читать четвертое письмо, полученное от политических друзей из Массачусетса, он встал и принялся ходить по комнате, крепко сжав руки за спиной. Его голос был глухим и хриплым: — Плохие времена приходят и уходят; каждый должен получить свою долю. Но пострадавшие люди винят во всем правительство. Конституцию Массачусетса, точнее говоря. Они хотят избавиться от нее. — Хотят избавиться! Что же будет их объединять? — Они не хотят единения. Они хотят объявить вне закона избранный в штате сенат, свести роль губернатора к церемониальной, передать весь контроль в руки палаты представителей. Это нарушит баланс властей, без которого не выживет республиканское государство. У нее сжалось сердце. — Ни одна конституция не устоит, если многие фракции государства воюют между собой, — заключил Джон. — Прочитай, что пишут Джеймс Уоррен, Тристам Дальтон и Сэмюел Осгуд. Джон наклонился, собрал рассыпанные на полу листки и протянул их Абигейл. Она пробежала их. Описание событий в Массачусетсе встревожило ее, тем более что она их предчувствовала, внимая предсказаниям Сэмюела Адамса. Продолжались гонения на оставшихся тори. В Бостоне остатки твердой валюты тратились на то, что остальные жители штата презрительно называли «британскими безделушками». За роскошью гонялись новые богачи, не имевшие никакого отношения к революции. Ненависть к этим парвеню была столь сильной, что приходилось опасаться кровопролития. «Город на холме» превратился в погрязшее в низкой похоти скопление хибар. Джеймс Уоррен писал, что интерес к самоуправлению пропал, лишь немногие посещали городские собрания или проявляли готовность голосовать. Абигейл уставилась на своего мужа, опустившегося в глубокое кресло. Его голова и руки тряслись, подобно тому, как, помнилось ей, у кузена Сэмюела в те трудные дни. — Конституция Массачусетса — одно из моих детищ, такое же, как Нэб, Джонни, Чарли и Томми. Она не может исчезнуть или погибнуть. Абигейл, пожалуйста, налей мне крепкого чая. Я плохо себя чувствую. — Мы подкрепимся оба. Они выпили горячий, крепкий, почти черный напиток. — Чай придает отвагу, — сказал Джон. — На нем основана Британская империя. Если бы англичане сохраняли свой налог на краску, а не на чай, то, возможно, мы бы оставались британской колонией. Континентальный конгресс также одно из моих детищ. Его нужно распустить. Джон рассортировал письма, делая пометки на полях. — Статьи конфедерации больше не работают. Финансы центрального правительства в упадке. Конгресс теряет с каждым днем эффективность. Лишь пять штатов удосуживаются послать своих депутатов, и секретарь по иностранным делам Джон Джей не в состоянии ответить на мои вопросы из-за отсутствия кворума для обсуждения указаний. Каждый штат настаивает на своих суверенных правах. Ослепление собственным достоинством не позволяет им считаться с федеральным правительством, достаточно сильным для обеспечения жизнедеятельности, свободы и собственности. Идут разговоры о том, что собственники формируют армию, чтобы захватить правительство… — Боже мой! — Ты можешь взывать к Богу. Вчера я обошел министерства. Они знают о положении у нас благодаря осведомителям — тори. По мере того как мы слабеем, они чувствуют себя сильнее. Мне ясно теперь, что не нужно выклянчивать договор. До истечения срока моей миссии мне не позволят ничего сделать. — Джон, еще восемнадцать месяцев! Мы не можем просто так сидеть здесь полтора года. — Конечно, не можем! Он вскочил с кресла, встал перед Абигейл; его лицо, на котором выделялись потемневшие глаза, было напряженным. — У меня было полтора года, чтобы заключить с британцами торговый договор, который принес бы процветание государствам, силу и уважение нашему центральному правительству. Я не добился успеха. Во всем виноват только я. Так говорят в Массачусетсе, так говорят многие в Нью-Йорке и Филадельфии. Хорошо, я не смог добиться договора, который спас бы нас, но я могу кое-что сделать. Абигейл уставилась на него, в ее глазах застыл вопрос: — Что? — Написать книгу. Абигейл потрясла головой, словно плохо расслышала. Массачусетс был на грани гражданской войны, вооруженные банды бросали вызов милиции; Конгресс вот-вот может быть распущен или же окажется в руках крупных собственников. И тем не менее Джон Адамс, находящийся за три тысячи миль от дома, хочет сесть и написать книгу!.. Он заметил неверие в ее глазах. Встав перед ней на колени, крепко обняв руками ее бедра и глядя в ее глаза, он повторил: — Да, книгу. Толстую. В нескольких томах. Потребуется год и даже больше для написания. Ты никогда не ставила под сомнение печатное слово. Оно сможет сверкнуть, как острая сабля, прорваться сквозь ложь, фальшь, невежество. — Но, Джон, хватит ли времени? — Это единственный способ превратить неудачу в успех. Проходящий сейчас в Аннаполисе съезд рассматривает единую систему регулирования торговли и не может ограничиться столь мелкой целью в условиях, когда на него смотрит вся Америка. Там находятся наши лучшие умы — Джеймс Мэдисон и Эдмунд Рэндолф из Виргинии, Александр Гамильтон[51] из Нью-Йорка, блестящие люди и патриоты. Они поймут, что нужно созвать более представительный съезд и разработать новую, более крепкую, работоспособную федеральную конституцию. — Ты хочешь закончить свою книгу к моменту консультации между ними? — Вот именно. Я назову ее «Защита конституции правительства Соединенных Штатов Америки». Она будет нацелена в такой же мере на Массачусетс, как на Континентальный конгресс или на любой другой орган, занимающийся написанием федеральной конституции. Я должен доказать, что только сбалансированная система управления с сильной независимой исполнительной властью, с двумя самостоятельными законодательными органами и судебной властью сделает республику жизнеспособной. На основе тысячелетней писаной истории я покажу, что без равновесия трех властей управление становится тиранией или олигархией, а свобода человека разрушается. У Абигейл потеплело на сердце. Теперь пришла ее очередь прикоснуться руками к его лицу и поцеловать пылающие щеки. — Прости меня за неверие. Каждая одержанная тобой победа пришла благодаря слову: устному или печатному. Если книга сможет побороть хаос… Они договорились с Чарлзом Дилли, книгопродавцем и печатником в Лондоне, у которого уже двадцать лет Джон покупал книги, о печатании томов. Джон и Абигейл обязались купить столько экземпляров, сколько нужно, чтобы покрыть большую часть расходов Дилли. Дилли взял на себя риск распространения остального тиража в Англии. — Есть ли шанс, что Конгресс оплатит расходы? — спросила Абигейл, разглядывая набросанный нервной рукой Джона список примерно пятидесяти книг на немецком, итальянском, испанском, не говоря уже об английском, языках, которые требовались ему для исторического исследования. — Это не заказ Конгресса. Как всегда, на твои плечи ложится задача министра финансов. Абигейл вздохнула: — Ну что же, как потомок ловких купцов-янки, я беспокоюсь, оплатят ли члены Конгресса то время, которое ты будешь корпеть над книгой. Джон попросил Абигейл организовать обед для доктора Ричарда Прайса. Пожилой джентльмен собирался отведать сочный кусок баранины, когда Джон объявил ему: — Доктор Прайс, у меня есть к вам просьба литературного характера. Я собираюсь написать книгу, которая защищает американскую конституционную форму правления. На нее нападают и дома и за рубежом. — Я читал о ваших политических осложнениях. — Вы наверняка вспомните, что в вашей книге, которую вы столь любезно прислали мне во Францию два года назад, содержалось адресованное вам письмо господина Тюрго. В нем были нападки на наше правительство, построенные на том, что публиковалось во Франции о конституции шести американских штатов. В предисловии, написанном Ренье, говорилось: «Мне кажется, что эти конституции выражают человеческую мудрость, представляя самую чистую демократию, какая когда-либо существовала». Господин Тюрго критиковал эти конституции, под предлогом необходимости равновесия между тремя властями. Пришло время доказать, что для федерального правительства в Америке такая конституция — единственно способная действовать в демократическом обществе. — Превосходная мысль, — ответил доктор Прайс. — Но господин Тюрго умер пять лет назад. — Я хотел бы просить вас, дорогой доктор Прайс, разрешить мне использовать ваше имя на титульной странице. Звучать это будет так: «Возражения против нападок господина Тюрго, содержащихся в письме к доктору Прайсу». Абигейл превратила кабинет Джона в рабочую библиотеку, наняв столяра навесить дополнительные полки для книг, которые она, Джон, Нэб и полковник Смит отыскали в Лондоне и заказали в Париже, Риме, Мадриде. У Джона и ранее имелось немало справочной литературы: Монтескьё, работы Кокса о политических системах в Швейцарии, Польше, России, Швеции, Дании; книги Полибия,[52] Митфорда, Джилли по истории Греции; сочинения Макиавелли. По этим вновь поступившим книгам Джон составлял новые перечни, рассчитывая собрать все опубликованные труды о провалах и успехах политических систем. В работу погрузилась вся семья. Почти двадцать часов в сутки Джон читал и составлял аннотации, ворча даже по поводу тех немногих часов, когда он спал по настоянию Абигейл. Полковник Смит взял на себя посольскую рутину, принимая американцев, приходивших за помощью, сопровождал их к министрам, банкирам, купцам, посещал вместо Джона Адамса другие посольства. Абигейл организовывала необходимые приемы, обходясь без Джона, который даже перестал обедать с семьей. Она неизменно посещала церемонию пробуждения короля во дворце, проявляя особое внимание к королеве Шарлотте, дабы заменить посланника Адамса. Нэб забеременела. Увидев покрасневшие от чтения глаза отца и натруженную от переписывания руку, она спросила: — Папа, Джонни снимал для тебя копии документов, это могу делать и я. — Почему бы нет? Смотри, мне требуется выписать параграфы в скобках из книги Алджернона Сидни и короля Станислава Первого.[53] Однако не перегружай себя. — Я вовсе не слабая. И к тому же это поможет твоему внуку родиться политическим экспертом. — Мы можем обратиться к некоторым в Америке, — проворчал Джон. — Нынешние — не более чем специалисты по раздорам. Садись здесь, напротив меня. — Да, папа. Через месяц,обновив свои знания о многих цивилизациях, Джон приступил к предисловию, в котором обосновал свои исходные тезисы. В Лондоне стало известно, что делегаты съезда в Аннаполисе призвали к созыву широкого съезда с целью «разработать необходимые положения, чтобы сделать конституцию федерального правительства отвечающей требованиям Союза». — Вы, посланник Адамс, неплохой предсказатель, — сказала ему жена. — Только крайний глупец не предсказал бы. Сколько дней потребовалось делегатам в Аннаполисе понять, что нужно делать? Всего три дня. Все осознают, что нам требуется новое и сильное правительство. — Понимает ли это Континентальный конгресс? Его веселое настроение как рукой сняло. Он сел за письменный стол, отложил в сторону бумаги, провел рукой по уставшим глазам. — Нет. Конгресс будет против. Его члены скажут: «Почему бы не подправить уже имеющиеся статьи?» Даже Том Джефферсон согласен, что этого достаточно. Когда Нэб уставала, ее заменяла Абигейл, садясь напротив Джона и делая выписки из указанных им книг. Работа доставляла ей удовольствие, она словно перемещалась в Брейнтри и Бостон. Ей был близок мир идей, и она удивилась тому, что история волнует ее больше и сильнее, чем художественная литература. Джон собирал выписки главным образом из исторических источников под заголовками «Демократические республики» и «Аристократические республики». Он группировал и сводил материал в книгу такого характера, какой еще не было. Абигейл думала: «Если в земной жизни первейшая цель человека все время возвышаться, тогда Джону приуготовлено стать святым в „Городе на вершине Горы“». Другая часть ее обязанностей не была столь приятной. Деньги тратились на печатание книги, и иные товары такими темпами, что она сократила все прочие расходы. Расходы на содержание посольства в Лондоне были на четверть больше, чем в Париже, а Конгресс переводил им все те же девять тысяч долларов, что и Джефферсону во Франции. Однако Джон надеялся, что Конгресс восстановит оклад, установленный ему в 1779 году. — Я искренне надеюсь на это, — ответила Абигейл, — потому что, согласно всем подсчетам, я трачу сумму, которая приближается к одиннадцати тысячам. Она взяла на себя закупки на рынке, не думая о том, что напишут газеты насчет крохоборства, и надзирала за тем, что готовилось на кухне. Когда двое слуг уволились, она не стала нанимать новых. Абигейл перестала покупать билеты в театр: ведь Джон не отрывался от письменного стола. Ее отдых ограничивался, по настоянию Джона, краткими выездами вместе в Бат, где их развлекал кузен Бойлстон. Вернувшись в начале января, Абигейл заметила, что кожа Джона пожелтела, глаза стали мутными, правая рука ниже плеча болела. Но он был счастлив: за четыре месяца был написан первый том. Комментируя достигнутый прогресс, он сказал: — Время нужно расходовать щедро. Это именно та область, где пуританин может быть расточителем своих сил и отваги во имя поставленной цели. Не спорю, я готов тратить мои жизненные силы и мое время столь же щедро, как мот, расходующий свое достояние на вино и карты. Я страстно люблю работать, подобно тому, как бездельник мечтает об удовольствиях. Свое предисловие он пометил датой 1 января 1787 года. Ключевая фраза, по мнению Абигейл, стояла над датой: «Институты, создаваемые ныне в Америке, не обветшают и через тысячелетие. Самое главное, начало было правильным». Прошептав «аминь», Абигейл повернула страницу и принялась читать вслух. Джон сидел, положив экземпляр книги на колени и делая пометки, вслушиваясь в то, как звучал текст. Ей нравилась образность его языка. — «Без наличия трех властей и действительного равновесия между ними государство будет обречено на частые неотвратимые революции; если даже их удастся отложить на несколько лет, они в свое время все же наступят. Соединенные Штаты — большое государство с многочисленным населением по сравнению с греческими полисами и даже швейцарскими кантонами; и с каждым днем эти штаты безудержно растут, и поэтому правительство все менее способно удерживать их вместе с помощью обычного управления. Страны, численность населения которых растет столь быстро, как в штатах Америки, даже во время опустошительной и разрушительной войны вроде последней, не могут удерживаться шелковыми нитями; львят и даже одряхлевших львов паутиной не сдержать». Только значительно ниже она обнаружила настороживший ее пассаж. Это был совет Джона о назначении на длительный срок единого исполнительного лица. — Джон, в Америке подумают, что ты расчищаешь почву для короля. Взвешенный ответ мужа показал, что эта проблема волновала также и его. — Я за то, чтобы делегировать исполнительному лицу ту же самую сбалансированную власть, какой обладает король по британской конституции. Он должен уравновешивать законодательную власть, ибо в противном случае станет рабом парламента. Почему бы не всему народу выбирать главного исполнителя? Тогда он будет независимым. Он будет вынужден сосредоточить внимание на Ассамблее и соответствии ее большинству, выполняя свой долг. Исполнительная власть является корнем правительства. Что касается срока пребывания в должности, то если печать будет беспрестанно нападать на то, как он выполняет свои функции, это будет держать в напряжении нацию, раздражать ее и раздоры никогда не прекратятся. Поэтому президент должен быть выше этого, должен избираться на длительный срок и должен иметь возможность быть переизбранным. — Разумеется, не должен оставаться вечно? — Моя дорогая, нас наняли создать учреждения, которые призваны обеспечить счастье сотням миллионов жителей в не столь отдаленное время. Мы должны иметь в стране в качестве исполнительного лица способного человека и на достаточно длительный период, чтобы обеспечить стабильность. — Но не испугаются ли, что если исполнительное лицо долго остается у власти, то может стать монархом? Такие опасения вероятны. — Я должен пойти на риск. Нами управлял Конгресс, мы хорошо знаем, как плохо он управлял. Большинство народа хотело, чтобы он стал единственным центральным правительством. Ради равновесия власти я должен высказаться в пользу сильного исполнительного лица. Если меня не поймут, тогда я вовсе не первый пророк, в которого бросали камни.9
Прослышав, что дом Ройяла Тайлера, дом Вассал-Борланда, возможно, будет выставлен на продажу, Абигейл живо представила его себе, словно стояла на дороге в Брейнтри перед высоким, внушительным зданием, несколько напоминавшим дом священника в Уэймауте, где она выросла. Она вспоминала деревянную обшивку стен, красивые камины, широкую лестницу, просторный каретный сарай сзади, роскошные деревья и цветущий сад, напоминавший английские сады. Он был меньше дома Абигейл, который, как она решила во Франции, не могут позволить себе, земельные угодья были не столь большими, и тем не менее это был дом и ферма, которую при наличии средств можно расширить. Наконец, это было поместье, какое они в состоянии купить. Абигейл выбрала момент, когда они возвращались пешком после визита в Вестминстерское аббатство, и спросила: — Джон, ты помнишь дом Вассал-Борланда? — Да, хорошо помню. — Я осмотрела его вместе с Нэб и Тайлером до того, как он купил его. — Она покраснела. — Тайлер отказался от юридической практики и возвратился в дом своей матери в Джамайка-Плейн. Как ты думаешь, не купить ли нам это поместье? Я понимаю, что наш коттедж в Брейнтри слишком мал, не говоря уже о появившейся в семье тяге к роскоши. — Напиши Коттону, пусть он посмотрит, — ответил Джон. — Как по-твоему, не сказать ли о поместье Нэб? — Какое мне до этого дело? — ответила Нэб. — Все это в прошлом. Беременность Нэб проходила нормально, хотя она несколько пополнела. Сидя с нераскрытой книгой на коленях, Нэб мысленно вглядывалась в будущее. Абигейл уверяла дочь, что нужно терпеливо ждать. Временами Нэб волновалась, спрашивала мать, сумеет ли она справиться с ребенком, если тот заболеет. А вдруг он родится ненормальным, с одиннадцатью пальцами на руках или на ногах? Абигейл сказала дочери, что и у нее возникали такие вопросы. Может быть, к концу беременности Нэб следует вернуться в свою комнату в посольстве? Это избавит ее от поездок в утреннем тумане и вечером в дождливую и холодную погоду. Книгопечатник Дилли быстро отпечатал работу Джона, который, со своей стороны, не тянул с правкой гранок. В хорошем переплете том получился солидным и, казалось, способным пробудить интерес не одного любознательного читателя. — Я уверена, что это справедливо и в отношении содержащихся в книге идей, — прошептала Абигейл, когда Джон любовно погладил переплет и перелистал страницы. Все члены семьи Адамс приняли участие в упаковке экземпляров, предназначенных для посылки Томасу Джефферсону, Элбриджу Джерри, Коттону Тафтсу, Сэмюелу Адамсу, Джеймсу Уоррену, Фрэнсису Дана, президенту Гарвардского университета, членам Континентального конгресса, а также Джонни, Чарли и Томми. Остальные тридцать экземпляров после отправки книг на рецензию в английские журналы были посланы Коттону Тафтсу с просьбой поставить на продажу в книжных лавках Бостона. На первых порах в Англии критика была устрашающей. Джона обвинили в «хвастливой ученой показухе», а книгу назвали «путаной страстью к красноречию». Один из обозревателей ехидно писал: «Если бы книга была написана молодым человеком, стремящимся добиться академического признания, то в таком случае мы сказали бы, что в ней есть намек на активный многообещающий ум, но наш молодой человек, ревностно стремящийся показать, как много он прочитал, бездумно воспринял некоторые путаные понятия о правительстве и торопливо прошелся по их поверхности, не удосужившись изучить особенности и углубиться до дна». Хотя книга может развлечь невежду и сбить с толка наивного, она не может «ни дать… информацию, ни привлечь внимание философа или литератора». Двадцать четыре часа Абигейл сочувственно выслушивала излияния Джона по поводу ехидной критики и его замечания о газетчиках вообще, которых она назвала источником всевозможной лжи. — Я первый соглашусь, что работа написана поспешно, — сказал Джон, — она такой и обречена быть. Мой проект настолько амбициозен, что его осуществление потребовало бы семь лет работы опытного ученого. Тем не менее мои концепции заслуживают тщательного рассмотрения. Дополнив эти слова тремя порциями ромового пунша, предложенного Абигейл, Джон лег в постель и проспал почти сутки. Ее всегда изумляла его способность восстанавливать силы. На следующее утро его лицо обрело спокойствие. Отрицательная рецензия была предана забвению, он потребовал дополнительную порцию бисквита и джема, отправился под дождем на прогулку в Гайд-парк, а вернувшись домой, переоделся по совету Абигейл в сухое белье и уселся за письменный стол работать над вторым томом. В марте Нэб переехала в свою комнату в посольстве. 2 апреля она родила прекрасного мальчугана. Посольство посетил преподобный доктор Прайс, совершивший обряд крещения: мальчика нарекли Уильямом по отцу и Штейбеном по имени прусского офицера, которым восхищался полковник Смит. Абигейл полюбила малыша с неожиданной для нее самой нежностью. Его появление в семье осветило для нее мир мягким, прозрачным светом. Наняли няню для ухода за Нэб и ребенком, но Абигейл сама купала малыша в тазике с теплой водой, присыпала тальком покрасневшие места, надевала длинную теплую шерстяную рубаху и убаюкивала на руках. Ее любовь к внуку отличалась от тех чувств, которые она испытывала к собственным детям: в ней было меньше тревоги и больше восторженности. Джон чувствовал нечто подобное. Абигейл предположила: — Возможно, это и есть чувство продления рода? Теперь мы знаем, что вырастет новое поколение. Кровь Смит-Адамс продолжит себя после нашего исчезновения. Случилось странное совпадение. Позже Абигейл узнала, что и у Ройяла Тайлера появилось своего рода потомство. Вскоре после рождения сына у Нэб в Нью-Йорке была поставлена комедия «Контраст», впервые написанная американцем. Нэб напрочь выбросила Ройяла Тайлера из своей памяти. Но не ее мать, ибо Абигейл получила из Массачусетса письмо, где сообщалось, что Тайлер не принял отказ Нэб, он продолжал утверждать, будто не получал ее письма с сообщением о разрыве помолвки, и был убежден, что семья Адамс плохо обошлась с ним. В таком духе он изливал свою душу всем в Новой Англии. До семьи Адамс доходили вести о его успехах. Пожив некоторое время в доме матери, Тайлер переехал в Нью-Йорк, примкнул к Американской компании, сплотившейся вокруг известного комика Томаса Уигнелла. Он познакомился с постановкой «Школы злословия» Шеридана, а затем удалился в пансионат и написал собственную пьесу «Контраст». Она так понравилась Уигнеллу и другим актерам, что они поставили ее в театре на Джон-стрит. Согласно одному осведомителю, комедия была написана блестяще и с самого начала пользовалась большим успехом, выдержав множество представлений. Компания намечала сыграть пьесу в Филадельфии, Балтиморе и даже предложить ее пуританскому Бостону, где театральные постановки все еще оставались вне закона. Хотя имя автора не упоминалось на афишах, Ройяла Тайлера считали зачинателем новой школы в американской литературе. Он засел за написание своей второй пьесы, комической оперы под названием «Майский день в городе, или Суматоха в Нью-Йорке». Ее обещали поставить в том же театре на Джон-стрит. Успехи Тайлера не удивили Абигейл; она считала его талантливым человеком. Многие стихи и сцены пьес, которые он читал вслух в гостиной в Брейнтри как начинающий литератор, были высокого качества для начинающего. Теперь же он всерьез занялся литературным трудом. Абигейл нравился Уильям Смит, тем более сейчас, когда в колыбельке лежал дорогой ее сердцу внук и с неподдельным удивлением рассматривал свои ручонки. Ее ум одолевало одно небольшое сомнение, и она поделилась им со своим мужем, рассказывая о поразительных успехах Тайлера. — Джон, прошло шесть месяцев с тех пор, как ты написал Конгрессу о своем решении вернуться домой. Ты не изменил своих намерений? — Нет. Я решил твердо. — В таком случае Нэб и полковник Смит поедут с нами? — Не обязательно. Я собираюсь написать Конгрессу не назначать взамен меня другого посланника, пока Англия не направит своего посла, аккредитованного при Конгрессе, и не согласится на заключение торгового договора. Я рекомендую оставить Уильяма поверенным в делах. — А если ему придется вернуться домой, чем он будет заниматься? Уильям Смит больше всего любит армию, но у Америки ее нет. Хотя его семья шлет из Нью-Йорка сердечные письма о готовности принять Нэб и ребенка, она владеет предприятиями, которыми мог бы заниматься полковник, и нет земли достаточной для основания фермы. — Я пытался убедить его изучить право здесь, в Англии, но он отказался. Однако он молод, хорош собой, у него сотни друзей во всех штатах. Несомненно, один из них найдет ему надлежащее место. — Надеюсь. — Я напишу секретарю Джею новое письмо. Беспокоясь о будущем, ты, может быть, подумаешь о собственном бедном муже, который станет безработным следующей весной? — Боюсь, что мне не следует тратить силы, беспокоясь за вас, господин посланник. Если Том Джефферсон остается в Париже, то тогда ты олицетворяешь наилучший политический ум во всех тринадцати штатах. Джон увлеченно работал над вторым томом, посвященным итальянским городам-государствам, анализируя, что обеспечивало им успех и стабильность, а что вело к развалу республики. Конвент в Филадельфии возобновил заседания якобы с целью подправить статьи Конфедерации. Но заседания проходили за закрытыми дверями и требовалось время, чтобы новости дошли до Англии. Между тем американский кредит продолжал падать. Джону пришлось вновь выехать в Голландию, где он провел удачные встречи с голландскими банкирами и сумел получить новый заем в миллион гульденов при пяти процентах годовых. Абигейл прогуливала внука в коляске по площади Гровенор. В хорошую погоду она и Нэб выезжали за город. Летели неделя за неделей. В Массачусетсе политический климат все более накалялся. Народ снова пришел в движение. Оказавшиеся осенью в тяжелом положении фермеры Массачусетса просили Законодательное собрание одобрить две меры: во-первых, разрешить выпуск бумажных денег, во-вторых, положить конец запрету выкупа домов и ферм. В Законодательном собрании преобладали юристы и бизнесмены консервативного толка: они отложили заседания, не приняв ни той ни другой меры, что вызвало справедливое возмущение населения. Последовали бурные городские митинги, затем в Хэтфилде собрался Конвент, заявивший, что Законодательное собрание Массачусетса руководствуется корыстными соображениями; Конвент опротестовал несправедливые налоги, обременявшие бедные слои населения, потребовал закрытия судов, пока положение не улучшится и у фермеров появятся возможности выплатить долги. Конвент, созванный фермерами графства Хэмпшир, добивался законного удовлетворения жалоб фермеров; но многие считали, что только действия могут принести им облегчение. В таких городах, как Уорчестер, Конкорд, Грейт Баррингтон и Нортгемптон, граждане воспрепятствовали заседаниям суда, освободив заключенных, собирались огромными толпами около зданий судов, чтобы судьи и присяжные не могли проводить слушание дел. Губернатор Джеймс Боуден вызвал милицию Массачусетса, около тысячи шестисот человек. С этого момента движение протеста возглавил капитан Даниэл Шейс, который с честью сражался во время Революции и потерял свою ферму из-за долгов. Милиция оказалась в меньшинстве и не решилась стрелять по хорошо организованным отрядам Шейса, силой не допустившим открытие суда в Спрингфилде. После этого Массачусетс объявил капитана Шейса и его сторонников вне закона. А те разработали план: после захвата оружия в арсенале Соединенных Штатов в Спрингфилде двинуться на Бостон и заставить Законодательное собрание под дулами ружей отменить законы о выплате долгов. Массачусетс вновь набрал добровольческую армию, противники встретились перед арсеналом Спрингфилда, милиция выстрелила из пушки, несколько сторонников Шейса были ранены и его силы разогнаны. Прибыли дополнительные силы волонтеров под командованием другого героя революционной войны, генерала Линкольна, в итоге собрались силы, достаточные, чтобы подавить восстание Шейса и захватить его руководителей. Сэмюел Адамс требовал казни лидеров мятежа. Абигейл и Джон были огорчены восстанием, опасаясь, что оно может нанести ущерб федеральному правительству, но им было трудно понять ожесточенность кузена Сэмюела. В конце концов Абигейл поняла, что кузен Сэмюел будет считать всякого выступающего против независимого правительства своим врагом. Ее радовало, что Джону не свойственны кровожадные инстинкты. Он писал резкие статьи против мятежа, заявляя, что бунт должен быть самым решительным образом подавлен, но Абигейл никогда не слышала, чтобы Джон призывал к суровому наказанию лидеров. Он понимал, что дальнейшие беспорядки можно предотвратить, лишь вернувшись к процветанию. От Коттона Тафтса пришли два письма: он сообщал, что дом Вассаль-Борланда может быть приобретен за две тысячи семьсот долларов. Ройял Тайлер продал за наличные часть земли. Дом был возвращен Борланду. Тафтс возмущался по поводу того, что Тайлер пренебрегал уходом за поместьем:«Время и внимание последнего владельца уделялись написанию комедий в Нью-Йорке, которые принесли ему известность, что… покупка фермы у него нисколько не взволнует его, он интересуется лишь славой борзописца…»Джон просил Абигейл написать Коттону, чтобы тот купил дом и землю. Коттон выполнил просьбу. В конце июня в посольство приехал капитан Рамсей с девятилетней Полли Джефферсон, младшей сестрой Патси. Джефферсон просил в письме Абигейл приютить ребенка. Маленькая Полли, плача, цеплялась за руки капитана Рамсея, словно ее собирались продать в рабство. Капитану пришлось сбежать из посольства через заднюю дверь. Абигейл провела Полли в свою спальню, умыла девочку, сильно напоминавшую внешне Патси и отца. Успокаивая ее, Абигейл рассказывала ей истории о Патси в Париже. — Ну, Полли, я никогда не видела, чтобы твоя сестра плакала. — С ней папа. — Я покажу тебе портрет твоего отца. Он был написан американцем мистером Брауном, когда твой отец был здесь. Абигейл принесла портрет Томаса Джефферсона, живой и очень похожий. Портрет не произвел впечатления на Полли. — В чем дело, Полли? — Я не узнаю его. — Ну, ты скоро его увидишь и узнаешь. — Ты отвезешь меня к нему? Абигейл поколебалась, а затем ответила: — Да, если не будет другой возможности. Но я тотчас же напишу ему и попрошу его приехать сюда, в Лондон, и мы совершим вместе поездку по стране. Разве это не чудесно? — Не знаю, — упрямо отвечала Полли. — Я никогда не ездила с семьей. — Завтра или послезавтра я покажу тебе танцующих собачек и канатоходцев в театре Садлерс Уэллс. Начиная со следующего утра с лица Полли не сходила улыбка. Абигейл отвела девочку к своей портнихе сшить ей английское платье и пальто. Посещение портнихи Полли понравилось. Она спросила Абигейл, может ли она называть ее мамой. Абигейл затеяла бурную переписку с Джефферсоном, заверяя его, что Полли может оставаться в посольстве так долго, как он считает нужным, но, по ее мнению, ему следует приехать за девочкой. Она убеждена, что Полли не должна путешествовать из Лондона в Париж в сопровождении еще одного иностранца. Джефферсон только что вернулся в Париж после поездки по Южной Франции и Италии. В дом на площади Гровенор явился француз по имени Пети. Он служил у Джефферсона дворецким и пользовался доверием хозяина. Однако он не знал ни слова по-английски. У него были указания привезти в Париж Полли как можно скорее. Абигейл была в ужасе. Она пошла в кабинет Джона, где он заканчивал работу над вторым томом. — Джон, я не могу доверить Полли человеку, который не способен обменяться с ней ни единым словом, и отпустить их в недельную поездку до Парижа. Джон уставился на Абигейл: — Согласен, но что мы можем сделать? Хочешь, чтобы я отвез ее? — Нет, думаю, что это должна сделать я, как обещала. — Это займет у тебя две недели. Тебе придется возвращаться одной. Полли чувствовала себя глубоко несчастной. Абигейл успокоила ее, заявив, что не отпустит с Пети без согласия ее отца. Тем временем она ездила с девочкой на ежедневные экскурсии и в книжные лавки, где разрешила выбирать книги, которые Полли читала запоем. К концу недели терпение Пети иссякло. Ему не нравился Лондон, и у него было поручение. Возбужденно бормоча по-французски, он показал два уже купленных билета на дилижанс до Дувра. Он довольно громко кричал, что деньги нельзя транжирить и что миссис Адамс не должна мешать ему выполнить поручение хозяина. — Если Полли согласится, то и я дам согласие. Полли смирилась: — Я знаю, что должна поехать с Пети. Я все равно расплачусь, поэтому не упрашивайте меня. — Думай о путешествии как о переходе по мосту, который соединит тебя с семьей, — утешала ее Абигейл. Лицо Полли расцвело в светлой улыбке. Ее книги были упакованы в один чемодан, а новые платья — в другой. Она сказала провожавшим ее членам семьи Адамс через окно дилижанса: — Видите, я не плачу. До свидания, тетя Абигейл. В июле Джон отправил второй том своей книги в типографию. Он убедил Абигейл выехать на месяц в Девоншир, Саутгемптон, Эксетер, совершить своего рода сентиментальную поездку в Уэймаут, чтобы посмотреть, как выглядит маленький городок, где жили предки Абигейл. Они поищут Кранчей, многие из которых все еще живут в Англии. Как объяснил Джон, эта поездка даст ему возможность хорошо отдохнуть душой и телом. — Вероятно, это будет наша последняя поездка по Англии. Как только доберемся до дома, там и осядем. Навсегда.
10
Спешка Джона с написанием книги была оправданна. Приходившая к ним из Соединенных Штатов почта подтвердила о том, что экземпляры книги дошли вовремя до членов Конвента. Книгу немедленно перепечатали в Бостоне, Филадельфии и Нью-Йорке. Хотя многие не разделяли его одобрения ограниченной монархии и необходимости сильного «первого управителя, главы, начальника», без которого «не может существовать тело политики, как не может существовать живое тело без головы», большинство делегатов внимательно вчитывалось в книгу. Она дала пищу для обсуждения интересовавших Джона вопросов. Он уверял Абигейл, что его книга явится единственным всеобъемлющим политическим исследованием, доступным для членов Конвента. И он был прав. Находясь за три тысячи миль в положении жертвы изоляции на бесполезном посту, Джон Адамс сумел проникнуть за закрытые двери Конвента в Филадельфии и приобрести такой же авторитет, как если бы его избрали делегатом от Массачусетса. В начале ноября они получили от их верного корреспондента Элбриджа Джерри экземпляр предлагаемой новой конституции. Аналогичный документ был адресован Томасу Джефферсону. Джон Адамс немедленно переслал его в Париж. Когда Джон извлек бумаги из пакета, Абигейл, зажав между большим и указательным пальцами тонкую стопку листов, буркнула: — Она, видимо, не очень пространная. Не требуется ли больше страниц для полной и совершенной конституции? — Такой нужды нет. Чем короче и яснее, тем лучше. Годы, проведенные Абигейл в Брейнтри, несли на себе отпечаток одиночества, а годы пребывания в Лондоне — крушения надежд. Теперь же они оба сидели за письменным столом Джона. Брислер принес охапку дров. Побледневшего Джона трясло. Абигейл чувствовала, что и ее охватило волнение. — Отсюда, читай начало, — сказал Джон. — Хорошо. Абигейл читала звонким, уверенным голосом: — «Мы, народ Соединенных Штатов, для того чтобы создать более совершенный Союз, утвердить правосудие, обеспечить внутреннее спокойствие, обеспечить совместную оборону, содействовать общему благоденствию и гарантировать блага свободы себе и нашим потомкам, предписываем и провозглашаем настоящую конституцию для Соединенных Штатов Америки». — Превосходно! — воскликнул Джон. — Я бы не написал лучше. — «Даруемая в ней вся законодательная власть предоставляется Конгрессу Соединенных Штатов, состоящему из сената и палаты представителей…» Джон вырвал из ее рук документ, поспешно перелистал страницы до главы второй и прочитал высоким прерывающимся голосом: — «Исполнительная власть предоставляется президенту Соединенных Штатов Америки. Он занимает свой пост на срок четыре года и вместе с вице-президентом, выбираемым на тот же срок, избирается в следующем порядке…» Он перестал читать вслух, быстро пробежал несколько статей, отрывисто кивая в знак одобрения. Закончив раздел, он начал перечитывать его вслух, перемежая чтение объяснениями, предназначенными Абигейл: президент будет главнокомандующим армии, военно-морского флота и милиции; он будет обладать полномочиями «по совету и согласию сената» заключать договоры, с согласия двух третей участвующих в голосовании сенаторов; у него будут полномочия выдвигать и назначать послов, судей Верховного суда и других должностных лиц Соединенных Штатов, опять-таки с согласия и одобрения сената. Он наделяется правом созывать заседания обеих палат, предоставлять Конгрессу «информацию о положении Союза и рекомендовать на их рассмотрение такие меры, которые он сочтет необходимыми и неотложными». Наступила тишина. — Конвент сформулировал статьи так, словно ты был председателем комитета, — заявила Абигейл. — Не совсем, — сказал Джон, покрасневший от удовольствия, — нет упоминания о том, что президент обладает правом иметь во главе каждого департамента исполнительных советников, им назначенных и выступающих в роли его помощников. Посмотрим, что сделано ими в отношении легислатуры и судебной власти. Число представителей от штата и сумма отчисляемых в бюджет прямых налогов должны были определяться в соответствии с численностью населения. Палата представителей получала полномочия выбирать своего спикера и других должностных лиц и исключительное право возбуждать импичмент. Сенат, напротив, состоял из сенаторов по двое от каждого штата, избираемых местной легислатурой. — Интересные соображения, — сказал Джон. — Поскольку сенат является новым органом, ему следует придать высокое положение и достоинство. Вице-президент выступает в качестве председателя сената, хотя и не должен голосовать, за исключением тех случаев, когда голоса разделятся поровну. — Каковы другие обязанности вице-президента? — спросила Абигейл. Джон быстро пересмотрел документ, затем поднял голову: — Не могу найти других положений. Но если его удачно выбрали, он обеспечит, чтобы обсуждение в сенате осуществлялось на высоком уровне и надлежащие законодательные меры проходили через этот орган с соответствующей скоростью. Джон и Абигейл прервали изучение проекта конституции на время обеда, а затем продолжили: иногда с всплесками удовлетворения, иногда разочарования. Джон считал главным недостатком документа отсутствие Декларации прав человека. В проекте не упоминалось о свободе печати, слова, собраний, вероисповедания. Когда он выразил свои сожаления, Абигейл сурово нахмурила брови: — Не странно ли это опущение? Ты написал Декларацию прав для Массачусетса, Джордж Мэзон — для конституции Виргинии. — Это вопиющая ошибка, ее надо немедленно исправить. — Означает ли это, что ты не одобряешь эту конституцию? — Избави бог, никоим образом! Лучше, чтобы штаты одобрили ее сейчас, а мы добавили бы Декларацию прав позже, чем отсылать проект конституции вновь в Конвент. Отсутствие Декларации, разумеется, сделает одобрение конституции более сложным делом, но это издержки упущения, а не грех комиссии. Пока что я не нашел ничего в конституции, что не действовало бы наилучшим образом в интересах республики. Посмотри, например, как хорошо они сформулировали статью третью: «Судебная власть Соединенных Штатов предоставляется Верховному суду и нижестоящим федеральным судам, учреждаемым Конгрессом». Джон обратился к последней странице, посмотрел на список подписавших. Многие из них работали с ним в прежних конгрессах. Там была даже подпись Бенджамина Франклина. В эту ночь они не могли заснуть. Джон то и дело вскакивал, перелистывая документ, поднося к свету лампы у кровати, обращался к отдельным параграфам, проверяя их формулировки. Около двух часов ночи его охватила тревога по поводу полномочий сената. Не посмотрев, спит ли Абигейл, он сказал: — Абигейл, предоставление сенату права одобрять назначения, сделанные исполнительной властью, делает президента менее независимым, урезывает его возможности действовать в лучших интересах в соответствии с его собственным суждением. Я думаю, что сенат и ассамблеи не должны ограничивать исполнительную власть. — Но, Джон, разве проект не всего лишь набросок архитектора? — уверила она сонным голосом. — По мере того как скелет обрастает плотью, эти проблемы отпадут сами собой. Джон выскользнул из-под одеяла, принялся ходить по комнате в ночной рубахе, заложив руки за спину. — Молю, чтобы штаты быстрее ратифицировали проект. В нем виден замечательно продуманный расчет сохранить Союз, укрепить взаимные связи и привести нас к единомыслию. Последующие недели были насыщены приятными волнениями. Казалось, что их личные дела и дела государства пошли на подъем. Это радовало сердце. Коттон Тафтс написал, что они стали законными владельцами дома Борланда. Пришла весть, что вскоре можно ожидать указания вернуться домой. Джонни проходил практику у юриста в Ньюберипорте. Взволнованная переписка шла между семьей Адамс, Томасом Джефферсоном в Париже, их политическими друзьями в Бостоне и Филадельфии, у каждого были свои замечания к конституции, но все были полны энтузиазма. К удивлению Джона, Томас Джефферсон боялся, что обе палаты Конгресса окажутся неспособными справиться с иностранными и федеральными делами. Его заботило и то, что пост президента выглядел как неудачная копия царствования польского короля. «Он может быть выбран на срок от четырех лет до пожизненного. Рассудок и опыт подсказывают, что главный исполнитель, срок пребывания у власти которого неограниченно продлевается, получает пожизненный пост… Я хочу, чтобы по истечении четырех лет он не мог быть избран на второй срок». — Том Джефферсон боится одного, я же — многих, — сказал Джон. — Мы пришли к полному согласию, что большинство должно иметь полное и справедливое представительство; Джефферсон опасается монархии, я же боюсь аристократии. Я бы дал больше власти президенту и меньше — сенату. Если мы сможем выбирать на пост президента самых способных, я не вижу, почему президент не может оставаться на этом посту пожизненно. Ведь народ сохранит возможность выдворить его по прошествии четырех лет, если президент окажется плохим. Даже многие англичане, непримиримые противники американской независимости, реагировали хорошо. Абигейл писала Коттону Тафтсу:«Форма управления, разработанная последним Конвентом, расценивается здесь как выдающееся достижение. Говорят, что к тому же она настолько хороша, что американцы ее не примут. Возможны некоторые изменения, но бесспорно предложена великая федеративная структура».Работа была добротно выполнена.
Декабрь 1787 года Джон и Абигейл встретили с чувством исполненного долга. Джон закончил третий том книги и послал его в типографию, стремясь к тому, чтобы к моменту постановки вопроса о Декларации прав и введения в действие конституционного правительства этот том также был бы доступен законодателям. Почти одновременно он получил сообщение от секретаря по иностранным делам Джона Джея, что Конгресс принял его отставку с поста полномочного посланника в связи с завершением его миссии в феврале. Подошло время готовиться к возвращению в Брейнтри. Абигейл набросала по памяти примерную схему дома Борланда, а затем прошлась по посольству, осматривая свою мебель, купленную в Голландии, Франции и Англии. Для гостиной, где она расставит свою красную мебель, подойдет, по ее мнению, французская серая краска. Если панели стен из красного дерева не очень изношены, она оставила бы их такими, как они есть, но она намерена прорубить два окна в стене со стороны сада. Для спальни над гостиной, где она разместит зеленую мебель Нэб, Абигейл остановилась на схожих по цвету зеленых обоях. Она просила Коттона Тафтса подыскать металлическую окантовку для дымоходов, латунные замки для дверей и обеспечить возможно быстрый ремонт с тем, чтобы они могли доставить свою мебель в дом прямо из гавани Куинси. С начала нового, 1788 года их дела пошли лучше, чем все время пребывания в Англии. Пришло сообщение, что Делавэр, Пенсильвания и Нью-Джерси ратифицировали конституцию после двухмесячного обсуждения; Джорджия, Коннектикут и Массачусетс вроде бы были готовы ратифицировать ее в скором времени. Нью-Йорк отказался созвать Конвент для ратификации, но опытные политические деятели вели блестящую полемику в пользу ратификации. В парламенте лорд Гренвил произнес речь в защиту Соединенных Штатов. Лорд Кармартен вызвал Джона и осведомился у него, поскольку ему нравится конституция и, по его мнению, она будет принята, не пришло ли время начать серьезные переговоры о торговом соглашении. Когда Джон рассказал об этом Абигейл, она воскликнула: — Действительно, самый момент порадовать нас! Накануне нашего отъезда. — Это пожелание доброго путешествия. Абигейл занялась упаковкой вещей. Мебель следовало уложить в ящики так, чтобы позолоченная резьба и изящные ткани не пострадали от длительного переезда по морю; бережно завернуть ее коллекцию столового стекла, а книги Джона разложить по категориям в пронумерованные ящики вместе со списками. Эстер, которой то и дело нездоровилось, рвалась во что бы то ни стало выполнить свои обязанности. Когда она почувствовала себя нездоровой и ее стало подташнивать, Нэб сделала соответствующие выводы. Абигейл спросила: — Эстер, прости мое вмешательство, но, может быть, ты беременна? Эстер не обиделась. Она ответила: — Нет, мадам. Это лишь проявление моих прежних хворей. Абигейл оставила разговор без последствий, но через несколько недель ошибка уже исключалась. — Эстер, это Брислер, не так ли? — Да, мэм, мы любим друг друга. Со времен Отейля. — Почему в таком случае вы не женились? — Потому что, когда мы захотели вступить в брак, мы были уже здесь, в Англии, и мы не пожелали, чтобы свадьба состоялась в епископальной церкви. — Может быть, мне удастся получить для тебя специальное разрешение, как для Нэб. Эстер сурово посмотрела на Абигейл: — Прошу прощения, мадам. Епископ Сент-Азафа обвенчает дочь американского посланника. Но он не придет в посольство, чтобы обвенчать двух слуг. Абигейл покраснела. — Мы решили подождать: когда вернемся в Брейнтри, обвенчаемся там. — Не будет ли это слишком поздно? Эстер грустно покачала головой: — Тогда, полагаю, мы должны обвенчаться в их церкви. Не будет ли это противозаконно в Соединенных Штатах? — Конечно нет. Мы организуем здесь небольшой семейный прием. Джон уехал в Голландию попрощаться с друзьями. Он не собирался добиваться нового займа, но в поездку с ним напросился Джефферсон, желавший получить заем. Джон договорился о займе для Соединенных Штатов в размере миллиона гульденов. Абигейл хотела погрузить все имущество на борт судна капитана Каллахана «Лукреция» в феврале, но приходилось то и дело откладывать погрузку: то ящики были не того размера, то не хватало упаковочного материала. К 11 марта она все еще отчаянно работала, желая получить остатки заказанной ею одежды, серебра и посуды и вывезти их из здания на площади Гровенор. Капитан Каллахан уведомил, что в ее распоряжении есть еще неделя. Абигейл справилась с задачей, несмотря на чувство горечи, вызванное смертью дядюшки Исаака, пережившего тетушку Элизабет всего на год. Она сожалела, что не могла сказать ему последнее «прощай». Возвратился Джон; перед домом в течение нескольких дней выстраивались в линию подводы, перевозившие его коллекцию произведений искусства, мебели и книг, скопившуюся за десять лет. После этого они переселились в гостиницу «Бат», где начиналось пребывание Абигейл в Англии. На них обрушилось одно последнее разочарование. Несмотря на множество полных энтузиазма писем Джона в Конгресс, ему не удалось обеспечить для полковника Уильяма Смита пост поверенного в делах ни в Лондоне, ни в ином месте. Полковник Смит был послан в Лондон в качестве секретаря миссии к посланнику Адамсу, и он отзывался одновременно с ним. Полковник Смит решил, что ему лучше не ждать Адамсов и не плыть в Бостон. Он хотел возможно скорее попасть в Нью-Йорк, с тем чтобы прощупать возможности получить пост в новом правительстве. Семья Смит упаковала вещи и готовилась выехать в Фальмаут. Последняя аудиенция у короля Георга III была трогательной. Абигейл и Джон часто слышали, что приземистый, полный, с отвисшей челюстью монарх не блещет умом. Его таланты были ограничены, казалось, что король больше заботится о своих личных делах, чем об управлении государством, но он постоянно проявлял сердечность к посланнику Адамсу и его супруге, потратив немало усилий, желая показать свое расположение к ним. — Мадам, я навсегда запомнил твердую позицию вашего мужа. Когда я предположил, что из своих земляков он не самый сочувствующий Франции, он ответил: «Я люблю лишь свою собственную страну». — А вы, ваше величество, ответили: «Честный человек никогда не полюбит другую». Король Георг прикоснулся к ее щеке. Они откланялись. Спускаясь по лестнице дворца к карете, Абигейл прослезилась. — Знаешь, что я припомнила из прошлого? Первый воскресный ужин, когда ты был в нашем доме и я процитировала слова из первой речи короля в парламенте. Я думала, что он король-патриот. — Ты им так восхищалась, что у меня пробудилась ревность. Я писал тебе: «Хотя моя преданность до сих пор была нерушимой, постараюсь сделать все, чтобы возбудить революцию». — Ты это и сделал, Джон.
Через четыре дня Абигейл и Джон выехали в Портсмут, надеясь на попутный ветер. Все уже было погружено на судно, при них был лишь саквояж с чистыми простынями и ночным бельем. По пути на юг по землям графства Суррей с их невысокими холмами, на которых проклевывался свежезеленый пунктир посадок, Абигейл сказала: — Мечтаю сбивать масло и варить сыр, ухаживать за садом. Джон словно походя спросил: — Ты уверена, что можешь вернуться к простой, неприхотливой жизни? — Ух, мне известны слухи в Брейнтри: дескать, я вернусь домой с беспримерной роскошью и экстравагантной. Но обещаю своим землякам, они этого от меня не получат. А как насчет тебя, Джон? Он отвернулся от нее, смотря через окно кареты, немало повозившей их по Франции и Англии, а сейчас медленно поднимавшейся по холму к тенистому лесу. Когда он вновь повернулся к ней, его лицо было серьезным, но глаза того же светло-зеленого цвета, что и весенняя трава Южной Англии. — Я намерен удалиться в Брейнтри как частное лицо. Никто не должен опасаться, что я позарюсь на его пост. — Разумеется, ты можешь получить какую-нибудь должность? — Сомневаюсь. Я всегда действовал слишком открыто и откровенно, чтобы завоевать популярность соотечественников. — Новая Англия знает цену тебе. — Возможно. Но я растратил ее за четырнадцать долгих лет служения нашему правительству. Кроме того, мои монархические принципы подвергаются критике. — Тучи пройдут. — Я никогда не смогу скрыть, что чувствую сердцем и что, по моему мнению, идет на пользу и обеспечивает счастье моим соотечественникам, даже если меня станут соблазнять самыми высокими постами в Соединенных Штатах. Абигейл напряженно всматривалась в его лицо. — Верю, что ты говоришь искренне, Джон. — Да. Вот уже десять лет, как я не был в стране. Мне нужно время, чтобы вновьврасти в нее. Я хочу привести ферму в рабочее состояние, пополнить библиотеку дома Борланда, когда правительство выплатит мне долг. Если нам потребуются деньги для учебы мальчиков, то я займусь посильной правовой работой. У меня нет иного желания, как прожить спокойно со своей семьей в качестве фермера и, быть может, писателя-историка. Абигейл сидела спокойно, под полом скрипели колеса кареты, спускавшейся с холма. Она прошептала: — Мы прожили наполненные событиями годы. Теперь мы будем снова вместе на своей собственной земле. Бог избавил нас вовремя.
ИРВИНГ СТОУН ТЕ, КТО ЛЮБИТ


Роман

КНИГА ВОСЬМАЯ ТАК ЗАРОЖДАЕТСЯ УТРО
1
Гром пушек разбил в пух и прах их надежды на мирное возвращение. Если бы не тревоги, связанные с рождением ребенка у Эстер, восьминедельное плавание через океан прошло без особых волнений. И вот они на палубе корабля «Лукреция» в тот самый момент, когда на горизонте показался маяк. После восьми лет жизни на чужбине Джону так хотелось увидеть свой любимый Массачусетс; после четырех лет разлуки с сыновьями Абигейл с трудом подавляла внутреннее волнение при мысли, что наконец-то встретится с ними. Батарея замка отдала салют в честь Джона Адамса. При подходе судна к причалу навстречу вышел катер на борту которого находились секретарь штата и члены принимающего комитета, которым губернатор Джон Хэнкок поручил приветствовать Джона и Абигейл Адамс и пригласить их в дом губернатора, на официальный обед. Едва Джон и Абигейл ступили на пирс, как две тысячи жителей Бостона, столпившиеся вокруг кареты губернатора Хэнкока, закричали «ура!». Зазвонили колокола. Грохот пушек замка всколыхнул бостонцев. Высыпавшие на улицы мужчины, женщины и дети размахивали платками и шляпами, приветствуя карету, запряженную четверкой гнедых, которая медленно двигалась к дому губернатора. Абигейл положила свою ладонь на руку Джона. Он озадаченно покачал головой: — Я не ожидал ничего подобного. Памятуя о том, как мало сделал и во многом осрамился… — Ты кажешься лучше Массачусетсу, чем самому себе. Карета приблизилась к парадному подъезду особняка Хэнкока на Бикон-стрит по другую сторону общинной земли. На открытой веранде перед распахнутой дверью стоял в парадном мундире при всех орденах губернатор Хэнкок. Его лицо было по-прежнему красивым, но годы и подагра сделали его высокую фигуру согбенной. Его жена Дороти и в свои сорок лет сумела сохраниться в роли признанной королевы красоты Бостона. За губернатором и его супругой стояли: давний друг, ныне занимающий пост вице-губернатора Бенджамин Линкольн, генерал времен революции, Роберт Трит Пейн — генеральный прокурор Массачусетса, расплывшийся в приветственной улыбке, Сэмюел Адамс, седой как лунь и с кислым выражением лица, в настоящий момент не занимавший официального поста, но сумевший исправить свои отношения с губернатором. Среди встречающих были другие члены правительства Массачусетса. Выдвинув вперед свое мощное тело, — его вес достигал полтора центнера, — Генри Нокс прогудел оглушительным басом: — У меня самая приятная для вас новость — письма от вашей дочери из Нью-Йорка. Она благополучно прибыла на место после спокойного плавания. Пришли также послания от Чарли и Томми. Они приедут из Кембриджа на следующий день. Дороти Куинси Хэнкок избавила Абигейл от докуки политического приема, уведя ее в гостевую комнату. В комнате, задрапированной дамастом желтого цвета, с оконными занавесями того же цвета, стояла кровать красного дерева с балдахином, а вдоль стены кресло и десять небольших стульев, обтянутых такой же тканью. В зеркалах отражались языки пламени в камине. Дороти поинтересовалась, как живет ее сестра Эстер Сиуолл. — Бедный ребенок, — вздохнула она, — ей так не хотелось уезжать из дома. Абигейл понежилась в просторной ванне Дороти. Прислуга Хэнкока отутюжила церемониальный костюм Джона и атласное платье Абигейл. За обеденным столом собралось пятьдесят гостей: члены совета губернатора, главы департаментов, ведущие выборные лица Бостона, различные давние друзья. Было провозглашено много тостов в честь возвращения четы Адамс. Абигейл старалась поймать взгляд Джона, оживленно беседовавшего с соседями по столу. Выражали ли роскошный банкет и превосходная официальная встреча признание его прошлых заслуг или же предвещали нечто новое? Супруги Адамс прибыли домой в благоприятный момент. Выезжая из Лондона, они знали, что лишь три штата ратифицировали конституцию: Делавэр, Пенсильвания и Нью-Джерси. До них не дошли известия о ратификации конституции Джорджией, Коннектикутом и Массачусетсом. Теперь же они узнали, что в апреле ее ратифицировали Мэриленд и в мае — Южная Каролина. Требовался еще один голос для образования федерального правительства. В Бостоне говорили, что соседний штат — Нью-Гэмпшир подпишет конституцию в ближайшие дни, что к тому же готовится Виргиния, а Нью-Йорк сделает это в ближайшие недели. Джон Адамс добрался до дома в июне 1788 года, когда вот-вот должно было родиться государство, ради которого он так долго и героически боролся. «И именно это, — решила для себя Абигейл, — я праздновала на этом приеме». На следующий день члены Генерального суда приняли Джона в палате представителей. Его почтили обе палаты законодательного собрания. Ему было предоставлено постоянное кресло, чтобы «он мог, когда пожелает, принять участие в дебатах». Исполняющий обязанности спикера зачитал документ, объявлявший, что Джон Адамс избран представителем в Конгресс на годичный срок. Вернувшись в большую гостиную Хэнкока, они увидели там Чарли и Томми. Абигейл хотелось обнять и расцеловать сразу обоих мальчиков. Но на пороге она заметила двух молодых людей с пышной шевелюрой, в кипельно белых рубашках и серых жилетах, и не поверила глазам своим. Чарли исполнилось восемнадцать лет, он поступил на первый курс Гарварда. Его лицо, похожее на лицо Нэб, было тонким, аристократическим. Он тепло, но слегка иронично улыбался. В свои пятнадцать с половиной лет Томи был поменьше ростом и более плотным, его лицо сохранило простое, открытое выражение. Момент для спонтанных поцелуев был упущен. Юноши осторожно приблизились к своим родителям, поклонились, пожали руки, пробормотали, как приятно вновь увидеть маму и папу. Джонни, сказали они, чувствует себя хорошо и будет в Бостоне, как только найдет транспорт из Ньюберипорта, где он стажируется у видного юриста Теофила Парсонса. В доме губернатора все они, казалось, чувствовали себя подавленными. Чарли прошептал: — Мы не дождемся встретиться дома, ма. В тот вечер, когда Джон и Абигейл удалились в отведенную им комнату и сели отдохнуть на покрытой приятным дамастом софе, Абигейл прочитала сообщение в дневном выпуске «Массачусетс сентинел»: «На всех лицах было выражение радости, и каждый свидетельствовал, что одобряет выдающиеся услуги, оказанные Его Превосходительством обретающей свободу стране, где люди считают себя федералистами и способны выразить свою признательность». — Приятно, — отметил Джон. Его щеки порозовели с того момента, когда он услышал канонаду пушек замка. — Я знаю, что не нужно хвалить человека, выполняющего свой долг, но, не кривя душой, честно скажу, что такое доставляет удовольствие. — Может быть, мне следует переадресовать отправку мебели на Нью-Йорк? — спросила Абигейл, явно провоцируя Джона. — Разумеется, нет. — Тебе хотелось бы быть в сенате? — Друзья предложили мне такой пост. Думаю, что он мне не подходит. Сенат — не такой многочисленный орган, но он все же часть законодательной власти. Я уже прослужил десять лет в законодательных органах. На следующее утро их посетил Фрэнсис Дана. Он плохо выглядел. — Как давний друг могу ли я высказать соображение? — спросил он. — Конечно. — В таком случае я прошу тебя немедленно ехать в Нью-Йорк. Комитет Конгресса, который определит состав аппарата правительства, будет утвержден в начале июля. Ты должен возглавить обсуждение этого вопроса. Десять лет тебя не было здесь. Тебя еще знают в Новой Англии, но в остальной части страны намного хуже. Возглавив обсуждение вопроса о правительстве, ты станешь известен всем и обеспечишь себе возможность занять самый высокий пост в новом правительстве. — Не думаешь ли ты, что я могу стать президентом? — спросил Джон. — Президентом станет Джордж Вашингтон. Этого желает народ. Он считает Вашингтона победителем в войне. Как президент, одобренный Конвентом, Вашингтон более, чем кто-либо иной, может объединить страну. Опасаюсь, что без него мы не смогли бы обеспечить ратификацию конституции. Он гений в том, чтобы убедить людей действовать согласованно. Идея формального союза приемлема для многих, которые считают, что Джордж Вашингтон станет президентом. Выпалив это, Дана замолчал и через некоторое время продолжил. — Но разве ты не видишь свое место, Джон? Поздно вечером, когда они лежали в кровати под балдахином, Абигейл приподняла голову, опершись на локоть, и спросила: — После ратификации Нью-Хэмпширом как развернется кампания национальных выборов? — Мы еще не уверены. Для палаты представителей и сената схема простая: законодательное собрание каждого штата избирает двух сенаторов. Делегаты в палату представителей будут выбираться в каждом штате прямым голосованием: по одному представителю от тридцати тысяч жителей. Это означает, что свыше миллиона могут голосовать за своих представителей в Конгрессе… — Ты не проявил сочувствия к моей просьбе помнить об интересах женщин, — прошептала Абигейл. Джон покраснел. — Хотя женщины не имеют права голоса, они будут жить в республике, где законы свободных людей их защитят… — Да, Джон… А как с президентом и вице-президентом? — Конституция гласит: каждый штат в соответствии с решением своего законодательного собрания назначит выборщиков, число которых равно числу сенаторов и представителей данного штата в Конгрессе. Эти выборщики проголосуют за президента и вице-президента. После подсчета всех баллотировок может быть учреждено федеральное правительство в предназначенном для него месте. — А где оно будет? — Одному Богу известно! По моим сведениям, предпочтения поровну разделились между Нью-Йорком и Филадельфией. Немало крови будет пролито до окончательного решения вопроса. — Кто выдвигает кандидатов на посты президента и вице-президента? Сколько крови пролито до решения этого вопроса? Джон выбрался из-под одеяла и, заложив руки за спину, начал ходить по комнате в длинной до пят ночной рубахе. Абигейл удивилась, какие глубокие появились на его голове залысины, отблескивая при свете лампы. — Нет заранее предписанных норм выдвижения. Группы, желающие выдвинуть кандидата, собираются в неофициальном порядке и составляют процедуру. Так будут действовать правительственные лидеры в каждом штате. Они постараются подобрать выборщиков, которые проголосуют за их кандидатов. Отдельные лица и группы могут свободно отстаивать своих кандидатов в газетах. В каждом штате возникнут общества с целью убедить соседей. Я, как историк, не в состоянии определить, насколько успешна такая процедура, до ее использования и изучения результатов. Все, что я знаю сейчас: Генеральный суд Массачусетса избирает двух свободных выборщиков, затем из списка двадцати четырех, представленного от восьми районов по выборам в Конгресс, будут отобраны восемь. Эти десять выборщиков, не входящие в состав правительства, соберутся в палате сената Массачусетса и простым большинством голосов выберут кандидатов на посты президента и вице-президента. Абигейл сочла нескромным спросить, знает ли он, каким будет окончательный итог.2
Они спешили переехать в новый дом. Джон уехал первым, чтобы проверить его состояние. Абигейл, ожидавшая приезда сына Джона Куинси, решила заняться покупками. — Губернатор предложил проводить нас в Брейнтри, — объявил Джон, — в сопровождении легкой кавалерии. Брейнтри намечал образовать комитет, чтобы встретить нас у Милтон-Бридж. Но я отклонил такое предложение. Я хорошо знаю своих сограждан. Они могут смириться с тем, что Бостон оказывает нам почести; ведь они направлены и в их адрес. Но если бы они явились к Милтон-Бридж на церемонию, то, увидев, как мы выходим из роскошной кареты Хэнкока, подумали бы: «Не вознеслись ли они слишком высоко? Мистер Адамс уже задается». Твой кузен Уильям Смит предложил мне коня. Я скромно приеду верхом в родные места, как любой другой гражданин. Джон уехал вскоре после рассвета. В восемь часов утра в карете Хэнкока Абигейл отправилась в лавки. Июньский день был прозрачным и теплым; в гавани покачивалось на якорях множество судов. Абигейл глубоко дышала, ощущая знакомый запах моря. Год назад Бостон пережил самый большой пожар со времен Революции. Более сотни зданий на Бич-стрит сгорели дотла. Сгорел и дом собраний на Холлис-стрит. Но бостонцы были неутомимы: сгоревшие кварталы быстро отстроили; восстановили мост на Чарлз-ривер, молодой Чарлз Булфинч перестроил дом собраний в новом стиле: с двумя наружными куполами и тосканской верандой. Вернувшись в половине одиннадцатого в дом губернатора, Абигейл увидела там Джонни. Ей показалось, что он не изменился. Его одежда была небрежной, волосы — растрепаны, но ведь он находился в пути три часа! Абигейл все же запамятовала, каким нежным он был всегда. — Дорогая мама! Как приятно тебя видеть. У меня такое чувство, словно после долгой разлуки я встретился с близким и дорогим другом. Она прижала сына к груди и положила голову на его плечо. Будучи девушкой, она мечтала о друге, повторяла про себя свою любимую фразу: «Друг достоин любого риска». Она нашла такого друга в лице Джона Адамса. На протяжении всей совместной жизни они были самыми близкими друзьями, вместе переживая все неприятности. А теперь, в новом поколении, Абигейл нашла в лице старшего сына еще одного близкого друга. Ради него она шла на риск: позволила ему пересечь океан во время войны, разлучалась с ним на пять лет, когда он поехал в Европу, чтобы занять пост секретаря в американском посольстве в царской России; затем послала его на родину для завершения образования, и это означало еще три года разлуки. Сын нежно любил ее, а она — его. Джонни шептал ей на ухо: — Не было никакого транспорта. Целых два дня, когда вы были уже здесь… Я повторял строку из «Ричарда Третьего»: «Коня! коня! Королевство за коня!» Но, мама, я могу провести с тобой и папой целый месяц. Мистер Парсонс сказал, что я занемог, переучившись.Дом Борланда в Брейнтри после дворца в Отейле и здания на площади Гровенор оказался не таким, каким она помнила его. Низкие потолки превращали дом в подобие курятника. Коттон Тафтс продолжил постройку крыла, предназначенного для кухни, основу которого заложил Ройял Тайлер. Были построены одна спальня на втором и две на третьем этаже. Коттон стремился ускорить ремонт и закончить его к приезду Джона и Абигейл, но не успел. Когда Абигейл прибыла в Брейнтри, в доме сновали плотники, каменщики и маляры. Ящики с мебелью, не вскрывая, пришлось затащить на чердак. Недовольная кухонной пристройкой, она просила плотников переделать ее, а также прорубить большие окна в стене комнаты, отделанной панелями красного дерева. Эти окна по обе стороны камина выходили в залитый солнцем западный сад, где она высадила розы, привезенные из Англии. Когда окна были готовы, она закрасила темные деревянные панели белой краской. Джон смастерил полки для книг в бывшей столовой, и она стала его библиотекой. Спальни были оклеены новыми обоями. Открыв ящики на чердаке, они обнаружили, что за время восьминедельного плавания со стульев осыпалась позолота, а часть обивки покрылась плесенью. Абигейл возмущалась: — Не нужно было тащить сюда эту мебель. За три недели они сделали дом пригодным для жизни, перевезли в него свою двуспальную кровать и секретер Джона из прежней конторы. В пятницу 11 июля 1788 года Джонни исполнился двадцать один год. В связи с этим ожидался приезд родственников. На заходе солнца Джон с тремя сыновьями выкупались в ручье. А для Абигейл Эстер налила в кухне воду в старинную дубовую бочку. После мытья члены семьи надели свои лучшие одежды, уселись на стулья, обтянутые красным дамастом, а Джонни на бархатную софу и подняли в честь героя дня бокалы с мадерой. Семья Адамс гордилась Джонни. Лучший студент в своей группе, он был удостоен чести произнести обращение Фи Бета Каппа в сентябре в Кембридже перед нотаблями Новой Англии. Восприимчивый Джонни подражал своему отцу интонацией и жестами. — Итак, Джонни, чувствуешь себя мужчиной? — спросил Джон. Джонни ответил с усмешкой: — Возмужалость снимает с меня ярмо родительской власти, которое я никогда не чувствовал, и ставит на ноги, но они еще не столь крепкие, чтобы твердо стоять на них. Чарли и Томми боготворили Джонни, но повадки сыновей были такие разные, словно их произвели на свет разные родители. Веселый, с жизнерадостным юмором, Чарли, был самым красивым из трех мальчиков и осознавал это. Он считался любимцем в танцевальном классе Хаверхилла, когда жил в семье Шоу. Поговаривали, что он водит в Бостоне дружбу с любителями игр, выпивок, флирта с женщинами. Самым серьезным и спокойным был Томми, а Чарли — забавным и склонным к озорству. Брислер объявил, что обед подан. Они прошли через прихожую и библиотеку, где некогда была столовая. В помещении пахло свежеоструганными досками, из которых Джон смастерил полки, где были аккуратно расставлены сотни книг. Стол Абигейл привезла из Лондона, он был накрыт лучшей семейной скатертью и сервирован серебряными блюдами и французским стеклом. Сыновья встали полукругом, желая помочь матери сесть за стол. Эстер принесла из кухни сочный ростбиф. В тот момент, когда они смаковали французское вино, Джонни задал волновавший семью вопрос: — Отец, ты решил, чем займешься? Взгляды всех устремились к хозяину дома. — Что со мной будет? В моем возрасте это вроде бы не вопрос, но он есть. Скажу вам, сыновья, видимо, вашего отца не так уж высоко ценят или уважают в нашей стране. Я почти выключен из событий. — Но, папа, — вмешался Томми, — помнишь пушки, колокола, губернатора Хэнкока и встречавшие тебя толпы? Джон поколебался, а затем решил раскрыть сыновьям истину: — Пусть вас не обманывает мой давний друг Хэнкок. Он организовал спектакль, чтобы замаскировать тот факт, что считает меня соперником. Любой пост, к которому я могу стремиться, он хочет держать под своим контролем. — А ты стремишься, отец? — спросил Чарли. Абигейл прислушалась к рассуждениям мужа, отказавшегося принять назначение в Конгресс. — Чарли, глас народа, видимо, решил отдать другим все посты, какие я мог бы с честью принять. Нет иной возможности, как замкнуться в домашней жизни или же вновь уехать за границу. — Джон, ты, конечно, не поедешь! — воскликнула пораженная Абигейл. — Не поеду, я не приму новый пост за рубежом. Но, мои дорогие, вы скорее услышите, что я отправился в торговую поездку в Ост-Индию или в Британскую Гвиану, чем позволю себе опуститься ниже своего общественного уровня. Воскресенье выдалось ясное и знойное. Мальчики поставили в тени каштанов козлы и положили на них доски; получилось два стола, каждый на тридцать человек. Первой приехала мать Джона, ей исполнилось семьдесят девять лет. Ее лицо покрыла паутина морщин, но глаза озорно сверкали, и она воскликнула: — Дочурка Абигейл, когда ты уехала, я плакала: «Какой несчастный день, я больше не увижу тебя». Но я поклялась: «Не умру, пока мои дети не вернутся домой». Питер Адамс привез свою мать вместе с тремя дочерьми и сыном. Восемь лет назад он овдовел и не испытывал ни нужды, ни желания вновь жениться. Его мать вела домашнее хозяйство и воспитывала молодежь. Коренастый, флегматичный Питер, казалось, был доволен своей жизнью. Он напомнил Абигейл: — Помнишь, когда я помог Джону стать членом городского управления, я определил и собственную программу действия? Я поднимался вверх по лестнице со ступеньки на ступеньку: констебль, член комитета по рыболовству, сборщик церковной десятины, член городского управления, председатель собрания. Теперь я практически руковожу этим городом. Затем прибыли Сэмюел и Бетси Адамс, выехавшие из Бостона рано утром. С ними была дочь Сэмюела Ханна, вышедшая замуж за младшего брата Бетси. Сэмюел приехал пораньше с явной целью обсудить с Джоном обстановку. Как член Конвента Массачусетса, он голосовал за ратификацию конституции, но высказал при этом серьезные оговорки, противопоставившие его значительной части населения штата. Сэмюел выглядел старше своих лет. Он потерпел поражение при голосовании на пост сенатора, а затем был побит в заявке на пост вице-губернатора. Однако у него всегда была работа: судьи или члена управляющего совета. Сэмюел и Джон уселись на тенистой стороне каретного сарая. — Сэм, что не нравится тебе в конституции? — тотчас же спросил Джон. — Я спотыкаюсь уже на пороге. — Но если ты примешь мой тезис о балансе властей, обеспечивающем свободу… — Не торопись, кузен. Мне претит национальное правительство вместо федерального союза суверенных штатов. Если несколько штатов станут единой нацией, находящейся под властью одного законодательного органа, распространяющейся на все законодательные проблемы, а издаваемые им законы будут считаться верховными и полностью контролировать это единство, тогда в этих штатах отпадет идея суверенитета. Будет ли такая национальная легислатура достаточно компетентной, чтобы разрабатывать законы для свободного внутреннего управления одним народом?.. Беседа была прервана прибытием Исаака Смита-младшего и его брата Уильяма. Уильям был точной копией своего отца: открытое лицо, прямой в разговоре и в то же время проницательный. Он продолжал настойчиво развивать семейный бизнес, построил дополнительно два судна, одно из которых предназначалось для прибыльной торговли с Китаем. Исааку-младшему было около сорока лет. Он облысел и одновременно избавился от тех приобретенных идеалов, которые побудили его указать лорду Перси и его красномундирникам правильную дорогу из Кембриджа в Лексингтон. Он работал в качестве опекуна в мужской школе, с трудом сводил концы с концами. — В будущем году его назначат на должность библиотекаря в Гарварде, — признался Уильям. — Оклад там невысокий, но это место его устраивает. Абигейл не спускала глаз с Исаака-младшего. — Исаак — жертва войны, — прошептала она про себя, — как мой брат Билли и брат Джона Элихью. Приехало семейство Кранч. Крепко скроенная Мэри стала еще более похожей на свою величественную мать, а Ричард после длительной болезни выглядел на десять лет старше. Их сын Билли закончил учебу в Гарварде вместе с Джонни и проходил стажировку у адвоката в Бостоне. Молодая Элизабет была помолвлена с преподобным Джекобом Нортоном, занявшим место преподобного мистера Смита в уэймаутской церкви и купившим у своей будущей тещи семейный дом, где родились Мэри, Абигейл, Элизабет и Билли. Мэри сказала Абигейл, что со времени службы Ричарда в качестве мирового судьи и сенатора штата он считается патриархом Брейнтри. Элизабет и преподобный мистер Шоу вышли из дома. Их шумно приветствовали мальчики. Чарли воскликнул: — После учебы у дядюшки Шоу Гарвард кажется девичьей школой! Гости съезжались так быстро, что Абигейл едва успевала принимать их. Коттон Тафтс удивил всех, явившись в сопровождении Сюзанны Уорнер, моложе его на двадцать лет и красневшей, восхищенно глядя на Коттона. Коттон был подстрижен и обходился без очков. На нем был красивый новый костюм и тонкая плиссированная сорочка. Ханна Сторер прибыла с церковным старостой Сторером и шепнула Абигейл, что она более счастлива с ним, чем со вспыльчивым доктором Белом Линкольном. Джон Такстер, клявшийся Абигейл, что останется холостяком, привел свою молодую жену. Катарина Луиза приехала со своими детьми. Старший Билли проходил стажировку в лавке, готовясь стать продавцом. Младшая Луиза бросилась в объятия Абигейл и со слезами просила разрешения возвратиться в дом Адамсов на правах члена семьи. Осунувшаяся Катарина Луиза не помышляла о новом замужестве. — Я уповаю теперь больше, чем когда-либо, на Господа Бога. Он беседует со мной денно и нощно. Они сели за стол в полдень. Плотная листва каштана укрыла от солнца гостей, среди которых было девятнадцать детей различного возраста. Постаревший преподобный мистер Уиберд прочитал дрожащим голосом молитву. Ричард Кранч отодвинул стул, встал и, подняв свой бокал, провозгласил: — За первого вице-президента Соединенных Штатов! Абигейл бросила быстрый взгляд на Джона. На его лице была бесстрастная маска.
3
Абигейл искала по всей округе мастеров, чтобы восстановить позолоту и обивку стульев. Джон занялся приведением в порядок фермы, работая за десятерых. Он убирал с поля камни, возводил ограду, пахал, привозил с побережья водоросли и покупал где только возможно компост. Однажды он вернулся в полдень с шестью коровами гернсейской породы. Подогнав их к двери кухни, он позвал Абигейл и показал ей стадо. — Боже мой, что это такое? — Коровы. — Скажи пожалуйста! И что мы будем делать с ними? — Доить. — Ты забыл, что у нас нет хлева? — Святой Боже, нам придется его построить. — К наступлению сумерек? Джонни и я как раз занимались подсчетом, во что обойдется ремонт дома и приведение фермы в порядок. Мы израсходовали пять тысяч долларов, сумму, близкую к той, которую задолжало тебе правительство. Джон сел на порожек кухни, его лицо покрылось каплями пота. — Я загоню их в наш старый хлев. Нэбби, мне так не терпится стать фермером. Это был последний вечер перед возвращением Джонни на учебу в Ньюберипорт. Семья Адамс уселась вокруг стола в библиотеке, где лежали бухгалтерская книга, счета, расписка и официальные оценки имущества. Джонни подсчитал, что их материальная собственность, включая дома, фермы, мебель и книги, достигла двадцати тысяч долларов. Земля приносила небольшие доходы; дом в Бостоне, сданный в аренду, давал сто сорок долларов в год и к тому же нуждался в ремонте. Принадлежавшая Абигейл половина фермы Мидфорд покрывала расходы на учебу Чарли и Томми. Несколько тысяч долларов, вложенных в государственные бумаги, не принесут процентов до тех пор, пока новое правительство не примет обязательства их выплатить. — Мне нужна столовая, — вздохнула Абигейл. — Джон, если мы оборудуем столовую за библиотекой, то будем носить еду прямо из кухни. — Мы должны подождать. Семь-восемь месяцев, пока не будет решен вопрос о выборах. — Не мог бы ты заняться правом, папа? — Нет, Томми. Если меня выберут, мне придется отказать клиентам в разгар слушания их дела. — Разве такой довод не касается фермы? — в голосе Абигейл прозвучало упорство. — Не думаю. Ферма обеспечит нас хорошим урожаем. Мы всегда можем нанять работников или договориться об издольщине. Абигейл подумала о Пратте, который вел полевые работы на правах издольщика на старой ферме Адамсов; но все, что он сумел вырастить, это куча детей. Она прикусила язык. В последующие несколько дней Джон закупил кур, уток, индюшек, гусей. Когда практичный Томми спросил, не хватит ли птицы, Абигейл ответила: — Ты знаешь, отцу нельзя сказать «нет».В этот переходный период Джон читал, сортировал бумаги, разбирал ящики с книгами. И вот уже стена с камином плотно заставлена книгами по истории, восточная стена — книгами по юриспруденции, а сам он погрузился в размышления о своей собственной стране. Джона посетили друзья, убеждавшие его занять кресло председателя дряхлеющего Конгресса, но он решительно покачал головой — «нет». — Если мое будущее в общественной жизни зависит от того, какое оперение я получу, став на неделю или день председателем Конгресса, то в таком случае до конца своей жизни буду заниматься частными делами. Я желаю служить обществу в роли мужчины, а не ребенка; на почетных, а не тщеславных принципах. Абигейл занималась окучиванием роз. Ничто не изменило присущее Джону и ей умение трезво оценивать обстановку. Соединенные Штаты были в настоящее время намного слабее, чем в любое другое с момента Банкер-Хилла.[1] Абигейл и Джон были поражены, как много добропорядочных людей в каждом штате Союза яростно выступали против федеральной конституции. Они боялись, как показал кузен Сэмюел, что будет растоптан суверенитет штатов; что под предлогом «всеобщего благоденствия» власть предержащие создадут тиранию. В новый дом поступали письма, газеты, приходили друзья, чтобы обсудить этот вопрос. Джон соглашался, что полномочия федеральной власти должны быть ограничены; он полагал также, что намечаемый Билль о правах обеспечит защиту всем. На этом основании он стал во главе федералистов, тех, кто одобрял федерацию и сильное центральное правительство. Проведенные в Европе годы убедили его, насколько это важно. Хотя выступавшие против федерации не были организованны, казалось, что они могут получить перевес в новом сенате и палате представителей. Нэб писала из Нью-Йорка: все говорят о том, что Джон должен занять пост вице-президента или верховного судьи. Доктор Бенджамин Раш сообщал из Филадельфии: Пенсильвания, бесспорно, поддержит его кандидатуру. Генерал Генри Нокс приехал в качестве эмиссара Александра Гамильтона, влиятельного лидера федералистов Нью-Йорка, чтобы выяснить, согласится ли Джон Адамс на меньшее, чем должность вице-президента. Когда Нокс уведомил Гамильтона, что не согласится, тот дал понять, что поддержит кандидатуру Джона Адамса на пост вице-президента. Печать все шире выступала в его пользу. Поскольку Джордж Вашингтон представлял Юг, то многие граждане считали, что вице-президентом должен стать представитель Севера, что подразумевало — Новой Англии. Однако упоминались также имена Джона Джея и губернатора Джорджа Клинтона, представлявших Нью-Йорк. В Массачусетсе знали, что губернатор Хэнкок мечтал занять кресло вице-президента. Джеймс Уоррен и кузен Сэм были против конституции, и это заведомо исключало их кандидатуры. Фрэнсис Дана, Генри Нокс, Калеб Стронг, Тристам Дальтон, генерал Линкольн? Могут ли эти люди оказать влияние на всю нацию? Письма Нэб содержали и другую информацию. Полковник Уильям Смит, как прославленный герой революционной войны и друг генерала Вашингтона, как секретарь миссии в Лондоне, приобрел положение важного и уважаемого человека. Дома, на Лонг-Айленде, он был всего лишь одним из четырех сыновей и шести дочерей властной матери. Нэб нравились братья и сестры Уильяма, но она скучала по своим родителям, своим братьям, по Новой Англии. Она вновь забеременела, и это вызвало серьезные проблемы. Полковник Уильям не работал и не стремился к работе. Он коротал дни в охоте за перепелами и куропатками, пил со своими братьями. Благодаря тому что Нэб экономно вела домашнее хозяйство, у них было достаточно денег, чтобы прожить год, и поэтому полковник явно не спешил найти работу. Во всяком случае, полковник Смит ожидал, что если его друга Джорджа Вашингтона выберут президентом, то он, Смит, получит высокий пост в правительстве, предпочтительно посланника в какой-либо европейской стране. Абигейл успокаивала как могла свою дочь: госпожа Смит на правах матери мужа имеет право на уважение Нэб, на терпение и всепрощение. Джон не был столь мирно настроен по поводу будущей карьеры полковника Уильяма. Он писал Нэб: «Я желал бы услышать о нем как о члене ассоциации адвокатов, которая, по моему мнению, является самым надежным местом на земле. Добивающийся общественной должности, как я полагаю, — несчастный человек… Я скорее выкопаю собственными руками из земли то, что мне нужно, но не стану зависеть от общественной или частной благосклонности; именно это — неизменное правило моей жизни». Джон отказался вести кампанию за пост вице-президента, за должность, которая, по его убеждению, ему подходила. Он не выступал с речами, не посещал собраний, не созывал совещаний на дому. Его друзья работали на него не покладая рук. Поток писем, поступавший из различных штатов, свидетельствовал в его пользу. За него будет голосовать Новая Англия, ибо у Джона Хэнкока слишком много врагов. В письме президента колледжа Йель сообщалось, что Джону присвоена почетная ученая степень и выражалось пожелание его избрания на вторую почетную должность в стране. Доктор Раш старался сплотить избирателей Пенсильвании вокруг кандидатуры Джона Адамса, откровенно надеясь, что Джон поможет вернуть место пребывания правительства в Филадельфию. Большой неожиданностью явилась позиция южных штатов, оказавших сильную поддержку. Один из лидеров Виргинии, Артур Ли, писал, что его штат считает кандидатуру Адамса приемлемой. Другой столп Виргинии, Ричард Генри Ли, считал, что пост вице-президента должен принадлежать Джону. Дэвид Рамсей из Южной Каролины говорил своему другу, что Джон Адамс должен занять любой подходящий ему пост при генерале Вашингтоне как президенте. Александр Гамильтон из Нью-Йорка писал Джеймсу Мэдисону в Виргинию, что следует избрать Джона Адамса вице-президентом, чтобы жители Новой Англии были довольны новым федеральным правительством. Как казалось Абигейл накануне совещания выборщиков для проведения голосования и перед пересылкой результатов в Конгресс, у Джона Адамса не было серьезных противников. Правда, выборщики не проголосуют единодушно, как за Вашингтона; часть голосов будет отдана губернатору Нью-Йорка Клинтону, Джону Джею и даже Джону Хэнкоку. Но все они, вместе взятые, не соберут более дюжины голосов. Не собрали бы, если затем положение неожиданным и непонятным образом не осложнилось бы. Абигейл узнала об этом от бостонских друзей. Стало известно, что Александр Гамильтон рассылает письма некоторым своим доверенным союзникам с рекомендацией «отколоться», не голосовать за Джона Адамса и не позволить ему получить внушительное большинство. Ведь если это случится, то Джон Адамс станет оспаривать влияние Гамильтона среди федералистов. Гамильтон хотел избрания Адамса, но незначительным большинством. В эти недели испытаний Джон сохранял спокойствие. Многие его сторонники приходили к нему на обед, на чай или просто ради политических дискуссий о том, как наладить работу нового правительства. Он никогда не говорил о желании занять пост вице-президента или о своих достоинствах, позволяющих претендовать на такой пост. Он вел себя со сдержанностью историка, а не кандидата в разгар избирательной кампании. Такая скромная роль нравилась жителям Новой Англии и забавляла его жену. Джон и Абигейл варили сидр, сушили груши, забили двух коров, заготовили солонину и бекон. Все это было убрано на зиму в холодной части погреба. К декабрю в штатах развернулась избирательная кампания по выборам в местные и национальные органы. Сэмюел Адамс выставил свою кандидатуру в федеральную палату представителей от графства Суффолк, но потерпел поражение от федералиста Фишера Эймса. Массачусетс избрал своих выборщиков для выборов президента и вице-президента. После многих недель борьбы в Конгрессе Нью-Йорк был назван резиденцией правительства. Джон Адамс и большинство южан поддерживали Филадельфию, но ее сторонники не смогли завоевать большинство, и им пришлось уступить, опасаясь, как писал Джеймс Мэдисон генералу Вашингтону, «удушить правительство в его колыбели». В первую среду в феврале 1789 года выборщики от одиннадцати штатов должны были проголосовать за президента и вице-президента, а потом послать с курьером итоги голосования в Конгресс в Нью-Йорке. Ни в одном штате никто не голосовал против Джорджа Вашингтона. По грубым подсчетам, Джон Адамс должен был уверенно получить большинство в шестьдесят девять голосов. Он их не получил. Эльбридж Джерри, вошедший в новый Конгресс в Нью-Йорке, письмом от 4 марта 1789 года сообщил чете Адамс, что Джон был избран только потому, что его кандидатура получила больше голосов, чем другие, — тридцать четыре голоса, то есть менее половины числа выборщиков. Стратегия Гамильтона сработала. Джон сердился, считая себя униженным. Итоги выборов не удовлетворяли его. Он сомневался, следует ли принимать пост. — Ты не можешь отказаться, Джон, — твердо заявила Абигейл. — Ты выбран на законном основании. В конституции нет других положений об избрании вице-президента. — Знаю. Но мои сухожилия подрезаны. Ежедневно будут возникать важные вопросы, а у нас нет готовых решений. Как вице-президент, выбранный меньшинством, я не смогу оказывать большого влияния. — Ты станешь влиять своим опытом. Ни у кого нет такого большого опыта работы в Конгрессе и за рубежом. Это немного успокоило Джона. Она редко видела его таким удрученным. Спокойные месяцы остались позади. Он побледнел, у него дрожали руки. У Абигейл были свои заботы: что делать с домом, фермой, живностью? Ведь потребуются наличные, чтобы переехать в Нью-Йорк и найти там очаг. Абигейл и Джон отмалчивались, скрывая свою озабоченность. Их окружала тьма зимней ночи. Джон подошел к окну, посмотрел на застывшие кусты роз, посаженных Абигейл. Не оборачиваясь, он заговорил: — Когда придет официальное извещение о моем избрании, мне лучше поехать одному в Нью-Йорк. Джон Джей изъявил готовность предоставить жилье в его доме. Таким образом, я смогу созвать сенат, как только соберется кворум. После того как Конгресс определит оклад президента и мой, я займусь поисками подходящего дома для семьи… Абигейл почувствовала, как слезы набежали на ее глаза. Что бы ни происходило, ее удел предопределен: она остается в одиночестве, ей придется заниматься севом, нанимать работников, платить долги. Джон пересек комнату, сел и прижался к ней. — Это ненадолго, всего на несколько месяцев. Потом у нас будет подходящий дом, а рядом Нэб и ее два сына. Мой брат Питер согласился взять под свой контроль ферму после твоего отъезда ко мне. Лишь 12 апреля в Брейнтри пришло официальное извещение Конгресса об избрании Джона вице-президентом Соединенных Штатов. На следующий день Джон и Абигейл прибыли в Бостон в сопровождении эскорта легкой кавалерии. В тот момент, когда они въехали в город, зазвонили колокола и улицы наполнились зеваками. Легкая кавалерия Роксбери сменила почетную гвардию Брейнтри, сопроводив карету Адамсов к особняку Джона Хэнкока. Джон попрощался с Абигейл на пороге особняка Хэнкока. Слова расставания потонули в салюте мушкетов. Когда Джон выезжал на Коннектикутскую дорогу, толпа вновь зашумела и происходящее напомнило Абигейл день отъезда Джона, кузена Сэма, Роберта Трита Пейна и Томаса Кашинга 10 августа 1774 года на первое заседание Конгресса в Филадельфии. Она села в свою карету и отправилась домой.
4
Весна была запоздалой и холодной, прокорм скота требовал средств. Абигейл хотела продать несколько коров, но покупателей не находилось. Она посадила два десятка фруктовых саженцев, присланных Джоном из Нью-Йорка, укрепила ограждение луга, где паслись овцы. Когда Брислер доставил коня Джона из Нью-Йорка, она попыталась продать его за семьдесят долларов, но никто не захотел платить такую сумму. В ее обязанность вошло наблюдение за старым хлевом и выгон коров на пастбище. Абигейл не сетовала на трудности, потому что масло и сыр пользовались хорошим спросом. За счет получаемых от их продажи денег она нанимала работников. Коттон Тафтс купил трех телок и десять ягнят, что укрепляло положение молочной фермы. Выборные лица города ввели новый налог. В тот же вечер после ужина пришел Питер. — Сестра Абигейл, я не могу больше заниматься фермой. — Питер, но ты ведь обещал? — Доходы от нее не покроют налоги. — В таком случае забери часть овец. — Нет, сестра. Я помогу чем могу, но не хочу брать на себя ответственность. Братец Джон считает меня либо дураком, либо батраком. Абигейл вздохнула: — Я в таком же положении, Питер. Мы можем стараться сделать как лучше, а затем подчиняться обстоятельствам. Питер ушел, не дав ответа. В дополнение был наложен обременительный приходской налог. Одна корова пала, другие отелились с запозданием, накопился долг работникам, задержана Брислеру зарплата за полгода. Сестра Мэри приехала в подавленном настроении. Маленькая ферма Ричарда Кранча не в состоянии обеспечить семью. Мэри продала свою долю имущества в Уэймауте. Что делать дальше? Абигейл поднялась в свою спальню и достала из секретера десять золотых гиней. — Мы вскоре получим положенное Джону. Используй это золото, чтобы пережить трудные времена. Не будем больше говорить о них. Поездка Джона в Нью-Йорк была внешне приятной. При въезде в штат его ожидал отряд легкой кавалерии, Уэстчестера в качестве почетного сопровождения до Кингс-Бридж на северной окраине Манхэттена. Затем его встретили члены комитета конгрессменов и частные граждане, ожидавшие в каретах и верхом, но от него так и не потребовали присяги при вступлении в должность. 21 апреля он явился в отремонтированный зал Федерации, и сенаторы Калеб Стронг от Массачусетса и Ральф Изард от Южной Каролины торжественно ввели его в сенат. Палата была в архитектурном отношении превосходна. В каждую из ее боковых стен был врезан красивый камин из местного мрамора. На северной стене имелось три высоких окна, задрапированных темно-красными занавесями. Под средним окном находилась платформа с креслом для председателя, над ним нависал балдахин такого же темно-красного цвета. Три двери противоположной стены выходили на портик Уолл-стрит. Здесь сенатор Джон Лангдон от Нью-Хэмпшира обратился к Джону перед собравшимися сенаторами: — Сэр, сенат поручил мне ввести вас в должность председателя, а также поздравить с назначением на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки. Джон зачитал сенату свою первую речь: — «С удовлетворением я поздравляю народ Америки с новой конституцией и со светлой перспективой власти правовогогосударства». Ему аплодировали. После его выступления заседание сената закрылось. Джон вернулся в дом Джона Джея, чтобы встретиться с друзьями из Массачусетса и спокойно отпраздновать свое избрание. Но этот прием выглядел разительным контрастом по сравнению с приемом и принесением присяги президентом Вашингтоном. Генерала принимал совместный комитет Конгресса, и в честь его прозвучал артиллерийский салют у пристани Элизабет-Тен-Пойнт в Нью-Джерси, где он взошел на специально украшенную барку. После того как барка пересекла залив Нью-Йорк и встала на якорь у Статен-Айленда, перед ней прошла целая флотилия под флагами. Деловая жизнь в Нью-Йорке остановилась на целый день. Улицы заполнили тысячные толпы, оркестр играл «Боже, храни короля», а американские, испанские и британские корабли отдали салют. Толпа у верфи Мэррей в конце Уолл-стрит была настолько плотной, что потребовалось несколько часов, чтобы начать парад после того, как губернатор Клинтон и сотни других нобилей поприветствовали генерала. В городе звонили во все колокола, милиция отдала салют, и, наконец, в доме губернатора Клинтона состоялся банкет. 30 апреля Вашингтон предстал перед двумя палатами, собравшимися в помещении сената. Он приехал в роскошной карете, впереди которой вышагивал значительный отряд военных, конгрессменов, должностных лиц федерации и Нью-Йорка, Вашингтона официально встречал Джон Адамс, и он провел генерала на портик, выходивший на Уолл- и Брод-стрит. Перед ними было море людей. Джордж Вашингтон поклонился. Собравшиеся громогласно приветствовали его. Вашингтон подошел к железной ограде. По обе стороны около него стояли Джон Адамс и губернатор Клинтон. Секретарь сената Сэмюел Отис поднял со стола Библию, лежавшую на красной подушечке. Канцлер Нью-Йорка Роберт Р. Ливингстон принял присягу, потом повернулся к стоявшим на улице и воскликнул: — Да здравствует Джордж Вашингтон, президент Соединенных Штатов! Над куполом федерального зала взвился американский флаг. Не смолкали приветственные выкрики, корабли в гавани произвели еще один салют, звонили колокола церквей. Президент Вашингтон возвратился в помещение сената, где зачитал свое обращение, а затем все собравшиеся пошли пешком в собор Святого Павла на церковную службу. Так родился в Соединенных Штатах институт президентства. Этот благородный пост занял великий человек. Пост вице-президента не мог быть долго вторым по значению в стране даже для Абигейл и Джона Адамса. Вице-президент оставался в запасе и действовал самостоятельно лишь в случае трагедии.У Джона возникли проблемы не меньшие, чем у Абигейл. Семья Джея отличалась гостеприимством, но Джон чувствовал себя нахлебником. Усилилась дрожь его правой руки, беспокоили и глаза. Джон ссорился с сенатом, вместо того чтобы играть роль беспристрастного парламентария, выступающего только в том случае, если голоса разделились поровну; он пытался руководить сенатом, давать советы сенаторам по бесчисленным вопросам протокола. Джон снял дом мистера Монтье на Норт-Ривер в одной миле от города. При доме имелись хорошая конюшня, каретный сарай, сад, выпас для двух коров, достаточное число комнат. Абигейл вместе с Эстер и Брислером надлежало приехать без промедления, захватив с собой мебель. После окончания учебы Чарли присоединится к ним. Чтобы набрать деньги, Абигейл предстояло продать весь скот. Если это не удастся, придется его просто отдать даром. Абигейл была в ярости. Зачем он настаивал на приобретении скота, сельскохозяйственных орудий, возводил заборы и засеивал поля? Почему они не сидели тихо, не берегли деньги, ожидая окончательного решения? Джон уверял Абигейл, что они проживут в Нью-Йорке четыре года. Он не хочет, чтобы они метались между Нью-Йорком и Брейнтри, поэтому ремонт тамошнего дома можно отложить. Утешало лишь одно: Джон принял меры, чтобы Нэб, полковник Смит и сыновья переехали в их дом с собственной мебелью. Это означало, что Абигейл могла оставить в доме несколько кроватей, стулья и столы на тот случай, если захочется навестить Брейнтри и посмотреть, как растут новые посадки фруктовых деревьев. Когда Абигейл проезжала по извилистой дороге Ричмонд-Хилла через лес, у нее захватывало дух от акварельной красоты пейзажа. Дом стоял на вершине холма; с террасы второго этажа она любовалась сверкавшей на солнце величественной гладью Гудзона, по которому скользили парусные суда. За Гудзоном раскинулись покрытые бархатной зеленью поля и луга Джерси. К северу были видны выпасы для скота, а к югу через купы деревьев — крыши Нью-Йорк-Сити. Вернувшийся из сената Джон воскликнул: — По выражению твоего лица вижу, что тебе здесь нравится! — Да, Джон, красочность пейзажа может поспорить с самой прелестной панорамой, какую я когда-либо видела. Подобно Бостону, Нью-Йорк был типичным портовым городом; в конце каждой улицы высились раскачивающиеся на фоне неба мачты парусных судов. Голландский язык вперемешку с английским звучал в лавках и церквах. Улицы заполняли многонациональные толпы моряков, иностранных торговцев, большие группы французов, шотландцев, ирландцев, евреев, поляков, португальцев, негров, все они изъяснялись на своем языке. Однако огорчали скромные размеры города: он был меньше Бостона. Бродвей, начинавшийся от мыса, где находилась крепость, был застроен добротными домами лишь в радиусе одной мили, а дальше шло чистое поле. Чтобы обойти город в любом направлении, хватало полчаса; прогулка вдоль Ист-Ривер завершалась у болота, а вдоль Уолл-стрит у чьей-нибудь фермы. Но город был полон жизненных сил: строилось множество новых домов, у океана и рек отвоевывалась суша, открывались новые театры, кофейни и лавки. Большая часть улиц не была вымощена. Тротуары шириной менее метра были засыпаны щебенкой, почти непроходимые, с коновязями, грязными лужами, кучами мусора, где копошились в поисках объедков свиньи, с экскрементами, которые как и в Париже, выливали на улицы прямо с порога. Набрав всех слуг, Абигейл обнаружила, что ее семейство насчитывает восемнадцать членов: три Адамса включая Чарли, четыре Смита, ее племянница Луиза, Брислер в роли мажордома (Эстер предпочла остаться в Брейнтри со своим ребенком), молодая девушка из Брейнтри, Полли Тейлор, остальная прислуга была из местных. Продовольствие стоило дорого, да и качество оставляло желать лучшего. Абигейл не нравился вкус местного масла. Нанятые ею белые слуги не просыхали от пьянки, негры работали хорошо одну неделю, а после первой зарплаты исчезли. Брислер спасал положение, выезжая по нескольку раз в день на рынок. Посетителям нравилось приезжать ранним утром к Адамсам на завтрак: новые сенаторы и члены палаты представителей, среди них некоторые давние сторонники Джона по Конгрессу; вечерами здесь собирались близкие друзья, иногда — друзья полковника Смита, а иногда — гости из Новой Англии. Абигейл содрогалась при мысли, во что обойдется прием ее знакомых, новых правительственных чиновников и членов нью-йоркского общества, ожидавших встреч с вице-президентом Соединенных Штатов. Лучше спрятать голову и ничего не видеть, ожидая приезда Джонни на каникулы; он наведет порядок в счетах и скажет, как много она тратит. Поскольку продолжалась вакханалия с прислугой, появлявшейся и исчезавшей столь же быстро, как гости, она не выдержала. Как-то отдыхая с Джоном в гостиной на втором этаже, сидя на позолоченных стульях, поцарапанных при очередном переезде, Абигейл сказала: — Джон, мне кажется, что я содержу придорожную таверну. — Что мы можем поделать? Это укрепляет положение вице-президента, создает ощущение устойчивости власти, а она в этом нуждается.
5
Абигейл выбрала один день недели для приемов. Дом был открыт для всех. В остальные шесть дней нужно было посещать иные места: у миссис Джей приемы проходили в четверг, у мисс Нокс — в среду, а у леди Темпл — во вторник. Абигейл посетила Марту Кустис Вашингтон на следующее угро после ее приезда в дом Франклина на Черри-стрит, который считался официальной резиденцией председателя Континентального конгресса. Это был добротный, скромный особняк. Во время войны супруга Вашингтона иногда посещала генерала, но она неизменно оставалась в тени, и поэтому никто не имел четкого представления о ней. Абигейл приехала вместе с Нэб. Марта Вашингтон приняла их вежливо, без церемоний. Абигейл убедилась, что Марта непритязательна, скромна. Миссис Вашингтон провела их в гостиную, заказала утренний кофе. Одевалась она просто, но, как Абигейл заметила, ткань ее платья отменного качества. Марта была невысокая и явно склонная к полноте. Несмотря на почтенный возраст, ее зубы прекрасно сохранились, а голос отличался душевной теплотой. - Мне так приятно, что вы здесь, в Нью-Йорке, миссис Адамс. Я ожидала вашего приезда. Мистер Вашингтон высоко ценит мистера Адамса и надеется, что они вместе добьются многого для нового правительства. Быть может, в скромной мере вы и я сумеем сделать что-то. — И я мечтаю об этом. Для начала хочу спросить вас, установили ли вы день вашего приема? Я хотела бы отложить свой выбор, пока не узнаю, что вы думаете. — Полагаю, что выберу пятницу. — А я понедельник. — Договорились. — Она повернулась к Нэб: — Мистер Вашингтон питает добрые чувства к полковнику Смиту. Он полагает, что полковник способен отдать свои выдающиеся таланты на службу правительству. Нэб расплылась в довольной улыбке. Она и Абигейл откланялись. На следующий день миссис Вашингтон приехала в дом на Ричмонд-Хилл без предварительного уведомления. Уезжая, она пригласила чету Адамс на обед. — Джон, чем больше я общаюсь с миссис Вашингтон, тем большим уважением проникаюсь к ней. Она производит на меня более сильное впечатление, чем королева Великобритании. — У меня такое же чувство в отношении президента. Он относится ко мне с большой сердечностью, любовью и доверием. Мы вершим дела в приятной атмосфере. Нам нужна дружба, чтобы решить множество проблем, которые ставят перед нами, как перед китами, выброшенными на берег, враги правительства. Абигейл и Марта Вашингтон встречались почти каждый день. Они устраивали приемы в установленные дни, но большое число гостей мешало их содержательным беседам. Однако на чае в интимной компании им удавалось договориться о совместных шагах в новой обстановке. Противники федералистов внимательно присматривались, в глубине души надеясь, что они допустят серьезные промахи. Ни одна из них не доставила противникам такого удовольствия. Обеды, которые давала миссис Вашингтон, были чопорными, с лакеями в припудренных париках, принимавшими гостей. В гостиной президента Абигейл было отведено почетное место справа от миссис Вашингтон. Если это кресло было случайно кем-то занято, президент в своей вежливой и достойной манере поступал так, что занявший его вставал, и Абигейл садилась на свое место. Когда Абигейл впервые посетила резиденцию президента, Вашингтон был болен и не мог встретиться с ней. При втором посещении он настоял, чтобы Абигейл впустили в его комнату. Он лежал на диване, но, явно чувствуя себя неловко, приподнялся, поприветствовал ее. Прошло много лет с тех пор, как Абигейл впервые увидела его в лагере Роксбери, где он принял командование революционными силами. — Миссис Адамс, простите, что нахожусь в лежачем положении, но мне хотелось поздравить вас с приездом в Нью-Йорк. — Благодарю вас, господин президент, но вовсе не нужно было принимать меня, когда вы нездоровы. Вашингтон отмахнулся от ее замечания. — Скажите мне, миссис Адамс, как вы, привыкшая к европейскому образу жизни, воспринимаете простые американские повадки? — Господин президент, я уважаю простое, открытое отношение. Она пожелала ему скорого выздоровления, и Вашингтон ответил: — Ох, у меня в карете есть лежанка, поэтому я могу выезжать. — Прекрасно. При очередном вашем выезде, я надеюсь, вы отдохнете на Ричмонд-Хилле. Президент приехал на следующий день. Он с трудом поднялся по лестнице на второй этаж, чтобы выпить с Джоном чая и обсудить проблемы правительства.Начало работы федерального правительства повлияло на облик Нью-Йорк-Сити. Когда прибыл последний конгрессмен, в городе собрались двадцать два сенатора Соединенных Штатов и пятьдесят членов палаты представителей; зеваки глазели, как они проезжают по улицам на раздельные заседания палат, открывавшиеся в федеральном зале в десять часов, а затем возвращаются в свои дома, таверны или пансионы на обед в четыре часа. Служебные помещения президента Вашингтона находились на первом этаже дома Франклина, где он принимал руководителей департаментов, посланников иностранных государств, государственных служащих, стараясь найти разумный баланс между местными и национальными властями. Здесь же он беседовал с лицами, претендовавшими на федеральные посты: сборщиками налогов, портовыми служащими, начальниками почтовых отделений. Здесь же жили и работали его секретари — Лир, полковник Хэмфри и майор Джексон. Включались в работу и исполнительные ведомства. Подбор их руководителей казался почти предопределенным: государственным секретарем должен стать Томас Джефферсон, Александр Гамильтон возглавит казначейство, генерал Генри Нокс возьмет на себя обязанности военного министра, а бывший губернатор Виргинии и член Континентального конгресса Эдмунд Рендолф станет прокурором. В его задачу входит проведение в жизнь конституции. Самый крупный департамент достался Гамильтону; на службе в нем состояли тридцать девять человек. Государственный департамент насчитывал всего пять человек, вероятно, из-за того, что Джефферсону никак не удавалось вернуться домой из Франции. Ноксу требовалась лишь пара писцов; большую часть своего времени он проводил за закрытыми дверями с главнокомандующим, обсуждая, как вести переговоры с индейцами, как строить милицию, которая находится под контролем штатов, но обязана хранить верность федеральному правительству. Исполнявший обязанности государственного секретаря Джон Джей приходил с депешами из Лондона, Мадрида, Парижа. Вашингтон читал все депеши, а затем с помощью Джея составлял отчеты и письма главам иностранных правительств. Первые сообщения о восстании во Франции[2] привлекли к себе такое незначительное внимание, что никто, кроме Томаса Джефферсона, не побеспокоился информировать Соединенные Штаты. Известие, что третье сословие объявило себя Национальным собранием, приняло присягу в Зале для игры в мяч, Бастилия захвачена толпой парижан, было изложено в куцем абзаце на второй странице газеты «Нью-Йорк дейли адвертайзер». Джон беседовал с Абигейл на эту тему, но никто из них не заметил во время пребывания во Франции признака надвигавшейся революции, и поэтому они расценили события как преходящие волнения. Когда президент Вашингтон нуждался в совете, он надевал свою шляпу и плащ и отправлялся в дом главы соответствующего департамента. Вашингтон неоднократно приходил в дом Адамса без предупреждения. Однажды он пришел за рекомендациями относительно назначения судей в Верховный суд и Верховного судьи. Должность президента требовала большого напряжения сил. Почти каждый день сенат или палата представителей вносили новый законопроект, подлежавший изучению. Первая подпись была поставлена 1 июня 1789 года на законопроекте о присяге при вступлении в должность; даже вице-президент был обязан принести присягу. 4 июля президент одобрил закон об импорте, устанавливавший пошлины на ввозимые товары, 27 июля он подписал долго обсуждавшийся закон об учреждении ведомства иностранных дел; 7 августа — законопроект о военном ведомстве; 2 сентября после затяжного изучения — законопроект о казначействе. Он одобрил предложение палаты представителей о субсидии в двадцать тысяч долларов ради соглашения с индейцами племени крик. К концу сентября Вашингтон подписал законопроекты об установлении федеральных судов. После консультации с вице-президентом и главами ведомств он разослал по штатам двенадцать резолюций билля о правах, гарантировавших свободу вероисповедания, слова, печати, собраний, петиций для рассмотрения жалоб. Билль поступил в законодательные собрания штатов для ратификации. В течение первого лета Вашингтон утвердил назначение опытных лиц из различных штатов на должности морских офицеров, топографов, таможенников, а затем добился утверждения этих назначений в сенате. Страна процветала, торговля находилась на подъеме. Перед государством тысячи задач: назначить нового посланника во Францию вместо Томаса Джефферсона, губернатора западных территорий, правительственного контролера, поверенного в делах в Испанию, составить немало договоров. Британские войска все еще оккупировали американские порты и создавали для Вашингтона бесконечные осложнения. Штаты ссорились между собой по поводу границ, обращаясь к президенту как арбитру; предстояло принять решения о назначении или отзыве губернаторов и судей внешних территорий. Частные граждане осаждали дом президента, требуя решения их проблем. Сотни других домогались приглашения на приемы, ланчи, обеды. Правительственная машина пришла в движение. Ее работники погрузились в дела. Все, кроме вице-президента Джона Адамса. По конституции он имел лишь одну обязанность — председательствовать в сенате. Каждое утро он покидал свой дом и ехал в сенат, садился на мешок с шерстью. Но и сенат разрешал ему немногое — лишь обеспечивать формальный порядок. Исполняющий обязанности государственного секретаря Джон Джей приходил к нему, когда хотел обсудить острые проблемы, связанные с Англией и Францией. Дружественно настроенные сенаторы и члены палаты представителей советовались по поводу готовых к голосованию законопроектов. Тем не менее всем было ясно, особенно Джону и Абигейл Адамс, что мистер Адамс отстранен от активной деятельности. После длительной дискуссии Конгресс подтвердил оклад президента в размере двадцати пяти тысяч долларов в год, включая надлежащий дом для проживания. Вице-президенту полагалось пять тысяч долларов и никакого дома и никаких других надбавок даже для секретаря. Джон был поражен, услышав о таком решении. Была ли это пощечина ему? Или же в этом выражалось презрение к самому посту? Такие риторические вопросы задавал себе глубоко задетый человек. — Разумеется, мне разрешено задавать себе практические вопросы, — ворчал Джон, расхаживая по спальне, окна которой выходили в сад, — как мы можем прожить в Нью-Йорке на эти деньги? И выполнять возложенные на нас обязанности? Абигейл старалась сгладить положение. — Мы можем справиться, Джон, проводя всего лишь один прием и один обед в неделю, отказавшись от театров и балов, требующих особых платьев; лишь немного новых книг… Джон застонал: — Таков круговорот нашей жизни! Она ответила спокойно: — Нэб обеспечена, так как президент назначает полковника Смита маршалом[4] района Нью-Йорка. Питер может присылать нам мясо, птицу, фрукты и овощи, масло и яйца, все, что здесь так дорого. Мы выживем. — С трудом! — сказал он, скрипнув зубами. — Джон, наше положение не хуже прежнего. Как ты заметил несколько лет назад, мы доим наших коров, а не наше правительство. — Но я та самая корова, которую доят! — пошутив, он почувствовал себя лучше, его пухлые щеки вновь покрылись румянцем. — Если нельзя исправить, надо выдержать. Сочувствую тебе, дорогая миссис Адамс, ведь тебе придется сводить концы с концами. Их судьба показалась им легче, когда они узнали, что их друг Джон Джей на посту Верховного судьи получит четыре тысячи долларов в год. Александр Гамильтон, юридический и финансовый мудрец федералистов, должен был получать в качестве первого секретаря казначейства Соединенных Штатов три тысячи долларов в год. А ведь Гамильтон начал зарабатывать значительные суммы как адвокат. Он пошел на большие жертвы. Джон восхищался Александром Гамильтоном. Его прекрасные статьи, написанные в соавторстве с другом Джефферсона Джеймсом Мэдисоном и Джоном Джеем и опубликованные в газете «Федералист», побудили недоверчивый Нью-Йорк ратифицировать конституцию. Он лояльно поддерживал Джона, и это склонило Абигейл к мысли, что отравившие атмосферу в правительственных кругах слухи, будто Гамильтон сознательно подрывал позиции Джона на выборах, были ложными. Чтобы искупить грех недоверия, Абигейл дала обед в честь Гамильтона, на который пригласила тесный круг друзей из Массачусетса — сенаторов Калеба Стронга и Тристама Дальтона, учившегося вместе с Джоном в Гарварде. Элизабет Шуйлер Гамильтон принадлежала к одной из старейших, богатых и влиятельных семей Нью-Йорка. Ее узкое лицо с раздвоенным подбородком украшали удивительно выразительные черные глаза; скромная привлекательность жены Гамильтона подчеркивалась изящным английским платьем, сшитым по лучшим канонам моды. Она фанатически любила своего мужа, боготворила его. За обеденным столом стало ясно, что Александр Гамильтон разделял взгляды своей жены. Он родился с умом гения и неутомимой страстью к интригам. Его широкое красивое лицо аристократа с величественными бровями над притягательными глазами, с точеным греческим носом, четко очерченным, чувственным ртом светилось и казалось привлекательным как женщинам, так и мужчинам. Лидер от природы, Гамильтон добился всего сам, поднимаясь от положения незаконнорожденного в Вест-Индии (его мать была уважаемой исконной гугеноткой из Франции, а отец шотландцем) до наиболее доверенного адъютанта генерала Джорджа Вашингтона в революционной войне. Обладая неровным, вспыльчивым характером, он потребовал отставки во время войны под предлогом якобы оскорбления со стороны Вашингтона, но затем вернулся и благодаря своему интеллекту завоевал положение его доверенного советника. Именно Александр Гамильтон негласно сплотил федералистов и манипулировал ими. На обеде у Адамсов он сразу же оказался в центре внимания. Жители Массачусетса были им очарованы, но одновременно он их чем-то отталкивал: уж слишком откровенно он пытался очаровать простаков из Новой Англии. Такие попытки вызывали неловкость. Абигейл полагала, что миссис Гамильтон была самой благородной и образованной леди, с какой ей приходилось когда-либо встречаться. Но ее внешняя хрупкость не обманула Абигейл. — У нее железная воля, — сказала Абигейл Джону, когда разошлись гости. И вновь, вспомнив предвыборные слухи, она добавила: — Не думаю, что планы четы Гамильтон включают нас… Помяни мое слово, мы недостаточно важны, чтобы занять место в их кругу. Для Гамильтонов мы мелкие землевладельцы, занимающие незначительный пост. Он считает, что мы не поднимемся выше.
6
В Нью-Йорке, как казалось Абигейл, жизнь была проще, чем в Бостоне. Несмотря на склонность к чванливости, нью-йоркский свет не устраивал роскошных приемов. Абигейл принимала президента и миссис Вашингтон и глав ведомств, в последующие недели тех сенаторов и членов палаты представителей, которые привезли своих жен в Нью-Йорк; и уже затем тех законодателей, какие ютились в пансионах и вынуждены были оставить свои семьи дома. Многих гостей она узнавала по описаниям Джона после его возвращения с Континентального конгресса в 1774 году. Она вспоминала откровения Джона в своей спальне в Брейнтри относительно всего сборища законодателей, которых она ныне принимала в Нью-Йорке. — Ричард Генри Ли — высокий и худощавый, выглядит деловито. Он стал сенатором. У Роджера Шермана из Коннектикута светлая голова, и он судил здраво, но, когда жестикулировал, становился вульгарным. Ныне же Шерман — запевала в палате представителей. Джон Джей — усидчивый студент и хороший спикер. Ныне он — Верховный судья. За ее столом трапезничали и вели приятные беседы сенатор Джон Лангдон из Нью-Гэмпшира, который первым сообщил Джону, что Конгресс посылает его во Францию. Приходили также давние знакомые Джона — Чарлз Кэррол из Мэриленда, Джон Ратледж из Южной Каролины, Джордж Клаймер, скромный, отрешившийся от дел торговец из Пенсильвании, и многие другие, вместе с которыми трудился Джон, формируя правительство. Прочно связанные между собой, они были объединены внутренним убеждением, что сделанное их интеллектом, биением сердец, многолетними усилиями не останется втуне. Неистребимое чувство ответственности не позволило Джону хотя бы раз уклониться от роли председателя на затяжных и зачастую злобных дебатах сената. Не прошло месяца, и он научился гасить петушиные бои, избегая вмешиваться в дискуссии. Абигейл хорошо понимала подспудные детали споров. Наиболее яростно возражавшие Джону, когда он сидел за столом председателя, приезжали в Ричмонд-Хилл на ее вкусные дружеские обеды. Чаще всего гости сетовали: — Его дело председательствовать, а не вести за собой сенат. Тем не менее Джон стал символом власти, его плотная, волевая фигура воспринималась как своеобразное выражение конституции и правительства. — При каждой схватке в Конгрессе, — признался семье Джон, — всегда находились такие, кто осуждал правительство и говорил, что оно долго не устоит. Я слышал это от представителей Новой Англии и от южан. Однако каждый пережитый день — еще один шаг к стабильности. Завершив работу в Гарварде, Чарлз осел в Нью-Йорке и корпел над книгами в адвокатской конторе Джона Лоуренса. Абигейл уточнила, что дошедшие до нее сведения о его вольном поведении соответствуют истине. Он был повинен в том, что Бостон называл «безрассудством»; его связь с озорной группой, которая ранее нанесла ущерб репутации Ройяла Тайлера, привлекла внимание жителей Новой Англии. Ныне он исправился. Он избегал светских развлечений, по утрам сопровождал отца в Федеральный зал, затем ехал в контору Лоуренса и возвращался с отцом в четыре часа на обед. Вечерами он занимался в своем кабинете, участвовал в тех компаниях, где бывал отец или полковник Смит. Абигейл удивлялась, почему Чарли часто сопровождает свою сестру в поездках в воскресенье на Лонг-Айленд и проводит день в семье полковника Смита. И почему Салли Смит так регулярно посещает Нэб и мальчиков, приезжая в Ричмонд-Хилл. Салли была четвертой дочерью в семье Смит, ей исполнилось двадцать лет, она обладала превосходной фигурой и миловидным личиком и держалась просто. Абигейл никогда не приходило на ум, что девятнадцатилетний Чарли, которому предстояла трехлетняя стажировка, прежде чем он сможет зарабатывать на жизнь, окажется настолько глупым, что увязнет по уши в любви. Но в семье Адамс Чарли был самым непредсказуемым ребенком, он меньше всех находился под контролем суровых предков-пуритан и их предписаний. Он имел неосторожность влюбиться. Нэб была счастлива в обществе родителей. Она научилась умело управлять прислугой, благодаря чему ни Абигейл, ни гости не замечали семейных трудностей. Полковник Смит, получивший пост начальника полиции, вновь стал важным лицом, он сажал под арест судовладельцев, пытавшихся ввезти контрабандные товары или же уклониться от уплаты пошлины. Нэб подшучивала: — Я была воспитана на рассказах о том, как шесть поколений Куинси, Бойлстонов, Смитов и Адамсов ввозили патоку контрабандой в обход таможенных чиновников. Джон настаивал, чтобы ради возвышения поста президента сенаторы закрепили за ним особые почести и тем самым повлияли на европейские дворы. Сенаторы дали ему от ворот поворот, заявив, что главное исполнительное лицо должно именоваться всего лишь как «президент Соединенных Штатов», и сенат и палата представителей вынесли соответствующее решение. Джон хотел ввести тщательно разработанную церемонию посещения президентом сената, дабы придать высокую торжественность такому событию, используя в качестве примера порядок посещения королем Англии парламента. Сенат согласился с тем, что президент может иметь специальное кресло и ничего более. Спускаясь по крутому склону Гудзона, чтобы прогуляться под парусами в теплый сентябрьский день, Джон жаловался Абигейл: — У меня больше возможности управлять лодкой, чем руководить сенатом. Я понял: пост вице-президента ничтожен в нашем новом правительстве. У меня нет полномочий делать добрые дела в исполнительной, законодательной и судебной областях. Я всего лишь венецианский дож, удел которого заводить часы. Абигейл откинулась на корму лодки, подставив солнцу свое лицо и рассматривая противоположный берег, берег штата Нью-Джерси. — Для человека, ставящего столь низко свою должность, ты слишком верен ей. Ты не пропустил ни часа дебатов. — Я не должен пропускать. Я знаю свой долг. Но должность не для моего характера. Она лишена активности. Время от времени мне хочется слезть с мешка, набитого шерстью, спуститься вниз и высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам… Но этого нельзя допустить. Ну, я хотел, чтобы должность… — Я бы не сказала, что ты совсем отстранен. Я слышала, что некоторые из твоих голосований, выводившие дело из тупика, вызывали, скажем прямо, фурор. Его глаза приобрели серо-зеленый цвет, наподобие цвета воды Гудзона под полуденным солнцем. — Такие дни восстанавливают мои духовные силы. Не говоря уже о злопыхательстве в мой адрес. Предполагалось, что сенат будет федеральным по составу, на самом же деле он сформировался из людей, полных решимости служить своим локальным, региональным интересам. Все соглашались, что центральному правительству нужны деньги, чтобы действовать; сенаторы были едины и в том, чтобы заставить платить не свои штаты, а другие. Когда Джон выступил против пошлин на патоку, являвшуюся главным предметом ввоза в Массачусетс, и тарифы были снижены, его обвинили в том, что он всего лишь вице-президент Новой Англии, а не Соединенных Штатов. Когда же он отдал свой голос в пользу тарифа на рафинированный сахар, производившийся Пенсильванией, он стал нравиться пенсильванцам; когда помог отклонить предложенный налог на соль, ущемлявший мелких фермеров, то пограничные штаты признали его суждение честным и беспристрастным. Затем он ввязался в дебаты о праве президента снимать руководителей департаментов без одобрения сената. Джону никогда ранее не доводилось выслушать столь несдержанные обвинения, вопли и демагогию при обсуждении того, что сенаторы считали ущемлением их прав в пользу исполнительной ветви власти. С помощью отдельных убедительных и разумных правовых доводов Джон развенчал одного за другим своих оппонентов. В итоге голоса разделились поровну, и он смог бросить на весы свой решающий голос. Институт президентства был еще более упрочен. Борьба имела странные последствия. Появились слухи, что Джон Адамс сражается за дополнительные полномочия президента в надежде, что когда-то займет этот пост, и заранее готовит такую правительственную структуру, которая позволит ему контролировать все ее звенья. Короче говоря, стать монархом Америки! Широко раскрытые глаза Абигейл выдавали ее удивление: — Джон, есть ли истина в таких утверждениях? — Что я хочу стать монархом? — В том, что однажды ты будешь президентом. — У тебя не возникала такая мысль? — Только в моменты безделья, роясь, не желая того, в тайниках своего ума. Такой пост своего рода ловушка, не так ли? Миссис Вашингтон сказала мне вчера, что ее передвижения так строго регулируются, что она чувствует себя заточенной в тюрьме. Джон наклонился над балюстрадой верхней террасы, его слова уносились тихим ветерком: — Возможно ли, что я стану президентом? Кто может сказать? Президент Вашингтон будет переизбираться столько раз, сколько захочет. А как я? После четырех лет сидения в медвежьей яме сената захочу ли я председательствовать на дискуссиях еще четыре года? Я не вынес бы такой приговор моему самому худшему врагу. — Нет, только самому себе. Если тебя выберут, ты будешь служить. С этой дороги можно сойти лишь в конце пути. Джон вздохнул. Он весь дрожал от охвативших его эмоций. — Хочу ли я стать президентом Соединенных Штатов? Конечно, хочу! Нужно быть последним дураком, чтобы не желать занять высочайший пост в государстве. Он вернулся к своему стулу, оперся на его спинку. — Многие из наших родственников и давних друзей сердятся на меня за то, что я не смог устроить их на работу в правительстве. Они не верят, что президент Вашингтон назначил полковника Смита начальником полиции потому, что тот был его доверенным адъютантом во время войны; они обвиняют меня в том, что я использовал свое влияние… Его голос заглох. Абигейл знала, что он сказал правду. Мэрси Уоррен больше с ней не переписывалась, озлобившись из-за того, что Джон не помог ее мужу Джеймсу достичь высокого положения, на которое, по ее мнению, он имел право благодаря своей длительной службе. Ричард Кранч отчаянно нуждался в работе. К ним обращался брат доктора Коттона Тафтса, которого они плохо знали. Обращались давние друзья Роберт Трит Пейн, желавший получить должность федерального судьи, Джеймс Ловелл, мечтавший о должности сборщика платежей в порту Бостона, Эбенезер Сторер, генерал Линкольн, подавивший бунт Шейса, капитан «Эктива» Лайд, пожелавший стать морским офицером; к Джону и даже к ней приходили дюжины писем с просьбами от людей, служивших долго и хорошо и нуждавшихся в работе. Джону нечего было раздавать. Единственная находившаяся в его ведении должность секретаря сената была предоставлена человеку, который, как знали сенаторы от Массачусетса, был нужен Джону, — Сэмюелу Отису, брату Джеймса Отиса и Мэрси Уоррен. Он обладал нужным опытом, и Адамсы надеялись, что это назначение смягчит Мэрси. Однако этого не произошло. Континентальный конгресс заседал почти непрерывно, но новый сенат и палата представителей должны были прервать свои заседания в конце сентября, чтобы их члены могли уехать к себе домой, позаботиться о своих семьях, своих занятиях, бизнесе и фермах. Перерыв в работе сената давал Джону Адамсу два преимущества: некоторые из задержанных бессмысленными дебатами назначений и законопроектов будут осуществлены. А перерыв вернет свободу вице-президенту.7
На месячные каникулы приехал Джонни. Он уселся за французский секретер матери, перевезенный из дома священника в Уэймауте в коттедж Адамса, затем в дом Борланда и теперь в Ричмонд-Хилл, и занялся приведением в порядок семейных счетов. Он просил Чарли присоединиться к этой работе и взять ее на себя, когда ему, Джонни, придется вернуться в Ньюберипорт. — Я не люблю мелочей, — жаловался Чарли. — Но попытаюсь. Однако не уповайте на меня, я могу и не справиться. Эти слова позабавили Абигейл. — За пятнадцать лет государственной службы отца мы никогда не видели, чтобы счета сходились. Почему вдруг они должны сойтись у тебя? Как-то раз Джонни сопроводил отца в палату представителей послушать дебаты. В сенат доступ посторонним был закрыт. Уже в сумерках он вернулся вместе с Джоном и Чарли. Он не скрывал удивления шумом, разногласиями, личной враждой, сведением счетов между группировками в палате. За обедом Джонни воскликнул: — Если требуется вынести суждение на основе наблюдения за одним днем заседания палаты представителей, то придется признать, что правительство никогда не начнет работать, еще одна вспышка, учиненная каким-либо членом, и законодательное собрание разлетится в клочья! — Думаю, и сенат, — ответил Джон, — не считай, что нет людей, которые не хотели бы разнести его в клочья. — В таком случае, что же удерживает в целости этот механизм? — поинтересовался Джонни. — Многое: уважение к президенту Вашингтону, то, что талантливые люди хотят служить, что как в сенате, так и в палате представителей есть разумные члены, которые держат под контролем менее разумных и вынуждают их улаживать разногласия, что одиннадцать штатов одобрили конституцию, а Северная Каролина близка к ее одобрению. — Я думаю, Джон, — сказала Абигейл, — а не потому ли, что нам некуда податься? Если мы позволим недовольным сломить нас, то во что мы превратимся? В монархию? Будем ввергнуты в хаос? Станем группой городов-государств, как в Италии? Ганзейской лигой,[5] подобно германским государствам? Мы должны сделать так, чтобы республика стала жизнеспособной, ибо нам не подходит иная форма правления. — Внимайте! Внимайте! — призвал Чарли. Джон добавил: — Мать права: нам никуда не деться. Мы должны каждый час и день сохранять целостность и дееспособность правительства — в этом гарантия выживания. Именно поэтому президент Вашингтон в следующем месяце поедет в Новую Англию: там существует недовольство положением в судоходстве и промышленности. Президент хочет показать себя, возродить прежнюю дружбу, завязать новую, заверить Новую Англию, что мы единая нация и должны ею оставаться. Убежден, что никто другой не сможет выполнить такую задачу. Абигейл улыбнулась: — И президент просил тебя сопровождать его. Джон уезжал всего на несколько недель. Во время правительственных каникул Нью-Йорк казался затихшим. Абигейл отправилась в город, чтобы привезти к себе молодую Кустис — одну из внучек Марты Вашингтон от первого брака. В этот полдень миссис Вашингтон приехала к Абигейл на чай. Через несколько дней она пригласила семью Адамс на обед и на последний концерт сезона. Ее уважение к Абигейл было не только ярким выражением доверия к Адамсам, но и демонстрацией связи между ветвями власти. От Джона пришли письма. Президенту Вашингтону был оказан блестящий прием в Кембридже, где в 1775 году он принял командование континентальной армией. Жители Новой Англии встретили президента с энтузиазмом. Разве он не освободил Бостон от британцев? Одним своим присутствием он сумел рассеять антагонизм, опасения, что федеральное правительство — потенциальный враг и деспот. Зарвавшийся губернатор Джон Хэнкок получил по носу. Пригласив президента в свой особняк на неофициальный обед, Хэнкок не нанес положенный в таком случае визит президенту, который остановился в гостинице на Корт-стрит. Скромность Вашингтона не означала готовность простить неуважение к институту президентства Соединенных Штатов. Он отказался пойти на обед к Хэнкоку, предпочтя встречу со своими давними друзьями по Континентальному конгрессу из «выводка Адамсов». Во время торжественного въезда в Бостон, где площадь перед правительственным домом была украшена арками, Вашингтон шел с Джоном по одну и Сэмюелом Адамсом по другую руку. В воскресенье в Королевской часовне президент вновь сидел с двумя Адамсами по обе стороны. Джон провел несколько недель с матерью и братом Питером, занимался упаковкой книг для отправки в Нью-Йорк. Абигейл написала Джону и сестре Мэри длинный список просьб в надежде запастись провиантом на остаток зимы. Она просила, в частности, заготовить дрова, вырубив часть принадлежащего им леса, и отправить их в Нью-Йорк, поскольку покупка дуба и ореховой древесины обходится дорого.«Черное пиво, что находится в погребе, ты либо пошли сюда, либо распорядись им иначе, поскольку оно замерзнет. Красное вино и любое другое, по твоему выбору, поручи Брислеру погрузить для отправки… а также двести мер сыра и все масло, которое можно собрать… Следует отправить телегу, сани и одно седло, находящееся у доктора, и пилу. Они будут нам весьма полезны… Попроси Брислера привезти мне тридцать — сорок дюжин яиц… я была бы весьма рада получить шесть бушелей солода…»Брислер возвратился в Брейнтри к своей жене, но не смог найти работу за плату, равную той, что предлагала Абигейл, — двести долларов в год при полном содержании. Поэтому он возвращался в Нью-Йорк с Эстер и ребенком. Джон и Абигейл глубоко заблуждались относительно характера восстаний во Франции. По мере того как приходили сообщения от надежных наблюдателей, становилось ясным, что не за горами свержение существующего режима. К августу 1789 года третье сословие, состоявшее из среднего класса, торговцев и ремесленников, вынудило аристократию и духовенство отказаться от освященных временем привилегий. Людовику XVI, хотя и остававшемуся королем, пришлось признать, что правящая сила в стране — французский народ, требовавший во всех городах и провинциях избрания национального собрания. Крепостное право было отменено, налоги должны «выплачиваться каждым отдельным лицом в королевстве в соответствии с доходами». Имели место насильственные акты, сжигались пункты сбора пошлин, таможенные посты; крестьяне уничтожали документы феодалов, иногда они расправлялись с сопротивлявшимися землевладельцами и скашивали их поля. Бродячие банды восставших вступали в схватки с национальной гвардией. Но как только была принята Декларация прав человека и гражданина, подчинившая всех французов одним и тем же законам и открывшая доступ ко всем профессиям, в стране установился мир. Была составлена новая конституция, которую был вынужден принять Людовик XVI. Американцы ликовали. Франция стала для них собратом по свободе. На пути в Париж Абигейл своими глазами видела ужасающую нищету крестьян; она ощутила глухую стену человеческой ненависти, когда король Людовик XVI со свитой ехал в собор Парижской Богоматери вознести хвалу по поводу рождения наследника. Абигейл плохо понимала французский, и у нее были ограниченные контакты с французами. Разумеется, ее дружба с маркизой Лафайет не наводила на мысль о неминуемости мятежа. Однако Джон провел почти десять лет во Франции, он бегло говорил по-французски, у него были друзья среди аристократов, священников, военных. Он часто беседовал на философские темы, обсуждал труды Дидро, Д’Аламбера, Вольтера, Руссо. Знал ли он, что назревает революция? — В отдаленном будущем, да. И в то же время нет. Я знал, что Франция все глубже и глубже увязает в долгах, что она на краю банкротства, ибо мало кто склонен покупать ее ценные бумаги. Я знал, что аристократия презирает короля, считает его политическим ничтожеством, не любит легкомысленную королеву. Я знал, что расточительство ввергнет народ в нищету, что все мольбы гуманно настроенных священников и нобилей игнорируются. Я знал о хлебных и соляных бунтах в провинциях. Ожидал ли я поэтому, что французы совершат революцию вроде нашей? Признаюсь: не ожидал. Не могу припомнить, чтобы Бенджамин Франклин или Томас Джефферсон предвидели зреющее восстание. Быть может, надо быть французом, чтобы почувствовать это. Когда вНью-Йорк пришли первые сообщения о новой французской конституции, энтузиазм Джона Адамса охладел. Французы не создали сбалансированного правительства. Национальное собрание отклонило идею второй законодательной палаты, ибо не хотело поделиться полномочиями. Не было и правовой системы, способной определить законность его актов. Король, как исполнитель, лишился власти. — Это первый опасный просчет, — заметил Джон. — Собрание превратилось в тоталитарную власть. Любой депутат или группа депутатов, установившая контроль над ним, будет править во Франции. Такой тип власти означает крах. Как никто в Америке, он желал успеха французской революции и хотел видеть Францию республикой. Однако он понимал, что путь, по которому пошла Франция, ведет к кровопролитию и разрушению. Сессия Конгресса открылась 7 января 1790 года. Северная Каролина ратифицировала конституцию в ноябре предыдущего года и вошла в Союз. Джон и сенат воздерживались от перебранок, характерных для первой сессии. Протокольные процедуры устоялись, и стороны притерлись друг к другу. Дома же Абигейл приходилось бороться с суровой зимой, стараясь сохранить домашний уют. В праздники и весь январь у нее гостил Томми, похудевший и бледный из-за чрезмерного прилежания в учебе и приступов ревматизма. Из трех сыновей семьи Адамс он был наименее способным, но не хотел получать более низкие оценки, чем его братья. Абигейл дала ему лекарства, после чего он почувствовал себя лучше, и постаралась подкормить его, заставляя кушать вместе с располневшим Чарли. Чарли сказал Нэб, которая была его доверенным лицом в любовных делах с Салли Смит: — Два моих брата довели себя до болезни, уделяя слишком много времени учебе. Слава богу, в семье есть один умеющий получать удовольствие от жизни. Семья Абигейл все еще насчитывала восемнадцать человек. Хозяйка большой семьи никогда не застрахована от осложнений. Полли Тейлор — девушка, которую она привезла из Брейнтри, обладала буйным характером, вынуждая других служанок отказываться от места. Повариха Абигейл пила и устраивала вульгарные ссоры. Однако среди прислуги был Джеймс, четырнадцатилетний негр с улыбчивым лицом. Друзья посоветовали ему наняться на работу к Адамсам. Он работал в конюшне и по саду, а в обмен за это получал образование. Вскоре Джеймс стал любимцем семьи. В каждый свободный полдень Абигейл приглашала его в гостиную на уроки чтения и чистописания. Он был старательным, умным и быстро воспринимал все. Эстер и Брислер, занимавшие небольшой домик внизу, всегда были под рукой. С их помощью домашнее хозяйство велось достаточно гладко. Абигейл возобновила официальные обеды. В одну из недель она дала прием дипломатическому корпусу — французскому поверенному в делах Луи Отто, секретарю испанской миссии Хосе Игнасио де Увьяру и голландскому посланнику-резиденту Питеру Юхану ван Беркелю. На следующей неделе она дала обед пяти недавно назначенным судьям Верховного суда от Пенсильвании, Южной Каролины, Массачусетса, Виргинии и Мэриленда и в качестве почетного гостя давнему другу Верховному судье Джону Джею. Она принимала приезжавших губернаторов и других высоких представителей теперь уже двенадцати штатов. 21 марта 1790 года в Нью-Йорк прибыл Томас Джефферсон, на пост государственного секретаря. Джон Адамс тут же отправился в городскую таверну, где поселился Джефферсон, и пригласил его на семейный обед. Это была счастливая встреча после четырех лет разлуки. Джефферсон не замедлил сообщить, что Патси вышла замуж. Он казался моложе, чем в Париже и Лондоне. Его щеки стали еще более впалыми, аристократический нос обострился, но глаза казались менее печальными. Он был доволен тем, что Джон стал вице-президентом, и не скрывал своих чувств. Джон был, в свою очередь, доволен, что Джефферсон вошел в правительство, которому крайне нужны его мудрость и таланты.
8
В хорошую погоду в воскресенье утром они ходили в церковь. Их положение было столь же плохим, как некогда во Франции и Англии, поскольку и в Нью-Йорке не было конгрегационалистской церкви. — Мне никогда не казалось такое возможным, — вздохнула Абигейл, возвращаясь из пресвитерианской церкви, — но каждое воскресенье я сожалею, что мы лишились пастора Уиберда. Я действительно считала занимательными его проповеди. Ночью выпал снег, и они поехали в санях, которые Джон привез из сарая Коттона Тафтса. Джон говорил громко, стараясь перекричать скрип полозьев: — Единственные проповеди, которые доставляли мне удовольствие, были три, произнесенные бывавшими наездами священниками из Новой Англии. Через год-два в Нью-Йорке соберется достаточно выходцев из Новой Англии для образования собственной конгрегации. Между тем лучше плохие проповеди, чем никаких. Для Нэб и полковника Уильяма дела складывались лучшим образом. Начальник полиции получал грошовый оклад. В его пользу отходила существенная доля штрафов, взимавшихся с контрабандистов и судовладельцев, подделывавших судовые документы. Но лишь немногие вели себя подобным образом: наступило процветание, расширялся рынок для местной продукции, а также для иностранных импортных товаров, судовладельцы и капитаны подробно докладывали о перевозимом грузе, крупные суда платили до тридцати тысяч долларов в виде пошлин. Это было крайне выгодно правительству, но лишало полковника Смита средств на содержание семьи. — Почему он не мог поступить в лондонский Темпл? — ворчал Джон. — Получив правовое образование в Англии, он мог бы иметь к настоящему времени хорошую клиентуру в Нью-Йорке. А что он получил вместо этого? — Дом в Нью-Йорке. Он арендовал его вчера. Они переедут первого мая, когда весь Нью-Йорк приходит в движение. Не веря ушам своим, Джон уставился на Абигейл. — Он сказал тебе это? — Нет. — Почему он переезжает? — Очевидно, потому, что проживание вдали от города мешает его выездам. — С какой целью? Опрокинуть бокал пунша? Если он зарабатывает гроши, как он собирается вести домашнее хозяйство? — Не знаю. Предполагаю, что поможет его мать. — Нэб это не понравится. — Она вновь беременна. Джон замолчал, и Абигейл продолжала тихим голосом. — Я просила ее не спешить с рождением детей. Ведь это третий за четыре года. Президент и миссис Вашингтон также переезжали. Когда на Бродвее освободился дом Макомба, ранее занимавшийся французским посланником, Вашингтон арендовал его и израсходовал значительную сумму, чтобы придать ему новый вид, добавить лампы и настелить ковры, расширить конюшни, обеспечить помещения для белой прислуги и семи рабов из Виргинии. Его выезд состоял из шести одномастных светлых коней. Никто не обвинял его в монархических замашках; такие обвинения бросались в адрес вице-президента, который доказывал в сенате то, что осуществлял на практике Вашингтон: новое исполнительное лицо должно пользоваться достойным уважением. Весна выдалась неприятной, было холодно и мокро, а снега выпало больше, чем за всю зиму. Абигейл была прикована к постели обострением ревматизма и гриппом, эпидемия которого охватила весь город. Президент Вашингтон слег от простуды. Через несколько дней у него началось воспаление легких. Распространялись сообщения, что у него началось воспаление легких. Распространялись сообщения, что «симптомы, сопровождающие нездоровье президента, не являются угрожающими». В то же самое время в Филадельфию была направлена экстренная эстафета с заданием срочно привезти четвертого врача, хирурга. В течение следующих трех дней состояние здоровья президента быстро ухудшалось. По городу ходили тревожные слухи. Всяческая активность заглохла. Конгрессмены толпились в прихожей дома Вашингтона, их глаза были полны слез. Джон и Абигейл вернулись домой на пятый день, после краткого визита в дом Вашингтона. Один из врачей сказал доверительно, что не исключает смерть президента. Джон и Абигейл поднялись в свою спальню. Джон закрыл дверь, словно хотел отгородиться от внешнего мира. Его лицо было потным, речь торопливой, мысли несвязными. — Не может быть… Мы не можем так просто потерять его… мы едва начали… Он заставляет правительство работать… Он заложит основы… он нам нужен… на долгие годы… Джон вытащил носовой платок из жилета и вытер вспотевшее лицо. Абигейл медленно произнесла: — Боюсь многого, чего, молю Бога, не хотелось бы испытать. На следующее утро она отправилась в дом Вашингтона на случай, если потребуется ее помощь. Она находилась в маленькой гостиной, когда миссис Вашингтон вышла из спальни президента. — Он умирает. Я слышала хрип. На глаза Абигейл набежали слезы. Она обняла за плечи Марту Вашингтон. Они стояли, обнявшись, затем миссис Вашингтон ушла в соседнюю комнату. Абигейл отправилась домой. Джон ожидал ее, сидя в глубоком кресле в верхней гостиной. Взглянув на Абигейл, он закрыл лицо руками. Она села напротив него, охваченная скорбью по президенту, сочувствуя его жене, тревожась за страну. Миллионы молитв дополняли порошки Джеймса, предписанные президенту врачами. К вечеру президент сильно пропотел. Наступил переломный момент. Страна вздохнула с облегчением.Не имея возможности выступать, как ему хотелось бы, в сенате, Джон через два года после завершения своей книги «Защита формирования управления Соединенными Штатами Америки» занялся научной работой, обдумывая многое и делая заметки на полях книг по истории. Абигейл радовалась, видя его за письменным столом. Ей часто казалось, что он чувствует себя более счастливым как историк, нежели как политик. Джон задумал серию статей для «Газетт оф зе Юнайтед Стейтс». Он выдвинул тезис о несовершенстве человека: человечество никогда не сможет освободиться от таких пороков, как честолюбие, ревность, зависть, жадность, тщеславие. Единственное, что может заставить человека вести себя подобающим образом, — это власть законов, принимающих во внимание указанные пороки и обладающих способностью их сдерживать. Он не верил в Утопию на земном шаре; равным образом он не считал, как заявлялось в Декларации независимости, что «все люди сотворены равными». Самое большее, что может сделать правительство, — это дать всем равные возможности обрести свободу и равенство; однако нет такого общества, где все могли бы в равной степени их реализовать. Абигейл прочла в его рукописи:
«Нам говорили, что наши друзья в Национальном собрании Франции отменили все сословные различия. Но не обманывайтесь, дорогие земляки. Невозможное не может свершиться. Разве они уравняли все состояния и по равному разделили собственность? Сделали ли они всех мужчин и женщин одинаково разумными, воспитанными и красивыми? Разве они сумели вычеркнуть из истории имена… Ларошфуко, Лафайета и Ламуаньона, Неккера и Мирабо? Сожгли ли они все записи, анналы и историю своего государства?.. Сожгли ли они все портьеры, разбили все статуи?»Абигейл, лежа в постели, взглянула на Джона. — Джон, разумно ли публиковать такие взгляды в условиях демократии? — Нужно всегда учитывать историческую истину. Без этого не построить прочной республики. Может ли любой человек в Америке выступать в роли президента, Верховного судьи, министра финансов и иностранных дел? Немыслимо! Мы должны найти людей с опытом и талантами… Во Франции можно найти таких деятелей и распределить их между исполнительной, законодательной и судебной властями. Собравшаяся на улицах Парижа толпа, взявшая Бастилию, не может управлять страной. Люди должны быть равными перед законом, но они не могут сравняться в умении руководить сложными органами власти. — Согласна. Но ведь это возобновит обвинения в твой адрес, что ты веришь в аристократию. — Да, верю: в рассудок, интеллект, духовную силу и силу воли. Еще больше тревожили Абигейл пассажи о достоинстве наследственно занимаемых постов. Уже в Лондоне она предупреждала его, читая рукопись книги, что восхваление хороших конституционных монархов вызовет обвинения, будто он выступает в пользу монархии. Она знала лучше, чем кто-либо иной, что сын мелкого землевладельца и ремесленника лишь выражает исторические наблюдения. Однако когда книга была опубликована, то многие обвиняли его в поддержке монархизма, и такие обвинения никогда не утихали. Новая книга спровоцирует критиков, подставит его под новый огонь противников. Вопли против «Рассуждения», опубликованных в «Газетт оф зе Юнайтед Стейтс», были даже более язвительными, чем она опасалась. Все теперь знали, куда клонит Джон. Он — монархист! Разве он не отдал свой голос в сенате в пользу закона, благодаря которому президент получил право снимать руководителей правительственных ведомств? Разве не он писал друзьям в различных штатах, призывая усилить полномочия президента в отношении права вето? Разве не он говорил, что президент должен стать защитником от чрезмерных притязаний законодателей? Его соображения относительно «наследственных сенаторов» ставились в связь с его антифранцузскими настроениями. Он настроен против Французской революции как аристократ, выступающий против народного движения. Такие уколы раздражали. Обозленный и обиженный, Джон сел за свой письменный стол и составил письма протеста: «Я непримиримый, смертельный враг монархии… Я за выборы всех трех ветвей власти на определенный срок». Если он выпалил, что думал, разве это сделало его врагом французского народа, защитником коррумпированной и бессильной монархии? Напротив, он желал, чтобы Франция достигла той же свободы и устойчивости, к которым медленно продвигались Соединенные Штаты. Пусть они внемлют предупреждению и достигнут демократического равновесия ветвей власти. Все другие дороги ведут назад, к тирании.
9
Общественность сетовала, что Конгресс заседает ежедневно, а результатов не видно. Это несправедливое обвинение, утверждал Джон, Конгресс провел широкое обсуждение. Беда в том, что не сделаны надлежащие выводы. Нужно провести через законодательное собрание два срочных законопроекта: фондовый билль, по которому федеральное правительство примет на себя все государственные долги, накопившиеся за годы войны, и который будет включать единый план государственных займов; за ним должна последовать выплата процентов по всем долгам с последующим покрытием долгов. Законопроект был подготовлен Александром Гамильтоном, который энергично добивался его одобрения. Второй билль касался размещения национального правительства в приемлемом для всех месте. Абигейл задала вопрос, волновавший Нью-Йорк: — Почему не здесь? Общество потратило уже пятьдесят тысяч долларов на переустройство Федерального зала. Почему мы должны упаковывать вещи и вновь переезжать? Джону хотелось вернуться в Филадельфию, туда, где родилось правительство. — Палата представителей уже проголосовала в пользу Филадельфии на следующие десять лет. После этого мы переедем на постоянное место на Потомаке, где будет выстроен новый федеральный центр. Джефферсон и Мэдисон стараются склонить южан в пользу билля о налогах, который они боятся и ненавидят, в обмен на размещение столицы на Юге. Мне представляется это справедливой сделкой. Лето выдалось знойным. Нэб мучилась в своем крошечном домике в городе. Полковник часто отсутствовал; он был одержим планами сколотить капитал. Вскоре он приобретет поместье на Лонг-Айленде и семья заживет в роскоши. У Элизабет Шоу родилась дочь. Элизабет Кранч Нортон разродилась сыном в приходском доме Уэймаута. У Нэб появился третий сын. Томми завершил обучение в Гарварде. Абигейл сожалела, что обстоятельства помешали ей присутствовать на церемониях окончания университетской учебы ее сыновей. Томми отправился в Нью-Йорк и вскоре выпал из поля зрения родителей; несколько недель они не знали, где он находится. В середине августа Джонни обосновался в их доме в Бостоне, готовый заняться адвокатской практикой в старой конторе отца. Семья по соседству приняла его на пансион. Он писал родителям, что Бостон переполнен адвокатами и у него нет ни клиентов, ни перспективы. Когда же ему удалось заняться судебным делом, оппонент, пожилой адвокат, разгромил его. Джонни собирался расстаться с юриспруденцией. Его смущало то, что, будучи взрослым, он продолжает получать деньги от родителей. В конце августа Абигейл нанесла последний визит семье Вашингтона в Нью-Йорке. Миссис Вашингтон взяла ее за руку и сказала: — Да благословит вас Бог, дорогая мадам. Мы, видимо, встретимся в Филадельфии. Абигейл ответила: — А я ожидаю такой возможности, дорогая миссис Вашингтон. Тем временем уверена, что все будет хорошо в Маунт-Верноне и вы сможете заслуженно отдохнуть. Миссис Вашингтон грустно улыбнулась: — Мы должны остановиться в Филадельфии и подыскать подходящий дом. Я с сожалением покидаю Нью-Йорк. Я была счастлива здесь, как ни в каком ином месте, не говоря о Маунт-Верноне. Если бы сейчас, а не через десять лет нашлось место на Потомаке, то тогда мы были бы близко от нашего поместья. Президент весьма доволен первыми планами Л’Анфана,[6] разработанными для федерального центра. Он должен быть красивым, как Версаль, и огромным, как Париж, с широкими, обсаженными деревьями бульварами, соединяющими общественные здания, построенные из белого камня; с каналами, фонтанами, парками. У нас есть возможность построить самый красивый город в мире. Опасения Джона относительно нестабильности нового французского правительства казались неоправданными. Их давний друг маркиз Лафайет выдвинул требование об учреждении второй палаты. Он помог составить проект Декларации прав человека и гражданина, основанный на американской Декларации прав, занял пост мэра Тюильри и убедил Людовика XVI и Марию-Антуанетту переехать в Париж, под контроль народа. Король и королева предстали перед национальным собранием и объявили, что принимают новое конституционное правление. Церковь была реорганизована, ее огромное имущество поставлено под контроль государства. В сентябре из Филадельфии возвратился Джон с известием, что он снял поместье в Буш-Хилл, расположенное на вершине холма над рекой Шуйкилл в двух с половиной милях от города. Главное здание в три этажа было кирпичным с семью большими окнами по фасаду и парадным входом под центральным окном. Рядом стояли деревянные конюшни и красивый каретный сарай с кирпичными колоннами. Позади дома находились рощица, лужайка с гравийными дорожками и участок для сада. Абигейл, выслушав Джона, воскликнула: — Хотела бы я знать, как ругаются леди, дабы заклеймить мое решение затребовать мебель, когда Нэб выехала в свой дом. Не прошло и месяца, как мебель извлекли из ящиков, и вот теперь ее надо снова заколачивать и перевозить! Абигейл отправила заблаговременно ящики с мебелью, а Джон приказал покрасить стены дома внутри. По приезде они обнаружили, что работы не закончены. Поскольку вместе с челядью их было шестнадцать человек, они не могли позволить себе остановиться в таверне более чем на ночь. Дом в Буш-Хилл пустовал четыре года, был холодным и отсыревшим; сквозь свежую краску проступала скопившаяся в кирпичах и штукатурке влага. Добравшийся до дома Томми день и ночь поддерживал огонь в каминах, пытаясь просушить стены. Едва успели доставить мебель, как начались визиты доброжелателей: друзей семьи и знакомых по правительственной службе. Филадельфия радушно встретила Адамсов. Джон обзавелся множеством друзей во время заседаний Континентального конгресса. Посыпались приглашения на чай, игру в карты, поездки, обеды, танцы. Они посетили одну из вечеринок с участием семьи Вашингтона, министров с женами, и Абигейл убедилась, что члены светского общества неплохо танцуют. При первом посещении театра, декорированного, как во Франции, актеры сообщили им, что всегда готова ложа для вице-президента и его сопровождения. Постановка «Школы злословия» была удачной. Абигейл не могла не вернуться мысленно к Ройялу Тайлеру. Она запомнила его выразительный голос, когда-то он читал Нэб и ей самой отрывки из пьесы. Ныне Тайлера уважали как адвокаты, так и их клиенты; говорили, что он разобрался в основах права, как никто другой со времени Джона Адамса. Его пьесы шли с успехом на сцене, а в журналах публиковались его стихи. Короче говоря, жизнь Тайлера состоялась, и с годами достижений будет все больше. Тогда как полковник Уильям… Не подвела ли она сама свою дочь? Защитную полосу деревьев перед домом вырубили на дрова британские солдаты во время оккупации города в 1777–1778 годах. В результате с середины ноября дом обдувался ледяными ветрами. У Томми начался острый приступ ревматизма, и он не мог ни шевелить руками, ни ходить. Его переносили на руках из постели на диван и кормили с ложечки. За ним заболела плевритом Полли Тейлор. Затем свалилась Луиза. — Мне требуется целый полк медсестер, — сетовала Абигейл, когда слегла также Эстер Брислер, — а я получаю приглашения на официальные балы в нашу честь. Взгляни, Джон, я, наверное, похудела на двадцать фунтов со времени приезда в Филадельфию. Если рядом не было сестер, она пользовалась услугами Бенджамина Раша — лучшего, хотя и трудноуловимого в городе врача. Именно он первым написал Джону, что тот станет вице-президентом, а затем ему следует добиться переезда правительства в Филадельфию. Ныне он, неизменно элегантный, хорошо осведомленный и в то же время уклончивый, посещал дом в Буш-Хилл, превратившийся в лазарет. Рассказ о своих врачебных делах он сопровождал рассуждениями, почему вторым президентом Соединенных Штатов станет не кто иной, как Джон Адамс. Абигейл воскликнула: — Боже милостивый! Я не могу предугадывать на годы вперед, с трудом представляя себе, как пережить предстоящие несколько часов. Чудаковатый доктор Раш открыл в Пенсильванском госпитале первую бесплатную клинику. Абигейл поняла, что доктор осуществляет те мечты, о каких ей говорил некогда Коттон Тафтс. Томми поправился. Джон организовал ему стажировку у одного филадельфийского адвоката. Томми хотел заниматься правом вместе с отцом и двумя старшими братьями. Из Нью-Йорка прибыл нарочный с письмом от Нэб. Полковник Уильям отплыл в Англию, не предупредив заблаговременно жену и не объяснив, зачем уезжает, ограничившись туманными заверениями, что поездка — часть деловых планов. Он, дескать, покроет расходы по поездке, собрав долги, еще не выплаченные его отцу. Насколько могла понять Абигейл, он оставил мало или вообще ничего своей жене и трем детям. Она тревожилась за дочь. Джон был в отчаянии. Из его пространной тирады Абигейл поняла, что он пришел к малоприятному заключению, что дочь вышла замуж за глупца, за мота. Абигейл дала Джону возможность выговориться, а затем спокойно сказала: — Пост начальника полиции был плохим… — Я не просил президента назначать его на эту должность, — запротестовал Джон. — Это была собственная идея президента. Полковник был его адъютантом и другом. — Почему президент не предложил ему более выгодную работу в правительстве? — Ты не ожидаешь от меня ответа, не так ли? В его голосе чувствовалось огорчение. — Джон, если бы только мы могли обеспечить ему назначение, которое удовлетворило бы его тщеславие… — Нэбби, я не хочу, чтобы меня обвинили в непотизме. — Знаю, дорогой; я читала письма наших друзей. Я лишь имею в виду, что ты мог бы найти случай, чтобы сделать тонкий намек. — Звучит прекрасно: утонченный Адамс, в равной мере известный и друзьям и врагам!Дорога от Буш-Хилл к Филадельфии превращалась в зимние месяцы в глинистую жижу, в которой лошади проваливались порой до колена. Однако Абигейл должна была приезжать в Филадельфию пять раз в неделю потому, что Джон, связанный своей должностью в сенате, убедился, что, как и в Европе, он может добиться большего за обеденным столом или в кругу друзей перед камином, a не в формальной обстановке своей конторы. — Джон, если мы примем даже половину приглашений, то проведем зиму в кутежах. — Должны провести. Так я завязываю новые знакомства и умиротворяю давних оппонентов. Для правительства, президента и меня самого полезно часто встречаться с конгрессменами, судьями и дипломатами; такие встречи вселяют дух интимности и ощущение соучастия. — Я настаиваю в таком случае, чтобы субботние вечера и воскресенья оставались для семьи. И только близкие друзья приглашались бы на чай. — Хорошо. Однако ты должна давать обед раз в неделю, как в Нью-Йорке. И раз в неделю наш дом должен быть открыт для друзей и для незнакомых. От нас ждут этого. Джон брал ее с собой на свои любимые прогулки по Филадельфии, ибо он хорошо знал этот крупнейший по населению город в Америке — сорок две тысячи жителей. По мнению Абигейл, Филадельфия походила больше на английский город, чем на Бостон или Нью-Йорк, несмотря на то что на улицах ей встречались немецкие вывески и представители голландских религиозных сект в широкополых шляпах и строгих черных одеждах. Город был заложен столетие назад инженером Уильямом Пенном. Было что-то успокаивающе точное в разграфленных наподобие шахматной доски улицах между реками Шуйлкилл и Делавэр. Проезжая часть улиц была вымощена булыжником, а кирпичные тротуары приподняты на фут ради безопасности пешеходов. Как заявляли с гордостью жители города на состоявшихся в апреле 1790 года похоронах Бенджамина Франклина, Филадельфия являлась во многом первым городом Америки: здесь был открыт первый магазин, основаны первая ежедневная газета, первый городской госпиталь, библиотечная компания, Философское общество. Джон Адамс восхищался присущей городу смелостью мысли и фантазии. Филадельфия арендовала для семьи Вашингтона лучший дом, принадлежавший финансисту Роберту Моррису, на Маркет-стрит. Это был красивый, удобный, величественный дом, достойный стать резиденцией главного исполнительного лица Соединенных Штатов. Впрочем, Вашингтон за свой собственный счет произвел большие изменения: были расширены и украшены помещения, повешены новые шторы на лестничном проходе. Комнаты, выделенные для официальных функций, говорили о хорошем вкусе виргинского плантатора. По вторникам от трех до четырех часов президент принимал конгрессменов, мужское общество Филадельфии, посетителей, приехавших из других штатов и из-за рубежа. Вечером в четверг Вашингтон и его жена устраивали обед. По пятницам в вечерние часы Марта Вашингтон принимала гостей, предлагая кофе, чай, кексы, мороженое, лимонад. С семи до девяти часов благовоспитанные леди Филадельфии демонстрировали при свечах в президентском особняке свои изысканные наряды. Верховный судья Джон Джей стал завсегдатаем семьи Адамс во время сессии Верховного суда, приятно дополняя их семейный круг. Секретарь сената Сэмюел Отис уведомлял Абигейл о прибытии в столицу важных представителей, особенно из Новой Англии, и частенько ей удавалось сделать так, что этих представителей уже ждали приглашения на обед или чай. Добрая знакомая по Парижу миссис Бингхэм и ее в равной мере приятные сестры взяли на себя роль арбитров филадельфийской моды: гостиная Абигейл, решили они, должна стать средоточием созвездия красавиц в самых элегантных платьях. Абигейл полюбила Филадельфию, ставшую национальным правительственным центром. Жители города делали все, что было в их силах, дабы обеспечить дружественную среду для гармоничной деятельности правительства. После того как стаял снег и солнце высушило стены дома, она начала наслаждаться и Буш-Хилл. Комнаты в доме были просторными, из окон открывался превосходный вид на город, буквально к порогу подступали поля пшеницы и травянистые луга. Она лишь сожалела о разлуке с Нэб и тревожилась за ее будущее. В декабре 1790 и зимой 1791 года политическая буря разыгралась вокруг фигуры Александра Гамильтона. Он сумел посредством давления, умасливания и силой логики провести через законодательные органы свой фондовый билль, консолидировавший все государственные долги штатов и федеральные, и дававший правительству право на унифицированный заем. После этого Гамильтон предпринял два следующих важных шага: учредил Банк Соединенных Штатов с отделением во всех штатах и увеличил федеральные фонды за счет акцизного налога на спиртные напитки. Банк на одну пятую находился под контролем центрального правительства, а в остальном — под контролем частных акционеров. Его функции заключались в том, чтобы служить в качестве фискального агента Соединенных Штатов внутри страны и за границей, контролировать эмиссию государственного банка, не принимать его бумаги до подтверждения их обеспеченности. Идея акцизного налога была встречена в штыки во всех штатах, особенно производителями виски, которым пришлось бы выплачивать предложенный Гамильтоном налог. Правительство нуждалось в деньгах, а конституция давала ему право собирать средства с помощью налогов. В итоге билль прошел в палате представителей без особого труда. По-иному обстояло дело с законопроектом о банке. Джефферсон считал, что он противоречит конституции, ибо Конгрессу не дано право создавать подобные национальные агентства. С мнением Джефферсона согласились генеральный прокурор и Джеймс Мэдисон, считавшие, что, согласно Биллю о правах, за штатами сохраняются все полномочия, которые не отнесены в конституции к компетенции Союза. Джон Адамс не согласился. Он понимал, что американский кредит может быть поддержан лишь центральным банком. Джон действовал за кулисами, делясь с заинтересованными лицами своим опытом и мнением. Сенат проголосовал подавляющим большинством за учреждение банка. Палата представителей также одобрила законопроект. Джефферсон рекомендовал президенту Вашингтону, что если он найдет доводы хорошо сбалансированными, то ему следует подписать законопроект, полагаясь на мудрость законодателей. Вашингтон подписал билль. Соединенные Штаты получили банк, заботившийся о бизнесе. И Александр Гамильтон закрепил свое положение лидера федералистов. Посты контролера и инспектора штата Нью-Йорк были объединены, и такой совмещенный пост был предложен полковнику Уильяму Смиту. Он должен был возвратиться к 1 июля для присяги. Гамильтон заверил Джона, что напишет полковнику Смиту в Лондон. Джон и Абигейл со своей стороны написали Смиту, что следует немедленно приехать. Его обязанности будут нелегкими, но и оклад весьма приличным. В мае Конгресс прервался на каникулы. Семейство Адамс выехало из дома в Буш-Хилле, отправив часть мебели в Брейнтри, а оставшуюся сдав на хранение. Они имели возможность провести шесть месяцев на ферме. К моменту их приезда поля покрылись свежей зеленью. За кустами роз, посаженных Абигейл, Питер разбил огород. В доме не хватало мебели, но они нашли выход из положения. Затем установилась не по сезону жаркая погода. Поля потускнели, овощи завяли и посохли. У Абигейл начался приступ малярии, озноб и жар так измотали ее, что, обессиленная, она не могла передвигаться по спальне. Джон же страдал от политических неурядиц. Нападки посыпались с неожиданной стороны, со стороны его друга Джефферсона; нарушалась не только их дружба, но и национальное спокойствие, достигнутое за годы последовательных усилий. Вылазки Джефферсона привели к созданию новой партии в Соединенных Штатах, поглотившей антифедералистов. Эта партия рассматривала Джона Адамса как естественного противника и стремилась устранить его с политической арены.
10
Человек, участвующий в общественной жизни, свыкается с выпадами противников, он ждет их и понимает их мотивы. Нападки Томаса Джефферсона были болезненными ввиду их неожиданности. Томас Пейн, чья книга «Здравый смысл» сделала так много для формирования единства взглядов американцев в ходе революции, выступал в защиту Французской революции. Он опубликовал в Англии книгу под названием «Права человека», экземпляр которой был получен палатой представителей. Служитель передал книгу Джеймсу Мэдисону. Прочитав ее, Мэдисон послал книгу Джефферсону с просьбой после прочтения отправить экземпляр печатнику в Филадельфию. Томас Джефферсон выполнил просьбу, написав в сопроводительном письме: «Я весьма доволен тем, что книга будет перепечатана здесь и наконец-то будет сказано публично кое-что против политической ереси, появившейся в наших рядах. Не сомневаюсь, что наши граждане вторично сплотятся под знаменем „Здравого смысла“». Печатник использовал эти две фразы в качестве введения. Экземпляры книги были разосланы по редакциям газет. Многие из них восприняли заявление Джефферсона как атаку на вице-президента Джона Адамса и федералистов, возрождающих призывы монархистов, и как обвинение, будто Джон Адамс — противник Французской революции. Прочитав введение Джефферсона, Джон показал его Абигейл, сидевшей рядом у камина. — Как такое могло случиться? Ведь мы никогда не расходились в вопросах политической теории. Между нами всегда существовало доверие и взаимопонимание. Почему Том Джефферсон склонен обвинять меня в политической ереси? — Джон, мы не должны обвинять Джефферсона в личных нападках. Антифедералисты стали известны под именем республиканцев. Под такой крышей они сумели собрать не только антифедералистов, но и всех недовольных некоторыми отдельными положениями конституции и действиями правительства. Они купили или финансировали газеты в большинстве важных городов, включая основанную Филиппом Френо при содействии Джефферсона «Нэшнл газетт», отстаивавшую точку зрения республиканцев. Эти газеты повели целенаправленную кампанию по подрыву позиций федералистов, утверждая, будто они являются противниками американской демократии. Поскольку президент Джордж Вашингтон не подлежал критике, за исключением отдельных выпадов против него в «Нью-Йорк джорнэл» и «Нэшнл газетт», для развертывания пропагандистской кампании нужен был козел отпущения. Вице-президент Джон Адамс словно был рожден для такой роли. Ведь он опубликовал материалы, которые превращали его в подходящую мишень. Газета городка Покипси, что на Гудзоне, утверждала, будто Джон Адамс связан с «аристократическими и монархическими принципами». «Нью хэйвен газетт» бичевала вице-президента Адамса как врага свободы и республиканских институтов. «Бостон индепендент кроникл» высказывала предположение, что он — вероотступник и был бы рад установлению в Соединенных Штатах ограниченной монархии. «Бостон сентинел» высмеивала его отношение к наемным рабочим и желание получать больше. Одна антифедералистская газета изображала Джона Адамса в карикатурной роли «герцога Брейнтри». Болезненным ударом для Джона явилось выступление перед обеими палатами законодательного собрания Массачусетса кузена Сэмюела с речью, осуждавшей тех, кто возглавляет движение в пользу установления наследственности в американском управлении. — Кузену Сэмюелу столь же хорошо, как Тому Джефферсону, известно, что я не сторонник наследственной власти! — шумел Джон. — Им известно, что я рассматривал ее с исторической точки зрения и как альтернативу в случае провала конституции. Тем временем Абигейл и Джон старались подобрать подходящее название для своего нового дома и фермы. Джону нравилось название «Писфилд» («Умиротворяющее поле»). Но оно казалось неуместным, ибо их дом стал мрачным, его обитатели — издерганными обвинениями и оскорбительными ссорами. Абигейл спрашивала себя: почему Джон не понимает, что вражда к нему вызвана памфлетом, написанным им в Лондоне и восхвалявшим конституционную монархию. Она также считала нормальным, что столь молодая и не испытанная на опыте конституция может оказаться неудачной. Процесс ее исправления и дополнения идет, но ее основы следует отстаивать до последней капли крови и до последнего вздоха. Джон Куинси, как и его родители, был возмущен нападками. — Отец, я знаю, ты решил не скрещивать мечи с Джефферсоном по этому поводу. Ты прав, ведь это может лишь причинить вред двум высоким представителям в правительстве, которые спорят друг с другом на публике. Ну а я? Мне хотелось бы защитить «Рассуждения». Я напишу серию статей для здешних газет под псевдонимом Публикола. Поскольку ни один адвокат не должен защищать себя в суде, возьмешь ли ты меня как своего адвоката? Джон Куинси выиграл не так уж много судебных дел, но лицо Джона озарилось улыбкой, какую не видела Абигейл с момента поступления памфлета Пейна. Отстаивая в «Бостон колумбиан сентинел» содержание «Рассуждений», Джон Куинси был вынужден связать эту книгу с критикой памфлета Тома Пейна, основанной на убеждении, что Франция столкнется с крупными беспорядками и кровопролитием, если ею будет править однопалатная власть. Американский народ разобрался в позиции Джона Адамса: Джон Адамс выступил не только против Французской революции, но и против государственного секретаря Томаса Джефферсона. Летний отдых был испорчен. Обеспокоенный язвительностью, которую можно было узреть в его двух строчках введения, Джефферсон написал Джону, что, посылая памфлет печатнику, он присовокупил фразу о политической ереси, чтобы «смягчить хотя бы немного сухость мысли», не имея в виду обвинять своего давнего друга. «Дружба и доверие, так долго существовавшие между нами, требуют этого разъяснения с моей стороны, и я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы не опасаться неправильного понимания моих мотивов… Будь добр передать мои комплименты с чувством уважения миссис Адамс…» Огорчение, нависшее над членами семьи, подобно густому туману, рассеялось. Они вновь и вновь перечитывали письмо. Джон сел за составление ответа своему другу.«Я получил твое дружеское письмо от 17 июля с огромным удовольствием. Полностью верю твоему изложению мотивов, побудивших написать замечания и приложить их как введение к филадельфийскому изданию памфлета мистера Пейна „Права человека“; но постыдное поведение лица, нарушившего твое доверие и опубликовавшего замечания, независимо от его намерений, посеяло больше зла, чем он может когда-либо искупить».Ответ Джефферсона был холодным и формальным. Он полагал, что дело возникло из-за публикации статей Публиколы, а не из-за двух строчек введения. Абигейл не удержалась от замечания: — Что думает Джефферсон? Либо он потерял чувство меры, либо он не откровенен с нами. Его введение было опубликовано по меньшей мере на два месяца раньше статей Джонни. Джон тер свою переносицу средним пальцем, пока она не покраснела. — Разумеется, он не хотел показаться бесчестным. Джефферсон — один из наиболее честных людей, каких я знал. — Да, он был таким! — воскликнул Джонни. — Но каков он сейчас? Абигейл бросила острый взгляд на сына: — Почему ты задаешь такой грубый вопрос, Джонни? — Это политика. Мистер Джефферсон — честолюбивый человек. Я слышал о его заявлениях, будто он хочет вернуться в Монтичелло, стать фермером и ученым. Но не заблуждайтесь. Он хочет стать лидером новой республиканской партии и кандидатом на пост президента. Не в этом году; он также хочет переизбрания президента Вашингтона; но, по-моему, он не уступит никому второе место. Я верю ему, когда он пишет, что не намеревался опубликовать те самые две строчки; однако они сидят в его голове, и я уверен, что он писал о них своим политическим друзьям. Девять из десяти нападок на твою, отец, книгу исходят от тех, кто не читал ее. Посмотрим, кто правильно читает историю: ты, отец… или мистер Джефферсон. Прошло лето. Планы Джона и Абигейл отдохнуть во время каникул и привести ферму в порядок пошли прахом. Ричард Кранч находился при смерти. Зная, что ее сестра вновь испытывает трудности из-за затянувшейся болезни мужа, Абигейл попросила Коттона Тафтса позаботиться, чтобы семья Кранч была обеспечена дровами и другим необходимым на зиму. Третий сын Нэб, годовалый Томас, внезапно умер в Нью-Йорке, что ввергло семью в глубокое горе. Джонни так натрудил свои глаза, что Абигейл стала опасаться за его зрение и заставила его делать примочки из хинина, смешанного с солью. Джон был измотан политической борьбой и лишь с трудом совершил поездку в Филадельфию. Единственным приятным известием было то, что полковник Уильям Смит возвратился в Нью-Йорк и занял пост инспектора штата. Арендованный Джоном дом в центре Филадельфии был дорогим, почти тысячу долларов в год, комнаты небольшими, изолированными, что осложняло прием гостей. Для ухода за домом и семьей Абигейл требовалась лишь половина прежней прислуги. Посетители приходили в течение всего дня. Абигейл повезло: она нашла негритянку — прекрасную кухарку, надежную и лояльную. Неуправляемая Полли Тейлор была заменена приятной молодой девушкой из Брейнтри по имени Сейлия. Государственные ценные бумаги Массачусетса, купленные по дешевке Абигейл, поднялись в цене и приносили доход. Это позволяло ей время от времени использовать деньги на хозяйственные цели. Было очевидно, что оклад вице-президента не покроет расходы за время полной сессии Конгресса. Джон ежедневно посещал сенат. Дома же он внимательно читал сообщения, поступавшие из Франции. Национальное собрание раздиралось противоречиями. Ссоры, заговоры, предательства раскалывали единственный законодательный орган. Король и королева бежали из Парижа, надеясь, что монархи в других европейских странах испугаются и направят свои армии во Францию для подавления революции. Однако король и королева были захвачены и возвращены в Париж, где толпа осыпала их оскорблениями, угрожала расправой. Франция жаждала крови. И все же Людовик XVI подписал новую конституцию. Амнистия освободила всех политических заключенных, и вновь казалось, что революция мирно закончится. Однако Джон Адамс думал иначе. Изучив развитие демократической партии во Франции, он распознал вероятность гражданской войны в будущем и открыто сказал об этом. И вновь посыпались обвинения, будто он желает провала революции. Абигейл прилежно выполняла свои обязанности, принимая множество гостей. Она была безотказной маркитанткой, обеспечивая дом в Ричмонд-Хилле, затем Буш-Хилле, а теперь в центре Филадельфии. Она не докучала Джону и не впадала в уныние из-за долгов. Когда нужны были деньги, чтобы помочь Чарли открыть свою контору в Нью-Йорке, субсидировать Джона Куинси, зарабатывавшего мало, и Томми, ничего не зарабатывавшего, она продавала налоговые сертификаты илиземлю, доставшуюся от родителей. Или же просила Коттона Тафтса продать часть скота, запасы сена, зерна, сидра. Оказываясь в поистине отчаянном положении, Абигейл нарушала последнюю заповедь пуритан и занимала деньги у давнишних друзей вроде генерала Линкольна в Массачусетсе. В такие моменты Джон, понимавший, что у жены нет наличных денег, писал жесткие письма казначею Гамильтону, требуя возмещения части его личных средств, потраченных на расходы в Европе. Однажды он явился в контору казначея с ваучерами и записками, доказывая, как много задолжало ему правительство. Порой его демарши были успешными, и Абигейл с радостью и благодарностью принимала даже небольшие выплаты. «Одного срока на посту вице-президента, несомненно, достаточно? — спрашивала она сама себя. — Разве мы не выполнили свой долг? Когда-то я была пухленькой, как куропатка, теперь же кожа да кости. Джефферсон и Гамильтон могут с таким же успехом занимать пост вице-президента. Когда к концу года наступят выборы, не мог бы Джон подать в отставку? Он сам называет свой пост самым ничтожным из придуманных человеком. Он несчастен, чувствует себя не в своей тарелке, измочален. Неужто ему захочется еще четыре года заниматься такой неприятной работой?» Она написала письмо Коттону Тафтсу. He сможет ли он заделать течь в крыше, которую не залатали плотники прошлым летом? Не навесит ли он ставни в окна ее спальни? Не наймет ли маляров, чтобы покрасить дом снаружи? Не попытается ли он купить на распродаже кровати, запастись и сложить в погреб ветчину, солонину, бочонки с сидром? Приехала Нэб со старшим сыном Уильямом, намереваясь погостить подольше. Однажды полковник Уильям предстал перед ошеломленной женой слишком уверенным в себе. Не сказав обычных слов приветствия, он выпалил: — Нэб, мы едем за границу. На судне, отплывающем из Нью-Йорка в марте. — Могу ли я спросить, а что будет с твоим назначением инспектором штата Нью-Йорк? — Я вышел в отставку, — небрежно ответил полковник. — Это хороший пост. Хорошо оплачиваемый. — Чтобы прожить. Я же хочу иметь огромные деньги. Целое состояние. Оно в моей руке, Нэб, мы разбогатеем. Я застолбил поместье, сотни плодородных акров. Нэб спокойно спросила: — Можно ли узнать о существе твоих планов? Эти планы имели отношение к тысячам акров земли, выставленных на продажу в штате Нью-Йорк по договору губернатора Клинтона с индейцами. Полковник собирался продать землю в Англии. Его поддерживали богатые американцы, речь шла о продаже площадей, пригодных для городского строительства, сам он купил наилучшие участки… Нэб была убеждена, что наконец-то у ее мужа появилась замечательная возможность. Она была рада вновь поехать за границу с рекомендательными письмами отца… Абигейл и Джон пребывали в мрачном настроении. Позже, ночью, Джон спросил: — Видишь ли ты его финансистом? — Ты никогда не считал его гением в денежных делах. В 1792 году развернулись дебаты о распределении мест в палате представителей. Границы страны расширялись. В 1791 году в Союз вошел на правах штата Вермонт. Кентукки, представлявший часть обширных земель Виргинии, был близок к получению статуса штата. Новые штаты желали иметь свой голос в правительстве. Каждый штат требовал больше мест в Конгрессе, но возражал против предоставления большего числа мест другим штатам. Новая Англия, Юг и Восток — все стремились умножить контролируемые ими голоса за счет географического перераспределения, с тем чтобы формировать достаточно большие блоки для проведения через Конгресс своих собственных законопроектов и отклонения тех, какие им невыгодны. Конституция гласила, что каждый штат должен иметь одного представителя от каждых тридцати тысяч избирателей; но как учесть интересы избирателей сверх этого числа? Решения палаты представителей подлежали одобрению сенатом. Когда после многомесячных дебатов был наконец принят компромиссный законопроект, его противники решили, что Новая Англия получила большую часть голосов. Президент Вашингтон по совету Джефферсона, Мэдисона и Рэндольфа наложил вето на законопроект, как не соответствующий конституции. Поскольку это было первое «негативное» решение президента по отношению к биллю, принятому Конгрессом, Джон был озадачен. Как воспримет Конгресс такое отклонение его воли? Поднимется ли шум, стоны огорчения, обвинения в тирании? Реакция на вето Вашингтона была спокойной. Палата представителей не смогла набрать необходимых двух третей голосов, чтобы преодолеть вето президента и принять более удовлетворительное решение. Законодатели были настолько довольны собой, что, как заметил обрадованный Джон, «они не заметили, что ненароком одобрили право вето исполнительной власти. За первые три года ни один законодательный акт не отклонялся президентом. Ныне же наступило время испытаний. Теперь мы знаем, что шаг президента сработал. Если Конгресс не в состоянии преодолеть вето президента, он должен составить лучший законопроект или же, по меньшей мере, достичь приемлемого компромисса. Принятие такой процедуры, пожалуй, самое важное из сделанного нами в интересах сбалансированного правительства».
11
Весна пришла в Филадельфию в апреле. Джон и Абигейл затосковали по своим зеленым полям и голубым холмам. Абигейл стала укладывать свои личные вещи для поездки на Север. — Джон, сколько времени, по-твоему, мы пробудем дома? — Довольно долго. Я не хочу быть в Филадельфии во время голосования: могут подумать, будто я хочу быть переизбранным на пост вице-президента. — Имена выборщиков будут известны к четвертому декабря? — Да. Я сяду в кресло председателя третьего декабря. Сессия будет короткой. Обе палаты хотят закончить дебаты до дня вступления президента в должность, до четвертого марта, и после этого немедленно разъехаться. Этот последний год не был для Абигейл счастливым, она часто болела, и ее раздражала суета вокруг нее. Последние месяцы она чувствовала слабость, словно ее тело расшатывал внутренний конфликт, не поддававшийся контролю ни рассудка, ни воли. У нее было мало сил, чтобы бороться с эпидемией, охватившей город, думать и говорить о болезнях других. — Ты не обидишься, если я какое-то время отдохну? Я хотела бы три месяца побыть дома. Тебе будет неплохо с семьей Сэмюела Отиса, она ведь словно вошла в нашу семью. — Ты заслужила отдых. Что, по твоему мнению, следует сделать с домом и мебелью? — Если ты не собираешься возвращаться до декабря, то срок нашей аренды истечет. Думаю, что нам следует сдать мебель на хранение, вернуть дом владельцу и выждать, может ли он сдать его в аренду и вернуть нам арендную плату за неиспользованные шесть месяцев. Джон склонил голову на грудь. — Здесь велик спрос на дома, — сказал он. — Владелец — разумный человек. Даже если мы сэкономим достаточно, чтобы оплатить перевозку и хранение… Они вовремя возвратились на ферму, и Джон мог освободить брата Питера от обработки полей. В Филадельфии остался Томми, проходивший юридическую стажировку. Город Брейнтри разделился на две половины, и по предложению Ричарда Кранча их половина получила название Куинси в честь деда Абигейл. Из Бостона приехал Джонни. Абигейл неспешно возилась с посадками роз, привезенных ею из Англии. В доме не хватало мебели, новшеством был лишь линолеум, уложенный Мэри Кранч на полу в гостиной прошлой весной. Кузен Коттон приобрел для них несколько кроватей и подушки, что касается погреба, то он был забит провиантом. Абигейл была довольна, у нее не лежала душа заниматься подобными мелочами. Мысли Джона и Абигейл занимали предстоящие выборы. Будет ли переизбран Джон? Во время первых выборов существовала одна партия — федералисты. Остальная часть электората состояла из скептиков, недовольных, борцов за права штатов, объединившихся под крышей антифедерализма. По сути дела, не возникло каких-либо новых проблем. Однако на этот раз в борьбе участвуют партии, возникает перебранка, которая, как опасался Джон, вызовет раскол в стране. Томас Джефферсон дал ясно понять, что не станет оспаривать у Джона пост вице-президента. Александр Гамильтон также не стремился получить этот пост. Следующим вице-президентом хотел стать Джордж Клинтон, переизбранный на пост губернатора Нью-Йорка. Он продемонстрировал, что под его знамена собираются диссиденты. Вокруг него сплотились некоторые штаты. В иное время это расстроило бы Джона. Но на сей раз он решил, что споры не должны нарушать семейный покой. Он отказался поехать в Филадельфию даже после того, как Александр Гамильтон написал ему тревожное письмо, сообщая, что отсутствие Джона подрывает его шансы. Джон по-прежнему придерживался обещания, данного ранней весной, что примет пост лишь после того, как будут избраны выборщики. Второго ноября он проголосовал в Доме собраний Брейнтри. Абигейл сожалела о том, что не может голосовать. 19 ноября 1792 года они мирно расстались, как если бы Джон уезжал в Бостон, договорившись регулярно обмениваться новостями за неделю. Томми составит компанию отцу в Филадельфии, а Брислер станет обслуживать Джона. При ней оставалась девятнадцатилетняя Луиза, ставшая для нее почти дочерью. Абигейл наняла пожилого работника, недостаточно сильного для работы в поле, но надежного, к тому же при ней был молодой Джеймс. Абигейл отдыхала душой, не думала над проблемами, не тревожилась. Когда после отъезда Джона начался сильнейший за многие годы снежный буран, она не стала волноваться, а перевела овец с пастбища в перестроенный каретный сарай. Время текло размеренно. Она вспоминала, как чувствовала себя, когда Джон находился за три тысячи миль от нее; тогда, четырнадцать лет назад, время, казалось, застыло, сдерживая свой бег. Всю неделю Абигейл с удовольствием думала, что сообщит Джону уйму новостей; срубленные деревья для строительства закромов, будут доставлены, как только позволит снег; дороги к побережью превратились в болота, но, когда они подсохнут, на фургонах доставят водоросли для удобрения полей, сосны из их леса перевезут на лесопилку и сделают доски. Письма Джона доставляли ей не меньшее удовольствие, чем написание собственных. Ему был оказан хороший прием, когда он занял кресло председателя сената. Ему удобно в доме Отиса, в комнате, где окна выходят на юг, где днем и ночью горит камин. Он слушается совета Абигейл находиться в тепле, ибо «сырость и озноб всепроникающи». Но он не в состоянии проспать ночь напролет. Ему не нравится одиночество. Федералисты показали хорошую организованность и вдохновенно провели кампанию в поддержку Джона. Губернатор Клинтон получил все голоса выборщиков Нью-Йорка, Северной Каролины, Виргинии и Джорджии. Джефферсон завоевал голоса Кентукки, ставшей штатом в июне 1792 года. Джон завоевал явное большинство — семьдесят семь голосов против пятидесяти, отданных за Клинтона. Абигейл старалась побольше отдохнуть. На чай приходили Мэри и кузен Коттон. Это было единственное развлечение, которое позволяла себе Абигейл, если не считать воскресных визитов Джонни, который сопровождал ее в церковь и обедал у нее. Его дела шли не очень хорошо. По совету отца он начал участвовать в местной политике, направив петицию законодательному собранию Массачусетса об освобождении штата от устаревшего антитеатрального закона. Но оказался в одиночестве. Он не осмеливался на романтическое увлечение с тех пор, как его пыл охладила Абигейл два года назад. Он не всегда заботился о надлежащем состоянии своей одежды и шевелюры. Она посещала его в Бостоне, слушала выступления преуспевающих адвокатов в суде. Казалось, что у них нет того глубокого проникновения в суть дела, каким обладал Джонни; и тем не менее они имели клиентов, а у Джонни их почти не было. Она размышляла: возможно, ее сын перестарался, готовясь к профессии, его образование и дальние путешествия отпугивали мелких клиентов. Средоточие сторонников Франции в Бостоне позволяло Абигейл следить за ходом событий. В Париже происходили бунты перед продовольственными лавками, и это вынуждало торговцев снижать цены на ром, кофе и сахар. Грабежи в провинции стали обычным явлением. Вооруженные вилами и мушкетами толпы перехватывали барки с зерном и растаскивали его. В провинциальных городах работные люди маршировали под знаменами, требуя снизить цены на яйца, масло, крупы, дрова и уголь. Сопротивлявшихся торговцев расстреливали. В Париже подвергся штурму дворец Тюильри, швейцарская охрана истреблена; Лафайет, потерявший свое влияние вследствие усиления власти якобинцев, бежал из страны и попал в плен к австрийцам. Хотя предстояли новые выборы и созванный Национальный конвент ввел всеобщее голосование, такое право не распространялось на сторонников королевской власти; их бросали в тюрьмы, а затем без суда казнили. Как предсказывал Джон, во Франции рухнули право и государственное управление. Революции предстояло еще пройти долгую, кровавую дорогу. Абигейл беседовала мало, ибо большинство ее давних друзей радовались сообщениям об убийствах роялистов, исходя из посылки, что это приближает Францию к республике. Ее сердце было охвачено скорбью за французский народ, который она узнала и полюбила. Ее удерживало дома желание избавиться от лихорадки, от которой страдала три зимы подряд. Вылечиться помогло неожиданное возвращение в феврале в Нью-Йорк Нэб и полковника Смита. Полковник добился умопомрачительного успеха, продавая нью-йоркские земельные участки, и приехал домой с большим состоянием. Он купил Нэб карету и четверку лошадей; по сообщению Джона, он хвастался каждому встречному своим огромным богатством. Джон спрашивал в письме: не разумно ли забрать мебель и заблаговременно отправить домой до его приезда в следующем месяце. У Абигейл возникла мысль. Она написала Нэб: если полковнику безразлично, в каком городе вести свой бизнес, то почему бы не заниматься им в Филадельфии? Полковник говорил о покупке большого поместья. Если он приобретет или арендует поместье в Филадельфии, то Абигейл и Джон могли бы жить у них несколько месяцев во время сессии Конгресса, пользоваться своей мебелью и оплачивать свою долю расходов. Не считает ли Нэб, что было бы прекрасным для семьи находиться в полном сборе какую-то часть года? Нэб, бесспорно, хотела этого. Но полковник думал иначе. Он хотел жить в Нью-Йорке на своем участке. Он намерен построить некое подобие поместья Вашингтона Маунт-Вернон.Джон принес присягу как вице-президент 4 марта 1793 года. Все нападки на него прекратились. Лидеры двух партий Томас Джефферсон и Александр Гамильтон стали антагонистами, и партийная печать клеймила противников в самых резких и крикливых выражениях. Ссоры между государственным секретарем Джефферсоном и казначеем Гамильтоном вызывались отчасти личной неприязнью, отчасти политическими разногласиями. Острота раздора была такой, что президент Вашингтон, за чью благосклонность они сражались, заявил, что их стычки расшатывают федеральное правительство. Он требовал от них «взаимной уступчивости», добавляя, что «человечество не может думать однообразно», и советовал всем официальным лицам республики сглаживать разногласия между собой ради общей цели. Джон и Абигейл стояли в стороне от этих петушиных боев. То, что не удавалось им узнать от самих участников сведения счетов, они вычитывали в «Юнайтед Стейтс газетт» — наиболее популярном в Америке издании, восхвалявшем Гамильтона и осуждавшем каждый шаг Джефферсона. Через рупор «Нэшнл газетт» Френо, учрежденной Джефферсоном и Джеймсом Мэдисоном, чернилась репутация Гамильтона, а Джефферсон изображался «просвещенным патриотом, государственным деятелем и философом». Правительство раскололось на две фанатические группы, стремившиеся уничтожить друг друга, явно не думая о том, что в конечном счете может рухнуть Союз. Семена раздора давали ростки с восходом солнца: следует ли разрешить Англии провести войска по американской территории с севера для сражений с испанцами в нижнем течении Миссисипи? Должна ли почта находиться в юрисдикции Гамильтона или Джефферсона? Должен ли монетный двор действовать под контролем казначейства, как требовал Гамильтон, или под контролем государственного департамента? Кто должен обеспечивать сбор фондов для покрытия долгов? Не становится ли казначей финансовым тираном, впрыснувшим с помощью своего банка яд в тело Америки? Не заразился ли Джефферсон «французской болезнью»? О таких сварах в правительстве знали Вашингтон, Адамс и некоторые конгрессмены, теперь же, когда взаимные обвинения вылились на страницы печати, о них могли читать все. Руководствуется ли Джефферсон завистью и «жаждой власти»? Угрожают ли республике действия политических деятелей, как публично утверждают сторонники той и другой стороны? Главным следствием свары явилось падение авторитета обеих партий и углубление раскола между ними. Стало ясно и другое: Джон Адамс следовал за президентом Вашингтоном как второй по положению человек. Трудности, в которые он втянулся по собственной неосторожности, мгновенно были устранены более серьезными просчетами его соперников. Сессия Конгресса завершилась. Джон скромно жил в Филадельфии. Если Абигейл удавалось получить деньги от продажи урожая или от аренды, она тотчас же покупала правительственные сертификаты. Теперь, когда Джон дома, ферма обеспечит им средства на жизнь на оставшуюся часть года, при условии, что он не будет заниматься дорогостоящими перестройками. Джон уделял много времени Джонни, нуждавшемуся в поддержке со стороны отца. Джонни все еще был вынужден брать деньги у родителей, и это лежало тяжелым камнем на его душе. Он много читал, особенно Ливия и Платона в оригинале, подобно своему отцу тщательно изучал историю. Но, по-видимому, для него все еще не находилось надлежащее место в Бостонской ассоциации адвокатов. Сообщения, поступавшие из Франции, внушали тревогу. В январе 1793 года, через несколько месяцев после ликвидации монархического строя, Людовик XVI попал под нож гильотины. Британцы выдворили французского посла. 1 февраля 1793 года Национальное собрание Франции, провозгласившее, что ее цель — уничтожить королей и освободить народы, объявило войну Англии и Голландии. Среди французов царил энтузиазм, а не страх перед предстоящим испытанием. Охваченная политическим и экономическим хаосом, Франция не только была одержима желанием освободить Европу, но и уже вела войну с Англией. Гильотина стала национальным символом Франции после того, как были отсечены головы королевы Марии-Антуанетты ее фрейлин. Мостовые улиц были залиты кровью; под ножом гильотины оборвалась жизнь тысяч парижан и французов по всей стране. Сменявшие друг друга у власти лидеры неизменно отправляли своих предшественников на гильотину. Как и предсказывал Джон Адамс, Национальное собрание уничтожило само себя, террор Робеспьера, по мнению Джона, затмил все, что знала история цивилизованного мира. Сочувствовавшие французам бостонцы носили брошки с изображением гильотины, демонстрируя тем самым свою веру во Французскую республику. Их неприязнь к Джону Адамсу росла по мере того, как подтверждалась точность его предсказаний. Аибгейл привыкла к смене времен года. Различия между неделями и месяцами размылись. Время казалось уже не неприступной скалой, а плавно текущей рекой. Зиму она проводила главным образом перед камином, а весну — в своем цветнике. Она вступила в тот возрастной период, когда боли, недуги, недомогание затуманивали ее ощущения, делали пассивность приятной. В такие дни ее навещала Мэри Кранч и ухаживала за ней. Когда же появлялась бодрость, она просиживала у изголовья Ричарда Кранча, в котором едва теплилась жизнь, или же ухаживала за матерью Джона, настолько ослабевшей, что, казалось, ничто не могло вернуть ей силы. Они обе выжили. — Никто в Новой Англии не умирает легко, — делилась она своими наблюдениями с Мэри. — Мы настолько сварливы, что не реагируем на первый призыв архангела. Проблемам, связанным с фермой, казалось, не было конца. Порой у нее возникало чувство, что она родилась с этими проблемами и умрет вместе с ними. В разгар зимы при обильном снегопаде волы не могли вытащить из леса телегу дров или жердей. Семья Адамс владела тремя отдельными фермами; наемные работники не справлялись со всеми тремя; нужно было либо брать взаймы, либо покупать сельскохозяйственные орудия — плуги, заступы, вилы, совки, оси для телег, мотыги, серпы. Прошло более тридцати двух лет с тех пор, как она познакомилась с Джоном. Они оказались в центре событий мировой истории и, по сути дела, несли ответственность за многое из случившегося. И все же, если они творили историю, то и история творила их. Абигейл стукнуло сорок девять лет. Она ощущала в себе огромный запас энергии. Члены семей Куинси и Смит принадлежали к долгожителям. Абигейл поднялась вверх в спальню, крепкие ноги легко несли ее. В зеркале она увидела свои роскошные каштановые волосы, убеленные сединой, широко расставленные, внимательные глаза, лицо и ладную фигуру, хорошо сохранившуюся с тех пор, когда она впервые прошла с Джоном по улицам Бостона, мягкий рот, упрямый подбородок, возвещающий, что Абигейл Смит Адамс выполнит долг, каким бы он ни был. Еще придется сталкиваться с проблемами, продолжать творить историю. Она справится с этим.
12
С точки зрения Абигейл, войны редко выигрывали, они просто временно отступали. В Париже Джон Адамс утверждал, что Франция присоединилась к Соединенным Штатам главным образом из-за желания разбить своего давнишнего врага. Ныне же Франция старалась втянуть Соединенные Штаты в свой конфликт с Англией. Сын семьи, с которой Джон познакомился в Париже, приехал в Филадельфию в качестве французского посла и попытался шантажировать президента Вашингтона, обращаясь к американскому народу через его голову. Вашингтон добился отзыва посла. Федералисты, Вашингтон, Адамс, Гамильтон, Джей склонялись к тому, чтобы стоять в стороне от европейских войн. Республиканцы, к которым примкнули граждане, все еще ненавидевшие Англию из-за Войны за независимость, хотели, чтобы Соединенные Штаты оплатили свой долг Франции и сражались против британцев. Противоречия в Филадельфии приобрели настолько разрушительный характер, что Джефферсон ушел в отставку, вернулся в поместье Монтичелло и занялся перестройкой своего дома. Гамильтон собирался уйти в отставку и возобновить адвокатскую практику. Генерал Нокс готовился подать заявление об отставке, потому что управлять военным департаментом было куда сложнее, чем перевезти в середине зимы пушки из форта Тикондерога в Бостон. Неблагодарная задача вице-президента использовать свой голос, чтобы вывести решение проблем из тупика, дала Джону возможность отклонить жесткие меры в отношении Великобритании, которые сделали бы войну неизбежной. За время трехлетнего пребывания в Англии Джон и Абигейл Адамс установили контакт с королем Георгом III, его кабинетом и членами парламента. Ныне к ним обращались как к знатокам, восхищавшимся британской формой правления. Почему так ведут себя англичане? По прошествии десяти лет после ратификации мирного договора британцы не вывели свои войска из северо-западных фортов. Тысячи красномундирников остаются на американской земле, подстрекая индейцев. Британцы решили втайне на своем совете захватывать нейтральные суда и захватили двести пятьдесят американских кораблей: грузы кораблей были конфискованы, команды либо включены в состав британского военно-морского флота, либо брошены в тюрьму. Страсти разгорелись настолько, что Абигейл прочитала в одной из газет статью о необходимости второй Войны за независимость. На небольшом приеме-обеде, данном Мартой Вашингтон для правительственных чиновников, возник вопрос: «Почему британцы прибегают к таким провокационным шагам, прекрасно понимая, какие большие усилия мы, федералисты, предпринимаем, чтобы удержать страну от участия в войне на стороне Франции? Разве им не ясно, что они вооружают республиканцев, желающих ввязаться в войну против них?» Все взоры устремились к Джону. Наступила пауза, пока он собирался с мыслями. — Британцы блокируют Францию и хотят голодом довести ее до поражения. С их точки зрения логично конфисковать продовольствие и военные материалы, перевозимые на нейтральных судах. Нам придется делать то же самое, если на нас будет оказан слишком большой нажим. Убытки наших торговцев разорительны, однако не в такой степени, чтобы ввязываться в войну. Но когда они начинают захватывать наши суда, загонять в ряды служащих своего военно-морского флота наших моряков… Я просто их не понимаю. Абигейл следила за маневрами двух американских политических партий по бостонским газетам, которые ей доставлял Джонни дважды в неделю из Филадельфии и Нью-Йорка. Республиканцы Джефферсона хотели провести билль, запрещавший ввоз значительного количества британских товаров в Соединенные Штаты; сторонники Гамильтона уповали на то, что поставка товаров из Англии обеспечит наибольшие поступления в казну, позволяя тем самым укреплять правительство Соединенных Штатов и поддерживать веру в него. Если Джон не мог раскусить ход мыслей британцев, то Абигейл с трудом понимала своих соотечественников-американцев. Попытки не допускать в страну британские товары вызвали такой раскол между северными и южными штатами, что Джон писал: «Почти половина континента находится в постоянной оппозиции к другой». Разговоры о расколе велись на приемах и обедах в Филадельфии. Сообщалось, что сенатор Руфус Кинг от Нью-Йорка сказал сенатору Джону Тейлору от Виргинии: поскольку Новая Англия и южные штаты «никогда не думали и никогда не станут думать в унисон, раскол Союза с общего согласия» — единственное разумное разрешение разногласий. Выход из положения предложил сенат. Группа сенаторов-федералистов попросила президента Вашингтона направить полномочного посланника в Великобританию для заключения всеобъемлющего договора, который положит конец грабежу Британией американского судоходства, обеспечит взаимовыгодную торговлю и приведет к выводу британских солдат с территории Соединенных Штатов. Вашингтон выбрал Верховного судью Джона Джея, имевшего опыт таких переговоров. На следующей неделе республиканцы провели через палату представителей законопроект о невступлении в переговоры с Великобританией, в сенате же голоса разделились поровну. Джон Адамс проголосовал против билля, что и решило исход. Если бы он прошел, мирная миссия Джея в Великобританию стала бы невозможной, ибо британское министерство не приняло бы его. Верховный судья Джей отплыл в Англию в начале мая. Разрыв с Англией был предотвращен. Республиканские газеты вновь принялись поносить Джона Адамса, утверждая, будто он в большей степени британец, чем американец. Симпатизировавшие Франции, желавшие, чтобы Америка повела войну против англичан, грозились снять скальп с головы Джея, если он привезет договор, делающий Соединенные Штаты и Англию союзниками. Джон Адамс опять-таки оказался прав в отношении французского правительства: Робеспьер послал на гильотину Дантона, а Баррас сделал то же с Робеспьером; тысячи французов и француженок истреблялись без какой-либо юридической процедуры. По сравнению с этим неприятности, которые переживала Абигейл, казались незначительными. Она задолжала Сэвилю шестнадцать долларов за телегу дров, а поскольку денег не было, ей пришлось просто уволить его. Борясь со слизняками в саду, она обмазала дегтем стволы деревьев. Когда потребовались семена клевера, она попросила Джона прислать их из Филадельфии. Абигейл приобрела пресс для производства сыра; натерла гусиным жиром шеи овец, у которых воспалились железы. Арендатор, выехавший из старого дома родителей Джона, оставил его грязным, как авгиевы конюшни; она нашла способ отмыть дом. Джон проявил первые признаки волнения по поводу президентских выборов, до которых оставалось еще два года. Он вновь заговорил о ферме: Абигейл, дескать, должна иметь маслобойню при каждом принадлежащем им доме. Ей следует купить так много годовалых телок и двухлеток, сколько найдется. Поскольку у нее не было ни денег, ни хлевов, она отклонила предложение увеличить свое стадо. Весна и лето 1794 года принесли удачу семье Адамс, самую приятную с того времени, как Нэб достигла финансового благополучия. Джонни наконец нашел клиентов и зарабатывал средства на скромное существование. Самым приятным моментом для него стала возможность, приехав к матери в Куинси, заявить: — Мне не нужен последний перевод денег от отца. Теперь я зарабатываю достаточно на жизнь. Мои дела пошли в гору. Неожиданно в адрес Абигейл и Джона пришли письма; в них сообщалось, что президент Вашингтон, познакомившийся с Джонни в Филадельфии, сделал запрос относительно него, вероятно, прочел некоторые из его политических статей в газетах и принял решение назначить Джона Куинси Адамса американским министром-резидентом в Голландию, где он будет жить и руководить посольством в том самом доме, который приобрел Джон Адамс для первого посольства Соединенных Штатов в Европе. Сенат единодушно одобрил решение; сенаторы поздравили вице-президента Адамса и не скрывали своего удовлетворения. О непотизме и не заикались, ведь Джон Куинси завоевал пост своими собственными достижениями. Джонни, так сказать, примерял сапоги своего отца. — Страстно желаемая цель, — сказал он матери, побледнев от скрываемого возбуждения. — Все эти годы я наблюдал за отцом и Фрэнсисом Дана, служившим во Франции, Голландии и России, стараясь добиться права продолжить работу. — Твой отец всегда считал, что ты получил лучшее политическое образование в Америке. Джонни старался скрыть бушевавшие в нем эмоции. Поняв, что не справится с ними, он обнял мать и поцеловал ее. — Спасибо тебе за то, что позволила мне отплыть в Европу во время войны, смогла противостоять всем ужасающим опасностям, оставив себя без старшего сына, который мог быть полезным в условиях, когда отец был далеко от дома. Мама, откуда у тебя такая отвага? Абигейл оставалась в крепких объятиях сына. Ведь прошло столько времени, и только сейчас Джонни, преодолев свою природную сдержанность, смог раскрыть ей свои чувства. Она посмотрела в его теплые карие глаза. — Отвага, Джонни? Не знаю. Мы слепо делаем то, что нам кажется правильным. Мне хотелось, чтобы ты совершил поездку и познакомился с европейской культурой. Что двигало мною: любовь, долг, честолюбие? Все вместе. Теперь я сполна вознаграждена. Ничто иное со времени избрания твоего отца на пост вице-президента не воодушевляло меня столь сильно. — Мама, я никогда не горел желанием заниматься частным правом. Я мечтал служить правительству. Но я не мог бы принять назначение год назад, не зарабатывая на жизнь. В таком случае я вечно упрекал бы себя: «Ты принял пост министра, желая прикрыть провал в качестве адвоката». Теперь же я знаю, что стою на собственных ногах и поэтому могу ехать с поднятой головой. Абигейл пересекла комнату, подошла к буфету и достала графин мадеры. Она заметила озорную улыбку на лице Джонни. — Джонни, ты готовишь какую-то проказу. Какую? Джонни широко улыбнулся: — Речь идет о Томми. Мне хотелось бы взять его с собой в качестве секретаря. Он единственный из нас не видел Европу. Для секретаря в посольстве в Голландии не предусмотрен оклад, но я заплачу за его переезд. Если отец выдаст Томми ту же сумму, что выдает сейчас, я уверен, мы выберемся из положения. Абигейл вздохнула. Двое из ее четверых детей будут вновь вдали от нее. К тому же повторяется прежнее. Джонни должен получать четыре с половиной тысячи долларов в год, почти столько же, что и Джон Адамс — вице-президент Соединенных Штатов. Однако для Джона главным чувством была гордость; и она разделяла ее. — Джонни, ты остаешься моим сыном, где бы ты ни был. Джона Адамса тревожило, сможет ли федеральное правительство противостоять мятежу, вспыхнувшему в штате Пенсильвания. Мятежники вышли с плакатами «Свобода и никакого акциза. О, виски» и сожгли дом регионального инспектора по акцизным налогам. Так начались выступления против федеральных налогов на винокурение, введенных Гамильтоном. Президент Вашингтон направил в Пенсильванию отряды милиции, и угроза восстания была подавлена. Власть главного исполнительного лица, в пользу которого так плодотворно действовал Джон Адамс, позволила сохранить достоинство и власть центрального правительства. Если бы Джон Джей возвратился с договором, который Джону Адамсу не удалось выторговать у британцев, он, несомненно, оттеснил бы Джона Адамса как второе лицо в стране. Однако Джей попал под огонь жесткой критики. Президент Вашингтон получил копию договора в марте 1795 года. Недовольный положениями договора, он держал его в секрете до созыва сената на сессию для ратификации. Слово «секретный» не содержалось в конституции, и никто в правительстве не был обязан считаться с этим. Копия договора оказалась в руках Бенджамина Бейка из республиканской газеты «Аврора». В очаги недовольства пятнадцати штатов вновь попал горючий материал. Президент Вашингтон обронил фразу, что сражение по поводу договора… «равноценно сражению с бешеной собакой». В апреле Джон Джей возвратился домой. Сессия по вопросу о ратификации договора была назначена на июнь. По пути в Филадельфию Абигейл заехала вместе с Джоном в Нью-Йорк. Ей представилась возможность посетить Нэб и ее детей. Наконец-то у Нэб после трех мальчиков родилась дочь. Нэб была в добром здравии и в хорошем настроении, полковника переполняли оптимизм и ощущение собственного достоинства. Он настаивал отвезти Абигейл и Джона на ферму Ван Зандт и показать им свой земельный участок, между Ист-Ривер и Бостонской почтовой дорогой. При ферме были конюшни и коровники, пруды и другие объекты, и стоила она полковнику всего пять тысяч долларов, что было удачной сделкой. Поскольку его выбрали председателем Общества Цинциннати взамен барона фон Штейбена, ему требовался дом для приема гостей. Он показал Абигейл первую часть воздвигавшегося здесь поместья наподобие Маунт-Вернона — внушительный каретный сарай. Сам особняк мыслился длиною более двадцати метров, с широкими верандами и дорожкой на крыше для прогулок. Абигейл осторожно спросила: — Полковник, прикидывали ли вы, во что обойдется такой дом? — Не имеет значения, — ответил он. — Деньги сыплются мне в руки, как яблоки с перезревшей яблони. Я покупаю большие участки в Нью-Йорк-Сити и выгодно их продаю. Помогаю оснастить два судна для торговли в Средиземном море; они приносят невероятные суммы. Сент-Илер, мой будущий родственник, и я ведем международный бизнес огромных масштабов. Знаете, что я обеспечиваю французов запасами на несколько лет? — Он взял Абигейл под руку. — Подозревали ли вы, помогая мне завоевать руку Нэб, что вводите в семью Адамс настоящего Креза?[7] На Джона Джея обрушились два коварных удара, сделавших почти безнадежной его задачу. Во-первых, Гамильтон подложил мину под его миссию, доверительно сообщив британскому послу, что Соединенные Штаты никогда и ни при каких условиях не присоединятся к коалиции против Франции. Во-вторых, американский посланник во Франции Джеймс Монро[8] проявил себя таким сторонником французов, что англичане испугались. Как Соединенные Штаты могут остаться нейтральными в любой войне в Европе, если посланник Монро выступает с льстивыми речами во французском Национальном собрании? Тем не менее Джон Адамс считал, что Верховный судья Джей добился важных уступок со стороны англичан: Британия обещала вывести свои войска из северо-западных фортов к июню следующего года; Соединенным Штатам предоставлено право навигации по Миссисипи до ее устья; согласована полная компенсация за задержанные американские суда. Американские суда допускаются в британские порты на взаимной тарифной основе. В свою очередь, Америка не допустит использования ее портов врагами Британии. Американское правительство выплатит все законные частные долги его торговцев, скопившиеся до Войны за независимость. Джею не удалось добиться признания принципа свободы морей. Американские суда все еще могли перехватывать, обыскивать и захватывать любую часть их груза. Не согласились британцы прекратить насильственное включение американских моряков в ряды британского флота и возвратить рабов, угнанных во время войны. Значительная часть населения была недовольна. Республиканцы негодовали. Южане отвергли договор в целом. Гамильтона забросали камнями на публичном митинге в Нью-Йорке, когда он попытался защитить договор. Джон Адамс считал, что договор является шагом вперед. Однако в этот момент Великобритания захватила несколько американских судов, доставлявших продовольствие во Францию. Президент Вашингтон решил не подписывать договор. Он узнал, что государственный секретарь Рэндольф, настоятельно рекомендовавший ему не подписывать договор, уличен в секретных переговорах с французским посланником Фошэ с целью расстроить отношения между Соединенными Штатами и Англией. 24 июня 1795 года сенат ратифицировал договор Джея. 18 августа президент Вашингтон подписал договор. Ликования по этому случаю не было. Абигейл иронизировала: — Джон несколько лет старался добиться такого договора и не преуспел. Ныне же по причине революции во Франции и войны осуждают Джона Джея, и его карьера подорвана из-за того, что он добился, по меньшей мере, половины того, чего мы желали. Нет более странного мира, чем мир политики. Преподобный Джон Шоу умер вскоре после отплытия Джонни и Томми в Англию. Бетси горевала, но через несколько месяцев вышла замуж за преподобного Стефана Пибоди, подтвердив тем самым поговорку Новой Англии: вдовство подобно боли в локте — острой и короткой. Во время поездки в Нью-Йорк Абигейл обратила внимание на скрытное поведение Чарли: лишь после возвращения в Куинси, когда закончилась сессия, рассматривавшая договор Джея, пришло известие, что Чарли женился на Салли Смит. Джон сорвался на крик: — Он едва успел стать адвокатом. Преждевременный брак помешает ему. Почему он не мог подождать, пока не упрочится его положение? Абигейл была рада видеть Чарли остепенившимся. Она мягко ответила: — Разве твое положение было прочным, когда ты женился на мне? Думаю, что нет, ведь я помню, как ты дрожал от страха в дни, предшествовавшие свадьбе. Разве в браке не должно быть чуточку авантюры? Джон, дай Чарли шанс. Ему двадцать пять лет, возраст достаточный, чтобы стать мужчиной. Джон смягчился. Он погрузился в чтение последних сообщений, поступивших из Парижа. Французы были близки к тому, о чем думал Джон Адамс: они создали два выборных законодательных органа, избравших Директорию из пяти членов в качестве исполнительной власти нации. Это был шаг вперед, соглашался Джон, но и серьезная ошибка. — Они обнаружат, что исполнительный орган, состоящий из многих членов, станет источником раскола, разъединения и гражданской войны. Директория вела дебаты и не управляла. Ее неумение создать действенную форму власти ввергла французов в непрерывные беспорядки. Это же явилось источником неприятностей для президента Соединенных Штатов.13
Президентские выборы 1796 года открыл сам президент Джордж Вашингтон. В начале года он информировал одного из секретарей, который доверительно передал известие Джону, что «торжественно решил прослужить только до конца нынешнего срока». На обеде миссис Вашингтон отвела Джона в сторону и намекнула, что ничто не убедит президента и ее саму служить третий срок. Вашингтон не желает публично сделать такое заявление или огласить его: впереди еще год, в течение которого он будет осуществлять исполнительную власть. Главными фрондерами были республиканцы. Они воспылали решимостью избрать Томаса Джефферсона президентом, наследующим Вашингтону. В качестве уступки Джону Адамсу, Новой Англии и федералистам они были готовы сохранить Адамса на посту вице-президента. Джон писал домой Абигейл:«Ты понимаешь последствия для меня и для тебя. Либо мы должны вступить на тропу испытаний, более тяжелых, чем когда-либо, либо удалимся в Куинси и до конца жизни останемся фермерами. По меньшей мере, я полон решимости не ходить под Джефферсоном и, как Вашингтон, не служить вообще. Я не боюсь уйти с общественной службы, но не допущу своего унижения, находясь на ней».Известие о намерении президента Вашингтона не баллотироваться на третий срок распространилось в политических кругах. Джон получал каждый вечер приглашения на обед и на обсуждение перспективы государства. Насколько он представлял себе, федералисты не намерены были изменить свою линию наследования. Джон Адамс оставался в их святцах вторым номером. Если Вашингтон уйдет в отставку, Джон Адамс поднимется наверх. Абигейл призналась себе самой, что ее тревожили письма Джона. Она не была настолько честолюбивой, чтобы стать «первой в Риме». Сердце подсказывало, что она не желает быть первой леди. Если бы дело зависело от ее личного мнения, она попросила бы Джона уйти в отставку. Она откровенно писала ему:
«В такие важные моменты я не осмеливаюсь влиять на тебя. И должна молиться, что у тебя есть более высокий советник. Что касается должности вице-президента, то тут я могу высказать твердое мнение. Уходи в отставку. Я, на твоем месте, не согласилась бы стать вторым не при Вашингтоне».Очень скоро стало ясно, что предстоит острая предвыборная борьба. Сторонники Томаса Джефферсона будут настойчивыми. Договор, заключенный Томасом Пинкни с испанцами, был настолько выгодным для Соединенных Штатов в том, что касалось плавания по Миссисипи и определения оспаривавшихся до этого границ, что Пинкни также мог стать внушительным соперником, Джон все еще продолжал восхищаться Томасом Джефферсоном. Он признался Абигейл, что если Джефферсон будет избран президентом, а Джон Джей вице-президентом или в обратном порядке, то он мог бы удалиться на свою ферму уверенный за судьбу страны. Никто не мог рассчитывать на поддержку, какой пользовался президент Вашингтон. Абигейл имела представление о «хлыстах и скорпионах, шипах без роз», характеризовавших политическую жизнь. Она должна быть честной по отношению к мужуи поэтому написала ему, что ее расстраивает не только его роль как президента, но и собственная:
«Я тревожусь по поводу той роли, которая выпадет на меня, хватит ли у меня терпения, осторожности, сдержанности столь же безупречно выполнить обязанности, как это делает почтенная леди, ныне выполняющая этот долг. Боюсь, что у меня нет. В качестве второй по положению мне удавалось, насколько я знаю, увиливать от осуждения… Должна сказать, я так привыкла к свободе чувств, что не сумею выстроить вокруг себя необходимую защиту. Неужто нужно обдумывать каждое слово, прежде чем его произнести, и принимать обет молчания, когда хочется говорить. Здесь, в далекой деревне, я живу, окруженная любовью соседей… и, предполагаю, не нуждаюсь в государственном блеске. Мне не завидуют, и я чувствую себя легко и спокойно, слабо соприкасаясь с миром».Спокойствие Абигейл относилось лишь к ее собственному образу жизни, ибо в 1796 году случилась катастрофа с полковником Уильямом Смитом. Поворот к худшему был столь же неожиданным, как обвал прогнившей крыши в амбаре, и ситуация продолжала осложняться. Абигейл получила грустные письма дочери с пятнами слез на конвертах. Два судна полковника были захвачены, его инвестиции обернулись сплошными потерями. Его свояк Феликс де Сент-Илер, которому полковник Смит доверил половину своего состояния, оказался жуликом. Он сбежал с распиской полковника на сумму четыре с половиной тысячи долларов, успев предъявить ее банку до своего бегства. Банк востребовал бумаги, и оказалось, что у полковника Смита не было денег на счету. Его кредиторы, у которых он бездумно занимал, обрушились на него подобно библейской саранче и поглотили все видимое: незавершенный особняк — копия Маунт-Вернона, двадцать три акра фермы Ван Зандт, земельные участки в Манхэттене и на Лонг-Айленде. Полковник Смит и его семья лишились не только денег, но и уважения. Сокрушительным ударом для Нэб явилось не неожиданное обнищание, а публичное доказательство того, что ее муж — дутая величина, никудышный человек, короче говоря, болван. Первого июня в Союз вошел шестнадцатый штат — Теннесси, добавивший свой электорат к предстоящим выборам. Джон же занялся постройкой нового сарая, длиною почти пятьдесят метров, о котором мечтал последние семь лет. Таким образом, Абигейл получила возможность поставить в одно стойбище свое стадо коров и расширить выгодное производство молочных продуктов. Джон Адамс как бы показывал миру, что не нуждается и даже не желает занимать президентский пост; он готов вести жизнь фермера-джентльмена в Куинси. В середине сентября президент Вашингтон опубликовал в газете «Америкэн дейли адвартайзер» прощальное обращение к нации, уведомлявшее о том, что ей предстоят выборы нового президента. Он предупреждал народ о самой страшной опасности — разрушении единства. «Единство правительства, сделавшего вас единым народом, теперь также дорого и вам. Это именно так, ибо оно является главным столпом здания вашей подлинной независимости, опорой вашего спокойствия дома, окружающего вас мира, вашей безопасности, вашего процветания, вашей свободы, которую вы так высоко цените…»
Томас Джефферсон и Аарон Бэрр от Нью-Йорка участвовали в выборах как кандидаты от республиканской партии. Джефферсон следовал той же тактике, что и Джон Адамс, но, вместо того чтобы возводить коровник, он старался нарастить стены своего дома в Монтичелло. Александр Гамильтон решил, что не будет гнаться за постом президента. Он хотел добиться устранения Джона Адамса из избирательной кампании и выбрать на пост президента подконтрольного ему человека. Съезд федералистов, состоявшийся летом 1796 года, думал иначе. Он выдвинул Джона Адамса кандидатом в президенты, а Томаса Пинкни кандидатом в вице-президенты. И все же избирателям предстояло продемонстрировать свое отношение к кандидатам, не предрешая распределение постов. Получившие наибольшее число голосов станут президентом и вице-президентом, даже если они принадлежат к различным партиям. План Гамильтона состоял в том, чтобы Пинкни набрал больше голосов, чем Адамс, и стал президентом. Такая стратегия могла отдать большинство голосов Джефферсону, и таким образом федералисты лишились бы власти. Гамильтону нравились рискованные интриги. Кампания в печати велась без каких-либо моральных или нравственных ограничений. Джефферсона обвиняли в отсутствии твердости и нравственной отваги, в том, что он дважды покидал ответственные посты: первый раз как губернатор Виргинии при наступлении британских войск, второй — как государственный секретарь. Утверждалось, что он атеист, человек без религии, а следовательно, и без Бога и поэтому не заслуживает доверия. Против Джона выдвигались обвинения, будто он хотел установить монархию в Америке и является врагом Французской революции и следовательно, врагом свободы всех народов; будто он аристократ, не верящий в равенство… его сильное центральное правительство лишит штаты остатков их суверенных прав… По всей стране распространялись пристрастно составленные памфлеты, расхваливавшие своего кандидата на одной странице и охаивающие его соперника на другой. Абигейл, ежедневно занимавшейся рутинной работой в новом коровнике, происходившее казалось гражданской войной в прессе. Не летели головы, не падал нож гильотины, американские тюрьмы не были переполнены политическими оппонентами, тем не менее в воздухе витала ненависть соседа к соседу. Абигейл решила, что бесполезно читать такую разрушительную по природе, неправедную полемику. Она подобна эпидемии желтой малярии в Филадельфии в 1793 году, которая не затихла, пока не наступили в ноябре холода. Когда эпидемия прошла, умершие были погребены, выздоровевшим разрешили посещать общественные места и время залечило раны. Абигейл надеялась, что так будет и на сей раз, ибо если раны не затянутся, республика падет, чего опасался Джон Адамс. Когда она высказала свои опасения Джону, тот мрачно ответил: — Ты единственная, кто сказал, что у нас нет выхода. Если бы две партии географически разделились: все федералисты сконцентрировались на Севере, а все республиканцы — на Юге, то тогда мы могли бы расколоться и стать двумя государствами. Однако каждый штат, каждое графство, каждый город имеют республиканцев и федералистов, живущих по соседству. И после выборов они останутся соседями. Сэмюел Адамс, унаследовавший пост губернатора Массачусетса после смерти Джона Хэнкока, а затем вновь переизбранный на этот пост, не только выступил против своего кузена Джона, но и стремился стать выборщиком-республиканцем, надеясь отдать свой голос Джефферсону. Казалось, что Бостон и бостонская «Кроникл» действительно служат источником самой злостной клеветы против Джона. Абигейл писала своим сыновьям в Европу, уверяя их, что от «Кроникл» нельзя ожидать правды, на ее страницах лишь фальшь и злословие… Недели и месяцы тянулись, словно волы по заболоченному полю. Абигейл и Джон почти не говорили о проходившей кампании, хотя и писали письма друзьям, пытаясь восстановить истину в тех случаях, когда нападки становились особенно язвительными. Из-за политических интриг Александра Гамильтона невозможно было предугадать итоги выборов. Если бы он поддерживал Джона Адамса, то никаких сомнений не существовало бы. Когда французский посол Адет принялся угрожать Соединенным Штатам войной, если президентом не будет избран Томас Джефферсон, казалось, что многие напуганные федералисты могли переметнуться на другую сторону. Абигейл и Джон получили от Сэмюела Отиса послание: он полагал, что Джон, видимо, пройдет большинством в три-четыре голоса выборщиков.
Подошло время, когда Джону надо было ехать в Филадельфию и быть на месте в связи с созывом в первый понедельник декабря заседания сената. Они оказались перед дилеммой. Должна ли Абигейл сопровождать его? Погода была промозглой, дороги — отвратительными. Где они остановятся? Если Джон потерпит поражение, то тогда он поприсутствует на церемонии принесения присяги новым президентом и сразу же после этого возвратится домой. При таких обстоятельствах стоит ли ей предпринимать длительную тяжелую поездку и сидеть три сырых и холодных месяца в Филадельфии? А если Джон выиграет? — Мне хотелось бы видеть празднества, если ты выиграешь, мой дорогой. Парады, фейерверки. Мне хотелось бы дать прием, а затем государственный обед в честь президента и миссис Вашингтон. Мне хотелось бы пригласить Нэб с детьми в Филадельфию по этому случаю. Чарли и его жену… Не слишком ли я тщеславна? Напряжение последнего месяца кампании достигло апогея. Абигейл шокировало, что сторонники Джефферсона открыто носили французские кокарды. Джон, видимо, терял Пенсильванию в пользу Джефферсона из-за «наглого договора, который мы самоуверенно заключили с Великобританией». Очевидно, исход выборов зависел от того, на чью сторону склонится народ — Франции или Англии. Крикливая пресса не скрывала своего пристрастия; лишь немногие обвинения против двух ведущих кандидатов содержали что-то новое, однако постоянное повторение старого придавало видимость основательности. — Суждение почти каждого, — комментировала Абигейл своей сестре Мэри, — продиктовано фракцией. В отеле «Фрэнсис» в Филадельфии Джон Адамс оставался пассивным наблюдателем, а Томас Джефферсон продолжал жить в своем доме в Виргинии. В канун нового года к Абигейл зачастили визитеры с поздравлениями по случаю вероятной победы Джона. Выборщики провели заседания и проголосовали. Газеты сообщали, что голоса официально подсчитают в начале февраля, но результаты будут настолько близкими, что единственный голос может решить, кто станет президентом Соединенных Штатов: федералист Джон Адамс или республиканец Томас Джефферсон. Восьмого февраля 1797 года вице-президент Джон Адамс отправился на площадь Индепенденс, поднялся через Восточную комнату в палату сената на втором этаже здания Конгресс-Холл, прошел через со вкусом обставленную палату с ее столами и креслами из красного дерева. Он поднялся на возвышение, сел в мягкое кресло с высокой спинкой; служащий поправил за его спиной затенявшие свет жалюзи. Через мгновение Джон Адамс решительно опустил председательский молоток, ударив по подставке. Совместное заседание сената и палаты представителей открылось. Воцарилась полная тишина. Секретарь сената Сэмюел Отис приблизился к платформе с запечатанным металлическим ящиком. Внутри него лежали скрепленные сургучом конверты, по одному от каждого штата Союза. Вице-президент Джон Адамс, по обе стороны которого находились клерки, вскрывал конверты, извлекал из них листок бумаги и ясным твердым голосом зачитывал написанное. Напряженно слушавшие сенаторы и представители зашевелились, послышались вздохи, радостные восклицания. Выражение на лице Джона Адамса не менялось, он не выдавал своих эмоций: были ли голоса за него или против. Он действовал не спеша, отчетливо объявлял цифры, ожидал с олимпийским спокойствием окончательных итогов. Клерки проверили друг у друга подсчеты, затем повернулись к вице-президенту и с поклоном передали ему документы. Вице-президент встал, держа перед глазами окончательные результаты; теперь его рука слегка дрожала. — Новый президент Соединенных Штатов Джон Адамс, получивший семьдесят один голос выборщиков. Новый вице-президент Томас Джефферсон, получивший шестьдесят восемь голосов. Наступила тишина, затем члены Конгресса Соединенных Штатов поднялись и устроили овацию в честь своего председателя. В этот же самый момент 8 февраля Абигейл сидела за письменным столом Джона в его конторе в Куинси, перед ее глазами лежал листок с неофициальными итогами голосования. Она пришла к тем же результатам, которые объявил ее муж в зале Конгресса. Взяв перо, она написала:
«Ярко воссияло солнце, отдавая почет твоему дню. В этот день ты сам объявил себя главой нации».Она медленно склонила свою голову на сложенные руки.
«И ныне, о владыка, мой Бог, Ты сделал Твоего слугу правителем народа. Дай ему чуткое сердце, чтобы он мог осознать, как предстать перед нашим великим народом, чтобы он мог различать доброе и злое…»Абигейл вновь взяла в руки перо.
«Мои мысли и размышления рядом с тобой, хотя меня нет на месте; и моя мольба к небесам, чтобы от твоих глаз не укрылись вещи, ведущие к миру. Мои ощущения — не гордость или хвастовство. Они освящены осознанием обязанностей… Чтобы ты мог осуществить их с честью для себя, со справедливостью и беспристрастностью для твоей страны и с удовлетворением для этого великого народа, пусть это будет ежедневной молитвой твоей А. А.»
КНИГА ДЕВЯТАЯ ПОЦЕЛУЙ БОГА
1
Заря была студеной. Солнце уже взошло, но еще не грело. Абигейл была в доме одна. Заворачиваясь плотнее в пуховик, она вспомнила, что наступил долгожданный день: в Филадельфии Джон готовится к решающему моменту передачи власти — к инаугурации, как стали называть газеты предстоящую 4 марта 1797 года церемонию. Джон Адамс отказался от кареты, запряженной шестеркой лошадей, в которой ехал президент Вашингтон к месту принесения присяги. К залу Конгресса его доставит собственная карета, запряженная двумя лошадьми; он наденет сюртук перламутрового цвета, специально сшитый по этому случаю, при кортике и кокарде. Присягнув, произнесет речь о том, что принимает на себя обязанности президента, и возвратится в гостиницу «Фрэнсис». Насколько ей известно, празднований не будет: ни приемов, ни чая, ни обеда, ни парада, ни фейерверка. Филадельфийские торговцы дали в амфитеатре «Рикеттс» прощальный обед в честь президента Вашингтона. Возможно, они пригласили Джона на правах гостя. Но не будет никакой акции, в которой второй президент Соединенных Штатов выступал бы в роли хозяина или же принимал приветствия как новый руководитель американского народа. Не будет ни ликующей толпы, ни колоколов, ни веселых празднеств, как восемь лет назад, когда отмечали приезд генерала Вашингтона в Нью-Йорк в качестве первого президента. Джон будет совсем одиноким. Вернется в гостиницу, станет лечить свою простуду отваром ревеня и каломелью, по ее рекомендации, растопит в спальне камин, заберется в постель, чтобы написать письма и почитать на ночь, а затем попытается заснуть. Таков образ жизни Новой Англии. Следовало ли ей быть в Филадельфии рядом с мужем в этот праздничный день? Они не могли въехать в особняк президента, там все еще живет семья Вашингтона; но можно было бы поселиться в гостинице «Фрэнсис» и устроить там прием, угостить собравшихся ромовым пуншем и кексами. Мысленно возвращаясь в прошлое, Абигейл попыталась понять, почему она не в Филадельфии. Первая причина — временная близость выборов. В январе она получила неофициальное известие, что Джон Адамс станет президентом. Однако если голоса выборщиков от штата Вермонт будут исключены под формальными предлогами, то Джефферсон может выиграть выборы большинством в один голос. В феврале сенат Соединенных Штатов подсчитал голоса, но сведения о результатах дошли до нее в Куинси лишь через неделю. Следовало ли ей немедленно выехать? К концу месяца она могла бы добраться до Филадельфии. Но она еще не настроилась на переезд в Филадельфию на постоянное жительство. Погода была скверной, после суровой зимы дороги превратились в сплошные колдобины. Она не завершила заключение контрактов с Френчем и Бурреллом, работавшими на двух других фермах. Коттону Тафтсу нездоровилось, Питер уклонялся. Было некому доверить ферму в Писфидде. Одной из более серьезных сдерживавших ее причин было состояние особняка президента. Он обветшал, не выдержав еженедельного наплыва сотен гостей. Ковры вытерлись, обивка диванов истерлась, ножки стульев, кресел и столы были поцарапаны, обои в пятнах, посуда побита. Семья Вашингтона была вынуждена несколько раз менять посуду. Возвращаясь в Маунт-Вернон, Вашингтон забирал с собой немногие личные вещи, а остальные ставил на продажу с молотка. Необходимый ремонт, меблировка ложились на плечи Джона — его преемника. В любом случае президент и Конгресс должны переехать в Вашингтон-Сити к концу 1800 года. Чего ждут от вступающего в должность нового президента? Чтобы привести в надлежащее состояние особняк, потребуются тысячи долларов. Выложит ли Адамс деньги из собственного кармана, как это часто делал президент Вашингтон? По оценкам Абигейл, пришлось бы израсходовать около десяти — двадцати тысяч долларов, чтобы резиденция была красивой, достойной уровня президента. Для этого им пришлось бы продать большую часть семейной собственности. Но если они вложат свои средства в здание, которое придется покинуть через три года, то останется лишь ограниченный резерв для оплаты расходов, связанных с должностью президента: ведь надо выплатить три тысячи в год за аренду дома, к этому добавляются стоимость новой кареты и лошадей для участия в государственных церемониях, плата прислуге, секретарям, содержание управления главного исполнительного лица. Проведение приемов. Нужны значительнее личные средства для продолжения красивой традиции, заложенной Джорджем и Мартой Вашингтон. Джон Адамс не счел нужным сказать своей жене, что они не могут въехать в особняк президента на таких условиях, но в подробных письмах просил проявить терпение, подождать решения Конгресса, выдержать вынужденную разлуку. Если Конгресс не проявит заботы о доме президента, семья Адамс не въедет в него. Не поселится она и в меньшем по размеру доме, ибо это явилось бы ударом по престижу института президентства. Джон останется в гостинице, Абигейл — в Писфилде, найдет себе помощников на время весенних полевых работ, позаботится о своей молочной ферме и остальной собственности, а Джон будет трудиться в интересах нации. Старый состав Конгресса распускается после инаугурации, а новый соберется лишь следующей зимой. Джон приедет домой в июне, поможет семье убрать урожай и будет выполнять президентские обязанности в своей библиотеке. Это было разумное решение. Абигейл встала, прошла в соседнюю комнату, где хранились ее платья, Пробила тонкую корочку льда, образовавшуюся в умывальнике, умылась и расчесала свои волосы перед зеркалом. Увидев свое лицо в зеркале, она поняла, что оно отличалось от того, какое рассматривала в пасторском доме в Уэймауте. В семнадцать лет черты лица были правильными: высокий, красивых очертаний лоб сочетался с выпуклыми скулами, с нежным овалом нижней части лица и выразительным подбородком. Ныне же на ее лице была печать тридцати пяти минувших лет, губы стали уже, щеки впали, подчеркивая величину носа. Вот, подумала она не без издевки, лицо «работяги». Именно так одна балтиморская газета оценила Джона Адамса. Он дал ей свое определение: «Работяга — это крепкая, выносливая, трудолюбивая коренастая лошадка, что упрямо работает и довольствуется малым. Очень полезна своему хозяину при скромных расходах». «Такое описание подходит нам обоим», — подумала она про себя. Абигейл уложила несколько локонов на лоб, надела теплое платье, грубые сапоги, набросила на голову шерстяную шаль и отправилась по снегу к дому Питера навестить мать Джона и поздравить ее. Миссис Холл облачилась в свое лучшее темно-синее платье с кружевным воротником и манжетами, ее голову украшал кружевной капор. Оставалась всего одна неделя до ее восьмидесятивосьмилетия, но ее походка была по-прежнему упругой, а морщинистое лицо расплывалось в улыбке. — Мама, ты знаешь, что стала второй американской женщиной — матерью президента? — Это кровь Бойлстонов. Она всегда устремляется вверх! Корни Джона были ближе к моей стороне. — Отдохни, сегодня в полдень тебе придется прийти на чай с леди нашего города. В полдень, когда в Филадельфии Джон приносил присягу, Абигейл сидела в его библиотеке, переплетя пальцы рук на коленях. Еще не пробудившаяся от зимней спячки окрестность хранила тишину. Она радовалась тому, что завершилась кампания, каждый шаг в которой был отвратителен, что Джон выиграл… а это было так важно для его самолюбия. Обвинения с обеих сторон носили оскорбительный характер. Она должна была признать справедливости ради, что больше всех пришлось страдать Томасу Джефферсону. Республиканцы приняли поражение с достоинством, помогали в подготовке передачи власти. В стороне от политики («Как может жена Джона Адамса отодвинуть политику в сторону?» — спрашивала она себя с усмешкой) три месяца разлуки прошли спокойно. Абигейл жила как бы в подвешенном состоянии, без тревог и внешнего давления; вставала поздно, проводила время за чаем со своей сестрой Мэри или друзьями-соседями. Луиза приносила ей в гостиную поднос с легким ужином, который она съедала перед горящим камином, затем рано ложилась спать с «девственницей» грелкой, наполненной кипящей водой и обернутой фланелью, которая была «компаньонкой» Джона, когда он спал в одиночестве. Немного почитав перед сном, Абигейл быстро засыпала. После почти трех лет службы в Гааге Джон Куинси был назначен президентом Вашингтоном на пост полномочного посланника в Португалии с двойным окладом. Он готовился к поездке в Лондон, где должен был жениться на Луизе Джонсон. Джон Куинси начал ухаживать за Луизой осенью 1795 года, когда его послали в Лондон для участия в обмене ратификационными грамотами по «договору Джея». Все говорило за то, что Луиза станет превосходной женой. Томми изучал французский язык и наслаждался своим европейским опытом, работая в качестве секретаря Джона. Клиентура Чарли в Нью-Йорке умножалась. Но сегодня в полдень Абигейл станет женой президента Союза Американских Штатов. Скоро ей предложат занять место Марты Вашингтон, стать «первой в Риме».2
Филадельфийское общество и члены правительства настаивали, чтобы президент Адамс поселился в президентском особняке. Выехав 9 марта из этого дома, Вашингтон оставил старую мебель, достаточную для «холостяцкого зала» — пары комнат, служивших Джону офисом и спальней. В интервале между отъездом Вашингтона и приездом Джона 21 марта дом оказался на попечении прислуги. Джон писал не без душевной боли:«Вчера я впервые ночевал в нашем новом доме. Что за зрелище! Нет кресла, в котором можно было бы сидеть. Кровать и постельное белье в жалком состоянии. Дом был притоном неслыханных скандальных пьянок и разврата слуг».У Абигейл тоже были свои неприятности. Вторично приходил сборщик налогов, пытаясь получить от нее двести одиннадцать долларов. — Я не могу заплатить, — сказала она, — выплачу в течение месяца. — Если вы не можете, миссис президент, то кто может? Абигейл поднялась, подошла к письменному столу Джона. На нем лежала банкнота в один доллар — вся ее наличность. Она заняла четыреста долларов у друга, генерала Линкольна, дав ему расписку. Работавший на старой ферме Адамсов мистер Френч требовал, чтобы Абигейл купила ему подстилку для вола. Буррелл отказывался засеять недавно приобретенную Адамсами ферму Тейер, если она не даст ему пару волов и телегу… Абигейл спрашивала себя, неужели у Джона такие же трудности с обеспечением ведомств? Он писал: «Мои расходы так велики, что моя первая зарплата за квартал не покроет и половины». Их планы приобрели особое значение, когда президент Адамс заявил, что вновь избранный Конгресс должен собраться в мае, чтобы «обсудить и определить меры, которые, по мнению членов Конгресса, отвечают безопасности и благосостоянию Соединенных Штатов». Причина объявления президентом чрезвычайного положения вызывалась реальной угрозой войны с Францией, которая отказалась принять американского посланника Чарлза Котсуорта Пинкни, оскорбила его и грозила арестовать, а также захватывала американские суда в Вест-Индии. Джон считал, что Конгресс обязан разделить с ним ответственность в решении деликатного вопроса. Таким образом, отпала возможность его возвращения на ферму летом; была опасность, что он задержится в Филадельфии на весь год. Уходивший в отставку Конгресс в последний день перед инаугурацией ассигновал четырнадцать тысяч долларов на ремонт и меблировку дома президента. Это позволило Джону приобрести новую мебель. Миссис Отис, жена секретаря сената, долгое время занимавшего этот пост, отобрала основной комплект обеденной посуды, изделий из стекла, столового белья, кухонного оборудования. Джон писал:
«Необходимо сделать столько, чтобы обставить дом, и мне в этом деле требуется твой совет, да и во многих других делах, негоже, что мы живем в разлуке, поэтому я прошу тебя приехать в карете с Луизой, миссис Брислер и ее детьми. Ты должна арендовать четыре лошади в Бостоне и кучера на выгодных условиях, чтобы добраться сюда… Чувствую себя неважно, сильная простуда и кашель мучают меня, когда и без этого много забот».Ей никогда не приходило на ум подвергать сомнению его жалобы. Как решать многочисленные задачи по дому и фермам, которые он переложил на нее, с судебным делом, которое она вынуждена возбудить против семьи Найтингейл, вырубившей без разрешения несколько полос принадлежащего Адамсам леса? Ей предстояло покрасить карету, нанять несколько надежных молодых девушек по соседству и взять их с собой, поскольку филадельфийская прислуга занимается «грабежом», разрешить проблемы Эстер Брислер, с тем чтобы та могла приехать в Филадельфию с детьми, продать возможно больше скота за наличные, оставить на каждой ферме работающих арендаторов, отдать дом в аренду надежной семье, которая заботилась бы о его состоянии, поселить Биллингса у брата Питера, обеспечить уход за матерью… Ожидать помощи неоткуда, и ей пришлось вновь обратиться к дядюшке-кузену Коттону. Худой, поседевший, с очками на носу, Коттон выглядел учителем-патриархом. Через несколько недель ему стукнет шестьдесят пять, он страдал от ноющей боли в груди, но его энергия оставалась неиссякаемой. Семь лет назад он женился на Сюзанне Уорнер и шесть лет занимал пост председателя медицинского общества Массачусетса, создания которого он так долго добивался. Ко всеобщему удивлению, он проявил такую же проницательность в выгодном вложении капитала, как и распространении медицинских знаний. — Кузен Коттон, я не знаю чью-либо собственность, в такой степени непродуктивную, как наша. Думаю, что она не приносит даже один процент дохода в год. Однако я тешу себя надеждой, что, если бы доктор Тафтс и его супруга управляли нашими делами, они сделали бы хозяйство более прибыльным. Прежде всего, я никогда не жаждала владеть такой большой площадью, не культивируя ее. На деньги от продажи неиспользуемых земельных участков можно было бы купить ценные бумаги, которые даже при низком проценте без особых забот давали бы больше, чем земля. Но мне не везло с этими идеями, поскольку я расходилась с мужем, убежденным, что богатеет лишь тогда, когда вкладывает средства в земельные угодья. Коттон сдвинул вниз очки и сказал с волнением: — Пусть это будет нашим секретом: полагаю, что твой муж лучше ведет дела как президент Соединенных Штатов, чем как бизнесмен на своей ферме. — Он будет хорошим президентом. Управление государством — его профессия. Абигейл изложила Коттону сложность стоящих перед нею проблем. Как она сможет их решить и быстрее отправиться в Филадельфию? — Не сумеешь. Нужно время. Но давай разделим задачи. Кузен Уильям Смит лучше всех обеспечит покраску кареты в Бостоне и найдет кучера с лошадьми. Ты не можешь купить сейчас ферму Кранча, хотя она рядом с твоей и Кранч отчаянно хочет ее продать. Я знаю бездетную пару по фамилии Портер, которая будет ухаживать за домом и садом так же старательно, как ты сама; я должен лишь помочь им сдать в аренду их собственное маленькое хозяйство… Они просмотрели весь список. На скот был малый спрос или его вообще не было. Они купят вола для фермы Тейер и завершат кладку стены, чтобы держать стадо на пастбище; приобретут пару волов для Френча на старой ферме Адамсов. Из девятнадцати дойных коров Абигейл хотела продать пять. Умелое производство и продажа молочных продуктов от остающихся четырнадцати позволят закончить год со счетом за корм в размере двухсот долларов. — Я засею луга кормовой травой, — заверил ее Коттон. — Если тебе нужны наличные средства, скажи сколько. Поезжай в Филадельфию и помоги президенту управлять нашей страной. Джон прислал Абигейл шестьсот долларов. Она отдала двести своему кузену Уильяму в уплату за подготовку кареты; выплатила жалованье наемным работникам, купила необходимые сельскохозяйственные орудия и семена, подписала контракт на возведение каменной ограды. Она подыскивала трех-четырех энергичных девушек в качестве домашней прислуги. Эстер Брислер отказывалась тронуться с места, если за ней не приедет муж. Неожиданная смена погоды и снежный буран уложили миссис Холл в постель. — Мы поставим тебя на ноги, мама, ты не успеешь даже заметить как быстро, — сказала Абигейл, проведя ночь у изголовья больной. Миссис Холл неподвижно лежала в постели. — Теперь, когда ты оставляешь меня, дитя, я готовлюсь к смерти. Пожатие ее руки было почти неощутимым. Ее голова откинулась к стене. Через четыре дня доктор Фиппс констатировал смерть. Абигейл похоронила ее на старом кладбище рядом с Джоном Адамсом-старшим. Джон так и не примирился с ее вторым браком с мистером Холлом, и ее похоронили как Сюзанну Бойлстон Адамс, забыв о ее втором замужестве. Через два дня вторая дочь Билли, жившая в доме семьи Кранч, угасла от туберкулеза. Луиза ухаживала за ней несколько недель. Абигейл вновь пришлось заниматься похоронами. Джон послал Брислера на почтовых, чтобы тот перевез свою семью в Филадельфию. Кузен Уильям Смит вызвался сопровождать группу Абигейл до Нью-Йорка по пути в Филадельфию. — Я не овечка, Уильям, — сказала с благодарностью Абигейл, — а скорее бумажный змей с длинным хвостом. Хвост действительно был длинным — тринадцать человек. Уильям, Брислер и Джеймс ехали верхом, Абигейл — в карете с Луизой, Эстер, три молодые девушки из Куинси менялись местами с детьми Брислера на сиденье кучера. Дорога была мучительной, дожди оголили булыжник. Однако изумрудные весенние поля, лиственные кружева берез и кленов при переезде через Массачусетс к Спрингфилду, а затем к Хартфорду и Нью-Хейвену ласкали глаз. Каждый вечер кузен Уильям арендовал комнаты на постоялых дворах, заказывал еду, держал в строгом порядке счета. Абигейл решила остановиться по пути на короткое время на ферме Нэб в Истчестере, отправив остальную часть группы в Филадельфию, и посетить Чарлза в Нью-Йорке. Прошло два года, как она не видела свою дочь и внучат. От финансового краха год назад полковнику Смиту удалось спасти лишь эту небольшую ферму и скромный домик в двадцати милях от Нью-Йорка, по описанию Нэб, совершенно изолированные — ближайшие соседи находились на расстоянии нескольких миль. У Абигейл были свои планы. Она не могла просить Джона предоставить полковнику важный пост в правительстве и решила забрать в Филадельфию всю семью, разместить ее в доме президента, как это было семь лет назад в Ричмонд-Хилле. Полковник Смит встретится там с обществом и получит возможность проявить свои способности. Нэб открыла дверь уединенного сельского домика. Она погрузнела в плечах и бедрах, ее глаза отекли. К двери подбежали сгоравшие от любопытства Уильям Штейбен десяти лет, Джон Адамс восьми с половиной лет и двухлетняя Каролина. Абигейл поцеловала детей, а затем прошла в скромную гостиную. — Где полковник? — В отъезде. — В отъезде! Куда уехал? — На свои земельные участки. Он уехал две недели назад. — Я и не знала, что у него сохранились земельные участки. — Он поехал со своим братом Джустусом, который владеет участками в долине Ченанго. Уильям надеется купить там землю. — Я так хотела поговорить с ним. Нэб бросила на мать суровый взгляд. Она не намерена обсуждать полковника и критиковать его пусть даже намеками. Абигейл провела два дня в одиноком домике. На ферме работала нанятая семья, но своим натренированным глазом Абигейл заметила ее неопытность. Ферма обеспечивала Нэб и детей пищей и топливом, ничем больше. Дочурка Нэб была подобна лучу солнца в сумрачном сельском домике. Мальчики не получали никакого образования. Абигейл чувствовала себя подавленной. Она должна вытащить отсюда Нэб. Но она не может пригласить ее в Филадельфию без согласия полковника. — Когда полковник Уильямс возвратится, вы навестите нас в Филадельфии? К этому времени мы подготовим дополнительные спальни. — Мне хотелось бы приехать, мама. Затем Абигейл навестила Чарлза, Салли и их дочь, названную Сюзанной Бойлстон в честь матери Джона. Семья Чарлза жила в новом доме на Фронт-стрит, стоящем так близко к реке, что перед окнами позади дома высился лес корабельных мачт. Через окна проникал шум, присущий порту, и Абигейл казалось: дом вот-вот снимется с якоря и поднимет паруса. Комнаты были просторными, а контора Чарлза, уставленная полками с книгами, весь день была заполнена клиентами. Выполняя требования отца жить экономно, Чарли сдал в аренду половину дома. Салли была доброй и благоразумной женой. Посланник Джон Куинси переводил часть своего жалованья брату Чарлзу, чтобы тот вкладывал капитал в надежные дела. — Надеюсь, ты осторожен с деньгами Джонни, — сказала Абигейл. — Ему потребуются средства, когда он возвратится домой и вновь займется адвокатской практикой. Чарлз отвел глаза в сторону. Абигейл заметила темные полукружия под ними. — Чарли, ты слишком много работаешь? — Нет, ма, просто плохо сплю. Они были вдвоем в его кабинете, через открытое окно доносился скрип блоков и лебедок, поднимавших на борт грузы, другие звуки порта. — Что тревожит тебя, Чарли? — Ничего, ма… Джон предлагал выслать лошадей, чтобы встретить ее карету у Паулюс-Хук на правом берегу Гудзона, но Брислер отыскал упряжку за разумную цену, и, поскольку Джон переслал ей деньги в дом Чарли, она решила, что следует довериться кучеру, привыкшему к своим лошадям. Оказалось, это было мудрым решением: дилижансы, проезжавшие под проливным дождем, проложили в глинистой почве глубокие, наполненные жидкой грязью колеи. Проехав Трентон, отстоящий от Филадельфии на двадцать пять миль, Абигейл увидела карету Джона и упряжку, преграждавшую дорогу. Президент Джон Адамс ожидал ее, его лицо осветила широкая теплая улыбка. Это была одна из самых счастливых встреч. Джон приказал кучеру кареты, в которой ехала Абигейл, возглавить кавалькаду, а сам с женой сел в комфортабельную президентскую карету. Они крепко обнялись, поцеловались, обменялись нежными словами, забыв о разлуке. В Бристоле, на постоялом дворе, из окна которого открывался вид на реку Делавэр, они не торопясь пообедали. После обеда Абигейл рассказала Джону о положении на ферме, о молитве, прочитанной на похоронах его матери, о состоянии Нэб, страдающей в Истчестере от одиночества. Джон, в свою очередь, поведал о своих делах. Он решил не посылать Джона Куинси в Португалию, а отправить его посланником в Пруссию, с которой благодаря первоначально заключенному им, Джоном, договору с королем Фридрихом II Соединенные Штаты развивали выгодную торговлю. Для Джонни это не будет повышением в ранге, просто он сможет выполнять более важную работу. Абигейл и Джон радовались предстоящему браку Джонни с Луизой Джонсон. В данный момент Джошуа Джонсон служил консулом Соединенных Штатов в Лондоне и ждал лишь свадьбы своей дочери с Джоном Куинси, чтобы вернуться домой. Хорошо, что Джонни женится перед тем, как обосноваться в далеком Берлине, куда отваживаются ездить лишь немногие американцы. — Ну а как с работой на посту президента, Джон? Каковы твои внутренние ощущения? Столовая постоялого двора опустела. Джон наклонился к столу и доверительным голосом, предназначенным только для нее, сказал: — Куча проблем. Тысячи писем с просьбой предоставить работу. Республиканцы критикуют мою инаугурационную речь, особенно ту ее часть, где я настаивал, что мы должны проявить твердость в отношении Франции. Бенджамин Бах хвалил мою речь в «Авроре», но предпринимает невероятно яростные атаки против всего, что я говорю или делаю. Бах обвинил президента Вашингтона, что тот расшатал принципы республиканизма, утверждая, будто он — «человек, являющийся источником бедствий для нашей страны… не обладает более правом умножать зло, обрушивающееся на Соединенные Штаты». Адамсы не ожидали, что он проявит к ним иные чувства. — Но, разумеется, никто не прислушивается к его словам, — сказала Абигейл, повысив тон. — Никто, кроме республиканцев, — ответил Джон с грустной улыбкой. — Ты знаешь, каким ударом явился отказ Франции принять нашего посланника? Я хотел послать вице-президента Джефферсона или его друга, бывшего конгрессмена Джеймса Мэдисона, во Францию. Оба отклонили предложение. Томас Джефферсон держался в стороне. Он возражал против твердой позиции, занятой Джоном в инаугурационной речи в отношении Франции, и явно не считал политически выгодным ассоциировать свою партию с администрацией. — Значит ли это, что мы не сможем дружить с ним? — спросила в отчаянии Абигейл. — Разумеется, ему будут рады в президентском доме, как в Отейле. Но я полагаю, что мы будем редко консультироваться друг с другом. Абигейл воспользовалась моментом, чтобы узнать, каких секретарей-министров Джон унаследовал от администрации Вашингтона. Это были государственный секретарь Пикеринг, казначей Уолкотт, военный министр Макгенри. Джон не требовал их отставки, а они не просили ее, хотя было известно, что те получили свои посты благодаря влиянию Гамильтона. — Разве они перестали быть ставленниками Гамильтона? — спросила она. — Они часто противостоят тебе. Сомневаюсь в их искренности. — Они могут честно не соглашаться. Для исполнительного лица неплохо иметь в своем окружении людей, которые могут сказать «нет». Пикеринг был лишен юмора, рубил с плеча, ему не нравилась семья Адамс, хотя он сам был родом из Массачусетса. Уолкотт редко выражал мысль, которая не исходила бы из конторы Гамильтона в Нью-Йорке. Макгенри не блистал компетентностью, он получил должность после того, как четыре других претендента сказали «нет» президенту Вашингтону. Прокурор Чарлз Ли был совершенно независимым. — Не кажется ли тебе более разумным иметь своих собственных ставленников во главе департаментов? — спросила Абигейл. — У тебя было бы меньше трудностей с Конгрессом. Джон прикусил мундштук трубки. — Эти люди обладают опытом, они создают у общественности ощущение преемственности правительства. Лучшие умы не хотят приезжать в Филадельфию и выносить публичные нападки и оскорбления. Я в состоянии контролировать тех, кого имею. Они не причиняют мне вреда. Самой большой проблемой для Джона была растущая изоляция от окружающего мира. Он не мог даже сказать, какую позицию занимают его друзья-федералисты по важным вопросам. — Президент не может никому довериться. Можешь ли ты представить себе, каково жить в окружении множества людей и не иметь возможности раскрыть свою душу ни одному? Сейчас, находясь на таком отчужденном посту, как пост президента, я нуждаюсь в тебе как никогда.
3
Когда после полудня они подъехали к особняку президента, солнце сияло через новые занавески в окна первого этажа. Джон застелил прихожую и лестницу ковром Уилтона с восточным рисунком, ковер мягко пружинил под ногами. Для небольшой столовой Джон приобрел овальный стол и стулья местного производства. В государственной столовой сохранился длинный стол с закругленными краями и приподнятой центральной частью — «плато», на котором семья Вашингтон выставляла фарфоровые фигурки. Абигейл, поспешно минуя комнату экономки и кухню, вбежала наверх. Государственная гостиная, просторная комната, увешанная зеркалами, с мраморным камином и большой люстрой, с дюжиной темно-красных кресел и диванов, с занавесями из дамаста, даже в условиях, когда не все было приведено в порядок, выглядела красивой. В меньшей гостиной, выходившей на Маркет-стрит, по фасаду дома Джон повторил цветовую гамму гостиной ее матери в Уэймауте. Окна были украшены бледно-желтыми сатиновыми занавесками, пол закрыт толстым брюссельским ковром, на белом фоне которого выделялись зеленые листья и лимонно-желтые цветы. В углу около камина стоял диван, обтянутый дамастом желтого цвета, а сиденья стульев — зеленой выпуклой тканью. Абигейл застыла на месте, поглощенная мыслями о своих родителях. Как они гордились бы успехами Джона и честью, оказанной ему страной. Она была тронута вниманием, какое проявил Джон к памяти ее матери. Джон отвел две комнаты в конце длинного коридора под свои служебные помещения. Для посетителей был открыт отдельный вход. В супружеской спальне стояла просторная кровать под балдахином, изготовленная в Новой Англии, по углам спальни — старые виргинские шкафы для личной одежды, а ближе к кровати — ночные столики с лампами и книгами, как в их брачной комнате в Брейнтри. Джон провел Абигейл через центральную дверь в отведенную ей часть дома, которую миссис Отис обставила письменным столиком, книжным шкафом, удобным креслом, туалетным трюмо и бельевым комодом, достаточно большим, чтобы повесить длинные вечерние платья. Вверху, на третьем этаже Луиза заняла небольшую комнату, ее генерал Вашингтон использовал как частный кабинет; рядом разместилась семья Брислер, а далее секретарь Джона Малькольм. Четвертый этаж состоял из крохотных комнат для девушек, которых Абигейл привезла из Куинси, повара и другой прислуги. Абигейл поздравила Джона с прекрасной меблировкой дома. — Я и миссис Отис знаем твой вкус. Мы ожидали, что тебе понравится. Абигейл просыпалась ровно в пять часов утра, набрасывала на себя халат, шла в просторный кабинет Джона, три окна которого выходили на юг, а одно — на восток, где лучи восходящего солнца ласкали ее своим светом и теплом. В это спокойное время она обдумывала распорядок дня, писала письма детям, намечала список приглашенных, составляла меню, читала письма политических друзей и изучала по поручению Джона памятныезаписки, врученные ему чиновниками. Здесь же в тихое раннее утро она прочитывала сообщения о событиях во Франции, явно склонявшейся к мысли о мировом господстве, о доминировании над Англией и Соединенными Штатами. В семь часов к ней присоединялся Джон, принявший ванну в комнате рядом с кухней. Вместе с ним появлялся Брислер с кофе и стопкой бумаг. В восемь часов в столовой на первом этаже подавался завтрак. В нем принимала участие Луиза. Молодой Сэмюел Малькольм, стажировавшийся в Нью-Йорке у Чарлза до того, как стать секретарем Джона, приходил к ним, чтобы получить согласие на порядок встреч, намеченных на день. Выпить кофе приходили давние друзья. Разговоры за завтраком касались в основном политики. Учитывая обвинения в адрес Джона, будто он монархист и аристократ, он стремился представить резиденцию президента как образец демократии. Для Абигейл такая демократия означала наполненное заботами существование. До одиннадцати часов она работала за письменным столом, сверяя счета, улаживала конфликты между служанками. В одиннадцать часов одевалась. С полудня и до двух часов, а иногда и до четырех она принимала посетителей. Осенью Джон разрешил ей принимать посетителей в гостиной, которую прежде использовала Марта Вашингтон, но вот позавчера были приглашены тридцать две леди и примерно столько же джентльменов. Сегодня придут с женами иностранные посланники, а также государственный секретарь, казначей и военный министр. В ближайшие дни она должна пригласить на обед весь сенат и палату представителей. Сотни людей просили разрешения навестить президента, и все были уверены, что встретят радушный прием. Ей полагалось вставать, приветствуя каждого визитера словами: «Вы приехали сегодня из Парижа?», «Вы все еще живете в вашем доме на площади Гровенор?». Уверять, что они увидят президента, предлагать лимонад и кексы. Каждый вечер после приемов или обедов Абигейл была обязана разъезжать по городу, отвечая на визиты или же оставляя визитные карточки. Это следовало делать, если она хотела, чтобы филадельфийское изысканное общество относилось к ней приветливо. С обязанностями супруги президента она справлялась более успешно, чем ожидала; но радушие Джона явилось для нее неожиданностью. Когда принимал генерал Вашингтон, — а он принимал мужчин только в столовой для официальных обедов, — оттуда выносили все стулья. Президент стоял перед камином, одетый в черный бархатный сюртук, его волосы были причесаны и напудрены. Вашингтон был при сабле с красиво выкованной рукоятью. Секретарь называл имя посетителя. Президент встречал гостя величественным наклоном головы и держал руки таким образом, что визитеру не приходилось ожидать пожатия. Приемы не были формальными. Джон обычно надевал простой серый или черный костюм, белую сорочку с оборками. Он пожимал руку каждому посетителю, беседовал о доме, семье, местной политике, тонкостях национальных проблем. Такое поведение президента Адамса раздражало его противников-республиканцев в сенате и в палате представителей. В маленькой гостиной для неофициальных приемов Абигейл старалась оказывать чуть больше внимания женам конгрессменов-республиканцев. Джон реагировал на это усмешкой. — Эти республиканские мужья столкнутся с трудностями, осуждая меня перед очарованными тобой женами. Президент Адамс не имел сравнимого успеха с тем, что делала она в работе с законодателями, когда ему нужна была их поддержка. Вскоре после приезда Абигейл он приступил к составлению обращения к специальной сессии Конгресса. Обращение касалось отказа Франции принять предложенного президентом Вашингтоном посланника:«Мне доставляет самое большое удовлетворение иметь возможность поздравить вас с восстановлением мира между европейскими государствами, вражда между которыми угрожала нашему спокойствию… В то время как другие государства переживают несчастья, вызванные войной, или мучаются в конвульсиях внутреннего раскола, Соединенные Штаты являют собой приятную перспективу нации, управляемой мягкими и справедливыми законами… основанными на разуме и покоящимися на единственно прочном основании — приверженности народа… Права посольства хорошо известны, и они установлены законом и обычаями наций. Отказ Франции принять нашего посланника является в таком случае нарушением права… отказ принять его, если мы не уступим беспрекословно их требованиям… означает отношение к ним как к не союзникам, не друзьям, не суверенному государству».Джон призывал к строительству сильного военно-морского флота; к пересмотру законов об «организации, вооружении и дисциплинировании милиции» и к финансированию посредством прямых налогов в интересах обеспечения безопасности страны. «Не должно быть места сомнениям, поддержит ли народ Соединенных Штатов правительство, установленное с его добровольного согласия и назначенное согласно его свободному выбору…» Казалось, что основная задача администрации Джона Адамса в том, чтобы удерживать Соединенные Штаты в стороне от европейских конфликтов, союзов и войн, обеспечить защиту своих судов в открытом море. Внутренние вопросы, касавшиеся штатов и их частных интересов, потонули в потоке взаимных обвинений, какими обменивались сторонники Англии и сторонники Франции, Официальный ответ сената и палаты представителей на обращение Джона Адамса был вроде сердечным, но обе палаты потратили уйму времени, а затем отклонили большинство его просьб. Джон Адамс хотел укрепить мощь Америки. Вице-президент Томас Джефферсон в роли лидера оппозиционной партии утверждал, что предлагаемое президентом Адамсом законодательство озлобит Францию и приведет к войне. Конгресс не пожелал поддержать требование Джона об организации артиллерии, кавалерии и более сплоченной милиции. Джон смог добиться всего лишь права ассигновать восемьсот тысяч долларов на цели обороны и просить губернаторов нескольких штатов вооружить и держать наготове милицию численностью восемь тысяч человек. Ему также удалось добиться направления во Францию трех комиссаров для заключения договора: Чарлза Котсуорта Пинкни, возглавившего посольство в Голландии после некрасивого отказа Франции принять его, Фрэнсиса Дана, отклонившего предложение и замененного Элбриджем Джерри, и Джона Маршалла, виргинского адвоката, справедливого и уважаемого, которого называли наиболее организованным умом в стране. — Эти три человека должны заменить армию, в которой мне было отказано, — признался Джон Абигейл. В качестве подарка от миссис Копли из Англии был доставлен красивый портрет Джона Куинси. Джонни был изображен с длинными волосами, высоким лбом патриция и лучистыми глазами, с профилем римского сенатора, выражающим решительность подбородком. Абигейл повесила портрет в малой гостиной. — С портрета так и пышет подлинный характер Джонни, — прошептала она. — Он свидетельствует также, что наш сын необычно красивый чертяка, — ответил Джон. — Он так похож на тебя той поры, когда я влюбился в тебя. — Неужели я была такой красивой? — Да, дорогая, была. И остаешься. — Мистер президент, это самая милая прокламация, изданная вами сегодня. Кульминацией светских мероприятий Абигейл явились празднования 4 июля юбилея Декларации независимости. Джон Вашингтон ввел в обычай приглашать губернатора Пенсильвании и должностных лиц штата, членов городского совета Филадельфии, глав деловых фирм и общественных деятелей, иностранных дипломатов, секретарей с женами. — К которым я добавлю членов Конгресса и их жен, — сказала Джону Абигейл. — Это на сто пятьдесят человек больше. Мы поставим в саду и в доме длинные столы. Марта Вашингтон заказывала двести порций кекса, два бочонка вина, не говоря уже о виски. Этот день обходился семье Вашингтона в пятьсот долларов; нам обойдется значительно дороже. Джон присвистнул: — А в прошлом месяце хозяин дома поднял стоимость аренды вдвое по сравнению с той, что платил Вашингтон. — Поскольку нам не разрешается просить у Бога деньги, я сведу свои молитвы к просьбе, чтобы четвертое июля было прохладным, — усмехнулась Абигейл. Контролер казначейства прислал тысячу долларов выплаты, задержанной Джону за годы пребывания на посту вице-президента; и прием 4 июля прошел четко, без накладок. Абигейл оделась в белое атласное платье, зачесала локоны на лоб, надела драгоценности, купленные ею для первого приема у королевы Шарлотты в Лондоне, — пару жемчужных заколок для волос, жемчужные ожерелья и серьги. Джон надел сюртук, в котором он приносил присягу президента. Гости посетили в первую очередь президента в официальных апартаментах, расположенных внизу, выпили с ним вина и пунша, закусив кексами. Затем все, кто был с женами, поднялись в малую гостиную Абигейл, чтобы выразить свои поздравления, после чего все гости вышли в сад. Прием длился с полудня до четырех часов дня. По оценке Брислера, на приеме было около тысячи гостей. Всех их ожидала любезная встреча. В конце концов это был народный дом. Ведь именно народ ввел семью Адамс в этот дом.
4
По окончании специальной сессии Конгресса они выехали из Филадельфии в Куинси. Обстановка в Истчестере резко ухудшилась со времени визита туда Абигейл. Поездка полковника, рассчитанная на две недели, растянулась на три месяца. Приближался конец июля, а Нэб не получила от него ни словечка. Она больше не делала вид, что знает, где он и как долго будет отсутствовать. Ее сыновья одичали. Нэб пала духом и потеряла контроль над ними. Ферма выглядела запущенной. Абигейл прошептала Джону: — Бедная девочка, видно, она страшно одинока. — Тогда заберем ее и детей к себе домой. — Пригласить — да, но не забрать. Они сидели на кухне за ужином, и позднее июльское солнце светило в окно, выходившее на запад. Абигейл спросила: — Нэб, не хотела бы ты побыть у нас несколько недель, встретиться с давнишними друзьями в Куинси? Нэб наклонила голову: — Спасибо, мама, но я не могу уехать отсюда. Полковник может появиться в любой день. Я не могу оставить ему пустой дом. — Как желаешь, Нэб, — голос Абигейл звучал твердо. — Но позволь мне взять мальчиков к твоей тете Элизабет и преподобному Пибоди. В Аткинсоне, где служит преподобный, есть хорошая академия. Твоя тетя приютит мальчиков. Преподобный Пибоди позаботится об их образовании. Мы заберем Уильяма, сына тетушки Элизабет, в Писфилд, он будет секретарем твоего отца. Нэб встала, подошла к окну, наблюдая, как прячется солнце за деревья на краю поля. — Да, — прошептала она, — мальчиков надо отправить в школу. Они и так потеряли уже два года. Мне будет тяжело остаться одной с Каролиной, но я не могу больше заставлять их жертвовать собой. Она повернулась лицом к родителям. — Спасибо, мама и папа. Уверена, что мальчики будут счастливы у тетушки Элизабет и дядюшки Пибоди. Поздно ночью, когда Абигейл не могла сомкнуть глаз, она спросила мужа: — Как нам спасти ее? — Откровенным непотизмом. Я найду для непоседы полковника работу в Филадельфии, даже если придется изобрести ее… Его жалованье мы оплатим из собственного кармана. На следующий день они отправились в путь вместе с мальчиками. Семья Портер содержала ферму Писфилд в безупречном состоянии, однако мыши пробрались в кладовку, изгрызли часть сахарных голов и устроили свои гнезда в свернутых коврах. Мэри Кранч отыскала ключ, выбила ковры и почистила сахарные головы. Кусты английских роз пышно цвели. Коттон Тафтс придирчиво надзирал за батраками; однако 14 июля прошла буря с градом и уничтожила часть овощей, прибила ячменное поле и нанесла ущерб посадкам кукурузы. Ячмень пришлось скосить на фураж. Почти ежедневно из Филадельфии приезжали курьеры с докладами, письмами, политическими запросами. Нужно было отвечать на личные и официальные письма, на поздравления, одобряющие поведение президента, на выпады, осуждающие его. Джон сам писал ответы, используя любую возможность убедить обращавшихся к нему, что они должны оставаться «преданными союзу наших американских штатов, их конституционному правительству и федеральной администрации… счастливому предзнаменованию будущего мира, свободы, безопасности и процветания нашей страны». Еще подошел срок для известий, как приняты во Франции три комиссара, смогут ли они добиться искреннего соглашения о дружбе с Директорией.[9] Убедившись, что дела идут нормально и Луиза справляется с приемом друзей и делегаций, приезжающих выразить уважение президенту, Абигейл выехала в Аткинсон со своей сестрой Мэри Кранч и двумя внучатами. Впервые за много лет три сестры были вместе. Но радость встречи была омрачена трагедией. Младший сын Билли Чарлз Смит, работавший в Хаверхилле около Аткинсона, страдал последней стадией туберкулеза, сведшего в могилу его сестру. Катарина Луиза была при сыне, но состояние парня было безнадежным. Абигейл мрачно заметила: — Билли умер, его дочь умерла, и теперь умирает сын. — Пути Господни неисповедимы, Нэбби, — сказала мягко Мэри Кранч. — Почему моя дочь Люси вышла замуж за слепого Джона Гринлифа? И почему ее готовы вот-вот положить в постель, а ведь я предупреждала ее, что могут родиться слепые дети? Почему мой сын Билли вышел из ассоциации адвокатов и ударился в спекуляции землей вместе с семьей Гринлиф, став банкротом? Потеряны годы, потеряна профессия… — Профессия не потеряна, сестренка. Джон ссудил Билли двести долларов на покупку книг по вопросам права. Он может вскоре вернуться в ассоциацию адвокатов. Элизабет удачно вышла замуж, ибо пятидесятисемилетний преподобный мистер Пибоди, первый пастор собрания благоверных в Аткинсоне, был энергичным, образованным мужчиной. Ему доставляло удовольствие рассказывать, как после вдовства он посетил Элизабет Шоу, чтобы получить рекомендацию относительно новой жены, способной «разделить его радости и горести». Элизабет рекомендовала ему некую леди в Ньюбери. На пути в Ньюбери с целью сделать предложение преподобный мистер Пибори узнал, что умер преподобный мистер Шоу. Он повернул своего коня назад, вернулся в Хаверхилл на похороны и после скромного выжидания, злые языки утверждали, что он сделал предложение о браке на похоронах, женился на Элизабет. Абигейл и Мэри отправились сразу в приходский дом. Это было большое двухэтажное здание, с двумя трубами дымоходов и с достаточным числом спален, чтобы приютить восемь пансионеров из соседней академии. Пибоди, и фермер и священник одновременно, был высоким мужчиной с вьющимися черными волосами. Собственными руками он выложил каменный забор и на этом загоне, подобно преподобному Уильяму Смиту в Уэймауте, выращивал крупный рогатый скот. От первого брака у него было двое детей. Поскольку единственная дочь Элизабет, Абигейл Шоу, была в свои семь лет слишком мала, чтобы требовать к себе внимания, он с удовольствием приветствовал сыновей Нэб. Он тут же занялся делами, связанными с их приемом в академию, оставив сестер в тесном кругу обсудить пережитые годы и поговорить о молодом поколении. Хорошо вновь оказаться под чарами кровных уз. Мэри Кранч было уже пятьдесят пять, Абигейл — пятьдесят два, а Элизабет — сорок семь, они были тем, что осталось от преподобного Уильяма Смита из Чарлзтауна и от Элизабет Куинси из Маунт-Уолластона. Многие годы они сохраняли дружбу, помогая друг другу в тяжелые времена, заботясь о детях. Они держались вместе, говорили тихо, понимая, что их родители счастливы такой прочной связью между ними. Абигейл подумала: «Странно, как нам хочется доставить удовольствие нашим родителям даже спустя столько лет после их кончины». К началу октября Джон и Абигейл должны были вернуться в Филадельфию. Их пребывание дома было коротким, всего два месяца, и благодатно освежающим. Работа на ферме, сбор плодов, кладка каменной стены у основания Пенн-Хилла восстановили жизненные силы Джона. У Хатфорда и Нью-Хейвена отряды легкой кавалерии встретили карету президента за несколько миль от города, чтобы сопроводить ее до постоя и обеспечить эскорт на следующее угро. Джон воспринял такие жесты как свидетельство верности главному исполнительному лицу. Он подчеркнуто говорил об этом собиравшимся в каждом городке на пути следования. Когда они подъехали к постоялому двору, ближайшему к Истчестеру, то заметили верхового в униформе. Он проследовал за ними к дому Нэб, вручил письма из Нью-Йорк-Сити и подтвердил сообщения, что в Филадельфии свирепствует эпидемия желтой лихорадки. Люди мрут как мухи; пятьдесят тысяч жителей сбежали в более прохладные, высокогорные места. Но лихорадка продолжает свирепствовать в перенаселенных жилищах, среди только что прибывших ирландских и шотландских иммигрантов. — Послушай, Нэб, мы остановимся у тебя на несколько недель, пока не грянет мороз в Филадельфии и Конгресс сочтет нужным собраться. Можешь ли ты смириться с нашим пребыванием у тебя? — Я не только согласна смириться, а рада вашему приезду. И если вы думаете, что шутки ни к чему, то могу сказать, что после вашего отъезда я не перебросилась словом с кем-либо из взрослых. Полковник отсутствовал уже полгода, не прислав ни единой весточки жене о своем местопребывании, ни одного доллара на жизнь. Унижение и оскорбление ввергли Нэб в недомогание. Абигейл рассказала ей, насколько могла живо, как преподобный мистер Пибоди принял ее сыновей. Вдруг выдержка отказала Нэб: — Да, мама, видимо, не нужно было покидать тебя! У меня такое чувство, будто я забыта всеми. Абигейл обняла дочь: — Ты не покинута своей семьей. Если полковник не вернется к тому времени, когда мы поедем в Филадельфию, то ты и Каролина поедете с нами. — Да, мама. Ох, папа, почему я ошиблась? — Ни в чем, душенька. Это просто злая судьба. Нэб была не единственной из детей, оказавшихся в сложном положении. Дважды в неделю Джон выезжал в Нью-Йорк-Сити на совещания по делам правительства, останавливаясь у Чарли. После первого визита у Абигейл появилось подозрение о какой-то червоточине. Джон отмалчивался, Абигейл на него не давила. Наконец он уже не мог сдерживаться: — Абигейл, не съездишь ли ты со мной завтра в Нью-Йорк? По поводу Чарли. У него что-то неладно. Он не говорит мне. Быть может, скажет тебе. В середине утра они приехали в дом Чарли. За окнами звучала приятная какофония шума, создаваемого погрузкой судов. Салли сказала, что Чарли составляет проект постановления. Абигейл постучала, спросила, может ли она войти и поговорить с ним по юридическому вопросу. У Чарли были воспаленные, покрасневшие глаза. Левую часть лица, передергивал тик. Он похудел. — Разумеется, по юридическому вопросу, мама? — Не по такому вопросу, Чарли. Ты знаешь, у меня есть сын. Я его очень люблю. Любит его и отец. У сына какие-то осложнения. Мы не хотим совать свой нос в чужие дела, а хотели бы просто помочь. Мы думали, что ты, как адвокат, выступишь в нашу пользу и посоветуешь сыну раскрыть свою душу. Чарли был слишком напряжен и не воспринимал тонкости. — Если ты говоришь обо мне, мама, то нечего беспокоиться: я веду некоторые сложные дела. Ничего больше. В полдень Абигейл отвела Салли в сторону. Та была привлекательной, проворной женщиной с тяжелыми веками и красивыми, теплыми губами. Она понимала смысл обращения Абигейл. — Да. Чарли крайне нужна помощь. По меньшей мере чтобы совладать с собственной совестью. Впрочем, я не знаю зачем, ведь виновата только я. — Расскажи подробно, в чем дело. — Это имеет отношение к части оклада Джона Куинси, которую он пересылал Чарли для инвестирования. В первый год Чарли купил на эти деньги закладные. Очевидно, он ошибся в выборе ценных бумаг, ему пришлось выплачивать проценты из собственного кармана. Но затем, в марте, мой брат Уильям попал в беду, вы помните. — Я помню о неприятностях полковника Уильяма. — Вы не знаете о том, что над ним нависла опасность оказаться в долговой тюрьме. Мой брат уговорил Чарли превратить закладные в наличность, чтобы спасти его. У моего брата Джустуса были ценные бумаги, но он не смог получить проценты за них. Чарли не может рассказать вам это: ему совестно, что он подвел Джона Куинси. С другой стороны, он считает себя обязанным перед Нэб и мною. Он все время упрекает себя, упрекает и Джонни в том, что тот взвалил на него ответственность прежде всего за деньги. — О какой сумме идет речь? — Думаю, почти о двух тысячах долларов. В этот вечер они собрались на кухне Нэб — мать, отец и дочь сидели в тесном кружке при свете сальной лампы. Но Абигейл не решалась рассказать об осложнениях у одного из своих детей в присутствии другого; кроме того, для Нэб было бы еще одним ударом узнать, что ее муж вовлек в неприятности брата. — Джон, не продать ли нам одну из ферм или некоторые ценные бумаги? — спросила Абигейл, лежа рядом с мужем в верхней спальне. — И вернуть Чарли две тысячи долларов? — Ты сама знаешь ответ. — Да, к сожалению, знаю. Но это освободило бы от ответственности полковника, а также Чарли. — Если мы вытащим из беды Чарли сейчас, нам придется спасать его всю нашу жизнь. Когда я добьюсь ответственного места для полковника в Филадельфии, я лично обяжу его выплатить долги. — Бедный Чарли, он, по сути дела, спас полковника от долговой тюрьмы. Он съест себя заживо, выплачивая долги. — Почему он такой сердобольный? Мы все делаем ошибки. Мы должны научиться прощать друг другу, с тем чтобы продвигать вперед наши дела. — Почему Чарли сердобольный, а полковник толстокожий? Разве характер человека не является загадкой природы? Приближалось 5 ноября. На следующий день рано утром они должны были отправиться в Нью-Йорк, а оттуда — прямо в Филадельфию, где в середине месяца собирался Конгресс. Возбужденная Каролина не ходила, а танцевала по комнатам. По-иному держала себя ее мать. Нэб пала духом, уехать из дома было для нее равнозначно признанию поражения. В полдень на дороге показался всадник, он громко постучал в дверь, держа в руках пачку писем. — Миссис Уильям Смит дома? — Да, входите. Нэб подбежала к передней двери. — Письма от мистера Джустуса Смита, мэм. Просил передать лично. Я только что приехал из Ченанго. — А мой муж, видели ли вы его? — Не в последние дни, мэм. Нэб поднялась в свою спальню прочитать письма, а внизу в тревожной тишине ждали ее родители. Когда она спустилась, на ее щеках был заметен румянец. — Брат полковника говорит, что они оба, он сам и полковник, часто писали по почте. Они с удивлением узнали, что я не получила ни одного письма. Они переслали мне частным путем деньги в Нью-Йорк. Я поеду завтра с вами, чтобы получить деньги. Абигейл и Джон молча посмотрели друг на друга. — Ох, папа, эти письма все меняют. Уильяма ожидают в Ченанго через несколько дней. После этого он вернется домой. Я должна принять его здесь. Это был почти стон, мольба к родителям подкрепить ее веру в возвращение мужа. Абигейл вздохнула. Они выехали в Нью-Йорк утром. Джон посетил Чарли и забрал свою почту, Абигейл отвезла в карете Нэб к месту, где находился мужчина, доставивший ей деньги от мужа. Он выехал, никто не знал куда. Нэб чувствовала себя подавленной. Несколько месяцев она не держала в руках ни единой монеты, но разочарование было еще более глубоким. Если мужчина не скрылся с деньгами, это означало, что полковник не посылал их. — Не передумаешь ли, дорогая? Мы можем послать за Каролиной и чемоданами… Нэб прервала: — Нет, мама. Я прозевала деньги, но теперь знаю, что мой муж писал и собирается вскоре вернуться.5
Брислер бежал с женой и детьми из Филадельфии, спасаясь от эпидемии, но возвратился вовремя, чтобы навести порядок в доме президента. Многие сенаторы не появлялись в городе, и поэтому кворума не было. Джон использовал свободное время для написания своего первого ежегодного послания. Ему требовалась передышка, ибо, приехав в город, он попал на военный парад. Уступив настояниям, он опустил окна в карете в промозглый день и подхватил простуду. Он был прикован к постели, за ним заботливо ухаживала Абигейл и прекрасно подобранная Брислером прислуга, ему даже нравилось хворать. Абигейл положила подушки под его спину, а сама села в кресло-качалку рядом. Джон читал вслух, его высокий, торопливый голос звучал так, как он слышался в день нового, 1762 года, когда он повез ее после обеда у деда Куинси показать только что открытую им адвокатскую контору и зачитал заявление, в котором отстаивал права стажеров. Теперь же он пытался вдохновить Конгресс твердо и мужественно противостоять любым иностранным поползновениям. Информировав членов Конгресса о том, что три посланника приехали в Париж, он заявил: «Каким бы ни был исход этой миссии, я убежден: ничто не будет упущено с моей стороны, чтобы успешно завершить переговоры на справедливых условиях, совместимых с безопасностью, честью и интересами Соединенных Штатов. Параллельно ничто не явится столь большим вкладом в мир и достижение справедливости, как демонстрация решимости и единодушия… народа Соединенных Штатов… и использование тех ресурсов для национальной обороны, какие благосклонное Провидение вложило в его руки». Большая часть Конгресса, обозленная тем, как французская Директория принимает его посланников, склонялась в пользу предложения президента Адамса продемонстрировать силу. Настроенные профранцузски республиканцы продолжали клеймить президента как сторонника войны, пытающегося подтолкнуть Францию к военным действиям. Абигейл открыла верхнюю гостиную, где закончился ремонт. Глядя на одежды стоящих в очереди на прием к президенту, она убедилась, как быстро растет репутация Соединенных Штатов. К английским, французским, итальянским, испанским костюмам прибавились красочные одежды Греции, Турции, Триполитании, России, Китая, Индии. Все больше представителей далекого, экзотического, малоизвестного мира приходили к новой нации выразить свое уважение и посмотреть, как проходит этот непонятный и невероятный эксперимент самоуправления. Самоуправление действовало на ощупь, спотыкаясь, с конфликтами и ссорами, и все же действовало. В то время как Джон писал и отправлял в сенат договор с индейским племенем сенека и послание в Конгресс, испрашивавшее изменение сроков выездных судов в штате Делавэр, Абигейл принимала на обеде тридцать джентльменов, включая вице-президента Томаса Джефферсона, который прибыл накануне в Филадельфию. Когда президент Адамс оказался вынужденным прогнать таких правительственных чиновников, как Тенч Кокс, который блокировал правительственные решения, Джона Лэмба и Уильяма Джарвиса за казнокрадство, его обвинили в том, что он избавляется от республиканцев, окружая себя лизоблюдами. Абигейл пригласила людей, способных документально подтвердить обвинения против Кокса, Лэмба и Джарвиса. После того как Бах опубликовал в газете «Филадельфийская Аврора» оскорбительную статью о «Герцоге Брейнтри», Абигейл изучила прессу федералистов, прочитав дюжины газет, отыскивая хорошо изложенные в пользу мужа материалы, которые она вырезала и посылала в симпатизирующие газеты с целью отбить нападки. — Это похоже на попытку проехать в санях по болоту, — призналась она Джону, который застал ее за письменным столом в гостиной; ее пальцы почернели от типографской краски. — Чем большему числу людей становится известна истина, тем яростнее нападки Баха. Как остановить его? Разве закон не защищает президента Соединенных Штатов от очевидной клеветы? — «Аврора» каждым своим выпуском дает нам новую возможность судебного преследования. Но то, что я делаю, защищает меня лучше, чем судебные процессы. Абигейл отложила в сторону свежую газету, измазав щеку пальцем со следами типографской краски. Джон был не единственным, кого обливали помоями. Нападки сыпались на федералистов, и в особенности на Александра Гамильтона. Гамильтон все еще сохранял известный контроль над главным исполнительным лицом благодаря секретарям Пикерингу и Макгенри. Один из самых отъявленных врагов Гамильтона, выгнанный с поста клерк палаты представителей Беркли, отомстил ему, поспособствовав выпуску книги под названием «История Соединенных Штатов в 1796 году», где излагались сплетни о любовной связи Гамильтона с миссис Рейнолдс и его сговоре с мужем этой дамы обчистить казначейство, скупить по дешевке сертификаты ветеранов, зная, что они будут выплачены по номиналу. Абигейл и Джон слышали о таких обвинениях, но отказывались принять их на веру. Осенью Гамильтон выступил в свою защиту: он сумел доказать политическую честность, но признал интимную связь с миссис Рейнолдс. Это был тяжелый удар по партии федералистов. Праздники прошли грустно. Нэб писала из Истчестера, что, хотя полковник еще не приехал, она не может прибыть в Филадельфию на Рождество. От Джонни и Томми не было писем. Абигейл написала Джону Куинси: «Не умаляя достоинств твоего брата, который, как я полагаю, обошелся не лучшим способом с твоей собственностью, я посоветовала бы тебе обратиться к нашему испытанному и верному другу доктору Тафтсу». Но требовалось время, чтобы письмо дошло до него. Тем временем сбереженные им средства переводились брату. Стало известно, что Чарли в попытке возместить убытки Джонни ввязался в рискованные игры со слабо обеспеченными ценными бумагами, сулившими большие проценты. Такое в ведении дел осуждалось традициями янки. Но Джон и Абигейл вынуждены были ждать, чтобы сам Джонни перестал пересылать деньги. Они прослышали также, что Чарли спутался с «золотой» молодежью в Нью-Йорке, погряз в пьянстве и кутежах. Абигейл спрашивала себя: почему? У Чарли было так много достоинств: он был самый красивый из трех мальчиков, легко завязывал дружбу, не переживал годы отторжения, через которые прошел в Бостоне Джон Куинси, прежде чем заполучить клиентов. Женился на женщине по собственному выбору, занимал уважаемый пост в ассоциации адвокатов Нью-Йорка. Вел много лет упорядоченную жизнь. Могли ли финансовые неудачи так подорвать его выдержку? Ее озадачила внезапная мысль. По своему характеру Чарли не мог противостоять неприятностям, неудачам. Он был нацелен на успех. Неудачи никогда не принимались им в расчет. Абигейл испугалась за своего сына. Она спустилась вниз, ощущая приступ лихорадки. Доктор Раш сделал кровопускание. — Это подагра, — внушал ей он. — Та самая болезнь, от которой страдали римские императоры. — Доктор Раш, ради бога! Если Бен Бах услышит вас, он обвинит нас в том, что мы подхватили монархические недуги. Она должна быть на ногах к Новому году: сотни дипломатов, правительственных чиновников, членов Конгресса, посетителей наводнят дом, потребуют пунша, кексов, пожелают президенту, его супруге и всей нации счастливого 1798 года.Французские армии под командованием генерала Наполеона Бонапарта шли от одной победы к другой. Была завоевана Италия. Сдалась Австрия. Пруссия, Испания, Голландия и Тоскана были вынуждены заключить мир. Франция завоевала Бельгию. Французские войска вторглись в нейтральную Швейцарию и захватили Базель. Лишь Англия продолжала сопротивление. Согласно последним слухам, Франция готовилась форсировать Ла-Манш и вторгнуться в Англию. Республиканцы отмечали такую возможность бурными аплодисментами. Для федералистов, а особенно для президента Адамса, это было предзнаменованием трагедии. Под влиянием громких побед французская Директория отказалась принять трех комиссаров Джона. Джон во многом полагался на тройку, чтобы убедить Директорию, что, будучи союзниками, Соединенные Штаты и Франция выиграют все и все проиграют, выступив против друг друга. Теперь, когда французы развернули действия против американского судоходства, захватывали суда и их грузы, высаживали моряков на американских пляжах, республиканцы воспылали гневом против президента Адамса. Семья Адамс жила в атмосфере конфликтующего Конгресса. Ссора началась с вроде бы бесспорного билля о внешних сношениях, направленного на то, чтобы широко развернуть в мире дипломатическую и консульскую службу. Палате представителей принадлежит право выделять средства. Во время бурного заседания федералист Роджер Грисуолд от Коннектикута оскорбил республиканца Мэтью Лайона от Вермонта, презрительно высказавшись о его деяниях во время революционной войны. Лайон плюнул в лицо Грисуолду. Грисуолд ударил Лайона тростью. Лайон схватил каминные щипцы. Оба они катались по полу палаты представителей. Джон ужаснулся. — Это самое худшее, что произошло с федеральным правительством. Мы избрали советы и законодательные собрания со времен основания первых колоний. Мы сражались против британских губернаторов, но не между собой! Когда мы образовали правительство, то тревожились по поводу главного исполнительного лица и никогда не беспокоились по поводу законодательного органа. Институт президентства действует. Но если в законодательном органе возникло насилие, то как мы сможем устоять? — Ты боялся, что сильные политические партии станут источником партийной вражды. Положение ухудшается с каждым днем. Абигейл чувствовала себя так, словно попала в среду отвратительных лиц. В минуту отчаяния она писала Элизабет Пибоди:
«Дорогая сестренка, мне тошно, тошно, тошно от общественной жизни, какой бы завидной она ни казалась другим, и если бы смысл создания не заключался в том самом добром, что мы можем сделать, то я хотела бы укрыться… в тень Писфилда, отгородиться от шума толпы, ее власти и амбиций. Служба обществу становится обременительной для всех талантливых и пожилых людей, истрепанных постоянным сопротивлением и необходимостью постоянных усилий для поддержания порядка, гармонии и мира против честолюбия, беспорядков, анархии. Я надеюсь, что мы сможем держаться вместе, но не знаю, как долго, ибо масло и вода отторгают друг друга не в большей степени, чем Север и Юг».Однажды утром она, сломав сургучную печать на конверте, прочитала послание, в котором говорилось, что «президент, его супруга и семья» приглашаются на ассамблею и бал в честь дня рождения генерала Джорджа Вашингтона в концертном зале 22 февраля. Абигейл дождалась, когда Джон закончит работу за письменным столом, знакомясь с пространным документом казначейства, и вручила ему приглашение. — Джон, разве правильно приглашать президента и его семью как частных граждан на публичный бал? Почему комитет не посетил тебя и не предложил стать официальным спонсором? Джон провел пальцем по приглашению. — Это не нарочно, моя дорогая. Большинство спонсоров — федералисты. Он взял ручку и написал на приглашении: «Отклоняется». Сообщение об отклонении приглашения было напечатано в «Авроре» в день бала. Хотя вице-президент Джефферсон также не явился на бал, отказ президента вызвал фурор в газетах. Джон твердо придерживался своей позиции. Доктор Раш обязал Абигейл оставаться в своей комнате. Каждый полдень он присутствовал при чаепитии, был более чем когда-либо разговорчив, ибо Джон назначил его казначеем Монетного двора Соединенных Штатов. В часы вынужденного безделья Абигейл задумала перенести библиотеку Джона в Куинси из своей столовой в другое место. Она предложила Коттону Тафтсу снять стену между двумя маленькими комнатами и в расширенном таким образом помещении повесить книжные полки, а также пристроить к дому внешнюю лестницу, чтобы курьеры и посетители не бродили по дому. Все это она держала в тайне от Джона. Он был занят по горло. В промежутке между уведомлением палаты представителей о возмещении гражданам Соединенных Штатов потерь по договору Джея, направлением в сенат для ратификации договора с Тунисом, посылкой в Конгресс доклада комитета, отвечающего за строительство Вашингтон-Сити, он сумел отыскать более двух тысяч долларов для приобретения фермы, которую Ричард Кранч придерживал для него. Узнав, что Джон переслал наличные средства при посредничестве Коттона Тафтса, Абигейл писала Мэри: «Хочу сказать тебе слово в порядке совета. То, что вы освободились от фермы, я надеюсь, принесет облегчение, а также выгоду для мистера Кранча, и деньги, вложенные в ценные бумаги, дадут больше дохода, чем земля… Я прошу, чтобы при жизни брата эта сумма не дробилась из-за желания помочь детям. Они молоды и могут легче переносить невзгоды и заботы, чем те, кому уже много лет». Почти одновременно она узнала, что полковник Уильям возвратился домой к Нэб и пытается уладить со своими кредиторами вопрос о долгах. Вскоре пришло письмо Джона Куинси к государственному секретарю Пикерингу, сообщавшее, что он и его жена устроились в Берлине и не жалеют об утере поста в Лиссабоне. Абигейл потребовала теплой воды для ванны, надела красивое шерстяное платье и спустилась вниз на обед с Джоном и близкими друзьями. «Человек скроен из крепкого материала», — думала Абигейл, прислушиваясь к приятному шуму за столом. Четвертого марта семья Адамс отпраздновала годовщину президентства Джона, В середине обеда Джону принесли первое из нескольких посланий от государственного секретаря. Шифрованные послания поступили от трех комиссаров в Париже. Джон становился все мрачнее, читая расшифрованные отчеты. — Я не должна знать их содержание? — спокойно спросила Абигейл. — Не смею сказать тебе. Отчеты видели лишь три секретаря и прокурор. Мой печальный долг в том, чтобы спросить этих четырех джентльменов, должен ли я рекомендовать Конгрессу объявить немедленную войну. — Войну! Джон, неужели французы так досадили тебе, что ты можешь вопреки всем своим принципам объявить войну? — Ты увидишь. Я не осмеливаюсь послать эти доклады в Конгресс, опасаясь за жизнь наших посланников. Я не знаю, покинули ли они Париж. Абигейл открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же замолкла. Она молчала и в последующие дни, а Джон в это время писал резкое послание Конгрессу, от которого его отговаривали секретари. В конечном счете он направил в Конгресс вариант, подготовленный казначеем Уолкоттом, со своими исправлениями. Этот вариант предусматривал оборонительный план «защиты нашего мореходства и торговцев… защиты любой открытой части нашей территории… пополнения наших арсеналов, основания литейных мастерских и военного производства и обеспечения эффективных поступлений, необходимых для оплаты чрезвычайных расходов и пополнения недостающих запасов, нехватка которых может быть вызвана дестабилизацией нашей торговли». Конгресс, не получивший шифрованных посланий, отказался действовать. Республиканцы в палате представителей потребовали и получили такие послания.
Наступил апрель. Молодое государство сумело наилучшим образом сохранить тайну. Взрыв чувств был тем более яростным, когда страна и Конгресс узнали содержание посланий, узнали, что французский министр иностранных дел Талейран сообщил американским комиссарам, что «Директория крайне огорчена некоторыми частями» речи президента Адамса на специальной сессии Конгресса. Для получения комиссарами аудиенции некоторые части речи должны быть изменены, но, что более важно, чтобы умаслить гордость Талейрана, следует в частном порядке выплатить ему наличными двести пятьдесят тысяч долларов. Соединенные Штаты обязаны также предоставить Франции заем почти в тринадцать миллионов долларов. Эти выплаты сделают возможными дружественные переговоры между конфликтующими странами. Требование взятки и займа за счет общественных средств — что могло быть еще более сильным оскорблением суверенного государства? Шок был таким, что республиканцам пришлось, грубо говоря, заткнуться. Они надеялись поставить президента в трудное положение, но, когда сенат, в котором преобладали федералисты, настоял на публикации документов, по стране прокатилась волна антифранцузских настроений, она отшатнулась от республиканских лидеров и сплотилась вокруг своего президента. Наконец-то Джон стал президентом всего народа. При ослабленной оппозиции растерявшихся республиканцев законопроекты президента Адамса обсуждались и принимались Конгрессом через каждые несколько дней: о постройке двенадцати вооруженных судов; о дополнительных артиллерийских и инженерных полках; об учреждении военно-морского департамента; о возведении дополнительных укреплений; о закупках оружия и боеприпасов; о наборе временной армии; о разрешении военно-морскому флоту захватывать французские суда, вторгающиеся в территориальные воды Соединенных Штатов или задерживающие американские суда. Скандальное требование взятки дошло до американской общественности как «дело Икс, Игрек, Зет» по той причине, что американские комиссары во Франции просили Джона Адамса не оглашать имена трех неофициальных посыльных Талейрана и он назвал их в своем докладе «Икс, Игрек и Зет». — «Икс, Игрек, Зет», — прошептала Абигейл, — странный способ написания слова «война». — Французы почти нанесли мне поражение на выборах девяносто шестого года, — пошутил Джон. — А теперь они превратили меня в глазах моего народа в героя. До этого я никогда не ходил в героях. — Каково же ощущение? — Весьма странное по плотности; что-то между бананом и скалой.
6
По стране прокатилась такая волна патриотизма, какой не было со дней войны в Массачусетсе: со дней сражений у Конкорда, Лексингтона, Бридс-Хилла. Абигейл была в театре с Сэмюелом Отисом, когда толпа страстно реагировала на новый текст «Марша президента». Абигейл видела из окна второго этажа особняка, как более тысячи молодых людей в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет прошли парадом перед домом президента через десятитысячную толпу, заполнившую улицы. Президент, одетый в мундир главнокомандующего, принял комитет участников парада в приемном зале; он выслушал волнующие свидетельства лояльности и преданности Союзу. Похожие митинги состоялись во многих городах, в них участвовали молодые люди, готовые сражаться, если Франция объявит войну. Франция стала самой мощной военной державой в Европе. Армия и военно-морской флот Соединенных Штатов все еще существовали лишь на страницах законопроектов Конгресса. Как могло государство с еще не сложившейся военной машиной воевать против победителя Австрии, Италии, Бельгии, Швейцарии и против гения генерала Бонапарта? Ответ звучал в патриотических песнях молодежи подокнами президента. Правда, находились и стоявшие в стороне. Когда Джон призвал провести 9 мая национальный пост в знак «торжественной скромности, стойкости и молитвы», поступили анонимные письма с угрозами сжечь дотла Филадельфию. Всю ночь отряды легкой кавалерии патрулировали улицы города. Газета «Бостон кроникл» обвинила президента и его сына в том, что, дескать, они выколотили за два года восемьдесят тысяч долларов из федерального правительства, утверждалось, будто Джон поручил Джону Куинси провести переговоры со Швецией о новом договоре исключительно для того, чтобы предоставить Джону Куинси деньги на новое оборудование и повысить его оклад. Не молчал и Бен Бах. Он называл президента «слепым, лысым, беззубым, брюзгливым Адамсом». Волосы Джона на висках поседели. Он носил их длинными, что интересно контрастировало с его густыми, все еще темными бровями над большими уставшими, но по-прежнему внимательными глазами. На его лице почти не было морщин, его нос, рот и подбородок сохраняли прежние четкие очертания; но с возрастом он похудел и у него обозначился второй подбородок. Его фигура изменилась мало: он оставался коренастым, крепко сколоченным мужчиной, от которого исходила огромная внутренняя мощь и физическая сила, он принадлежал к типу не подвластных времени. Когда спикер палаты представителей объявил, что внушительная непобедимая французская армия, готовившаяся вторгнуться в Англию, направляет свое острие против Америки, особняк президента стал нервным центром страны. Официальные лица правительства появлялись уже в шесть часов утра и продолжали приходить даже после полуночи. Кто работал с Джоном во время завтрака, обеда и чая, получали пищу и напитки. В какую бы комнату ни заходила Абигейл, она видела совещания озабоченных мужчин, собравшихся вокруг стола и изучавших груды бумаг. Она поняла, почему Марте Вашингтон пришлось три раза заменять мебель за время ее пребывания в доме. Хотя каждый департамент имел свою собственную контору в городе, их руководители собирались теперь здесь. Лидеры сената и палаты представителей приезжали для консультаций до начала заседаний в десять часов и возвращались в четыре часа, чтобы доложить о положении дел с законопроектами, которые Джон считал безотлагательно нужными; они совместно искали пути возвращения из Парижа трех американских посланников, назначения командующих новой создаваемой армии. Генерал Вашингтон, естественно, был первым; шел спор, кто должен быть вторым: Александр Гамильтон, Генри Нокс, Чарлз Котсуорт Пинкни, один из трех комиссаров, связанных с «делом Икс, Игрек, Зет». Абигейл заметила в одном из списков, составленных рукой Джона, имя полковника Уильяма Смита в качестве помощника генерала. Произошло это поздно ночью, и Джон потирал покрасневшие глаза. Он целыми днями не выходил из дома, даже на прогулку. Он упрямо твердил: «Он хорош для такого поста. Генерал Вашингтон уважает его». В ту напряженную пору было ощущение некоей схожести с началом революции, когда тори осаждали патриотов. Ныне же тори были чужаками, французами или же профранцузами, направившими свои усилия на подрыв администрации Адамса. В их число входили газеты, возглавлявшиеся «Авророй» Баха и получившие кличку «Галльской фракции». Не было такого преступления, в каком они не обвиняли бы президента Адамса: его объявляли поджигателем войны, ему ставили в вину преступный непотизм, разграбление общественных фондов, создание армии для подавления народа и превращения Соединенных Штатов в монархию, в которой он сам станет королем Джоном I, а супруга — королевой Абигейл. Члены семьи Адамс жили в отравленной атмосфере заговора и интриг, сопровождавшейся распространением подрывной литературы, проведением тайных собраний, укрывательством, по словам бывшего сенатора от Массачусетса Фишера Амеса, это было подобно тому, как действуют змеи зимой, чтобы заготовить яд. — Я вроде Чарли, — признался Джон, — тонкокожий. Если чужестранцы служили каналами, через которые по всей стране распространялся «поток якобинской грязи», то в доме президента не сомневались, кто подстрекал к гибельному заговору с целью разрушить Союз. Это были возглавлявшиеся Томасом Джефферсоном республиканцы. Они вновь восстали против всех мер, способствующих укреплению национальной безопасности; законопроекты по армии, военно-морскому флоту, фортификациям проходили лишь благодаря тому, что федералисты составляли большинство. Президент Адамс утверждал, что без таких мер Соединенные Штаты были бы беззащитны перед лицом вторгающейся французской армии. Стефан Хиггинсон от Массачусетса, исполнявший обязанности министра военно-морского флота, воскликнул: — В Конгрессе существует злобный и коварный дух, выступающий против всего энергичного и достойного, его требуется подавить или изгнать! Джон опасался, что многие республиканцы, питающие большую приверженность к Франции, чем к Америке, присоединятся к вторгающейся французской армии, подобно тому как во время борьбы за независимость тори сражались на стороне британцев против патриотов. В жаркую душную ночь начала июня Джон и Абигейл прогуливались в предрассветном полумраке в заднем садике, шепотом обмениваясь сокровенными мыслями. — Мы ничего не можем сделать с республиканцами, — сказал Джон, — они — законно избранные представители народа. Мы должны обойти их в идеях и забаллотировать. Но представитель Массачусетса Гаррисон Грей Отис и Роберт Гудлоу Харпер от Южной Каролины правы; мы можем предпринять кое-что в отношении французов и других чужеземцев, которые ведут деятельность по подрыву нашего правительства. — Предложить им вернуться домой? — Законопроекты, которые обсуждаются сейчас в Конгрессе и вне его, имеют четыре аспекта. Во-первых, затруднить длительное пребывание в стране, с тем чтобы чужеземцы не стали американскими гражданами. Во-вторых, обеспечить себе право преследовать, подвергать суду и высылать людей, активно ведущих подрывную деятельность. В-третьих, во время войны представить президенту право депортировать иностранных граждан вражеских стран. В-четвертых, предоставить президенту полномочия высылать любого чужеземца, которого он считает опасным для мира и безопасности страны. — Можно ли добиться принятия такого постановления? — Да. В Соединенных Штатах существует профранцузская и проанглийская партии; но, как информировал правительство в Париже один французский наблюдатель в Филадельфии, есть также партия, «состоящая из наиболее уважаемых людей. Эта партия, о существовании которой мы даже не подозревали, есть американская партия, любящая свою страну превыше всего, для которой предпочтение либо Франции, либо Англии — явление временное и малозначительное». — Слава богу! Если французская Директория действительно верит этому, то никогда не будет и попытки вторгнуться в нашу страну. — Абигейл прижалась к Джону, в ночи повеяло первым холодком. — Джон, будет ли война? Не совершат ли наши бывшие союзники то, чего не смогли сделать британцы? Кризисных ситуаций хватало; опасности для государства переплетались с их личными проблемами. Их давнишний друг в Бостоне доктор Томас Уэлш обанкротился. Семья Уэлш потеряла все до последнего пенса. Мэри Кранч написала в своем письме о ее бедственном положении. Перед выездом из страны Джон Куинси передал доктору Уэлшу свои сбережения с просьбой пустить их в дело. Бедный Джонни! Он жил бережливо, шел на жертвы, самоотверженно экономил; ныне же результаты сурового ведения им домашних дел испарились. К этому надо добавить заработанное в последнее время и потерянное Чарли… Джонни так старался набрать средства, чтобы, вернувшись домой, начать с нуля адвокатскую практику. Абигейл положила на письменный стол рядом два письма. Первое — от Томми, вызывавшее сочувствие своим трогательным желанием вернуться домой. Не могла бы Абигейл найти ему замену для Берлина? Во втором письме сообщалось ей, что сын доктора Уэлша Томас вот-вот закончит учебу в Гарварде и должен немедленно отыскать работу. Она написала кузену Уильяму Смиту в Бостон и поинтересовалась его мнением относительно возможности направить молодого Уэлша в Берлин. Кузен Уильям одобрил такую мысль. Джон отдал соответствующие указания: Томас Уэлш должен поехать в Берлин, а Томас Адамс — вернуться в дом родителей в Филадельфии. Рядом с ней будет в доме один из сыновей.19 июня 1798 года после полудня в Филадельфию прибыл Джон Маршалл, выдающийся член тройки комиссаров, посланных во Францию. В соседней с Филадельфией деревне его встретил с отрядом кавалерии Пикеринг, и они в парадном строю прошествовали по городу мимо дома президента. Американская общественность узнала, что Маршалл был подлинным героем «дела Икс, Игрек, Зет» во Франции. Именно Маршалл, обращавшийся с эмиссарами Талейрана с вежливостью, присущей жителям американских пограничных территорий, выступил против их поползновений с такой решительностью, что Директория начала осознавать бессмысленность шантажа и попыток спровоцировать Соединенные Штаты. На следующее утро в восемь часов Джон Маршалл был на завтраке в особняке президента. Джон и Абигейл приняли его в семейной столовой. Сорокадвухлетний Маршалл был крепко скроен, отличался прекрасным физическим здоровьем и полнокровным цветом лица. Молодые годы он провел на открытом воздухе, и это придало ему осанку сельского жителя. Его короткие густые волосы разделялись пробором на левой стороне. От его больших темных глаз расходились морщинки, а с вишнево-красных губ то и дело слетали шутки. Джон Маршалл вырос в Виргинии. Он не получил регулярного образования и воспитал сам себя на произведениях Попа и Блекстоуна. Друзья и противники в один голос говорили, что он обладает наиболее острым юридическим умом в стране. Абигейл знала, что жители приграничных районов Виргинии любят плотный завтрак. Она приказала приготовить для Маршалла толстый ломоть ветчины с полудюжиной яиц, пшеничный и кукурузный хлеб и кувшин медовухи. Маршалл ел с завидным аппетитом, что, впрочем, не изменило его мнения о себе как умеренного в еде. Хотя по материнской линии Маршалл имел родственные связи с Джефферсонами, Рэндолфами и Ли, его отец был бедным и сам пробивал себе дорогу. Так он познакомился с Джорджем Вашингтоном и работал на генерала. Получив известие о сражении у Лексингтона и Конкорда, Джон и его отец сняли со стены над камином ружья и вступили в армию Виргинии. Маршалл участвовал в сражениях у Брендиуайна, Монмаута и провел вместе с Вашингтоном зиму у Вэлли-Фордж. В эти годы он утвердился в убеждении, что «Америка моя страна и Конгресс — мое правительство». По всем этим причинам, подтверждавшим неподкупность Маршалла, Джон и Абигейл внимательно выслушали его сообщение. К их удивлению, он не думал, что война надвигается. Своим мягким приятным голосом он сказал: — Сэр, по моему мнению, Франция пытается запугать нас. Я старался дать понять, что нас так легко не запугаешь. Если вы будете оставаться сильным и решительным, мистер президент, Франция не объявит нам войну. Маршалл расправился с тарелкой нарезанных огурцов и с последним толстым ломтем хлеба, намазанным свежим маслом. Энергично вытерев салфеткой рот, он выпрямился на стуле и сказал: — Сэр, прошу разрешения сказать нечто, расходящееся с вашими взглядами. Джон и Абигейл удивились. Джон Маршалл был одним из верных сторонников. Они были весьма разочарованы, когда он отклонил предложение президента Вашингтона стать генеральным прокурором. Президент Адамс ответил: — Мистер Маршалл, в этом доме уважают высказанное вами мнение. — В таком случае, сэр, я прослышал, что вы собираетесь подписать билль о чужестранцах. — Вы его не одобряете? — Мистер президент, он нарушает не только первую поправку Билля о правах, запрещающую Конгрессу урезывать свободу слова и печати, но и пятую поправку: «Никто не может быть привлечен за тяжкое преступление без предъявления обвинения Большим жюри… не может быть лишен жизни, свободы и собственности без надлежащей правовой процедуры». — В военное время? Когда они совершают предательство, мы должны их выслать. Это очевидный акт самообороны. — Неужели наша страна так слаба, что не в состоянии защитить себя против немногих чужеземцев? Когда мы лишим их надлежащей правовой защиты, мы ослабим такую защиту и в отношении наших собственных граждан. Джон напрягся. — Это несопоставимые вещи. Права граждан полностью защищены. Чужеземцы являются посетителями, пользующимися нашей терпимостью. Задача правительства выслать их до того, как они сумеют навредить. Билль вводится в силу всего на два года. Если не будет войны, то его действие прекратится. Маршалл наклонил голову, показывая, что уступает старшему по положению. — Сэр, могу ли я просить вашего снисхождения еще по одному вопросу? — Разумеется. — Тогда со всем уважением, я слышал, что вы одобряете постановление о призывах к бунту, которое обсуждается в Конгрессе. Могу ли я предостеречь вас против страшной опасности, связанной с этим постановлением? Билль о чужеземцах — плохой прецедент, он нанесет ущерб престижу нашей республики за рубежом. Он затрагивает наших собственных граждан лишь косвенно. Но постановление о призывах к бунту направлено непосредственно против наших граждан. Это самый опасный законодательный акт в короткой истории нашего государства. Если людям, выступающим против нас, не будет разрешено выражать устно и в печати свое мнение, они прищучат нас не менее жестоко, когда придут к власти. И ответственными за это будем мы сами, ибо предоставим им такое право. — Постановление будет действовать только в военное время. — А кто будет определять с юридической точки зрения границу между миром и войной? В условиях непрекращающихся войн и беспорядков в Европе наше государство может длительное время находиться в неясных условиях, когда нет ни войны, ни мира, а существует угроза войны. Даже сейчас, мистер президент, гений Америки заключается в ее способности позволить каждому веровать в своего собственного Бога, высказывать свои мысли, встречаться с друзьями и печатать собственную ересь. Вы твердо выступали за Декларацию прав. Прошу вас не отходить от ее принципов сейчас. Любой тиран, появившийся на нашей земле, сможет использовать постановление о призыве к бунту для того, чтобы заткнуть глотку любому критику. Самые худшие опасения тех, кто боролся против федерации и конституции, станут реальностью. Притихшая Абигейл попросила разрешения сказать свое слово. — Мистер Маршалл, вы почти год отсутствовали в стране. Вы не наблюдали, как возрастали продажность и гротескность вражеской печати… — Оппозиционной печати, мэм, — вмешался Маршалл. — Хорошо. Нам сообщили, что их замысел — клеветать на президента, его семью, администрацию и таким образом вынудить его к отставке. Тогда они сметут править с триумфом. Томас Джефферсон станет глашатаем народа! Мы подошли к слишком серьезному кризису, чтобы проявлять вялость, слишком опасному, чтобы дремать… Я тотчас моту доказать вам это. Абигейл поднялась в свою гостиную и взяла вырезки из газет, сделанные Луизой по ее указанию из «Авроры», бостонской «Кроникл», «Аргуса», «Олбани реджистер», «Ричмонд экзаминер». — Мистер Маршалл, пожалуйста, прочитайте эти выпады. Разве они сделаны честными людьми? Или же написаны злоумышленниками и подстрекателями? Маршалл разложил собранные Абигейл оскорбительные статьи. Его обычно розовые щеки бледнели по мере того, как он вчитывался в несдержанные выпады. Когда он поднял глаза, они выражали смущение и извинения. — Теперь вы согласитесь с необходимостью иметь постановление, осуждающее призывы к бунту? Вам ясно? — Миссис Адамс, я в ужасе! Очевидным является то, что нам нужен более строгий закон о клевете. Постановление, карающее за призывы к бунту, никогда не уживется с нашим народом. Сэр, вы историк и должны знать: если вы подпишете такие репрессивные меры, история обойдется сурово с вами. Если вы их заблокируете, история оценит по справедливости ваш смелый шаг. — Может быть, мистер Маршалл. Я оказался в неприятном положении клиента, который вынужден отклонить совет своего талантливого и честного сторонника. У меня нет возможности гадать относительно вероятного суждения истории. Передо мной две ясные и неотложные задачи: во-первых, предотвратить войну с Францией, во-вторых, получить уверенность, что мы победим, если вторгнется Франция. Все остальное не имеет значения. Маршалл взял протянутую руку президента. — В любом случае, я к вашим услугам, мистер президент. В июне Джон Адамс подписал два билля о чужестранцах и в июле суровое постановление о каре за призыв к бунту, принятые палатой представителей и сенатом.
7
Нестерпимый зной опустился на город. Абигейл чувствовала себя на улицах настолько отвратительно, что опасалась возвращения желтой лихорадки. Окружающие жаловались на боли в области мочевого пузыря и на воспаление горла. Конгрессмены хотели прервать сессию и разъехаться по домам. Так же поступил бы президент и та, которую Джон Адамс называл своей «президентшей». Но вопреки оптимизму Джона Маршалла каждый день возвещал о новых военных мероприятиях, которые нужно было провести через Конгресс и подписать президенту; 25 июня был принят билль, уполномочивавший «защищать торговые суда». В течение недели Джон направил в сенат предложение о назначении Джорджа Вашингтона командующим армией. Правительству предстояло приобрести тридцать тысяч единиц оружия, которое будет перепродано милиции штатов по цене, установленной президентом. Соединенные Штаты и Франция не были более связаны соглашениями. Джон подписал билли о создании корпуса морской пехоты; уведомил французского консула, что он — персона нон грата. На штаты был наложен прямой налог в сумме двух миллионов долларов; президенту разрешалось взять взаймы у Банка Соединенных Штатов пять миллионов долларов. Опасность вторжения была настолько высока, что Конгресс разрешил сформировать вместо восьми полков двенадцать. Секретные задумки Абигейл насчет библиотеки Джона раскрылись, когда мистер Сопер, сосед по Куинси, как говорят, «рассыпал бобы». Джон был явно доволен. — Мне необходимо было большое помещение. Вопрос, с которым я едва осмелюсь обратиться к кому-либо в правительстве: как мы оплатим счета? — Когда мы жили в Отейле, я попросила кузена Коттона купить мне на сто фунтов стерлингов армейских сертификатов. Потребовалось тринадцать лет, но в конце концов правительство выплатило их по фактической стоимости. Джон обнял жену, погладил ее седеющие на висках волосы и нежно поцеловал. — Девушки пастора Смита, были ли они откровенными, доверчивыми и искренними? Помнишь мои откровения относительно моих сомнений, когда мы впервые поехали на остров Рейнсфорд? Это было тридцать шесть лет назад! Ты знаешь, дорогая, мужчина может оставаться дураком в течение всего отрочества, но, если он примет правильное решение, он превращается в гения! Сенат утвердил генерала Вашингтона командующим. Президент Джон Адамс послал военного министра Макгенри в Маунт-Вернон с предварительным списком офицеров, которых он рекомендовал бы для Генерального штаба. В список вошли на рассмотрение Вашингтона: Линкольн, Морган, Нокс, Гамильтон, Гейтс, Пинкни, Ли, Муленберг, Бэрр и Уильям Смит. Палата представителей разъехалась, но сенаторы оставались на месте, чтобы одобрить список предложенных Вашингтоном офицеров. Генерал Вашингтон вычеркнул республиканцев Муленберга и Бэрра, добавил несколько имен, дабы образовать штаб из десяти офицеров. Джон позвал Абигейл и возбужденно воскликнул: — Посмотри, генерал Вашингтон назначил полковника Смита бригадным генералом. Это шаг, который может восстановить репутацию нашего зятя. Я предложу, чтобы полковнику был присвоен ранг помощника генерала. Думаю, что он подходит для такого поста.На следующий день Джон направил список на утверждение в сенат. Через несколько часов три сенатора, представлявших комитет, появились в особняке президента. Они сочли свое положение трудным, но желали избавить президента от более неловкого. Не сочтет ли нужным президент вычеркнуть имя полковника Смита из рекомендованного списка? Сенаторы не могут поддержать это назначение. Причины? Он был «спекулянтом… банкротом и антифедералистом». Джон ответил, что не вычеркнет из списка. Кандидаты были одобрены, а кандидатура полковника Уильяма Смита отклонена. Абигейл была в отчаянии, ее муж — в ярости. — Как такое могло случиться? — добивалась она ответа. — Я предостерегал нашего дорогого полковника от хвастовства и важничанья в то время, когда он процветал. Когда же у него возникли финансовые осложнения, он пренебрег обязательствами в отношении своих ближайших друзей. — Но, Джон, он провел совещание со своими кредиторами в феврале. Эта встреча не дала ничего? — Ничего, насколько мне известно. — Разве мы ничего не можем сделать? С какими глазами мы встретим полковника? — Возможно, нам просто не придется смотреть ему в глаза. Откровенно говоря, думаю, что, навестив накоротке дом, он исчез навсегда. Мы расскажем об этом Нэб как можно мягче, когда посетим ее и возьмем в Куинси с нами. В Филадельфии желтая лихорадка уносила ежедневно тысячи жизней. Сенат прекратил заседания, и его члены спешно покинули город. Абигейл приказала семье Брислера уехать в деревню. Когда Джон и Абигейл в конце концов 25 июля выбрались из города, зной и пыль на дороге настолько угнетали, что Абигейл вынуждена была дважды в течение нескольких часов останавливать экипаж, переодеваться на постоялых дворах и отдыхать там некоторое время. Поездка домой была просто чудовищной. Внутри кареты стояла нестерпимая духота. Несмотря на заботу Нэб и Луизы, поездка показалась Абигейл худшей в ее жизни. Когда добрались до Куинси, ее практически внесли на руках в спальню. В спальне Абигейл провела одиннадцать недель. Ее мучили то озноб, то высокая температура. Никто не мог точно сказать, что с ней. Доктор Коттон Тафтс навещал каждый день. Он привел с собой доктора Бенджамина Уотерхауза и доктора Джона Уоррена из Бостона, надеясь, что они помогут поставить диагноз. Поначалу думали, что у нее желтая лихорадка, но, к счастью, это не подтвердилось. По мере усиления жары ее силы таяли. Прошло несколько дней, о которых она смутно помнила, Абигейл уверовала в то, что пришло ее время. Она смирилась с Богом, позвала мужа и дочь сказать последнее «прощай». Она сожалела, что не может попрощаться с Джоном Куинси, с Томми и Чарлзом, они были далеко. Ее сестра Мэри Кранч поставила ее на ноги. — Сестренка Абигейл, ты меня удивляешь. Ты утверждала, что пуритане не уступают легко смерти, что нам мало услышать дюжину трубных призывов архангела Гавриила. Абигейл видела лицо сестры словно в тумане. Она ответила хриплым от болезни голосом: — Ты видишь, что я отхожу. — Я вижу, что ты думаешь, будто умираешь. Но это разные вещи. — У меня остались кожа да кости, я таю с каждым днем. — Скажем, ты была пухленькой, так что тебе не мешает изрядно похудеть. Я уверена, что тебе будет все хуже и хуже до похолодания. Когда возьмет озноб, ты выскочишь из постели. Мэри была права. Сменяясь, Нэб и Луиза ухаживали за ней. Джон горевал по поводу болезни жены, и его пугала возможность ее смерти. Работая наверху в библиотеке, он получал депеши и письма, поступавшие из различных уголков страны, принимал делегации. Он отвечал на наиболее важные документы, и помимо этого ему было трудно делать что-либо иное. Когда секретари настаивали на возвращении в Филадельфию, подчеркивая, что главное исполнительное лицо должно быть на месте, он написал военному министру Макгенри:
«Я не могу приехать в этот город… скоро. Здоровье миссис Адамс настолько слабо, ее жизнь висит на волоске, и я не могу оставить ее в последний момент. Прошедшее лето было мрачным для меня, а перспектива зимы еще мрачнее…»В этот день ей стало лучше. Джон рассказал о содержании письма военного министра. Абигейл сурово ответила: — Ты должен вернуться в Филадельфию или Трентон, где правительство выжидает окончания эпидемии. Ты ему нужен. Со мной будет все в порядке. Я приеду при первой возможности. Последнее столкновение между ними произошло до отъезда Джона, оно касалось определения иерархии командования во главе с Вашингтоном. Президент Адамс полагал, что утвержденные офицеры должны обладать тем же статусом, каким они пользовались во время революционной войны. Он желал, чтобы назначение Нокса фиксировалось с первого дня, Пинкни со второго, Гамильтона — с третьего, и это должно определить порядок подчинения. Александр Гамильтон требовал быть вторым после Вашингтона. Секретари Пикеринг и Макгенри всемерно поддерживали его; они посетили Вашингтон, настаивая на том, чтобы Гамильтон был назначен на высший пост. Находясь в Куинси, Джон слышал о таких махинациях. Наконец он осознал, что эти представители ближе к Гамильтону, чем к своему президенту. И все же он уступил. Абигейл была прикована к постели все лето, а Джон слишком встревожен, чтобы уделять внимание ферме. Тем не менее урожай оказался лучшим за многие годы. Кузен Уильям Смит приехал из Бостона с покупателями, и была заключена выгодная сделка. Выйдя в первый раз после болезни в сад, Абигейл занялась посадками роз. Размышляя о своей болезни, она поняла, что есть что-то общее с тем обмороком, какой случился с ней в Бостоне перед свадьбой, тогда тетушка Элизабет так напугалась, что предложила отложить ее брак с Джоном Адамсом. Тогда врачи так и не определили, что с ней, как не разобрались в ее болезни и сейчас. Абигейл подозревала, что в обоих случаях на нее обрушилось слишком много внешних впечатлений и внутренних тревог. В течение лета умерли от желтой лихорадки четыре их верных приверженца. В июне был арестован Бенджамин Бах по обвинению в клевете на президента, но под залог его освободили. И он скончался от желтой лихорадки. Скрепя сердце и следуя христианскому милосердию, семья Адамс оплакивала его.
Каждый период одиночества по-своему своеобразен. После помолвки Абигейл освоилась с периодическими расставаниями, когда Джон выезжал на судебные сессии. Затем были годы его работы в Континентальном конгрессе; в то время поначалу трехмесячное отсутствие растянулось до одиннадцати месяцев. Оно явилось своего рода прологом к отъезду Джона в Европу. Первая поездка длилась восемнадцать месяцев, и после трехмесячного пребывания дома последовал отъезд на пять лет. В итоге Абигейл так закалилась, что смогла бы выдержать разлуку, равную любой тридцатилетней войне. За две недели прохладной погоды она окрепла духом и настолько поправилась физически, что стала думать о возвращении к роли хозяйки президентского дома. Она писала Джону:
«Напиши, кто спрашивает обо мне и кто интересуется мною. Одна нью-йоркская газета и „Дикобраз“ сочли своим долгом выразить сожаление по поводу моего вынужденного отсутствия там, где находится правительство. Думаю, что, по их мнению, ты нуждаешься в ком-то, способном согреть тебя, и зная, что ты вовсе не Давид, они оплакивают твое одиночество. Я очень дорожу написанным в нью-йоркской газете. Напомни обо мне всем моим подружкам. Я тешу себя мыслью, что федеральные республиканцы и сенаторы ощущают мое отсутствие в эту зиму».Филадельфии действительно не хватало ее. В отсутствие Абигейл Джон избегал попыток принимать в особняке женщин, принадлежащих к высшим кругам общества, он даже не приглашал жен конгрессменов и послов. Молодой Уильям Шоу, проходивший стажировку в качестве секретаря Джона, писал тетушке Абигейл:
«Брислер говорит, что у него нет сейчас вдохновения устраивать хорошие обеды… Отсутствуют леди, а джентльмены не похвалят, даже если все хорошо».В Куинси Абигейл не принимала никого. Она устроила праздничный обед у себя дома, когда выходила замуж Бетси, одна из дочерей ее брата Билли. В День благодарения Ричард Кранч и племянник Джона Бойлстон Адамс болели, и Абигейл посадила за стол на кухне чету Портеров и Феб, «единственных уцелевших родителей», чтобы разделить с ними «щедрость Провидения». К декабрю она уже могла гулять по заснеженным полям. Ее силы окрепли с наступлением холодов. — Жара — твой естественный враг, — посоветовал Коттон Тафтс, — ты должна бежать от нее, как черт от ладана! — Нет, кузен Коттон, как может бегать черт в моем возрасте, мне ведь пятьдесят четыре года. Ферма утопала в снегу. Абигейл спала под теплым одеялом, днем ее навещали немногие родственники и друзья — президент университета Гарварда и вице-губернатор Массачусетса. От преподобного мистера Пибоди приходили письма, в которых сообщалось, что оба сына Нэб учатся хорошо. От Чарли не было известий; она собиралась осведомиться о нем, но мысли устремлялись в другом направлении. Абигейл беспокоилась за Томми, которому уже давно следовало быть в Соединенных Штатах, тревожилась за жену Джонни Луизу, находившуюся в Берлине; у нее, бедной, уже было два выкидыша. Джон писал о Нэб:
«Генерал-лейтенант и генерал-майоры рекомендовали полковника Смита на пост командующего полком. Это понижение для него, на что я не мог согласиться бы без его согласия. Я написал ему, рассчитывая, что он откажется от такого назначения. Но его гордыня подавлена в такой степени, что он дал согласие на назначение… Под командованием лиц, в прошлом равных с ним и даже ниже его, его положение будет незавидным. Счастливый Вашингтон! Ему повезло, у него нет детей! Мои дети причиняют мне больше боли, чем все мои враги».Эта фраза приковала взор Абигейл. Если бы Джон сказал: «Мой ребенок причиняет мне больше боли», то это могло относиться только к полковнику Смиту. Но Джон употребил множественное число. Блестящая деятельность Джона Куинси была предметом семейной гордости, хорошо проявил себя Томми, значит, фраза Джона подразумевала Чарли. «Какая я глупая, — думала она, — до меня не дошло, что Джон знал о сильной тяге Чарли к выпивке. В конце концов, мой муж — президент Соединенных Штатов. У него бесчисленные контакты. Вероятно, он скрывает больше от меня, чем я от него. Ныне же все это стало предметом гласности. Мы должны что-то сделать. Мы должны поступить так, чтобы Чарли и Салли жили с нами в Филадельфии. Джон может назначить его своим секретарем, своим юридическим советником. Никто не станет возражать, если Чарли будет получать оплату не из государственных средств». Что случилось с ее смешливым мальчиком? Никто, кроме Джонатана Сиуолла — мир праху его, — не любил так смешить, как Чарли. Неужели те, кто смеется первым, первыми же и плачут, неужели смешливые и веселые должны первыми узнать, что жизнь — злая шутка и они ее жертвы, быть может, их смех вызван страхом и опасением, проникшими в их сердце и рассудок, подобно вандалам? Она отогнала от себя такие мысли. Когда она станет прочно на ноги, у нее будет достаточно времени справиться с проблемами Чарли. Что касается полковника Уильяма, то теперь, когда Соединенные Штаты собираются иметь постоянную армию, нет причины, чтобы он не служил верно и с отличием. Возможно, он не так хорош в остальном, но все, начиная с Вашингтона и ниже по иерархии, соглашались с тем, что его стоит иметь рядом в бою. Это значит, что он должен жить в армейских лагерях, должен быть послан на отдаленные границы. Абигейл решила взять Нэб и Каролину с собой в Филадельфию. Семья Джона Куинси также приедет к ней, когда возвратится в Америку, по меньшей мере на тот срок, пока Джонни не решит, каково его будущее. Разумеется, в президентском особняке в Вашингтон-Сити найдется место для всех ее детей. Она наконец-то соберет всю семью под одной крышей. Такого не было с ноября 1779 года, когда Джон собирался отплыть в Европу, забрав с собой Джонни и Чарли. Минуло девятнадцать лет, и за эти годы семья рассеялась по всему миру. Джон писал ей часто, но у нее были и другие источники информации. Одним из первых актов Конгресса был закон, согласно которому после принятия палатой представителей и сенатом законопроекта и его одобрения президентом он должен быть немедленно направлен в газету каждого штата. Этот закон помогал ей в Куинси; газеты, посылавшиеся ей Джоном и Сэмюелом Отисом или же доставлявшиеся из Бостона ее друзьями и родственниками, содержали сведения о деятельности правительства. В круг таких дел входило множество постановлений, касавшихся хлеба и масла, внутренних, а порой и просто локальных по своему характеру; назначения комиссаров для урегулирования расчетов между Соединенными Штатами и несколькими государствами по долгам перед федеральным казначейством; применения американских законов в Теннесси — последнем штате, последним присоединившимся к Союзу; выделения значительных сумм с целью претворения в жизнь договоров с индейскими племенами; актов, определявших оклады практически всех служащих правительства, начиная с командующих линейными кораблями Соединенных Штатов; возмещения начальникам полиции, прокурорам, членам жюри и свидетелям в судах Соединенных Штатов; определявших сбор пошлин на импорт и тоннаж, винокурение, медицинское обслуживание, обеспечение под залог, разрешение о продаже земельных участков на Западе… Конгресс работал напряженно. В дополнение к законодательству по внутренним мерам были приняты некоторые серьезные акты, касавшиеся внешних дел государства. Один был связан с тем, что вице-президент Джефферсон выдал Джорджу Логану рекомендательное письмо, адресованное друзьям во Франции. Логан использовал его, чтобы получить доступ к французскому правительству и начать частные, без полномочий переговоры о мире. Это вызвало раздражение у президента Адамса и Конгресса. Было принято решение, что попытки частного гражданина Соединенных Штатов уладить спор с любой иностранной державой являются преступлением. Хотя эти шаги были успешными, Абигейл знала благодаря частной переписке, что в Конгрессе бушуют страсти и его члены расколоты на федералистов и республиканцев. Республиканцы продолжали выступать против законов, имевших отношение к упрочению федеральной власти, постоянной армии и увеличению налогов, к любому акту, с помощью которого центральное правительство могло ослабить полномочия штатов. Они добивались также объявления неконституционными постановлений о чужеземцах и о призыве к бунту из-за опасения, что они могут быть использованы для подавления республиканских газет и преследования республиканских журналистов. Джефферсон и его политический сторонник Джеймс Мэдисон составили то, что именовалось резолюциями Кентукки и Виргинии, нацеленными на предоставление штатам права решать, являются ли конституционными федеральные акты, и требовавшими присоединения других законодательных органов к обсуждению постановлений о чужеземцах и о призыве к бунту, с тем чтобы удалить их из свода законов. Законодательные собрания других штатов не присоединились к этому требованию. Оценивая такие сообщения в тишине Писфилда, Абигейл догадывалась, под каким давлением находится Джон и как ему трудно. Как всегда, его трудности умножались в результате действий самих федералистов. Оказав помощь в создании американской военной машины, Гамильтон вроде бы вознамерился использовать ее в своих интересах.
8
Возвращение Томми задерживалось, так как его родители настаивали, чтобы он сел на вооруженное судно Соединенных Штатов. Захват сына президента французским крейсером вызвал бы политический скандал. Он приплыл в Нью-Йорк в январе 1799 года, повидался с отцом в Филадельфии, а затем приехал к матери в Куинси. Томми пользовался особой любовью матери. Он был баловнем судьбы, и в свои двадцать шесть лет выглядел внушительным мужчиной — коренастым, сильным и уравновешенным. Томми ухаживал за домашней птицей, когда это надоедало старшим детям; помогал матери в устройстве лавки в адвокатской конторе Джона и поддерживал в ней порядок. Не обладая умственными талантами Джонни или Чарли, он имел другой дар — упорство и чувство долга по отношению к семье. Он оставался около Джона Куинси в Берлине целый год вопреки сильному желанию вернуться домой: ведь старший брат нуждался в нем и без него чувствовал бы себя одиноким. Томми устроился в библиотеке отца. Абигейл была рада видеть его дома. Она вспоминала рассказ Уильяма Шоу о том, как Томми встретился с отцом в Филадельфии. Джон Адамс обнял своего младшего сына, по его щекам текли слезы, и он промолвил: — Благодарю Господа Бога, мой сын, что ты возвратился в нашу родную страну. Могли ли чувства матери быть менее теплыми? Они обедали за маленьким столиком перед камином в гостиной. Абигейл жадно слушала новости, касавшиеся Берлина, но ее прежде всего интересовали планы Томми. — Ма, я хочу открыть адвокатскую контору в Филадельфии. Ну, ты не будешь часто видеть меня в особняке президента. Я не хочу, чтобы ко мне обращались только потому, что я сын президента. — Ты не оставил изучения права, Томми? Томми старательно жевал кусок говядины. Он никогда не требовал многого для себя, у него не было больших запросов или достижений. — Я не силен в абстрактном мышлении, ма. В том, что Джонни называет общими правилами закона. Я никогда не смог бы, как папа, написать конституцию или аналитический доклад, какой Джонни представляет государственному секретарю. У меня нет дара в философии. — Это потому, что у тебя практический ум. Ты принадлежишь к числу тех, кто действует, тогда как Джонни и Чарли философствуют насчет последствий той или иной проблемы. Томми покраснел от удовольствия. Усидчивого редко хвалят. — Долгое время я думал, что займусь бизнесом. Но в нашей семье все юристы… — Большинство судебных дел касается бизнеса. Почему ты не можешь быть адвокатом бизнесменов? Наша торговля растет, наша страна все больше заселяется. Пусть отец пишет конституцию, а Джонни — свои европейские отчеты. Ты же можешь составлять контракты. В глазах Томми вспыхнул огонек. — Ты думаешь, что там есть место для меня? Не как сына президента, а как неизвестного Томаса Бойлстона Адамса. — Он встал и поправил дрова в камине, желая скрыть выражение своего лица. — Ма, ты прямо-таки ввела меня в бизнес. — Ты встречался с Чарли в Нью-Йорке? — Да, ма. — Заметил ли ты какие-либо перемены? Томми сжал и разжал ладони. Он не скажет ничего против брата, который был его идолом. — Когда ты будешь возвращаться через Нью-Йорк, выправи его деловые бумаги. — Сделаю, что смогу. Томми не принадлежал к числу тех, кто вселял ложные надежды. Тем не менее он признался, что хочет жениться. — Я знаю, что мне нужно еще несколько лет для того, чтобы я мог обеспечить жену. И кто она, у меня нет ни малейшего представления, поскольку я не встречал еще подходящих. Но мужчина еще не мужчина, если у него нет жены, насколько я знаю… Тем временем я могу служить твоим управляющим. Френч согласился платить сто семьдесят пять долларов за обработку его части фермы и выплату налогов. Буррелл готов остаться на год. У тебя нет наличных средств, требуется выплата жалованья. Согласно твоим книгам, кузен Коттон занял у генерала Линкольна деньги в прошлом году. Не хочешь ли ты, чтобы я занял на этот раз пятьсот долларов? Этой суммы хватит, чтобы ты могла рассчитаться. Па оплатит расписку, когда казна пришлет ему очередной квартальный оклад. Абигейл откинулась на спинку кресла, улыбаясь сама себе, ибо она представила себе голос Джонни в Отейле, подсчитывающего ее расходы. В конце февраля замерзли реки, и весь залив покрылся льдом. Выпало много снега. Вернувшийся из Бостона Томми улыбался. Ему рассказали забавную историю. Чувствуя, что Франция готова сделать жест примирения, президент Адамс назначил своего давнего сподвижника, жителя штата Мэриленд Уильяма Ванса Мюррея, полномочным посланником во Францию. Мюррей в течение шести лет был членом Конгресса, а затем президент Вашингтон назначил его посланником в Гаагу, где он сменил Джона Куинси. Казалось, что Мюррей понравился французской Директории. Джон не консультировался с кабинетом по поводу назначения. У него имелась разумная причина действовать так: настроенное на войну крыло федералистов впадет в раж при любом примирительном жесте в отношении Франции. — Некоторые федералисты недовольны тем, что па преподнес им такой сюрприз, — рассказывал Томми. — Они ворчат: «Мы хотели бы, чтобы старуха была здесь. Не думаем, что назначение состоялось бы, будь она в Филадельфии!» — Довольно нахально с их стороны, Томми, но «старуха» — они имеют в виду меня — может сказать им, что заблуждаются. Я считаю это решение мастерским политическим шагом. Твой отец страстно желает, чтобы его администрации удалось избежать войны с Францией. В глазах Томми сверкали озорные искорки. — Рад, что «старуха» одобряет. — А теперь, Томми, ты нахал. Джон правильно оценил позицию Франции. Талейран уже не горел желанием сражаться со всем миром, особенно сейчас, когда Соединенные Штаты и Англия были близки к соглашению о посылке войск во Флориду и Луизиану. Британский адмирал Нельсон разбил французский флот. Талейран облегчил положение президента Адамса, принеся публичное извинение по «делу Икс, Игрек, Зет». Несомненно, это указывало на то, что Талейран и Франция хотят мира. Но президент Адамс недооценил ловкость Гамильтона, который использовал свое влияние в сенате, чтобы учредить комиссию по вопросам мира из трех человек, надеясь контролировать по меньшей мере одного из них. Джон принял компромиссное предложение сената. Его популярность еще более возросла. Когда на него нажимали воинственные федералисты, он повторял замечательные слова прощального обращения Вашингтона к народу: «Каждая часть нашей страны… должна получать благодаря Союзу избавление от ссор и войн между собой, которые так часто случаются в соседних странах, не соединенных воедино одним и тем же правительством… При претворении такого плана в жизнь нет ничего более важного, чем недопущение постоянных укоренившихся антипатий в отношении отдельных наций и страстной привязанности кдругим, вместо этого должны быть справедливые и дружественные чувства ко всем. Нация, впитавшая постоянную ненависть или любовь к другой, является в известной мере рабом». Республиканцы убедились, что он против войны с Францией, признавая вместе с тем, что осуществленные им военные приготовления явились определенным побуждением для Франции стремиться к миру. Остался лишь один противник — Александр Гамильтон.После того как отпала тревога по поводу возможной войны, вновь обострилась опасность внутренних мятежей. В Пенсильвании в Бетлехеме возникли волнения среди местных голландцев, недовольных прямыми налогами, и начальник полиции Соединенных Штатов арестовал двух уклонявшихся от уплаты налогов. Аукционист, по имени Джон Фрайз, которому помогали два его сторонника и толпа в сотню вооруженных местных жителей, заставил начальника полиции отпустить арестованных. Когда президент Адамс услышал об этом, он направил отряд кавалерии и милиции, который захватил Фрайза и его двух соучастников. Арестованные были доставлены в Филадельфию и предстали перед Верховным судом Соединенных Штатов по обвинению в предательстве, им грозила смертная казнь через повешение. — Признаки мятежа Шейса в восемьдесят шестом году,[10] — комментировала Абигейл, обращаясь к Томми, — и мятежа по поводу виски в девяносто четвертом. Что делать с теми, кто берется за оружие в борьбе против федеральных законов? Джон возвратился в Куинси раньше, чем она ожидала. Порой она забывала особенность характера Джона: у него прибывало энергии, когда ему приходилось бороться с оппозицией. Он несокрушим, решила Абигейл, наблюдая за тем, как он ведет в Писфилде постройку нового сарая и помещения для варки сидра. Люди, с которыми он начал революцию, доведя ее до завершения и создания совершенно нового, благородного правительства, несли на себе печать Господа Бога. Ведь иначе как они могли совершить столько при жизни лишь одного собственного поколения? С президентом прибыл ее племянник Уильям Шоу. Семья Адамс относилась к Уильяму как к одному из своих сыновей, подобно тому как их тетушка Элизабет воспитывала в Хаверхилле Чарли и Томми, а теперь ухаживала за сыновьями Нэб. Абигейл послала деньги для оплаты квартальных расходов на мальчиков, а также покупки новой одежды. Она оплачивала пансион мальчиков уже два года, с момента их отъезда из Истчестера. Полковник Смит не прислал ни гроша, чтобы оплатить содержание мальчиков. Нэб была скупой, как любой другой житель Новой Англии, но для пуританина первый долг после восхваления Господа Бога — это воспитание детей. Нэб оказалась еще одним отрезанным ломтем. Джон был рад, увидев Абигейл в добром здравии после зимы. Она могла принимать гостей в отличие от прошедшего лета. — Я решила давать обед каждую неделю. — Это хорошо! — воскликнул Джон. — Нам требуется всемерная поддержка, особенно наших сторонников. Они капризничают, ибо я придерживаюсь мнения, что главное исполнительное лицо должно иногда действовать по собственному разумению. Они завершили строительство коровника, что побудило острослова Куинси, сына Питера Адамса Бойлстона, воскликнуть: «Наконец-то коровы президента оказались в хорошем помещении!» Они заново покрасили дом, но не стали заниматься его ремонтом; предстояло пристроить к дому новое крыло, расширить гостиную, а над ней кабинет для Джона с окнами, выходящими на три стороны, и с превосходным камином. Впервые Абигейл могла не скупиться. Она накопила достаточно ценных бумаг и проценты по ним использовала для покупки новых; наконец-то они смогли считать себя обеспеченными. Джон довольно часто выезжал: то на вручение дипломов в Гарвардском университете, то на политические обеды и бурные празднества в Бостоне по случаю 4 июля. Абигейл приглашала в Писфилд давних друзей. Большинство приезжало, включая кузена Сэмюела и Бетси. Сэмюел вышел в отставку, постарел, занедужил, стал ворчливым. Он выступал против избрания своего кузена на пост президента, но, когда Джон принес присягу, Сэмюел переступил свою гордыню и написал:
«Поздравляю тебя как первого гражданина Соединенных Штатов, — могу добавить: и мира. Остаюсь, мой дорогой сэр, несмотря на то что я иначе записан в партийных документах, твоим давнишним и неизменным другом».Мэрси Уоррен также преодолела свою гордыню и прислала поздравление семье Адамс. Однако ее муж Джеймс отказался подписать Плимутскую резолюцию, выражавшую благодарность президенту Адамсу за его бдительность в «деле Икс, Игрек, Зет». Он был зол на то, что революция не вознаградила его должным образом. В каждом письме Абигейл приглашала Мэрси и Джеймса остановиться у них, когда они едут из Плимута в Бостон. Мэрси предпочитала отвечать письмами и ни разу не посетила дом Адамсов. Позже, в «Истории подъема», «Прогрессе и завершении американской революции», ее давняя подружка отомстила за несправедливость судьбы, опубликовав сенсационное изложение карьеры Джона Адамса. Страна ожидала официального ответа Талейрана трем комиссарам. Несколько раз за неделю из Филадельфии приезжали курьеры. Какую постоянную армию следует иметь теперь, когда перспективы мира с Францией благоприятны? Кто среди жителей шестнадцати штатов наиболее подходит для назначения офицерами армии? Можно ли признать правителя Санто-Доминго, не вызвав осложнения отношений с Голландией, Испанией и Францией? Американскому посланнику в Англии Руфусу Кингу было отправлено письмо с требованием решительно опротестовать продолжающийся захват американских моряков, учитывая договоренность адвоката Адамса в 1769 году по делу Пантона. Что делать с письмами от друзей из Филадельфии, сообщающих ему, что секретари превышают свои полномочия и проводят политику Гамильтона? Джон был уверен в лояльности министра военно-морского флота Бенджамина Стодерта, которого назначил по собственному выбору; он верил Генеральному прокурору Чарлзу Ли и секретарю казначейства Оливеру Уолкотту. Джон признавался Абигейл: — Я уволю в отставку Пикеринга и Макгенри и назначу своих ставленников. Но это нужно сделать в подходящее время. В Филадельфии вновь началась эпидемия желтой лихорадки. Правительство переехало в Трентон в штат Нью-Джерси. Из Трентона в августе пришла депеша от государственного секретаря Пикеринга, сопровождавшая письмо Талейрана, адресованное посланнику Мюррею, в котором давалась гарантия, что Директория «официально примет посланников в соответствии с их полномочиями». Приподнятое настроение Джона длилось недолго. До него дошли известия об изменениях во Франции. Талейран и Директория теряли почву под ногами! Затем 11 сентября поступила депеша от Пикеринга, где утверждалось, что Талейран действительно ушел в отставку: Директория рассыпалась. Через два дня министр военно-морского флота прислал тревожное письмо, обращаясь к президенту Адамсу с просьбой спешно вернуться:
«Опасаюсь, что ловко действующие лица могут воспользоваться вашим отсутствием в то время, когда вопросы, столь важные для восстановления мира, с одной стороны, и сохранения его — с другой переплетаются так, что могут сделать ваше следующее избрание менее почетным, чем оно могло быть в ином случае».Стодерт опасался, что клика Гамильтона помешает комиссарам выехать во Францию. Самое важное, «как мне кажется, чтобы решение поддерживалось всей страниц и было принято вами в окружении чинов правительства и министров, даже если оно идет вразрез с их советами». Джон должен был немедленно выехать в Трентон. Абигейл и Луиза сопровождали его, но задержались на некоторое время в Истчестере. Полковник отбыл во главе полка в главный лагерь в Нью-Джерси. Абигейл встретила Салли у Нэб вместе с ее двумя детьми, они спасались от желтой лихорадки, охватившей Нью-Йорк. — Как обстоят дела у Чарли? — спросила она. — Он сказал, что у него есть клиент и дела, которые он не может оставить. Нэб подала матери письмо от Джона, полученное из Трентона. Когда Абигейл прочитала письмо, ее сердце ушло в пятки. Джон, страстно любивший своих детей, отрекается от своего сына!
«Салли впервые открыла мне правду. Мне было жалко ее, я сожалел, я печалился, но ничего не мог сделать. Сумасшедший, одержимый дьяволом… Я отказываюсь от него. У Давида Авессалома было некоторое самолюбие и некоторая предприимчивость. Мой же не что иное, как отброс, подонок, моя кровь и зверь».Чарли пил. Напиваясь, он играл; играя, проигрывал, давал расписки… Так вел себя ее брат Билли. — О боже мой, неужели Чарли уничтожит себя, как Билли! Абигейл получила письмо от Джонни, в котором он просил мать попытаться вытребовать от Чарли отчет о деньгах, поскольку его письма из Германии остались без ответа. Абигейл ответила Джонни: «Что я могу сказать такого, что не причинило бы тебе боль?.. Бессовестный ребенок в семье больнее укуса змеи…» Абигейл поднялась в свою спальню и, тяжело дыша, не глядя села на кровать. В ней боролись чувства жалости, угрызений совести, вины. — Итак, сумасшедший, одержимый дьяволом, — сказал Джон. — Конечно, должен существовать способ изгнания дьявола? Несколько дней спустя, 25 октября 1799 года, исполнилась тридцать пятая годовщина свадьбы Абигейл. Нэб была такой счастливой, какой ее уже давно не видела мать. Она должна была сопровождать ее в Филадельфию и по пути встретиться с мужем в зимнем лагере в Нью-Джерси. Абигейл испекла превосходный сливовый пудинг и пригласила на вечеринку Сэмюела и Мэри Отис. За столом прозвучало множество тостов в честь юбилярши. Чарли не удосужился проехать двадцать миль и не принял участия в празднествах. В день годовщины Джон написал любящее письмо. Абигейл ответила:
«Прошлым вечером получила твое поздравление с двадцать пятым октября, и мое сердце наполнилось благодарностью за то многое, чем я наслаждалась в течение тридцати пяти лет нашего союза. Я не вижу ни единой тени в светлой картине…»Полковник Уильям держался превосходно. Конгресс выделил средства на новые униформы, но деньги еще не поступили. Уильям совершил бравый поступок, втиснув свою сорокачетырехлетнюю фигуру в мундир, который носил, когда ему было двадцать, и сопроводил жену и тещу через Брунсуик в Нью-Джерси, где их встретил Джон. Президент отдал приказ о выезде трех комиссаров во Францию, несмотря на тамошние волнения. Текущий сезон становился последним для президентских приемов в Филадельфии. Еще девять лет назад был принят акт Конгресса, постановлявший, что в первый понедельник декабря 1800 года правительство должно переехать в Вашингтон-Сити. Филадельфия всемерно старалась использовать в своих интересах пребывание правительства в ее пределах. Общественная жизнь словно прибавила обороты, жены правительственных чиновников, никогда не посещавшие Филадельфию, стремились насладиться изысканностью местной жизни до того, как Конгресс и президент покинут город. На первый прием к Абигейл пришли леди в длинных платьях, увешанные драгоценностями, каких она не видела даже при дворе Сент-Джеймс в Лондоне. Ее возмутила такая демонстрация богатства, к тому же платья были сшиты слишком узкими и пышные формы их обладательниц просто выпирали. Когда Абигейл сменила атласное платье на отвечающее зимней погоде шелковое, это сразу же прибавило работы местным портным. Не хватало одного из филадельфийских идолопоклонников: бывшего владельца президентского особняка Роберта Морриса. Растратив в земельных спекуляциях и других сомнительных инвестициях свое состояние, он оказался в долговой тюрьме. Абигейл помнила Марию Моррис как удивительно красивую женщину, щебечущую, словно птичка, и тянувшуюся к ней. Абигейл посетила скромную обитель миссис Моррис. Мария побледнела, пала духом, но, увидев Абигейл, приободрилась и нарочито улыбалась. — Миссис Моррис, вам предстоит прийти ко мне на чай, — сказала Абигейл и взяла руку Марии. — Превратности судьбы не должны лишать нас друзей. — Госпожа президентша, я не наношу визитов, но не откажу себе в удовольствии прийти к вам. Миссис Моррис отвернулась и не смогла сдержать слез, прежде чем закроется входная дверь. Абигейл била дрожь, когда она шла по улице. Она подумала: «Чарли спас Нэб от страшной беды: быть женой человека, заточенного на долгие годы в тюрьму». К ноябрю стало ясно, что началась кампания по выборам в 1800 году. Об этом говорили в гостиной Абигейл, в Конгрессе, в газетах. 3 декабря Джон обратился к Конгрессу нового состава. Внутри круга близких к нему официальных лиц имело место подлинное предательство. Государственный секретарь Пикеринг, долгие годы выступавший как соперник, занял непримиримую позицию, навязывая своему департаменту политический курс без консультации с президентом и стараясь сорвать посланную во Францию миссию. Смерть Джорджа Вашингтона 14 декабря от простуды (он подхватил ее, объезжая свою плантацию во время снежной бури и града) мгновенно сплотила нацию. Страна погрузилась в траур: колокола глухо звонили целыми днями, по улицам двигались процессии граждан с траурными повязками на руках. Зал Конгресса был задрапирован траурными лентами. С амвонов церквей читались молитвы, в газетах помещались статьи, восхвалявшие генерала, так долго и хорошо служившего стране. Джон Адамс был его наследником, но никто не мог заменить Джорджа Вашингтона. 27 декабря 1799 года приемная Абигейл была как никогда переполнена посетителями, все в трауре. — Горе не лишает леди выдумки в украшении даже белых платьев, — заметила Джону Абигейл. Действительно, женщины прицепили эполеты из черного шелка с оборками, надели креповые шляпки с черными перьями или цветами, натянули черные перчатки, или же держали в руках черные веера, или же набрасывали на плечо наподобие военных узкую черную ленту, завязанную на одной стороне. Абигейл устроила обед для конгрессменов из Нью-Хэмпшира, Массачусетса и Коннектикута и для их жен. Через несколько дней она пригласила судей Верховного суда с женами, а также находившихся в городе выездных судей. Она не обманывалась: такие приемы важны для благоденствия Союза и предстоящих выборов. Джон уже втянулся в избирательную кампанию. Республиканец Джон Рандолф написал президенту грубое письмо, утверждая, будто его оскорбили два офицера армии, будто армия пытается запугать законодательные органы. Джон оценил это письмо как чисто политическую записку. Затем моряк по имени Джонатан Роббинс, иначе Томас Нэш, был арестован в Южной Каролине по обвинению в убийстве на британском военном корабле. Он утверждал, что является гражданином Дэнбери, штат Коннектикут, Дэнбери отрицал это. Судья Южной Каролины отказался выдать Нэша. Дело было передано президенту Адамсу. Джон приказал передать заключенного на основании договора Джея. Республиканцы подняли крик: «Капитуляция перед британцами!» Джон довольно спокойно прокомментировал: — Чистейшее политиканство. Отныне все, что я съем за завтраком, становится вопросом большой политики. Нью-Йорк готовился к выборам своего законодательного собрания. Если победят федералисты, они отберут выборщиков в пользу Джона Адамса. — А если выиграют республиканцы? — беспокоилась Абигейл. — Ведь сообщают, что Аарон Бэрр ведет блестящую кампанию против Гамильтона и федералистов. Тень набежала на глаза Джона. — Можем ли мы, потеряв Нью-Йорк, выиграть? Да. Но с трудом.
9
Нэб и ее дочурка Каролина спали в гардеробной Абигейл и в ее кабинете. 20 февраля 1800 года президент Адамс подписал акт Конгресса о прекращении дальнейшего набора в армию. Абигейл не сказала Нэб, что Конгресс намерен через месяц или два распустить армию и президент Адамс подпишет такой билль. Полковник вновь окажется безработным. Абигейл позировала писавшему ее портрет Джилберту Стюарту. Катерина Джонсон, мать жены Джонни, посетила семью Адамс на правах гостя дома. Томми жил с родителями, но избегал принимать клиентов и дела, которые могли быть так или иначе связаны с тем, что он — сын президента. Однажды он пригласил на обед двадцать восемь незамужних леди и джентльменов. До того, как Абигейл поднялась из-за стола, он подошел к ней и прошептал: — Не возражаешь, если я сегодня вечером потанцую? — Никоим образом, Томми, если все будет непринужденно. Компания поднялась вверх в гостиную, где подавали чай, и тем временем столы были разобраны и убраны. Танцы начались в восемь часов, и молодежь танцевала до полуночи. На часок зашел Джон, Абигейл оставалась в роли домашней надзирательницы. Томми взял ее за руку и повел наверх по ступенькам лестницы. — Ты была такой доброй, мама. Между прочим, как тебе понравилась мисс М.? — У нее любезные и приятные манеры. Однако я не могу не сожалеть, что ее бюст был открыт там, где его следовало бы прикрыть. Я хотела бы, чтобы она открывала меньше для глаз и больше для воображения. — Ей нет и семнадцати, мама, а в Филадельфии модно показывать свои достоинства. Абигейл взглянула на сына. Он повзрослел. Конгресс принял решение собраться в Вашингтон-Сити в третий понедельник ноября 1800 года на свою следующую сессию. Архитекторы, а затем рабочие вели строительство почти десять лет. Джон не хотел, чтобы правительство переезжало в Вашингтон-Сити, в место, которое стало именоваться округом Колумбия, ведь это было так далеко от Куинси. Ныне же он жадно ждал перемен. — В определенном смысле мы станем полноценной нацией, — заявил он, — с постоянным центром и местопребыванием правительства. Он возник в пустоши. Горжусь тем, что буду первым президентом, правящим отсюда. Это вселит в меня бодрость духа, поскольку мне будет предоставлена возможность оставить здесь память о себе. Конгресс принял закон о выделении пятнадцати тысяч долларов для оборудования дома президента в Вашингтоне. Джон с удовольствием подписал этот билль. — Нам потребуется вся прижимистость, свойственная жителям Новой Англии, чтобы эта сумма оправдала ожидания, — заметила Абигейл. — На переустройство дома в Филадельфии нам выделили четырнадцать тысяч долларов. Особняк президента в Вашингтоне в четыре раза больше. — Я измерю его, когда в следующем месяце съезжу туда. Как я понимаю, закончено строительство лишь нескольких комнат. Потребуется еще год для завершения работ. Конгресс будет на месте и будет знать, что еще нужно. — Будем ли мы там, чтобы знать, что еще нужно? — спросила Абигейл. Джон поморщился, словно его укусил комар. — Кто знает. Абигейл вернулась к житейским вопросам: — Всю эту мебель следует упаковать и отправить в Вашингтон-Сити. Одним словом, избавиться от нее. Быть может, мне удастся закончить ремонт большого кабинета к твоему возвращению. Кузен Коттон говорит, что работа там буквально кипит. Я только что отправила мраморные доски камина. Абигейл провела последний прием в Филадельфии для двухсот гостей — друзей и сотрудников правительства. В сенате собрались конгрессмены-федералисты и приняли решение, что их партию возглавят на президентских выборах Джон Адамс и Чарлз Котсуорт Пинкни. В Нью-Йорке Гамильтон, стремившийся удержать штат за федералистами, проиграл Бэрру. Он утверждал, что поддерживает Адамса и Пинкни, клялся, что партия федералистов выступит как единая сила. Выдвижение Пинкни привлечет голоса южных штатов, особенно его родной Южной Каролины. Сведения о ходе избирательной кампании были хорошими: в мае федералисты сошлись на том, что Джон нанесет поражение Джефферсону семьюдесятью голосами против шестидесяти шести. В июне вероятность стала даже выше: за Адамса намеревались голосовать семьдесят девять выборщиков против пятидесяти девяти за Джефферсона. Абигейл была близка к отъезду с такой обнадеживающей новостью. Скандал был связан с именем министра обороны Макгенри. Джон выбрал момент, чтобы дать выход наболевшему. Он признался ей, что с политической точки зрения было бы разумнее не увольнять Макгенри и Пикеринга. Когда вопрос о выборах будет решен, он попросит их выйти в отставку. Джон, казалось, спокойно принял поражение Гамильтона и федералистов в Нью-Йорке. В действительности же у него все кипело внутри. Он вызвал Макгенри в кабинет, обвинил его, что тот выступает против администрации и подрывает ее усилия, ставит под удар шансы переизбрания; Джон угрожал, что не позволит Макгенри оставаться на своем посту после выборов, а затем обратил свой гнев против Гамильтона, упрекая его за многолетние интриги, двуличие и предательство. Джон кричал: — Он интриган, величайший в мире интриган. Это человек, лишенный каких-либо моральных принципов, негодяй и чужак! Макгенри тут же подал в отставку. Через несколько дней Джон потребовал, чтобы секретарь Пикеринг также покинул свой пост. Пикеринг отказался, и Джон его уволил. Через два дня Александр Гамильтон не только прослышал в Нью-Йорке об увольнениях своих ставленников, но и узнал, как клеймил его Джон. Было ясно, что последует ответный удар. По пути в Нью-Йорк Абигейл остановилась в лагере у Скотч-Плейнса. Полковник был вне себя в связи с решением распустить армию. Нэб возмущалась. Отряды под началом ее мужа были хорошо обучены. Он проделал прекрасную работу. Теперь же потерял ее. Генерал Гамильтон находился в лагере. Он условился с Абигейл позавтракать вместе на следующее утро. Абигейл нашла Гамильтона очаровательным, любезным и вместе с тем уклончивым. Она взяла с собой в Куинси старшую дочь Чарли Сюзанну и завезла Каролину к матери полковника Смита. Увидев осунувшееся лицо Нэб, которая горевала, что ее третий ребенок будет жить отдельно от нее, а у нее самой нет постоянного дома, Абигейл нежно сказала: — У каждой души — свои горести. Увольнение Джоном Адамсом двух секретарей (впрочем, Джон Маршалл был подтвержден на посту государственного секретаря и его участие в правительстве укрепляло позиции Джона), отчужденность Нэб и полковника, лишившегося работы и доходов, напряженная обстановка в доме Чарли — все это сделало тревожной ее поездку домой. Она беспокоилась за будущее своих детей, и в какой-то момент ее пронзила мысль, что неблагополучие касается ее самой и Джона Адамса.Абигейл радовалась, что Джон помиловал Джона Фрайза и двух других участников пенсильванского мятежа, осужденных на казнь через повешение. Этот акт милосердия ослаблял напряженность, вызванную процессами, состоявшимися на основании постановления, каравшего за призывы к бунтам. Постановление прошло проверку в мае и июне 1800 года. Первым подвергся судебному преследованию издатель «Нортумберленд газетт» Томас Купер, опубликовавший материал, в котором утверждалось, будто президент Джон Адамс — жаждущий власти деспот, разрушитель прав человека, становящийся все более опасным врагом республики. Вскоре после этого высланный из Великобритании шотландец Джеймс Каллендер написал памфлет «Перспектива, открывающаяся перед нами», где утверждалось, что администрация Адамса — «непрерывный ураган злобных страстей… основная цель его администрации… оклеветать и уничтожить каждого, придерживающегося иных мнений». Каллендер назвал президента «отвратительным педантом, вульгарным лицемером, беспринципным угнетателем… одним из вопиющих дураков на континенте». Купер и Каллендер были признаны судом присяжных виновными в уголовном преступлении, оштрафованы и посажены в тюрьму. В Куинси завершилась перестройка библиотеки-кабинета. Абигейл постелила на пол живописный ковер, поставила мягкое кресло с высокой спинкой в угол около камина, переместила тяжелый секретер с ящичками для бумаг и в качестве специального подарка купила Джону красивый новый письменный стол и удобное кожаное кресло, поставив его в центре кабинета. Когда Джон приехал в начале июля домой вместе с Нэб и Каролиной, он был в восторге от перестановки. — Это настоящий кабинет ученого! — воскликнул он. — Я смогу провести остаток своей жизни здесь, работая над книгами по истории. — Хорошо. Возможно, тебе придется делать именно это. — Понимаю. Но опросы идут довольно хорошо; наши шансы растут. Газеты напечатали весьма странную историю: президент Адамс уволил Пикеринга и Макгенри, сговорившись с Томасом Джефферсоном. Джона Адамса переизберут на пост президента в 1800 году, а в 1804 году он снимет свою кандидатуру в пользу Джефферсона. Все это звучало для Абигейл маловероятным, но разве из всех человеческих занятий политика не является самой сомнительной? Ей хотелось услышать новости о Вашингтон-Сити. Джон задавался вопросом, насколько разумно рассказать ей, ибо ему показалось, что особняк да и весь город абсолютно не готовы к заселению. Он искоса взглянул на жену. — Особняк президента будет… пригодным для жилья. У сената и палаты представителей будут помещения для заседаний. В город доставляются департаментские досье и документы, департаменты займут раздельные здания. — Ты говоришь об этом без энтузиазма. — Трудности оказались большими, чем я ожидал, — сказал он с кривой усмешкой. И сразу же сообщил, что назначил полковника Смита надзирателем и инспектором порта Нью-Йорка. Полковник Уильям уже приступил к работе, хотя и потребуется подтверждение сената, когда тот соберется зимой. Страна все глубже погружалась в предвыборную лихорадку. Политические деятели Массачусетса непрерывно заседали. Повсюду шла агитация, с импровизированных трибун лился поток речей; печатались и раздавались памфлеты, газеты пестрели страстными выпадами против Джефферсона и Бэрра, с одной стороны, против Адамса и Пинкни — с другой. Невозможно было обойти Александра Гамильтона. Он написал Джону, назвавшему его членом «Британской фракции страны», требуя объяснений по поводу этого. Джон не счел нужным отвечать. Друзья и советники уговаривали выборщиков в шестнадцати штатах, и наступило такое равновесие, что Джон мог победить на выборах лишь чудом. Александр Гамильтон не собирался допустить такого развития событий. При содействии своих сторонников он разложил по косточкам политическую карьеру Джона Адамса с первых дней революции и написал пространное, уничтожающее письмо, направленное на то, чтобы обеспечить голосование в пользу Пинкни и таким образом устранить кандидатуру Адамса. Письмо, предназначавшееся, по его утверждению, только для федералистов, вскоре попало в руки Аарона Бэрра, который с удовольствием передал выдержки из него в республиканские газеты:
«Не отрицая патриотизма и честности мистера Адамса и даже его некоторых особых талантов, я не был бы искренен, если бы скрыл свое убеждение, что он лишен талантов, необходимых для управления правительством, и что в его характере множество изъянов, которые делают его непригодным для должности главного исполнительного лица».Вслед за этим Гамильтон опубликовал свое письмо в виде книги, имея в виду распространить ее в конце октября и в начале ноября, когда предстоит назначить выборщиков. Джон стал готовиться к возвращению в Вашингтон-Сити. Абигейл мечтала поехать туда, хотя и понимала, судя по собранной информации, что столкнется с трудностями, присущими строящимся городам. Джон решил ехать впереди и проследовать верхом по самой короткой дороге через драматически изменившуюся страну, которая составляла часть его жизни во времена участия в выездных сессиях суда. Абигейл последует за ним в карете, остановится в Нью-Йорке, там встретится с Чарли, а в Филадельфии возьмет Томми и вместе с ним совершит пятидневную поездку в Вашингтон. Она нашла Чарли в пансионе, расположенном на берегу океана. Нэб провела ее в комнату. Салли жила в доме матери. Чарли уже неделю был прикован к постели. Его кожа имела желтоватый цвет, под ней проступало множество набухших кровеносных сосудов. Он метался в лихорадке, сильно потел, кашлял кровью. Когда они попытались обмыть его, он стал раздраженно кричать. Приехал врач, мужчина с короткой шеей, небольшим личиком и непропорционально большой головой. Он не проявлял интереса к Чарли, видимо, тот изрядно надоел ему. Когда Абигейл поинтересовалась, чем болен сын, врач ответил, пожав плечами: — Водянка в груди. Поражение печени. — А не чахотка ли это? Она случалась в нашей семье по линии Куинси. — Возможно, и она. — Что мы можем сделать? Мы не можем просто стоять и смотреть, как умирает молодой человек. — Приходится, миссис Адамс. Такова моя ужасная профессия. Врач сморщил свое лицо, пробормотал, что ему следовало бы быть морским капитаном, поскольку суда добровольно себя не уничтожают, эта привилегия отдана человеку. Чарли закашлялся, харкнув кровью на пол. Нэб накрыла рвоту грязным полотенцем. Абигейл вытащила из сумочки носовой платок, намочила его и обтерла изможденное лицо Чарли. Она воскликнула: — Нэб, мы должны что-то сделать, чтобы спасти его! — Согласна с тобой, мама. Но здесь речь идет о воле. Чарли хочет умереть. — Вот деньги. Возьми карету. Купи постельное белье, новые ночные рубашки. — Я принесу это из своего дома. Он в нескольких минутах ходьбы. Абигейл подвинула стул к изголовью кровати Чарли. — Сын, послушай меня. Я останусь рядом с тобой, пока ты не почувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы тронуться в путь. После этого я заберу тебя и Салли в Вашингтон. Ты будешь жить у нас до поправки. Чарли поднял веки. — Что ты будешь делать с горьким пьяницей в новом особняке президента? — Ты можешь помочь отцу, ему нужны люди, которым он доверяет. — Мой отец отказался от меня. — Он не имел это в виду. Он любит тебя. — Со мной все кончено, я пропащий человек. — Грех лишать себя жизни, Чарли. Последний час определяет Бог. Ты воюешь против Его воли. Разве ты не боишься наказания? — Я пережил свой ад на земле. После всего этого будет лишь мирное забвение. Я заслужил его. — Но почему, Чарли? — Я отравил жизнь людей, которых любил сильнее всех, твою и Салли, Нэб и Джонни. — Если ты любишь нас, то почему причиняешь нам такую боль? Ты скрашивал нам жизнь. Он протянул руку, коснулся ее руки. — Ты должна поехать в новый Вашингтон-Сити. Ты должна открыть президентский дом, помочь отцу принимать иностранных дипломатов на официальных обедах. У тебя есть работа. — А ты, Чарли? Разве у тебя нет работы? Поддерживать своих детей, быть им отцом! Избавить нас от бессмысленной трагедии. Чарли устало закрыл глаза. — Должна быть какая-то цель в этом. Абигейл подумала о своей второй дочери, о крошке, которая жила так недолго; какая-то ее часть ушла в небытие вместе с Сюзанной; но тогда речь шла о ребенке, не имевшем шанса испытать жизнь. Теперь же внутри нее умерла та часть жизни, какую составлял Чарли. В дверях показалась Нэб. За ней стоял кучер Абигейл и коренастый рабочий из дока. — Я забираю Чарли с собой, мама. Я буду за ним ухаживать. Джентльмены, будьте добры взять моего брата и снести вниз в карету.
10
Группа, включавшая Луизу и дочь Чарли Сюзан, задержалась на день в Филадельфии, чтобы дать отдохнуть лошадям перед стопятидесятимильным перегоном до Вашингтон-Сити. У Томми было письмо Джона, адресованное Абигейл. Он благополучно доехал, поселился в доме президента и с нетерпением ожидал ее приезда. С глубоким чувством он писал:«Молю небеса одарить этот дом и всех, кто будет жить в нем, самыми наилучшими благословениями. Да пусть лишь честные и мудрые люди живут под его крышей».Они выехали из Филадельфии рано утром. С наступлением зимы дороги оказались в плачевном состоянии. За день им удавалось проехать не более тридцати миль. Четыре дня их бросало в карете от стенки к стенке. Томми занимался поиском помещений, еды, укрытием лошадей в конюшнях. Когда они достигли Балтиморы, на постоялый двор пришел давнишний друг судья Чейз с письмом, содержавшим приглашение майора Томаса Сноудена, владевшего комфортабельной плантацией в двадцати одной миле от Вашингтона. — Спасибо, судья Чейз, но завтра мы доберемся до Вашингтон-Сити, — сказала Абигейл. — Пожалуйста, не пытайтесь, миссис Адамс. Это долгая поездка в тридцать шесть миль до постоялого двора, и дорога здесь наиболее разбитая. Вы не доберетесь до наступления темноты. Лучше всего остановиться у майора Сноудена. Его гостеприимство является гордостью новой страны. От Балтиморы местность, по которой они проезжали, была поистине глухоманью, дорога не была толком проложена. Встречались лишь отдельные глинобитные домики, перед которыми играли негритята. В темных рощах дорога переходила в едва заметные тропы. Навстречу не попадалось ни души. Томми шел впереди кареты, сгибая и обламывая сучья, свисавшие над тропой. — Ма, боюсь, что мы сбились с пути. Навстречу попался негр с лошадью и повозкой. Он предложил свои услуги вывести их на почтовую дорогу. Они потеряли два часа. Вскоре показался постоялый двор, где они задержались на спешно собранный обед. Абигейл направила курьера, чтобы попросить Джона выехать навстречу с экипажем и сменой лошадей. И вот они заметили едущую навстречу повозку. Абигейл огорчилась, узнав, что среди возчиков нет Джона. Он написал ей, что находится на заседании кабинета и с нетерпением ожидает ее приезда. Лошади были перепряжены, и они двинулись вперед с такой скоростью, какую позволяла дорога. Тем не менее предстояло преодолеть еще тридцать миль до места назначения. Опускались ранние ноябрьские сумерки, когда они подъехали к воротам плантации Сноудена. Томми приказал остановить карету. — Мама, я настаиваю, чтобы мы переночевали здесь. Я не хочу ехать в темноте по этой разбитой колее. Карета может опрокинуться. — Томми, я не могу навязать такое большое количество людей майору Сноудену. Это неприлично. Мы должны ехать дальше. Майор Сноуден ждал их перед своим домом. Услышав шум кавалькады на дороге, он вскочил на коня и помчался навстречу. В ответ на протест, что она не может посадить на его шею девять человек, он добродушно заметил: — Мы можем позаботиться о вдвое большем количестве, миссис Адамс. Не откажите миссис Сноуден и мне в привилегии принять вас. Они были приняты миссис Сноуден, ее двумя миловидными дочками и сыном, который обедал в доме Адамсов в Филадельфии. Английская по происхождению семья Сноуден жила в добротном доме, умела принимать без церемоний. Абигейл и Томми поужинали вместе с семьей перед ярко горевшим камином, затем крепко уснули, впервые со времени своего выезда из Филадельфии. На следующий день ранним утром они снова были в пути. Пробило час дня, когда они прибыли в Вашингтон-Сити, подъехали к особняку президента — большому зданию из песчаника, сверкающему белизной под бледными лучами зимнего солнца. Площадка вокруг особняка не была окончена, не было забора, не засеяны лужайки, не разбит сад, не проложены дорожки. Абигейл видела хижины рабочих и заброшенные печи для обжига кирпича. Курьер заранее доставил известие о том, что они подъезжают. Из окна кареты Абигейл увидела Джона, стоявшего на деревянной лестнице перед домом, за ним толпились ее племянники Билли Кранч и Билли Шоу, а еще дальше Брислер, Бетси Хауард, и Беки — две девушки, ранее посланные ею, Шипли и Ричард — работники, с которыми она подписала контракт в Куинси. Старый закон, гласивший, что к первому понедельнику декабря 1800 года местопребывание правительства Соединенных Штатов должно быть перенесено в район на реке Потомак, очевидно, не принимался всерьез. Тем не менее их встреча была счастливой. Джон взял Абигейл за одну руку, Томми за другую, и они провели ее торжественным шагом через парадную дверь, при этом президент прошептал: — Миссис Абигейл Смит Адамс, я приветствую вас в новом особняке президента. Она хихикнула слегка охрипшим голосом. Затем быстро огляделась, с трудом подавив вздох огорчения. Фойе не было отделано, главная лестница не возведена и не будет готова в эту зиму. Лишь четыре комнаты имели комфортабельный вид: временный кабинет Джона, примыкающий офис Уильяма Шоу, его секретаря, общая гостиная и комната приемов. Остальная часть первого этажа не была даже оштукатурена. Заметив разочарование на лице Абигейл, Джон спокойно сказал: — Не думаю, чтобы много использовали первый этаж, хотя строители говорят, что он будет оштукатурен и отделан, правда без покраски, в течение трех месяцев, если позволит погода. Но ты увидишь, что наверху гораздо уютнее. Отделка Овального кабинета закончена, и ты можешь там принимать гостей. У нас две спальни, маленькая для Сюзан, где даже покрашены стены. Джон был прав: верхние помещения выглядели великолепно. Из Филадельфии привезли обтянутые дамастом стулья и диваны, и они были расставлены в Овальном кабинете. На окнах не было гардин; они были слишком высокие, чтобы воспользоваться старыми из Филадельфии. Некоторые предметы мебели, оставшиеся от администрации Вашингтона, были упакованы в ящики и доставлены сюда, хотя Абигейл не считала их ценными. Теперь она была рада дополнительной мебели. На полах лежали ковры, также привезенные из филадельфийского дома. Из окон открывался превосходный вид на Потомак, по которому сновали барки, связывавшие Вашингтон с Александрией. Объявили о приходе миссис Джонсон, тещи Джонни. Она жила по соседству и пришла навестить Абигейл. Они пили чай в общей гостиной, которую постарался просушить Брислер, топя камины в течение нескольких дней, и оживленно беседовали о проблемах жизни в наполовину отстроенном дворце, когда в дверях появилась Бетси Хауард и спросила, может ли она поговорить с миссис Адамс по личному вопросу. Абигейл вышла вместе с ней в фойе. — Миссис Адамс, у меня проблема. Мы должны выкупаться, нам не хватает полотенец, простыней и предметов личного туалета. Отжимной пресс, что вы заказали, еще не доставлен, мы стираем в тазах на кухне, и сейчас выстиранное белье киснет в корзинах, поскольку нет места, где его можно повесить. Нет ни жердей, ни бельевых веревок. Абигейл подошла ко входу в Восточную комнату, повернулась к Бетси с озорной улыбкой и сказала: — Уверена, что эта комната не проектировалась для такой цели, она станет одной из самых красивых комнат Америки после ее отделки, но сейчас, Бетси, я полагаю, что это ваша сушилка. — Мэм, по-вашему, мы можем развесить здесь белье? — Конечно. Если найдете веревки. Абигейл прошла в угол комнаты, там был вбит в стену гвоздь. — Бетси, позови молодого мистера Адамса, мистера Шоу и мистера Кранча. Нам нужна их помощь. Томми и его два кузена отыскали в подвале набор инструментов, принесли молоток, гвозди и длинный шест, чтобы подпереть середину бельевой веревки. Билли Кранч привязал один конец веревки к гвоздю в восточном углу комнаты, в то время как Томми поддерживал веревку шестом, а Билли Шоу забил гвоздь в западный угол комнаты и натянул веревку. Беки и Бетси принялись доставать белье из плетеных корзин, сильно встряхивая, распрямляя его, и вешали на веревку — простыни, наволочки, полотенца, а посреди веревки, около шеста, нижнее белье, рубашки и носки. Воздух в комнате был холодным и сырым. Брислер вместе с Ширли и Ричардом принесли вязанки дров и растопили камин. Когда от него повеяло теплом, все собравшиеся встали спиной к огню, рассматривая с восхищением, вероятно, самую длинную бельевую веревку, когда-либо натянутую в американском доме. Послышался смех. Абигейл повернулась и увидела Джона и миссис Джонсон в дверях. Джон покачал головой, не веря глазам своим. — Первая гражданка Рима, повесившая семейное белье в свой первый день в особняке президента в Восточной комнате, где должны принимать иностранных послов. Миссис Джонсон вызвалась навестить их на следующий день и помочь найти лучшее место для сушки белья на воздухе. Им было тепло в просторной кровати, привезенной из Филадельфии. Находиться в новом доме — волнующее и приятное переживание. Они долго обсуждали свои ощущения. Уильям Шоу умудрился принести наверх изрядный запас дров, которые Джон то и дело подбрасывал в камин. Он сказал ей: — Ты не должна думать, что незавершенные работы здесь или все неполадки произошли по вине строителей. Дело в том, что Конгресс отказался выделить средства для оплаты долгов. Однако предполагается, что завтра они соберутся на свою регулярную сессию. Они своими глазами видели полузаконченный Капитолий. Приехавшие уверяли меня, что будут предоставлены щедрые фонды. На следующее утро Абигейл провезли по городу. Он был построен на болотах в излучине Потомака, в привлекательном месте, но пораженном лихорадкой и малярией. Первоначальные планы Л'Анфана и комиссаров, ответственных за строительство, предусматривали широкие, обрамленные деревьями авеню длиной около мили, соединяющие дом президента с Капитолием, где должны проходить заседания двух палат Конгресса. Однако Пенсильвания-авеню, как ее обозначали на бумаге, представляла собой болото, поросшее зарослями ольхи. Топь пытались замостить сколами с обтесывавшихся камней Капитолия, но в сухую погоду острые осколки резали подошвы ботинок, а в сырую — обувь покрывалась белым налетом. Абигейл осмотрела полдюжины домов, таверн и контор. Почта располагалась в трехэтажном здании на северо-восточном углу Девятой и Е-стрит, сданном в аренду доктором Джоном Крокером. Самое большое здание, объяснил Джон, заняло казначейство; в нем работает шестьдесят один человек; мебель и документы доставили из Филадельфии по Потомаку на парусных барках. Государственный департамент размещался в одном из шести зданий на Пенсильвания-авеню. Напротив него стояло трехэтажное здание, арендованное у Джозефа Ходжсона и предоставленное Военному департаменту с его восемнадцатью служащими. В городе проложили пока всего одну дорогу — Нью-Джерси-авеню, по обе стороны которой стояло по одному дому. В центральной части города высились два комфортабельных дома, один принадлежал Дэниелу Карроллу, а другой — Нотли Янгу. Многие дельцы втянулись в спекуляции земельными участками. Личный секретарь президента Вашингтона Тобиас Лир вырос в ведущего торговца, Роберт Брент заложил каменоломню у Акис в Виргинии, поставлявшую каменные блоки для Капитолия. Уже выходила газета «Нэшнл интеллидженсер», редактировавшаяся Сэмюелом Гаррисоном Смитом, поселившимся в городе. Здесь работали три архитектора: доктор Уильям Торнтон, разработавший проект Капитолия и зданияОктган на пересечении Нью-Йорк-авеню и Восемнадцатой улицы; Джордж Хэтфилд и Джеймс Хобан, составившие проект особняка президента. В городе приступили к работе несколько адвокатов, врачей и пасторов, проводились службы в церквушке, которую последователи епископальной веры купили по дешевке: это небольшое каркасное строение у подножия Капитолийского холма в прошлом было табачной лавкой. Было возведено северное крыло Капитолия, выложен фундамент для центральной купольной части. Капитолий, как узнала Абигейл, задуман по образцу дворцов итальянского Возрождения, а дом президента во многом скопирован с ирландского дворца. — Знает ли кто-либо, почему взяты итальянские и ирландские образцы? — спросила Абигейл у своих мужчин. — Никто не знает. Все наши планы поломались, когда Л'Анфан поссорился с правительственными комиссарами и они оставили свои посты. В результате мы имеем два каменных дома в неряшливом пограничном городке, расположенном на пустоши. — Джон мечтательно добавил: — Если у меня будет еще четыре года, мне хотелось бы сделать кое-что для города. Не Версаль или Париж, как нам обещали, но, возможно, самый красивый город в Америке. — Если будут еще четыре года, тогда я смогу превратить недостроенный дом президента в один из лучших особняков в стране. Главный исполнитель, кем бы он ни был, заслуживает такого дома. В нем нуждается страна. На национальный дом следует смотреть с гордостью, он должен выситься как символ величия страны. И, Джон, — тихо добавила она, — только такое справедливо и отвечает цели. Мы помогли создать прочное государство. Почему мы не могли бы помочь создать величественную столицу? Абигейл сняла с левой руки перчатку и взяла Джона за руку. Рука Джона была холодной, она согрела ее.
11
Абигейл проехала одну милю в Джорджтаун. В хороший поселок вела отвратительная дорога. В Джорджтауне можно было купить овощи, немного яиц и молока, но фруктов не было нигде ближе, чем в Балтиморе и Норфолке. Сверх самого необходимого она должна была дожидаться прибытия судна, на которое Коттон Тафтс погрузил для нее одежду, ящики с фруктами, скромный запас вин и сидра, дополнительные одеяла. Она отыскала человека в Джермантауне, владевшего угольной и дровяной лавкой, и попыталась договориться о постоянном снабжении топливом. Он предложил ей ограниченное количество дров, по цене девять долларов за вязанку, что было безумно дорого, учитывая число каминов в особняке. Но даже за такую цену поставщик с трудом находил лесорубов, готовых отправиться в лес за дровами. Когда Абигейл вернулась домой, ее поджидала в прихожей у кабинета Джона миссис Джонсон. — Миссис Адамс, я понимаю ваши трудности, но должна сказать вам, что леди по соседству с нетерпением ждали вашего приезда. Они так нуждаются в обществе. Как вы видите, по эту сторону от Балтиморы нет ничего. Мне поручили спросить вас, начнете ли вы устраивать приемы. Если вы позволите, я дам обед и бал в вашу честь в нашем доме. Здесь есть полдюжины других леди, которые хотели бы видеть у себя вас и президента. Я должна сказать вам, что они не могут поступить таким образом по протоколу, пока вы не откроете для них особняк и не примите их как гостей. Абигейл почувствовала себя озадаченной. — Где я их помещу? В конце концов я не могу развесить их на веревочку, как сырое белье в Восточной комнате. Но вы правы, я разошлю свои карточки. Хотя леди из Джорджтауна посещали ее и она сама нанесла пятнадцать ответных визитов, иногда оставляя свою визитную карточку, особняк президента был мало пригоден для приема гостей, к тому же в течение всей недели в нем толпились рабочие, так что Абигейл решилась пригласить лишь одну-две пары гостей на воскресный обед после церковной службы в палате представителей Капитолия. Она получила от Марты Вашингтон приглашение посетить Маунт-Вернон. Внучка миссис Вашингтон приехала на чай, приезжали также миссис Бенджамин Стодерт, миссис Гаррисон Смит, миссис Уильям Торнтон. Наступило время ожидания, последний отрезок перед решающим часом. Политика превращалась в игру «орел или решка». Президентские выборы могли принять неожиданный оборот. Строились всевозможные догадки. Александр Гамильтон уничтожил себя как политика своей полемикой и, весьма вероятно, той же полемикой уничтожил федералистскую партию. Будет ли Джон Адамс переизбран президентом, или же «анти», как называла их Абигейл, добьются избрания Томаса Джефферсона? За Джоном Адамсом твердо стояла Новая Англия, за Джефферсоном — Юг, за исключением Южной Каролины, поддерживавшей Пинкни. Джон потерял Нью-Йорк, но на его сторону перешли Нью-Джерси и Делавэр. По всем подсчетам Пенсильвания и Мэриленд разделятся поровну. Если голоса восьми выборщиков от Южной Каролины перейдут к Пинкни и Адамсу, Джон Адамс завоюет пост президента одним-двумя голосами выборщиков. В начале декабря, после того, как сенаторы-федералисты от Пенсильвании достигли компромисса, который обеспечил Джону Адамсу семь голосов выборщиков штата, редактор «Юнайтед Стейтс газетт» писал: «Они спасли разваливающийся мир». Из Бостона пришло известие, что газета «Колумбиен сентинел» сообщила: «вне всякого сомнения» будут выбраны Адамс и Пинкни. — Не будем говорить об этом, — сказал Джон. — Скоро станут известны все голоса. Мы не можем их изменить или прибавить к ним. У меня достаточно дел, чтобы обеспечить нормальный переезд департаментов в Вашингтон. Абигейл прочла про себя молитву: «Если мы выиграем, у нее будет еще четыре года для завершения работы. Я оборудую этот дом, высажу розы, поставлю ограду. Если мы проиграем, то примем участие в упорядоченной передаче власти и уедем в Писфилд. Господь Бог, даруй доброе высвобождение». Томми уехал в Филадельфию продолжить свою адвокатскую практику. Он неожиданно возвратился, его глаза слипались от бессонницы. Абигейл и Томми позвали Джона, и трое Адамсов закрылись в спальне. — Мама, отец, речь идет о Чарли. Я не мог позволить, чтобы вы услышали новость от кого-либо другого. Он умер. Я прибыл в Нью-Йорк в момент, когда он мог лишь попрощаться. Он послал вам свои слова при смерти. — Да, сын… — сказал явно потрясенный Джон. — Он просил простить его. Просил вас помолиться за его бессмертную душу. Он сказал, что у него не было желания причинять вам боль… Горе потрясло Абигейл. Джон подошел к окну и смотрел, ничего не видя, на пустынную землю к реку внизу. Не поворачиваясь, он произнес: — Ты организовал ему надлежащие похороны? — Я тут же принял меры. Он уже похоронен. Джон, стоя у окна, сказал хриплым голосом: — Сын, который некогда умилял меня и был мне дорог, подрезал себя в расцвете жизни… в силу причин, доставивших глубочайшее горе моему сердцу и величайшее бедствие моей жизни… Джон выразил свое горе словами. Этого не могла сделать Абигейл. Смерть сына опустошила ее рассудок. Позже, ночью, когда пришел Томми пожелать ей доброй ночи, она спросила: — У него хорошая могила, Томми? — Да, мама. Я отвезу тебя туда, когда ты поедешь домой. — Может быть, мы сможем взять домой и Чарли. Он не должен лежать среди чужих, в чужой земле. Он должен быть похоронен в Куинси рядом с родными.12 декабря 1800 года «Нэшнл интеллидженсер» сообщил, что Южная Каролина отвергла своего собственного сына Чарлза Котсуорта Пинкни и отдала восемь голосов своих выборщиков Джефферсону и Бэрру. Эти голоса меняли картину. Джон Адамс шел значительно впереди своей партии, которая сумела набрать лишь сорок одного представителя против шестидесяти пяти представителей республиканцев; но час поражения для федералистов наступил. Народ отверг Джона Адамса, не дал ему второго срока. В то время как они читали сообщения о похоронном политическом звоне для президента Адамса, приехал губернатор Северной Каролины Дейви, один из комиссаров, выехавших во Францию, с договором о мире и дружбе. Однако было уже поздно. Джон и его супруга пошли в Овальный кабинет, где Абигейл представила первое общество Вашингтон-Сити. Против окна, выходившего на юго-восток, стоял обтянутый красным дамастом диван и два стула того же цвета из Филадельфии. Отсюда они могли видеть Капитолий и ручей Тибер, впадавший в Потомак. Это было самое уютное место в доме. Никто, кроме Брислера, отвечавшего за камины, не заходил сюда без приглашения. Они сели рядом на красный диван, подавленные, но полные решимости, что, излив друг другу душу, не допустят, чтобы внешний мир заметил их разочарование. Абигейл повернулась лицом к мужу, увидев, насколько он побледнел и какая усталость в его глазах. — Как могло такое случиться с нами, Джон? Джон Адамс не пытался скрывать своего горького разочарования. — Каковы причины нашего поражения? Вероятно, их сотни. Одна из причин — в действиях Гамильтона: он расколол нашу партию. Страна устала от разговоров о войне, налогах, растущей силе центрального правительства. Меня сделали жертвой гнусной кампании и безответственных личных обвинений. Республиканцы создали блестящую политическую организацию, первую, какую знала наша страна. Они чернили нас как партию бизнеса, банков, богатства, рисуя себя партией народа. Они убедили значительную часть наших избирателей, что федералисты не доверяют народу, что, согласно нашим взглядам, правительство должно принадлежать только богатым и мудрым. Он горько усмехнулся. — Поскольку большинство населения Америки не принадлежит к богатым и мудрым, оно переметнулось в другой лагерь. Мы могли обещать, что продолжим управлять, как мы управляли в течение двенадцати лет. Республиканцы обещали низвести федеральное правительство до состояния тени. Джон пожал левым плечом, подчеркивая пустоту таких обещаний, поднялся и стал ходить по комнате. — Стране говорили, что путь республиканцев есть путь в будущее, вторая Американская революция, которая освободит от федералистской контрреволюции; что федералисты представляют отмирающее прошлое. Север уступил Нью-Йорку и Югу. Частично мы сами виноваты. Я не делал секрета из того, что считал высокопоставленных федералистов опасными. Гамильтон не делал секрета из того, что Джефферсон предпочтительнее Адамса. Джон Маршалл был прав. Постановления о чужеземцах и о призывах к бунту, хотя и истек срок их действия, были отвергнуты народом. Он вернулся и сел на диван. — Мы были частью старого движения, и теперь нам дали отставку. Так было с кузеном Сэмюелом. Наши четыре года президентства перечеркнуты. Она чувствовала, как он своим покаянием причиняет себе невыносимую боль. Она не позволит ему последним поворотом затянуть гайку. — Без твоей решительной позиции на посту президента, Джон, могло и не быть передачи независимых Соединенных Штатов Джефферсону и республиканцам. Ее крик протеста эхом отразился в пустой комнате. Он бросил на нее любящий взгляд, вновь поднялся, пересек Овальный кабинет, остановился у камина, скрестив руки за спиной. Теперь его лицо пылало возмущением. — Какое безумие! Меня осудили за то, что я был наиболее надежным президентом, и отдали предпочтение человеку, который уверял народ, что он станет наименее надежным президентом. — Мистер Джефферсон всегда был настроен в пользу слабого главного исполнительного лица. Когда ты послал ему копию конституции из Лондона, он ответил, что его путает подразумевающаяся власть президента. — Он вскоре познает иное. Джон закрыл свое лицо ладонями. — Неблагодарность разбивает мне душу. Я хотел прослужить еще срок. Четыре мирных года, чтобы доказать, что страна может расширяться, процветать. Стать частью этой новой столицы. Тогда бы я смог с честью удалиться в Куинси. Сейчас же я чувствую себя униженным, прогнанным. — Мы хотели служить, Джон, и мы служили. Теперь есть столица, именуемая Вашингтон-Сити и принадлежащая государству под названием Соединенные Штаты; пройден огромный путь от несправедливостей постановления о гербовом сборе. Твоя отвага, твое предвидение, твоя приверженность увели нас далеко от колонии залива Массачусетс. С Божьей помощью ты стал одним из строителей самой свободной цивилизации, какую знал когда-либо мир. Здесь есть все, что должен познать мир: документы, отчеты, конституции, договоры, законы. «Выводок Адамса», говоря словами короля Георга, боролся за это и победил. Джон, ты историк. Ты знаешь, что именно так скажет история. — Я скажу это! — В его глазах промелькнула искорка, а губы изобразили невольную улыбку. — В той самой прекрасной библиотеке, какую ты построила для меня. Чернила имеются не только у республиканцев. Потребуется написать несколько томов… — Не хочешь ли ты, чтобы я выехала пораньше и подготовила к твоему приезду дом и кабинет? Я могу положить чернила, ручки и писчую бумагу на твой письменный стол… — Спасибо, миссис Абигейл, за твои чудесные подарки, которые вдохновляли меня в течение многих лет. Она мягко ответила: — Жизнь для тех, кто любит. Раздался стук в дверь. Уильям Шоу вызывал Джона. Когда Джон закрыл за собой дверь, Абигейл разрыдалась.
12
Новый Вашингтон-Сити был построен на Юге. Время Новой Англии прошло, контроль над федеральным правительством перешел к Югу. Прошло и время Джона и Абигейл Адамс. Они понимали это. Прошло тридцать лет с тех пор, как он защищал солдат в бостонском побоище, двадцать шесть со времени его первой поездки на Континентальный конгресс, составления им первой конституции. Пришло время поехать домой и написать историю, кем он был и что совершил. Абигейл не тешила себя мыслью, что впереди легкие годы. Ведь найдутся охотники позлословить насчет Джона Адамса, есть у него и враги. Но они прожили большую часть своей семейной жизни под градом нападок. Они знали, как выжить; такова особенность пуритан. К тому же их работа еще не закончилась. Абигейл посетила Марту Вашингтон в Маунт-Верноне, обе женщины чувствовали, что это их последняя встреча. В день Нового года Абигейл устроила официальный прием. Из окрестностей съехались женщины в прекрасных платьях, сопровождавшие их мужчины — в черных костюмах, сшитых по новой моде. Абигейл дала обеды для леди, для членов Верховного суда и для новых руководителей исполнительных департаментов. Члены семьи по воскресеньям посещали Капитолий, где читались проповеди. Когда секретарь Оливер Уолкотт вышел в отставку, президент Адамс перевел Сэмюела Декстера из Военного департамента в Казначейство. Он назначил племянника Уильяма Кранча комиссаром города Вашингтон, подписал билль Конгресса о лучшей организации судов и направил множество имен в сенат для подтверждения назначений. Он убедил Джона Маршалла занять пост Верховного судьи. Он провел Парижский договор через сенат. И, наконец, побудил государственного секретаря Маршалла подготовить отзывные грамоты для Джона Куинси. Абигейл решила возвратиться в Куинси в начале февраля, когда дороги станут проезжими; вернуться к своей молочной ферме, грушевому и яблоневому садам, к своим детям и бесчисленным внучатам, к объемистым книгам Джона и ежегодным весенним посадкам. Джон останется до утра 4 марта, когда власть перейдет к Джефферсону. — Ни на один час дольше того, что требует конституция! — воскликнул Джон. Когда распространились слухи, что Абигейл готовится к отъезду, ей нанес визит Томас Джефферсон. Она приняла его в Овальном кабинете. Он проживал в пансионе «Конрад энд Макмуни», где останавливались конгрессмены. Его длинные волосы выглядели снежно-белой шапкой на красиво вылепленной голове, его проницательные глаза оставались по-прежнему живыми. Но он плотнее, чем в прошлом, сжимал губы, выражая таким образом свое отношение к миру. — Миссис Адамс, я пришел попрощаться с вами и пожелать вам приятного путешествия. — Это сверх того, что я ожидала, мистер Джефферсон. Могу ли я дать некоторые пояснения о ведении здесь хозяйства? — Я был бы рад сохранить всех слуг, каких вы можете рекомендовать, миссис Адамс. Хочу вас заверить, что никто не даст мне больше удовлетворения, чем возможность оказать услугу мистеру Адамсу, вам или любому члену вашей семьи. — Спасибо, мистер Джефферсон. Джефферсон наклонился вперед: — Я хотел бы особенно поинтересоваться в отношении мистера Джона Куинси Адамса. Нравится ли ему пребывание в Берлине? Не хотел бы он остаться там? — Я ожидаю, что Джон Куинси возвратится в Америку. — В таком случае вы должны выразить ему мое самое искреннее уважение. — Джефферсон встал и протянул руку. — Семья Джефферсон всегда будет помнить вас с любовью. Рассказав о встрече Джону, она добавила: — Король умер, да здравствует король! Как ты думаешь, придет ли день, когда мы сможем ответить ему с любовью? — Если он не развалит страну за время своей администрации, — сказал мрачно Джон. — Или же он станет президентом. Никто «не снял» голоса в пользу Аарона Бэрра; он и Джефферсон получили одинаковое число голосов — по семьдесят три голоса. Выборы переместились в палату представителей, которая должна была выбрать одного из них на пост президента. Хотя всем было известно, что Бэрр выставлял свою кандидатуру на пост вице-президента, он отказался снять свое имя при голосовании на пост президента. Многие твердолобые федералисты в Конгрессе помогали создать трудности, голосуя за Бэрра как президента, Джон опасался оппортунизма Бэрра, во многом более опасного, чем уклончивость Джефферсона. Наступило 13 февраля 1801 года, день отъезда Абигейл. Она встала на заре, оделась и уже рано утром была готова к поездке. Она открыла переднюю дверь, спустилась по ступеням вниз и стояла, рассматривая еще не достроенный президентский особняк. Она вспомнила, как вместе с Джоном путешествовала по Мэриленду и почтенный седой мужчина попросил, чтобы его допустили к президенту. Он вошел в комнату, вежливо поклонился и сказал: — Сэр, я прошел много миль с определенной целью. Это ваша леди? Джон ответил: — Да, это миссис Адамс. Мужчина был в восторге: — Сегодня утром я сказал своей жене, что я пойду, а она ответила: «А ты не боишься?» — «Нет, — сказал я, — почему ты думаешь, что я напугаюсь пойти и увидеть своего отца?» Облик отца со временем меняется. Лицо идеала никогда. Они внесли в это свой вклад. Это была приятная, благодарная мысль. Абигейл и Джон попрощались спокойно в уединении своей спальни. Он прижал ее к себе, погладил ее волосы, поцеловал в обе щеки. — До свиданья, дорогая. Через несколько недель мы вновь будем вместе и больше не расстанемся. — Это и есть горячо желаемая цель. На ступеньках портика, наблюдая отъезд Абигейл, собрались ее племянники, несколько друзей и слуги. Джон помог ей сесть в карету. Сюзан и Луиза расположилась на заднем сиденье. Кучер ударил кнутом. Лошади взяли с ходу. Раздались прощальные крики. Абигейл высунулась из окна помахать платком и увидела Джона; он стоял на ступенях и махал ей, его глаза были печальными, но плечи выражали решимость. По мере того как карета удалялась к Балтиморе и фигура Джона Адамса становилась все меньше, перед ее глазами возникал другой облик, столь же живой и реальный, каким она видела его в то утро. Она сидела на своей кровати в пасторском доме в Уэймауте, писала письмо кузине Ханне Куинси, сообщая ей, как трудно обрести друзей, и вдруг услышала зов сестры Мэри снизу: «Нэбби, пришел Ричард. С друзьями. С этим адвокатом из Брейнтри». Она спустилась, пританцовывая, по лестнице, увидела Джона Адамса; он стоял в библиотеке ее отца и держал два открытых тома, заглядывая то в один, то в другой. Застигнутый врасплох, Джон Адамс повернулся, и на его щеках появился румянец. Он протянул к ней руки, в каждой руке было по тому. Ее жизнь началась.И. С т о у н. Достойные моих гор
Биографическая повесть
Американский писатель Ирвинг Стоун известен советскому читателю в основном как мастер биографического жанра. Популярностью пользуются его книги о Джеке Лондоне, Винсенте Ван Гоге, Микеланджело, Генри и Софье ШлиманахСвои произведения биографического цикла И. Стоун называл повестями или романами. Однако в них нет вымысла. Автор опирается на огромное количество документов и фактов, каждая из его книг - результат кропотливой, подлинно исследовательской работы. Говоря об особенностях биографического жанра, И. Стоун писал: «Если исследовательская работа проведена глубоко и честно, то и книга будет глубокой и честной, если же исследование поверхностно, мелко, уклончиво, обнаруживает тенденцию к сенсации, то и книга получится поверхностная, мелкая, уклончивая, сенсационная» [1].Несмотря на широкий диапазон творчества, И. Стоуна особенно волновала судьба его собственной родины - Соединенных Штатов Америки. Он неоднократно высказывал желание заняться изучением отечественной истории, чтобы дать правдивую картину ее развития, опровергнуть бытующие на этот счет легенды и стереотипы, созданные на потребу истэблишменту. «Меня, - говорил писатель, - постоянно поражает то обилие лжи и полуправды, которое с завидным спокойствием расположилось на страницах исторических произведений. Меня также поражает тот факт, что целые исторические периоды, даже периоды истории Америки, относящиеся ко времени Гражданской войны и к началу двадцатого столетия, представляют иной раз частично, а то и целиком неисследованные области. Вот именно здесь и заложепы неиссякаемые возможности для ¦писателя, посвятившего себя жанру биографической повести: именно здесь он с его страстью и энтузиазмом, с его свежей точкой зрения сможет заменить сакраментальное «это ложь!» утверждением «это правда!». И одновременно с этим осветить те участки истории, которые преданы забвению либо из-за простой небрежности, либо за отсутствием смельчака; который взялся бы за это дело» Таким смельчаком предстает перед нами И. Стоун в своем произведении «Достойные моих гор». «Действующим лицом» книги автор делает целый географический район, который в США принято называть Диким или Дальним Западом, то есть территорию современных штатов Калифорния, Невада, Юта и Колорадо. Стоун рассказывает об истории захвата, колонизации и освоения Дальнего Запада на протяжении XIX века. Но это не перечень голых фактов, статистических данных, экономических расчетов, политических событий, а история, увиденная глазами людей, являющихся ее актерами, вершителями и жертвами. Книга как бы соткана из многочисленных биографий покорителей Дальнего Запада - следопытов, старателей, предпринимателей, мошенников, нуворишей, финансовых воротил, религиозных фанатиков, политиканов, игроков, женщин легкого поведения, искателей приключений, индейцев, мексиканцев, эмигрантов из разных стран Европы и т. д. и т. п. Зачастую одно лицо выступает в различных ипостасях; примечательно лив то, что всех их объединяет одна страсть - жажда наживы. На Дальнем Западе капитализму, стяжательству не было нужды рядиться в стыдливые одежды респектабельности - здесь он выступает перед нами в своем обнаженном и неприглядном виде. И все-таки главным действующим лицом книги, на мой взгляд, является не сам Дальний Запад, не его покорители или их жертвы, а американский капитализм, который возникает па глазах читателя из грязи и крови как некий ненасытный, никого не щадящий Молох, поглощающий всех без разбору: и праведников, и злодеев, и героев, и мерзких людишек, думающих только о том, как бы урвать кусок пожирнее. Творцам этой американской капиталистической эпопеи присущи не только отрицательные черты. Вовсе пет. Захват и освоение огромных пространств требовали от участников этих сложных и далеко не однозначных процессов смекалки и мужества, целеустремленности и огромной воли, работоспособности и часто самопожертвования. На Дальний Запад устремлялись не только те, кто. надеялся любыми путями быстро разбогатеть, но и люди, искавшие свободу, мечтавшие о всеобщей справедливости, воодушевленные романтико-утопическими идеями. Не следует забывать, что на Дальнем Западе начал свою творческую деятельность один из самых замечательных писателей Америки, Марк Твен, что там творили Врет Гарт, Джек Лондон и многие другие художники слова. И все-таки не они становились вершителями судеб этого бесконечно богатого края, а рыцари наживы, которые в итоге и оказались подлинными его хозяевами. Автор рассказывает о постепенном проникновении на Дальний Запад американцев, о том, как этот регион был отторгнут от Мексики, о золотой лихорадке, охватившей Калифорнию вскоре после захвата ее США, об эпопее переселения, о строительстве трансконтинентальной железной дороги, о возникновении и падении грандиозных фортун, о спекуляциях, финансовых аферах, об экономических кризисах и спадах и о многом другом. Повествование завершается описанием включения западных земель в состав Соединенных Штатов Америки. В качестве дополнения к книге автором приводится рассказ о.жизни Губерта Хоу Бэнкрофта (1832-1918), собравшего большую библиотеку по истории Дальнего Запада Собрание это Стоув широко использовал в своем произведении «Достойные моих гор», мастерски вплетая в ткань повествования цитаты из литературных источников того времени, - источников, которые становились библиографической редкостью буквально на следующий же день после выхода из печати. Стоун обильно использует мемуары и эпистолярное наследие того времени. Полностью сохраняя стиль этих документов, он как бы делает читателя соучастником своей огромной исследовательской работы, давая ему возможность не только соприкоснуться с эпохой, но и самостоятельно прийти к выводам, далеко не всегда совпадающим с общепринятыми выводами американских историков. Прошлое Дальнего Запада породило своеобразный литературно-кинематографический жанр - «вестерны», мода на которые сохранилась до паших дней. В пих живописуются похождения благородных джентльменов с безукоризненно белой кожей, которые выступают в защиту попранной справедливости или оскорблеипой невинности, против коварных и жестоких мексиканцев или еще более жестоких и не менее коварных индейцев. Однако вся эта литературная и кинематографическая дешевка служит не только чисто развлекательным целям: «вестерпы» с неизменным постоянством возводят в ранг героя тип людей, который в Соединенных Штатах определяется аббревиатурой БАСП, то есть белый англосаксонского происхождения, протестантского вероисповедания. Ирвинг Стоун своим произведением сокрушает эту легенду, он показывает БАСП обычным рыцарем наживы, готовым из-за выгоды как на подвиги, так и на самые низменные поступки. Дальний Запад не был ничейной землей, которую якобы открыли и освоили американские пионеры. Задолго до них на этих землях жили индейцы, затем пришли испанцы, а также русские, о пребывании которых здесь говорит их форпост, знаменитый форт Росс, расположенный поблизости от Лос-Анджелеса [2]. Мексика, провозгласившая независимость в 1821 году, первой в Латинской Америке столкнулась с экспансией молодого и агрессивного американского капитализма. Выдвинутая в 1823 году доктрина Монро, названная так по имени тогдашнего государственного секретаря, а затем президента Джеймса Монро, призвана была служить прикрытием для экспансии США. Лозунг «Америка для американцев» означал на деле «Америка для США». Последовал ряд агрессивных войн против Мексики. Сначала у Мексики был отторгнут Техас, затем наступила очередь и Дальнего Запада. Ирвинг Стоун упоминает об американо-мексиканской войне 1846-1848 годов, но делает это походя. Он считает, что Калифорния и другие мексиканские территории чуть ли не с согласия местных мексиканских властей перешли в собствепность Соединенных Штатов. В действительности все выглядело иначе. Правящие круги США давно вынашивали идею территориальной экспансии за счет своего южного соседа - Мексики. Оти планы стали осуществляться с приходом к власти в 1844 году президента Джеймса Полка, сторонника рабовладельческого Юга. По приказу Полка американская армия вступила в Техас, принадлежавший тогда Мексике, а американский флот получил задание захватить мексиканские порты Тампико и Веракрус на Атлантическом побережье и Лос-Анджелес на Тихоокеанском. Затем Полк собирался «купить» у мексиканского правительства Калифорнию и Новую Мексику. Когда это предложение было отвергнуто мексиканцами, Полк отдал приказ армии начать военные действия против соседней страны. Действуя подкупом и совершая чудовищные жестокости по отношению к мексиканскому населению, американская армия смогла продвинуться в глубь Мексики. Ей потребовалась целая педеля, чтобы преодолеть героическое сопротивление мексиканцев, защищавших свою столицу. Бессмертный подвиг совершили шесть юношей - учащихся военной школы, оборонявших президентский дворец Чапультепек. Израсходовав все патроны, шесть героев предпочли смерть позорному плену: они погибли, бросившись в пропасть… 14 сентября 1847 года американские войска вступили в Мехико. В столице янки публично вешали патриотов, заставили Мексику уплатить контрибуцию в 3 миллиона песо, но усмирить мексиканцев не смогли. Подлинные сыны Мексики были верны делу независимости и мужественно боролись против интервентов, защищая каждую пядь своей земли. В большинстве это были простые труженики: крестьяне-ранчерос, ремесленники, солдаты, индейцы. Однако в Керетаро, где заседало мексиканское правительство, царили растерянность и уныние. Консерваторы больше опасались роста партизанского движения, возглавляемого крестьянскими вожаками, чем действий американских оккупантов. Умереппые либералы боялись, что продолжение войны может привести к полной утрате независимости, к захвату всей страны Соединенными Штатами. Поэтому, когда Вашингтон предложил прекратить войну в обмен на отторжение всех северных провинций Мексики - Техаса, Новой Мексики, Калифорнии и частично территории Тамаулипаса, Коауили и Сопоры - вплоть до русла реки Рио-Гранде-дель-Норте, мексиканское правительство не долго думая приняло это предложение. 2 февраля 1848 года в селении Гуадалупе-Идальго, где хранилась икона покровительницы Мексики св. Гуада- лупе, был подписан договор о прекращении войны. Американцы настояли па его подписании в этом селении, чтобы связать с договором два почитаемых мексиканцами имени - св. Гуадалупе и Мигеля Идальго, героя войны за независимость 1810 года. Согласно договору, более половины мексиканской территории размером в 2300 тыс. квадратных километров переходило к Соединенным Штатам, которые обязались в виде компенсации выплатить мизерную сумму в 15 млн. долларов и отказаться от своих прежних рекламаций в Мексике в размере 3250 тыс. долларов, в то время как стоимость захваченных земель по самым скромным подсчетам того времени превышала 380 млн. долларов. Кроме огромных территориальных приобретений, США получили по договору «право» вторгаться в Мексику под предлогом преследования непокорных индейских племен. В последней статье договора они призывали свою жертву вести себя впредь миролюбиво, не питать вражды, относиться к ним как к доброму соседу. Вряд ли существует в истории международных отношений более вероломный и лицемерный документ, чем навязанный Вашингтоном Мексике мирный договор, завершивший войну 1846- 1848 годов. Впрочем, сами американцы - участники войны признавали ее разбойничий характер. Один из них, будущий командующий армией северян и президент США генерал У. С. Грант, писал, что «эта войпа явилась одной из самых несправедливых войн, которую когда-либо вела сильная нация против слабой» Мексика сражалась один на один с северным колоссом. Англия бесстрастно наблюдала, как Соединенные Штаты перекраивают карту Северной Америки. Обеспокоенная нарастающим революционным движением в Европе, она никакой существенной помощи Мексике пе оказывала. Никакой поддержки и помощи не могла ожидать тогда Мексика и от своих латиноамериканских соседей. Разделенные огромными расстояниями, раздираемые междоусобицами, опутанные иностранными займами, латиноамериканские республики были, как никогда в прошлом, далеки друг от друга. На что же было надеяться патриотам? Только на мужество и волю к борьбе мексиканского народа. Но те, кто правил тогда Мексикой, или боялись народа, или считали его темным, отсталым, неспособным выстоять и победить в единоборстве с янки, во много раз превосходившими мексиканцев силой, богатством, организованностью. Мексика еще неоднократно испытает па себе стремление Соединенных Штатов превратить ее в свою подопечную территорию, завладеть ее естественными богатствами - в первую очередь пефтыо, - захватить ее рынок, подчинить ее своему политическому влиянию. Американские войска будут еще не раз вторгаться на территорию Мексики. Во время революции 1910-1917 годов США дважды пошлют свои войска против Мексики. Интервентов постигает неудача: революционный народ заставит их несолоно хлебавши вернуться обратно в США, Требует пояснений и другой вопрос, которому Ирвинг Стоун уделяет много внимания в своей книге, а именно роль и место мормонской секты в освоении Дикого Запада. Автор пишет об этом с известной долей симпатии к мор- 1 См.: Очерки новой и новейшей истории Мексики. М., 1960, с. 158. монам. Что же в действительности представляла эта секта, почему ее последователи приняли такое активное участие в колонизации бывших мексиканских территорий и в чем подлинная причина конфликта секты с американским правительством, длившегося на протяжении почти всего XIX века? Мормонская секта возникает в США как религиозное течение эсхатологического и хилиастического характера, привлекающее мелких фермеров и городские низы предсказаниями о неминуемом возвращении на землю Иисуса Христа и установлении тысячелетнего царства всеобщей справедливости, равенства и изобилия. Успеху подобных учений, в том числе учений пятидесятников, адвентистов и других, появившихся приблизительно в то же время, что и мормоны, способствовали перемены в экономике и политике конца XVIII - начала XIX века. Крушение королевской власти во Франции и победа революции 1789 года, наполеоновские войны, освобождение испанских колоний в Новом Свете, революции 1830 и 1848 годов в Европе, бурное развитие капитализма по обе стороны Атлантического океана, сопровождавшееся быстрым обогащением баронов капитала и обнищанием широких масс трудящихся, создавали обстановку нестабильности, острых социальных конфликтов, вызывали брожение умов, порождали ? беспочвенные надежды на чудодейственность освобождения ч-еловека от нищеты, несправедливости и всякого рода прочих тревог и забот. Именно в этой обстановке возникают новые утопические учения, анархистские доктрины, появляются последователи христианского социализма, новых мессианских н мистических учений. Все они ожесточенпо сражаются между собой, но эта грандиозная битва идей, где, казалось, все перемешано и перепутано, в конечном счете сводится к принятию или отвержению капиталистической системы. После завоевания независимости в Соединенных Штатах бурно развивается капитализм со всеми его уродливыми и порочными чертами: бесчеловечной эксплуатацией, господством чистогана над судьбами людей, лицемерием и ханжеством. В этих условиях старые культы переживали острый кризис,- от пих отпочковывались различпые группировки, создававшие свои собственные религиозные организации. В 1837 - 1843 годах Соединенные Штаты переЖивают один из первых затяжных промышленно-финан- совых кризисов. Ему предшествуют безудержные земельные спекуляции, неурожаи. В 1837 году в Нью-Йорке происходят голодные бунты, вызванные массовой безработицей и нищенскими условиями жизни трудящихся масс. Правительство усмирило бунтовщиков, бросив против них войска. С каждым днем все больше обострялись отношения между рабовладельческим Югом и промышленным Севером. Американский философ Р. У. Эмерсон писал в своем дневнике о днях «паники» (как тогда называли экономический ?кризис 1837 года): «Последняя ставка общества бита, оно проигралось дотла. Молодым не на что надеяться. Взрослые не работают и, словно поденщики, толпятся на улице. Увы, никто не зовет нас трудиться. У старцев нет теплого пристанища на закате жизни. Наши современники - банкроты, потерявшие не только собственность, но также принципы и надежды. Я вижу, что человек не оправдывает своего назначения. Он превратился в привод от колеса, в безвольную игрушку общества, в денежный мешок, в раба своей утробы» Люди лихорадочно пытались найти какой-либо выход из создавшегося критического положения. Их взоры обращались к религии - не к официальной, давно уже погрязшей в мирской скверне, а к старым библейским текстам, к уравнительным традициям первоначального христианства. "Ими вдохновляются как последователи социалистических коммун, так и сторонники нового протестантского направления - перфекционизма, ведущего свое начало от английских левеллеров и диггеров. Идеолог перфекционизма мистик из Вермонта Джон Хэмфри Нойз призывал «низвергнуть» американское правительство и провозгласить президентом США и всего мира Иисуса Христа, ибо только тогда начнется тысячелетнее царствие божье Основатель секты мормонов проповедник Джозеф Смит опубликовал в 1830 году мистическую «Книгу мормонов», которую ему якобы открыл ангел, сын мифического пр рока Мормона. Книга состоит из фантастических и нелепых утверждений, вроде тех, что «иерусалимские израильтяне» были первыми открывателями Америки и им якобы Христос еще за шесть веков до своего рождения изложил свое учение. 1 См.: В. Л. П а р р и н г т о и. Основные течения американской мысли, т. II. М., 1962, с. 463.
Оригинал «Книги мормонов» исчез. Как впоследствии выяснилось, указанная книга - фантастическая повесть английского пастора Соломона Сполдинга (1761-1816). И тем не менее Смиту удалось найти последователей, ко? торые не только верили в его невразумительные россказни, но и слепо повиновались ему. Смит предсказывал скорое возвращение на землю Иисуса Христа, а свою секту он называл «Церковью Христа святых последнего дня». Вместе с тем Смит не был лишен практической смекалки, он пытался заняться коммерцией, приобрел типографию, открыл банк. Желая привлечь сторонников, Смит объявил, что «святым» разрешено многоженство. Его крикливые выступления и жульнические финансовые аферы вызвали негодованце среди населепия. В 1854 году он и его брат Хирам были убиты. Секту возглавил Брайам Янг, тот самый, который, спасаясь от преследований властей, направился со своими последователями на Дальний Запад и основал мормонскую «державу» в Солт-Лейк-Сити, сказочно разбогатевшую после открытия в Калифорнии золотых россыпей. Огромные богатства мормонов, беспрекословное подчинение большинства руководству церкви, приверженность к многоженству вызывали подозрительность, раздражение и озлобление в правящих кругах Вашингтона и среди представителей других культов, опасавшихся стремлений Япга обособиться от общего курса развития капитализма, «основать государство в государстве». Американское правительство на протяжении ряда десятилетий преследовало их за многоженство. В конце концов мормоны были вынуждены отступить и официально отречься от этого института. После этого американский конгресс согласился преобразовать Юту в американский щтат. Мормоны давно уже превратились в уважаемую истэблишментом секту, одну из богатейших в США. Число их сторонников превышает сегодня 4 млн. человек. Мормонская церковь считается одной из самых богатых в мире. Она является крупнейшим земельным собственником США: ей принадлежит свыше миллиона акров обрабатываемой земли. Кроме того, она имеет обширные поместья в Канаде, па Гавайских островах, в других странах. В ряде крупных промышленных корпораций церковь контролирует пакеты акций. Она владеет отелями, универсальными магазинами, радио- и телевизионными ком- палиями, газетами. Из этого вовсе не следует, что все мормоны - миллионеры. Капиталами церкви ворочает мормонская верхушка, что же касается рядовых членов секты, то они живут, как и другие американские трудящиеся: пользуются пособиями по безработице, прибегают к услугам благотворительных организаций при хроническом заболевании или необходимости операционного вмешательства и т. д. Таким образом, ран, обещанный мормонам Янгом, так и не наступил для них, как, впрочем, он не наступил и для других американцев.
* *
# Захват западных земель укрепил американский капитализм, позволил США стать ведущей империалистической державой. Вместе с тем буйные разбойничьи нравы Даль- пего Запада наложили на него своеобразное клеймо, от которого он не избавился и но сей день. Калифорния после второй мировой войны прекратилась в одни из богатейших штатов Америки, ведущий центр американского капитализма, в Мекку кинематографии, обетованную землю миллиардеров, самых жестоких, изуверских религиозных культов, мафии н торговли наркотиками. В то же время это рай-он чудовищных социальных конфликтов: там проживают в нищете десятки тысяч чнканос, негров, индейцев, мексиканцев. Техас по- прежнему остается раем для расистов, куклуксклановцев. Читателю, ознакомившемуся с книгой «Достойные моих гор», будет понятно, что и убийство президента Кеннеди, совершенное в штате Техас, как, впрочем, и убийство его брата Роберта в Лос-Анджелесе, было подготовлено в полном соответствии с традициями того же Дикого Запада, - традициями, которые и по сей день сказываются в некоторых характерных чертах американского образа жизни, в формах и методах внутренней и внешней политики американского империализма. И. Григулевич, член-корреспондент АН СССР Книга первая БУНТ В РАЮ Глава I Время, место и действующие лица Это рассказ об открытии новых земель и построении цивилизации. Это повествование о людях, которые открыли эти земли, и каждая жизненная история - составная часть общей мозаики. Героем книги является Дальний Запад. Сейчас это территория современных штатов Калифорнии, Невады, Юты и Колорадо. Однако раньше земли эти входили в огромную империю, унаследованную Мексикой в 1821 году после завоевания независимости от Испании. Если не считать горстки охотников и трапперов в Скалистых горах Колорадо, разрозненных индейских племен инескольких сот поселенцев, обосновавшихся на калифорнийском побережье, весь район был еще полностью необжитым и незаселенным. Землю объединяло единство действующих лиц. Происходящее в одном из районов имело огромное значение для остальных. Их биографии, их дела и судьбы настолько тесно переплетались, что каждый становился неотъемлемой частью целого. Теперь же, в 1840 году, на эти земли пришла беда.Глава II
Человеку хочется неизведанного… У капитана Джона Аугустуса Саттера были причины для беспокойства. Неужто из Швейцарии, где ему неизбежно грозила долговая тюрьма, он бежал только ради того, чтобы оказаться в политической тюрьме в Калифорнии? И именно в то время, когда здесь, в Сакраменто-Вэл- ли, его идея о создании колонии, преодолевая огромные трудности, должна была вот-вот реализоваться. Хотя арестованные по обвинению в заговоре с целью свержения мексиканского правительства иностранцы были всего лишь завсегдатаями винокуренного предприятия их лидера американца Айзека Грэхема и Саттер не имел ничего общего с их громогласными и зачастую пьяными угрозами превратить Калифорнию в республику, ему, Сат- теру, выдали всего лишь временное разрешение на пребывание на территории Калифорнии. Одиннадцать лиг в Сакраменто-Вэлли, то есть более семидесяти шести квадратных миль земли, которые он застолбил, по закону не будут принадлежать ему, если он не станет мексиканским гражданином к исходу годичного пребывания, а срок этот истекал в июле 1840 года. Когда Саттер объявился в столице этих земель Монте- рее, с пачкой рекомендательных писем сойдя с корабля, прибывшего из Гонолулу через Ситку на Аляске, Хуан Батиста Альворадо, первый губернатор Калифорнии из местных уроженцев, отнесся к нему весьма дружественно. Он с самого начала порекомендовал Саттеру держаться подальше от северных границ, где начиналась та часть Калифорнии, которая была «под началом полковника Ма- риано Вальехо, не желавшего мириться с независимым образом жизни прибывающих в страну любителей приключений». ???? 17 Однако на иной образ жизни в Калифорнии Саттер не был согласен, не соглашался он и поселиться в месте, которое было бы в какой-то мере уже цивилизованным. Капитан Джон Уилсон, шотландец, первым приплывший 6 залив Сан-Франциско в 1833 году, решил, что Саттер просто не в своем уме, Когда тот отказался приобрести по весьма умеренной цене великолепно оснащещюр ц обору- 2 Зап. Nдованное рапчо Унлсока в Сопома-Вэллп, лежащее всего в тридцати милях к северу, иа границе с владениями Ма- риано Вальехо. «Клянусь богом, - сердито воскликнул Уилсон, - я хотел бы знать, чего же вам хочется на самом деле!» Но па этот раз Джон Саттер, может быть впервые за • тридцать шесть лет своей жизни, точно знал, чего ему хочется. «Я заметил, что здесь приходится снимать шляпу перед военным караулом, флагштоком и церковью, - заявил он. - Я же предпочитаю те места, где я могу быть сам себе хозяином и пользоваться шляпой по собственному усмотрению». Выбор Саттером Сакрамепто-Вэлли для поселения объяснялся отнюдь не слепым случаем или мучительными раздумьями. Задолго до того, как его корабль прошел сквозь узкий безымянный пролив в залив Сан-Франциско и бросил якорь в болотистой бухточке под названием Йерба-Буэна, Саттер знал, где именно он намерен основать свою империю. Прежде чем ступить на калифорнийскую землю, он уже знал о разветвленной системе Сакраменто- Вэлли больше, чем любой житель Дальнего Запада. II он направился туда, ведомый безошибочным инстинктом. «Я решил обосноваться в этой долине, потому что капитан, который подымался вверх но течению реки Сакраменто на небольшое расстояние, рассказывал мне о красоте и плодородии этих мест». Двенадцать американцев и европейцев, обосновавшихся вокруг бухточки Йерба-Буэна, устроили на борту бостонского «Монсопа» - единственного стоящего на якоре суд- па - шумную, затянувшуюся на всю ночь пирушку. Саттер, с ниспадающими прядями вьющихся волос, в своем полувоенном костюме, пришелся им по душе, и они радушно приветствовали его на этих безлюдных землях, где поселенцы вообще встречались редко, а культурные люди - и того реже. Ему искреппе желали воплощения всех его планов. Однако, когда доктор Джон Марш, владелец ранчо, разместившегося на восточном склоне Маунт-Днаб- ло, объявил, что Саттер решил «поселиться в наихудшем из всех возможных мест» - в Йерба-Буэпе, - предприятие Саттера окрестили «предприятием простака» с ничтожными шансами на успех и предсказывали ему полный крах и гибель. Они еще не зналп, с кем имеют дело.
Джон Саттер купил у капитана Уилсона корабельную шлюпку, зафрахтовал шхуны «Исабель» и «Николас» у их владельцев Натана Спиэра и Уильяма Хинкли - американцев, которым принадлежал торговый пост в Йерба-Буэ- не. Получив под товары, привезенные из Гонолулу, кредит, Саттер загрузил три своих суденышка всем необходимым для основания колонии: ружьями для охоты, зарядами для привезенных им с островов пушек, семенами и сельскохозяйственным инвентарем, кузнечными и плотничьими инструментами. Маленькая флотилия пустилась в плавание, пересекая неисследованные воды залива Сан-Франциско: Саттер в чине капитана, который он присвоил себе с той же легкостью, с какой возложил на себя титул и роль основателя империи, восемь мужчин и две женщины племени канаки (с ними у Саттера имелся контракт на три года, в течение которых канаки обязывались сопровождать его повсюду и оказывать помощь в основании поселения), четырнадцатилетний индейский мальчик, купленный им ранее за сто долларов, столяр-краснодеревщик - немец, три добровольца из Йерба-Буэны и несколько безработных матросов. Саттер тронулся во главе флотилии в шлюпке с четырьмя канаками-гребцами, держа курс на северо-восток через широкий бурный залив, окаймленный пологими причудливыми холмами со стогами сохнущего под лучами августовского солнца сена. К закату они проделали тридцать миль и расположились лагерем у входа в бухту Суисан. На следующее утро Саттер, приняв по ошибке реку Сан-Хоакин за Сакраменто, вынужден был затратить два дня упорной гребли против течения, прежде чем понял, что это вовсе не та долина, которую ему описывали. Через несколько дней он все же отыскал устье Сакраменто и, оставив послание двум лодкам, которые должны были следовать за ним (он поместил послание рядом с индейскими тотемами из белых перьев, развешанными на кустах с целью умилостивить богов), сам пошел вверх по широкой спокойной реке, протекавшей среди темных зарослей тюле и одиноко возвышающихся деревьев. ???? 19 Внезапно его взору предстала открытая поляна, на которой несколько сотен индейцев, не имеющих на себе почти ничего, выкрикивали свои боевые кличи. Однако Джон Саттер понимал индейцев; ему уже приходилось жить среди делаваров. Остановив своих людей, готовых
2*
открыть стрельбу, он безоружным сошел па берег. «Лдиос, амигос», - обратился оп к индейцам с теплой обезоруживающей улыбкой. От настоящего «адиос» на этот раз Саттера спасла, по- видимому, его приятная, располагающая к себе внешность. Он был ширококостным мужчиной среднего роста, большеглазым, с привлекательным лицом, обладавшим поразительной способностью принимать мягкое и суровое выражение одновременно: длинный сухой нос, мощно закругленная челюсть, под которой сходились черпые бакенбарды, черные вразлет брови, а над полным ртом - аккуратно подстриженные романтические усы. Индейскому вождю Анаше понравилось дружелюбное поведение Саттера; он терпеливо выслушивал пространные объяснения пришельца, не смущаясь тем, что делались они па совершенно непонятном ему языке. Саттер заверял его, что он приехал сюда с намерением поселиться здесь и стать другом индейцев, он даже продемонстрировал им сельскохозяйственные орудия и дары, которые он намерен преподнести им в недалеком будущем. Находчивость и мужество помогли Саттеру выиграть первую схватку с пустыней, однако па следующий день ого усталая и перепуганная команда пригрозила бунтом, если он не повернет назад. Быстро подыскав подходящее место, Саттер выгрузил пожитки на берег и объявил, что те, у кого нет намерения обследовать далее дикие пущи, могут возвращаться в Йерба-Буэну на двух более крупных судах. Что же касается его, то оп остается. Шесть белых спутников решили вернуться. Саттер проводил их прощальным салютом из девяти ружей. Уильям Хит Дэвис, капитан отправившейся в обратный путь «Иса- бель», рассказывал в своей книге «Семьдесят пять лет в Калифорнии»: «Огромное количество оленей, лосей и других животных бегали по равнине, полные любопытства и изумления; останавливались, прислушиваясь и задирая головы; из глубины окружающих лесов раздавался вой волков и койотов, а тучи водоплавающей птицы бешено кружили над лагерем». Оставшись вместе со своими верными канаками, мальчиком-индейцем и Ветлером - краснодеревщиком из Германии, Саттер выбрал возвышенное место примерно в миле от берега, прорубил дорогу к месту высадки и начал строите чьство солидного дома нз Кирпича-сырца с рабочим кабинетом, спальней и кухней. В доме располагалась также н кузница. Свое маленькое поселение он нарек Ныо- Гсльветией, то есть Новой Швейцарией. С момента зарождения поселению сопутствовал успех. Индейские племена, которых губернатор Альворадо называл «плохими индейцами», охотились и расставляли капканы для Саттера, бродячие франкоканадские трапперы располагались в его поселении, моряки, прибывавшие в Йерба-Буэну после двухлетнего изнурительного плавания, устав от цинги и морских приключений, прослышав о колонии Саттера, бежали с судов, чтобы, проделав путешествие вверх по реке, осесть в гостеприимной колонии; Октав Кусто, француз, ранее работавший у Вальехо, стал секретарем Саттера. Друзья-коммерсанты открыли Сатте- ру кредит для покупки припасов и инструментов для изготовления мебели и плугов. Земля оказалась весьма плодородной, окрестности были богаты дичью, за счет которой пополнялись запасы свежего мяса. Дикий виноград рос в изобилии. Хотя расставленные на бобров капканы не вполне оправдывали надежды, у Саттера все-таки хватало шкур, чтобы покрывать в Йерба-Буэне текущие расходы. Страстно влюбленный в Сакраменто-Вэлли, он писал в Швейцарию жене и детям, которых не видел уже почти шесть лет: «Человек может превратить эти места в рай». А теперь ему грозила утрата этого рая. Теперь, весной 1840 года, когда оп строил планы возвести форт, который сделал бы его положение неуязвимым, когда он послал группу дровосеков миль на двадцать вверх по Американской реке, поручив им заготовку сосен для огромных стропил, когда он заставил индейцев изготовлять кирпич-сырец в количестве, достаточном для обнесе- ния четырехугольника в сто пятьдесят па пятьсот футов стенами высотой в восемнадцать и толщиной в три фута с бастионами по углам, на которых оп намеревался расставить пушки, с жилыми помещениями внутри форта, кузницей, лавками и складами, - именно теперь полковник Мариапо Вальехо получил от губернатора Альворадо приказ арестовать всех иностранцев и доставить их на судах в Монтерей, откуда их препроводят в Мехико в качестве политических арестантов. Столько раз приходилось Саттеру сталкиваться с ие- удачами. Вся его жизнь вплоть до последнего времени была одной сплошной цепью неудач. 1 июля 1839 года, после пяти лет постоянного бродяжничества и скитаний, он наконец достиг того, что было для него землей обетованной. Добирался он до пее кружным путем: Кандерн, Бургдорф, Базель, Нью-Йорк, Цинциннати, Сан-Луис, Санта-Фе, Ванкувер, Гонолулу, Ситка и наконец Сакра- менто-Вэлли. Ряд неинтересных, скучных должностей, банкротство открытой им лавки и унизительное изгнание богатой тещей, деловые неудачи в Америке - все это можно было предать забвению благодаря его мужественному подходу к неисследованному Западу, организаторским способностям и выгодной продаже в Йерба-Буэне привезенного на «Клементине» груза. Время сомнений прошло. Он знал, что обладает достаточным талантом для того, чтобы изваять новую культуру из кристаллического монолита Дальнего Запада. А если его сейчас арестуют и вышлют, купа ему идти?Глава III
Славный вояка обеспокоен Полковник Мариано Вальехо был встревожен в той же степени, что и Джон Саттер. Он чувствовал, что арест иностранцев продемонстрирует внешнему миру слабость мексиканского правительства в Калифорнии. Он знал, что депортация группы американцев и европейцев может привести к серьезпейшим последствиям; правительства стран, к которым принадлежали эти люди, могли счесть это нарушением международного права. Калифорния, заброшеп- ная, пренебрегаемая и едва ли желанная для Мексиканской республики, не имела достаточных сил, чтобы оказать сопротивление даже самому ничтожному агрессору. Вальехо хорошо знал губернатора Хуана Батисту Аль- ворадо - они вместе росли в Монтерее и, хотя он был всего лишь на год или два старше Альворадо, последний приходился ему племянником; Вальехо наблюдал за тем, как власть, которой добился Хуан, делала его все более нервным и неуверенным в себе. «На каждом шагу я подвергаюсь оскорблениям со стороны пьяных последователей Айзека Грэхема, - жаловался губернатор Альворадо. - Во время моих прогулок по саду они обычно подходят к забору и обращаются ко мне в недопустимо фамильярных выражениях: «Эй, Батиста, поди-ка сюда, мне нужно поговорить с тобой». «Батиста-туда, Батиста-сюда!» Никто никогда не оскорблял Мариано Вальехо. В возрасте тридцати одного года он уже - главнокомандующий мексиканскими силами Севера. Действуя в одиночку, Вальехо заложил самые деловые и процветающие поселения в Сонома-Вэлли, в том месте, которое индейцы называли Лунной долиной. Как и Джон Саттер, Вальехо прежде всего был колонизатором. Посланный на Север в возрасте двадцати трех лет, когда он был комендантом форта в Сан-Франциско, с целью изучить причины индейских волнений и выяснить, что кроется за визитом русского губернатора Ситки в форт Росс (русское поселение на побережье примерно в пятидесяти милях к северу от Пресидио), юный лейтенант поднялся на вершину холма и увидел расстилающуюся перед ним долину, покрытую дубами, золотыми маками, с великолепными пастбищами и блестящими на солнце ручьями. Подобно Саттеру при виде Сакраменто-Вэлли Мариано влюбился в долину с первого взгляда. Через год или два, будучи во главе колонизации Севера, Мариано вспомнил о Лунной долине и возвратился сюда, чтобы построить казармы для солдат, Каса-Гранде для себя и своей семьи, поднять целину и посеять кукурузу и пшеницу - и все это без единого реала помощи из Мехико или Монтерея. «Я просто не мог заставить себя вести праздную, беззаботную жизнь, столь обычную среди местного населения»,- говорил Вальехо. У него было широкое красивое лицо, могучее телосложение, по характеру это был упорный боец, если уж его вынуждали к борьбе, талантливый руководитель, наделенный большим интеллектом, - одним словом, он являл собой некий сплав, рожденный двумя различными эпохами. Его мать из Люгосов в Сан-Луис-Обиспо - одной из лучших фамилий Калифорнии - обладала, по словам современников, «пуританской силой характера. Она привила своим детям силу воли и честолюбивые замыслы». Мариано был обучен дублению кожи, обжигу кирпичей, умел шить обувь, сворачивать сигары, ему была привита любовь к книгам и тяга к знаниям, которые он сохранил на всю жизнь. В семилетнем возрасте он взбунтовался против изучения «Христианской доктрины» Рипальди, которую ему приходилось изучать из-под плетки. Бунт этот получил логическое завершение, когда в возрасте двадцати трех лет он купил несколько ящиков с книгами с судна в Йерба-Буэне, хотя и знал, что они были запрещены клерикалами, которые, по его словам, «стерегли все порты и гавани Калифорнии, подобно святому Петру, охраняющему врата рая, чтобы воспрепятствовать проникновению книг либерального направления». Вальехо уплатил четыреста шкур и десять бочонков сала стоимостью в 1000 долларов за книги, создав таким образом лучшую в Калифорнии библиотеку. По его приказу были сделаны тысячи кирпичей из глины с соломой, дверные проемы из дуба, каменные плиты для арочных сводов, обожженпая черепица и деревянные брусья для полов, вытесанные вручпую, в то время как даже самые преуспевающие из его соотечественников великолепно обходились земляными полами. Он навлек смерч деловой активности на «пасторальную Калифорнию», в которой считалось, что мужчина не должен делать ничего такого, чего нельзя было бы сделать, пе слезая с седла. Хотя мексиканское правительство попыталось разделаться с ним, обязав набрать собственную армию, обмундировать, накормить, вооружить и оплачивать ее, оп был страстно предан этой армии, ее правилам и уставам, а заодно и ее ограничениям. Его отец, который прибыл сюда из Мехико в 1774 году пехотинцем охраны отца Хуниперо Серра, когда тот. собирался основать здесь миссию, был нерадивым солдатом и постоянно попадал в неприятные истории. Именно поэтому Мариано решил стать хорошим солдатом. Страстно влюбленный в пятпадцатилетпюю Франциску Карильо, он целых два года дожидался женитьбы, поскольку в армейском уставе было сказано, что армейский офицер пе может жепиться без разрешения во- еппого министерства, а посланцы, которых оп отправил в двухтысячемильпое путешествие в Мехико за разрешением, в отличие от него не пылали страстью и пе торопились возвращаться. Именно потому он проявлял чопорность и требовательность по отношению к своим одетым в лохмотья и полуголодным войскам, потому со стороны он зачастую выглядел помпезным и претепциозпым: ведь ему приходилось отстаивать достоинство, единение и силу мексиканской армии в Калифорнии. Марнано Вальехо никогда не видел Мехико. Он целиком был предан Калифорнии, своей роднне, дому, земле, которую он любил. Он чувствовал теперь, что Калифорния не сможет добиться прогресса н процветания под мексиканским правлением, что она слишком далека и не представляет особого интереса для Мексики. Ему было также известно, что правительства нескольких зарубежных государств внимательно следят за Дальним Западом. Соединенные Штаты, Великобритания, Россия, Франция - любое из правительств этих стран, направив один-единствен- ный военный корабль в Монтерей, сможет захватить эти земли. ВаЛьехо нравились иностранцы, они были ближе ему по духу и темпераменту, чем соотечественники, - нет, конечно же, пе Айзек Грэхем со своими собутыльниками, а люди, подобные Джекобу Лиизе, уроженцу Огайо, Джону Куперу, уроженцу Англии, - оба они были женаты на его сестрах и владели ранчо в Сонома-Вэлли, - Уильяму Харт- иеллу, шотландцу, который был его учителем в Монтерее. Когда Джон Саттер прибыл в Соному восемь или девять месяцев назад с посланием своих русских друзей в_ Ситке к их соотечественникам в форте Росс, Вальехо-сол- дат отнесся с подозрением к намерениям швейцарца, направляющегося в русский форт всего лишь в нескольких милях от Сономы, однако Вальехо-калифорпийцу понравился этот решительный, образованный иностранец, и он оказал ему безграничное гостеприимство, принятое в стра-• не, где нет постоялых дворов и где любая семья предоставляет любому пришельцу пищу, развлечения и кров, а потом снабдил Саттера свежими лошадьми и проводником для его путешествия в форт Росс. Будучи знатоком истории, Мариано Вальехо понимал, что Дальний Запад стремительно приближается к кризису. После многих лет напряженных и полных разочаро» ваний отношений с мексиканским правительством Вальехо был убежден, что Калифорния сможет превратиться в великую империю только при условии, что она станет американской. Он был первым и, пожалуй, единственным калифорнийцем с такими мыслями. Он успел горько разочароваться в губернаторе Альво- радо, который ранее обещал провести реформы, необходимые для превращения Калифорнии в современную провинцию, а вместо этого предался пьянству и превратился в болезненного брюзгу. А теперь Альворйдо приказал ему зафрахтовать судно в Йерба-Буэне, арестовать всех иностранцев и препроводить их в тюрьму Монтерен. Он, конечно, выполнит приказ своего главнокомандующего. Но задача эта ему неприятна.Глава IV
Если уж мошенники, то непременно героические Ни один из американцев в Калифорнии не имел меньших оснований опасаться этих арестов, чем доктор Джон Марш, и ни один из них не был столь изумлен, как он, очутившись в полной блох камере монтерейской тюрьмы. Марш прибыл в Лос-Анджелес из Санта-Фе в 1836 году, держа путь на запад по течению реки Джила, пересек Колорадо и очутился в южной Калифорнии, где ему пришлось принять гражданство, когда он решил приобрести ранчо у восточного подножия Маупт-Диаболо, и принять католичество, когда оказалось, что по закону это необходимо для приобретения недвижимости в Калифорнии. Правда, медициной он занимался не вполне легально, выдав врученный ему Гарвардским университетом диплом бакалавра искусств за медицинский диплом. Но поскольку никто из обитателей южной Калифорнии не умел читать по-латыни, власти выдали ему лицензию на медицинскую практику, осуществив тем самым мечту всей его жизни. По-видимому, он был неплохим медиком-практиком, поскольку лишь немногие из его пациентов умерли преждевременной смертью. Калифорнийцы не имели, однако, возможности сравнивать, так как он был единственным врачом на всем Дальнем Западе, а климат в этих местах весьма благоприятен для здоровья. Но что калифорнийцы знали наверняка, так это то, что услуги доктора Марша - вещь весьма дорогая. В виде гонорара за визит к врачу полагалось пригнать двадцать пять голов скота и приготовить пятьдесят голов, если врачу предстояло провести ночь у постели больного. Одна из разъяренных хозяек вычла из его гонорара двадцать пять коров за то, что выстирала ему пару рубашек. Джон Марщ и Джон Саттер, ставшие теперь близкими соседями в центральной Калифорнии, - их владения лежали всего в пятидесяти милях друг от друга - встречались уже в 1836 году в Санта-Фе. Марш знал, что Саттер имеет столь же мало прав именовать себя армейским капитаном, как и сам Марш - доктором. Однако здесь, на границе, если уж люди занимались мошенничеством, то мошенничество это было героическим. Дальний Запад не интересовался прошлым человека. Попав сюда, можно было объявить себя кем угодно, требовалось только доказать на деле обосповапность своих притязаний. Родившийся в Денвере, штат Массачусетс, Джон Марш весил двести восемнадцать фунтов, был шести футов двух дюймов ростом и отличался бронзовым загаром и могучим телосложением, несмотря па нервный характер. Он был неуклюжим человеком свирепого вида, у которого правое веко, опускаясь, почти скрывало хитро поблескивающий глаз. Не украшали его и две волосатые бородавки, расположившиеся на складке, идущей от носа к углу рта. Первый из поселившихся на Дальнем Западе выпускников колледжа, он был и первым, кто привез сюда в седельных сумках хорошую библиотеку по медицине и сельскому хозяйству - свое единственное имущество. В тридцать шесть лет он добрался до Лос-Анджелеса, пройдя до этого около дюжины различных перевоплощений. Джон Марш ненавидел унылую бедпость доставшейся ему в наследство фермы, которая не могла прокормить семерых его детей. Обладая незаурядными способностями, он закончил Академию Филипса в Андовере и, зарабатывая на жизнь работой в школе в Денвере, начал учиться в Гарварде. Во время обучения в Гарварде Джон Марш сделал внепрограммную работу по анатомии и ассистировал одному из бостонских врачей. У него не было денег для прохождения курса медицинских наук, и поэтому он взялся за работу репетитора на Мичиганской территории, с тем чтобы за два года накопить денег и вернуться в Гарвард. Оп сошел со сцены в Новой Англии и попал на страницы истории: организатор первой школы в Миннесоте, индейский агент и друг племен, составитель первого словаря сиукского языка, судья на этой территории, организатор обороны Прерия-дю-Шайен (когда была предотвращена резня). Ои влюбился в Маргерит Деконте, стройную, как тростинка, девушку с сияющей улыбкой и тонкими чертами лица, мать которой была индианкой племени сиуков, а отец - канадец французского происхождения. Марш привел Маргернт в свои дом, хотя настоящей брачной церемонии так, кажется, и не было. Маргерит сопровождала его в путешествиях по пустыням, помогала в написании «Основ грамматики сиукского языка», родила ему сына. Марш продолжал изучение медицины под руководством военного хирурга в форте Сент-Антони в течение двух лет. Трагическая перемена в его жизни наступила в 1831 или 1832 году, когда, будучи ответственным за карательную экспедицию против сиуков рода Лисы, ои решил, что ему следует отправить на юг под защиту Ныо-Салема в штате Иллинойс жену и шестилетнего сына, чтобы уберечь их от мести воинов рода Лисы. Маргерит, которая была беременна вторым ребенком, не захотела жить без мужа и отправилась пешком в обратный путь в Прерия-дю-Шай- ен, где она, ослабев в пути, погибла при родах. Чувствуя вину за смерть Маргерит, Марш едва не сошел с ума, стал бродягой. Захваченный индейцами на пути в Санта?Фе, он спас себе жизнь тем, что извлек наконечник стрелы из старой раны вождя племени. В Санта- Фе оп прослышал о чудесах Калифорнии и решил отправиться в Лос-Анджелес и стать там врачом. 25 февраля 1836 года в однокомнатной глинобитной хижине, стоящей на опалепном солнцем, сонном и пыльном берегу, тридцатишестилетний Джон Марш превратился в «доктора Джона Марша». С первого же дня у него хватало работы; он лечил от оспы, различных лихорадок, бе- шепсч ва и завоевал большую популярность, оказывая помощь роженицам. Поскольку плату за лечение он взимал также и необработанными кожами или салом, хижина его выглядела и пахла скорее как склад, а не кабинет врача. Жизнь в Лос-Анджелесе (несколько небеленых глинобитных хижин, раскинувшихся вокруг площади) не устраивала Марша. Он пробыл здесь лишь год и уехал, поскольку немногие суда из Бостона бросали якорь в южной Калифорнии, а здесь, в Лос-Анджелесе, он не мог найти сбыта для своих кож, до потолка заполнивших его жилье. Эти места он считал слишком пустынными для скотоводческого ранчо, владельцем которого он уже видел себя в мечтах. Совершая поездки верхом, он внимательно обследовал земли вокруг Монтерея и Йерба-Буэны, которая в то время состояла из трех домов на берегу бухточки, настолько маленькой, что она выглядела скорее небольшим озерком, чем частью одного из крупнейших в мире заливов. Самый большой из домов принадлежал Уильяму Ричардсону, английскому моряку, который сбежал с корабля и поселился здесь в 1822 году и теперь в глазах калифор- пийцев был капитаном порта. Джекоб Лиизе, позднее женившийся на сестре Вальехо, был владельцем наиболее популярной в Калифорнии бакалейной лавки, поскольку пустые ящики и бочонки, расставленные вокруг очага, спасающего от пронизывающих туманов, служили местом сборищ для всех американцев и иностранцев. Марш поселился у Лиизе, и оба мужчины жили на чилийской похлебке с тортильями и соленой рыбе. В 1837 году Марш купил ранчо Лос-Меганос, сказав по этому поводу: «Наконец я отыскал Дальний Запад, здесь я намерен закончить свои дни». Границы этого ранчо были определены без излишних формальностей, как и подобает стране с миллионами акров свободной земли: «…от холма с закругленной вершиной на проходящей с юго-запада гряде, известного под названием пик Браши, до реки, а оттуда по течению до Ан- тиха…» Здесь Джон Марш выстроил глинобитный дом из трех комнат, с земляными полами, под камышовой кровлей, сколотил стол, лавку и кровать, возложив обязанности жепы и кухарки на скво (индейскую женщину). Отсюда оп совершал выезды по пятьдесят и сотне миль, навещая пациентов. По характеру оп так и остался отшельником, наслаждаясь чаще всего обществом своих книг, которые читал под огромным дубом во дворе. Ранчо Марша раскинулось на пятьдесят тысяч акров, где паслось пять тысяч голов крупного рогатого скота и пятитысячная отара овец. Самым же большим своим сокровищем он считал диплом бакалавра искусств, хранившийся в специальном маленьком сундучке. Однако с годами, помимо любви к медицине, у Марша развилась еще одна страсть - стремление видеть Калифорнию составной частью Соединенных Штатов, заселенной сотнями американцев. Письмо друзьям в Миссури привело к походу первого каравана через равнины на пути к Калифорнии - предтечи волн эмигрантов, которые в ходе одного короткого десятилетия захлестнут сонный и безвестный Дальний Запад, превратив его в наиболее притягательную и романтическую часть земного шара. В апреле 1840 года Марш по делам отправился в миссию Сан-Хосе, лежавшую в нескольких милях к югу от его ранчо. Он знал, что все иностранцы вокруг Сан-Хосе и Монтерея были арестованы с целью дальнейшей их депортации, по, считая себя законопослушным гражданином, тронулся в путь, ни о чем не тревожась. В пути он и был схвачен военными и препровожден в Монтерей. Кое-кто утверждал, что причиной его ареста было отнюдь не подозрение в государственной измене, а высокие ставки гонорара.Глава V
Честный подлец усложняет сюжет В отличие от «доктора» Марша и «капитана» Саттера Айзек Грэхем предстал перед Дальним Западом с открытым забралом: он был подлецом, никогда ничем иным, как подлецом, он не был п никогда не пытался выдать себя за кого-нибудь иного. Открыв ряд салунов в северной Калифорнии, он собрал вокруг себя группу дезертиров и авантюристов, которые помогали ему пропивать доходы от винокурни, расположенной в Нативидаде, неподалеку от Монтерея. Губерт Хоу - автор огромного числа книг по истории Дальнего Запада-говорит: «Грэхем был наихудшим из всех иностранцев и первопричиной всех неприятностей из-за своего хвастливого и склочного характера. Он считал, что ему все дозволено и что он всегда выйдет сухим нз воды». Один из знавших Грэхема по Ныо-Мекси- ко американцев утверждает, что тот «прославился как бездельник, хвастун и неисправимый лжец». В Калифорнию Грэхем попал по Старому Испанскому тракту. Он представлял собой живописную фигуру с лицом, покрытым буйной растительностью, из которой буквально торчали нос и глаза. Грэхем носил залихватски сдвинутую набекрень широкополую шляпу, поверх воротника его длинного охотничьего камзола был повязан кавалерийский шарф, послуживший причиной многих скандалов. Слева у пего на поясе висел устрашающего вида охотничий пож, через плечо - рог с порохом, а правая рука сжимала ружье, с которым он никогда не расставался, Был период, когда он чуть было не стал респектабельным человеком. Случилось это за четыре года до описываемых событии. Альворадо, свергнув присланного из Мехико губернатора, призвал в свои ряды Грэхема и его скорых на стрельбу друзей, пообещав им богатую военную добычу в богатых землях. Однако, придя к власти, Альворадо не сдержал своих обещаний, а следовательно, и не обратил в новую веру Грэхема, подобно тому как ему не удалось реформировать и косное правительство Калифорнии. ' Грэхем был оскорблен в своих лучших чувствах. В последний год от него частенько слышали угрозы в адрес правительства Альворадо. Ведь удалось же группе мужественных американцев отобрать Техас у Мексики и установить там республиканское правление, не так ли? Грэхем не говорил ничего такого, что, только в более сдержанной форме, уже не было бы сказано другими американцами в Калифорнии, а вот сдержанностью Грэхем отнюдь не отличался. Траппер Том, решив, что умирает, признался на исповеди священнику, что Грэхем на своей винокурне за хижиной ые только гонит самогон, но и готовит революцию. С перепугу Альворадо усмотрел здесь заговор. С присущей ему красочностью Грэхем пишет: «Около трех часов пополуночи я был разбужен пистолетным выстрелом, пуля прошла сквозь мой галстук. Я вскочил с постели, когда они разрядили в меня еще шесть пистолетов. Не успел я пробежать четырех или пяти ярдов, как они настигли меня с обнаженными клинками, пытаясь нанести ими смертоносные удары, ох которых мпе, к счастью, удалось увернуться. Хосе Кастро приказал тогда пронзить меня четырьмя пулями, в чем ему помешал индеец, который все время закрывал меня собой». Грэхем был закован в цепи и привезен в Монтерей. Единственная тюрьма на Дальнем Западе состояла из одной камеры восемнадцать на тридцать футов с маленьким вабранным частой решеткой окном и земляным полом, сырым в те апрельские дни. Альворадо растерялся, когда обнаружил, что в камере, в которой ранее от случая к случаю содержался какой-нибудь стянувший лошадь индеец, оказалось около сорока арестованных. Монтерей был открыт двести тридцать восемь лет на• вад. Кабрильо, обследуя берега в 1542 году, заметил залив,заходить в него не стал; Себастьян Висканно, известный как коммерсант-исследователь, зашел в этот залив в 1602 году, вознес под одним из гигантских калифорнийских дубов благодарственную мелитву господу, установил испанский флаг и окрестил. эту местность Монте-Рей в честь испанского вице-короля Мексики. Затем он совершил роковую ошибку, которую с неизменным постоянством повторяли все описания Калифорнии: он расхвалил эту страну в столь неумеренных выражениях, что в последующие сто шестьдесят семь лет все путешественники не могли узнать Монтерей по его описаниям. Название «Калифорния» явилось изобретением еще одного испанца, наделенного богатым воображением, некоего Ардонеса де Монтальво, который писал примерно в 1510 году: «По правую руку от Индий, неподалеку от Рая Земного, лежит остров, именуемый Калифорнией. Остров этот заселен дюжими темнокожими женщинами огромной силы и с горячими сердцами; когда рождаются дети, младенцев женского пола оставляют, а мужского пола - убивают сразу же, сохраняя ровпо столько, сколько необходимо для воспроизводства…» Иортола, командовавший испанскими солдатами, выступившими из Мехико на Север в 1769 году для защиты отца Хуниперо Серра, запитого постройкой сети миссий в Сан-Диего, Сан-Хуап-Капистрано, Сан-Габриэле, Сапта- Барбаре, Моптерее, Кармеле, Сан-Хосе, Сап-Франциско и Сономе, дважды прошел через Монтерей, так и не узнав описанных Вискаино мест. Он так далеко зашел на запад, что совершенпо случайно открыл залив Сан-Франциско. Вплоть до самой тесны 1770 года Портола по попимал, что известные ему описания Монтерея совпадают с приметами местности. В 1775 году король Испании признал за Монтереем право называться столицей Калифорнии. В 1803 году было завершено строительство первого на Дальпем Западе форта, или, как его пазывали, Пре- сидио, с казармами, часовней и домами для офицеров. Гарнизон и оружие были отличного качества, и, пока Испания была признанной владелицей Дальнего Запада, ни одна из стран не решалась заявлять на него свои претензии. Став столицей и единственным портом, где иностран-» ные суда могли выгружать свои товары, Монтерей быстро разрастался. К 1840 году, когда визитеры называли Сан•
ДиеГо «жалким», Йерба-Вуэиу-«убогой», а Лос-Апджс? лес - «известным пристанищем самых опустившихся пьяниц и картежников в стране», население Монтерея составляло более трехсот человек, Из которых около тридцати - американцы и англичане. Это был центр правительственного, социального и делового мира Дальпего Запада с аккуратно выбеленными глинобитными домами под красными черепичными крышами, выстроившимися полукругом сразу же за белыми песчаными пляжами. Дома, увитые виноградом, стояли на сочных зеленых лужайках, фоном им служили покрытые соснами холмы под ярко-голубым, чисто итальянским небом. На площади происходили корриды, танцы и фиесты; а хотя в стране действовал закон, запрещающий продажу крепких напитков, закона, запрещающего распивать их, не было. Однако тюрьма в Монтерее была построена не с тем, чтобы из нее можно было любоваться окружающими пейзажами, и для ее обитателей город сразу же утратил свою привлекательность. Камера оказалась непригодной для жилья, а забита она была до такой степени, что, если нескольким из ее обитателей удавалось прилечь, остальным приходилось стоя дожидаться своей очереди. У губернатора Альворадо либо не оказалось денег, либо он пришел к тому простому выводу, что пе имеет смысла расходовать общественные фонды на кормежку арестантов, которых все равно скоро погрузят на зафрахтованный Вальехо корабль. В результате первые сорок восемь часов арестованным вовсе не давали пищи. ???? 33 Поскольку Джон Марш оказался наиболее несправедливо арестованным, а заодно и наиболее красноречивым оратором в тюрьме, ему удалось к исходу второго дня выговорить себе свободу. Он торжественно поклялся товарищам пе оставить их в беде. Оказавшись на свободе, он точно знал, куда следует обратиться за помощью: к своему старому другу Томасу О. Ларкипу, известному под прозвищем Янки из Бостона и первому калифорнийскому миллионеру - самому любимому или по меньшей мере самому почитаемому американцу в этих краях. 3 Зак. К. К63
Глава VI
Время действия наступает Томасу Оливеру Ларкипу было тридцать лет, когда он прибыл в Монтерей. За восемь' лет, прошедших с этого момента, он обзавелся первой па Дальнем Западе женой-американкой, и сын его был первым родившимся здесь американцем. Ухитряясь оставаться настоящим янки, он тем не менее пользовался всеми привилегиями коренного калиг форпийца. Он сделал многое для изменения Дальнего Запада, но Дальний? Запад пе сумел изменить его: годы, прожитые под теплым солнцем, в окружении беспечпых, жадных до наслаждений калифорнийцев, несколько укротили его энергию, однако характер уроженца Новой Англии остался неизменным. В браке почти девственной Калифорнии со множеством страстных джентльменов Томасу О. Ларкипу выпала роль отца миграции на запад. Оп родился в сентябре 1802 года в Чарлзтауне, штат Массачусетс. Предки его отца приплыли па «Мэйфлауэр» и стали свободными гражданами Чарлзтауна в 1638 году, дед его сражался у Банкер-Хилл в 1775 году. Потеряв в возрасте шестнадцати лет обоих родителей, Ларкин перебирается в Бостон, где занимается благородной профессией переплетчика. К двадцати годам он приходит к выводу, что Бостон и Новая Апглия слишком тесны для пего, и обнаруживает в себе тягу к пиоперской деятельности. Он переезжает в Северную Каролину, где настолько приходится ко двору, что в течение трех лет из чужака превращается в клерка у коммерсанта, а затем - почтмейстера и мирового судыо. Сводный брат Ларкина капитан Джон Купер, в прошлом владелец судна «Роувер» в Бостоне, поселился в Мои- терее в 1826 году, женился па миловидной черноглазой сестре Вальехо, принял католичество и получил мексиканское гражданство, огромные пространства земли п мельницу. Предвидя, что подобная же судьба постигнет и Томаса, друзья пытались отговорить его от плавапия вокруг мыса Горн. Но они не учитывали железного.характера Томаса; он не стал ухаживать за приторными и богатыми землей, но бедными женихами калифорнийскими невестами, отказался принимать мексиканское гражданство или переходить в католичество, хотя, прояви он такие намерения, его ждал бы подарок в двадцать тысяч акров в любом мсстс Калифорнии. Томас Ларкнн не обладал внушительной внешностью, красивым мужчиной его тоже нельзя было назвать; тонкогубый и тонконосый, с уже довольно поредевшими волосами, он обладал, однако, светлыми глазами, проницательный взгляд которых производил благоприятное впечатление. Он весьма тщательно следил за своей одеждой и появлялся па работе в черном галстуке и крахмальной сорочке, как в Бостоне. Работая клерком в Йерба-Буэне, он хорошо ознакомился с новой страной, а затем перебрался в Монтерей и открыл там свою первую лавку на взятые в долг пятьсот долларов. Ларкнн обнаружил сходство калифорнийцев с жителями Северной Каролины и проявил при этом редкий талант находить приятные черты в новых людях и умение приспосабливаться к Ним. Вскоре он уже не только торговал припасами, доставляемыми судами из Бостона, но и выстроил мукомольную мельницу, заключал контракты на строительство домов из поставляемых им бревен и дранки, вел оживленную торговлю мукой, мылом, картофелем и шкурами морской выдры. ???? 3• Во время долгого рейса из Бостона в Калифорнию, обычно курс туда пролегал через Гаванские острова, Томас Ларкнн подружился с двадцатипятилетней Рэчел Холмс, родившейся всего в нескольких милях от его родных мест, которая разыскивала своего мужа. В Хайло миссис Холмс узнала, что мужа ее, с которым они обвенчались в Массачусетсе пять лет назад, но которого она не видела два года, уже нет в живых. Успевший влюбиться в нее Ларкин решил, что Рэчел следует приехать в Калифорнию и выйти за него замуж. Путем переписки ему удалось заручиться ее согласием и потом организовать переезд. Обряд бракосочетания был совершен на борту привезшего Рэчел судна, когда оно бросило якорь у Санта-Барбары, шкипером- американцем, который одновременно был и консулом Соединенных Штатов в Гонолулу. Таким образом, бракосочетание было совершено в определенном смысле на американской территории и по американским обрядам, в то время как на землях Дальнего Запада еще не знали пи одного протестантского проповедника. Следовательно, семья Лар- кина была чисто американской, и потомкам его суждено было быть американцами.35
Не собираясь довольствоваться раем в шалаше, Точас Ларкин приступил к постройке первого нстппно американского дома на Дальнем Западе - двухэтажного, со множеством окон и широкими верандами. Сохранилась его смета, способная заставить сжаться от зависти сердце любого домовладельца: ???? Предполагаемая стоимость Фактическая СТОИМОСТЬ ???? Гарри за работу 3500 сырых кирпичей 7 оконных переплетов Возведение стен 2100 дранок 4 доллара 20 долларов 50 долларов 136 долларов 120 долларов 8 долларов 70 долларов 70 долларов 203 доллара 210 долларов В доме Ларкина собирались все вновь прибывающие американцы и европейцы. Он стал неофициальным американским центром этих земель. С того самого момента, как нога его ступила на землю Монтерея, Ларкин хотел, чтобы Калифорния стала американской. Он обхаживал Калифорнию с настойчивостью и страстью, подобно ловкому торговцу, понимающему, что обе сторонывыигрывают при честной сделке. В его планы входило присоединение к Соединенным Штатам земель между Тихоокеанским побережьем и Скалистыми горами мирным путем - посредством купли и переговоров. Поскольку Калифорния была для Мексики мертвым грузом и являлась таковой с момента завоевания независимости, то есть с 1821 года, почему бы той не вступить в переговоры и не продать Соединенным Штатам ненужную территорию, да еще и по сходной цене? Ему было также известно, что и,в Соединенных Штатах мало было людей, желающих заполучить эту страну, в которую можно попасть только после трудного и опасного семимесячного плавания вокруг мыса Горн или столь же длительного и опасного пути через тысячи миль безжизненных равнин, смертоносных пустынь и непроходимых гор.Ларкин твердо верил в собственные способности и в то, что люди, подобные Маршу и Саттеру, помогут другим оценить по достоинству Калифорнию, ее красоту и плодородие, несмотря на трудности пути туда. Он писал домой: «…я и мои соотечественники живем сейчас на самом дальнем Западе, ибо мы находимся далеко за теми пределами, которые известны в Соединенных Штатах как Дальний Запад». Единственное, что требовалось для этой коммерческой сделки, - это чтобы все вели себя порядочно. Однако Айзек Грэхем делал ставку не па порядочность, а на алкоголь, и планам Ларкипа был нанесен тяжелый удар. Порядочные люди не крадут миллионы акров земли, как и не тащат из лавКи муку или свечи. И все же Томас Ларкип не мог оставить л беде своих соотечественников. Понимая, что помощь арестованным мозкет навлечь на него неудовольствие калифорнийских властей, он все же отправился к Альворадо и получил у него разрешение доставлять арестованным провизию. Одновременно Дэвид Спенс, шотландец, занятый заготовками мяса,- получил у него разрешение снабдить тюрьму кожами, чтобы застелить сырые полы. Они добились также освобождения арестантов, не входящих в число сторонников Грэхема, и прекращения новых арестов. Саттеру удалось получить свободу еще и потому, лто Альворадо решил держать его на севере в противовес полковнику Вальехо. Единственное, чего не смогли добиться ни Ларкип, ни Спенс, - это юридической защиты, которая гарантировала бы арестованным возможность вызова свидетелей и судебное разбирательство с судьей и присяжными. Г1о мексиканским законам губернатор Альворадо объединял все эти функции в своей изрядно перепуганной персоне. После тринадцатидневного заключения арестанты в количестве примерно сорока человек были выведены из тюрьмы, препровождены на берег между двумя рядами солдат, а затем на гребных лодках доставлены на борт судна, специально зафрахтованного Вальехо. Закованный в цепн Грэхем был перепесен в лодку на плечах несколькими индейцами. Все население Монтерея и обитатели окрестных ранчо следили за происходящим: столь увлекательного зрелища они не видели с тех пор, как в 1818 году французский пират Бушар разграбил город. Пи один человек не может пасть так низко, чтобы у него не нашлось защитника. Юрист из Мэна, перебравшийся затем в Орегон, а оттуда па корабле добравшийся до Монтерея н носящий громкое имя Томаса Джефферсона Фарнхэма, прибыл сюда за день до высылки. Разъяренный до белого каления, он писал: «Двери тюрьмы распахнулись, и начали выходить ее изнуренные обитатели. На многих не было ничего, кроме пары изорванных панталон. Испанцы отняли у них не только их стада, лошадей и мулов, но даже и свободу. Несчастный старина Грэхем выглядел совсем убитым». Фарнхэм прокричал Грэхему: «Смелее! Мужчины из Теннесси не сдаются!» Возвышающийся на плечах индейцев Грэхем, поглядывая сверху вниз на окружающую толпу, оплакивал свою судьбу: «Как я теперь буду смотреть людям в глаза! Заковать человека в цени и вывезти его, как бочку солонины! Это ужасно!» Когда Томас Джефферсон Фарнхэм в присущем ему пылком стиле описал сцену депортации, обвинив при этом губернатора Альворадо в том, что он решил избавиться от Грэхема потому, что задолжал ему 2235 долларов, и опубликовал статью в одной из восточных газет, все лояльные американцы с горячей кровью пришли в негодование. «Бездельник, хвастун и неисправимый лжец, считавший, что ему все дозволено и что он всегда выйдет сухим из воды, превратился в национального героя». Вскоре маленькие лодки, сновавшие между берегом и судном, доставили свой груз на борт, поднятые паруса постепенно наполнились ветром, и «Ховеп гипускоапа» не спеша вышла из гавани. Губернатор и остальные калифор- нийцы решили, что безмятежные времена снова вернулись в Калифорнию. Капитан Джон Саттер, доктор Джон Марш, полковник Мариано Вальехо и Томас О. Ларкин, отлично понимавшие что к чему, так не считали. Это был не конец, а, скорее, начало. Белые паруса, так мило скрывающиеся за горизонтом, были театральным занавесом, опускающимся после пролога, известного как пасторальный век Калифорнии. Книга вторая ОТКРЫТИЕ ЗЕМЕЛЬ
Глава I
Джон Саттер делает решительный шаг Джеймс Дуглас, главный агент и предприимчивый глава Компании Гудзонова залива в Канаде, поднял занавес в 1841 году, появившись в первый день Нового года в заливе Монтерея с группой из ? тридцати шести опытных охотников и трапперов. Они могли бы составить мощную ударную силу, если бы Компания Гудзонова залива - передовой отряд британского правительства - проявила экспансионистские намерения. А для этого были все основания, ибо безрассудный Джон Саттер отважился довольно болезненно дернуть льва за хвост. Если Англия не отреагирует должным образом, этот коренастый голубоглазый швейцарский изгнанник, поддерживаемый канаками и индейскими союзниками, при помощи несложных махинаций суме? ет избавить Дальний Запад от англичан намного успешнее американского сената, который вел с ними многолетние переговоры относительно Орегона. Каждую весну начиная с 1832 года люди Компании Гудзонова залива спускались с гор и, двигаясь на югпо нехоженым тропам Орегона, добирались до СакрйМеН- то-Вэлли, расставляя здесь свои капканы; каждую осень они незаконно переправляли в Канаду драгоценные бобровые меха и кожи. Однако прошлой осенью Джон Саттер объявил Дугласу, чтобы тот не смел больше посылать своих людей в долину, поскольку все права на охоту п отлов зверей принадлежат ему. В недвусмысленных выражениях капитан Саттер дал понять, что, если охотники Компании Гудзонова залива снова появятся здесь, их встретят огнем. Это был жест неслыханной дерзости. И он сработал. Вместо того чтобы снова направить своих охотников по суше, Дуглас доставил их кораблем и обратился за официальным разрешением направить их в Сакраменто. Губернатор Альворадо дипломатически ответил, что Саттеру, по-видимому, следовало бы обратиться с просьбой, а не с приказом, но, поскольку в Сакрамснто-Вэлли уже имеется признанное калифорнийское поселение - Джон Саттер уже получил права гражданства и занял пост мелкого государственного чиновника, - охотникам Компании Гудзонова залива придется поискать охотничьих угодий в более отдаленных.местах. Дуглас, который ранее писал в своем дневнике, что «Калифорния во многих отношениях открывает возможности, несравнимые с иными частями мира», был тонким политиком. Оп тут же испросил у губернатора Альворадо разрешение на приобретение компанией в Йерба-Буэпе, где но закону никто, кроме мексиканских граждан, не имел нрава владеть землей, участка земли для строительства дома, в котором будет помещаться се торговый пост; поднять на нескольких судах мексиканский флаг, предоставив одновременно их английским капитанам мексиканское гражданство,.,)?го означало, что компания будет пользоваться статусом «наиболее благоприятствуем((! нации». Альворадо оказался сговорчивым. «Я сказал губернатору Альворадо, - пишет Дуглас, - что любые пожелания его правительства будут полностью удовлетворены». Своим же людям он признался: «У пас имеются и иные соображения политического характера, которые в зависимости от обстоятельств могут закончиться успешно либо безуспешно, однако в случае успешного осуществления результаты могут оказаться очень важными».
Он мог подразумевать только одно: когда Мексика утратит Калифорнию, нужно быть готовыми к тому, чтобы присоединить ее к Великобритании. В схватке на борцовском ковре истории каждая демонстрация силы приводит к противодействию: получение Дугласом особых привилегий обеспокоило живущих в Калифорнии американцев, которых не радовала перспектива снова оказаться на положении подданных Британской империи. Они не опасались, что Великобритания тайком присвоит Дальний Запад. Мексика задолжала Англии 50000 000 долларов наличными, и вполпе возможно, что мексиканскому правительству придет в голову уплатить долг бесполезной колопией. Такое предположение стало причиной повсеместного страха. Нанеся удар англичанам, Джон Саттер начал подготовку к повой схватке. Русско-американская пушная компания в форте Росс, лежащем на побережье в пятидесяти милях от Йерба-Буэпы, истощила за тридцать лет интенсивной добычи поголовье морских выдр, чьи серебристые шкурки шли в Каптопе по 200 долларов за штуку. Она отдала приказ прекратить калифорнийский эксперимент и вернуть поселенцев в Ситку, Сибирь и матушку-Роса-по. Наиболее ценные личные вещи, редкие книги, драгоценные драпировки, произведения искусства, пианино можно было погрузить па суда и доставить домой, но что было делать с несколькими пушками, добротно построенными домами, амбарами, церковью, двадцатидвухтопным баркасом, четырьмя малыми лодками, сорока девятью плугами, десятью телегами, упряжью, тысячью семьюстами голов крупного рогатого скота, девятьюстами сорока лошадьми и мулами, двумястами овец, не говоря уже о погрузочных механизмах в Бодега-Бей рядом с фортом? Саму землю русские не могли продать, поскольку у них никогда не было законно оформленных документов на право поселения. Они не признавали испанской власти к северу от залива Сан-Франциско и, зная, что у мексиканцев нет армии, оставались по-прежнему гостеприимными и дружелюбными соседями, ярким культурным центром, где можно было насладиться музыкой Старого Света, полюбоваться женщинами в красивых туалетах и провести время в Остроумной беседе, сдобренной тонкими винами. Они даже расплатились с индейцами за занятую землю, хотя плата эта и была невысокой - три одеяла, три пары брюк, два топора, три мотыгп п немного бус.
С момента их прибытия в 1812 году и вплоть до решения о распродаже и выезде в 1840 году русские представляли собой угрозу для владельцев Калифорнии. Силы, достаточные для осуществления захвата, могли быть быстро доставлены из Ситки. Однако русские вели себя с достаточной сдержанностью. А теперь они готовились к отъезду, оставляя после себя огромные ресурсы, которые могли помочь любой иной нации стать владелицей-Калифорнии. Хотя Русско-американская пушная компания получила миллионы от продажи меха морской выдры, вполне логично, что опа стремилась продать свою недвижимость по наиболее сходной цене. Русский комендант, как и полагалось, предложил сначала Мексике приобрести оставляемое имущество. Однако Мехико воспринял уход русских как свидетельство их поражения и приказал губернатору Альворадо просто занять форт. Решение это было принято не без помощи Альворадо, который заверял мексиканское правительство в том, что русские не найдут здесь покупателя. Затем русский комендант обратился с подобным же предложением к полковнику Мариано¦ Вальехо, своему ближайшему соседу. Вальехо согласился купить только скот. Тогда остальное имущество было предложено Компании Гудзонова залива за 30 ООО долларов. Заморский глава комгга пии сэр Джордж Симпсон отказался под тем предлогом, что они «не могут владеть землей, а просто инвентарь им пи к чему». Тогда на арену выступил Джон Саттер и предложил уплатить запрошенную цепу полностью. Саттер нравился русским, ои был желанным гостем в Ситке. Они считали его обаятельным, умным и предприимчивым человеком. Что с того, что у пего пет в наличии 30 ООО долларов? И не беда, если он сумел наскрести всего лишь 2000 в качестве задатка. Разве не он занят сейчас строительством обшир- иейшей империи? Разве не он засеял обширные поля кукурузой и хлебом, разве не он рассылает по окрестностям охотников, доставляющих ему богатые меха, разве не он построил кузницы и открыл лавки, полные товаров?
Итак, они продали Саттеру имущество форта Росс и Бодега-Бей. Сделка была заключена на весьма выгодных для Саттера условиях, с рассрочкой па четыре года начиная с 1 сентября 1842 года: две выплаты по 5000 долларов каждая, третья и четвертая - по 10 000 долларов, причем первые три платежа производились зериом, горохом, бобами, салом и мылом, четвертый - деньгами. Если бы русские остались еще на семь лет, до момента, когда в 1848 году было открыто золото, они могли бы первыми захватить самые богатые россыпи. Если бы Мексика купила пушки и скот, она могла бы вооружить и обеспечить продовольствием армию и подавить буит Медвежьего флага в 1846 году в Сономе, лежавшей в одном дневном переходе от форта Росс. Если бы Компания Гудзопова залива купила форт Росс и Бодега-Бей, англичане тогда настолько прочно закрепились бы в этих местах, что к моменту роспуска калифорнийского правительства Калифорния легко попала бы к ним в руки. Добыча досталась Джону Лугустусу Саттеру, предтече целых поколений азартных американцев, единственному на Дальнем Западе человеку, способному оценить значение форта Росс. Задолжав крупные суммы сэру Джорджу Симп-сону из Компании Гудзопова залива, Томасу О. Лар- кину из Монтерея, Натану Спиэру из Йерба-Буэны, своим соседям - ранчеро Марчесу, Маршу, Суньолу, он с азартом настоящего игрока утроил свои долги и загнал себя в кабалу па многие годы. И все же, строя свои планы, он был, несомненно, прав: до этого момента Нью-Гельветия была весьма рискованным предприятием. Хватит ли у него оружия, чтобы отразить массированные атаки индейцев? Достаточно ли у него плугов, фургонов и мулов, чтобы вести сельскохозяйственные работы в широких масштабах? Хватит ли инструментов и нпвентаря, чтобы обеспечить ими •колонию? Достаточно ли упрочены его позиции, чтобы сдержать обещание о выделении земель, которые оп так щедро раздавал всем желающим поселиться здесь? Однако, завершив перевозку лодок, пушек и скота в свой форт, Джои Саттер, сын десятника бумагоделательной фабрики и пасторской дочери, несостоявшийся клерк в типографии, столярной мастерской и на хлебном складе, который проявил свой характер, купив за двадцать пять ливров полное собрание сочинений сэра Вальтера Скотта, так и не расплатившись с прежними долгами, именно этот Джон Саттер менее чем за два года сумел стать самым могущественным человеком на Дальнем Западе. Любое правительство при его поддержке получало реальную возможность овладеть Калифорнией, если он вообще не решит взять в ней власть в собственные руки. Этот шаг стоил ему дружбы с Альворадо. Хосс Кастро, военный комендант Сан-Хосе, грозился снести с лица земли Ныо-Гельветию. И без того обычно красные, щеки Саттера запылали от гнева. Он отправил американскому свояку полковника Вальехо, Джекобу Линзе, взволнованное письмо: «Теперь уже поздно пытаться изгнать меня из страны. Я объявлю независимость и провозглашу Калифорнию республикой». Это было довольно хвастливое послание, в котором шла речь о десяти пушках и пяти полевых орудиях, о «пятидесяти преданных индейцах, умеющих отлично владеть мушкетами». И все же Саттер наверняка вступил бы в борьбу и, вполне возможно, разбил бы плохо вооруженных солдат Кастро. 1То крайней мере сам Кастро именно так и думал. Выжив трапперов Компании Гудзонова залива из Калифорнии, удержав мексиканское правительство от приобретения ценнейшего русского имущества, Джон Саттер доказал, что он сильнее мексиканской армии, и оправдал свои претензии на воинский чин. Капитан Джон Саттер сумел воплотить в жизнь то, что губернатор Альворадо определил как «идею заставить калифорпнйцев поверить, что он их судьба и провидение». А оп и был и тем и другим.
Глава II
«Оощество пребывает в крайне распущенном состоянии» На Дальнем Западе Россия вышла из игры. Англия, Франция, Соединенные Штаты занялись ловлей рыбы в мутной воде. В начале мая 1841 года Франция сделала первый ход, включив в игру элегантного и обаятельного юного атташе французского посольства в Мехико. Эжон Дюфло де Мофра, владеющий испанским, английским и немецким языками не хуже, чем родным французским, прибыл на барке «Нинфа» в Монтерей с тайным и важным заданием: осмотреть всю Калифорнию, составить карты ее береговых линии, рок и гаваней, пронести исследования ее почв, климата н ресурсов, изучить образ жизни ее населения и представить доклад обо всем этом в Париж. Уильям Хит Дэвис охарактеризовал де Мофра как «внимательного наблюдателя». За чем он столь внимательно наблюдал и с какой целью, было известно только его правительству. «Пресидио Монтерея сейчас совершенно разрушен, остались лишь жалкие остатки. Маленькая батарея расположена на западной стороне причала. Со стороны моря она защищена только небольшой земляной насыпью четырех футов высотой. Батарея эта не имеет ни рва, ни прикрытия с тыла, и к ней легко подойти с любой стороны… Калифорния будет принадлежать той стране, у которой хватит смелости направить сюда корвет и двести человек солдат… Этой провинции самой судьбой предназначено быть захваченной, и мы не понимаем, почему бы Франции не получить свою часть в этом великолепном и«?)следии». Соединенные Штаты вступили в игру с некоторым запозданием - в октябре 1841 года, - но весьма внушительно. Их представляла флотилия из четырех военных кораблей: «Винсеннес», «Порпуаз», «Флаинг Фиш» и «Орегон» - под командованием коммодора Чарлза Уилкса. Эта картографическая экспедиция составила карты пе исследованных до тех пор арктических и антарктических ледяных полей, а также островов Тихого океана. Уилксу было приказано правительством стать на якорь в заливе Сан-Франциско и пробыть там время, достаточное для промера глубин• и составления карт этого района. Вашингтон не побеспокоился заручиться согласием Мехико на эти работы, да и Уилкс не счел нужным, став на якорь, спросить разрешения - положение, сходное с тем, если бы аукционер проник в частную квартиру в отсутствие хозяев и занялся бы составлением описи вещей, которые, по его расчетам, пойдут однажды с молотка. Чарлз Уилкс родился в Пыо-Йорке в 1798 году. Отличаясь чисто пуританским складом характера, он считал аморальными любые развлечения, кроме чисто интеллектуальных. Проявляя с самого детства интерес к кораблям, он изучал навигацию и мореходные науки, в двадцать лет, проходя практику, плавал на военных кораблях по Средиземному морю и Тихому океану, а в 1838 году был поставлен во главе исследовательской экспедиции. Уилкс был предан интересам науки и исследований; а люди, преданные какому-нибудь одному делу, будь то художники или учепые, редко бывают приятными в обращении. В отличие от обаятельного де Мофра Уилкс отказался общаться с калифорппйцами и пе покидал корабля ради балов или званых обедов. Не нравились ему и кали- форнийцы испанского происхождения, контакты с которыми он ограничил до простого разглядывания их в сильную подзорную трубу с высокой палубы. «Местное общество пребывает в крайне распущенном состоянии: зависть, ненависть и злокозненность царят здесь в груди у каждого, при нынешнем правлении люди превратились в негодяев. С горечью вынужден отметить, что и женские добродетели пришли здесь в крайний упадок, встречаемые рукоплесканиями зрителей грубые и похотливые танцы свидетельствуют только о крайнем падении нравов». Его продрогшие офицеры «сравнивали здешний климат с холодами, порывистыми ветрами и покрытым тучами небом мыса Горн», однако не могли удержаться от восклицаний по поводу залива Сан-Франциско: «Он просто создан для нас!» Однако Уилкс оставался невозмутимым: «Страну эту никак не назовешь привлекательной. Здесь не видно ни малейших признаков земледелия, да и земли по обе стороны залива непригодны для него. Калифорния при первом же знакомстве не производит благоприятного впечатления ни своей красотой, пи плодородием». Одна из сентенций доклада Уилкса полностью совпадает с оценкой де Мофра: «Я был поражен, когда обнаружил в Калифорнии полное отсутствие какого-либо правления, даже формы и церемонии оказались здесь отброшенными». Доклад Уилкса был обескураживающим, однако одним из приказов, отданных им еще на северо-западе, юный н жадный до развлечений лейтенант Джордж Ф. Эммонс был поставлен во главе отряда, включавшего в свой состав военно-морского геолога и художника. Отряду этому было приказано выступить из Уилламетт-Вэлли в Орегоне и, двигаясь на юг, пересечь горные массивы у истоков реки Сакраменто. Он разрешил также группе американских эмигрантов в количестве двадцати четырех человек, которые прибыли с востока н дожидались оказии, двинуться на юг к форту Саттера и присоединиться к военно-морской экспедиции. Месяц ушел у отряда Эммонса, чтобы добраться до горы Шаста в северной Калифорнни. Он прибыл в форт Саттера 19 октября 1841 года. В пути приходилось переносить голод и лишения, но, когда на Востоке стало известно, что целая партия, в которой были по меньшей мере три женщины и семимесячный младенец, благополучно добралась по Орегонскому тракту до Калифорнии, началась миграция целыми семьями. С момента прибытия партии Эммонса Саттер начинает играть роль отца семейства для эмигрантов, держащих путь через горы. Лейтенант Эммонс писал в своем докладе: «В блестящем мундире мексиканского офицера, великолепный внешне, он точь-в-точь походил па Кортеса, каким тот рисовался в моем воображении в дни своей славы. Все, чего только душа не пожелает, предоставлялось пам из щедрых запасов этого человека с великодушным сердцем. Свежие припасы доставлялись в наш лахерь ежедневно, включая свежеиспеченный хлеб, молоко, рыбу и деликатесы, которые были так необходимы нашим больным и истощенным людям». Коммодор Уилкс пробыл в заливе Сан-Франциско всего две недели, а потом его флотилия подняла якоря и поплыла в Гонолулу готовиться к окончательному возвращению домой. Опубликовав в 1844 году самый мрачный отчет о Калифорнии, он занял определенное место в истории Дальнего Запада именно благодаря этому. Хотя три страны вступили в азартную игру за обладание обширнейшими мексиканскими землями, ни одной из их экспедиций не суждено было в конечном счете решить эту проблему. Роль эта выпала на долю двадцатидвухлетнего Джона Бидуэлла, бывшего школьного учителя из графства Чаутакуа штата Нью-Йорк, который сколотил и провел первую группу эмигрантов через считавшиеся непроходимыми горы, палящие пустыни и бесплодные равнины, доставив их в целости и сохранности к ранчо доктора Джона Марша. У них не было пи карт, ни проводника, только весьма легкомысленное описание Марша: «Трудности попасть сюда - воображаемые. Я мог бы порекомендовать следующий маршрут: из Индепенденса до пересечения границ у Зеленой реки, затем к Сода-Спрингс по Медвежьей реке выше Большого Солепого озера, затем к реке Марии, пока не достигнете просвета в больших горах. Пройдя эту седловину, вы по хорошей дороге доберетесь до Сан-Хоакин-Вэлли и, спускаясь вниз по реке, выйдете на равнину, где тысячами бродят лоси и лошади. Три-четыре дня пути приведут вас к моему дому».В описании Марша путь кажется чрезвычайно легким, но объясняется это тем, что сам он, прибывший в Калифорнию с юга, по Старому Испанскому тракту, никогда этим путем не шел. Что же касается калифорнийцев, то они отнюдь не радовались неожиданному превращению их побережья в модный международный курорт.
Глава III
«Трудности попасть сюда - воображаемые» Образование партии Бидуэлла произошло в результате слияния двух ручейков на топографической карге времени, ни один из которых, предоставленный собственной судьбе, не способен был бы проложить себе дорогу сквозь сплошную каменную преграду. Доктор Джон Марш после кратковременного пребывания в монтерейской тюрьме укрепился в своем прежнем мнении, что калифорнийцы не способны управлять своей страной. Дабы исправить это" положение, он припялся писать своим друзьям в Миссури письма, приглашая их в Калифорнию. Одно из этих писем было опубликовано в сан-луисской «Дейли Аргус»: «Это, вне всяких сомнений, великолепнейшая страна с великолепнейшим климатом. Чего нам здесь не хватает, так это людей. Если бы у нас было полсотни семей из Миссури, мы могли бы делать все, что нам заблагорассудится, без всяких опасений. Трудности пути сюда - чистая выдумка…» Не прошло и нескольких дней с момента публикации этого письма, как 31 октября 1840 года французский траппер Аптуап Робиду объявился в том же графстве штата Миссури, где сообщение Марша весьма горячо читалось и обсуждалось. Джон Бпдуэлл, человек могучего телосложения и с лицом римского сенатора, жадно вслушивался в рассказы Робиду о Дальнем Западе. Бпдуэлл родился в английской семье 5 августа 1819 года. Его биограф говорит о нем как о человеке, обладающем «гениальностью изобретателя, несокрушимой настойчивостью в достижении цели, доходящей иногда до полного самоотречения». В десять лет он с родителями совершил путешествие на Запад, в Эрн, штат Пепспльвания, и в че тырнадцать - в западное Огайо. В восемнадцать лет он уже руководит маленькой школой, выучив наизусть «Латинскую грамматику» Киркхэма и поразив тем самым экзаменационную комиссию. Накопив 75 долларов, он решил поглядеть на прерии Запада. Эти 75 долларов и сильные ноги провели его по Айове и Миссури па канзасскую территорию, где он некоторое время преподавал в школе, а затем сделал заявку на участок в сто шестьдесят акров. Летом следующего, 1840 года он отправился вниз по реке Миссури в Сан-Луис за припасами, а вернувшись, обнаружил, что заявленный им участок занят другими. Именно в этот критический момент до него дошли призывы Марша и Робиду. Рассказы эти воспламенили обычно сдержанного Бидуэлла: «Робиду отзывался о Калифорнии с такой высокой похвалой, что я решил сам посмотреть эту удивительную землю и вместе с другими помогал организовать собрание в Уэстоне. Робиду говорил о ней как о земле вечной весны и безграничного плодородия… Он сказал, что испанские власти весьма дружелюбны, а люди - самые гостеприимные в мире: можно проехать по всей Калифорнии и никто не потребует с тебя плату за пищу или корм лошадям. В его описании земля эта выглядела истинным раем». С помощью Бидуэлла было основано Западное эмиграционное общество, объединившее пятьсот энтузиастов, поклявшихся «купить соответственный инвентарь и встретиться девятого мая следующего года вооруженными и снабженными всем необходимым для того, чтобы пересечь Скалистые горы и попасть в Калифорнию». Никто из них не знал, как туда попасть и вообще где была эта Калифорния, кроме того, что она находилась где-то на крайнем западе Дальнего Запада и что путешествие закончится тогда, когда дорогу преградит Тихий океан. На единственной карте, которую удалось раздобыть Бидуэллу, изображались две или три реки, по величине не уступающие Миссисипи, которые вытекали из Большого Соленого озера и впадали в Тихий океан. Владелец этих карт порекомендовал юному Бидуэллу запастись инструментами для изготовления лодок! ???? 49 Затем в марте 1841 года Томас Джефферсон Фарихэм, горячий защитник Айзека Грэхема, опубликовал в газете весьма слезливую статью. Слезы эти смыли с лица земли все Западное эмиграционное общество… но не Джона 4 Зак. ДО 1463Бидуэлла: «Наш комитет распался, несмотря на то г!го клятва была составлена в самых торжественных выражениях, на которые только способен язык человека. Наступил май, и из всех подписавших клятву я оказался единственным готовым отправиться в путь: на место сбора я прибыл в собственном фургоне!» Часто бывает, что, казалось бы, начисто пропащее дело проводит в жизнь и завершает победой человек, сумевший подняться выше человеческого роста. Вскоре к Бидуэллу присоединился верхом на великолепной черной лошади Джордж Хинслоу, инвалид. Затем выразили желание отправиться в путь Роберт Томас и Майкл Най; в Уэстоне к ним присоединился фургон с четырьмя или пятью пассажирами. С Сэплинг-Гроув-месте предполагаемой встречи - их дожидался еще одни фургон, а затем группа из восьми человек во главе с Джоном Бартльсоном прибыла из Индепенденса. В течение пяти дней собралось шестьдесят девять мужчин, женщин и детей, некоторые прибыли сюда из таких отдаленных мест, как Арканзас. В партии постоянно возникали ссоры, которые разрешали избранные ими вожаки: Бартльсон как командир, поскольку он отказывался присоединиться к экспедиции иначе, как во главе ее, а Бидуэлл как секретарь. Никто из этой партии никогда не бывал на Западе. Ни у одного из них не было карты или каких-либо сведений о рельефе местности, об источпиках воды, питания, фуража просто потому, что об этом никто пикогда пе писал. Им приходилось идти вслепую. К этому времени прибыла группа католических миссио- перов, направлявшихся в Орегон. Во главе их стоял отец Пьер?Кан де Смет, который уже путешествовал по диким местам северо-востока в сопровождении проводника Фиц- патрика Сломанная Рука, одного из бессмертных горцев 1830-х годов. В ходе последующих трех месяцев, когда они пересекали прерии вдоль течения реки Платт по пространствам, которые составляют сейчас шта? ы Небраска и Вайоминг, Бидуэлл и его спутники усваивали сложную науку уцелеть в прериях. В Сода-Спрингс, чуть севернее нынешней Юты, партия разделилась: тридцать два человека из отряда Бартльсона - Бидуэлла решили сопровождать отца де Смета и Фнцпатрика в Орегон. Джон Бидуэлл и еще тридцать один человек, включая Бенджамина Келси, его жену н маленькую дочь, решили продолжать путь в
Калифорнию. Единственный совет, который им смог дать Фнцпатрнк, был: «Отыщите реку Марии и следуйте по ней до конца, а потом держите путь на запад, только на запад». Под командовапием Джона Бартльсона партия в августе 1844 года вступила на территорию, которая теперь относится к штату Юта, в пункте, лежащем в нескольких милях к северу от Огденс-Хоул и Великого Соленого озера, и начала путешествие беспримерной храбрости. Историки Чарлз и Мэри Бирд пишут: «По сравнению с испытаниями и страданиями, которые пришлось перенести этой партии, трудности путешествия на «Мэйфлауэр» выглядят совершенно незначительными. Наверняка события, связанные с этим первопроходческим путешествием, хотя и пе так прославлены в анналах истории, как подвиги пилигримов, заслуживают ярчайшей главы в эпическом повествовании об Америке». Бидуэлл, который пообещал издателю из Миссури вести подробнейший дневник своего путешествия в качестве руководства следующим партиям, записал, когда они увидели Соленое озеро: «Мы вышли рано, рассчитывая вскоре найти свежую пресную воду. Однако, увы! Солнце тяжело нависало над нашими головами весь день напролет, а мы не видели впереди ничего, кроме безграничной бесплодной равнины, светящейся маревом от жары и соли; вскоре равнина оказалась настолько насыщенной солыо, что всякая растительность исчезла вовсе; почва во многих местах была белой как снег от соли и совершенно гладкой. Под полуденным солнцем нам начинало казаться, что по равнине разбросаны доски. Мы зашагали вперед с еще большей поспешностью, пока 'не поняли, что это иллюзия». Им пришлось резать волов па мясо, бросать фургоны и снаряжение, часто совершать переходы до самой полуночи, высылая вперед разведчиков в поисках воды, травы, дичи, рок. 7 сентября партию покинули ее командир Бартльсон и его первоначальная группа, которые решили, что остальные движутся слишком медленно, лишив их поддержки восьми вооруженных людей. ???? 51 Джон Бидуэлл взял на себя командование и повел свою пешую группу через «долины, лежащие между пиками гор. Поднявшись примерно на полмили, мы увидели жуткую картину: голые горы, на склонах которых сохранился снег, лежавший здесь, может быть, целые тысячелетня.
4"
Ревел ветер, по в зияющих повсюду глубоких сырых провалах царили тишина и одиночество». Выпужденные убить на мясо сначала лошадей, а затем и мулов, преследуемые враждебными ипдейцами, они продолжали путь. Бидуэлл сохрапил себе жизнь, съев «объедки» волка. Он вел своих людей через все новые горы, новые долины, новые крутые каменистые склоны. Обувь их пришла в негодность, одежда превратилась в лохмотья,• а они все еще не знали, сколько дней, горных хребтов и пустынь отделяет их от их химеры - Калифорнии. Всего лишь две экспедиции белых проделали подобное сухопутное путешествие до них: Джедедиа Смит, который проник в южпую Калифорнию в 1826 году по Старому Испанскому тракту и пересек горы, двигаясь па восток, и Джозеф Уокер в 1833 году г партией из тридцати пяти горцев. Шансы на то, что Бидуэллу удастся довести свою группу до цели, уменьшались с каждым днем. Они вошли в Юту по Медвежьей реке, обошли с севера Великое Соленое озеро и двинулись на юго-запад через соленую пустыню по направлению к нынешней Неваде в поисках реки Марии. Партия вышла к реке в том месте, которое теперь Называется Гумбольдт Вэлли. Двигаясь вниз по реке, она добралась до мелких болот, названных позднее Гумбольдт- Сипк, пересекла Пустынные горы, лежащие'перед хребтом Сьерра-Невады, затем начала подъем по дикому восточному склону Сьерра-Невады. Она потеряла целую неделю в безумном переплетении головокружительных пропастей, вершин, бесконечных отрогов, пытаясь отыскать спуск по западному склону. Бидуэлл привел своих людей изголодавшимися, оборванными, с запавшими от пережитого глазами, не потеряв ни одного человека. Он был неутомимым, разъезжая ночами в поисках потерянных волов, ведя на почти отвесных склонах торг с индейцами за жалкие продовольственные припасы, у него даже хватило духа на благотворительный жест: принять обратно в свою партию Бартльсопа, когда их бывший предводитель, рыдая, объявил: «Если мне когда-нибудь суждено будет вернуться в Миссури, я с удовольствием буду жрать из одного корыта со своими свиньями!» 1 ноября, более чем через семьдесят дней после прибытия в Юту и па Дальний Запад, Бидуэлл и его партия увидели посланных вперед неделю назад Джонса и КелсН подымающимися им навстречу по горному склону. Внизу, в долине, они встретили индейца, который произнес то единственное известное ему слово на английском языке, которого они так жаждали: «Марш!» Еще через три дня, 4 ноября 1841 года, Бидуэлл привел спою партию на ранчо Джона Марша, благополучно завершив сухопутное путешествие первой партии эмигрантов в Калифорпию.Глава IV
Школьный учитель Бидуэлл попадает в тюрьму Биографии далеко ие всегда похожи на сладкозвучные мелодии, даже и в тех случаях, когда за исполнение их принимается первоклассный мастер. Доктор Джон Марш принял партию БидуЭлла с огромной радостью: ведь это были его старые соседи по Миссури, и, кроме того, оп был горд тем, что, как писал он своим родителям, «они прибыли прямо к моему дому без какого- либо проводника, руководствуясь только указаниями моего письма… Чего я больше всего желаю и на что я уже положил столько трудов, так это на заселение этой страны американцами». Для праздничного обеда по поводу их прибытия Марш заколол двух свиней. Он великодушно использовал часть своего скромного запаса зерна, чтобы обеспечить каждого из прибывших свежеиспечоиными тортильямн. Благодарные за теплый прием, гости Марша пытались отдарить его из своих скромных запасов: несколькими патронами, ножом, недорогим набором хирургических инструментов. Марш предоставил свою спальню семье Келси, а на земляных полах расстелил кожи, чтобы дать пристанище еще стольким людям, сколько способны вместить стены глинобитного дома. Прежде чем пожелать спокойной ночи своим Друзьям, он предложил им зарезать утром бычка на завтрак. I Га следующее утро Марш вышел во двор и обнаружил, что Бидуэлл и его люди по ошибке зарезали и уже доедали его самого лучшего рабочего вола. Вместо вчерашнего любезного хозяина перед ним! предстал злобный и черствый чужак, который заорал: «Ваша компания уже обошлась мне больше чем в сотпю долларов, и один только бог ведает, получу ли я когда- нибудь за это хоть один реал». Бидуэлл собрал совещание. Решено было немедленно покинуть Марша. Половина партии решила заняться охотой в Сан-Хоакин-Вэлли, а остальные - направиться в Сан-Хосе в надежде подыскать работу. Когда первые пятнадцать человек добрались до миссии Сан-Хосе, они были арестованы супрефектом Антонио Суньолом и посажены в тюрьму за проникновение на мексиканскую территорию без паспортов. Полковник Мариано Вальехо находился тогда в миссии. Будучи поклонником американцев, он был рад известию о том, что они форсировали Сьерра-Неваду и решили поселиться в Калифорнии. Но как командующий войсками северной территории он был обеспокоен появлением банды вооруженных людей, представляющей собой силу, не уступающую его армии! Узнав о том, что они прибыли по приглашению Марша, Вальехо отправил одного из них к нему с приказанием явиться немедленно. Марш подписал обязательства па пятнадцать человек, сам Вальехо великодушно внес требуемый залог еще за пятерых, которых он пригласил на свою асьенду в Соному погостить там, пока им не удастся найти работу или купить землю. Очевидно, Марш не испросил паспорта для Джона Бидуэлла. Когда Бидуэлл узнал, что для него нет паспорта, он поссорился с Маршем и отправился в миссию Сан-Хосе. Здесь Суньол и арестовал его. «Я был доставлен под конвоем в каталажку, где меня продержали три дия без пищи. В тюрьме было еще четверо или пятеро индейцев, которые якобы украли лошадь, их держали закованными и в наказание заставляли постоянно звонить в колокол». В тюрьме Бидуэлл узнал, что партия Эммонса, которая добралась до форта Саттера на пятнадцать дней раньше, не получила со стороны властей столь обильного блохами приема. Они оказались под покровительством капитана Джона Саттера, который в качестве мексиканского чиновника с весьма неопределенными обязанностями с царственным величием решил, что имеет право не только выдавать паспорта всем вновь прибывающим, но и одаривать их земельными наделами в Сакраменто-Вэлли. Бидуэллу удалось в конце концов привлечь к себе внимание Томаса Боуэна, проживавшего в Сан-Хосе американца, который внес за него залог и получил для него у Вальехо паспорт. Трн дня, проведенные в каталажке, ожесточили Бидуэлла. Он направился в форт Саттера, где, как ему сказали, можно было получить работу, и унес с собой неистребимую ненависть к Джону Маршу - результат первой из бесчисленных ссор, которым предстояло превратить спокойный и щедрый Дальний Запад в страну грубого насилия. К концу 1841 года в Калифорнии появилась третья группа поселенцев. Джон Роуленд, Уильям Уоркмен, Бенджамин Уилсон и группа американцев, проживавших в Таосе и Санта-Фе под мексиканским правлением, уже несколько лет зарабатывали себе на жизнь охотой и ловлей зверей. Уилсон же прибыл сюда с намерением поправить здоровье. Некоторые из них состояли в переписке с лидерами восстания в Техасе, поговаривали о том, что из Техаса двинется экспедиция с целью захватить Ныо-Мексико и присоединить его к Техасу. Летом 1841 года правительство Пыо-Мексико начало подозревать о готовящемся заговоре. Уилсон пишет: «В этих условиях Роулеиду, Уоркмену и мне вместе с двумя десятками других американцев пришлось прийти к выводу, что нам небезопасно оставаться здесь далее». Партия Уоркмепа - Роулепда была сформирована в Лбикиу на севере центральной части Ныо-Мексико в нескольких милях от Таоса. К пей присоединились Айзек Джайвен и Ллберт Тумс, которые прибыли в Сэплинг- Гроув, штат Миссури, слишком поздно, чтобы присоединиться к партии Бидуэлла, несколько нью-мексиканских торговцев, а также группа ученых, намеревающихся исследовать лежащие на пути земли, и несколько мексиканок. Вслед за партией гнали отару овец, предназначавшуюся на мясо. Чтобы избежать страшной жары пустыни, партия выступила в путь в первую неделю сентября и двинулась точно па север. За несколько дней она пересекла юго-западный угол современного Колорадо. Продолжая путь на северо-запад, опа пересекла реку.Колорадо, а затем Зеде- иую и Севье. От испытывающей мучения партии Бидуэлла ее отделяли всего двадцать дней и двести миль. Старый Испанский тракт резко поворачивал на юг, следуя по течению сначала Севье, а потом и Вирджинии среди царственных, великолепно освещенных горных вершин, которыми можно любоваться сейчас в национальных парках Брайс и Сион, через пустыню Мохэв, через пере,- вал Кахон, а затем вниз в молоку, меду и апельсиновым рощам миссии Сан-Габриэль. Дуть их пролегал примерно по:той же трассе, по которой ныне проходит автомагистраль между Солт-Лейк-Сити и Лос-Анджелесом. Бенджамин Уилсон, направлявшийся в Калифорнию только ради того, чтобы попасть на отплывающий в Китай корабль, в отличие от Джона Бидуэлла все описание путешествия свел к одной-единственной фразе: «В пути у нас не было никаких несчастных случаев, с собой мы гнали овец, обеспечивающих нас провизией, и прибыли в Лос- Анджелес в начале поября». Роуленд отвез список своей партии в Лос-Анджелес, где власти дали им разрешение остаться. Уоркмен и Роуленд, женатые на мексикапках и ставшие мексиканскими гражданами еще в Таосе, воспользовались этим для приобретения ранчо Пуэнте в Сан-Бернардино-Вэлли. Бенджамин Уилсон, который не отказался от своего американского гражданства и собирался в Китай, счел, однако, возможным купить ранчо Херупа. В 1841 году три самостоятельные группы эмигрантов проделали путь в Калифорнию. Однако сэр Джордж Симпсон, глава Компании ГудзоНова залива, успел под занавес сказать слово и в пользу Великобритании. Прибыв сюда, совершая кругосветное путешествие, 30 декабря, он записал: «Богатейшая часть Калифорнии должна стать британской в том или ином значении этого слова. Либо Великобритания введет здесь свою тщательно сбалансированную свободу всех классов и цветов кожи, либо люди из Соединенных Штатов зальют страну своей собственной странной смесью беспросветногорабства и вольного беззакония». Сэра Джорджа трудно отнести к числу наиболее тактичных гостей Калифорнии, однако невозможно пе восхищаться его даром нредвидепия.Глава V
Гостеприимный форт Когда Джон Саттер узнал, что партия Бидуэлла продвигается через Сьерра-Неваду, оп нагрузил двух мулов провизией и направил двух своих людей, чтобы помочь эмигрантам добраться до своего форта. Однако контакт не состоялся, и у Джона Бидуэлла ушла целая неделя, чтобы проделать утомительное путешествие к Саттеру, так как период дождей был в разгаре. «Ручьи повыходили из берегов, равнины были залиты водой. Дичь встречалась в изобилии, но стрелять под дождем было очень трудно, невозможно было наши старые кремневые ружья держать сухими, а особенно - порох на полках». Но трудности пути были забыты после теплой встречи, устроенной Саттером, с горячей пищей, крепким бренди и дружеским предложением обеспечить всех работой. Джон Бидуэлл, который начал работать у Саттера, сообщал: «Пока у него было хоть что-нибудь, он предоставлял это в пользование любого, не делая различий между друзьями и совершенно посторонними людьми. Благодаря неизменному радушию и щедрости его поселение стало родным домом для всех американцев, в котором они могли бесплатно жить, сколько им заблагорассудится. Каждый был желанным гостем: один человек или сотня - безразлично». Один из биографов Саттера пишет: «Он был одним из тех подобных Фальстафу героев, которые живут для того, чтобы наслаждаться радостями жизни. Сама его фигура источала заразительную жизнерадостность. Здесь-то и таится обаяние его личности, которая в лучшие свои моменты была таким же чудом природы, как великолепный водопад, гейзер или сверкающая гроза». Весьма важным было убеждение Саттера в необходимости завершения строительства форта и укреплений до того, как кто-либо решит, что он становится слишком сильным и безопаснее всего его изгнать. Он направил провизию партии Бидуэлла пе только для того, чтобы оказать ей помощь, но и в расчете па то, что, попав в Ныо-Гельве- тию, мужчины поступят к нему на службу трапперами, механиками, фермерами, солдатами. У него не было денег, но он мог предложить им более существенную компенсацию в виде провизии, жилья, защиты и, что самое главное, наделов земли, раздаваемых им не вполне легально. Но кто из калифорнийских правителей имел доСтйтОчйо силы, чтобы отобрать ее? Когда Бидуэлл 28 января 1842 года попал к Саттеру, он обнаружил, что форт почти построен: над стенами возвышаются бастионы, прикрывающие въезды, пушки из Гонолулу и форта Росс выставлены перед входом. Внутри форта, в пристройке к задней стене, было множество помещений для ночлега, кухни, столовые, кузница и кожевенная мастерская, склад и винокурня. В центре форта располагался корраль для скота и жилые помещения. У Саттера уже состояло на службе около тридцати иностранцев, среди них был и Роберт Ридли, лондонский кокни, сбежавший с проходившего по реке корабля. Саттер любил Ридли, который прославился как «самый легкомысленны¦??, артистический и невозмутимый лжец во всей Калифорнии», за то, что тот великолепно играл в вист. Перри Мак-Кун ведал скотом, бывший моряк Уильям Дэйлор был поваром, а француз Кусто - секретарем Саттера. Было еще два немца - Николаус Альгайер и Себастьян Кейзер, - Пабло Гутьерес, попутчик Саттера на тракте из Санта-Фе, а также Джоэл Уокер, который прибыл из Орегона с партией Эммоиса. У Саттера все еще жили его «восемь верных канаков» и три канакские женщины. Ипдейцы, ранее состоявшие при миссии, занимались выделкой необожженного кирпича: несколько сот независимых храбрецов по приказу своих вождей ковыряли землю заостренными палками. Индейцев кормили во дворе под открытым небом из корыт, наполненных горячим соусом-кашей, приготовленным из отрубей, мяспых обрезков и овощей. Индейцы становились на колени по обе стороны этих желобов и руками отппавляли в рот вязкую смесь. Саттер отправил Джона Бидуэлла в Бодега-Бей помогать грузить на суда имущество из форта Росс. Джозеф Чилс из партии Бидуэлла вернулся за своей семьей в Миссури, увозя с собой составленную Бидуэллом хронику их путешествия на Запад. Опубликованная, она получила широкое распространение как рассказ о том, что не только мужчины, но и женщины с детьми благополучно добрались до Калифорнии.Однако Чилс уе?;ал слишком рано и пе смог привезти еще одну интересную новость: в марте 1842 года мексиканский рабочий, вырвав головку дикого лука на земле Игна- сио дель Балле в северной части Сап-Фернандо-Вэлли, обнаружил камешек, в который был вкраплен металл, оказавшийся золотом. Многие мексиканцы из Сопоры занялись изучением почвы. Они обнаружили, что, промывая гравий реки Санта-Клара, а также песок и землю, намытые рекой, можно добыть золота на два доллара в день. Префект Лос-Анджелеса, опасаясь наплыва золотоискателей, назначил владельца земли дель Балле мировым судьей и дал ему право взимать налог за промываемую землю. 2 доллара в день сразу же сократились до нескольких центов, и только самые упорные из мексиканцев продолжали это неблагодарное занятие.
Г л а в а VI
Сцена переносится в Колорадо. «Юридическая фикция» Один из историков Колорадо утверждает, что «Колорадо является юридической фикцией, так как у него нет естественных границ». Его собрали из частей четырех уже существующих территорий: Канзаса на востоке, Юты на западе, Вайоминга на севере и Ныо-Мексико па юге.• Испания считала, что Калифорния принадлежит ей уже хотя бы потому, что Колумб вообще открыл Новый Свет. В 1541 -1542 годах в том уголке земли, возможно, побывал Коронада в его бесплодных попытках отыскать Семь Золотых Городов Чиболы. Первыми подтвержденными документами экспедициями белых людей в Колорадо были две: в 1664 году - под предводительством Хуана Аркулеты и в 1706 году - Хуана Урибарри, когда испанские солдаты вместе с индейскими союзниками преследовали бегущих из Ныо-Мексико индейцев. Испанцы называли этот район Санто-Доминго, а Колорадо они назвали реку на западном склоне Скалистых гор. Колорадо по-испански означает «красная». Франция претендовала на территории Колорадо, ссылаясь на открытия экспедиций Жоле в 1673 и Ла-Салле в 1682 году. Группа из двадцати франкоканадцев, пытавшаяся достичь Сапта-Фе, добралась в 1706 году до колорадских отрогов Скалистых гор.Трагическая судьба постигла испанский военный отряд под командованием Педро Вилласура в 1720 году, когда почти вся его экспедиция, состоящая из сорока двух испанцев и шестидесяти индейцев, была перебита, наткнувшись на засаду индейцев пауни и французов. Французы занялись поисками тех сокровищ, которые не удалось найти Коронадо: золота, серебра и мехов. В 1724 году Бургмон проделал путь из Иллинойса до восточных границ; в 1739 году братья Малле прибыли в восточное Колорадо из Санта-Фе. В 1763 году французы, потерпев поражение в войнах с индейцами, ушли из этих земель, оставив их во владении испанцев. В июле 1776 года, в то время как группа бесстрашных политических экспериментаторов в Филадельфии, штат Пенсильвания, Подписывала бумаги, открывающие пути в неисследованные социально-экономические дебри, первая настоящая исследовательская партия вышла из Санта-Фе во главе с отцами Домингесом и Эскаланте. Испанское правительство поручило им проложить дорогу к католическим миссиям в Калифорнии. Эскаланте двигался по неисследованным землям к северу н западу от Санта-Фе, делая привалы по течению реки Сан-Хуан. Это место он назвал Богоматерью Снегов - первое место в Колорадо, дата названия которого известна. Партия перешла реки Гранд-Месса и Колорадо, затем двигалась по территории Юты и добралась до озера Юта, прежде чем горы и холода заставили ее повернуть обратно, обследовав, таким образом, в 1776 году первую половину Старого Испанского тракта. В 1803 году Соединенные Штаты совершили покупку Луизианы, а еще через три года капитан Зебулон Иайк с группой из двадцати трех человек был направлен командованием, чтобы установить мирные отношения с индейцами, составить карты юго-западной границы купленных земель, которая вроде бы проходила по колорадской части Скалистых гор, но что еще более важно - представить научный доклад о новой земле: о ее географии, ботанике, населении, минеральных запасах, навигации, дорогах. Подобные же инструкции армейское командование дало в 1842 году лейтенанту Джону Чарлзу Фремонту. Пайк подошел к Скалистым горам 15 ноября; он был первым американцем, увидевшим эти величественные горы. 23 ноября он возвел первое американское строение в Колорадо - бруствер неподалеку от нынешней окраины Пуэбло. Одну из гор Пайк назвал Большим пиком. Целую неделю оп пытался определить ее размеры, но не смог. Позже Пайк добился, чтобы эту гору назвали его именем. Его экспедиция проделала путь по Ройял-Гордж, Саут-Парку, двигаясь по течению реки Арканзас на северо-запад. Она перенесла невыносимые мучения от холода, пересекая горы Сангре-де-Кристо. Отлично написанный отчет об этом путешествии был опубликован в 1810 году и вызвал большой интерес к Колорадо не только на востоке Соединенных Штатов и в Великобритании, по и в других странах. Вторая военная экспедиция, снаряженная инженерно- топографической службой Соединенных Штатов, была возглавлена майором Лонгом и лейтенантом Свифтом - весьма опытными картографами. В помощь им были даны зоолог, ботаник, натуралист и художник, рисующий ландшафты. В составе двадцати человек она пересекла границу Колорадо в его самом северо-восточном углу. Затем, двигаясь параллельно реке Саут-Платт, она обнаружила пик, который был назван пиком Лонга Далее путь ее пролегал через нынешние Денвер и Колорадо-Спрингс. После того как Лонг окрестил восточную часть Колорадо вплоть до самых горных отрогов Великой Американской пустыней и объявил ее «не приспособленной для обработки», миграция в западном направлении была приостановлена почти на три десятилетия. Период между экспедициями майора Лонга в 1820 году и лейтенанта Фремонта в 1842 году изобилует эпическими историями об охотниках и трапперах, которые в поисках новых охотничьих угодий разведывали и прокладывали пути по территории Колорадо с такой энергией, которой хватило бы на двадцать военных экспедиций. Повесть о раннем Колорадо - это и есть повесть о людях гор: Дже- дедиа Смите, Джиме Бриджере, Томасе Фицпатрике Сломанная Рука, Ките Карсоие, Уильяме Эшли, Саблетгах, Джозефе Реддерфорде Уокере, Джеймсе Огайо Патти, братьях Бент, Антуане Робиду, Калебе Гринвуде, Васкесе, Сент-Врейне, Пите Скине Огдене, которые были величайшими землепроходцами со времен Дэнпэла Буна и его собратьев, открывших Кентукки. Работая на себя пли на крупные меховые компании, чаще всего женатые на индианках, они большую часть года проводили в девственных лесах, появляясь летом со связками драгоценных шкурок на одном из торговых постов или заранее намеченных мест, чтобы «паменять провизии, спиртного, безделушек для Жен и провести недельку в кутеже», прежде чем вернуться к одиночеству горных озер и ручьев еще на год опасностей и приключений, а если необходимо - и новых открытий. На этих летних ярмарках собиралось иногда до двухсот белых и двух тысяч индейцев. Посты, служившие фортами, защищавшими от нападений враждебных индейцев, строились обычно торговцами, которые доставляли с Востока муку, сахар, кофе, одежду, ружья, ножи, виски, табак для обмена на меха. В ранние годы бобровые шкурки стоимостью 6-8 долларов каждая выменивались па пинту виски, особенно у индейцев, у которых, как объяснил полковнику Доджу один арапахо в 1835 году, жизненные ценности располагались в следующей последовательности: «Сначала - виски, потом - табак, потом - лошади, потом - ружья и потом - женщины». В период между 1826 и 1840 годами здесь было восемь важных торговых постов: Эль-Пуэбло-Бента на реке Арканзас, в юго-восточной ее части, где она течет почти но прямой; примерно в двухстах милях к северу на Южном Плато располагались посты Васкеса, Сэпри, Лаптопа и Сенг-Врейна; в самом северо-западном углу, у границы с Ютой, Дэви Крокета и Анкомпагре на Сан-Ниссоне. Меха на многие миллионы долларов шли отсюда в Ныо-Йорк, Бостон, Париж, Берлин. Их добывалось так много, что бобры и бизоны уже были близки к истреблению, а эра горцев, торговых постов и летних ярмарок, подходила к завершению. Эта сеть торговых постов в известной степени напоминала сеть испанских миссий, построенных католическими священниками; и хотя они не уцелели - сделанные из необожженных кирпичей, стены легко обваливались, - торговые посты были первыми поселениями в Колорадо. Вокруг них, как и вокруг миссий, иногда вырастали города. Век людей с гор, век охотников кончился, им предстояла новая, не менее важная роль: единственные белые, которым известны были каждая миля в горах, каждый ручей в этих самых восточных частях Дальнего Запада, они станут незаменимыми проводниками для бесчисленного множества экспедиций н эмигрантских групп, держащих свой путь в Калифорнию. Колорадо представляло собой один из самых диких, самых изумительных и самых прекрасных географических районов земного шара; в 18*12 году эти горы, столь Же величественные, как Швейцарские Альпы, будут покорены и заселены.
Глава VII
«Нет человека, которому я был бы обязан тем же, чем Фремонту» 9 июля 1842 года в северо-западном Колорадо появился самый противоречивый персонаж из всех, кто прокладывал себе путь на Дальний Запад; маленький, стройный, красивый, выносливый, бесстрашный, с меланхолическим взглядом и почти гениальным умом, оп н столетие спустя все еще вызывал бурные дискуссии среди своих многочисленных биографов. Джон Чарлз Фремонт - лейтенант топографического корпуса Соединенных Штатов, двадцати девяти лет от роду, женатый на самой блестящей девушке Вашингтона Джесси Бентоп, дочери сенатора от Миссури и сторонника продвижения па запад Томаса" Харта Бептона, - стоял во главе третьей правительственной экспедиции па Запад. В отличие от капитана Зебулопа Пайка и майора Лонга, которые вели за собой тренированных солдат, лейтенант Фремонт был единственным военным в составе своей экспедиции. Ядро его группы, скомплектованной в Сап- Луисе и на реке Миссисипи, составляли гражданские лица, состоявшие на жалованье у армии: топограф, охотник, девятнадцать французов - опытных трапперов - и, что самое главное, среднего роста широкоплечий человек с гор, современник и соратник таких людей, как Джим Бриджер и Фицпатрик Сломанная Рука, - проводник Кит Карсон. Между Фремонтом и Карсоном сразу же завязалась большая и глубокая дружба. Фремонт сказал: «Карсон - это сама правда». Карсон сказал: «Нет человека, которому я был бы обязан тем же, чем Фремонту». Вдвоем в ходе трех экспедиций, изобилующих опасностями, насильственными смертями и важными открытиями, они сделали больше для исследования, составления карт и опубликования маршрутов на Дальний Запад, чем кто- либо иной за все годы экспансии на Запад.Джон Чарлз Фремонт был незаконнорожденным сыном учителя, французского эмигранта-роялиста, и весьма знатной дамы из Ричмонда в Вирджинии, которая была замужем за престарелым героем Войны за независимость Прайором. Фремонт родился в Саванне, штат Джорджия, и вырос в бедности. Проявив блестящие научные способности, он стал ассистентом в экспедиции Топографического корпуса США по составлению карт строящейся железной дороги, а потом еще одной - в пограничные с племенем чероки земли. Благодаря дружбе с военным министром Понсе он становится младшим лейтенантом корпуса в Вашингтоне и получает практику под руководством Джозефа Николетта, одного из самых талантливых картографов страны, который берет его с собой в качестве ассистента в экспедицию на индейские земли в верхнем течении Миссури. Двадцатисемилетпий Джон и шестнадцатилетняя Джесси Бентон горячо,полюбили друг друга. Оии были разлучены подстроенным сенатором Бентоном приказом, по которому Фремонту следовало отправиться с картографической экспедицией на реку Де-Мен (территория Айова). Через шесть месяцев Фремонт в'озвращается и жепится на Джесси без согласия ее родителей. Сенатор Бентоп отбушевал, а потом пригласил зятя в свой дом, служивший центром вашингтонским сторонникам экспансии на Запад. Большинство конгресса проявляло полное безразличие к присоединению столь далеких территорий, как Техас, Орегон или Калифорния. Сенатор Бентоп «протолкнул» билль, предписывавший составление карт маршрута на Орегон, и Джон Фремонт был поставлен во главе экспедиции. Ни конгресс, ни президент Тайлер не знали, что сепа- тор Бентон и его энергичный зять отнюдь не намерены ограничиваться составлением карт. Они не успокоятся, пока не обследуют и не составят маршруты новых дорог, по которым тысячи американских семей смогут двигаться, чтобы не только поселиться на Дальнем Западе, но и заявить на пего претензии Соединенных Штатов. Во время своей первой экспедиции Фремонт провел в Колорадо меньше недели. Он намеревался обследовать Скалистые горы, чтобы отыскать в них самые короткие и доступные пути в Калифорнию. Однако бьш получен приказ, предписывающий ему свернуть на север для составления карт Южного Перевала, у нынешней границы между штатами Колорадо и Юта. Он решил вернуться в Колорадо на следующий год. Многое будет зависеть от его непреклонной воли и решимости, включая и героический путь мормонов к Великому Соленому озеру. Когда страдающий от горной лихорадки Брайам Янг приподнялся на локте в головном фургоне на холмах над Соленой пустыней и сказал своему погонщику: «Это то место!» - он мог бы добавить: «Это то место, которое описал лейтенант Фре- монт».
Глава VIII
Коммодор Джонс балансирует на рее Через месяц после того, как Джон Фремонт покинул северные границы Колорадо, в гавани Сан-Диего появился последний мексиканский губернатор этой далекой и все более беспокойной колонии - красивый генерал Микель- торена, ранее сражавшийся против техасцев под предводительством Санта-Анны, который теперь стал президентом Мексики. Микельторена прибыл на трех судах в сопровождении отряда численностью в двести пятьдесят человек. Акция эта была вызвана донесениями полковника Мариано Вальехо, сообщавшего, что у него нет достаточных сил, чтобы изгнать людей Эммонса и Бидуэлла, не говоря о более крупных отрядах, которые якобы уже находятся в пути. Полковник Вальехо утверждал, что Мексика не может удерживать Калифорнию без обученных, вооруженных и хорошо финансируемых войск. Однако, когда «Чато» выгрузил прибывших на его борту солдат с семьями, один из американцев, наблюдавших эту операцию, был изумлен их видом: «Они представляли собой картину крайне жалкую. Ни у одного из них не было сюртука или панталон. Голые, наподобие диких индейцев, они прикрывали наготу грязными одеялами. Большинство из них - осужденные за убийство или кражу»… ???? 65 Помимо полного отсутствия какого-либо оружия для ратных дел, на которые у них, правда, не было никакого Желания, у воинства этого не было и интенданта, а у Микельторены не имелось средств на их кормежку. Вскоре голодный легион, подобно туче саранчи, распространился по всей южной Калифорнии, уничтожая все съестное. Ра- 5 Зак. № 1463 позленные лосанджелесцы утверждали, что с такой задачей они справились бы и без посторонней помощи. Мексиканцы были не единственными, кто демонстри- ронал военную силу в конце 187|2 года, - Тихий океан просто кишел военными судами: Соединенные Штаты были представлены пятью кораблями, вооруженными ста шестьюдесятью пушками; англичане - четырьмя судами •со ста четырьмя пушками, французы - восемью судами с двумястами двумя пушками. Коммодор Томас Джонс, командовавший с флагманского корабля «Юнайтед Стоите» американской военной флотилией, имел приказ военно-морского министра: «Тревожное состояние пограничной с вверенным вашему командованию районом страны свидетельствует о необходимости защиты интересов Соединенных Штатов в этом районе». Однако «ничто, кроме необходимости срочной и эффективной защиты чести и интересов Соединенных Штатов, не сможет оправдать л 106011: предпринятый вами враждебный шаг». Коммодор Джонс оказался как бы балансирующим на рее: если он допустит, что добыча в виде Калифорнии попадет в руки британцев или французов, его могут предать военно-полевому суду за преступное бездействие; если же он предпримет смелые шаги по захвату Калифорнии, то он еще скорее может оказаться «съеденным акулами». В начале сентября, возвращаясь со своей флотилией из рейса, коммодор Джонс обнаружил три весьма серьезных обстоятельства: английский флот держал курс, повинуясь запечатанному приказу; письмо от консула Соединенных Штатов в Масатлапе оповещало коммодора Джонса, что война с Мексикой из-за присоединения Техаса должна вот-вот разразиться; в бостонской газете была напечатана статья о том, что Мексика отдала Калифорнию Англии в счет покрытия долга в семь миллионов долларов. Коммодор Джонс посовещался с американским консулом в Лиме, а затем и с командирами трех своих судов. Все пришли к согласию: «Удар следует нанести пемедлепно!» 19 октября 1842 года коммодор Джонс прибыл в Мон- терей. Он был счастлив, что англичане не успели его обогнать. Считая, что армия Микельторёпы, марширующая по суше, находится где-то рядом, коммодор отправил одного из своих капитанов на берег с требованием к правительству сдаться.У калифорнийцев не было войск в столице. Двумя самыми обескураженными и обиженными людьми на берегу были губернатор Альворадо и Томас О. Ларкин: Альво- радо потому, что его лишили должности, Ларкин же потому, что считал, что его соотечественники торопятся. В полночь на борт корабля коммодора Джонса поднялись два представителя калифорнийцев в сопровождении Ларкина. Были составлены статьи капитуляции, Ларкин выступал в качестве переводчика. На следующий день в девять часов утра капитуляция была подписана; в одиннадцать коммодор Джонс высадил на берег сто пятьдесят матросов и морских пехотинцев. Мексиканский флаг па форте был спущен, американский поднят - первый американский флаг, поднятый на Дальнем Западе. Коммодор Джонс был рад, что завоевание обошлось без кровопролития. Однако радость его была недолгой. Томас О. Ларкин показал коммодору последние газеты и- коммерческие письма из Мехико, доказывающие, что Мексика и Соединенные Штаты находятся скорее в состоянии холодной, чем горячей, войны. «Подобное изменение аспекта международных отношений требует от меня быстрых действий!»-воскликнул коммодор Джоне. Калифорнийцам же он сказал: «Ах, простите, пожалуйста!» -и отдал приказ спустить американский флаг. Мексиканский флаг был снова поднят. В доказательство того, что у него не было дурных намерений, Джойс отсалютовал ему корабельными пушками. Таким образом, в октябре 1842 года Калифорния около тридцати часов пребывала во владении'Соединенных Штатов. Поклонник честных и солидных деловых сделок, Ларкин, всей душой преданный идее мирной покупки Калифорнии у Мексики, окончательно успокоившись, вернулся в свой дом. Коммодор Джоне писал: «Я мог утратить свой воинский чин и все то, чего я добился тридцатью семью годами преданной службы своей стране». ???? С* . Согласно свидетельствам очевидцев, калифорнийцЫ были больше удивлены и обижены не захватом, а тем, что все вернулось на свои места; казна Альворадо была пуста, жалованье давно никому не выплачивалось. Когда жителям южной Калифорнии стало известно о захвате, они задавали всего два вопроса: «Будут ли они соваться на наши ранчо? Будут ли они вмешиваться в наши религиозные Дела?»
67
Пылкие женщины Калифорнии были огорчены намного сильнее мужчин. Женщинам вообще свойственно проявлять более высокую мораль и принципиальность, когда дело касается лояльности. Как главнокомандующий северных земель полковник Вальехо должен был быть возмущен действиями коммодора Джонса. Официально он и был возмущен. Однако, когда коммодор с группой своих офицеров явился к нему с визитом в Соному, он понравился' Вальехо. Последний развлекал его целый день родео и индейскими танцами, а впоследствии всегда доброжелательно отзывался о первом американском офицере, объявившем притязания США на Калифорнию. Последнее слово осталось все же за губернатором Ми- кельторепой: проманежив почти три месяца коммодора Джонса в приемных Монтерея и Йерба-Буэны, губернатор решил встретить новый, 1843 год принятием официальных извинений коммодора. В знак полного прощения мексиканское правительство дало в честь американских офицё- ров бал. В качестве компенсации за тяжкое оскорбление губернатор Микельторена потребовал 10000 долларов наличными, восемьдесят комплектов воинского обмундирования и комплект музыкальных инструментов находящегося на борту «Юнайтед Стейтс» духового оркестра, завершив, таким образом, этот неприятный инцидент ноткой из музыкальной комедии.Глава IX
Миллион фунтов стерлингов за изгнание американцев Примерно 20 июня 1843 года двадцатичетырехлетний юрист по имени Лэнсфорд У. Гастингс из Монт-Вернона, штат Огайо, - блестящий, миловидный и весьма разговорчивый прохвост с волевым подбородком - добрался до северной границы Калифорнии в том месте, где река Шаста пересекает границу с Орегоном. Прошлой весной Гастингс объявился в Эльм-Гроув в Канзасе, в двадцати милях к западу от Индепенденса, и присоединился к партии преподобного Иллии Уайта, состоящей примерно из ста шестидесяти человек и направляющейся в Орегон. За несколько дней наглому и напористому Гастингсу - нович ку, мало или даже вовсе незнакомому с местными условиями, - удалось занять место ветерана Уайта во главе экспедиции! Однако за несколько миль до форта Ларами Уайт нанял проводником Фицпатрика Сломанная Рука, который взялся провести их в Уилламетт-Вэлли в Орегоне. На следующую весну Гастингс энергично сновал по Орегону, расхваливая будущим переселенцам Калифорнию, которую и в глаза не видел. Ему удалось сколотить группу из пятидесяти трех человек, двадцать девять из которых были вооруженные мужчины, а остальные - женщины и дети. «Мне снова была оказана честь быть избранным в качестве командира», - записал он. 1 июня партия Гастингса в сопровождении проводника выступила в поход, намереваясь достигнуть форт Саттера. Где-то на реке Руж, в двух или трех днях пути от границы, она встретилась с партией, идущей из Калифорнии, которая гнала на север скот для продажи. Рассказы о жизни в Калифорнии были настолько обескураживающими, что Гастингс лишился своего проводника и почти половины экспедиции. Но, не смущенный этим обстоятельством, он шел по пути, проложенному Эммонсом в 1841 году: через? нынешний перевал Гранта, далее вниз по притоку реки Руж, обошел озеро Шаста, а затем, следуя на юг по течению реки Сакраменто, вытекающей из озера, добрался до форта Саттера. Путешествие заняло сорок дней. Если Эммонсу удавалось избегать стычек с индейцами, то Гастингсу пришлось пройти через несколько схваток - на реке Шаста, а потом - в Сакраменто-Вэлли, где один из его людей был ранен стрелой в снину. Тем не менее группа достигла цели. Учитывая, что девятьсот человек переселились с границы Миссури в Орегон в 1843 году, экспедиция Гастингса не только свидетельствовала о том, что многие из прибывших в Орегон готовы двигаться дальше па юг, в более теплую и сухую Калифорнию, но и закрепила за Гастингсом репутацию опытного руководителя и проводника… репутация эта в будущем окажется причиной таких страданий, равных которым не было до этого в человеческих анналах. Когда 10 июля партия достигла берега реки Сакраменто напротив форта Саттера, через реку в форт спешно переправилась юная пара и попросила Саттера тут же обвенчать их; большинство партии переправилось на следующий день. Саттер сердечно встретил всех и каждому оказал посильную помощь. Капитан Джон Саттер стал теперь выдающейся фигурой на калифорнийском горизонте. Форт его - настоящее чудо в глуши - был завершен. Он безраздельно правил полностью обеспечивающим себя поселением с кузнями, ружейными мастерскими, плотниками, сапожниками, мельницей, ткацкими мастерскими. На Западе он был известен не только как человек, у которого прибывающие в Калифорнию американцы могут найти кров и помощь, - его возросшее могущество и авторитет заставляли думать, что он имеет право не только регистрировать браки, но и вообще осуществлять верховную власть в своей империи. И все-таки Саттер со всей своей воинской силой, как воображаемой, так и подлинной, не мог справиться с москитами, блохами, как, впрочем, и самыми жадными до крови «насекомыми» - долгами; подобно многим мечтателям, он переоценил свои силы. Долги Ларкину в Монтерее, Натану Спиэру в Йерба-Буэне, Вальехо могли подождать: эти люди любили его и понимали огромное значение империи, возводимой им в пустыне. После разразившейся страшной засухи у него не было зерна для уплаты русским, его дубильня еще не наладила выработки кож, а винокурня производила только спирт-сырец. Оп совершил чудо, завершив строительство за три года и заложив основы современного Сакраменто в чаще девственных лесов, но, чем шире разрасталась его империя, тем глубже он увязал в долгах. По-видимому, Саттер пользовался этими долгами в качестве предлога, оттягивая вызов жены и детей из Швейцарии; несчастное стечение обстоятельств вынудило Сатте- ра вступить в брак, в котором пи одна из сторон не проявляла ни особой радости, пи просто желания. В дневнике, написанном на немецком языке Генрихом Линхар- дом, мажордомом Саттера в то время, утверждается, что две канакские женщины, которых Саттер привез из Гонолулу, заменяли ему жену. Одна из них, по имени Манаики, якобы родила ему нескольких детей. Лиихард намекает также, что у Саттера были еще и дети от нескольких скво в форте. По сравнению с Джоном Чемберленом - кузнецом-ирландцем, живущим в форте, - Саттер все же отличался воздержанием: Чемберлеп сменил за довольно небольшое время девятнадцать индейских жен. В случае неуплаты Саттером долгов русские могли явиться в Сакраменто-Вэлли и занять форт, заполучив, таким образом, новую опорную базу на Дальнем Западе; при этом они могли бы использовать плодородные обработанные земли и важные стратегические позиции для отражения американской миграции, наплывающей с юга из Орегона и с запада из Миссури. Приходилось Саттеру помнить и о Уильяме Рее, представителе Компании Гудзонова залива. Рей проявлял некоторую неуступчивость относительно денег, которые Саттер задолжал его компании, и даже предпринял кое- какие юридические шаги против него, пытаясь наложить арест либо на его суда, либо на перевозимые ими товары - жест, который местные жители считали ударом ниже пояса. Утверждали, что Рей, будучи в подпитии, говорил, что «выгнать торгашей-янки из Колумбии обошлось Компании Гудзонова залива в семьдесят пять тысяч фуптов стерлингов» и что «они выгонят их из Калифорнии, даже если это обойдется им в миллион». Международное положение теперь как будто.зависело от того, сколько зерна удастся вырастить и собрать Джону Саттеру, прежде чем истечет срок уплаты его долга русским, и насколько успешно он сможет сдержать Компанию Гудзонова залива от занятия своего форта.ГлаваХ
Фургоны? Это невозможно! 1 марта 1843 года Джон Чарлз Фремонт представил свой доклад об экспедиции по течению реки Саут-Платт в Колорадо полковнику Топографического корпуса Аберту и конгрессу. Конгресс не только распорядился опубликовать этот доклад, но и разрешил отправку второй экспедиции, на этот раз через весь Орегон, для составления карт и. исследовательских работ. Теперь Фремонт выступал со значительно большей уверенностью и большими полномочиями: на этот раз конгресс поручил ему «увязать разведку 1842 года с исследованиями коммодора Уилкса на побережье, с тем чтобы дать общую картину исследований внутренних областей нашего континента». Уилкс составил карты залива Сан- Франциско и реки Сакраменто до самого форта Саттера. Фремонт взял с собой без согласия и ведома Топографическою корпуса двеиадцатифуытсвую гаубицу. Сенатор Беитон был уверен, что война с Мексикой разразится к тому времени, как Фремонт попадет в Калифорнию; а Фремонт от всей души стремился к тому, чтобы его группа из тридцати девяти отлично вооруженных и закаленных людей приняла в ней участие. Но пока что ему пришлось заниматься исследовательской работой: отыскать и нанести на карту дорогу через Скалистые горы в центральном Колорадо, которая сократила бы партиям эмигрантов многие дни тяжелого пути. 4 июля он вместе со своими людьми направился почти точно на юг но сравнительно легкой дороге, которая соединяет сспчас Грели, Денвер, Колорадо-Спрингс и Пуэбло, оставаясь на американской территории. Однако он внимательно изучал лежащие на западе горы, которые вели в мексиканские владения, расстилающиеся на тысячу миль до самого Тихого океана. Колорадо находилось в стадии преображения из передового форпоста в нормально заселенную страну: форт Лаптопа в десяти милях вниз по реке от Септ-Врейиа представлял собой хорошо обеспеченную ферму, выращивающую овощи, разводящую скот, индюков н кур; на другом конце своего пути на юг, там, где Бойлинг-Спрингс впадает в Арканзас, Фремонт обнаружил довольно крупное поселение бывших охотников и трапперов, которые занимались земледелием и скотоводством довольно успешно, хотя н не без колебаний, превращаясь из людей гор тридцатых годов в поселенцев сороковых. Здесь к Фремонту присоединился Кит Карсон. Он нанял также Фицпатрика Сломанная Рука. Но ни Карсон, ни Фицпатрик не знали о существовании прохода через Скалистые горы. Фремонт отправил Фицпатрика с фургонами и гаубицей по северному пути к форту Холл, а сам с Карсоном и двенадцатью людьми повернул па запад. Пять дней они пробивались по местам «необычайной красоты и дикости. Гигантские горы вздымаются вокруг. Их склоны темнеют сосновыми лесами, а иногда - бездонными пропастями. Зеленеющее русло реки покрыто дикой сумятицей цветов». 1 августа Фремонт был на территории нынешнего Вайоминга. Через месяц после того, как он со своей экспедицией выступил на север, самая значительная нз эмигрантских партий 1843 года тронулась па юг из форта Холл в современном Айдахо в крайний северо-восточный угол Невады, стремясь достичь реки Марии. Партию возглавлял один из величайших горцев этого времени Джозеф Уокер, который за десять лет до этого обследовал район Соленого озера, проложив путь через горы на побережье. Теперь Уокер взялся провести караван тяжелых неторопливо передвигающихся фургонов по пути пешей партии Бндуэлда, через пустыню и горы. Эта рискованная идея родилась у Джозефа Б. Чилса, который проделал переход через горы вместе с Бидуэллом и вернулся через Сьерра-Неваду в 1842 году. Он купил мельницу и, разобрав ее, погрузил отдельные детали п ящики для транспортировки фургонами. Затем сколотил партию примерно в пятьдесят человек, с которыми намеревался вернуться в Калифорпию. Жена Чилса умерла, и это несчастье породило в нем тягу к странствиям в поискал новой земли и повой жизни. Способствовало этому также слабое здоровье, деловые неудачи, бесперспективность, скука и та жажда приключений и стремление к свободным землям, которая еще многие тысячи людей сорвет с насиженных мест. Когда 27 августа партия Чилса добралась до форта Холл, надвигалась осень. Чтобы избавить экспедицию от лишних ртов, Чилс с девятью верховыми двинулся к форту Боуз, а затем свернул на юго-запад по разведанной охотниками дороге н попал в Калифорнию в се самом северо-западном углу. Фургоны со всем его земным до- стояпием и разобранной на части мелышцей он поручил заботам Уокера, который должен был доставить его в центральную Калифорнию по пути, впервые проложенному самим Уокером десять лет назад - тысячемильное путешествие но местам, где до этого не рисковали передвигаться на фургонах, значительно уступавших в скорости ие только верховому, но и пешеходу. Уокеру было в то время сорок четыре года. Он родился в Вирджинии. Семья скоро переехала в Теннесси. В 1832 году он начал работать главным помощником капитала Боневилля, который пытался составить конкуренцию пушным компаниям Америки, Гудзонова залива и Скалистых гор. Боневилль направил Уокера обследовать район Великого Соленого озера, страны, которую еще никогда не посещал ни один белый, а затем пробраться в Калифорнию с целью найти новые охотничьи угодья. Клерк этой экспедиции говорил о Джозефе Уокере, что «разведывать неизвестные районы было для него высшим наслаждением». Теперь, в 1843 году,. Уокер повел свой каравап по северному берегу Великого Соленого озера до реки Марии, затем на запад до реки Синк, потом на юг до озера Уокера. Караван пробился на запад в Калифорнию, продвигаясь по бесплодному, жуткому восточному склону Сьерра-Невады, где, для того чтобы выжить (так говорили об индейцах), пуЖпо было научиться спать в тени собственной стрелы. После долгого путешествия по отрогам гор, кое- как доведя свою партию вверх по каменистым склонам до озера Оуэнса, Уокер начал серьезно опасаться за жизнь порученных его заботам людей. Он приказал бросить фургоны и закопать части мельницы Джозефа Чилса в песке долины Оуэна, которые так там и оставались, пока случайно не были откопаны шахтерами двадцать пять лет спустя. На рождество группа Уокера вышла к «маленькому раю» в верховьях одного из притоков реки Салинас, с обилием травы, дичи и воды. Она спустилась в долину Салинас и нашла дорогу на ранчо Гилроя, откуда Уокера отправили за паспортами, после получения которых члены его группы рассеялись по центральной и северной Калифорнии. Примерно 20 октября Чилс и его партия из девяти человек достигли Гусиного озера на севере Калифорнии, спустились вниз по течепию реки Пита к реке Сакраменто и к 10 ноября оказались в форте Саттера, впервые проложив новый и сравнительно безопасный маршрут в Калифорнию… но опять-таки не для фургонов. Для громоздких, неторопливых и неуклюжих сухопутных кораблей этот путь оказался ничуть не лучше приспособленным, чем восточные склоны Сьерра-Невады, по которым двигался Уокер. Настоящей же трагедии предстояло разыграться еще через песколько лет.Г л а в а XI
Люди оказались достойными гор На второй день после рождества лейтенант Джон Ч. Фремонт стоял на южной границе Орегона. К востоку лежал Орегонский тракт и быстрое безопасное путешествие домой, к югу простирались неизведанные пустыни и горы, то есть то, что в наши дни составляет западную часть Невады. Уже девять месяцев его партия из двадцати пяти человек была оторвана от дома, достаточно натерпелась от голода, большинство вьючных животных пало или было похищено индейцами. Все задания по части топографии они выполнили. Если он повернет к дому, его труды картографа получат свое блестящее завершение. Однако первый же день нового, 1844 года застал его пробивающимся на юг сквозь суровые вулканические завалы. Он был человеком железного упорства и к тому же поэтом. «Мы продолжаем свой спуск по долине, слева от нас лежит черный и внешне сухой горный кряж, справа - такой же кряж, но только более высокий и покрытый снегом. Наша дорога по дну была очень плохой, пересеченной оврагами и другими препятствиями..Почва в большинстве своем состоит из тонкого пылеобразного песка с проблесками соли, а сама местность в общем имеет вид пустыни». Следующие две педели они провели в этой устрашающе мертвой местности, пока не добрались до имеющего тридцать пять миль в длину озера, которое Фремонт назвал Пирамид-Лейк, где его люди принялись ловить форель. Получив столь неожиданное подкрепление своим силам, они пробились к окраинам нынешнего Рено, а потом на юг, к реке Карсон, снова страдая от голода и в кровь избитых, ног. Моральное состояние их было весьма тяжелым. Фремонт, с присущей ему склонностью к патетике, выбрал именно этот момент, чтобы объявить своей изможденной группе, что им предстоит пересечь Сьерра-Неваду с востока на запад и добраться до Сакраменто-Вэлли. Им достаточно было только поднять взор, чтобы увидеть то, что Аллан Невипс, биограф Фремонта, описал следующим образом: «Этот могучий горный кряж, достигающий в отдельных местах высоты четырнадцати тысяч футов, круто вздымался на востоке, одна круча за другой, вплоть до тех высот, где в январе все являет собой морозное безмолвие из снега и камня, такое же мрачное, пустое и свирепое, как Гималаи». Никому из белых, а возможно, и никому из индейцев никогда не приходилось штурмовать Сьерра-Неваду в разгар зимы - факт, хорошо известный Фремопту. Никто не роптал; Кит Карсон готов провести Фремон- та хотя бы в ад и вывести из него, если только его друг прикажет ему это. 19 января опи смело устремились в горы. Когда они добрались до Антилопа-Вэлли, за которой ледяной барьер, уходя в высоту, скрывался в небе, дружески настроенные индейцы предупредили их, что пытаться идти дальше не следует, снега здесь непроходимы. Непроходимо или невозможно - эти слова означали для Фремонта вызов. 2 февраля он отдал приказ начинать подъем. Опи все еще продолжали тащить за собой гаубицу, как будто у них и без нее не хватало хлопот. Сверившись со своими приборами, Фремонт установил, что от форта Саттера их отделяет всего семьдесят миль. Это были самые длинные семьдесят миль в истории освоения; в первые же два дня дорога, которую, приходилось буквально прорубать во льду, оказалась усыпанной брошенным снаряжением и личными вещами. Даже животные не смогли идти дальше. Старый индеец предупредил их: «Камень на камне, снег на снеге; даже если вы пройдете через снег, вы не сможете спуститься с гор». Убежал последний проводник-индеец. Фремонту стало ясно, что он не сможет провести свой отряд, если пе разыщет пути через перевал. На следующее утро, оставив на месте всю группу, он вместе с Китом Карсоном и Фицпат- риком Сломанная Рука отправился на разведку. Эта непоколебимая троица, обутая в снегоходы, форсировала замерзший водоем и преодолела почти десятимильный подъем, штурмуя ледяные завалы. Люди оказались достойными гор. Усилием воли они продвигались вперед. И наконец «далеко внизу, в далекой дымке, пред нами предстала огромная бесснежная равнина,окаймленная по западной границе иа расстоянии примерно ста миль невысокой горной грядой, в которой Карсон с радостью узнал горы, окаймляющие побережье». Значительно ближе к ним была гора Марша - Маунт- Диабло. Когда Карсон разглядел ее, он воскликнул: «Это и есть маленькая гора! Пятиадцать лет прошло с тех пор, как я впервые увидел ее, но я так же уверен, что это она, как будто это было вчера». Еще двадцать дней ушло на то, чтобы доставить к вершине лошадей и снаряжение. Люди страдали от снежной слепоты, изнемогали от изнурительного прокладывания дороги по покрытым льдом горам, они настолько были измучены голодом, что даже им, всю жизнь проведшим в борьбе с трудностями, пришлось съесть свою собаку Клэ- мота. Ровно через месяц после начала подъема Фремонт и Карс.ои - «два живых скелета в шотландских шапочках» - привели свою измученную экспедицию к форту Саттера в Сакраменто-Вэлли. Переход Фремонта через Сьерра-Неваду был не просто актом личного героизма, это был переломный момент в истории, толкнувший молодого лейтенанта и его страну па шаг, который они считали своей «главной целыо». То, что оказалось по силам лейтенанту Фремонту с его плохо оснащенными добровольцами, армия Соединенных Штатов всегда сможет сделать, если только это потребуется! Горы перестали быть непреодолимой преградой. Был взят последний барьер. И впервые с того момента, когда коммодор Джонс сошел -на берег в Монтерее в октябре 1842 года, чтобы принять преждевременную капитуляцию Дальнего Запада, армия Соединенных Штатов имела своих представителей иа земле Калифорнии. Капитан Джон Саттер немедленно взял на себя снабжение этих двадцати пяти человек, обеспечив их не только провизией, но и скотом, свежими лошадьми, подковами, упряжью и вьючными седлами. Он также подарил Фремонту красивую белую лошадь но кличке Сакраменто. Фремонт мог позволить своим людям всего лишь двухнедельный отдых; они находились в Калифорнии без паспортов и разрешения. До него уже дошли вести о том, что губернатор Микельторена отряжает своего военного командира Хосе Кастро в форт, чтобы выяснить причину пребывания там Фремонта. На географических картах того времени западная часть Калифорнии занимала примерно половину нынешнего Колорадо. Фактически же, как отмечалось тремя калифорнийскими историками - Андерхиллом, Гудуином и Шере- ром, - Калифорния и весь Дальний Запад представляли собой единое целое. «Этот «остров» Калифорния не имел восточной границы до образования калифорнийского правительства в 18-49 году, хотя в общих чертах считалось, что Калифорния простирается до гор Сьерра-Невады или да:ке включает их в себя. Эта естественная граница не являлась юридически оформленной и определенной, не была она и нанесена на карты. Карта Фремонта - Пройсса 1848 года относит к Калифорнии большинство районов Дальнего Запада, а на конституционном конвенте 1849 года в Монте- рее высказывалось и чуть было не одержало верх мнение, что' в нее следует включить всю Неваду, значительную часть Юты вместе с Соленым озером и двадцатью тысячами мормонов, проживающих в Солт-Лейк-Вэлли. Фактически же Калифорния простирается до подножия Скалистых гор…» Официальным заданием Фремонта были исследования и картографические работы. Группа сторонников западной экспансии требовала от него разведать, насколько крупные силы потребуются Америке, чтобы захватить страну. Он скромно держался подальше от калифорнийского побережья, в отношении которого мексиканские власти проявляли особую чувствительность, и двигался на юг вдоль западных отрогов Сьерра-Невады. Индейский проводник рассказал ему о неиспользуемом перевале Теха- чапи. Примерно 1 апреля 1844 года отряд Фремонта вновь совершил переход через горы, на этот раз с запада на восток. В следующий раз он вступит в пределы Калифорнии с отлично вооруженным отрядом численностью в шестьдесят пять - семьдесят человек, с тем чтобы сыграть бурную, противоречивую и решающую роль в захвате этих земель.Глава XII
Консул Ларкии обзаводится мундиром и тростью с золотым набалдашником Не успела еще рассеяться пыль, поднятая отрядом Фремонта, покидающим восточные отроги Сьерры, чтобы углубиться в пески и бесплодные равнины Невады, как буквально в считанные часы в Монтсрен прибыл официальный документ, назначающий Томаса О. Ларкина консулом Соединенных Штатов в Калифорнии. Это явилось первым признанием со стороны Соединенных Штатов того факта, что в Калифорнии вообще существует какое-то правительство, и, что значительно более важно, того, что происходящее в этом отдаленном районе может потребовать присутствия американского официального представителя. Англичане назначили на подобную должность Джеймса Форбса в Сан-Хосе еще в 1844 году, а несколько позже французы приказали одному из чиновников прибыть в Монтерей и открыть там представительство. 2 апреля 1844 года было самым счастливым днем в жизни Томаса О. Ларкина; он был уверен, что, получи» определенные полномочия от американского правительства, сможет со временем осуществить мирный переход этих земель в собственность Америки. Ларкину настолько приглянулся новый пост, что, хотя любая трата денег причиняла ему боль, он все-таки обратился к своему другу в Нью-Йорке Алфреду Робинсону с просьбой заказать шикарный мундир с золотыми эполетами. По-видимому, он не дал точных указаний относительно того, каким именно должен быть этот мундир, а поскольку консулам вообще никакого мундира носить не полагалось, сойти мог любой, лишь бы красивый. Символом власти в Калифорнии всегда была трость, и Робинсон, который обожал всяческие розыгрыши, заказал для консула Ларкина две трости с солидными золотыми набалдашниками. Счет за них вызвал у последнего, такие вопли, что их можно было слышать от Монтерея до Нью-Йорка.В обязанности консула Ларкина входило представлять Соединенные Штаты па всем пространстве между Тихим океаном и Скалистыми горами до южной границы Орегона и Сан-Диего. Хотя основной его задачей было облегчение торговых отношений, ему вскоре пришлось выступать в качестве официального лнца на свадьбах и похоронах у жителей протестантского вероисповедания и быть судьей при разрешении ссор и споров, возникающих на судах в открытом море. В его непосредственные обязанности входила опека над матросами, заболевшими в рейсах на американских судах. Многих из них ему приходилось держать у себя дома и кормить за свой счет. Когда число их слишком разрослось, он основал первую в Калифорнии боль- пицу. При этом главным затруднением было отсутствие врачей. К доктору Джону Маршу, выступающему на этом поприще неофициально, без принесения клятвы Гиппократа, присоединились еще два практика. Один из них - Джои Мик, живописный тип со Скалистых гор, который объявил своим товарищам-эмигрантам на пути в долину Орегона в 1848 году: «Поверьте, ребята, если уж я докачусь до того, что поселюсь среди желтопузых мексиканцев, то непременно буду у пих врачом». Хотя Мик не умел ни читать, ни писать, его друзья сразу же стали звать его «доктором» Миком, а когда он добрался до Монтерея, у пих нашлись и последователи, потому что одним нз его первых пациентов был мексиканский мальчишка, который почти начисто отрубил себе палец па ноге. Мик кое-как составил кости и обмазал палец глиной, н палец почему-то сросся. Вторым на этйм поприще был Г. М. де Сандельс Ва- зеуртц, который оставил красочное описание своего путешествия по Калифорнии в 1842 и 1843 годах. Вазеуртц был горным инженером. Гостя у Джона Саттера в 1843 году, он, изучив окрестности, объявил своему изумленному хозяину, который уже давно слышал индейскую легенду о Золотом озере в Коломе, которым правит чудовище-людоед, что в районе Сакраменто, несомненно, имеется золото. Затем он отправился в Монтерей, который охарактеризовал как «еще не оперившийся городок, хотя обитатели его, как креолы, так и иностранцы, очепь милые, гостеприимные и веселые люди». Здесь благодаря его интересу к ботанике и минералогии прошел слушок о том, что Вазеуртц - «медико». «Мне приходилось изучать «Материа медика»-говорил он, - я умел напускать на себя важный вид, а кроме того, мне нужно было чем-то заняться, вот я и стал доктором. Руководствовался я довольно широкими принципами, первый нз которых - назначать хорошую цепу, второй - никогда не выписывать рецепт на то, что неприятно принимать». Теперь «ассоциация» медиков Калифорнии состояла из «доктора» Джона Марша, «доктора» Джоя Мика и «доктора» Г. М. Вазеуртца. Все они требовали высоких гонораров и, по-видимому, не слишком мешали природе осуществлять лечение по-своему.
По совершенно случайному стечению обстоятельств, которые так часто придают истории черты занимательной мелодрамы, в тот самьш момент, когда Томас О. Ларкин стал консулом Соединенных Штатов, губернатор Микель- торена издал ряд дельных распоряжений, которых на этих забытых землях не знали со времен правления прогрессивного испанского губернатора Борики в 1800 году. Он приказал создать первую на Дальнем Западе систему государственного образования, по которой школы должны были быть открыты в Сап-Диего, Лос-Анджелесе, Санта- Барбаре, Сан-Хосе, Йерба-Буэне и Сопоме. Обучение было обязательным для детей обоих полов в возрасте от шести до одиннадцати лет; родители, не пославшие детей в школы, подвергались штрафу; учителям положили жалованье в 480 долларов в год. Был издан циркуляр, ограничивающий неумеренную плату за лечение; Йерба-Буэна была объявлена официальным портом, в котором иностранные суда должны были оплачивать стоянку и пошлину; он попытался также покончить с контрабандой и взяточничеством мексиканских чиновников. Он вернул миссии святым отцам, и, хотя это делалось из чисто религиозных побуждений, меры эти должны были спасти великолепные здания от разрушения. Микельторена - последний из мексиканских губернаторов, сыгравший большую роль па сцене Дальнего Запада. Он, по-видимому, был одним из самых приятных людей, паправлепных в Калифорнию: высокий, стройный шатен, с приятной, несмотря на воинскую суровость, внешностью, с серыми добрыми глазами, светлой кожей, хорошо начитанный и доброжелательный к своим подчиненным. Если бы мексиканское правительство всерьез хотело удержать Калифорнию п если бы оно дало Микельторене вместо банды преступников и грабителей сотню хорошо обученных и вооруженных солдат, покорение Дальнего Запада выглядело бы наверняка совершенно по-иному. ???? 81 Получив статус официального морского порта й ассигнованные губернатором Микельтореной 800 долларов на строительство таможни, пятьдесят постоянных обитателей приютившейся на берегу бухточки Йерба-Буэны подали петицию о превращении ее в пуэбло, или город. К 1844 году в Йерба-Буэне насчитывалась всего дюжина домов. И дело здесь было не в холодных туманах и не в том, что только немногие суда заходил!! сюда через пролив. И от- 6 Зак. М 14СЗ
шодь не мрачность характера местных обитателей отпугивала гостей, ведь Марш в состоянии раздражения однажды определил их основное, времяпрепровождепие как то, что они «вечно напиваются и носятся вверх и вниз по холмам». Ричард Генри Дейна в книге, названпой им •;«Два года впередсмотрящим», говорил: «Калифорнийцы - ленивые и расточительные люди, неспособные сделать для себя хоть ч1?о-нибудь. Страна полна винограда, и все же они завозят плохое вино из Бостона и покупают обувь, сделанную из производимых ими же кож, которые дважды совершают путешествие вокруг мыса Гори». Город как-то не получался: это был в основном торговый аванпост Компании Гудзонова залива, который не нравился ни американским, ни европейским переселенцам. Миссия Долорес, располагавшаяся в четырех милях от бухты, превратилась в руины. Пресидио, прикрывший вход в пролив и построенный испанцами в 1776 году, был разобран почти до основания любителями бесплатного кирпича и леса для своих построек. А место для поселения было совсем неплохое: холмы, спускающиеся к океанскому берегу, были покрыты земляникой, и каждую веспу в период созревания ягод с юга, из таких отдаленных мест, как Сан-Хосе или Сонома, сюда приезжали с семьями, а все население Йерба-Буэпы, захватив одеяла и кухонные принадлежности, перебиралось в дюны на целую неделю ради пикников, танцев и прочих развлечений, в которых принимали участие офицеры стоявших в порту судов. Ниже на полуострове были отличные места для верховой езды и охоты на оленей и медведей. В том же квартале, в котором располагалась штаб-квартира Уильяма Рея из Компании Гудзонова залива (он с женой и дочерью жил в помещении за складом), была го- стипица с бильярдной и баром, принадлежавшая швейцарцу Виоже, где по вечерам собирались холостые мужчины. В обществе капитанов и боцманов они вели ожесточенные споры, сравнивая достоинства Джеймса К. Полка и Генрн Клея, выдвинувших свои кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов. Прибывшее судпо, подобно бостонской лавке нагруженное по самую палубу ящиками с товарами, могло продать местным жителям товаров на 15-20 тысяч долларов за три или четыре недели, получая в уплату кожи, сало, меха выдр и бобров, несколько испанских или мексиканских дуб тонов, а жители Йерба-Буэны и окрестных ранчо увозили домой высоко ценимые здесь сахар, кофе, чай, одежду, одеяла, ювелирные изделия и дорогие материи для изготовления пышных нарядов. И все-таки никто не хотел селиться в Йерба-Буэне. Жалкая деревушка из глинобитных и построенных из кирпича-сырца домиков все еще оставалась гадким утенком Дальнего Запада.
Глава XIII
Посевы западной миграции К концу августа в северо-восточный угол Невады торжественно проследовала из форта Холл единственная партия, которая добиралась в Калифорнию сухопутным путем. Партия Стивенса была архитипичной из всех эмигрантских партий, отборное семенное зерно миграции на Запад. Каждая партия эмигрантов обладала индивидуальными чертами и жизненным циклом, похожими на те, которые присущи каждому человеку: зачатие, рождение, юность, зрелость, смерть, разложение и бессмертие… последнее, правда, зависит от биографов. ???? 83 Зачатие партии Стивенса было сходно с зачатием остальных эмигрантских партий: оно было случайным и состояло из разнородных элементов. Лидер их был, возможно, самым неотесанным человеком из всех пускающихся в путь через долины: Элиша Стивене, примерно сорока лет, родившийся в Южной Каролине в семье французских гугенотов, вырос в Джорджии, получил профессию кузнеца, однако большую часть своих зрелых лет провел охотником и траппером на Северо-Западе. Товарищи по путешествию описывают его как вежливого, но до крайности молчаливого человека, с длинной индюшачьей шеей, вытянутой неправильной формы головой и огромным, загнутым вниз носом. На место сбора на реке Миссури (потом получившее название Каунсил-Блаффс) он прибыл ранней весной 1844 года один, но с отличным фургоном и хорошо подобранными животными. Совершенно неожиданно он нашел здесь партию примерно из пятидесяти мужчин, Женщин и детей, которые, ранее не зная Стивенса, пришли6¦
через несколько дней к выводу: он рожден для командования. Самой крупной составной частью партии Стивенса был насчитывающий двадцать человек клан Мэрфи во главе с Мартином Мэрфи, который родился в Ирландии, в поисках политической свободы эмигрировал в Канаду, а оттуда - в Миссури. В Миссури семья болела малярией, там пе было пи школ, ни церквей. После смерти жены Мартин Мэрфи встретился с католическим миссионером, который рассказал ему о Калифорнии, особенно расхваливая ее климат и религиозность обитателей. Что же касается местоположения этой благословенной страны, миссионеру было известно только, что она находится па берегу Тихого океана и где-то на западе от малярийного Миссури. Сведений же относительно расстояния, дороги или характера пути у него не было. И все же каждый член семьи Мэрфи от всего сердца высказался за переселение в Калифорнию с приходом весны. Второй по величине была группа Таунсенда и Монтгомери, насчитывающая семь человек, которые были соседями и дружили семьями еще в Миссури. Хотя встреча лидера и двух наиболее многочисленных групп была случайной, подготовка партии к походу была весьма обстоятельной. Каунсил-Блаффс они покинули 18 мая. В партии было одиннадцать добротных фермерских фургонов, часть которых была сделана с расчетом на путешествие через континент, запряжены они были хорошими волами и сопровождались множеством лошадей и большим стадом скота. Успех или неудача, размеры испытаний и страдания в пути зависят от органического состава каждой отдельной партии: соотношение числа стариков и малолетних с людьми, находящимися в расцвете сил; профессиональные навыки и способности представленных здесь людей; их умение выбрать лидера и преодолеть расовые, религиозные, экономические и культурные различия в интересах всей экспедиции. В составе партии Стивенса шел настоящий медик - доктор Таунсепд, в пей были кузнец, оружейный мастер, три человека, имеющие опыт жизни в горах, помимо Калеба Гринвуда, выбранного проводником, трех его сыновей-полукровок и трех французских канадцев, имеющих опыт жизни в лесу. В партии были мужчины разного возраста - от двадцатилетнего Джона Салливана до сорокалетнего Стивенса. Женщины тоже были довольно благоприятного для такого далекого путешествия возраста. Большинство партии состояло из довольно состоятельных семей, которые могли позволить себе покупку наилучшего оборудования и запасов на восемь месяцев. Мэрфи, Таупсеиды и Монтгомери, хотя у них хватило бы голосов, чтобы избрать кого угодно, не поддались чувству мелочного эгоизма, они поставили во главе экспедиции Элишу Стивенса и относились к нему с полнейшим доверием. Позднее неумение, выбрать предводителя привело к трагедии партию Доннера. Где-то между этими крайностями - полным успехом и полной трагедией - находят свое место сотни эмигрантских экспедиций. Первая треть пути партии Стивенса прошла без каких-либо событий; от форта Холл партия следовала по пути, проложенному фургонами Уокера в прошлом году вниз по реке Марии к Сиику, которого они достигли 1 октября. В тот день партия Стивенса собралась у лагерного костра для принятия весьма важного решения: следовать ли им далее по следам Уокера или пробиваться прямо на запад через горы. Большинством голосов был принят второй маршрут. В этот момент старик индеец, который объяснялся с Калебом Гринвудом при помощи знаков и схем, рисуемых на пыльной земле, сообщил им о какой-то реке в пятидесяти милях прямо на запад через пустыню. Он утверждал, что, держась этой реки, они пересекут гребни гор и смогут спуститься в Калифорнию. Капитан Элиша Стивене с доктором Таунсендом, Джозефом Фостером и индейцем Траки вышли вперед, чтобы убедиться, в самом ли деле там есть эта река и можно ли по ней подняться. Они вернулись через три дня и сообщили, что реку они нашли, что вдоль нее растут прекрасные деревья и трава и что, возможно, где-то впереди есть проход через горы. Партия Стивенса не двинулась с места, пока не заготовила двухдневный рацион горячей пищи, не заполнила всех емкостей водой и не подготовила свои фургоны, а потом форсированным маршем за тридцать шесть часов добралась по пустыне до Бойлинг-Спрингс. Еще один двадцатичетырехчасовой бросок вывел их к реке. Совершив двухдневный привал, для восстановления сил скота, партия начала подъе!? вдоль реки, которую они назвали Траки в честь индейского проводника, Щедро пользуясь обилием воды, пастбищ и дичи. После нескольких дней пути отвесные берега реки начали сходиться все теснее, местность стала более суровой, фургоны и скот приходилось вести по руслу, которое стало настолько извилистым, что его приходилось пересекать по десять раз на день. «Несчастные, с разбитыми копытам!г волы, протрудившись целый день, ночами ревели, требуя пищи, столь жалобно, что эмигранты забывали о собственных несчастьях от жалости к животным». Неделями пришлось блул;дать по каньонам, пока партия не добралась до хороших пастбищ на луговине, окруженной покрытыми соснами склонами, а затем, продвигаясь сквозь заросшую лесом местность, достигла замерзшего озера. Перед пей оказалась стопа куполообразных гранитных вершил. И снова Стивене с отборными людьми отправился на разведку и отыскал среди возвышающихся пиков узкий, вьющийся проход, который, по его предположениям, был проходом в горной гряде и мог бы вывести их на противоположный склон. Грозные горы обескуражили доктора Таунсепда, который вез с собой полный фургон товаров для продажи в Калифорнии. Мозес Шалленбергер, семнадцатилетний приемный сын Таунсепда, согласился построить хижину и остаться на озере, где, занимаясь охотой, он сможет провести опасную и полную лишений зиму. А весной доктор Таунсенд вернется с упряжными волами, и они уже без риска доставят на место товары. Еще два молодых человека - Джозеф Фостер и Аллен Монтгомери - решили остаться с парнишкой. На горной цепи уже лежал снег глубиною в два фута. Фургоны пришлось разгрузить, грузы переносились на плечах мужчин, а упряжки приходилось сдваивать и страивать, чтобы тянуть пустые фургоны. Примерно на половине подъема партии преградила путь вертикальная стена. Отчаянные поиски привели к узкой расселине, по которой с трудом мог продвигаться один человек, ведя на поводу вола. Внизу к передку фургона прикреплялись цепи, в которые впрягались выведенные наверх упряжки волов. Упряжки двигались поверху, а люди подталкивали фургоны снизу - таким образом удалось успешно поднять все фургоны по почти вертикальной каменной стене. И снова люди оказались достойными гор. Еще двадцать пять миль упорного продвижения на запад привели их к верховьям реки Юба. Здесь несколько семей решили дождаться таяния снегов. Часть наиболее здоровых мужчин начала спуск с отрогов гор и достигла форта Саттера между 10 и 13 декабря 1844 года. Позади, на берегу озера, трое молодых людей, оставшихся стеречь фургон доктора Таунсенда, оказались перед лицом голодной зимы. Глубокие снегопады сделали охоту невозможной. Соорудив кое-как самодельные снегоступы, они решили форсировать горы. Фостеру и Монтгомери это удалось, но Мозес Шалленбергер заболел и вернулся назад, чтобы в одиночестве провести зиму в хижине. Остатки партии Стивенса спустились с гор в калифорнийскую долину в добром здравии и в хорошем расположении духа, их фургоны и снаряжение не пострадали. Джону Бидуэллу и Чилсу с Уокером, которые тоже пытались провести фургоны, это не удалось. Партия Стивенса не только разведала последнюю треть пути в Калифорнию, но и оказалась провозвестницей начала красочной эры крытых фургонов.
Глава XIV
Демократическая армия выступает за неправое дело Жестокость не была в характере калифорнийцев, чаще всего дуэли велись при помощи не столько шпаг, сколько ядовитых посланий. Помимо охоты па медведей гризли и на диких лошадей, спорт у них в основном сводился к демонстрации верхового искусства; считалось, что со времен Чингисхана не было более искусных наездников. Утверждали, что многие из них способны были на полном скаку поднять с земли фасолину. Когда в июле 1844 года до Монтерея дошли слова военного министра в Мехико, что война будет объявлена, как только сенат Соединенных Штатов ратифицирует договор о присоединении Техаса, и что народная армия должна быть сформирована для защиты Мексики, многострадальные калифорнийцы решили не записываться в армию, а воспользоваться этим случаем для избавления от уголовников Микельторены, которые вносили замешательство н беспорядки в их спокойный край. Альворадо и его военный заместитель Кастро предложили Микельторене погрузить своих солдат на суда и отправить в Мексику. Когда Микельторена отказался, полагая, что лучше иметь плохих солдат, чем не иметь никаких, Альворадо и Кастро собрали отряд из сорока-пятидесяти своих сторонников. Противники две недели маневрировали и совершали конные рейды, не сделав ни одного выстрела и не обменявшись ни одним ударом. Похоже, что этим все могло и закончиться, если бы не Джон Саттер, который неожиданно «въехал на сцену» на белом жеребце. 21 июля 1844 года губернатор Микельторена назначил Саттера капитаном всех войск Сакрамепто-Вэлли. Наконец-то капитанское звание Саттера перестало быть фикцией. Подобное воплощение мечты опьянило его - ни один из жизненных успехов не наполнял его такой гордостью. И это чуть было не привело его к гибели. Назначение не застало Саттера врасплох. Форт его с самого начала был построен по принципу военного поселения с воинскими занятиями после ужина, а индейцы щеголяли в военной форме с красным кантом, приобретенной в форте Росс. Занятия строевой подготовкой проходили под аккомпанемент лающих команд па немецком языке одного из сержантов, находившегося на службе у Саттера; ружейные артикулы производились кремневыми ружьями из форта Росс, которые якобы попали туда из брошенных в Москве запасов Наполеопа. В октябре Саттер прослышал о готовящемся против Микельторены буите Альворадо и Кастро. Саттер помчался предупредить Микельторену о готовящемся заговоре. Губернатор, обрадованный неожиданной поддержкой, дал в честь Саттера торжественный обед с запуском воздушного шара и пообещал ему не только новые лиги в северной Калифорнии для него лично, но и оформление по всем законам земельных наделов для всех, кто будет сражаться под его командованием. В то самое время, когда Саттер вернулся в свой форт для комплектования бригады, Альворадо и Кастро захватили в Сап-Хуане, куда Микельторена привел свои войска, несколько артиллерийских орудий. Микельторена подписал договор, по которому он обязывался отправить своих солдат обратно в Мексику, что полностью удовлетворило не только Лльворадо и Кастро, но и Вальехо, который хотя н придерживался нейтралитета, но горячо стремился выдворить из страны армию, набранную из преступников. Но капитану Джону Саттеру не так-то легко было отказаться от единственной войны в его жизни. Он отправил призывы буквально каждому мужчине, живущему в долине, с требованием присоединиться к его армии и занялся военным обучением всего населения форта; он даже приказал Маршу под угрозой военно-полевого суда вступить в его армию пехотинцем. Без поддержки Саттера Микельторене пришлось бы отправить своих солдат в Мексику, как его и обязывали поступить, однако, когда выяснилось, что Саттер может выставить почти сотшо вооруженных людей, Микельто- рена сообразил, что в его распоряжении имеется самая сильная армия в Калифорнии. Он приказал Саттеру захватить Лльворадо и Кастро. Саттер попытался получить у Вальехо сотню лошадей, однако вместо этого получил серию самых блестящих и горячих писем из всех написанных на калифорнийской земле. В них Вальехо - самый мудрый и самый способный из всех калифорнийцев - изложил ряд язвительных замечаний, которые должны были бы положить конец этому безумному предприятию Саттера. Вальехо распустил свой отряд из тридцати солдат в конце 1844 года, мотивируя это отсутствием средств, уклоняясь тем самым от участия в междоусобице, как он уже это сделал в 1836 году во время восстания Лльворадо и в 1840 году во время депортации Грэхема и его сторонников. Именно в этот момент двадцать человек из партии Сти- венса прибыли в форт Саттера, намереваясь с его помощью начать жизнь на калифорнийской земле… Саттер показал им официальные документы за подписью губернатора Ми- кельторены, которыми подтверждалось обещание предоставить бесплатно и на законных основаниях участок земли чуть ли не в лигу длиной каждому из муж шн, согласных сражаться против тех, кого Саттер называл группой наглых бунтовщиков. Такой возможности упускать не следовало, и все вновь прибывшие, включая Элишу Стивенса и доктора Таунсенда, выразили желание отправиться на войну. На рассвете первого дня нового, 1845 года Д?кон Саттер, теперь уже полковник, выступил на поиски славы «в Сдвинутом набекрень Кепи, синем мундире, безукоризненных пантало.?чх и с усами, подчеркивающими его воинственность». За ним двигалась армия Сакраменто численностью в двести двадцать человек, состоящая из посланцев Сакраменто-Вэлли, новобранцев из партии Стивенса и сотни индейцев. Примерно половина ехала верхом, сзади двигалась артиллерия Саттера и обоз, запряженный волами. Это была весьма демократическая армия, выступившая на защиту неправого дела. Форт остался на попечении Пирсона Б. Ридинга, пятнадцати белых и тридцати индейцев - весьма рискованное предприятие, - однако Саттер, по-видимому, был не столько озабочен судьбой форта, сколько своей гражданской жены, поскольку он писал Ридингу: «В случае, если меня убьют, проследите за тем, чтобы Манаики получила жалованье, причитающееся ей за все дни пребывания в форте». По плану краснощекого и полного отваги полковника Саттера ему предстояло встретиться в Сан-Хосе с армией Альворадо и Кастро, насчитывавшей девяносто человек, и разгромить ее в решительном сражении. К 9 января он соединился с силами Микельторены у реки Салинас. Однако Альворадо и Кастро спутали карты Саттера и, не приняв боя, начали отступать на юг. Сильные дожди, выпадавшие над равнинами центральной Калифорнии, превратили дороги в грязевые ванны. Микельторена заболел и вынужден был передвигаться в карете. Армия проделывала переходы по четыре мили в день, запасы провизии иссякли, люди страдали от холода и сырости. Именно в это время Марш, затаивший жажду мести, принялся подстрекать американцев: с какой это радости они оказались замешанными в чужие семейные дрязги? Никто не находил ответа. И все же Саттеру удалось не допустить брожения в отряде. Они шли на юг к Санта-Барбаре, добывая провизию за счет реквизиций скота и налетов на миссии. Так они двигались еще несколько недель по побережью, пока 19 февраля, после семинедельного пути, армия Саттера не добралась до долины с редкими одинокими дубами Сан- Фернандо-Вэлли и не увидела армии повстанцев. Альворадо и Кастро успели побывать уже в Лос-Анджелесе и убедить его сонное население, что Саттер с его иностранцами намеревается сжечь город дотла. В помощь себе они набрали группу из местных американцев, включая таких старожилов, как Эйбел Стирпс, а также людей из партии Уоркмена - Роуленда и сорок только что прибывших горцев. Утром 20 февраля полковник Саттер приказал открыть огонь из трех своих пушек. В ответ послышались выстрелы двух пушек Альворадо и Кастро. Перестрелка продолжалась около двух часов, после чего Кастро отвел свои силы на запад через Кауэнга-ГХасс. На следующее утро американцы полковника Саттера, к своему изумлению, обнаружили, что вражеские силы состоят не из калифор- нийцев, а из американцев, среди которых находятся их старые друзья из Миссури и Санта-Фе. Рядовой Джон Марш сменил на командном посту полковника Джона Саттера и дал сигнал к перемирию. Две группы американцев бросились навстречу друг другу с радостными восклицаниями и расспросами о родственниках и друзьях, оставшихся дома. Марш произнес речь, в которой он убеждал обе стороны, что им нечего делать в этой войне и что им следует беречь силы для настоящих испытаний в деле превращения Калифорнии в американскую территорию. Американцы покинули поле боя в обнимку. С войной было покопчепо. Историки так и не могут прийти к единому мнению относительно потерь: данные колеблются от одной до четырех лошадей. Однако все авторитеты сходятся на том, что одна из пушек Кастро лишилась колес. Полковник армии Сакраменто Джон Аугустус Саттер был схвачен, вытряхнут из мундира и заключен в тюрьму. Разозленные жители Лос-Анджелеса, обвинявшие его во всей этой заварушке, не могли прийти к согласию лишь в одном: расстрелять или повесить его за эти преступления. Саттер написал униженпое письмо повому губернатору, Пио Пико, сваливая всю вину на прежнего губернатора, Микельторену; разве он не подчинялся недвусмысленному приказу? Пио Пико и добродушный Альворадо не только простили Саттера, разрешив ему сохранить за собой форт и его обширную колонию, но и подтвердили выделение трех дополнительных лиг земли шириной в девять миль, которые ему были обещаны Микельторепой за участие в войне. Они также утвердили земельные наделы, которые он пообещал американцам и европейцам за то, что они вступили в его армию. Таким образом, все были счастливы, даже Микельторена, который вернулся в Мехико из смертельно надоевшей ему Калифорнии. Тем временем Уильям Рей, главный представитель Компании Гудзонова залива в Йерба-Буэне, завоевал себе сомнительную честь именоваться первым самоубийцей в анналах калифорнийской истории. Современники сходятся на том, что акт этот он совершил тогда, когда деловые затруднения совпали с тем, что его застали с любовницей. В результате этой трагедии Компания Гудзонова залива решила вообще ликвидировать свое представительство в Йерба-Буэне. Таким образом, Саттер избавился от одного своего кредитора, однако будущий город Йерба-Буэна теперь выглядел еще скучнее. Когда два года спустя англичане проиграли игру за Калифорнию в известной степени из-за того, что у них там не было представителя, они могли по крайней мере утешать себя тем, что и здесь не обошлось без женщины. Возвратившись, Джон Саттер застал свой форт и дела в крайне запущенпом состоянии. Тем не менее он тут же откомандировал Калеба Гринвуда в форт Холл, с тем чтобы любую экспедицию, направлявшуюся в Орегон, переманивать в форт Саттера обещанием бесплатного предоставления землй! В июле 1845 года он уже гостеприимно встречал партию Клаймена - Мак-Магона из тридцати девяти мужчин и вдовы с тремя детьми, прибывшую из Орегона. Грин Мак-Магон, который впервые прибыл в Калифорнию в 1841 году с партией Бидуэлла, вел их тридцать один день по системе рек Кламат, Шаста и Сакраменто. Международный оттенок миграции иа Восток отчетливо проявился в составе этой партии, так как в нее входили француз, канадец, два немца, а остальные - англичане и американцы. Столь же разнообразно были представлепы и профессии: специалист по варке мыла, по изготовлению свечей, седельщик, портной, кузнец, сапожник, пять столяров, моряк, двадцать четыре фермера, Джеймс Клаймен, который вел дневник путешествия, благодаря чему его имя вошло в название партии, Джеймс У. Маршалл - каретник и несколько охотников с гор.Глава XV
Партия непреклонных индивидуалистов Пять драгунских рот под командованием полковника Стефена Уоттса Кирни, численностью от двухсот пятидесяти до трехсот человек каждая, были первыми воинскими частями армии Соединенных Штатов на всем Дальнем Западе со времен капитана Зебулона Пайка в 1806 году и майора Стефена Лонга в 1820 году. Примерно 10 июля Кирни привел своих посаженных на лошадей пехотинцев из Вайоминга в Колорадо под предлогом защиты двигавшихся по Орегонскому тракту эмигрантов от нападения индейцев. Поскольку орегонские партии двигались уже несколько лет в полнейшей безопасности, экспедиция Кирни явно имела другие задачи. Кирни резко свернул к форту Бепт, находившемуся почти па самой границе с мексиканскими юго-восточными территориями, где он насладился, по словам хроникера форта, «роскошным обедом, накрытым в большом зале», обсуждая с Чарлзом Бентом состояние вооруженных сил Мексики. Это, видно, было прологом к его выступлению в следующем году в роли командующего армией Запада. По материнской линии Стефен Уотте Кирни являлся потомком таких богатых и элитных голландских семей, как Ван-Кортлендсы и Шуйлеры. Его прапрадед по отцу приехал из Ирландии в 1704 году; отец его был процветающим виноторговцем в Перт-Эмбой, Нью-Джерси, а потом потерял все, поскольку поддерживал британцев в войне за независимость. Никто никогда не сомневался в лояльности Стефена. В 1811 году в возрасте шестнадцати лет он поступил в Колумбийский колледж, однако, когда разразилась война 1812 года, бросил его и поступил в армию. В этой войне он получил отличие за храбрость, был ранен, пленен, обменен и произведен в чин капитапа. Армейская жизнь пришлась ему по душе. Под конец войны его отправили в экспедицию в пограничные районы для строительства аванпостов и фортов. В 1828 году он был комендантом крепости Кроуфорд в Прерия-дю-Шайенн, когда Джон Марш отправил его под арест за незаконное использование краденого леса и неподчинение гражданским властям. Теперь, пятидесяти четырех лет от роду, полковник Кирни был опытным пограничным жителем и одновременно - рутинным служакой, которому уже целых тридцать три года не приходилось нюхать пороху. Кирни и его драгуны пробыли в Колорадо три педели, прежде чем примерно 1? августа отправились на восток, пересекая путь третьей экспедиции капитана Джона Фре- монта из шестидесяти горцев, которые добрались до форта Бент 2 августа. В состав партии Фремонта входили Джозеф Уокер, Бэзил Ланженес, опытный охотник Люсьен Максуэлл, Эдвард Кзп из Филадельфии, художник и дюжина делаварских следопытов, фанатично преданных Фре- монту. Фремонт направил весточку своему другу Киту Карсону, который занимался фермерством в Симароне. Когда Карсон узнал, что Фремонту приказано разведать дорогу в центральных Скалистых горах Колорадо, а также составить карту Великого Соленого озера, оп тут же продал свою ферму и присоединился к экспедиции. Фремонт провед две недели в форте Бент. С двенадцатью новыми карабинами, распределенными им в качестве призов за тобеду в стрелковых состязаниях, он отправился в Пуэбло, а потом, пользуясь мягкой, теплой погодой затянувшегося лета, продолжал движение по Аркан- зас-Вэлли, наслаждаясь зрелищем сосновых лесов и стекающих со Скалистых гор ручьев южного Колорадо. Они двигались по старой индейской дороге, которой в 1804 году воспользовался Пайк, но достоинств которой никто не рассматривал с точки зрения пригодности ее для эмигрантских партий. В это же самое время в Неваду прибыли четыре эмигрантские группы. Различные источники именуют их группами Снайдера - Блэкберна, Суоси - Тодда, Саблетта и Григсби - Лн. Все они входили в караван из ста фургонов, собранный в Миссури за несколько недель. Только пятнадцать фургонов направлялись в Калифорнию, остальные держали путь в Орегон. Так, собственно, обстояло дело, пока они не добрались до форта Холл, где их дожидался Калеб Грипвуд с обещанием Саттера предоставить бесплатную землю в Калифорнии. Глава каравана произнес горячую речь, пытаясь предотвратить распад партии: под угрозой обвинения в бунте он запретил следующим в Орегон фургонам сворачивать на Калифорнийскии тракт. Угроза не подействовала. Сто человек послушались Грнпвуда, и более шестидесяти фургонов повернули на юг. Первой партией, которой предстояло выступить во главе с одним пз сыновей Грннвуда, была группа из двенадцати молодых люден, ехавших верхом в сопровождении вьючных животных. Они пересекли Неваду и добрались до реки Марии, спустились до Синка, а затем по пути, проложенному в прошлом году Стивенсом, в ¦конце сентября спустились к форту Саттера - самое быстрое в истории западной эмиграции путешествие, без каких-либо приключений, бели не считать того, что юный Джон Гринвуд, сам полукровка, умудрился застрелить индейца. Партия Григсбн - Айда была самой многочисленной: пятьдесят мужчин, не считая женщин и детей. Уильям Б. Лйд ранее учительствовал, а когда не удавалось свести концы с концами, подрабатывал столярным делом. Он вошел в историю как первопроходец не за особые заслуги, а потому, что обладал довольно бойким пером и оставил живой отчет о своем путешествии, на который с жадностью набросились авторы биографий. Айд, родившийся в Рут- ленде, штат Массачусетс, в 1796 году, очень рано заболел лихорадкой Запада. Он перебрался сначала в Кентукки, а затем - в Огайо и Иллинойс. Айд не мог не поддаться всемогущему зову Запада и зимой 1844/45 года начал готовиться к походу: тщательно отобрал лес для фургонов и заказал их изготовление. Брезентовые навесы к ним были сшиты миссис Айд и их семнадцатилетней дочерью Саррой. Фургопы и навесы он выкрасил грифельно-серой краской, установил кухонное оборудование, погрузил шестимесячный запас провизии, а также циркулярную пилу и железные части для мельницы, с тем чтобы начать новую жизнь на Дальнем Западе. У него было также шестьдесят пять голов крупного рогатого скота и двадцать восемь упряжных волов. На задпей стенке брезентового верха последнего фургона он начертал отчетливыми буквами ОРЕГОН. Но Калеб Гринвуд убедил его изменить направление. Как только партия Айда добралась до Невады, их проводник «доктор» Джой Мик, чья медицинская практика в Моптерее, по-видимому, потерпела крах, сообщил им, что теперь ипдейцы уже не составляют опасности. Партия сразу же отказалась от единой дисциплины, которая до этого была характерной чертой всех эмигрантских караванов, и каждая семья стала располагаться на ночлег отдельно.Дойдя до гор Невады, Лйд нашел несколько пологих участков, по которым рабочие команды, поднимаясь поодиночке, могли забраться 'наверх, а затем втащить туда фургоны при помощи блоков и полиспастов. Он уговорил группу снова объединить силы. Они разгрузили фургоны и проложили дорогу шириной в шесть или семь футов, вырубив деревья и откатив крупные камни. Потом наверх с помощью веревок подняли волов. После того как пять или шесть волов собрались на первой промежуточной площадке. туда по одному втащили фургоны. Поднимали их рывками, подкладывая каждый раз под колеса камни в качестве тормоза. На это ушло сорок восемь часов. Люди падали от усталости, у волов кровоточили ноги, но теперь все было готово к спуску. После покорения гор Невады связи, до сих пор кое-как объединявшие партию, распались окончательно и каждый из фургонов помчался вперед, стараясь первым дорваться до бесплатной земли. Из-за этого партия получила прозвище «партия непреклонных индивидуалистов 1845 года». В начале октября Джон Саттер отправил Томасу Лар- кину ликумщее письмо, включив в него список эмигрантов: «Вам, несомненно, приятно будет узнать, что они прибыли сюда в состоянии лучшем, чем какая-либо иная партия эмигрантов. Они в подавляющем большинстве обеспечены всеми необходимыми принадлежностями для содержания дома, фермерского хозяйства, а также имеют много механического оборудования. Большинство из них в той или иной степени обеспечено и деньгами». Калифорния явно привлекала всеболее высокий класс эмигрантов. 10 октября, в тот самый депь, когда первые фургоны партии Григсби - Айда появились у ворот форта Саттера, экспедиция Фремонта достигла пресноводного озера Юта. Они питались мясом оленей, лосей и забредших сюда бизонов, с удивлением обнаружив стадо их так далеко на западе, ловили в изобилии и рыбу, которую они называли бизоньей из-за горбатой спинки. Продвигаясь на север, Фремонт обнаружил, что ошибался, считая, что озеро Юта связано с Великим Соленым озером. Две недели он провел на Соленом озере, составляя карты и набрасывая схемы. Теперь, находясь примерно в двухстах милях к югу от проложенного вдоль берега реки Марии обычного пути, Фремонт решил двигаться прямо на запад. «Маршрут, по которому я решил идти, пролегал по долине, покрытой кустиками шалфея. Местность выглядела безводиой, и никто из моих людей о ней ничего не знал. Индейцы объявили нам, что им неизвестно, чтобы кто-нибудь когда- либо пересекал эту равнину». Об этой равнине Карсон писал в автобиографии: «Никому из белых не удавалось пересечь ее. Я часто бывал здесь. Старые трапперы утверждали, что пройти через нее невозможно, что здесь не отыскать пи воды, ни травы для скота. Фремонт принял решение пересечь ее. Когда этого требовали изыскания, для него не было ничего невозможного». К счастью, изобретательность Фремонта не уступала его храбрости. «Почти на самой линии нашего маршрута, приблизительно в пятидесяти или шестидесяти милях от нас, возвышалась конусообразная гора. Она показалась мне покрытой растительностью. Я решил, что Карсон, Аршамбо и Максуэлл двинутся к ней ночью, взяв с собой мулов, навьюченных запасом воды и провизии, а я на следующий день пойду с остальными по их следам и разобью привал в пустыне. Обнаружив воду, они подадут мне сигнал дымом». Фремонт с основным отрядом вышел на следующий день под вечер и двигался всю ночь. Перед рассветом к ним приехал верхом Аршамбо и принес радостную весть о том, что им с Карсоном удалось найти воду, траву и лес у подножия горы. Еще один отрезок западной пустыни оказался покоренным. Третья экспедиция Фремонта, пройдя напрямик через Юту и Неваду от Великого Соленого озера, доказала, что все прежние карты, в которых об этом бассейне говорилось как о «песчаной бесплодной пустыне без воды и травяного покрова», были неверными: это была не сплошная пустыня, ее «пересекали параллельные горные гряды с белыми от спега вершинами и склонами. Вместо бесплодной местности горные склоны были покрыты великолепнейшей травой, и там водилось столько оленей и горных барапов, сколько мы не встречали в прошлых путешествиях». ???? 97 Вне себя от радости Фремонт переименовал трехсотмильную реку Марии, которая до этого считалась «столбовой дорогой на Запад», в реку Гумбольдта, в честь своего идола - немецкого патуралиста и географа Александра Гумбольдта. 7 Зак. М 1463
10 декабря Фремонт прибыл к воротам форта Саттера, легко осуществив спуск от озера Уокера. 11а этот раз он не покинул Калифорнию. Он остался здесь, что и явилось косвенной причиной захвата Дальнего Запада, войны в Калифорнии и установления там первого американского правительства. Таким образом, он покрыл себя славой или бесславием, но это зависит от того, какую книгу о нем вы лигаете, ибо написание биографий - искусство противоречивое. Среди «непреклонных индивидуалистов» партии Григсби - Лида Фремонт найдет много родственных душ, которые в следующем году окажутся в числе зачинщиков бунта Медвежьего флага.
Глава XVI
«Почему капптан Фремонт в Монтерее?» 1840 год был решающим годом для Калифорнии. 22 ноября 1845 года Марнано Вальехо писал в Мехико из Со- номы: «Эмиграция североамериканцев в Калифорнию представляет собой сегодия непрерывный поток фургонов, текущий из Соединенных Штатов прямо в эту страну, а как их повернуть назад без воинской силы и резервов? Это крайне необходимо, сеньор, чтобы Центральное правительство направило нам и то и другое. Уже несколько лет я непрерывно молю об этом. Солдаты и деньги! Только объединение этих двух средств может спасти нас от грозящей опасности. Было бы крайне желательно закрыть эту дверь между нами и Соединенными Штатами, хотя бы и цеиой некоторых жертв. Когда Кастро предложил Сат- теру продать его поселение, тот согласился уступить его правительству за сто тысяч долларов. Я понимаю, что это очень высокая цена за несколько пушек, не слишком умело выстроенные бастионы со рвом, десять пли двенадцать домов из необожженного кирпича и корраль из того же материала, но это будет плата за безопасность этой страны, а она бесценна». Вопрос о безопасности страны Марнапо Вальехо поднимал и в целом ряде других писем. Коммерсант Томас О. Ларкин, который в начале 1845 года перепоручил все связанные с торговлей дела в Монтерее молодому помощнику Тальботу X. Грипу, с тем чтобы целиком посвятить свое время делу заполучения Калифорнии Соединенными Штатами, писал государственному секретарю Джеймсу Быокеиену: «Мексиканские войска, которые собираются вступить в эту провинцию', были посланы сюда по указке английского правительства». Ответ государственного секретаря Быокенена, написанный в Вашингтоне 17 октября 1845 года, крайне важен для понимания восстания капитана Фремонта в Калифорнии и злополучной воины с Мексикой: «Будущая судьба этой страны представляет собой предмет живейшего интереса правительства и народа Соединенных Штатов. Интересы нашей коммерции и наших китобоев в Тихом океане требуют того, чтобы вы проявили строжайшую бдительность в деле раскрытия и предотвращения любых попыток иностранных правительств заполучить контроль над этой страной. В столкновении между Мексикой н Калифорнией мы не можем принять участия до тех пор, пока первая не совершит акций, враждебных по отношению к Соединенным Штатам; однако, если Калифорния объявит себя независимой и будет отстаивать эту независимость, мы предоставим ей любую поддержку как братской республике. Великобритания, захватив Калифорнию, посеет семена будущей войны и собственного поражении, ибо политической истиной является то, что данная прекрасная провинция не может долго удерживаться в вассальной зависимости любой европейской державой. Эмиграция населения из Соединенных Штатов скоро сделает это и вовсе невозможным». К концу января 1840 года Фремонт и восемь сопровождающих его лиц прибыли в Монтерей с визитом к консулу Ларкниу. Полковник Лльворадо и префект Кастро в Моптерее, обеспокоенные этим, направили вежливый, но твердый запрос консулу Ларкину: «Почему американский армейский офицер находится со своим подразделением в Калифорнии, и почему капитан Фремонт в Монтерее?» ???? 7» Капитан Фремонт, весьма обаятельный человек, предстал перед чиновниками и с величайшим тактом ответил, что его спутники отнюдь не солдаты, а горцы, помогающие ему обследовать и составить карту доступной дороги к океану, что свой основной отряд он оставил «на границе» и, как только его люди восстановят силы и пополнят запасы, они уйдут из Калифорнии в Орегон, а затем и домой Встреча прошла дружески.99
Л потом произошел один из тех чреватых последствиями случаев, который нарушил ход событий. Когда Фремонт сказал Альворадо и Кастро, что он находится в Калифорнии с научно-исследовательской экспедицией и что основные силы его отряда остались «на границе», он говорил полуправду. Но даже и в этом случае он выглядел лучше Быокенена, государственного секретаря, чье письмо не содержало и четверти правды. Основные силы отряда Фре- мопта были в горах, но он не оставил их там - они заблудились. Еще в невадской пустыне Фремонт отправил отряд из сорока четырех человек под началом Джозефа Уокера в Калифорнию через перевал, открытый Уокером в 1832 году, а затем они должны были, спускаясь по Сан- Хоакин-Вэлли, добраться до Кннгс-Ривер. Вместо этого Уокер дожидался его на развилке Керн-Ривер. Высылая разведчиков, чтобы узнать, где находится его командир, Уокер обнаружил его подле Сан-Хосе и к середине февраля привел к нему своих людей. Теперь в распоряжении капитана Фремонта оказался отряд из шестидесяти вооруженных, преданных и дисциплинированных солдат - самое сильное воинское подразделение из всех, которыми когда-либо располагала Калифорния. Если бы Уокер повел своих людей, как и планировалось, на север, к Саттеру, Фремонту с его восемью спутниками пришлось бы возвращаться туда. Однако, собрав воедино все свои силы и ожидая, что с минуты на минуту придет известие о начале войны между Соединенными Штатами и Мексикой из-за присоединения Техаса, капитан Фремонт не хотел уводить свой отряд далеко от Моитерея, где он собирался поднять американский флаг. Он добрался до океанского берега возле Санта-Круса, и здесь те же капризы погоды, которые год назад сорвали продвижение армии Сагтера, подсказали ему оправдание для пребывания здесь. 1 марта он выступил в путь по па- правлению к Монтерею вдоль берега, остановившись на привал в ранчо Элизал в Салинас-Вэлли, принадлежавшем англичанину Уильяму Хартнеллу. Теперь ему уже трудно было говорить, что он занимается научными изысканиями. Фремопт написал Ларкипу, что он намерен остаться в Салипас-Вэлли до весны, когда, как он был уверен после всего, что ему говорили в Вашингтоне, разразится война. Мексиканским властям нужно было либо выступить против Фремонта, либо полностью утратить свое лицо. 5 марта 1846 года в Калифорнии началась почти настоящая война. «Вечером тишина лагеря оказалась нарушенной неожиданным появлением кавалерийского офицера, - пишет фремонт. - Лейтенант Чавес решил, по-видимому, быть резким и кратким. Он привез мне безапелляционное письмо от генерала и префекта, предписывающее мне немедленно убираться из департамента. Они предупреждали, что применят силу в случае, если я немедленно не подчинюсь приказу. Я выразил посланцу свое крайнее изумление… Я выразил также просьбу передать генералу Кастро, что я, безусловно, отказываюсь выполнять приказы, отданные в оскорбительной для моего правительства и для меня форме». На следующее утро Фремонт «отошел в горы и разбил лагерь на небольшой, покрытой лесом полянке на вершине пика Хоука в Гэвиленских горах, господствующей над окружающей местностью, возвел укрепление из бревен и поднял американский флаг». Прошло уже три с половиной года с того дня, как коммодор Томас Джонс поднял американский флаг в Мон- терее и тридцать часов господствовал ¦над Калифорнией, оба эти инцидента были показательны для того духа, который насаждался среди служащих государственного департамента и армейских офицеров. С вершины горы Фремонт мог наблюдать, как в долине Сан-Хосе собирались мексиканские войска и артиллерия. Он сделал запись, которая по пафосу не уступала лучшим мексиканским: «Если пас атакуют, мы будем бороться до конца и не попросим мира, веря, что родина отомстит за нашу смерть. Если штурмующие ворвутся внутрь и начнут сражаться в стенах (он устроил лагерь с отлично сделанной просекой, по которой можно было уйти па другую сторону горы), мы умрем все до единого человека под флагом своей страны». К вечеру следующего дня отряд мексиканских всадников начал подниматься в горы. Фремонт с отрядом из сорока человек спустился с горы и устроил засаду под прикрытием зарослей. К счастью, ни одного выстрела не было сделано, и обе стороны вернулись в свои лагеря, причем Кастро только для того, чтобы составить прокламацию, в которой утверждалось, что «банда грабителей, возглавляемая капитаном армии Соединенных Штатов… сделала вылазку, пытаясь продолжать бандитские налеты». Слово «грабители» подкреплялось обвинением в том, ,!то люди Фремонта украли несколько лошадей, а выражение «бандитские налеты»-тем, что два горца из отряда Фремонта ворвались на ранчо и перепугали трех молоденьких калифорнийских девушек. На следующий день шест, на котором развевался американский флаг, повалился, и Фремонт объявил всем, что падение этого шеста - знак того, что их пребывание в форте Пик Хоук окончено. Таким образом, армия оказалась не более везучей, чем флот в попытке удержать завоеванное. Что же касается конкурса хорошего тона в международных отношениях, то мексиканцы здесь, несомненно, одержали победу. Пока капитан Фремонт медленно и со всевозможными ОТт-яжкамн уводил своих людей на север, к форту Саттера, а затем по Американской реке к Орегону, в кабинете консула Ларкнна состоялось собрание, по всей.вероятности, самое интересное за все то время, пока Калифорния принадлежала Мексике. Вопрос, который обсуждался на нем, звучал так: «Кому должна принадлежать Калифорния и земли Дальнего Запада?» Генерал Кастро высказался за присоединение к Франции по религиозным соображениям. Дэвнд Спенс и Уильям Хартпелл высказались в пользу родной Англии. Томас О. Ларкин и Виктор Прудон отдали предпочтение Соединенным Штатам. Полковник? Марнано Вальехо произнес ученую речь, в которой он разъяснил содержание и смысл конституции Соединенных Штатов и то, «каким образом в соответствии с этой конституцией Калифорния будет иметь представительство в конгрессе, подобно всем остальным штатам этой республики». Рафаэль Гонсалес произвел самый настоящий фурор, когда, вскочив с дивана, воскликнул звонким голосом: «Калнфорпиа либре, соберапсе и инднпендненте! - Калифорния свободная, суверенная и независимая!» Никто из присутствующих не пожелал войти в историю, хотя бы предположив, что Калифорния может оставаться В составе Мексики!Глава XVII
Секретный агент 17 апреля 1840 года, ровно через шесть месяцев после того, как он получил секретный приказ государственного секретаря Быокенена, в Монтерее появился лейтенант флота Соединенных Штатов, проделавший путешествие через Мексику от Веракруса до Масатлана, затем на американском военном корабле «Сайеп» - в Гонолулу, а потом - в Монтерей. Его имя было Арчибальд Джиллеспи; он выдавал себя то ли за купца, отправившегося в путь ради выгодной сделки, то ли за инвалида, путешествующего в поисках благоприятного для здоровья климата. Трудно было отыскать более здорового морского офицера, и отправлять его под такой личиной в Калифорнию с депешами к копсулу Ларкину и капитану Фрсмонту было не более дипломатичио, чем если бы военный корабль «Сайен» вошел в гавань Моптерея, паля изо всех своих орудий. 30 октября 1845 года президент Полк записал в своем дневнике: «У меня состоялся конфиденциальный разговор с Джиллеспи из корпуса морской пехоты примерно в 8 часов пополудни по поводу секретной миссии, с которой он должен отбыть в Калифорнию. Полученные им секретные инструкции и письмо к мистеру Ларкину, консулу Соединенных Штатов в Монтерее, состоящему на службе в госдепартаменте, объясняют предмет данной миссии». Полк скромно воздерживается от того, чтобы доверить своему дневнику содержание секретных приказов; с такой же скромностью и Джиллеспи никогда не доверял содержания их бумаге. Прежде чем попасть в Веракрус, Джиллеспи заучил наизусть все депеши, которые Бьюкепен передавал консулу Ларкину. Через всю Мексику он вез с собой только рекомендательное письмо к Ларкину и письмо к капитану Фремонту от членов его семьи. Лейтенант Джиллеспи был горячо встречен Ларкипом, заблаговременно предупрежденным о его приезде письмом •от госсекретаря Бьюкенена, который выдвинул следующий план, разработанный в Вашингтоне: «В дополнение к вашим консульским обязанностям президент считает необходимым назначить вас секретным агентом в Калифорнии. Вы не должны возбуждать подозрения находящихся там английских и французских агентов, предпринимая какие- либо действия, выходящие за рамки ваших консульских функций. Лейтенант морской пехоты Арчибальд X. Джил- леспи - джентльмен, которому президент доверяет целиком и полностью. Он ознакомлен с этими инструкциями н будет сотрудничать с вами в качестве секретного агента для воплощения их в жизнь». Лейтенант Джиллеспи, по видимому, привез известия о какой-то первоапрельской войне с Мексикой, потому что Ларкин, выслушав секретные инструкции Джнллеспи, опрометчиво объявил Вальехо, что флаг Соединенных Штатов будет развеваться над Калифорнией к Четвертому июля! Консул Ларкип теперь включился в конспиративную деятельность, нанисав полное недомолвок письмо к вице- консулу Лидесдорфу в Йерба-Буэну, в котором говорилось, что Джиллеспи «…не имеет счастья обладать крепким здоровьем и желает путешествовать по вашей части Калифорнии, будучи наслышан о ее благоприятном климате». Он поручил Лидесдорфу обеспечить Джиллеспи лодкой, лошадьми, людьми, направляя счета за все это Лар- кину, а затем добавил, что «Джиллеспи является джентльменом весьма информированным и хорошо знакомым со странами, которые он проехал». Он также снабдил Джиллеспи рекомендательными письмами к американцам н европейцам, которые, по его мнению, с нетерпением ждали захвата страны: Патану Спиэру, важному торговцу из Йерба-Буэны, Джекобу Линзе, доктору Джону Маршу, Уильяму Ричардсону, капитану порта Йерба-Буэны, и Джону Саттеру. Последнее оказалось ошибкой, поскольку, как только Джнллеспи прибыл на реку Сакраменто в поисках Фремонта, суматошный Саттер сообщил генералу Кастро, что, но его убеждению, Джиллеспи лжет, когда говорит людям, будто путешествует для поправки здоровья: «?Я видел его имя в списках офицеров. По моему мнению, Джиллеспи является курьером к капитану Фремонту… с важными депешами от своего правительства… и вполне возможно, что Фремонт вернется из пограничных земель». Морские офицеры на Тихом океане, по-видимому, тоже были оповещены о том, что война начнется в апреле. Когда Слоут, весьма осторожный командир, услышал о том, что Фремонт занял позицию у Пика Хоук, он отправил «Портсмут» под командой командора Монтгомери из Ма- сатлана в Монтерей с приказом добраться туда как можно скорее. Командор Монтгомери сказал Ларкниу, что, по его мнению, «коммодор Слоут со следующей же почтой, наверное, получит известие об объявлении войны Мексико Соединенными Штатами». В Сакраменто Саттер совершенно открыто объявил Джиллеспи, что ои знает, что тот является офицером на службе Соединенных Штатов. Впрочем, это не помешало ему дать Джиллеспи лучшего своего мула и проводника. С помощью опытных поселенцев Лассена Степпа и Нила Джиллеспи снова тронулся в путь. Прошло одиннадцать дней, прежде чем он добрался до Фремонта у озера Кла- мат, чуть севернее калифорнийской границы. Джиллеспи доставил Фремонту письма от жепы и тестя, сенатора Томаса Харта Бентона; изложил ему секретное письмо госсекретаря Быокенепа консулу Ларкнпу, секретные инструкции президента Полка и сообщил последнюю новость о том, что поенный корабль Соединенных Штатов «Портсмут» находится в заливе Сан-Франциско. Возможно, что Джиллеспи передал ему и послание военно-морского министра Бэнкрофта, который позднее утверждал, что отправил его Фремонту. «Освобожденному от всех обязанностей, свя!анпых с исследовательской работой, капитану Фремонту предстояло выполнить долг офицера на службе Соединенных Штагов - с момента официального оповещения о том, что правительство намерено вступить во владение Калифорнией». Письма от жены и сенатора Бентона были написаны тем тайным языком, который понятен лишь близким, обсуждавшим данную тему в течение многих лет. Фремонту стало ясно, что они призывают его сыграть ведущую роль в присоединении Дальнего Запада к Соединенным Штатам. «Я увидел перед собой открытый путь, - говорил Фре- монт. - Война с Мексикой была неизбежной; и теперь представлялась великолепная возможность полностью реализовать идеи сенатора Бентона относительно превращения Тихого океана в западную границу Соединенных Штатов. Я решил тут же вернуться в Сакраменто-Вэлли и оказать этому всяческое содействие». К концу мая Фрсмопт и Джиллеспи проделали обратный путь вниз по Сакраменто-Вэлли, останавливаясь на ранчо Лассена н на ферме Нила и Даттона на Днр-Крик. Оба они были изнурены форсированным маршем н диетой, состоявшей из конского мяса, ио были готовы к пемедлед- иым действиям. На шлюпке Саттера Джиллеспи отправился на стоящий в заливе Сан-Фрапциско «Портсмут», требуя для Фремонта пушек, боеприпасов, денег, провизии и медикаментов. Будучи армейским офицером, Фремонт не мог предъявлять подобные требования военно-морскому флоту, и то, что командор Монтгомери выполнил их, означало, что он имел па этот счет соответствующий приказ. Американцы в центральной Калифорнии были возбуждены возвращением Фремонта - это могло означать только одно: что Джпллеспи привез ему приказ захватить Калифорнию. Несмотря на то что во время всех испытаний многострадальные калифорнийцы обращались с американцами с поразительной доброжелательностью, пропагандистская война распространялась от одного ранчо к другому со скоростью самой резвой лошади: «Генерал Кастро набрал в Сономе лошадей и людей для нападения крупными силами…», «Мексиканские солдаты будут арестовывать всех американцев, затем отберут у них землю и депортируют их на запад через Сьерра-Неваду…», «Мексика продала Калифорнию англичанам…», «Британские военные корабли движутся к заливу Сан-Франциско…», «Мексика предоставляет три тысячи квадратных лиг земли отцу Эйгену Мак-Намаре, ирландскому колонисту, а он за это призовет для поселения в Калифорнии три тысячи семей, которые проголосуют за присоединение Калифорнии к Британской империи…». Считая, что потеря времени может означать утрату Калифорнии и переход ее в английское владение, что, если они сами не нанесут мощный упреждающий удар, мексиканские войска атакуют их и захватят, американцы в Сакраменто, Напе и Сономе решили поднять вооруженное восстание. К их крайнему удивлению, Фремопт отказался взять на себя командование: ему ясно дали понять, что Соединенные Штаты не должпы выглядеть нападающей стороной. Однако он намекнул, что, даже оставаясь на втором плане, он будет оказывать всяческое содействие их борьбе. Полевым своим заместителем он назначил высокого, крепко сколоченного траппера по имени Эзекиль Меррит. 9 июня Меррит покинул лагерь Фремонта в сопровождении одиннадцати эмигрантов и охотников - людей, которым, по выражению Фремонта, «нечего было терять». На следующее утро Меррит застал врасплох Арсе-секретаря генерала Кастро и лейтенанта ополчения. Арсе принялся шумно выражать возмущение именно тем, что, застигнутый врасплох, он лишен был возможности сражаться. Меррит, человек, по словам Фремопта, «бесстрашпый и простой», тут же предложил повторить свой маневр, чтобы не было неожиданностей. Полюбовное соглашение было достигнуто, когда Меррит вернул Л рее и его людям оружие п лошадей, конфисковав лишь боеприпасы. Меррит вернулся в лагерь Фремопта, пополнил свой отряд до тридцати трех человек и но приказу Фремопта двинулся на юг через долины Напа и Санта-Роса, набирая по пути американских добровольцев. Им было приказано захватить гарнизон полковника Вальехо, обезоружить его и принять командование над Сопомой. На рассвете 14 июня Мариапо Вальехо'был разбужен ударами прикладом в дверь. У него были все основания спать спокойным сном, поскольку он был самым удачливым из ранчеро во всей центральной Калифорнии: ему принадлежали многие лиги земли, стада его постоянно росли и ои постоянно пополнял столь любимую им библиотеку. Для того чтобы оставаться в стороне от внутригосударственной борьбы между генералом Хосе Кастро и губернатором Пно Пико, он предусмотрительно распустил последние из имевшихся у него войск - казармы на северной стороне плаца были пустыми. Вальехо настолько не обращал внимания на все возрастающие трения между калнфорннйцамн и американцами, что, отправляясь спать, оставлял в качестве сторожей лишь двух пожилых индейцев и старую собаку. Все они спали сном праведников, когда люди Эзекиля Меррпта спустились с окружающих холмов и вышли иа плац. Вальехо в ночном колпаке и сорочке подошел к окну и увидел на площади группу верховых свирепого вида, вооруженных до зубов, в шапках из енотовых или койото- вых шкур либо повязанных яркими красными платками..Доктор Роберт Семил, который был одним из их предводителей, писал: «Почти вся группа была одета в кожаные охотничьи рубахи, в основном изрядно засаленные. Отряд Этот представлял собой сборище молодчиков, грубее которых и вообразить невозможно. Немудрено, что каждый боялся попасть к ним в руки». Сомнительно, чтобы Марнано Вальехо вообще когда- либо испытывал чувство страха, - он облачился в свой мундир, спустился на первый этаж и приказал открыть дверь. Капитан Меррнт, Роберт Семпл, Уильям Фоллон и Сэм юз л Келси вошли в большой холл. Вальехо спросил: «Что вам от мепя угодно, джентльмены, и кто у вас здесь старший?» Ему ответили: «Мы здесь все командиры». Меррнт, которому поручили говорить от имени всех, объяснил Вальехо, что американцы решили провозгласить независимость Калифорнии, и добавил: «По отношению к вам н вашей семье мы не испытываем ничего, кроме уважения, хотя и вынуждены считать вас и вашу семью пленными». Для Вальехо в настоящем положении не было ничего удивительного или огорчительного: с.1840 года он был убежден, что рано или поздно Калифорния станет состав- нон частью Соединенных Штатов. Он был также убежден, что для развития Калифорнии лучше всего было бы стать частью Соединенных Штатов. И хотя группа охотников и ранчеро, стоящая перед ним в кожаных штанах и засаленных рубахах, не представляла собой импозантного зрелища, Мариано Вальехо был достаточно начитанным человеком и понимал, что история далеко не всегда делается людьми в накрахмаленных манишках. К этому моменту в большой холл успели спуститься Женатый на сестре Вальехо Джекоб Лиизе, Виктор Прудон, секретарь Вальехо, и брат Мариано Сальвадор Вальехо. Когда Меррнт потребовал выдачи ружей, пушек и пороха, оставшихся от прежнего гарнизона, Вальехо согласился, а затем предложил тут же в зале сесть за стол и составить условия капитуляции, оговорив лишь, что жизнь и имущество пленных должны сохраняться в неприкосновенности. Вальехо высказал предположение, что группа действует в соответствии с приказами н под общим руководством капитана армии Соединенных Штатов Джона Фремонта, и, хотя он никогда не встречался с Фремонтом, сам факт этот вселял в него уверенность, что все будет сделано официально и с соблюдением декорума. Великолепное агуардиенте Вальехо оказалось слишком крепким для пустых желудков высоких договаривающихся сторон, которые не имели ни малейшего представления о том, что именно должно быть включено в условия капитуляции. Призвав на помощь Джона Грнгсби, а затем и Уильяма Айда из партии Грнгсби - Айда, Вальехо закончил проект документа о капитуляции, который он составлял без какого-либо вмешательства со стороны сидящих за столом американцев. И в этом своем последнем официальном документе полковник Вальехо все еще пытался играть роль уступчивого мексиканского офицера, который подчиняется давлению превосходящих сил. Когда бумага была зачитана вслух остальным, среди американцев возникли разногласия. Григсби, считавший, что действует в соответствии с указаниями капитана Фре- монта н подчиняется ему, отстранился от главенствующей роли, как только сообразил, что имеет дело с флибустьерами. Болтливый, возбужденный, брызжущий слюной Лйд возглавил переговоры. Большие разногласия возникли по поводу решения отпустить семью Вальехо, Лиизе, Прудопа и других обитателей Сономы под честное слово, обязав нх ие браться за оружие. Вальехо, надеясь, что капитан Фремопт немедленно прибудет в Соному и разместит ?!десь американский штаб, пе был обеспокоен известием о том, что его с братом и Прудона препроводят в лагерь Фремонта под копвоем. Дружба его с американцами в Калифорнии была общеизвестной, и он полагал, что обменяется рукопожатием с капитаном Джоном Фремонтом, как только оп, Вальехо, выразит удовлетворение по поводу того, что Калифорнии наконец предстоит стать частью Соединенных Штатов; что после этого он либо будет отпущен под честное слово, либо ему будет предложено присоединиться к американским силам. Он заверил свою жену Беницию, что вернется через несколько дней. Это была мирная революция. Никто ие пострадал, ничье имущество не было тронуто. Единственным нарушением декорума было то, что агуардиенте, которое Вальехо приказал выдать собравшимся на плацу людям, сделало их немного шумными. Формально Калифорнийская республика родилась с момента отъезда Вальехо из Сономы. Американцы решили, что им следует иметь свой флаг, и Уильям Тодд, племянник Мэри Тодд Линкольн, занялся его разработкой. Миссис Эллиот отрезала кусок белой материн от штуки хлопчатобумажного полотна, хранившегося у нее дома, красную полоску для нижней части взяли у миссис Джозеф Мэтыоз, а краску нашли в доме Вальехо. Американцы хотели, чтобы на флаге была звезда, что указывало бы па связь с традицией Техаса; она и была помещена в Левом верхнем углу, а в правом юный Тодд попытался изобразить калифорнийского медведя гризли. Художником он был неважным, и медведь, по мнению добродушных обитателей Со- номы, сильно смахивал на поросенка. Под звездой и медведем корявыми буквами было выведено; «КАЛИФОРНИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА»), Флаг медведя был поднят, по-видимому, на рассвете 15 нюня 1846 года - на следующий же день после захвата Сономы.Глава XVIII
В раю начинает становиться неуютно Дожидаясь известий от Меррнта, Джон Фремонт с не- скотькимн отборными людьми передислоцировался к месту высадки Саттера, оставив основные силы у развилки Американской реки. Здесь он узнал, что Джиллеспи вернулся с «Портсмута» и что ему н'а помощь присланы три офицера: казначей с мешками американских денег для оказания помощи в финансировании операций, лейтенант Хантер - командир шлюпки - и некий доктор Дювап «для организации… медицинского обслуживания и оказания… посильной помощи». Это наводило на мысль о том, что Моптго- мери предполагал возможность каких-то военных действий. Доставку денег, снаряжения и прибытие офицеров с военного корабля Соединенных Штатов Фремонт воспринял как признак того, что военно-морской флот получил соответствующий приказ и с этого момента захват Калифорнии будет осуществляться объединенными силами армии и флота. Если Фремонту требовались еще какие нибудь подтверждения его догадки, то они содержались в письме Монтгомери: «Лейтенант Дж. информировал меня также о высказанном вамп ему пожелании, чтобы военный корабль находился в Санта-Барбаре; если вы продолжаете считать, что присутствие военного корабля в Санта-Барбаре окажется полезным вам для осуществления намерений нашего правительства и если вы окажете любезность известить меня о ваших намерениях и о сроках, когда вы сможете достигнуть этой части побережья, я с помощью Всевышнего не премину встретить вас там вместе с «Портсмутом». Капитан Фремоит направил затем Кита Карсоиа с небольшой группой в форт Саттера с требованием о сдаче. Капитан Джон Саттер был армейским офицером и, кроме того, чиновником на службе мексиканского правительства, однако его страсть к подвигам была уже полностью удовлетворена в прошлогоднем! гражданской войне. Широким жестом он отрекся от чина капитана мексиканской армии, а заодно и от контроля над собственным фортом, широко распахнув ворота и пршетствуя Кита Карсоиа в качестве полномочного представителя Фремонта. Власть «некоронованного короля» Сакраменто Взллн, присвоенная им с момента прибытия в эти дикие места осеиыо 1839 года закончилась. Теперь Джон Фремоит, который знал о Мариаио Валь- ехо только то, что тот командовал мексиканскими вооруженными силами па Севере, отправил его и других пленных в форт Саттера иод арест. Саттер принял их с радушием и разместил в своей гостиной; за годы знакомства между ним и Вальехо бывали разногласия, однако они уважали друг друга. Бндуэлл, который исполнял должность секретаря при Саттсре, принес им еду и скрашивал трапезу непринужденной болтовней. Фремонту приходилось вести войну в весьма странных условиях; если ему удастся сыграть главную роль в захвате Калифорнии Соединенными Штатами, ему простят все что можно воспринимать как нарушение принятых норм, но если он потерпит неудачу… Он отправил своего картографа и художника Эдварда Керна (который два дня назад так нужен был в Сономе, чтобы калифорнийский медведь походил не на поросенка, а на гризли) в форт Саттера с приказом взять на себя командование и установить более строгий режим для пленных. Вальехо и его группа были заперты в соответствующем помещении, визитеры к ним допускались, а пища стала хуже. Шли дли - прошли первые четыре-иять дней, которые, как считал Вальехо, окажутся достаточными для возвращения домел"!, - затем - •недели, а они все продолжали сидеть взаперти. Суровое обращение с полковником Вальехо и членами его семы! явилось нарушением этикета, что привело весьма скоро к вооруженному конфликту.К 17 июня, когда Флаг медведя уже третий день разве? вался над Сономой, по побережью бухты пронесся тревон ный слух о том, что генерал Кастро движется из Монтерея в Сакраменто-Вэлли с целью отбить захваченный гарнизон. Уильям Айд, все еще командовавший Сономой, направил двух американцев, Фоулера и Коуви, на север, к Русской реке, за бочонком пороха па ранчо Фитча. Поскольку в окрестностях находилось около двадцати вооруженных калцфорнийцев под командованием Хуана Падильи, которые дожидались возможности соединиться с силами Кастро, американцам посоветовали не идти по главной дороге. Фоулер и Коуви пренебрегли этим советом, были захвачены Падильей и расстреляны вблизи Санта-Росы. Айд направил небольшую партию на поиски Фоулера и Коуви. У них произошла стычка с Падильей, в ходе которой им удалось ранить одного калифорнийца и одного захватить в плен. Пленный рассказал гарнизону Сономы о расстреле двух американцев. Это известие полностью изменило тон происходящего конфликта; американцы и другие иностранцы, которые ранее не желали принимать в нем участие, стали прибывать в Сопому и предлагать свои услуги в качестве добровольцев; вернулся и Григсби, чтобы принять командование стрелковой ротой. Семьи американцев из окружающих долин стали стекаться в город под защиту гарнизона. Фре- монт вышел из форта Саттера во главе своих сил, официально объявив себя руководителем. Он достиг Сономы 25 июня во главе отряда из ста шестидесяти человек. Не встретив противника, он направился к бухте и здесь, впервые выступая в должности боевого командира, был сразу же введен в заблуждение обманным маневром калнфорнийцев де ла Toppe, который, желая выиграть время для переправы своего отряда через бурные волны залнва Сан-Франциско, отправил ложное донесение с таким расчетом, чтобы оно попало в руки Фре- монта. Фремонт развернул свои силы в другую сторону, а к тому времени, когда он разгадал уловку и вернулся в Сан-Рафаэль, де ла Toppe успел переправить свой отряд через залив. В качестве репрессивной меры Кит Карсон, заметив трех калифорнийских мирных граждан, усаживающихся в лодчонку вблизи этих мест, расстрелял их В раю становилось неуютно. Поэтически настроенный калифорнийский офицер Арсе казал: «Калифорния подобна красивой девушке - каждый за ней ухаживает». Ухаживапие, однако, становилось все грубее. Из Сан-Рафаэля Фремонт, переправившись через залив, отправился к форту Пойпт. Древние пушки не представляли никакой опасности, однако оп все же заставил их замолчать, призвав на помощь капитана Уильяма Фэлпса с командой торгового судна «Москоу». Таким образом, в восстание включился и торговый флот. Сакраменто-Вэлли и все земли, лежащие к северу от залива Сап-Франциско, были теперь в руках американцев. Капитан Фэлпс оставил нам следующий портрет капитана Джона Фремоита, покорителя центральной Калифорнии: «Капитан Фремонт - человек стройного и пропорционального телосложения, с невозмутимой, приятной наружностью… в синей фланелевой рубашке с открытым воротом и замшевой охотничьей блузе, в панталонах из сипего сук- па и аккуратных мокасинах. Легкий цветной платок покрывал его голову. Несколько минут разговора с ним убедили меня в том, что я стою перед королем Скалистых гор». По вполне понятным соображениям калифорнийцы не разделяли этой точки зрения. Коммодор Слоут, пожилой, консервативный ; офицер, командовавший тихоокеанской флотилией, имел на руках приказ оказать помощь в захвате Калифорнии, как только будет объявлена война с Мексикой. Не желая повторить ошибки с преждевременным поднятием флага, совершенной коммодором Джонсом в 1842 году, Слоут ограничился полумерой, направив боевые корабли «Левант» и «Сайен» в Калифорнию. Сам он остался в мексиканском порту Ма- сатлане, ожидая в любую минуту известия об объявлении войны. Так и не дождавшись его, оп взял курс на Монте- рей, прибыв туда 2 июля на «Саванне». Уже два месяца, как мексиканский флаг не развевался над Монтереем, не было там и никакого гарнизона. Губернатор Пио Пико сде- • лал своей столицей Лос-Анджелес. 4 июля Фремонт выступил перед собравшимся на городской площади населением Сономы и объявил о введении военного положения. Комитет, состоявший из Джона Бидуэлла, Уильяма Аида и Пирсона Б. Ридипга, получил задание разработать проект управления Сономой и северной Калифорнией. В соответствии с царящими в погра- ^ Зак. М 1463 ничье нравами эта троица к соглашению пе пришла, и каждый иапнсал собственный план. 13 качестве официального был принят проект Бндуэлла, возможно из-за его краткости. Хотя коммодор Слоут и воспринял выступление Фре- мопта во главе повстанцев под Флагом медведя как приз- пак того, что у Фремонта имеются на этот счет особые приказы Вашингтона, потребовалось весьма решительное- вмешательство одного из его офицеров - капитана Мерви- на с «Саванны», - чтобы заставить его действовать. «Довольно колебаний, сейчас па карту поставлено нечто большее, чем ваше очередное повышение!» - воскликнул капитан Мервнн. Коммодор Слоут н консул Ларкнн провели день 6 июля на борту «Саванны», составляя прокламации, копии которых были отправлены Монтгомери, находившемуся на «Портсмуте», в Йерба-Буэне. «Я решил поднять здесь завтра флаг Соединенных Штатов, - писал коммодор Слоут, - нбо предпочитаю быть принесенным в жертву за то, что сделал слишком мпого, чем слишком мало. Если вы считаете, что у вас достаточно сил, или если Фремонт присоединится к нам, вам следует поднять флаг в Йерба- Буэне или в любом другом место и завладеть фортом вместе с прилегающей территорией». В десять часов утра 7 нюня напористый Капитан Мервнн сошел на берег во главе отряда морской пехоты чнс- ленпостыо в двести пятьдесят человек. Поскольку здесь не было мексиканских офицеров для официальной сдачи мон- терейского гарнизона, капитан повел своих людей к зданию таможни и зачитал там вслух декларацию, в которой говорилось, что Калифорния отныне принадлежит Соединенным Штатам. В третий раз американский флаг был поднят над Дальним Западом. Морские пехотинцы прокричали троекратное «ура!», а корабли поддержали их салютом из двадцати одного орудия. Калифорния стала американской после нескольких тысяч лет пребывания в руках индейцев, после двухсот семидесяти девяти лет пребывания в роли провинции Испании, двадцати пяти лет - мексиканской провинции и двадцатичетырехдпевного пребы- вапня под Флагом медведя. И весьма вовремя. Когда британский военный корабль «Коллпигвуд» прибыл в эту гавань н адмирал британского флота Сеймур увидел корабли Соединенных Штатов Аме рики у причалов, а американский флаг развевающимся н amp;Д городом, он в ярости топнул ногой и швырнул на палубу свою шляпу. Двумя днями позже - 9 июля 1846 года - командор Монтгомери высадил в Йерба-Буэне семьдесят человек, продефилировал с ними к городской площади, зачитал прокламацию и поднял американский флаг, второй иа калифорнийской земле. Лейтенант Ревер с корабля «Портсмут» покинул свой корабль еще в два часа пополуночи и погнал коня во всю прыть к Сономе с экземпляром прокламации и третьим флагом, который в тот же день был поднят иа площади. Имелись две потенциальные силы, способные оказать американцам сопротивление между Йерба-Буэпой и Сан- Диего.: генерал Кастро и губернатор Пико в Лос-Анджелесе. Объединив своп силы, эти два высокопоставленных калифорнийских офицера могли бороться с Фремонтом, однако ни при каких условиях они не могли оказать достойного сопротивления морской нехоте и четырем боевым кораблям Соединенных Штатов, стоявшим в их гаванях: «Саванне» с пятьюдесятью четырьмя пушками, шлюпам «Сапен» и «Левант» с двадцатью четырьмя пушками каждый н фрегату «Конгресс» с шестьюдесятью трндцати- двухфунтовымн длинноствольными пушками. 19 июля, все еще не дождавшись объявления войны, коммодор Слоут встретился с Джопом Фремонтом в своей каюте на борту «Саванны». Разговор велся на повышенных тонах и был полон недомолвок. Коммодор Слоут объявил, что он в ужасе от того, что Фремопт действовал без приказа армейского командования Соединенных Штатов. Именно в этот момент военный корабль США «Конгресс» вошел в гавань Монтерея под командованием коммодора Стоктона; Стоктон не только одобрил все сделанное Фремонтом, но и выразил восхищение тем, как он это сделал. ???? 8* Чувствуя себя обойденным, Слоут узнал с огромным облегчением, что коммодор Стоктон, молодой, жизнерадостный и жаждущий приключений, полон желания взять на себя всю ответственность за все происшедшее. Он с радостью передал командование Стоктону и покинул воды Дальнего Запада, довольный тем, что ему удалось выпутаться из всей этой неразрешимой путаницы, отделавшись эпитетом «нерешительный».
115
Коммодор Стоктон н Джон Фремонт понравились друг другу с первого взгляда и подружились. Стоктои повысил Фремонта в чипе до майора, Джнллеспн - до капитана н официально зачислил калифорнийский батальон добровольцев в военно-морской флот. В надежде на быстрое окончание конфликта майор Фремонт перебросил свой батальон на военных судах в Сан-Диего 1 августа - в то самое время, когда генерал Кирни покидал форт Бент, двигаясь со своей армией на запад, а коммодор Стоктон со своими тремястами шестьюдесятью морскими пехотинцами н моряками на флагманском корабле «Конгресс» отчалил от берега и направился в Сан-Педро для встречи с Фремонтом изавершения захвата южной Калифорнии вместе с ее новой столицей Лос- Лиджелесом. Консул Томас О. Ларкин отчалил вместе со Стоктоном. Фремонт и Стоктон считали, что им предстоит разбить силы генерала Кастро в решительном сражении и тем самым положить конец боевым действиям, однако консул Ларкин, который в мире и согласии прожил с ка- лифоршшцами четырнадцать лет, полагал, что почетный мир может быть достигнут путем переговоров. Это позволит мексиканским офицерам не уронить свое достоинство и превратиться в сторонников нового американского режима. И Ларкин чуть было не преуспел в своих намерениях. Он написал Эйбелу Стирпсу, который жил в южной Калифорнии с 1829 года, и попросил его уговорить генерала Кастро направить послов к коммодору Стоктону. Генерал Кастро, полагая, что Ларкин действует по поручению коммодора, так и поступил, написав коммодору Стоктону: «Стремясь, таким образом, совместно с губернатором избежать ужасов, сопутствующих войне, к которой Ваше превосходительство готовится, нижеподписавшимся показалось уместным направить к Вашему превосходительству миссию… чтобы узнать о намерениях Вашего превосходительства…» Все, что требовалось в этой обстановке, - это жест, подобный тому, какой сделал Монтгомери, когда отдал приказ об освобождении Вальехо и направил доктора Гендер- сопа с «Портсмута» для оказания ему врачебной помощи. Хотя Вальехо возвратился домой, по его собственному выражению, «полумертвым» и обнаружил, что за время своего отсутствия лишился тысячи коров и лошадей, великодушие командора Монтгомери залечйло раны. ЁалЬехо превратился в полного энтузиазма гражданина и сторонника нового порядка. Однако коммодор Стоктон отказался вести переговоры с посланцами; тон его ответа Кастро был оскорбительным для любого калифорнийца. Кастро, лишенный возможности вести войну, и Пико, лишенный возможности удерживать бразды правления, не видя иного выхода, бежали в Мексику. Через два дня, 12 августа, в Калифорнию пришло официальное известие о том, что Соединенные Штаты и Мексика находятся в состоянии войны. Разгневанные и гордые калифорнийцы поднялись на борьбу.Глава XIX
«Опять здесь этот чертов флаг!» Хотя объявление войны было явно недемократическим мероприятием, коммодор Стоктон несколько исправил свое неблаговидное поведение, распорядившись о проведении первых народных выборов на Дальнем Западе, потребовав создания первой калифорнийской газеты для распространения новостей, назначив первым американским алькальдом, или главой магистрата, в Монтерее и прилегающих территориях преподобного Уолтера Колтона. Сын настоятеля конгрегационной церкви, родившийся в Вермонте в 1797 году, Уолтер Колтон в возрасте двадцати одного года поступил в Йельский университет, в двадцать восемь лет был рукоположен, в течение четырех лет преподавал в одной из академий Коннектикута, а затем перебрался в Вашингтон в качестве издателя и главного автора «Амери- кеи спектейтор энд Уошингтон-Сити кропикл». Для поправки здоровья он стал капелланом в военно-морском флоте, в течение трех лет плавал по Средиземному морю и опубликовал два тома своих записок. У Колтона были кустистые брови и черные бакенбарды, которые обрамляли его обычно непривлекательное лицо - с топким носом, грубой линией рта. Однако это Длинное, с огромным лбом лицо озарялось светом умных, проницательных глаз ученого. В четверг 16 июля 1846 года, через девять дней после того, как в Монтерее был поднят американский флаг, преподобный мистер Колтон, которому тогда было сорок девять лет, прибыл в закрытую густым туманом гавань Мон- терея на борту «Конгресса». Трн года он работал мудро и хитроумно, чтобы рассеять туман, застилающий переход Калифорнии во владение американцев. Вместе с Робертом Семилом, дантистом и печатником, попавшим в Калифорнию в 1845 году с партией Гастингса, которого Колтоп в «Трех годах в Калифорнии» описал как человека, «носящего кожаную одежду, лнсыо шапку, отлично владеющего ружьем и пером и расторопного наборщика», раздобыв маленький печатный станок, на котором до этого какой-то монах печатал религиозные брошюры, он основал «Кали- форннен». Газета издавалась на бумаге от обертки сигар. Первый номер своей еженедельной газеты он выпустил в субботу 15 августа на испанском и английском языках. В качестве главного суды! ему приходилось решать дела о ссорах и преступлениях, выносить решения при деловых спорах, н преподобный Уолтер Колтон дал Ментерею первые демократические приговоры. Ранее в местных судах «обычаем было штрафовать испанцев и пороть индейцев. Такое различие является несправедливым; я заменил это трудом, и сейчас у меня восемь ппдейцев, три калифор- нийца н один англичанин заняты нзготовлепнем кирпича- сырца».Колтон также ввел современную пенологию, начав хорошо кормить заключенных, платя им по одному центу за каждый кирпич сверх установленных пятидесяти штук, и перестал пользоваться услугами стражи. Никто никогда ие убегал: индейцы, приговоренные к трехмесячному заключению за то, что взяли чужую лошадь, когда их собственная устала, или мексиканцы, получившие такой же приговор за то, что, проголодавшись, зарезали первую попавшуюся корову, были поражены подобным резким изменением в интерпретации понятия частной собственности. Но они были озадачены не более самого суды! Колтона, когда ему пришлось улаживать здесь запутанные любовные дела. Такие, как дело калифорнийской девушки, которая бежала вместе со своим возлюбленным, но, оставаясь, однако, «нетронутой и чистой, как свежевыпавший снег», вдруг передумала и отказалась выйти за него замуж. Каково было холостяку Колтопу, который все еще помнил ко- парные соблазны прошлого, убеждать девушку, что в создавшейся ситуации брачная церемония просто необходима. Когда высокопоставленный и богатый мексиканец, который задолжал смиренному калифорнпйцу 800 долларов, был оскорблен самим фактом того, что его притащил в суд бывший слуга, не умеющий ни читать, ни писать, судья Колтон тут же дал всем попять, что единственный вопрос, который здесь решается, - брал или не брал этот дон деньги взаймы. «Закои, не способный защитить смиренного, недостоин называться законом», - заявил он. Он помирил двух калифорнийцев, поссорившихся из-за карточных расчетов, оштрафовав и того и другого; укомплектовал первый список присяжных, которых до него в Калифорнии вообще не было, включив в него одну треть уроженцев Мексики, одну треть уроженцев Калифорнии и одну треть уроженцев Америки, используя Уильяма Хар- тнелла, англичанина но рождению, в качестве переводчика. Население Монтерея было в восторге от этого новшества п начинало понимать, что именно подразумевал судья Колтон, сказав однажды: «Если есть на земле, помимо религии, что-нибудь, за что я готов умереть, то это право на суд с присяжными». Если на судейском поприще у преподобного мистера Колтопа не было конкурентов, то не прошло и двух месяцев, как в Йерба-Буэне появилась соперничающая с ним газета, выпускаемая Сэмюэлом Брэипеном, который 31 июля приплыл на борту «Бруклина», совершившего рейс из Ныо-Йорка вокруг мыса Горн в Сан-Франциско, во главе двухсот тридцати двух «Святых последнего дня» (мормонов), ищущих новый дом на Дальнем Западе. Они прибыли в Калифорнию главным образом ради того, чтобы объединиться с основными силами своих единоверцев, которые двигались на запад, по никто пока точно не знал, куда именно, возможно, что и в Калифорнию. Утверждают, что, войдя на судне в гавань, Брэннен разочарованно воскликнул: «И здесь этот чертов флаг!»
• Сэм Брэпнен не обладал в должной мере самодисциплиной, как это подобало бы истинному святому; его карьера как в церкви, так и в Калифорнии была довольно бурной. Он был отлучен от церкви несколько лет назад, причем приговор этот был отменен одним из братьев пророка Джозефа Смита. Сразу же после прибытия в Йерба-Буэпу мормоны потребовали привлечь его к ответственности за неблаговидное поведение во время рейса. Командор Монтгомери председательствовал в суде присяжных. В начале августа 1846 года в Йерба-Буэне было более двухсот жителей; когда же двести тридцать два «святых» сошли на берег, Йерба-Буэна превратилась, по словам Бэнкрофта, в «преимущественно мормонский город». Их прибытие помогло Йерба-Буэпе утвердиться в статусе города, поскольку до сих пор он находился под угрозой того, что на побережье могут возникнуть новые поселения, где судам будет ближе к источникам пресной воды, провизии и где якорные стоянки будут более удобными. Более сотни мормонских семей состояли из фермеров и ремесленников, которые привезли с собой инструменты и немедленно принялись за работу: одни в качестве лесорубов на противоположном берегу пролива, окрещенного Джоном Фремонтом Золотыми Воротами, другие основали на реке Станислава колонию Новая Надежда, где они построили коровник, мельницу и обработали восемьдесят акров земли, чтобы заготовить запас провизии к моменту прибытия Брайама Янга, который выводил через равнины своих людей с залитого кровыо поля битвы у Науву, священного города мормопов в Иллинойсе. Американцы в Калифорнии относились к мормонам с подозрением и опаской, но все же население Йерба-Буэны гостеприимно разместило многкество семей в зданиях старой миссии, остальные же разбили палаточный лагерь. Сэм Брэннен и его партия были не первыми мормонами в окруженном горами амфитеатре Дальнего Запада. За несколько месяцев до этого, весной 1846 года, партия из сорока трех «святых» на девятнадцати фургонах покинула Миссисипи, разминулась с основной массой мормонов, держащих путь па запад, и двинулась на юг вдоль восточных отрогов Скалистых гор, имея в качестве проводника торговца. Они достигли нынешнего Пуэбло. Малочисленная группа американцев и мексиканцев, живущих вокруг сложенного из кирпича-сырца поста, устроила им радушную встречу. Полный благодарности авангард мормонов построил хижины и занялся посевом в ожидании известий о своих братьях. Со времени отца Хуниперо Серра и отцов- миссионеров 1769 года это была первая группа, прибывшая на Дальний Запад искать новые земли для колонизации по религиозным соображениям. За зиму колония выросла до двухсот семидесяти пяти человек за счет прибытия больных солдат из мормонского батальона и их семей. Родилось семеро детей, которых историки считают первыми чисто белыми детьми, рожденными в нынешнем Колорадо. И все же колония эта, подобно колониям мормонов в Йерба-Буэне и на реке Станислава, была временной. Героический путь и расселение основной части «Святых последнего дня» на Дальнем Западе все еще оставались делом будущего.
Глава XX
Вооруженный конфликт Большая часть южной Калифорнии взялась за оружие. Самое настоящее восстание было поднято калифорнийца- ми, охваченными горячей жаждой борьбы. Достаточно поводов для этого дал капитан Арчибальд Джиллеспи, который впервые вошел во вкус власти: человек с определенными талантами, который так и не получил должного признания в истории, он сеял семена раздора, где бы ни появился, и вскоре засеянное им поле было готово к уборке обильного урожая в виде беспорядков и замешательства. Будучи назначенным военным комендантом южного департамента и получив приказ о поддержании военного порядка па территории, заселенной в подавляющем большинстве мексиканцами, Джиллеспи проявил себя как тиран по отпошепию к людям дружественным и в подавляющем большинстве своем считающим, что американцы сумеют установить здесь стабильную власть и,- поскольку цены на их товары в Монтерее поднялись за несколько недель на сорок процентов, обеспечат им процветание.Капитан Джиллеспи о калифорнийцах знал очень м-дло, а нравились они ему и того меньше. Опираясь на гарнизон из пятидесяти солдат, он превратился в диктатора: два человека не имели права идти по улице вместе; запрещены были всяческие сборища и в домах; спиртные напитки не могли продаваться без специального разрешения. Он запретил любые развлечения, арестовал многих калифорний- цев по обвинению в фривольности… Возможно, что местное население стерпело бы и это, если бы Джиллеспи на каждом шагу не подчеркивал, что американцы «смотрят на ка- лифорнпйцев и мексиканцев сверху вниз, как иа людей низшей расы и трусливых врагов». Вооружившись чем попало, четыреста человек под командованием армейских офицеров Хосе Флореса, Хосе Карильо и Андреса Пико начали кампанию, осадив и захватив ранчо Чино, принадлежавшее Айзеку Уильямсу, где стояло двадцать американцев и других иностранцев под командовапнем Бенджамина Уилсона. 30 сентября они захватили капитана Джиллеспи вместе с его гарнизоном, причем капитан Джиллеспи даже не попытался оказать сопротивление. И хотя калифорнийцы имели достаточпо оснований, чтобы выпороть Джиллеспи на бочке посреди площади, ойц не сделали и этого; ему позволили воспользоваться привилегией почетной сдачи и разрешили отвести своих людей походным порядком в Саи-Педро. 2 октября другой отряд калифорнийцев подошел к Сапта-Барбаре, но находившийся там капитан Теодор Тальбот, вместо того чтобы сдать свой маленький гарнизон, вел его в холмы, в то время как, калифорнийцы возвращали себе обратно город. Когда в Йерба-Буэну пришло известие о восстании на юге, капитан Мервин с «Саванной» были посланы в Сап- Педро, где капитан Джиллеспи, нарушив данное им слово не браться более за оружие, присоединил своих пятьдесят солдат к отряду Мервина из трехсот сорока человек. Калифорнийцы притащили с площади Лос-Анджелеса старую четырехфуптовую пушку, которая стояла там для праздничных салютов, заготовили в Сан-Габриэле немного самодельного пороха и выступили маршем навстречу американцам, успев убить шестерых и шестерых ранить огнем из своего орудия, прежде чем американские силы отступили к гавани и вновь погрузились па «Саванну». Победы мексиканцев на юге послужили сигналом для партизанской войны по всей стране. В ходе ее калифорнийские отряды захватили консула Ларкина на пути в Йерба-Буэну и пятерых моряков у Сан-Матео. У Нативи- дада, на месте старой винокурни Айзека Грэхема, отряд калифорпийцев под командованием Мануэля Кастро выдержал сражение с американским отрядом под командованием капитана Томпсона, в котором каждая сторона потеряла по пять или шесть человек убитыми и столько же ранеными. Пронесся слух, что скоро вся Калифорния, за исключением портов, где американцы со своими кораблями I! тяжелыми орудиями могут оставаться хозяевами по- ложеиня, вернется в руки прежних хозяев. 19 октября коммодор Стоктон вышел на «Конгрессе» из Йерба-Бузны н взял курс на Сан-Педро, чтобы возглавить военные действия, приказав майору Фремонту набрать в виде рекрутов сто семьдесят хороших стрелков в Сакраменто-Вэллп, погрузить их на «Стерлинг» и держать курс на Санта-Барбару, а прибыв туда, выступить на соединение с отрядом Стоктона для захвата Лос-Анджелеса. Когда Фремонт прибыл в Санта-Барбару, ему стало известно о поражении капитана Мервина п о том, что калнфор- ннйцы угнали нз лежащей впереди местности лошадей, скот, забрали продовольствие. На том же корабле со ста семьюдесятью стрелками он вернулся в Монтерей. Это был один нз тех редких случаев в жизни Фремопта, когда он действовал с излишней осторожностью, но крайней мере именно так считал коммодор Стоктон, подвергнув суровой критике своего друга «докладе министерству военно-морского флота. Это было еще одной значительной" победой калпфорншщев. Еще один отряд вооруженных американцев двигался на юг вдоль реки Рно-Гранде под командованием Стефена Уоттса Кнрни. У Кпрнн, произведенного в генералы за быстрый, хотя н не встретивший никакого сопротивления захват Санта-Фе, было под командой триста драгунов, в октября генерал Кнрнн встретился с Китом Карсоном, который направлялся в Вашингтон с депешами. Прочтя прокламацию коммодора Стоктона, в которой говорилось о покорении Калифорнии, генерал Кнрни приказал двумстам драгунам возвращаться в Санта-Фе. Затем он настоял на том, чтобы Карсон отправился с ним в качестве проводника по Калифорнии, отдав депеши Фицпатрнку Сломанная Рука для доставки их в Вашингтон. Карсон повел отряд Кирпи далее на юг, а потом свернул на запад по течению рекн Джила через нынешнюю Аризону к месту слияния ее с Колорадо. Переправившись через Колорадо, Кирни попал в самую южную часть Калифорнии. После этого Карсон повел отряд на север, в обход страшной пустыни, лежащей между горным кряжем и Сан-Диего. В Сан-Паскуале отряд Кирии пополнился за счет отряда Джиллеспи с шестьюдесятью конными стрелками и третьей гаубицей, присоединенной к тем двум, которые драгуны тащили от самого Санта-Фе. 6 декабря отряд Кнрнн вошел в столкновение с меньшим по численности отрядом конных партизан под командованием Андреса Пико. Заразившись у Джиллеспи презрением к калифорнийцам, Кнрпи вопреки всем требованиям военной тактики приказал авангарду атаковать калифорнийцев, двигаясь вниз с крутого холма. Калифор- нийцы оказали стойкое сопротивление, убив капитана Джонстопа, командовавшего авангардом, и одного драгуна. В ответ люди Кнрнн ринулись в бой, растянувшись в беспорядочную колонну в зависимости от скорости своих лошадей или мулов. Пико, наблюдавший эту картину с небольшого бугра, повел своих восемьдесят человек в контратаку на сидящих на усталых или плохо объезженных лошадях и неподатливых мулах американцев, у которых к тому же после дождя отсырел порох. Калифорпийцы, одни из лучших наездников в мире, пользовались наиболее эффективным в данном случае оружием - пиками. В результате произошло одно из самых страшных поражений американских сил со времен войны 1812 года: двадцать один человек, включая пескольких офицеров, были убиты, девятнадцать, в том числе генерал Кирни и Джиллеспи, ранены. Была потеряна одна гаубица. У калифорнийцев несколько человек отделались легкими ранениями. Подкрепление, посланное через линию фронта в Сан- Диего, было захвачено калифорнийцами, которые снова «провели» генерала Кирни у ранчо Сан-Бернардино. На выручку им послали Кита Карсона и Эдварда Била с индейским мальчиком. Им с огромным трудом удалось пробраться в Сап-Диего. 11 декабря круппый отряд моряков и морской пехоты спас генерала Кирни. На следующий день, 12 декабря, Кирни привел свой отряд в Сан-Диего для соединения с силами коммодора Стоктона. Если объединение американских сил сулило калифорнийцам огромные неприятности, означая, что война, по существу, почти закончилась, неприятности американских командиров только начинались. Джон Фремонт, перед тем как покинуть Монтерей вместе с батальоном, насчитывающим теперь более четырехсот коппых, узнал, что президент Полк произвел его в подполковники. Рождество 1846 года он провел, страдая от холода, сырости и усталости в горах Санта- Йвес, где пало от ста до ста пятидесяти лошадей и где людям приходилось вручную тащить пушки по наиболее крутым склонам. В Сан-Диего погода стояла теплая, светило яркое солп- це и было сухо, однако генерал Кирни не чувствовал себя счастливым. Хотя его генеральский чин со всех точек зрения был равен чину коммодора Стоктона и хотя разгром, который они намеревались учинить остаткам повстанцев, должен был произойти на суше, а следовательно, и командовать им должен армейский генерал, командование объединенными силами взял на себя Стоктон. Кирни, мучительно переживая поражение, пребывал в мрачнейшем настроении. Он был преисполнен решимости отнять командование у коммодора Стоктона, как только будут разбиты калифорнийские силы, причем не только военное командование, на которое, как он считал, давали ему право имеющиеся у него приказы, но и гражданскую власть тоже. В этом причины грандиознейшей распри, разыгравшейся на калифорнийской земле, а затем усугубленной военным судом в Вашингтоне, которая сыграла столь значительную роль в истории Дальнего Запада. 1 января 1847 года калифорпнйцы, поняв, что американцы имеют хорошо вооруженную армию примерно из пятисот человек, которые маршируют из Сап-Диего на север, и еще четыреста человек, двигающихся на юг, отправили письмо, подписанное за губернатора Хосе Флоресом. В нем говорилось, что поскольку осложнения между Мексикой и Соединенными Штатами, по-видимому, уже прекратились, то можно заключить перемирие и начать переговоры о мире. Стоктон снова ответил отказом. Тогда генерал Кирни заявил о своих правах и добился передачи ему войск, подчиненных Стоктону. На этот раз он отправил вперед сильный отряд для защиты своих двух девятифунтовых и четырех полевых пушек. Калифорнийцы атаковали левый фланг американцев. Но те устояли. Калифорнийцы отступили. Сражепие у Сан-Габриэля явилось первой победой генерала Кирни. На следующий день на полдороге между Сан-Габриэлем и Лос-Анджелесом калифорнийская кавалерия, притаившаяся в овраге, внезапно атаковала американцев с флангов. Применял индейскую тактику, генерал Кирш! расставил сноп силы четырехугольником с фургонами в центре н пушками по углам. Калифорнийские атаки не смогли заставить американцев отступить, и, не имея достаточного запаса пороха, калпфоршшцы отошли на север. Па следующий день капитан Джпллеспи поднял американский флаг над площадью в Лос-Анджелесе, где он вынужден был спустить его три месяца назад. Еще через два дня, 12 января, подполковник Фремонт, который находился вблизи миссии Сан-Фернандо, получил послание Андроса Ппко, которому, по-видимому, не хотелось сдаваться ни коммодору Стоктону, ни генералу Кнрнн. Фре-* монт предложил Андресу Пнко дружбу н почетные условия мира, по которым калифорнийские офицеры и рядовые могли возвращаться по домам без ущерба для их чести н достоинства. Возвращена ему была и гаубица генерала Кнрнн. Джон Фремонт сделал многое, чтобы вызвать доброжелательное отношение к себе: дисциплина в его калифорнийском батальоне па марше нз Моптерея была строгой, н его уважали за ого; реквизируя лошадей или скот, он расплачивался за них правительственными расписками; он спас жизнь Хесусу Ннко, одному нз наиболее влиятельных людей в центральной Калифорнии; сложившим оружие калифорнийцам он предоставлял равные с американцами права. На следующий день он под проливным дождем вошел в Лос-Анджелес. «Трудно представить себе столь оборванный, плохо оснащенный и имевший столь непрезентабельный вид батальон. По их собственным словам, они походили на орду кочующих татар… Только воинская дисциплина и оружие делали их солдатами». Коммодор Стоктоп горячо одобрил подписанный Фре- монтом договор и тут же назначил Фремонта губернатором Калифорнии и главнокомандующим всех вооруженных сил. Это было тягчайшим оскорблением для генерала Кнрнн. Он тут же написал коммодору Стоктону и подполковнику Фремонту письмо, в котором заявлял, что именно он является главнокомандующим в Калифорнии и что коммодор Стоктон должен прекратить попытки установления гражданской власти, а также приказывал ФремонтУ це предпринимать никаких административных мер бел его, генерала Кирни, особого одобрения. Коммодор Стоктон сердито ответил, что гражданское правительство действует уже несколько месяцев н здесь у генерала Кирни никаких полномочий нет и-что полученное им оскорбительное письмо он перешлет президенту Полку с просьбой отозвать Кирни. Следующее утро, 17 января, было весьма значительным для судьбы молодого Фремонта: вызванный в палатку генерала Кирни, Фремонт подал генералу письменный рапорт, в котором говорилось, что он со своим батальоном находится в подчинении у военно-морского флота и что поэтому, «несмотря на все мое почтение к вашим профессиональным и личным качествам, я вынужден заявить, что до тех пор, пока вы с коммодор? м Стоктоном не решите между собой вопрос о моем статусе, я буду давать отчет и получать приказы, как было и ранее, от коммодора». Это была тактическая ошибка со стороны Фремонта, хотя ему нельзя отказать и в логике: приказы Вашингтона о создании гражданского правительства, находившиеся у Стоктона, были написаны значительно позднее и составлен!,I в более решительных выражениях, чем те, что были у Кнрнн; Кирни признал Стоктона главнокомандующим во время марша из Сан-Днего. Однако Фремонт служил в армии и был армейским офицером девять лет, поэтому и подчинен он был армии. Мрачный и уязвленный Кнрнн, проведший большую часть своей жизни в пограничных с индейскими владениями землях, на этот раз проявил большую выдержку и мягкость по отношению к молодому Фремонгу, которого он знал по семье его жены: Кирни спокойно посоветовал Фремонту порвать рапорт и подчиняться впредь Кирни, иначе будет положен конец его армейской карьере.
Фремонт остался непоколебимым. Кирни отплыл со своими драгунами в Монтерей, где объявил себя губернатором Калифорнии, то есть занял тот пост, который Фремонт занимал на юге. В Монтерей во главе фрегатов «Индепенденс» и «Лексингтон» прибыл коммодор Шабрик. Пребывание коммодора Стоктона в Калифорнии закончилось, а вместе с этим исчезли законные основания для пребывания Фремонта в должности губернатора. Коммодор Шабрнк, ознакомившись с имеющимися у генерала Кнрии приказами, объявил его «главнокомандующим Калифорнии». С этого момента армия и военно-морской флот работали в тесном взаимодействии. Фремонт в отчаянии помчался в Монтерей, где еще сильнее рассорился с Кир- нп. В просьбе отправить батальон в Мексику для участия в военных действиях ему было отказано, не разрешили ему и вернуться в Вашингтон с исследовательской партией. В воеиных кругах Калифорнии поговаривали о том, что подполковник Фремонт будет расстрелян за отказ от выполнения приказа. То же, что произошло на самом деле, было значительно унизительнее: ему было приказано двигаться в пыли за драгунами генерала Кирпи в Вашингтон в качестве военного преступника, чтобы предстать там перед военным судом.
Глава XXI
Отмщение фурий Группа людей, которых пельзя было отнести к эмигрантам в полном смысле этого слова, пересекла горы в 1845 году. В ворота Саттера въехал верхом Лэнсфорд Гастингс, который отправился на восток из Калифорнии годом ранее, пообещав вернуться сюда с большой партией эмигрантов. Прошедшую зиму Гастингс провел в Миссури: читал лекции о вреде невоздержанности, пытаясь собрать достаточно денег для опубликования книги «Путеводитель эмигранта по Орегону и Калифориии». Весьма показательно, что книга эта была полна скоропалительных выводов и саморекламы. Гастингс был типичным приспособленцем, которого Бидуэлл после долгого сотрудничества назвал политическим авантюристом. Он надеялся привести в Калифориию людей, которые будут ему обязаны всем, с их помощью он сможет захватить Калифорнию и либо присоединить ее к Техасу, либо сделать частью Соединенных Штатов. Себя же он видел губернатором новой территории. Гастингс был человек располагающей внешности, с волевым открытым лицом, быстрой и' интеллигентной речью. В Миссури он заверял всех и каждого, что уже проделал путь по Калифорнийскому тракту. Это было чистейшей выдумкой. К середине августа ему удалось собрать только двадцать два человека. Даже запоздав на несколько месяцев для отправки в рискованное путешествие, Гас- тйнгс повел партию верховых через Уокер-Стпвенс на фрсмонтский тракт. Это была единственная партия, которую гостеприимный Джон Сапер встретил суровыми упреками: Саттер поглядел па Сьерра-Неваду, уже покрытую декабрьским снегом, н объявил им, что опоздай они на одни день, то оказались бы отрезанными и погибли в горах. В последнюю неделю апреля 1840 года Лэнсфорд Гастингс снова покинул форт Саттера и отправился па восток. На этот раз он намеревался отыскать более быстрый и прямой путь между ф°РТ0Н Саттера и фортом Брнджер в северо-восточной Юте, с тем чтобы убедить эмигрантские партии воспользоваться под его началом открытым им путем на запад… за плату по десять долларов с человека… Как и во всех путешествиях, начиная с самого первого в 1842 году, Гастингса сопровождал его постоянный напарник Хадспет. В группе был также Калеб Гринвуд и еще двадцать три человека. В первую неделю мая эмигранты, прибывшие в Миссури, разбивались на группы, из которых формировались партии: партия Брайанта - Рассела, партия Лига-Хар- лана, партии Боггза и Эйрама, партия Рида - Допнера. Все эти группы не были столь компактными, как в дни Бидуэлла, Григсби - Айда или Стивенса. Две тысячи эмигрантов, пятьсот упряжек волов, мулов и лошадей, двигавшихся по тракту от Индепенденса до форта Бриджер, представляли собой почти непрерывный поток. Спешно продвигаясь вперед, чтобы добраться до форта Брнджер до прибытия первых эмигрантских партий с востока, Гастингс пересек Сьерра-Неваду^ спустился по течению реки Траки и двигался вдоль реки Гумбольдта. У Бишопс-Крик оп увидел отпечатки подков партии Фремонта 1844 года, когда Карсон и Фремопт пересекли соляную пустыню к югу ог Великого Соленого озера. Гас- типгс хотел, чтобы его партия пошла по этому новому, более короткому пути на восток. Грипвуд отказался и увел с собой большую часть партии на северо-восток к форту Холл. Гастингс, Хадспет и еще пять человек верхом па хороших лошадях совершили переход за двадцать часов. ???? 129 20 июля первая партия эмигрантов 1846 года прибыла на Дальний Запад. Это была партия Брайанта - Рассела, состоящая из мужчин, которые продали свои фургоны и волов ради покупки мулов, проводником у них был 9 Зак. га 15СЗХадспст. Гастингс вел за собой партию Янга - Харлана из ста шестидесяти человек. Вместо проторенного пути он повел их по неразведанному каньону Уэбера с обрывистыми стенами и с превеликим трудом вывел фургоны на соляную равнину. Затем он вернулся в верховья каньона н установил столб с надписью, предупреждающей о том, что но этому каньону не следует двигаться, а надо идти напрямик по пути, которым он шел на восток. Возвратись к своей партии, он повел ее почти вплотную за партиен Брайанта - Рассела. Они обошли но южному берегу Великое Соленое озеро н пересекли соляную пустыню ио следам Фремонта. Партия чуть было не погибла из-за отсутствия воды. Животные падали, фургоны приходилось бросать, женщины и дети вынуждены были двигаться пешком. У южной оконечности Великого Соленого озера Хадспст приказал партии Врайанта - Рассела: «Вонзайте шпоры в бока ваших мулов и мчитесь во весь опор!» Они и помчались во весь опор, достигнув форта Сатте- ра 1 сентября, как раз вовремя, чтобы присоединиться к батальону калифорнпйцев Фремонта, двигавшемуся на Сан-Диего. К 10 октября Лэнсфорд Гастингс привел группу Янга- Харлана. И снопа па этот раз выбор времени был весьма рискованным. Однако ему снова повезло, п все добрались в целости. Партии Доннсра, двигавшейся вслед за ним, такое везение не сопутствовало. Гастингсу удалось только три группы убедить покинуть надежным тракт между фортом Холл и Калифорнией н двигаться по пройденному им пути: группу Брайанта - Рассела из девяти человек, партию Янга - Харлана и партию Доннсра из двадцати фургонов и семидесяти трех человек. «Калнфорнпицы были весьма возбуждены и пребывали в великолепном настроении, в предвосхищении лучшего и более короткого пути к месту нх назначения. Исключение составляла, однако, миссис Доннер. Она выглядела печальной и озабоченной из-за того, что ее муж и остальные решили покинуть старую дорогу н доверились человеку, которого они совершенно не знали н который, по всей вероятности, был каким-то самодовольным авантюристом». Тамсен Доннер, сорока пяти лет, бывшая школьная учительница, которая везла с собой книги н учебные пособия и материалы для занятий живописью, с тем чтобы дать образование своим пятерым юным дочерям в Калифорнии, была весьма предусмотрительной женщиной. Джеймс Клаймен - горец, который только что пересек соляную пустынкГ и горы Уосач, употребил все свое красноречие, пытаясь отговорить их слушаться советов Лэнс- форда Гастингса. Бернард де Вото воссоздает эту сцену в своей книге «Решающий год - 184С-Й». Клаймен предупредил эту медленно двигающуюся партию, уже опаздывающую и обессиленную болезнями, ссорами, слепящим солнцем п пылью, что ей следует двигаться но уже хорошо изведанному тракту: «Добраться к месту до первого снега почти невозможно, даже если вы пойдете по проторенному пути, и абсолютно невозможно, если вы по нему не пойдете». Экспедиция Доннсра вошла в историю как «величайшая катастрофа в ходе открытия Дальнего Запада». Ядро партии было заложено в Спрингфилде, штат Иллинойс, неподалеку от дома Авраама и Мэри Линкольн на Восьмой улице. У Доннсра был экземпляр «Путеводителя эмигрантов» Гастингса и «Донесения» Фремонта. Семья Джекоба Доннера состояла из девяти человек, по семь человек было в семьях Джорджа Доннера и Джеймса Ф. Рида. К ним присоединились восемь мужчин и восемь девушек, нанятых у соседей Доннеров п Ридов, которые решили пробиться через всю страну, чтобы начать новую жизнь. Выл здесь н юный Уильям Эдди с женой и двумя детьми, семья Мак-Кутчена из трех человек, вдова Мэрфи во главе пяти еще не вступивших в брак детей, с двумя замужними дочерьми и их семьями, ирландец Патрик Брнн с женой и семыо детьми, немец Люис Кезеберг с женой и двумя малолетними детьми, семья богатых немцев Вольфин- геров, Чарлз Т. Стантон и несколько холостых мужччн, которые обычно бывали в каждой партии эмигрантов. ???? 9* Мягкий, дружелюбный и богатый шестидесятидвухлст- ннй Джордж Допнер был, возможно, первым среди довольно обеспеченных, но усталых фермеров Среднего Запада, устремившихся к Калифорнии и заслуженному покою. Джеймс Ф. Рид, сорока шести лет, энергичный и богатый меоелыцпк, уже успел блеснуть административными талантами. Утром 3 августа, когда партия перешла Медвежью реку и попала на землю современной Юты, во главе
131
со стоял Джордж Доннер, избранный руководителем 20 июля 1846 года. Однако не он, а Джеймс Рид подсказал всем мысль двигаться по новому пути, когда партия получила письмо Лэнсфорда Гастннгса, в котором тот горячо советовал им воспользоваться найденным им коротким путем, сокращающим якобы дорогу на четыреста миль. Караван нх двигался со скоростью десять - двенадцать миль в день, и казалось заманчивым сократить утомительное путешествие па целый месяц. Именно Рид, демонстрируя полное непонимание Дальнего Запада и всю глубину своего невежества, заявил: «Нам нот нужды делать такой огромный круг, когда есть более короткая дорога». Как и было принято в эмигрантских партиях, вопрос был поставлен на голосование. Нет подтверждений тому, что к голосованию были допущены женщины; сознавая свою ответственность за тридцать детей, они, возможно, согласились бы с Тамсен Доннер и проголосовали бы за то, чтобы не играли жизнью детей. Мужчины высказались за предложенное Гастингсом спрямление пути. В письме Гастипгс обещал дожидаться их у форта Брид- жер и безопасно провести их «к Соленому озеру, а затем и к самой гавани Сан-Францнско». За день или два до того, как они добрались до форта Бриджер, им повстречался Джозеф Уокер, один из самых прославленных горцев во всей истории Северной Америки, первооткрыватель великих трактов, ведущих к Дальнему Западу. Он самым настоятельным образом уговаривал отказаться от маршрута Гастингса и свернуть на север к форту Холл. В форте Бриджер обнаружилось, что Лэнсфорд Гастингс их не ждет. Без проводишь и без опытпого охотника они все еще были полны решимости сэкономить эти четыреста миль. Углубившись на три дпевных перехода в просторы Дальнего Запада, они 6 августа добрались до верховья каньона Вебера и нашли там оставленную па кусте записку Гастингса, в которой он отвергал ранее предложенный им самим путь по необследованному каньону. Партия Доппера распололшлась лагерем и отправила Рида, Стэн- тона и Мак-Кутчепа верхом вниз по каньону по следам Гастингса. Им пе требовалось времени ни для ремонта, ни для отдыха, поскольку на это они уже затратили четыре дня в форте Бриджер. Клаймеп н Уокер предупреждали их о том, что они уже опаздывают, и все-таки они пять дней провели в ожидании Джеймса Рида, который рернулся без Гастингса, отказавшегося покинуть сопровождаемую им партию, но кое-что рассказавшего ему о лежащих на западе горах Уосач и указавшего рукой нужные ориентиры. И снова Джеймс Рид, поскольку теперь он уже проделал путь по каньону Вебера и побывал в отрогах гор Уосач, посоветовал партии двигаться через эти горы. Главную роль в том, что оп подал именно этот совет, сыграл его фургон «колесница-дворец», с боковыми ступеньками, верхней палубой для постелей, встроенной плитой, отдельной комнаткой и нижним помещением для хранения запасов, - самый широкий и самый тяжелый из всех фургонов, когда-либо отправлявшихся в путь па запад. Дело в том, что Рид уже видел крутой извилистый каньон, стены которого сжимали реку с обеих сторон. Здесь фургоны предыдущей партии приходилось спускать вниз на веревках и• блоках, причем один из них вдребезги разбился на лежавших внизу камнях. Таким образом, в середипе августа они начали путь через горы, вынужденные собственными силами прокладывать дорогу, прорубаясь через лесные заросли, форсируя на каждой миле по два ручья, заполняя выбоины срубленными деревьями, строя гати через болота. Имея всего лишь двадцать работоспособных мужчин, партия мало подходила для такого рода трудов. Накапливались мозоли и злость, вспыхивали ссоры. А впереди открывались всо новые и новые горные кряжи. Тридцать шесть миль пути к Великому Соленому озеру, до которого, как им говорили, они доберутся за неделю, отняли у них двадцать одип день. К этому времени партия разделилась на враждующие группировки. А было уже 1 сентября. Перед ними расстилалась пугающая, голая, горячая, поблескивающая кристаллами соли и безводная соляная пустыпя… а у них не было ни проводника, ни предводителя. Перед самым началом «сухого пути» партия натолкнулась на доску с надписью, часть этой доски была разбита на мелкие куски и разбросана. Обломки были собраны и прйш сены Тамсеп Донпер, которая старательно сложила их. Надпись была сделана Лэпсфордом Гастингсом •примерно двадцать одни день назад. В ней говорилось: «До следующей травы и воды два дня и две ночи трудного пути». Они провели здесь два дня, давая отдых животным, запасая впрок траву, готовя запас провизии, а затем двинулись по следам Гастингса в направлении гор н поднялись на вершину гребня к позднему вечеру. Внизу простиралась необозримая пустыня. На следующий день колеса увязали в светлом н соленом песке, безжалостное солнце нещадно налило, волы отказывались идти. Караван растянулся, каждый думал только о себе. Фургоны Рида н Доннера остались позади, слишком тяжело груженные шелком п прочими товарами, которые они везли па продажу в Калифорнию. У Джорджа Доннера было еще и 10 000 долларов, зашитых в нояс. К исходу третьего дня весь караван оказался в смертельной опасности, запасы воды иссякли, волы издыхали под ярмом. Джеймс Рид верхом поехал вперед и с наступлением темноты добрался до ручья у подножия пика Пан лот, который авангард партии Фремонта обнаружил год назад на самой границе современного штата'Невада. Когда мимо похожих на привидения, покрытых белым соляным налетом фигур эмигрантов он прискакал к своей семье, то обнаружил, что скот его разбежался по пустыне и пропал. Теперь Риду пришлось 'похоронить «колесницу- дворец» с драгоценными товарами в пустыне и пешком доставить свою семью к источнику. «Сухой марш» составил восемьдесят миль вместо сорока и отнял у них шесть дней вместо двух; четыре фургона пришлось бросить: по одному Кезебергу н Джекобу Дон- неру и два Риду. Богатейшие товары Допнеров и Рида, одна мысль о которых должна была подсказать им здравое решение не покидать Калифорнийский тракт, были утрачены безвозвратно. Дорога через пустыню была усеяна кроватями красного дерева, письменными столамн, креслами-качалками, музыкальными инструментами. Теперь партия вела отчаянную борьбу за то, чтобы просто остаться в живых. Однако совместные труды н муки жажды не сплотили осколки партии Доннера - Рида в единое целое. Наоборот, привели нх к полному распаду. Целую следующую неделю они провели на отдыхе, разыскивая но пустыне пропавших животных, доставляя провизию с брошенных фургонов. Холостяк Стэнтон н Уильям Мак-Кутчен - человек семейный - были отправлены налегке к Саттеру за помощью. Не имея иного выбора, партия продолжала двигаться по следам Гастингса. Но вскоре она обнаружила, что тот, все еще экспериментируя, почему-то отказался от перехода через Рубиновые горы, три дня двигался на юг в надежде отыскать более легкий перевал, а потом повернул обратно. Так партия Доннера потеряла еще неделю, идя по ложному следу на юг, а потом возвращаясь на север. 30 сентября они добрались до реки Гумбольдта и вступили па Калифорнийский тракт. Последние из их компаньонов, вышедшие одновременно из Индепенденса и взявшие путь на форт Холл, прошли эту точку на тридцать пять - сорок пять дней ранее, а партия Джозефа Эйрама нз двенадцати фургонов и пятидесяти человек была уже в пределах видимости ранчо Джонсона в Сакра- мснто-Вэлли. «Ближняя дорога» Рида оказалась очень долгой. Пять дней спустя они снова попали в серьезную беду. Во время ссоры, вызванной раздражением и нервным на- прянсепнем, Джеймс Рид, пытаясь успокоить Джона Снай- дера и удержать его от ссоры с Мплтом Эллиотом нз-за того, чыо упряншу следует первой затаскивать по склону холма, получил от Снайдера жестокий удар арапником. Рид выхватил охотничий нож и вонзил его в грудь Снайдера, который скончался на месте. В партии произошел полный развал. Раздавались голоса, требующие казнить Рида. В конце концов его изгнали без оружия и запаса пищи, оставив совершенно беззащитными больную жену и детей. Разбившись на враждующие между собой группировки, караван двигался к перевалу Гумбольдта. Они не сумели организовать защиту от индейцев, которые перебили или угнали у них большинство оставшегося скота и волов. 20 октября партия достигла лугов на восточном предгорье Сьерра-Невады. Здесь их отыскал Стэнтон, вернувшийся от Саттера с двумя индейцами и семью мулами. Мулы Саттера были навьючены мукой и сушеным мясом. Теперь только пять дней пути отделяли их от реки Траки и перевала. Уже шел снег, однако Стэнтон, с риском для Жизни пришедший им на выручку, теперь порекомендовал им «отдохнуть и откормить животных на этих лугах». Дажегероям бывает суждено действовать неразумно. Партия израсходовала пять дней па отдых и только после этого начала подъел на отрош Сьерра-Невады. Авангард из семей Брнна, Эдди и Кезеберга, миновав хн- жнну, построенную Шалленбергером нз партии Стивенса в 1844? году, упорно прокладывал пуп, к перевалу. 1 ноября всего в трех милях от гребня они потеряли тропу, скрытую под снегом глубиной пять футов, повернули обратно к хижине Шалленбергера у озера и отрыли себе убежище в снегу. Остальная часть партии, за исключением медленно двигавшихся Доннеров, подошла к ним и разбила лагерь, 11а следующий день погода улучшилась, и партия снова двинулась к перевалу. Взрослые несли детей па руках, Стэнтон с индейцами шли впереди, прокладывая новую дорогу в снегу. Вернувшись, он застал нолузамерз- шую партию, собравшуюся вокруг костра, и умолял их преодолеть последние две или три мили, отделяющие их от гребня и спасения. Они отказались. Они замерзли, устали и хотели отдохнуть одну ночь. Так они и поступили. Но снопа пошел снег. К утру навалило сугробы в десять футов. Перевал закрылся. Они с трудом пробились обратно к хижине. Как заметил Джордж I'. Стюард в «Ужасах голода»: «Ловушка, которая захлопнулась позади них в форте Бриджер, теперь захлопнулась и впереди». Один-единственный день спас бы их: любой из четырех, проведенных на отдыхе в форте Бриджер, один из пяти - в ожидании возвращения Рида, поехавшего за Гастингсом, один из семи, затраченных на движение по следам Гастингса сначала на юг, а потом снова на север, один из пяти, проведенных на лугах у Траки, последний день, когда они отказались протащиться последние три мили вслед за Стэнтопом, - один день, на который задержался бы губительный снегопад. Или любой из бесчисленпых дней, израсходованных из-за ссор, из-за отказа в помощи ЛРУГ другу, - отказа поделиться едой, водой, тягловыми животными. Эмигранты, отправляющиеся па первоосвоение новых земель, далеко не всегда обладают достаточными моральными качествами и производственными навыками для создания рая. Различными были причины, вынудившие их оборвать корни и, собрав пожитки, отправиться через пустыни и горы в новую страну, различными были и их способности и таланты для выполнения поставленной задачи. И в данном случае наблюдались проявления самоотверженности и силы: Рид разделил принадлежавшие ему припасы, когда ему пришлось оставить фургоны; Эдди, потеряв фургон, запряг своих волов в упряжку Рида, когда тот потерял своих; Стэнтон вернулся с помощью от Саттера. Но были здесь и крайний эгоизм, и жестокость: отказ партии одолжить Эдди лошадь, чтобы он смог вернуться за отставшим и заблудившимся одиноким Хардко- пом, который так и погиб в пустыне; отказ Брипа дать воды страдающим детям Эдди, которую Эдди получил только после того, как поклялся, что убьет любого, кто попытается помешать ему взять ее; случай с Уолтером Ирроном и Джеймсом Смитом, которые хотели купить вола у Бринов, имевших самый богатый запас провизии (им пришлось пообещать отдать двух волов за одного по прибытии в Калифорнию). Были здесь и склочный характер Снайдера, затеявшего ссору, и сверкнувший охотничий нож Рида, и упорство Грейвса, требовавшего расстрела Рида; и тяжелое состояние жеиы и пятерых детей Рида, когда тот был изгнан. Все это опи принесли с собой к подножию возвышавшихся над ними, покрытых снегом, беспощадных западных отрогов Сьерра-Невады в четвертый день ноября 1846 года. Дело было не только в холоде - там было достаточно дров, а на первых порах и мужчин, чтобы нарубить их, - и пе в голоде или истощении - было еще несколько быков, тягловых волов, оставались еще лошади, мулы и, наконец, собаки. Неспособность соблюдать дисциплину, подчиняться одному лидеру, межсемейные ссоры и ненависть преследовали их до самого смертного часа. Они ни разу не поделились друг с другом ни пищей, ни кровом, ни даже надеждами… Именно это лишило их самого действенного психологического оружия в борьбе за выживание и привело к самоуничтожению. Однако, помимо всех сделанных ошибок, им еще и крупно не везло. Чарлз Стэнтон вел группу из шестнадцати мужчин, шести Женщин и двух проводннков-индейцев через перевал, но вдруг отказался продолжать путь под тем предлогом, что мулы - имущество Саттера - измучены. Эдди обещал возместить Сатгеру убытки, крича, что двадцать Две человеческие жизни намного ценнее семи мулов, однако Стэнтон был непоколебим. Большинство мужчин и женщин, форсировавших перевал этой ночыо, погибло, а мулы разбрелись по снегу и потерялись. Партия «сиегоступов», состоявшая из десяти мужчин, физически способных продолжать путь, пяти молодых женщин и двух подростков, форсировала перевал и шесть дней пробивалась через шестнфутовые сугробы при температуре ниже нуля, страдая от слепящего снега и отсутствия пищи. Новая снежная буря обрушилась на них. Стэнтон, слишком ослабевший, чтобы продолжать путь, спас своих спутников от мучительного выбора, заявив им, что догонит нх позже. В гордом одиночестве он умер у края дороги. Остальные прекрасно сознавали, что погибнут, если не добудут какой-нибудь пищи. Они обсуждали вопрос о том, что придется тащить жребий, кому из них быть убитым н съеденным, но в конце концов решили идти до тех пор, пока кто-нибудь не умрет сам. Первым умер Лнтошю, мексикансц-настух, за ним дядюшка Билли Грейвс, затем Патрик Доулан, холостяк, затем тринадцатилетний Лемюэл Мэрфи. Лежа в двенадцатифутовой снежной яме, по дну которой сочилась ледяная вода, «они отрывали мясо с умерших, жарили на костре, что собирались съесть немедленно, а остальное подсушивали, чтобы нести с собой». Никто не прикасался к телам умерших родственников. Продолжавшие экспедицию только благодаря исключительной храбрости Эдди, миля за милей преодолевали мучительный путь на запад. Миссис Фостер пришлось видеть, как сердце ее младшего брата Лемюэла было зажарено на углях и съедено. Позднее наступила очередь миссис Фосдик смотреть, как миссис Фостер вырезала сердце и печень мистера Фосдика и жарила их на огне. «Не само действие, а необходимость его была унизительной». Но для убийства двух беззащитных индейцев не было никаких оправданий, как об этом и заявили Эддн и три женщины, бывшие сами на пороге смерти и с трудом передвигавшие ноги, но отказавшиеся прикоспуться к их трупам. Из десяти мужчин партии «снегоступов» пятеро умерли в пути, двое были убиты. Умер также один подросток. Только двое оставшихся в живых мужчин - Эддц и под- 'росток Фостер - и псе пять женщин (женский пол значительно выносливее, чем мужчины, о чем свидетельствуют бесчисленные истории освоения Дальнего Запада) прибрели к лагерю Джонсона через тридцать три дня после того, как ушли с берегов озера. Ужасающая сага, не имеющая себе равных по страданиям и но неугасимой храбрости! Медленно двигавшиеся Доннеры так и не догнали основную группу, а остановились в пяти милях к востоку от озера на ручье Адлер, лишенные каких-либо контактов и сотрудничества с главным лагерем. Хижины на озере, покрытые девятифутовым слоем снега, были «холодными и сырыми Пещерами». Мужчины вскоре ослабели настолько, что не могли заготовлять дрова, иосле'дние животные пали, основной пищей были шкуры, которые ранее использовались для крыш. Их кипятили, добавляя туда кости уже съеденных животных, до тех пор, пока они не превращались в желатиноподобную массу. Миссис Рид была в самом опасном положении: ей нужно ' было кормить пятерых детей и еще нескольких подопечных. В хижинах Рида умерли два погонщика - сначала защитник семьи Бзйлнс Уильяме, а затем и Мнлт Эллиот. Старая миссис Мэрфи разрезала тела на куски, и все, за исключением лиц, было съедено. Умер ребенок Кезеберга, умерла маленькая Кэтрин Пай!,?, умер первый мальчик Эдди, а затем и миссис Эдди, которая последний кусок медвежьего мяса положила в мешок мужу, уходившему с партией «снегоступов». Брн- ны взяли к себе миссис Рид н пятерых ее детей, иначе они тоже погибли бы. Миссис Брин подкармливала имевшейся у нее провизией пятнадцатилетнюю Вирджинию Рид и тем самым спасла девочку. В то же время Брин потребовал от миссис Рид уплаты денег, которые гид был должен ему за предоставленный им ранее скот. Человеческий характер бесконечно противоречив п весьма интересен. Помощь, однако, была уже в пути; сколоченная у Сат- тера партии двинулась в путь в начале феврали: семеро мужчин, соисем чужие Доннерам н не имевшие опыта передвижения в горах, совершили с невероятным мужеством Переход за четырнадцать дней. «Каньоны соперничали со взбеси и и! и мне и реками»; температура держалась ниже иу.та; каждый шел, неся на спине вьюк с прокипией весом от пятидесяти до семидесяти пяти фунтов. Они преодолевали один кряж Сьерра-Невады за другим, ночи проводили скорчившись у костра, не имея возможности лечь. Совершая переход через последнюю, самую высокую гряду, спасатели двигались без тропы и знали, что если собьются с пути, то погибнут среди снега и льда. I Го они отличались величием духа. И победили: Нэд Кофимейер и Джозеф Селе - бывшие моряки; Акилла Глоувер и Септ Моултри - фермеры, эмигрировавшие в Калифорнию в 1846 году; братья Джон и Дэпиэл Родсы. которые прибыли в Калифорнию вместе с мормонами; Ри- знн Дпп Такер, тоже эмигрант. Спасатели отдохнули пару дней и пустились в обратный путь через снежные завалы с тремя мужчинами, четырьмя женщинами и семнадцатью датьми. Джон Роде нес маленькую Паоми Пайк па спине. Обеспечить запасом провизии пятнадцать человек, оставшихся в лагере, и двенадцать у ручья Адлер - Доннеров, Бринов, Грейвсов, больных и слишком маленьких детей, - они не смогли. Их продвижение было чрезвычайно тяжелым. Миссис Рид пришлось отослать обратно двух своих детей, слишком слабых для такого пути, не повезло и англичанину Ден- тону, который тихо скончался завернутый в стеганое одеяло, оставленное ему полузамерзшим Дэпом Такером; умерла маленькая Ада Кезеберг. Кофимейер и Моултри с нечеловеческим упорством пробились вперед, отыскали тайник с мясом и вернулись назад к тому моменту, когда у большинства детей силы были на исходе. Затем в лагерь прибыла вторая спасательная экспедиция, по главе с Джеймсом Ридом, который был подвергнут изгнанию более четырех месяцев назад. Он принес весть о том, что вся северная Калифорния поднялась, услышав о трагедии, и что сильная, отлично снаряженная партия спасателей уже в пути. Группа детей во главе с Моултри и Кофимейером благополучно добралась до Саттера, а Рид пробился с девятью опытными горцами к озеру. Здесь они застали неописуемую грязь, маленькие дети ослабели настолько, что не могли ходить. Те, кто умер, были съедены. Рид и его люди двинулись к перевалу с детьми Донне- ра, Рида, Бринами и Грейвсами. И снова мужчины несли детей, и снова по пути па них обрушивались жестокие снежные бури. В горах он» повстречали Эдди и Фостера, возвращающихся от Саттера с припасами для своих семей. Когда эти (вое достигли озера, их там ждали дурные вести. Кезеберг ¦»знался в том, что он съел последнего из сыновей Эдди, когда тот умер. Старая миссис Мэрфи, которая предпринимала героические усилия, чтобы сохранить жизнь маленькому сыну Фостера, горестно рыдая, рассказала, что однажды ночыо Кезеберг взял Джорджа Фостера к себе в постель, а на следующее утро мальчик был мертв. Кезеберг подвесил тело «у себя на виду на стене хижины» и постепенно съел его. Эдди едва не убил обезумевшего Ке- зеберга. Теперь Эдди хотел повести через горы остатки партии, однако Тамсен Донпер, находившаяся здесь, на озере, с тремя детьми, знала, что в пяти милях отсюда на ручье Адлер остался ее больной муж, которого она обещала «любить, почитать и слушаться, пока смерть не разлучит их». Она отказалась покинуть его, хотя ему уже осталось недолго жить. Она поцеловала на прощание трех своих девочек, уверенная, что с Эдди они будут в безопасности, и двинулась в обратный путь на восток, к ручью Адлер, где умирал ее муж. Она вернулась, чтобы быть возле своего мужа, который умер на следующий день… и умереть самой, не дождавшись следующей спасательной экспедиции. И сейчас, по прошествии более ста лет, о тебе, Тамсен Дои пер, говорят, что, когда ты, движимая чувством долга, шагала сквозь лесные заросли к смерти, оставив за спиной трех маленьких дочерей, ты ни разу не оглянулась.Глава XXII «Довольно.
Это и есть нужное место» Поздним вечером 10 июля 1847 года первая партия мормонов во главе со своим сорокашестилетннм президентом Брайамом Янгом прибыла на мелкий приток Медвежьей реки в северо-восточной части современного штата Юта. Каждый мужчина шагал рядом с собственным фургоном, имея за спиной ружье; ни один мужчина не покидал свой фургон без разрешения. Разведчики, которые высылались вперед, отыскивали места для стоянок, учитывая не только удобства, но н потребности оборопы; по ночам фургоны располагались строго установленным военным порядком, выставлялись часовые. Сапожники расставляли свои скамьи, кузнецы - свои наковальни; в маленьких печах, которые устраивались в склоне холма, выпекалось заготовляемое еще в пути тесто, сдобренное маслом. Масло, как в этом успели убедиться мормонские женщины, отлично взбивалось во время постоянной тряски фургонов. Не проходило и получаса, как обед был готов. Затем, после краткой молитвы, нескольких псалмов и народных песен, в восемь часов вечера труба подавала сигнал отхода ко сну. По субботним вечерам, посвященным радостям и развлечениям, появлялись на свет музыкальные инструменты и лагерь предавался веселыо: танцы, веселая возня, шуточные игры. Ич всех партий, пересекавших континент, только мормоны не двигались по воскресеньям, посвящая этот день размышлениям и молитвам, короче говоря, богу. Ибо «Святые последнего дня» считали себя детьми божьими. В «Истории Юты» Нефф говорит: «Мормоны верят в то, что находятся под покровительством Всевышнего, так же непоколебимо, как евреи считают, что они пребывают под покровительством Моисея». После 11 февраля 1846 года, когда мормоны были изгнаны из своего города Науву, который они заложили в пустынной местности и превратили в процветающее поселение, им оставалось либо покинуть свон дома, либо быть перебитыми, как это уже произошло с вождем и основателем их религии пророком Джозефом Смитом и его братом Хирамом. Их убили 27 июля 1844 года в тюрьме города Карфагена, штат Иллинойс. Но сейчас у мормонов имелись все основания, чтобы веселиться и возносить благодарственные молитвы господу. С 16 апреля они были в пути, двигаясь из Зимних квартир с берегов Миссури. Несмотря на постоянные лишения, грязь, жару, пыль, нехватку воды, у них не было потерь. А по показаниям изобретенного в пути Орсоном Праттом «одометра», представляющего собой «набор зубчатых колес во втулке колеса фургона», они стояли теперь на пороге территории, которую Брайам Янг называл Восточной Калифорнией. На следующее воскресенье в соответствии с их картами и расчетом они смогут вознести молитву на месте своего нового храма и нового и постоянного дома.Брайам Янг родился 1 шоня 1801 года в Витнпгеме штат Вермонт, - еще один уроженец Новой Англии, которому предстояло сыграть большую роль в освоении Дальнего Запада. Он был девятым ребенком в семье, глава которой, суровый моралист, сражался под командованием генерала Вашингтона, но позднее так никогда и не сумел найти для себя соответствующего или приносящего доход места. Зарабатывая на жизнь поденной работой на фермах, семья двигалась из Нью-Йорка в Вермонт, с трудом добывая на пропитание. Брайам тоже был поденщиком, умел сколотить стул, потом стал маляром, гончаром и вообще мастером на все руки. Рожденный в подходящее время и воспитанный в среде, благодатной для возникновения реформистских направлений в религии, Брайам, семья которого принадлежала к методистской церкви, был знаком со многими новыми течениями, но они не удовлетворяли его: «Я видел, как вокруг меня создаются религии. Люди катались но земле, орали, топали ногами, но на меня это не производило впечатления. Я чувствовал, что, если бы мне дано было узреть лицо пророка, человека, на которого снизошло откровение, и для которого открыты небеса, н который знал бога и его волю, я охотно прополз бы вокруг земли на коленях». В возрасте двадцати девяти лет Брайам Янг отыскал своего пророка - Джозефа Смита, основателя «Церкви Иисуса Христа Святых последнего дня». Сестра Бранама Янга, жена священника, была обращена в эту веру первой, а затем и его брат Фннеас. Два года Брайам изучал «Книгу мормонов», прежде чем пришел к окончательному выводу, а когда уверовал, то вместе со своим ближайшим другом Гебером Кнмболлом принял крещение 15 апреля 1832 года. После смерти Джозефа Смита Брайам Янг благодаря ему, силе характера и организационному таланту встал во главе жестоко преследуемых мормонов, с тем чтобы стать их президентом и повести их на земли Даль- пего Запада. Невысокого роста, ои обладал ладно скроенной фигурой, мощным сложением, его маленькие глаза под огромными бровями видели все, у него было непроницаемое мужественное лицо с выдающимся крючковатым носом и мощной челюстью.
Когда у него спрашивали, куда он уводит свою паству, Янг отвечал: «Я увожу их подальше от христиан!» О:; ?;?:!;- же сказал: «Дело мормонов - передвигаться на Запад»… Один из благожелательных к нему биографов, М. П. Вер- пер, утверждает: «Без Брайама Янга мормоны так никогда и не приобрели бы столь важного значения, однако 1 Трапам Янг и без мормонов мог стать великим человеком». Тщательное изучение жизни и трудов Брайама Янга показывает, что он был одним нз самых способных организаторов в истории Соединенных Штатов. Мормоны, несмотря на то что их изгнали нз Науву, где они почти полностью потеряли дома, фермы, лишились плодов труда своего, несмотря на то, что нм пришлось месяцами жить в палатках на морозе, пе утратили, однако, споен сплоченности и преданности своей вере. К путешествию они подготовились на научной основе. Были тщательно изучены все доступные документы о путешествиях на Запад, были заказаны и получены отпечатанные карты, включая н такие, как «Сообщения» Фремонта, новая карта Техаса, Орегона и Калифорнии, составленная Митчеллом; миссионер, посланный мормонами в Англию, привез нз Европы полный набор астрономических приборов. Вранам Янг объявил: «Я узнаю место нашего нового дома, когда увижу его, а дальше мы будем следовать господним указаниям». По Брайам Янг считал также, что господь помогает тому, кто сам себе помогает, и поэтому весьма придирчиво отбирал пригодные для поселения земли. Он отверг Орегон, Ванкувер и Техас и не без оснований решил, что местом, где мормонам удастся установить свою новую цивилизацию, должна стать Великая впадина, отмеченная на ранних картах как озеро Боневнлля, окруженная со всех сторон горами, с Великим Соленым озером на севере и пресноводным озером Юта на юге: когда-то здесь было море, которое испарилось и превратилось в пустыню. Обширная чаша впадины представляла собой естественное укрепление, которое можно защитить от враждебной толпы, подобной той, которая изгнала мормонов из их домов в Миссури и Иллинойсе. Никто здесь пе жил, да никто и не хотел селиться, если пе считать индейцев-кочевников из племен юта, паюта и шошоны. На сотни миль вокруг не было ни одного поселения, а следовательно, здесь можно было не опасаться внешнего влияния или давления. Но Янг понимал, что строить новую жизнь прн- дется с огромными затратами труда и с большим самоотречением. Мозес Гаррис и Майлс Гудйеар, у которых была маленькая ферма в зеленой Огденс-Хоул и которые были единственными белыми во всей Юте, предупреждали Брай- ама Янга о том, что долина близ Великого Соленого озера «имеет холодный морозный климат и что выращивать зерно и овощи в горных областях очень трудно». Джим Бриджер считал «опрометчивым приводить много людей в Великую впадину, не удостоверившись, что там можно выращивать хлеб», хотя и объяснил Брайаму Я ну, каким путем лучше всего привести сюда мормонов. Энергичный Сэм Брэннен, который прибыл из Йерба-Буэны, чтобы убедить мормонов переселяться на Тихоокеанское побережье, также предупреждал, что это забытые богом края. По Брайам Янг хорошо помнил исключительно важную строку из «Сообщения» Фремонта о том, что он взял пробы на границах Великой впадины и обнаружил великолепную по своему составу почву. Брайам Янг верил, что на этой почве он сможет вырастить хлеб и собрать богатый урожай. Его люди были умелыми земледельцами и ремесленниками, кроме того, их отличало беспрекословное послушание (глава церкви говорил от имени бога, таким образом, выполняя его повеления, они выполняли повеления божьи), и объединенными усилиями они смогут создать обитаемый мир там, где другие люди или семьи, трудясь в одиночку, погибли бы. Мормонская конгрегация представляла собой сплав, с одной стороны, ярых индивидуалистов, обладавших частным капиталом, с церковной экономической кооперацией - с другой. Ни одпой семье не разрешали присоединиться к походу через континент без хорошего фургона, хорошей упряжки и запаса провизии на восемнадцать месяцев, включая муку (от трехсот до пятисот фунтов на ДУШУ)• Старшие лично проверяли запасы каждой семьи. И все-таки в походе, который проводился в точном соответствии с требованиями военной дисциплины, когда участники были разбиты на роты (сотни) во главе с капитаном и взводы (десятки) во главе с офицерами или сержантами, многое решалось совместными усилиями. Девять человек по приказу Брайама Янга занимались охотой, а добытое ими мясо делилось поровну. Когда, за- |0 За!;. М КСЗ 11 Г) щшдая скот, убивали волков, жир их распределялся между всеми фургонами для смазки колес. Каждая рота ежедневно высылала вперед по десять - двенадцать человек для приведения в порядок дороги. Когда отдельные семьи стали жаловаться на медлительность передвижения, им предложили выбор - действовать сообща или покинуть экспедицию. Отделились немногие. Боеприпасы распределялись, исходя из нужд всей партии, ружья чинили общими силами, каждую ночь выставлялась сильная охрана, и ни один мужчина не мог уклониться от выполнения этого долга. Когда, по настоянию президента Полка, был сформирован мормонский батальон для помощи генералу Кнрнн в покорении Калифорнии, несколько тысяч долларов, полученных в качестве аванса за службу пятисот добровольцев, были использованы Брайамом Япгом на общие нужды. Экспедиция Янга проложила Мормонский тракт по северному берегу реки Платт и основала первое «почтовое отделение в прериях». Ротные писари вели ежедневные дневники происходивших событий, поскольку мормоны верили, что все записываемое при жизни учитывается на небесах, а то, что не записано на земле, не известно на небе. Один из мормонских историков сообщает: ?«Исход мормонов был преимущественно движением церковной конгрегации. Мораль, этика и поведение мормонов направлялись их президентом. Когда после нескольких дней пути президент Янг заметил, что в партии имеют место азартные игры, ругательства и допускаются грубые шутки, он па следующее утро собрал всех и прочел весьма едкую проповедь: «Братья будут играть в карты, они будут играть в шахматы, они будут играть в домино, а если они попадут туда, где можно раздобыть виски, они по полдня будут ходить пьяными, через неделю они уже начнут ссориться и осыпать друг друга браныо, а затем возьмутся за ножи и будут убивать друг друга. Шутки, безделье, ругань, пустопорожние разговоры и громкий смех нам не подходят». Заблудшие братья были поставлены перед выбором: подчиниться высоким стандартам припятого у мормонов поведения или увести своп фургоны из общего круга. Когда Бракам Янг и Двенадцать апостолов решили сформировать отряд первопроходцев, которому предстояло найти постоянный дом Для нескольких тысяч мормоном, живших на Знмних квартирах, Янг отобрал сто сорок четыре энергичных, опытных мужчины, в большинстве своем занимающих высокие посты в мормонской церкви. У них было семьдесят три фургона, девяносто три лошади, пятьдесят два мула, девятнадцать коров. Позднее, в соответствии с указаниями отцов церкви, Зимние квартиры постепенно опустеют. Л сейчас на переселенцев обрушилась эпидемия горной лихорадки. Брайам Янг был настолько тяжело болен, что не мог продолжать путь вместе с экспедицией. Когда ранним утром 12 июля 1847 года Орсон Пратт пришел в фургон президента Янга для получения инструкций, Брайам Янг сказал: «Когда ты спустишься с гор и попадешь в долину, двигайся на север и остановись на нервом же месте, пригодном для посева». Орсон Пратт был самым образованным среди мормонов человеком. Он обладал высоким интеллектом и склонностью к наукам. Его наблюдения и карта, составленная во время пути, опубликованные в «Эмигрантском путеводителе «Святых последнего дня», были самыми точными из всех сделанных ранее. Передовому отряду Пратта понадобилась всего неделя, чтобы отыскать проложенную партией Доннера - Рида дорогу через горы Уосач, а затем подготовить ее для движущихся позади фургонов мормонов. 19 нюня они поднялись на гору, и им открылся вид на Великую впадину и долину Соленого озера. Это было захватывающее зрелище: вытянутый естественный амфитеатр, достаточно обширный, чтобы вместить в себя целую империю, окруженный сплошными горами, часть из которых была покрыта снегом, а остальные - той же пустынной сухой почвой коричневатого оттенка, что и дно Великой впадины. 21 июля Орсон Пратт и Эрастус Сноу спустились в долину Брайама Янга, повернули на север к Соленому озеру. Орсон Пратт записал в своем дневнике: «В трех или четырех милях к северу мы отыскали почву, просто великолепную по своему качеству… и все же трава здесь была ночтн сухой из-за недостатка влаги». ???? 10* Апостол Пратт прошел еще дальше, к небольшому' ручыо с рощей и кустарником. Двумя днями позже фургоны спустились из Ущелья Эмигрантов, свернули на север и расположились лагерем среди ив. Через два часа
147
Ьосле прибытия мормоны у Же пахали землю, которая оказалась настолько твердой, что сразу же сломались два плуга, а через четыре часа они уже прокопали ирригационные канавки и подавали воду на те участки земли, на которых решили сажать общий картофель и сеять на общем поле зерно. Двенадцать дней ушло у Брайама Янга, чтобы добраться до того места в Литл-Рок, откуда открылся вид на до- лину? Великого Соленого озера. В воскресенье 24 июля, лежа в повозке Уилфреда Вудруфа, он, облокотившись на подушку, выглянул наружу, посмотрел на запад и застыл в восхищении, наслаждаясь зрелищем. Затем, как следует из его записи, «Дух Света снизошел на меня и воспарил над долиной, и я почувствовал, что здесь мормоны найдут себе защиту». Много лет спустя Вудруф сообщит, что Брайам Янг сказал: «Довольно. Это и есть то самое место». В состав передовой партии входили три женщины: одна из жен Брайама Янга - Кларисса Декер Янг, одна из жен его брата - Харриет Пейдж Янг и одна из жен Гебера Кимболла - Эллен Саундерс КимбоЛл. Ни одного радостпого восклицания не сорвалось с их плотно сжатых губ. Опи припали к земле и заплакали: им показалось, что они попали в края, лежащие за пределами земли - выжженная, бесплодная, покрытая сухой коркой, пустынная и забытая богом земля. Но именно в этот момент - в пять часов вечера - произошло первое из стольких чудес мормонов: пролился благодатный дождь… Па следующий день, в воскресенье, первопроходцы собрались, чтобы возблагодарить господа, помолиться п зачитать вслух заповеди из «Книги мормонов». Снои родился. «Святые» пришли домой. 28 июля, через четыре дня после прибытия, президент Брайам Янг вместе с Гебером Кимболлом, Уиллардом Ри- чардсом, Орсоном Праттом, Уилфредом Вудруфом, Эйма- сой Лайменом, Джорджем А. Смитом и Томасом Баллоном отправился к месту, лежащему между двумя рукавами Городского ручья, и здесь Брайам Янг воткнул свою трость в землю, указывая, где должен быть построен храм. Храм - центр мормонской религии - должен был стать и центром нового города, построенного в пустыне. Проявив немалую мудрость, Брайам Янг провозгласил целый ряд принципов, которые потом соблюдались многие годы: вся пригодная для ирригации вода принадлежит,всему обществу и никто Не может извлекать пз нее выгоды для себя; каждый мужчина может иметь в личной собственности одинаковый со всеми участок земли, однако «никто не должен быть доведен до необходимости делить спой участок и продать его для обогащения других; каждый владеет своим наделом целиком, ибо господь дал нам его, не требуя платы. Надел храма будет состоять из сорока акров вместе с деревьями и источниками». Следуя первоначальному наброску Джозефа Смита, Янг - планировщик города распорядился, чтобы вопреки обычаю улицы прокладывались широкими и каждый дом отстоял от ули цы на определенное число футов, чтобы фасады домо» были украшены садами фруктовых деревьев и чтобы были разбиты четыре площади по десять акров каждая, выделяемые для публичных нужд из земель города. Янг-инже- нер приказал провести вдоль улиц капавы с проточной водой, которая смывала бы грязь, а Янг - президепт мормонов и человек действия приказал прежде всего построить навес для воскресных служб, затем проложить дорогу к каньону, по которой можно возить лес, и приступить к строительству форта для защиты от пабега индейцев и строительству лодок для обследования Соленого озера. Деятельность мормонов была настолько энергичной, что уже через восемь дней после прокладки плугом первой борозды Стефан Маркман записал: «Тридцать пять акров земли было вспахапо и засеяно хлебом, овсом, гречихой, засажено картофелем и саженцами. Примерно на трех акрах посеянный хлеб поднялся на три дюйма, пробились росткн и других растений, и выглядели они очепь хорошо». Брайам Янг не зря поверил «Сообщению» Фремонта: здесь действительно была богатая, целинная земля, готовая возместить сторицей тем, кто не пожалеет своего труда.^ К 23 августа двадцать девять домов из дерева и кирпича-сырца были готовы. Поселение было названо Грейт- Солт-Лейк-Сити. Ни один новорожденный город не разрастался с такой Ъыстротон: в августе приехало двести десять бывших солдат мормонского батальона, который зимовал в Пуэбло, штат Колорадо; следующая партия из сорока семи чело век прибыла из Миссури; затем начался постоянный при ток из Зимних квартир, возглавляемый Парли П. Праттом братом Орсона Пратта. В начале октября почти две ты- сячп мормонов влились в Великую впадину, ведя за собой лошадей, скот, овец, свиней, кур. Переселенцы откупили у Майлса Гудйеара его владения в Огденс-Хоул - они опасались возникновения там поселения ннаковерующих. Гудйеар был рад предложению. Мормоны поселились всего в сорока милях от его фермы, а это, по представлениям жителя Запада, было уж слишком тесным соседством. В 1847 году в нынешнем штате Невада не было белого населения, здесь бродило только несколько индейцев племени диггер: до заселения этих земель, которые мормоны называли Западной Калифорнией и которые лежали между Сьерра-Невадой и Тихим океаном, было еще далеко. Снопу ничто не угрожало.Глава XXIII
Заклятие снято. Сан-Франциско празднует день рождения В начале 1847 года Йерба-Буэпу можно было уподобить той нерешительной девице, которая не может или не хочет взрослеть. Примостившись на берегу небольшой бухточки в заливе, который вот уже сотшо лет моряки называли величайшей гаванью мира, способной вместить объединенные флоты всех стран, она редко оказывала гостеприимство более чем одному китобою или торговому судну. У купцов не было особых причин обосновываться здесь, где мало бывало судов, а людей, с которыми они могли вести торговлю, и того меньше. Вокруг лежали песчаные дюны, непригодные для посевов. Не было здесь и ранчо. На 1 января 1847 года Йерба-Буэна насчитывала около трехсот белых обитателей, из которых двести были мормоны, большинству из которых предстояло уехать, как только главная мормонская церковь будет где-ннбудь построена. С борта гребной лодки можно было насчитать примерно пятьдесят деревянных пли глинобитных домов (полдюжины из которых имели второй эта;к). Они бы;:!! разбросаны но всему пространству от берега до склонов окружающих мрачных холмов. II туг 30 января алькальду Уошннгтону Бартлетту, известному также как лейтенант Бартлетт с кгтрабля ВМФ США «Портсмут», пришло в голову, что происходит слшп- Крм большая путаница из-за того, что название «Йерба- Буэна» известно только малочисленным обитателям этого городка, а остальная Калифорния называет его Сан-Франциско, как и близлежащую миссию. Бартлетт издал постановление о том, что отныне Йерба-Буэна будет именоваться Сан-Франциско, и опубликовал его в «Калифорния стар» - первой газете этого города, которую Сэм Брэннен печатал на станке, привезенном им для будущей газеты мормонов. Бартлетт приказал Джесперу О'Фареллу обследовать город, составить его официальную карту и произвести разбивку улиц, которые должны были пересекаться под прямыми углами и иметь ширину от семидесяти пяти до восьмидесяти футов. Сан-Франциско сразу же пробудился к жизни, как будто было снято наконец тяготевшее над ним заклятье. Буквально через, несколько дней из Вашингтона пришло известие о том, что товары американских судов будут беспошлинно пропускаться • в гавань. Генерал Кирни выделил для Сан-Франциско из принадлежавшей правительству США земли обширную зону на берегу залива восточнее города, имеющую гавань и источники пресной воды. 6 марта произошло еще одно важное событие: прибыли четыре первых военных транспорта, на борту которых была тысяча добровольцев, вступивших в армию при условии, что по истечении срока службы им будет разрешено остаться в Калифорнии. Многие из них были искусными ремесленниками; они не только представляли собой потенциальную рабочую силу, столь необходимую новоокре- щенному городу, но и располагали армейским снаряжением, инструментами, а кроме того, регулярно получали из государственной казны жалованье. 16 марта Эдвин Брайант, книга которого «Что я увидел в Калифорнии» была опубликована в следующем году и который сменил Бартлетта на посту алькальда Сан-Франциско, пустил в продажу земельные участки в новых частях города. Распродаже подверглись в первую очередь те участки, которые лежали на берегу гавани. Предполагалось строить новые причалы и пристани для приема прибывающих судов и складские помещения для их товаров.В мае «Калифорниен» - газета, выпускавшаяся в Мон- терее преподобным Уолтером Колтоном и Робертом Семп- лом, - перенесла свою штаб-квартиру и печатный станок в Сан-Франциско. Переезд явился как бы молчаливым признанием того факта, что в течение нескольких месяцев Сан-Франциско превратился в самый значительный населенный пункт Калифорнии. Монтерей, боровшийся за по ожение столицы, получил еще один жестокий удар. Пятьдесят профессиональных картежников перебрались в Монтерей и открыли игорный дом. Но не успели они наладить дело, как алькальд Колтон с отрядом солдат.окружил их отель, арестовал играющих, а потом приказал им покинуть город. Большинство из них перебрались в Сан- Франциско, где их приняли с распростертыми объятиями. К июню 1847 года белое население Сан-Франциско выросло до трехсот семидесяти пяти человек; Четыре пятых населения было моложе сорока лет, что делало город одним из самых молодых в мире. С самого зарождения Сан-Франциско был интернациональным городом, здесь были пришельцы из Соединенных Штатов, Мексики, Канады, Англии, Франции, Германии, Ирландии, Шотландии, Швейцарии, Дании, Новой Зеландии, Перу, Польши, России, а также с Сандвичевых островов, из Швеции и Вест-Индии. Профессии тоже были представлены весьма широко: двадцать шесть столяров, двадцать чернорабочих, тринадцать клерков, одиннадцать фермеров и одиннадцать торговцев, семь пекарей и семь мясников, шесть кузнецов и шесть кирпичников, пять бакалейщиков, по четыре каменщика, сапожника и портных, по три юриста, доктора, бондаря и владельца гостиницы, два кожевенника, два оружейника, учитель, пивовар, изготовитель сигар, шахтер, чемо- данщик, навигатор, художник, седельщик и часовщик. К этому времени здесь уже было восемь магазинов, семь бакалейных лавок, три мясных лавки и три пекарни, две гостиницы и два печатных заведения. В сентябре всеобщим голосованием был избран первый совет города. В Сан-Франциско установилось демократическое правление. Как только армия с генералом Кирни, выступающим верхом впереди, и Фремоытом, следующим сзади, покинула Сакраменто-Вэлли, новая горячка лихорадочной деятельности охватила форт Саттера. Строились новые амбары, тока и другие надворные постройки; все новые партии рабочих уходили па поиски леса, необходимого для «бочек, дранки, стропил, лодок, фургонов, колес для водяных насосов для поливки огородов, заборов, выжига угля для куз- риц и дубовой коры для выделки кож».
Джону Саттеру было тО^да сорок четыре г о да, и ой был в расцвете сил. Иногда он засиживался за столом до четырех часов утра, сочиняя письма, которые его гонцы развозили на быстроногих конях. Он поставлял зерно, скот, кожи и шляпы, а также много других товаров, изготовляемых в его мастерских. И хотя посетители форта утверждали, что внешним видом и манерами Саттер походит на «джентльмена старой школы», сказывалась уже полнота, а некогда приятное лицо начало приобретать багровый оттенок. Тем не менее глаза его сохранили прежний блеск, а манеры - элегантность. Он никогда не выходил из своей конторы без трости с серебряным набалдашником, символом власти в Калифорнии, - истинный патриарх Сакраменто-Вэлли. Война сурово обошлась с Джоном Саттером, положив конец многим его начинаниям. Провизию и скот, которые он безотказно поставлял Джону Фремонту под правительственные расписки, теперь можно было списать в убыток, так как Кирни объявил расписки Фремонта недействительными. Запасы, которые он высылал для спасения партии Доннера и других, тоже можно было считать безвозвратно утраченными. Саттер не смог поставить столько зерна, чтобы погасить сколько-нибудь значительную часть тех тридцати тысяч долларов, которые он задолжал русским. А все долги, по его подсчетам, составляли от восьмидесяти до ста тысяч долларов. Эти средства были израсходованы на развитие ремесел и сельского хозяйства. В конце августа 1847 года он был занят постройкой большой мукомольной мельницы в пяти милях вверх по Американской реке. Мельница должна была помочь ему расплатиться с долгами. Однако работы задерживались из-за недостатка леса, и он подумывал о постройке лесопильни вверху в горах, где было так много отличного строевого леса. 25 августа в форт прибыла первая партия возвращавшихся на восток для воссоединения с семьями и друзьями солдат расформированного в южной Калифорнии мормонского батальона. Они расположились лагерем на берегу Американской реки, в двух милях от форта, в ожидании известий от Брайама Янга. Через день или два капитан Джон Браун прибыл с Великого Соленого озера в Сакра•• менто-Вэлли для закупки скота и провизии. Он также привез инструкции молодым мормонам: Брайам Янг при- ЙЁал их проработать здесь зиму и постараться получить побольше денег. Мормоны были молоды, полны жизненных сил, отличные работники да к тому же и искусные ремесленники. Именно таких людей Саттер дожидался с первого дня своего прибытия сюда. А теперь они предложили свои услуги Саттеру. Благодаря этому неожиданно привалившему счастью 27 августа Саттер заключил контракт со столяром Джеймсом Уилсоном Маршаллом, по которому тот брался построить лесопильню на южном рукаве Американской реки, в пятидесяти милях от форта. Джон Бидуэлл, самый преданный из друзей Саттера и его неизменный советчик, был в ужасе от этого безумного проекта. Он сделал все, чтобы отговорить Саттера от отправки в нехоженые места фургонов с инструментами, провизией и материалами. Однако Саттеру уже грезилось, что лесопильня даст ему такой лес, какого и не видывали в Калифорнии, а мормоны заодно закончат строительство мукомольной мельницы. Бидуэлл говорит: «Просто невозможно поверить, чтобы разумный человек решил выбрать такое место для строительства лесопильни. И конечно же, никому, кроме Маршалла, не мог прийти в голову дикий план - сплавлять по каньону Американской реки плоты из распиленного на доски леса, и никто, кроме Саттера, не оказался бы столь же доверчивым и легкомысленным, чтобы поддержать подобное предприятие». Если иметь в виду судьбу Саттера вообще, то Бидуэлл, возможно, был и прав, однако совсем по ипым причинам. Сейчас у Саттера под рукой оказалось столько отличных работпиков, которых к весне уже здесь не будет, что он решил не упускать этой посланной ему богом возможности и всем сердцем поддержал рискованное предприятие Маршалла. Таким образом, получилось, что мормоны не только заселили берега озера Боневилль, приведя сюда новых людей и принеся на Дальний Запад новую культуру. Присутствие здесь бывших солдат мормонского батальона послужило причиной хлынувшего в Калифорнию через Колорадо, Юту и Неваду такого потока людей буквально со всех концов земли, какого еще не знала история.
Глава XXIV «Золото!»
Джеймс У. Маршалл, бродяга Запада, человек молчаливый, одинокий и нелюдимый, а иногда и неприятный, не имевший друзей, был при этом отличный столяр. Он родился в графстве Хантердон в Нью-Джерси 8 октября 1810 года. Свое весьма скромное образование он получил в основном у своего отца, который занимался изготовлением карет и фургонов. Подрабатывая бродячим плотником сначала в Крофортсвилле, штат Индиана, затем в Уосоу, штат Иллинойс, продолжал свои странствия, пока не оказался на границе подле форта Ливенуорт, где заложил дающую вполне приличный доход ферму. Здесь он и остался бы, если б не миссурийская лихорадка и не малярия. К исходу шестого года он, прослышав о Калифорнии, присоединился к каравану из ста фургонов, который отправлялся из Миссури 1 мая 1844 года. Маршалл ехал верхом, везя с собой лишь набор столярных инструментов. Он перезимовал в Орегоне, а затем в июне 1845 года двинулся на юг, в Калифорнию, с партией Клаймена - Мак- Магона. К июлю он уже был в форте Саттера, где Сатгер с радостью поручил ему работу механика. В его обязанности входило также строительство маховых колес для ткацких станков, ремонт фургонов, возведение надворных построек. За одни год Маршалл накопил достаточно денег для покупки фермы и небольшого стада. Онкак будто бы примирился с жизныо фермера, но вдруг вступил в калифорнийский батальон, где несколько месяцев прослужил солдатом.Когда Маршалл после окончания войны вернулся домой, так и не получив никакого жалованья, оп обнаружил, что скот его либо был украден, либо разбрелся.*Не имея средств начать все сначала, он продал землю и вернулся к Саттеру. Весной 1847 года Маршалл, которому не исполнилось еще и тридцати семи лет, будучи человеком честолюбивым и не желающим провести остаток дней своих в качестве наемного столяра, отправился к своему боссу и попросил у него проводннка-нндейца для обследования горных районов реки. Он намеревался построить там лесопильню и сплавлять заготовленный в Сьерра-Неваде лес по реке к форту Саттера. Поначалу Саттер назвал это легкомысленной затеей, однако Маршалл горячо отстаивал свой проект. Почему он выбрал именно эту часть Кюлл!?• мах, как называли Колому индейцы, лучше всего объясняет сам Маршалл: «Река течет в этом месте по центру узкой долины, зажатая с обеих сторон крутыми, а иногда и обрывистыми склонами холмов… делает здесь несколько извивов, а на южном берегу ее имеется… отличное место для лесопильни. Водная энергия здесь в избытке, а окружающие холмы имеют буквально неисчерпаемые запасы леса». С наступлением нового, 1848 года строительство лесопильни было закончено, однако имелся один дефект: русло канала, подающего воду на колесо, было слишком мелким, и предстояло углубить его при помощи взрывов. Утром 24 января Маршалл закрыл шлюз, открывающий доступ воды в канал, и пошел вдоль пего, чтобы посмотреть, смыло ли за ночь песок и гравий. То, что произошло позднее, было записано биографом Маршалла: «Шагая вдоль нижней части канала, он приостановился на мгновение, всматриваясь в сделанные течением наносы. И тут среди гравия, лежавшего под шестидюймовым слоем воды, его взгляд привлек какой-то блеск. Поднятый им блестящий камешек оказался тяжелым и довольно странного цвета. Он был непохож пи на один из виденных им ранее. Несколько минут он простоял, держа его на ладони, пытаясь при этом припомнить все прочитанное или услышанное о минералах. По весу он понял, что это не слюда. Серный колчедан должен быть хрупким. Он поднялся на берег и, положив свою находку на плоский камень, ударил по ней другим. Камешек не рассыпался и даже не треснул, а немного сплющился от удара». Когда Маршалл вернулся •к лесопильне, его обычно мрачное лицо сияло. Он крикнул рабочим: «ребята, клянусь богом, я, кажется, нашел золотую россыпь!» В доказательство он показал им самородок. На рабочих это пе произвело особого впечатления. Они продолжали заниматься своим делом. На пятый день утром, набрав примерно три унции самородков, которые он держал завязанными в посовой платок, Маршалл отправился верхом в пятидесятимилыюе путешествие к форту. Он уехал под предлогом поисков высланной Саттером повозки с припасами. 28 января 1848 года утром Маршалл появился в форте, промокший до нитки, поскольку на последних восьми милях попал под проливной дождь. Он спросил у Саттера, где они могли бы побеседовать приватно. Пораженный Саттер провел его в кабинет-спальню, расположенную в главном здании, и запер за собой дверь. Маршалл попросил принести две чашки с водой, трость из красного дерева, немного шпагата и листовой меди для изготовления весов. Саттер ответил, что весы у пего имеются в аптеке, и сам отправился за ними, а когда вернулся, забыл запереть за собой дверь. Кто-то из клерков вошел в комнату с бумагами именно в тот момент, когда Маршалл развязывал носовой платок. Маршалл раздраженно воскликнул: «Ну вот! Я же говорил, что у нас есть слушатели!» «Саттер успокоил своего не в меру разволновавшегося партнера и поглядел на рассыпанные по столу желтые самородки. Саттер осмотрел образцы, достал с полки том «Энциклопедиа Лмерикана», некоторое время изучал его, потом испытал самородки концентрированной азотной кислотой, которая не оказала на них никакого действия, уравновесил их на весах равным количеством серебра, а затем опустил чаши весов в воду, где желтые самородки сразу же перевесили серебро. Теперь Саттер обратил свои широко раскрытые сияющие глаза к необычайно взволнованному лицу Маршалла. «Это золото, - сказал Саттер. - Двадцать три карата чистого золота!»
Книга третья ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА
Глава I
«Безумие охватило мою душу!» Человек Сорок Восьмого года в своем стремлении к золоту был довольно робким ухажером. У него мало общего с получившим широкую известность близким родственником, представителем Сорок Девятого года, н все-таки во многих отношениях он представляет собой намного более интересную или по крайнеи мере чистую личность. Саттер, Марш, Вальехо, Бидуэлл, Ларкин, Хартнелл, Робинсон совершали походы в горы, но де лали это нерешительно, оставались там недолго, и никто из них не добыл там золота на сколько-нибудь значительную сумму. Конечно, ранние поселенцы прибыли в Калифорнию не ради золота, хотя можно ли оправдать человека, поленившегося подобрать эту квинтэссенцию богатства, когда от него только и требуется, что очистить ее карманным ножом? Джон Саттер и Джеймс Маршалл попытались хранить в тайне свое открытие, причем Саттер заручился обещанием рабочих в Коломе остаться там на шесть недель и наладить работу лесопильни. Он также попросил их помалкивать о золоте. Долгоейремя рабочие считали, что эти несколько самородков оказались в реке случайно. Они продолжали заниматься своим делом. Исключение составил •юный Генри Биглер. В воскресенье он взял ружье, якобы собираясь на охоту, но, скрывшись с глаз товарищей, принялся искать золото. К следующему воскресенью он набрал уже целую унцию, а в день рождения Вашингтона, несмотря на метель, отправился на «охоту» н откопал самородок. Когда он, мокрый и промерзший, вернулся на лесопильню, товарищи потребовали у него объяснений. Биглер развязал узел на подоле рубашки и высыпал на грубые доски стола золота на 22 доллара и 50 центов. Он также признался, что написал о находке мормонам, работающим на мельнице у Саттера. В отношении сохранения тайны Биглер оказался намного сдержаннее своего хозяина, поскольку еще 10 февраля - всего через тринадцать дней после прибытия Маршалла в форт с пакетиком золота - преисполненный энтузиазма Саттер писал Вальехо: «Мною открыты золотые россыпн, которые в соответствии с проведенными нами экспериментами являются необычайно богатыми». Марнано Вальехо не нужно было просить о сохранении тайны. Подобно большинству калифорннйцев, он с самого начала знал, что находка золота - вещь чрезвычайно опасная. Следуя примеру русских из форта Росс, Саттер приобрел у индейцев, живущих вокруг Коломы, трехлетнюю лицензию на их земли. Всего две подобных сделки и были занесены в анналы Дальнего Запада. И если Саттер указал ложные причины для получения лицензии, то сделал он это не из желания прибрать к рукам все золото, а потому, что ему действительно требовалось еще несколько недель для окончания работ на мельнице и лесопильне. Работники лесопильни, получающие кормежку и зарабатывающие примерно по доллару в день, благодаря находке Бпглера обнаружили, что могут при помощи карманных ножей добывать из Американской реки в десять-двад- цать раз больший заработок. II все же пи один человек не нарушил данного Саттсру обещания проработать шесть недель, необходимых для завершения строительства лесопильни: для поисков золота они исполь.ювалн свободное от работы время. Генри Биглер в письме к мормонам на мельницу просил их не разглашать тайну и просто наведаться к нему. Левн
Файфилд, Уилфред Хадсон п Сидии Уиллис приглашение приняли. Ковыряясь в нанесенном песке и гравии примерно там, где Маршалл впервые увидел блеск золота, они нашли несколько самородков. Эти три члена мормонского батальона, проделавшие сорок шесть миль специально ради золота, должны по праву считаться первыми представителями Сорок Восьмого года. Па обратном пути они обследовали песчаный перекат примерно на полпути к Саттеру и обнаружили золото, лежащее под очень тонким слоем песка. Это место впоследствии получит название Остров мормонов, и другие золотоискатели добудут здесь позже целые состояния. И тут одновременно произошло два события, вызвавшие распространение известий о золоте: Джекоб Уиттмер, возчик, прибывший в Колому с возом провизии и строительных материалов, услышал от одного из сыновей Веймара: «А мы нашли там, наверху, золото». Когда Уиттмер принялся высмеивать это сообщение, миссис Веймар в подтверждение правдивости слов сыпа подарила ему самородок приличных размеров. В это же время Джон Саттер послал мормона Чарлза Беннета в Монтерей к губернатору Калифорнии полковнику Р. Б. Мейзону для регистрации полученной у индейцев лицензии. Беннету было приказано молчать о находке золота, но, когда он повстречался с геологами, занятыми поисками угля у Маунт-Диабло в окрестностях ранчо Марша, ем» показалось необычайно забавным, что люди роются здесь в поисках угля, когда по всей Американской реке рассыпано золото. Бсннет не удержался и достал свой мешочек с золотым песком и самородками, чтобы убедить недоверчивых искателей угля. Джекоб Уиттмер, вернувшись в форт Саттера, отправился в магазин, открытый в одной из пристроек Сэмюэ- лом Брэннепом, заказал бутылку брэнди и в качестве платы выложил на прилавок подарок миссис Веймар. Партнер Брэннена Джордж Смит послал за Брэннепом. Они не поверили, что этот камешек - золотой самородок, подобно тому, как искатели угля отказались поверить Бепиету. У Джекоба Уиттмера пе оставалось ничего иного, как обратиться к капитапу Джону Саттеру. Саттер не мог отрицать подлинности лежавшего на полке самородка и подтвердил факт открытия. Это было 15 февраля 1848 года. В тот же день Чарлз Беннет прибыл в Сан-Франциско и показывал золото веем желающим. Ему никто не верил, за исключением Айзека Хамфри, бывшего золотоискателя из Джорджии. Хамфри тут же купил себе кирку, лопату, тазик, материалы для постройки лотка и отправился в полном одиночестве за сто пятьдесят миль в Колому - первый человек Исхода. Не было никаких разумных оснований для волпепия в. Сан-Франциско в связи со слухами об открытии золота в далекой Сьерра-Неваде. С 1846 года, когда Фремонт заклепал ржавые пушки Пресидио, забытое богом селение выросло до двухсот домов. Здесь имелись две вполне приличные по размерам гостиницы, две пристани, склады, двенадцать лавок, некоторые из которых представляли внолпе солидные фирмы на Западе и в Гонолулу. Здесь имелась бильярдная и боулинг. 1 марта 1848 года в «Стар» было опубликовано объявление, что требуется учитель, а 5 марта при публичной распродаже земельных участков в городской черте, несмотря на вполпе солидную цепу - 22 доллара и 50 центов, объявилось пятьдесят два покупателя. Сан-Франциско вполпе мог стать великим городом па Тихоокеанском побережье, центром торговли с восгочными районами, Европой и Востоком. «Калифорниеп» сообщила о находке золота 15 марта, а «Стар» - 18-го, но в спокойных топах и на последней странице. Теперь, почти два месяца спустя после открытия, лесопильня Маршалла была завершена; примерно 20 марта первые бревна были распилены на доски. Рабочие взяли расчет и занялись старательством. Внезапно империя Джона Саттера стала рушиться: всо рабочие с мельницы, постройка которой обошлась в 30 ООО долларов, тоже отказались работать и двинулись в горы. Кожевенники из мастерской форта заразились золотой лихорадкой и бросили две тысячи шкур, которые сгнили, так и необработанные. Напятые на длительный срок индейцы проявили восхитительпую выдержку и оставались, пока не убрали урожай в сорок тысяч бушелей зерна. После этого они тихо растворились в ночи, а скошенный хлеб пропал под горячими солнечными лучами, потому что некому было обмолотить его, как, впрочем, некому было теперь выделывать обувь, шляпы, бочки, одеяла и массу других предметов, которые производились у Саттера. U Зак. M 14G3 ICI Таким образом, Саттер, благодаря которому было открыто золото, поставил также и рабочую силу для официального начала золотой лихорадки. Ход событий ускорил Сэмюэл Брэннен. Получив все, что можно, от мормонов, а затем воспользовавшись помощью ребят из батальона на золотых россыпях, Сэм отошел от «Святых последнего дня», которые в ответ на это вторично отлучили его. Умный делец с большой склонностью к авантюрам, беззастенчивый комбинатор, Брэннен ворвался в Сан-Франциско 12 мая и, разъезжая верхом по улицам, размахивал шляпой и выкрикивал во всю силу своих легких: «Золото! Золото! Золото с Американской реки!» Разыгранный пм спектакль наэлектризовал город, всего два месяца назад невозмутимо взиравший на мешочек с золотом Бенпета. Матросы в гавани покидали суда, вслед за пими шли и их капитаны. Доктора бросали своих пациентов, суды! - просителей, мэр и советники города - горожан… большинство которых тоже покинуло свои насиженные места. Смелое начинание - маленькую школу - пришлось закрыть. Обе газеты перестали выходить из-за отсутствия наборщиков, закрылись и лавки, так как не было ни продавцов, ни покупателей. Солдаты покидали свои посты, с тем чтобы уже никогда не вернуться; в гостишшах не было пи прислуги, пи постояльцев; фермеры отправлялись в горы, бросая на произвол судьбы засеянные поля. Имущество, столь ценимое всего несколько дней назад, спускалось за полцены и не паходпло покупателей. Спустя несколько дней город стал выглядеть как после чумы: в нем осталась только четвертая часть мужского населения. Монтерей с появлением первого золота опустел настолько, что, по словам преподобного Уолтера Колтона: «Генерал армии Соединенных Штатов, командующий войсками, и алькальд Монтерея встретил мепя на задымленной кухне, где он сам молол кофе, чистил лук и разделывал селедку». Командующий Тихоокеанской эскадрон коммодор Томас Джонс, который в 1842 году так нерасчетливо захватил Мопгерей, обнаружил, что у него нет достаточного количества моряков для захвата острова Каталина.
Матросы, покипувшие суда, жертвуя причитающимся им за четыре года службы жалованьем, испытывали, по- видимому, то чувство, которое описал человек, охваченный золотой лихорадкой. «Безумие охватило мою душу; дома было слишком тесно, и вскоре я оказался на улице в поисках необходимого снаряжения Перед моим взором повсюду вставали груды золота; мраморные замки, ослепляющие рзгляд своей роскошью, тысячи рабов, склоняющихся передо мною, мириады невинных прелестпиц, оспаривающих- друг у друга мою любовь… были любимыми мотивами моего воспаленного воображепия. Ротшильды и Асторы казались мне жалкими бедняками. Короче говоря, у меня был жесточайший приступ золотой лихорадки». Как только мешки с золотом стали прибывать с гор, город опустел. Сопома, которая только что получила статус города и территория которой была разделена на участки для городской застройки, «потеряла две трети своих жителей. Большинство домов опустело, все работы прекратились, и здесь, как и повсюду, невозможно пайти плотника, столяра или кузнеца и вообще ни одного человека, который согласился бы выполнить какую-нибудь работу» Томас О. Ларкин писал из Сан-Хосе, что здесь «у каждого приступ золотой или желтой лихорадки. Девять десятых лавочников, ремесленников и поденщиков отправились в Сакраменто». Луис Перальта, стареющий калнфорниец, получивший во владение огромные наделы земли, включающие современные города Беркли, Окленд и Аламеду, отказался поддаться всеобщей панике. Он говорил: «Сыновья мои, господь дал это золото американцам. Если бы он пожелал, чтобы оно было нашим, он дал бы его нам. Поэтому пе ходите за ним, а предоставьте это другим. Обрабатывайте свои поля и собирайте урожаи - это будет вашей богатейшей золотой россыпью, ибо для поддержания жизпи всем необходима пища». ???? 11• Мариано Вальехо приехал верхом в Колому, понаблюдал за тем, как другие с успехом добывают золото, отыскал и сам в чисто научных интересах несколько крупинок, а затем поскакал сбратно в Соному, чтобы никогда уже не возвращаться па золотые разработки. Калифорнийские семьи из Сан-Луис-Обиспо на юге тоже не поддались всеобщей панике; они остались на своих землях и в течение года, как и предсказывал Луис Перальта своим сыновьям,
1С-3
обнаружили, что их стада представляют собой не меньшее богатство, чем золотые россыпи Коломы или Острова мормонов.Глава II
Золото найти проще, чем украсть Вымытое из залежей в горах золото переносилось реками Сьерра-Невады. Потоки воды, естественно, устремлялись вниз по каньонам и склонам; солнце падало на эти прохладные, густо поросшие лесом места не более двух часов в день и не могло прогреть или высушить лощины. Старателям приходилось брести по ледяной талой воде, чтобы добраться до горных склонов. Кроме поселения Маршалла в довольно широкой долине у Коломы, здесь не было ни городов, ни домов, ни пищи, ни дорог, по которым можно было бы сюда добраться. Первые старатели, шедшие из форта Саттера, отправлялись в горы верхом или пешком, неся с собой свернутое одеяло, в котором находился собранный наспех запас'продуктов - мука, копченка, кофе. Подвешенный к лямкам свернутого одеяла, свисал неизбежный набор новичков: кнрка, лопата и сковородка - все, как считалось, необходимое человеку для счастья. Попасть к золотым разработкам из Сан-Францнско было довольно сложно: старателям приходилось пересекать широкий залив или совершать сорокамильнос путешествие вниз по полуострову почти до Сан-Хосе, а затем снова сворачивать на север. Лодки, которые до этого стоили но пятьдесят долларов, теперь продавались по пятьсот. Караваны из фургонов, запряженных мулами или волами, двигались по окружающей залив сухопутной дороге, но большинство старателей двигалось пешком, с ружьями в руках. Человек, который был единственным пассажиром на пароме Роберта Семпла в Мартинесе в конце апреля 1848 года, через две недели увидел здесь сотни фургонов, дожидающихся переправы, и целую армию мужчин, сидевших вокруг]«остров. Каждый из них был занесен в список очередников.Джон Бидуэлл, которому Саттср сразу же рассказал о находке Маршалла, предпринял тщательное обследование земли вокруг Коломы и решил, что она по рельефу очень похожа на местность у реки Филер, где он купил себе ра- нее большое ранчо. Он вернулся на север, нашел крупицы золота в нижнем течении реки Физер н пришел к иравиль- пому выводу о то.м, что крупные частицы, как более тяже- лые, дол ясны были остаться в верховьях. Бидуэлл вместе с двумя друзьями брал пробы, двигаясь вверх 110 реке Физер, и вскоре наткнулся на богатую рос- сыпь, которая позднее стала известна как отмель Бндуэл? ла. Открыв золото в тридцати милях к северу от Коломы, Бндуэлл доказал, что весь этот рапой является перепек- тивным для золотоискателей. Пирсон Рпдннг, прибывший в эти места с группой Чплса в 1843 году и имевший ранчо на самом крайнем севере центральной калифорнийской долины,, последовал примеру Бпдуэлла. Изучив район Коломы, он вернулся домой и обнаружил золото в ручье Клпар, рядом со своими землями. Старатели рассеивались по всем направлениям в поисках географических рельефов, схожих с рельефами Коломы. К маю они добывали металл примерно на десять миль к западу от Коломы и на десять миль 1с востоку - в самом сердце Сьерра-Невады. Пешие старатели, нередкиганнциеси и поисках новых перспективных месторождений 110 развилкам реки и ее притокам, раскатывали свои одеяла под деревьями и рас- кладынали костры. Те, которые от 11 ра влил и с 1• в путь вер- хом или в фургонах, иногда везли с собой палатки: изред- ка среди них попадались и опытные, бравшие с собой то- пор д.тя рубки дров и постройки какого-либо пристанища. Так были рождены первые шахтерские городки. Немногие из пришедших пешком могли оставаться здесь более пе- дели: именно настолько могло им хватить взятых с собой продуктов. На месте не бы.10 никакой возможности приоб- рести провизию. Большинство старателей отправлялись в путь в весьма скептическом настроении, однако то, что им удавалось найти самим, и вид того, что было найдено другими, вынуждало их пускаться в обратный путь 1с Саг- теру, а иногда и до самого Сан-Франциско, чтобы ликвпдн- ровать там свои дела, а па вырученные деньги закупить провизию и инструменты.
К июлю примерно дпе тысячи американцев находились в районе разработок и еще две тысячи калифорпнйцев и индейцев работали рядом с ними.]Пли месяцы, и четыре тысячи новых американцев, среди которых было много:¦еглых солдат и матросов, пополнил» ряды старателей, толпами спускаясь по отрогам Сьерра-Невады и подбирая попадающееся им на пути золото. Первые старатели, прибывающие на места разработок, и не думали делать какие-либо заявки. Они бродили по водным путям, подбирая лежавшее на поверхности золото, и быстро переходили на повое место. По мере того как возрастало их число и расширялись знания о золотоносном потенциале каждого лагеря или ущелья, мужчины устраивали собрание, на котором решались вопросы о размерах участка, и любой, заявивший на него права, мог считать его своей собственностью. Размеры участков варьировались от десяти квадратных футов в самых ранних лагерях до полосы шириной в десять футов от середины русла реки до основания холмов. Для того чтобы заявка считалась оформленной по закону, достаточно было воткнуть в нужном месте кирку или лопату. Эти первые, лишенные формальностей собрания представляли собой зачатки самоуправления на горных приисках. Полковник Мейзон - военный губернатор - находился в Монтерее, а никакой иной власти не было. Чарлз X. Шинн в своей кпиге «Лагеря шахтеров» писал: «Шахтерам не нужен был уголовный кодекс. Простая и непреложная истина заключалась в том, что в Калифорнии был короткий период в 1848 году, когда преступлений почти не совершалось, когда фунты и пинты золота оставлялись без присмотра в палатках и хижинах или лежали на склонах холмов, а самородки передавались толпой из рук в руки для всеобщего обозрения. Один из первых золотоискателей писал мне, что «в 1848 году человек мог войти в хижину старателя, отрезать себе кусок бекона, приготовить пищу, завернуться в одеяло и улечься спать, в полной уверенности, что будет радостно встречен вернувшимся хозяином». Люди говорили мне, что им известны случаи, когда полные умывальные тазы золота оставались на столе в открытой палатке, в то время как владельцы их работали на своей заявке в миле от палатки». Найти золото было так же просто, как украсть его. И если кто-нибудь брал золото у своего соседа, он делал это скорее ради смеха, чем ради наживы. К концу года один или два человека всерьез решились па подобные поступки и были тут же повешены без суда, как, впрочем, и без пролития слез.
В 1848 году горы представляли собой настоящую Аркадию; старатели были молоды, социальные различия отсутствовали, и, если одни находил богатую россыпь сегодня, завтра наступала очередь его соседа. Друзья и соседи отдавали запасы провизии в общин котел н готовили по очереди. Результаты зачастую бывали неважными, однако «никто ие должен был ворчать на неудачных поваров под страхом иазначеипя еще на одну очередь». Каждый с открытым сердцем относился к вновь прибывающим. Шшш рассказывает историю о десятилетнем мальчике, который прибрел сюда в одиночку, совершенно изголодавшийся и без орудий, необходимых для самых примитивных работ. Мужчины-старатели решили работать в пользу мальчика по часу в день и вскоре вручили ему золотой песок для покупки полного снаряжения, заявив, что теперь он может «плескаться самостоятельно». В 1848 году иа приисках еще не было светской жизни. Только некоторые лагеря могли похвастаться присутствием в них хотя бы одной женщины, правда, к концу года к некоторым старателям приехали жеиы с намерением открыть ресторан или постоялый двор. По ночам после работы мужчины собирались вокруг костров, рассказывали апекдоты, вспоминали о доме или о своем путешествии в Калифорнию. В этом чисто мужском обществе выше всего ценилась дружба. Только некоторые из калнфорнийцев привозили с собой жеп, детей и индейских слуг. По вечерам на траве перед палатками семьи устраивали танцы. Молодые американцы находили «весьма привлекательным после тяжелого дневного труда с наступлением темиоты пойти на один из таких фандаго». Эта лесная идиллия продолжалась почти до самого конца 1848 года, хотя поздней осенью начался приток посторонних: калифорнийцы из южиой Калифорнии, первыо пришельцы из Орегона; четыре тысячи мексиканцев из Соноры; первые жертвы золотой лихорадки, прибывающие морем - партия с Гавайских островов и еще одна из Чили. К октябрю в горы пришла зима с дождями, снегом и сильными холодами. Немногие из наиболее упорных решились на зимовку и построили примитивные бревенчатыо хижины. Восемьсот человек остались в Драй-Днггниз, позднее переименованном в Хангтаун н еще позже - в Плейсервилл, добывая примерно по пять •унций в день.
Основная же масса отправилась с гор в более теп тыс долины. Кое-кому удалось нажить состояние, но большинство старателей составляли разочарованные, больные, оборванные. Мрачные и растерянные, они «проклинали страну и свою тяжелую судьбу». К началу септября Сан-Франциско перестал быть городом-призраком. Люди стали возвращаться со своих участков, некоторые в лихорадочном предвкушении того, как они потратят привезенные мешки с золотом, остальные - просто больные лихорадкой. К октябрю уже вернулось достаточное число членов городского совета, чтобы назначить собрание, и сто пятьдесят восемь бывших старателей подали свои голоса на выборах алькальда. Цены на недвижимость поднялись на пятьдесят процентов, а какой-то. смельчак возвел даже первое в Сан-Франциско кирпичное здание; товары, которые еще совсем недавно были обесценены, вновь пользовались спросом, а к декабрю земля и дома продавались уже по ценам, вдвое превышающим преншие. Возобновился выпуск двух самых ранних калифорнийских газет - «Стар» и «Калифорниен», а 12 декабря открылась государственная школа, уже работавшая несколько недель весной, с платой за курс обучения восемь долларов, тогда как сто долларов уходило на покупку одеяла, пары сапог или галлона виски. Сан-Франциско назначил преподобного Т. Д. Хаита, пресвитерианца, городским священником, и именно преподобный мистер Хаит провел первое, если не считать мормонов, протестантское богослужение в Сан-Фрапциско. В Сан-Хосе состоялось первое собрание америкапцев, стремящихся к созданию правительства Калифорнии, которое пока имело только алькальда и совет в Сан-Франциско, преподобного Колтона в качестве алькальда в Моптерее и алькальдов в Санта-Барбаре н Лос-Анджелесе. Полковник Мейзоп, военный губернатор «владения», обладал настолько малой властью, что задуманный им плап установить платные лицензии па золотоносные участки, чтобы получать налоги па нужды управления страной, он даже не пытался провести в жизнь, поскольку большинство его армии дезертировало. И тем не менее он все же заверил население в том, что конгресс Соединенных Штатов вскоре «Дарует им конституционные права граждан Соединенных Штатов».
Приток эмигрантов из Миссури в весенние месяцы 1848 года был весьма скромным. Капитан Чнлс привел с собой сорок восемь фургонов н примерно сто пятьдесят человек. «Реджистер» Бэнкрофта приводит всего пятьсот двадцать имен вновь прибывших пионеров. Однако не многое столь сильно воспламеняет воображение людей, как весть об открытии золота. А весть об этом уже разнеслась по свету. Вслед за балтиморской «Сан», опубликовавшей первую газетную статью об открытии золота, подобные статьи напечатали ныо-йоркский «Геральд» u ныо-йоркскнй же «Джорпэл оф ком.мерс». По статьи эти не вызывали доверия и были слишком резки, как, например, эта: «Подобно стаду свиней, выпущенных в лес в поисках земляных орехов, люди бродят но всей стране н добывают золото нз земли то там, то тут». Более важными были официальные сообщения: доклад Томаса Ларкнпа юсударственному секретарю Быокенену, отправленный на восток с линейным кораблем «Огайо», доклад полковника Мейзона генерал-адъютанту. К докладу в качестве подтверждения была приложена не то жестянка из-под устриц, но то чайник для заварки, полный золота. Президент IIojik включил доклад полковника Мейзона в свое послание конгрессу 9 декабря 1848 года. Публично продемонстрировав в военном министерстве образцы золота, он воскликнул: «Сообщения об обилии золота носят такой необычный характер, что в них едва ли можно было поверить, если бы они не подтверждались подлинными докладами лиц, состоящих на государственной службе!» Этого было достаточно.
Глава III
Какой игрок откажется от игры? Сколько золота добывали старатели Сорок Восьмого в руслах рек, на песчаных отмелях н среди камней? Это зависело от силы человека, его настойчивости и удачи. Попа- чалу почти каждый мог намыть в день на 10-15 долларов золотого песка, если работал от восхода до заката. Учитывая, что до открытия золота повар в Сан-Франциско зарабатывал 25-30 долларов в месяц, а клерк - от 50 до СО долларов, добыча старателя считалась вполне приличной.Кпк п?» всех подобных предприятиях, встречались и от- дельные счастливчики: Джон Саллнваи, ирландский по- гопщпк. получавший ранее по 5 долларов в день, добыл золота па 2(И)00 долларов на реке Станислава с участка, который позже был назван его именем. Человек по имени Хадсоп за шесть недель намыл золота на 20 000 долларов п каньоне между Коломой и средней развилкой Американской реки. Мальчишка по фамилии Давенпорт нашел в «дни день семьдесят семь унции чистого золота и еще девяносто - на следующий день. В Драй-Днггннз некий мистер Уи.теоп добыл золота на две тысячи прямо под собственным порогом. Три француза нашли золото, отодвигая древесный ствол, лежавший па дороге между Драй-Днг- гпп.! и Коломой, п за неделю намыли его па 5000 долларов. На средней развилке реки Юта какой-то человек добыл почти тридцать фунтов золота на площади менее четырех квадратных футов. Амадор сообщает, что видел участки, дающие по 8 долларов па каждую лопату вынутого грунта. Он вместе с компаньоном н двадцатью местными рабочими добывал от семи до девяти фунтов золота в день. Роберт Барин, состоявший на службе у британского консула Форбса, видел золотоискателей в Драй-Днггинз, которые ежедневно добывали от пятидесяти.до ста унций. Соул (он из калифорнийских историков был ближе всех к золотой лихорадке) рассказывает в «Анналах Сан- Фраицпско»: «В хорошо аргументированных отчетах говорится о многих известных лнцах, добывавших в течение длительного времени от ста до двухсот долларов в день. О множестве других рассказывают, что они зарабатывали от пятисот до восьмисот долларов в день. И действительно, если человек, вооруженный лопатой н тазом, не намывал золота на трндцать-сорок долларов в день, он просто переходил на новое место, которое, по его расчетам, было богаче». В августе 1818 года один из корреспондентов газеты «Калифорнпен» писал из Драй-Диггниз, что «землю из лощин везут в фургонах и на вьючных лошадях на расстояние от одной до трех миль, к местам промывки; 400 долларов - средняя цена за одну ездку фургона. Здесь бывали случаи, когда люди носили землю па собственной спине и зарабатывали от 800 до 1500 долларов в день». Но у этого золотого рая были и теневые стороны. Люди, непривычные к тяжелому физическому труду, вы- Пуждеиные работать, стоя целыми днями по колено и ледяной воде, наполняя таз или индейскую корзину грнзыо, опуская их в воду, а затем потряхивая, чтобы смыть глину и песок, спавшие по ночам в холоде и сырости, питавшиеся почти одним беконом, заплесневевшим хлебом н кофе, заболевали в результате лихорадкой, воспалением легких, дизентерией. Имея примитивное оборудование, они могли собирать только то золото, которое лежало близко к поверхности, а поверхностные залежи быстро истощались, и некоторое время спустя старателям приходилось отправляться в горы на поиски новых залежей. Провиант, который теперь начал поступать по проложенным еще индейцами тропам, продавался на приисках ио завышенным ценам. Возчики требовали уплаты трехсот долларов за перевозку трех бочонков муки, одного бочонка'свинины или двухсот фунтов более мелких грузов на расстояние в пять- десять миль от форта Саттера к разработкам. Цены устанавливались с учетом н того, что люди, которые добывают свои богатства, просто выкапывая их из земли, должны делиться с теми, кто проявляет достаточную самоотверженность, отказываясь от столь великолепной возможности. Тазы, сковороды, иротнпнн, которые ранее шли по двадцать центов, теперь стоили от 8 до 1С долларов. Пяти- десятицеитован коробка пороха Зейдлнца теперь стоила 24 доллара. Любая пилюля независимо от ее цеппости стоила '1 доллар. Сорок капель лаунданума стоили 40 долларов. Рубашки продавались по 16 долларов. Преподобный мистер Колтон, объезжавший прииск в октябре, писал: «Старатели платят но 400 долларов за бочонок муки, по 4 доллара за фунт плохого коричневого сахара н за фунт любого кофе. Что же касается мяса, то здесь его вообще нет, кроме вяленого». Когда предприниматели начали строить в лагерях золотоискателей небольшие отели и рестораны, цены нЪдня- лись еще выше. Завтрак в Коломе, состоящий из баночки сардин, хлеба, масла, сыра н двух бутылок пива, стоил 43 доллара. К концу 1848 года золотоискатели, намывавшие по унции в день (а таких было пятьдесят процентов общего числа), тратили свою унцию на предметы крайней необходимости, а следовательно, работали на собственное содержание. Еще четверть золотоискателей - неудачники или просто недостаточно хорошо работающие - обнаружили, что они но в состоянии добыть необходимую для прожиточного минимума унцшо в день н вынуждены работать па того, кто мог обеспечить им пропитание. Остальная четверть золотоискателей получала прибыль от нескольких сот долларов до целых состояний. Эта категория составляла всего пять процентов. Какой игрок отказывается от игры только из-за того, что шансы на выигрыш малы? Никто не обращал внимания на истощенных, больных и изнуренных возвращенцев, хотя многие из них лежали больными целыми месяцами, а многие умирали. Энтузиазм вызывали те, кто возвращался в города, потрясая полными золота мешками, - и тут же новы!'! людской поток направлялся к местам разработок. Даже Томас О. Ларкнн, который ранее сказал, что «мы и вообразить не можем себе вредных последствий для Калифорнии, если эта лихорадка затянется», в конце концов не удержался от соблазна и образовал компанию, чтобы с помощью индейцев заняться разработками. Он такж? прислал на прииск товары для открытия магазина. Доктор Джон Марш организовал компанию из своих соседей. Они погрузили вьюки с продовольствием и старательскими инструментами, облачились в красные рубахи и сапоги, которые стали стандартной формой золотоискателей, и тронулись в путь на север к реке Юта. Здесь доктор Марш нашел богатую россыпь, которая давала ему по 50 долларов в час с самого начала разработок. Ларкин вполне удовлетворялся скромными тремястами процентами прибыли, которые он получал от продажи своих товаров, а Марш продавал индейцам бусы и сахар, меняя чашку бус на чашку золота! Он кончил тем, что продал с себя красную рубаху какому-то восторженному индейцу за 300 долларов. Однако Марш, которому уже исполнилось сорок девять лет, был слишком стар для жизни в стОль суровых условиях. Он заболел и вынужден был вернуться цомой, увозя с собой золота на ??!ООО() долларов, собранных «а шесть месяцев труда: золотое дно, если только вы не имеете ничего против болезни и продажи рубахи со своей спины. Джон Бидузлл, как только его индейцы разбежались в поисках золота, тоже бросил старательское ремесло и открыл магазин. До того, как? им было открыто золото, Джеймс Маршалл не мог полвастаться ни особой удачей, ни везением, от- частп и потому, что оп был довольно раздражительным неуживчивым бродягой. Упорство, с которым он отыскал подходящее для лесопильни место и убедил Саттера оказать ему поддержку в ее постройке, по-видимому, помогли бы ему остепениться, однако никто не хотел работать на его лесопильне. Толпы золотоискателей селились на его землях, а он не мог нх выдворить. Его волы, стоившие по 400 долларов упряжка, «спустились в каньон, а оттуда - в глотки голодных мужчин». Когда он отправился искать золото, то, вернувшись, обнаружил, что бродячие старатели разобрали его лесопильню. Не везло Маршаллу н как старателю: Саттер дважды снабжал его старательским снаряжением, однако, «как только я попадал в новое место и начинал закладывать новый шурф, налетали целые сгап старателей и начинали мыть рядом со мной. Но воле случая кто-нибудь обязательно находил жилу раньше меня, и на землю подавались заявки. Мне снова приходилось пускаться в путь». Джон Саттер, у которого не было люден для работы на мельнице, в кожевенных мастерских пли для молотьбы хлеба, компенсировал потерн, открыв в форте магазин, стоявший на главном пути старателей, н сдавая внаем помещения торговцам. Он также вошел в половинную долю к нескольким старателям. Не теряя оптимизма, он заявил: «.Мне пет нужды отправляться в горы, чтобы получить свою долю золота, золото само притечет ко мне». Прибытие его двадцатидвухлетнего сына Аугуста открывало перед Саттером неприятные перспективы. Ведь именно неизбежность появления на свет этого сына ъ Бургдорфе вынудила Саттера жениться па матери Аугуста и вынести годы семейных неурядиц. Сатир никогда не намеревался увидеться пн с одним из членов своей швейцарской семьи. Услышав, что Аугуст находится в Сан- Франциско, Джон Саттер удрал в Колому, где нашел утешение в бутылке, чтобы не искать отпета на вопрос: если прибыл сын, означает ли это, что и мать последует за ним? Аугуст Саттер оказался лояльным и уравновешенным молодым человеком, который, возможно, мог бы и спасти Саттера от уже нависшего над ним полного разорения. Аугуст писал: «Индейцы, негры, канаки и белые любой национальности, обратившись к моему отиу, легко получали кредитные письма на его имя на любые суммы н в любые магазины, существовавшие тогда в форте пли вокруг него… Из полученных мною книг я никогда не мог составить себе представления о подлинном положении дел, поскольку они были ужасно запутанны». Широко распространившийся слух о том, что Саттер благодаря открытию золота стал миллионером, привел к тому, что у него стали требовать все прошлые долги. Полковник Стюард, новый русский консул в Сан-Франциско, прибыл в форт с намерением получить примерно 31 ООО долларов долга, все сше не выплаченного за форт Росс. Джеймс Дуглас, глава Компании Гудзонова залива, нанес личный визит ради получения 7000 долларов, которые Саттер, по его утверждению, был должен компании Антонно Суньол, калифорнийский сосед, прибыл, чтобы предъявить счет на 3000 долларов за скот и продукты Dee эти неудачи, преследовавшие Саттера, перекрыло появление мистера Фрэнча, утверждавшего, что Саттер должен ему 3000 долларов за аренду судна, на котором Саттер доставил свои товары из Гонолулу в Йерба-Пузну в 1839 году. Дюжинами объявлялись и другие кредиторы Капитан Джон Саттер, •раздавший значительную часть своего имущества измученным эмигрантам, имел всегда весьма смутные представления о том, что и кому он должен. Наполовину обезумев от давления со всех сторон н за- путапности дел, Саттер сделал сына законным владельцем своего имущества и снова удрал в горы. Аугуст взвалил на себя геркулесов труд по приведению в порядок счетов отца. Единственным путем для осуществления этого было согласиться с предложением Сэма Брэнпена и заложить на своей земле между фортом Саттера и пристанью на реке город. Онн решили назвать его Сакраменто-Сити. Джон Саттер уже основал город в 184G году, который он гордо наименовал Саттервиллом. Он лежал в трех милях вниз по реке, в месте, безопасном для ее ежегодных разливов. В городе было несколько зданий, однако, поскольку он лежал в стороне от главного пути к золотым приискам, торговли в нем Не велось. Сакраменто-Сити оправдал возложенные па него надежды, как только Аугуст предложил для продажи земельные участки. Он получил достаточно денег, чтобы расплатиться с Дугласом, Суиьолом, французами и уплатить консулу Стюарду 10 000 долларов наличными и па 21000 земельными надс- лами п Сакраменто. Стюард тут же исчез вместе с деньгами, в результате чего русские так ни гроша и не получили за форт Росс. В течение всего нескольких месяцев возник Сакраменто-Сити - городок, состоящий из палаток и хижин. Форт Саттера сразу же оказался покинутым и хиреющим в стороне от дорог. Аугуст продал его за 40000 долларов. Все эти деньги позволяли многократно уплатить долги Саттера, но дело в том, что самого Саттера не было на месте, а его чересчур добросовестный сын оплачивал любые предъявленные ему претензии, как справедливые, так и явно сфабрикованные. Затем и Сэм Брэннен вступил в сговор с намерением прибрать к рукам лучшие из оставшихся участков земли в Сакраменто-Ситн и настолько блестяще преуспел в этом, что Аугуст свалился с приступом лихорадки… правда, успев организовать приезд из Швейцарии своей матерн, двух сестер и брата. Больной Аугуст вернул отцу права на поместье. Однако то, что еще так недавно представляло собой обширнейшие владения, теперь оказалось ушедшим безвозвратно. Не осталось ничего, кроме фермы Хок, первой земли, обработанной Саттером вне пределов форта. Здесь Саттер и разместился. На ферму Хок прибыла н семья, от которой он сбежал четырнадцать лет назад. На ферме Саттер жил без денег, членам его семьи приходилось выполнять все работы по дому и па полях, но он псе еще был патриархом Калифорнии, его все еще посещали целые орды людей, которых он пытался принимать н угощать с прежним величием. Открытие золота разрушило его империю.
К концу 1848 года в Сьерра-Неваде насчитывалось от восьми до десяти тысяч золотоискателей, ими было добыто на 10 миллионов долларов золота, из которых 2 миллиона ушло на восток; 2 миллиона истрачено золотоискателями на продовольствие, одежду, утварь, скот, медикаменты и спиртное, еще один миллион был израсходован на постройку более чем ста золотоискательских поселений, некоторые из них стали постоянными, а большинство исчезло, как только иссякли запасы золота. Из оставшихся пяти миллионов примерно половина была привезена удачливымистарателями в их родные города - Соному, Сан-Хосе, Сап- Францнско, Санта-Крус, Монтсрей, - с тем чтобы вложить рх в ранчо, в административные и жилые постройки, в п.пк^рнкпио или строитсльстЕО магазинов, лавок, гостиниц и домов. Некоторая часть оставшихся денег была припрятана прижимистыми людьми вроде доктора Джона Марша. Однако почти все они были истрачены на всякие роскошества истосковавшимися по хорошей жизни золотоискателями, возвращающимися после целых месяцев, проведенных в изоляции в горах, или попали в бездонные карманы первых профессиональных игроков. Десять миллионов долларов, полученные за золото, представляли собой две трети той цены, которая была уплачена Соединенными Штатами Мексике за Дальний Запад, Техас и части Пыо-Мексико, Аризоны и Вайоминга, за область более чем в полмиллиона квадратных миль, составляющую от пятнадцати до двадцати процентов всей территории Соединенных Штатов.
Глава IV
Люди, преданные своему делу Трудно представить себе более резкий контраст, чем тот, который существовал между жизнью золотоискателей Сорок Восьмого и поселения па берегу Великого Соленого озера, основанного в 1848 году. В пустыне жило около тысячи восьмисот мормонов. Зима выдалась сравнительно мягкая, и к февралю посеянные ими рожь и пшеница представляли собой, по словам Парли Пратта в его «Автобиографии», «великолепную зелень, резко выделяющуюся на фоне серых, покрытых полынью окрестностей». К марту было обработано от трех до четырех тысяч акров земли.Вранам Япг считал, что для полного счастья людей их нужно постоянно занимать работой: символом мормонского общества являлся пчелиный улей («дезерет»), В течение зимы мужчины совместно трудились на строительстве дорог, ирригационных канав, мостов, 'строили каменную ограду протяженностью двенадцать миль вокруг общих нолей. Мормоны построили более четырехсот домов - для жилья и для размещения коммерческих предприятий, несколько складов, три лесопильни, две мельницы, молотилку, приводимую в движение водой Сити Крик. Изготовля лась грубая мебель, из местной глины выжигались горшки, шились сапоги, брюки, шорники чинили упряжь. Церковный совет снаряжал экспедиции на Эмигрантский тракт для поисков брошенных металлических вещей, которые мормонские умельцы перековывали па лемеха. Однако господь еще не закончил испытания своих детей. Апостол Рич, возносящий молитвы из двери своего открытого фургона, убеждал мормонов не расставаться со своими фургонами н их упряжками, ибо им, возможно, вскоре придется снова отправиться на поиски земли обетованной. В конце марта пошли дожди. Дома, обмазанные соленой глиной пустыни и построенные нз необожженных кирпичей, начали расползаться. Крыши пропускали воду. Из потрескавшихся досок и бревен полезли клопы. Мышей было столько, что, прорывая ходы иод постройками, они тем самым ослабляли их: дома содрогались от любого сотрясения, и ни одна из семей не решалась лечь спать, но переловив пару дюжин мышей. По ночам в городе охотились волчьи стаи; несколько волков сдохли от яда приманок, оставленных прямо на пороге домов. Дожди оказались настолько же полезными для полей, насколько разрушительными были они для строений. К маю посевы были уже густыми и зелеными. Но тут ударили неожиданные морозы: все посевы, особенно зерновых, оказались погубленными. Айзек Хейт, обследуя свой огород, обнаружил, что полностью погибли всходы бобов, огурцов, дынь, тыквы и кабачков. ???? 177 Затем пришли сверчки - крупные, черные, прожорливые. Мормоны заметили их, когда впервые попали в эту долину в прошлом году, но они не знали, что те могут продвигаться сомкнутой колонной, поедая все на своем пути. Сверчки уже сожрали значительную часть того, что было пощажено морозом, как вдруг, по словам Придди Мика: «Послышался крик незнакомых птиц, пролетающих над головой. Я поглядел вверх и увидел семь чаек. Через несколько минут пролетела нопая, более многочисленная стая. Они прибывали но все больших количествах, небе потемнело от них. Затем чайки опустились в долину, где вся земля покрылась ими, и принялись пожирать сверчков. Незадолго до захода солнца они улетели… Утром они снова вернулись, и так продолжалось до тех пор, пока они не пожрали всех сверчков…» 12 Зап. № 146.1
Если бы пс чайки, сверчки обратили бы поля в пустыню. Мормоны считали происшедшее одним из величайших чудес; с тех пор морские чайки постоянно охраняются на Соленом озере. В августе собранный урожай оказался настолько обильным, что это позволило направить вспомогательные партии навстречу прибывающим пилигримам. К концу сентября в соляной пустыне паходилось пять тысяч мормонов. Брайам Янг и Церковпый совет расширили границы города с таким расчетом, чтобы вновь прибывающие могли получать земельные участки, одинаковые с наделами первых поселенцев. Был разобран ранее построенный общий форт. 28 сентября члены мормонского батальона, которые занимались добычей золота иа Острове мормонов, прибыли к Соленому озеру. Они пробыли вдалн от своих семей в общей сложности двадцать шесть месяцев. Вполне естественный приступ золотой лихорадки несколько участил пульс Великого Соленого озера, однако быстро был успокоен Брайамом Янгом, который знал разлагающее влияние быстрого и легкого обогащения не только на отдельных людей, но н на сплоченное религиозное общество. Он запретил мормонам заниматься добычен золота: «Если бы мы отправились в Сан-Франциско, чтобы откапывать золотых тельцов, или пашли бы их здесь в долйне, это погубило бы нас». Даже если бы мормоны нашли золото у себя в Юте, вполне возможно, что они не стали бы его добывать. Выступая на собрании перед своей конгрегацией 20 ноября, Брайам Янг выдвинул иные цели: каждый мормон, почувствовав в себе «призвание» стать проповедником в чужих краях или участником колонизации пустынных земель в отдаленных частях страны между Скалистыми горами и Сьерра-Невадой, должен распродать свое имущество и немедленно отправляться в путь. Янг наметил границы страны, которая, по его мысли, должна быть собственностью мормонов и заселена ими - от Орегона до мексиканской границы на юге, от Скалистых гор па западе до Сьерра-Невады с полосой южпой Калифорнии, что дало бы мормонам возможность построить морской порт. Мормонская территория (штат) должна была называться Дезерет и состоять из нынешних Юты, Невады, Аризоны, половины Колорадо и частей
Вайоминга, Орегона, Лйдахо, Пыо-Мексико и Калифорнии. Эту обширную империю Вранам Янг намеревался засе- лить трудолюбивыми и преданными мормонами, которые превратили бы пустыни в цветущие земли, построили бы г?р«да, как это они сделали в Солт-Лейкс. Здесь они могли бы жить плодами трудов своих, наслаждаясь миром н поклоняясь господу в соответствии с канонами своей веры.
Глава V
Верните Колорадо индейцам В то время как Калифорнию трясла золотая лихорадка, а Брайам Янг был занят созданием Дезсрста, поразительно красивый район, территория современного Колорадо, только что перешел во владение Соединенных Штатов по заключенному с Мексикой договору. Плотность населения его была чрезвычайно низкой, пожалуй, самой низкой за все пятнадцать лет, прошедшие с тех пор, как братья Бент построили здесь в 1833 году форт. Торговля мехом окончательно пришла в упадок. Форт этот, сыгравший роль своеобразного штаба для торговцев па тракте Санта-Фе и армии Соединенных Штатов, теперь следовало либо продать, либо просто покинуть. Никто не жил теперь здесь, за исключением Уильяма Вента с женой-индианкой и детьми и его партнера Серапа Сент-Врейна, а также случайно забредающих сюда старых трапперов вроде Фпцпат- рика Сломанная Рука или Старого Билла Уильямса. Пуэбло, толчком к развитию которого послужило пребывание здесь больных солдат мормонского батальона с их семьями в 1840 году, превращалось теперь в развалины, где в глинобитных хижинах продолжало ютиться с полдюжины старых трапперов с их индейскими женами и детьми. ???? 12* Маленькие форты на Норт-Платт были уже к тому времени покинуты. Двое или трое трапперов содержали хи- жнну в Хардскраббл, в нескольких милях к западу от Пуэбло, где они весной сеяли хлеб; четыре или пять семей читались заработать себе на пропитание, работая на фермах в Сан-Луис-Вэлли, к юго-западу от Пуэбло. В 1847 го- Ду, когда у некоего Хатчера индейцы украли мулов и179
лошадей, он забил весь спой скот, за исключением трех голов. Хатчер запряг единственную оставшуюся у него упряжку волов в двухколесную тележку и двинулся в путь… Он был последним белым, который пытался обосноваться за многие годы на реке Пургатори. Похоже было на то, что Колорадо будет возвращено индейцам. Индейцы именно этого и добивались. Полковник Джилпин вместе с его драгунами был послан из Сап-Луиса для рассеяния племен, враждебных белым поселенцам. Это окончательно убедило индейцев, что ни одному белому нельзя разрешить оставаться в Колорадо. Осталось только три человека, которые поддерживали едва теплящуюся надежду на то, что Колорадо вообще когда-нибудь станет частью Соединенных Штатов. Упрямый Уильям Бейт, уже успевший похоронить двух своих братьев у наружных степ форта, был преисполнен мрачной решимости не покидать созданного им поселения. Вместе со Старым Биллом Унльямсом он обнаружил следы золота, но не придал этому значения. Хорошо образованный ирландец Томас Фицпатрик Сломанная Рука, получивший свое прозвище из-за недостающих трех пальцев, взял на себя обязанности агента Соединенных Штатов среди индейцев, пытаясь основать постоянное агентство в Колорадо на Черри-Крик пли у Сиг-Тимберс - месте индейских зимовок, где река Арканзас пересекает границу Колорадо. Фицпатрнк надеялся, что, ведя переговоры с воинственными племенами арапахо, сиуков и юта, отводя им участки пригодной для обработки земли, а также снабжая семенами, орудиями, а на первых порах - и продовольствием, ему удастся превратить племена воинственных кочевников из охотничьих племен в мирные и оседлые фермерские семьи. Фицпатрнк Сломанная Рука пользовался известностью и уважением среди племен; у пего одного имелись шансы прекратить в Колорадо войны и открыть этот район для поселенцев. 1С ноября 1848 года Джон Фремонт прибыл в форт Вент во главе новой экспедиции, снаряженной иод покровительством его тестя, Финансировали экспедицию представители южных деловых кругов, которым необходим был кратчайший проход через южные Скалистые горы для прокладки первой железной дороги в Калифорнию.
Г л а в а VI
Люди оказались недостойными гор Четвертая экспедиция Джона Фремонта па Дальний Запад была великолепно организована. В составе этой экспедиции, везущей с собой на 10 000 долларов различного вида оборудования и научных инструментов, были Чарлз Пройсс, топограф, который не расставался с Фремонтом со времен его первой экспедиции; Лнтуан Морнн и Винсент Табю, французские путешественники, участвовавшие с ним во второй экспедиции; Чарлз Тэплин, житель погра- пнчья; Томас И. Брэкепрндж, опытный житель Запада; Джон Скотт, охотник; человек но имени Лонг и три калифорнийских индейца. Было в ней и двенадцать новичков, большинство из них, подобно Фредерику Кройтцфилду, ботанику, - ученые, чье мужество не уступало их преданности делу. Фремонт добрался до форта Бент в разгар самой ранней и самой суровой зимы из всех известных в Колорадо, по крайней мере так ему говорили индейцы. Его друг Кит Карсои, бросивший ферму и жену ради того, чтобы участвовать в третьей экспедиции, сейчас не смог решиться на это. Фнциатрнк Сломанная Рука утверждал, что, будучи официально назначенным федеральным агентом у индейцев, не может покинуть своего поста. Поэтому в качестве проводника Фремонту пришлось довольствоваться услугами Старого Вилла Уильямса, зимовавшего в Пуэбло, залечивая пробитую пулей руку - рану, которую он получил, воюя против индейцев племени юта. В свои шестьдесят лет сварливый Старый Билл был великолепным знатоком южной части Скалистых гор. На вопрос Фремонта, сможет ли он провести партию через горы, Старый Билл ответил: «Конечно, но будут и неприятности». В Хардскраббле партия Фремонта несколько дней отогревалась в глинобитных хижинах. Запасов провизии и фуража оставалось на двадцать пять дней пути - через три горных кряжа (Мокрые горы, Сангре-де-Кристо и Сан- Хуан) до спуска в долину, названную позже Ганнисон- Вэлли, где, ио их расчетам, имелись пастбища. Старый Билл Уильяме ехал во главе, «согнувшись над 1'?Укой седла, поперек которого лежало его длинное тяжелое ружье. Из-нод полей мягкой фетровой шляпы, заса- лонной до черноты н блеска, поблескииали его прошщц тельные серые глаза». Мокрые горы не зря получили свое название: ущелья густо заросли осинами и были забиты снегом. Уже в первые дни пути доктор Бен Керн записал в дневнике: «Осе очень устали… после того как пришлось пробиваться сквозь завалы мокрого снега». Старый Билл решил, что горы Сангрс-дс-Кристо они пересекут по перевалу Робиду. На пути их лежали огромные завалы снега. Их встречали ревущие ветры. Невозможно было поддерживать лагерные костры. «Ветры метались по долине и не могли оттуда вырваться, они дули с бешеной силой, казалось, сразу во всех направлениях». Ко 2 декабря, когда стали подниматься на перевал, люди и мулы дрожали от холода. Выоки с запасами зерна онустоша лись с поразительной быстротой. Фремонт, который всегда настаивал на полных дневных переходах, вынужден был отдать приказ остановиться на привал раньше обычного. 3 декабря, выражаясь языком колорадских трапперов, «они взяли горы» и, спускаясь по отрогам Сангре-де-Кри- сто, вышли на дно Сан-Луис-Вэлли; четыре дня ушло на то, чтобы пересечь покрытые снегом дюны и добраться до реки Рио-Гранде, откуда они двинулись к перевалу Вегон-Вил. Здесь во время одного из вечерних совещаний у подножия хребта Сан-Хуан в преддверии штурма главного хребта Скалистых гор возник серьезный спор между Биллом Уильямсом и Фремонтом. Было принято решение, которое оказалось смертным приговором не только для одиннадцати человек из четвертой экспедиции, но и для самого Старого Билла. Фремопт был недоволен выбором Старого Билла. Инстинкт подсказывал ему, что опи движутся в неверном направлении, что им следовало бы сверпуть отсюда к перевалу Кочетопа, путь к которому был легче. Старый Билл клялся, что «знает каждый дюйм этой страны лучше, чем полковник свой собственный сад». Алексис Гоуди, заместитель Фремонта, писал: «Уильяме приложил столько стараний, чтобы отстоять свою точку зрения, что я полностью с ним согласился и сказал полковнику, что склонен верить Упльямсу и следовать за ним». Фремонту пришлось согласиться; однако он не знал, что маршрут по перевалу Вегон-Внл был открыт самим Унльямсом, чем тот весьма гордился. С самого начала, как только они двинулись в путь по усеянному камнями и забитому снегом каньону Адлер, начались трудности: сдох первый из мулов, остальные проваливались в снег, их приводилось перевьючивать, а у люден уже были обморожены пальцы рук. Семь нли восемь миль подъема удалось преодолеть от восхода до заката солнца, а после того как разразилась жестокая метель, они делали в час не более чем по двести ярдов. На третий день, чтобы отыскать место для ночлега, экспедиции пришлось передвигаться и после наступления темноты. Фремонт и сопровождавшие его горцы начали подозревать, что Старый Билл заблудился. Уже двадцать дней прошло с момепта их выхода из Хардскраббла, фураж был на исходе, снег лежал слоем в двенадцать - четырнадцать футов, и людям приходилось протаптывать в нем дорогу для мулов. Сильный холод (20 градусов ниже нуля) и большая высота затрудняли дыхание. Начались кровотечепия нз носа. Мулы подвергались еще большим мучениям. Они целыми ночами ревели на жгучем холоде. Людям приходилось трудиться целыми днями и большую часть ночей, чтобы поддержать в мулах жизнь. Однако мулы медленно опускали головы все ниже и ниже, пока окончательно не падали. Время шло в непрекращающемся кошмаре. Люди не могли спать из-за грома снежных лавин, ревущих порывов ветра и больше всего из-за жалобного рева мулов. И все же ни один из них не дрогнул, сохраняя верность и преданность Фремопту. 15 декабря они попытались форсировать хребет в самый разгар урагана, по были отброшены назад. Старый Билл, не сходя с мула, потерял сознание. 17 декабря партия расположилась на привал у Континентального перевала на высоте 12 287 футов - на высшей точке пути. Им оставалось пересечь еще одну долину, затем подняться вверх по узкому перевалу Карнеро и спуститься по западному склону Скалистых гор в область более мягкого климата с травой для животных. На следующее утро Фремопт приказал рано выступать в путь. Но не успели они тронуться с места, как на пих обрушился жесточайший ураган. Встречный ветер был настолько сильным, что люди не смогли продвинуться ни на ярд. Пришлось вернуться в нх прежний лагерь на берегу Уоннамейкер-Крик.Здесь в течение четырех дней они пережидали ревущую бурю в глубоких снежных ямах. Издыхающие мулы были забиты. 20 декабря Джон Фремонт приказал повернуть назад. Если бы партии удалось покинуть берег ручья до начала этой страшной бури, она успела бы проделать путь к перевалу Карнеро, а там за какой-нибудь день или два добраться до намеченной цели. Подобно партии Дон- нера, четвертая экспедиция опоздала всего лишь на несколько часов. Повернув назад, Джон Фремонт попытался все-таки спасти оборудование и научные инструменты для нос годующего штурма. 22 декабря он выслал спасательную партию, которая должна была проделать путь от гор в Таос и вернуться с припасами и свежими лошадьми. Добровольцами вызвались идти трое наиболее опытных людей - Старый Билл, Кройтцфнлд и Генри Книг, который был с Фрсмонтом в прошлых экспедициях. Фремонт попросил Брэкенрнджа остаться с основной группой. Он дал спасательной партии шестнадцать дней на путь до Таоса и обратно, остальной части экспедиции предстояло спускаться с гор, неся на себе тюки с инструментами. Сплоченная прежде партия постепенно начала распадаться. Казалось, Джон Фремонт полностью утратил своп талант руководителя: он разрешил людям спускаться с гор мелкими группами, которые растянулись по тропе на семь- девять миль. Каждому надо было перенести по триста тюков с оборудованием, а тюк весил от шестидесяти до семидесяти фунтов. Фремонт иногда терял связь даже с основной группой, которая двигалась позади него, а самые слабые и старые замыкали строй. Жестокий холод и плохое питание (они питались*почти исключительно мороженым мясом мулов) усугубляли положение. Первой жертвой стал 9 января •Рафаэль Пру. Он пытался тащить свой тюк, когда его уже не держали обмороженные поги. Винсенталер укутал его одеялом, одиако, когда он вернулся, донеся свой тюк до реки, Пру был ужо мертв. Микайя Мак-Джеги писал: «Мы снова и снова проходили мимо его безжизпенного тела, не решаясь остановиться в этом жутком холоде для выполнения бесполезного теперь обряда погребения». Еще через два дня, когда шестнадцать дней, отпущенных спасательной партии для возвращения, истекли, Фремонт сам пустился в путь, чтобы отыскать своих людей, добраться до Таоса и привезти оттуда продовольствие. Он взял с собой Гоуди, Пройсса, Теодора - племянника Гоу- дн, и Саундерса Джэксона, бывшего раба из дома Бентона в Вашингтоне. Он взял с собой немного продовольствия, сахара и сальных свечей, оставив такой же запас для остающихся двадцати пяти человек. Через два дня он наткнулся на спасательную партию. Людн уже успели съесть обувь, поясные ремни и чехлы от ножей и были не в состоянии передвигаться на обмороженных ногах. Изнуренный и почти ничею не видящий из-за снежной слепоты опытный путешественник Генри Кинг сказал: «Я пе могу идти дальше, простите меня, но я совсем измотался. Я посижу здесь пемного и передохну. Я вас догоню». Когда позднее вернулись за ним, он был мертв. Б основной партии очень скоро воцарилось полное отчаяние. Руководителем Фремонт оставил Винсенталера, который не был способеп сплотить людей для решительного боя с их общим врагом - смертью. Они двинулись вниз по реке Рио-Гранде. Запасы продовольствия были съедены, дичи пе было. Зубы выпадали, лица почернели. Любая царапина превращалась в гнойный нарыв. Даже па ровных участках пути они проделыпали не более двух миль в день. Генри Дж. Уайз с трудом протащился несколько футов и свалился. Двое индейских юношей отрыли ему мелкую могилу. Третий из индейских юношей, Мануэль, после того как у него отвалились отмороженные подошвы пог, упал на берегу реки и умер. Умер сошедший с ума Роуэр, затем гардемарин Элайя Т. Эндрюс, молодой и неопытный путешественник из Сен-Луиса. Двадцать шестого умер один из ветеранов - Бенджамин Бидл, после него - Карвер из Иллинойса, юный Джордж Наббард с границы Айовы и Джон Скотт. Все они умерли от голода и изнурения. Оборудование оказалось разбросанным по всему пути через горы и равнины. К двадцать восьмому января одиннадцать человек - более трети экспедиции - были мертвы. На следующий день Алексис Гоуди прибыл с вьючными животными и индейскими проводниками, нанятыми Фремонтом в Таосе. Оставшиеся в живых были спасены. Джон Фремонт, заняв деньги у своих старых друзей в Таосе, предложил оставшимся членам прежней экспедиции попытаться еще раз добраться до Калифорнии, где он намеревался встретиться со своей женой Джссси и дочерью Лили. Пока ои пытался взять штурмом ледяные вершины Скалистых гор, они тоже двигались в Калифорнию - первые белые женщины, прошедшие сквозь тропические джунгли Панамы. Два года назад, когда Фремонт в ожидании суда следовал за генералом Кпрнн, он вручил Томасу Ларкниу три тысячи долларов для покупки ранчо Санта-Крус - прекрасного участка земли с плодоносящими виноградинками и фруктовыми деревьями. Именно сюда, на ранчо Саита-Крус, каждый своим путем н направлялись Фремонты, чтобы создать домапший очаг в Калифорнии. Несколько из оставшихся в живых членов экспедиции решили сопровождать Фремонта, когда он выступил в путь по Старому Испанскому тракту. Старый Билл Уильяме и доктор Керн пошли обратно в горы, чтобы спасти хотя бы часть брошенных там богатств. Больше их никто не видел. Люди оказались недостойными гор. Это были первые из многочисленных человеческих жертв, принесенных па алтарь строительства трансконтинентальной железной дороги в Калифорнию.
Глава VII
«Как нам добраться до золота?» Золотоискатель Сорок Девятого года был, как правило, уроженцем другого штата, который бросил свой дом, работу и девушку ради самых невероятных трудностей и приключений. Немногие знали и очень немногие стремились узнать хоть что-нибудь о Калифорпии, ибо все опи собирались вернуться домой, как только им удастся урвать свой кусок. Сорок тысяч старателей нахлынуло в Калифорнию к концу 1849 года. Только горстка из них вернулась домой; большинство осело в Калифорнии… с золотом или без него. Примерно две пятых прибыло морем, проделав путь в семнадцать тысяч миль вокруг мыса Горн или, опять-таки морем, до Чагреса, а затем через Панаму, пешком или верхом па муле, до берега Тихого океана. Попав после семимесячного путешествия в Саь-Фрапциско в полном здравии, хотя и усталые, они щеголяли своим нарядом, так поражавшим прохожих еще на улицах Ныо-Норка: красные фланелевые рубахи, широкополые фетровые шляпы красновато-коричневого цвета, широкие блузы, достигающие колеи, высокие сапоги, револьверы и ножи на поясах - «калифорнийские ветераны» уже задолго до того, как их суда входили в гавань. Первым вопросом, который они задавали на пути к берегу по мелким водам бухточки, был: «Как нам добраться до золота?» Сан-Франциско производил на них обескураживающее впечатление. Строитель единственного кирпичного дома не нашел себе последователей, палатки и наспех сколоченные хижины все еще пользовались предпочтением перед солидными постройками, улицы были покрыты слоем ныл и в жару и грязи - во время дождей. Город готрнсал политический скандал: алькальд Ливепуорт был смещен с должности за неправильное использование фондов, шериф осуществлял свои полномочия только на бумаге. Цены на товары и продукты были настолько высокими, что можно было израсходовать весь свой капитал прежде, чем выяснить, где именно находится прииск. Один из пассажиров писал домой: «Только что прибыл. Будь проклят Сан-Франциско!» В 1848 году в залив Сан-Франциско вошло семьсот судов. Большинство из них было покинуто командами, которые завербовывались на суда лишь ради того, чтобы обеспечить себя бесплатным проездом к золотым россыпям. Залив стал походить на засохший на корню лес из-за мачт судов, которые гнили и постепенно засасывались болотистыми берегами. Большая часть старателей образца Сорок Девятого года прибыла по суше, следуя по пути, проложенному партиями Бидуэлла - Бартльсона, Чнлса - Уокера, Келен, Брайанта, Стивенса, Григсби - Айда, Клаймена, - двадцать пять тысяч человек и более сотнн тысяч животных проделали эту дорогу. И они тоже были обескуражены. Когда партии добирались до Юты, запасы продовольствия у них, как правило, были на исходе, животные исхудалые и усталые, а самая трудная часть пути все еще оставалась впереди. Часть старателей Сорок Девятого двигалась по Мормопскому тракту к Солт-Лейку, однако многие караваны обходили город мормонов, лнщал себя тем самым весьма существенной помогай. Обе стороны находились во власти страха и подозрении: мормоны потому, что эмигрантские партии двигались из Миссури, где над мормонами было учинено насилие, старатели из-за того, что, хотя никто из них и в глаза не видел пи одного мормона, были убеждены, что последние являют собой олицетворение зла. Как только мормоны убедились, что «чужаки» (так мормоны называли всех, кто не исповедовал их религию) проявляют дружелюбие, они начали оказывать им гостеприимство в Солт-Леикс и вести с ними торговлю к немалой выгоде обеих сторон. Мормоны покупали у эмигрантов излишки съестных припасов и лишние инструменты, металлы и механическое оборудование; эмигранты получали взамен свежий скот и возможность отремонтировать свои фургоны. Мормоны запрашивали высокие цены за молоко, масло и'свежие овощи, однако они ухаживали за больными эмигрантами, оказывали приют в своих домах изнуренным дорогой семьям, а кое-кого оставляли даже на зимовку. Брайам Лиг подал пример остальным, гостеприимно нреДюжив собственный дом «чужакам». После того как фургоны пускались в путь через пустыню, начинались настоящие мучения - не только от жажды, но н от азиатской холеры. Караваны фургонов прибывали в долину Гумбольдта, которую Фремонт н Брайант описывали как «долину, покрытую прекрасной голубой травой и клевером», и обнаруживалось, что скот все увеличивающихся орд уже \В!ел уничтожить траву и клевер. Мало было и источников воды. Ужасы пути через пустыню, которые достигнут своего апогея через несколько месяцев в истории с партиями Дженхокера и Мэнлн в выжженных песках Долины Смерти. были очерчены летом 1849 года цепочкой мелко выкопанных могил, белеющими на солнце скелетами двенадцати тысяч павших животных, брошенной домашней утварью, кроватями, секретерами, печами и сундуками и, наконец, самими фургонами, брезентовые навесы которых с перекладинами белели на солнце, подобно костям павших животных. «Долина Гумбольдта была покрыта всем тем, что господу богу не пригодилось при сотворении мира, а дьявол не взял для ада».Вода продавалась по 15 долларов стакан, но только уксус немного освежал пересохший рот. Тысяча фургонов оказалась брошенной на дороге в сорок две мили. Более слабые сходили с ума; одна из женщин, например, подожгла лагерь, когда ее муж отказался повернуть обратно, Случались и героические переходы, когда люди двигались вперед через палящую пустыню, чтобы найти воду и принести ее умирающим от жажды людям и животным. Каждая 'группа, за исключением самых первых или самых молодых по составу, оставляла кого-нибудь из родственников или друзей в этой пустыне навечно. Когда люди, окончательно измученные и без продовольственных запасов, добирались наконец до воды и восточных склонов гор, перед ними вставали мрачные громады Сьерра-Невады, которые предстояло штурмовать, втаскивая фургоны по крутым склонам. Прежде чем добраться до золотых россыпей, им приходилось двигаться по течению рек и по ущельям, опускаясь на семь тысяч футов к месту расположения золотоискательских лагерей. Неудивительно, что после»тих мучений только немногие из них проявили желание вернуться домой. Слезами и кровью своей оросили они горы п долины. Калифорния должна была принадлежать им навсегда Х1лберт в «Людях Сорок Девятого» писал: «Отыскать золота-вопрос удачи, никто не станет винить вас, если вам не повезло. Однако проделать путешествие, преодолеть препятствия, проложит! свой путь к цели - это уже дело не удачи, а выдержки. Сделай это, доберись туда, и ты получаешь отпущение грехов, ибо ты овладел искусством той игры, где все зависит лишь от тебя». Люди Сорок Девятого большую часть года провели в пути. Только в августе или в сентябре они начали прибывать на места разработок. К концу года в Калифорнии уже находилось сто тысяч человек, из которых восемьдесят тысяч пригнала сюда золотая лихорадка. Большинство людей Сорок Девятого, прибывавших на судах, были горожанами. Бэнкрофт пишет: «Это были издатели, проповедники, торговцы, юристы без практики, голодающие студенты, шарлатаны, бездельники, проститутки, игроки…» Затем, спохватившись, Бэнкрофт добавляет: «Среди которых было много предприимчивых честных мужчин и верных женщин».
В отличие от этой категории среди тех, кто двигался двухтыснчсмнльиым нутом ил Миссури через рапнипу, горы и пустыни, преобладали фермеры и механики, липко мыс с суровой жизнью на границе, которым было привычно обращение с фургоном и скотом. Из восьмидесяти тысяч только сорок тысяч отправились}!а прииски, остальные остались в городах или обзавелись формами; ровно половина охваченных лихорадкой пришельцев проделала столь длинное путешествие не затем, чтобы заниматься старательством, а чтобы начать новую жизнь в попой стране, которая благодаря тем мнллн омам долларов, которые вольются в ее экономику, но их мнению, должна разбогатеть н предоставить широчайшие возможности для всех. Лагерь старателей Сорок Восьмого к концу года пре образовался в городок Сорок Девятого, в пять рал пронос ходивший своего предшественника по размерам. Палатки и шалаши, разбросанные но склону холма, уступили ме сто хижинам, складам, салунам и гостиницам, расположен ным по обе стороны улицы длиною в один квартал При митпвнын таз уступил место более крупному н несколько более производительному «лотку». Старателю Сорок? Девп того золото не являлось валяющимся по берегам рек, ему приходилось трудиться киркой и заступом, пробиваться к блестящей породе, искать золото. В 1849 году золота было намыто более чем на 20 000 000 долларов, однако теперь на это ушел труд в пять раз большего числа людей, а до быча снизилась настолько, что одна унция в день на че лопека считалась средней нормой добычи Поражающие воображение находки стали более редки ми Люди Сорок Восьмого верили, что золото ненечерпае мо; люди Сорок Девятого говорили, что золото здесь имеется, но для добычи его нужен упорный труд н ве зение. Прииски все еще представляли собой весьма красоч- пую картину. Жизнерадостные молодые люди в красных рубашках, с заправленными в сапоги брюками, с бородами и длинными, ниспадающими прядями волос, составляли чисто мужское общество, жадное до работы, выпивки, ругани, азартных игр. Более слабые становились Жертвами различных напастей и болезней - от ностальгии, цинги и днзептерии до ревматизма, тнфа, туберкулеза н черной оспы. Их хоронили завернутыми в одеяла. Доктора, устав от непривычного физического труда старателей, снова вернулись к обычной практике, получая в виде гонорара по унции песка за консультацию и по доллару за каждую каплю лекарств. Женщины все еще были редкостью - на танцах мужчины тянули жребий, кому играть роль «дамы». По воскресеньям мужчины отправлялись к реке, чтобы простирнуть и прополоскать белье. Был н другой способ: «Купите две рубахи. Одну носите, пока не запачкаете. Повесьте ее на ветку, а остальное предоставьте ветру, дождю и солнцу. Наденьте вторую рубашку. Носите се, пока не запачкаете. Затем смените па чистую». Первые прачки, которые прибыли па прииски, стиркой белья зарабатывали больше денег, чем их мужья промывкой золота. Хотя многие из старателей привезли с ?собой скрипки н гитары, хотя оии играли в карты для времяпрепровождения, хотя все праздники отмечались весьма шумно, хотя шутливые розыгрыши друг друга были повсеместным явленном, старатели Сорок Девятого были одинокими мужчинами, изолированными от цнвнлизоваппого мира. Кое- кто имел книги Диккенса, Гомера или Библию, но книги все же были редкостью, а газеты продавались но доллару штука. Оторванность от дома, семьи, друзей и от привычного уклада стимулировала быстрый рост салунов н игорных залов, которые аккумулировали но меньшей мерс столько же золота старателей, сколько уходило в лавки и магазины. Па смену торговле прямо из выоков или с фургонов пришли деревянные постройки с настоящими прилавками, где за соответствующую цепу можно было получить что угодно: «консервированные устрицы, кукуруза и горох по С доллароп за банку, лук и картофель… китайские сладости и сушеные фрукты, шампанское, пиво и брэнди, сардины и салат из лангустов».
Жизнь в золотопромышленных районах 1849 года быстро.перестала походить на райскую идиллию 1848 года. Преступность, которой почти не знали в 1848 году, возрастала. Век благородства продержался один-единственный сезоп. Хотя англичане, ирландцы, австралийцы и немцы быстро ассимилировались, хотя к калифорнинцам относились с симпатией, а уроженцев Чили и Сопоры уважали за их шахтерское искусство, все сильнее стал проявляться расовый антагонизм среди тысяч чуждых по духу людей, собранных воедино в условиях политического вакуума. Индейцы были согпаиы с гор, китайцев и мексиканцев прогоняли с наиболее богатых заявок, французам прихо- дилось держаться кланом. Когда ранние осенние дожди пролились с неба, а старатели потекли непрерывным потоком с холодных гор в город, Сан-Фрапциско по «живописности» пе уступал любому лагерю старателей. Разъезжеппая глина на улицах превращала их в непроходимые трясины, куда городские власти «сбрасывали возами валежник и обрубки стволов деревьев. Мулы часто тонули в жидкой грязи, споткнувшись на улице, а угроза быть выброшенным из седла из-за того, что нога лошади застрянет в этих завалах, была постоянной». Иногда трясина поглощала фургон вмес- сте с упряжкой, а хозяину только чудом удавалось спастись. На углу Клей-стрит и Кирни-стрит висела табличка с надписью: НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ УЛИЦА, КОТОРАЯ К ТОМУ ЖЕ И НЕПРОЛАЗНА Партия кухонных плит, обесцененных из-за того, что такое большое количество их было привезено одновременно, сброшенная в грязевую пучину, служила ве- -ликолепными ступенями… при условии, если нога не попадала на камфорку, а та неожиданно не проваливалась. В Сан-Франциско тоже не удержалась атмосфера всеобщего братства. Среди людей, привлеченных сюда жаждой золота, было немало таких, которые и у себя на родине, в обществе стабильном и с отлично действующими органами власти, представляли собой проблему. Эти элементы объединились в банду под названием «Гончие собаки» и одпалсды ночыо обрушились на беззащитную колонию чилийцев, разрушая их жалкие жилища, избивая всех подряд, а нескольких и убив. Город восстал в гневе и вышиб «Гончих собак» из города, возместив чилийцам их потери. Это событие послужило прологом к одному из самых диких десятилетий, которые пришлось пережить какому- либо из американских городов.
Глава VIII
Новые штаты присоединяются к США Прибывшие на Дальний Запад американцы родились в условиях самоуправления и впитали его принципы с молоком матери. Как устанавливается самоуправление, они;шали не хуже своей профессии или ремесла. Двадцать пять тысяч американцев, прибывших сухопутным путем в Калифорнию в 1849 году, в дороге устанавливали голосованием свои законы и двигались, подчиняясь руководству избранных из своей среды лидеров. Это происходило в таких масштабах, что миграцию называли «походной лабораторией политического опыта». Хотя миролюбивый полковник Мейзон издал очень мало декретов и имел в своем распоряжении еще меньше войск, для того чтобы осуществить их, сама мысль о жизни под командой военного губернатора была для этих сторонников демократии совершенно неприемлемой. Еще И декабря 1848 года в Сан-Хосе было проведено собрание, на котором была высказана мысль о необходимости созыва конституционного конвента с представителями всей Калифорнии. Это собрание положило начало другим - в Сан-Франциско, Сакраменто, Монтерее, С°но- ме. 15 апреля 1849 года участник войны 1812 года Черный Ястреб мексиканских войн, бригадный генерал Бен- нет Райли, уроженец штата Мэриленд, в возрасте шестидесяти одного года, по характеристике современников, «мрачный старик и отчаяннейший сквернослов», прибыл принять бразды правления у полковника Мейзона, хотя сам не имел ни малейшего опыта в управлении. Когда Райли узпал, что конгресс Соединенных Штатов не смог решить, будут ли новые захваченные у Мексики земли рабовладельческими или нет, и прервал свои заседания, не определив ни статуса Калифорнии, ни формы правления в ней, оп разослал циркуляр с требованием созыва в Монтерее конституционного конвента, делегаты на который должны быть избраны во всех районах к августу. Калифорния объявит себя штатом даже вопреки желанию конгресса! ???? 193 Признание нового штата федеральным правительством встретило те же самые трудности. Территория, которую мормоны называли Дезеретом - слово из «Книги мормо- 13 Зак. К1463 ?коп»; означающее «пчелиный улей», - имела чисто граж- данское правительство. По словам одного из Двенадцати апостолов, Франклина Рнчардса: «Теоретически церковь и государство представляют собой единое целое. Если бы не было пнаковерующих или ииого правительства [федерального], не было бы необходимости и в гражданском нраве». Под тем, что мормоны называли своим «царством», поначалу подразумевалось чисто духовное понятие. Теперь же они расширили свои границы как в географическом, так и в политическом смысле: на юге был построен форт Юта рядом с современным городом Прово на берегу озера Юта; на севере, на дороге к Огдену, - Баунтнфул I! Фармингтон. Брайам Янг объявил, что недостаточно просто заявить о своих претензиях па землю, мормоны обязаны освоить, обработать н заселить се. А когда нна- коверующне прибудут сюда, мормоны окажутся в преимущественном положении. Закон церкви был всеобщим законом для мормонов, а предначертания Янга, данные самим господом и проводимые в жизнь Церковным советом, как и любая заповедь Янга, были направлены на всеобщее благо мор.монов. Совет, ни один нз членов которого не получал жалованья (мормоны вообще редко выплачивали жалованье своим должностным лицам), издал законы, регулирующие цены, развод, осуждающие праздность, кражи, грубость и прелюбодеяние. Мормоны были высокоморальнымн и очень послушными, представляя собой, по-видимому, самую дисциплинированную социальную группировку в истории Соединенных Штатов, ибо неповиновение церкви означало утрату своего места в царстве небесном. Президент и Двенадцать апостолов пустили в обращение бумажные деньги, назначили клерка, историка, метеоролога, почтмейстера, судебного исполнителя и военного командира легиона Науву. В этом легионе все мормоны в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет проходили военное обучение. Совет не одобрял тяжб между мормонами, но все же у них имелись арбитражные суды. Церковная десятнна составляла десять процентов общих доходов данного лица; группа раскольников, отколовшихся в Пауву после убийства Джозефа Смита, потерпела поражение в числе прочих причин еще и потому, что онн определили церковную десятину в десять процентов чистого дохода.
Мормоны поняли, что они никогда не смогут войти в состав Соединенных Штатов, сохранив чисто церковную форму правления, и 4 марта 1849 года, в то время как Закари Тейлор проходил процесс инаугурации, Церковный совет приказал судебному исполнителю созвать общее собрание в Старом форте «с целыо избрания и назначения официальных должностных лиц для управления пародом в районе Великого Соленого озера и его окрестностях». Когда мормоны собрались в Старом форте, они сделали это не затем, чтобы избрать своих политических должностных лиц, а чтобы утвердить список,…шдидатов: Брайам Япг в качестве президента, Ричарде в качестве государственного секретаря, Кимболл - главного судьи и епископы или светские руководители девятнадцати административных магистратов для районов. Все политические должностные лица, за исключением президента Янга, долиты были выполнять свои обязанности, не получая жалованья. Таким образом, мормоны решили наделить свое церковное правление политическими прерогативами. Быстрота, с которой комитет подготовил конституцию, наводит на подозрения, что Брайам Япг привез в Дезерет экземпляры конституций штатов Нью-Йорк и Иллинойс, с которыми конституция мормонов имела большое сходство. Предполагалось создание двухпалатного законодательного органа, судебных органов вплоть до верховного суда; правом голоса пользовались все белые свободные мужчины, достигшие двадцати одного года. 30 апреля 1849 года примерно две тысячи подписей было собрано под петицией, в которой выражалась просьба о сформировании «территориального правительства самого либерального устройства, созданного на основе нашей великолепной федеральной конституции, и как можно скорее». 2 июля Первая дезеретская генеральная ассамблея начала свою работу. На пей Алмонд У. Бэббит был избран делегатом в конгресс от мормонов. И хотя число мормонов составляло всего лишь одну шестую часть численности па- селения, необходимой для приобретения прав штата, петиция, которую он повез с собой в Вашингтон, содержала просьбу о том, чтобы Дезерету был предоставлен статус не территории, а штата. ???? 13• Мормоны заняли по отношению к конгрессужесткую позицию, напоминая его членам об их упущениях: неспособности установить гражданскую власть в любой из ча-
195
стей Дальнего Запада, заменить ружье, револьвер или кинжал законами страны. И все же конгрессу нечего было беспокоиться о беззаконии в Дезерете: мормоны создали временное правительство, под руководством которого законы страны проводились в жизнь. Они также построили за собственный счет зал судебных заседаний, самый прекрасный на всем Западе. Однако потребуется еще полвека конфликтов, прежде чем Юта и мормоны смогут занять свое место в составе США. Калифорнийский конвент начал свою работу в Монте- рее 3 сентября 1849 года - через шесть месяцев после собрапия мормонов, - «в солидном двухэтажном здании из местного песчаника, которое преподобный мистер Колтон построил для школы и зала собраний на деньги, полученные от банков по продаже городских участков и игорных заведений». На него съехалось сорок восемь делегатов с земель, раскинувшихся от Сан-Диего на южной границе до самых северных лагерей старателей на реке Тринити у границы с Орегоном. Шестеро делегатов были уроженцами Калифорнии, являясь хранителями наилучших традиций "мексиканского периода: Мариано Вальехо от Сономы, Андрее Пнко от Сан-Хосе, Хосе Каррильо от Лос-Анджелеса, Хосе Кова- рубиас от Санта-Барбары, Мигель де Педрорена от Сан- Диего и Пабло де ла Гуэрра от Монтерея, чья очаровательная жена предоставила дом для собрания делегатов. Миссис Ларкин тоже гостеприимно распахнула двери своего дома, как и миссис Джесси Бептон Фремонт, которая предоставила в распоряжение делегатов свой дом, построенный в испанском стиле, с патио. Расставаясь друг с другом на границе Миссури. Джесси и Джон Фремонт условились встретиться в доме Паркера в Сан-Франциско. Тут ей сообщили, что он погиб в снегах Скалистых гор. Джесси болела и пребывала в подавленном состоянии духа, однако так и не поверила, что муж ее потерпел поражение. И он вернулся к ней более чем через год после их разлуки. К крайнему своему изумлению. Фремонты обнаружили, что Томас Ларкин не купил для них ранчо Сапта-Крус на оставленные ему для этого деньги. Вместо Санта-Крус он приобрел им дикую полосу земли где-то высоко в горах Сьерра-Невады, которая называлась ранчо Марипоза. Добраться туда было невозможно, так как земля эта лежала в сотне миль от океана п ближайших поселении и в нескольких сотнях миль от Сан-Франциско. Там не было пригодной для обработки земли, а зимы были слишком холодные даже для скотоводства. Кроме того, окрестности ранчо кишели племенами враждебных индейцев. Ларкип утверждал, что, будучи представителем Фремонта, имел полное право действовать в соответствии с собственным разумением, что он никогда не верил в то, будто Фремопт будет заниматься фермерским хозяйством, и что к тому же, по его сведениям, земля в Сапта-Крус не годится для обработки. Фремоиты еще более изумились, когда узнали, что Ларкип сам купил ранчо Санта-Крус - весьма редкий, необъяснимый и неприглядный поступок в жизни Томаса Ларкина. Оказавшись без фермы и без дома, Фремоиты иод палящим июльским солнцем отправились в Монтерей и сняли там красивый, в испанском стиле дом, который Джесси решила держать открытым для делегатов конституционного конвента. Фремонты считали, что Джону следует стать первым сенатором от Калифорнии. Это смыло бы бесчестье, которым запятнал его военный трибунал Из тридцати семи делегатов конвента - американцев, двадцать два были уроженцами свободных штатов, пятнадцать - рабовладельческих, четверо, включая и Джона Саттера, родились за пределами страны. Это был конвент молодых людей: девять делегатов было моложе тридцати лет, двадцать три - моложе сорока. Почти все старые поселенцы были представлены здесь: Томас О. Ларкип от Сан-Франциско, Джоэл Уокер - от Сономы; один из Гастингсов - Лэнсфорд Гастингс - от Сакраменто, а также владельцы ранчо из южной Калифорнии, такие, как Эйбел Стирнс и Хыого Рид, шотландец, владелец великолепного виноградника, женатый на индейской девушке; Роберт Семпл, депутат от Бенишиа, державший паромный перевоз через пролив Каркуинес, был избран председателем; Уильям Хартнелл - назначен переводчиком. Среди делегатов было четырнадцать юристов, двенадцать фермеров, семь коммерсантов и несколько печатников, инженеров, банкиров и докторов. Среди делегатов конвента весьма примечательной личностью был Уильям Гуин из Теннесси, недавно прибывший в Калифорнию с явным намерением стать одним из первых калифорнийских сенаторов. Один из репортеров писал, что у него «величественная внешность, величие души и телосложение Геркулеса». Было у него и кое ?что поважнее - копии конституций Нью-Йорка и Айовы. Он даже пошел на личпые затраты, чтобы иметь самую новую из вновь принятых конституций, а именно конституцию штата Айовы, и отпечатал ее за свой счет в Сан-Франциско, раздав каждому из делегатов по копии. Самой сложной проблемой конвента было решение вопроса о восточных границах Калифорнии. Согласно предложению Гуипа - Халлека, поддержанному многими делегатами, предполагалось, что в Калифорнию должны входить все земли, отошедшие от Мексики по договору Гуада- лупе Идальго, то есть весь Дальний Запад. Когда же были представлены подлинные карты этих земель, группа сторонников этого предложения решила скромно довольствоваться всей Невадой, почти половиной Юты, включая все мормонские поселения, а также той частью Аризоны, в которой находится современный Финикс. Оппозиция утверждала, что область эта слишком велика и что в ней имеются тысячи мормонов, которые не представлены в конвенте. Карта Пройсса, члена экспедиции Фремонта, подсказала делегатам решение провести восточную границу по горной цепи Сьерра-Невады. Закон о запрете рабства был принят единодушно. Возникли горячие дебаты о том, следует ли разрешать дуэли (не разрешили), можно ли женщинам распоряжаться имуществом, принадлежавшим им до замужества (разрешили). Когда было выдвинуто предложение о том, что люди, обвиняемые в уголовных преступлениях, должны предстать перед судом равных (пэров), один из делегатов воскликнул: «Зачем нам нужны пэры? Это вам пе монархия!» Конвент, состоящий почти из полностью чуждых друг другу людей, мирно заседал неделями и произвел на свет либеральную конституцию, которая устанавливала посильные налоги и довольно хорошую систему образования. Благодаря политике Гуина, а в немалой степени и копиям, которые он роздал делегатам, конституция в основном была создана по образцу айовской. Идею о том, что им полагалось бы добиваться статуса территории, калифорний- цы, подобно мормопам, сразу же отбросили как недостой- пую и оповестили копгресс Соедипепных Штатов, что они были, есть и будут полноправным штатом. 13 октября, когда последние делегаты подписали конституцию, генерал Райли отсалютовал тридцать одним залпом, ибо предполагалось, что Калифорния станет тридцать первым штатом. Джон Саттер вскочил из-за стола и, не вытирая катящихся по лицу слез, вскричал: «Джентльмены, это самый счастливый день в моей жизни… великий день Калифорнии!» Делегаты, памятуя о миллионах, поступающих с золо тых приисков, не стеснялись в расходах. Каждый из них получал по 16 долларов в день плюс дорожные расходы (16 долларов за каждую милю пути); 10000 долларов было выделено клерку конвента Брауну для издания.протоколов конвента на английском и испанском языках. Генералу Райли за выполнение обязанностей губернатора было по- ложепо жалованье в 10 000 долларов в год; капитану Хал- леку за исполнение обязанностей секретаря штата вплоть до всеобщих выборов - 6000. Затем делегаты ассигновали себе по 25 долларов для парадного костюмированного бала в честь образования нового штата, который состоялся в зале конвента и на котором делегаты и общество Монтерея протанцевали всю ночь, не портя себе настроение мыслью о том, что конгресс и знать их не желает. Вербовка сторонников одобрения конституции и подбор кандидатов на должности были краткими и оставили так мало времени на предвыборную кампанию, что один из старателей воскликнул: «Выходя из дому, я считал, что буду играть втемную. Я голосовал за конституцию, по конституции я никогда не видел. Я голосовал за всех кандидатов, но ни одного из этих чертовых кандидатов я и в глаза не видел». В открытую или втемную, но конституция была одобрена.2 061 голосом против 811; Питер.X. Бэрнетт, один из прежних помощников Саттера, был избран губернатором. Генерал Райли объявил о конце военного управления в. Калифорнии. 20 декабря Джон Фремонт был избран сенатором Соединенных Штатов при первом же голосовании, а Уильям М. Гуин - при третьем. Джон Фремонт не принадлежал к той категории людей, о которых можно сказать, что ему постоянно везло, однако его нельзя было отнести и к разряду вечных неудачников. Отправившись в Сьерра-Неваду для осмотра семидесяти квадратных миль, которые составляли земли его абсолютно бесполезного ранчо, он нашел там золото; причем это были не просто «блестки» или золотой песок и даже не россыпи, нанесенные водными потоками в долины. Здесь, в Марипо- зе, он обнаружил рудные залежи - золотоносное образование, сформированное могучей вулканической деятельностью, - богатые золотом!килы, проходящие в каменных породах горных склонов. Не прошло и года после поражения Фремопта на перевале Грейт-Дивайд, как он уже стал крупнейшим золотопромышленником Дальнего Запада, миллионером, который отправлялся в Вашингтон в качестве первого законно избранного сенатора сказочно богатой и романтической Калифорнии. Он не мог занять свое место в сенате прежде, чем конгресс предоставит Калифорнии права штата, однако семья Фремонтов, а равно и все калифорнийцы считали это обстоятельство второстепенной деталью. Таким образом, к концу 1849 года, хотя Невада все еще представляла собой незаселенную и внушающую ужас пу- стышо, а Колорадо - столь же дикие горы, да еще и заселенные враждебно настроенными индейцами, Дезерет и Калифорния сформировали свои правительства, представители которых отправились в Вашингтон, с тем чтобы вытребовать там для своих земляков права? штатов.Глава IX
Долина Смерти получает свое названиеВ октябре 1849 года в Провочна озере Юта, примерно в шестидесяти милях к югу от Великого Соленого озера, несколько эмигрантских групп, собравшись вместе, сформировали партию, которая впоследствии получит название партии Долины Смерти. Большинство из них, вместо того чтобы двигаться на север в обход Великого Соленого озера и выйти на Калифорнийский тракт, пришло в Прово, напуганное мрачными подробностями о судьбе партии Дон- пера. Полагая, что уже поздно штурмовать снега Сьерра- Невады. они решили выбрать более длинный, по и более безопасный маршрут - через южную Калифорнию, а затем на север к золотоноспым участкам. Ходили слухи, что в Прово встретятся все тс, кто намерен двигаться по Старому Испанскому тракту. Партия, выступившая в путь 9 октября, насчитывала поначалу восемьдесят фургонов, двести пятьдесят человек и тысячу голов лошадей и прочего скота. В качестве проводника они наняли Джефферсона Ханта, капитана мормонского батальона, который держал путь в Калифорнию, где должен был закупить скот и семена поселенцам па Великом Соленом озере. Хапт ввел в караване мормонскую воинскую дисциплину, разбив его на семь отрядов, каждый во главе с собственным командиром. Караван называл себя «шагающей сквозь пески ротой». Трудно было придумать более подходящее название. В самом начале пути капитан Хапт свернул не там, где следовало, И хотя он вскоре исправил ошибку, ото подорвало к нему доверие каравана. Поэтому, когда им встретился капитан Смит, направлявшийся с партией из девяти мормонов к местам золотых разработок, и показал карту, на которой был изображен путь через перевал Уокера, тот самый, который Джеймс Рид из партии Доннера называл «близким путем», у лагерного костра собралось общее собрание для обсуждения этой соблазнительной перспективы. Маршрутом этим они якобы могли спуститься в Тыолэ- Вэлли, лежащую вблизи от золотых россыпей, и сэкономить таким образом четыреста миль изнурительного пути. Когда у капитана Ханта спросили его мнение, он сказал, что сомневается, случалось ли вообще кому-нибудь из белых пройти этим путем: воспользоваться им могли бы разве что едущие верхом молодые люди, а семейные фургоны столкнутся с большими трудностями. «Если вы все решите идти вслед за Смитом, я тоже пойду, - заявил он. - Но если хотя бы один фургон решит двигаться первоначальным путем, то, связанный словом, я сочту своим долгом двигаться с этим фургоном». Преподобный Джон У. Брайер - «человек, который, по слонам одного из участников этой партии, всегда любил высказывать свое мнение по любому предмету», - весьма энергично высказался в пользу короткого пути, хотя его сопровождала весьма хрупкого сложения жена и трое малолетних сыновей. Точно так же поступили и многие Другие.
На следующее утро, когда фургоны прибыли на развилку 1дороги, Смит и преподобный мистер Брайер одержали верх. Только семь фургонов двинулись с капитаном Хантом по проторенному пути. Остальные, включая семейные фургоны Брайеров, Беннетов, Аркенсов, Уайдов и Дейлов, у которых были малолетние дети, пошли за Смитом. К ним присоединилась и партия Джейхокера, состоящая из одиноких мужчин. Два дня партия Смита двигалась по зеленым, изобилующим водой долинам. Однако тут и кончались те места, в которых побывал анонимный составитель карты. Столкнувшись с непроходимым каньоном и разведав, что далее будет еще более труднодоступная местность, семьдесят два фургона вернулись на Старый Испанский тракт. Двигаясь по следам Ханта до самой южной Калифорнии, они прибыли в Лос-Анджелес до того, как отколовшиеся оказались в самом центре ожидавшего их ада. Смит в сопровождении верховых мормонов тоже повернул к Старому Испанскому тракту и спасению, не. удосужившись оповестить об этом следовавших за ним восемьдесят пять человек. Оставшиеся без проводника люди уже пришли было к выводу, что и им не остается никакого иного выхода, как повернуть назад, но тут в лагерь прискакали высланные вперед разведчики с известием о том, что они нашли перевал, ведущий в Калифорнию. Люди решили двигаться не единым караваном под общим командованием, а тремя отдельными группами. Молодые и не отягощеппые лишними заботами мужчины группы Джейхокера быстро двинулись вперед; преподобный мистер Брайер с женой, тремя детьми и двумя молодыми мужчинами, имевшими с его семьей общий стол, составили вторую группу, третьей шла партия Беннетов, Аркенсов и Уайдов, два брата Эрхарт с двумя сыновьями и несколько одиноких мужчин. Проводником у них был впервые совершающий путь на Запад Уильям Мэнли, которому к тому времени исполнился только двадцать один год. Джульетта Брайер родилась 26 сентября 1813 года в Беннпгтопе, штат Вермонт, где и закончила семинарию. Миниатюрная и первная по натуре, мать троих сыновей (восьми, семи и четырех лет), она была первой белой женщиной, ступившей на землю Долины Смерти. Зрелище, открывшееся ей с отрогов восточного хребта, могло вселить ужас в самые храбрые души: безлюдная пустыня, раскинувшаяся па восемь - четырнадцать миль в ширину и па сто тридцать миль в длину, с невысокой грядой в середине, получившей меткое название Фунерал-Рейпдж (гряда Похорон). На всем этом пространстве не было ничего живого, только похожие на пески Сахары перегоняемые ветром сыпучие барханы да гладкие зеркальца солончаковых болот, окруженные со всех сторон голыми н бесплодными горами, на которых не было ни деревца, ни куста, ни даже стебля травы. По словам Бэнкрофта, перед ними лежала «страна миражей, враждебная всему живому, с атмосферой, губительной даже для пролетающих птиц». Когда преподобный мистер Брайер отправился вперед на поиски воды, рассказывает миссис Брайер, «я осталась одна с тремя маленькими мальчиками, которые помогали мне погонять скот. Бедный маленький Кнрк совсем выдохся, и мне пришлось тащить его на спине, почти не видя, куда я иду». И она брела час за часом в горячен удушающей пыли под аккомпанемент ревущего от жажды скота. С наступлением темноты ей прйшлось ползти на коленях, отыскивая при лунном свете следы волов. Только к трем часам утра добралась она до лагеря, разбитого в том месте, где были найдены горячие и холодные источники. Уто было рождественское утро. У ручья, который они назвали Фэнес-Крик, один из мужчин спросил: «Не считаете ли вы, что вам и детям лучше было бы остаться здесь?» «Я пикогда не заставляю других дожидаться меня, - ответила миссис Брайер. - Не делают этого и мои дети. Каждый сделанный нами шаг будет в сторону Калифорнии». На следующее утро, когда Брайеры добрались до лагеря Джейхокера, они увидели, что люди жгут фургоны, мешающие быстрому передвижению. Достаточно было оглядеться вокруг, чтобы понять, что всем им грозит неминуемая гибель. Брайеры также бросили фургоны, навыочив катастрофически уменьшающиеся запасы провизии на ослабевших волов. Преподобный мистер Брайер попросил Джейхоке- ров разрешить ему присоединиться к пим. Джейхокерам пе хотелось взваливать на себя заботы о женщине и маленьких детях, и они сперва отказали, но, посмотрев па мг??.сис Брайер, от которой остались только кожа да кости, смягчились. Уильям Мэнли, стоявший во главе партии Беннета, догнавший Брайеров у ручья, рассказывает: «Именно она павыочпвала волов по утрам. Имеппо опа снимала выоки с воловьих спин по вечерам, разжигала костры, готовила пищу и делала все работы, когда глава семьи чувствовал себя слишком усталым, а таким он был почти псе время». Объединенный караван с трудом одолевал милю за ничей солончаков, увязая в песке до самого верха ботинок. Один из сыновей Браиера вспоминает, что им пришлось прошагать «двадцать миль через голые дюны, под ветром, который швыряет песок в лицо и в глаза с силой выпущенного заряда дроби». Языки у людей распухли, губы потрескались, волы ложились на песок и уже больше не вставали. В одну из ночей мужчины взобрались на каменные откосы гор до линии снегов и принесли в рубашках снега. Одни стали жадно поедать его, другие принялись растапливать снег, чтобы напоить скот. Следующие сорок восемь часов они двигались совершенно без воды. Мясо забитых волов не проходило в пересохшее горло. Доктор Kapp высказал предположение, что им следовало бы вернуться к Фэнес-Крик. Он был совершенно потрясен и расплакался, когда миссис Брайер снова повторила свои слова: «Каждый сделанный нами шаг будет в сторону Калифорнии». IIa Новый год они разбили лагерь в верхней части Па- намнт-Вэллн. Партия Джеихокера, из наиболее сильных мужчин, решила пробиваться вперед, поручив заботам миссис Брайер стариков и ослабевших. Первому умереть от жажды суждено было пятидесятилетнему преподобному мистеру Фишу, который отправился в Калифорнию в надежде раздобыть там денег и уплатить долги своей церкви в Индиане. 6 января двое холостяков, единственных владельцев муки в партии, питавшихся с Брайерамн из общего котла, решили отделиться в надежде этим спасти себе жизнь. Оставив немного муки миссис Брайер, они испекли из всей остальной лепешки и распрощались с группой. Миссис Брайер разделила свою муку на двадцать два крекера - это и была вся их пища на двадцать два дня кошмара. Следующим умер Уильям Айшем, человек среднего возраста. Четыре мили он прополз на четвереньках в поисках воды, а потом свалился лицом в песок. «Сдаться? - вскричала Джульетта Бранер. - О! Я внаю, что это означает - мелкую ¦могилу в песке». Почерневшие языки вываливались у людей изо рта. Впереди же маячил жестокий мираж пустыни: вода, оазис, деревья, зелень. Л когда набрели на воду - это была грязная лужа, известная теперь под названием озеро Боракс,- немногие оставшиеся в живых животные первыми бросились в нее, а затем н люди принялись черпать перемешанную с грязыо воду, пытаясь протолкнуть ее в пересохшее горло. Следующий безводный участок растянулся почти на пять дней пути. Мужчины, с обожженными лицами, высохшие как скелеты, улеглись в лагере в ожидании смерти. Миссис Бранер отошла к камням, помолилась, а потом вернулась и произнесла им проповедь в таких выражениях, что это поставило пораженных мужчин снова па ногн. В эгог момент преподобный мистер Ричарде прибежал в лагерь с криком: «Вода! Пода! Я нашел воду!» В четырех милях от лагери он набрел на группу индейцев, знаками объяснил им свои мирные г!.мерення и показал, что мучигся от жажды. Индейцы пропели ею к ручейку у подножии гор, скрытому в кустах, чистому и прохладному, который туг же исчезал в песках пустыни. Когда люди пробились наконец на вершину гряды и оглянулись на оставленную позади долину, они назвали се Долина Смерти. Однако пустыня Мохэн, куда они спустились в середине января 18Г)0 года, была не лучше: солончаковая пустыня, в которой никто не знал пи дорог, ни источников воды, lit, измученных дизентерией и голодом, ждали новые мучительные дни жары, ныли, жажды и камней, резавших подошвы ног. Одни из мужчин сказал: «?Я только немножко вздремну», - и больше никогда не проснулся. Второй пожаловался па предчувствие, что он никогда по достигнет Калифорнии, свалился с пони и умер. Еще один слишком жадно пил из ручья - и стал седьмым по счету погибшим. Преподобный мистер Bpaiiep, передвигавшийся теперь лишь па костылях, лог и, попрощавшись с женой, закрыл глаза. Джульетта Брайер умоляла мужа держаться. Она собрала несколько жч-луден, размолола их и, сварив, накормила ими мужа с ложечки. Он выжил, стал отцом еще трех дочерей и выступал па стороне Линкольна в избирательной кампании. Партия Беннста - Мэнли, двигавшаяся более южным путем, встретилась с такими же бедами и неудачами: они оказались в ловушке, попав в мертвую пустыню, окружеп- ную черными хребтами гор, через которые им не удалось найти доступного перевала. Обнаружив у самого южного окончания долины источник, они решили сберечь свои быстро иссякающие силы и разбить здесь лагерь. Беннст спросил у молодого Мэнли и могучего мясника Роджерса, смогут ли они продолжать путь вдвоем, чтобы, достигнув цивилизованных земель, привести помощь. У них не было ни карт, ни запасов провизии на дорогу, не знали они и какие адские мучения ждут их впереди. Однако они пошли… 13 пути Мэнли и Роджерс набрели на умерших Джейхокеров, не выдержавших борьбы. Описание их пути в книге Мэнли «Долина Смерти 18-49 года» является одним из величайших рассказов Запада о победе человеческой воли над неумолимой судьбой: «Черные и безжизненные отроги гор на юге, великие сухие равнины, соляные озера и скользкие солончаковые болота с водой, к которым мы каждый раз торопились только для того, чтобы снова повернуть обратно в разочаровании, небольшие наносы снега, которые спасали нам жизнь, мясо ястребов н ворон, хромота…» Они шли четырнадцать дней, поддерживая жизнь тем, что сосали камешки и жевали стебельки травы, прокладывая путь через непроходимые горы, пустыни и долины. Похожие больше на привидения, чем на живых людей, поднявшись на очередной кряж, Мэнли и Роджерс увидели наконец зеленеющую внизу скотоводческую ферму Сан- Фрапцискнто. Приготовившись к длительному ожиданию, члены партии Беннста сняли брезентовые навесы с фургонов и сделали из них палатки для защиты людей и животных от жары н песчаных бурь, разделили запасы провизии на строжайшие порции и следили за тем, как эти запасы исчезают. Миссис Лркенс, зная, что после смерти останутся ее наряды, и не желая оставлять их в слишком хорошем состоянии индейцам, которым предстояло унаследовать их. каждый день щеголяла в великолепных платьяч. Отправившийся на разведку капитан Калпсруэлл не смог вернуться в лагерь и умер. По прошествии трех педель все решили, что «если Мэнли и Роджерсу какпм-ю оГфпзом удалось выбраться из этой дыры, то они будут полными идиотами, сели вернутся обратно с намерением кому-то помочь». Мэнли и Роджерс потратили только четыре дня на восстановление сил, а затем нагрузили на взятых на время лошадей апельсины н другие продукты и двинулись в обратный путь по своим же следам, разыскивая более удобные проходы в горах и источники воды. Когда они наконец добрались до лагеря, то не увидели там ни одной живой души и решили даже, что напрасно проделали этот путь. Мэнли выстрелил в воздух. Какая-то фигура показалась из-под фургона. Человек этот замахал руками и заорал: «Ребята вернулись! Ребята вернулись!» Они были спасены. Люди партии Брайеров тоже вышли как привидения к ранчо Сан-Францискито п щедрому гостеприимству кали- форнннцев. Миссис Брайер спустилась с отрогов гор Сан- Габриэль, ведя своих троих сыновей в лохмотьях, в протертых до дыр мокасинах, которые она сшила им из шкур павших полов, - семьдесят фунтов костей, выдержки I! несгибаемой волн. Потерн «шагающей сквозь пески роты» составили тринадцать мужчин. Женщины оказались более выносливыми - они выдержали. Сила духа Джульетты Бранер спасла жизнь не только членам се семьи, но и нескольким молодым людям из партии Дженхокера.
Глава X
Золото в Неваде и Колорадо1 мая 1850 года в Сан-Франциско были созданы полностью американские органы городского самоуправления. Муниципалитет выручил 035 000 долларов от продажи принадлежавших городу участков. На эти деньги он смог купить Сити-Холл, построить больницу, расширить портовые причалы и проложить и выстлать дощатыми тротуарами главнейшие деловые улицы. Дома и лавки постоянно взбирались все выше на окружающие гавань холмы, пока первоначальное побережье не оказалось полностью заселенным; окружающие долины были скуплены и разбить на участки; к миссии Долорес была проложена дорога ¦?? дощатым покрытием, за проезд по которой взималась пошлина. Сап-Франциско середины столетия перестал быть городом золотоискателей. На смену красным фланелевым рубахам, курткам, шляпам с опущенными полями, высоким сапогам, заправленным в них брюкам пришли белые сорочки, касторовые шляпы, фраки, брюки и туфли, извлеченные из морских сундуков. Только игроки сохраняли красочные костюмы, с расшитыми ромбами рубахами, сомбреро и красными шарфами. Быть джентльменом в Сан-Франциско было нелегко; стирка обходилась по восемь долларов за дюжину независимо от того, были это носовые платки или длинные ночные рубахи. Да и производилась стирка настолько медленно, что многие отсылали свое белье прачкам в Гонолулу или Кантон. Из-за столь несправедливой конкуренции появилась на свет, сразу же за песчаными дюнами, Лагуна прачек, где мужчины-прачки поставили дело на широкую ногу: кипящие котлы, ребристые стиральные доски и палатки для глажки - все это выглядело впечатляюще. «Когда один из этих могучих бородатых парней швырял рубашку на стиральную доску, только пена разлеталась во все стороны, впрочем, пуговицы - тоже». В начале 1850 года город увидел прибытие троих из Большой Четверки, которой предстояло построить Центральную Тихоокеанскую железную дорогу и в течение целого поколения осуществлять безраздельный контроль над Калифорнией, - драматические фигуры, которые заменят по важности Саттера, Вальехо, Ларкина, Фремонта. Только Чарлз Крокер прибыл сюда, пересекая равнины, в надежде сколотить состояние на золотых приисках. Остальные трое - Коллис П. Хантингтон, Марк Хопкинс и позднее Лилэнд Стэнфорд - прибыли в залив Сан-Франциско через Панаму, надеясь нажить капитал на торговле со старателями. Чарлз Крокер был двухсотпятидесятифунтовым здоровяком, когда в возрасте двадцати шести лет он с группой друзей, в которую входили и два его брата, покинул Индиану, чтобы добраться по Калифорнийскому тракту к золотым россыпям. Он родился в бедной семье в Трое, штат Нью-Йорк, двенадцати лет бросил школу, чтобы помогать семье, вместе с родителями переехал в Индиану, помогал расчищать землю и заниматься фермерским хо- пнйством, а потом работал на лесопильне н у кузнечного горна. Открыв небольшие залежи руды, он построил кузницу и рудоплавильшо, которые продал, чтобы обеспечить себя всем необходимым для путешествия на Запад. «Я рос чем-то вроде лидера, - вспоминал Крокер. - Я всегда был из тех, кто первым переплывал реку и переносил канат на другой берег». Лидерские способности не пригодились Крокеру на калифорнийских приисках, где он провел два голодных года в качестве неудачливого старателя. Затем вместе с братом он открыл лавку в одном из старательских лагерей Эльдорадо, в которой он работал грузчиком и возчиком, а позже и в Сакраменто. И здесь человек, который через несколько лет мог кичливо заявить: «Я построил Центральную Тихоокеанскую!» -добился первого успеха в галантерейной торговле. Самый важный из его будущих партнеров Коллис П. Хантингтон всего полдня проработал старателем, а затем доставил привезенные им из Пыо-Йорка и Панамы запасы топароп в город Сакраменто. Сын полунищего ремесленника из Коннектикута, он к четырнадцати годам накопил более ста долларов. Хантингтон сначала работал поденщиком на соседней ферме. Позже вместе с братом он открыл лавку, развозил ювелирные изделия нс7 Огайо н Индиане, выполнял мелкие финансовые поручения на далеком Юге, продавал масло в Ныо-Йорке. В Истмусе в 1840 году он снял маленькую шхуну и привез продовольственные товары в Панаму, заработав за месяц 1000 долларов. К моменту открытия лавки в Сакраменто Хантингтон уже пользовался репутацией одного из самых прижимистых коммерсантов Калифорнии. Впоследствии, будучи фи иансовым главой Центральной Тихоокеанской, он сумеет выторговать у конгресса 100 000 000 долларов и выдоить из Дальнего Запада многие миллиарды. Второй из партнеров не стал и полдня тратить на старательскую работу, нбо Марк Хопкинс был весьма консервативным торговцем. Тощий человек в Большой Четверке (его партнеры весили более двухсот фунтов каждый), он был вегетарианцем с птичьим аппетитом и не позволял себе курить, нить, ругаться, играть в карты или тратить деньги. Отличная кандидатура на роль доверенного лица Хантингтона, который скупал по дешевке товары по Калифорнии и держал их на складах до установления высоких 14 Зап. м, 1?!ез цен. О Хошпшсе говорили, что крайняя осторожность и делах мешает ему стать богатым. Когда Чарлз Крокер говорил: «Одни работает всю свою жизнь и умирает нищим. Другой же, ничем не лучший, оказывается владельцем двадцати миллионов. Чертовски много здесь зависит от везения»,- он рисовал портрет Дядюшки Марка Хоикниса и свой собственный, с той лишь разницей, что иметь двадцать миллионов было как бы в тягость Хопкинсу и он вел себя так, «будто извинялся за свои миллионы». К концу 1850 года население Сан-Франциско составляло более тридцати тысяч человек. «В эту цифру, - указывает Асбюри в книге «Варварский берег», - входило две тысячи женщин, большинство которых было проститутками из Европы и восточных и южных областей Соединенных Штатов, главным образом из Ныо-Йорка и Ныо- Орлеана». Столь же стремительно рос и Солт-Лейк - к концу 1850 года в Дезерете насчитывалось уже более одиннадцати тысяч мормонов. Они приступили к выпуску первой своей газеты «Дезерет пыос», заложили основы первого на Дальнем Западе университета и основали общество любителей музыки 1! драмы. В 1849 году первые здания появились и в Неваде. В марте 1849 года в Солт-Лейке была сформирована экспедиция в Калифорнию с торговыми и золотоискательскими целями. Секретарем экспедиции был назначен двадцатичетырехлетний мормон X. С. Вити из Вирджинии, имевший некоторую практику работы в колледже. Бити вез с собой товары па продажу, однако, увидев Карсон- Вэлли весной, он буквально влюбился в эти земли - зеленый ран посреди сосен и осин, С чистыми горными ручьями и «целым морем великолепного корма для скота». С высоты пяти тысяч футов перед ним открылся великолепный вид на Карсон-Вэлли и покрытую зарослями шалфея пустыню, раскинувшуюся на сорок миль, до самых гор Уошоэ, а на западе возвышались величественные массивы Сьерра-Невады. Построив корраль для скота и бревенчатую двухкомнатную хижину без потолочных перекрытий и пола, Бити стал основателем первого в Неваде поселения. Зараженные его энтузиазмом, еще восемь человек из этой экспедиции, включая и ее лидера, опались вместе с ним. В июле, когда в Калифорнию начался наплыв эмигрантов через
Гумбольдт-Вэлли и Карсон-Вэлли, торговля у Вити пошла настолько бойко, что ему пришлось проделать два рейса через Сьерра-Неваду. В первый раз с тремя упряжками волов через перевал Карсона, а в следующий - с караваном вьючных мулов для приобретения товаров на Американской реке. Бити не проявлял интереса к поискам золота, однако его спутник Эбнер Блэкберн был одним из трех человек, которым историки приписывают честь открытия золота в Неваде. Первым был кто-то из группы Генри У. Биглера, состоявшей из бывших солдат мормонского батальона, работавших у Джона Саттера и открывших Остров мормонов. Бнглер рассказывал, что его партия, попавшая на Восток через горы Сьерра-Невады в августе 1848 года, «нашла золото в западной Юте», как в то время называли Неваду. В мае следующего, 1849 года мормон Джон Орр остановил свой фургон на короткий полуденный отдых в Сап- Маунтин. Его напарник Проуз вместо отдыха занялся промывкой песка и нашел следы золота. Джон Орр окрестил каньон, где они останавливались, Голд-Каньон - Золотой Каньон. Караван Орра снова тронулся в путь, но у одного из фургонов сломалась ось, и им пришлось вернуться к мормонам. Пока производился ремонт, Орр и Проуз проделали обратный путь.в сорок миль к Золотому Каньону, где Орр нашел первый кусок золотоносного кварца. Эбнер Блэкберн в своем дневнике рассказывает, что вооруженный противнем цля выпечки хлеба и охотничьим ножом, он нашел в ущелье немного золота н показал его остальным. Они «похватали сковороды, ножи, котелки и тоже принялись за дело. До захода солнца им удалось намыть золотого песка на девять-десять долларов каждому». Не имея ни инструментов, ни запасов провизии, все продолжили свой путь в Калифорнию. ???? 14* К этому времени в западной Юте уже сложилось небольшое общество (поселение) золотоискателей: мексиканцы, с которыми несправедливо обращались на приисках Калифорнии, эмигранты, временно задержавшиеся здесь по пути в Калифорнию, мормоиы, отправляющиеся из Калифорнии в Золотой Каньои на поиски золота, мормоны из Солт-Лейка, которые прослышали об успехе торгового поста Бнтн. К концу лета но всей К'арсод-Вэллн было рабросано
21!
около двадцати торговых постов, ютящихся во временных шалашах. Спэффорд Холл из Ииднаны построил свою станцию на реке Карсона всего в полутора милях от входа в Золотой Каньон. До выпадения снега Бити продал свой торговый пост некоему Муру и вернулся к Соленому озеру. Большинство торговцев бросили свои навесы. Мормоны отправились к Соленому озеру, немормоны - на запад, в Калифорнию. В сентябре последний из примерно двадцати старателей покинул Золотой Каньон, записав, что «там нет ни воды, ии пищи, только сарычи летают». К тому же золото здесь было смешано с каким-то слоистым веществом голубого цвета, что очень усложняло добычу и делало ее малоприбыльной. Оживление в Леваде оказалось преждевременным. Однако вскоре через Сьерра-Неваду из Волкано, Калифорния, сюда прибудут братья Гроуш с книгами но минералогии и целым набором химических препаратов. В переломном году столетня - 18Г»0-м - два брата но фамилии Ролстон прибыли из Джорджии, тде они занимались добычей золота, по реке Арканзас в Колорадо во главе партии индейцев племени черокн, с которыми они благодаря брачным узам состояли в родстве. Направляясь к золотым приискам Калифорнии, они миновали форт Бепт и почти покинутую деревню Пуябло, а затем повернули на север вдоль наружного склона гор и пика Папка. Вудучи опытными старателями, они производили по пути па север пробные промывки. Добравшись до устья Черри- Крик, они на несколько дней разбили лагерь и отправились на поиски. Смайли сообщает в «Истории Денвера»: «Они пашлн «цвет», но слишком мало для того, чтобы отвлечься от своей первоначально!! цели - Калифорнии». Ролстоиы со своими индейцами оставались в Калифорнии два года, занимаясь добычен с довольно средним успехом. Воспоминания о золоте в Черрн-Крик никогда ни оставляли их. Они не вернулись на золотые россыпи Колорадо, ио поделились своими сведениями с родственниками в Джорджии, что привело к появлению нерпой настоящей исследовательской партии и к открытию невероятно богатых золотых россыпей в Колорадо.Г л а в а XI
Страна, рожденная золотом и мормонской религией В противоположность бурному развитию Сан-Фран- циско п Солт-Лейка Лос-Анджелес в 1850 году был тихой сонной деревней с глинобитными хижинами. Окруженный обширнейшими ранчо, город не имел ни общественной школы, ни газеты, ии библиотеки. Главным занятием его жителей была борьба с индейцами, которые совершали налеты на ранчо и угоняли скот. Две трети населения города было неграмотно, а те, кто умел писать и читать, были заняты составлением и отправкой петиций в конгресс с требованием отделить южную Калифорнию от северной, которую они называли «Центральной Калифор- пией», - сепаратистское движение, обязанное своим возникновением тому, что южные калифорпийцы не чувствовали никакой общности с жителями северпой Калифорнии. В то время они были совершенно правы в этом. Северная Калифорния - это сухощавый закаленный горец вроде Джедедиа Смита или Джозефа Уокера, пробивающийся через занесенные снегом отроги Сьерра-Невады с охотничьим ружьем за спиной, мужественный, сильный, дисциплинированный, несущий новую цивилизацию. Южная Калифорния - это безумно соблазнительная женщина, с алыми губами, сластолюбивая, прибывшая из Акапулько в каюте великолепно оснащенного испанского корабля, загорающая на солнце в своем патио в окружении цветущих бугенвиллей в платье, достаточно декольтированном, чтобы показать, сколь обильная пища ждет грядущее поколение. Жители Сан-Франциско постепенно начали походить на окружающие их холмы. Это были твердокаменные люди, удивительно напоминающие жителей Новой Англии: упрямые, гордые, волевые, независимые, горячо преданные свободе, хранящие суровые традиции Скалистых гор. Общество было интернациональным, однако ему были присущи и определенные общие черты характера, как это бывает с жителями одного острова. Первый театральный сезон в Сан-Франциско начался 16 января 1850 года в Вашингтон-Холле, где труппа Игл- театра сыграла фарс и драму. Через несколько недель состоялось открытие Национального театра - настоящего театрального здания из кирпича, в котором играла французская труппа. Городские власти разместились в своем первом Сити-Холле - бывшем доме Грэхема, четырехэтажном здании на углу Кирни- и Пасифнк-стрит с четырьмя рядами непрерывных балконов, выходящих на деловую улицу. В одну из майских ночей перед самым рассветом в каком-то ветхом игорном салуне возник пожар. Семь часов раздуваемое ветром пламя носилось вверх и вниз но холмам. Сгорело триста'домов, включая Сити-Холл, две стороны Портсмутской площади, три важных деловых квартала. Ущерб составил более четырех миллионов долларов - почти половину стоимости всего намытого в Калифорнии золота в 1849 году. Пожар придал пророческое звучание словам Брайама Янга, с которыми он обратился к своей пастве: «Мощение улиц, покрытие крыш, кухонная посуда - вот достойное применение золота!» За десять дней горожане восстановили половину сгоревшего города, создали первую добровольческую пожарную команду. На случай новой беды каждый домовладелец был обязан постоянно держать шесть наполненных водой ведер. Но оказалось, что этого недостаточно. Не помогло и создание еще пяти пожарных команд под претенциозными названиями вроде Императорская машинная команда, «Спасение» или «Эврика» - они не смогли снасти Сан-Франциско от репутации первого в мире города по числу пожаров. 12 июня, всего лишь через сорок дней, возник пожар в отеле «Мерчаптс», и деловой район города от Кирни-стрит до самой набережной выгорел дотла, унося с дымом три миллиона долларов; в сентябре сгорело сто пятьдесят домов; в октябре по»йарами было уничтожено имущества еще на 250000 долларов, включая городскую больницу; в декабре потери составили 1 ООО ООО долларов… Трудным оказался для Калифорнии и процесс получения статуса штата. 1 января 1850 года сенатор Джон Фре- монт, его жена Джесси и дочь Лили взошли на борт «Орегона» в Монтерейской гавани и отправились в Вашингтон для решения вопроса о приеме Калифорнии в состав США. Гребцы-индейцы доставили их к кораблю под проливным дождем, но еще более обильный дождь - дождь речей - обрушился на них в Вашингтоне. Фремонту не разрешали запять место в сенате, а Калифорнию не принимали в состав Соединенных Штатов. Вся весна и все лето ушли на переговоры с южанами, которые не желали считать Калифорнию новым свободным штатом. Наконец компромисс был найден. И вот 18 октября 1850 года разукрашенный флагами «Орегон» вошел в бухту Сан-Франциско: Калифорнию приняли в состав Соединенных Штатов. Сан-Франциско обезумел. Конторы и суды закрылись, на окружающих город холмах палили пушки, оркестры и праздничные толпы шагали по улицам, стоявшие в гавани суда подняли флаги. Привезенные на «Орегоне» газеты раскупались по пять долларов штука. Ночью с окрестных высот запускались фейерверки. «Сидя в своей карете, запряженной шестеркой самых горячих, несущихся на предельной скорости мустангов, кучер почтовой станции Крандалл выкрикивал радостную весть на всем пути до Сап-Хосе: «Калифорнию приняли!» Проносящуюся мимо почту жители провожали приветственными криками». 29 октября состоялись официальные празднества с процессией, возглавляемой церемониймейстерами в малиновых шарфах, прошагавшей под торжественные фанфары до Портсмутской площади. Местные калифорнийцы несли знамя с тридцатью одной звездой. Китайская колония - в национальных костюмах в знак лояльности - несла знамя из голубого шелка с надписью «Китайские парни». Что касается мормонов, то они восприняли предоставление Юте прав территории весьма спокойно. И дело было отнюдь не в том, что мормоны - противники празднеств: 24 июля, в годовщину прибытия президепта Янга с группой мормонов в долипу, была и пальба из пушек, и речи, а духовой оркестр капитана Питтса, созданный еще в Англии, играл военные марши; на праздник были приглашены и все иноверцы. Просто мормоныбыли разочарованы тем, что им пе предоставили полпой свободы, наделив, подобно Калифорнии, правами штата. Статус территории означал контроль властей из Вашингтона и то, что гос? т- дарственными чиновниками будут ипаковерующие. Отошли к Калифорнии и земли, на которые Брайам Япг смотрел жадным взглядом. Он всегда стремился к закреплению порта Сан-Диего за Дезеретом. Это позволило бы мормонам, прибывающим из Европы, следовать к Соленому озеру по землям, полностью контролируемым мормонами. Оп также хотел осповать «поселепие па морском побережье между графством Айроп (Юта) и Калифорнией с намерением культивировать оливки… виноград, сахарный тростник, хлопок…». Сан-Диего стал теперь частью Калифорнии, как и прочие плодородные земли между южной Невадой и Тихим океаном. Тем не менее двое мормонов, путешествовавших по Сан-Бернардино-Вэлли к востоку от Лос-Анджелеса, писали Брайаму Япгу следующее: «Рапчо Уильямса имеет много преимуществ для поселения здесь наших людей… Почва, климат и обилие воды благоприятны для посевов зерна. Рапчо расположено»в 40 милях от порта Сан-Педро и в 112 милях от Сан-Диего». Брайам Янг поручил старейшинам Лаймену и Ричу возглавить экспедицию и набрать двадцать добровольцев. Вызвалось пятьсот человек. Интуиция Янга подсказала ему, что многих соблазнила жажда золота. «Меня просто мутило при виде стольких людей, собравшихся бежать в Калифорнию в погоню за золотым тельцом, - говорил Янг. - Я не мог разговаривать с ними». Мормонская экспедиция двинулась на юг, в направлении ручья, расположенного у Лас-Вегаса. Каждый ручей, покрытое травой поле, роща и каменные карьеры ставились на учет для будущих мормонских поселений. Из Лас- Вегаса экспедиция двигалась через пустыню Мохэв, а затем через горный хребет высотой в семь тысяч футов. 31 мая 1851 года лос-анджелесская «Стар» объявила, что на Каджон-Пасс находится сто пятьдесят семей мормонов, намеренных поселиться в Лос-Анджелесе. «Если верно, что мормоны прибывают сюда в таком количестве с намерением поселиться среди пас, - писала газета, - мы, как добрые и предприимчивые граждане, должны встретить их по-дружески». Мормоны были тронуты таким проявлением заботы, однако у них не было ни малейшего намерения селиться среди инаковерующих. Старейшины отвергли ранчо Уильямса и ограничились покупкой земли для обеспечения текущих потребностей. Привезенный скот давал им молоко, масло и сыр. Для защиты опи построили бревенчатый форт, запасную стену которого составляли жилые помещения, а остальные три образовывали бревенчатый палисад высотой в двенадцать футов для защиты от индейцев. От ближайшего ручья прорыли канаву, по которой вода попадала в форт, что позволяло жепщипам не покидать его, отправляясь по воду. В Сац-Бернардшю-Вэлли не было никаких органов власти, и мормоны установили свои собственные: с епископом, президентом и Церковным советом, который был и трибуналом; была построена тюремная камера и вкопан столб. Второе протестантское поселепие в южной Калифорнии было заложено в этой же долине шестью неделями позже группой эмигрантов из партии Оутмена, которая вышла из Индепенденса в 1850 году, панравляясь к северным золотым россыпям. Они попесли столь тяжелые потери от набегов индейцев, голода и жажды, что поклялись сделать своим домом первое же место, где вода будет в изобилии. Таким местом оказалось Эль-Монте, лесистый участок примерно в пяти милях к востоку от Лос-Анджелеса. Айра Томпсон разбил лагерь и уговорил остальные измученные семьи поселиться тут постоянно, «завоевав тем самым честь именоваться первым чисто американским поселением в южной Калифорнии». И спова золото и мормонская религия привели к открытию и освоению новых земель.Глава XII
Возникновение Комитета бдительности Деятельность Комитета бдительности началась с довольно невинной сессии суда присяжных графства Великого Соленого озера 3 января 1851 года, разбиравшей дело так называемых «зимних мормонов» (проезжих, которые памеревались провести зиму в удобствах у лона церкви), обвинявшихся в краже - преступлении, неизвестном полукооперированному улью мормонов. Виновным был вынесен обвинительный приговор, присуждавший их к принудительному труду, но поскольку никого нельзя было заставить работать лучше, чем работали мормоны вполне добровольно, то это нельзя было считать суровым наказанием. Брайам Янг освободил их для депортации в Калифорнию. Это была дурная услуга Сан-Франциско и Лос- Анджелесу, где хватало и собственных жуликов. За восемь месяцев, прошедших с момента их избрания, органы самоуправления Сан-Франциско успели полностью разложиться. Многие посты в них оказались захваченны ми головорезами и выходцами из австралийской каторжной колонии. Тысячи чужаков устремлялись в город, который не готов был к их ассимиляции, - город, в котором деловые люди настолько были заняты извлечением прибылей, что отказывались выступать в качестве присяжных заседателей и даже просто голосовать. В результате этого чиновники назначали себе все более высокое жалованье и доили казну штата, тратя крупные суммы без всякого отчета. Полиция нашла общий язык с преступниками и их союзниками. Не проходило и ночи без взломов, грабежей или стрельбы. 19 февраля 1851 года двое неизвестных вошли в лавку известного в городе Джснссна, избили его до потери сознания н забрали из сейфа две тысячи долларов. Два австралийца - Роберт Уиндред и Джеймс Стюарт - были опознаны Дженсеном и арестованы, первый из них подозревался еще и в убийстве в баре Фостера. Разъяренная толпа пыталась отпять арестованных у полиции, которой все же удалось благополучно доставить их в суд. Здесь Стюарт объявил, что он - Томас Бэрдю, вполне респектабельный подданный Великобритании. В субботу, когда началось заседание суда, толпа пришла к убеждению, что двум обвиняемым, подобно многим их предшественникам, удастся выйти сухими из воды. В эту ночь пять тысяч человек во главе с вездесущим Сэмом Брэппеном собрались на Портсмутской площади. «И мэр, и палач, п законы - это мы с вами! - выкрикивал Брэпнен. - Закоп и судьи еще не повесили ни одного человека в Калифорнии!» Прозвучало н несколько менее кровожадных голосов, особенно голос Уильяма Т. Коулмена, двадцатисемилетнего владельца магазинов в Плейсервилле, Сакраменто и Сан-Франциско, который в 1849 году приехал в Калифорнию из Кентукки. Коулмеи несколько унял бушующие страсти и предложил сформировать комитет, который назначит судыо и присяжных и даст обвиняемым возможность рассчитывать па справедливое рассмотрение дела. «Мы согласны на справедливый суд, - выкрикнул кто- то, -лишь бы нам не мешали сразу же после него повесить их!» Собравшиеся сформировали комитет из четырнадцати человек ?- первый Комитет бдительности. Большинство его членов (Джонс, Эллпс, Хоуард, Фолсом, Грин) были впоследствии вознаграждены тем, что их именами были названы улицы города. Избранные на следующий день присяжные заслушали показания обвиняемых и большинством голосов решили, что их недостаточно для вынесения оправдательного приговора. Два человека предстали перед судом и были осуждены. Повешение было отсрочено на месяц. И весьма удачно, поскольку оказалось, что Томас Бэрдю говорил правду: единственное его преступление состояло в поразительном сходстве с Джеймсом Стюартом. Его освободили. После весьма активной деятельности, проведя честных людей на посты мэра, прокурора города и судебного исполнителя, комитет принял решение о самороспуске. Но, казалось, не было никакой возможности положить конец пожарам, которые, по общему мнению, возникали В результате поджогов. 4 мая огонь снова опустошил город, после этого были созданы патрули из добровольцев; 2 июля возник новый пожар. По подозрению в поджоге был арестован Бенджамин Лыоис. Когда суд вынес оправдательный приговор, Сэм Брэннен созвал собрание в своей конторе. Здесь и был рожден настоящий Комитет бдительности. Президентом его был избран Брэннен. Был принят устав и выработаны процедурные правила. Все спешили.поскорее поставить свое имя в списки - даже Уильям Т. Коулмен, который под номером 96 поставил свою подпись под уставом. Уильяме в книге «Комитет бдительности 1851 года» называет комитет «группой ответственных граждан, объединенных воедино постоянной организацией, объявившей своей целью защиту жизней и имущества в случаях, когда законные меры оказываются бессильными». Первой официальной акцией комитета был арест Джо- па Дженкинса, который украл на Лонг-Уорфе сейф. Судом присяжных, состоявшимся в конторе Брэннена, Дженкинс был признап виновным. Когда комитет проявил нерешительность относительно вынесения смертного приговора,, хотя по закону 1851 года крупные кражи карались смертью, Уильям Хоуард с презрением швырнул свою шляпу па стол и воскликнул: «Насколько я понимаю, джентльмены, мы собрались здесь затем, чтобы кого-то повесить!» Даже предприимчивому Коулмену не удалось отложить вынесение приговора до утра. Весь город высыпал на улицы, отозвавшись на призыв колокола Калифорнийской машинной пожарной команды. Окруженный плотной колонной вооруженных членов комитета, Дженкинс был препровожден на Старую площадь и повешен. Через день или два судья по уголовным делам назвал поименно девять человек, замешанных в повешении, и потребовал предания их суду. Тогда комитетом был опубликован список из ста восьмидесяти человек, подписавших устав. Суды не могли привлечь к ответственности стольких выдающихся граждан, да они и не пытались это сделать. Вскоре число членов Комитета бдительности выросло до семисот человек. Комитет арестовал девяносто человек, обвинявшихся в поджогах, грабеже и убийствах, и судил их: трое были повешены, один выпорот, выслано пятнадцать, пятнадцать переданы обычным судам и сорок один - освобожден. Когда Лос-Анджелес прослышал о Комитете бдительности в Сан-Франциско, мэр города и городской совет быстро сформировали свой собственный. Произошло это 13 июля 1851 года, на следующий же день после организации первой полиции в южной Калифорнии. Лос-Анджелесу был необходим Комитет бдительности, чтобы защитить горожан от последствий деятельности комитета Сан- Франциско, действия которого привели к тому, что несполько сотен головорезов оказались вытесненными в виноградинки Лос-Анджелеса. «Грязная накипь золотой лихорадки - убийцы, конокрады, разбойники с большой дороги ушли от петли в стране золота и сделали Лос-Анджелес своей штаб-квартирой. Точное количество людей, павших от руки убийц, неизвестно, но имеются сведения о том, что там было совершено сорок «законных» повешений и тридцать семь импровизированных линчеваний». Объединенный борьбой с насилием, Лос-Анджелес окончательно сформировался как город. Прямым результатом этого явилось открытие первой бесплатной школы преподобного Генри Уикса, которому город выделил субсидию в 150 долларов в месяц. Новый город увидел также и первый караван из десяти фургопов с товарами, приведенный с Соленого озера мормоном Александером. Самой низкой но доходам и по образованию прослойкой калифорнийцев, которая чувствовала себя обездоленной и нежеланной в связи с переходом под власть Америки. стали люди, объявленные вне закона и покушающиеся на жизнь и имущество других. По еще ниже их на социальной лестнице стояли несколько тысяч индейцев, живущих в Лос-Анджелесе и окрестностях, которые работали на, ранчо. По субботним вечерам они пропивали свой недельный заработок, составляющий один доллар, н затевали ссоры. С наступлением темноты их загоняли в корраль и держали там все воскресенье. В понедельник утром владельцы ранчо выкупали их, уплачивая за своих работников по доллару штрафа в счет их зарплаты за следующую неделю. «Так продолжалось до тех пор, пока не перемерли все индейцы», - лаконично сообщает Упллард в «Истории Лос-Анджелеса». В Колорадо с индейцами расправились более деликатным образом: Фицпатрик Сломанная Рука подготовил подписание договора между индейцами племен аранахо н шайенны с правительством Соединенных Штатов. По этому договору индейцы за свои земли получали мелкие подарки, пустые обещания и пятнадцать дней, полных игр, танцев н речей. «Тридцать лег таких договоров, и индейцы оказались выдворенными из штата», - говорится по этому поводу в книге Фрнтца (?Колорадо».Глава XIII
Дурна.*! слава полигамии Только в Сан-Бернардипо сохранились остатки земного рая. Мормоны купили ранчо Сан-Вернарднно у трех братьев Люго за сумму, составляющую чуть больше 75 000 долларов. Хотя покупка эта Пыла групповой и мормоны работали здесь совместно, а иногда и общими орудиями, возводя здание для религиозных собраний, школу из необожженного кирпича, прокладывая дороги п ирригационные каналы, - это было все-таки частнособственническое капиталистическое общество. Каждый мужчина в кредит получал участок в городе и надел богатой и плодородной земли; с церковью он расплачивался из последующих заработков. Были заложены фруктовые сады п виноградники, построены лесопильни и мельницы. Соседи помогали ДРУг другу в строительных? и земляных работах, однако, чомп.мо взаимной помощи и выплаты церковной десятины. Каждый оставлял себе все то, что ему удалось заработать. Община процветала с момента своего зарождения. Была проложена дорога, по которой фургоны по расписанию двигались между Солт-Лейком и Сан-Бернардино. Ранчо Сан-Берпардино становилось постепенно важным городом и второй по значению цитаделью мормонов. Так бы оно и случилось, если бы не неприятности с «зимними мормонами», которые в Солт-Лейке уже начали представлять постоянную местную проблему. То, что Де- зе'рету следовало бы стать штатом, стало очевидным сразу же, как только первыо три территориальных чиновника, пазпачепные Вашингтоном, прибыли в город в июле 1851 года. Через несколько дней после прибытия судей Перри И. Броккуса из Алабамы и Лемюэла Г. Брэндбюри из Пенсильвании, а также секретаря территории Б. Д. Гаррнса из Вермонта президент мормопов Янг выступил с речью на церемонии, посвященной Дню основания. Согласно его собственным воспоминаниям, в выступлении были следующие слова: «Я знаю Закари Тейлора, он мертв и проклят, и я ничего не могу поделать с этим». Судья Броккус утверждал, будто бы Япг сказал: «Закари Тейлор мертв, в аду, и я рад этому». Броккус оскорбился и попросил разрешения выступить перед общим собранием. Он устроил разнос тем, кто без должного уважения отзывается о федеральном правительстве, и обратился к мормонским женщинам с призывом вернуться к добродетельной жизни. Судья, о котором говорили как о тщеславном и претенциозном человеке, обвиняя его в чванстве, интригах и продажности, был повинен также и в непоследовательности, ибо не было на свете Ягенщин более добродетельных, чем мормонки. Те из них, которые восприняли догмат о полигамии, жертвовали собой, имея не то что больше чем по одному мужу, как это утверждал судья Броккус, но значительно меньше одного. Мормоны были вне себя от возмущения. Президент Янг воскликнул: «Мне стоит мизинцем пошевелить, и возмущенные сестры разорвут Броккуса в "клочья!»С этого момента не было мира между мормонами II территориальными чиновпиками: секретарь территории Гар- рис утверждал, что президент Янг и его законодатели выбраны незаконно, а поэтому не имеют права ни проводить в жизнь, ни издавать собственные законы. Единственная спяль между мормопамн и подвергнутыми остракизму чиновниками поддерживалась лишь путем обмена гневными посланиями. Спустя шесть недель все трое уехали, прихватив с собой печать территории, архивы и федеральную казну. Бранам Янг знал, что нх отъезд приведет к серьезным проблемам в Вашингтоне н, возможно, отодвинет предоставление статуса штата; он издал приказ, запрещающий отъезд чиновников, но не предпринял попытки удержать нх и правительственные документы в Юте. Еще через три месяца в Вашингтоне судья Броккус представил доклад, в котором утверждалось, что чиновники «вынуждены были удалиться вследствие актов беззакония и мятежных тенденции Бранама Инга и большинства местного населения. Мормонская церковь по собственному разумению контролирует мысли, поступки, имущество и жизни ее членов… распределение общественных земель, чеканку и выпуск денег, открыто санкционирует полигамию, облагает десятиной собственных членов и обременительными налогами нпаковерующих, а также требует беспрекословного подчинения Церковному совету даже в тех случаях, когда это противоречит моральным, общественным и союзным обязательствам пли закону». Мормоны решили дать открытый бой. В воскресенье 29 августа 1852 года президент Янг и Церковный совет собрали паству в молитвенном доме Солт-Лейка и официально объявили, что многоженство является составной частью их религиозной доктрины и с данного момента будет соблюдаться всеми верующими мормонами. По словам компетентных исследователей, с момента осиопаиия Солт-Лейка в 1847 году до объявления полигамии неотъемлемой частью их религии всего лишь два или гри процента мормонов имели несколько жен. Процесс окультуривания пустынных земель не позволял им в ходе коротких пяти лот накопить достаточные ресурсы для того, чтобы содержать более одной семьи. Кроме того, многоженство, которое пророк Джозеф Смит объявил божественным откровением в 1843 году, еще не пустило корней среди мормонов. Полигамные семьи в Солт-Леике держались довольно замкнуто, хотя эмигранты Сорок Девятого кое-что и подметили. Бранам Инг предпочел бы провозгласить данную док три ну после предоставлении Юте прав штата. Тогда вопрос
ЭТот подпадал бы под действие первой поправки федеральной конституции, по которой федеральное правительство не могло издавать законы, касающиеся вопросов вероисповедания в данном штате. Теперь же, в августе 1852 года, Брайам Янг, по видимому, считал себя достаточно неуязвимым в своей горной цитадели, чтобы объявить во всеуслышание и возвести в достоинство то, что осуждал весь американский народ. На этом чрезвычайно важном собрании, последствия которого отразились па жизни всей страны, президент Янг попросил апостола Орсопа Пратта выступить первым. Пратт начал с основного мормонского принципа о том, что поскольку все человеческие души бессмертны, а брак представляет собой священное таинство, то мужья и жены связываются его узами «не только на время, по и навечно». Поскольку праотец Лвраам из Ветхого завета заверил своих потомков в том, что они будут многочисленны, как песчинки в море, апостол Пратт объявил конгрегации, что «размножение особей даст должное число молитвенных домов для бесчисленных мириад еще не рожденных душ, заслуживающих земной жизни - переходной стадии вечного развития, а полигамный брак поможет осуществлению священных целей, поставленных этими безграничными планами». Затем он перешел к самому наболевшему вопросу: «Я думаю, что примерно всего одна пятая населения земного шара верует в справедливость порядка, при котором допускается только одна жена; остальные четыре пятых верят в то, что справедливо иметь много жен. Они придерживались этой системы с незапамятных времен и не столь узки и ограниченны в своих мыслях, как некоторые народы Европы и Америки, которые действуют вопреки заветам и лишают себя благословения Авраама, Исаака и Иакова. Даже те, у которых имеется всего одна жена, не могут избавиться от алчности и возвеличить свои мелочные сердца настолько, чтобы поделиться добром своим о многочисленными членами семьи… они не ведают, что ждет их впереди, каких благословений лишают они себя, и все это лишь ради поддержания традиций отцов своих; они не ведают, что потомство человека - это его слава, его царство и его владение в вечном мире». Брайам Янг, сознавая, насколько сильно его народ стремится избежать конфликта, заверил конгрегацию: «Ин одна конституция ни одного из штатов, не говоря уж о конституции федерального правительства, не содержит положений, запрещающих кому-либо иметь двух жен, и пусть все юристы Соединенных Штатов попытаются доказать мне обратное». Когда на него было оказано огромное давление с намерением избавить мормонов от многоженства, Янг напес ответный удар: «Когда вы говорите иноверцам, что у мормона две жены, они шокированы… если вы шепнете об этом на ухо немормону, который каждую ночь мепяет женщин, он будет поражен до глубины души таким страшным преступлением. Они нанимают женщин точно так же, как вы нанимаете лошадей и фаэтон; вы отправляетесь в путешествие на несколько дней, возвращаетесь обратно, приводите лошадь, уплачиваете деньги, и вы свободны от всей дальнейшей ответственности. Да я скорее сегодня нее собрал бы свои вещи и пикогда не видел бы ни жепы, ни детей и читал бы Евангелие до конца дней своих, но не жил бы так, как я живу, если бы не такова была воля господа. Не ради удовлетворения страсти своей живу и во многоженстве. И если меня спросят сейчас, желаю ли иметь еще одну жену и вступить с ней в брак, я отвечу: «Это должна быть та, через которую святой дух наградит меня честными детьми». Когда известия о том, что «Святые последнего дня» открыто заявили о своей приверженности к многоженству и призвали верующих вступать в полигамные браки, достигли Вашингтона, мормонский делегат в конгрессе доктор Джон Берпхайсел написал Брайаму Янгу и своему другу Геберу Кимболлу: «Кошка вырвалась из мешка!» Брайам Янг и апостол Кимболл ответили ему: «У кошки этой много котят, которые будут постоянным источником антагонизма». Апостол Кимболл по этому поводу высказался еще более невразумительно: «Для божьего человека (имеется в виду мормон) ограничить себя одной женой нетрудно; ибо это все, что мы можем сделать сейчас под тем бременем, которое нам приходится нести; я не знаю, что бы мы делали, если бы каждый из нас имел всего по одной Жене». ???? 225 Чтобы полностью понять отношение мормонов к многоженству после богатого последствиями собрания в молит- 15 За!¦: № 1103 пенном доме 2!) августа 1852 года, необходимо ознакомиться со следующим тщательно продуманным комментарием, приведенном в книге: «Юта: путеводитель по штату»: «Согласно церковной доктрине, многоженство было предначертанным свыше более высоким порядком брака, стоящим настолько выше моногамии, насколько моногамия стояла выше безбрачия. Жены и дети мужа прибавляли главе семьи славы в пебесах и сами разделяли с ним эту славу. Приятие, таким образом, полигамного брака было для членов церкви актом веры…» В повествовании о жизни Дальнего Запада многоженство представляет собой весьма увлекательную главу. Для мормонов же оно послужило причиной болезненных раздоров и конфликтов, которым суждено было расти н шириться до тех пор, пока президент США Быокеиен не объявил мормонов бунтовщиками и не?отдал приказ войскам вступить в Юту.
Глава XIV
Предприимчивые молодые непоседы 1852 год был годом наивысшего расцвета для ссверпой Калифорнии. Сто тысяч золотоискателей Сьерра-Невады добывали золото па четырехугольнике в двадцать миль шириной н шестьдесят миль длиной, куда вулканические силы выбросили более чем на дра миллиарда долларов пригодного для добычи золота. В этот год «предприниматели» при помощи кирки, лопаты, лотка и заявки па участок площадью в триста футов добыли на 80000000 долларов золота. Жена доктора Файетта Клаппе - Дейм Шир- ли, которая сопровождала мужа к месту разработок, писала домой своей сестре из Рич-Бара, какой ценой доставалось это золото: «Представь себе компапию предприимчивых молодых непосед, расположившихся на песчаной площадке величиной не более картофельного поля бедной вдовы… без кпнг, без церкви, без уроков, школ, театра, без хорошеньких девушек; большинство нх живет в сырых мрачных хижинах… Здесь идет непрестанный н упорный дождь, который сводит с ума людей, смывает мосты и превращает в кашу почти все селение».Золотая лихорадка порождала неуверенность; с приходом весны 1! возможностью снова начинать попеки даже те у кого были хорошие заявки, отправлялись искать новые места. Десятки тысяч людей бродили в границах золотого четырехугольника, отбивая друг у друга заявки. Дейм Шнрли замечает: «…Если человек сам разрабатывает спою заявку, если он экономен и предприимчив, следит за здоровьем и довольствуется малой прибылью, он обязательно будет с деньгами. И все же почти все, с кем мы были знакомы, терпят, по-видимому, убытки». Старатели забирались в такую глушь, что не было никакой возможности доставлять им те тонны писем, которые, обогнув мыс Горн, прибывали в жалкую почтовую контору Сан-Франциско и лежали там мертвым грузом, в то время как их адресаты жадно дожидались хоть какой- нибудь весточки из дому. Молодой старатель Ллександер Тодд, истосковавшись по известиям нз дому, положил начало тому, что у старателей стало называться «ослиным экспрессом» - предтеча романтического «конного экспресса». Решив отправиться в Сан-Франциско, где, как он был убежден, его дожидалась почта, Тодд объехал? соседние лагеря и собрал но доллару с каждого из старателей, которые хотели, чтобы он привез им почту. В Стоктоне торговцы попросили Тодда отвезти их золото в Сан-Франциско, а когда он согласился, вручили ему па 150 000 долларов золотого песка в мешке из-под масла! Он взял с них в качестве платы пять процентов доставленного золота. Тодда привели к присяге в должности почтового клерка, и он платил почтовой конторе по 25 центов за каждое письмо, полученное им для доставки адресату. Позже Тодд купил китобойную лодку и начал переправлять желающих через залив, взимая по унции золота с пассажира при условии, что тот будет грести одним веслом. Перебравшись через залив, Тодд грузил свою почту в седельные сумки мула н вез в горы сотни писем, получая за них с измученных одиночеством старателей по 4 доллара н по 8 долларов за любую прибывшую.с востока газету. ???? 227 Вскоре на каждом ручье, в каждом лагере н в каждом городе появились свои «экспрессы» для перевозки золота й почты. «Ездоком обычно был смелый и сообразительный Молодой человек, которому принадлежала линия и лошади. Свою «контору» он Держал обычно в какой-пибудь 15•
приличной лавке. Он скорее готов был умереть в седле, чем на десять минут запоздать к намеченному времени; лихой наездник, он всегда был весьма картинно одет и, молнией проносясь вверх или вниз по ручыо, трубил в маленький рожок». Значительно сложнее обстояло дело с доставкой продовольствия. Поскольку горные дороги были узкими и крутыми, поднимаясь на высоту до девяти тысяч футов, все снабжение осуществлялось караванами вьючных мулов, которые медленно передвигались, подгоняемые опытными калифориийцами. Караваны всегда встречались с восторгом. Они доставляли такие деликатесы, как лук, масло, картофель, которые продавались по 40 центов за фунт. За мулами ухаживали настолько тщательно, что они, но словам одного из старателей, «были жирные и гладкие, как котята». На приисках не было священников; воскресные дни отмечались увеличением числа разбитых голов. Когда 4 июля не нашлось для зачтения ни одного экземпляра Декларации независимости, толпа американцев, опьяневшая от виски и нахлынувших патриотических чувств, избила группу старателей-мексиканцев. Старатели-американцы очень легко обращались с законами. Молодая мексиканка, ударившая ножом пьяного старателя, который приставал к ней, была тут лад повешена без всякого разбирательства. Однако, когда мексиканец потребовал у американца вернуть ему небольшой долг и вместо денег получил клинок в грудь, никто и внимания не обратил на такую мелочь. «На протяжении двадцати четырех дней у нас были убийства, трагические несчастные случаи, смерти при невыясненных обстоятельствах, порка, одно повешение, одна попытка к самоубийству и дуэль со смертельным исходом», - писал один из старателей. К лету 1852 года насчитывалось уже пятьсот мелких шахтерских поселений, разбросанных по горам, и в каждом из них имелись собственные правила для суда присяжных, число членов которых колебалось от шести до населения всего поселка. Не было пи адвокатов, ни тюрем, показания сторон выслушивались в спешке, наказание приводилось в исполнение немедленно: человек нз Лйовы, уличенный в краже денег, тут же получил тридцать девять ударов по голой спине и удрал из города, два уроженца Новой Англии, схваченные с крадеными лошадьми, были повешены. Враждебное отношение к иностранцам тоже достигло своего апогея в 1852 году; один из пяти старателей был китайцем, еще один - мексиканцем, чилийцем или индейцем. Междоусобные «войны» между китайцами всячески поддерживались, поскольку они представляли собой яркие спектакли; целые индейские племена поголовно истреблялись из-за реального или выдуманного проступка, совершенного каким-то неопознанным индейцем. Ответные действия были неизбежны; многие мексиканцы, подвергшись дурному обращению, грабили путешественников, магазины и салуны, объединяясь в банды. По странному совпадению, как отмечает Джозеф Генри Джэксон в «Дурной компании», все мексиканские бандиты носили имя Хоакин, и вскоре всех их стали считать одним и тем же человеком, хотя преступления, совершаемые одновременно, происходили за двести миль одно от другого. По требованию калифорнийских газет власти выделили специальный фонд для экипировки и содержания роты конных рейнджеров с техасцем Гарри Лавом во главе. В июле рейнджеры Лава натолкнулись на банду мексиканцев, сидевших у костра, и убили двух из них. Они привезли заспиртованную голову одного из убитых, чтобы получить обещанную губернатором награду. Никто не знал, как звали владельца привезенной головы, но ее сразу же назвали головой Хоакина. Газеты подхватили¦ эту весть: «Знаменитый бандит Хоакин, с чьим именем связана сотня кровавых подвигов…» Рейнджер Лав получил причитающуюся ему награду, а голова была отправлена в Калифорнийский музей, на этом бы и замкнуть круг, а дело предать забвению. Но человек по прозвищу Желтая Борода, в жилах которого текла и кровь индейцев племени чероки, опубликовал в Сап- Франциско книгу под названием «Жизнь и приключения Хоакина Муриеты, знаменитого калифорнийского бандита». Книга эта - сплошной вымысел, однако она пользовалась успехом, была переведена на многие языки и зачастую стала восприниматься как правдивая история калифорнийского Робин Гуда. Хаос в общественных отношениях, в который за четыре года превратилась идиллическая атмосфера Сорок Восьмого, сказался и на методах добычи золота. Пройдет еще несколько лет, н старатели окажутся вынужденпыми по- кипуть горы, оставив крупным компаниям со сложной техникой золота на полтора миллиарда долларов. «Вольные предприниматели» силами десяти отдельных групп построили десять независимых плотни на десяти- милыюм отрезке реки Юба. В холме Лйова было прорыто девяносто туннелей. Сотпи старателей, каждый собственными силами, пытались отвести к своему участку хотя бы маленькую толику воды из реки Юба, израсходовав на эти попытки в общей сложности три миллиона долларов. Однако к зиме 1852/53 года добыча «индивидуальных капиталистов» резко сократилась, потому что запасы золота, смытого вниз потоками ручьев, иссякли. Оставались два основных источника, к которым трудно было подобраться: упрятанные в глубине горных пород жилы золотоносного кварца и лежащие высоко на склонах холмов насыпи из камня и песка, занесенные туда давно исчезнувшими реками. Гидравлическая добыча была изобретена человеком, который прикрепил накопечннк к шлангу и направил струю воды на склон холма пли обрыв, чтобы смыть вниз гравий и содержащий золото песок. Струя эта быстро смыла с территории Сьерра-Невады тысячи бродивших здесь старателей. Подобная операция требовала объединения людей и денег и положила начало добычи золота как отрасли большого бизнеса. Было положено начало и гибели золотого четырехугольника. Миллионы тонн камней и пустой породы запалили берега рек, ручьев и целые квадратные мили полей, которые с тех пор так никто и не попытался расчистить. Изоляция старателей, мелких золотоискательских поселков, а возможно, н самого Дальнего Запада прекратилась пе только с приходом в золотой четырехугольник крупной организованной промышленности. Первая липия почтовых дилижансов была основана в Сакраменто юным аргонавтом из Провиденса, штат Род- Лйлснд, по имени Джеймс Бнрч, который, купив легкий эмигрантский фургон и упряжку резвых мустангов, стал возить по регулярному расписанию пассажиров к Острову мормонов. Поездка в тридцать пять миль обходилась пассажиру в сумму от 16 до 30 долларов, выплачиваемую в виде одной или двух унций золотого песка. Бирч вскоре настолько расширил свое дело, что его линиями было соединено большинство городов центральной Калифорнии. Все американцы в Калифорнии были весьма заинтересованы в быстрой доставке почты. Письма, идущие теперь через Панаму, могли за месяц дойти от Ныо-Йорка до Калифорнии, однако многие недели уходили на то, чтобы они попали в Ныо-Йорк нз таких отдаленных областей, как Висконсин или Миссури. Калнфорнийцы пытались убедить федеральное правительство в том, что почту целесообразнее доставлять через Сьерра-Неваду и Карсон- Вэлли в Солт-Лейк, а затем на восток но уже проторенному пути. Департамент почт объявил этот план неосуществимым. Возможно, так оно и было бы, если бы не инициатива майора Джорджа Чопеннинга-младшего, опытного путешественника. Он отправился в путь нз Сан-Франциско, чтобы наметить места для промежуточных почтовых станций и определить, сколько времени потребуется на путешествие нз Сан-Франциско в Солт-Ленк - девятьсот миль через горы, песчаную и соляную пустыни. В январе 1851 года федеральное правительство предложило претендентам на пост почтмейстера представить сметы. Из тридцати семи кандидатов Чопеннинг предложил самую дешевую смету, с ним и был заключен контракт на четыре года. За жалованье в 14 000 долларов в год он обязывался поддерживать постоянную связь между Сап-Франциско и Солт-Лейком, доставлять почту «надежно и быстро», иными словами, затрачивая по месяцу на каждый рейс в одну сторону. Первую почту он доставил в Сакраменто на речном пароходе, перегрузил ее на вьючных мулов и тронулся на Плейсервилл в сопровождении дюжины опытных погон- циков и вооруженной охраны. В Плейсервилле - последняя остановка перед штурмом отрогов Сьерра-Невады - весь город бросился писать срочные, послания своим семьям. Чопеннинг добрался до Солт-Лейка в полном благополучии; то же самое сделал и его компаньон Лбесалом Ву- ДУОРД¦ Все лето и осень они провели во главе партий, двигающихся с востока на запад и с запада на восток. Однако с наступлением зимы появились два серьезных противника: индейцы и снежные заносы в горах. Первый удар Нанесли индейцы. Вудуорд в ноябре покинул Сакраменто вместе с четырьмя сопровождающими. Менее чем в ста милях от Солт-Лейк-Сити на нн\ напали индейцы. Люди были убиты, почта пропала. В феврале, в самый разгар зимних бурь, когда Ву- дуорда уже не было в живых, Эдисон Коудн с пятеркой новых рекрутов выехал из Плейсервилла - правительственный контракт должен был выполняться ежемесячно, иначе грозило расторжение. Мулы Коуди пали от холода. Людям пришлось тащить почту на собственных спинах, питаясь замороженным мясом павших мулов. Последние четыре дня пути до Солт-Лейка они двигались совершенно без пищи. Однако почта была доставлена. После этого случая и особенно после того, как были найдены тела Вудуорда и его спутников, майор Чопеннинг не мог нанять пи одного желающего сопровождать почту в Сан-Франциско. Он в одиночку проделал девятисотмнль- ный путь через земли диггеров и ютов и благополучно доставил почту в Сакраменто, показав образец храбрости и целеустремленности в стране, где храбрость и целеустремленность были повседневным явлением. В конце 18/«9 года «Адаме и компания» открыла контору в Сан-Франциско и поместила объявление в «Альта Калифорниа» о готовности обслуживать прииски курьерскими линиями. Конституция Калифорнии запрещала создание банковских корпораций. Компании экспрессных линий, имевшие свои конторы не только в Сакраменто и Сан-Франциско, но буквально в каждом лагере золотоискателей, взяли на себя ведение банковских операций. Когда линия принимала у старателя золото для доставки его к месту назначения, она делала пробу золота, взвешивала его, выдавала старателю расписку и гарантировала сохранность золота. Стальной сейф компании экспрессных линий превратился, таким образом, в местный банк. «Адаме и компания» в первый же год своей деятельности получила 50Q000 долларов чистой прибыли. В Сакраменто группа дельцов, ?не обращая внимания па положения конституции, открыла банк в каменном здании на набережной. Новый банк принимал до ста пятидесяти фунтов золота за один рабочий день, который продолжался с шести часов утра до десяти часов вечера. Операции осуществлялись тремя клерками, вооруженны ми кольтами и ножами. Весьма характерно, что «Компания Уэллс - Фарго», о которой повествуется в самых романтических сагах Дальнего Запада, родилась в задней комнате книжного магазина в Сиракузах, штат Нью-Йорк, в 1852 году. Генри Уэллс держал курьерскую линию от Олбани к Буффало и от Буффало до Сан-Луиса. 18 марта 1852 года в Астор- Хаусе оп основал «Компанию Уэллс - Фарго» с капиталом в 300000 долларов в стодолларовых акциях. К июлю два опытных представителя этой компании прибыли в Калифорнию: один - чтобы возглавить курьерскую линию, второй - для ведения банковских операций. В первом же объявлении, помещенном в «Альта Калифор- ниа», «Компания Уэллс - Фарго» изъявляла готовность «перевозить грузы, посылки и любые пакеты между Нью- Йорком и Сан-Франциско», а также «покупать и продавать золотой песок, слитки и денежные ассигнации, оплачивать и принимать расписки, счета и чеки». Самым интересным в этом рекламном объявлении было сообщение о «стальных сундуках для хранения сокровищ и ценных Пакетов», что породило классическую фразу налетчиков: «Бросай сундук!» Однако вся эта деятельность была мелочью по сравнению с сорока миллионами долларов, которые получил за транспортные услуги па Дальнем Западе недавно прибывший сюда Лилэнд Стэнфорд. Сын державшего постоялый двор фермера, он получил образование сначала в семинарии методистской церкви, а затем прошел трехлетнюю практику в юридической конторе в Олбани. В 1850 году Стэпфорд женится и открывает собственную юридическую контору в небольшом поселении на территории Висконсина, в то время как пятеро его братьев, поддавшись золотой лихорадке, отправляются в Калифорнию. По прошествии двух лет, когда пожар уничтожил библиотеку с книгами по праву, контору и предприятия большинства его клиентов, Стэпфорд отправил жену в Олбапи к ее родителям, а сам сел на судно, отправляющееся в Калифорнию Один из братьев помог ему паладить бакалейпую торговлю, спа- чала в бедном шахтерском лагере па Голд-Снрингс, а затем - в процветающем лагере Мичиган-Блафф. Когда братья Лилэнда Стэнфорда развернули бизнес на более широкую погу в Сан-Франциско, он стал управляющим Магазина в Сакраменто. Разрастающийся, подобно грибам после дождя, Сакраменто был уже третьим по величине городом Калифорнии. Здесь и было положено начало процветанию Лилэнда Стэнфорда, здесь он встретился с другими удачливыми торговцами Сакраменто: Хантингтоном, Крокером и Хон- кинсом. Здесь он вместе с ними занялся политической деятельностью, а позже и постройкой трансконтинентальной железной дороги. Здесь опн и превратились в Большую Четверку.
Глава XV
Л в Лос-Анджелесе - ни взлетов, ии падений Сан-Франциско превратился из охваченного бумом местечка в одну из мировых столиц с водопроводом, омнибусами, публичной библиотекой с двадцатью иностранными консультантами, восемнадцатью церквами, двенадцатью ежедневными газетами и десятью бесплатными школами- и все это за четыре лихорадочных года. Если всего два года назад суда входили в гавань только для того, чтобы быть покинутым!! своими командами и потом медленно погружаться на илистое дно, сейчас более тысячи судов прошло через пролив Золотые Ворота, доставив на 35 ООО ООО долларов товаров: сто миллионов фунтов мяса и свинины, рис, сахар, кофе, чай и особенно спиртное, которое продавалось здесь более чем в пятистах различных точках. Бармены - один на шестьдесят восемь жителей - и их помощники работали до полного изнеможения. Для города наступило счастливое время: в нем было не только более пятидесяти тысяч жителей, но и миллионы долларов в золоте, которые вкладывались в строительство шестисот новых кирпичных и каменных домов, ста шестидесяти гостипиц и отелей, шестидесяти шести ресторанов и двадцати купален. Участки под застройку па набережных города по двадцать шесть футов в ширину и по шестьдесят футов в длину продавались теперь по 10000 долларов. У всех были деньги; деловые конторы возникали с той же скоростью, с которой строились дома для их размещения. Телеграфные линии соединили город с наиболее важными центрами золотодобычи - Сакраменто, Стоктоном и Мэрнсвиллом, а на юге - с Сан-Хосе. Сельское хозяйство со ста десятью тысячами акров обрабатываемой земли процветало. «Люди сохранили все ту же энергию и бодрость духа, гу же склонность к быстрому обогащению и стремление спустить деньги, ту же экстравагантность, ту же страсть к нгре н пороку. Однако вид самого города неизмеримо изменился к лучшему. Дома его походили на дворцы; широкие улицы кипели деловой активностью; склады па причалах ломились от обилия товаров; его банки, отели, театры, игорные дома, бильярдные и торгующие спиртным салуны были полны люден; витрины магазинов выставляли напоказ богатейший выбор товаров, способных удовлетворить любой вкус; в обращении ходили огромные суммы в звонкой монете; здесь щеголяли лучшими лошадьми и экипажами, самыми элегантными нарядами, каждый был молод и бодр…» В газетах Сап-Франциско за 1853 год сообщалось о таком числе дуэлей - н дуэли эти собирали вокруг себя такие толпы народа, - что год этот по праву считался «годом, славным своими побоищами, когда каждый, решивший убить кого-то, убивал его». Хотя город все еще ввозил лед нз Бостона, в нем уже имелся литературный журнал «Пионер» и четыре театра - Американский, «Эделфи», «Юнион» н «Метрополитен», в которых в зависимости от вкусов жители могли увидеть Бутса в шекспировскихпьесах, английскую драму, вроде «Школы злословия», Лолу Монтес, почти совершенно голую, верхом на белой лошади, или маленькую Лотту Крэбтри - чисто калифорнийская разновидность зрелищных предприятий, зародившаяся на золотых россыпях. Старожилы вдруг осознали, что они могут попасть на страницы истории, и основали Общество пионеров Калифорнии, в которое вошли Саттер, Ларкин, Вальехо, Марш, Линзе, Хартнелл, Семпл, Бидуэлл. Ларкин умрет невероятно богатым в Сан-Фраицпско от тифа в возрасте пятидесяти шести лет; Вальехо до восьмидесяти одного года будет оставаться процветающим патриархом Сопома-Вэл- лн; Бндуэлл станет одной нз самых значительных фигур н крупнейшим землевладельцем в северной Калифорпии; Маршу же после двадцатилетнего воздержания, последовавшего за смертью его жены Маргерит, предстояло влюбиться. В пятьдесят лет богатый и одинокий Марш обратился к брату в Ныо-Йорке с просьбой подыскать ему хорошую Жену и доставить ее в Калифорнию. По хорошая жена сама нашла его: Эбигейл Так приехала в Калифорнию нз Массачусетса в надежде избавиться от мучавшего се кашля. Эбби отказала всем претендентам на ее руку. Капитан Эпплтон в отчаянии воскликнул: «Не знаю, кого вы ждете - разве что самого Джона Марша!» Эбби это заинтересовало, а когда Эпплтон закончил свой рассказ о Марше, Эбби объявила: «Вот это и есть человек, который мне нужен. Я в два счета жешо его на себе». Внешность Марша несколько разочаровала Эббн. Однако большое впечатление произвели на нее его обширные поля, виноградники, стада. Она вышла за него замуж и подарила ему дочь. Только ради Эбби, единственной во всем мире, развязал Марш свой кошель, купил ей жемчуга в виде виноградной грозди и построил самый большой и самый дорогостоящий дом во всей Калифорнии. Однако счастье их было недолгим: Эбигейл умерла от туберкулеза, а Марш был зарезан тремя работавшими у него мексиканскими вакерос, которых он обманул при выплате получки. '1а смену старожилам появились новые яркие личности. В Сан-Франциско из-за быстрого роста китайского населения рис оказался наиболее ходовым товаром. Если запаздывали суда из Китая, цены на рис поднимались невероятно быстро. Это и привело Джошуа Нортона, сына британских колонистов, к мысли о необходимости постройки мельницы для очистки и обдирки риса, привозимого из Китая. Нортон был достаточно богат, и решил стать монополистом, скупив весь рис. Так он и поступил. Но вскоре в пролив вошли еще три судна с рисом. Цены сразу упали, и Нортон лишился всех своих капиталов. А вскоре он лишился и рассудка. Объявив себя «императором» Нортоном, он расхаживал по городу в синем военном мундире с медными пуговицами, большими эполетами на плечах, в высокой бобровой шапке с немыслимым плюмажем и с символом власти - грубо сделанным жезлом. Добродушный и щедрый Сан-Франциско благоволил «императору» Нортону. Он занимал почетное место па трибунах, радушно принимался во всех ресторанах и салунах, где он мог есть и пить, не платя по счетам, разъез- лсал в омнибусах и лодках в соответствии с изданным им «королевским указом», публиковал свои «декреты» в местных газетах - тоже бесплатно, - облагал налогом граждан или коммерческие предприятия в тех случаях, когда ему были нужны деньги. Прохожие на улицах учтиво встречали его словами: «Добрый вечер, ваше величество». Зимой 1853 года наступил период засухи: выпало слишком мало дождей, и это затруднило промывку золота. Добыча резко упала. Резко упал и приток эмигрантов, которые были предупреждены родственниками и друзьями, работавшими на приисках, что ручьи Сьерра-Невады не текут уже по золотым руслам. Не было покупателей на заново отстроенные дома, деловые кварталы и вновь проложенные дороги Торговцы недвижимостью разорялись. Привозимые товары не находили потребителей, тогда как всё повые суда с товарами прибывали в Сан-Франциско. Их было доставлено столько, что хватило бы на десятилетие. Деловая активность, которая держалась на прошлом опыте и наличных деньгах, была свернута. Крах оттягивался до самого начала 1855 года, когда почтовый пароход привез известие о том, что банкирский дом Пейджа Бэкона и компании в Сен-Луисе испытывает финансовые затруднения. Толпа вкладчиков тут же бросилась спасать свои капиталы в местное отделение «Пейдж Бэкон и компании», что привело к его закрытию. Так началась первая из черных пятниц страны, когда обанкротилось почти двести фирм, а общий убыток составил более восьми миллионов долларов. Сан-Франциско стал важным, неотторжимым звеном в общей цепи экономики страны. В отличие от Сан-Франциско Лос-Лнджелес не знал ни взлетов, ни падений. Были слабые наметки роста в 1852 году: город начал сооружение морских причалов в Сан-Педро; совет города издал распоряжение, обязывающее жителей стирать белье в маленьких каналах, а не в реке, откуда город брал питьевую воду; было палажепо производство уксуса и пива. Газета «Стар» постоянно сетовала на то, что на доставку почты из Сан-Франциско уходит от четырех до шести недель - больше, чем на доставку ее из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Была предпринята попытка убирать мусор с улиц, которые в период дождей представляли собой, по словам современников, потоки грязи и отбросов: сбору подлежали «голопы и остатки домашнего скота и других мертвых животных для предания их огню с целью очищения воздуха». Город устроил конские скачки, па которых поклонники калифорнийской лошади поставили 50000 долларов на своего фаворита и потерпели крах, подобный закрытию банка (дамса и компании в Сап-Франциско, когда первой пришла австралийская лошадь. Лос-Анджелес, казалось бы, имел все основания для процветания: ведь владельцы окрестных ранчо сколотили огромные состояния, снабжая мясом Сан-Франциско и золотые прииски, виноделы отправляли свое вино даже на север; однако в 1854 году город мог похвастаться всего лишь одной церковью и пятьюдесятью домами без деревца, без цветов, без тени. По-видимому, владельцы ранчо и виноделы тратили свои деньги где-то в другом месте. Полное беззаконие воцарилось в Лос-Анджелесе в начале 1855 года. Дэвид Браун, который убил такого же прохвоста, как и он сам, был приговорен к повешению. Однако он сумел добиться отмены смертного приговора. Мэр города подал в отставку, присоединился к группе возмущенных горожан и участвовал в линчевании Брауна. Отчет о линчевании появился в газете за несколько часов до того, как оно¦ произошло, поскольку газету нужно было отправить на десятичасовом пароходе в Сан-Франциско. Бандиты, угонявшие лошадей и скот, терроризировали южную Калифорнию. Они убили шерифа Лос-Анджелеса н трех его помощников, прежде чем были схвачены армейскими подразделениями Соединенных Штатов, которым помогало несколько отрядов добровольцев. И все же Лос-Анджелес был не более беззаконным, чем Сан-Францпско. Оба города были составной частью диких пограничных земель. Б периоды процветания городское самоуправление попадало в руки тех, кто использовал его для собственного обогащения. Городские власти Сан- Францпско, подвергнутые чистке Комитетом бдительпости в 1851 году, к 1855 году паделали долгов на миллион долларов, из расчета тридцати шести процентов годовых. Разложение зашло настолько далеко, что один из судей, как оказалось, изучил пенологию, отбывая приговор в одной из восточных тюрем. Если финансовый гений американского парода принес на берега Тихого океана денежные махинации, то технический гений подарил Дальнему Западу урну для избирательных бюллетеней с фальшивыми стенками и дном, набитыми заранее заполненными бюллетенями. Во время выборов в Сан-Матео политическая машина умудрилась совершить истинное чудо, насчитав тысячу девятьсот заполненных бюллетеней в городке из пятисот жителей. Г л а и а XVI «Не стреляйте, я безоружен!» Потребовалось несколько хладнокровных убийств среди бела дня, чтобы зазвонил колокол Калифорнийской механической пожарной команды, созывая Комитет бдительности 1856 года. Сигналом послужил выстрел красавца Чарлза Кора, представителя преступного мира Сан-Франциско. Наделенный природой темными меланхолическими глазами и черными усами, Кора являл собой фигуру профессионального игрока в типичном для этой категории лиц наряде - богато украшенный жилет, небрежно наброшенный на плечи плащ, тонкие замшелые перчатки. Он умел вести себя с небрежностью подлинного джентльмена. В Сан-Франциско он прибыл с хорошенькой молодой девушкой Лина- белой Райан, более известной под именем Белль, которую он взял из публичного дома в Пыо-Орлеаие. Теперь она жила с ним на правах жены. Убийство произошло из-за различия в толковании правил приличия: супруга Уильяма Ричардсона, чиновника федерального правительства, выразила своему мужу неудовольствие, когда Кора на спектакле Американского театра открыто восседал в ложо со своей любовницей Белль, вместо того чтобы прятаться где-нибудь в заднем ряду за портьерами. Ричардсон наговорил резкостей Кора, с которым у него и ранее были столкновения. На следующий день они встретились в салуне «Блю-Уннг» и, по-видимому, продолжили выяснение отношений. Оказавшись на улице, Кора схватил Ричардсона за ворот и выхватил пистолет из кармана. Ричардсон успел крикнуть: «Не стреляйте, я безоружен!» Кора выстрелом в грудь убил Ричардсона. Сэм произнес зажигательную речь, призывая возвести Кора на виселицу, но был арестован за подстрекательство к 6} шу. Сан-Франциско все еще верил, что Кора можно осудить на законных основаниях.До этих событий работодатель Кора, один из наиболее беззастенчивых владельцев игорных заведений города, стал начальником полиции. На суде Кора защищал Эд- вард Д. Бейкер, который получил от Белль 10 000 долларов за великолепно построенную защиту; ему удалось сде- тать то, что Сан-Франциско считал невозможным: посеять разногласия среди присяжных по вопросу самозащиты. Следующее наглое убийство помогло сформироваться Комитету бдительности: убийство Джеймса Кинга из Уильяма, издателя «Ивнинг бюллетин», Джеймсом Кейси, бывшим обитателем тюрьмы Синг-Синг, а ныне попечителем школ графства. Пост этот он получил в награду за ввоз в Калифорнию хитроумно сделанной урны для бюллетеней. Кингу, уроженцу округа Колумбия, было тридцать четыре года; его брат Генри погиб в составе спасательной экспедиции Фремонта на пути в Таос. Джеймс приехал в Калифорнию для поправки здоровья в 1848 году, был в составе Комитета бдительности 1851 года, открыл банк, сначала процветал, а потом потерял 250 000 долларов во время депрессии 1854 года. «Честный, смелый, предельно искренний, но иногда слишком горячий», но отзывам современников, Кинг взял взаймы у друзей небольшую сумму и начал выпускать «Ивнинг бюллетин», поставив перед собой задачу разоблачения преступного мира, контролирующего политическую жизнь Сан-Франциско. Его блестящие редакционные статьи держали в страхе всех прохвостов города. Так продолжалось, пока он не предал гласности тот факт, что попечитель школ графства Кейси отбывал срок заключения в Синг-Синге. Когда он вышел из типографии и пересек улицу, из-за почтовой кареты появился Кейси и выстрелил в него. Он ранил Кинга и укрылся в полицейском участке, который находился под контролем его друзей. Люди высыпали на улицы. Один из братьев Кинга в пламенной речи потребовал для Кейси смертной казни через повешение. Толпа вокруг тюрьмы становилась всо гуще. Прибыли войска для усиления тюремной охраны. Мэр Ван-Несс увещевал: «Предоставьте действовать закону. Справедливость будет восстановлена». Но люди уже насмотрелись на справедливость в деле Кора. Они отказались разойтись. В эту ночь Уильяму Коулмену был предложен пост Председатели нового Комитета бдительности. Коулмен отказался: он только что вернулся после двухлетнего пребывания на Востоке и не одобрял самостоятельных форм правления. Он изменил свое мнение, когда убедился, что толпа окончательно взбунтуется, если не будут наведены дисциплина и порядок.
Хладнокровный человек и блестящий организатор, он опубликовал в газете следующее объявление: «Членов Комитета бдительности и добрых граждан просят прийти на собранно в дом № 105 1/2 на Сакраменто-стрит сегодня, в пятницу, в девять часов утра. Приказ Комитета бдительности». В это утро перед холлом на Сакраменто-стрит собралась толпа. К полудню полторы тысячи мужчин, отдавших себя в распоряжение Коулмепа, было внесено в списки комитета. Коулмена избрали президентом; каждый мужчина дал клятву подчиняться комитету, хранить тайну и получил порядковый номер. К вечеру записалось дво тысячи граждан. Коулмен велел им разбиться по ротам в сто человек каждая, выбрать командиров и составить планы военной подготовки. Исполнительный комитет был расширен до тридцати семи членов. Работал он в три смены по двенадцати человек в каждой. По три командира от каждой сотни входили в Совет делегатов. Члены комитета вносили денежные пожертвования; ружья н порох были взяты в аренду у Джорджа Лоу, который приобрел их для центрального правительства. К семнадцатому мая, через три дня после ранения Кинга, комитет насчитывал восемь тысяч членов. Был снят трехэтажный дом № 41 но Сакраменто-стрит, а на его крыше установлена пушка. Было возведено укрепление ич рогожных мешков с песком высотой в восемь футов, с амбразурами. На углах укрепления установили пушки. В тылу находились конюшни с кавалерийскими и артиллерийскими лошадьми. Теперь Комитет бдительности имел дисциплинированную армию, располагавшую фондом в 75 ООО долларов, образованным из пожертвований, на который он мог приобретать оружие. Штаб получил название форт Рогожных мешков. По сигналу того же самого колокола, которым комитет пользовался в 1851 году, три четверти мужского населения города с оружием в руках и с полоской белой ленты в петлице бежало к месту сбора. ???? 241 Комитет начал с того, что принял устав, подобный уставу комитета 1851 года, а затем приступил к делу, ради которого был образован. Ясным воскресным утром две с половиной тысячи Бдительных в сопровождении пятнадцати тысяч зрителей двинулись к тюрьме. Роты окружили тюрьму, перед ее воротами были установлены пуш- 16 Зак. М 1463
кн. Смотритель тюрьмы поспешно выдал им Кейси, которого карста Коулмена доставила в форт Рогожных мешков. Через час карета вернулась за Чарлзом Кора. 20 мая Кейси и Кора предстали перед заседавшим в форте Рогожных мешков судом из двенадцати присяжных, выбранных из состава исполнительного комитета Комитета бдительности. Кора попросил, чтобы одип из членов комитета был его адвокатом. Свидетелей приводили для дачи показаний из другого помещения. Большинством голосов Кора был признан виновным. Он объявил, что удовлетворен судопроизводством. Во время суда над Кора пришло известие, что Джеймс Книг скончался. Джеймс Кейси предстал перед судом и был единогласно признан виновным. Казнь назначили на 22 мая - день похорон Кинга. Опускающиеся на петлях платформы были установлены на уровне второго этажа форта Рогожных мешков. Три тысячи вооруженных Бдительных выстроились на улицах внизу. После того как была совершена брачная церемония Кора н Белль, Кора и Кейси были выведены нз высоких окоп второго этажа на платформы. Им накинули капюшоны на головы и петли на шеи. Ударил церковный колокол. Ему отозвались все церкви Сан-Франциско. Как только похоронная процессия с телом Кинга показалась из уннтарианской церкви, палач обрубил поддерживающие платформы веревки. В следующие недели политические махинаторы дюжинами представали перед Комн1етом бдительности. Их судили и депортировали, оплачивая в случае необходимости транспортные расходы. В июне губернатор Джонсон решил, что пора положить конец самочинной деятельности комитета, н объявил осадное положение. Когда президент Ппрс отказал ему в помощи воинскими частями и артиллерией, губернатор обратился к генерал-майору Вулу в Бенншна и капитану военно-морского флота Дэвнду Фар- рагуту на остров Маре. Оба ответили отказом. Некоторое время спустя оружие, хранящееся в арсенале Бенншиа, было наконец предоставлено в распоряжение национальной гвардии штата. Узнав об этом, Бдительные напали на лодки, которые доставляли боеприпасы и оружие в Сан-Франциско, и захватили их.
Выгнав мошенников из города, Комитет бдительности назначил Четвертое июля днем своего торжественного самороспуска. Однако этому помешало следующее обстоятельство: Стерлинг Хопкинс, исполнявший роль палача при казни Кора и Кейси, получил неспровоцированный удар ножом, нанесенный ему членом верховного суда штата Дэвидом Тэррн. Дэвид Тэрри, человек гигантского роста, грубый и несдержанный, у которого всегда был наготове охотничий нож, родился в Кентукки, добровольцем участвовал в войне за отделение Техаса и был лейтенантом техасских рейнджеров в Мексиканской войне. Он попал в верховный суд штата, следуя в фарватере слабого, невежественного и аптнкатолически настроенного губернатора Джонсона. Президент Бдительных Коулмен выдал ордер иа арест некоего Джеймса Мейлопи. В то время, когда судебный исполнитель Хопкннс попытался его арестовать, Мейлопи был вместе с судьей •Тэррн. Возник скандал, в ходе которого раздался пистолетный выстрел. Судья Тэррн выхватил охотничий нож и всадил его в шею Хопкинса. Комитет бдительности вынужден был снова заняться делом, однако вставала проблема: имеет ли право неофициальный комитет повесить члена верховного суда штата, если Хопкинс умрет? Тэрри, сидевший под арестом в форте Рогожных мешков, обратился к командиру военного корабля США «Джон Адаме» за помощью, и тот потребовал выдачи судьи Тэрри, пригрозив «применением имеющейся в его распоряжении силы», иными словами, бортовых орудий его корабля. Возникла угроза военного конфликта между Комитетом бдительности и федеральным правительством. Однако капитан Дэвид Фаррагут успокоил капитана «Джона Адамса», Хопкинс выздоровел, и Комитет бдительности признал судыо Тэрри виновным всего лишь в нанесении телесных повреждений. Комитету бдительности пришлось разобрать еще два жестоких убийства: некий Джозеф Хе- терингтон, которому доктор Эндрыо Рондалл был должен небольшую сумму денег, застрелил доктора в коридоре гостиницы, а Филандер Брейс, отбывавший тюремное заключение за кражу, убил капитана полиции Уэста. Комитет бдительности арестовал, судил и повесил убийц. ???? 16¦ Комитет наконец осуществил свой самороспуск 18 августа, сохранив, однако, за собой неофициальную власть.
243
Он выдвинул своих кандидатов на все должности в органах городского самоуправления, проведя их по спискам народной партии, и назначил ответственных контролеров на президентских выборах 4 ноября 1856 года, когда демократ Джеймс Быокенен победил республиканца Джона Фремонта. Повесив десять убийц, депортировав политических комбинаторов (около восьмисот из пих покинуло город добровольно), народная партия обеспечила честные выборы. Те полицейские, которые присоединились к Бди тельным, вернулись теперь к исполнению своих обязанностей. Комитет бдительности устроил парад, на котором под звуки оркестра члены комитета маршировали в «длинных, застегнутых по самое горло сюртуках, блестящих шляпах и с белыми сатиновыми ленточками в левых петлицах», у командиров «в ружейные стволы были воткнуты букетики цветов». Уильям Т. Коулмен стал общепризнанным героем, и ему предлагали любую политическую должность - вплоть до президентства Соединенных Штатов. Он? отказался от всех. Джеймс Шерер в своей книге «Лев Бдительных» приводит следующие слова Коулмена, которыми он оправдывает законность действий комитетов 1851 и 1856 годов: «Кто установил законы и назначил их исполнителей? Народ. Кто наблюдал, что эти законы пе соблюдаются, нарушаются и попираются? Народ. Кто имеет право защищать эти законы и проводить их в жизнь, если слуги парода неспособны к этому? Народ». Так в Сап-Франциско наступил период относительно стабильного правления.Глава XVII «Ребята,
вы тоже вышли на эту жилу!» Нелегко закладывать фундамент новой страны, как нелегко и найти богатую золотоносную жилу. На это уходит много лет, и обходится это во многие человеческие жизни. Весной 1851 года два события: первое - караван фургонов, принадлежащих братьям Рииз, вышедший из Солт- Лейк-Сити в западном направлении, и второе - караван братьев Гроуш, вышедший из Вокано, штат Калифорния, в восточном направлении, - привели к заложению основ современной Невады. Джон Рииз, его брат и компаньоны построили первый постоянный торговый пост, а Лллен и Хозия Гроуш проложили дорогу к разработкам. Сорокатрехлетний уронсенец Нью-Йорка Джон Рииз приехал в Юту в 1849 году и открыл лавку в Солт-Лейке. Прослышав, что в Карсон-Вэлли имеется много незанятой и плодородной земли, братья Рииз с четырнадцатью компаньонами погрузили на десять фургонов муку, масло, яйца, мясо и инструменты и, проделав путь через солончаки и песчаные пустыни, добрались до западной оконечности Карсон-Вэлли. Там они не то просто заняли, не то купили за два мешка муки брошенный пост Бити. Они выстроили Г-образный бревенчатый дом, склад и форт, который стал известен как Мормонская станция. Шестьдесят тысяч золотоискателей прошли через до- липы Гумбольдта и Карсона по пути в Калифорнию. Рииз говорил: «Пронесся слух, что 1852 год будет годом обильной эмиграции. Я навел кругом порядок и засеял поля, готовясь к нему». Аллен и Хозия Гроуш, которым не исполнилось еще и но тридцать лет, покинули золотые прииски Калифорнии, где они работали до этого довольно удачно. Слухи о золотоносном районе в Неваде возбудили их молодые и предприимчивые головы. Они продвинулись по Золотому Каньону в Неваде дальше всех своих предшественников. Наткнувшись на так называемую «голубую породу», которая забивала их лотки, они сделали несколько примитивных анализов. Братья написали отцу о своем убеждении в том, что в Солнечных горах имеется много золота, да и серебра тоже. Джон Рииз такн«е сумел осуществить свои смелые планы. Роль золотых самородков у него играла репа, приносившая доход по доллсру за пучок. «Я никогда и не думал, что на этом моишо делать деньги, - восхищался Рииз. - На меня работало семнадцать человек, по я так и не мог удовлетворить спрос. Здесь потребовалось бы много хороших! анчо». Невада, западное графство Юты, лежащая па расстоянии пяти или шести сотен труднопроходимых миль от Солт-Лейка, не имела своих органов власти. Дисциплина мормонов начала постепенно падать.Первой заботой поселенцев было юридическое оформление прав собственности на занятые ими земли. 12 ноября Рннз и остальные обитатели Мормонской станции вместе с четырьмя поселенцами со станции Игл приняли решение направить петицию в конгресс с просьбой создать здесь территориальное правительство, независимое от Юты, а также произвести землемерную съемку на всех заявленных участках земли, назначив для этого одного из них землемером. Собрание завершилось избранном комитета из семи человек для осуществления местной власти. Джон Ринз возглавил закоподательный комитет, который тут же назначил секретаря, казначея и вынес решение о том, что каждый поселенец может занимать только один участок земли, поскольку пригодной для обработки земли в этих долинах мало. На двух последующих собраниях они разработали общие контуры целого правительства, нисколько не смущаясь тем обстоятельством, что у них не было на это прав. Были быстро выдвинуты кандидаты на должности мирового судьи, шерифа, а также присяжных. Был издан указ, передававший пригодные для лесоразработок участки в общее пользование; поселенцы наделялись правом продажи своей заявки на землю для приобретения новой, с тем, однако, чтобы в эту новую землю по истечении шести месяцев было вложено не менее пятисот долларов. Эмиграция с востока была настолько многочисленной, что Ринз с Айзеком Моттом, лсепа которого была первой поселившейся в Карсон-Вэллн женщиной, обратились к поселенческому правительству с просьбой разрешить им построить мост для платного проезда через реку. Разрешение нм было дано с условном, что они берут на себя улучшение дороги в Калифорнию через горы. Правительство установило сумму сбора: один доллар за фургон, по двадцать пять центов за лошадь или мула, десять центов С головы рогатого скота и по два с половиной цента за овцу. Айзек Мотт построил себе более обширный дом в четырех милях к югу от Мормонской станции, а в старом доме открыл школу. Таким образом, органы самоуправления в Неваде родились почти в полном объеме в комнатке бревенчатой хижины торговой станции.
Томас Уильяме, юрист и торговец в одном лицо, гнавший в Калифорнию стадо крупного рогатого скота, отнра- вил Врлйаму Янгу панический доклад: «Граждане Карсои- Влли объявили, что ни в вопросах правления, ни в судебных делах они больше не будут подчиняться мормонским законам… заявили, что они больше не будут платить налоги, налагаемые на них с территории Юты». Мормопы стремились к тому, чтобы Невада оставалась одним из их графств. Пройдет еще десять лет, прежде чем президент США Джеймс Быокенен подпишет билль о предоставлении Неваде статуса независимой территории. Аллен и Хозпя Гроуш двинулись в обратный путь в Калифорнию через горы, но они не оставили свои эксперименты. Весной 1853 года они вернулись в Неваду, па этот раз привезя с собой «значительное количество книг по научным вопросам, химические препараты и инструменты для взятия и исследования проб». Хотя общее число старателен в Неваде насчитывало примерно сто восемьдесят человек, братья Гроуш были единственными, кому пришла в голову мысль о том, что страна может быть богата серебром, - единственными, за исключением мексиканцев, которые прибыли из Сопоры в Калифорнию в 1850 году. Отлично знакомые с работой па серебряных рудниках, мексиканцы постоянно твердили «мучо плата» («много серебра»), однако старатели искали золото и не слушали мексиканцев, к которым они относились пренебрежительно. Братья Гроуш дружили с мексиканцами, особенно со Стариком Френком, который помогал им обследовать страну н показал наиболее перспективные места залегания серебряной руды. Братья Гроуш выстроили дом из дикого камня на Американской равнине между Шестимильным каньоном и тем местом, которому предстояло стать городом Вирджиния. Они установили два горна: один - для выплавки металла, второй - для проб, - а затем обследовали жилу, руда в которой представляла собой темно-серую тусклую массу, напоминающую листовой свинец. Они размельчили породу, прокалили се в плавильной печи, получили темную н твердую массу, опустили ее в сосуд с азотной кислотой и следили, как она медленно растворяется. Так наши начинающие металлурги доказали наличие серебра в Неваде. Лаймеи в книге «Сага о рудной жиле Комстока» с некоторой склонностью к гиперболизации пишет, что должны были чувствовать братья Гроуш, сидя в полном одиночестве на вершине целой горы чуть ли не чистого серебра: «От результатов этой пробы зависели богатства тысяч людей, национальное благосостояние, будущее расы, исход великой войны. Этот анализ породил дюжины миллионеров! Кварталы мраморных зданий в Сан-Франциско! Телеграфный кабель вокруг земного шара! Штат, законодательство, великолепную шахтерскую школу, кодекс шахтеров! Выдающиеся инженерные сооружения! Эта проба породила тщеславие королей, власть князей, блеск корон!» Гроуш решили хранить в тайне результаты своего открытия. Чтобы распорядиться им наилучшим образом, им потребуются капиталовложения и новые исследования. Двигавшиеся по тракту эмигранты-немормоны подпадали под очарование Карсон-Вэлли и, соблазнившись ее плавно спускающимися к горному хребту землями с золотистыми соснами и кустами можжевельника, зачастую поселялись тут, отказываясь от дальнейшего пути. Другие, отчаявшись найти Эльдорадо в Калифорнии, вспоминали яркие солнечные поляны с персиковыми деревьями на берегу реки и возвращались через горы, чтобы занять землю на восточных склонах Сьерра-Невады. Брайам Янг послал сюда небольшое число семей, чтобы сохранить преобладание мормонов, однако предпринимать колонизацию в широких масштабах он колебался из-за известий о золоте в Неваде. К решительным действиям его подтолкнули сорок три жителя Карсон-Вэлли, которые в феврале 1853 года, все еще не получив статуса территории, составили петицию к законодательным органам Калифорнии с просьбой о присоединении. Эдвин Д. Вулли, мормон из Солт-Лейка, писал домой: «Судя по увиденному здесь, я сомневаюсь, что мормонство может сохраниться в этой стране». Он выражал огорчение по поводу того, что мормоны не хотят собираться по воскресеньям и петь «Дух божий горит как огонь», предпочитая распевать вместе с инаковерующими непристойные куплеты. В канун Нового года был устроен первый танцевальный бал на станции Спэффорда Халла, «на котором присутствовало девять особ женского пола, включая и маленьких девочек, - три четверти слабого пола в западной Юте». К сожалению, эту робкую зарю светской жизни Невады омрачило облако: пока мужчины танцевали, ин- дсйцы племени уошоз угнали у них весь скот. Начало брачной жизни в Неваде проходило тоже довольно бурно- первую новобрачную, всего четырнадцами лет от роду, отец отобрал у ее горячо любящего супруга. Кровопролития удалось избежать благодаря тому, что юная леди решила продолжать путь со своим отцом, поскольку пейзажи Калифорнии показались ей привлекательнее супружеской жизни. На Мормонскую станцию из Солт-Лейка прибыл старейшина Орсоп Хайд с партией из тридцати пяти мужчин с семьями. Он предложил провести выборы должностных лиц графства в соответствии с законодательством Юты. Чтобы устранить разногласия, старейшина Хайд потребовал от Калифорнии проведения демаркационной линии. Обследование показало, что долина Карсона относится к Юте. Вскоре число мормонов в долине Карсона дошло до двухсот. Теперь они могли избрать собственных кандидатов на все посты и начать колонизацию по мормонскому плану: новые города, широкие улицы с ирригационными канавами но обеим сторонам. Они внесли изменения и в социальную жизнь долины: здесь не должно быть места фривольным развлечениям, все должно делаться для общей пользы, причем упорный труд считался величайшим из достоинств. Деятельный Орсон Хайд переименовал Мормонскую станцию в Геную, основал в Уошоэ-Вэлли новое поселение под названием Франктаун, начал работы по постройке лесопильни, подготовил помещения для приема новых шестидесяти или семидесяти семей, направляемых сюда Брайамом Янгом, и торжественно открыл новый столп Сиона - миссию долины Карсона. Взбунтовавшаяся было мормонская паства потихоньку возвратилась в свои овчарни. Однако золотые россыпи Невады иссякали, и теперь старатели редко зарабатывали более пяти долларов в день. Даже непритязательные китайцы пренебрежительно говорили: «Два таза - одна песчинка». Весной 1855 года братья Гроуш «нашли воистину гигантскую жилу». Они основали компанию «Юта энтерпрайз майнинг», пытаясь через своего отца привлечь в ее акционеры «родственников и друзей из среднеатлантических штатов». Весь 1856 год отец был единственным их кредитором. В начале 1857 года братья вместе с выходцем из Канады Ричардом М. Бюком решили застолбить спои богатые заявки и приступить к разработке. Джордж Браун - владелец торгового поста п почтовой станции на реке Гумбольдта - единственный во всей Неваде верил в их начинание. Он предложил Лллену н Хозии свои сбережения в сумме шестисот долларов н все деньги, вырученные от продажи товаров и самой лавки. Им бы хватило этих денег. «Гигантскую жилу» Гроуш застолбили от имени «Фрэнк майнинг компани», назвав се так в честь старого мексиканского друга; на другие перспективные участки они сделали заявку от имени «Юта энтсрпрайз майшшг» и, как они писали своему отцу, «маленькую, но значительно более перспективную жилу» заявили на собственное имя. Юридически оформить свои заявки было пока еще негде, и они ограничились тем, что самым тщательным образом составили карты этих мест и внесли ил в свой дневник. В это время у них появился поклонник - Генри Ком- сток но прозвищу Оладья, горец и старатель-неудачник, ленивый (прозвищем своим он обязан был тому, что ленясь печь хлеб, просто жарил оладьи, выливая тесто на раскаленную сковороду), темный и безграмотный, но достаточно сообразительный, чтобы повсюду следовать за Гроуш. Не успели Гроуш приступить к разработке своей гигантской жилы, как Хозня поранил киркой ногу. В последнюю неделю августа Лаура Эллис проезжала верхом мимо хнжипы Гроуш и увидела, как Хозия парит в горячей воде раненую ногу. Она сообщила ему неприятную новость - Джордж Браун убит индейцами. Это означало, что никаких денег братья не получат. Пришедшим в уныние Гроуш Лаура Эллис предложила 1500 долларов на продолжение работ. Просиявший Хозня поднял кусок взятой на пробу породы и, указав им на вершину горы, сказал миссис Эллис, что их рудник находится у подножия этой горы. 2 сентября 1857 года Хозня Гроуш умер от гангрены. Его брат Аллен впал в полное уныние н перестал заниматься разработками. Надвигалась зима, но Бюк никак не мог уговорить его двинуться в путь через горы под защиту более теплого калифорнийского климата. Наконец 15 ноября они двинулись в путь, но было уже поздно. На одном нз гребней Сьерра-Невады нх застала страшная метель, которая замела все тропы. Вынужденные убить своего мула на мясо, они двигались по снежному бездорожью, неся за спиной все свои пожитки. Порох и спички отсырели, четыре дня им пришлось обходиться без пищи и без костра. Сначала они отморозили пальцы ног, затем - ступни. Когда Лллсн и Бгок дотащились до лагеря старателей, ноги их были обморожены до!солен. Бюк согласился на ампутацию одной ноги и ступни у другой. Аллеп Гроуш отказался от ампутации. 19 декабря он умер смертью Хозни - от гангрены. Гроуш не довелось получить хоть какую-нибудь вы(о- ду от своего открытия. Плоды их семилетних трудов достались другим. А их отцу не удалось вернуть даже те доллары, которые он отсылал сыновьям. И все же Аллеи и Хозия Гроуш, подобно Джону Саттсру и Джеймсу Маршаллу из Калифорнии, вошли в историю как первооткрыватели грандиозных богатств Невады. Через несколько недель после смерти Аллепа Гроуш Комсток Оладья, который теперь поселился в покинутом братьями доме, принялся вместе с Джоном Бишопом и человеком по прозвищу Старый Вирджиния искать золото у самого водораздела подле Ворот Дьявола, на месте находки Гроуш. Работая у самой поверхности при помощи кирки, лопаты и лотка, они намыли достаточно золота, чтобы сделать заявку. На следующее утро, в пятницу 29 января 1858 года, несколько старателей из Джонстауна прибыли сюда, чтобы обследовать месторождение; поело некоторых колебаний оставили свои дома и старатели из Чайпатауна. Дневная добыча составляла здесь десять долларов, вскоре уже около сотни человек ковырялись в бесплодной, каменистой и покрытой кустиками шалфея пустыне, которая потом стала называться Золотым Холмом. У них но было ни малейшего представления о том, что они трудятся пад богатейшей}килой серебряной руды - секрет этот был похоронен вместе с Алленом и Хозией Гроуш. В июне 1858 года безграмотный старатель по имени Питер О'Райли вместе со своим другом Патриком Мак- Лафлином сделали заявку на участок у подножия Сан- Маунтип. Они рыли канаву на склоне холма в паправле- пн ручья в падежде на то, что подведеппая вода позволит немного увеличить жалкую добычу золота, которая составляла всего два доллара в день. На глубине четырех футов они натолкнулись па странную прослойку синеватой породы шириной в несколько футов. Начав пробную промывку, они обнаружили, что золото в ней нужно считать не. унциями, а фунтами. Комсток Оладья, подошедший к старателям, некоторое время наблюдал за их работой, а потом воскликнул: «Ребята, вы тоже вышли на эту жилу!» Жуликоватому Комстоку быстро удалось убедить первооткрывателей, что он и Старый Вирджиния уже успели застолбить именно эту заявку. Во избежание ссоры О'Райли и Мак-Лафлин вписали их в свою заявку, которая потом превратилась в рудник «Офир». Комсток убедил старателей и в том, что ручей также принадлежит ему, что обеспечивало ему дополнительные сто метров ниже первоначальной заявки в триста футов. Эти сто футов превратились потом в Испанский или Мексиканский рудник. На следующее утро, И июня, состоялось первое собрание старателей у Золотого Холма, на котором присутствовало от ста до ста пятидесяти старателей. В противовес заявленным накануне претензиям Комстока они проголосовали за введение калифорнийского кодекса старателей, по которому заявка каждого ограничивалась тремястами футами плюс дополнительные триста футов для первооткрывателя. Ажиотаж охватил окрестности. Последние скептики из Джонстауна и Чайнатауна, фермеры из близлежащих долин и мормоны-отступники устремились к новым россыпям. Они все еще продолжали промывать золото, игнорируя слова мексиканцев, постоянно повторявших: «Мучо плата! Мучо плата!» Единственным человеком, который прислушался к этим выкрикам и поверил им, был Б. А. Харрисон из Траки- Мидоуз. Будучи убежденным ранчеро, он не соблазнился сомнительным счастьем старателей, однако, возвращаясь к себе в Траки-Мидоуз, Харрисон приторочил к седлу мешок, полный черных камней, на которые никто не обращал внимания. Вернувшись домой, он показал их своему соседу Дж. Ф. Стоуну, который держал торговый пост. Стоуну предстояло отправиться в путь через горы для пополнения запаса товаров, и он предложил взять с собой эти камни. По другую сторону Сьерра-Невады, спустившись в Невада-Сити, расположенный уже в Калифорнии, Стоун по- иазал привезенные образцы И. Г. Уэйту, издателю газеты «Невада джорнэл». Уэйт разделил пополам содержимое мешка, отдав каждую половину опытным в проведении проб людям. В тот же день, когда еще не были готовы результаты анализов, судья Джеймс Уолш и Джозеф Ву- дуорт двинулись в путь через горы. Расстояние до Золотого Капьона они преодолели за три дня форсированного марша. Старания их были вознаграждены долевым участием в богатейшей заявке. 1 июля 1858 года «Невада джорнэл» опубликовала результаты обеих проб: черный камень оказался невероятно богатой породой. Он не только целиком подтверждал правдивость мексиканских выкриков «мучо плата». В его со- стве были треть чистого серебра, а также богатые примеси золота, сурьмы и меди. Сотнн старателей устремились из Калифорнии к невад- ским залежам через Сьерра-Неваду. Первая юридическая контора по оформлению заявок была открыта в салуне В. А. Хаусуорта. Поток новоселов окончательно захлестнул старожилов Золотого Капьона. К середине июля все дороги и тропы в горах были забиты тысячами старателей, стремящихся к новым россыпям.
Глава XVIII
Побоище на Маунтии-Мидоуз Конфликт, начало которому было положено отъездом федеральных чиновников из Юты, разгорался все сильнее, ибо Брайам Янг не постеснялся объявить во всеуслышание о намерении править Дезеретом. Государственные служащие, назначенные Вашингтоном вместо уехавших, оказались людьми вполне покладистыми. Младший судья Лионидас Шейвер из Вирджинии и верховный судья Лазарус Рид из Ныо-Йорка рассматривали в судах только те дела, в которых затрагивались федеральные законы. Они считали, что верования мормонов - это их личное дело, право, гарантированное им федеральной конституцией. Однако с утверждением Франклина Пирса на посту президента США в марте 1853 года пошли слухи о том, что вместо Брайама Янга на пост гу бернатора Дезерета будет назначен немормон. «Я занимаю пост губернатора, - метал громы н молннн Вранам Янг, - и буду занимать его до тех нор, пока всемогущий господь не скажет: «Брайам, ты больше не должен быть губернатором». Эта вспышка если и свидетельствовала о налпчи храбрости у Бранама Япга, то уж никак не такта. Опубликованные в «Дезерет ныос», слова эти вскоре стали известны на Востоке. Они не только углубляли уже существующее неприязненное отношение к мормонам, но явились прямым вызовом президенту Пирсу. Согласиться с Бранамом Янгом означало потерять лицо, сместить его - вызвать новые раздоры. Пирс нашел компромисс: подполковник И. Дж. Степ- тоу уже бывал в Солт-Ленке и у пего были хорошие от- пошепия с мормонами. Его направили в Юту, возложив па него смешанные обязанности гражданского губернатора н главнокомандующего войсками. Вместе с ним прибыли пехота, артиллерия и драгуны. Он также привез инструкции военного департамента относительно строительства военной дороги через территорию. Таким образом, у войск был предлог для пребывания в Юте с сентября 1854 года до весны 1855-го, не давая при этом почувствовать мормонам, что к ним направляют армию для наспльного проведения в жнзпь эдиктов федерального правительства. Хотя инструкции позволяли подполковнику Стептоу занять пост губернатора, он перевел свой штаб на сорок пять миль от Солт-Ленка н тактично оставался на!!тором плане, не вступая в конкуренцию с Брайамом Янгом н занимаясь только теми несложными делами, которые были поручены ему военным департаментом. Мормоны считали его человеком с «мягкими манерами, умеренных суждений н тер- ннмым во взглядах». В новом, 1855 году Стептоу и федеральные суды! пе- мормопы обратились к президенту Пирсу с петицией, в которой содержалась просьба сохранить за Браиамом Янгом губернаторски!! ноет. Пирс восстановил Янга. Стептоу вывел войска с территории Юты. Первый выстрел в Ютской воине прозвучал в суде. Младший судья Джордж П. Стайлз, бывший мормон и советник по юридическим вопросам у пророка Джозефа Смита, выяснил, что, хотя здесь имелся федеральный судебный исполнитель, законодательное собрание Юты назначило территориального судебного исполнителя и возложило на пего обязанности состаплять списки присяжных* п приводить в исполнение решения суда. Федеральный судебный исполнитель был бессилен против президента Янга и его апостолов. Когда судья Стаплз потребовал, чтобы какой-то частный вопрос был рассмотрен судом, мормонские юристы отказались ему подчиниться. Стаплз обратился к Бранаму Янгу, который объявил федеральному судье, что, если тот не в силах обеспечить исполнение своего решения, ему лучше подать в отставку. Мормоны захватили бумаги Станлза и вроде бы сожгли их на большом костре. Стаплз ушел с поста, вернулся в Вашингтон иобвинил мормонов в том, что они сожгли судебные документы. Его коллега Уильям У. Друммонд тоже подал в отставку н, вернувшись в Вашингтон через Калифорнию, выдвинул целый ряд обвинений, которые привели в ужас всю страну: «Мормоны почитают одного лишь Брайама Янга и от него одного ждут законов, которыми направлялась бы их жизнь; поэтому ни одни из изданных конгрессом законов они не считают для себя обязательным». Друммонд обвинил мормонов в том, что у них имеется тайная организация для противодействия установленным в стране законам и специально отобранная группа людей, которые по приказу церкви лишают жизни и имущества тех, кто мог бы усомниться в церковной власти; в оскорблении федеральных должностных лиц, действующих на их территории, н сопротивлении властям; в клевете на американскую форму правления… Мормонам Друммонд нравился ничуть не больше, чем они ему. Они утверждали, что это «игрок и наглец, прибывший в Юту единственно ради денег», привезший в Юту любовницу, которая сидела в суде рядом с ним и писала ему любовные записочки, пока он якобы был занят выслушиванием доказательств. Обвинения Друммонда прибавились к обвинениям Станлза, а к ним в свою очередь прибавились обвинения пемормонского почтальона, утратившего контракт из-за Брайама Янга. Он написал письмо па имя президента США, в котором утверждал, что «гражданские законы территории омрачены так называемой экклезнастской организацией ?- самой деспотичной, опасной и нечестивой из всех когда-либо существовавших на земле… которая в недалеком будущем доведет эту страну до полного опустошения и обратит се в пустыню». Это, естественно, было полной бессмыслицей - мормоны основывали жизнеспособные поселения в покрытых красным песком пустынях и не только в местностях Солт-Лсйк, Прово или Огден, по и в других заново заселенных на юге. Единственное, что президент США знал твердо, так это то, что назначенные федеральным правительством должностные лица возвратились и сделали резко отрицательные доклады, а это означало, что в Юте, помимо агента по делам индейцев, нет ни одного официального должностного лнца, назначенного федеральным правительством. Фактом оставались и гневные слова Брайама Янга: «Никто не подорвет моей власти. Пи один из тех людей, которых они могут сюда прислать, не будет пользоваться большим влиянием в этом обществе. Если они снопа попытаются сыграть с нами эту шутку (присылка войск), мы перебьем их, и да поможет мне бог!» Солдаты Стентоу были повинны разве что в пьяных ссорах с мормонскими ополченцами Поэтому заявление Янга было уже не просто резкостью, а попахивало государственной изменой. В послании к конгрессу президент Быокснен заявлял: «Мормоны считают, что Яиг является губернатором территории по божественному волеизъявлению, они выполняют его распоряжения как прямые указания неба. Поэтому, если он решит, что его правительство должно вступить в конфликт с правительством Соединенных Штатов, последователи мормонской церкви безоговорочно подчинятся ого воле». Быокенен решил, что мормоны находятся в состоянии мятежа, и направил в Юту войска из форта Ливснуорт, штат Канзас. Мормоны праздновали десятую годовщину своего прибытия в бассейн Соленого озера, когда прискакали разведчики с гор и принесли эту весть. Новость довела мормонов до белого каления: армия Соединенных Штатов послана в Юту, чтобы извести «Святых последнего дня», уничтожить их дома и церкви, а затем, предав смерти их вождей, она выгонит их в дикую пустыню, подобно тому, как ранее толпа убила пророка Джозефа Смита и изгнала мормонов из священного града Науву.Но на этот раз мормонов не застанут врасплох! Оппо они противопоставят огонь! Легион Науву под командой своих лучших офицеров был отправлен на восток через горы с заданием угонять скот, жечь фур;?ж, уничВжать обозы - любым путем прсграДть путь дальнейшему продвижению армии… однако, как объявил военный совет мормонов, «не покушаясь па жизни солдат». По даже если бы вопреки всем предпринятым мормонами мерам армии Соединенных Штатов удалось добраться до Солт-Лейка, она бы здесь не поживилась: были разработаны планы, по которым женщины и дети должны были быть эвакуированы, а город сожжен дотла. «Святые» снова двинутся в путь в поисках еще более удаленной пустыни. •Этот кризис был крайне необходим Браиаму Янгу. Для мормонов наступили очень тяжелые времена: засуха, неурожай[зерновых; в южных поселениях, таких, как Про- ван, Вашингтон п Седар-Сити, наводнения разрушили дамбы и смыли участки вспаханной земли. Кроме того, постоянные стычки с индейцами, которые нападали на работающих в поле и угоняли цетые стада скота, превратили ряд поселений в осажденные крепости. Мормоны утрачивали веру в своих вождей и в предписания религии, в заповедь своего бога о том, что они являются избранным народом. Посещение воскресных служб резко упало, наблюдалось падение нравов. Когда Брайам Янг спросил па собрании верующих, сколько мужчин повив но в блуде, большинство присутствующих мужчин встали. Пораженный Янг воскликну,!: «Пет?, я имею в виду с того момента, как вы стали мормонами и приехали сюда, в Солт-Лейк». Однако мужчины продолжали стоять. В Солт-Лейке мормоны считали, что в падении нравов повинны выпавшие на их долю трудности. В изолированных южных поселениях церковные вожди объявляли, что все обстоит наоборот: потеря земли, урожая, здоровья - это кара божья за грехи. В результате южные колонии превратились в лагеря возрожденцев, в которых население целиком собиралось для коленопреклоненных молений, нового крещения и укрепления веры, сопровождая их воплями раскаяния. Эмоциональный накал был велик. Однако эмоции и оставались пока единственной пищей больпых и голодающих;кителей пограничных земель. ???? 257 Брайам Янг и апостолы старались удержать паселение Солт-Лейка в состоянии этого религиозного рвения: если 17 За?1.?,СЗ не положить конец процессу разложения, их религия сгниет на корню. Брайам Янг не относился к числу пацифистов - он призывал огопь и мечи на головы тех, кто собирался уничтожить мормонов: «Есть грехи, за которые нет прощения ни в этом, ни в грядущем мире, и если «святые» широко открытыми глазами поглядят па подлинное их положение, то они предпочтут обагрить кровыо землю, чтобы дым сражения дошел до небес в качестве искупительной жертвы за их грехи… Вы скажете, что доктрина эта сурова, но она направлена на спасение, а не на погибель». Самые высокие чины церковной иерархии прочувствованными проповедями поддерживали президента Янга. Апостол Гебер Кимболл восклицал: «Пусть они пришлют сюда двадцать пять сотен своих войск для истребления этого народа, с божьей помощью я буду сражаться до последней капли крови в моих жилах!» Брайам Янг знал, чем подстегнуть столь необходимое для спасения рвение своего народа. Он начал публиковать в «Дезерет ныос» материалы о преследованиях в Науву, убийстве пророка Джозефа Смита и его брата Хирама, жестоком изгнании мормонов из ими же построенных домов и последующих мучениях. В южных поселениях опасались, что войска Соединенных Штатов нанесут удар с двух сторон - через горы и со стороны близлежащей Калифорнии. Здоровье поселенцев здесь было подорвано голодом, а смятение, внесенное реформацией и воинственной' проповедью почитаемого вождя, довело людей до истерии. Индейцы привлекались в качестве военных союзников. Мормоны твердили их вождям: «Соединенные Штаты убью-г и нас и вас». Именно в эту атмосферу и попала партия Фенчера, состоящая примерно из ста сорока мужчин, женщин н детей. Почти половину их составляли выходцы из Арканзаса, тесно переплетенные дружескими и родственными связями, остальные - выходцы из пограничных районов Миссури, присоединившиеся к партии по дороге. С 1849 по 1857 год через Юту прошли сотни эмиграптских партий, однако теперь, летом 1857 года, обстановка была иной. В Солт-Лейке старейшина Рич посоветовал партии Фенчера не идти южным трактом, а двигаться через Сьерра- Неваду по Калифорнийскому тракту.
Партия Фенчера отказалась последовать этому совету но вполне понятным, с их точки зрения, причинам: они иазубок знали трагическую историю партии Донпера, а теперь стоял конец августа и первый снег мог выпасть до того, как им удастся перевалить через Сьерра-Неваду… Так одна трагедия породила другую. Партия Фенчера двинулась почти точно на юг, минуя солончаковую пустышо, пустыню краспых песков и черные вулканические горы. Живущих на юге мормонов обвння ш в том, что они отказывались продавать людям Фенчера провизию, запирали перед ними ворота своих укрепленных городов, вынуждая партию двигаться в обход, теряя драгоценное время. Фспчера и его людей обвппялп в том, что волам своим они дали имена Брайама Япга и Гебера Кимболла и выкрикивали в их адрес проклятия, в отравлении колодцев, оскорблении мормонских женщин, порче мормонского имущества. Партия Фенчера оказалась факелом, брошенным в накопленный югом горючий материал. В воскресенье 6 сентября, полагая, что мормоны уже находятся в состоянии войны, президент совета •в Седар- Ситн Айзек Хейт созвал собрание членов совета. Он зачитал список обвипепий против партии Фепчера, заявив при этом, что вполне справедливо будет атаковать их и покарать. Некий Филипп Клипгтонсмит согласился с Хей- том, остальные же члены совета призвали к выдержке и составили донесение Брайаму Янгу с просьбой дать совет. Гонец немедленно двинулся в путь. Этим же воскресным днем партия Фенчера расположилась лагерем на Маунтин-Мидоуз (Горной Лужайке), где протекала река и было достаточно травы для скота. Здесь, на границе мормонского ранчо, люди отслужили воскресное богослужепне. На следующий день они подверглись внезапной атаке индейцев и потеряли несколько человек убитыми и ранеными. Партия отрыла окопы для защиты лагеря и три дня отбивала беспорядочные атаки. Люди не пытались прорваться из окружения, оставаясь в западне на лужайке. Никто из мормонов не пришел им на выручку. ???? 17• Партия отправила Уильяма Эйдена и еще двух человек в лежащий в тридцати милях Седар-Сити с просьбой о помощи. Эйдена застрелил кто-то из белых, а его спутники были убиты индейцами.
259
В этот момент на авансцене появляется державшийся до этого в тени злой гений этой трагической истории майор Джои Д. Ли, приемный сын Брайама Янга, повелитель девятнадцати жен и процветающего поселения Хармопи в пятидесяти милях от Седар-Снтн. «Отец индейцев», среди которых Ли пользовался значительным влиянием, по всей видимости, и был инициатором их нападении на лагерь эмигрантов. В среду вечером, после убийства Эйдсна, Ли направил гонца в Седар-Снтн за мормонскими ополченцами. В эту же ночь пятьдесят мормонских добровольцев прибыли к Мауитип-Мидоуз. Они не имели ни малейшего представления о том, почему за ними послали. Мормонскими ополченцами могли командовать полковник Уильям Дсйм, глава всех мормонских войск на юге, президент мормонов Хейт, тридцатилетний майор Хигби, заместитель Хейта, и майор Ли. После лихорадочной переписки и нескольких встреч друг с другом эти люди решили разрешить индейцам уничтожить партию Фенчера, сохранив, если возможно, лишь детей. Однако план их оказался невыполнимым, •возмолспо, из-за того, что индейцы отказались от нападения на лагерь без помощи мормопов. Был составлен новый план, и майор Ли с белым флагом в руках направился в эмигрантский лагерь. Он обещал защиту от индейцев при условии, что эмигранты сдадут оружие, посадят маленьких детей па один фургон, а сами покинут лужайку. Женщины и подростки должны были следовать впереди, а мужчины позади, причем рядом с каждым мужчиной будет шагать мормонский ополченец. Таким порядком партия будет доставлена в Седар-Сити в полной безопасности. Эмигранты согласились на эти условия. Партия построилась указанным порядком и тронулась в путь. Внезапно раздалась команда: «Стойте! Выполняйте ваш долг!» Мормонские ополченцы сделали поворот, и каждый выстрелил в идущего рядом с ним эмигранта. Те' эмигранты, в которых шедшие рядом с ними ополченцы отказались стрелять, бросились защищать женщин и детей. И тогда, по словам мормонки Хуаниты Брукс, написавшей книгу «Побоище па Маунтип-Мидоуз», индейцы «выскочили из кустов, росших по обе стороны дороги… набросились на свои жертвы с ножами и топорами и быстро прикончили их». Майор Ли и майор Хигбн проследили за тем, чтобы псе раненые были добиты и не могли давать свидетельские показания. Семнадцать детей в возрасте от двух месяцев до семи лет были сохранены из тех соображений, что они слишком малы и не способны запомнить происходящее. Сто двадцать человек мужчин, женщин и детей было убито. Большинство жертв было скальпировано индейцами. Никого не хоронили. Индейцам досталась лишь сорванная с трупов одежда, брезентовые пологи фургонов и постели. Остальное имущество партии Фенчера стоимостью от 60 000 до 70 000 долларов досталось мормонам. Рассказывали трагическую историю о том, как оставшийся в живых ребенок эмигрантов опознал платье своей убитой матери на одной из мормонских женщин. Трупы были съедены волками. На следующий день наступило отрезвление. Ополченцы, стрелявшие в эмигрантов, поняли, что они участвовали в заранее запланированном убийстве. Предводители их после взаимной перепалки решили, что все это следует держать в тайне, свалив вину на индейцев. Майор Джон Д. Ли был отправлен в Солт-Лейк для доклада Брайаму Янгу о происшедшем. Послание Брайама Янга, пришедшее с опозданием на два дня в Седар-Сити, предписывало президенту Хейту не связываться с эмигрантами и разрешить им продолжать свой путь с миром. Ли сказал президенту Янгу, что партию перебили индейцы. Однако правду нельзя было утаить. Когда подробности подлой резни распространились по Соединенным Штатам, страна получила подтверждение всем прошлым обвинениям, выдвинутым против мормонов. Сап-Францис- ский «Бюллетин» в статье от 12 октября 1857 года выражал мнения большинства народа, когда писал: «Достоинство, христианская вера и благопристойность взывают к тому, чтобы племя подлых кровосмесителей, совершивших это злодейство, было развеяно по ветру. Как только всеобщее возмущение и непависть получат должное сочувствие и должпое направление, против Юты будет предпринят крестовый ноход, который навсегда уничтожит эту скотскую ересь».Брайам Янг был возмущен и поражен случившимся пе менее других. Апостол Джон Тэйлор выражал мнепие большинства своего народа, когда говорил: «Нет прощенпя подобному безжалостному, дьявольскому, кровожадному поступку. На это позорное дело мы смотрим с таким же ужасом, с каким смотрят на него все - и здесь, н во всем мире». Но Брайаму Янгу уже поздно было объяснять, что его слова о «пролитой на землю крови» отнюдь не означали призыва к убийству нн в чем не повинных людей, поздно было отменять воинственные призывы и зажигательные статьи об убийстве пророка, поздно было пытаться утихомирить индейцев: вина в равпой степени лежала на Брайаме Янге, апостолах и всех «Святых последнего дня». Брайам Янг понимал, что теперь у президента Быокенена появился вполне законный предлог для наказания всей Юты. Брайам Янг потребовал возвращения домой жителей Сан-Бернардино в южной Калифорнии и Карсон-Вэллн в Неваде. Мормоны продавали за бесценок свои дома, фермы, посевы - ведь тем, кто хотел завладеть их имуществом, достаточно было выждать несколько дней и получить все это бесплатно. Было несколько случаев отступничества в Сан-Бернардино, но девяносто процентов из трех тысяч мормонов погрузили свои пожитки на фургоны и проделали далекий путь до Солт-Лейка, готовые бороться, защищать, а если пужно - и умереть за свое царство. Была горстка отступников и в Карсон-Вэлли: Джон Рииз, который уже давно ушел из Солт-Лейка, его племянник Иллна Оррум и несколько других. Остальные же покорно расстались с плодами многолетнего упорного труда и с пустыми руками вернулись в Сион. Президент Янг приказал мормонам возвратиться также из Лас-Вегаса и восточных форпостов Юты - форта Брпджер и форта Санплай. Война, для которой их всех сзывали, так и не материализовалась. Шестью месяцами нозже конгресс назвал отправку войск в Юту «грубой ошибкой Быокенена». Войска были отозваны на свои среднезападные базы; новый губернатор, немормоп, был направлен из Вашингтона и сумел завоевать уважение мормонов. Казалось бы, все вернулось к нормальной жизни, однако побоище па Мауптин-Мидоуз оставалось непреложным фактом. И нельзя было навечно избежать войны с Соединенными Штатами.
Глава XIX
«В Колорадо есть золото. Мы сами его видели!» Полковник Уильям Джилшш, выпускник Пенсильванского университета, подобно братьям Гроуш, был знаком с геологией и естественными науками. Он стоял во главе отрядов, проходивших по Сап-Луис-Вэлли во время Мексиканской войны, а затем преследовал в горах племена враждебных индейцев. В январе сорок девятого года он говорил в Индепенденсе, что в пяти различных местах Колорадо ему попадалось золото: на Черри-Крик, в Саут- Парке, на пике Пайка, в Каше-ла?Пудре н у Клиар-Крик. Однако на слова полковника Джилпииа никто не обратил ни малейшего внимания. В ходе последующих четырех лет золото обнаруживали неоднократно. Группа охотников из Джорджии, двигаясь через восточные отроги Скалистых гор, натолкнулась на золотые блестки в Каше-ла-Пудре. В 1850 году братья Ральстон нашли следы золота на Саут-Платт. В 1852 году Парке, торговец скотом из племени чероки, обнаружил вкрапления золота на Ральстон-Крик. И наконец, в 1853 году человек по имени Нортон, прибыв из Колорадо в форт Ларами, привез с собой приличное количество золота. Когда люди из форта спросили его, где он его нашел, Нортон ответил: «Там внизу, у пика Пайка». Интерес к колорадскому золоту возродился лишь через четыре года. Дело было не столько в интересе к Колорадо, сколько в гигантском горном хребте, который требовалось пересечь, чтобы провести сюда железную дорогу. В этом году здесь прошло три экспедиции: экспедиция Била из двенадцати гражданских лиц, партия капитана Ганнисона из двадцати двух солдат и нескольких ученых и пятая экспедиция Джона Фремонта, финансируемая, как и раньше, Томасом Хартом. Первые две были снаряжены по приказу военного министра Джефферсопа Дэвиса и финансировались военными.Партия Била, двигавшаяся налегке н при благоприятных погодных условиях, шла по маршруту трагической четвертой экспедиции Фремонта и прошла по перевалу Пасе-дель-Норте. В составе экспедиции капитана Ганни- соиа были два участника четвертой экспедиции Фремон- та - Ричард Керн и Кройтцфилд. Двадцать фургонов его экспедиции, так и не отыскав более удобного перевала, прошли гю перевалу Кочетона. В июле он повел своих люден дальше на север и был там убит вместе с Керном, Кройтцфилдом и четырьмя солдатами воинственными пай- ютами. 30 ноября, в мягких пока что условиях начинающейся зимы, Джон Фремонт провел свою экспедицию из двадцати двух человек из Хардскраббла через перевал Уильямса в Сангрс-дс-Кристо к перевалу Кочетопа. Однако Скалистые горы оказались здесь слишком высокими, и трансконтинентальная железнодорожная линия так никогда и не пересекла Колорадо. Весной 1857 года мексиканские старатели из Сономы намыли довольно значительное количество золота в трех милях выше Чсрри-Крик. Это стало первой искрой настоящего лесного пожара. Вторую искру бросил воевавший с индейцами майор Джон Сэдгуик, который рассказал, что группа старателей из Миссури нашла золото возле Черри-Крик. Падающий Лист - индеец из племени делаваров, служивший в отряде майора Седгуика проводником, - занялся промывкой золота п вернулся в свою резервацию в восточном Канзасе с богатой добычей. По существу, это было первое колорадское золото, открытое к востоку от Скалистых гор. Привезенное Падающим Листом золото привело к образованию в Лоуренсе, штат Канзас, первой партии из пятидесяти человек, составленной с целыо поисков золота в Колорадо. Во главе ее стоял Джои Истер, бывший мясник из Индепенденса. По Востоку потекли слухи и невероятные рассказы. Они находили подтверждение у торговцев, трапперов, военных, старателей Сорок Девятого года, которым приходилось бывать в Колорадо. Они утверждали: «Это правда. В Колорадо есть золото. Мы видели его собственными глазами». Вторая крупная партия была сформирована по настоянию Джона Бека, проповедника с примесыо крови чероки, который побывал в Калифорнии еще в 1850 году. Он написал в Джорджию родственнику жены Уильяму Грину Расселу, убеждая его организовать к весне 1858 года крупную поисковую партию н сделать первую заявку в Колорадо.
Рассел вместе с двумя братьями, Оливером и доктором Леви приступил к подбору членов экспедиции. От желающих не было отбоя: ажиотаж, который два года назад имел несчастье испытать Сан-Франциско, охватил всю страну. Деловые предприятия закрывались, закладывались и перезакладывались дома и фермы, сбережения таяли, безработица росла. Пограничные газеты намеренно подхватывали и раздували слухи и россказни - ведь проходящие через их места экспедиции означали занятость и процветание. Восточные газеты держались более скептически, однако безработные и неимущие жадно следили за любой возможностью изменить свое положение. А все постоянно только и слышали, что разговоры о «золотом районе у пика Пайк». Партия Рассела из девятнадцати белых и сорока шести индейцев племени черокн добралась до форта Вент 12 июня 1858 года, пройдя с четырнадцатью фургонами и тридцатью тремя выочнымн животными по пути партии 1850 года: мимо Пуэбло и вверх но горному хребту. С прибытием партии Рассела, можно сказать, началась жизнь современного Колорадо - штата рудников и шахт. И все же через десять дней после прибытия разочарованный Джоп Бек ушел и увел обратно в резервацию своих черо- ки. Кое-кто из уроженцев Джорджии тоже вернулся домой; Рассел с маленькой группой остался в лесах, окружающих Черри-Крик. 9 и 10 июля им удалось пайти хорошее место, где старатели намывали в день золота на десять долларов каждый. Таким образом люди партии Рассела стали первыми, кому удалось окупить затраты в Колорадо. Джон Кант- релл, торговец, по пути из Солт-Лейка в Миссури присоединился к Расселу. С помощью топорика он нарыл н промыл в сковородке три унции золота, а затем набил прибрежным песком мешок и снова пустился в путь. Золото он показал родным в Капзасе, а мешок с золотоносным песком отдал в Канзас-Сити на анализ. Анализ показал высокое содержание золота. 26 августа 1858 года «Джорнэл оф коммерс» в Канзас-Сити вышел со статьей «Новое Эльдорадо». 29 августа статью о золоте перепечатала «Рипабликен» в Сап-Луисе, а 30 августа-бостонская «Дейли джорнэл». Другие восточные газеты подхватили весть о находке золота. Торговцы, механики, профессиональные авантюристы сколачивались в партии на границах Миссури. В начале септября партия Лоуренса добралась до Драй-Диггипз, основала городок, который опи назвали Монтана, и построила там около двадцати хижип. Однако добыча была низкой. Никто не приезжал в Монтана-Сити. Хижипы пустовали. Те, кто остался, перебрались к верховью Черри-Крик и основали там компанию «Септ-Чарлс- таун» на восточном берегу ручья. Четыре бревпа, положенные квадратом, - символическая постройка, придающая законность их заявке, - были единственным признаком города. Тем временем доктор Леви, имеющий позпания в медицине, порекомендовал своим компаньонам перебраться на зиму в верховья ручья. Выбрав удобное место на его западном берегу, он вместе с братьями принялся за постройку двухкомнатного дома с печыо и печной трубой, положив тем самым начало Денверу. Расселы планировали атаковать месторождения весной 1859 года, доктор Леви па ото лее время наметил поездку в долину Сан-Луис для пополнения запасов, а Уильям и Олнвер - вернуться в Джорджию за новыми людьми и оборудованием. Они были уверены, что здесь имеется золото. В этом же были уверены и массы пришельцев, которые прибывали сюда с октября и до конца 1858 года партиями от десяти человек до семидесяти. К концу октября на четырех фургонах прибыли два торговца с товарами и вскоре построили двухкомнатный дом. Жена Джонса, индианка, изготовила немного впеки, в результате чего Смит и Джонс разрядили друг в друга свои кольты. Культурная жизнь в Колорадо начала давать свои ростки. 30 октября сто восемьдесят человек, живущие па западном берегу Черри-Крик, собрались на митинг. Был основан город Аурарня. Поскольку территория Канзаса доходила от отрогов Скалистых гор, Аурария и Сент-Чарлз относились к Канзасу. Сент-Чарлз оставался незаселенным вплоть до ноября, когда группа из Ливепуорта и Ли- комптопа, возглавляемая Уильямом Ларимером и имеющая в своем составе судью, шерифа и комиссионера (назначенных губернатором Денвером), захватила часть города и нарекла его Денвером в честь губернатора территории Канзас. Сразу же началось соперничество: Джона Киннаца, прибывшего в Аурарию с запасом товаров, листового Железа и инструментов, Денвер переманил па другой берег ручья. На втором собрании жители Аурарпи большинством голосов приняли закон о десятипроцентном отчислении в пользу города и проголосовали за выделение участка Джонатан Д. Бейкеру для строительства дома развлечений. Затем преподобпый Г. У. Фишер, методистский священник, произнес первую проповедь в Денвере - восточный берег ручья стал религиозным центром. Всего к декабрю в устье Черри-Крпк прибыло около трехсот человек. Последние недели 1858 года были посвящены лихорадочному строительству на обоих берегах ручья, чтобы обеспечить кровом людей до вьшадения снегов. В канун нового, 1859 года в Лурарии было завершено строительство пятидесяти домов, в Денвере - двадцати пяти. «Две кучки жалких хижин, построенные из плохо обработанных бревен, покрытые крышами из травы с глиной, промазанпЫе по пазам землей, а снаружи-глиной»,- так описал их Смайли в «Истории Денвера». Тот факт, что до сих пор так и пе было найдено богатых россыпей, ничуть не смущал одиноких старателей, расписывавших в письмах домой богатство нового золотоносного района. Открытие первого салуна в Лурарии, известного как «Отэ-де-Дюнк», пока его не переименовали в «Отель-де-Драш«», отнюдь не способствовало сокращению потока вымысла, вытекающего из Черри-Крик. К концу января соперничающие города уже процветали, имея оружейные и столярные мастерские, а также почтовую лииию к Ливенуорту, взимающую по доллару за письмо. И все же оба города должны были зачахнуть, не наступи перемена в золотодобыче, и притом срочная, - людей привело сюда золото, и только оно могло помочь городу оправдать свое существование. Эта перемена произошла благодаря появлению Джорджа А. Джэксона, двадцатисемилетнего калифорнийского старателя из Миссури, сейчас совершенио разорившегося и сохранившего лишь небольшой запас товаров для торговли с индейцами у пика Пайка, и Джона Грегори, «рыжеватого, задиристого бедняка из Джорджии, лексикон которого по большей части состоял из ругательств». Грегори прибыл в форт Ларами в качестве погонщика упряжки и здесь узнал о золоте в районе пика Пайка. Первым повезло Джэксону. Он распродал все товары н 30 декабря 1858 года вместе с двумя друзьями Томасом Голденом и Джеймсом Сандерсом двинулся на запад от Денвера в горы. 1 января они увидели стадо лосей. Гол- дсн и Сандерс отправились в погоню за стадом, а Джэксон пошел дальше в горы делать пробные промывки. Все трое договорились встретиться 1!срез педелю на зимовке в нескольких милях от этого места. Но снегу глубиной в несколько футов Джэксон решительно направился вверх но каньону Маупт-Вернон в долину Клпар-Крпк. 5 января, когда он разложил костер на Чнкаго-Крик, маленьком притоке южного рукава Клиар- Крпк, запасов провизии у пего оставалось всего на два дня. Подыскав наиболее перспективное место, он «разложил большой костер па римроке, то есть на боковых наносах песка, чтобы оттаяла земля». Костер горел весь день. На следующее утро он, согласно записи в дневнике, «раздвинул угли п начал рыть оттаявший грунт, набрав восемьдесят мерных чашек грязи, но не нашел там ничего, кроме тонкого золотого песка. В девятой чашке оказался небольшой самородок золота». У января, уже совершенно без провизии, оп, чтобы скрыть следы, разложил новый костер поверх старого, засыпал место промывки землей, сделал зарубки па сосне и вернулся к месту зимовки. Голден уже дожидался его, однако Сандерс исчез. Джэксон поделился своим открытием с другом, и они решили хранить его в тайне до наступления весны и оформления заявки. 17 марта появилась! рунпа чнкагцев с запасами провизии и старательскими инструментами. Джэксону люди эти понравились, и оп решил предложить им партнерство. Голден выразил спой протест тем, что просто ушел от Джэксона и от его открытия. Джэксон повел новую партию к заветному месту. Здесь они застолбили заявки, основали первый золотой прииск в Колорадо н начали добывать огромные количества золота из гравия и грязи Клиар-Крик. Удержать находку в тайне оказалось невозможным. В начале мая Джэксону пришлось вернуться в Денвер за припасами. Ему пришлось расплачиваться за них золотым песком. Сотпи жадных до золота старателей сопровождали его на обратном пути. Ущелье вскоре оказалось битком па- битым старателями, бродившими по холмам и Чикаго- Крик.
Всего через пару дней в оба города пришла весть об открытии Джона Грегори. Грегори держал путь на юг вдоль реки Каше-ла-Пудре, а потом углубился в Скалистые горы но течению Клиар-Крик. От места, обнаруженного Джэксоном, его отделяла целая гора. На северном рукаве у стены ущелья оп сделал пробную промывку и нашел хорошее золото. Снег и отсутствие продовольствия погнали его обратно к предгорьям, в городок Лрапахо. Здесь ему составил заявку член группы Дэвида Уолла, бывшего калифорнийского золотоискателя, который стоял теперь во главе партии из Айовы и Миссури. Уолл и его партия согласились подтвердить заявку Грегори в обмен на выделение заявочных участков на найденном им месторождении. Они быстро двинулись на разведанное Грегори место и заложили там золотой прииск. В стенах оврага они обнаружили жилы кварца с большим содержанием золота-материнскую залежь, образовавшуюся в Скалистых горах в форме четырехуголыш ка, примерно тех же размеров, что и четырехугольник в Сьерра-Неваде. Через Лрапахо вести достигли 15 мая Аурарии и Денвера. Ажиотаж, вызванный открытием Грегори, был еще сильнее, чем при находке Джэксона. К концу лета пятнадцать тысяч человек скопилось в ущельи Грегори, которое в самом широком месте было двести ярдов шириной и вытянулось в длину всего на три мили! Палатки и городки из навесов вырастали за одну ночь, люди разламывали свои фургоны, чтобы из полученных досок сколотить навес. В это время Хорэйс Грили, издатель ныо-йоркской.Трибюн», А. А. Ричардсон из бостонского «Джорнэл» и Генри Виллард из выходившей в Ципциннати «Коммер- шиэл» добрались до Денвера и сразу же направились в ущелье Грегори. Их живописные репортажи, отправляемые на Восток почтовыми экспрессами, привлекли сюда новые тысячи старателей. По живописности, драматичности и богатству люди Пятьдесят Девятого в Колорадо очень походили на людей Сорок Девятого в Калифорнии. Лозунг «Пик Пайка - хоть лопни!» привел пятьдесят тысяч человек в этот район еще до конца года, когда началось самое настоящее нашествие через равнины почти беспрерывного потока воловьих упряжек, фургонов, верховых и пешеходов. Стремительно росли цены на строевой лес и муку, не говоря уже о табаке, Кофе и сахаре, которые обменивались на равное по весу количество золотого песка. Определенный процент старателей легко разочаровывался - не найдя золота, они снова возвращались па Восток п добирались до дома за четыре - шесть педель - в этом ц состояла главная разница между людьми Сорок Девятого и Пятьдесят Девятого годдв. Фоссет, автор книги «Колорадо», утверждает: «Золотоискатели этого года были лучшими из представителей различных штатов, люди образованные, предприимчивые и энергичные». Новая, четвертая по счету земля дождалась открытия и заняла свое место в одном ряду с Калифорнией, Ютой и Невадой. Началось строительство четвертой цивилизации - богатой, драматической и яркой.
Книга четвертая РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Глава I
«Пик Пайка - хоть лопни!» В отличие от калифорнийского представителя Сорок Девятого года, который был старожилом, представитель колорадского Пятьдесят Девятого прибыл сюда с единственным намерением: найти золото. Люди Пятьдесят Девятого, каждый из тех ста тысяч, которые нахлынули в Колорадо за пять месяцев, прошедших с момепта открытия Грегори и Джэксона и до наступления морозов в 32 градуса, выживших их из горных районов, были братьями по крови калифорнийцам Сорок Девятого. Если не считать золотоискательских лагерей, Денвер и Аурарня были здесь единственными населенными пунктами. Денвер представлял собой деревушку из бревенчатых хижин, где по песчаным дорогам приходилось развозить бочками воду. Он едва ли был в состоянии принять сотпю вновь прибывших, не говоря уже о ста тысячах. Само слово «Колорадо» еще пе появилось официально, и восточные газеты пестрели за головками: «Золото на Канзасской территории!!!», «Рудники пика Пай ка». Весь этот район получил известность под названием «Пик Панка». Эмигранты выводили па фургонах - этих кораблях прерий - надпись «Пик Пайка - хоть лопни» даже н в тех случаях, когда направлялись в места, лежащие в доброй сотне мпль к западу от Денвера. «Два коротких слова' «Пик Пайка» встречаются повсеместно; только самые свежие известия из Пика Пайка интересуют их; Пик Пайка - предмет мечтаний миллионов, это магпит, который привлекает к себе все и вся». Со всех штатов Востока и Среднего Запада они стекались на берега Миссури. Золотоискатели прибывали на пароходах, верхом на лошадях, пешком, неся на одном Плече котомку, а на другом - ружье; молодые, в большинстве своем моложе тридцати лет, подобно калифорнийским аргонавтам, они прибывали сюда с «легким сердцем и единственной парой поношенных брюк», покинув работу, дом, жену, детей, мпогие нз них отправлялись в восьми- сотмнльный путь через канзасские прерии, имея с собой всего лишь недельный запас провизии. Вереницы фургонов тащились по глубокой весенней грязи Миссури и Лйовы. В рекламном объявлении, помещенном Транспортной компанией Пика Пайка, говорилось, что она обязуется перевозить пассажиров от Сан-Лунса, штат Миссури, до района Пика Пайка за 125 долларов с человека с пятьюдесятью фунтами багажа, однако, когда караван фургонов начинал свой путь через Канзас, пассажиры, к своему крайнему изумлению, узнавали, что транспорт предоставляется только для багажа. Сами лее пассажиры должны идти пешком все восемьсот миль до Скалистых гор. В отличие от калифорнийских аргонавтов предприятия энтузиастов, выбросивших лозунг «Пик Пайка - хоть лопни!», лопались на первых же порах, и они возвращались в Миссури, быстро растеряв запасы продовольствия и веры.Около сорока тысяч оказались более настойчивыми. Они открыли новый, более короткий путь через центральный Канзас, получивший название Смоки-Хилл-Трейп, и добрались к Денверу к лету. Это немедленно отразилось на облике города. У бревенчатых хижин появились пристройки, возводились разборные дома с деревянными полами и стеклами в окнах. В июле началось строительство отеля «Аполло», который стал центральным местом ебо- ров. Вдоль главной улицы были открыты лавки; одни из магазинов, чтобы не упустить торговых возможностей, заказал себе оборудование в торговом доме Бостона. Скоро в городе уже были мясной рынок н аптека, пекарня н парикмахерская, владелец которой, Мюрат, утверждал, что он является потомком Мюрата, зятя Наполеона, и в соответствии с этим взимал с клиентов по доллару за бритье. Старатели, которые решили продолжать свой путь на запад, углубляясь в Скалистые горы, - а таких набралось двадцать пять тысяч - селились вокруг прежних лагерей золотоискателей. Каждая горстка домишек гордо именовала себя городом - Маунтин-Сити или Сентрал-Снти. Кое-кто из золотоискателей строил хижины, но большинство спало просто на земле. Каждый сам готовил себе пищу на костре, разложенном перед палаткой или у фургона; питались в основном беконом, бобами, лепешками и кофе. Сковорода, жестяной противень и кофейник, наравне с киркой, лопатой и тазом, признавались орудиями старательского ремесла. В лагерях не было никаких органов власти; не было у них и каких-нибудь санитарных правил. Следуя установленному на Дальнем Западе образцу, первыми юридическими организациями были старательские суды и Клубы заявок, создаваемые группами людей, давших торжественную клятву отстаивать действенность заявок друг друга, а если потребуется, то и с оружием в руках. «Мы никогда не вешали но косвенным уликам. По если мы кого-то признавали виновным, то его вешали непременно. Тут пе было пи судебных повесток, пи апелляций, ни помилований». При повешении все присяжные брались за веревку и дергали ее по сигналу. Лжесвидетельство и кража карались ударами по голой синие в количестве от десяти до двадцати пяти ударов, изгнанием и конфискацией всего имущества. ???? 273 Женщины редко встречались среди первых старателей, но п они стали прибывать сюда с поразительной быстротой. В районе приисков Пятьдесят Восьмого было четыре женщины: индейская скво, жена Джона Смита, траппера из Кентукки, жившая вместе с сыном Джеком в хижине па месте впадения Черри-Крик в Платт; мормонка миссис Рукер, прибывшая в конце августа из Солт-Лейка вместе с мужем, дочерыо и сыном, - первая белая женщина в 18 Пак. N 1163 stom районе; Кэтрин Мюрат, жена парикмахера, н жепа Дика Вуттона, который прибыл сюда в канун рождества из Ныо-Мексико с фургоном, полным долгожданных бакалейных товаров. Кэтрин Мюрат, единственная женщина, оставшаяся здесь навсегда, вошла в историю как «мать Колорадо», голубоглазая, румяная, золотоволосая «графнпя», которая получила этот титул, работая поваром и горничной в построенном ее мужем бревенчатом отеле. Когда Кэтрин узнала, что в Денвер из Лнвенуорта должна прибыть первая почтовая карета, открывая тем самым постоянную линию между Колорадо и Востоком, она достала из сундука купленную в Париже красную юбку из тончайшей шерсти, разрезала на ленты нижнее белье и сшила американский флаг. Он гордо развевался над отелем, когда карета, завершив свой первый рейс, подъезжала к нему. В начале 1859 года у Кэтрнн появились товарки: миссис Мэри Холл и миссис Аугуста Тейбор, жены золотоискателей, миссис Уильям Байере, жена основателя «Роки- Маунтин ныос», н миссис Джозеф Уолф, чей муж был изгнан из Уилинга за публикацию статьи, направленной против рабства. Женщины поселились в бревенчатых домах с крышами из дерна. Бойкая миссис Уолф «распорядилась не присылать ей ее лучших вещей, пока над головой у нее не будет настоящей крыши». Мул* срочно покрыл крышу дранкой. Конец 1859 года был отмечен рождением первого чисто белого ребенка, девочки по нмепи Аурарня, родителям которой «было выделено несколько угловых земельных участков для застройки, дабы стимулировать заселение Аурарин», а также первым браком. Когда приезжали жены или любимые - обычно это бывало месяцев через шесть после прибытия их мужей, - все население в складчину устраивало им встречу с обедом н танцами. Приезжавшие каретой почтовой лншш весьма нуждались в подобном гостеприимстве: дорога из Омахи отнимала восемь суток с тремя короткими остановками каждые двадцать четыре часа. На остановках пассажирам предлагалось одно и то же мешо: бифштекс из мяса кролика, бизона пли антилопы, бисквиты из пресного теста и черный кофе. Женщинам приходилось учиться стрелять, потому что сохранялась постоянная угроза нападений индейцев, и тре- пировка в стрельбе из револьверов и ружей входила в обя зательное расписание дня. Для одиноких девушек, У которых хватало смелости испробовать трудности жизни пограиичья, здесь были особенно богатые «охотничьи» угодья: весь район был заселен холостяками моложе тридцати лет, и осада девиц начиналась буквально с момента выхода из кареты. Все они очень быстро выходили замуж. К концу 1860 года Денвер уже не был чисто мужским городом. Универсальный магазин Стюарта ввозил через пустынные равнииы драгоценные шелка, точные копни последних парижских мод, элегантные дамские шляпки, лакированные туфельки. Хотя мужчины с роскошными бородами, толпящиеся на улицах и заполнявшие магазины и аукционы, все еще продолжали щеголять в куртках из бизоньей шкуры и красных рубахах, разодетые женщины прогуливались но главной улице точно так же, как у себя дома в Олбани или Ричмонде. Просвещение пересекло Черри-Крик и появилось на сцене Денвера в лице живописного персонажа - «профессора» О. Дж. Голдрнка, пощелкивающего арапником над упряжкой волов и облаченного в блестящий цилиндр, желтые лайковые перчатки, черный суконный сюртук, «в карманах которого имелись диплом бакалавра Дублинского университета, магистерский диплом из Колумбии… и пятьдесят центов». Профессор Голдрик срочно открыл школу в бревенчатой хижине и занялся просвещением двух учеников. Население так гордилось своим профессором, что к а;!{дую вповь прибывающую партию эмигрантов граждане города встречали криком: «У пас есть школа!» Клерикалы иа первых порах встретились со значительно большими трудностями. Первое богослужение состоялось в июне или июле. На него собралось несколько сот старателей, рассевшихся на бревнах и пеньках. Первое здание под церковь было сооружено общими силами за одно воскресенье. На похоронах во время первой панихиды старатель по имени Пат, стоявший среди скорбящих, пришедших отдать последнюю дань покойному, наклонился за горстыо земли, поглядел на нее и тут же объявил о заявке на это место. Проповедник, следивший за его действиями, закончил заупокойную службу следующими словами: «Возьми меня в долю, Пат, иа эту заявку, об этом мы молим во имя господа нашего Иисуса Христа. Амипь». ???? 18* Первый проповедник методистской церкви, за неимением церковного помещения, произносил проповеди из-
275
за стойки в салуне. Проповедь он начинал словами: «Вы, жаждущие, придите на брега сии,придите безвозмездно и утолите жажду свою вином и млеком…» - в то время как на висящей за ним табличке виднелась надпись: В КРЕДИТ НЕ ОТПУСКАЕТСЯ. ВЫХОДЯ, РЛСПЛАТИСБ Священнику епископальной церкви, у которого тоже ие было помещения, был предоставлен второй этаж игорного дома Эдварда Джампса, однако молящиеся не могли услышать слов обращенной к ним проповеди из-за шума игроков. На следующее воскресенье Эдвард Джампс па целый час прекратил игру - немалая жертва, которая, по его убеждению, должна была распахнуть перед ним врата рая. Сообразив, что греховный союз кабака и церкви не приведет ни к чему хорошему, отцы города Денвера выделили по четыре надела под застройку для пресвитерианской и методистской церквей. Аурария ответила на вызов выделением по три земельных надела любому из четырех подрядчиков, берущих на себя строительство любых храмов божьих, независимо от вероисповедания. Денвер, однако, снова вырвался вперед, предоставив в качестве рождественского подарка десять земельных наделов еврейской общине, а немного позднее - восемь католикам, шестнадцать епископальной церкви и по Шести - пресвитерианцам и баптистам. Никто и не пытался объяснить, по какому принципу распределялись эти щедрые, но столь перавпые дары, однако запомнилось, что распределение наделов было произведено в самый холодный день в истории Денвера. Денвер разрастался с поразительной быстротой. В прошлом сентябре открытие «Аполло-Холла» было отпраздновано танцами, а двумя неделями позже караваи фургонов полковника Чарлза Р. Тортона прибыл в город с целой театральной труппой, для выступления которой были сооружены временные подмостки в торце «Аполло-Холла». Вход оплачивался золотым песком, который взвешивали па поставленных в кассе весах. Четыреста зрителей расселись вокруг сцены на скамьях и при свете свечей смотрели «Ричарда III». «Элефант-Коррал» («Загон для слонов»), который называли «Астор-Хаусом золотых приисков», копкурируя с «Аполло», прибегнул к невиданному по хитрости приему: когда здесь был убит один из посетителей, его похоронили за счет владельцев зала. Хозяин же похоронного бюро, которому принадлежало также и кладбище, оказался скупердяем и привез обратно в «Элефант-Коррал» использованный гроб в расчете на нового клиента. Многие дома в Денвере были хорошо обставлены. Ради этого фамильную мебель, ковры, белье и серебро приходилось везти в крытых фургонах через прерии, однако жизнь домохозяек оставляла желать лучшего, о чем свидетельствовали такие объявления: «Требуется девушка для выполнения работ по дому. Разрешается принимать гостей каждый день недели, гарантируется также хороший и прочный забор, па который можно опираться во время ухаживаний». Нормы семейного права отдавали предпочтение мужу. На нервом в Колорадо бракоразводном процессе суд признал вполне законным следующий формальный отказ от своих супружеских прав, подписанный мужем: «Для сведения всех мужчин, которым будет предъявлен для ознакомления настоящий документ, л, Джоп Хоуард из Капь- он-Сити, настоящим удостоверяю уступку, предоставление в дар, передачу и отказ от всех принадлежавших мне ранее прав на древнее владение, известное под именем Мэри Хоуард». Как и па золотых приисках Калифориии и Невады, юмор здесь пользовался большим успехом. Один из торговцев вывесил на своей лавке объявление: «Ушел хоронить жену, вернусь через полчаса». Вывеска на парикмахерской «графа» Мюрата гласила: «Долой парикн! Заходите. Кошу головы и бороды». Один из салунов объявил: «Бесплатная выпивка три раза в день. Вода ледяная!» Розыгрыши первой поры, когда, зарядив ружье золотым песком, стреляли в откос холма и следили за тем, как новички бросаются оформлять заявки, уступили место более сложным: так, человек по имени Вейкер заявил, что он нашел золото в заброшенном богом месте, лежащем в горах Сан-Хуан, примерно в двухстах милях к юго-западу от Денвера. Туда сразу же бросилось около тысячи старателей. Однако торжество Бейкера было недолгим; через десять дней там было найдено месторождение, приносящее по 4000 долларов на каждую тонну породы. В большом ходу были фальшивые золотые слитки, один угол у которых делался из настоящего золота. Именно от этого угла и отделялся небольшой кусочек для взятия пробы. Одни только что прибывший банкир накупил таких слитков иа 20 ООО долларов. Началось строительство п других городов. Колорадо- Сити был основан в августе 1859 года. Одна из групп очертила границы города площадью в двенадцать тысяч акров. К концу 1859 года здесь было двести домов, весной к ним прибавилось еще сто. Строители исходили из того соображения, что вокруг Пика Пайка вообще имеется золото. Золото здесь и в самом деле было, как, впрочем, и серебро, по и то и другое оставалось укрытым, подобно заколдованному кладу, еще многие годы, что и привело к упадку Колорадо-Сити. 6 июля у одного из разведанных месторождений был заложен Голден-Снтн. Здесь было построено пятьдесят домов, и население его выросло до двух тысяч мужчин и семидесяти женщин. Каждый старатель носил с собой кожаный мешочек с золотым песком, одна щепоть которого, то есть количество, какое можно было захватить большим и указательным пальцами, давала право па покупку товаров стоимостью двадцать пять центов. Небольшая группа, известная как партия Временного правительства, попыталась преобразовать район Пика Пайка в территорию Джефферсон. Они собрали массовый митинг в Аурарип н объявили проект конституции, однако золотоискатели Пятьдесят Девятого были слишком заняты промывкой золота, чтобы заботиться еще и об установлении органов власти. В конце декабря 1859 года партия Временного правительства ввела налог по одному доллару с каждого жителя этого района для нужд управления территорией Джефферсон. Шестьсот золотоискателей торжественно поклялись встретить сборщиков налога по долларом, а пулей. «Роки-Маунтнц ныос» поместила следующий некролог: «СМЕРТИ. В Пике Пайка скончалась от черной рвоты и судорог партия Временного правительства».Подобно «Гончим», действовавшим в Сан-Франциско десять лет назад, в Денвере объявились «Лодыри» - отлично вооруженные подонки, наводнвшне ужас на всю округу. Онн-то н затеяли то, что впоследствии получило название «Индюшачьей воины», когда бандиты захватили фургон, груженный дикими индейками, а потом устроили военный парад на главной улице Денвера. Джефферсон- скис рейнджеры, организованные всего две недели назад, бросились на них с оружием в руках. «Лодыри» бежали. За неимением правительства был сформирован Комитет безопасности наподобие калифорнийского Комитета бдительности. Когда пьяный забияка убил хорошо известного в городе немецкого гоношу, члены комитета гнались за ним через всю Канзасскую территорию, схватили, привезли в Денвер, судили и повесили. Раздраженные орга- пизованпыми действиями шайки конокрадов, члены комитета поймали одного из них и повесили. В ходе следствия он признался, что шайкой руководят местный горист и дирижер оркестра. Этих судил тайный трибунал - первого повесил, а второго расстрелял, причем личности судей и исполнителей приговора остались известными лишь узкому кругу лиц. Девицы из «Харди-Гарди», которые за пятиминутное исполнение танца получали от пятидесяти центов до доллара золотым песком, были прозваны «раскрашенными женщинами, которые назначали головокружительные цены за показ ног выше колен». Колорадское предание утверждает, что самая популярная из них, Сильвер Хилз из Саут-Парк, стала самоотверженной сестрой во время эпидемии оспы и что в ее честь был назван горный пик. Каждый салун имел оркестр, состоящий из волынки, банджо, корнета - а иногда пикколо - и непременно расстроенного пианино. Роль музыкантов исполняли люди, которые, по утверждению местных жителей, получали гонорар у стойки со спиртным. Подавали главным образом виски «Маос- ская молнии», привозимое из других штатов, о котором местные жители говорили: «Никто из тех, кто его пил, не дожил до того, чтобы втянуться в пьянство». Жизнь в Денвере была примитивиой. Большая часть мяса поставлялась охотниками - олени, антилопы, горные бараны, бизоны и форель из ручьев. Мукомольная мельница была построена в долине Сап-Луис, единственном в *Колорадо месте, где занятие сельским хозяйством не прерывалось целое десятилетие. Отсюда мука фургонами доставлялась вдоль горных отрогов до самого Денвера. Несколько экспериментаторов решили заняться фермерским хозяйством. Первый урожай репы был уничтожен саранчой. Картофель был настолько редким явлением, что человек, который привез двести фунтов его в город, вернулся на свою ферму к концу того же дня с тремя коровами Несколько человек из бывшей компании Лоуренса, поняв, что фермерское хозяйство сопряжено с меньшим риском, чем добыча золота, засеяли поля вокруг города, который они назвали Фаунтен-Сити, пригорода современного Пуэбло в девяноста милях к югу от Денвера. Уже некая миссис Миллер из Висконсина продавала швейные машннки домашним хозяйкам по 160 долларов за штуку, а купить свежие фрукты было почти невозможно. Разъяренный владелец одного из кабачков сделал на своей стене надпись: «Сукин сын тот, кто не ест чернослива». Столы, за которыми играли в железку, орлянку, рулетку, красное и черное, были заняты круглосуточно, однако в Колорадо не было, пожалуй, ни одного игрока, жадного настолько, чтобы играть на недвижимость. В Денвере участки земли площадью двадцать пять на сто двадцать пять футов продавались за доллар или за два, в Аурарии такие же участки стоили и того меньше. Однажды владелец ста двадцати четырех земельных участков в Аурарии и восьмидесяти в Денвере, которому нужно было попасть в Солт- Лейк, предложил отдать всю эту землю за лошадь с седлом и уздечкой. Чувство неуверенности возникало и оттого, что многие тысячи золотоискателей возвращались с гор с пустыми руками, грузили на фургоны остатки имущества и под надписью «Пик Пайка - хоть лопии!» выводили новую: «Лопнул, клянусь богом». Д. Оукс, который в прошлом году побывал в Колорадо и опубликовал путеводитель по окрестностям пика Пайка, весьма точный с картографической точки зрения, однако весьма склонный к фантастике в разделе, касающемся золотых россыпей, подвергался символическим похоронам по всей Канзасской территории. На эти символические могилы обычно в головах клали бизоний череп с такой надписью: «Здесь покоится тело Д. Оукса, убитого за содействие в пик-пайкском жульничестве».
Глава II
«Безумный» Джюда и Большая Четверка Начало новому десятилетнему периоду, охватывающему 1859-1869 годы, было положепо «рара авис», самым настоящим гением по имени Теодор Д. Джюда, которого в мае 1854 года прислали из Пыо-Йорка для постройки первой железной дороги в Калифорнии. В книге Оскара Лыоиса «Большая Четверка» о нем говорится как о человеке образованном, предприимчивом, изобретательном, упрямом, лишенном чувства юмора и необычайно компетентном. Джюда был пятым колесом, без которого, однако, телега Большой Четверки - Хантингтона, Стэнфорда, Хоп- кинса и Крокера - никогда не стронулась бы с места… не говоря уже о том, чтобы промчаться через все Соединенные Штаты по рельсам трансконтинентальной железной дороги. Сын священника епископальной церкви, Теодор Джюда родился в Бриджпорте, штат Коннектикут, в марте 1820!?ода. Когда семья перебралась в Трою, штат Ныо- Йорк, Джюда изучал инженерное дело в местной технической школе, а затем прямо из школьного класса поступил на должность инженера на железную дорогу, строившую ветку от Трои до Скенектеди. Не достигнув и двадцати лет, он уже занимался разведкой местности для прокладки железнодорожного полотна в Массачусетсе и Коннектикуте, построил ветку к каналу Эри; в двадцать два года он помогал в составлении проекта и строительстве железной дороги Ннагара-Гордж. Он построил также коттедж на реке Ниагара для миловидной Энн Пирс, своей невесты. Она нуждалась в нем. Ее склонный к перипатетике муж вынуждал ее двадцать раз переезжать с места на место за первые шесть лет супружеской жизни. В двадцать семь лет, занятый строительством железнодорожной ветки в Эри, Джюда получил телеграмму губернатора Ныо-Йорка Сеймура с приглашением па совещание с С. Уилсоном, президентом группы калифоршшцев, намеревающихся построить железную дорогу между городом Сакраменто и приисками Сьерра-Невады. Губернатор Сеймур отрекомендовал Джюду как наиболее компетентного молодого инженера-путейца на Востоке. Однако Джюда не хотел этой работы. Много дорог предстояло строить и на Востоке, а его брат Чарлз, который с потоком золотоискателей уехал в Калифорнию, был одним из немногих пионеров, считавших Дальний Запад грубым и непривлекательным. Однако на руках у Уилсона были козыри. Он, видимо, и пустил их в ход в нужное время, потому что на третий день после того, как Джюда расстался с женой для ветре• чн с губернатором, Энн получила телеграмму: «Будь вечером дома, второго апреля отплываем в Калифорнию». Уилсон мог задать Джюде единственных! вопрос: поскольку вы построили железную дорогу к подножию Сьерра-Невады, не логично ли сделать следующий шаг и пересечь Сьерра-Неваду? А когда будет проложен мост через горы, не логично ли предположить, что постройка трансконтинентальной липни становится неизбежной? Мечта об этом для Джюды была не нова. По словам его жены, «он постоянно изучал эту проблему, много о ней читал и говорил». Джюда открыл свою контору в Сакраменто, а затем отправился в полевую исследовательскую экспедицию, чтобы привязать к местности трассу железной дороги и составить карты Сакраменто-Вэлли. Противник праздного времяпрепровождения, он завершил работу за две недели, заказал рельсы в Нью-Йорке и в феврале 1855 года направил сто человек на отсыпку железнодорожной насыпи и укладку первых в Калифорнии рельсов. Джюда пригласил делегацию из Сан-Франциско проехаться на север долины на составе, состоящем из восемпадцатитонного паровоза н двух открытых платформ, которые были доставлены сюда вокруг мыса Горн. В феврале 1856 года уже была совершена экскурсионная поездка н устроен бал в честь успешного завершения строительства линии к Фолсому у подножия Сьерра-Невады, которая на целый день сокращала путь между двумя городами. Завершив эту работу, Джюда мог теперь полностью отдаться своей главной страсти - железной дороге, которая соединила бы два океана - Атлантический и Тихий. После обследования возможности прокладки дороги для фургонов через Сьерра-Неваду к Золотому Каньону в Неваде Джюда вернулся, полный энтузиазма, считая найденный им в горах проход пригодным для строительства железной дороги. Но было еще слишком рано, и никто не захотел под- дерл;ать его. Безработиыи напористый коротышка Теодор Джюда, с широким и плоским лицом и непроницаемыми глазами сфинкса, использовал все свои сбережения и посвятил все свое время пробиванию, как в устной, так и в письменной форме, идеи о строительстве трансконтинентальной железной дороги. Никем не поиятый, с маниакальным упорством отстаивающий свою мечту, Джюда быстро иадоел жителям Сакраменто. Устав от его приставаний, они, завидев его, отворачивались со словами: «Вон идет Безумный Джюда». Еще через три года, в сентябре 1859 года, в самом большом холле Сан-Франциско собрался конвент Тихоокеанской железной дороги, ставший тем инкубатором, в котором невероятный зародыш железнодорожной линии к Тихому океану получил необходимое для его жизни тепло. Собрание это было организовано Теодором Джюдой, который представил схемы, карты и доклады, а возможно, и оплатил из собственного кармана организационные расходы. В зпак признания он был единогласно избран делегатом в Вашингтон. Делегату этому предстояло отправиться в столицу - опять-таки за собственный счет - и убедить конгресс в необходимости выделения средств на начало строительства трансконтинентальной железной дороги через Колорадо, Юту и Неваду в Калифорнию. Миссис Джюда снова пришлось отправиться в путь. Супружеская пара отплыла в Ныо-Йорк. По счастливой случайности конгрессмен Джон Берч совершал рейс на этом же пароходе. «Ни одни день рейса не проходил у нас без дискуссий но этому предмету, - сообщает Берч. - Знания его были столь обстоятельными, а манеры настолько благородными и располагающими, что трудно было устоять перед его обаянием». Не устоял и конгресс. Джюде была отведена комната в Капитолии, где он открыл музей Тихоокеанской Ичелез- 1Юй дороги. Он «просвещал» конгрессменов, писал письма в газеты, публиковал брошюры, выступал с лекциями. Джюда единолично проводил лоббистскую кампанию в пользу железнодорожной липни между двумя океанами, пользуясь при этом расположением и уважением каждого. Была зима 1860 года. Рабство заставляло всю нацию содрогаться в конвульсиях. Отражалось это и на законодателях страны. Вопрос о том, должна дорога проходить северным или южным путем, оказался неразрешенным. И вот после целого года хлопот Теодор Джюда верггулся в Калифорнию с пустыми руками. Оказавшись снова в Сакраменто, он еще раз отправился в Сьерра-Неваду, решив составить карты наиболее рационального прохода через горы н точную смету необходимых расходов. Он оставался там так долго, что чуть было не попал в снежную ловушку. Джюда спустился в Датч- Флат (Голландскую равнину), центральную точку своего пути через предгорья, разложил свои схемы и выкладки на прилавок аптеки доктора Дэниэла Стронга, где и составил «Статы! положения об ассоциации Центральной Тихоокеанской железной дороги Калифорнии». По его расчетам, требовалось проложить сто пятнадцать миль железнодорожного полотна для соединения Фолсома с Невадской линией через хребет Сьерра-Невады. Поскольку калифорнийские законы предписывали обеспечение 1000 долларов акционерского капитала каждой мили железнодорожного полотна для начала работ, Джюде необходимо было собрать 115 000 долларов у своих акционеров, прежде чем приступить к отсыпке насыпей. «Статьи положения…» «передавались из рук в руки по селениям Голландской равнины». Джюда и его друг аптекарь доктор Стронг подписались на большее число акций, чем они могли позволить себе, а маленький городок и его окрестности - на сумму 45 000 долларов, выразив тем самым свое доверие к инженерным способностям Джюды. Теперь, когда для начала работ не хватало всего 70 000 долларов, Джюда отправился в Сан-Франциско для встречи с толстосумами города. Он заверил измученную жцзныо в гостиничных номерах жену, что теперь наступил конец их трудностям. В гостиницу он возвратился с дрожащими губами, но горящими от гнева глазами и воскликнул, давая выход горечи и разочарованию: «Энн, запомни то, что я тебе сегодня говорю: не пройдет и двух лет, как эти джентльмены… будут готовы отказаться от всего, что они надеются Получить от всех остальных дел, лишь бы вернуть то, от чего они сегодня отказались!» Пророчество это по точности не уступало инженерным расчетам Джюды. Джюда и Энн снова упаковали свои вещи и утренним рейсом отплыли в Сакраменто. Сакраменто получил бы огромную выгоду от железной дороги, однако пять лет город относился к Джюде с безразличием и враждебностью. Человек отважного сердца, он уговаривал людей, сколачивал из них группы, демонстрировал им свои схемы и отстаивал идею связать Калифорнию с Востоком дешевой и надежной транспортной линией. Считая, что ему удалось набрать достаточно сторонников, Джюда созвал собрание в отеле «Ссит-Чарлз». Пришло всего лишь несколько любопытных. Он возобновил свои усилия найти заинтересованных и собрал второе собрание в комнате над лавкой скобяных товаров, принадлежавшей Коллису П. Хантингтону н Марку Хопкинсу. Собралось около дюжины человек. Среди них были доктор Стропг, топограф Лннт, который, кажется, помогал Джюде прокладывать трассу, два брата Рэйбэп, считавшие себя специалистами по кредитованию железных дорог, местный ювелир Джеймс Бэили, Люциус Бут и Корнелиус Коул - владельцы дома, где Джюда снимал комнату, Хантингтон и Хопкинс, бывший юрист, а ныне бакалейщик Лилэнд Стэнфорд и галантерейщик 11арлз!?рокер. «Аптекарь, ювелир, юрист, владелец галантерейной лавки, два торговца скобяными товарами - это не было похоже на материал, пригодный для выполнения задуманных Джю- дой грандиозных планов». Джюда и ие пытался убедить этих прижимистых торгашей в необходимости трансконтинентальной железной дороги. Они бы н доллара не выложили на такой фантастический замысел. Оп просил их о поддержке разведывательных работ в Сьерра-Неваде, целью которых был поиск более короткого и удобного пути если не для железной дороги, то хотя бы для фургонов, идущих в Комсток- Лоуд, куда из Сакраменто доставлялись продукты и сложное горнорудное оборудование на многие тысячи долларов. Люди, в чьих руках окажется эта транспортная артерия, наживут миллионы. Поскольку при покупке акций полагалось уплатит!, всего десять процентов их номинальной стоимости, компаньоны фактически рисковали всего лишь 7000 долларов. Хантингтон, Стэнфорд, Хопкинс и Крокер приобрели необходимое число акций и уже в качестве акционеров проголосовали за выдвижение собственных кандидатур в состав руководства. Джюда согласен был довольствоваться постом главного инженера. В гостиничном номере он радостно сообщил жене: «Если ты хочешь увидеть начало работ на Тихоокеанской железной дороге, выгляни из окна своей спальни сегодня вечером. Погоди, я еще заставлю этих людей уплатить нам за все». «Да, пора хоть кому-нибудь теперь помочь нам», - ответила усталая Энн. В этот же день после обеда Джюда начал прокладку новой трассы прямо под окном снятой им комнаты. Некоторое время спустя он отправился на Восток штурмовать громоздящиеся вершины Сьерра-Невады, западный склон которых резко поднимается на высоту семи тысяч футов, изрезанный зазубренными каньонами горных потоков. Это была гигантская задача, рассчитанная на силы инженерного гения. К концу лета Джюда вернулся с почти полностью завершенным планом маршрута железнодорожного полотна. Он также привез пз Невады известие, заинтересовавшее ,его товарищей: железная дорога сможет вознть руду с низким содержанием металла, которая сейчас сбрасывается у шахтных колодцев, н это может принести баснословные барыши. Большая Четверка состояла из жестоких и преуспевающих торговцев, людей агрессивных, недоверчивых, скрытных и по сути споен глубоко бессовестных. Они быстро избавились от друга Джюды - аптекаря из Голландской равнины, - топографа, 'который помогал Джюде, двух братьев-финансистов и ювелира. Организацию строительства железной дороги они решили взять на себя! Семейство Джюда еще раз отправилось в плавание на Восток, надеясь убедить конгресс взять на себя финансирование строительства железной дороги. Джюда добрался до Вашингтона в октябре 1861 года, через три месяца после поражения юнионистов при Балл-Ран, когда конгресс уже знал, что стоит перед лицом затяжной войны. Джюда сразу же изменил подход к делу. Он переписал билль о Тихоокеанской железной дороге, выдавая его за военную меру, крайне необходимую для удержания Калифорнии и Невады с их богатыми золотыми и серебряными месторождениями в составе США. Затем он довольно ловко добился своего назначения секретарем сенатской комиссии по железным дорогам н клерком подкомитета палаты представителей по железным дорогам. Но и в этих условиях у него ушел целый год на то, чтобы необходимые меры были приняты обеими палатами. Билль Джюды был утвержден. Это был великолепный билль. Строителям выделялись из общественных фондов полоса земли в десять земельных наделов по обе стороны дороги и ссуда в миллионы долларов для постройки железной дороги. Джюда отправил в Сакрамешо телеграмму по только что завершенному трансконтинентальному телеграфу: «Мы заарканили слона. Теперь только остается объездить его». В Сакраменто Теодор Джюда вернулся не Безумным Джюдой, а человеком удивительных способностей, финансовым. магом, которому удалось заставить конгресс раскошелиться на миллионы долларов и миллионы акров земли. Затруднения у Джюды начались тогда, когда его интересы столкнулись с интересами Большой Четверки. Дело в том, что правительство открывало кредит в зависимости от рельефа местности, по которой прокладывалось полотно железной дороги, в размере от 16 000 долларов за милю по равнине до 48 000 долларов за милю в горах. Большая Четверка создала собственную строительную компанию н предоставила ей контракт по самым высоким ставкам. Если даже железная дорога так никогда н не будет построена, Большая Четверка и тут ничего не проиграет: они извлекут необходимые им миллионы из доходов своей строительной компании. Джюда вступил в героическую борьбу с компанией. Он принудил ее отказаться от разработанной схемы. Победив, Джюда обрек себя. Тогда Хантингтон, Хопкннс, Крокср п Стэнфорд предприняли новый маневр на своих картах-сметах, «передвинув» предгорья на равнины Сакраменто-Вэллн. Ведь правительство платило им но 32 тысячи за милю в предгорьях, а за милю на равнине всего 16 000 долларов. Джюда снова выступил с разоблачепием. Большая Четверка решила от него избавиться. Они лишили Джюду поста главного инженера. Он был человеком, явно но подходящим для строительства их дороги. Поставленный перед ультиматумом - либо ты выкупаешь пашу долю, либо мы твою, - Джюда в конце концов принял их предложение, получив 10000 долларов за отставку и все имеющиеся у него акции. В октябре 1863 года Джюда с женой снова поднялся на борт направляющегося в Нью-Йорк судна. В Панаме Джюда заболел желтой лихорадкой и умер в Ныо-Йорке, не дожив до тридцати восьми лет.Большая Четверка занялась искорененном даже всякого упоминания о Джюде. Отныне и навсегда Центральная Тихоокеанская будет делом' их, и только их, рук. Теодор Д. Джюда был еще одним человеком, принесенным в жертву трансконтинентальной железной дороге.
Глава III
Гражданская война приходит на Запад Гражданская война подарила Дальнему Западу начало строительства трансконтинентальной железной дороги; она также повергла Калифорнию в многолетний конфликт из-за захвата богатых минеральных залежей сторонниками конфедератов. Так впервые политический вопрос в Калифорнии принял общенациональные масштабы. Первый выстрел был сделан в сентябре 1859 года па песчаных дюнах подло Сан-Франциско, когда главный судья Дэвид С. Тэррн вызвал на дуэль сенатора Соединенных Штатов Дэвида С. Бродернка. Тэррн, техасец, среди своих предков имел южных рабовладельцев; Бродсрнк был северянином н сторонником свободного труда. Республиканская партия не сумела завоевать сильных позиций в Калифорнии во время президентских выборов 185G года - демократ Джеймс Быокснен победил на них Джона Фремопта, получив более двух третей голосов. Однако теперь демократическая партия была еще расколота н нз- путрп. Демократ Дэвид Бродсрнк был заметной фигурой на калифорнийском политическом горизонте: большого роста, прямолинейный, неподкупный, проданный людям, которым приходится зарабатывать себе на жизнь, со «ртом, полным крепких белых зубов, с серьезной внешностью и пристальным взглядом серо-стальных глаз». Происхождение у него было скромным: сын гранильщика камней на строительство Капитолия в Вашингтоне, он начал трудовой путь гранильщиком в Пыо-Йорке. Еще мальчишкой он завоевал главенство среди свсрстпнков с Кристофер- стрит, потом стал начальником добровольной пожарной команды и наконец владельцем процветающего сатупа.Ему было двадцать девять лет, когда в 1849 году он отправился в Калифорнию с твердым намерением вор- нуться па Восток к качестве сенатора от Калифорнии. В Сан-Франциско Дэвид Бродернк, работая в пробирной палате, понял необходимость введения в качестве средства обмена монеты вместо золотого песка н начал выпускать золотые кругляш!! достоинством в 5 н 10 долларов (с со- держанием золота на Лив долларов). Его литейная фабричка превратилась в неофициальный монетный двор. Обеспечив себя таким образом, он снова вернулся к своей «первой и единственной любви» (он никогда не был женат) - к политике. Он поднимался но политической лестнице: сначала делегат конституционного конвента в Моп- терее, затем сенатор штата, заместитель губернатора в 18;» 1 году. С превеликим трудом он завоевал в течение пяти лет место лидера своей партии в Калифорнии. .Мало кто относился к Бродернку равнодушно. Для друзей он был государственным деятелем, проделывающим сотни миль по горным приискам и заселенным фермерами долинам, произнося речи, завоевывая друзей и сторонников среди простого народа. Представители так называемых хороших семей бывало называли его «чурбаном», относились к нему с презрением, замечая за ним лишь отсутствие такта. Когда законодатели Калифорнии собрались в январе 18)7 года для избрания двух сенаторов Соединенных Штатов, они в большинстве своем были демократами п видели в Бродернке лидера. Бродерик сам предложил свою кандидатуру на пост сенатора, а затем настоял на переизбрании Уильяма Гунна. Это было роковой ошибкой: Гунн являлся сторонником рабства и стремился к расколу Калифорнии. Выступая в сенате Соединенных Штатов в декабре 1859 года от имени влиятельного блока сторонников южан в Калифорнии, он заявил: «Я утверждаю, что роспуск союза штатов пе является невозможным и что северные штаты тешат себя иллюзией, когда считают, что южные не могут отделиться от них мирным путем, а если потребуется - то и силою». ???? 289 Дэвид Бродерик, вернувшись нз Вашингтона, обнаружил, что его авторитет подорван и что кандидат, которого он устранил ради избрания Гуина, пользуется сейчас большим влиянием. Сторонники рабовладения объединились против Бродерика. Главный судья Дэвид С. Тэрри, который в 1856 году ударил ножом представителя Комитета бдительности, объявил на собрании демократов: «Дуглас, за которого так распинается Бродерик, - это вовсе но Сте- 19 зак. Я14 ?СЗ фен Дуглас - государственный деятель, а Фредерик Дуглас - мулат». Слова эти были произнесены н восприняты как преднамеренное оскорбление. Бродерик прочел речь Тэрри, завтракая в гостинице «Интернэшнл». Сидевшим с ним за столом друзьям он сказал, что ранее считал Тэррн честным человеком, но теперь больше так не считает. Это замечание было услышано Перли, одним из приспешников Тэрри, сидевшим за соседним столиком. Перли вызвал Бродернка на дуэль. Бродерик отклонил вызов, заявив при этом: «Перлн подослан махинаторами, которые стремятся избавиться от меня». Газеты Сан-Франциско аплодировали Бродерику за отказ от дуэли, однако главный судья Тэрри подал в отставку со своего поста (ему оставалось еще два месяца пребывать на этой должности) и вызвал Бродерика, опубликовав целый ряд писем, которые Бродерик, если он собирался сохранить за собой хоть какое-то политическое влияние в Калифорнии, ие мог игнорировать. Бродерик был хорошим стрелком. Тэрри более привык действовать охотничьим ножом. Однако Тэрри получил доступ к пистолетам, предназначавшимся для этой дуэли, п обнаружил, что у одного из них необычайно легкий спуск курка, «настолько легкий, что пистолет стрелял от легкого тотчка или даже простого взмаха, без нажима на спусковой крючок». Конец недели Бродерик провел за приведением в порядок своих политических и личных дел, а в понедельник вечером поехал в «Лейк-Хаус» - постоялый двор па Миссионерской дороге, в двух милях от морского берега Здесь он провел бессонную ночь, поднялся на рассвете и поехал к песчаным дюнам, где его дожидались секунданты. Выбор оружия достался Тэрри. Пистолеты были заряжепы, противники стали спиной друг к другу и сделали по десять шагов. Одни из секундантов спросил: «Джентльмепы готовы?» Дуэлянты подняли пистолеты, тут пистолет Бродерика разрядился без нажатия на спусковой крючок, и пуля вонзилась в землю. Тэрри тщательно прицелился и прострелил Бродерику правую сторону груди. Бродерик скопчалсл тремя днями позже, успев заявить: «Мепя убили за то, что я был против распространения рабства».
ТЯрри и сенатор Гуип выиграли первую схватку в вой не, по, как оказалось, это была дорогая победа. Когда Сан- Франциско узнал, что сенатор Дэвид Бродерик мертв, город погрузился в траур. Учреждения и деловые конторы закрылись, вывесив черный креп на дверях, тридцать тысяч человек собрались на площади, где на катафалке покоилось тело Бродерика. Эдвард Д. Бейкер, чье краспоре- чие три года назад убедило присяжных в необходимости повесить Чарлза Кора, произнес глубоко прочувствованную надгробную речь, в которой Дэвид Бродерик представал в ореоле мученика за дело свободы. Речь эта объединила все проюнионистские силы. В книге «Борьба за Калифорнию» Кеннеди пишет: «Калифорния всегда была демократическим штатом, и люди - южане по происхождению и по своим убеждениям - всегда осуществляли над ней контроль. Почти все лидеры, назначенные или избранные, были южанами и отстаивали интересы южан». С устранением Бродерика Калифорнию стали представлять два сенатора - Гуип и Лэтхэм, - оба сторонники отделения. Из двух конгрессменов первый - Джон Берч - утверждал, что, если союз штатов распадется, он выскажется за объявление Калифорнии независимой Тихоокеанской республикой; второй конгрессмен объявил: «Если союз будет разделен, со всей решительностью выступлю за отделение Калифорнии и установление сепаратной республики на берегах Тихого океана». Сторонники Руина мобилизовали свои силы для захвата контроля над управлением штатом. Были созданы тайные сепаратистские общества, которые могли выступать в качестве вооруженных сил. Издатель мэрисвиллского «Экспресса» проводил отбор всех поступающих новостей и информации для тайного общества Рыцарей Золотого Круга, хвастливо заявлявших, что в их рядах насчитывается восемнадцать тысяч членов. После избрания президентом Линкольна в ноябре 1860 года члены этого общества стали открыто призывать людей под свой украшенный пальмовыми листьями флаг и присматривать кандидатуру на должность главнокомандующего. ???? 19• В качестве противовеса были сформированы юнионистские клубы. В Сан-Франциско собрался сорокатысячный митинг, завершившийся процессией с духовым оркестром во главе. Священник Томас Старр Кинг из Восто-
291
на произносил вдохновенные речи в защиту свободы и единства. Поело отделения южных штагов и обмена выстрелами у форта Саттера туларская «Пост» сменила свое назвапио на «Экуал раите зксиозитор». Она называла юнионистов «кровожадными нсамн» и так накалила чувства своих читателей, что они убили двух добровольцев из близлежащего военного лагеря. Онолчснческие формирования в ответ разгромили газету и типографию. Эдмунд Рэндолф, выступая от имени калифорнинцев-южан, говорил в Сакраменто: «Далеко на востоке, в тех домах, откуда мы пришли, тирания и узурпаторы, возможно, в этот самый вечер убивают наших отцов, наших братьев и сестер и грабят наши дома. Если это называется бунтом, то я - бунтовщик!» Угроза, что Калифорния отделится, стала еще более острой, когда с помощью сенатора Гунна командующим вписками штата был назначен Ллберт Сидни Джопстон. Джонстон но предпринимал попыток обуздать вооруженных сторонников южан. 24 апреля 1861 года по настоянию Эдварда Бейкера вместо него на этот пост был назначен Самнер, сторонник юнионистов. Генерал Самнер сразу же привел воинские части из Орегона н усилил их переброшенными из форта Мохэв в Лос-Лнджелес частями. Капитан У-инфилд Скотт Хенкок докладывал об инцидентах, вызванных сепаратистами в Эль-Монте; Джефферсон Дэйнс был с восторгом встречен в Сан-Бернарднно; Санта-Барбара требовала присылки верных правительству войск в связи с активностью вооруженных отрядов сепаратистов. Генерал Самнер писал в Вашингтон: «Недовольство в южной части штата усиливается и принимает угрожающие масштабы, поэтому крайне необходимо немедленно перебросить подкрепления в этот район». После поражения юнионистов у Балл-Ран сторонники отделения были уверены, что смогут избрать собственного губернатора. Юнионисты в Сан-Франциско направили петицию военному министру Камерону, в которой жаловались на то, что около трех восьмых граждан штата являются уроженцами рабовладельческих штатов и в данном кризисе выступают единым строем.Сопато!) Гунн отплыл из Сан-Франциско на юм же корабле, что и генерал Самнер, который отправлялся с докладом в Вашингтон. Гунн предложил нескольким юнно- иистскнм офицерам из свиты Самнера перейти па службу к конфедератам. Узнав об этом, генерал приказал взять Гуипа под стражу. После освобождения Гуин отправился во Францию. В 1865 году он вернулся на родину, снова был арестован и заключен в форт Джэксон. Подобно Дэвиду Бродерику Уильям Гуин прибыл на Дальний Запад с намерением стать калифорнийским сенатором в Вашингтоне. Оба они осуществили свои намерения, и обоим осуществление мечты принесло несчастье: для Бродерика это обернулось пулей, выпущенной в него с расстояния десяти шагов, а для Гуина - тюремной камерой изменника. Множество калифорнийцев отправилось на юг, чтобы присоединиться к армии конфедератов, среди них были Дэвид Тэрри и Алберт Джонстон. Юнионисты, такие, как Джон Фремонт и Уильям Текумсе Шерман, отправились в Вашингтон для получения офицерских должностей. Конгресс, убежденный в заговорщицкой деятельности в Калифорнии, требовал от жителей восточных штатов получения паспортов для поездки в Калифорнию. Гражданская война продвигалась на Запад.
Глава IV
В Комстоке столько же бед, сколько золотоискателей В отличие от Теодора Джюды, которого силой выпуди- ли отступить от участия в разработке самого богатого источника прибылей на всем Дальнем Западе, первооткрыватели серебра и золота в Неваде продавали свои права добровольно. От своих открытий они получили так же мало пользы, как и их калифорнийские предшественники - Джеймс Маршалл и Джон Саттер - от своих. Хотя горный склон и носил имя Комстока, старый Оладья Комсток очень быстро продал свои права здесь за 11000 долларов. Затем он бежал с женщиной, которая якобы была женой одного из мормонов, а когда муж настиг их, купил женщину, отдав в уплату за нее лошадь, револьвер и 60 долларов наличными и настояв, чтобы ему был выдап счет на покупку! Альва Гулд, совладелец рудника «Гулд энд Кэрри», Продав свою половинную долю за 450 долларов, проскакал верхом по всему Золотому Каньону, оповещая во все горло: «Я надул калифорнийцев!» Питер О'Райли, который первым нашел золото у ручья, продал свой участок за 40 ООО долларов, а Пат Мак-Лаф- лин, Пенрод и Осборн продали свои доли в руднике «Офир» по цене от 3000 до 8500 долларов. Все они работали на самой поверхности и считали, что полностью истощили свои заявки; у них не было ни малейшего представления о золотоносных жилах, уходящих на тысячи футов в глубь гор. Опи были к тому же еще и неудачниками вроде Аллена и Хозии Гроуш: Комсток, оставшись без гроша, покончил с собой; О'Райли умер в приюте; Гулд доживал свои дни, продавая в Рено орехи с лотка; Мак-Лафлин умер в нищете. К концу 1859 года в Сан-Мауптин появилась первая улица, городок был переименован в Маунт-Дэвидсон в честь Доналда Дэвидсона - первого покупателя местной руды. На улице поспешно сколачивались пристанища из досок, разбивались палатки. Старый Вирджиния однажды вернулся пьяным вдрызг в свою хижину, упал у двери и разбил бутылку с виски. Размахивая горлышком разбитой бутылки, он заорал: «При крещении я нарекаю это место городом Вирджиния!» Имя это прижилось, хотя жители и придали ему более общепринятое звучание - Вирджиния-Сити. Обеспечив себе, подобно Комстоку, бессмертие, Старый Вирджиния снова напился вдрызг и убился, свалившись с лошади. Индейцы, жившие в окрестностях Коломы, оказались правы, где есть золото, там обитает плотоядный дух. Эти горы были единственным отрогом Сьерра-Невады, выдвинутым на территорию Невады. Долина получила свое название от названия индейского племени уошоэ, проживавшего здесь ранее. Старатели, понаехавшие сюда осенью, до выпадения снегов, выкупили у старожилов их заявки и занялись поисками золота, покрыв склопы холмов «памятниками», как в то время называли заявочные столбы. Старые невадские поселепцы оказались в окружении чужаков, однако болынипство калифорнийцев умели промывать золото лишь в самых поверхностных слоях. Как только оказывалось, что нельзя работать па свежем воздухе с по- мошыо кирки, лопаты и таза, а приходится рыть туннели, подобно кротам, они с презрением бросали работу и возвращались в Калифорнию. Зима 1859 года пришла рано и застала лагерь золотоискателей врасплох. Выпало от пяти до шести футов снега. Вирджиния-Сити был отрезай от Золотого Холма - маленького поселения, лежавшего всего лишь на расстоянии мили. Имеющиеся здесь дома могли дать приют лишь небольшой части мужчин, которые привыкли проводить дни и ночи вокруг пылающих печей в салунах, играя в покер и мечтая о богатых заявках. Этой зимой слой снега в Сьерра-Неваде достиг толщины двадцати пяти футов, закрыв дорогу из Плейсервилла. На голых, бесплодных равнинах Уошоэ крупный рогатый скот, лошади и ослы гибли от холода и голода. Люди тоже голодали, за сто фунтов муки платили по 75 долларов, бекон и кофе были редкостью. Однако еще до выпадения снега постоянные обитатели Карсон-Вэлли снова собрались в Карсон-Сити н выработали конституцию по образцу калифорнийской. В Вашингтон был направлен делегат, чтобы выступить там с просьбой об отделении Невады от Юты и о предоставлении ей прав независимой территории. С этим требованием поселенцы выступали с того самого времени, когда Джон Рииз, Фрэнк Холл и другие собрались на Мормонской станции в ноябре 1852 года. На этот раз делегат взял с собой вещественное доказательство богатства Невады: кусок богатой комстокской руды весом сто тридцать фунтов. Изрядное количество этой же самой руды было привезено на вьючных мулах в Сан-Франциско, поскольку в Комстоке было всего лишь четыре примитивные дробилки. Руда была переплавлена в несколько брусков блестящего серебра, которые потом торжественно пронесли по улицам Сан-Франциско. Эта руда, а также непрестанная война конгресса с мормонами помогут Неваде добиться в Вашингтоне территориального статуса. Серебряные бруски, пронесенные по улицам Сан-Франциско, произвели тот же переполох, что и* появление здесь десять лет томуназад Сэма Брэннена, размахивавшего бутылкой из-под хинина с криками: «Золото! Золото из Сьерры!» 1 февраля 1860 года появилось солнце, и с зимой в Не- вадской пустыне было покончено. К марту тысячи кали- форнийцев вереницами поднимались на перевал, пытаясь проложить в снегу дорогу. Немногим из этих ранних старателей удалось пробиться; они умирали от леденящего холода, отмораживали стуггяи лог, кап ото было с Гроуш. Дорога была усеяна!изломанными фургонами, брошенным снаряжением, трупами иавших животных. Первый торговец, которому удалось достичь Вирджиния-Сити в марте, разбил палатку и выручил 200 долларов. Он тут же сдал в прокат одеяла и спальные места в палатке и получил за это по доллару с сорока человек. Вскоре снег в горах растаял, и дорога оказалась открытой. Появились тысячи старателей, которые разбивали лагеря всюду, где только была вода и лес для дров, буквально спотыкаясь о заявочные столбы друг друга, которыми были утыканы склоны холмов. Однако условия здесь совсем не походили на поверхностные россыпи мелкой Мормонской отмели. Не было здесь и возможности отдельным старателям сохранить свою независимость, как это бывало в ранние калифорнийские годы. Поскольку золото и серебро лежало глубже пород, рудники приходилось сразу же строить иа индустриальной основе, со сложными механизмами и паровыми подъемниками, привозимыми из Калифорнии. Среди пришельцев почти не было людей с достаточным для этого капиталом, и многим приходилось становиться наемными рабочими. Лица, владеющие профессиями, находили себе применение на рудниках, в кам- недробильнях и у плавильных печей, остальные становились, рудокопами или возвращались домой. Город разрастался. Какой-то человек, обладавший острым глазом, так обрисовал Вирджиния-Сити весной 1860 года: «Кое-как сколоченные кровли, беспорядочно ленящиеся друг к другу; навесы из брезента, одеял, веток, картофельных мешков и старых рубашек, с пустыми бочонками из-под виски в качестве печных труб; дымные лачуги из земли и камней; норы койотов в горных склонах, силой захваченные людьми; землянки и шалаши, у которых дым просачивался изо всех щелей; кучи припасов, и всякого барахла, разложенные па палках и чурбаках, в ямах, на камнях, в грязи, на снегу - все это было разбросано повсюду в страшном беспорядке». Пища и ночлег обходились в 4 доллара в день. Заработок составлял 5 долларов, и это не оставляло большого простора для излишеств. К лету дороги и тропки превратились в улицы. Главные из них были расширены настолько, что фургоны могли разминуться друг с другом, а затем, поскольку не нашлось Оладьи Комстока или Старого Вирджинии для изобретения более ярких названий, их обозначали просто Л, В-, С-стрит. Немощеные улицы покрывал толстый слой пылн, пока не наступали до леди, превращавшие их в болотные тонн. Л тропы, идущие вверх и вниз по склону, более походили на вертикальные лестпицы. К концу весны в Комстоке было столько же бед, сколько и золотоискателей. Ипдейны, приведенные в ярость тем, что белые оскорбили двух их женщин т станции Унльям- са, сожгли дотла поселение, перебив его жителей. Первая карательная экспедиция невадцев, неопытная в методах ведения войн с индейцами, попала в засаду в узкой долине. Из отряда, насчитывавшего более сотни человек, спаслось только двадцать пять. Отряды добровольцев были наспех сформированы в калифорнийских городах - Даунпвилле, Невада-Сити и Сакраменто в ответ на отчаянный призыв Вирджиния-Сити, где женщины и дети спасались за наспех возведенными укреплениями. Новый отряд состоял из двухсот солдат и пятисот рудокопов. Только после того, как они перебили почти всех воинов племени пайютов, выяснилось, что станция Уильямса была сожжена не пайютами, а воинами племени баннок. На Маун-Дэвидсон царил хаос. В. А. Хаусуорт, бывший кузнец, а здесь - хозяин салуна, у которого хранились книги регистрации заявок на участки, позволял каждому самостоятельно вносить свои заявки в книгу. Исправления и зачеркивания превысили число первоначальных записей. Расположение заявочных участков обозначалось очень приблизительно. Путаница усугублялась еще и тем, что рудные жилы залегали поперек долины, уходя в глубь гор, а участки нарезались вдоль долины. Все это привело к многочисленным и чрезвычайно запутанным судебным искам. По мере того как штреки рудников уходили, все глубже в горные породы, по ходу рудных жил, становилось ясло, что жилы эти становятся все шире п шире: до сорока футов, потом до пятидесяти и наконец до шестидесяти фу тов - по-видимому, самые широкие из всех известных до тех пор в мире. Двадцать четыре заказанные в Сан Фра!;- циско камнедробилки были перевезены через горы и Уошоэ; к концу года их работало уже шестьдесят четыре. Одновременно с ростом добычи и прибылей увеличивал^!. И опасность работ из-за постоянно просачивающейся воды и постоянных обвалов, происходивших вследствие чрезвычайной рыхлости горных пород. Калифорнийский метод пробивки штреков, состоящий из крепления потолка поперечными бревнами, удерживаемыми вертикальными, здесь не годился. По мере того как шахтеры углублялись сначала на сто, а потом и на двести футов, давление сверху возрастало настолько, что подпорки ломались, а шахтеры оказывались погребенными заживо. Владелец рудника «Офир» призвал на помощь Филиппа Дидесхаймера из Калифорнии. Дидесхаймер разработал систему крепежа, известную под пазванием «квадратные клетки», сделанную из коротких бревен, доставляемых из Сьерра-Невады, за двадцать миль от прииска. Из этих бревен сколачивались самостоятельные ячейки, наподобие ячеек пчелиных сот, настолько прочные, что поверх них можно было устанавливать новые ячейки. Изобретение это решило проблему прокладки штреков в Комстрке, а сам Дидесхаймер стал главным управляющим рудника «Офир». Одним из первых приехавших после окончания зимы был Дэвид. Тэрри, убийца Дэвида Бродерика. Прибыл он якобы с назначением на пост губернатора, выданным ему Джефферсоном Дэвисом. Пост этот он мог запять… как только ему удастся присоединить Неваду.к конфедерации. В ожидании этого он выбрал три стратегически важных пункта недалеко от Комстока и начал строительство фортов. Первый почтовый курьер прискакал на станцию Спаф- фордс-Хилл 12 апреля, затратив всего девять дней на путь из Сент-Джозефа, штат Миссури, что позволило шахтерам чувствовать себя вроде бы ближайшими соседями Востока. Когда следующий курьер прибыл сюда в середине июня и припес из Сан-Франциско весть о выдвижении Линкольна кандидатом в президенты от республиканцев, шахтеры недоуменно спрашивали друг друга: «А кто ¦этот Авраам Линкольн, черт бы его побрал?»2 марта 1861 года конгресс официально объявил о создании Невадской территории из западной Юты. Хотя Давиду Тэрри не удалось стать губернатором, он настолько преуспел в распространении проюжанских настроений, что, когда над салуном «Ныомен-Уотерхаус» был поднят флаг конфедератов, толпа вооруженных сторонников вышла на его охрану. Кто-то из юнионистов поскакал в форт Черчилль за войсками. Капитан Мур прибыл с двадцатью драгунами, спустил флаг н произвел обыски, конфискуя оружие. В июле 1861 года прибыл первый губернатор территории Невада - Джеймс Hau, сорокасемилетний юрист, бывший комиссар полиции в Нью-Йорке, опытный политик, находчивый оратор, который вел кампанию в пользу Линкольна. IIa посты в Неваде он назначил своих старых политических друзей но Нью-Йорку. Невадцы настолько обрадовались приезду правительства, что встретили его артиллерийским салютом, произведенным нз двенадцатифунтовой пушки, которую Джои Фремонт вынужден был бросить в этих местах пятнадцать лет назад. Тенерь Невада стала федеральной территорией. За исключением плодородной Карсон-Вэлли, она представляла собой бесплодную пустыню: десятки тысяч квадратных миль коричневого песка, кустиков шалфея, камней и гор, наводящих ужас, превращающих человека в карлика, негостеприимных, то есть без всех тех ресурсов, благодаря которым вновь открытая земля может создавать свою цивилизацию - непреложный факт, который окажет огромное влияние на ее будущее. Губернатор Пай ввел суды, назначил судей и занялся подготовкой к выборам - первого на территории Невады законодательного собрания. Проведенная им перепись показала, что в Вирджинии -Сити теперь живет почти тринадцать тысяч горожан и в числе их - несколько жен, которые в настоящее время были вне себя от возмущения и гнева: Джулия Булетт, привлекательная молодая «мадам» одного из комстокских «заведений», всеобщая любимица пожарных, имела наглость проехаться во главе пожарной команды в процессии по случаю праздника Четвертого июля.
К лету 1861 года город, который год назад представлял собой «палатки с пустыми бочками из-под виски в качестве печных труб», построил почти сорок лавок, двадцать пять салунов, десять ливрейных конюшен, девять ресторанов, восемь гостиниц и сотню солидных домов. Старый Калифорнийский тракт был расширен и отремонтирован почтовой компанией «Пайонпр», которая обеспечивала непрерывный поток фургонов через Сьерра-Неваду, доставляя бары красного дерева для салунов, лес для строительства камнедробнлен, шахтных забоев и частных домов и даже такое громоздкое н тяжелое оборудование, как пятнадцатисильная паровая машина для рудника «Офир». Шахтеры, которые в прошлом году терпели муки холода и голода, теперь могли получить все те роскошные вещи, которые летом 1849 года появились на приисках Калифорнии: вина, ликеры, банки с устрицами и икрой. Город все еще не мог похвастать наличием банка, хотя тридцать семь компаний с акционерным капиталом в 37 ООО ООО долларов были заняты разработкой девятнадцати основных рудников, включая сюда «Сзвидж», «Гулд зпд Кэрри», «Йеллоу-Джекет», «Кентак», «Краун-Пойнт», ЯНшлар-Потоси», Мексиканский, «Бест» и «Белчер», в которых уже было добыто на 7 ООО ООО долларов руды. «Уэллс-Фарго» решил взять на себя банковские операции, обменивая золото па монеты. А монет требовалось теперь все больше, потоку что заработки плотников, металлургов и механиков возросли до 6 долларов в день. Это было настолько выше обычных калифорнийских заработков, что началась миграция рабочей силы через горы. В городе была не стесняющаяся в выражениях газета «Террпторнэл энтерпрайз», поддерживающая топ и дух старательского лагеря Дикого Запада. Один из ее репортеров - Сэмюзл Клеменс, попавший сюда из ближайшего бедного золотоискательского поселка, шлифовал шутки и тонкие политические выпады, выступая перед благодарной и восприимчивой аудиторией. В результате скандальной избирательной кампании с подтасовками, подделками бюллетеней и целым рядом фальсификаций сельскохозяйственный Карсон-Сити стал столицей территории. Законодательное собрание разместилось в двухэтажном здании. Нижний этаж составляли гостиничные номера, а верхний - холл законодательного собрания. Законодатели покрыли себя неувядаемой славой, проголосовав за основание в Неваде библиотеки; они также удовлетворили просьбу Большой Четверки о предоставлении им лицензии па строительство железнодорожной линии в Неваде - поступок, о котором они будут жалеть всю жизнь. К концу года население Комстока составляло уже около двадцати тысяч человек, значительная часть которых являлась махинаторами нового типа. Законы, регулирующие разработку недр, были еще весьма неупорядочениы- ми: любой мог сделать заявку па участок в пустыне, а затем продавать акции по стоимости от десяти центов до семидесяти пяти долларов с каждого квадратного фута лишь бы нашлись покупатели. В условиях, когда девятнадцать крупных рудников ежемесячно выдают на-гора драгоценные металлы на десятки тысяч долларов, а население почти целиком состоит из рабочих, которые никогда не смогут разбогатеть, разрабатывая собственные заявки, Уошоэ охватила мания спекуляции акциями. Большинство жителей вкладывало своп последние доллары в какие-то фантастические прииски, на которых никто нн разу не шевельнул лопатой. Большинство из них было чистейшим жульничеством с самого начала. В результате того что телеграфная линия между Солт- Лсйком и Сан-Франциско проходила через Вирджннин- Снтн, сиекулнциопнан зараза стала распространиться н по проводам. Жители Сан-Франциско вкладывали свои сбережении, покупая вслепую акции н становясь акционерами несуществующих предприятий. Стоимость одной акции рудников, в которых не было добыто нн па один доллар золота нли серебра, взлетала до сотен долларов. С наступлением зимы Сан-Франциско внезапно пробудился и осознал тот непреложный факт, что его обжулнлп. Рабочие, клерки, домашние хозяйки потеряли все вложенные доллары… впрочем, тО же самое произошло и со многими опытнейшими бизнесменами города. Комстокский рынок прогорел. В Вирджиния-Сити, где каждый салун представлял со- сой круглосуточную биржу, результаты были самыми бедственными. Сбережения города вылетели в трубу. Курс акций даже самых высокопродуктивных рудников упал крайне низко, некоторые акции шли по центу за доллар их номинальной стоимости. Паника охватила город, и жертвы ее двинулись в обратный путь. в Калифорнию. К зиме Комсток утратил уже значительную часть населения и прежнего заряда бодрости. В декабре разразились бури, не виданные с тех пор, когда Фремонт предпринял трагическую попытку зимнего штурма гор. Они принесли сначала снежные заносы, а за тем - сильные и затяжные дожди. Потоки воды понеслись вниз по Маунт-Дэвидсон, унося с собой часть домов и заготовленный на зиму запас, сена и зерна. Шахтные забои оказались полностью залитыми водой. Богатство, которому был нанесен удар биржевым крахом, теперь улетучилось окончательно. Уильям Стюарт, юрист, который занимался ведением всех крупных юридических дел, связанных с приисками, проснувшись однажды утром во время этого потопа, обнаружил, что все его имущество, состоящее из рудника и камнедробилок, которые неделю назад оценивались в 1 500 ООО долларов, те-.перь но имеет никакой цены. Похоже было, что Уошоэ-Вэлли придется вернуть не- скотьким уцелевшим здесь пайютам.
Глава V
Нужно очень рано вставать, чтобы застать Брайама Янга врасплох Утратив две трети своих территорий, отошедших к Неваде, мормоны предприняли смелый шаг для получения прав штата: они решили оставаться лояльными по отношению к правительству федерации при условии, что им разрешат взять на себя собственное управление. Мормонский делегат объявил в конгрессе: «Мы лояльны уже потому, что пытаемся вступить в союз в то время, когда другие пытаются выйти из него». Подстрекаемые к отделению Югом, который сулил им права конфедератского штата, мормоны ответили: «У нас есть трудности в отношениях с правительством, но мы рассчитываем, что они будут решены самим правительством или мы сами справимся с ним». Брайам Янг разрешил сомнения и Севера и Юга, призвав чуму на головы и тех и других. Он не выступал против рабства с позиций морали, поскольку объявил Хорэйсу Грили в Солт-Лейке: «Юта будет свободным штатом. Рабство окажется здесь бесполезным и невыгодным». Своему же народу он сказал: «Рядовые бешеные аболиционисты привели к тому, что вся нация оказалась охваченной огнем. Я не аболиционист, не являюсь также и сторонником рабовладельцев. Южане создают негров, а северяне поклоняются им - вот и вся разница между рабовладельцами и аболиционистами». Авраам Линкольн согласился с тем, что мормоны должны держать нейтралитет. Свою политику в отношении их он определил очень просто: «Оставьте их в покое». Однако Брайам Янг хотел, чтобы Юту оставили в покое в качестве штата, а не территории. Он сказал: «Мы должны сформировать правительство для себя и заботиться о себе самостоятельно». Был созвап конвент для составления проекта еще одной конституции штата и для назначения на посты официальных должностных лиц. При голосовании более десяти тысяч голосов было подано за конституцию и за назначения, причем ни одного голоса не было подано против. Мормоны объявили результаты голосования триумфом их единства; подобное единогласное голосование заставило некоторые восточные группы считать, что в Юте не было проведено свободное голосование. Законодательное собрание Юты избрало двух сенаторов в сенат Соединенных Штатов и направило их в Вашингтон. Здесь сенатор Лейзем от Калифорнии, стремящийся к сильному и объединенному Дальнему Западу, выступил с требованием утвердить сенаторов от Юты. Однако контролирующая конгресс республиканская партия выступила с платформы борьбы против рабства и полигамии, третируя оба эти ипститута как «братьев-близнецов, сохранившихся от варварства». Ими уже был принят билль 1862 года, осуждающий и запрещающий полигамию. Предполагаемые сенаторы и мормоны Юты получили от ворот поворот. Юта' не послала своих добровольцев па Гражданскую войну. Официальная история церкви говорит по этому поводу: «В сложившихся условиях неудивительно, что война между штатами не представляла особого интереса для «Святых последнего дня». Это, однако, пе помешало губернатору территории Джону Даусону выступить с суровым обвинением мормонов в нелояльности. В результате ему пришлось подать в отставку, а при отъезде из Юты оп был еще и избит. Мормоны утверждали, будто он подвергся нападению шайки хулиганов, сам же губернатор Даусоп считал это делом рук добропорядочных мормонов, в том числе и одного полицейского.На смену Даусону прибыл губернатор Стефен Хардипг, который прежде состоял в дружеских отношениях с мормонами. Он был очень тепло встречен в марте 1862 года, но уже через год мормоны ополчились против Хардинга из-за того, что он поддержал петицию двух федеральных судей из Юты с просьбой предоставить более широкие полномочия федеральным судам. Массовый митинг про теста был собран в молитвенном доме. Здесь «губернатор и оба судьи были заклеймлены как конспираторы, выступающие против свобод народа и интересов территории». Брайам Янг и старейшина Джон Тэйлор произнесли «резкие речи». Губернатор Хардинг был устранен, но до этого он успел произнести приветственную речь перед свеже- прибывшими войсками, выстроенными перед его резиденцией. Это был отряд калифорнийских добровольцев под командованием полковника Патрика Эдварда Коннора, ирландца с огненно-рыжими бакенбардами, в прошлом капитана техасских добровольцев в войне с. Мексикой, золотоискателя, потом - почтмейстера и преуспевающего строительного подрядчика в Стоктоне, штат Калифорния. Отряд был прислан в Юту под предлогом охраны почтовых и транспортных путей от индейцев. Приветственные слова губернатора были последними добрыми словами, которые предстояло услышать этим войскам за все три долгих года службы на Великой равнине, в пустынях и горах Юты. Когда семьсот пятьдесят пехотинцев и кавалеристов прошагали по улицам Солт- Лейка за своим духовым оркестром, заполнившие улицы зрители взирали на них в гробовом молчании. Поставленная перед полковником Коннором задача охранять проходящую через материк почту была нетрудной для его хорошо вооруженных солдат, однако, как и любому официальному лицу, направленному в Юту независимо гражданскими или военными властями, ему вскоре пришлось вступить в жестокую схватку с Брайамом Янгом, старейшинами, церковью. Да и нрав •полковника Коннора не отличался терпимостью. «Совершенно певозможпо описать все то, что я увиДел и услышал в Солт-Лейке. Чтобы вы могли представить себе весь ужас мормонства, достаточно сказать, что я обнаружил здесь общество предателей, убийц, фанатиков и шлюх. Народ здесь публично выражает радость по поводу неудач нашего оружия и возносит хвалу господу за то, что американское правительство, как они это утверждают, ушло. Федеральные должностные лица совершенно лишены какой-либо власти и вынуждены говорить друг с другом шепотом из опасения быть подслушанными шпионами
Брайама. Брайам Япг правит здесь как истинный деспот, и смерть от руки убийц грозит ослушникам его приказов». Коннор считал, что мормонство, по канонам которого «молятся и живут па этой территории, несовместимо с цивилизацией», что федеральное правительство должно «освободить людей, угнетаемых и попираемых самой разнузданной церковной тиранией». При постоянном присутствии калифорнийских добровольцев и возвышающихся над ними мушкетов неприязнь дошла до такого уровня, что Солт-Лейк поверил: войска присланы арестовать и увезти в Вашингтон Брайама Янга, где его предадут суду за то, что «он женат на более чем одной женщине». Когда в военном лагере был произведен выстрел из пушки в честь того, что за победу над индейцами полковник Коннор произведен в генералы, тысяча мормонов с ружьями в руках бросилась к столице, чтобы спасти Брайама Янга от ареста! Приказ высшего командования требовал вести себя по отношению к мормонам «тихо и осторожно», а президент вообще рекомендовал «оставить их в покое». Поэтому генерал Коннор, пробыв в Юте почти целый год, так и не отыскал способов борьбы с ними, пока однажды в конце 1863 года он не пригласил группу офицеров с женами на пикник в Бингхэм-Каньон. Одна из дам подняла валявшийся на склоне холма камень. Он показался интересным. Солдаты, присматривающие за лошадьми, принялись обследовать местность. Им удалось найти золотую жилу. Генерал Коннор увидел в этом прекрасную возможность затопить Великий Бассейн потоком старателей, как это уже бывало в Калифорнии, Неваде, Колорадо, и таким образом укротить мормонов, которые окажутся в меньшинстве и понесут поражение на выборах. Усилиями генерала было создано несколько горнорудных компаний для эксплуатации минеральных богатств Юты. Брайам Янг не пытался остановить их. Он сказал мормонам: «Работайте на этих капиталистов, и работайте хорошо и честно. Добывайте их руду, стройте их плавильные печи и, получив заработанные у них деньги, стройте дома, улучшайте свои фермы, покупайте себе скот и улучшайте свое благосостояние». ???? 305 Золотые и серебряные рудники Юты принесли добычи более чем на 500 000 долларов, одпако себестоимость разработок здесь была чрезвычайно высокой, особенно это 20 За!•. М 1463 касалось транспорта, и большинство горнодобывающих компаний не окупило своих вложений. Генералу Коппору пе удалось заселить Юту немормонами. Мормоны же получили источник крайне необходимых им наличных денег. Нужно очень рано вставать, чтобы застать Брапама Янга врасплох. Юта была вотчиной Брайама Янга, а оп - абсолютным хозяином. Янг. знал каждого мормона в Солт-Лейк-Сити, его имя и семью, его доходы и проблемы. Во время визита в Септ-Джордж, мормонское поселение у южной границы с Невадой, оп посетил каждый дом, обнимался с каждым из мормонов. Если он приказывал что-нибудь сделать, это оказывалось сделанным: молитвенный дом, города, школы, общественные здания, стены, дороги, ирригационные канавы, театр, библиотека, упрощенный язык… который так и не прижился. Дверь его конторы всегда была открытой. Если хотели устроить бал, следовало сначала получить его разрешение, а затем и одобрение списка приглашенных лиц. Пьесы, которые ставились в театре, должпы были пройти его цензуру. Для вступления в брак, как, впрочем, и для самого ухаживания, требовалось его согласие. Чтобы завести новое дело или переменить профессию, следовало заручиться его одобрением. Если Брайам Янг просил кого-нибудь оставить дом, запятия и жизпь в Солт-Лейке и отправиться в далекую миссию или перебраться в другое поселение в пустыне, человек этот отправлялся туда. Если он говорил человеку, чтобы тот вступил в полигамный брак, тот брал следующую жену. Все сказанное Япгом было религиозной заповедью для мормонов; если он утверждал, что человек или группа людей являются отступниками, этот человек или группа лиц изгонялись. Гебер Кимболл, заместитель Янга, заявил конгрегации: «Если брат Брайам приказывает мне сделать что-то, это все равно как будто сам господь велит мне это сделать». Брайам Янг в таком же тоне разговаривал со своей конгрегацией: «Ни один человек не смеет судить меня. Вы ничего не знаете о том, послан я вам или пет; более того, это и пе ваше дело, вы должны только слушать открытыми ушами то, чему вас учат, и служить господу всем своим сердцем».
Своей пастве оц советовал: «Платите ваши долги, опорожняйтесь ежедневно, ходите прямо перед господом, и у вас никогда не будет забот». Если может показаться, что мормоны не были перегружены необходимостью лично решать какие-то вопросы, то следует вспомнить сэра Ричарда Бэртона, который нанес им дружеский визит в Солт-Лейк в 1860 году. Он так сказал об основах проводимой Брайамом Янгом политики: «Свобода для подавляющего большинства человечества оказывается значительно более тяжким бременем, чем рабство. И это непреложный факт». Во всем, что не шло в разрез с интересами церкви, Брайам был справедлив и щедр. Он не оставлял ни одного из мормонов без пищи или крыши над головой; он много сделал для нуждающихся: «Я строил стены, копал канавы, строил мосты и выполнял ряд различных работ, которые имели своей целыо предоставить вспомоществование беднякам. Почему? У нас есть картофель, мука, мясо, но для людей намного лучше, если им не просто все это дадут, а предоставят возможности и средства собственным трудом произвести или заработать их». Пытаясь построить совершенно независимую цивилизацию в пустыне, Янг вынужден был ввести суровый режим упорного труда и аскетизма; что же касается искусства, красоты, культуры и праздности, то склонность ко всему этому могла оказаться не только бесполезной, по и опасной. Мормоны, которые были вместе с ним еще на Зимних квартирах, говорили: «Он снал, держа один глаз открытым и одну ногу спущенной с постели». Все, что Янг делал, он делал бесплатно и никогда не получил ни доллара за все годы своей службы церкви. Никогда не было случая, чтобы он перепоручил кому-нибудь заботу о своем скоте, уход за полями, заготовку леса или что-либо иное. В последние годы своей жизни Янг был богат - наследство его было оценено примерно в 2 ООО ООО долларов. Может показаться, что это слишком большое богатство. Однако не следует забывать, что именно Янг превратил пустыню Великой равнины в плодородные земли, которые к моменту его смерти стоили многие сотни миллионов и принадлежали целиком и полностью церкви и поселившимся здесь мормонам. ???? 307 Все большее распространение получало символическое изображение церкви «Святых последнего дня» в виде глаза
20*
с панисаннмм пол ним изречением: «Богу богоио!» По мерс роста мормонских поселении изображение глаза встречалось повсеместно. Некоторые из наименее послушных мормонов будто бы говорили, что это всевидящий глаз брата Брайама Янга, или называли его глазом «большого хозяина». Брайам Янг был человеком могучего телосложения, с суровым лицом, устрашающим голосом и сверкающими глазами прирожденного командира. Колоссальный запас неукротимой внутренней энергии и авторитет способствовали то.му, что паства видела в его лице опору церкви «Святых последнего дня» и всего мормонского общества. Эта сила и властность очень пригодятся в ходе борьбы, которая разгорится вокруг вопроса о полигамии. «Нейтралитет» Юты, все учащающиеся поражения северян и затяжной характер войны между штатами могли бы дать Брайаму Янгу передышку, но именно полигамия породила потоки слов по всей стране, - слов яростных, произносимых с различных трибун, церковных амвонов и в печати. Особенно неистовствовали клерикалы. Один из священнослужителей воскликнул: «Подобные азиатские порядки не должны были процветать на американской земле, ведь они уже привели к убиению невинных, столь жестокому, что об этом и страшно подумать». Ему вторил другой клерикал: «Мормонство не религия. Это - преступление, и поэтому оно не может рассчитывать па защиту и терпимость в соответствии с положениями конституции Соединенных Штатов о свободе вероисповедания. Это не религиозный предрассудок, а система скрытого сладострастия, и как таковая является подрывающей моральные устои…» До Уитт Толмейдж, известный бруклинский проповедник, заявил в своей проповеди, что полигамия - это по существу не что иное, как проституция. Гарриет Бичер-Стоу, оказавшая неоценимые услуги борьбе за запрещение рабства, теперь была преисполнена намерений оказать подобную же услугу второму из «братьев-близнецов, порожденных варварством»: «Неужто нельзя надеяться, что наступил час ослабить узы жесточайшего рабства, цепи которого врезаются в сердца тысяч наших сестер, - рабства, которое унижает и оскорбляет женщину, материнство, семью?» Пророк Джозеф Смит положил всему этому начало, когда поведал о сошедшем па него наитии: «Если мужчина в:?.я л в жены девицу и хочет взять в жены другую и первая дает на это согласие, и если он берет в жепы вторую, и если обе они девицы и не признают никакого другого мужчины, тогда он оправдан; не может считаться греховной связь с тем, кто принадлежит ему, и никому больше». Неважно, что побудило Джозефа Смита поделиться этими откровениями со своими последователями. К тому времени, когда мормоны закрепились в Юте, нолнгамня успела стать одной из основных догм их религии. Вернер в биографии Брайама Янга утверждает: «В восточных штатах сторонников полигамии было принято считать каким-то особым видом животных, совершенно отличных от человеческих существ, помимо чисто внешних, обманчивых признаков. Противники полигамии видели в ней только грубую форму адюльтера, тем более отвратительного, что его н не пытались скрывать». Многоженство в соответствии с мормонской религией имело единственную иель: обеспечить молитвенными домами па земле мириады неродившихся душ, дожидавшихся своего появления на свет, то есть обеспечить рождение как можно большего числа детей, которые будут взращены в канонах церкви «Святых последнего дня» и таким образом обретут царствие небесное - вечную жизнь. Вечной же жизнью мормоны награждаются только в том случае, если у них есть детн. Значительная часть мормонов настолько твердо верила в это, что, если брак оказывался бесплодным, первая жена старалась подыскать новых жен своему мужу, чтобы обеспечить себе место в жизни вечной. Дважды на советах мормонов предпринимались попытки доказать, что Иисус Христос был не только женат, но и исповедовал многоженство. Орсоп Пратт говорил: «С уверенностью можно сказать, что было несколько святых женщин, которые любили Иисуса великой любовыо, такие, как Мария, и Марта - ее сестра, и Мария Магдалина; и Иисус любил их великой любовыо и был очень к ним Сривязан; и когда Он восстал из мертвых, то, вместо того чтобы явиться избранным своим свидетелям Апостолам, Оп явился сначала этим женщинам. И вполне естественно, что после Воскресения Он предстает сначала перед своими любимыми женами и только потом - перед остальными друзьями. Если бы все деяния Иисуса были записаны, мы, несомненно, знали бы о том, что эти любимые им женщины были его женами». Орсон Хайд добавлял: «Совершенно ясно, что не кто иной, как сам Иисус Христос, был женат именно так. Если он никогда не был женат, его близость с Марией, и Мартой, и другой Марией, которых Иисус любил, была бы очень странной и неприличной, если не сказать худшего». Однако Брайам Янг говорил своей пастве: «Я хочу, чтобы у вас было много детей. Дети помогут нам построить Сион и приблизить тот депь, когда враги наши будут попраны и пути их преданы забвению, когда кровь пророков будет отмщепа и справедливость покроет землю, как воды глубины морские». Что же касается многоженства, которое он считал одной из основ мормонства, Брайам Янг и тут полностью исполнил свой долг. После смерти первой, умершей в молодом возрасте жены он прожил несколько лет в одиночестве до женитьбы на Мэри-Энп Энджел в Киртлэнде, штат Огайо, когда ему было тридцать три года. Первый раз (но- лигамно) он женился в Науву в сорок одни год. Ее звали Люси-Энн Декер, ей было двадцать лет, и она родила ему семерых детей. Примерно через восемнадцать месяцев он женился дважды в один день - на Гарриет Кук, девятнадцати лет, которая родила ему одного сына, и на Аугустс Адаме, сорока одного года, которая вроде бы была вдовой Джозефа Смита и которую Янг хотел взять под свою защиту. Еще через шесть месяцев, 8 мая 1844 года, Брайам Янг женился на шестнадцатилетней Кларе Декер, младшей сестре Люси-Энн, его первой полигамной жены. В то время Брайаму Янгу было сорок три года; Клара родила ему пятерых детей и была имепно той избранницей, которая сопровождала его к Великому Соленому озеру с первой партией мормонов. Еще через четыре месяца он берет себе еще двух жен - тридцатилетнюю Клариссу Росс, которая родит ему четверых детей, и Эмили Патридж, двадцати лет от роду, впоследствии - мать семерых детей. На следующий год он женится на второй из вдов пророка - Олив Фрост; в 1845 году вступает в два брака - с Эммелнн Фри, которая родила ему десять детей, и с Маргерит Пирс, двадцатидвухлетней вдовой. Теперь ему исполнилось сорок четыре года. Критическим для Брайама Янга был 184G год, когда мормонов изгнали из Науву. Не зная, где он окажется и каковы будут его возможности в будущем, Брайам Янг в этом году женился восемь раз: па Луизе Бимап, тридцати одного года, Маргерит Олли, двадцати лет, 21 января сразу на четырех женщинах - Сюзен Сливли, тридцати лет, Эллен Роквуд, шестнадцати, Марте Воукер и Марии Лоу- ренс - еще одной из вдов Джозефа Смита. Через двенадцать дней он женится па Зине Хантингтон, а на следующий день - па Паами Картер. По дороге на Зимние квартиры в марте 1847 года он женился на двух сестрах - Мэрп-Джейп и Люси-Байглоу. После того как мормопское поселение в Юте окрепло, он 20 июня 1849 года женился на поэтессе Элизе Сноу, в октябре 1852 года на Элизе Бэрджес, а затем, в 1856 году, на Гарриет Берпи. Хотя Амелия Фолсом, на которой он женился в 1865 году в возрасте шестидесяти одного года по «страстной любви» и для которой построил «дворец Амелии», покупал драгоценности, наряды и кареты, была бездетна, остальные двадцать семь жен (он женится еще дважды - на Мэри Котт в январе 1865 года и на Энн- Элизе Уэбб в апреле 1868 года) родили ему пятьдесят шесть детей. В полигамных семьях, если для этого хватало средств, жены могли выбирать, жить ли им в одном доме с остальными жепами или иметь свои собственные дома. До появления красивой, самовольной и музыкальпо одаренной Амелии Фолсом ни одна из жен и не пыталась л{ить в ином месте, кроме как под патриархальной крышей Брайама Япга. Он построил два красивых дома па главной улице на расстоянии одного квартала от молитвенного дома, первый из этих домов он назвал Львиным Домом, второй - Пчелиным Ульем. В Львином Доме по одпу сторону от холла была большая общая комната, в которой все жены и дети ежедневно собирались на час для развлечений или молитвы, прежде чем отправиться в общую столовую па задпей половине дома с общей кухней. На другой стороне холла располагался ряд общих, совершенно одинаковых комнат. Верхний этаж делился центральным холлом-коридором на две части, состоящие из спален, также одинаковых по планировке и мебели, в каждой из которых жила Жена со своими детьми. Второй дом был построеп по такому же плану, но в нем имелись еще личный кабинет, библиотека и контора хозяина. До Амелии Фолсом Брайам Янг ие заводил себе фавориток и был равно привязан ко всем женам и детям. Все они жили как будто счастливо или по крайней мере в согласии друг с другом. Исключение составила Энн-Элиза, его двадцать седьмая жена, затеявшая бракоразводный процесс. Энн-Элиза не только предала гласности свой развод с Брайамом Янгом и опубликовала скандальную книгу под названием «Жена № 19», но также обвинила его в жестокости и пренебрежении своими обязанностями. [1а суде она объявила, что капитал Янга составляет 8 000 000 долларов, а месячный доход 40 000, потребовав по 1000 долларов в месяц на содержание во время судебного процесса, 14 000 долларов за развод и 200 000 на свое дальнейшее содержание. Защита Брайама Янга исходила из того, что его брак с Энн-Элизой не считался законным в суде Соединенных Штатов. В противном случае суду пришлось бы юридически признать законность полигамного брака. Если бы суд, в котором Энн-Элиза отстаивала свои претензии, объявил се брак законным, подтвердив тем самым законность всех мормонских полигамных браков, Брайам Янг с удовольствием уплатил бы 200 000 долларов! Но суд вынести такое решение пе мог и не хотел. Энн- Элиза осталась ни с чем.Глава VI
У близнеца. оставшегося от варварства На каждую полигамную семыо у мормонов приходилось шесть семей, состоящих в обычном браке. Данные, основанные на объективном исследовании Кимбалла Янга, внука Брайама Янга, свидетельствуют, что почти пятьдесят три процента полигамных браков можно отнести к категории счастливых или вполне успешных, четвертую часть - к вполне сносной с некоторыми сравнительно легко улаживаемыми конфликтами и только менее одной четвертой части браков характеризовалось жестокими конфликтами, включая раздел или развод. Успех полигамных браков объясняется частично тем, что мормонские женщины были преданы полигамному браку как составной части их религии. Одна из них, миссис Галлахтер, была настолько убеждена, что ее слана на небесах понесет ущерб из-за отказа мужа взять вторую жену, что после двух лет замужества развелась с ним и срочно вышла замуж за обладателя нескольких жен. Кпмбалл Янг сообщает о случае, когда в одной из семей у второй жены спросили о том, была ли согласна на новый брак первая жена, она ответила: «Первая жена сама настояла па зтом». Мужу в то время было сорок пять лет, а невесте - семнадцать. Вторая жена Джозефа Райта утверждала: «Ничто в доме мужа не внушало мне неприязни к полигамии Я всегда считала, что таково веление свыше и что только благодаря ому мы удостаиваемся высшей благодати и живем с должной полнотой». Элен Кпмбалл Уитни в книге «Почему мы поддерживаем полигамный брак», которая считается наиболее обстоятельной защитой полигамии с позиций жены, говорит: «Жить по чьим-либо религиозным заповедям означает жертвенность. Я не пытаюсь скрывать того факта, что подобная жизнь является испытанием, и признаюсь, что испытание это было одним из самых тяжких в моей жизни, но одновременно оно явилось и источником величайшего счастья. Я могу правдиво сказать, что оно больше всего послужило тому, что я стала «святой» и свободной же ищи ной в любом смысле этого слова… Большинство мормонских женщин имеют Солее легкий доступ к престолу все- держателя, и любое их страдание в этом мире лишь прибавляет лавров к их венку в мире будущем». От мормонских женщин требовалось победить в себе чувство собственничества, ревности и стремление к романтической любви. Если вообще полигамия должна была прижиться, особенно среди людей воспитанных в традициях моногамии, то мормоны придадут ей действенность. Предписаниями религии и проповедями с амвона мормонским женщинам постоянно внушали, что они никогда не должны требовать от своего мужа, или хотя бы тайно л;е- лать того, чтобы он уделял им больше времени, чем остальным; запрещалось сплетничать о других женах. Им не разрешалось ругать или наказывать детей других жен. Стычки и ссоры с другими женами считались грехом против мужа и религии. Орсоп Пратт так сформулировал один из основных принципов многоженства, который потом неоднократно повторялся многими иерархами мормонской церкви: «Мужчина может любить более чем одну жену точно так же, как он может любить более чем одного ребенка… Если несколько женщип выражают взаимное согласие быть женами одного и того же мужчины, здесь трудно найти повод для ревпости. Утрата доверия к мужу из-за его неверности может стать источником ревности, но не тогда, когда каждая жепа знает, что любая из остальных жен имеет равные с ней права на мужа. Какая из верующих, преданных и добродетельных женщин не предпочтет занять место шестой или седьмой жены хорошего и верного мужчины тому, чтобы вообще не иметь мужа на протяжении бесчисленных веков вечности?» Брайам Янг в молитвенном доме предъявил женщинам ультиматум: «С этого момента и по шестое октября я даю вам время хорошенько подумать, хотите вы остаться со своими мужьями или пет. После этого я предоставлю каждой женщине свободу и скажу им: «Идите своим путем, и мои жены тоже идите своим путем». И тогда моим женам останется сделать одно из двух: либо расправить плечи и пести тяготы мира сего и подчиняться Требованиям своей религии, либо уйти, ибо я тогда не захочу держать их у себя…» И дамы вняли голосу разума. С самого раннего возраста мормонке внушали, что мужчина - хозяин в доме и что величайший долг женщины - послушание. Полигамные браки в Юте были наиболее успешными, когда у семьи имелось достаточно средств для того, чтобы все жили хорошо, а те, кто пожелает, могли бы жить в собственных домах или в двухсемейных жилищах. У федеральных чиновников, присланных на территорию для выявления всех многоженцев, после того как федеральным законом они будут •объявлены двоеженцами, такие дома получат прозвище «кохаб». В «кохабах» было две идентичные половины, каждая со своим входом, передней с одним окошком, за которой размещались спаленка и кухня. Когда у мужчины было больше двух жен, он зачастую пытался приучить их к совместной жизни в доме под одной, более солидной крышей, где у каждой жены имелась комната для себя и своих детей, но с общей столовой, комнатой собраний, кухней и прачечной. Первые несколько лет дети жили с матерью, а затем все девочки размещались в одиой комнате, а мальчики - в другой. С самых пеленок их приучали не делать различия между детьми в семье; они все были братьями и сестрами. После смерти главы семьи жены и дети получали пропорциональную часть семейного имущества. Одна из мормонских жен, сестра Терри, объявила, что она в принципе не против полигамии как таковой, по мужу ее «нечего заводить себе вторую жепу, когда он и одну прокормить пе в состояпии». Вторым необходимым условием счастливого брака было то, чтр муж долисеп был одинаково ласково относиться к своим женам. Каких-либо определенных правил па этот счет пе было. В некоторых случаях мужчины проводили поочередно по ночи у каждой из жен, хотя, по свидетельству одпой жены, ее муж, до того как лечь в постель, всегда посещал другие семьи, чтобы удостовериться, все ли в порядке, и поцеловать всех жен и детей на ночь. Дочь отполигамного брака Лллена Триффипа говорила: «Отец проводил по неделе -с каждой из жен. Утром он разжигал огонь, созывал семью и задавал корм скоту, затем уходил в другой дом, разжигал у них огонь, созывал семыо и кормил скот там. После этого отец возвращался туда, где оп ранее пребывал, и завтракал». Другие мужчины проводили по две ночи с каждой из жен поочередно. Фредерик Джеймс построил по удобному и красивому дому для каждой из своих жен, проводя у них поочередно по педеле; если он шел в гости, в церковь или на танцы, он всегда брал с собой «жену этой недели». Общительные женщины, обычно страдающие от одиночества, когда мужья целыми днями отсутствуют, или те, кому приходилось выполнять массу различных домашних дел, к которым у них не лежала душа или которые у них не получались, находили полигамные браки весьма удобными. Им нравилось окружение других женщин и детей. В домах Брайама Янга, Гебера Кнмболла, Граттов или других богачей, относящихся к верхушке церковной иерархии, о пи могли полностью отдавать себя тому делу, которое пм приходилось по вкусу. К противницам полигамного брака среди мормонок в первую очередь относились молодые женщины, выросшие в домах, где полигамный брак оказался неудачным. Вторая категория недовольных состояла из тех, которые не верили в святость принципа полигамии. Хотя об одной из первых жен рассказывают, будто бы она с полным безразличием сказала своему мужу: «Можешь брать их сколько хочешь!»-остальные не всегда проявляли такую покладистость. Когда у брата Ричарда Гордона из Септ-Джорджа спросили, почему он так и не взял себе вторую жену, Гордон указал на первую и сказал: «Она мне не разрешила бы». Миссис Гордон воскликнула: «Я всегда говорила ему, что если он когда-нибудь возьмет вторую жену, то, когда он появится с ней у парадного входа, я уйду из дома через черный ход!» Одни нз старейшин в Парагуна, намереваясь взять вторую жену, но побаиваясь первой, объявил ей, что ночью у него было видение, в котором ему велено было взять в жены вторую девушку, и что жена должна на это согласиться. На следующее утро первая жена объявила, что у нес тоже было видение, в котором ей «было велено застрелить любую женщину, если она станет твоей полигамной женой». Имеются свидетельства о том, что несколько женщин пригрозили мужьям немедленным разводом, если те приведут в дом вторых жен. Согласно мормонской доктрине, первая жена должна дать согласие на второй брак и стать рядом со второй в церкви во время бракосочетания. Иногда не то что две жены, а добрая их полудюжина прекрасно ладили друг с другом; почти пятая часть мужчин, вступивших в полигамный брак, женились на сестрах, которые не только давали согласие, но зачастую и способствовали второму браку. Шестая жена Джорджа Мак-Кея, девятнадцатилетняя Дженни, была приведена в семейный дом в Прово после свадьбы, где пятеро других миссис Мак-Кей совместными усилиями приготовили свадебный пир для своего мужа и его новой жены. Дженни, которой пришлось вкушать первую семейную трапезу, как она выразилась, под «пристальными взглядами пяти остальных жен», по ее словам, готова была «провалиться сквозь пол». Она не провалилась, а готовность первых пяти жен приготовить свадебный пир шестой свидетельствовала лишь о том, что Дженни попала в дружелюбную компанию. Однако, если первая жена отказывалась дать согласие на второй брак, а церковные власти считали, что мужчина достоин огого, они могли разрешить ему действовать по- своему и без ее разрешении. Случалось, что согласие на второй брак давали неохотно, и ?церковным чинам приходилось разъяснять, что отказ мужу во вступлении в новый брак может повредить его месту в церковной иерархии, а следовательно, и в делах. Первая жена Джеймса Хантера согласилась сопровождать его в молитвенный дом и присутствовать при свадебной церемонии и проделала все это с достоинством, однако, по ее словам, она «всю ночь прошагала, думая о том, как ее муж лежит в объятиях своей новой жены». По-видимому, первая миссис Хантер все же сумела примириться с новой женой, однако не у всех это получалось. «Я помню об мной настоящей трагедии, связанной с полигамным браком. Однажды вечером один человек привел в спой дом вторую жену. Ото было зимой, и первая жеп! очень расстроилась. В эту ночь она забралась па крышу и замерзла там насмерть». В семье Джонатана Бейксра, который был женат более шести лет, жену его больше всего обидел обман, потоИу что Бейкер пришел однажды домой и велел жене приготовить ему его воскресную одежду. Дочь Бейкера рассказывает: «Ма думала, что он идет выполнять какую-то [церковную. - Лвт.\ работу. Она спросила у него, что он собирается делать, а он ответил, что собирается жениться на Элизе Боуэи. Это явилось ударом для ма, она, конечно же, была огорчена. Она так никогда и не оправилась от этого удара». Третьим, и весьма важным, условием для удачного полигамного брака был дружелюбный характер первой жены, четвертым - чтобы не было слишком большой разницы в возрасте между первой женой и остальными. Начинающей стареть первой жене тяжело было видеть, как молоденькую женщину приводят в дом в качестве жены номер два. Женская ревность и вопросы материального порядка могли явиться причиной неурядиц. Роджер Найт привел в дом новую жену, когда первая была беременна. «Я чувствовала себя неуклюжей и вообще испытывала неловкость просто невыносимую, когда видела, что привлекательная молоденькая девушка сидит на коленях моего мужа, а он се целует и ласкает». Если в некоторых домах полигамия и была тяжким бременем, это было бремя, которое мормонские женщины песли тайно, за исключением нескольких отступниц от религии вообще. Ни одна из полигамных жен ни разу не пожаловалась чужеверцу и никогда не разрешила людям чужой веры жить в ее доме и наблюдать за тем, как на практике осуществляется полигамия. К противникам полигамии среди мужчнп относились в первую очередь те, кто вообще терпеть не мог женщин - они игнорировали требование Брайама Янга о том, что прибывающие в Юту со всех концов света молодые, вновь обращенные женщины должны быстро выходить замуж и обзаводиться домами и детьми, - мужчины, которые не могли себе позволить иметь более одной жены, а также небольшая группа наиболее образованных мужчин, не веривших в припцип полигамии и считавших, что из-за него Юта не сможет войти в семью американских штатов. Хотя молодые неженатые мужчины и жаловались, что более старшие н зажиточные мормоны, уже имевшие по одной и более жен, ухаживают за свободными молодыми девушками, несомненным достоинством, о котором многие мормонские женщины отзывались весьма лестно, было то, что любая из мормонских девушек могла найти себе и мужа и дом, даже если у нее, по словам Гебера Кимболла, «голова была в три фута длиной». По-видимому, среди мормонов не было старых дев, как, впрочем, и старых холостяков. Еще один очевидный факт: дети полигамных браков воспринимали многоженство как естественное и неизбежное, вступая в него со все большей легкостью. Одна из молодых мормопок говорила: «Я всегда думала об этом как о совершенно естественной вещи. Отец состоял в полигамном браке, и все наши семьи жили вместе и прекрасно ладили друг с другом… Я влюбилась в своего мужа и вышла за него замуж точно так, как это делают нынешние девушки, только мой брак был полигамным». Вторая жена Бенджамина Вулфа, которая родилась от полигамного брака, рассказывает о том, как она вышла замуж за мужа сестры: «Я была влюблена в него многие годы задолго до нашей женитьбы. Теперь, как я полагаю, девушка попыталась, бы увести мужа от его жены, по в полигамии это не нужно. Моя сестра согласилась на то, что я могу разделить с ней ее мужа, но что я не могу отнять его у нее. Вот так мы н жили в полигамном браке, и я горжусь этим». Еще одна делает любопытное наблюдение: «Я не хотела жнть в полигамном браке, однако я верила в это и считала, что именно так я и должна поступать. Я ие была против того, чтобы муж так поступал. Думаю, что я вообще не склонна к ревности, и, кроме того, я его ие любила…» В жизни одного поколения многоженство получило у мормонов настолько широкое распространение, что его практиковали все, кому позволяли средства. Практически все мормоны, вступающие в полигамные браки, в прошлом придерживались пуританских взглядов. Они были выходцами из Соединенных Штатов, Великобритании или Европы, из среды, в которой моногамия является основополагающим принципом пе только в религии, но и в этике и во всей социальной жизни; до прибытия в Солт-Лейк полигамные браки были уделом избранных вождей церкви. Теперь же то, что почти две тысячи лет составляло фундамент брака в христианском мире, рассыпалось в прах в течение каких-то двух десятилетии. О мормонах говорили, что потомство их едиио, а жены их множественны. Это, пожалуй, самое приятное из всего, что говорилось о полигамии ее противниками. Кимбалл Янг в своей книге «Не достаточно ли одной жены?»• говорит: «После Гражданской войны, когда первый из остатков варварства оказался ликвидированным, мормонство и полигамия соперничали с проституцией и запретом спиртных напитков в качестве главной сферы приложения сил американских реформаторов. Полигамия представляла собой угрозу всему, что америкапские пуритане считали святым. Многоженство являлось открытым вызовом моногамии, дому и семейному очагу, детям и - в первую очередь - равноправию женщины. Поэтому моральным долгом всех добрых христиан было помочь в искоренении этого зла». Результатом того, что Юта оказалась окруженной стеной презрения, насмешек, грязных вымыслов и стремлением применить к ней силу, явились два непреложных факта: произошло объединение почти всех американцев против мормонов; мормоны еще теснее сплотились против всей остальной Америки.Глава VII
…С печатными станками наготове, как только падет граница Провозвестницей Гражданской войны в Колорадо послужила странная дуэль, сходная с дуэлью Бродерика и Тэрри в Калифорнии. 5 марта 1860 года на банкете в 11а- сифик Хаусе Л. Блисс, секретарь мертворожденной территории Джефферсон, предложил тост за антирабские силы. Доктор Дж. Ф. Стоун, судья из Мауптин-Сити, воспринял этот тост как личное оскорбление. Тогда Блисс швырнул ему в лицо бокал с вином. Стоун вызвал Блисса на дуэль, и двумя днями позже противники встретились на расстоянии тридцати шагов с охотничьими ружьями в руках. Доктор Стоун, южанин, был убит с первого же выстрела. Смерть эта не привела к каким-либо политическим последствиям отчасти из-за изолированности этого горного района. Почтовый экспресс, которым почта доставлялась через Солт-Лейк, не заезжал в Денвер; газеты сюда доставлялись погонщиками мулов. К тому же к началу февраля, когда начали таять снега, наиболее упорные старатели покинули насиженные места. Три новых россыпи были обнаружены в верховьях реки Арканзас и еще одна -• заявка Келли - на месте, которое получило имя Келли- вилла. Калифорнийская россыпь принесет еще на миллион долларов золота в первые же два года. К лету двадцать тысяч старателей уже кишели в окрестностях Клиар- Крик, в то время как тысячи новичков, прибывающих через территорию Канзас, сворачивали к западу и через Колорадо-Сити, Канон-Сити и через перевал Юта шли к Саут-Парку, где благодаря новым открытиям возникли новые лагерные городки - Бакскин-Джой и Хамильтон. Сто шестьдесят камнедробилок было погружено на фургоны у берегов Миссури и отправлено воловьими упряжками через равнины Канзаса. Некоторые из наиболее закаленных и упорных решили заняться фермерским хозяйством, применяя для этого ирригацию. Шестьсот акров на притоках реки Арканзас дали первые урожаи зерна, зелени, овощей и дынь. Выше и ниже Денвера южная равнипа пестрела ранчо, стадами скота и отарами овец, перегоняемых сюда из Канзаса.Внизу, г. лежащей на юге Сап-Луис-Вэллн, фургоны грузились мукой для старательских поселков. Огромные богатства спускались с отрогов Скалистых гор во вьючных тюках. За доставку их к берегам Миссури возчики требовали те же нить процентов, которые Ллок- сандер Тодд брал с торговцев Стоктона за доставку их золота в Сан-Франциско, и это в конце концов привлекло внимание банкиров с Востока. В июле в Денвере был основан частный монетный двор, где два банкира начали чеканить пятидесяти- и двадцатидолларовые монеты и печатать пятидолларовые зеленые ассигнации - «зеленоспинки», - которые имели хождение по номинальной стоимости. Перевивки оборудования н товаров для населения ио- вых городов вскоре превратили канзасские прерии в ие прерывный караван из пяти тысяч человек, восьми тысяч фургонов и сорока тысяч мулов и волов, непрерывно передвигающихся но дорогам, а транспорт - в отдельную отрасль, которая, как это было и в Комстоке, по размерам прибылей уступала лишь самим промыслам. Теперь страна казалась постоянно открытой. Домашние хозяйки Денвера создали юнионистское Женское общество взаимопомощи, потом заявили о себе Клуб пионеров, Литературное и Историческое общества. Непосредственным результатом последнего было то, что новый коммерсант, открыв лавку писчебумажных товаров и сигар, выложил на полки и первую партию книг. В качестве дальнейшего вклада в культурную жизнь дамы начали кампанию против свиней, которым до сих пор разрешалось бегать по улицам и жиреть на общественных отбросах. Группа из двадцати врачей, собравшись в Денвере для создания Медицинского общества, разработала этический кодекс и установила общие ставки гонораров. ???? 321 Однако старателям больше всего досаждали юристы. В лагере Шугар-Лоаф горнорабочие просто ввели правило - «никакие технические формальности не могут вводиться с целью помешать правосудию». В некоторых районах юристам было запрещено вообще появляться в судах, за исключением тех дел, где одна из сторон выступала в качество своего собственного адвоката. Среди шахтеров имела хождение история о юристе, который потребовал со своего клиента 5 долларов за то, что, просыпаясь ночью, думает о нем. 21 Зак. М!483
Борьба за контроль над журналистикой в Детройте была столь же ожесточенной ц упорной, как и стремление старателей найти наилучшие места в Грегори-Галч. Первым, кто прибыл сюда с идеей издавать здесь газету, был Джон Л. Меррпк. Он приехал с печатным станком из Сент-Джозефа, штат Миссури, тем самым, на котором мормоны печатали свою «Ивнинг энд моршшг стар» в Индепенденсе и который был разбит и брошен в Миссури в 1837 году, когда антимормонская толпа разгромила типографию. С такой же притягательной силой, как золото, новые районы и новые поселения манили к себе людей, которые имеют дело со словом, известиями и новостями, с идеями и человеческими судьбами. Они как бы сидели наготове на границах освоенных земель, настороженные, внимательно вслушиваясь в первые шепотки новых событий, дожидаясь первого дымка из новых труб, первых известий о людях, собравшихся вокруг лагерного костра или в грубо сколоченных жилищах. И рядом с ними, также готовые к путешествию, как только падет граница, были их наборные кассы и печатные станки - такая же составная часть любого пионерского движения, как кирка, лопата и таз у охваченного золотой лихорадкой старателя. Еще бы - несколько дней пути на фургоне Меррика - и старый печатный станок мормонов вернулся бы к своему дому в Сионе! Сразу же после прибытия в апреле 1859 года Джон Меррик принялся закладывать основы первой колорадской газеты - «Черри-Крик пайонир». По его следам двигался и Уильям Байере, двадцативосьмилетний огайец, который приобрел свой печатный станок в Белльвю и привез его через равнины из Омахи. Байере намеревался издавать «Роки-Маунтин ныос». Все население Аурарии и Депвера строило догадки, какая из газет выйдет первой. Байере оказался энергичнее, а возможно, его печатный станок был в лучшем состоянии (хотя бы потому, что его никогда не разбивали и не бросали в реку), и 23 апреля начал распространять на улицах свою «Роки-Маунтин ньюс», опередив «Черри-Крик пайонир» Меррика ровно па двадцать минут. Население объявило «Ныос» победителем, а поэтому и официальной газетой. Номер «Черри-Крик пайонир» был первым и последним номером этой газеты. Однако Меррик не затаил злобы на соперника и продал печатный станок партнеру Байерса Томасу Джибсону, а сам занялся старательством. Не сумев найти и малейших признаков золота, он вернулся в Денвер совершенно разоренным и поступил печатником в «Роки-Маунтин ныос». Тем временем мормонский печатный станок продолжал свои странствия. Новый владелец перевез его вверх по течению Клиар-Крик в Маунтин-Сити, где начал издавать «Роки-Маунтин голд рипотер». С наступлением зимы в Грегори-Галч осталось слишком мало людей для чтения газеты, и Джибсон перевез станок обратно в Денвер. Он попытался конкурировать с «Роки-Маунтин ныос», потерпел неудачу и продал станок Джорджу Уэсту. Тот повез его в Голден, чтобы издавать «Вестерн маунтинер». На следующую весну газета прекратила существование, однако мормонский печатный станок переехал в новый маленький городок. Усталому нет отдыха. Подобно Джо Гудману, издававшему «Территориэл энтерпрайз» в Вирджиния-Сити, Уильям Байере издавал «Роки-Маунтин ньюс», имея всегда под рукой два револьвера. Его печатники работали с ружьями, прислоненными к наборным кассам, поскольку нелицеприятные комментарии, помещаемые в «Ньюс», нередко вызывали град пуль. Газетная война между Аурарией и Денвером длилась до тех пор, пока граждане обоих берегов Черри-Крик не положили на общем собрании конец этому «опасному соперничеству»: «В силу того что города на и подле устья Черри-Крик представляют п должны представлять собой единое целое, да будет в дальнейшем считаться, что с настоящего времени собственно Аурария будет известна под названием Денвер-Сити, Западная часть». Весть об отложении южных штатов и о стрельбе в форте Саттера быстро достигла Колорадо. Последствия наступили еще быстрее. 24 апреля флаг конфедератов был поднят над одной из лавок Денвера. Собралась толпа, флаг был спущен; на следующий день массовый митинг юнионистов собрался перед главным отелем города. Он сопровождался фейерверком, духовым оркестром, играющим патриотические мелодии, а ведущие граждане произносили патриотические речи. Собрания юнионистов прошли и в других городах Колорадо, однако сочувствие к южанам, хотя и без новых поднятий флага, было столь же горячим. ???? 21 28 февраля 1861 года конгресс Соединенных Штатов предпринял срочные меры для того, чтобы эта горная
323
овечка Колорадо не отбилась от юнионистского стада.! предоставил Колорадо статус территории. Президент Линкольн назначил полковника Уильяма Джилпнна се первым губернатором. Полковник Джплшш, объявившийся перед Тре.монт- Хаус из пыльной почтовой кареты почтовой липни «Коп- корд» и горячо встреченный гражданами, был выбран не зри. Со времен Фнцпатрнка Сломанная Рука никто не знал Скалистых гор так хорошо, как он. Джплпнн обследовал их еще в 1843 году в составе второй экспедиции Фремопта, когда проходил по южной части этой территории во главе своих отрядов во время войны с Мексикой н вел здесь кампании против индейцев. В речи, произнесенной в Миссури в 1849 году, он особенно большое внимание уделил пяти главным золотоносным районам. Уильям Джплшш был человек шести футов роста, весьма чувствительный, стройный, с глазами ученого, величественным обликом и гордо поднятой головой, топким носом, повелительным ртом и тщательно ухоженной бородой. Он был не только солдатом, геологом, человеком действия и большого интеллекта, по и отличным экспертом по вопросам гражданского управления. Не прошло и нескольких дней после приезда, как Джнлпин отправился в инспекционную поездку по всем золотоискательским лагерям и поселкам. Проведенные там переписи показали, что, хотя Денвер - самый крупный нз городов - насчитывал менее трех тысяч жителей, на всей территории Колорадо их было уже более двадцати пяти тысяч. За несколько недель губернатор Джнлпин оргапизовал создание Верховного суда. В ходе подготовки к избранию делегата в конгресс и членов законодательного собрания Колорадо он набросал схемы избирательных округов. На выборах, состоявшихся 19 августа, делегатом в конгресс был выбран судья-республиканец. Более десяти тысяч голосов было подано за членов законодательной ассамблеи - довольно большой процент, если учесть, что многие из старательских селений находились в весьма отдаленных местах. Через три недели первые законодатели территории собрались в Денвере н сразу же развернули бурную деятельность, «разделив территорию на семнадцать графств, определив порядок избрания должностных лиц в этих графствах, утвердив уголовный и гражданский кодексы, узаконив записи, решения и практику шахтерских судов, Клубов заявок, приняв уставы города Денвера и других городов и приняв ряд частных!ктов, легализирующих положение фургонных дорог, разработок и шахтерских компаний». Колорадо поспешно обзавелся собственным правительством. Губернатор Джилпин прибыл в Колорадо, не имея ни инструкций, ни денежных фондов. Инструкции ему не были нужны, а отсутствие денежных средств грозило многими неприятностями. Одновременно с установлением гражданского правительства оп занимался и организацией юнионистской армии, назначив воинский штаб и обшарив окрестности в поисках оружия. Хотя почти вес прибывающие в Колорадо везли с собой оружие, губернатор Джил- нип обнаружил, что изъятие его - дело затяжное, набрав всего немного более сотни ружей. Он пришел к убеждению, что сторонники южан не дремлют. Опасаясь внезапного нападения, которое передаст контроль над золотыми приисками в руки южан, Джилпин выпустил облигации займа для покупки ружей, назначил н произвел в чин офицеров для работы на призывных пунктах, помог финансировать отливку пуль в Боулдере. К концу сентября 1861 года оп уже полностью укомплектовал 1-й Колорадский полк, а вскоре и расквартировал его в Кэмпл-Уэллсе, который построил к югу от Денвера. Для обеспечения оружием, квартирами и продовольствием своих солдат губернатор Джилпин выпустил на 400000 долларов облигаций федерального правительства. Колорадские коммерсанты охотно принимали их наравне с золотом или банкнотами. Затем, в конце 1861 года, когда у него уже была отлично обученная и Экипированная армия, готовая в любой момент выступить на поле боя, конгресс объявил, что губернатор Джилпин действовал с превышением своих полномочий. Выпущенные им облигации объявлялись недействительными и анпулировались. Для Денвера это явилось сокрушительным ударом; многие из мелких фирм обанкротились, более крупные - испытывали серьезные затруднения. Конгресс отозвал Джилпина в Вашингтон для объяснений. После того как губернатор Джилпин представил свой доклад, конгресс решил, что все колорадские коммерсанты, которые смогут представить подробные счета па поставленные армии товары, получают депьги полностью по этим счетам. Одобрив действия Джилпина, конгресс тут же уволил его с должности губернатора Колорадо. Сформированная, снаряженная и обученная им армия остановила сформированную в Техасе армию конфедератов под командованием генерала Шпили, которая победоносным маршем двигалась на север. Судья Стоун, конфедератский флаг над лавкой в Денвере и губернатор Уильям Джилшш - вот, собственно, н все потерн, которые территория Колорадо понесла в Гражданской войне. Колорадское законодательное собрание для второй своей встречи избрало Колорадо-Сити по той простой причине, что Матушка Мэггорт держала там гостиницу и все сошлись на том, что она отлично готовит. Делегаты из шахтерских лагерей, одетые в синие фланелевые рубашки и брюки с заплатами нз бизоньей шкуры, проделывали пешком путь до ста сорока миль через горные кряжи и, пересекая Саут-Парк, ночевали, завернувшись в одеяла, прямо у дороги, там, где их заставала ночь. Они добрались до Колорадо-Сити умирающими от голода, с лицами, закопченными дымом костров, с натертыми на ногах мозолями. Джордж Крокер появился, имея па одной ноге старый сапог, а на другой башмак, в бесформенной шляпе, у которой к тому же поля были оборваны, со спутанными волосами и желтой от дорожной пыли бородой. Однако не наряд красит человека, и он был избран спикером палаты до того, как мозоли на его ногах успели зажить. Законодательное собрание пробыло в Колорадо-Ситн всего несколько дней и перебралось в Денвер: кулинарное искусство Матушки Мэггерт не было, по-вндимому, рассчитано на такую огромную толпу.Глава VIII
«Великую Китайскую стену построили они, правда?» Западная часть первой трансконтинентальной железной дороги была построена выходцами нз Новой Англии и восточных штатов. Теодор Джюда н Коллнс Г1. Хантингтон были из Коннектикута, Чарлз Крокер, Лплэнд Стэн- форд и Марк Хопкинс - из Нью-Йорка, Сэмюэл Моптэпо, инженер, пришедший на смену Джюде, - из Ныо-Хемп- шира, Джеймс X. Строубридж, подставной «босс», - из Вермонта. Номинально начало дороге было положено 8 января 1863 года в Сакраменто, когда вновь избранный губернатор Лилэнд Стэнфорд произнес речь с украшенной флагами трибуны, а затем перевернул лопатой комок земли. Импульсивный Чарлз Крокер выкрикнул в полную энтузиазма толпу: «Джентльмены, уверяю вас, теперь дело пойдет!» Крокер уже построил дамбу вдоль Американской реки для предохранения железнодорожной насыпи от весенних разливов. В трех милях за Сакраменто ему предстояло построить через Американскую реку железнодорожный мост длиною семьсот футов. А ведь до этого оп не строил ничего большего, чем кузня. Позднее он хвастал: «Я построил Центральную Тихоокеанскую» - и говорил чистую правду. Приветственные возгласы, сопровождавшие речь губернатора Стэнфорда, были единственными, которые Большой Четверке удалось услышать в Калифорнии, потому что пользовалась она репутацией беспардонных спекулянтов. Большинство вообще не верило в серьезность ее намерений строить железную дорогу, полагая, что они просто построят дорогу для гужевого транспорта к Комстоку и будут наживаться на перевозках. Уильям Текумсе Шерман заявил: «Железная дорога к Тихому океапу? Я пе хотел бы купить на пее билет даже для своих впуков!» Железная дорога была здесь необходима. Рейс вокруг мыса Горн был длиной девятнадцать тысяч миль. Изнурительная дорога через Панаму длилась четыре недели. Линия почтовых карет «Оверлэпд-Стэйдж» отнимала всего семнадцать дней, по по ней можпо было провезти лишь мелкие грузы. Героическая верховая почта «Пони экспресс» проделывала этот путь за восемь дпей, однако, верховые могли брать с собой всего две седельные сумки почты. Сан-Франциско, Вирджиния-Сити, Солт-Лейк, Денвер были отрезаны от остальной страпы географической пропастью. Рельсы, если, конечно, Чарли Крокеру удастся выполнить свое хвастливое обещание, не только послужат стальной связью, соединяющей Восток с Западом, но и ускорят освоение целинпых земель, лежащих между ними. Трансконтинентальная железная дорога может оказаться значительно более действенным средством, чем любые вОеппые меры. Сенатор от Массачусетса Гепри Уилсоп заявил: «Я готов выбросить сто миллионов долларов на постройку дороги и считать, что сделал полезное дело для своей страны. Ибо что значат сто миллионов по сравнению с открытием железной дороги через центральные районы этого контипспта, которая объединит людей на побережьях Атлантического и Тихого океанов и сплотит страну в единое целое?» По можно ли ее построить? Цептральпый массив Сьерра-Невады состоял из гранита. Железной дороге придется пронзать эту гранитную толщу несколько раз на своем пути. Самый низкий перевал, по которому можно было бы проложить дорогу, находился на высоте семи тысяч футов, где знмой выпадает до пятидесяти футов спега. Причем здесь было два хребта, сквозь которые нужно было проложить путь, чтобы низвести крутизну подъема до ста сорока футов па милю, дав тем самым локомотиву возможность справиться с вагонами. Путь пересекали крутые каменистые обрывы, глубокие ущелья, через которые придется перебрасывать мосты или заполнять их миллионами тонн грунта. За горами в Неваде и Юте лежали сотни миль безжизненной, выжженной, безводной пустыни, здесь со всей остротой встанет вопрос снабжения. А в Колорадо были еще и Скалистые горы. Теодор Джюда нашел наиболее удобный путь, произвел обследования, вычертил подробные карты. Коллис Хантингтон добыл деньги, Марк Хопкипс вел счета, Ли- лэнд Стэифорд добивался политических привилегий и лицензий, Чарли Крокер фактически, физически и организационно занимался постройкой дороги и строил ее, несмотря на препятствия, трудности, неудачи и затяжки, которые могли бы охладить самое стойкое сердце и ум. Двухсот- пятидесятифунтовый гигант, сорокалетпий Чарлз Крокер, с тяжелыми чертами лица, грубым голосом и тяжелыми кулаками, которого современники называли «хвастливым, тщеславным, упрямым, бестактным и наглым», говорил: «Я всегда был тем, кто первым переплывает реку и подает конец на другой берег». Потерпев неудачу в попытке сколотить состояние, занимаясь строительством и преуспев в невероятной карьере торговца галантерейными товарами, он теперь взвалил на свои плечи осуществление мечты, которая уже на протяжении века обсуждалась фантазерами. У пего было безошибочное чутье, помогавшее ему определять внутренние качества люден; он выбрал себе и инженеры Сэмюэла С. Моптапо, который работал до этого па Среднем Западе и на Рокфордской железной дороге, а потом отправился вместе с Джюдой в горы, чтобы помочь ему в проведении окончательных исследований. В отличие от Джюды Моптэгю не пытался определять политику кампании; он был талантливых(и изворотливым инженером, который ограничивал своп интересы чисто механическими аспектами работы: прокладкой полотна, заполнением ущелий, пробивкой туннелей, нивелировкой маетности. Даже главный надсмотрщик Крокера, чуть ли по двойник своего шефа, Джеймс Строубрндж, который, подобно Брокеру, имел весьма смутные представления об инженерном деле, ворчливо заметил: «Моптэгю был большим хитрюгой». Инженер Монтэпо, подобно Брокеру, вынужден был учиться на ходу, не имея достаточного опыта. Строубрнд- жу этого делать не приходилось. Задачей этого крупного, мощного, грубого и жестокого человека было руководство людьми; с работой этой он справлялся при помощи кулаков, голосовых связок, неистощимого запаса ругательств и той же львиной отваги, которая была главной движущей силой у Крокера - сначала его босса, затем друга, а позднее и наперсника. Оттачивать свое, мастерство он мог на первом восемнадцатимильном отрезке пути от Сакраменто до Джапкшн в Калифорпии, проходящем по ровной местности, хотя здесь и пришлось построить дамбу и мост. В процессе строительства он совершал дорогостоящие ошибки, однако строительная компания Крокера (в которую входили Хантингтон, Хопкипс и Стэнфорд) обратила нх себе на пользу, получив 425 ООО долларов прибыли. В 1863 году Крокеру пришлось довольствоваться именно этими восемнадцатью милями проложенного пути. В 1864 году было построено всего двенадцать миль. Хотя с Востока был доставлен и собран в Сакраменто локомотив, который перевозил грузы и мелкие партии пассажиров по тридцати милям завершенной дороги, у Центральной Тихоокеанской кончились деньги для оплаты контрактов Крокера и компании, потому что федеральное правительство отказывалось выплачивать новые субсидии, Пока не будут уложены рельсы на первых сорока милях. Крокер гремел: «Я с радостью надену чистую рубашку и брошу все это». Однако конгресс позаботился о том, чтобы он оставался в пыльной и пропотевшей рубашке еще целых пять лет, внеся поправку в Акт но железным дорогам Джюды от 1802 года. По непонятным соображениям федеральное правительство согласилось с геологами Центральной Тихоокеанской, что подножия Сьерра Невады начинаются на совершенно гладкой равнине в семи милях к востоку от Сакраменто, а не там, где они начинаются на самом деле - •восточнее еще на двадцать пять миль, платя Крокеру и кампании по 32 000 долларов за милю вместо причитающихся 10 000, что позволило компании получить дополнительные 500 000 долларов прибыли за построенные тридцать миль. Этот невероятный пример жульничества завоевал компании титул «самой могущественной корпорации в мире, поскольку она способна передвигать целые горные хребты на двадцать пять миль». 2 июля 1804 года президент Линкольн подписал новый билль, сухо пошутив, что его «обжулили»; однако если ЦЛгральная Тихоокеанская безнадежно увязла, то «Юнион насифнк», созданной восточными предпринимателями для строительства полотна па запад от Омахи, к месту встречи обеих дорог, пока еще далеко было и до крокеров- ских тридцати миль. Теперь ничто не могло остановить Крокера, но крайней мере до тех пор, пока он не проложит около тысячи миль железнодорожного полотна. Имея позади два тренировочных года, а впереди - обещанные сенатором Уилсоном сто миллионов, Чарли Крокер в 1865 году по-настоящему приступил к строительству. К марту он расчистил лес, Взорвал каменные скалы и засыпал ямы на одиннадцати милях пути до Иллинойс- тауна; к концу мая было готово пятьдесят шесть миль железнодорожного полотна, проложенного уже и по предгорьям Сьерра-Невады. Теперь дорога выручала по тысяче долларов в день, перевозя пассажиров по десять центов за милю и грузы - по пятнадцати центов с тонны за милю. Теперь, когда работы велись в горах, возникла нехватка рабочей силы. Агенты компании постоянно шныряли в Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сономе, Сакраменто, но из каждых десяти человек, подрядившихся работать на железной дороге, шестеро использовали бесплатный проезд только для того, чтобы ближе добраться до Комстока, а остальные удирали через горы в Неваду, как только им удавалось заработать деньги на проезд в почтовых каретах. Крокер дошел до того, что стал нанимать погонщиками двенадцатнлетних мальчишек. Тогда губернатор Стэнфорд и брат Крокера предложили радикальное средство. А почему бы не нанять китайцев? В Калифорнии их было несколько тысяч. За исключением работы на тех золотоносных участках, к которым никто и близко не хотел подходить, им разрешалось работать только прачками, прислугой и садовниками. Когда главный управляющий Строубридж прослышал, что он может остаться один на один с украшенными косами китайцами, каждый из которых весит не более ста фунтов, и штурмовать с ними гранитные твердыни Сьерра-Невады, он разразился тирадами площадной брани, в которых отчаяние смешивалось с яростью. Его босс был хитрее. Крокер в дни своего золотоискательского прошлого заметил, что эти внешне хрупкие китайцы начинали промывать гравий на рассвете, когда белые еще спали, а прекращали работу с наступлением темноты, когда белые уже давно отдыхали. На вопрос Стро, как,эти жрущие рис слабаки собираются строить железную дорогу, Крокер ответил: «Великую Китайскую стену построили они, правда? А работенка была не из легких. Что ты на это скажешь?» Именно в это время остатки неразбежавшихся белых рабочих пригрозили Крокеру забастовкой. Крокер нанял в Сакраменто пятьдесят китайцев с жалованьем 20 долларов в месяц, набил ими железнодорожные платформы и привез их к головной точке строящегося полотна. Склонные к фатализму китайцы, выгруженные посреди девственного леса, не разглядывая по сторонам, разбили лагерь, сварили жидкий суп из сушеных трепангов и риса и спокойно улеглись спать. С рассветом они взялись за тяжелые кирки, лопаты и тачки - странные маленькие человечки со свисающими по спине косами!г высоким птичьим говором, в шляпах-корзинах, синих блузах и мягких туфлях. Стро стоял в сторонке и дожидался того момента, когда они начнут падать от усталости. Однако,хитрая улыбка не сходила с лица у Чарли Крокера: на закате, после изнурительного двенадцатнчасового рабочего дня, который мог свалить с ног самого выносливого из белых рабочих, невозмутимые китайцы, псе еще не сбавляя темпа, продолжали трудиться. Еще сотня китайцев была нанята в ходе двух следующих дней. Две тысячи их работало на строительстве железной дороги к лету 1805 года. Их белокояше коллеги, которые поначалу относились к ним пренебрежительно, начали уважать китайцев и были благодарны им за то, что те освободили их от необходимости работать киркой и лопатой. Теперь Крокер заключил контракты на вербовку новых тысяч уже непосредственно в Китае. Их стали называть Любимчиками Крокера, а сами они называли Кро- кера Чоллн-Клоке. Они сновали по холмам и ущельям, подобно наряженным в синие блузы муравьям. В дни получек они получали деньги из рук самого Крокера, для чего он приезжал па взмыленной гнедой кобыле прямо в лагерь, выкликал каждого поименно, заглядывая в список, запускал в седельные сумки руку за золотыми и серебрян- нымн монетами и выкладывал полновесные монеты на ладонь каждого из работающих у него людей В их глазах именно эта церемония и превращала его в настоящего босса. Пока инженер Монтэгю занимался прокладкой проектных линий па нопые пятьдесят миль в глубь предгорий, безуспешно пытаясь улучшить проект Джюды, шесть тысяч Любимчиков Крокера начали 1860 год штурмом каньонов. С. кирками в руках, цепляясь за гранитные стены ущелий, они пробивали дорогу, достаточно широкую для прохода поезда, отползали от пробитых щелей, толкая перед собой тачки со щебнем и сбрасывая их содержимое в каньон. Они поднимались вверх по отвесным стенам, неся на бамбуковой палке по два семидесятипятифунтовых мешка с черным порохом, вручную просверливали дыры в граните для пороховых зарядов, поджигали шнур и часто погибали от взрывов. Вслед за китайцами двигались специалисты. Они укладывали шпалы, клали на них рельсы, которые приходилось на поворотах изгибать вручную, забивали костыли и шпалы, состыковывали рельсы, вкапывали телеграфные столбы и натягивали провода, чтобы поддерживать постоянную связь между Крокером, постоянно находящимся в самой голове строящегося полотна, и базами снабжения в тылу, которые поставляли шналы, рельсы, инструменты, порох, пищу, сено. Крокер носился взад п вперед по линии с покрытым потом н солончаковой пылыо лицом, верхом на гнедой и тоже запыленной кобыле, орал, ругался, придирался к любой погрешности. «Все боялись меня. Я только и смотрел, чтобы найти у кого-нибудь ошибку. Мои лидерские способности росли с каждым днем». Он требовал все большего не только потому, что перед ним оказался непроницаемый главный хребет, но и потому, что конкурирующая «Юпнои пасифик» также начала пошевеливаться и быстро продвигалась на запад. Если Крокеру не удастся в кратчайший срок преодолеть хребет Сьерра-Невады и выйти на восточные предгорья, «Юнион пасифик» успеет захватить все эти сотни миль пустыни, где прокладка пути обходится так дешево, а прибыль так высока. Но сначала им предстояло преодолеть так называемый Мыс Горн, настоящую грапитпую твердыню, вертикальную обрывистую стену высотой тысяча футов, к которой Крокер никак не мог подступиться. Проблема была решена, когда на стены обрыва спустили на веревках бесстрашных, ни о чем не спрашивающих и ни перед чем не отступающих китайцев. Вися на этих веревках, когда ничто, кроме веры, не отделяло их от предков, они работали по двенадцать часов в смену молотком и зубилом, вырубая в граните едва заметную выемку, на которую потом вскарабкаются их собратья и прорубят в склоне выемку железнодорожной насыпи. Люди оказались достойными гор. В мае 1866 года, после того как Мыс Горн был пройден, а «Юпион» в Сакраменто объявила Центральную Тихоокеанскую большим инженерным достижением, чем Суэцкий канал, Крокер бросил свои рабочие бригады на штурм западного склона Сьерра-Невады. Вскоре он добрался до Датч-Флэт, где пять лет назад Теодор Джюда на стойке впервые набросал планы строительства железной дороги. К ноябрю с помощью пятнадцати тысяч китайских рабочих, доставленных сюда с зеленых рисовых полей Кантона, Крокер завершил строительство отрезка пути в двадцать восемь миль. Теперь по ветке в девяносто четыре мили ходили два поезда в день. Крокер почти не покидал трассы, ночевал в рабочем вагоне и только изредка вырывался на денек в Сакраменто, где оп поселил свою жену в доме, который был настоящим памятником дурному вкусу.Строубридж добился поистине чудесных результатов, не подпуская и близко к своим рабочим бригадам столь обычный триумвират, сопутствующий всем лагерям, - салуны, азартные игры и проституцию. Когда торговец спиртным открывал свою палатку, Строубридж направлял туда людей с приказом сжечь ее. И все-таки, поскольку китайцы во время работы освежались теплым чаем, залитым в бочонки из-под виски, можно предполагать, что, несмотря на все усилия Стро, укладчики железнодорожных путей так и не стали абсолютными трезвенниками. Впереди постоянно возникали все новые трудности: теперь предстояло пробить пятнадцать туннелей в граните, настолько твердом, что его не брали пи кирки, ни зубила. Черный порох, закладываемый в высверленные отверстия для запалов, взрываясь, лишь покрывал камень копотыо. В отчаянии Крокер пригласил шведского химика, который, внимательно изучив гранит, придумал формулу взрывчатки, ставшую потом известной под названием нитроглицерина. Нитроглицерин справился с гранитом, однако досталось от него и строителям: при одном из взрывов Строубридж потерял глаз, при другом - команду китайцев разнесло в клочья настолько, что Крокеру так и но удалось собрать останки их, чтобы отправить для похорон обратно в Китай, хотя это и было предусмотрено в контрактах. Без лишних слов их просто вычеркнули из списков. Туннель Саммит был вершиной всех этих трудностей: целый год ушел на его прокладку. Тысячи китайцев работали круглосуточно двенадцатичасовыми сменами не только с обоих концов, но и в обе стороны из колодца, пробитого точно в центре туннеля. Четыре бригады при помощи кирок, зубил и взрывчатки проходили не более восьми дюймов в день. 500000 долларов, которые Коллис П. Хантингтон выудил у конгресса, передвинув Сьерра- Неваду на двадцать пять миль в плоскую долину, были с лихвой возвращены заказчику Чарли Крокером на эгом самом дорогом в истории строительства железных дорог участке. Затраты могли быть не такими огромными, если бы Крокер согласился использовать экспериментальный паровой бур для постройки туннеля. Однако он категорически отказался слушать отчаянныепросьбы партнеров опробовать его. Этот единственный просчет Крокера, стоивший компании пять миллионов долларов, позволил «Юнион пасифик» выиграть время и продвинуться на несколько сот миль дальше на запад.
Глава IX
Сатурналии в Вирджиния-Снти Пока Чарлз Крокер был занят укрощением Сьерра-Невады, которая никак не желала подчиниться человеку и превратиться в транспортное животное, Филипп Дидссхай- мер и Лдольф Сутро стояли перед лицом не менее грандиозной задачи - покорения Комсток-Лоуд, ибо земля неохотно расстается со скрытыми в ней сокровищами. Когда шахтеры Комстока впервые столкнулись с трудностями, предложенная Филиппом Дидесхаймером система креплений при помощи квадратных ячеек позволила им пробивать штреки в мягкой, легко осыпающейся породе на сотни футов в глубь Маунт-Дэвидсон. Благодаря тому, что Дидесхаймер настоял на обеспечении рудника паровой машиной в сорок пять лошадиных сил, восьмидюймовым насосом и мощными подъемными механизмами, рудники были вторично спасены, на этот раз от зимних паводков. Как только открылся Сьерра-Невадский тракт, по нему сразу же хлынул поток мулов и воловьих упряжек с оборудованием, заказанным на фабриках Сан-Франциско. Комсток опять развернул добычу на полную мощность, давая работу восьмидесяти камнедробилкам, на которых драгоценные металлы отделялись от камня. Весной через Сьерра-Неваду хлынул новый мощный поток старателей, доведя население Маупт-Дэвидсона до десяти тысяч человек. Семь почтовых линий, идущих к Комстоку из Калифорнии, доставляли ежедневно пеструю толпу пассажиров, среди которых были «капиталисты, шахтеры, спортсмены, воры, грабители и авантюристы всех мастей». «Золотой Каньон от реки Карсона до Дейтона и через Золотой Холм до С-стрит представлял собой нескончаемую вереницу лесопилен, камнедробилен, туннелей, ям, шлюзов, водяных колес, навесов. Весь каньон превращен был в какую-то столицу и фактически представлял собой продолжение Внрджиния-Снти». В отличие от плодородных, покрытых густыми лесами, просторных калифорнийских земель, куда калифорнийские золотоискатели, разбогатев, могли вкладывать деньги, Невада была засушливой, негостеприимной страной с бескрайними пустынями и голыми горными склонами Здесь не было ничего привлекательного для свежеиспеченных миллионеров. На свои деньги они могли купить лишь новые заявки. Значительную часть семи миллионов долларов, добытых в виде золота и серебра, невадские нувориши израсходовали на замену снесенных половодьем деревянных домишек кирпичными и каменными. Они пытались истратить свои миллионы в Вирджиния-Сити, устроив там такие сатурналии жизни и строительства, которые не имели себе равных, пока колорадский Серебряный Доллар Тейбор не пустился во все тяжкие. Джерри Линч, владелец рудника «Леди Брайант», приказал подковать своих лошадей серебряными подковами, а в своем доме вырезать из орехового дерева четырнадцатифутовую спинку кровати, которая закрывала целую стену его спальни от потолка до пола. Другой владелец рудника. Парке, привез из Европы специалиста по фрескам для росписи темных лестничных клеток в своем доме стоимостью в пятьсот тысяч, с тем чтобы стены эти выглядели как залитые солнцем сады" с сиренью и осинами. Управляющие «Офира», Мексиканской, «Гулдэнд Кэрри», каждый из которых получал до сорока тысяч в год, тоже пустились в разгул, заказывая серебряную упряжь для своих карет, у которых дверцы, кнуты и каретные фонари были украшены золотой инкрустацией. Во время брачной ночи один из них заполнил резервуар для воды шампанским, и гости его пили «Момм» и «Вдову Клико» прямо Из кранов. Сэнди Бойэрс, женатый на дважды разведенной мормонке Элли Оррум, королеве Комстока, получил от своего рудника миллион долларов за один только 1863 год. Элли Оррум, девушка-шотландка, склонная к видениям, представавшим перед ней в виде комбинации мистических переплетений цифр, змей, золотых рыбок, индейцев и инициалов ее будущего мужа, в пятнадцать лет была обращена в мормонскую веру одним из миссионеров. Она отправилась в Юту, где вышла замуж за епископа с пригрезившимися ей инициалами. Десять лет супружеской жизни не принесли ей детей, зато ее мужу принесли трех новых жен в лице юных племянниц Эллн, которых она вызвала из Шотландии. Элли получила развод, перебралась в долину Карсона и, работая там в универсальном магазине, купила себе хрустальный шар, который называла «смотрительным камнем». В глубине этого шара она видела еще более грандиозные видения: эта новая земля Невада таит в себе сказочные золотые сокровища, Элли станет миллионершей, сделается принцессой Уошоэ и будет иметь дворец. Со вторым мужем-мормоном Элли Оррум переехала на Голд-Хилл в 1858 году и сделала здесь с дюжину заявок. Она также открыла здесь постоялый двор, где готовила золотоискателям обеды и стирала им одежду. Один из постояльцев, не имея возможности расплатиться по счету, передал ей свои заявочные права в Комстоке. Когда Брайам Янг призвал всех мормонов вернуться в Юту, Элли осталась и, считая отъезд своего мужа разводом, вышла замуж за Сэнди Бойэрса, погонщика мулов и коновала, заявка которого была по соседству с ее участками. Сэнди хотел продать свои заявки и уговаривал сделать это же Элли, когда ей предложили три тысячи пятьсот долларов. Однако магический камень подсказал Элли, что из земли добудут большие богатства, что на том месте, где стоит их хижина, вырастет большой город, а вся эта пустыня станет когда-нибудь штатом. Как ни странно, но Сэнди поверил ей. Двумя годами позже в речи, которую он произнес на данном им в Интернэшнл-Хаус банкете в Вирджиния-Сити, Сэнди сказал своим друзьям: «Мне страшно повезло, и я теперь могу бросать деньги птицам. Но для джентльмена нет возможности потратить свои деньги в этой стране, да и смотреть здесь вообще-то не на что. Поэтому мы с миссис Бойэрс собираемся в Европу - посмотреть на королеву Англии и на других великих людей во всяких там странах». ???? 337 Королева Комстока не была принята королевой Англии. Свое разочарование Элли скрыла, тратя по двадцать тысяч в день в Лондоне и Париже на покупку бриллиантовых серег и браслетов, изысканной мебели для спальни, алжирского мрамора, окон из французского стекла, каминных полок из Италии, серебряных дверных ручек и оконных карнизов, сделанных из золота, добытого в собственном руднике… и все это для дома в Неваде, строительство которого должно было завершиться к моменту их возвра- 22 Зап. М 1403 щения. Для поддержания своего положения светской королевы Комстока Элли заставила Сэнди привезти из Шотландии духовой оркестр в полном составе для развлечения гостей. Положение обязывает. Деньги птицам! Только в 1803 году рудники Комстока переправили через Сьерра-Неваду в Сан-Франциско на двадцать миллионов драгоценных металлов. В 1863 году участие в «Гулд энд Кэрри» оценивалось по 6000 долларов за фут, в «Офире» - по 4 тысячи, «Кентук» продавал свои акции по 22 000 долларов, «Эмпайр» - по 20 000 за акцию! «Гулд энд Кэрри» добыли на 6 000 000 долларов драгоценного металла и столько же в 1864 году; воодушевленные держатели акций разделили между собой 3 000 000 долларов чистого дохода. Такое поразительное производство богатства в чистом виде настолько удивило мир, что император Луи Наполеон направил специальную комиссию из Парижа для осмотра Комстока. Оргия безумных трат превратила Вирджиния-Сити из крохотного местечка с шестью узкими улицами в шумную столицу, населенную двадцатью пятыо тысячами жителей, с четырехэтажными отелями, портье в красных ливреях, зеркальными стеклами магазинных витрин и мраморными входами, с черепаховыми супами, лягушачьими ножками и шампанским. В салунах были длинные стойки красного дерева, стенная роспись, мраморные статуи, портреты Лолы Монтес, Бепишиа Бой Хинана в боксерских трусах и Ады Айзек Менкен верхом на спине вороного жеребца и не слишком обремененной одеждой. Каждая самая маленькая частица всего того, что Вирджиния-Сити ел, пил, носил, в чем жил и чем пользовался в качестве инструментов, прибывала из Калифорнии, по дороге длиною более двухсот миль. Пять тысяч грузовых фургонов проходило через перевалы за год. При них работало две тысячи погонщиков. Грузовые перевозки сами по себе представляли большой бизнес, оборот которого в 1863 году достиг 12 000000. Кареты почтовой линии «Пайонир» привозили в Вирджиния-Сити и увозили из него по сотне новых лиц каждый день на протяжении всего года. Лагеря золотоискателей не располагают к интеллектуальным занятиям. Один из певадских владельцев гостиниц так объяснил это явление: «Здесь не место для библиотек и прочих штук. Сюда люди приезжают, чтобы деньги делать, и им некогда книжонки почитывать, потому что за- ичты делом». И все же в лагерях Сьерра-Невады отдельные старатели готовы были уплатить любые Деньги за любое чтиво. В Уошоэ, например, более трехсот человек выписывали «Харперс мансли», более ста человек - «Атлантик мансли», в то время как собрания сочинений Шекспира, Диккенса, «История Англии» Фруда расхватывались моментально. Пятьдесят экземпляров «Сноубанд» были проданы в первую же неделю. Первая попытка в области бесплатного образования в Вирджиния-Сити была сорвана непокорными учениками, стрелявшими в учителей. Теперь же новый учитель был нанят за счет «хулиганского фонда», основанного двумя раскаявшимися пьяницами, которые на глазах у изумленной публики изрезали в клочки первый в Комстоке театральный занавес. Никто не ожидал бледного, хрупкого Гарри Флотца, золотоискателя-неудачника, решившего вернуться к своей первой любви - педагогике, что он продержится на этом посту больше одного дня; однако «профессор» Флотц прибыл в класс с тремя флотскими револьверами и охотничьим ножом. Во время урока географии Флотц услышал шепот; с быстротой молнии один из револьверов оказался направленным на наглеца. «Не делай больше этого, - спокойно сказал он. - Я никогда не даю второго предупреждения». Церкви на первых порах испытывали такие же трудности, как и школы; немногие 'из золотоискателей считали, что они останутся здесь на Длительное время, сидя на склонах бесплодных гор и любуясь еще более бесплодпой пустыней. К 1864 году католики построили церковь, больницу и отдельные школы для девочек и мальчиков. Пасси- онистская церковь была построена на Голд-Хилл. Пресвитерианский комитет состоял из прижимистых бизнесменов, которые для начала получили 4700 долларов прибыли на пожертвованных в пользу храма акциях. На вырученные деньги они приобрели четыре соседних надела земли на С-стрит и возвели там сдаваемые внаем склады, чтобы построенная ими церковь имела постоянный доход. ???? 22* Только в области журналистики удалось Комстоку создать подлинное произведение искусства. «Территориэл энтерпрайз» прославился на всю страну присущей ему манерой фактографического репортажа - редактор газеты Джо Гудман всегда готов был стреляться с любым, кто считал, что его не так отобразили, и делал это неодпократ-339
во - в комбинации с публикацией самых невероятных историй. Ведущая роль в сочинении этих журналистских мистификаций принадлежала Уильяму Райту, писавшему под псевдонимом Дэн де Киль. Он представлял собой «довольно поразительную фигуру.Тощий, как фонарный столб, н почти такой же длинный; ходил он в длинном плаще и чер- пой широкополой шляпе. Он написал книгу н сам начал распространять ее по всей стране за наличные. Каждый раз, когда кто-то покупал книгу, Дэн ставил ему стаканчик. Очень скоро он унсе настолько расщедрился, что начал раздавать книгу бесплатно. Так он очень быстро распространил весь тираж, задолжав издательской компании G00 долларов. Каждый ребенок зиал в городе Дэиди Киля: его длинный черный плащ с каждым годом все больше выцветал и ветшал». «Путешествующий камень долины Парангат» Дэна де Киля был предтечей современной научной фантастики. В нем речь шла о том, как при помощи какой-то неведомой природной силы все камни долины притягивались к ее магнетическому центру только затем, чтобы снова оказаться разбросанными в разные стороны, а потом - собранными в центр. Эта «странность», как де Киль называл свои сказки, была написана столь убедительно, что немецкие ученые обратились с письмом в Вирджипия-Ситн с просьбой сообщить дополнительную информацию о яв- ленпп. II вот сюда, в самую гущу жизни, пришел из лагеря золотоискателей, где он безуспешно пытался разбогатеть, парнишка по имени Сэмюэл Клеменс и начал работать в газете. Клеменс стремился создать рассказ, который отра- жал бы квинтэссенцию жизни золотоискателей, но сделать это таким образом, чтобы раскрыть им смешные стороны нх зачастую далеко не веселой жизни, в которой каждый день кто-то погибал при взрывах, оказывался раздавленным обвалившейся кровлей или разбивался насмерть, свалившись в один из сотен брошенных шахтных колодцев на May нт- Дэвидсон. Клеменс стал вскоре подписываться «Марк Твеп» и с не меньшим, чем Дэн де Киль, блеском начал сочинять невероятные истории, смешные анекдоты, фантастические приключении… и все на базе повседневной и полной трудностей жизни золотоискателя. Конкуренция была трудной, потому что дс Киль был неистощим в придумывании своих «странностей»: он писал о ветряной мельнице на вершине Маунт-Дэвидсон, при помощи которой откачивалась вода из всех шахт; о наполненной аммиаком шляпе-сосуде, в пей можно было пройти сорок миль по пустыне, не опасаясь, что перегреется голова… Под такой опекой и в сердечной дружеской обстановке, господствующей среди персонала «Территориэл энтер- прайз», попивая до рассвета пиво в подвальном помещении наборного цеха, Марк Твен начал создавать свои собственные фантастические рассказы… Шахтеры хохотали; а вскоре вместе с ними хохотала и вся страна. Территориальное правительство мало что сделало для установления закопности и порядка в Комстоке. Люди в масках останавливали почтовые кареты, наводили двустволки на пассажиров, выстроенных шеренгой вдоль дороги, и забирали слитки драгоценного металла, переплавляемые в Сан-Франциско. Не лучше было и в Вирджиния- Сити: любому, кто спускался почыо с холма или просто шел домой по темной улице, предоставлялась великолепная возможность оказаться ограбленным. Один из бандитов, обнаружив у своей жертвы всего лишь три золотые монеты по двадцать долларов, размахивая револьвером, пригрозил: «Если ты еще когда-нибудь попадешься мне без гроша в кармане, я тебе голову проломлю!» Стычки с револьверной стрельбой в салунах случались почти каждую ночь. Подонок по кличке Биг Чнф застрелил человека, выпивавшего у бара, а потом улегся па стол и заснул. Никто его не потревожил. На следующий день один из друзей убитого выследил Биг Чифа в пустынном месте и застрелил его. Никто не побеспокоил мстителя. Суды, если и работали, были заняты решением имущественных споров, касающихся права собственности па шахтное имущество. Решение суда выносилось на основе свидетельских показаний; часто у свидетеля спрашивали, может ли он припомнить кучку камней, которая служила заявочной меткой, виденную им год или два назад. Кому принадлежало золото и серебро? Тому, кто нашел глубоко залегающую жилу, или тому, под чьей заявкой па поверхности проходят эти золотые и серебряные жилы? Не существовало шахтерского кодекса, который давал бы ответ на этот сложный вопрос. Присланные федеральным правительством судьи получали маленькое жалованье - 150О долларов в год, выплачиваемых к тому же обесцененными «зелоноспинками». На эту сумму они могли прилично прожить месяц, но никак не год. Когда от решения судьи зависело, кому принадлежит шахта стоимостью в миллион долларов, подкуп и коррупция были неотъемлемой составной частью судебного процесса. Положение в судах было настолько скандальным, что «судей считали достойными порицания только в тех случаях, когда они были подкуплены обеими сторонами». Рудные компании, готовые вложить крупные капиталы в развитие шахт, воздеришвались от этого нз-за беззакония в судах, мужчины, которые хотели привезти сюда своих жен и детей, воздерживались из-за беззакония, царящего среди населения вообще. В конце концов весь Комсток поднялся, возмущенный, с Уильямом М. Стюартом во главе. Стюарт был весьма примечательной личностью в Вирджиния-Сити - «рыжеголовый, светлобородый, горячий политик», шести футов двух дюймов роста, с львиной внешностью. «Он возвышался над своими согражданами, подобно колоссу Родосскому, и бронзы на нем было ничуть не меньше, чем на этой статуе». Завоевав себе прочную репутацию «величайшего лидера уошойской адвокатуры», он уже скоро получал в среднем по 200 ООО долларов в год в виде гонораров - один из представителей небольшой группы юристов сутяжнической Невады, израсходовавшей 9 ООО ООО долларов на судебные процессы в период между 1800 и 18G5 годами - пятую часть всего добытого золота и серебра в недрах Комстока! Стюарт родился в Галепе, штат Ныо-Йорк, 9 августа 1827 года, два года проучился в Йоде, но оставил университет охваченный приступом золотой лихорадки. Подобно многим жертвам золотой лихорадки в Калифорнии, десять лет назад Стюарт присоединился к людскому потоку с намерением не заниматься добычей золота, а разрабатывать в пустыне россыпи закона и политики. С первого же часа его прибытия Билла Стюарта знали все; поскольку слава о его познаниях в шахтерских законах предшествовала его появлению, ему и были поручены первые дела в Комстоке, касающиеся прав собственности. Это была обаятельная u яркая личность, он отлично умел использовать драматические эффекты и плыть с попутным ветром. «Он ставил себя на одну доску с присяжными, взывал к их житейскому чувству справедливости и всегда стремился убедить их в том, что его клиенты заслуживают решения в свою пользу скорее по справедливости, чем по букве закона. Его противники протестовали, утверждая, что он способен навязать присяжным любую чепуху и бессмыслицу в качестве непреложной и чистейшей истины». Только однажды у Стюарта вышла осечка: во время кратковременного кризиса в 1864 году он посоветовал владельцам рудников снизить заработок шахтеров с 4 до 3,5 доллара в день. Вниз по главной улице Вирджиния- Сити двинулись две тысячи разъяренных до предела рабочих в поисках Стюарта с намерением повесить его. Стюарт вышел им навстречу, с лицом, на котором было написано: «Послушайте, ребята, я и не подозревал, что вы это так близко принимаете к сердцу». Шахтеры Комстока были организованными. Хотя их первая забастовка потерпела неудачу из-за того, что так много народа приезжало в Комсток в поисках работы, союз шахтеров добился восьмичасового рабочего дня первым из всех американских шахтерских организаций. У Стюарта ушло всего два часа на то, чтобы убедить владельцев шахт в необходимости восстановления четырехдолларового дневного заработка. И уже больше никогда они не пытались его понизить. Четыре тысячи подписей было собрано под петицией с требованием отставки трех федеральных судей. Утверждают, что именно Стюарт за шиворот притащил их на телеграфную станцию и стоял над ними, пока они отправляли прошения об отставке. Для Невады единственным решением этой проблемы могло быть предоставление ей статуса штата, тогда она могла бы выбирать своих собственных должностных лиц и требовать от них отчета в их действиях. Для северян предоставление Неваде прав штата тожб решало проблему: золото и серебро Невады имели огромное значение для финансирования войны. Единственный путь в Калифорнию лежал через Неваду, и дорога эта требовала военной защиты. Президенту Линкольну требовались три голоса Невады, чтобы обеспечить принятие Тринадцатой поправки,.которая должна была на вечные времена закрепить освобождение рабов. Он сказал: «Мы стоим перед альтернативой: провести это голосование или набирать новый миллион и сражаться неизвестно сколько времени. Выбор между тремя голосами или новыми армиями». Билл Стюарт сыграл выдающуюся роль на конституционном конвенте Невады, который собрался в Карсон- Сити 4 июля 1864 года. Здесь он предложил весьма разумную судебную систему для зарождающегося штата. Текст предложенной конституции был отправлен в Вашингтон по телеграфу. 3500 долларов, израсходованных на эту самую длинную в тогдашней истории телеграмму, оправдали себя. 31 октября 1864 года президент Линкольн объявил Неваду входящим в состав США штатом - вполне своевременно для того, чтобы Невада смогла принять участие в общенациональных выборах. Стюарт добился своего избрания в качестве первого сенатора от штата Невада под очень милым, по абсолютно бессмысленным лозунгом: «За честного шахтера». «Терри- ториэл энтерпрайз» со свойственной ей «странностью» назвала его роскошный дом в Вашингтоне, где он прожил следующие тридцать лет в качестве сенатора от Невады, «Лагерем честного шахтера». Однако с проблемами Комстока покончено не было.Глава X
«Приятный, веселый городок» Билли Ролстопа На первое и центральное место просцениума Сан-Франциско вышел новый герой, один из тех, кто открыл золото в Калифорнии, - Уильям Ролстон. В объявлении, помещенном в «Альта» 4 июля 1864 года, он сообщал, что принадлежащий ему Банк Калифорнии откроется на следующий день. Билли Ролстон был звездой и Комстока. Каж-¦ дому, кто обращался к нему за советом, еще в бытность его кассиром и директором предыдущего банка, он рекомендовал: «Покупайте.Комсток!» И они покупали, подняв цену в «Гулд энд Кэрри» до 6300 за квадратный фут, до 2600 за акцию в «Сэвидже», до 1580 - в «Офире», попутно принеся миллионные прибыли вкладчикам капиталов в Сан-Франциско. Биржа Сан- Франциско, основанная за два года до этого наиболее зна- читальными гражданами города, стала одной из самых безумных в мире. Мания спекуляции охватила общество настолько, что салуны эпохи золотой лихорадки казались теперь столь же респектабельными, как благотворительные базары. Бледные, темноволосые и полные загадочности игроки палаток Эльдорадо 1849 года с их черными шарфами, повязанными поверх кружевных рубашек, уступили место маклерам в шелковых шляпах, а женщины- крупье при игре в фараон преобразились в толпу маклеров женского иола, совершающих свои сделки прямо на улицах. «Красивые леди с жеманно отставленными локтями, леди, туго затянутые в корсеты шелестящих платьев из черного шелка, надушенные женщины с блестящими глазами, белозубыми улыбками и бриллиаптами в ушах. Привлеченные сюда из домов, школьных классов и светских салонов города, они шныряли вокруг биржи в поисках совета или подсказки». Прибыли, которые текли из Уошоэ потоком золота и серебра, дали Ролстону возможность вкладывать миллионы в мельницы, литейпые и кузнечные цеха, в фабрики Сан-Франциско, которые были заняты изготовлением необходимого для Комстока оборудования. Все это приносило Сан-Франциско новые прибыли, которые.он снова вкладывал в рудники Комстока. Сан-Франциско отблагодарил Билли Ролстона за это длительное процветание. Он был объявлен финансовым гением. Ролстон любил Сан-Франциско той же отеческой любовью, с которой капитан Джон Саттер относился к долине Сакраменто, полковник Мариано Вальехо к Лунной долине, а Брайам Янг - к долине Великого Соленого озера. Уильям Чэпмен Ролстон родился в Плимуте, штат Огайо, в 1826 году. Его дед держал паром на реке Огайо; отец утопил все капиталы семьи, когда его лодка, груженная товарами, разбилась на камнях. После окончания школы Билли работал клерком, обслуживая ходящие по Огайо и Миссисипи суда, а в 1849 году подался в Калифорнию. В Панаме он встретил своих старых друзей по судоходному бизнесу, которым понадобилась помощь по руководству их судовыми перевозками в Сан-Франциско. Билли остался здесь на пять лет, успешно вел дела компании, в двадцать шесть лет стал совладельцем, а в 1854 году поехал в Сан-Франциско, чтобы руководить дея- тельностыо фирмы. On быстро стал совладельцем банка, проявив столько здравомыслия и смелости во время финансового кризиса 1857 года, что ему удалось спасти значительную часть делового мира Сан-Франциско и стать идолом и признанным главой общества на тридцать первом году жизни. В тридцать семь Ролстон уже контролировал промышленную империю - единственный человек, произведенный па свет Дальним Западом, который по организационным талантам и имперским устремлениям был под стать Брайаму Янгу. Он и внешне имел значительное сходство с Брайамом Янгом: среднего роста, плотного телосложения, с ясными проницательными глазами, с огромным, похежпм на Гибралтарскую скалу лбом, мягким, почти нежным ртом, из которого иногда выходили самые резкие, а иногда и грубые слова, какие только слышал Сан-Франциско: «Невада - это просто дыра в земле, с золотом и серебром в ней». Подобно Брайаму Янгу, Билли Ролстон всегда держал открытой дверь своей конторы в фасадной части банковского здания. Сан-Франциско был его империей. Оп мечтал сделать его таким же процветающим и ярким городом, как Нью-Орлеан, в который он влюбился в шестнадцать лет. Сан-Франциско должен стать крупнейшим морским центром Тихоокеанского побережья, в чьих руках будет контроль за всеми морскими перевозками на Восток; с этой целью Ролстон помог основать морские линии, связывающие Сан-Франциско с Гавайскими островами и Китаем через Японию. Оп должен стать железнодорожным центром Запада; ради этого Ролстон дал взаймы Лилэнду Стенфорду 300000 из денег бапка вопреки яростным протестам его директоров. Он должен стать финансовым центром Дальнего Запада и самообеспеченным с промышленной точки зрения; ради этого Ролстон вложил огромные средства в металлургию и ткацкую промышленность. Ролстон помогал и в строительстве оперного театра, общественных парков, бульваров, библиотек, школ, красивых отелей и театров, которые придали городу международный колорит. Холмы и долины покрылись солидными домами, однако жиуели Сан-Франциско не были домоседами. Они приглашали к себе из далеких стран оперные труппы, чтобы послушать Верди и Моцарта; в театрах «Метрополитен» и Калифорнийском постоянно держались полностью укомплектованные шекспировская и комедийная труппы. Лотта Крэбтри заработала пятнадцать тысяч за один вечер, проехав по дороге Миссии в живописно украшенном ландо к таверне Тонн Оукса, несмотря на ветер, «достаточно сильный н резкий, чтобы за пять минут сдуть с человека все волосы и оставить его лысым». К услугам немецкой части населения были открыты пивные залы, для французов - кафешантаны, итальянцев - маскарады п рестораны со спагетти и красным вином. Большой контингент ирландцев праздновал спой день святого ГГатрнка, латиняне - организовывали королевский карнавал, китайцы, жившие в отдельном районе, называемом Чайнатаун, - фейерверки на Новый год. Здесь были испанские фиесты в 1'асс-Гарде.нс, медведи и морские львы в Унллоуз, сельскохозяйственные и механические выставки на ярмарке. Б этом блаюдатном климате процветали писательские таланты, которым было предоставлено место в живых н оригинальных журналах. Франклин Уокер писал в «Литературной жизни Сан-Франциско»: «Уже в 1850 году здесь работало пятьдесят печатных станков. Сан-Францнско мог похвалиться тем, что издает больше газет, чем Лондон, и что в первое десятилетие он выпустил в свет больше книг, чем все остальные Соединенные Штаты к западу от Миссисипи. Любой самостоятельный голос мог рассчитывать на то, что получит возможность самовыражения во многих литературных органах, а «Пайонир», «Голден эра», «Хериерпен», «Калнфорннен» н «Оверлэнд мансли» могли соперничать с лучшими журналами восточных штатов». Центральная Тихоокеанская, пробиваясь сквозь гранитные толщи Сьерра-Невады, чтобы соединить Восток с Западом, создавала возможность для установления интеллектуальных связей и контактов. Джозеф Е. Лоурепс из Лонг-Айленда кунпл еженедельный журнал «Голден эра» п превратил его в литературный клуб. Лоурепс, который рытся в свинцовых наборных кассах с 184'.) года, по описаниям современников, обладал «личным обаянием, щедростью и честными, открытыми и джентльменскими манерами». В качестве печатпн- ка он взял на работу Брет Гарта, но скоро уже печатал его рассказы, как и первые литературные опыты Марка Твена из Невады, Чарлза Уоррена Стоддарда, Хоакина Миллера, Ину Кулбрит и сотни других доморощенных поэтов. Первым появился здесь в 1854 году Брет Гарт. Уроженец Олбани, штат Нью-Йорк, он работал учителем, а потом на складе шахтерского оборудования, пока в 1860 году не поступил на работу к Лоуренсу. В свои двадцать четыре года он был человеком хрупкого телосложения, обладал «изящными манерами и сердечностью, лишенной теплоты». Джесси Бентон Фремонт пригласила его к себе в дом на Блэк-Пойнт с видом на пролив и гавань, окружила его столь необходимой дружеской заботой и нашла ему работу на монетном дворе, где у него оставалось больше времени для литературных занятий. Считается, что Гарт первым уловил возможности окружающих его сцен и написал «Млнсс» и «Счастье Ревущего Стана», принесшие ему всемирную славу. Марк Твен добавил сюда бурлески и юмористические рассказы о жизни высшего света Сан-Франциско, хотя его знаменитая «Прыгающая лягушка графства Калаверас», которая открыла перед ним широкую дорогу к славе, была впервые напечатана на Востоке. Казалось, что дни золотой лихорадки стали теперь делом прошлого, хотя новая зона золотоносного кварца и была открыта в районе Юбы, где «ншлы состояли из черного камня, настолько насыщенного золотом, что он казался бронзовым»; принадлежавший Джону Фремонту рудник «Марипоза» все еще давал па 75 000 долларов золота в месяц, а золотой самородок стоимостью в 20000 был найден в графстве Невада. Но все эти новые открытия не приводили к новым людским потокам: северные калифорнийцы были слишком заняты выращиванием урожаев в плодородных долинах Сакраменто и Сан-Хоакин и открытием новых фабрик в Сан-Франциско для производства рубах, галстуков, платьев с кринолинами, зонтов, перчаток, мыла и духов, сапог и башмаков. Рабочие союзы набирали силу. Женский кооперативный союз печатников наравне с Кооперативным союзом обувщиков оказались достаточно сильными, чтобы поставить вопрос о введении восьмичасового рабочего дня, а затем в сравнительно короткое время провести закон о восьмичасовом рабочем дне через законодательное собрание. Люди съезжались сюда со всего света: триста тысяч, четыреста тысяч, а затем и более полумиллиона оказались поглощенными к копну десятилетии городом, который всего двадцать лет назад представлял собой группку домишек из сырого кирпича, разбросанных на берегах безжизненной, овеваемой всеми ветрами илистой бухточки. Уго был приятный, веселый, беззаботный и сорящий деньгами город, разномастный, но компанейский, со щеколдами на наружной стороне ворот,!егко раскрывающий и сердце и кошелек, проводящий дин в лихорадочном веселье. II даже слишком большом веселье, но утверждению местных критиков. Хотя здесь было сорок церквей и сто школ, цифры эти были с избытком перекрыты наличием двухсот тридцати производителей виски, ибо Сан-Франциско был также и весьма пьющим городом, грешившим «экстравагантностью в нарядах и стремлением к беспорядкам о. Союз трезвости боролся не только против пьянства и азартных игр - с безумием, творившимся у биржи, было покончено, - по и с танцевальными подвалами, расположенными под салунами города. Другая группа реформаторов провела закон, запрещающий «случку животных в местах, доступных для публичного обозрении», и послуживший причиной ареста директоров Анатомического музея за устройство, как было сказано в обвинительном приговоре, «грязного зрелища». Со времен деятельности Комитета бдительности в 1850 году Сан-Франциско был законопослушным городом, хотя китайская община и жила но законам своей страны: когда семейство Уопг открыло прачечную на недозволенном расстоянии от уже существующего подобного же предприятия, китайцы собрались в зале для собраний и вынесли решение: «Паша люди, один сердце, очень стараться помогать друг друга и прогнать его, чтоб не было неприятность. В наших компания много друзей, кто мог убить Уопг Сан Чи, дал ему спасибо 2000 круглых долларов». И над всем этим постоянным столпотворением восседал Уильям Ролстон, чья контора «выглядела как приемная процветающего доктора - полная мужчин, женщин и детей. Они уходили, унося с собой деньги на бейсбольные костюмы, на оплату пути в Ныо-Йорк к своим женам, с чеками на закладку больниц и па сотни иных предприятий». Ролстон н его банк, по словам Дейны в «Человеке, Который построил Сан-Франциско», «символизировали в глазах общественного мнения мудрость и полезное использование своих ресурсов… Фермер, механик, шахтер и капиталист в минуту нужды находили друга в лице Банка Калифорнии». Попутно Ролстон был занят сколачиванием собственных миллионов; человек скромный, он никогда не предавал гласности свои благотворные акции, настаивал на том, что промышленные триумфы целиком принадлежат его совладельцам. И все же приобретя землю на теплом, покрытом дубовыми рощами полуострове в Бельмонте, он израсходовал немыслимую сумму денег, чтобы превратить ее в величайшее родовое поместье во всей Америке. По завершении строительства в нем было сто двадцать комнат для гостей, бальные залы с хрустальными люстрами, отдельные здания для турецких бань и гимнастического зала, конюшни резного красного дерева с инкрустацией из перламутра, двадцать садов, дюжина китайских слуг для ухода за персидскими коврами, портьерами из Парижа, стульями из Лондона, фарфором из Китая, серебром, хрусталем и кружевами из Антверпена, Венеции, Каира, скульптурами, слоновой костыо и редкими изданиями со всего света. Теперь, когда владения на Маунт-Дэвидсон шли по 7600 за квадратный фут, Билли Ролстон был не одинок в своем стремлении к экстравагантности. «Бармены, тракг тирщики и часовщики стали теперь плутократами и понастроили немыслимые пряничные домики на окраинах города». Два таких сан-францисских бармена - Джеймс Флуд и Уильям О'Брайен - объединятся с двумя владельцами рудников в Неваде - Джоном Мак-Кеем и Джеймсом Фейром - и образуют новую Большую Четверку, которую следующим образом описывает Оскар Льюис в «Серебряных Королях»: «!Это четыре человека, которые благодаря открытию и контролю над богатейшими залежами благородных металлов в истории рудного дела Америки захватили в свои руки богатейшие состояния и на протяжении многих лет стали могущественным фактором во взаимоотношениях всего Тихоокеанского побережья». Уильям Ролстон и его странный партнер, маклер, занимающийся операциями по торговле недвижимостью, по имени Уильям Шарон, будут оставаться абсолютными хозяевами Комстока, пока не вступят в смертельную схватку с этими Серебряными Королями. Уильям Шарон был полной противоположностью щедрому, мягкому и открытому Ролстону: маленького роста, с черными усами, гармонирующими с такими же черными глазками-пуговками, с невыразительным и неподвижным лицом, на котором никто не мог уловить скрытых мыслей; человек, который жевал табак и выплевывал жвачку вперемежку с цитатами из Шекспира, наряженный в длинный сюртук и широкополую шляпу картежника. Вплоть до лета 1864 года он рисковал только за покерным столом. Искусство играть в покер было наиболее ценным на Дальнем Западе видом искусств - он редко проигрывал, но, когда это случалось, элегантно платил по счету. Выходец из квакерской семьи штата Огайо, Уильям Шарон провел три года в Атенс-колледж, изучал право в юридической конторе Эдвина Стэнсона, прошел короткую практику в Миссисипи и в 1849 году направился в Калифорнию не в поисках золота (он со своим другом Джоном Д. Фраем, будущим тестем Уильяма Ролстона, прошли мимо Голд-Хилл, не остановившись, чтобы сделать хоть одну пробную промывку), а в поисках здоровья. Лавка, открытая ими в Сакраменто, оказалась неудачным предприятием, и Шарон приехал в Сан-Франциско. Десять лег он занимался торговлей недвижимостью и сумел сколотить капитал в 150 ООО долларов.Теперь, летом 1864 года, раздраженный «горничными и отставными шерифами, взлетевшими на головокружительную высоту в финансовом мире», он тщательно изучил перспективы Комстока и решил вложить свои 150 000 в рудник «Норт-Америкен», тысяча акций которого уже принадлежала ему, поскольку верил, что ведущийся в то время судебный процесс будет решен в пользу «Норт-Америкен». По его расчетам, рудник «Овермен» стоял на золотом дне, по жила его должна была свернуть в сторону «Норт-Америкен». Шароп был уверен, что загребет миллионы. Вместо этого группа маклеров прибегла к такой подтасовке, что им мог бы позавидовать любой покерный шулер, продавая Шарону - его;ке собственные акции по завышенной цене. Он потерял свои 150 000 долларов, свой красивый дом на Стоктон-стрит, свои последние запасы и вынужден был обратиться с просьбой к своему другу полковнику Джону Фраю сопроводить его в контору Ролстона в Банке Калифорнии и попросить о работе. На этот раз Шарон отнесся к проигрышу без всякой элегантности. Сделавшись посмешищем Сан-Франциско, оп стал холодным, озлобленным человеком… дожидающимся возможности отомстить. Это был один из самых неудачных моментов для обращения с просьбой к Билли Ролстону: заслуживающие доверия специалисты только что доложили ему о том, что Комсток залит водой и истощен, что нет никакой возможности преодолеть глубину в пятьсот футов, на которой сейчас остановились все разработки. Хотя установленные в последнее время Дидесхаймером насосы работали па полную мощность, штреки представляли собой отстойники бурлящей горячей воды, которая устремлялась в забои из подземных вулканических рек. Акции Комстока на бирнсе Сан-Франциско покатились вниз. Курс акций «Гулд энд Кэрри», по которым выплачивались дивиденды в 125 долларов па акцию, упал с С300 до 2400, а потом и до 900 долларов за акцию; курс акций «Офира» упал с 1580 до 300 долларов. Все новоявленные богатства Сан-Франциско уплывали в ту самую дыру, из которой они выплыли. Ролстон вложил 3 000 000 долларов из принадлежащих Банку Калифорнии денег в прииски Комстока и еще больше - в кузницы, фабрики и литейные цеха Сан-Франциско, которые снабжали Комсток. Кроме того, контрагенты Банка Калифорнии в Вирджипия-Сити, выступив в качестве кредиторов, скрылись, превысив свои счета. Должностью, которой добивался Уильям Шароп, был пост распорядителя счетами банка в Вирджиния-Сити. Ролстон был уверен, что месторождения Маунт-Дэвидсон не исчерпали себя, но оп отнюдь не был уверен в том, что именно этот холодный, озлоблеппый, потерпевший пора- жепие человек, стоявший сейчас перед ним, способен вернуть Комстоку его прежнее место. Чтобы сделать приятное полковнику Фраю, своему тестю, он дал Шарону возможность попробовать себя, убедив сомневающийся совет тем, что Шарон - непревзойденный игрок в покер и что если уж кто им нужен сейчас в Уошоэ, то это имеппо хороший игрок в покер. Уильям Шарон обладал первоклассным умом и железной выдержкой, и если унизительное поражение па бирже убило его душу, то Комсток дорого заплатит за это.
Г л а в а XI
Раздел страны изобилия Южная Калифорния оставалась нетронутым скотоводческим краем. У Лос-Анджелеса было трудное начало. Его население из четырех тысяч четырехсот человек оставалось прежним; Сан-Диего и Санта-Барбара, отстающие от него всего на тысячу человек, имели неплохие шансы отобрать у него титул столицы. Он представлял собой деревню из грязных улиц и построек из Сырого кирпича длиной в квартал и высотой в один этаж, плоские крыши которых ежегодпо покрывали смолой из Смолокурен в Ла-Бреа. Сотпи бездомных дворняжек носились по площади, облаивая лошадей, пока какой-нибудь из седоков не выходил из себя и не стрелял в собаку, оставляя ее валяться па площади. В ноябре 1861 года от Лос-Анджелеса до Сан-Педро была протянута телеграфная линия, однако уже в январе, как сообщает Ныомарк в книге «Шестьдесят лет Калифорнии», «было множество жалоб па то, что и столбы и провода упали па землю, мешая проезду и являясь настоящими западнями для скота… очень скоро разразился скапдал. Люди требовали либо починить телеграфные столбы, либо вообще убрать их, а остальное оборудование просто выбросить». Когда зимние разливы почти па месяц прервали поступление почты, истосковавшиеся по известиям жители города сочли свою судьбу более приемлемой, когда какой- то городской шутник па новом здапии почтовой копторы вывесил табличку: СДАЕТСЯ ВНАЕМ. Торговцы, стоя по грудь в воде, пытались спасти товары с верхних полок, многое же оказывалось выпесеппым водой па площадь. Некоторые выстроеппые из необожженного кирпича лавки размокли и обвалились, похоронив товары, а иногда и самого лавочпика. Вскоре после этого «невероятный шторм сорвал крыши с домов, разрушил сараи и повалил деревья в садах». Склонные к риску люди пытались разводить виноградники в прилегающих райопах, однако виноградные грозди у них пожирали медведи и койоты. Город Ангела, казалось, был отдан во власть дьяволу. ???? 353 Никакие органы управления не могли осуществлять 23 Зак. М! 1463здесь свою деятельность. Спорящие так часто разрешали свои споры стрельбой на глазах у всех и столько раз ранили посторонних, что совет города издал распоряжение, «запрещающее кому бы то ни было, кроме офицеров н путешественников, носить пистолеты, кинжалы, ружья и шпаги». Жители Лос-Анджелеса перестали посить шпаги. Три пятых всех детей вовсе пе учились пи в каких школах, а несколько бесплатных школ были настолько плохо укомплектованы, что половина юнцов получала домашнее образование. Хотя совет города и считал, что общая сумма городского имущества составляет два миллиопа долларов, он пе мог собрать пи цента в качестве налогов. Город решил продать лежащие в пизипе земли по 25 центов за акр, однако покупателей так и не пашлось; когда два надела земли, удобно располоясепных в деловой части города, были предложены желающим с условием платить за них палог по 1 доллару и 26 центов, был приобретен только один участок! В южной Калифорнии не было ни литейпых, пи кузнечных мастерских. Для бурения артезианского колодца приходилось посылать в Сан-Франциско за инструментами. Поскольку в Лос-Анджелесе постоянно ощущалась резкая нехватка воды для питья и стирки, бывший мэр Маршесо построил распределительную систему, сделанную из высверленных внутри сосновых бревеп,вставленных концами друг в друга. Деревянные трубы так часто лопались и вода заливала улицы, что огорчеппый экс-мэр покончил с собой в палате совета - пример гражданской совести, который пе скоро удастся превзойти. Единственная радостная весть, которую удрученные граждане получили в этом году, было сообщение о том, что дантист из Сан-Франциско предлагает совершать визиты к пациентам па дом для удаления зубов. Для миграции в южную Калифорнию пе было никаких серьезных осповапий. Землевладельцам принадлежали участки в соответствии с первоначальными испанскими наделами величиной в доброе графство и очень маленькой частью, доступной для прибывающих семей поселенцев. К тому же первоначальные права на земельную собственность были пастолько запутанными, что мало кто решался вкладывать деньги или распахивать землю из страха оказаться лишеппым прав на нее. Одной из самых распростра- ненпых мотивировок была: «Я не хочу покупать судебный процесс». «Саузерп пыос» писала: «Никто из проживших в графстве Лос-Анджелес двенадцать месяцев уже не удивляется постоянным отказам, с которыми сталкиваются приезжие, прибывшие в эти места с намерепием поселиться. Всем сообщают, что страна уже «выдохлась» и что здесь нет никаких шансов на успех. Большинство ранчо оказались лишенными своих прежпих стад, откупленных у них по высоким ценам… и огромпые полосы земли с каждым днем теряют свою цену. Если не будут разрешены какие-нибудь перемены, все кончится полным развалом». Эль-Монте, теперь уже насчитывающий десять лет, размещенный в самой плодородной части страны, все еще назывался «занюханпым» городишком. Один из путешественников сообщал: «Калифорния сейчас идеальный дом для маленьких детей. Она представляет собой театр пионерских операций в широких масштабах, а не лоскутных полей». Государственный чиновник утверждал: «Государство должно использовать все средства для поощрения иммиграции производящих классов из Европы. Нам нужны рабочие; непроизводительных слоев у нас уже достаточно: у нас есть врачи, юристы, клерки и политические деятели в большом избытке; теперь нам нужны фермеры, механики, ремесленники, виноградари». Хотя Лос-Апджелесу было уже восемьдесят лет, первые деревья только теперь были высажены Джоном Темплем перед его новым, только что выстроенным домом. Зеваки смотрели раскрыв рты на столь невиданное занятие Темп- ля. Однако, как только деревья пачали давать *тень, эта странная идея нашла своих последователей, и в течение пяти лет главные улицы были обсажены деревьями. Среди поселепцев находились и другие энергичные люди. Главное место среди них принадлежало весьма деятельному Финеасу Т. Бэпнингу, над которым в свое время пемало смеялись за его попытки построить гавань и город в Уилмингтоне и в Сап-Педро, в двадцати милях от Лос- Анджелеса. ???? 23• Бэшшнг говорил: «Мы не можем стать великим городом без гавапи, которая привлекала бы к нам корабли с грузами со всего мира. Плохо, что Сан-Педро так далеко от нас, но это лучшее из того, что у нас имеется, и мы Должны довольствоваться этим».
355
Лучшее, что он смог для начала сделать, - это углубить землечерпалкой устье реки Уилмингтон и держать флот лихтеров, направляя его к стоящим на якоре судам для разгрузки. В дополнение к лихтерам он открыл каретную линию до Сан-Педро, пополнив ее грузовыми фургонами. Оп также предсказал постройку железной дороги от Лос-Анджелеса до Сан-Педро - еще одна идея, которая показалась лосанджелесцам комической. Редким и многообещающим местом в южной Калифор- пии был Анахейм, единственный ее отпрыск в виде кооперативно-капиталистического поселения, лежащего на полпути между Лос-Анджелесом и Сан-Бернардино. Идея родилась в Сан-Франциско у группы немецких плотников, кузнецов, часовщиков и торговцев, к которой для полного комплекта присоединились пивовар, мельник, сапожник, железнодорожник, поэт и музыкант. Они представляли собой пятьдесят семей, объединенных воедино в чун«ой стране общностью происхождения и языка и общей неудовлетворенностью Сан-Франциско. Им хотелось перебраться в более теплый и сухой климат, где, несмотря на то, что ни один из них не был фермером, они могли бы поднимать целину. Каждый внес по 750 долларов; под руководством Георга Хапсепа па юг был послан комитет с заданием найти наилучшую землю. Хансен купил 1165 акров жирного суглинка в месте с отличным климатом и обилием воды из реки Санта-Анна, которая протекала по их владениям. Он отобрал сто мужчин и женщин, снабдив их инвентарем и рабочим скотом, чтобы разделить землю на земельные наделы по двадцать акров, построить ирригационный капал от реки и отводы от него к каждому из участков, а затем посадить на каждом участке виноград, выделить сорок акров для самого города, обсадить землю и дороги ивами, а также установить запирающиеся ворота на каждой из четырех дорог, ведущих в поселение. «Лос-Анджелесская випоградпая компания» хотела отделить себя от посторонних взглядов! После того как виноградники начали плодоносить, вся колония переселилась из Сан-Франциско в южную Калифорнию. С держателей акций собрали еще по 450 долларов, но зато теперь у каждого из них было по двадцать акров плодоносящего виноградника и участок для постройки дома в городе. Комитет произвел оценку каждого из двадцатиакровых участков и установил на них цену в пределах от 600 до 1400 долларов, в зависимости от качества почвы и расположения участка. Все тянули жребий с номерами, чтобы определить, какой именно участок достанется им. Если участок стоил 1400 долларов, вытянувший вносил в фонд компании дополнительные 200 долларов; если участок был оценен в 600 долларов, компания возвращала ему 600 долларов наличпыми. Поселение было названо Анахейм. Пайщики занялись постройкой домов для каждой семьи, покупая строительные материалы совместно по оптовым ценам. Когда оказалось, что доставка материалов из порта Сап-Педро обходится дорого, они опять-таки совместными усилиями построили пристань Анахейм в тринадцати милях от поселка, купили лихтеры и занялись перевозкой собственных грузов. Они построили школу и зал городского совета и, завершив на этом свою кооперативную деятельность, перешли к индивидуальному капиталистическому ведению хозяйства. Анахейм быстро разрастался и стал лучшим винодельческим районом Калифорнии. Годы Гражданской войны принесли южной Калифорнии только целый ряд новых неудач. Рынок скота оказался перенасыщенным, ранчеро не могли выручить достаточных сумм денег для оплаты счетов. Один рапчеро из Санта-Барбары писал: «Все в этом городе разорены, нигде не видно пи доллара… Скот можно покупать по любой цене, недвижимость ничего не стоит… «Чапулес» (саранча) завладела городом, опа целиком сожрала «Барли, Уит и компанию» - от нее ничего не осталось. Я думаю, что, если я не поспешу убраться из этого города, она сожрет и меня тоже». Разразилась эпидемия оспы, парализовав не только далекие ранчо, где не было ни врачей, пи вакцины, но и Лос- Анджелес, где опа приняла такие масштабы, что все деловые предприятия на городской площади оказались закрытыми. Люди сидели по своим домам взаперти. Серия засух началась в 1862 году и длилась до 1865 года, погиб буйный клевер, погибла люцерна на предгорьях, высохли до конца остатки водоемов. Пало семьдесят процентов скота, «отвратительные кучи костей и целых скелетов, белевшие повсюду на солнце, символизировали крах всеобщей индустрии южной Калифорнии. Дни неого-• роженных ранчо с бесчисленными стадами вольно пасущегося скота, родовых поместий и веселых пейсапос канули в вечность». К 1865 году пастбища шли по десяти центов за акр, а скот по доллару за голову. Пять тысяч голов скота было продано в Санта-Барбаре по тридцать семь центов за голову. Калнфорпийщл, которые сколотили себе состояния, отгопяя скот к местам разработок, теперь с ужасом наблюдали, как эти депьги таяли при попытках отстоять перед федеральными комиссионерами и судами законность испанских и мексиканских прав па владение землей. Они могли считать себя счастливчиками, если им удавалось сохранить за собой постройки ранчо и примыкающую к пим землю. Пять шестых всех прав оказались утраченными из-за отсутствия денег для уплаты налогов. Однако трагические засухи и окончание Гражданской воппы открыли новую эру для южной Калифорнии. Земля теперь была доступна для мелких владельцев. За несколько долларов человек мог приобрести пять, десять или двадцать акров для фермы, виноградника, сада. Благодаря климатическим условиям, миллионам акров дешевой н доступной земли,!^сформировавшемуся обществу пограничных областей, которое остро нуждалось в земле, южная Калифорния стала пристанищем для сотеп семей южан, разоренных войной и обиженных поражением. Они укладывали остатки своих пожитков, сельскохозяйственные инвентарь и инструменты на фургоны и отправлялись па запад через Техас и Ныо-Мексико. Встречались эмиграптские караваны из целой сотни фургонов и пятисот человек. Они начали прибывать сюда из-за суровых и неприемлемых для них законов, вводимых северянами - сторонниками реконструкции. Клеллапд рассказывает о пятидесяти семьях из Миссисипи, принадлежавших к лучшим фамилиям этого штата, которые решили купить десять тысяч акров в южпой Калпфорппп и восстановить свои утраченные богатства. Очень скоро надсмотрщиками и управляющими па новых ранчо в южпой Калпфоршш стали бывшие офицеры армии конфедератов, которые стремились накопить деньги для покупки собственной земли. В 1866 году населенно Лос-Анджелеса возросло настолько резко, что впервые за историю города появился спрос на городские участки: город переживал свой первый строительный бум. Па смену домам нз необожженного кирпича приходят деревянные. Сотни эмигрантов сновали в поисках ранчо, стремясь поспеть к разделу лучших земельных угодий. В следующем году одна из организаций предлагала к продаже уже сто тысяч акров. Продажа земли превратилась в большой бизнес. Первым из целой армии людей «бума недвижимости» •прибыл миловидный Роберт М. Уидни. Тридцатилетний гигант, сильный как бык, но довольно образованный, он был такой же прирожденный сторонник науки, как и действия. Уидни родился в Огайо на ферме в 1838 году, охотился в Скалистых горах, прибыл с караваном фургонов в лагерь золотоискателей в Калифорнию в 1853 году, работал лесорубом, закончил новый Тихоокеанский колледж, преподавал, не получая за это жалованья, изучал право, научился выхватывать пистолет, защищая свою честь в суде, и попал в Лос-Анджелес в 1868 году со ста долларами в кармане и маленьким сундучком. Уидни горячо влюбился в южную Калифорнию, объездил верхом ее холмы, долины и поля, чтобы лично ознакомиться с местностью, открыл контору по торговле недвижимостью в глинобитном доме на Мэйн-стрит и сначала занялся продажей отпечатанных литографским способом карт и схем, в которых описывались достоинства предлагаемых земель. С «бешеной энергией» он совершал в фургоне рейсы с вновь прибывшими по стране. Предлагая бесплатные юридические консультации и гарантированные права собственности, он уже скоро продавал тысячи акров земли, отлично приспособленной к выращиванию именно тех культур, которые его клиенты намеревались производить. Предприняв издание «Риал эстейт адвертайзер», в котором он анализировал ресурсы и преимущества района, он сделался крупнейшим в стране авторитетом по землям южной Калифорнии. Люди из северной Калифорнии, а затем и с Востока, посылали крупные суммы денег этому совершенно незнакомому человеку на покупки для них земель. Общая сумма расходуемых на приобретение земель денег возросла с сорока до двухсот тысяч в месяц. Но это было только началом. Кооперировавшиеся группы покупали земли совместно, основывая новые города целиком. Группа из тридцати ме- тодпстскнх семей нз Стоктона прибыла на юг в фургонах, приобрела часть ранчо в Сан-Педро по пять долларов за акр и построила Комптон - город трезвенников, в котором салуны находились под запретом, - заметное новшество для сильно пьющего Дикого Запада. Южная Калифорния последовала совету государственного служащего, который призывал к привлечению ремесленников из Европы. В 1867 году датский консул в Сап- Франциско купил пять тысяч акров для группы соотечественников. Английские власти начали переговоры о покупке ста тысяч акров для английских поселенцев. Французские и шведские группы вели ожесточенный торг по поводу покупки ранчо Азуса и Санта-Анита. Немецкие эмигранты подыскивали возможности для второго Ана- хейма. О южной Калифорнии заговорили газеты мира. «Сонное королевство» превращалось в современную страну: открылись два банка, начали работать газовый завод и фабрика по производству льда, были прорыты ирригационные каналы для орошения измученных жаждой полей, построены дамбы для сохранения избыточных зимних вод и подачи энергии на колеса мелышц. Богатые окрестные земли давали великолепные урожаи пшеницы и ячменя, табака, льна, хлопка и люцерны, в то время как недавно посаженные сады апельсиновых, лимонных, фиговых и других фруктовых деревьев приносили завидные прибыли. Мечта Финеаса Бэпнипга о железной дороге в порту Сап-Педро воплотилась в действительность, и директор ее, Бэнпинг, предложил всем нштеллм бесплатный рейс в день открытия, а вечером - бал в товарном складе, который одновременно служил также и залом для пассажиров. В блеске своего расцвета Лос-Анджелес организовал первый Комитет просвещения, Общественный клуб и открыл «Пико-Хаус» - первый отель, обладавший такой роскошью, как газовое освещение и ванны с горячей водой. Газ и вода подавались в городские дома. Первая пожарная команда была основана в салуне Баффама, но она так и оставалась весьма беспомощпой организацией вплоть до конца 1868 года, когда при пожаре выгорела значительная часть делового квартала, а пожарные вынуждены были стоять в толпе и любоваться зрелищем. Линчевания прекратились, Комитет бдительности исчез. Но были и мрачные потки в радостной какофонии роста: совет города вдвое увеличил налог на недвижимую собственность. «Под благополучной внешностью скрываются искаженные агонией лица и слышатся страшные стоны налогоплательщиков. Налоги страшны!» Со всех сторон сыпались жалобы на «бродячих, подобных цыганам, белых бедняков, обычно известных под кличкой «пайки», которые тоже прослышали о мягкой погоде и многих прелестях графства Лос-Анджелес. «Настоящий пайк зачастую живет вместо со своей семьей в фургоне; оп часто селится на чужих землях; он возит с собой ружье, массу детей и собак, жену, а если умеет читать, то и книжку по праву. Он переезжает с места па место по собственной прихоти и обычно представляет собой угрозу для соседей. Он не работает регулярно, но крепко цепляется за жизнь и всегда готов затеять судебный процесс». Лос-Аиджелес считал себя процветающим и растущим городом, но не все соглашались с этим. Мэйо в «Лос-Анджелесе» говорит: «Есть здесь и сонный маленький испа- ноамериканский городок с населением шесть тысяч человек, который дремлет под солнцем в самом далеком американском захолустье. У него? нет морского порта, пет у него и никаких естественных богатств». Однако Роберт Уидни знал, что делал. Земля, которая до миграции продавалась по семьдесять пять центов за акр, к 18С8 году продавалась по 10 долларов. Ранчо Тиху- ага, рядом с Лос-Анджелесом, было продано за 3300 долларов и перепродано за 6000 через четыре месяца; ранчо Маренго, проданное за 10 000 долларов, было через год перепродано за 2о 000. Как только Большая Четверка соединит свою Центральную Тихоокеанскую с «Юнион пасифик», по-видимому, где-нибудь в Юге, начнется работа над веткой от Сан- Франциско к Лос-Анджелесу, соединяющей южную Калифорнию с остальными Соединенпыми Штатами. А когда наступит этот великий день, утверждали хвастуны из Лос- Анджелеса, ничто не удержит расцвета южной Калифорнии.Глава XII
Кормушка клики Ролстона К тому времени, когда Уильям Шарон добрался в копце дета 1864 года до Вирджиния-Сити, Банк Уэллса - Фарго уже успел заполучить то, что осталось от лучших клиентов Уильяма Ролстона. Шарон спустился в шахты,^финансированию которых помогал Банк Калифорнии: «Иеллоу- Джекет», «Белчер», «Чоллар», «Гулд энд Кэрри». Он обнаружил, что поступающие с разработок сведения соответствуют действительности: смрадный воздух был настолько насыщен ядовитыми газами, что немногие шахтеры, которые еще пытались продолжать работы, постоянно испытывали тошноту. К обычным опасностям разработки земных недр прибавились ужасы Дантова ада: никто не был уверен в том, что новый сделанный им удар киркой ие высвободит гейзер горячей воды, которая обварит его самого и утопит его товарищей в стремнипах кипящей подземной реки. В «Офире» один-единственный удар киркой по внешне безобидному куску глины на глубине четырехсот футов привел к такому выбросу горячей воды, что через два дня, когда шахтеры спустились в шахту, их глазам предстало мрачное, вонючее озеро с поднимающимся пад ним паром, в сотню футов длиной, тридцать шириной н глубиной в сто двадцать футов! Рудник «Овермен» был полностью затоплен; в «Йеллоу-Джекет» пришлось прекратить работы на глубине трехсот семнадцати футов. Уильям Шарон был одним из немногих людей в Ком- стоке, которые получили образование; он обратит себе на пользу это преимущество. Им были изучены доклады, поступающие с шахт, история.различных судебных процессов. Из разговоров с шахтерами, надсмотрщиками и управляющими он пришел.к убеждению, что Комсток состоит из целой системы рудных жил, лежащей значительно глубже разрабатываемых пятисот футов. Обучив своего племянника проведепию анализов, чтобы иметь человека, на которого он мог бы положиться, он выяснил, что, чем дальше вглубь уходят жилы, тем богаче в них содержание благородных металлов. Шарон пришел к выводу,.что в стремлении немедленно получить прибыль управляющие шахтами зачастую игнорировали ценные руды. Его доклад Ролстоиу был кратким и ясным: в рудниках таятся бесчисленные миллионы. Как только удастся откачать воду и держать ее под контролем, добыча восстановится; прибыли могут стать несравненно выше при новой организации производства. Банк Калифорнии дол же п обеспечить себе контроль, а еще лучше - получить в соб- ственпость абсолютно все рудники и камнедробилки Ком- стока! И Шарон еще покажет им, как это делается. Одпа- ко, несмотря на сотни часов, проведенные с экспертами, он все еще не видел, каким образом они преградят путь подземным водам в шахтные забои. Единственный эксперт, к которому Шарон не счел нужным обратиться по этому вопросу, был оператор небольшой кампедробнлыш Адольф Сутро. Да и с чего бы обращаться ему за советом к человеку, которого во всей округе называли не иначе как Безумный Сутро из-за его маниакальной идеи пробить четырехмильный туннель под основанием Маунт-Дэвидсон, чтобы отвести воду и газы, а также способствовать снижению расходов на транспортировку людей, материалов и добытой руды? Разве это не походило на фантастический проект, предложенный «Гер- риториэл энтернрайз»: пробить дыру в Маупт-Дэвндсон, с тем чтобы Вирджииня-Сити мог любоваться вечерними закатами? 4 октября 1865 года Уильям Шарон вповь открыл в Вирджиния-Сити филиал Банка Калифорнии и начал предоставлять займы отчаявшимся владельцам рудников и камнедробнлеп из расчета два процента в месяц, значительно меньше, чем взимал «Уэллс - Фарго». Немиогис из шахт продолжали оставаться открытыми благодаря тому, что у держателей акций потребовали дополнительных де- нежиых взносов. Когда владельцы в Сан-Франциско истощили свои средства, Шароп великодушно предложил им воспользоваться кредитом Банка Калифорпин. Компаньоны Ролстона в Сан-Фрапциско утверждали, что это означает бросать деньги на ветер, однако Ролстои решил вернуть Комсток во что бы то ни стало. План Уильяма Шарона предусматривал все; очень скоро мелкие камнедробилыщ не смогли платить по счетам и просрочили закладные. Шарон отказал им в выкупе закладных, вступил во владение камнедробильнями и сам начал руководить работой. Те рудники, на которых все еще продоллгались работы, в большинстве своем уже контролировались Банком Калифорнии и были обязаны отправлять свою руду на камиедробильни, принадлежавшие Банку Калифорнии. Это привело к банкротству более крупных независимых камнедробилен. Шароп приобрел и их. Когда пе хватало руды для обеспечения работой камнедробилен, контролируемых Банком Калифорнии, управ- Яяющим давались указания примешивать пустую породу к руде. В то время как у держателей акций шахт выкачивались все новые деньги для добычи руды, не дающей никакого дохода, камнедробилыш Банка Калифорнии работали полным ходом, принося огромные прибыли, часть которых использовалась для покупки убыточных шахт. Группа, получившая известность под названием «шайка Ролстона», оформилась в «Юнион милл энд майпинг ком- панн» и придерживалась стратегии, весьма сходной с проводимой в жизнь строительной компанией Крокера на Центральной Тихоокеанской железной дороге. «Шарон загружал работой принадлежавшие шайке камнедробилыш на полную мощность, в то время как несколько оставшихся независимых пребывали на голодном пайке. Их владельцы предлагали обрабатывать руду за половинную цепу, но безрезультатно. Ни одна из шахт месторождения не решалась помочь независимым». За один год Банк Калифорнии захватил все важнейшие камнедробилыш, а остальные лишил их клиентуры. Уильям Шарон, «щегольской и расчетливый», набросился на работу как одержимый, преисполненный решимости вернуть уважение к себе. Его контора в Банке Калифорнии получила прозвище «кормушки Шарона»; заполучив контроль над окружающим¦ лесоразработками, водными ресурсами, горючим и механизмами, он сделался диктатором Комстока. В течение двух лет весь Маунт-Дэвидсои оказался под контролем шайки Ролстона. Шайку ненавидели н проклинали все те, кого она довела до гибели, однако Ролстон и Шарон утешали себя сознанием того, что каждому из них удалось уже получить по 4 ООО ООО долларов дохода от «Юнион милл энд майнинг компашг». Месть Шарона Комстоку была самой быстрой и самой прибыльной па всем Дальнем Западе. Теперь уже мало было шахт на Маунт-Дэвидсоп, которые работали бы рентабельно выше уровня воды. Шахтеры из Впрджннпя-Ситн начали уезжать, магазины закрывались, н Банк Калифорнии вложил новые два миллиона пз своих средств в те рудники, которые еще частично работали. «Юпнон мнлл энд маннннг компани» сидела на золотом дне, и какая разница была банку, из каких источников поступает к нему прибыль? Вместо рудппков банк яанялся камнедробилками. И все же, если ему не удастся очистить рудники от воды и начать разработку более глубоких горизонтов, этому жульничеству должен был прийти конец. Ролстоп заказал самый крупный из когда-либо изготовлявшихся па Дальпем Западе пасосов. Металлургическому заводу «Вулкан» в Сан-Фрапциско потребовалось десять месяцев для изготовления его и для транспортировки такого мамонта через лежащие на высоте до семи тысяч футов перевалы Сьерра-Невады. Машина была настолько велика, что в руднике пришлось вырубить для нее камеру размером сорок два на сорок футов и укрепить опорные балки каменным фундаментом. Чтобы отпраздновать установку, Ролстоп пригласил из Сап-Фрапциско группу чиновников банка, которых спустили в шахту в шелковых цилиндрах и широких накидках. Включили насос. «Огромная железная машина медленно, как просыпающийся допотопный гигант, шевельнулась, зашипела и маховик насоса диаметром десять футов завертелся. Постепепно уровень воды начал опускаться». Ролстоп и Шарон присоединились к ликующим, были поданы шампанское и икра для празднования победы над водами месторождения. В ходе следующих восьми месяцев «Гулд энд Кэрри» прошла отметку семьсот футов, добыв огромное количество руды. Затем мощнейший подземный поток с таким напором хлынул на гигантский пятидесятисильный мотор «Вулкан», что тот был отброшен, как детская игрушка. Вода в отстойнике поднялась на сто футов. Все работы прекратились. Билли Ролстоп заказал новую машину, с более крупным котлом и насосами мощностью сто двадцать лошадиных сил. На постройку и установку ее должен был унти целый год, а вода все поднималась. Комсток вышел на «борраску» - испанское слово, означающее пустую породу. Но этого нельзя было сказать об Адольфе Генрике Джозефе Сутро. Он родился 29 апреля 1830 года в Пруссии - один из семерых сыновей и четырех дочерей в семье. Адольф посещал политехническую школу, которая дала ему осповные позиапия в области механики; в шестнадцать лет он уже был управляющим на семейной фабрике по производству одежды. Двумя годами позл;е, после смер- тн'отца, он уезжает основывать и возглавлять филиал фабрики в Восточной Пруссии. После того как революция 1848 года разрушила семейное дело миссис Сутро, она привезла все свое большое семейство в Соединенные Штаты. Семья поселилась в Балтиморе, однако Лдольф заболел золотой лихорадкой. Он прнбыл в Сан-Франциско в 1851 году, за несколько месяцев до того, как ему исполнился двадцать один год. Высокий, массивный, с волевым лицом, крупным, красиво очерченным носом, густыми, темными, откинутыми назад волнистыми волосами, он обладал умом человека науки и темпераментом воина. Сутро не собирался становиться рудокопом, его, скорее, привлекал успех новой процветающей страны. Шесть лет он учил язык и зарабатывал средства к существованию мелкой торговлей; в 1856 году он женился и открыл табачную лавку па Монтгомери-стрит в финансовом районе Сан-Франциско, где быстро возвышавшийся Уильям Чэп- мен Ролстоп оказался его соседом. Лавка принесла удачу, можно было подумать об открытии одного пли двух ее филиалов, но тут в 1859 году, после топэ как по улицам Сан-Франциско пронесли серебряные слитки из Комсто- ка, Сутро бросил свое дело и во второй раз в своей жизни присоединился к людскому потоку. В начале 1860 года оп открыл маленькую кампедро- билыпо в Ист-Дайтон. Он не пытался обеспечить себя кварцевой рудой с рудников, а изучал отбросы других камнедробилеп и разработал процесс, который позволял ему брать прошедшую переработку руду и извлекать из нее остатки благородного металла. Это было его первым шагом к промышленной добыче. Теперь, в тридцатилетнем возрасте, будучи практически бизнесменом и обладая начатками научного образования, Сутро проводил свое свободное время, спускаясь в забои и наблюдая за технологией добычи руды. Он был возмущен картиной бесцельной траты сил и опасности для жизни людей. Наиболее тщательно он стал теперь изучать обратный склон Маунт-Дэвидсоп, в том месте, где оп опускается к.реке Карсон. Через месяц, 20 апреля 1860 года, он отправил в издающуюся в Сап-Франциско газету «Альта» письмо, которое положило начало ожесточеннейшей двадцатилетней борьбе: «До настоящего времени работа в шахтах ведется без какой-нибудь системы. Вместо того чтобы пробивать туннель снизу, у основания холма, а затем лишь пробивать вертикальную шахту для встречи с ним, что сразу обеспечивало бы осушение, вентиляцию, и облегчить работу, пробивая штреки вверх, владельцы заявок (группа из двадцати отдельных шахт) чаще всего добираются до рудоносных слоев сверху, проделывая обширное вскрытие, что требует большого расхода леса и является причиной многих затруднений». В ходе последующих четырех лет, пока его камнедро- бильня припосила приличный доход, Сутро занимался изучением структуры месторождения, а также инженерных аспектов проектируемого им туннеля и наиболее эффективных журналистских приемов убеждения общественности, правительства, шахтовладельцев и банкиров в том, что предложенный им тунпель является единственным действенным средством для обеспечения свежим воздухом и светом мокрых, темных и зловонных шахт. Он пригласил из Сан-Франциско заезжего немецкого геолога барона фон Рихтгофеиа, который подтвердил целесообразность и инженерную выполнимость туннеля, подчеркнув огромную пользу, которую он принес бы здоровью и безопасности шахтеров, а также и доходам шахтовладельцев. Но это был период бума, рудные жилы залегали близко к поверхности, а невообразимая расточительность компенсировалась немыслимыми доходами. Единственной наградой Сутро за все его труды явилось прозвище Безумный Сутро. Теперь же, в конце 1804 года, шахты оказались затон- ленными водой и насыщенными ядовитыми'газами, шахтеры становились жертвами не только несчастных случаев, но и туберкулеза; проходка шахт в глубииу прекратилась вовсе. Первым предпринятым Сутро шагом было его обращение к вновь образованному законодательному собранию Невады с петицией о предоставлении ему прав па пробивку туннеля сквозь Маунт-Дэвидсон. Многие из членов законодательного собрания считали Сутро безнадежным безумцем, однако они были новичками в управлении делами штата и, поскольку им было ясно, что решительный Сутро постоянно будет осаждать их в прихожей, согласились принять этот билль: он ведь все равно не сможет воспользоваться предоставленным ему правом, и поэтому какой вред от того, что они от него избавятся?Вооружившись этим, как он считал, первым знаком общественного признания целесообразности своего плана, Сутро па полученные от камне дробильпи средства нанял геолога и инженеров, а также журналистов, которые должны были рекламировать туннель среди широкой публики, у которой ему необходимо было набрать 3 000 000 долларов. Он образовал компанию, президентский пост в которой отдал первому сенатору от Невады Уильяму Стюарту, а сам отправился в Банк Калифорнии - к постоянно распахнутой двери конторы Уильяма Ролстона. Ролстон был восхищен. Он сказал, что «это будет одним из величайших инженерных достижений страны», которое приведет к «устранению жары, затрудняющей работу шахтеров, ядовитых газов, вездесущей воды, несчастных случаев, завалов, остановок. Глубокая проходка штреков станет практичной, безопасной и весьма выгодной». Он не только целиком одобряет строительство туннеля, но и призовет все рудные компании Комстока подписать соглашение с Сутро. В подтверждение этому он дал Сутро письмо; денег ему он не дал. У Сутро ушло восемь долгих месяцев, которые он так стремился использовать для пробивки туннеля, чтобы заполучить подписи владельцев двадцати трех основных шахт на Маунт-Дэвидсон под своим контрактом. Они не брали на себя обязанностей помогать ему в финансировании постройки туннеля, но, когда завершенный туннель осушит и провентилирует нх шахты, они обязывались платить ему по 2 доллара за каждую тонну добытой и вывезенной в вагонетках по туннелю руды в дополнение к оплате доставки в шахту шахтеров и материалов. Ролстон был в восторге от успехов Сутро; если Сутро справится там, где стодвадцатнсильный насос не смог справиться, цена капиталовложений Банка Калифорнии в Комстоке увеличится в сотню раз. Весной 1866 года он дал Сутро рекомендательное письмо на бланке Банка Калифорнии к важнейшим банкам Нью-Йорка и Лондона: «Настоящее письмо будет представлено вам гражданином этого города мистером Сутро, который нанесет вам визит с намерением изложить капиталистам перспективы весьма важного предприятия, известного под названием «Туннель Сутро», в штате Невада. Можно очень многое сказать о важности этой работы. Проект был тщательно исследован учеными, н они без колебаний высказались в его пользу
во всех отношениях - практичность, доходность и огромная общественная польза». Подобно Джюде, Адольф Сутро прежде всего отправился в Вашипгтоп, где ему удалось убедить конгресс своими четкими неопровержимыми доказательствами в необходимости принятия билля, предоставляющего ему права на проходку по землям, принадлежащим федеральному правительству. Но ему не удалось собрать деньги на Востоке, поскольку у него не было «домашней поддержки» - денег, собранных в Калифорнии и Неваде. Вернувшись в августе 1866 года в Вирджиния-Сити, Сутро снова уговорил законодателей Невады принять резолюцию, теперь уже призывающую конгресс предоставить ему федеральные фонды на строительство туннеля. Добившись этого, он снова едет в Сан-Франциско: несколько дочерних компаний Ролстона обязались выделить 600000 долларов. Теперь Сутро мог получить недостающую сумму у восточных и английских банков, а возможно, и получить субсидию федерального правительства. Шесть лет он самоотверженно трудился, вложив в это предприятие последний свой доллар. Теперь туннель станет реальностью. Так ли это? Уильям Шарон приехал из Вирджиния- Сити для конфиденциальной встречи с шайкой Ролстона. Неужели джентльмены не понимают важности того, что произойдет, если Сутро проложит свой туннель и если каждая тонна руды, добытая на Маунт-Дэвидсон, начнет приносить Сутро по 2 доллара? Он не только сделается самым богатым человеком в Комстоке, но и получит в свои руки контроль над выработкой канадой шахты, поскольку он один будет определять, как быстро и чья руда должна вывозиться. Он сможет стать самым настоящим диктатором в Комстоке, отобрать у Банка Калифорнии контроль над шахтами и вывести из строя «Юнион милл энд май- нинг компани», открыв свои собственные камнедробильни на реке Карсоп, куда руда Маунт-Дэвидсон будет попадать прямо с черного хода его туннеля. ???? 369 И вообще - зачем, собственно, он им понадобился? Разве Шарон с помощью все более мощных помп Ролстона не ведет пробивку штреков в трех шахтах ниже уровня воды? А раз они решают проблему с водой, то какой же смысл отдавать свою власть и свои миллионы какому-то чужаку, над которым у них к тому же нет контроля?
24 Зав. N 1463
Быстро распространилась роковая весть: Ролстоп не хочет, чтобы тушишь Сутро был построен! Обязательства на 600 000 были аннулированы. После того как невадские сенаторы Стюарт и Най получили телеграммы от Ролсто- на, они стали выступать против оказания федеральной помощи Сутро. Сенатор Стюарт отказался от поста президента предприятия «Тупнель Сутро». Торговцы Вирджиния-Сити прекратили поддержку. Ролстоп обратился ко всем банкам на Востоке и в Англии, которым он рекомендовал Сутро, с просьбой пе считаться с ним. Так они и поступили. Сутро оказался покинутым всеми, даисе своими старыми компаньонами, и пе только в Вирджиния-Сити, но и в Сан-Фрапциско, где друзья и клиенты всемогущего Рол- стона при виде Сутро переходили на другую сторону улицы нз страха, что о встрече с ним будет доложено Ролсто- ну, а это подорвет их кредит в банке. Джордж Лаймен, который знал большинство участников этой истории, писал в книге «Шайка Ролстона»: «Сутро все понимал. Он был финансовым изгоем. Впервые он понял ту гигантскую, всесокрушающую силу, которой Ьбладал Банк Калифорнии. Как будто при помощи волшебства люди узнавали, что Ролстон и его шайка внесли его в проскриицпоппыо списки. Оп должен быть раздавлен моралью и физически. Он должен быть нзгпап из Комстока». Они недооценили своего противника, а научили его многому. Осознав всю силу династической власти шайки и полную беспомощность одного человека бороться против ее могущества, Адольф Сутро с инженерных и финансовых проблем постройки туннеля переключился па положение шахтеров Комстока, которые «могли работать без перерыва только несколько минут. Пот паполиял их ботинки и начинал переливаться через верх. В некоторых местах шахты жара была совершенно невыносимой, и люди нз-за пее часто падали мертвыми». Па дне Краун-Пойнт - «места, приспособленного скорее для саламандр, чем для людей», - температура подымалась до 150 градусов. Последовавшие за этим два года неудач могли сломить менее твердого человека. В Нью-Йорке он обнаружил, что его обогнала телеграмма шахтовладельцев Комстока, объявлявшая контракты с ним «аннулированными». В Вашингтон он был вызван комиссией по расследованию, созданной по настоянию лоббистов Банка Калифорнии, которая задавала ему вопросы, пытаясь установить правомочность данной ему федеральной концессии. Джордж Уордон Джеймс сообщает в «Героях Калифорнии»: «Сутро выступал в качестве своего собственного адвоката, оценивая и переоценивая показания свидетелей, и более чем достойно противостоял хитрым и изощренным юристам, посланным Банком Калифорнии с задапием выбить его из колеи и раздавить его». Ему пришлось продемонстрировать перед комиссией конгресса свою компетенцию в области инженерного дела, физики, геологии, топографии, металлургии, вентиляции и дренажа - всего, чему он научился за прошедшие семь лет. Конгресс не отменил своего прежпего решения. Но теперь оп был совершенно разорен и вынужден был продать земельный участок в одном из маленьких калифорнийских городов за 200 долларов, на которые он и пытался кое-как перебиться в течение зимы в Вашингтоне, дожидаясь заседания конгресса, на котором будет обсуждаться билль о предоставлении ему федеральной помощи. Зима эта не была для него скучной, потому что шайка Ролстона с Уильямом Шароном во главе израсходовала целое состояние на газеты и журналы, чтобы скомпрометировать Адольфа Сутро в глазах американского народа, изображая его не просто беспочвенным мечтателем, а мошенником. Шарон публично обозвал его «ассирийским авантюристом» - косвенный намек па его религию. Однако, когда конгресс приступил к своим заседаниям и Сутро представил свой доклад, комитет палаты по шахтам и горному делу пригласил его на свою сессию для демонстрации карт и диаграмм. Опи удовлетворились его доводами и рекомепдовали палате предоставить Адольфу Сутро 5 000000 долларов для постройки туннеля. Это была выдающаяся победа преданной своему делу личности против мощной организации, "имеющей в своем распоряжении миллионы. Шайка публично обвипила Сутро в подкупе комитета. Впервые за весь этот трудпый год Сутро рассмеялся. «Чем? - спросил он. - Моими двумястами долларами?» ???? 371 Но это была мертворожденная победа. Имепно теперь- в феврале 1868 года - сенат Соединеппых Штатов начал процедуры по импичменту президента Эндрью Джопсона. Билль о предоставлении Сутро пяти миллионов, за кото-24*
рый выступало большинство в обеих паЯатйх, так и пс был внесен в повестку дня. Сутро вернулся в Сан-Франциско и сразу стал здесь объектом насмешек. Одна нз газет язвнла: «Только что верпулся Сутро, уморивший конгресс своими бедами». Контролируемая шайкой пресса отказывалась публиковать заявления Сутро даже в виде платных объявлений. Но труднее всего ему было переносить насмешки, которые ему вслед кричали на улицах дети. Понадобился небывалый по своим трагическим последствиям пожар, чтобы прожечь дыру в возведенном шайкой Ролстона барьере. 7 апреля 1869 года, закончив работу, ночная смена шахт «Йеллоу-Джекет», «Кеитук» и «Краун-Иойнт», соединенных между собой горизонтальными туннелями, вышла из своих шахт, жалуясь на запах дыма. Как только сто шахтеров дневной смены спустились в шахтный колодец, оттуда, подобно пушечному выстрелу, ударило пламя, щепки горящего дерева и ревущий пар. Сирена «Йеллоу-Джекет» прорезала утренний воздух. Пожарные машины Вирджиння-Сити и Голд-Хилла промчались по дороге. Шахтерские семьи, женщины, дети и старики прибежали к шахте. Первая клеть опустилась в ствол «Йеллоу-Джекет» на глубину восьмисот футов за двадцать четыре секунды, успевая спасти людей, которым удалось забраться в нее. Они рассказали об огне, бушующем внизу, как в печи, о людях, которые задохнулись или свалились с клети в огонь. Второй раз поднялась клеть, доставив наверх трех братьев Бичел, старший лежал на полу мертвым, средпий брат одной рукой придерживался за верхнюю перекладину клети, а другой - держал туловище младшего брата, голова и руки которого были оторваны поднимающейся вверх клетью. К девяти часам дым в стволе шахты «Кептук» достаточно рассеялся, чтобы разрешить спуск спасателям. Они вернулись с двумя телами. К полудню пожарные смогли спуститься в «Йеллоу-Джекет» до глубины восьмисот футов; им удалось отыскать еще четыре тела. В «Краун- Пойпт» клеть спустили вниз с зажженной лампой, под которой была прикреплена написанная на большом куске картона записка: «Подниматься вверх от места, где вы находитесь, - смерть. Ужасные газы в стволе… Напишите нам где вы находитесь, и отправьте записку с клетью» Клеть вернулась. Ни слова не было написано. Из «Кентук» и «Краун-Пойнт» продолжали валить густые столбы дыма. Пожарные снова забрались в «Йеллоу- Джекет», притащив за собой шланг. Три дюйма кипящей воды стояло па дне штреков. Тела людей, которые бросились в шахтный колодец, чтобы не сгореть заживо, были подапы на поверхность. К двум часам почи было найдено еще тринадцать тел. Пятьдесят один человек был спасен. Тридцать шесть все еще считались пропавшими без вести. Добровольцы составили спасательные команды. Хотя огонь все усиливался, им удалось отыскать еще десять тел. К 10 апреля все надежды на спасение двадцати шести человек, все еще остававшихся внизу, были утрачены. Шахтные стволы были забиты досками, мокрыми одеялами и землей, в «Йеллоу-Джекет» был пущен пар и поддерживался там два дня в попытке сбить огонь. Но пожар все продолжался. Шли дни, педелн. К концу мая одна из галерей была опечатана. Погибло сорок девять человек. Было совершенно очевидно, что туннель Сутро, который должен был проходить под этими тремя шахтами, предоставил бы быстрый и безопасный путь к спасению сорока девяти погибшим шахтерам. Шахтерское население Комстока, возмущенное происшедшим, считало Ролстона и Шарона ответственными за эти смерти. Ролстоп пожертвовал 5000 долларов вдовам и сиротам. Шарон приказал навести порядок и приступать к работам. Все оставалось по-старому. Но только не для Адольфа Сутро. Целыми днями, педелями он не покидал шахт, помогая спасательным работам, спускаясь в забои для определения природы бедствия. Теперь оп более, чем когда-либо, был уверен, что при вентиляции снизу огонь никогда пе смог бы объединиться с газами и произвести такое опустошение. Где-то в самых тайниках своей старозаветной души он считал себя морально ответственным за происшедшее: оп позволил шайке Ролстона одержать над собой победу. Но теперь им не удастся снова остановить его. Оп писал, печатал и затем распространял листовки на улицах Вирджиния-Сити и во всех шахтерских поселках па целые Мили вокруг. Он приклеивал огромные плакатына стенах Домов, рисующие в ярких красках ужасы, испытываемые людьми, попавшими в огненную западню. Два месяца он трудился как одержимый, сзывая шахтеров па собрание в здании оперы Магира, где оп собирался выступить; и все эти два месяца оп работал над тезисами доклада, в котором он намеревался рассказать им всю историю своей девятилетней борьбы против шайки. 19 августа 1869 года шахтеры Невады заполнили все места в здании оперного театра Магира. Человек, который стоял перед ними на сцене, одинокий, лишенный друзей, поднялся на несравненную высоту с тех пор, как десять лет назад покинул свою табачную лавку и присоединился к потоку людей, устремившихся к Комстоку. Теперь оп был Иеремией - в черных волосах появились седые пити, глаза его горели огпем. Он раскрыл перед ними сущность предпринятых банком махинаций с акциями; замораживание индивидуальных камнедробилок, подлое использование шахт для увеличения прибылей «Юнион мплл энд май- нинг компани». Рассказал и о своей беспрецедентной борьбе: «Мне стало с полной очевидностью ясно: шайка считала, что ей удастся раздавить меня финансово, физически и морально в этой невиданной борьбе. Однако… я был преисполнен решимости не допустить, чтобы эта всеобщая беспринципная и продажпая комбинация воплотилась в жизнь, и поклялся, что закончу эту работу, даже если мне придется положить на нее всю свою жизнь». Шахтерам тоже не к кому было обращаться за помощью. Их союз был в состоянии только удерживать их заработки на определенном уровне. Адольф Сутро будет теперь их единственным голосом… единственным, обладающим силой и решительностью для продолжения борьбы с шайкой. Аплодисменты были оглушительными. Когда они наконец утихли, Сутро попросил погасить свет в зале оперы и при помощи волшебного фонаря показал картины, отражающие 1 е ужасы, удушье и смерть в пламени, имевшие место в «Йеллоу-Джекет». Показав последний диапозитив притихшей и проливающей слезы аудитории, оп тихо и внушительно произнес: «Встаньте, дорогие сограждане. У вас нет Эндрью Джэксона, чтобы сокрушить банк, который отнял у вас ваши свободы, но у вас есть силы. У меня нет намерения подстрекать вас к насилию; я не говорю, что вы должны вернуть себе права путем бунта, насилия и угроз… но тем не менее я утверждаю, что вы можете осилить своего врага путем простого объединения действий. Вы должны объединиться для постройки туннеля; именно так вы получите над ним преимущество. Он уже трепещет перед вашими действиями». Шахтеры, сидящие перед Сутро, говорили, что они узнают его голос: это был их собственный голос, голос народа. Из карманов, из своих сбережений, из весьма скромных денежных фондов Союза шахтеров они собрали 50 ООО долларов наличными - первые наличные деньги, которые попали в руки Сутро. Это был маленький, но золотой ключик, которым будет открыта Маунт-Дэвидсон.Глава XIII
Война мормонов с иноверческими коммерсантами Если внешний мир был в основном занят борьбой с полигамией, вцутри Юты имелись и другие проблемы, требующие внимания Брайама Янга. Случай с морриситами представлял собой самое крупное в истории Запада отступничество в рядах мормонов, и поскольку оно закончилось насилием, то стало наиболее известным за пределами Юты. Джозеф Моррис, необразованный выходец из Уэллса, принявший мормонство в 1849 году, эмигрировал в Юту в 1853 году. Шесть лет занимался он фермерством в изолированном поселении в графстве Уэбер, когда его начали посещать «видения», в которых услышал он откровение о себе, как о «седьмом ангеле из видепий святого Иоанна». Новый «пророк» обратился к Брайаму Янгу с просьбой о свидании. Брайам Янг игнорировал его. Тогда Моррис засыпал Солт-Лейк письмами, в которых он разоблачал неудачи Брайама Янга и требовал реформы церквп мормонов. В своем поселении Моррис выглядел убедительно: около сотпи его соседей верили в то, что он и в самом деле новый пророк. Когда епископ этого района Ричард Кук тоже оказался обращенным в новую веру, Брайам Янг впервые серьезно отнесся к Моррису и направил двух членов Церковного совета двенадцати - Уилфреда Вудруфа и Джона Тэйлора - к устью каньона Уэбера для разбирательства. На собрании верующих в феврале 1861 года епископ Кук публично объявил о своей преданности пророку Моррису. После этого он был отлучен от церкви вместе с Моррисом и целым рядом других отступников. Графство Уэбер восстало. Моррис стал пророком новой церкви, а Ричард Кук и Джон Бэнкс вошли в ее совет. За один год секта, которая верила в близость второго пришествия Христа и держала все свое добро в общем пользовании в ожидании прихода Судного дня, привлекла в свои ряды около шестисот мормонов. Затем возник спор относительно того, имеют ли право недовольные члены секты забирать из общего пользования свой первоначальный взнос. Главному судье Солт-Лейка Кинни начали поступать данные под присягой показания, обвиняющие пророка Морриса в том, что в форте Кингстон он держит под арестом четверых несогласных с его доктриной. Пророку Моррису были направлены судебные повестки. Но он на них не реагировал. Судебный исполнитель вернулся в Солт-Лейк и доложил, что Морриса защищают «по меньшей мере сто вооруженных сторонников». Тогда суд выдал ордер на арест пророка Морриса и советников - Кука и Бэнкса. Роберт Бэртон принял командование над двумястами пятьюдесятью солдатами мормонского ополчения, расположился лагерем на высотах, господствующих над фортом Кингстон, и направил морриситам ультиматум, в котором говорилось, что, если они через тридцать минут не сдадутся, их возьмут силой. Пророк Моррис уединился в своем доме в ожидании откровения. Оно пришло, но с некоторым запозданием: тридцать минут истекли именно в тот момент, когда он вернулся к своему народу, который собрался во дворе форта. Командир Бэртон отдал приказ открыть огонь. Пушечное ядро разорвалось внутри форта, убив двух женщин и оторвав нижнюю челюсть у одной из девушек. Второе ядро убило еще двух женщин. Ополченцам было приказано штурмовать форт. Морриситы ответили огнем и убили одного ополченца. Осада продолжалась три дня. Один из морриситов вышел с белым флагом. Бэртон вошел в форт с намерением взять под стражу лиц, указанных в ордере на арест. Говорят, что Моррис закричал: «Все, кто за меня и за моего бога в жизни и в смерти, за мной!» Ополченцы снова открыли огонь. Моррис, Кук и Бэнкс были убиты, Застреленными оказались еще две женщииы. С бунтом было покончено. Семнадцать лет спустя Бэртон, командовавший ополченцами, будет за это привлечен к суду по обвинению в убийстве. Теперь же ему была объявлена благодарность главного судьи «за способности, проявленные при выполнении долга, и за столь малые потери в человеческих жизнях» при подавлении сопротивления морриситов, которое «Дезерет ньюс» назвала «первым вооруженным выступлением против закона, которое имело место на территории». Девяносто шесть морриситов были привлечены к суду за сопротивление аресту, десять из них обвинялись в убийстве ополченца. Семеро из десяти были признаны виновными в совершепии убийства и осуждепы на длительные сроки тюремпого заключения, остальные отделались штрафами в сто долларов. Новый федеральный губернатор Стефеп»Хардинг поми- лопал псех морриситов. Янг и церковь объявили, что он - «офицер, опасный для мира и процветания территории, венцом его бесславной карьеры явилось освобождение многих уголовных преступников и натравливание их на общество». Генерал Копнор предложил морриситам убежище в лагере Дуглас. Часть из них, по-видимому, покинула территорию, остальные вернулись в лоно своей церкви. Вторым религиозным отступником был Годби, удачливый коммерсант в Юте и основатель неудачного литературного журнала «Юта мэгэзин» в Солт-Лейке. Летом 1868 года он вместе с издателем леурнала И. Л. Т. Харри- соном отправился за товарами в Нью-Йорк. В дорогу они взяли с собой «Книгу мормонов», которая и навела их на некоторые еретические идеи. В «Популярной истории церкви» говорилось: «Содержание «Книги мормонов» при критическом разборе представляло собой тяжелейшее испытание для чувства реального, и многие из откровений носили явный налет идей Джозефа Смита и были полны противоречий… Что же касается Брайама, то многие из предпринятых им мер были совершенно лишены даже коммерческого смысла и уж совсем далеки были от божественной мудрости». В Нью-Йорке, пока Годби приобретал товары для своей лавки, у издателя возникло много вопросов, ставивших под сомнение «Книгу мормонов». По вечерам в гостинич- пом поморе оба они, стоя на коленях, молились о ниспослании им ответов на возникающие вопросы. Ответы эти к ним «пришли». Годби и Харрисон сразу же по прибытии в Солт-Лейк стали пропагандировать, основав новый журнал, а затем и газету, новую форму мормонства. В конце 1869 года Церковный совет в Солт-Лейке обвинил Годби и Харрисопа в отступничестве и отлучил их от церкви. Как это всегда бывает с оппозицией, конкурирующая церковь Годби сразу же набрала много сторонников, которые получили название годбистов, и начала проводить собрания по воскресеньям. «Церковь Сиона» Годби во всем походила на мормонство, за исключением того, что в пей не было священников, а десятинный налог был снижен в соответствии с возможностями неофитов. Тогда отлучили от церкви всех сторонников Годби. Харрисон писал: «Мы спросили, не имеем ли мы возможности честно изложить свое мнение, отличающееся от мнения правящего духовенства. Нам ответили, что такой возможности у нас нет». В борьбе с Брайамом Янгом Годби запустил свое до этого процветавшее дело, а вскоре и церковь его потеряла своих сторонников. Годби уехал в Англию с намерением организовать горнодобывающую компанию, которая впоследствии добьется успеха в Юте. Когда Брайам Янг посетил своих «святых» на Великой равнине, лежащей в сотнях миль от ближайших соседей, он надеялся - и имел все основания считать, что надежды эти оправдаются, - что несколько десятилетий изоляции позволят ему построить Сион. Однако открытие золота привело в Юту тысячи золотоискателей. И это притом, что Калифорния постоянно представляла собой богатую и открытую для освоения страну. Таким образом, Солт-Лейк оказался на перекрестке трансконтинентальных магистралей. Торговцы, прибывающие в Солт-Лейк, который стал известен «как дом на полпути» между рекой Миссури и берегом Тихого океана, встречались с распростертыми объятьями церковью. Брайам Янг и его Церковный совет требовали от торговцев-иноверцев, чтобы они с сочувствием относились к Сиону и держались в стороне от противников мормонства. Хотя прибыли торговцев-иноверцев в отличие от мормонов нельзя было облагать десятиной, поступающие извне капиталы, товары и квалифицированные люди были нужны для роста Солт-Лейка. Товары всегда были весьма дорогими в Солт-Лейке из- за их недостатка и трудности доставки. Утверждали, что в 1861 году «торговцы-иноверцы получали от ста двадцати до шестисот процентов на вложенный капитал». Сэмюэл Боулс, который был в Солт-Лейке в 1864 году, писал: «Несколько фирм имели обороты в миллион и более долларов в год, а одна из них получила семьдесят пять процентов прибыли в этом году». Брайам Янг старался отговорить своих последователей от приобретения чего бы то ни было, кроме крайне необходимого; женщин призывали не тратить денег на наряды, а носить в течение всего года строгую одежду Дезере- та. Б своих проповедях он выступал против потребления чая, кофе и табака не только из моральных соображений, поскольку они были искусственными стимуляторами, по и потому, что их приходилось импортировать, а значит, тратить столь необходимые поселенцам деньги. К женщинам, которые требовали модных нарядов, он обратился с проповедью в сентябрьское воскресенье 1861 года: «Дайте нам пемпоЖко иповерчества, говорят женщины, разрешите нам носить криполипы, потому что шлюхи их носят. Я думаю, что, если бы они расхаживали, засунув в зад кукурузную кочерыжку, мы тут же захотели бы того же. Не проходит и дня, чтобы, выйдя нз дому, я не видел женских ног, а если дует ветер, то можпо увидеть и зпачительпо выше. Какое кому дело до этих иноверцев?… Я знаю, что говорить такое стыдно, но если вы разрешаете рассматривать себя с другого конца, то я имею право говорить об этом». Досталось и мужчинам. Пытаясь сохранить шаровары для мужчин, которые просто собирались на поясе и застегивались сбоку и которые стали вытесняться брюками иноверцев, застегивающимися спереди, Гебер Кимболл, верный рупор Брайама Янга, метал громы и молнии: «Я против ваших мерзких мод и против всего, что вы носите ради моды. Вы когда-нибудь видели меня в этих герма- фродитских панТалонах? - (Голос кого-то из собравшихся: «Папталоны для блуда».) - Р1аши юноши ослабляют спои спины и почки, опоясывая себя подобным образом, они ослабляют силу чресел своих и идут к тому, что нанесут ущерб своему потомству». Брайам Янг добавлял: «Я считаю их нескромными и неприличными. Если б было модно носить их расстегнутыми, то, я думаю, вы видели бы многих из наших старейшин в иезастегнутых брюках». Усилия Брайама Янга сэкономить на женских нарядах, которым, возможно, немало способствовало и то обстоятельство, что ему самому приходилось обеспечивать нарядами двадцать семь жен и тридцать одну дочь, были поистине героическими, но не принесли особых результатов. Не помогли здесь ни метания громов и молний, ни язвительность. Вопрос о нарядах явился единственной областью, где мормонские женщины, включая и собственных жен Брайама Янга, были весьма далеки от проявления присущей им полной покорности. Первый конфликт торговых интересов произошел вну- ри церкви: четверо братьев Уокер проявили строптивость. Морган в «Великом Соленом озере» писал о них: «Центральные фигуры в экономической войне, которая сотрясала селения Юты во второй половине 1860-х годов». Когда армия под командованием генерала Джонстона была отозвана конгрессом после побоища на Маунтин-Ми- доуз, она оставила снаряжение и боеприпасы, которые негде было хранить в Юте и которые пришлось продать мормонским коммерсантам за бесценок. Отлично зарабатывали коммерсанты и на свободно тратящих свои деньги солдатах генерала Коннора, размещенных в Юте во время Гражданской войны. Четверо Уокеров были англичанами, которые приехали в Юту в 1852 году, когда их овдовевшая мать была обращена в мормонскую веру. Они были молоды и любили спорт. Для мормонов, в их смертельной схватке с природой в попытке выжать из нее средства для жизни, спорт казался бессмысленной тратой времени; однако братья Уокер построили и спустили на воду первую парусную лодку на Великом Соленом озере. Они присоединились к церкви, выплачивали положенную им десятину и были весьма послушными, но до определенного предела: пока они не достигли экономической независимости благодаря своим большим магазинам. В 1863 году братья отказались платить десятину. Причиной этого было, по всей вероятности, несогласие с указаниями церкви, а не скупость, поскольку они предложили выплачивать те же десять процентов непосредственно самим бедным. Для церкви это было нестерпимым у ниже- вием. Об этом и было сказано Уокерам. Тогда одни из братьев отправил чек на 500 долларов епископу своего района на благотворительные цели. Чек был доставлен Брайаму Янгу. Он отказался его принять. Тогда братья Уокер порвали чек. Восприняв это как вызов своей власти, Брайам Янг приказал мормонам держаться подальше от магазинов Уокеров. Их оборот сразу же упал с 60 ООО до 5000 долларов в месяц. Выжить они могли только благодаря тому, что некоторые мормоны, нуждаясь в товарах или не имея возмоншости приобрести их в других местах, тайно покупали у них. Брайам Янг отлучил Уокеров от церкви. Они ответили отправкой чека на 1000 долларов Постоянному эмигрантскому фонду, чтобы дать возможность обращенным в Англии беднякам приехать сюда. 11а октябрьской конференции 1865 года Брайам Янг предложил единоверцнм самим заниматься коммерцией и «перестать отдавать богатство, которое Господь дал нам, тем, кто разрушит царство божие и развеет нас во все стороны света, если только дать им власть. Пусть каждый из мормонов, мужчина или женщина, прикажут себе в сердце своем, что они будут покупать только у своих единоверных братьев, которые обратят на доброе дело их деньги и тем самым принесут им пользу». В марте 1866 года Ньютон Брассфилд, иноверец который прибыл в Солт-Лейк с намерением открыть свое дело, повстречал миссис Мэри-Эмму Хилл, одну из полигамных жен мормонского старейшины, уехавшего в Англию миссионером, и начал ухаживать за ней. Брассфилд считал Мэри Хилл юридически незамужней и сделал ей предложение, которое было принято. Мэри, желая вернуть себе некоторые домашние вещи, отправилась со своим новым мужем в свой прежний дом, но была остановлена у дверей полицией. Брассфилд выхватил револьвер и был арестован по обвинению в «нападении с целью убийства». Новая миссис Брассфилд обратилась в суд с требованием предоставления ей опеки над ее детьми от старейшины Хилла, но дело это было прекращено выстрелом в Брассфилда, когда он входил в гостиницу в сопровождении федерального судебного исполнителя. Мормоны, полагавшие, что миссис Хилл состоит в законном браке с мистером Хиллом, считали, что Брассфилд получил по заслугам. Немормопы, жившие в Юте, опасались, что это может послужить началом террора по отношению к инаковерующим вообще. Страна была возмущена убийством, люди отказывались верить в то, что это была просто личная месть со стороны кого-то из родственников оскорбленного старейшины Хилла. Федеральные добровольцы, стоявшие гарнизоном в лагере Дуглас и уже под готовленные к роспуску по домам, были задержаны приказом из Вашингтона до прихода им на смену частей регулярной армии. Генерал-майор Уильям Текумсе Шсрман направил Брайаму Янгу резкую телеграмму. В ней он напоминал Янгу об «опытных солдатах, которые только будут рады такой отличной возможпости отомстить за любые притеснения, допущенные по отношению к любому из наших граждан». Убийца Ньютона Брассфилда так и не был обнаружен. Через шесть месяцев второе убийство, на этот раз доктора Робиисона, хирурга гарнизопа, расположенного в лагере Дуглас, еще больше встревожило иноверческое население. Убийство было также связано с конфликтом с церковью и касалось мормонских земельных наделов. Слухи о том, что все общественные земли, находящиеся во владении Солт-Лейк-Сити, не принадлежат ему по закону, постоянно держали мормонов в состоянии тревоги. Они боялись, что земли эти будут отданы новым поселенцам. В Солт-Лейк уже успело понаехать такое множество юристов, которые отстаивали права новых поселенцев, что Брайам Янг писал своему сыну в Англию: «Армия не сумела действовать с достаточной силой, чтобы укротить нас, но теперь надеются, что это удастся сделать подлыми судебными процессами». Доктор Робинсон был женат на дочери одного из мормонских старейшин и занимал должность смотрителя вос- креспой иноверческой школы. Хотя его обвиняли в том, что он стоял во главе антимормонской клики, он пользовался хорошей репутацией. Робинсон предъявил претензии на земельный участок Уорм-Спрингс, площадью восемьсот акров, которым город пользовался в качестве общественного места для купания. Доктор построил на этом участке аллею для игры в бойлинг и навес, но город приказал его снести. Дело рассматривалось в судах Солт- Лейка. Оно было окончено так же внезапно, как и дело Брассфилда: однажды в полночь Робинсона вызвали из дома под предлогом оказания помощи кому-то из пациентов. Недалеко от дома на него набросилась толпа, в кото- рои был и полицейский офицер, ц забила его насмерть. Бывший губернатор Калифорнии Джон Уэллер, приглашенный инаковерующими Юты адвокатом, в речи в уголовном суде обвинил в преступлении должностных лиц церкви. Брайам Янг также осудил это преступление в пламенной проповеди в молитвенном доме, сравнив его по грубости и бессмысленности с побоищем на Маунтин-Ми- доуз. Бее население оказалось расколотым потоком взаимных подозрений и страха; было собрано 9000 долларов для награды за поимку семерых убийц. Однако никто не был арестован. В копце декабря 1866 года двадцать три ведущие не- мормопские фирмы Солт-Лейка решили, что с них достаточно и что на определенных условиях они готовы покинуть Сион. Их петиция была представлена лидерам мор- мопской церкви. В ней была предпринята честная попытка поставить все на свои места: «Джептльмены! Поскольку через посредство ваших епископов п миссионеров вы даете инструкции населению Юты не торговать и вообще не вести никаких дел с инаковерующими коммерсантами, тем самым побуждая и принуждая поселенцев покупать только у тех коммерсантов, которые принадлежат к вашей вере и обычаям… Считая, что вашим искренним желанием является, чтобы все, кто не разделяет вашей ве?ры и обычаев, покинули эту страну, нижеподписавшиеся инаковерующие коммерсанты Солт-Лейк-Сити почтительно желают представить вам следующие предложения…» В качестве условия «добровольного ухода с территории» инаковерующие коммерсанты просили, во-первых, чтобы церковь выкупила у них все долговые расписки солидных покупателей-мормонов; во-вторых, чтобы церковь приобрела у них за наличный расчет с двадцатипятипроцентной скидкой все товары, запасы, постройки, дома и возместила затраты на усовершенствование их.Брайам Япг мог получить по большинству счетов и покрыть расходы тех, кто собирался выехать. Но теперь он знал, что строительство трансконтинентальной железной дороги будет закончено в ближайшие годы и что это приведет к постоянному притоку людей с востока и с запада. Янг понимал, что он не может установить барьер для ииа- коверующих бизнесменов. Единственное, на что он мог надеяться, это направить мормонскую торговлю по мормонским каналам. Он также сознавал, что любая попытка изгнания инаковерующего делового населения с территории Соединенных Штатов могла бы привести к повой волне антимормонства. Брайам Янг ответил отказом: «Мы не станем брать на себя обязательства получать по вашим большим счетам, и мы пе будем покупать ваши товары, запасы и другие предметы, которые вы выражаете желание продать… Ваш отъезд из территории не является предметом наших устремлений; мы считаем, что вы вольны оставаться здесь или уезжать, если вам так хочется. Относиться враждебно к инаковерующим только потому, что они инаковерующие, или к евреям только потому, что они евреи, противоречит нашей религии… Мы ни в коей мере не против деловых отношений с теми, кто в своих делах действуют в соответствии с принципами права и ведут себя как хорошие законопослушные граждане». Инаковерующие остались. В 1867 году Брайам Янг распространил бойкот на некоторые другие фирмы, которые он теперь обвинил во враждебности к мормонству и в сотрудничестве с антимормонскими агитаторами. На конференции 1868 года в ответ на вопрос: «Как туго ты намерен натянуть поводья?» - Брайам Янг ответил: «Я хочу сказать моим братьям, моим друзьям и моим врагам, что мы намерены натянуть поводья настолько туго, что это не позволит мормопу торговать с чужими». Вскоре встал вопрос о создании цептральпого склада оптовой и розничной торговли в Солт-Лейке, который должен был бы принадлежать членам церкви и управляться ими. Была создана организация (Сионский кооперативный торговый институт - СКТИ), которая выбрала председателем Брайама Янга, избрала совет директоров и разработала свод положений, на основании которых она действовала. В задачи этой организации входило удовлетворение нужд мормонов; все прибыли от торговли должны были оставаться в руках мормонов. Акции СКТИ могли продаваться каждому, кто проявляет здоровые моральные устои и уплатил десятину в соответствии с правилами церкви мормонов. «Жители Юты, убежденные в нецелесообразности отдавать торговлю и коммерцию своей территории в руки ино верцев, решили па публичпых собраниях объединиться в систему кооперации для ведения своих дел… Директора будут выплачивать десятипу от общей прибыли до объявления дивидендов». Кооперированное предприятие началось не па пустом месте; директора купили семь уже существующих коммерческих предприятий, шесть из которых принадлежали мормонам, а одно - Никласу Рансхоффу, иноверцу еврейского вероисповедания, который долгое время считался другом Брайама Янга. СКТИ постепенно начала открывать свои отделения в других городах, обычно поглощая уже существующий бизнес. За пять лет те, кто вложил свои средства в акции СКТИ или же передал свое дело в общую собственность, получили прибыль в двести Процентов на свой первоначальный капитал. Теперь, когда церковь официально имела собственные склады, кампания по отвращению сынов церкви от торговых сделок с иноверцами пошла еще интенсивнее. На эту тему произносились проповеди па молитвенных собраниях Солт-Лейка и других районов. Иноверцы утверждали, что полиция, целиком состоящая из мормонов, запугивала тех члепов церкви, которые пе прочь были торговать с иноверцами. Результаты были самыми губительными для иноверческих торговцев. Их оборот теперь зачастую составлял лишь десятую часть прежнего. Только наиболее крупные магазины могли продолжать торговлю, более мелким приходилось либо перевозить свои товары в новые места, заселенные иноверцами, либо вообще покидать территорию. Не было мира в Сиоие. В 1869 году почти десятилетний период изоляции из- за Гражданской войны и трудных лет Реконструкции завершился. Конгресс обратил более пристальное внимапие на Юту, на полигамию и на некоторые другие аспекты, которые считались неприемлемыми для остальной части американского народа. В 1869 году билль Куллома был принят тремя четвертями голосов в копгрессе, а затем и в сенате. Его называли «первым эффективным законом, направленным против полигамии». ???? 385 Однако билль Куллома, вызвавший горячие дебаты по поводу мормонства в каждом городке Америки, был отвергнут умеренной прессой; поскольку он лишал мормонов права на суд присяжных и почти всех благ самоуправ- 25 Зак. N 1463 лепия. В результате никогда не было предпринято попыток применить этот билль на практике. И все же принятие его было провозвестником законодательства, которое будет вполне конституционным и на введение в жизнь которого у федерального правительства уйдет много лет. Билль Эдмундса в конце концов приведет к схватке между федеральным правительством и Ютой по вопросу о полигамии. Глава XIV Рождение страны - процесс трудный Колорадо заселялось с большим трудом. К осени 1863 года Денвер имел только треть того населения, которое жило в нем шесть лет назад, а оживленные в прошлом городки, такие, как Боулдер, Колорадо-Сити и Голден, бывшие воротами золотых россыпей, представляли теперь жалкое зрелище. Потребовалось всего три года для того, чтобы лежащее у поверхности, легкое для добычи золото иссякло в Колорадо точно так же, как это было в Калифорнии и Неваде. Шахтеры Колорадо были уверены, что более богатые руды еще предстоит разрабатывать, если, конечно, будет найдена соответствующая технология очистки. Тяжелые обогатительные машины, которые упряжки волов тащили через равнины, а затем - через высокие Скалистые горы, оказались теперь бессильными, и их пришлось бросить. Положение в Колорадо усложнялось и трудностями, вообще свойственными этому времени, - несколько тысяч молодых мужчин вернулись в свой дома, чтобы вступить в юнионистскую и конфедератскую армии. Общая численность населения упала до двадцати тысяч. Приток эмигрантов прекратился. Шахты приносили все меньше и меньше денег, более сотни камнедробилен сохраняли лишь минимальное число рабочих. Восточные кредиторы были недовольны; они вложили крупные суммы в расхвалеппые рудники Колорадо только ради того, чтобы их «падули» местные жулики, которые потом скрылись па юг вместе с деньгами. Прекратились все капиталовложения. Колорадо с самым чистым, свежим и опьяняющим воздухом на всем Дальнем Западе вдруг приобрело неприятный душок.
Процветало сельское хозяйство: в 1863 году было произведено на 3 500000 долларов продукции - лишь на 500000 долларов меньше, чем дала добыча драгоценных металлов. Уголь добывался в небольших количествах на берегах Клиар-Крик, а немного нефти возле Канон-Сити (ее использовали для освещения и смазки). Работали мелкие мукомольные и лесопильные предприятия, кирпичные заводы и камнетесные мастерские, пивоварни и гончарный завод в Голдене, соляные копи в Саут-Парк. Однако, если шахты иссякнут, если не будут найдены новые месторождения, что будет с населением, как территории стать штатом, и вообще - что будет со страной?… Пожар вспыхнул 19 апреля 1863 года примерно в три часа ночи. Как это уже бывало в Сан-Франциско и Вирджиния-Сити, которые через короткие интервалы выгорали дотла, здесь действовала комбинация избытка ветра и недостатка воды. Городской совет неоднократно принимал решения о выделении средств для создания пожарной команды, вооруженной крючьями, лестницами и ведрами, однако так ничего и не было сделапо. Чтобы предотвратить распространение огня, пришлось снести несколько мелких зданий. Но ветер перенес пламя и через эту брешь… Выгорел весь центр города. Новый удар обрушился на город весной следующего года. На этот раз вода была в избытке. Люди, которые построили склады, лавки и дома на берегах Черри-Крик, описывали его как «безобидный маленький ручей, зачастую почти невидный в широком песчаном русле, горячем и сухом». Обильные дожди в горах привели к медленному иодъему воды в Черри-Крик, однажды в полночь, когда большинство населения города спало мирным сном, безобидный ручей превратился в ревущий поток, который унес с собой здание городского совета вместе со всеми его бумагами, «Роки-Мауптин ньюс», чьи печатный станок и па- борные кассы оказались разбросанными па несколько миль вниз по течению, церковь Троицы и все дома, построенные по берегам ручья. Те дома, которые вода не унесла с собой, оказались сдвинутыми с фундаментов и перенесенными на другую сторону улицы. Восемь человек погибло. В Плюм- Крик утонуло две тысячи овец. Разрушения составили 25 000 долларов. ???? 25« И как будто мало было огня и воды, теперь началась еще и война. При помощи хитро составленных договоров
387
федеральное правительство, как только начался приступ золотой лихорадки и поток золотоискателей хлынул к пику Пайка, выселило иидейцев: высоких, подвижных арапахов, шайеннов, обязавшись выплачивать им за это по 30 000 долларов в год, сумму, которую иидейцы считали унизительно малой. Когда же началась Гражданская война, индейцы равнин решили, что их Великий Дух заставил белых сражаться друг с другом для того, чтобы вернуть индейцев на «землн их отцов и их бизонов» - в Колорадо. Равнинные индейцы под руководством вождя шайеннов Черного Котла и вождя арапахов Левая Рука начали с того, что, купив себе лошадей и огнестрельное оружие, стали нападать на почту. Когда эмиссар губернатора Иванса объяснил племенам, что правительство хочет, чтобы они поселились в резервации и?кили там подобно белым, вожди ответили: «Скажи губернатору, что мы еще не палп так низко!» Начало открытым боевым действиям было положено стычкой между Первым Колорадским кавалерийским полком и всадниками племени шайеннов, которая произошла после убийства и оскальпирования поселенца Хапгейта, его жены н двух детей на их ранчо в тридцати милях к югу от Денвера. Четыре изуродованных тела были привезены в Денвер и выставлены для публичного обозрения; город охватила паника. Женщин и детей разместили на втором этаже здания федерального монетного двора. По приказу губернатора все деловые помещения стали закрываться с наступлением темноты. В Денвер было свезено несколько пушек, которые оставались в Колорадо, все способные носить оружие мужчины занимались военным обучением прямо на улицах. Однако равнинные индейцы не собирались штурмовать город. Они совершали стремительные налеты на пассажирские и почтовые кареты, обозы с грузом, далекие ранчо, убивая жителей и угоняя скот, парализуя все коммуникации. Колорадо стали считать самым опасным для поселения местом во всех Соединенных Штатах. Эмигранты, у которых местом сбора были берега реки Миссури, отказывались двигаться в Колорадо сухопутным путем. Почту пришлось возить через Панаму и Калифорнию. Цены сразу же поднялись на головокружительную высоту, узкий круг предпринимателей воспользовался положением, для того чтобы полностью захватить в свои руки торговлю мукой и продовольственными продуктами. Стала ощущаться острая нехватка мяса, так как «дохлый скот, утыканный стрелами, валялся где угодно». Вашингтон предоставил губернатору Ивансу полномочия создать полк из призываемых на сто дней ополченцев. Губернатор издал прокламацию, «призывавшую граждан быть патриотами и убивать всех враждебных индейцев», одновременно все дружественные племена приглашались собраться у форта Лайон, где им были обещаны защита и продовольствие. Одпако вместо этого индейцы все лето продолжали свои рейды, вступая в стычки с колорадскими ополченцами и федеральными войсками. С пачалом суровой зимы арапахи и шайенны решили, чтд наступило время выкурить Трубку мира. Опи предло- ншли прекратить военные действия и обменяться пленными. Генерал армии США Кертис, возглавлявший канзасский департамент, не захотел мириться с индейцами, утверждая, что «лучше будет задать им трепку до того, как дать им хотя бы табака на закурку». К середине октября вождь арапахов Левая Рука привел своих людей к форту Лайон, возвратив часть захваченной летом добычи. Командир форта майор Скотт Энтони отнесся к арапахам дружелюбно, дал им провизию и отправил их вместе со скво и детьми па Сэнд-Крик, протекавший на границе их резервации. Здесь к ним присоединились шайенны под предводительством Черного Котла, также вместе со скво, детьми и запасом провизии на зиму, полученным в форте Лайон. Объединившись, племена построили деревню примерно на восемьсот жителей. Над жилищем вождя они подняли американский флаг, который должен был означать, что Трубка мира выкурена ими с удовлетворением. Сиуки, однако, к ним не присоединились. К концу ноября полковник Чивингтон, мужчина шестифутового роста, кузнец и проповедник в Канзасе во время Пограничной войны, без приказа из Вашингтона или форта Ливенуорт решил положить конец индейской проблеме. Полковник, а теперь федеральный офицер, командующий войсками в Колорадо, выступил из форта Бижу, расположенного в ста милях к юго-востоку от форта Лайон, во главе Третьего полка, состоявшего из набранных на сто дней ополченцев и усиленного Третьим Колорадским кавалерийским полком, двинулся к форту Лайон, взял там две пушки и пополнение в сто двадцать пять человек под ко- адандовапием майора Энтони, покрыл оставшиеся до Сэнд- Крик сорок миль, никому не сказав о своих намерениях. Он окружил индейскую деревню, отрезал их от лошадей и предпринял внезапный штурм, отдав при этом распоряжение пленных не брать. Сэнд-Крнк представлял собой естественную западню, и только немногие из индейцев смогли из нее вырваться. Левую Руку застрелили в тот момент, когда он шел к американским войскам с поднятыми вверх руками, что означало общепризнанный зпак мирных намерений. Пятьсот индейцев, их жепы и дети были убиты и оскальпированы. Варварство американских войск не уступало всем тем зверствам, в которых обычно обвиняли индейцев во время равнинных войн. Своими действиями «бесстрашный» полковник Чнвннг- тон объединил всех индейцев в Колорадо - не только равнинные племена сиуков, команчей, аначей, кайова, но и низкорослых, мощного телосложения горцев племени юта, которые традиционно ненавидели равнинных индейцев еще больше, чем вновь прибывших белых, и которые до этого подчинялись твердой руке своего великого вождя Оури, верного друга поселенцев, пользовавшегося среди пих большим уважением. Зима 1864/65 года стала для Колорадо непрерывным ужасом: индейцы разрушали все, что попадалось им под руку - телеграфные линии, ранчо, склады товаров. Они полностью уничтожили дилижансное сообщение между Джюлсбургом и Депвером, предали огню Джюлсбург, заставали врасплох и уничтожали солдат в изолированных фортах. Все дороги па Денвер были перерезаны. Город оказался осаждепным. Цены на муку поднялись до 50 долларов за баррель, газеты печатались на оберточной бумаге. Семьи, которые остались в горных районах, переносили невероятные страдания. Рождение страны - процесс трудный. И все нее, если страна ун?е родилась, разрушить ее еще труднее. После пожара, уничтожившего большую часть Денвера, нашлись деньги на строительство кирпичных и каменных зданий. После наводнения жители Денвера с новыми силами принялись восстанавливать город. Люди, потерявшие свои дома, имущество и бизнес, остались, чтобы еще больше укорениться в этих местах. Опи никогда ие прекращали поисков материнской рудной жилы, которая, по их убеждениям, скрывалась где-то в сердце Скалистых гор. Что касается золота и серебра, то история Колорадо напоминала истории Калифорнии и Невады, однако что касается его людей и их судеб, то она отличалась необычным своеобразием. Возьмем, например, золотоносное ущелье в Арканзас- Вэлли у верховий реки Арканзас, в том месте, где река образуется из слияния бурных потоков талой воды. К западу от него лежит хребет Сугаше с его двадцатью вздымающимися в небо вершинами, подставляющими свои белые голые плечи, покрытые вечными снегами, небу. Лежащие ниже гряды• холмов и долины были покрыты густыми девственными лесами из сосен и елей. Только малочисленные индейцы да, возможно, один или два белых охотника видели этот горпый рай, над которым возвышаются две высочайшие горные вершины Америки: Маунт- Элберт высотой 14431 фут и Маунт-Массив - 1404 фута. Дальше лежит Континентал-Дивайд. В эту горную твердыню забрел человек по имени Эйб Ли, о котором говорили, что он якобы родом из Вирджинии и связан родственными узами С Робертом Ли. Ли прибыл в Калифорнию в 1849 году и провел здесь десять лет, зарабатывая себе старательством на бобы. Он стоял во главе одной из двух групп, открывших весьма перспективное ущелье в верховьях реки Арканзас. Ли начал промывку в южной оконечности ущелья. «Что у тебя здесь, Эйб?» - спросил один из его товарищей. «Весь штат Калифорнии лежит здесь, на этом чертовом тазике, вот что у меня!» -выкрикнул в ответ Ли. Он уселся на берегу, потянул добрый глоток виски из бутылки, посмотрел на тазик с золотым песком у себя на. коленях, а затем захватил горсть грязи и золотого песка и подбросил вверх, свершив тем самым золотое крещение себя и окружающей земли, назвав ее Калифорнийским ущельем. Он намыл мешочек золота, проиграл его игрокам в Денвере и быстро исчез. Или возьмем для примера Дэниэла Паунда, представителя племени бродяг-охотников. Он постоянно делал вид что ищет золото, но на самом деле не стремился найти его. Паунд путешествовал с киркой, ружьем, лопатой и свернутым одеялом, стреляя дичь, которую жарил на костре. В Саут-Парк он построил маленький шлюз для промывки земли. Один из золотоискателей, проходя мимо, поглядел в его таз и воскликнул: «Так у тебя же здесь золото!» «Вот именно, черт бы его побрал», - ответил Паунд, после чего сразу же собрал свое имущество и ушел дальше в горы. Или познакомьтесь с Джо Хеггинботемом, бродячим золотоискателем, который мыл золото и в Калифорнийском ущелье, и рядом с Дэниэлом Паундом в Саут-Парк. Однажды он расположился на ночлег, укрывшись от ветра за огромным камнем; утром он начал промывку на месте своего ночлега. Всю ночь он проспал на золоте; золото было и в ручье, и во всей этой маленькой долине. Джо напился, рассказал о своем открытии первому же из встречных старателей. Место это получило название Джо Бизонья Шкура, потому что Джо Хеггинботем никогда не носил ничего, кроме одежды из бизоньих шкур; это название было единственной наградой Хеггинботему за его открытие, потому что он, подобно Эйбу и Дэниэлу Паупду, исчез из виду. Или возьмем трех неутомимых старателей: Дэйва Фул- тона, Джона Томпсона и Джо Уотсона. Фултона привела в Колорадо золотая лихорадка, последовавшая после открытия золота у пика Пайка, ради чего он покинул и семью и ферму в штате Огайо. Он намеревался вернуться домой через несколько месяцев, привезя с собой достаточно золота, чтобы построить красивый дом и купить карету с хорошо подобранной упряжкой лошадей, на которой он собирался по воскресеньям возить в церковь жену и дегей. Он пробыл в золотоносных районах десять лет, намывая золота лишь на смену одежды и питание. В отличие от старателей, которые с выпадением снегов возвращались в Денвер, Фултон запирался в хижине с запасом продовольствия и все зимы проводил за чтением Томаса Пейна. Джон Томпсон, высокий сухощавый мужчина с длинными бакенбардами, пришел в Калифорнию вместе с Эй- бом Ли неизвестно откуда. Он жил один и настолько часто перестраивал свой дом, что люди считали, что дом более походит на форт. Он никогда не находил золота. Люди уверяли, что так было потому, что он привез с собой волынку и поискам золота предпочитал мелодии «Чертова мечта» и «Белая кокарда». Джо Уотсоы был настолько хорошо образован, что все считали его выпускником университета и школьным учителем. Он проводил годы в поисках золота в Скалистых горах… Он его так и не нашел. Остался открытым вопрос, а не боялся ли он того, что может с ним сделать золото. Возьмем Тетушку Клару Браун, рожденную в рабстве в штате Вирджиния в 1800 году. Вся ее многочисленная семья была распродана порозпь. Получив в 1859 году свободу, она отправилась в Сентрал-Сити и осповала там прачечную, к 1866 году успела накопить 10000 долларов и вернулась на Юг для розысков своих трех дочерей и тридцати одного родственника, которых она привезла с собой потом в Колорадо. «После того как она раздала все имущество па благотворительные цели, последние годы ею были проведены под опекой Пионерского общества, членом которого она состояла». Или вспомним Джорджа Пульмана, который быстро заработал 150000, не добывая золото, а отдавая деньги в рост под двадцать процентов в месяц. Колорадо считало, что идея пульмановского вагопа родилась благодаря его ночевкам в ранний период деятельности в хижинах шахтеров, где большинство их спали па построенных вдоль стен парах. Но еще лучше вспомнить Аугусту Тейбор, уравновешенную жену бывшегокаменотеса с громким именем Горэйс Аустип Уорпер Тейбор, ГАУ, как называли Тейбо- ра по первым буквам трех его имен. Он был приведен в дом Аугусты ее отцом, потому что тому нужен был каменотес. Аугуста попыталась вылечить Тейбора от привычки к бродяжничеству и пьянству и вышла за него замуж. Тейбор привез ее в Канзас в апреле 1856 года, где они оказались владельцами стошестидесятиакрового надела земли в Нанхеттене в момент выступления сторонника свободных штатов Джона Брауна против рабства. При первой же вести о золоте в Колорадо Тейбор бросил свою ферму и взялся за работу каменотеса, чтобы заработать денег, а потом перевез жену и малолетнего сына в Денвер. Будучи одной из первых приехавших сюда семей в июне 1859 года, они были приняты в дом совер-. шенно постороннего человека при условии, что Аугуста будет готовить для него еду. Неунывающий ГАУ Тейбор готовился к штурму гор и развлекал свою жену сказками о сокровищах, которые намеревался найти, о городе, кото- рык on намеревался основать, о сказочных золотых украшениях, которыми он ее увешает. Аугуста занималась обслуживанием постояльцев первой из целой серии ее гостиниц и венцом своих желаний считала насос для воды, установленный у двери хижины, чтобы не таскать воду из ручья. «О Горэйс, богатство сделает нас несчастными, - говорила она. - Вот это обручальное кольцо представляет собой все золото, которое я хотела бы иметь в руках. Кольца будут мешать моей игле, а ожерелья на шее заставят других женщин завидовать мне и лишат меня друзей». Получилось еще хуже: они стоили Аугусте ее мужа, которого отняла у нее прекрасная Бэби Доу. (Эта любовная история стала самой романтической в Колорадо. «Аугуста - почти единственная среди своих современников - смотрела на антилопу, бизона и диких индеек как на нечто большее, чем мясо для котла. Никто в более поздние годы не мог припомнить еще кого-нибудь, кто, подобно ей, собирал бы цветы ранним весенним утром под ярким желтым солнцем. И никогда она не смотрела на горы как на груды злорадно набросанных богами камней с единственной целью скрыть от людей золото и серебро». Тейбор - первый старатель, который решился привезти свою семью на золотые россыпи Скалистых гор, усадив свою жену и сына Макси в запряженный волами фургон. Они не спеша добрались до Голдена и расположились лагерем на Клиар-Крик у подножия гор. Оттуда Тейбор отправился на поиски золота, оставив Аугусту одну с ребенком в таком месте, где на целые мили вокруг не было ни единой живой души. Когда наступала ночь, она камнями «укрепляла внизу палаточный полог и спала.вместе с сыном на досках от упаковочных ящиков». К сентябрю они уже были у Айдахо-Спрингс, возле разработок Грегори, но, напуганные рассказами о снежных лавинах, вернулись в Денвер. На следующую весну воловья упряжка Тейбора привезла семью к Калифорнийскому ущелью, которое теперь стало называться Оро-Сити. Сюда даже индейцы не решались привозить своих скво. Старатели были настолько обрадованы прибытием Аугусты, что выстроили для нее бревенчатый дом, избрали ее лагерным поваром, медицинской сестрой, хирургом и сделали ее блузку сейфом для хранения главных ценностей города. Тейбор открыл лавку и стал почтмейстером. Он полпостыо возложил па Аугусту все связанные с этими постами обязанности, а сам отправился искать золото. Дела у него шли довольно хорошо, и он намыл золота на 15 ООО долларов, однако, когда прошел слух о месторождении Джо Бизонья Шкура, Аугуста и Макси снова оказались на влекомом волами фургоне. Тейбор и его друзья-старатели отправлялись вперед с кирками и лопатами расширять дорогу, чтобы но ней могла проехать телега. На спусках к задней оси фургона привязывали толстое бревно, которое служило тормозом. Семь лет прожила семья Тейбор в маленькой деревеньке Джо Бизонья Шкура, где Аугуста держала лавку и ведала почтовой конторой, в то время как Тейбор возглавлял местных политиков и предавался мечтам об огромном богатстве. Зимы, отрезавшие их от остального мира непроходимыми снегами, они коротали в «разговорах о руднике Теплая Печка, где чистое золото добывалось тоннами и обращалось в слитки воображением рассказчика». Безделье давало почти чисто мужскому населению возможность планировать программу летних пикников, где можно подурачиться вволю, где гостям подавались бы аппетитно выглядевшие пирожки с начинкой из речного песочка. Однажды человек по имени Уильям Ван-Бруклин пришел в служившую лавкой хижину в отсутствие Тейбора и предложил Аугусте перевести на нее свою заявку в обмеи на пищу и кров, пока он не отправится через горы со своими двумя мулами. Аугуста отказала ему; Ван-Бруклин продал свою заявку за сто долларов, а два старателя за одно лето намыли на ней па 80 000 долларов золота. Тейбор решил, что теперь он не упустит ни одного человека, если у того есть заявка. Это решение припесло ГАУ Тейбору 20 ООО 000 долларов: однажды два немецких сапожника, имевшие заявку, но оказавшиеся без пшци, пришли с шапкой в руках к Тейборам и предложили им треть своей заявки за кормежку. Тейбор не отказал им и получил взамен греть собственности на серебряный рудник «Лнтл-Питсбург» в Лндвнл- ле - самый богатый из всех, которые знал мир. В 1805 году закончилась Гражданская война. Федеральное правительство провело расследование обстоятельств побоища у Сэнд-Крик и пришло к выводу, что там произошло чудовищное преступление. Полковник Чнвинг- тон был признан полностью ответственным за нападение, что положило КОнец его военной карьере. Губернатор выплатил индейцам 40 000 долларов в возмещение убытков, предоставил им новую резервацию и гарантировал годовой доход в 40 долларов на человека на сорок лет. Далеко не успокоенные, племена взяли компенсацию, запасы провизии и отправились с земель своих предков в новую резервацию, па Индейской территории. Как только был положен конец ипдейской угрозе, а солдаты армий Севера и Юга распущены по домам, эмигранты потянулись к западной границе. Восточный капитал, колоссально разросшийся на военных доходах, финансировал глубокие разработки в старых рудниках Колорадо, а также новую технологию, которая позволяла рентабельно перерабатывать тугоплавкую колорадскую руду. Джеймс И. Лайон построил завод в Блэк-Хоук; гигантскую камнедробильню сконструировали и изготовили в Гринел- ле, штат Айова, а потом перевезли воловьими упряжками и собрали в Уорде для «Минот майнинг компапи». Колорадо охватил приступ деловой активности. Сто двадцать пять миллионов ¦фунтов грузов пересекло равпи- ны, семь тысяч человек и семь тысяч фургонов занимались перевозкой всего необходимого для жизни с берегов Миссури. И не только необходимого: обоз из восьмидесяти фургонов перевез тысячу шестьсот бочонков спиртного и две тысячи семьсот ящиков шампанского! Теперь жены пионеров получили возможность покупать наряды, французские шляпки и новые духи, носящие весьма странпое название - «Бальзам тысячи штыков». Был прорыт ирригационный канал, и Денвер впервые получил достаточно воды для деревьев, кустов, цветов, газонов, столь необходимых городу, если судить по сообщению доктора Арнольда Стедмана о том, что предстало его глазам, когда, приехав с востока, он вышел из кареты: «Неуклюжие дома, неровные улицы, покрытые пылью, которая чуть не удушила пассажиров… дома сколочены грубо, без признаков хоть малейшего вкуса, и дворы без травинки, без деревца». Совершенно неожиданно в Колорадо стал развиваться новый вид индустрии - первым на Дальнем Западе он стал туристским раем; многим из тех, кто вернулся в свои родные места, чтобы записаться в армию и принять участие в войне, запомнились великолепные, покрытые снежными шапками горы, роскошные зеленые долины. Теперь оси возвращались сюда, чтобы поселиться навсегда. Те, кому требовалась поправка здоровья, прибывали сюда в расчете па чудесное исцелепие и ради чистого, бодрого, напоенного запахом сосен горпого воздуха. Колорадо предпринимало героические усилия, чтобы перейти па самообеспечение. К концу 1866 года уже было распахано сто тысяч акров земли. «Роки-Маунтин ньюс» торжествующе объявила: «У нас репа величиной с тыкву, а свекла превосходит все, что можно себе вообразить». Джекоб Доннинг, которому принадлежало ранчо Грин- Маунтин возле Голдена, вызвал насмешки своих соседей, когда привез семена люцерны из Калифорнии. Он засеял ими четыреста акров, и богатая земля принесла обильнейший урожай. В 1864 году конгрессом был принят акт, регламентирующий образование новых штатов, в соответствии с которым Колорадо мог получить право штата. Был принят также горнорудный, или патентный, закон. Он впервые устанавливал юридический статус для тех, кто занимался разработкой рудников, утверждал местные шахтерские кодексы, которые были приняты и проводились в жизнь самочинно со времени стихийного собрания в Грегори-Галч в 1859 году, подтверждал права на владения фермами и ранчо тех семей, которые занимались до этого обработкой земли только на основании поселенческих прав, и объявлял все остальное Колорадо общественной собственностью. Однако для того, чтобы превратить Колорадо в район, ведущий крупномасштабные горные разработки, потребовались усилия бывшего профессора химии в Браунском университете в Провиденсе, Род-Айленд. Натаниэл Хилл был опытным исследователем: когда в 1864 году работы на рудниках остановились и камнедробилки почти затихли, он побывал в Колорадо, чтобы попытаться с помощью науки решить задачу извлечения миллионов долларов, таящихся в серебряной и золотой руде Колорадо.Решение вопроса он вначале искал в книгах и лабораториях США, а затем отправился в Европу для изучения последних достижений химии и способов обработки тугоплавких руд. Поиски решения проблемы отняли у него три года. Возвратившись из Европы, он организовал «Бостон энд Колорадо компани»; акционеры выделили ему 275 ООО долларов для постройки экспериментальной фабрики в Блэк-Хоук подло Сентрал-Сити, где подобную же попытку год назад предпринял Джеймс Лайон, но потерпел неудачу. Новое предприятие блестяще преуспело там, где сотни смелых, но недостаточно сведущих людей предпринимали попытки в течение пяти прошедших лет. По методу Хилла руду сначала дробили, затем прокаливали, а потом спекали в специальной печи. Из десяти тонн руды получали примерно тонну концентрата. Затраты были очень велики, поскольку единственным топливом служили заготовляемые вручную дрова, однако прибыль ?была еще выше, среднее содержание серебра в руде составляло 118 долларов на тонну. Джордж Уиллисон в книге «Здесь они роют золото» писал: «Благодаря новому методу Хилла наступил период ренессанса, который оживил пришедшие в упадок городки графства Джилпин. Вновь были открыты шахтные колодцы, и снова залязгали камнедробильни». Как это было и с системой крепления Дидесхаймера в Комстоке, процесс был повторен на дюжинах новых камнедробилен по всему Колорадо, и вскоре несколько миллионов свежедобытого золота было влито в систему кровообращения района. В итоге Натаниэл Хилл сколотил огромное состояние и закончил свои дни сенатором Соединенных Штатов - верх мечтаний и спокойная гавань для всех королей золотого дна. В стране появился свой первый профессиональный художник - Горный Чарли - Чарлз Стоуби. Была основана негритянская баптистская церковь Сина. Возможно, это объясняется поразительной близостью к небу в повседневной жизни, однако Колорадо наряду с Ютой становится наиболее религиозной из всех западных областей, построив более пятидесяти церквей. Дни, когда пасторы работали в лавке по будничным дням недели, отошли в прошлое. Пожарная команда территории получила каски, красные рубахи и черные брюки, что придало особую яркость парадам в Денвере. Население возросло до двадцати восьми тысяч; правительству пришлось построить в городе первую тюрьму. Однако не все. получалось гладко. Саранча, как это было и в Юте, сожрала урожай. Колорадо было очень трудно сформировать собственное правительство. Хотя жители и проголосовали в 1865 году за предоставление Колорадо прав штата, президент Эндрью Джонсон наложил вето на это решение на том основании, что территория не соблюдала юридических формальностей, предусмотренных Актом о присоединении. Он отстранил от должности губернатора Иванса и территориальных судей, прислав им на смену целую свору политических аваптюристов, самых худших из всех, когда-либо досаждавших Югу. Несколько федеральных чиновников были пойманы с поличным при попытках «выдоить» правительственную кассу. В 1867 году конгресс снова принял акт, предоставляющий Колорадо права штата, но Джонсон вновь наложил вето, мотивируя па этот раз тем, что Колорадо пе имеет достаточной численности населения. Конгресс снова предпринял попытку преодолеть вето, но без успеха. Следующая попытка была предпринята в 1868 году, однако набрать нужного количества голосов пе удалось. Конгресс расстался со своей идеей на несколько лет, тогда как ко- лорадцы, яростные сторонники независимости и свободы, привычные к земельным просторам, вынуждены были жить без прав на самоуправление. Обо всем, что делалось за пределами Колорадо, они говорили: «Это в Штатах». Отсутствие самоуправления привело к тому, что не были построены школы; образование второй ступени обеспечивалось различными религиозными сектами. Однако театр был, он держался поближе к золоту. В Сан-Франциско, Сакраменто и Вирджиния-Сити уже давно наслаждались игрой отличных театральных трупп. Теперь же в Денверском и Народном театрах, в Национальном театре Септрал-Сити колорадцы могли смотреть фарс «Джефф Дэвис на последнем пути», популярную пьесу «Люди с увольнительными», а также «Отелло». Колорадо внес и собственный вклад в развлечения, которые процветали в салунах с азартными играми. Наряду с длинными стоиками красного дерева, картинами, писанными маслом, и бархатными портьерами в залах появилась и сцепа, на которой за вечер исполпялось до двадцати номеров; певцы, тапцоры и хоры хорошеньких девушек смешивались с мужской аудиторией, что весьма способствовало торговле пивом но доллару за бутылку и шампанским по пять долларов. Наверху, над варьете, отгороженные тяжелыми портьерами и коврами, располагались богато меблированные комнаты для игры в рулетку и в карты. Любой городишко в Колорадо, не имея собственной газеты, чувствовал себя неполпоцеипым. Это приводило иногда к забавным историям. Так, когда мистер Скауте!!, пользовавшийся старым мормонским печатным станком для публикации «Бюллетнн» в Вальмоте, приехал с визитом в соседний Боулдер, жители города напоили его, а затем отрядили в Бальмонт фургон с упряжкой, погрузили на него печатный стапок и две кассы шрифтов и привезли в Боулдер. Когда издатель проснулся и обнаружил, что его станок уже установлен в Боулдере, он правильно понял намек и стал издателем «Боулдер-Вэллн ныос». К сентябрю 18С7 года Колорадо уже мог похвастать «пятыо ежедневными газетами, восемью еженедельниками и двумя ежемесячными журналами». «Роки-Маунтнн ныос» утверждала: «Мы считаем, что Колорадо содержит больше газет и поддерживает их лучше, чем любой другой западный штат или территория того же размера,. Это, несомненно, следует отнести к большей образованности и предприимчивости нашего населения». Колорадо с нетерпепием дожидался трансконтинентальной железной дороги, которая должна была пройти через Денвер - наиболее крупный город между Омахой и Солт- Лейком. Ежедневные поезда ускорили бы приток иммигрантов, туристов и лиц, приезжающих сюда для лечения. Однако инженеры «Юнион пасифик» не смогли найти удобный перевал в Колорадо, как это пе удалось и Джону Фремоиту. Проект прокладки линии через Колорадо пришлось отменить. Скалистые горы, величественные и царственные, поднявшиеся в Колорадо своими вершинами до 14 ООО футов, оказались пока неприступными. Многие из денверцев, убежденные, что их городу предстоит превратиться в город-призрак, распродали свое имущество и перебрались в Шайенн, который, по их мнению, должен был стать столицей Скалистых гор. Хейфен в ^Истории Колорадо» отмечает: «Когда стало известно, что железная дорога пройдет стороной, это чуть было не стало последней соломинкой, положенной на епппу пионеров. Эти годы были, по-видимому, самыми мрачными м истории Колорадо». Даже сохранившие лояльность к своему городу денвер- цы знали, что пессимисты были правы: остаться без трансконтинентальной железной дороги означало сидеть на большой высоте на сохнущей лозе. II все же потребовался целый год, чтобы денперцы поняли, что если горы пе дают возможности железному Магомету прийти к ним, то они должны сами проложить дорогу к Магомету.
13 ноябре 1867 года, после сформирования Палаты коммерции и торговли, было проведено собрание в Денверском театре. На сцену поднялся Джордж Фрэнсис Трейп, представитель железной дороги «Чикаго энд Норт- вестерн», который произнес пламенную речь о том, что Колорадо необходимо собственными силами построить отрезок пути длиной сто семь миль к Шайенну и присоединиться к «Юнион пасифик». Был сформулирован весьма действенный лозунг: «Плати пли погибай!» Кампания иод этим лозунгом началась па следующее утро. В ходе ее от продажи акций было получено 200 ООО долларов. Настолько сильным было убеждение ден- верцев в необходимости постройки нселезной дороги, что те, у кого не было денег, брали па себя обязательство заготовить определенное количество железнодорожных шпал или отработать определенный срок на строительстве железнодорожной насыпи. Была создана также «Денвер пасифик энд телеграф компанн», а на январь 1868 года назначено собрание, на котором избиратели из графств Денвер и Арапахо должны были утвердить предоставление полумиллионного займа на строительство железной дороги. За три дня до рождества 1869 года Колорадо снова превратилось в золотое дно благодаря открытию серебряных месторождений Карибу - первое подобное открытие за пять истекших лет. С открытием залежей Карибу в Колорадо начался тридцатилетний период интенсивной добычи серебра. В Лидвилле, Теллурайде и Аспене было добыто серебра на 140000 000 долларов, что и привело к появлению па сцене Колорадо таких действующих лиц и таких событий, каких до этого не знал Дальний Запад. Железная дорога Колорадо всего лишь с полугодовым опозданием присоединилась к трансконтинентальной линии. В конце июня 1870 года первый поезд с пассажирами и грузами пришел из Шайенна в Денвер. Без помощи миллионных займов конгресса «Денвер пасифик» проложила собственную железнодорожную ветку к главной транспортной линии через Американский континент и связала Колорадо с тремя областями-сестрами. ???? 401 Эра крытых фургонов, воловьих упряжек и пересекающих континент почтовых дилижансов для Дальнего Запада окончилась навсегда. 26 Зак. М Н63
Глава XV
Шпала из полированного лавра и костыль из литого золота На высоте семи тысяч футов в белом аду Сьерра-Невады Чарли Крокер встретился с теми же снегами и метелями, с которыми встречались партии Фремонта и Дон- нера. Была очень суровая зима 1866 года. Земля замерзла. Пятнадцать футов снега и льда покрывали строящееся полотно. Из девяти тысяч человек, занятых на строительстве железной дороги, половипе приходилось постоянно очищать полотно от снежных заносов. Бригады китайцев, работавших на стене обрыва, слышали зачастую оглушительный грохот, предвестник неожиданных лавин, которые обрушивались на них и сметали на дно ущелья. Тела их находили только с наступлением весенних оттепелей. Для строительства двадцати четырех миль дороги от Сиско до озера Доннера все материалы и продовольствие приходилось везти на санях, запряженных волами, до высшей точки хребта. Для спуска вниз все приходилось перегружать на каталки, скользящие по грязи или по подложенным бревнам. Замерзающих китайцев, которых не сломили предыдущие трудности, пришлось отправить в Сакраменто. Невозможно было содержать расчищенной дорогу между железнодорожной липией и лагерем рабочих; для связи были прорыты туннели под сорокафутовыми сугробами. Целыми месяцами три тысячи оставшихся па своих местах рабочих жили в этих норах. Инженер Монтэпо с рабочей командой отправился вперед на запря- жеппых волами санях для расчистки линии в каньоне реки Траки Все работы в горах были остановлены. Крокер был побежден снегами, но только временно. С наступлением весны он снова доставил шесть тысяч китайцев, чтобы расчистить лед, плотным слоем покрывавший железнодорожную насыпь. Они продолжали трудиться, довольствуясь диетой из сушеных трепангов, сладких рисовых галет, сушеных ростков бамбука и морской травы. По праздникам к этому меню добавлялось немного свинины. Они находились на расстоянии тысяч миль от зеленых полей своей родины, не видя ни одной китайской женщины, по не жаловались. Никаких воспоминаний, журнальных статей или просто заметок пи на английском, ни па китайском языке не было написано о том, что думали и чувствовали китайцы на чужой земле, в окружении людей, говорящих па чужом языке, в ходе совершенно чуждой им работы по покорению гор. К этому времени Чарлз Крокер возглавлял самый крупный рабочий коллектив, который только видел Американский континент; от гудка до гудка только китайцев под его началом работало пятнадцать тысяч. Бессонными ночами он лежал в своем вагоне и Думал о методах ускорения работ. Крокер жил в строительном лагере, ел, спал и пил пе лучше, чем его рабочие, которые знали, что никто ие работает упорнее, чем босс. Подобно Брайаму Янгу, он поддерживал строгую военную дисциплину и перебрасывал свои рабочие бригады, словно армейские соединения. «Я обычно носился взад и вперед по дороге, как взбесившийся бык, останавливаясь всюду, где что-нибудь не ладилось, и вел себя как Олд Пик с парнями, которые увиливали от работы». Его ближайший помощник Джеймс Строубридж, который прибыл в Сан-Франциско в июле 18-19 года и потерпел неудачу, будучи старателем, погонщиком н управляющим отелем, работал надсмотрщиком на шахте, когда Крокер встретил его. Стро, как его часто называли рабочие, был очень похож на Крокера: инициативный, не боящийся ответственности, он всегда проявлял готовность двигаться вперед, пе считаясь с обстоятельствами. Подобно Крокеру, это был «суровый надсмотрщик, беспощадно обращавшийся с рабочими, особенно с китайцами; напористый, невежественный, с грубым характером и едким языком». У них не было затруднений с рабочими, которых вдохновляло сознание того, что их труд направлен на осуществление крупнейшего в мире проекта. Крокер получил за свои труды миллионы, рабочие и механики - от 1,75 до 5,00 долларов в день и питание. Но не хлебом единым жив человек. ???? 403 Строительство железной дороги пользовалось огромной популярностью, воспламеняя умы жителей Дальнего Запада дерзостью проекта и огромными перспективами. Только после завершения ее Дальнему Западу ценой собственной крови предстояло убедиться, что дорога эта не освободила, а закрепостила его. Рабочие медленно продвигались вперед, затрачивая много времени на строительство26• эстакад через расселины и ручьи. Во время весенних разливов 1867 и 1868 годов грунт таял под рельсами, как сахар в воде, и всю работу пришлось переделывать заново. И все же историк Хиттель отмечает: «Здесь не встречалось трудностей, за исключением совершенно очевидных, о которых говорил еще Теодор Джюда в своем первоначальном проекте». Маршрут, выбранный Теодором Джюдой, фактически почти полностью совпадает с современным маршрутом Южной Тихоокеанской железной дороги и до сих пор считается наилучшим из всех возможных проходов через горы. Вторая зима, зима 1868 года, на хребтах Сьерра-Невады была столь же сурова, как и предыдущая. Любимчиков Крокера снова пришлось увозить в город, чтобы уберечь от замерзания. Но на этот раз Крокера, Монтэгю и Строу- бриджа остановить не удалось. Лесопилки поставили шестьдесят пять миллионов погонных футов строительного леса. Двести квалифицированных плотников руководили работой двух с половиной тысяч рабочих. На голых гранитных обрывах над озером Доннера они построили добротные, плотно прилегающие к стенам обрыва защитные сооружения, которыми были покрыты тридцать семь из сорока миль тяжелого горного участка. Эти навесы удерживали зимние снега и позволяли строителям укладывать рельсы, а позже - несмотря на самые страшные метели - обеспечивали движение поездов. Работу под навесами рабочие называли «прокладкой железнодорожного полотна в сарае». Даже в наши дни эти навесы представляют собой фантастическое зрелище. Использование навесов на строительстве железной дороги - вершина достижений Крокера. Это позволило ему в июне 1868 года соединить свои рельсы с невадской линией, лежащей на восточном склоне гор. Строительство калифорнийской части Центральной Тихоокеанской обошлось в 23 000 000 долларов. Строубридж считал, что семьдесят процентов этой суммы могло бы быть сэкономлено, если бы не такая отчаянная спешка ради стремления любой ценой добраться до пустынных равнин Невады и Юты. Теперь Крокер обратился с призывом о помощи к своим партиерам - Хантингтону в Нью-Йорке и Стэнфорду п Хопкинсу в Сан-Франциско: «Дайте мне нужные материалы и я смогу сдавать в день по миле полностью готовой й°^Хантингтон, Хопкинс и Стэнфорд делали все, что было в их силах, для Крокера (однажды на пути к нему одновременно находилось тридцать девять судов с материала- ми) - ведь каждая построенная миля приносила прибыль, вдвое превышавшую затраты на строительство. Временную конечную станцию железной дороги предполагалось построить в Неваде. Великолепным примером города, рожденного железной дорогой, является Рено. Сотни людей приехали за ночь до того, как земельные наделы начали поступать.в продажу; они спали на голой земле в зарослях шалфея, чтобы не опоздать к открытию аукциона. С вечера Рено представлял собой множество воткнутых в песок колышков, а на следующий день - это уже был город с двумя сотнями проданных земельных участков, первый из которых был куплен за 600 долларов. Деловой квартал, салуны, жилые дома росли как на дрожжах. Вот портрет города через три месяца, в августе 1868 года: «Люди плывут потоком в Рено. Здесь никто не знает отдыха; скво из племени пайютов со своими юными отпрысками, аккуратно упакованными в небольшие свертки на их широких спинах, а также игроки и преступные элементы чаще всего встречаются в уличной сумятице. Держатели таверн работают непрерывно и не дают отдыха другим, однако Рено не огорчается. Целыми днями визжат пилы и стучат молотки, а по ночам слышатся звуки волынок и звон бокалов». Передовые группы строителей работали уже далеко в пустыне, прокладывая немыслимый извилистый путь, избегая участков, которые требовали каких-либо работ, помимо простой укладки рельсов. Если раньше строительные комапды страдали от холода, то теперь они изнемогали под палящими лучами солнца - жара доходила до 45 градусов. Воду приходилось доставлять за сорок миль; по ночам в вагончиках, служащих им домами, люди задыхались от духоты. Однако Крокер выполнил свое обещание и к концу 1868 года проложил триста шестьдесят две мили железнодорожных рельсов. Заработная плата китайцев в пустынях Невады и Юты была повышена с 26 до 35 долларов в месяц; они американизировались, стали носить хлопчатобумажные брюки и рубашки синего цвета. Но в раскаленном аду пустыни их по-прежнему выручали иривычпые шляпы китайских кули. Они ни разу не дрогнули, впрочем… за исключением одно- го-единственного случая, когда какой-то шутник распространил слух, что в глубине невадской пустыни живут гигантские змеи, целиком заглатывающие китайцев. После этого тысячи их потекли через пустыню на запад, пытаясь добраться до Сан-Франциско. Как Центральная, так и «Юпион паснфнк» пытались заполучить в свои руки монополию па обеспечение транспортом мормонов - сферу настолько доходную, что Лплэнд Стэнфорд провел большую часть зимы в Солт-Леьке, обхаживая Брайама Янга. В результате он подписал выгодные контракты по использованию мормонов на строительстве. Трансконтинентальная железная дорога, которая надвигалась на Юту все шестидесятые годы, представляла огромный интерес для Брайама Янга и мормонов. Апти- мормонские же силы были уверепы, что железная дорога положит конец мормонству. Несколько сот ипаковерующих в Юте даже наметили кандидата, который должен был выступить па выборах против представителя мормопов; и хотя ннаковерующие выступали неудачно, набрав всего сто пять голосов, они пытались организовать оппозиционную партию. Приток новых иноверцев по железной дорого должен был усилить их. Хотя Брайам Янг и сказал: «Я не много дал бы за религию, которая пе справится с приходом и«елезной дороги», он тем не менее понимал, что, как только рельсы состыкуются в Юте, иноверцы хлынут сюда непрерывным потоком. А каждый раз, когда мормонам и иноверцам случалось жить рядом, между ними возникали столкновения. Сокровеннейшая мечта Янга - добиться для Юты статуса штата до завершения строительства железной дороги. Но ему не удалось осуществить свою мечту. Янг подписал контракты с обеими компаниями на использование имеющейся у него рабочей силы. Зарплата мормонам выплачивалась акциями компаний, что было перспективным капиталовложением.
В начале 1869 года Центральная Тихоокеанская и «Юнион паснфик» должны были наконец встретиться. Пока конгресс, доведенный почти до полного безумия лоббистами - Коллисом Хантингтоном от Центральной Тихоокеанской и генералом Доджем от «Юнион наси- фнк», - занимался дебатами, где именно должна состояться официальная состыковка рельсов, ирландцы «Юнион пасифик» и китайцы Центральной Тихоокеанской прокладывали рельсы параллельно друг другу, но в противоположных направлениях. Китайцы и ирландцы свысока поглядывали друг на друга, критически оценивали таланты противников и допускали по отношению к ним «милые» шуточки: любимчики Чарли Крокера обычно скатывали на ирландцев огромные камни, ирландцы же «закладывали заряды значительно правее своего полотна, а потом тысячи землекопов с невинным видом наблюдали за тем, как земля раскалывалась, а китайцы, скреперы, лошади, катки и кирки взлетали вверх». Город Промонтори, выбранный местом соединения линий, состоял из пяти салунов, наспех возведенных для того, чтобы разместить всех прибывших, которые собрались здесь 10 мая 1869 года, чтобы отпраздновать завершение строительства. Лил проливной дождь, и единственная улочка города превратилась в поток грязи. В одиннадцать часов утра поезд Центральной Тихоокеанской прибыл с побережья Тихого океана, а поезд «Юнион пасифик» - с востока. Паровозы были ярко украшены. Отсалютовав друг другу свистками, они сблизились. Тщательно отполированный брусок калифорнийского лавра должен был служить соединительной шпалой, в которую было решено вбить литой костыль из калифорнийского золота. Под ледяным ветром, сопровождаемые музыкой полкового оркестра, направлявшегося в Сан-францисский форт, бригада китайцев принесла последние рельсы, шпалы и костыли. Двадцать первый пехотный полк удерживал любопытных, фотографы запечатлевали торжественный момент. Лилэнд Стэнфорд забил золотой костыль и начал речь. Телеграфист передал долгожданную весть. В Сан-Франциско был произведен артиллерийский салют. С наступлением темноты первые трансконтинентальные поезда пересекли соединяющий стык в пустыне Юты, примерно в пятидесяти милях от Огдепс-Хоул, где тридцать лет назад первый белый поселенец построил себе дом. Калифорния, Невада, Юта и Колорадо были объединены. Дальний Запад стал составной частью единых Соединенных Штатов. Книга пятая ГИГАНТЫ ВЫХОДЯТ НА СЦЕНУ
Глава I Тигр и спрут
Первые железнодорожные пассажиры попали на Дальний Запад в мае 1869 года по перевалу через горы Уосач, которым впервые воспользовалась партия мормонов двадцать два года назад, примерно в ста милях от Калифорнийского тракта - обычного пути эмигрантских караванов. Поезд шел со скоростью девятнадцати миль в час; насыпь была плохо укреплена, и вагоны сильно трясло и качало. «В хороший дождь полотно походило на размокшее мыло». Через несколько часов в Огдене пассажиры пересели в вагоны Центральной Тихоокеанской. Царило всеобщее возбуждение: ведь им предстояло начать трудное, а также и романтическое путешествие - четверо суток через пустыни и горы Юты в Невады, а •затем подъем на Сьерра- Неваду и спуск к Сакраменто. Центральная Тихоокеанская была постоянной темой разговоров на Дальнем Западе. Путешествие через континент по железной дороге привлекало людей со всего мира. Атлантические лайнеры в большинстве своем были пустыми в месяцы, следующие за открытием железной дороги. Прежние энтузиасты Гранд-Тура совершали путешествие по Америке в вагонах- дворцах Джорджа Пульмана, с бархатной обивкой, толстыми коврами со сложными узорами из цветов, которые можно было рассматривать часами, пока поезд пересекал пыльную пустыню. При каждом выкрике «Впереди олени!» мужчины хватались за револьверы и принимались палить в проносившихся мимо животных. Если замечали бизонов, то мужчины, вооружившись ружьями, спешили на открытую платформу. Опи не прочь были воспользоваться и свежим мясом: в поезде пе держали запасов провизии, а станции зачастую отстояли друг от друга на восемь - двенадцать часов пути, и пассажиры штурмом брали ресторан, чтобы успеть утолить голод за те двадцать минут, которые отпускались на стоянку. По ночам в вагонах зажигали керосиновые лампы, а пассажиры собирались вокруг маленького органа и пели западные песни, пока проводники стелили постели. На Востоке велись постоянные дискуссии относительно моральных аспектов положения, при котором женщинам приходилось спать в одном вагоне с мужчинами. Это привело к тому, что леди укладывались в постели одетыми, воо!. жившись смертоносными шляпными булавками. 11 з журналов вырезали изображения паровозов и вешали на стенах в домах. Рекорды скорости поездов на отдельных перегонах ежедневно публиковались в газетах, их обсуждали с еще -большей горячностью, чем результаты недавно вошедших в моду бейсбольных матчей. Генри Джордж, молодой газетный репортер из Сан- Франциско, писал о железной дороге: «Она превратит дикую пустыню в густо заселенную империю значительно быстрее, чем это сделали бесчисленные соборы, построенные в Европе».Всеобщее восхищение железной дорогой было перенесено и на Большую Четверку. Для жителей Дальнего Запада, изолированных от друзей, семей, новостей и многих товаров, Центральная Тихоокеанская стала восьмым чудом света. В Сакраменто, где всего десять лет назад игнорировали «Безумного» Джюду и отказывались вложить хоть доллар в его фантастическое предприятие, Хантингтон, Крокер, Стэнфорд и Хопкинс считались национальными ге«роями. Город, который стал теперь конечной станцией трансконтинентальной железной дороги, с большим •шоздапием устроил для ее строителей торжественный баП- кет. Прожди оии еще год или два, банкет был бы отменен: с экономической точки зрения Центральная Тихоокеанская к концу 1870 года доказала свою полную несостоятельность. Теодор Джгода предполагал, что пассажиры н товары Европы будут пользоваться трансконтинентальной железной дорогой, сокращая себе путь на Восток. Однако путь в Индию и Китай теперь пролегал через Суэцкий канал, открытие которого состоялось всего лишь через несколько недель после соединения линий Центральной и «Юнион пасифик». Большая часть торговли с Востоком была утра- юна. После ажиотажа первых месяцев, когда все билеты раскупались богатыми и жаждущими острых ощущений пассажирами, обычные рейсовые поезда иногда отправлялись в путь всего с полдюжиной пассаяшров. Как только спал наплыв тех эмигрантов, которые стремились в Калифорнию, но не решались отправляться в путь в крытом фургоне, приезд поселенцев с семьями снова стал редкостью. Калифорния, а особенно Сан-Франциско обнаружили, что фабрики Востока наводнили своей продукцией их рынок, а это привело к резкому падению цен на калифорнийские товары. Экономические просчеты самым непосредственным образом отразились на положении Большой Четверки. Коллис П. Хантингтон, Марк Хопкинс, Лилэнд Стэп- форд и Чарлз Крокер отлично разбирались в бухгалтерии. Они нажили миллионы долларов на правительственных субсидиях, выделенных для постройки железной дороги. Им принадлежали десятки миллионов акров земли с лесами, рудниками и плодородными почвами. В грядущие годы цена на эти земли составит новые десятки миллионов. Но что произойдет с ними, если все эти гигантские состояния, нажитые па строительстве железпой дороги, им придется вложить в дорогу только ради того, чтобы поддержать ее существование? Марк Хопкинс, бухгалтер Большой Четверки, выражал общее мнение, когда писал о «неуверенности в плодах многих лет напряженнейшего труда и неуверенности в том, что нам удастся решить проблемы и достичь окончательного успеха». Четверка бывших лавочников из Сакраменто положила целое десятилетие геркулесова труда, зачастую оказываясь па грани разорения. Они дожидались окончания строитель но ства железной дороги, чтобы отойти от дел и вести беззаботную жизнь миллионеров. Они задавались вопросом: «Что мы знаем об эксплуатации железной дороги?» Стюарт Даггет пишет в книге «Главы из истории Южной Тихоокеанской»: «Восемьдесят процентов акций Центральной Тихоокеанской были предложены Д. О. Миллсу в 1873 году за 20 ООО ООО долларов, и это, по-видимому, было последним из нескольких предложений о переуступке». Покупателей не находилось - отчасти из-за того, что цена была завышенной, а отчасти из-за отсутствия на Дальнем Западе опыта эксплуатации железных дорог. Большая Четверка ухватила тигра за хвост. Опа не могла наладить работу так, чтобы железпая дорога приносила Прибыль, и не могла продать ее по справедливой, по их мнению, цене. Опа пришла к выводу, что единственный способ выживания состоит в установлении монополии на все железнодорожные перевозки па Дальнем Западе. Обеспечение этих монопольных прав Коллис П. Хантингтон взял на себя. Даже почитатели характеризовали его как «жестокого и циннчпого старика, душевных качеств у которого было пе больше, чем у акулы», человека «скрупулезно бесчестного», а сан-францисскнй «Экзамннер» считал Хантингтона «беспощадным, как крокодил». До того как была проложена первая миля железной дороги, Лилэнд Стэнфорд боролся с Коллисом Хантингтоном за первое место и контроль над управлением. Стэнфорд был тугодумом и человеком нехитрым, поэтому Хантингтон легко оттеснил его на второе место. К счастью для Стэнфорда с его огромным самомнением, никто на Дальнем Западе этого не знал. Дело в том, что Хантингтон отправился в Ныо-Порк за закупками для железной дороги, оставив Стэнфорда президентом компании и формальным главой железной дороги на Дальнем Западе. Однако дорогой управлял Коллис Хантингтон. Он был ее председателем, хозяином, королем. Особое удовольствие он получал, создавая себе на всю страну репутацию;калины. «Никто не запомнит меня как человека, швыряющего деньги на ветер», - заявил он одному из репортеров. Другому репортеру он сказал: «Молодой человек, вам не Удастся проследить мой жизненный путь по оброненным мною двадцати?,?нтицентоникам». Только дураки и ущербные люд!! жертвуют деньги па благотворительные цели или в общественные фонды ради улучшения чего-то или кого-то, считал он. Страстный поклопник бережного отношения к деньгам, он делал все, что мог, чтобы не дать кому бы то ни было отложить хотя бы лишний доллар: все должно было попадать в кассу Центральной Тихоокеанской. Когда Губерт Бэпкрофт направил к Хантингтону писателя, работавшего пад его биографией, единственное, что Хантингтоп смог сообщить в назидание потомству, были рассказы о том, как ему удавалось одержать верх пад кем-нибудь в деловой сделке. Для него это составляло смысл жизни. Все остальное он считал слабостью или глупостью. В его броне пе было ни трещин, пи уязвимых мест. Он пе любил остальных трех членов Большой Четверкп. У трех его компаньонов было много хороших качеств: Стэнфорд, несмотря на напыщенность и стремление попасть в верхи общества, был склонен к благотворительности; Марк Хопкипс был мягким человеком, который ничего не добивалСя для себя лично, его любили больше всех; грубиян Крокер проявлял заботу о своих друзьях и оказывал поддержку экспериментам, направленным па промышленный рост Дальнего Запада. Но все они были детьми по сравнению с Хантингтоном; Стэнфорда он называл «проклятым старым дураком, который не умеет торговаться»; «Крокер был в его глазах грубым надсмотрщиком, а Хопкинс - просто бухгалтером. Он низвел своих партнеров до положения мальчиков на побегушках». Коллис Хантингтон презирал людей, стремившихся к общественным постам с целью покрасоваться, - постам, которые можно было легко и дешево купить. Он умышленно оставался в тени, что помогало ему держать на содержании федеральное правительство, правительство штата, органы управления графств и городов. В истории Дальнего Запада это был единственный случай, когда человек, сидящий на расстоянии трех тысяч миль в ныо-йоркской конторе размерами двенадцать на двенадцать футов, полностью контролировал экономическую и политическую жизнь Калифорнии. В мае 1869 года, когда Лилэпд Стэнфорд вбил золотой костыль, которым символически было завершено строительство железной дороги через континент, существовало две линии между Сакраменто и Сан-Франциско, принадлежавшие независимым владельцам. Калифорнийская Тихоокеанская линия протяженностью сто шестьдесят три мили проходила по восточному берегу залива Сан-Франциско от Сакраменто до Вальехо, откуда ходили паромы в Сан-Франциско и откуда собирались строить новые линии в северном направлении. Это был самый короткий путь в Сан-Франциско, на который уходило три с половиной часа. Конкурирующая линия - Западная Тихоокеанская - шла от Стоктона к Сан-Хосе и имела сорок миль полотна, проложенного по полуострову до Сан-Франциско. Путешествие отнимало пять часов. Спачала Центральная Тихоокеанская купила Западную Тихоокеанскую и направила поток своих пассажиров из Сакраменто через Стоктон и Сан-Хосе. Однако большинство пассажиров платило лишниеденьги ради того, чтобы пересесть на Калифорнийскую Тихоокеанскую у Вальехо и ехать более коротким путем. Большая Четверка теряла здесь три четверти своих перевозок, которые осуществлялись Калифорнийской. Хантингтон пригрозил, что он построит параллельную линию, которая будет конкурировать с построенной. Чтобы удержать остальные конкурирующие железные дороги подальше от залива Сан-Франциско, он заключил политическую сделку с официальными лицами Окленда, которые отдали Центральной Тихоокеанской девять миль побережья в Окленде и Аламеде - почти весь заливаемый приливами восточный берег залива. Центральная Тихоокеанская огородила забором из проволочной сетки почти половину залива. Чтобы завершить окружение залива по западному берегу, Большая Четверка поглотила железную дорогу «Сан- Франциско энд Аламеда» протяженностью примерно шестнадцать миль, что дало ей еще одну связь с Сакраменто. Она также купила Калифорнийскую пароходную компанию, у которой великолепные речные пароходы ходили между Сан-Франциско, Сакраменто и Стоктопом, захватила в свои руки контроль над перевозкой пассажиров и грузов внутри штата. К концу 1870 года, торопясь получить полную монополию, она купила также сорокамиль- пую железнодорожную линию «Сан-Франциско энд Сан- Хосе» и поглотила проектируемые железные дороги - Южную Тихоокеанскую и «Сапта-Клара энд Пахара-Вэл- ли», - которыми предполагалось соединить Сап-Францис- ко с Лос-Анджелесом. Калифорнийская Тихоокеанская тоже покорилась Большой Четверке. Единственным препятствием для получения полного контроля за любыми передвижениями в Калифорнии оставалась Тихоокеанская почтовая пароходная компания, которая была основана благодаря правительственной субсидии еще до золотой лихорадки 1849 года. Тихоокеанская почтовая предлагала транспортировку грузов вокруг мыса Горн по таким низким ценам, что многие владельцы грузов предпочитали медленно идущие суда более дорогим железным дорогам. Когда все попытки Большой Четверки уговорить Тихоокеанскую почтовую поднять цены на перевозку или продать им свои пароходы потерпели неудачу, они создали свою собственную пароходную компанию «Ориентал энд окендентал» для конкурентной борьбы на атом же маршруте, установив более низкие цены. Тихоокеанская почтовая держалась до тех пор, пока «Ориентал энд оксидентал» не пригрозила, что ее суда будут дублировать рейсы Почтовой через Панамский канал. Тихооке? анской пришлось пойти па переговоры. Она согласилась назначать такую же плату за неревозкн товаров морем, какую Центральная Тихоокеанская назначала за перевозки по железной дороге. Центральная Тихоокеанская, которая именовала теперь себя Южной Тихоокеанской в Калифорнии и скоро будет пользоваться этим наименованием для всех своих линий, решила проложить путь на юг. Поскольку рельсы можно поворачивать в любую сторону, представитель Большой Четверки приезжал в маленькое поселенце и говорил: «Если вы хотите, чтобы наша железная дорога проходила через ваш городок и способствовала вашему развитию, вы должны уплатить столько-то тысяч долларов и предоставить в нашу собственность столько-то акров земли. Если вы не возьмете на себя этих обязательств, мы проложим линию в другом место и предоставим вам засыхать на корню». Мало какие из городков могли выдержать оказываемое давление; они оплатили изрядную часть расходов на строительство Южной Тихоокеанской в их местностях. Если они отказывались платить, Южная Тихоокеанская направляла рельсы по другой долине, лежавшей на несколько миль к западу или востоку. Если поблизости не оказывалось какого-нибудь конкурирующего городка, к которому железпая дорога могла бы обратиться со своим предложением, она основывала собственный город, предлагая земельные участки поселенцам. Лос-Анджелес, в котором до сих пор насчитывалось всего шесть тысяч жителей, был очень обеспокоен тем, что Южная Тихоокеанская может пройти мимо него, облагодетельствовав при этом Сан-Диего пли Сан-Бернардино. Город обратился к Большой Четверке и удовлетворил все ее требования: он выплатил ей пять процентов от общей стоимости недвижимости в графстве Лос-Анджелес; 150 000 долларов акциями железнодорожной компании «Лос-Анджелес энд Саи-Педро», уступил шестьдесят три акра земли для строительства депо; иными словами, подарок Лос-Апджелеса Большой Четверке составил ООО ООО долларов, или обошелся в 100 долларов каждому жителю. В Сан-Франциско к Большой Четверке относились с неприязнью.?Кители города могли воочию наблюдать, как Большая Четверка беззастенчиво скупала голоса при решении вопроса о предоставлении Центральной Тихоокеанской займа в 000 000 долларов. Наиболее типичным на этот счет является свидетельство Уильяма Кайзера. Утром в день выборов Кайзер находился на одном из избирательных участков, когда туда явился Филипп Стэнфорд, брат губернатора. «Он подъехал на двуколке, вокруг собралась большая толпа мужчин, и он щедро раздавал им деньги; Стэнфорд протягивал деньги каждому, кто соглашался их брать. Он сказал человеку, которым стоял рядом с ним: «А теперь идите и потрудитесь па благо железной дороги; сделайте все, что сможете». Подобно Айзеку Грэхему, Большая Четверка предстала перед миром с открытым забралом: ее члеиы были жуликами и пе собирались скрывать этот факт, прибегая к каким-то хитроумным ухищрениям. Большая Четверка ыиграла голосование, но она проиграла Сан-Франциско. Жители отказывались илатнть деньги и начали таскать Центральную Тихоокеанскую по судам.
В 1870 году Хантингтон задумал окружить Сан-Франциско забором из проволочной сетки, который ограждал бы также все причалы и весь берег залива. Поскольку эти заливаемые приливом земли принадлежали скорее штату, чем городу, он принялся обрабатывать законодательное собрание Калифорнии в Сакраменто, где имел довольпо сильное влияние. Билль, проект которого был заготовлен, отдал бы Большой Четперке контроль над шестью тысячами акров земли и над восемью милями берега залива Сан-Франциско. Город ответил митингами протеста и новыми разоблачениями. Распространялись листовки, а газеты подняли такой крик, что Хантингтон решил снять билль с повестки дпя. Затем он попытался для строительства конечной стапцнн получить контроль над Козлиным остропом, добиваясь этого у федерального правительства. Сан-Фран- циско отправил влиятельных делегатов с петицией в Ва- шипгтон. Южной Тихоокеанской пришлось взять обратно cboio просьбу о предоставлении ей Козлиного острова. Поскольку город все же нуждался в железнодорожной станции для связи с Сан-Хосе, власти ег«3 выделили Южной Тихоокеанской тридцать акров земли для строительства складов, депо и дороги. Война за цены на проезд началась в начало семидесятых годов. Железная дорога пользовалась методом, который применял Хантингтон в бытность свою лавочником в Сакраменто: требуй максимально, что может выложить покупатель. Л если ты захватил весь товар в свои руки н стал монополистом, то пытайся выжать из покупателя и последний цент. Южная Тихоокеанская требовала, чтобы компании, пользующиеся услугами железной дороги, знакомили ее со своими счетными книгами, а затем назначала такие цепы за перевозку товаров, что они поглощали всю прибыль компаний от продажи товаров. Если многие компании становились банкротами, Южная Тихоокеанская снижала цены; по, если в книгах компаний обнаруживалась нарастающая прибыль, цепы на проезд сразу же повышались.
Оплата за перевозку оставляла фермерам столько денег, что их с трудом хватало для покупки семян на следующий сезон. Промышленпикам разрешалось получать ту прибыль, которая давала им возможность лишь продолжать работу предприятий. Когда фермеры пли торговцы внутренних районов Калифорнии заказывали товары па Востоке, с них получали полную стоимость доставки товаров до Сан-Франциско, а потом еще почти половину этой суммы за доставку грузов в обратном направлении к их маленьким городкам, даже в том случае, когда поезд проходил этот город па пути к Сан-Франциско. Владельцы золотого рудника в северном городке Шаста попросили Южную Тихоокеанскую установить цены за доставку руды в Сан-Франциско. Сначала оплата была установлена в 50 долларов за вагон, но, когда рудник начал отправлять по три вагона в день, Южная Тихоокеанская повысила цепу сначала до 73 долларов, а потом до 100. Когда владельцы рудника запротестовали, Южная Тихоокеанская ответила им, что они должны предъявить ей свои бухгалтерские книги и только после этого будет решено, какую прибыль они могут извлекать. Остальное должно составить оплату за транспортировку. Производители апельсинов в южной Калифорнии вынуждены были платить по девяносто центов за доставку каждого ящика плодов к Атлантическому побережью, вы ручая всего тринадцать центов с ящика - прибыль, до статочпую лишь для поддержания фруктового бизнеса на грани нищеты. Когда производители лимонов стали процветать, железная дорога подняла цепу за доставку ящика лимонов до пятнадцати центов. Садоводам в итоге пришлось вырубить деревья и заняться другими культурами. В южной Калифорнии за перевоз одной тонпы груза за один час пути по железной дороге, соединявшей Сан-Педро и Лос-Анджелес, Южная Тихоокеанская взимала половину той платы, в которую обходилась доставка той же тонны с Востока! ???? 417 Владельцы грузов не всегда проявляли покорность. Когда овцеводы северной Калифорнии узнали, что Южная Тихоокеанская отнимает у них всю прибыль от доставки шерсти на Восток, они стали возйть шерсть гужевым транспортом за триста миль к заливу Сан-Франциско, где ее ожидали суда. Одна из групп восточных коммерсантов стала отправлять товары из Нью-Йорка в Ливерпуль, а затем из Ливерпуля вокруг мыса Горн в Сан-Фрапциско. Доставка товара этим путем обходилась вдвое дешевле транспортировки их по железной дороге. Несколько коммерсантов из Сан-Франциско основали Атлантическую и Тихоокеанскую пароходную компанию для транспортировки грузов вокруг мыса Горн и через Панаму; они организовали также Транспортную ассоциацию Калифорнии, к которой присоединились почти все владельцы грузов Сан- Франциско. Они вынудили железную дорогу снизить транспортные тарифы, поскольку целые вереницы пустых вагонов стояли на запасных путях. Однако за перевозку 27 Зак. я, 1463 скоропортящихся продуктов снижения тарифов добиться не удалось. Политика Большой Четверки проводилась под лозунгом «Выжимать из транспорта все возможное». Грузовладелец платил по установленным железной дорогой тарифам или выбывал из игры. Южная Тихоокеанская захватила в свои руки контроль над законодательством и законодателями, над судом •и большинством газет. У населения не было сил, чтобы вырваться из смертельных объятий спрута. Как удалось Большой Четверке осуществить это, если так много граждан прекрасно отдавали себе отчет в ее хищнических наклонностях? Коллис Хантингтон даст ответ на этот вопрос в целой серии писем к своему партнеру в Калифорнии Дэвиду Кол- топу, которые были преданы гласности во время судебного процесса, состоявшегося после смерти Колтона. В этих письмах к «другу Колтону» Хантингтон называет точ.ые суммы, в которые обошлось проведение через конгресс того или иного акта Южной Тихоокеанской. Он дает Кол- тону указания, кому из избранных в Калифорнии конгрессменов следует дать то, что Хантингтон иносказательно называл «солидными основаниями для оказания помощи своим друзьям». Хантингтон покупал не только законодателей штата, конгрессменов н сенаторов, но' и судей, делая это так же спокойно, как покупал паровозы и рельсы; каждый человек имел свою цепу, а покупка правительства рассматривалась им как обычная производственная затрата, например на содержание депо или складов. Любого представителя, который отказывался подчиниться приказам железной дороги, Хантингтон называл «диким кабаном». В этих письмах определялась точная сумма наличных денег, которые следует израсходовать на поражение кандидата на какую-либо должность, отказавшегося исполнить приказы железной дороги. Впервые в прессе страны было с поразительной ясностью показано, почему Калифорния не могла вырваться из удушающих объятий Южной Тихоокеанской - даже при наличии комиссии по железным дорогам, которая должна была установить справедливые тарифы. Большая Четверка добивалась избрания в комиссию своих людей, а если это у нее не получалось, покупала комиссию после того, как она была избрана.
На все это требовались деньги, поэтому-то и цены на перевозки оказывались столь высокими. Таковой была экономическая и политическая философия Хантингтона; ничто за его очень долгую жизнь не заставило его отступить от них ни на йоту. Крепкие выражения, в которых о нем говорили в прессе, только превращали этих газетных противников в «диких кабанов». Он писал своему «другу Колтону»: «Нельзя ли взять под контроль корреспондента Ассошиэйтед Пресс в Сан-Франциско? Наибольший вред Южной Тихоокеанской наносится именно теми сообщениями, которые поступают из Сан-Франциско». Или: «Юнион» из Сакраменто причиняет нам много беспокойства. Если бы эта газета принадлежала мне, я или установил бы за ней контроль, или просто сжег бы ее». Если это было возможно, Большая Четверка покупала газету и использовала ее для восхваления всего, что делалось их железной дорогой. Одно из писем к «другу Колтону» особенно пришлось по душе читающей публике и получило самое широкое распространение в печати: «Конгресс - самое Худшее из всех людских сборищ, которые только собирались в этой стране. Это худший набор людей из всех, какие бывали с тех пор. как был создан человек. Я думаю, что во всей человеческой истории никогда не быв amp;ло подобного набора демагогов, которому дали почетное наименование конгресса. Нам причиняли много вреда, некоторым из самых вредных биллей нам удалось нанести поражение, но мы не можем терпеть многих из этих конгрессменов». По мнению Коллиса Хантингтона, то, что хорошо для Южной Тихоокеанской, хорошо и для народа. Любое официальное лицо, пытавшееся выступить против железной дороги, являлось врагом общественных интересов и причиняло ущерб Соединенным Штатам. ???? 27* Большая Четверка занялась привлечением поселенцев на земли, лежащие вдоль полотна железной дороги и в большинстве своем принадлежащие ей по дарственным актам федерального правительства. Времена, когда Джон Саттер завладел всей Сакраменто-Вэлли, а Мариано Валь- ехо - всей Лунной долиной, когда Эйбел Стирпс с Хыого Ридом могли купить в Южной Калифорнии испанские владения в сотню тысяч акров, а члены партий Бндуэлла и Стивенса - просто разбрестись по Калифорнии и занять
419
па правах поселенцев большие участки плодороднсшшн земли, отошли в безвозвратное прошлое. По мере продвижения па юг - примерно по сто миль в год - Южная Тихоокеанская издавала проспекты, ли? товки и брошюры, покупала места для рекламных объя1 лений в газетах по всей Америке. В них содержалась гарантия, что освоенные поселенцами земельные участки будут проданы им позднее по цене от 2,5 до 5,0 долларов за акр и что в оценку эту пе будут включаться затраты на улучшения, произведенные поселенцами. Постепенно начали прибывать семьи поселенцев, многие из них ехали в старинных фургонах, везя с собой постели, инструменты и семена. Некоторые семьи нанимали целиком вагон, в нем они везли детей и стариков, мебель и сельскохозяйственный инвентарь, а иногда даже молодые деревья-саженцы. Обозы этих иммигрантов бывали иногда длиннее караванов иммигрантов прошлого десятилетия. Брошюры, которыми замапили их сюда, описывали эти места как райские кущи. Теперь же они были лишены выбора места для поселения, лишены возможности искать именно ту землю, на которой им хотелось бы построить ферму. Поезда везли их по каким-то боковым веткам куда- то в калифорнийскую Лонг-Вэлли, к югу от Фресно; иммигранты оказывались в сожженной долине Туларе, без воды, без деревьев, почти такой же пустынной, как Великая равнина до прихода мормонов. Не было материалов для строительства домов; семьи располагались под навесами. Летом они изнемогали от жары и задыхались в пыльных бурях; ветры сжигали молодые посевы и фруктовые саженцы. Зимние наводнения смывали дома и поля, весенние заморозки уничтожали всходы. Поселенцы назвали эту местность Долиной Голода. Железная дорога не протягивала им руки помощи. Однако переселенцы принадлежали к породе закаленных американцев. Без денег, без нужных орудий, без запасов пищи, кроме грубо размолотого зерна да изредка подстреленного кролика, они объединились в кооператив, подобный тому, какой организовали мормопы, и приступили к рытью капала, чтобы провести воду с гор. Среди пих не было инженеров, поэтому опи совершали ошибки: им дважды приходилось бросать уже прорытые ирригационные системы. Поставленные перед выбором - добить- СЯ успеха или умереть с голоду, - они провели воду с гор. С одном не солгала распространяемая железной дорогой литература: земля действительно была необычайно богатой. Получив воду, иссушенные поля дали обильный урожай овощей, фруктов, зерна, люцерны. Теперь у поселенцев долины Туларе появились деньги: можно было купить материалы для постройки домов, сараев и мельпиц, приобрести крупны]"[рогатый скот, саженцы фруктовых деревьев. Однако все эти поля и построенные поселенцами дома принадлежали не им. Земля все еще была собственностью Южной Тихоокеанской.Глава II
Четыре мили к минеральному поясу С белом цилиндре и пальто знаменитой фирмы «Принц Альберт», с гордо поднятой головой и сияющими глазами сидел в карете Адольф Сутро. За ней двигались экипажи, нанятые его друзьями-шахтерами. Все они ехали полюбоваться на то, как первая лопата земли будет вырыта в туннеле Сутро у подножия Маунт-Дэвидсон. За дверями Банка Калифорнии в это время стоял Уильям Шароп, радуясь тому, что подул холодный ветер, который он считал дурным предзнаменованием. Сутро подал сигнал. Все двинулись по дну каньона мимо Голд-Хилл, где прихватили с собой группу пайютов из Силвер-Сити и Дейтона, где к ннм присоединился духовой оркестр союза шахтеров. Пройдя три мили по зарослям шалфея, они добрались до трибуны, установленной рядом с тем местом, где Сутро решил начать строительство туннеля. На вертелах над кострами жарились туши быка и кабана. Оркестр играл «Звездно-полосатый флаг». Сутро произнес короткую речь, снял белый цилиндр, засучил рукава и с силой вонзил лопату в подножие Маунт- Дэвидсон. Как только откатились первые комья земли, по Невадской пустыне пронесся ликующий крик. В этот момент на небе появилась радуга, западный конец которой спускался к началу зарождающегося туннеля. Сутро и шахтеры восприняли это как доброе предзнаменование. Отсалютовала пушка. Чтобы согреть сердца и восста- попить силы, Сутро и шахтеры вместе с иайютами взялись за пивные кружки, заедая пиво поджаренным на костре мясом. Сила и бодрость им еще понадобятся: на две тысячи футов выше их, на противоположном склоне Маунт-Дэвид- сон, поднимались трубы шахт Уошоэ; предстояло пройти четыре мили сквозь каменные пласты, вулканические породы, кипящие подземные реки, насыщенные ядовитыми газами, прежде чем они доберутся до штреков действующих шахт. И на все это у Сутро было 50 000 долларов, которые союз шахтеров предоставил ему взаймы, и еще небольшая толика, вырученная от продажи акций шахтерам. Имелась и опытная рабочая комапда, члены которой согласились трудиться, получая по три доллара в день плюс один доллар в виде акций, не имеющих никакой цены до завершения туннеля. Шарон и Банк Калифорнии тоже неплохо подготовились. В то самое время, когда приветственные крики шахтеров раздавались на берегах реки Карсон, принадлежащие банку газеты называли Сутро ловким мошенником, хитрым проходимцем, «пигмеем, который собирается проделать дыру в Олимпе». 14 октября 1869 года Голд-Хилл- ская «Ньюс» восклицала: «Первый удар кирки, нанесенный этим джентльменом, привыкшим жить на чужой счет, был, есть и будет ударом по карманам всех честных тружеников и всех тех, кого ему удалось привлечь на свою сторону». Джентльмен, «привыкший жить на чужой счет», Адольф Сутро снял жилет и отправился трудиться в туннеле плечом к плечу с группой шахтеров, которые решили связать с ним свою судьбу. Восемь лет прошло после того, как он опубликовал в «Альта» статью о необходимости постройки туннеля, и пять лет с тех пор, как он взвалил на себя тяжкий труд добывания денег для осуществления проекта. За это время обогатительная камнедробильня Сутро сгорела, ему, жене и шестерым детям приходилось испытывать большие трудности. Для миссис Ли Сутро длительные разлуки с мужем были более тяжким испытанием, чем периоды бедности. Особенно тяжело она переживала оскорбления, которым подвергала Сутро пресса. Ли Сутро принадлежала к той породе женщин, к которой относились Тамсен Доннер и Джульетта Брайер. «Если бы не она, - говорил Адольф Сутро, - я бы пропал. Моя жена никогда но роптала, пе упрекала меня в бедности, с которой нам приходилось бороться, никогда не поколебалась в своей преданности». К началу семидесятых годов Банк Калифорнии стал почти единоличным владельцем Комсток-Лоуд. Чтобы окончательно лишить Сутро поддержки шахтеров, Уильям Шарон, которого нельзя было упрекнуть в отсутствии храбрости, отправился в забой «Йеллоу-Джекет» и сказал своим шахтерам: «Этот пресловутый туннель, который начался с бочки шампанского, если даже он будет закончен, не осушит Комсток-Лоуд. Сколько человек сможет он использовать па строительстве туннеля, выплачивая им по четыре доллара в день, и каковы гарантии заработной платы? Я думаю, что вы предпочтете бумаги Банка Калифорнии его бумагам. Мы выступаем против него и его проекта, поэтому он злобно клевещет на нас и настраивает вас против ваших работодателей. Пусть подобные бессмыслицы не направляют вас против ваших собственных интересов и против тех, кто стремится принести вам настоящую пользу». Банк не ограничился столь гуманными призывами. Когда Ролстон и директора узнали, что Сутро прошел на сто шестьдесят футов в глубь Маунт-Дэвидсон за первый месяц работ, они поставили борьбу с ним на более деловые основы. В январе 1870 года Сутро получил телеграмму от одного из своих друзей в Вашингтоне; банк внес в конгресс проект билля, которым Сутро лишался своих прав. Сутро передал руководство строительством главному плотнику, который много лет проработал на калифорнийских шахтах, а сам помчался в Рено и сел в отправлявшийся на восток поезд Центральной Тихоокеанской. Его задержали снежные заносы в Скалистых горах; когда 1 марта Сутро прибыл в Вашингтон, ему стало известно, что конгрессмен от штата Невада Томас Фитч представил конгрессу билль, отменявший оплату? в два доллара за• каждую тонну руды, вывозимой через туннель. Без подобной гарантии Сутро никогда не смог бы получить необходимые кредиты. Уильям Ролстон отправил из Сан-Франциско юриста, которому предстояло помочь конгрессмену Фитчу и его лоббистам провести этот билль через конгресс. Принадлежавший банку конгрессмен подложил рукописную копию билля в папку бумаг спикера палаты. Было решено, что проект будет одна раз зачитан, а затем и утвержден голосами тех конгрессменов, которых лоббистам удалось завербовать, остальные же не будут иметь возможности изучить данный проект. Сутро на собственные деньги отпечатал и распространил между конгрессменами текст проекта, предав тем самым его содержание широкой огласке. Конгресс передал его комиссии по делам шахт и горного дела. Несколько членов комиссии посетили шахты Комстока и решительно выступили в поддержку Сутро. Конгрессмен от штата Мичиган Остин сообщил комиссии, что Уильям Шарон сказал ему: «Сэр, банк распростер свою руку над Комсток- Лоуд и приказал Сутро удалиться». Конгрессмен от штата Пенсильвания Уильям Келли заявил комитету конгресса: «Я говорю от имени шахтеров, сорок пять процентов которых умирает в расцвете жизненных сил от невыносимой жары и ядовитой атмосферы в этих шахтах. Эти труженики… сплотились вокруг мистера Сутро и умоляют конгресс предоставить ему права, которые позволят облегчить им ту ужасную судьбу, на которую обрекает их Банк Калифорнии». Палата представителей провалила проект билля Фитча, однако Адольф Сутро не решался оставить Вашингтон из опасения, что банк попытается протащить новый билль. Он высидел всю сессию конгресса, хотя ему следовало ехать во Францию, где парижские банкиры были согласны предоставить ему заем в пятнадцать миллионов франков. За пять дней до отъезда Су. ро во Францию разразилась франко-прусская война. Вопрос о займе отпал. Потерпев поражение, Сутро верпулся в Комсток к кирке и лопате. Он углубился в гору уже на тысячу футов, однако и туннель сделал прореху в его бюджете: израсходовано было пятьдесят тысяч долларов. Не оставалось денег на покупку материалов, на выплату заработной платы рабочим. Работы велись черепашьим шагом. * В декабре 1870 года Сутро снова отправился в Вашингтон, чтобы попытаться убедить конгресс предоставить ему ссуду. Однако банк уже успел заверить конгрессменов, что отпала всякая необходимость в туннеле Сутро, поскольку запасы руды в Комстоке иссякли. Встречая со всех сторон нападки, Сутро обратился к сенату и конгрессу с просьбой отправить в Комсток комиссию для проведения обследования. Конгресс согласился. На следующее лето два пожилых армейских инженера и один горный инженер прибыли в Вирджиния-Сити. Сут- ро попытался посвятить их в историю взаимоотношений с Ролстоном, Шароном и банком. Члены комиссии заявили, что они намерены лично ознакомиться со всем. И они это сделали при помощи надсмотрщиков шахт «Офир», «Гулд энд Кэрри», а также «Чоллар-Потоси», принадлежащих банку. Членов комиссии водили в сухие отсеки шахт и в самые прохладные из галерей. Знакомиться с туннелем Сутро они пришли в сопровождении представителя Банка Калифорнии. В разгар всех этих неприятностей в Вирджнния-Ситн без всякого предупреждении прибыла группа людей, которые сообщили Сутро, что они приехали из Англии по заданию Банка Мак-Кальмонта для обследования Комсток- Лоуд. Мистера Уильяма Ролстона и мистера Уильяма Шарона оии не знают и знать их не хотят. Они приехали сюда для свидания с мистером Сутро. Не согласится ли он показать им Комсток? Сутро повел эту группу в крупнейшие шахты, показал им отстойники грязной воды, где атмосфера была насыщена ядовитыми газами, а также уходящие в глубь Маунт- Дэвидсон жилы золотой и серебряной руды. Затем он повел их в Голд-Каньон, к основанию горы, показал им начало своего туннеля и ознакомил их со всеми своими расчетами. Англичане смотрели, слушали, а потом уехали, поблагодарив его за любезность. Через месяц Сутро получил телеграмму: может ли он приехать в Англию для обсуждения условий ссуды? Через две недели Сутро уже был в пути. Совет директоров Банка Мак-Кальмонта прислушался к рекомендациям своих консультантов и предложил ему кредит в 650 ООО долларов Для постройки туннеля! У Сутро голова пошла кругом. У него будет достаточно денег, чтобы приобрести новые паровые буровые установки, нанять сотни людей, привезти из Калифорнии вагонетки, рельсы, мулов и пробиться по меньшей мере па две мили в глубь Маунт-Дэвидсон. Сутро примчался обратно в Комсток, построил вблизи туннеля небольшой город с кузнечными и механическими мастерскими, отелем, барами, газетой, танцзалом, церковью, больницей и белым викторианским домом для себя, Ли, двух сыновей и четырех дочерей. Дом был прикреплен к склонам Маунт-Дэвидсон тросами, чтобы «зефир» Уошоэ не сдул его в реку Карсона. Четыреста человек работало теперь в дневную и ночную смены. Городок Сутро насчитывал теперь тысячу жителей. В январе Сутро спешно отправился в Вашингтон, чтобы быть там, когда правительственная комиссия представит свой доклад. Прибыв туда, оп выяснил, что доклад уже представлен конгрессу. В нем говорилось, что туннель Сутро может быть построен, но что в нем нет необходимости для обеспечения безопасности, осушения и вентиляции Маунт-Дэвидсон. Сутро был вне себя от ярости. Он потребовал от комиссии конгресса по делам шахт и горного дела, а затем и от воепного министра, чтобы армейские инженеры, приезжавшие для обследования строительства, были вызваны в Вашингтон для дачи показаний. Уильям Шарон послал своего самого способного адвоката для защиты доклада членов комиссии. Двадцать пять вечеров подряд на заседаниях комитета Адольф Сутро, выступая в качестве своего собственного адвоката, задавал вопросы членам комиссии, сражался с адвокатом банка и падсмотрщиками, направленными в Вашингтон, чтобы противостоять ему. Опубликованная конгрессом книга в восемьсот страниц под названием «Туннель Сутро» до сих пор является ярким примером разоблачения монополистических методов и подтверждает сказанное Джорджем Д. Лайменом в книге «Шайка Ролстона»: «Сутро продемонстрировал широкие познания в области геологии, топографии, металлургии, гидростатики, механики и инженерного дела. Он "оказался более чем достойным противником для всех тех интеллектуальных сил, которые Ванк Калифорнии сумел мобилизовать против него. Заседания превратились в борьбу одиночки против взяточничества, алчности и коррупции корпораций. Голос Сутро был голосом простого человека, поднятым против тех, кто едет верхом на спине человечества и эксплуатирует его для достижения собственных финансовых целей». Сутро произвел настолько сильное впечатление на членов комиссии по делам шахт и горного дела, что те просто выбросили подготовленный ранее доклад и приняли билль, рекомендующий конгрессу предоставить Сутро ссуду в 2 000 000 долларов для завершения туннеля. Банк Мак- Кальмопта, узпав об этом, предоставил Сутро новую ссуду, в восемьсот тысяч долларов. Наиболее легкая часть туннеля была уже пройдена. А в самом сердце этого каменного бастиона человек с киркой был бессилен. На его место пришел динамит. Когда переставали сыпаться обломки камня и дым от взрыва рассеивался, люди отправлялись в голову туннеля, чтобы погрузить породу на вагонетки, вывезти ее по рельсам и сбросить на берег реки Карсона. Когда туннель углубили в гору на милю, воздух стал настолько спертым и насыщенным углекислым газом, что даже самые сильные люди не могли выдержать более двадцати минут: шатаясь и почти теряя сознание, они выбирались на свежий воздух. И все же ни один из шахтеров не оставил Сутро: да и как бросить человека, который постоянно работает рядом с тобой? В июле 1873 года Сутро пробил первый вертикальный вентиляционный колодец с поверхности горы, почти в пяти тысячах футов от входа. Это дало ему возможность пройти еще полмили туннеля. Затем удар шахтерской кирки открыл дорогу горячей вулканической реке, и новый вентиляционный колодец был затоплен. Воздуха стало не хватать для поддержания огня свечи. Шахтеры работали при тусклом свете керосиновой лампы, которая поглощала остав'шийся кислород; людей тошнило… Белый викторианский дом, прикрепленный к склону Маунт-Дэвидсон, в эти месяцы редко видел Адольфа Сутро: он постоянно находился в туннеле. Из Калифорнии через Сьерра-Неваду были привезены огромные вентиляторы и компрессоры, рабочие надевали на головы заполненные льдом шлемы, как бы проводя ¦ в жизнь «фантастику» Дэна де Киля. И все же на шахтерском кладбище пришлось похоронить восемь рабочих, погибших в результате взрывов и обвалов. С каждым футом вглубь все прочнее становился камень, все более страшными были потоки кипящей воды с отвратительным запахом. Снова и снова приходилось останавливать работы, давая подземной реке вытечь из входа в туннель. Теперь главными противниками Сутро были не Рол- стон, Шарон или Банк Калифорнии. Время тоже превратилось в его врага, как это было с партией Донпера. Уильям Шарон отлично справился со своей задачей: он заставил его впустую истратить годы. Здесь, совсем рядом, добывалась цепная руда, которая могла доставляться по его туннелю на поверхность значительно быстрее и дешевле, а шахтеры, добывающие ее, могли работать в несравненно лучших условиях. По какая гора может давать богатство бесконечно? В то время как Адольф Сутро вгрызался со скоростью нескольких футов в месяц в основание царства Ролстона, другой человек - Алвинса Хсйуорд - принялся пробивать брешь внутри самой шайки. Шахта «Краун-Пойнт» дошла до пустой породы уже несколько лет назад и настолько исчерпала возможности своих акционеров, что акции ее на бирже шли по два доллара за штуку. Ролстон утверн?дал, что под выработанными горизонтами должна быть руда. Тогда Хейуорд, мелкая сошка в шайке Ролстона, предложил, чтобы его зятю Джону Джоупсу, у которого, как говорили в Комстоке, «был нюх на руду», было поручено обследовать более глубокие пласты в «Краун-Пойнт». Когда Хейуорд порекомендовал «добродушного, румянощекого здоровяка из Уэльса» Джоунса на место главного управляющего «Краун- Пойнт», Ролстон сразу же согласился. Почти два года Джоунс энергично занимался исследованиями в «Краун-Пойнт», израсходовав 250 тысяч долларов,? которые Ролстон взыскал с владельцев акций. После этого шайка окончательно распростилась со всеми надеждами. Не получая больше жалованья, Джоунс продолжал проводить дни и ночи под землей, вкладывая все свои деньги в те акции «Краун-Пойнт», которые он мог купить по два доллара. Наконец пустая каменная порода стала мягче, в ней появились отдельные прожилки кварца. Джоупс пробился сквозь наплывы глины и вышел на жилу беловатого кварца, в которой попадались скопления богатой РУДЫ. Он не доверил своего секрета никому, кроме Алвинсы Хейуорда. Вместе они решили украсть шахту у шайки Ролстона. Они тайно вложили все свои сбережения в акции «Краун-Пойнт». Цены на акции «Краунт-Пойнт» стали повышаться. Тогда, применяя новую стратегию, Джоунс отправился в Сан-Франциско на биржу, где попросил друзей взять на себя заботы об имеющихся у него акциях «Краун-Пойнт» и сказал им, что ему придется расстаться с акциями из-за того, что на Востоке захворал его cliiI Биржа интерпретировала это сообщение таким образом, что Джоунс «вытащил пустышку», то есть пришел к выводу, что шахта не представляет никакой ценности. Держатели акций поняли намек относительно «больного ребенка» Джоунса и принялись сбывать акции «Краун-Пойнт» но самым низким ценам. Джоунс н Хейуорд приобрели, таким образом, контрольный пакет акций. Обеспечив себе контроль над шахтой, они привели рабочих в ее забои, где «ничто, кроме землетрясения или извержения вулкана не могло поколебать их прав на это золотое дно», и добыли там на тридцать миллионов золота rt серебра! Они не стали даже платить шайке Ролстона за переработку руды, организовав для этого собственную компанию. Монополия шайки Ролстона дала трещину.Глава III
Четверо ирландцев становятся Серебряными королями На Маунт-Дэвидсон заявила о себе новая коалиция, которая скрестила оружие с шайкой, найдя для себя золотое дно под самым носом Уильяма Шарона. Это была новая комбинация из четырех человек, образовавшая такой же невероятный «полигамный брак», как Большая Четверка Центральной Тихоокеанской, действовала она великолепно, и каждый из ее членов трудился в меру своих способностей. Все они были ирландцы, причем трое родились в самом Дублине или в его окрестностях. Джон Мак-Кен и Джеймс Фейр, двое здоровенных шахтеров, привычных к кирке и лопате, родились в один и тот же год - 1831 - и в одном и том же городе. Там же родился и Уильям О'Брайен, владелец салуна в Сан-Франциско, старше их на пять лет, до этого довольствовавшийся местом за стойкой «бесплатных завтраков Лукшн», отрезая щедрые куски грудники и мяса для своих клиентов и потчуя их беседой. Джеймс Флуд, четвертый член этого квартета, родился в том же году, что и его партнер из Сан-Франциско, - в 182G - в Ныо-Йорке. Его вконец обедневшие родители едва успели пересечь Атлантический океан, чтобы сделать хоть одного из Серебрянных королей уроженцем Соединенных Штатов. Трое из них были людьми Сорок Девятого года: О'Брай- ен, который прибыл сюда первым - в июле; Флуд, который проделал путешествие вокруг мыса Горн, и Фейр, который в противоречии со своей фамилией («фейр» - светлый) был «темным ирландцем» с черными вьющимися волосами, смуглой кожей и темными глазами; шахтер кварцевого рудника и менеджер обогатительной камнедро- бильни, Мак-Кей приехал позже всех - в 1851 году. Он провел восемь лет в лагерях Сьерра-Невады, зарабатывая себе на бобы и наслаждаясь каждой минутой суровой, чисто мужской жизни в горах. О'Брайен, щедрый раздатчик бесплатных завтраков, и Мак-Кей, щедрый на могучие удары киркой, поначалу немногого хотели от жизни. О'Брайен готов был довольствоваться прожиточным минимумом, а Мак-К^й утверждал в свое время, что, накопив 25 тысяч, он тут же выйдет из дела. О'Брайен, прославившийся в Сан-Франциско как «щедрый миллионер», под конец жизни имел капитал примерно в 12 миллионов; Мак-Кей умер, завоевав всемирную известность и обладая состоянием в сто миллионов долларов. Флуд, Мак-Кей, О'Брайен и Фейр каждый по-своему были яркими личностями. Джеймс Клэр Флуд, коротышка с бычьей шеей и могучими плечами, с грубыми чертами лица и здоровым румянцем, казался туповатым, но отлично умел шевелить мозгами. У него было некоторое образование, полученное в Ныо-Йорке. Восемь лет он провел в ученичестве у каретника, а потом прибыл в Калифорнию с твердым намерением пробиться в верха общества и… разъезжать в собственной карете. Предприимчивый Флуд, стремившийся к быстрому обогащению, в 1850 году пошел работать на шахту плотником, получая по 16 долларов в день, но вскоре занялся старательством на реке Физер и намыл на три тысячи долларов золотого песка. Здесь, в лагере золотоискателей Пур-Мэн-Галч, он встретился с коренастым, краснолицым и покладистым Уильямом О'Брайепом, который тоже па- мыл за зиму на несколько тысяч долларов песка. Они подружились, вернулись в 1851 году в Сан-Франциско и поселились по соседству. Флуд открыл каретную мастерскую, а О'Брайен - лавку с товарами для моряков. Оба Потерпели крах во время депрессии 1855 года. Друзья решили стать партнерами. Простой в обращении, Уильям О'Брайен, самый популярный из будущей Серебряной Четверки, обладал большей интуицией, чем его партнер. Обнаружив, что жажда к выпивке отнюдь не снижается депрессиями, он решил, что им следует открыть салун. В шелковом цилиндре и добротном суконном костюме он стоял у дверей салуна и веселой болтовней завлекал посетителей. Флуд, которого совсем не соблазняла репутация бармена, отказался от фартука и рубашки с закатанными рукавами и расхаживал в элегантно скроенном сером костюме делового человека. Их «Аукшнленч» был «забегаловкой», где отпускали по две стопки за двадцать пять центов. Холостяк О'Брайен провел лучшие годы своей жизни, оказывая гостеприимство бизнесменам Сан- Франциско. Его неиссякаемая доброжелательность в комбинации со строгой бухгалтерией Флуда сделали «Аукшнленч» процветающим заведением. Когда по соседству открылась биржа, Флуд и О'Брайен завязали самые тесные связи с маклерами и людьми, отлично знакомыми с положением дел в Комстоке, которые постоянно толкались в их салуне. Получая от них квалифицированные советы и информацию, они начали очень обдуманно покупать акции. К 1868 году они успели накопить солидный капитал, продали «Аукшнленч» и открыли собственную маклерскую контору на улице Монтгомери. Именно как честных и надежных биржевых маклеров они узнали Мак-Кея и Фейра, своих будущих партнеров из Вирджиния-Сити, прониклись друг к другу симпатией и заключили союз. К концу шестидесятых годов Джон Мак-Кей и Джеймс Фейр смело выступили на арену Уошоэ-Маунтинс и бросили вызов Уильяму Шарону в борьбе за первое место в Комстоке. Постоянное стремление Шарона заполучить контрольный пакет акций каждой из шахт па Маунт-Дэ- видсон вынудило банк глубоко увязнуть в операции по скупке акций «Хейл энд Норкросс», за которые теперь он платил по 7000 долларов. Это была пиррова победа: рудные жилы «Хейл энд Норкросс» вскоре иссякли, и Шарону пришлось продавать те же акции всего по 41,5 доллара.Джон Мак-Кей и Джеймс Фейр не питали особого уважения к Шарону, а боялись его и того меньше. Шарон в основе своей был манипулятором акциями и деньгами, Мак-Кей и Фейр - специалистами по глубинной добыче. Они были убеждены, что в «Хейл энд Норкросс» все еще имеются богатые рудные жилы. Они были также уверены в том, что сумеют перехитрить Шарона. Ничуть не смущенные могуществом соперников, они решили тайно скупать акции «Хейл энд Норкросс» и, получив контроль над шахтой, вышибить Шарона, Ролстона и Банк Калифорнии из ее совета директоров. Не желая раскрывать свой замысел, Мак-Кей и Фейр отправились в Сан-Франциско для совещания с двумя бывшими владельцами салунов, которые стали биржевыми маклерами. Флуд и О'Брайен, с которыми они поддерживали самые дружеские отношения уже несколько лет, одобрили их плап п вложили в дело некоторую толику своих денег. Компания была образована: Мак-Кей брал себе три восьмых акций, Фейр - две восьмых, Флуд и О'Брайен делили между собой оставшиеся три восьмых. Джеймс Флуд был настолько ловким дельцом, что ему удалось целый месяц скупать акции «?Хейл энд Норкросс» по дешевой цене, а биржа так и не поняла, что это значит. Когда собралось правление «Хеил энд Норкросс», большинство акций оказались в руках Мак-Кея, Фейра, О'Брайена и Флуда. Шарон, которого положение застало врасплох, был вне себя, поняв, что его перехитрили; однако он не стал вступать в борьбу за шахту, рудные запасы которой считались выработанными. Мак-Кей и Фейр, который был избран на пост главного управляющего «Хейл энд Норкросс», спустили в шахту рабочих и начали пробивать горизонты в новых направлениях- и в 1870 году выплатили акционерам 500 000 долларов в качестве дивидендов! На часть доходов новыо партнеры приобрели две камнедробилыш для переработки руды и купили у Шарона водопроводную компанию «Вирджиния энд Голд-Хплл». Сражение за «Хейл энд Норкросс» явилось только прологом. К 1871 году рудные лшлы шахты снова иссякли. Мак-Кей потерял значительную часть своих прибылей, купив выработанную шахту «Сэвидж», Фейр тоже потерпел неудачу, ? купив столь же бесплодную шахту «Бул- лнон». Но тут же они разработали отчаянный нлаи: купить тысячу триста футовземли, лежавшей мел»ду знаменитыми в прошлом шахтами «Офир» и «Гулд эпд Кэрри». Этот участок, известный под названием «Консолидейтэд Вирджиния», Шарон и другие специалисты Комсгока объявили не представляющим ценности; его акции упали в цепе до одного доллара па акцию после того, как миллион долларов Сыл израсходован на бесплодные исследовательские работы. Мак-Кей и Фейр были уверены, что здесь в глубинах скрываются рудные жилы, ничуть не уступающие по богатству тем, которые были найдены в «Офире» и «Гулд энд Кэрри». Чтобы получить в свое владение этот участок, они поручили своим партперам в Сан-Франциско скупать акции шести отдельных шахт, расположенных на этих трехстах футах. Флуд и О'Брайен приступили к скупке весьма осторожно, однако на этот раз Шарону удалось разгадать их игру, и он настолько взвинтил цены, что контрольный пакет «Консолидейтод Вирджиния» обошелся в сто тысяч долларов. Не без ехидства Шарон сообщил Рол- стопу, что ему удалось надуть Мак-Кея и Фейра. Мак-Кей, Фейр, Флуд и О'Брайен получили контроль над «Монсолидейтэд Вирджиния» в феврале 1872 года. Они выпустили еще на 212 ООО долларов акций, но понимали, что денег этих слишком мало, чтобы вести работы через брошенный шахтный колодец «Консолидсйтэд Вирджиния». Следовало отыскать более короткий путь к шахтным горизонтам. По-видимому, они воспользовались советом управляющего шахтой «Гулд энд Кэрри», принадлежавшей Шарону, который сказал: «А почему бы вам не спуститься на дно «Гулд энд Кэрри» и не пробиваться оттуда в северном направлении? Колодец ее опускается на глубину тысячи двухсот футов, и туннель будет проходить под разработками «Вест», «Белчер», «Консолидейтэд Вирд- жпння» и «Калифорния»; там лежат совершенно нетронутые места, и, если здесь вообще залегают какие-то рудные жилы… вы обязательно на них наткнетесь». Ко всеобщему изумлению, Шарон не только разрешил Фейру и Мак-Кею воспользоваться своей шахтой «Гулд энд Кэрри» для ведения исследовательских работ, но и облегчил задачу, назначив довольно умеренную плату за вывоз пустой породы через ее колодец. Ролстону в Сан- Франциско он с торжеством доказывал, что теперь переправляет последние доллары от «Хейл энд Норкросс» в бездонные карманы Банка Калифорнии и что банк вскоре заполучит обратно и водопроводную компанию «Вирджиния энд Голд-Хилл». ???? 433 С мая по август пророчества Шарона сбывались. Внизу на глубине тысячи двухсот футов, несмотря на героические
28 Зак. К» 1463 усилия, затраченные при прокладке штрека длиной тыся чу ярдов под самым сердцем «Консолидейтэд Вирджиния», пе было обнаружено ничего, и через шахтный колодец «Гулд энд Кэрри» поступала наружу только пустая порода. Но богатства Маунт-Дэвидсон еще не были исчерпаны. В один прекрасный день рабочие наткнулись на едва заметную жилу, идущую поперек штрека. Фейр и Мак-Кей двинулись по этому слабому следу, потеряли его, потом снова нашли и увидели, что жила расширяется. За три недели она достигла ширины в семь футов, еще через неделю ширина жилы составляла уже двенадцать футов. Серебряная Четверка, уверенная, что натолкнулась на богатую залежь, приступила к одновременным действиям: Мак-Кей и Фейр в Вирджшшя-Сити начали пробивать вертикальный колодец к месту своей находки; Флуд и О'Брайен в Сан-Франциско скупили двадцать пять процентов акций «Консолидейтэд Вирджиния», выброшенных ранее на рынок. Истинный размер своего открытия они держали в секрете: посетителей не допускали в богатые рудой штреки под предлогом невыносимой жары. Жнла «Консолидейтэд Вирджиния» была теперь уже шириной пятьдесят футов, пробиваемые в стороны пробные штреки показали, что почти вся порода вокруг богато насыщена рудой. К концу октября Фейр и Мак-Кей пригласили Дэна де Кнля спуститься в «Консолидейтэд Вирджиния». Фейр сказал этому лучшему из шахтерских репортеров: «Иди и повертись там сам. Прикипь все, выработай собственное мнение. Я не скажу тебе ни слова, чтобы не говорили, что я тебя подучил». До Киль провел самое тщательное обследование, вынес наверх пять проб руды, взятых в разных местах «Консолидейтэд Вирджиния», которые после проведения анализа показали содержание золота и серебра в руде на 380 долларов на тонну - почти в десять раз больше, чем в руде среднего качества, добываемой в Комстоке. Он сообщил об этом миру в «Территориэл энтерпрайз» под кричащим заголовком «Сердце Комстока». Он утверждал, что по самым скромным подсчетам общая стоимость золота и серебра, содержащегося в разрабатываемом пласте, должна составлять 230 миллионов долларов! Дндесхаймер, самый уважаемый из инженеров Ком- стока, провел несколько дней па дне шахты, а затем объявил, что каждая акция «Консолидейтэд Вирджиния» должна теперь оцениваться в 5000 долларов. Правительственный геолог, направленный сюда по распоряжению генерального директора монетного двора, обследовал «Консолидейтэд Вирджиния» и высказал мнение, что общая сумма добычи составит триста миллионов. «Однако, чтобы избежать возможной переоценки, я беру только половину полученных при анализе данных, поэтому считаю, что продукция составит никак не менее ста пятидесяти миллионов», - доложил он. До первого снега «Консолидейтэд Вирджиния» выдавала на-гора ежемесячно па 250 000 долларов благородных металлов. Фейр и Мак-Кей пошли еще дальше, достигнув горизонтов на глубине тысячи четыреста и тысячи пятисот футов. Лорд сообщал в «Комсток майнинг»: «Когда наконец был достшнут уровень тысячи пятисот футов и поступающая оттуда руда оказалась богаче всей виденной до сих пор па свйе, даже самые спокойные головы пошли кругом. Ничего подобного не было открыто на земле с тех пор, как первый шахтер сделал первый удар своей примитивной киркой…» Руда была настолько богатой, что в камнедробнлышх приходилось подмешивать к ней пустую породу. Джон Мак-Кен, Джеймс Фейр, Джеймс Флуд и Уильям О'Брайеп сделались мультимиллионерами. И снова они продемонстрировали свое превосходство над Уильямом Шароном, оставив его в дураках. Шарон понимал, что ему предстоит теперь борьба до конца с этими четырьмя ирландцами, которых уже стали называть Серебряными королями. Если они стали новыми королями, то что же должно произойти с нпм, бывшим королем Комстока? В Сан-Франциско Ролстон решил, что «Белчер», соседствующая с украденной у шайки Хейуордом и Джонсом «Краун-Пойнт», должна быть продолжением этого укрытого в недрах золотого дна. Вместе с Шароном они скупили все десять тысяч акций этой шахты по доллару за каждую, опустили туда шахтеров с приказом рыть глубже… и получили 35 миллионов долларов. Открытие в «Белчер» сделало Уильяма Шарона одним из трех самых богатых людей на Дальнем Западе, поставив его рядом с Уильямом Ч. Ролстоном и Д. О. Миллсом из Байка Калифорнии. Прошло девять лет с тех пор, как он прибыл в Маупт-Дэвидсоп, доведенный до банкротства биржевыми маклерами. Все соглашались с тем, что он отомстил полной мерой. Теперь уже никто не мог подсчитать, сколько десятков миллионов он успел сколотить за это время. Именно в это время н пришел Уильям Шарон к выводу, что он перерос масштабы Комстока и что ему следует быть сенатором Соединенных Штатов. Это поднимет его престиж в свете и даст возможность настроить законодателей таким образом, что они остановят Сутро. Место в сенате даст ему политическую власть над новоявленными Серебряными королями. Банк Калифорнии отобрал, финансировал и избрал законодателей Невады, которые избирают двух сенаторов от штата. Решение Шарона сделаться сенатором было равнозначно избранию его. Но не так рассматривал эту проблему Джозеф Гудмен, издатель газеты «Территориэл энтерпрайз». В то утро, когда Уильям Шарон вернулся в Сан-Франциско, с тем чтобы начать кампанию за свое избрание в сенат, Гудмен опубликовал едчайшую редакционную статью: «Вы, по-видимому, сознаете, что возвратились туда, где вас боятся, ненавидят и презирают. На протяжении последних девяти лет ваша карьера в Неваде была карьерой беспощадного хищника. Подобно гиене, вы пожирали жизненные силы штата, и гдре тому, кто пытался вступить с вами в спор хотя бы за крохи с вашего стола. Вы отбрасываете в сторону честь, порядочность и самые обычные приличия…» Горняки Комстока полностью согласились с этим. Однако наибольший удар был нанесен ему словом «гиепа», которое через двадцать четыре часа уже повторялось во всех шахтах Невады. Комсток не пожелал без борьбы отдать Шарону пост сенатора. Выдвинул свою кандидатуру и пробивной валлиец Джон Джоупс - герой пожара на «Йеллоу-Джекет», считающийся героической личностью также и потому, что сумел увести из-под носа у шайки шахту «Краун-Иойнт» и вместе с ней тридцать миллионов долларов. Невада хотела, чтобы Джоунс был ее сенатором. Шарон нанес ответный удар. Он выбросил па рынок колоссальное количество акций Комстока, вызвав тем самым бурную волну продажи акций, что привело к общим потерям ценности бумаг в почти пятьдесят миллионов. Джоунс и Алвипса Хейуорд потеряли три миллиона, но у них была возможность обратиться к ресурсам «Краун- Пойнт». Примененный Шароном прием, направленный на разорение Джоунса, ударил и по Сан-Франциско. Значительная часть городского населения понесла урон. Имя Уильяма Шарона стало ругательством, на его голову призывали проклятия тысячи тех, кто разорился из-за подстроенного им искусственного падения курса акций. После этого Шарой решил подорвать репутацию Джоунса. Он привез в Сан-Франциско Айзека Хаббела, который был надсмотрщиком на подземных работах на «Краун- Иойнт», когда там разразился пожар. Шарон посулил Хаббелу пятьдесят тысяч долларов, если он подпишет заявление о том, что Джон Джоунс сам преднамеренно совершил поджог. Невада была возмущена. Джо Гудмап снова говорил от имени Невады и центральной Калифорнии, когда писал в «Территориэл энтерпрайз»: «В этом акте злоба достигла кульминационной точки бесчестия и подлости. Еще никогда злонамеренность не выбирала более чудовищной формы для мести». Даже деловые партнеры Шаропа в Сан-Франциско почувствовали, что он слишком далеко зашел. Суд предъявил Шарону обвинение в тайном сговоре, после чего Билли Ролстон потребовал, чтобы Шарон отказался от борьбы за пост сенатора. В ответ Шарон - профессиональный игрок в покер - просто пожал плечами: на этот раз ему выпали плохие карты. В следующий раз он возьмет реванш, как это было на Комсток-Лоуд. Но теперь месть его распространится и на Уильяма Ролстона, который вынудил его отказаться от надежд на пост сенатора.
Глава IV
Крах байка Из всех биржевиков Сан-Франциско никто так глубоко ие увяз в финансовых махинациях, как Уильям Чэпмен Ролстон - финансовый чародей города. Он не носил красного шарфа профессиональных игроков не столь уж далекого прошлого; одет он был безупречно, единственной странностью его было то, что грудь его крахмальной сорочки украшала черпая камея. Он вел азартную игру по тысяче направлений. Многомиллионные азартные ставки он мог позволить себе только благодаря Неваде - «этой дыре в земле с золотом и серебром в ней». Однако для того, чтобы удерживать на плаву свою империю пароходных линий, доков, суконных и железорудных предприятий, виноградников, табачных полей, элеваторов и десятков других промышленных объектов, ему необходимо было иметь в безраздельно^«владении шахты и камнедробильни Комстока. Он постоянно твердил себе, что дело здесь не в жадности, а в том, что он хочет превратить Сан-Франциско в одну из величайших столиц мира. Именно поэтому он и пользовался любыми средствами, как честными, так и бесчестными, чтобы воспрепятствовать строительству туннеля Сутро. Сутро был первым человеком, бросившим вызов его господству пад Маунт- Дэвидсоп; человек этот был фанатиком, а фанатиков следует останавливать любой ценой. Много раз Ролстон со всеми своими миллионами оказывался в затруднительном положении, по всякий раз он при помощи какого-нибудь пиратского маневра умудрялся выкручиваться. Всего лишь год назад он отчаянно нуждался в золотых монетах, чтобы удовлетворить предъявляемые Банку Калифорнии требования о выплате вкладов. Недавно принесший присягу президент Соединенных Штатов Улисс Грант запретил монетному двору Сан- Франциско обмен золотых слитков на отчеканенную монету. Ночью Ролстон с двумя друзьями в сопровождении федерального директора монетного двора открыли федеральные сейфы и взяли из них почти четыре тонны отчеканенных монет, заменив их золотом в слитках. На следующее утро, когда Банк Калифорнии распахнул свои бронзовые двери перед ожидающей толпой, Ролстон велел разложить у касс, на полках и столах миллион золотыми монетами для всеобщего обозрения. Подобная комбинация пиратства и артистизма помогла банку успокоить вкладчиков. Потом он сразу же отправился к соседнему банку, который стоял перед подобной угрозой, взобрался на пустой ящик, стоявший на тротуаре, и крикнул толпящимся вкладчикам: «Тащите свои чековые книжки в Банк Калифорнии. Мы уплатим вам звонкой монетой!» С паникой было покончено. Федеральное правительство учло ход Ролстона, приказав ввести свободный обмен золота на отчеканенную монету. Сан-Франциско стал поклоняться Ролстону еще больше, чем раньше. Его слава достигла Лондона, Парижа, Берлина, Рима, Стокгольма; он стал символом грубоватого и предприимчивого пионера с Дальпего Запада. В пятьдесят пять лет Билли Ролстон представлял собой могучего гиганта, который бросал вызов сильному течению,в проливе Золотые Ворота и проделывал вплавь путь до острова Алькатрас в любой день, когда только позволяла погода. Клиенты банка могли видеть его «красивой формы голову, внимательный взгляд и сияющее свежестью умное лицо» за стеклянной перегородкой конторы; утверждали, что они любили смотреть на своего капитана, занимающего пост на капитанском мостике. Тысячи жителей Сан-Франциско, зависящие от его решений и его банка в своем экономическом положении и благополучии, говорили друг другу, что «предприимчивость, энергия и успехи» Билли Ролстона наполняют их верой в свои силы. Даже в самые напряженные моменты он демонстрировал Сан-Франциско свое спокойно улыбающееся, жизнерадостное лицо. Близкие друзья узнавали о том, что он встревожен, по его привычке во время обсуждения какой-либо проблемы рвать на тоненькие полоски бумагу и бросать их в корзину. Будучи взволнованным, он часто промахивался, и тогда пол вокруг пего был на дюйм покрыт бумагой. Как и пристало лидеру общества, он был человеком безгранично преданным благотворительности. Когда Дэ- ниэл Колт Джилмен, президент недавно открытого на покрытых маком холмах Беверли университета Калифорнии, пришел к Билли с просьбой оказать помощь в строительстве мужского общежития, Ролстон дал ему деньги на постройку шести корпусов. Когда умирающий Джеймс Лик обратился к Ролстону за советом, как ему поступить с пятью миллионами, Ролстон сказал ему: «Оставьте их Сан-Франциско, чтобы мы могли использовать ваши деньги для улучшения и украшения города. Постройте техническую школу для мальчиков и дом престарелых для неимущих; оставьте свои деньги для парков, статуй и бесплатных публичных бань, чтобы Сан-Франциско, подобно Риму, превратился в бессмертный город». И Лик сделал все именно так, как ему посоветовал Ролстон. Друзья Билли Ролстона из финансового мира Сан- Франциско говорили, что Ролстон «подымал дичь, а потом его друзья могли бить ее на выбор». Люди называли своих сыновей его именем, поселенцы - свои улицы; когда Южная Тихоокеанская хотела назвать его именем один из городков в Хоакин-Вэлли и он из скромности отклонил эту честь, городок был назван Модесто, что по-испански означает «скромность». В Сан-Франциско о нем говорили: «Он скромен; он очень прост в повседневной жизни. По делу или по вопросу, связанному с благотворительностью, попасть к нему так же легко, как к любому лотошнику города. Он известен как друг бедных, покровитель искусств, биржевой магнат, великий банкир и филантроп». Ролстон не всегда бывал щедрым, как, впрочем, и не всегда скромным. Однажды, когда он мчался на четверке великолепно подобранных лошадей по дороге из Сан-Франциско в Бельмонт, мальчишка верхом на неказистой лошади, ехавший в том же направлении, воспринял невероятную скорость экипажа как вызов и обогнал его. Оскорбленный Ролстон вернулся на ферму, где жил мальчишка, и заставил его отца продать ему лошадь. Не был он героем и в глазах жены. Она мало видела его и не упрекала за это, поскольку трудно упрекать столь занятого человека, который уходит из дому в пять часов утра. Пока она сидела одна в их городском доме на Пайн- стрит, Билли устраивал то, что вошло в историю под названием лукулловых пиров в Бельмонте. Ходили рассказы об оргиях с участием женщин; после одного из банкетов «одурманенные выпивкой гости забрели в чужие спальни, что вызвало большое замешательство». Когда красивая английская актриса Аделаида Нилсон приехала в Калифорнийский театр Ролстона, чтобы в течение нескольких недель исполнять шекспировские роли, Билли Ролстон преподнес ей бриллиантовое ожерелье стоимостью в сто тысяч долларов. Злые языки по-своему интерпретировали причины этого стотысячного подарка. Теперь, в 1872 году, Уильям Чэпмен Ролстон взялся за осуществление самого грандиозного строительного проекта в своей жизни, который, по его мнению, должен был стать последним мазком на портрете Сан-Франциско: строительство отеля, настолько великолепного, что наиболее знаменитые и богатые люди стекутся в его гостеприимные стены со всего мира. Когда кто-то из друзей спросил у пего, ка!«он намерен назвать свой отель, Ролстоп ответил с любезной улыбкой: «Ну что ж, поскольку это должен быть дворец, и притом один из величайших дворцов мира, почему бы не назвать его просто «Палас-отель»?» Ответ этот был весьма типичным и для Ролстона, и для Сан-Франциско. Оскар Льюис в «Бонанза Инн» писал: «Посетители из консервативных восточных центров обнаруживали, что по меньшей мере половина населения здесь страдает манией величия. Мало какой город мог похвастаться столь горячей преданностью своих обитателей. Приезжие зачастую никак не могли понять, чем здесь вообще можно было гордиться. В глазах непредвзятого человека Сан-Франциско выглядел грубым, шумным, грязным. Вдоль его улиц высились дома, отражающие наихудшие черты низкого архитектурного вкуса того времени. Городу насчитывалось всего три десятилетня. Он рос слишком быстро». По мнению Ролстона, «Палас-отель» должен был положить конец пионерской эре в Калифорнии и дать начало веку элегантности, который сделает Сан-Франциско соперником Ныо-Йорка, Лондона и Парижа. Первым шагом на пути к постройке «Палас-отеля» была покупка участка песчаных дюн к югу от Маркет-стрит, где в тридцатые годы Марпано Вальехо застрелил медведя гризли. Квадрат земли обошелся Ролстону в 400 000 долларов. Он нанял ведущего архитектора города Джона Гейпора и отправил его на Восток для изучения отелей Чикаго и Ныо-Йорка. На обнесенном высоким деревянным забором участке были пробурены артезианские скважины. Миллион долларов был израсходован Ролсто- ном только на бетонные работы по возведению фундамента, в котором должны были разместиться кладовые. В плане отель представлял собой четырехугольник с тремя обширными дворами, дающими доступ воздуху и солнечному свету, с огромным центральным двором и подъездными путями. Вокруг этого огромного двора семью этажами должны были подниматься галереи с комнатами, а все сооружение должно было быть покрыто общим стеклянным куполом. Из отеля открывался вид на город - в каждой комнате предусматривалось окно с широким обзором. Стены возводились двойной толщины и усиливались железом для предотвращения разрушений от землетрясений и пожаров; было протянуто пять миль водопроводных труб и сто двадцать пять миль электрических кабелей. Вводились такие новшества, как кнопки электрических звонков для вызова слуг в каждой комнате, телеграфная связь между различными службами отеля, электрические часы, пневматические трубы для писем и посылок и - как верх хорошего вкуса - более семисот «ватер-клозетов, в которых якобы имеется приспособление, при помощи которого вода сливается не производя того ужасного шума, который обычно сопровождает это действие». Делом принципа для Ролстона было использование па строительстве «Палас-отеля» материалов калифорнийского производства. Так, например, суконной фабрике «Мишн» он поручил изготовлять одеяла для отеля. Если же у него не было нужной фабрики, он покупал или строил ее. Когда понадобились дубовые планки для паркета, Ролстон купил лесное ранчо у подиожия Сьерра-Невады, но обна- ружил, что там растет непригодный для этих целей дуб. Ради производства кованых гвоздей и инструментов он приобрел литейный цех. Он построил фабрику по изготовлению замков и скобяных изделий, приобрел мебельную компанию «Вест-Кост», чтобы изготавливать из местного, калифорнийского лавра мебель для отеля. Уильям Шарон, которому Ролстон навязал участие в этом грандиозном предприятии, трезво следил за всеми операциями. Он пытался образумить Ролстона: «Если вы собираетесь покупать литейный цех для того, чтобы сделать гвоздь, ранчо ради плапки, а мебельную фабрику для изготовления мебели, то чем это все кончится?» Но были вещи, которые Ролстон не мог ни купить, ни сделать в Калифорнии, и он разослал заказы на изготовление ковров и столовой посуды во Францию. В Белфасте, в Ирландии, склады, как говорили, остались без запасов белья; драгоценное инкрустированное панно везли из Индии, а предметы искусства - со всего мира. «Палас-отель» должен был обойтись в шесть миллионов долларов наличными, выплаченными из карманов Ролстона и Шарона. К февралю 1873 года, когда всего только два пли три этажа отеля были построены, директора Банка Калифорнии начали проявлять беспокойство по поводу «наличности». Банк обязан был иметь запас наличных денег в пять миллионов долларов, однако три с половиной миллиона из них было отдано взаймы Ролстону для осуществления различных его предприятий: два миллиона вложены в компанию по торговле недвижимостью, через которую Ролстоп скупал землю к югу от Маркет-стрит для создания здесь нового делового района; чуть менее миллиона - в шерстобитные фабрики «Пасифик» и около шестисот тысяч - в «Киболл карридж компапн». Наличных денег не хватало, и обеспокоенные директора потребовали, чтобы Ролстоп взял на себя ответственность за все эти долги. Билли Ролстоп, разрывая на клочки полоски бумаги и швыряя их в корзину для бумаг, горько сказал своему брату: «Если ты делаешь деньги для этих людей, то но получишь ни слова благодарности, но, если ты потеряешь деньги, они проклянут тебя». Д. О. Миллс, президент Банка Калифорнии, который стал одним из самых богатых людей к западу от Чикаго благодаря тому, что Ролстон осуществлял руководство банком, решил, что теперь самое время выйти из дела, сохранив в неприкосновенности свои деньги. Он потребовал, чтобы Ролстон выкупил у него его долго в банке за наличные деньги - за те самые наличные, которых сейчас так не хватало Ролстопу. Теперь Ролстон стал президентом Банка Калифорнии не только фактически, но и формально. Ролстону крайне необходимо было новое,золотое дно в Комстоке. Ему необходимы были новые миллионы на содержание Бельмонта с его роскошными приемами и великолепной конюшней скаковых лошадей. Как отцу города, ему приходилось поддерживать все фабрики, кузнечные мастерские и литейни Сан-Франциско, от которых зависело процветание города. Он посылал бесчисленные поисковые партии в истощенные шахты, принадлежащие Банку Калифорнии, в надежде найти новые рудные жилы. Но фортуна теперь улыбалась его противникам - Серебряным королям. Потеряв «Консолидейтэд Вирджиния» из-за Шарона, считавшего, что залежи там не представляют ценности, Ролстон начал скупать акции давно истощенной шахты «Офир». Шарон утверждал на этот раз, что именно здесь должны проходить богатые жилы, подобные тем, которые Серебряные короли разрабатывали в «Копсолидейтэд Вирджиния». Ролстон начал по любой цепе скупать акции «Офира». Так неожиданное счастье привалило Счастливчику Болдуину, которому он выписал чек на 3 600 000 долларов за его акции этой шахты. Судьба нанесла Ролстону еще один удар. С того дня, как он в 1864 году распахнул двери Банка Калифорнии, и ?плоть до весны 1875 года никто ни разу не поставил иод сомнение его роль финансового лидера северной Калифорнии и Невады. Однако Серебряная Четверка решила, что нуждается в собственном банке. Она открыла в 'Сан- Франциско банк Невады с капиталом в пять миллионов долларов в виде солидных слитков, добытых в «Консоли- дейтэд Вирджиния». До этого Серебряная Четверка все свои банковские операции проводила через банк Ролсто- на, теперь же они изъяли миллион наличными и слитки стоимостью в четыреста тысяч, которые хранились в сейфах банка. Билли Ролстон демонстрировал собой неунывающее лицо Сан-Франциско, однако ему пришлось взять в долг у Уильяма Шарона два миллиона долларов, переуступив взамен все права на «Палас-отель». Уильям Шарон, с его маленькими блестящими глазками, бледным лицом, украшенным черными усами, был весьма обстоятельным подлецом. Его одпонлановый характер был настолько цельным, что все годы, проведенные нм на Дальнем Западе, не смогли изменить, смягчить или как-то по-иному сформировать его. Шарон поклялся, что сделается сенатором Соединенных Штатов. Чтобы обеспечить себе голоса законодателей Невады, он дал им конфиденциальный совет скупать акции шахты «Офир» и держать их до тех пор, пока они• не поднимутся в цепе до трехсот долларов. Большинство законодателей стали вкладывать деньги в акции «Офира», что дало начало спекулятивному буму на бирже Сан-Франциско, который посторонние наблюдатели считали чистым безумием. Когда курс акций «Офира» поднялся почти до трехсот долларов, иевадские законодатели избрали Уильяма Шарона в сенат Соединенных Штатов. Как только это произошло, Шарон срочно продал через подставных лиц все свои акции «Офира». ?Эта продажа столь крупного пакета акций сразу же низвела акции «Офира» до их истинной стоимости, то есть почти до нуля. Ролстону, чтобы расплатиться за акции, которые он приобретал под долговые обязательства, пришлось распроститься со значительной частью своих личных владений. Манипуляции Шарона обошлись Ролстону в три миллиона долларов, потому что падение акций «Офира» вызвало па бирже панику и понижение курса акций Комстока в целом на сто миллионов. Члены законодательного собрания Невады были полностью разорены… впрочем, по словам многих, это было именно то, чего опи заслуживали. Пятьсот тысяч долла- «ов, которые Шароп израсходовал на свое избрание, он верпул, продав акции по искусственно завышенному курсу. Никто не мог тягаться с Уильямом Шароном. Так оно и было до того, как прекрасная Сара Альтеа Хилл, более известпая под прозвищем Роза Шарона, не сделала его посмешищем всей страпы. Биржевой крах лета 1875 года был самым жестоким из всех, которые знал Сан-Франциско. Деловая жизнь города была парализована, магазины и фабрики закрывались. Тысячи граждан города, игравших на бирже на деньги, полученные от заклада домов, предприятий и драгоценностей, обанкротились. Мало кто знал, что трагедия эта была подстроена вновь избранным членом сената Соединенных Штатов Уильямом Шароном. Все считали, что Уильям Ролстон, которому опи безгранично верили, довел их до нищеты. Члены шайки приносили к нему акции Банка Калифорнии и требовали, чтобы Ролстон выкупил их. Затравленный Ролстон рвал бумагу, усыпая ею пол своей конторы. Ему пришлось расстаться со всеми своими владениями, кроме Бельмонта и дома па Пайн-стрит. Оп занялся проведением одной гигантской операции, которой надеялся спасти и себя и банк. Впервые за двадцать лет сделка эта была направлена, пожалуй, против интересов Сан-Франциско, однако теперь, когда он сам находился в отчаянном положении, это обстоятельство уже не смущало его. Водопроводная компания «Спринг-Вэлли» занималась осуществлением инженерпого проекта по обеспечению водой быстро растущего Сан-Франциско. Ролстон под остатки своих владений получил заем в три миллиона долларов и принялся скупать ее акции. Заполучив кон- трольпый пакет акций, он предложил Сан-Франциско купить у пего водопроводную компанию за 14 500 000 долларов. Столь высокая цена была его первой ошибкой: ведь тот Уильям Ролстон, каким его знали всего год или два назад, закончил бы строительство, а потом величествепным жестом преподнес бы подарок Сан-Франциско. Затем он совершил еще более серьезную ошибку. Зная, что предложение его должно быть одобрено городскими властями, он пошел на подкуп членов городского совета и мэра. Местная пресса ополчилась против своего идола, называя его замаскированным грабителем с большой дороги, злостным мошенником. Один из репортеров Ассошиэйтед Пресс в Сан-Франциско разоблачил в своей статье махинации Рол- стона и разослал статью газетам всей страны. Она была напечатана в нью-йоркском «Коммершиал адвертайзер», и это не только нанесло ущерб репутации Ролстона, но и подорвало его кредит на Востоке да и во всем мире. В середине августа Серебряная Четверка решила окончательно избавиться от Ролстона. Играя на понижение курса акций Комстока, они полностью обесценили те из них, которые находились под контролем Ролстона. 26 августа 1875 года по Сан-Франциско пронесся слух о том, что Банк Калифорнии находится в затруднительном положении. Почти немедленно полтора миллиона долларов было изъято как крупными, так и мелкими держателями вкладов; все наличные деньги и золотые слитки ушли на оплату этих счетов. К половине третьего дня двери банка уже осаждала разъяренная толпа, обезумевшая от страха за судьбу своих капиталов. Люди толкались, напирали с проклятиями друг на друга, пытаясь прорваться в здание банка. Огромные бронзовые двери, которые символизировали собой солидность и феноменальный рост Сан-Франциско, медленно затворились, подталкиваемые изнутри. Банк Калифорнии прекратил выдачу вкладов. На следующее утро с самого рассвета стояла необычайная жара. Ролстон встал очень рано, попытался успокоить жену, а затем отправился в банк, где передал права владения на Бельмонт своему партнеру Уильяму Шарону. Он лишился также дома на Пайн-стрит, скаковых лошадей, своей огромной, хотя и беспорядочно подобранной коллекции картин. Все свое имущество он передал Уильяму Шарону для оплаты счетов кредиторов. В этот же день после обеда состоялось собрание директоров банка. Уильям Чэпмен Ролстон представил им полный отчет: долги его составляют 9 500 000 долларов. Он утверждал, что если ему дадут возможность, то он сумеет набрать обеспечений на 4 500 000, а если директора будут по-прежнему относиться к нему с довернем и одобрят предложенную им схему реорганизации, он в непродолжительном будущем снова поставит Банк Калифорнии на ноги и оплатит счета всех вкладчиков. Совет банка, состоявший из людей, которых Ролстон сделал миллионерами, попросил его выйти из комнаты, чтобы они могли свободно обсудить его предложение. Как только дверь за ним затворилась, Уильям Шарон вскочил с места и внес предложение потребовать от Ролстона заявление об отставке. Д. О. Миллс вошел в кабинет Ролстона и сообщил ему, что от него требуют немедленной отставки. Ролстон подписал документ. •Измученный жарой и огорчениями, он отправился в залив Нептуна. Здесь он разделся в купальне, нырнул в холодную воду с заброшенного причала и сильными гребками поплыл через волны пролива Голден-Гейт к колесному пароходу, стоящему на рейде в нескольких сотнях ярдов от берега, а потом - мимо него - к острову Алькат- рас, цели его заплывов в прошлые годы. Часом позже его тело было вынесено волнами на берег залива… Сан-Франциско погрузился в траур. Умер один из гениев этого города.Глава V
Невадский цикл жизни и смерти 1875 год был критическим годом для Вирджиния-Сити. Джон У. Мак-Кей и Джеймс Г. Фейр подняли выплачиваемые «Консолидейтэд Вирджиния» дивиденды с 324 ООО до 1 040 ООО долларов, и ходили слухи,' что дивиденды эти должны еще удвоиться. Миллионы, выплачиваемые «Консолидейтэд Вирджиния» и «Калифорнией» в качестве дивидендов, привели к тому, что спекулятивная мания вновь охватила Сан-Франциско. Колоссальные состояния сколачивались за несколько дней. Счастливчик Болдуин, отправляясь в отпуск на Гавайские острова, приказал своему маклеру продать акции, однако забыл подписать доверенность, без чего пакет акций не мог быть продан. Вернувшись в Сан-Франциско,Болдуин обнаружил, что.?за время его отсутствия стоимость акций возросла в сто раз. Еще более поразительные истории рассказывались об уборщицах, моющих полы руками с бриллиантовыми кольцами на пальцах; о горничных, покупавших гостиницы, в которых они работали; о кучерах, отдававших свои упряжки случайному прохожему. Лихорадка в Вирджиния- Сити приняла такие масштабы, что в китайском квартале, жители которого всегда считались самыми азартными игроками па Дальнем Западе, почти прекратилась игра в фан-тан, потому что китайцы играли на бирже. Деньги, необходимые для нормальной деловой жизни центральной»Калифорнии, снова и снова текли на биржу. Для того чтобы доставить на-гора все эти богатства, шахты превратились во всепожирающих потребителей товаров. Ежемесячно в 1875 году только одна «Коисолидей- тэд Вирджиния»,потребляла полмиллиона погонных футов пиломатериалов, пятьсот пятьдесят кордов дров, сто галлонов каменноугольного масла, триста пятьдесят ящиков свечей, двадцать тысяч футов бикфордова шпура, тонны стали, угля, железа. Для бесперебойного поступления всех этих материалов в шахтные колодцы, Джон Мак-Кей и Джеймс Фейр основали промышленную империю, с которой могла соперничать лишь империя недавно усопшего Уильяма Ролстона. Крайнюю необходимость шахты испытывали в лесе и воде. Миллионы футов досок нужны были ежемесячно, а сорок тысяч кордов дров требовалось для поддержания нормальной работы механизмов и обогатительных фабрик. Восточный склон Сьерра-Невады был уже оголен; теперь лес приходилось валить на калифорнийской стороне, илотами переправлять через озеро Тахое, а затем доставлять до места конными упряжками. Дороги размывались каждую зиму, и Серебряные короли решили воспользоваться недавним изобретением Хеинса из Генуи, штат Невада, - V-образным желобом. Была создана «Пасифик вуд люмбер энд флюм компани» с намерением построить желоб, идущий от соснового леса к северо-западу от Уошоэ в пятнадцати милях от Рено. Желоб этот был одним из инженерных достижений Дальнего Запада. Он представлял собою тщательно построенную эстакаду из двухдюймовых досок, шириной два с ¦полов.нцой фута, на прочно сколоченных и закрепленных козлах, каждая секция была длиной шестнадцать футов и скреплялась со следующей с таким расчетом, чтобы любая поломка не распространялась па следующие секции. Сотни секций были соединены друг с другом, образуя плавную линию и не давая бревнам застревать в желобе. Вода, которая служила смазочным материалом, поступала из Охотничьего ручья, протекавшего в двадцати милях от эстакады. Место, где валили лес, лежало на две тысячи футов выше места назначения. Тяжелые бревна пролетали над каньонами, реками, холмами и обходили горы, причем скорость их достигала шестидесяти миль в час, а эстакада в некоторых местах возвышалась на семьдесят футов над землей. Вдоль всей линии были проведены телеграфные провода и расставлены специальные рабочие бригады, которым вменялось в обязанность следить за движением спускаемого леса вплоть до конечного пункта - станции железпой дороги «Вирджиния энд Траки». Вирджиния-Сити пользовался водой из ручьев, протекавших у подножия Маунт-Дэвидсон, а также из колодцев. Серебряная Четверка три года назад приобрела у Уильяма Шарона водопроводную компанию «Вирджиния энд Голд- Хилл». Теперь она обратилась к крупнейшему специалисту по водопроводам па Западе инженеру X. Шусслеру, построившему водопровод для Сан-Франциско. Источники, которые• могли обеспечить нужды Вирджиния-Сити, находились в Сьерра-Неваде в двадцати пяти милях от города, отделенные от Маунт-Дэвидсон долиной Уошоэ. Возникала проблема: каким образом воду с гор Сьерра-Невады спустить вниз на целую милю, провести ее по глубокой долине, а потом снова поднять на высоту одной мили к Вирджиния-Сити? Инженер Шусслер обследовал местность с той тщательностью, с какой Теодор Джюда обследовал эту же самую местность для прокладки железнодорожного полотна. На вопрос Серебряных королей, осуществима ли вообще эта идея, Шусслер ответил: «Осуществима, но с большими трудностями». ???? 449 Целый год ушел на изготовление двепадцатидюймовых труб на литейных заводах Сан-Франциско. Завершение проекта обошлось в два миллиона долларов, но и это было большим успехом. В тот депь, когда вода дошла до Вирджиния-Сити, оркестры играли вдоль всей С-стрит, изрядно устаревшая пушка, которую Фремонт бросил в снегах 29 Зак. Л! 1463 в тех местах, откуда поступала вода, палила в честь праздника, со склона Маунт-Дэвидсон запускались праздничные фейерверки. По трубе в город поступало более двух миллионов галлонов воды в сутки. Когда н этой воды пе стало хватать для бешено работающих шахт, рядом с первым трубопроводом был проложен второй, из труб диаметром десять дюймов. Желоба, по которым доставлялись лес и вода, шли теперь в самое сердце Сьерра-Невады. Для хранения воды были построены огромные резервуары, а для сброса талых вод в озеро Тахое был пробит сквозь горный хребет трех- тысячефутовый туннель. Вирджиния-Сити был знаменитым городом, рассказы о его богатствах достигали отдаленнейших? уголков земного шара. Общая рыночная стоимость его акций составляла триста миллионов долларов, за пятнадцать лет своего существования он успел перерасти столетний Лос-Лнджелес. Знаменитости всего мира совершали специальные путешествия, чтобы побывать в этом преимущественно подземном городе, потому-что Вирджиния-Сити был всего лишь крышей подземного дома, состоящего из шахт, прорезавших гору семнадцатью горизонтами. Чтобы собственными глазами посмотреть на то, о чем идет столько разговоров, здерь побывали бывший президент Грант и президент Хейс, император Бразилии доп Педро и герцог Сазерлэнд- ский, которого Мак-Кей и Фейр встретили пятьюстами бутылками шампанского, прославленная певица Аделипа Патти и бесславный агностик, безбожник Роберт Г. Ингер- солл. Всех их наряжали в шахтерские каски и сапоги, тяжелые шерстяпые куртки и спускали вниз в клетях, а потом водили по забоям, где пузырилась кипящая глина и стояла такая невыносимая жара, что Улисс Грант пробормотал: «Это самое близкое расстояние, на которое мне хотелось бы приблизиться к аду», - а безбожник Роберт Ингерсолл лукаво заявил: «Возможно, я все-таки ошибался, и ад, в конце концов, существует?» Шахтеры Комстока охотно согласились бы с ним. Они работали в три смены, по восемь часов каждая. Спустившись на глубину полутора тысяч футов, где залегали самые богатые рудные жилы, они раздевались до брюк. Металлические каски защищали их от сыпавшихся сверху камней, а башмаки на толстой подошве - от кипящей глины. Каждые пятнадцать минут шахтеры, шатаясь, брели на станцию охлаждения. Никто не выдерживал дольше. Пока одни работали, другие поливали их холодной водой или набрасывали им на спины смоченные ледяной водой полотенца. Только за один год «Консолидейтэд Вирджиния» израсходовала два миллиона фунтов льда - дневная норма на одного человека, таким образом, составила девяносто пять фунтов. Когда открывали новую рудную жилу, а владельцы намеревались совершить манипуляции с акциями, шахтеров иногда держали под землей по две недели, чтобы они не могли кому-нибудь проговориться. Вниз им тогда доставлялись редчайшие деликатесы: икра, утки и омары, бифштексы, зажаренные лучшими поварами города, ящики лучших французских вин, чтобы скрасить досуг, и мягкие матрацы для ночлега. Шахтеры не жаловались. Они развлекались, давая отдельным штрекам названия вроде «Вставай, Джек», «Пучеглазый», «Пусть уварится», «Левитикус», «Второзаконие». Несмотря на трудности и постоянную угрозу внезапной смерти от обвала или более затяжной - от туберкулеза, нм нравилась такая жизнь. Вирджиния-Сити был их городом. Выбравшись из подъемных клетей и отмыв грязь горячей водой прямо в здании шахты, они шествовали по улицам города с твердым намерением доказать, что именно они являются самыми высокооплачиваемыми шахтерами в мире. Каждое второе здание города было богато украшенным салуном или игорным домом, предназначавшимся для их развлечения; их ждали магазины с дорогой одеждой, театры, кулачные бои; для них играла музыка; а ниже по холму, за С-стрит, располагался район красных фонарей, который, по хвастливому утверждению обитателей Вирджиния-Сити, превосходил по размерам, разнообразию и привлекательности своих обитательниц все остальные города Запада. «Почетные гости города после визитов на шахты и обогатительные фабрики, после приема в клубе Уошоэ, после посещения баров на С-стрит или Оперного театра Пайпера по общему молчаливому согласию сворачивали вниз по крутому склону холма к «линии» - к двум рядам белых коттеджей, которые тянулись на протяжении двух кварталов вдоль Д-стрит». ???? 451 Вирджиния-Сити был по природе своей городом-холостяком; большинство его мужчин жили в центре в комфортабельных гостиницах. Небольшое число семей сели-
29*
лось на голом, но вполне респектабельном склоне холма над С-стрит, владельцы шахт - в своих разукрашенных домах в Усшоэ, управляющие, надсмотрщики, доктора, юристы, банковские служащие и клерки размещались в удобных коттеджах с маленькими аккуратными садиками. Для шахтерских семей предназначалась часть города, лежавшая ниже С-стрит. Она представляла собой растянувшиеся на целую милю джунгли из «халуп, построенных стена к стене, прижавшихся к обогатительным фабрикам или гигантским отвалам породы, халуп, пеоструганные и неокрашенные доски которых окрашивались в одинаковый серый цвет пыльными ветрами во время засушливого лета». Можно было пройти целые кварталы и не встретить ни кустика, ни стебелька травы; когда начинал дуть уошойский «зефир», он иногда поднимал жестяную крышу, а то и целую лачугу в воздухи опускал ее на землю в другом квартале. Закона в этом городе было ничуть не больше, чем краски па стенах этих лачуг. На каждые сто убийств, происшедших, как считали, из-за нарушения заявочных прав или пьяных ссор, тринадцать преступников оказывались повешенными поспешно сформированным Комитетом бдительности, а восемь - шерифами графства. Дэвид Беласко, молодой актер из Вирджиния-Сити, который впоследствии стал одним из ведущих театральных режиссеров страны, говорил: «Я был одним из первых, кто привнес естественность в сцены смерти, и огромную помощь в этом оказал опыт, приобретенный мной в Вирджиния-Сити». Один человек писал в Сан-Франциско: «Калифорния 49-го года в известной степени была преддверием ада, однако Невада может считаться тронным залом самого Плутона. За сорок дней моего пребывания тут я видел мошенп. гества, жульничества и проституции больше, чем за тринадцать лет жизни в нашем не слишком строгом в моральном отношении штате Калифорния». Во время этих сатурналий какой-то пьяница решил прикурить от керосинового фонаря. Его высохшая на солнце лачуга занялась пламенем. Дул обычный здесь «зефир» Уошоэ. Огонь начал распространяться от дома к дому намного быстрее самых быстроногих членов вирджинской пожарной команды. Дома, высушенные за десятилетия пустынным солнцем, не просто загорались, а буквально взрывалиеь пламенем. Тысяча домов выгорела за час. Чтобы уберечь здания шахт и обогатительных фабрик, был применен динамит. Но и это не помогло. Все покрывалось красным ковром огня который загнал жителей на самые верхние склоны, где они и сидели со своими пожитками. Выгорел весь город: деловые кварталы, гостиницы, школы, церкви. Несколько шахт оказались охваченными огнем. «Общие потери составляли примерно десять миллионов, однако Вирджиния-Сити, выдававший на-гора на такую же сумму драгоценных металлов ежемесячно, мог просто пожать плечами, считая происшедшее скорее неудобством, чем серьезной потерей». 'Таким образом, подобно своим собратьям на Дальнем Западе, которые периодически выгорали дотла, Вирджиния-Сити, обратившись в пепелище, через два месяца отстроился вповь, превратившись в красивую столицу на склоне голого холма в центре еще более голой пустыни: новый Оперный театр Пайпера, обошедшийся в 150000 долларов, отель «Интернэшнл» высотой в шесть этажей. Миллионеры в Уошоэ построили еще более замысловатые резиденции в стиле рококо над С-стрит, а их женщины заказали себе новые наряды в Париже. Мужчины щеголяли здесь в платье от «Принца Альберта», привозили шеф-поваров из Нью-Йорка и рояли -из Бостона. Здесь были закрытые клубы для избранных, еженедельные вальсы и кадрили в «Энтр-ну». Социальная значимость зависела здесь от суммы овежедобытых денег. А под всем этим уже целых шесть лет подряд днем и ночью вершилось величайшее инженерное чудо Невады. В 1875 году туннель Сутро протянулся уже на более чем в ©семь тысяч футов в горе, и предетояло пройти еще двенадцать тысяч, чтобы добраться до минерального пояса Комстока. А пока Сутро упорно прокладывал себе взрывами путь вперед со скороетью двухсот пятидесяти футов в месяц, пробивая вертикальные вентиляционные колодцы в Маунт-Дэвидсон, Мак-Кей и Фейр вывогили миллиопы тонн камня и руды через стволы своих шахт. Каждая из этих тонн озпачала для Сутро потерю потенциальных двух долларов, которыми он мог бы оплачивать свой более чем двухмиллионный долг банкам. На протяжении октября, когда Вирджиния-Сити догорал и когда пожар перекинулся на шахты «Консолидейтэд Вирджиния» и «Офир», в результате чего у них сгорели сотни погонных миль внутренней опалубки, Сутро, раздевшись до набедренной повязки, работал в своем забое, удваивая усилия как собственные, так и людей в надежде успеть пробить туннель до того, как шахты смогут вновь приступить к работе. Но продвин{ение было медленным, мучительно медленным. Чем глубже они вгрызались в гору, тем невыносимее становились условия труда. И хотя в туннеле работали специально отобранные рабочие, даже лучшие из них не могли выдержать более двух или трех часов в жаре и отравленной атмосфере, когда воздух к тому же становился еще более тошнотворным из-за вони потеющих мулов. Сутро установил мощные вентиляторы системы Рута, привез из Германии сдвоенные компрессоры. И все-таки воздух оставался настолько отравленным, что люди выходили из забоя в полуобморочном состоянии. Кипящая вязкая глина пузырилась вокруг их ног, засасывая и ломая самые толстые бревна. Сутро решил закладывать только самые небольшие заряды взрывчатки из опасения, что крепления будут снесены взрывом. И все же никто не дрогнул. Ядовитые газы, удушающая невыносимая жара и повсеместная опасность им были не в диковину. Проходили месяцы, годы, а они все продвигались вперед: десять тысяч, двенадцать тысяч футов от входа, семнадцать тысяч, восемнадцать… Потом -уже и вовсе нельзя было пользоваться порохом, камень приходилось преодолевать кирками. И наконец, когда было пройдено двадцать тысяч футов и они углубились в минеральный пояс, сернистые источники создали такую невыносимую жару, что казалось, пройти эту последнюю сотню мучительных футов выше человеческих сил. Но строители продолжали двигаться вперед, и Сутро участвовал в проходке почти каждого дюйма. 8 июля 1878 года, через восемнадцать лет после того, как у него зародилась идея строительства туннеля, Сутро услышал, как рабочие шахты «Сэвидж» взрывали породу по другую сторону разделяющей их скалы. Радость охватила его: он прошел сквозь двадцать тысяч футов вулканической горной породы к своей цели! Сутро отправил записку из своего туннеля вокруг горы по каньону к главному управляющему шахты «Сэвидж»: «Если вашим людям удастся пробить бурами сквозную дыру, пусть они сразу же остановятся и не расширяют ее до того, как оповестят меня. Потребуется довольно продолжительное время для ваших и моих людей, чтобы отступить, потому что опасаюсь, что поток горячего и сырого воздуха, внезапно приведен- пого в движение может оказаться гибельным для лю дей? •? ~ Джиллет, главный управляющий шахты «Сэвидж», был готов взорвать перемычку. Он принялся колотить кувалдой по перемычке, чтобы известить Сутро о том, что оп собирается произвести взрыв. Сутро тоже постучал молотком по камням, сообщая о своей готовности. Шахтеры «Сэ- видж» пробурили восемь отверстий в тонкой стене, заложили в них пороховые заряды Ригоррета, а Сутро' со своей стороны забил выходные отверстия землей. Пороховые заряды были подожжены. Страшный грохот потряс Маунт-Дэвидсон, эхо заполнило самые отдаленные штреки и штольни. Сначала вихрем пронесся дым, а потом вверх из туннеля Сутро вырвался такой поток горячего воздуха, что шахтеров повалило на землю, а лампы их погасило. Шахтеры «Сэвидж» быстро оправились и принялись лопатами расчищать грязь и камни, пока не добрались до рваного пролома в стене, проделанного взрывом. С этого места они могли глядеть прямо вниз, на дно туннеля Сутро в десяти футах от пих. Была спущена лестница. Когда она коснулась дна туннеля, Адольф Сутро который был обсыпан землей, взобрался по ней и, по словам одного из шахтеров, стоял в проломе, ведущем в «Сэвидж», «как Мефистофель». Внезапно поток свежего, прохладного воздуха, пройдя вверх свыше двадцати тысяч футов через туннель от реки Карсопа, подхватил Адольфа Сутро, как ребенка, н швырцул его к противоположной степе штрека шахты «Сэвидж». Сутро, исцарапанный и с кровоточащими ссадинами, но переполненный счастьем, с трудом поднялся на ноги. Американский флаг был поднят над входом в шахту «Сэвидж». У входа в туннель палили пушки. Все свершилось. Люди оказались достойными гор. Но они едва успели. Шахта «Краун-Пойпт» перестала выплачивать дивиденды-в 1875 году, когда процветание Вирджииня-Снти было в зените. «Белчер» выплатила последние дивиденды иа следующий, 1876 год. К середине лета 1877 года Мак-Кей и Фейр начали все чаще выходить на бедные по содержанию рудные жилы. Они не сказали об этом никому, кроме своих партнеров на бирже в Сан- Франциско. Очень осторожно, небольшими партиями Флуд и О'Брайен начали избавляться от акций «Консолидейтэд Вирджиния» и «Калифорнии». Миллионам тонн руды еще предстояло быть вывезенными через туннель Сутро, и каждая из этих тонн давала ему, его партнерам-шахтерам и предоставившим кредит банкам по два доллара. В среднем туннель приносил в месяц по двести тысяч долларов выручки. Однако золотое дно истощалось. Шахты постепенно угасали. Адольф Сутро в течение года эксплуатировал свой туннель. Он расплатился со всеми кредиторами, финансировавшими строительство, а затем продал свою долю участия за сумму, превышающую два миллиона долларов, и перебрался в Сан-Франциско, чтобы продолжать свою героическую биографию в качестве мэра Сан-Фрапциско и реформатора, застраивающего и украшающего береговые склоны Тихого океана. В январе 1877 года в Сан-Фрапциско пришла весть о том, что «Консолидейтэд Вирджиния» пропустила выплату месячных дивидендов. Реакция биряш на это известие была ужасающей. Глэссок в «Золотом дне» пишет: «Буквально тысячи жителей Сан-Франциско и других городов Калифорнии и Невады, в недалеком прошлом обеспеченные, респектабельные и полезные граждане, были низведены до положения уличных нищих». Каждое крупное предприятие, закрываясь, выбрасывало на улицы сотни людей. Благотворительные организации ежедневно предоставляли пищу двадцати тысячам человек. В Сан-Франциско началось массовое переселение в Аллею пауперов, длинный ряд жалких лачуг в беднейшей части города, теперь заселенной представителями той категории жителей Сан-Франциско, которая всего несколько дней назад владела вместительными домами с десятками слуг. Когда городские власти Сан-Франциско предложили платить по доллару за день на общественных работах, среди тысяч желающих получить эту работу были бывшие бизнесмены города и высококвалифицированные специалисты. Чарлз X. Шинн в «Истории шахты» говорит: «В Аллее пауперов вы могли, проходя в рабочие часы, встретить немало тех, кто некогда были миллионерами. Теперь они жили бесплатными завтраками в подвалах баров или мелочью, брошенной им на счастье. Значительную часть толпы несчастных, бродивших по этой аллее, составляли женщины». В 1880 году «Консоладейтэд Вирджиния» продолжала вести работы в ограниченных масштабах, однако имелись признаки того, что в следующем году закроется и она, как большинство шахт Вирджипия-Спти. А когда закроются шахты, чем будет жить город? В нем не было промышленных предприятий, не связанных с шахтами, сельское хозяйство было развито слабо. Человеку теперь здесь просто негде было заработать хотя бы доллар. По мере того как закрывались рудники, шахтеры и рабочие обогатительных фабрик разбредались. Дорогие магазины закрылись, закрылся н Оперный театр Пайпера, а чуть позлее - отель «Интернэшнл». Особняки на С-стрнт оказались покинутыми точно так же, как н ряды хижин вниз по холму от Д-стрит. Наиболее дорогие салуны и игорные дома первыми закрыли свои двери, после инх - средние, а затем постепенно и самые дешевые. Уошойский «зефир» летом вздымал над городом тучи пыли, а зимпие ураганы сметали целые кварталы. Часть домов разбиралась на дрова. «Территориэл интерпрайз» еще песколько лет продолжала борьбу за свое существование, однако оставалось все меньше преданных душ, способных читать ее. Жизненный цикл Вирджиния-Сити длился менее двух десятков лет - с 1859 по 1880 год. Что же произошло с 380 000000 долларов, которые Комсток влил в кровеносную систему Дальнего Запада? Что произошло с теми 108 000000 долларов, которые Се- ребряпые короли добыли с золотого дна Маунт-Дэвидсон? Кто оказался владельцем всего этого? Львиная доля всех этих богатств досталась Джону Мак-Кею, Джеймсу Фейру, Джеймсу Флуду и Уильяму О'Брайену. «Веселый миллионер» О'Брайен мало что сделал со своими капиталами, он умер первым из четверки, оставив свои богатства ближайшим родственникам. Джеймс Флуд использовал свои миллионы для покупки все новых и новых земельных участков в Сан-Франциско, пока в его руках не оказалась почти вся нижняя часть города, а рента не составила пятисот тысяч долларов в месяц. Во всех его договорах о сдаче внаем содержалось усло- вне, что съемщики должны за свой счет производить ремонт домов. Джон Мак-Кей покинул Калифорнию в поисках более богатого поля деятельности. На Востоке он выступал в качестве действующего лица в драме «Коммершиал кейбл энд постал телеграф компани», в результате чего ему удалось сломить монополию «Уэстерн юнион». Разведенная швея, с которой он встретился в доме Фейра в Вирджиния- Сити, а потом и женился, оставила его и уехала в Европу, где прожила в царской роскоши целых двадцать лет, видясь со своим супругом в те редкие часы, когда оп пересекал Атлантический океан. Джеймс Фейр купил себе место в сенате Соединенных Штатов, в котором он более всего был известен своим отсутствием. Он сменил на этом посту Уильяма Шарона, но, если и была какая-то разница между этими двумя сенаторами, в Вашингтоне ее не уловили. Жена Фейра возбудила процесс, обвинив мужа в «постоянном прелюбодеянии» - первый случай, когда подобное обвинение было выдвинуто против сенатора Соединенных Штатов. Права миссис Фейр были компенсированы тем, что в ее собственность перешла фамильная резиденция и ей было выплачено почти пять миллионов наличными. Вирджиния-Сити и все остальные оказались ободранными до нитки. У Невады остались ее фермы в Карсон-Вэлли с капиталами в Карсоп-Сити, несколько сот миль Центральной Тихоокеанской железной дороги и несколько городков - железнодорожных станций вроде Рено и Уодсуорта. Здесь правила Большая Четверка железной дороги и также грабила богатства земли. Карсонская «Морпинг аппил» поднимала голос протеста: «Южная Тихоокеанская никогда и пальцем не пошевелила ради развития Невады, и она отказывается платить налоги с принадлежащей ей земли в этом штате». Один историк сетовал: «Южная Тихоокеанская отбросила Неваду на четыре десятилетия назад. Сначала она сделала тарифы на перевоз пассажиров и грузов настолько низкими, что убила конкуренцию дилижансов и фургонов. Как только конкуренция была задушена, она подняла тарифные ставки. Она ввела порочную систему перевозок ца дальние и близкие расстояния, которая позволяла ей получать за счет штата огромные прибыли. Например, в 1877 году плата за доставку вагона каменноугольного масла из Нью-Йорка в Сан-Франциско составляла 300 долларов, а из Нью-Йорка в Рено - путь короче первого на триста миль - 536 долларов. Товары, предназначаемые для городов Невады, направлялись в Сан-Фрапциско, а потом перевозились в обратном направлении. Система оплаты, составленная таким образом, не позволяла ни одному из городов Невады стать на ноги и занять место, подобное тому, которое занимают Солт-Лейк в Юте или Денвер в Колорадо». Выступая против засилья н;елезной дороги, конгрессмен от штата Невада Роллии Даггет воскликнул в конгрессе: «Их целью, как видно, является раздавить промышленность Невады, а не способствовать ее развитию. Для этого введены специальные тарифы на поставку товаров из Калифорнии, которые используются в конкурентных целях каждый раз, когда возникает опасность того, что какая- нибудь отрасль промышленности может приобрести ведущее значение». Критики утверждали, что Южная Тихоокеанская в 1879 году целиком купила законодательное собрание Невады; что она закрыла оппозиционную газету «Дейли лидер» в Эурике и изгнала из штата Фиске за то, что та выступала против дискриминационных тарифов па перевозку грузов. Лиллард в «Дезерет челлендж» отмечает: «С 1870 года железнодорожные вампиры высасывали Неваду, как апельсин, не давая ей ничего взамен. Они удерживали штат в состоянии пустыни, не имея для этого никаких иных причин, кроме намерения воспрепятствовать другим железным дорогам продвигаться на запад и принять участие в дележе богатой калифорнийской добычи». Невада переживала серьезные трудности. Земля отдала свои богатства. Дальше шла борраСка - пустая порода. Невада так и будет пребывать в этом жалком положении до самого 1900 года, когда вновь будут открыты залежи золота примерно в двухстах милях к юго-востоку от Вирджипия-Сити и шумные лагеря золотоискателей, такие, как Тонопа, Голдфилд, Райолит и Роухайд, добудут в бесплодных солончаковых равшшах новые 250 000 000 долларов в благородном металле.Глава VI
«Только сила способна решить мормонскую проблему» К началу семидесятых годов в Юте проживало уже около восьмидесяти семи тысяч мормонов. Мормонские миссионеры были постоянно в пути: они совершали путешествия в близлежащую Аризону, а потом - в Мексику, Англию, Европу, Палестину. Как бы плохо пи обстояли дела, у церкви всегда находились фонды на обеспечение притока вновь обращенных. Давно разработанная политика отбора искусных ремесленников для строительства но- ВЫ1С поселений давала великолепные плоды. На параде по случаю двадцать второй годовщипы основания Солт-Лейка были представлены все категории ремесленников - от садоводов до камепотесов, от архитекторов до плотников, от штукатуров, маляров и стекольщиков до кузнецов, кровельщиков и кожевенников, от дантистов, печатников и граверов до мясников, пекарей и изготовителей спичек. Церковь и ее «святые» проявили большую активность и добились значительных успехов. Опи построили газовые заводы для освещения улиц Солт-Лейка, а затем и улич- пых карет для перевозки пассажиров. Хотя запасы каменного угля в Юте были слишком малы для развития промышленной добычи - к началу семидесятых годов было добыто менее пяти тысяч тонн, - Брайам Янг поощрял стремление мормонов искать новые залежи и обеспечивал капиталом их разработку. Благодаря этому к середине семидесятых годов уже добывалось достаточно угля, чтобы обеспсчпть самые насущные промышленные потребности мормонов. Рисуя картину Логана, располоиеепного примерно в восьмидесяти милях к северу от Солт-Лейка, в Кейч-Вэл- ли, Робипсоп в своей книге «Грешники и святые» рассказывает, что мормоны считали этот город идеальным поселением. «Иноверцы не слишком благожелательно воспринимали Логан. Тут нет салунов, пет светских интриг, чтобы придать ему то, что они называют «духом» города; каждый знает здесь своего соседа, и поэтому туристические восторги здесь пеизвестны. Одна-единственная газета гудит… как трудолюбивый шмель; оппозиционный проповедник, вся паства которого состоит из восьми женщии и пяти мужчин, считает излишним… еженедельно обращаться к небесам, взывая об отмщении тем, кто не согласен с ним и его чертовой дюжиной. Здесь пет помпезнос.тп и воинственности, чтобы напоминать святым о недремлющем оке федеральных властей, нет здесь и медной пушки, направленной па город (как в Солт-Лейк-Сити), пет потрепанных военных мундиров на перекрестках улиц. Все здесь мормонское. Самый большой магазин - это кооперативная лавка; самый большой храм - молитвенное собрание; самый большой человек - президент округи. Каждый здесь встречает на улице «братьев» и «сестер», а после наступления темноты единственным человеком, который остается на улице, является полицейский, да и тот, как правило, рано отходит ко сну. Это сытая, добрососедская, примитивная жизнь среди фруктовых садов и полей… где каждая пчела летает своим путем, принося, однако, весь мед в один и тот я?е улей». Только немногие дома имели замки на входных дверях. Многие мелкие общины были целиком мормонскими, и жители их пикогда не видели ни одного инаковерую- щего. В быстро разрастающемся центре - Огдене, где «Юнион пасифик» и Центральная Тихоокеанская выгружали пассажиров как с Востока, так п с Запада, был постоянный наплыв чужаков в монолитную среду мормонов. Брайам Янг говорил: «Если к вам придут с визитом те, кто называет себя «христианами», и если они выразят настоятель- -яое желание обратиться к вам с проповедью, не мешайте им. У вас, конечно же, хватит аргументов, чтобы исправить любые ложпые учения или впечатления ваших детей от услышанного». Он сделал личный взнос на строительство католического собора в Юте. Историк церкви Роберте говорит: «Брайам Янг знал, что мормонству нечего опасаться контакта с христианскими сектами того времени». Во время двух первых протестантских богослужений в Огдене несколько задиристых «святых» попытались поддразнить проповедника. На них тут же зашикали остальные присутствующие мормоны, а позднее они еще получили нагоняй и от церкви. Протестантский миссионер, работавший среди мормонов, признавался: «Все, чем я могу похвастаться за двадцать или тридцать лет своей работы в Юте, - это убеждение, что я заставил «святых» чуть больше говорить о Христе, чем это было им свойствеппо ранее, и соответственно чуть меньше о Джозефе Смите». Однако в своей столице мормоны не смогли добиться того мира в Сионе, ради которого опи прибыли в эту далекую пустыню. Здесь, в Солт-Лейке, был не только храм и молитвенный дом, но и главные деловые и политические учреждения церкви. По этой же причине здесь находились губернатор, судьи, судебные исполнители и другие федеральные чиновники, адвокаты, которые выступали против мормонов в судебных процессах, издатели, атаковавшие их в газетах, бизнесмены, которые не оставляли попыток пробиться в экопомику Юты. Семидесятые годы начались для мормонов со всенародной дискуссии, состоявшейся в их молитвенном доме. Дебаты начались с речи, произнесенной в конгрессе в защиту полигамии делегатом Юты Уильямом Хупером, и отповеди па нее, сделанной преподобным мистером Джоном Ньюменом, капелланом сената Соединенных Штатов, в горячей проповеди в Вашингтоне. Поверив сообщению «Дейли телеграф» из Солт-Лейка о том, что. Брайам Янг предложил ему провести дискуссию с пнм по этому вопросу, преподобный мистер Ньюмен сел в идущий в Юту поезд. В Солт-Лейке он узнал, что Брайам Янг не посылал ему вызова и что диспут придется вести со второстепенным лицом - Орсоном Праттом. Тема дискуссии «Разрешает ли Библия полигамию?» собрала двенадцатитысячную аудиторию в молитвенном доме. Мормоны понимали, если Пратту удастся победить в дебатах, федеральному правительству придется согласиться с этим принципом мормонской религии. Мормоны успешно расширяли ряды сторонников полигамии, особенно среди молодых людей, выросших в удачных полигамных семьях. 13 января 1870 года три тысячи женщин собрались в молитвенном доме Солт-Лейка и приняли резолюцию, одобряющую «право мужей выполнять высочайший завет небес: жениться на стольких женах, скольких они себе изберут». Когда в молитвенном доме сообщили об угрозе федерального правительства посадить в тюрьму всех состоящих в полигамном браке мужчип, Феба Вудруф поднялась и, обращаясь к собравшимся, воскликнула: «Тогда пусть опи исполнят нашу последнюю просьбу и сделают свои тюрьмы достаточно обширными, чтобы вместить и нас, ибо куда пойдут паши мужья, туда пойдем и мы». Это произвело на Брайама Янга столь сильное впечатление что на следующий месяц мормонским женщинам было предоставлено право голоса (одна из первых двух таких уступок во всех Соединенных Штатах). В знак уважения к женской рассудительности мормоны вручили Джорджи Сноу, дочери судьи Сноу, диплом, дающий ей право выступать адвокатом в суде Солт-Лейка - право, впервые предоставленное женщине. Мормонам, внимательно прислушивавшимся к дебатам Ньюмена и Пратта в молитвенном доме, а также многим тысячам мормонов, которые были знакомы с дискуссией по сообщениям прессы, было ясно, что, хотя Ветхий завет и не санкционировал полигамию, в нем содержится множество упоминаний о ней, свидетельствующих о том, что она достаточно широко практиковалась. Орсон Пратт привел цитату из Второзакония, глава 21, строки 15-17: «Если у кого будут две жены…» -и из Исхода, глава 21, строка 10: «Если же другую возьмет за него…» - особенно подчеркивая тот факт, что у Иакова было четыре жены, а у Ламеха - две. Преподобный мистер Ньюмен парировал этот выпад, подчеркнув, что в соответствии с Библией многоженцы были повинны и в других преступлениях: Ламех был не только многоженцем, но еще и убийцей, объявленным к тому же впе закона; что же касается Давида, то оп был многоженцем, соблазнителем и убийцей мужа соблазненной им женщины. Нью-йоркская «Геральд» печатала стенографические отчеты о дискуссии, большинство остальных газет публиковали о ней красочные репортажи. К исходу третьего дня преподобный мистер Ньюмен направился в Калифорнию, искренне убежденный в том, что ему ссылками на Библию удалось разгромить попытки оправдать полигамию. Мормоны же радовались столь блестящей возможности ознакомить американский народ со своей точкой зрения на полигамию.Когда преподобный мистер Ньюмен вернулся в Вашингтон, то, к величайшему своему огорчению, обнаружил, что его опрометчивое решение участвовать в дискуссии вызвало здесь весьма серьезные нарекания. Он так никогда и не простил этого мормонам. Утверждали, что именно ему принадлежат слова: «Только силой можно решить мормонскую проблему». Близкий друг и духовный наставник президента Улисса Гранта, он был одним из вдохновителей целого ряда антнмормонских мер вашингтонской администрации Вторым вдохновителем антимормонской политики Гранта был вице-президент Шуйлер Колфакс, которого в Юте считали «величайшим ненавистником мормонов». Но столь важно, насколько реальные основания были у всех этих обвинений. Значительно важнее было то, что обвинения эти получили самое широкое распространение среди мормонов н нанесли непоправимый ущерб отношениям с федеральными властями. Колфакс дважды ездил в Юту, в 1805 и в 1809 годах, пытаясь уговорить мормонов отказаться от полигамии и подчиниться законам Соединенных Штатов. Мормоны не послушались советов Колфакса; а он был уязвлен тем, что рекомендации, сделанные из самых лучших побуждений, были отвергиут?ы. Теперь же, в 1870 году, он был разъярен, прослышав, что Брайам Япг, читая проповедь в Солт-Лейке, назвал президента и вице-президента Соединенных Штатов «пьяницами п картежниками». Опять-таки не так уж важно, действительно ли Брайам Янг обвинял их в этих прегрешениях, важно, что внце-президеит Колфакс был уверен, что он это сделал. Президент Грант нанес удары по двум направлениям: он назначил губернатора и секретаря территории Юта, а также главного судью и двух судей федеральных судов. И те и другие были известны своими антимормонскими настроениями. Губернатор территории Юта Уилсон Шаффер из Иллинойса, по слухам скончавшийся впоследствии от туберкулеза, считался «человеком железной воли, настойчивым энергичным и патриотически настроенным». После его приезда в Юту для занятия поста мормонам стали известны его слова: «После меня, клянусь богом, никто не осмелится сказать, что Брайам Янг является губернатором Юты». Главного судью Джеймса Мак-Кина, судей Сайруса Хоули и Оубеда Стриклэнда мормоны вскоре прозвали «тройкой миссионеров». Считалось, что все трое являются «методистскими святошами» и обязаны своим назначением исключительно стараниям преподобного мистера Ньюмена. Мормопы в отчаяпии восклицали: «Судья Мак-Кин - самый опасный из всех государственных чиновников: судья, который ставит своей целью лишь кару, судья, который ставит своей задачей проведение определенной политики».
Главный судья Мак-Кип, центральная фигура разгоревшейся в последующие пять лет борьбы, родился в Вермонте в 1821 году. Юридической практикой занимался в Нью-Йорке. К моменту прибытия в Юту летом 1870 года он уи«е пользовался также репутацией способного писателя и ученого и вел себя с вальяжностью человека, привыкшего к окружению многочисленных друзей и горячих почитателей. С завершением строительства трансконтипептальной железной дороги на территории Юты впервые появилась отлично организованная Ютская шайка, состоящая из оппозиционеров всех мастей,- от Уильяма Годби, мормона, который свободно высказывал критические замечания в адрес Брайама Янга, вплоть до самых отъявленных врагов мормопов, которые требовали их полного и окончательного истребления. Шайка состояла из издателей недавно созданных оппозиционных газет, юристов, намеренных оспорить права мормонов на владение недвижимостью на Великой равнине, иноверческих бизнесменов, считавших, что ущемляются их права, офицеров калифорнийских добровольческих отрядов, решивших окончательно поселиться в Юте, а также целого ряда политических авантюристов, стремившихся половить рыбку в мутной воде. Шайка направила своих лоббистов в Вашингтон. Они должны были убедить президента Гранта в необходимости направить в Юту новые контингенты федеральных войск, мотивируя это тем, что генерал де Тробриан, командующий войсками в форте Дуглас, - тайный сторонник мормопов. Президепт Грапт прислал пополнение войскам под командованием генерала Фила Шеридана, который построил новую военную базу, лагерь Роулинз, в трех милях к северо-западу от Прово. ???? 465 Губернатор Шаффер отстранил от командования генерала Дэниэла Уэллса, второго по значению советника Брайама Янга, и назначил вместо него генерала Патрика Копнора, командовавшего лагерем Дуглас во время Гражданской войны. 15 сентября 1870 года он приказал ополченцам Юты сдать оружие. Запрещены были маршировки и ружейные приемы. Это должно было практически положить конец легиону Науву, в котором мормоны видели своего единственного защитника. В лагерь Роулинз прибывали все новые войска. Мормоны проглотили оскорбле- 30 Зак. N 1463
ние и сдали - чисто символически - лишь часть оружия, припрятав остальное. Вскоре после этого губернатор Шаффер умер. Мормоны похоронили его со всеми подобающими почестями, однако без особого сожаления. Курьер из Вашингтона привез распоряжение о назначении с 1 ноября 1870 года губернатором Вернона Вогана, бывшего секретаря территории. Еще через три недели произошло восстание Деревянных ружей. Оркестр Третьего полка ополчения Юты, получив новые музыкальные инструменты, решил отпраздновать это событие. Церковный историк Уитни утверждает, что мормоны хотели попутно «выяснить отношение нового губернатора к закону, запрещающему ношение оружия и военные занятия». Около двухсот ополченцев собрались на площади и выполняли ружейные артикулы под музыку духового оркестра. Естественно, что для выполнения ружейных приемов они явились вооруженными. Губернатора Вогана в городе не было. Секретарь территории Джордж Блэк арестовал восемь офицеров, проводивших воинские занятия, и обвинил их в бунте и «восстании против Соединенных Штатов». Судья Хоули передал их в распоряжение военных властей форта Дуглас. Другой историк церкви, Роберте, оспаривает утверждение Уитни и настаивает на том, что это была всего лишь группа юношей с деревянными ружьями, а ополченцы вообще не участвовали в этой демонстрации. Арестованных отпустили. Мормоны относились с показным дружелюбием ко все новым контингентам войск, прибивающим в лагерь Роу- линз. Коммерсанты приезжали сюда из Прово для торговли с «ребятами в синей форме»; солдаты расхаживали по улицам города, пытаясь поймать взгляды благовоспитанных мормонских девиц. Однако, когда солдаты попытались снять холл, достаточно вместительный для вечера на тридцать персон, мормоны отказали им; удалось получить всего лишь небольшой обеденный стол в отеле «Каннинг- хэм». Вечером в день пирушки пятнадцать-двадцать солдат отправились в Прово на фургоне Алмы Брауна. Кое у кого из них было с собой оружие. В одиннадцать часов на улице послышались выстрелы и в отеле появился солдат с криком, что на него напали и покалечили. Офицер, командовавший солдатами, якобы отдал приказ: «За орунше, ре- бита! Мы вышибем отсюда этих мормонских сукиных сынов». Член городского управления Уильям Миллер был схвачен и проведен по улицам города, подгоняемый солдатскими штыками. Советник Мак-Дональд обратился в суд, требуя возмещения убытков за разгром, учиненный в первом этаже его дома. Никто серьезно не пострадал, хотя женщины были напуганы, и многие из них прятались в хлебах всю ночь. Конфликт этот получил известность под названием Восстание в Прово или Рейд в Прово. Мормопы обвиняли военные власти в том, что рейд этот произошел по их приказу. Остальное население страны считало, что мормопы проявили недружелюбие, отказавшись сдать солдатам холл, и тем самым навлекли на себя справедливое возмездие. Напряжение возрастало. Главный судья Мак-Кин поддерживал неугасающий огонь на юридическом фронте. Ловким приемом он лишил вообще всех мормонов права занимать посты присяжных. В суд были вызваны семеро кандидатов в присяжные заседатели из числа мормонов; и когда Джордж Кэннон, издатель газеты «Дезерет ньюс», занял место для дачи показаний в качестве свидетеля, между ним и прокурором Баскином состоялся следующий диалог: «Принадлежите ли вы к церкви мормонов?» - «Да». - «Является ли полигамия одним из основных принципов этой церкви?» - «Да». - «И вы не считаете ее адюльтером?» Когда Кэннон ответил, что не считает, его тут же освободили от обязанностей присяжного. Точно так же поступили и с остальными шестью мормонами. Приехав в страну, обращенные в мормонскую веру обязаны были ходатайствовать о правах гражданства у главного судьи Мак-Кина. Обычно при этом он задавал вопрос: «Вы верите в полигамию?» Когда обращенный отвечал, что полигамный брак является неотъемлемой частью его религии, ему отказывали в гражданстве. Мормоны возмущались: «При натурализации иностранцев па входных дверях суда с успехом можно повесить табличку с надписью: «Мормонов просят не беспокоить», если только проситель не намерен отказываться от своих религиозных убеждений». ???? 30• Что н?е касается того, как разбирались дела мормонов немормонскими присяжными и судьями, то дело Эпгле-
467
брехта может служить ярким примером событий, приведших к гражданской войне. Иноверец Энглебрехт был владельцем крупного склада спиртных напитков в Солт-Лейке. Он уже несколько раз подвергался мормонами аресту за розничную торговлю, а также за торговлю без лицензии. Судебный исполнитель городского суда Мак-Алистер в сопровождении девятнадцати мормонских полицейских прибыл на склад Энглебрехта, где они, по словам мормонского историка, «сдержанно, по сурово» уничтожили на 22 ООО долларов спиртного, то есть разбили все бутылки и бочонки. Энглебрехт предъявил в суде иск судебному исполнителю и полицейским и потребовал возмещения убытков. Главный судья Мак-Кин подобрал состав присяжных из иемормонов, и они признали судебного исполнителя виновным. Мак-Кип присудил его к суровому наказанию, потребовав возмещения ущерба в тройном размере. Мормоны обратились с апелляцией в Верховный суд Соединенных Штатов. Они требовали признать все решения, вынесенные судьей Мак-Кином, незаконными,- поскольку он отказывал мормонам в равноправии. Иноверцы в Юте стали проявлять не меньшую воинственность, чем мормоны. Считая губернатора Вогана ставленником мормонов, они через своих лоббистов в Вашингтоне оказывали давление на президента Гранта, добиваясь, чтобы он отстранил его от должности. Влияние их оказалось настолько сильным, что в январе 1871 года вместо Вогапа был назначен Джордж Вудс, бывший губернатор территории Орегон. Спрингфилдская «Рипабли- кен» радостно объявила, что Вудс принадлежит к числу «явных антимормопов». Разгорелась борьба за контроль над ютской тюрьмой, которая уже много лет подчинялась органам самоуправления Юты, а теперь специальным актом конгресса передавалась в руки федеральных чиновников. Полицейский инспектор города - мормон - содержал в тюрьме Солт- Лейка заключенного-иноверца по имепи Килфойль, осужденного за убийство. Федеральные власти потребовали передачи его в их распоряжение на том основании, что Вашингтон поручил им осуществление контроля за местами заключения. Городские власти ответили отказом. Прокурор Баскин якобы заявил по этому поводу: «Если бы мне приказали получить арестанта Килфойля, я направил бы пушки форта Дуглас па город, сровнял с землей городской Холл и тюрьму, а арестанта взял бы штыковой атакой». В это же время началась самая настоящая схватка между полицией Солт-Лейка и командующими Кэмп-Дуг- ласом офицерами из-за юрисдикции над солдатами, повинными в правонарушениях в Солт-Лейке. Церковь утвер- я«дала, что мормонская полиция имеет право арестовать их, федеральные же чиновники отстаивали ту точку зрения, что любые юридические действия по отношению к военнослужащим армии Соединенных Штатов являются прерогативой военных. А тут еще губернатор Вудс объявил, что назначение школьного инспектора относится к его компетенции. И хотя все конфликты пока что ограничивались мелкими стычками, мормоиы перестали спать спокойпо. Аптимормонская шайка, выступая против мормонства, рядилась в одежды защитников права. Настроения шайки нашли свое полное выражение в заявлении ее лидера судьи Мак-Кина, который писал генеральному прокурору Соединенных Штатов Уильямсу: «Если когда-либо какая- либо часть христианского мира и была, подобно данной территории, целиком и полностью отдана в руки самозванцев, преступников и предателей, то я никогда пи о чем подобном не слыхивал». Па политическом фропте выступал также и генерал Патрик Коннор, федеральный глава ополченческих сил Юты. Это он еще в 18СЗ году попытался наладить широкомасштабную разработку минеральных богатств только ради того, чтобы создать на территории большинство из немормонов. Теперь Коннор заслужил себе титул Отца либеральной партии - вполне законной оппозиции, которая получила право выставить на выборах своих кандидатов. Впервые с момента основания Дезерета в 1847 году в Юте начали действовать две политические партии. Местом рождения партии, а затем и столицы антимормонской прессы был иноверческий городок к северо-западу от Огдена под названием Кориппе, который зародился как лагерь строителей железной дороги, а теперь стал самым излюбленным местом иноверцев в Юте. Кориппе надеялся отнять главенствующую роль у быстро развивающегося Огдена, почти целиком паселенного мормонами и насчитывавшего почти тысячу жителей. Бидл, сотрудник «Репортера», одного из печатных органов Юты, писал, что в Ко- ринне имеется «девятнадцать салунов, два тапцзала и восемьдесят уличных девиц, которых называют здесь жир- пенькими голубками». Обе партии выступили на арену политической борьбы, выдвинув своих кандидатов на выборах в конгресс. Одновременно с этим Уильям Годби попытался создать лояльную оппозицию, предприняв издание газеты, о которой он сказал: «У «Дейли трибюн» пе будет сектантских предрассудков и она вообще не станет органом какой бы то пи было религиозной партии». «Дейли трибюн» под руководством Годби и его компаньона Харрисопа, представителя «Нового движения», ратовала за введение весьма умеренных реформ и демократизацию мормонства. Историки церкви сходятся на том, что это была вполне добропорядочная и консервативная газета. Однако весьма скоро она вышла из-под влияния Годби и стала органом либеральной партии. Газета стала сразу же резкой и агрессивной как по стилю, так и по содержанию статей, в которых мормонских женщин обвиняли в проституции, именуя их «конками», от слова «конку- бина», а мужчин - «полигами», от слова «полигамия». В 1870 году либеральная партия выдвинула генерала Джорджа Максуэлла, ветерана Гражданской войны, занимавшего в Юте должность федерального регистратора земельных угодий, своим главным кандидатом против ревностного мормона Хупера. Из двадцати тысяч избирателей за Хупера проголосовало восемнадцать с половиной тысяч, за генерала Максуэлла - полторы. Однако и это было поразительным успехом оппозиции, если учесть, что всего год назад только несколько сот иповерцев решились отдать свои голоса противникам мормойов. Генерал Максуэлл опротестовал результаты выборов и отправил в конгресс петицию, в которой он обвинял Хупера в нелояльности по отношению к федеральному правительству. Другая антимормонская группировка была создана под названием Лиги инаковерующих Юты со штаб-квартирой в Солт-Лейке. В Лигу инаковерующих входило немалое число серьезных и честных людей, которые стремились к тому, что они пазывали отделением церкви от государства. Большинство лиги все же составляли люди, которых сан- францисская «Экзаминер» охарактеризовала как сборище «мелких политических хлыщей, мнящих себя государственными деятелями». Брайам Янг приблизил наступление новой эры, построив собственную железную дорогу, соединяющую Солт- Лейк с Огденом и трансконтинентальной линией. Центральная Ютская была завершена в январе 1870 года. Она была построена мормонами для своей церкви, которая и финансировала ее; рабочие, занятые на постройке, получали жалованье акциями железной дороги. Забив последний костыль в шпалу, Брайам Янг с гордостью заявил: «Наши города свободны от долгов. Центральная Ютская -железная дорога задолжала немало. Однако кому она задолжала? Своему народу». Единственным крупным изменением существующих порядков, которое принесло строительство железной дороги в Юте, явилось то, что территория оказалась открытой для горнорудных разработок. Ранее была уже предпринята одна такая попытка, когда генерал Патрик Коннор случайно натолкнулся на золотые россыпи. Однако трудности, связанные с доставкой руды фургонами, сделали добычу явно нерентабельной, н она была прекращена, принеся менее двухсот долларов прибыли. Б 1870 году начался четвертый, и последний наплыв золотоискателей на Дальний Запад. Мормоны знали, что здесь имеются залежи золота и серебра, но с чисто религиозной истовостью, как избегали смертных грехов, они избегали их разработки. Залежи драгоценных металлов, как это было в Калифорнии и Колорадо, располагались в Юте четырехугольником, прорезавшим территорию в поперечном направлении. Он лежал чуть южнее Великого Соленого озера в Раш- Вэлли и тянулся длинной полосой в восточном направлении через Парли-Парк на высоте почти десяти тысяч футов и еще дальше на восток - до оконечности гор Уннта. К югу, вдоль короткой восточной стороны четырехугольника, месторождения располагались вплоть до района Америкен-Форк, а затем длинной полосой вытягивались на запад, разрезая территорию почти по центру, доходя до Западных гор и сворачивая на север к Туплн. Позжезолото будет обнаружено в крайней юго-западной точке территории, в Снльвер-Рнфе, недалеко от Септ-Джорджа, подобно тому как золото было обнаружено в Сан-Хуане - юго- западном углу Колорадо. Золотая лихорадка 1870 года в Юте так же отличалась от золотых лихорадок Калифорнии lo'lO года и Невады и Колорадо 1859 года, как быт этих трех территорий отличался от мормонского образа жизни. Золото, а потом и серебро, найденное в калифорнийской Сьерра-Неваде, невад- ской Уошоэ и колорадских Скалистых горах, находились в совершенно диких, не заселенных и не изведанных до этого местностях, не имеющих пи органов самоуправления, ни законов, пи городов, ни дорог; не было там ни полиции, ни воинских гарнизонов. Б Юте же, хотя многие из приисков находились в такой же горной, труднодоступной местности, как это было в Калифорнии и Колорадо, старатели постояпно были рядом с мормонской церковью, мормонским ополчением и вообще мормонами с их строгой дисциплиной. «Мне никогда не приходилось видеть более непривлекательную для строительства рудников местность, - пишет один из золотоискателей. - Мормонам очень нелегко было совершать богослужения в этой забытой богом стране, • а кроме того, здесь уже давно пора было придумать и пустить в оборот что-нибудь более подходящее, чем сорго или вино, слузкившие здесь всеобщим средством обмена». Прибывающие золотоискатели не могли сформировать здесь свое правительство: правительство здесь уже было. Они не могли также обосновываться где хотели, потому что мормонам принадлежали именно те четыре процепта земли, которые были пригодны для обработки, им же принадлежали источники воды и торговля необходимыми товарами. Не могли золотоискатели и подкупить местное население, ибо мормоны были выше этого. Б Калифорпии, Неваде и Колорадо золотоискатели основывали города - Сан-Франциско, Сакрамепто, Вирджиния-Сити - благодаря наплыву населения и богатства. В Юте пришлые золотоискатели не оказали сколько-нибудь значительного влияния на Солт-Лейк-Сити, Прово или Сент-Джордж, если не считать некоторого оживления торговли. Мормоны запретили своим людям любое общение с соседними шахтерскими городками. В южной Юте, неподалеку от Септ-Джорджа, прииск, оказавшийся золотым диом, разросся до вполне приличного по размерам города Сильвер-Риф, однако, как только вапасы руды иссякли, оп попросту прекратил свое существование, поскольку не осталось ничего, что могло бы поддержать его существование. Горные разработки велись в Юте в широких масштабах но это был наплыв капиталов, а не индивидуальных старателей. Как и в Неваде, здесь почти не было поверх- постных россыпей из-за того, что реки здесь были очень редкими. Несколько сот старателей, прибывших в Юту преимущественно из Калифорнии, нашли довольно перспективные залежи и сделали заявки на участки. Однако почти все они довольно быстро продали свои права на них более крупным рудным компаниям и покинули эти места. В Парли-Парк к востоку от Солт-Лейка находился один нз немногих приисков, открытых независимым старателем судьей Уильямом Барби, который жил в Юте. В этом районе залегали чуть ли не самые богатые месторождения серебра во всех Соединенных Штатах, однако потребовалось несколько лет, чтобы построить дороги к этой горной твердыне. Не было здесь наплыва старателей с кирками, лопатами и тазами, не было здесь и длинных верениц эмигрантских фургонов, пересекающих равнины и горы. Даже пресса отнеслась к открытию новых месторождений весьма спокойно и не объявляла их на всю страну «новым Эльдорадо». Пионеры-золотоискатели, которые устремлялись в Калифорнию, Неваду и Колорадо, устремлялись в неведомое; это их ничуть не отпугивало, поскольку у них не было ни малейшего представления о том, насколько трудными и суровыми могут оказаться местные условия. Юта была достаточно хорошо известна. Два десятилетия пресса не скупилась на создание для нее отрицательной рекламы. Мормоны изображались как люди, держащиеся кланом и относящиеся с крайним антагонизмом к инаковерующим предпринимателям. В Юте так никогда и пе появились на свет люди Семидесятых годов, которые походили бы на людей Сорок Девятого и Пятьдесят Девятого годов. Даже когда возпикла необходимость в привлечении специалистов для работы в глубоких шахтных забоях, лесорубов и сотен механиков для обслуживания шахтных механизмов и камнедробилеп, иноверцы, владельцы золотых и серебряных рудников Юты, не пытались привлечь к этим работам наемную силу с близлежащих и хорошо налаженных рудников Колорадо на востоке или Невады и Калифорнии на западе. Вместо этого они на судах доставляли рудокопов из Ирландии и Уэльса. По срапнешпо с типичными для Дальнего Запада весьма пнкантпымн историями Калифорнии, Невады и Колорадо развитие Юты протекало вполне благопристойно, хотя в некоторых приисковых поселках и городах и насчитывалось до пятнадцати салунов, были бильярдные и публичные дома. Старые рудники, как, например, тот, что был основан еще генералом Коннором, были первыми восстановлены и пущены в эксплуатацию. Новые рудники были открыты в таких местностях, как Унпта или район Блю-Ледж, поблизости от притоков Вебера и Прово, но работа здесь велась не бородатыми личностями в красных рубахах с пакетом бекона н куском прокисшего теста в заплечном мешке, а опытными рабочими под руководством настоящих горных инженеров. В Юте говорили, что «для разработки рудника нужно уже иметь золотой рудник». Здесь насчитывалось тридцать два шахтерских района, двадцать отдельных горных корпораций с капиталами, оцениваемыми от 100 000 до 2 400 000 долларов, а также восемнадцать обогатительных фабрик. Когда Брайам Янг проложил железнодорожную ветку к Прово н дороги к горнорудным районам, производительность рудников возросла до 3 000000 долларов. Некоторые рудники были очень богатыми, например, рудник «Эмма» в горах Уосач был продан британским капиталистам почти за пять миллионов долларов. Рудник «Флагстаф», принадлежавший Пикласу Гроэсбеку, был продан британской компании за полтора миллиона долларов, а рудники «Ласт-Чанс», «Гай- авата», «Монтесума» и «Сэвндж» были приобретены группой ныо-йоркскнх и детройтских капиталистов за полтора миллиона. Золотые, а особенно серебряные руды на территории Юты имели столь же богатое содержание металла, как и в Колорадо, Неваде пли Калифорнии. В шахте «Эмма» руда в среднем давала от 80 до 150 долларов па тонну, а в самых богатых в тонне руды содержание золота оценивалось в 250 долларов. На руднике «Сильверполис» в Раш- Вэлли первые добытые сорок тонн руды дали на 24 000 долларов серебра. Знаменитый рудник «Онтарио» дал на семнадцать миллионов долларов серебра, а 6 250 000 долларов было выплачено в внде дивидендов держателям акций. Хорошо работали камнедробнлыш и плавильные печи, построенные братьями Вудхолл с Мюррее, в десяти милях к югу от Солт-Лейка; крупные плавильные заводы «Бад- жер стейт» были построены на Саут-стрит в Солт-Лейке. а Джонс и Реймонд построили такой же в Восточном каньоне; однако все эти предприятия принадлежали нна- коверцам. Брайам Янг не позволял церкви ни строить их, ни извлекать из них прибыли, хотя он и перевозил руду в своих железнодорожных вагонах, протянув рельсы до самых гор п районов рудных залежей. Для Брайама Янга все эти золотые и серебряные руды были носителями опасной заразы, поэтому он не разрешал своим людям соприкасаться с приисками из опасения, что они заразятся всеобщей коррупцией. Уильям Год- би и братья Уокер построили крупные плавильные заводы и нажили на них огромные состояния, но мормоны их и до этого считали отступниками. Брайам Янг не накладывал явного запрета на работу молодых людей в шахтерских городах, но теперь он не поощрял этого, как в шестидесятые годы. Однако в обнищавшем районе Дикси трудно было удерживать под контролем молодых людей. «Самая большая цена, которую им (мормонам) пришлось уплатить в этом году, был приток рабочей молодежи, которая нанималась па рудники, несмотря на общества взаимоусовершенствования молодых людей. Их можно было только предупредить о нежелательности посещения салунов и игорных домов, посоветовав уделять больше времени молитвам…» Соблазн, однако, был велик. «Для молоденького парнишки из тихой захолустной деревушки ярко освещенные салуны и витрины магазинов с их круглосуточной деятельностью уже сами по себе были источниками удовольствия. Все эти люди из Америки, Корнуэлла или Ирландии - великолепные представители мужской половины человечества - после десяти часов изнурительного труда выходили из своих хижин, разодетые во все, что только можно купить за деньги, и расхаживали но улицам с независимостью истинно королевской». Теперь появился новый конфликт: хотя иноверцы, прибывая в эти уже освоенные места, должны были платить положенные налоги, они вскоре обнаружили, что у них нет никакой возможности избрать своих представителей в органы городского самоуправления или в советы графств. Все эти посты неизменно оказывались занятыми «Святыми последнего дня». Старый мормонский обычай оказывать предпочтение единоверцам при покупке товаров именно в их лавках и в приеме на работу привел к обратному результату. Теперь иноверцы начали проводить дискриминационную политику, выгоняя мормонов с работы, как только появлялась возможность нанять на это место немормопа, и отказывались приобретать товары в мормонских лавках, если только можно было поддержать коммерцию иноверца.Глава VII
Пробил час Брайама Янга Главный вопрос, однако, все еще предстояло решить: может ли правительство Соединенных Штатов, опираясь на законы страны, заставить мормонов отказаться от полигамии? Мормоны считали, что в этом они пеуязвимы: во-первых, потому что любое вмешательство они трактовали как запрет исповедовать свою религию и, во-вторых, потому что после первого публичного брака, все остальные брачные церемонии проводились тайно в стенах мормонской церкви. Не сохранялось никаких документов, которые могли бы попасть в руки правительственных органов, а среди мормонов невозможно было найти свидетелей, согласных давать показания против своих единоверцев. Никогда ни один из иноверцев не допускался к обрядам полигамного брака настолько близко, чтобы свидетельство его можно было считать достоверным. Поскольку не было такого федерального закона, по которому главный судья Мак-Кин мог бы привлекать к ответственности за полигамию, он решил применить к нескольким наиболее явным случаям статью территориального закона о «порочных и незаконных связях», в которой говорилось: «Если какой-либо мужчина или женщина, не состоящие в закоппом браке друг с другом, порочно и похотливо сожительствуют друг с другом», им может быть предъявлено обвинение в прелюбодеянии, а дело подлежит разбирательству в федеральном суде. Однако в территориальном законе содержалась оговорка о том, что «никакой кары за прелюбодеяние пе может быть наложено иначе, как по жалобе мужа или жены». Случаи, когда мормонская жена подавала жалобу на муи;а за то, что он состоит е полигамном браке, были необычайной редкостью. Но однажды подвернулся именно такой случай. Первая жена Томаса Хоукинса, разъяренная тем, что муж ее взял вторую я?епу, подала н?алобу в суд, обвиняя его в прелюбодеянии. Таким образом федеральные власти впервые получили бесспорный повод для возбуждения судебного дела. После того как миссис Хоукнис подтвердила свидетельскими показаниями наличие второй миссис Хоукннс, суд присяжных, в составе которого не было пи одиого мормона, признал Томаса Хоукинса виновным в прелюбодеянии, состоявшем в том, что у него имеется несколько жен и что это санкционировано мормонской церковью. Его присудили к трем годам тюремного заключения и пятистам долларам штрафа. Хоукинс подал апелляцию. По решению суда оп мог оставаться на свободе, внеся залог в 20 ООО долларов. Таких денег у Хоукииса пе было. Церковь не сочла уместным вносить за пего залог. Мормоны даже попытались обратить все в шутку: они утверждали, что напыщенная нотация, прочитанная Хоукинсу в суде, явилась более страшным паказапием, чем тюремное заключение и штраф. Однако веселье мормонов было показным: они прекрасно отдавали себе отчет в том, что создан опасный преце- депт, который может быть использован против всех полигамных браков. Так опо и случилось. Всего через несколько дней обвинения были предъявлены Брайаму Янгу и еще дюжине лиц, занимавших самые высокие посты в церковной иерархии мормонов. Судья Мак-Кип заявил, что возбуждается дело «федеральной властью против полигамной теократии». Блестящий юрист-пемормоп, которому за выступление на процессе в качестве обвинителя Брайама Япга обещали пост федерального прокурора, отклонил это предложение, заявив, что «в настоящее время пост прокурора Соединенных Штатов в Юте связан с большей ответственностью, чем в любом ином штате или территории. Огромное большинство здешнего населения относится с сочувствием к обвиняемым. Девяносто тысяч невежественных и фанатичных людей объединены в настоящее время этой теократией и пребывают в прямом конфликте с правительством, законами Соединенных Штатов и всего христианского мира». Один из карикатуристов изобразил Брайама Янга в окружении множества жен и детей, который спрашивает у ^президента Гранта: «А как вы прикажете мне поступить с ними?» «Следуйте моему примеру, - отвечает президент Грант, - раздайте им всем государственные посты». Мормоны были возмущены. Они боготворили Брайама Янга, считая его великим вождем, которому дано непосредственно общаться с самим господом богом. Брайам Янг вел себя спокойно, на суде он держался сдержанно и учтиво, то есть проявлял именно те качества, которыми далеко не всегда мог похвастать судья Мак-Кин. Арест Брайама Янга, а также мэра Солт-Лейка Дэни- эла Уэллса и издателя «Дезерет ньюс» Джорджа Кэннона произвел сенсацию даже в самых захолустных уголках страны. Многие из газет утверждали: «Мормоны вооружаются!» Мормоны не взялись за оружие, но оно у них всегда было под рукой. Брайам Янг был отпущен под залог. 24 октября 1871 года он отправился в ежегодный объезд мормонских колоний, получив предварительно заверения в том, что слушание дела будет назначено с таким расчетом, чтобы у него хватило времени на возвращение в Солт-Лейк и подготовку к процессу. Внезапно суд объявил, что на возвращение ему дается одна неделя. За этот срок было невозможно вернуться. Прокурор Баскин потребовал конфискации залога. Судья Мак-Кин отклонил это требование и отложил начало слушания дела. Брайам Янг, которому недавно исполнился семьдесят один год, вынужден был проделать триста пятьдесят миль по зимнему бездорожью, чтобы поспеть ко вновь назначенному сроку. Мормоны пребывали в состоянии крайнего возбуждения. Судебные заседания начались 2 января 1872 года, но вскоре процесс этот был прерван поразительными известиями из Вашингтона: Верховный суд Соединенных Штатов единодушно признал, что в деле Энглебрехта присяжные были назначены противозаконно, поскольку из их числа были исключены мормоны. Все решения по уголовным делам, вынесенные в Юте за последние восемнадцать месяцев, признавались теперь недействительными; сто тридцать восемь заключенных, содержавшихся в тюрьмах Юты и других местах заключения, немедленно отпускались на свободу; все решения по гражданским делам также аннулировались. Нью-йоркская «Трибюн» писала, что «это решение нанесло сокрушительный удар национальной администрации». В Сан-Франциско «Ньюс леттер» выражала мнение большинства газет, когда писала: «Это решение представляет собой недвусмысленное заявление самого высокого органа власти страны о том, что ни одна часть народа Соединенных Штатов - сколь бы ужасную религию она ни исповедовала - не может быть лишена, своих свобод иначе, как предусмотренным законом процессом». Дело, возбужденное против Брайама Янга, с треском провалилось. Томас Хоукинс был освобожден из тюрьмы и больше никогда не привлекался к суду. Так первая серьезная попытка федерального суда вступить в схватку с полигамией потерпела неудачу из-за собственных незаконных действий. На ежегодной конференции мормонов, состоявшейся 28 февраля, Брайам Янг спросил у собравшихся: «Сколько бы мне понадобилось сил, возможностей и способностей, чтобы-разоблачить их с такой полнотой, с какой они сами разоблачили и обесчестили себя?» Мормоны были уверены, что главный судья Мак-Кин и губернатор Вудс будут отстранены от занимаемых постов. Но опи плохо знали президента Гранта. Решение Вер- ховпого суда не произвело па него серьезного впечатления. На февральской конференции мормоны снова предприняли попытку добиться для Юты прав штата. Томас Фитч, бывший конгрессмен от Невады и противник Сутро, произнес речь, в которой заявил, что величайшее его желание - видеть восстановленным закон и порядок в Юте, однако одновременно с этим он объявил себя безусловным противником полигамии. «Не может быть спокойствия и безопасности без правительства штата, но не может быть и правительства штата без уступок». Он говорил мормонам, что с полигамией придется покончить не потому, что она аморальна или преступна - этот вопрос вообще относится к иной сфере, - а потому, что такова политическая необходимость. Отчасти из-за привлечения к ответственности Брайама Янга и опасности, угрожавшей в связи с этим ему и другим представителям церковной верхушки, а также из-за признания несомненной правоты аргументов Фитча на конференции была принята Пятая статья, в которой говорилось: «Условия, если таковые будут выдвинуты конгрессом в качестве непременных для принятия вышеупомянутого штата е состав США, будучи предварительно ратифицированными большинством народа в оговоренные сроки и согласно установленной данным конвентом процедуры, будут включены составной частью в настоящее законоуложение». Джордже Кэннон и «Дезерет ныос», официальный рупор Брайама Янга и церкви, заявляли, что статью Пятую следует сохранить, хотя Орсон Пратт и другие лидеры мормонов выступили против нее. Впервые после прибытия в Юту Брайам Янг и мормонская церковь дали понять, что они готовы отказаться от полигамии в обмен на предоставление им статуса штата. И народ уже был подготовлен к этому! За два месяца до конференции Брайам Янг поручил Дэниэлу Уэллсу объявить конгрегации, что нет ничего невозможного и даже странного в том, что господь бог в наказание за грехи своего парода может на какое-то время отобрать у них дарованный им принцип полигамии. Мормоны готовы были отказаться от полигамии, по им хотелось, чтобы этот компромисс с федеральным правительством выглядел так, словно сам господь лишает их полигамии, поскольку они оказались недостойными ее. Фрэнк Фуллер, бывший секретарь территории Юта, конфиденциально уведомил мормонов, что у них есть все шансы на получение прав штата… Кроме того, мормоны внали, что республиканская партия стремится к включению новых штатов в состав Соединенных Штатов. В Вашингтоне Джеймс Блэр, конгрессмен от штата Миссури, внес в конгрессе законопроект, по которому все уже заключенные полигамные браки в Юте будут признаны законными, дети от этих браков - законнорожденными, а все судебные процессы по обвинению мормонов в полигамии прекращены. Ведь невозможно достичь компромисса, который карал бы ни в чем не повинных мормонских женщин и детей! Однако с момента принятия данного закона полигамия должна быть запрещена мормонской церковью.Большинство американцев считало, что было бы разумно принять в состав Соединенных Штатов мормонов в обмен на их отказ от полигамии н таким образом положить конец этой неприятной проблеме. Однако конгрессмен Блэр нашел мало сторонников такого разумного решения. Ютскал шайка, которая всеми силами противилась компромиссу, оказывала давление на президента Гранта и его администрацию, с тем чтобы отклонить предложение мормонов. Церковный историк Уитпи недвусмысленно заявляет: «В результате этого протеста иноверцев конгресс занял отрицательную позицию но отношению к петиции Юты о предоставлении ей статуса штата, не высказав даже вопреки поступившему предложению условий, на которых подобный компромисс мог быть благожелательно рассмотрен и па которых могла быть удовлетворена ее просьба о приеме в состав США». Отрицательное отношение президента Гранта к идее о предоставлении Юте статуса штата привело к тому, что старейшина Тэйлор тут же отказался от Пятой статьи и вообще от мысли о том, что мормоны всерьез памерены отказаться от многоженства. Мормоны так больше никогда и пе возобновили своего предложения. Президент Грант объявил, что, если конгресс не даст ему права на действенные меры, которыми полигамию можно было бы истребить юридическим путем, правительству, вполне возможно, придется осуществить это военными силами. Отсутствие закона, который без всяких оговорок накладывал бы запрет на полигамию, приводило к тому, что никто толком не представлял себе, как справиться с необычной проблемой Юты. Правительство ясно требовало, чтобы политическая верность мормонов государству стояла выше верности своей церкви. Морйоны же утверждали, что в первую очередь они должны выполнять законы и заповеди божьи, а уж потом - статьи конституции и законы конгресса. Конгресс возражал на это, что, «если каждая община будет стоять па том, что религиозные законы стоят выше общегосударственных законов, пам никогда не удастся стать единой нацией». ???? 481 Между тем каждый год мормоны предпринимали всо более широко организованные попытки утвердить Юту в качестве штата. И каждый год президент Грант говорил 31 За!;, к, (03.? сквозь густые клубы выпускаемого им сигарного дыма: «Я решительно против принятия Юты в состав США». Кульминационный пункт махинаций шайки наступил 23 нюня 1874 года, когда конгресс утвердил закон Поланда. Это был первый случай, когда обо палаты пришли к согласию в отношении законодательного акта, направленного против мормонов. По закону Поланда, многие из наиболее важных должностей, занимаемых мормонами, как, например, инспектор территории и генеральный прокурор, ликвидировались; списки присяжных составлялись федеральными районными судами. Впервые федеральные чиновники получили в Юте возможность заключать под стражу мормонов, признанных судом повинными в полигамии. Правда, федеральное правительство не смогло предоставить достаточно людей или средств для того, чтобы привести в суд любого из обвиняемых в полигамии мормонов, если тот не захочет добровольно явиться в суд. Первые выборы, которые проводились в соответствии с положениями закона Поланда, получили у мормонов название «выборов под угрозой штыков». Инспектор федерального правительства направил большое число инспекторов-немормонов в качестве наблюдателей на избирательные участки. Местные мормонские чиновники отказались уйти со своих постов. Офицер-мормоп Фил- лиис был арестован федеральными инспекторами; заместитель инспектора Соединенных Штатов был после этого арестован мормопской полицией. Дэниэл Уэллс, мэр Солт-Лейка, подвергся побоям со стороны федерального представителя, после чего оп приказал мормону - начальнику полиции разогнать собравшуюся перед его резиденцией толпу. В ответ федеральные власти арестовали мэра Уэллса за незаконное применение силы. В сентябре 1874 года перед судом предстали первые из обвиняемых в полигамии. Два года назад Верховный суд США вынес решепи по делу Эпглебрехта, и теперь мормоны стремились] тому, чтобы дело их снова попало на рассмотрение Верховного суда. Они были уверены, что Верховный суд объявит все законодательные акты, направленные против полигамии, противоречащими копстнтуции США и что ему придется указать па различие между двоеженством, которое противоречило закону, и полигамией, которая имела под собой религиозную основу. Администрация тоже стремилась к такому пробному процессу; если Верховный суд объявит полигамию противоречащей конституции, отпадет последний аргумент против того, чтобы силой принудить мормонов отказаться от подобной практики. В сентябре 1874 года были привлечены к ответственности два выдающихся мормона из Солт-Ленка: Джордж Рейнольде, личный секретарь Бранама Янга, и Джордж. Кэпнон. Рейнольде и Кэннон решили добровольно принять участие в этом испытательном процессе; они предстали перед первой инстанцией суда, где Рейнольдса судили, признали виновным и присудили к уплате штрафа в 500 долларов и году тюремного заключения. Затем дело было передано в верховный суд территории Юта, и там председательствующий судья Мак-Кин, обнаружив, что число присяжных не соответствовало закону, приговор отменил. На следующий год против Рейнольдса было вторично выдвинуто обвинение, однако на этот раз у него уже не было желания добровольно отдаваться в руки правосудия, и на судебное заседание он был доставлен под конвоем. Он снова был признан виновным. Суд вынес приговор: два года каторжных работ. Верховный суд территории утвердил приговор. Вся страна ждала затаив дыхание решения Верховного суда Соединенных Штатов. В 1875 году у президента Улисса Гранта истекала первая половина второго срока его пребывания на посту президента и он уже достаточно устал от каверзной мормонской проблемы. Однако шум, доносившийся в Вашингтон из Юты, становился все громче. На выборах в конгресс кандидат либеральной партии набрал четыре с половиной тысячи голосов против двадцати двух тысяч голосов, отданных за мормонского кандидата. Это свидетельствовало о том, что мормоны постепенно теряют голоса. ???? 31• В районе Туэле к югу от Солт-Лейка обе партии подделали результаты выборов настолько явно, что произошел скандал. В конце концов избранным был признан мормонский делегат, хотя двести тридцать семь избирательных бюллетеней с его пменем оказались недействительными. Однако было доказано, что за кандидата либеральной партии было подано девятьсот сорок пять фаль-
483
сифицированных бюллетеней. И все-таки, выдвинув обвинение в государственной измене, либеральная партия сумела добиться того, что мормонский делегат во время первой сессии конгресса не был допущен в зал заседаний. Когда губернатор Вудс, отслужив четырехлетний срок, ушел в отставку, президент Грант решил добиться перемирия в Юте, назначив туда губернатором умеренного и мягкого по натуре Сэмюэла Акстелла, калифорнийца. Акстелл предоставил мормонам, по свидетельству благодарного историка их церкви, «беспристрастное, справедливое управление, религиозную свободу в рамках действующего писаного права и местное самоуправление». Представители шайки пробились к президенту Гранту и сумели добиться снятия Акстелла. Затем выбор президента Гранта пал на человека, оказавшегося самым достойным из всех, кто когда-либо занимал губернаторский пост в Юте. Грант попросил бостонского юриста Джорджа Эмери, уроженца штата Мэн, получившего образование в Дортмуте, «не считать членов шайки советниками президента по вопросам Юты, а поступать справедливо, решая вопросы по-человечески и избегая крайностей». Губернатор Эмери пошел еще дальше. Приступив к исполнению своих обязанностей в июне 1875 года, он преподал в Юте блестящий образец разумного правления: предложил важные усовершенствования в сельском хозяйстве, помог расширить систему просвещения, разработал новый гражданский и уголовный кодекс, взяв за основу принятые в Калифорнии законы. Завоевав доверие и любовь мормонов, губернатор Эмери предложил законодательному собранию Юты принять закон против полигамии, «который положит предел ее распространению и введет такие меры, которые окажутся справедливыми и беспристрастными в части, касающейся прошлого». Иными словами, он предложил всеми силами охранять права тех, кто уже состоит в полигамном браке, а такжо детей от этих браков, приняв, одпако, меры, препятствующие заключению новых подобных браков. Губернатор Эмери заверил законодателей, что, если они проведут такой закон, это устранит последнее препятствие на пути получения Ютой прав штата; однако шаг этот мормоны должны сделать первыми и по собственной инициативе. Мормонские законодатели, большинство которых состояло в полигамных браках, отказались последовать этому совету. И вот теперь, после принятия в августе 1о7о года Колорадо в состав Соединенных Штатов, Юта оставалась единственной частью Дальнего Запада, которая до сих пор не имела прав штата. Брайам Янг пристально следил за тем, как все усиливается антимормонская оппозиция внутри Юты и как все громче становятся голоса протеста за ее пределами. Ему было семьдесят четыре года. Чудное видение объединенной церкви внутри объединенного Сиона, которое он пронес из Зимних квартир через пустынные равнины и которое поддерживал всем сердцем все эти годы тревог и смут, так и не получило своего воплощения. Мормонам все еще грозили внутренние и внешние опасности. Где-то на пути к цели он так и не сумел сплотить в единое целое своих единоверцев настолько прочно, чтобы никакие человеческие силы не смогли пробить брешь в этом единстве. Янг считал, что этого непоколебимого единства он должен добиться теперь. У него оставалось не так уж много времени; спасительный план, который он намерен был осуществить, должен был стать поздним ребенком, но Янг считал себя обязанным предпринять это последнее усилие перед тем, как навеки покинуть мормонов. Он огласил свой новый, революционный план, который он назвал «Объединенный порядком», придав ему форму некоего религиозного коммунизма, который он намеревался насадить вместо царящей в мормонском обществе капиталистической кооперации. Первую попытку осуществления этого плана Янг предпринял, создав Торгово- кооперативное учреждение Сиона (ТКУС), в основном принадлежащее церкви.ТКУС потерпело полную неудачу. Помимо Солт-Лейка и нескольких окрестных местечек, идея эта вообще не привилась. Далеко не все мормонские торговцы проявляли готовность отказаться от своих лавок; во многих мелких городах мормоны отказывались приобретать товары исключительно в магазинах ТКУС. Церковь сетовала па то, что, помимо нежелания народа оказать полную поддержку идее, главная причина неудачи состояла еще и в том, что старейшина Лорепцо Сноу определил как «трудность подыскать людей, обладающих способностями, муд- ростыо и преданностью для руководства этим предприятием». Несмотря па то что с открытия в январе 1870 года железной дороги, то есть в период, который мормоны называли вторым этапом своей истории, главным лозунгом мормонов был призыв к «кооперации», мормоны потерпели неудачи во многих, казалось бы, наиболее перспективных предприятиях. Владельцы ранчо завезли в Юту большое число овец, и, когда поголовье их значительно выросло, церковь на паях с частным капиталом построила шерстобитные фабрики в Солт-Лейке, Бинхэме, Прово и Вивере. Было закуплено на семьдесят тысяч долларов оборудования, и к 1873 году фабрика в Прово начала производить сукно. Однако суконные фабрики дохода не принесли, поскольку овцеводы, в большинстве своем вполне респектабельные мормоны, предпочитали сбывать шерсть за пределами Юты за наличные деньги, вместо того чтобы продавать ее па месте, где они могли получать только половину цены деньгами, а остальное - товарами. Хлопок, который выращивался па юге Юты, приносил большие прибыли в годы Гражданской войны, но теперь оказался неконкурентоспособным на свободных• рынках, уступая хлопку гожап. Брайаму Янгу, по-видимому, еще до сих пор досаждало воспоминапие о том, что оп так и не сумел регламентировать одежду мормонских женщин. По его приказу семь его дочерей образовали Ассоциацию взаимоусовершенство- вапил юпых леди, с тем чтобы «пропагандировать отказ от излишеств в одежде и в речи, а также прививать навыки порядка, бережливости, предприимчивости и благотворительности». Организация эта издавала специальный журнал, в котором публиковались инструкции и даже графические изображения мормонских пдеалов жизни… который не читали по меньшей мере две из его жен: Амелия, «…с ее царственной фигурой, в блестящих шелках, с кольцами на пальцах обеих рук и с жемчужным ожерельем на шее и такими же подвесками. Она производила неотразимое впечатление, проезжая в открытой карете, прикрываясь от солпца маленьким кружевным зонтом; Амелия, восседающая па лошади в специальном жепском седле, в сипей амазонке с бропзовыми пуговицами, юбки которой опускались почти до земли; Амелия, которая ввела в моду новые корсеты, подчеркивавшие ее фигуру с полным бюстом, узкой талией, -корсеты со стальными пластинками на спине, которые помогали дамам нести себя наподобие греческих богинь». Хотя мормонские женщины и относились с симпатией ко второй жене Брайама Янга, они все же не удержались от дружеского подшучивания над ней: «Люси Байглоу, женщина грудастая, со светлыми волосами-предметом зависти многих, была столь же изысканна, как Амелия, и, подобно ей, была леди с головы до пят. Покупая евнныо у Лона Таккета, она упорно именовала ее поросенком-дамой». В качестве основополагающего принципа «Объединенного цорядка» выдвигалось предположение, что каждый мужчина должен заниматься тем трудом, который ему больше всего нравится; каждый в качестве платы за свой труд имеет право на обеспечение приличной и достойпой жизни; человек неработающий пе получает права на пропитание; считалось, что каждый обязан трудиться не только для себя, но для всего общества; никто пе мог владеть большими материальными благами, чем остальные. Членство в «Объединенном порядке» было добровольным, однако, если кто-либо вступал в него, он обязывался передать церкви свою землю, свой дом, мебель, запасы провизии, одежду и вещи личного обихода, инструменты, сельскохозяйственный инвентарь, скот и семена. Отдав все свое имущество «Объединенному порядку», член его затем получал в пользование то количество вещей и инвентаря, которое «Объединенный порядок» считал необходимым ему выделить. Это имущество зачастую могло составлять список тех самых вещей, которые были сданы вступающим; если же список сданных вещей оказывался слишком коротким, а «Объединенный порядок» находил нужным дать ему больше вещей, он получал их. Все, что было произведено или заработано сверх установленного стандарта или нормы, поступало в распоряжение «Объединенного порядка» и хранилось на общих складах. Никто из членов не имел права заниматься накоплением прибавочного продукта. Исходя из этого же принципа, если член общества заболевал, достигал престарелого возраста или пострадал от стихийного бедствия, ему оказывали помощь. Брайам Япг хотел, чтобы его единоверцы отказались от всеобщей свободы в обмен на всеобщую обеспеченность. Одной из главных целей была ликвидация соперничества между мормонами и устранение различий в их жизненном уровне. В его программу входила также воинствующая религиозная кампания, при которой каждый мужчина, женщина или ребенок, вступая в общество «Объединенного порядка», заново принимали обряд крещения и полностью посвящали себя мормонской церкви. Старейшина Эрастус Сноу из миссии Дикси заявил: «Величайшим принципом «Объединенного порядка» был лозунг «Каждый за общее, и господь бог за всех». Когда Брайам Янг излагал эти правила на сорок четвертой ежегодной конференции церкви, он сказал: «А когда спросят о заработанном, накопленном всем обществом для установления царства божьего на земле «чье это?», ответ будет таков: «Все это наше, а мы - божьи, и все, чем мы владеем, принадлежит Ему». Вскоре Брайам Янг отправился в свое ежегодное путешествие в Сент-Джордж на юге Юты. Город Ордервилл был основан на том месте, где «Объединенный порядок» добился некоторого успеха. Население небольшого Ричмонда вступило в общество целиком: с восемью сотнями голов скота, двумястами лошадей, отарой овец в тысячу семьсот голов, кожевенной мастерской, мельницей стоимостью десять тысяч долларов, паровой пилой, токарным станком н лесопильней. Вступали и отдельные лица, особенно в южных местностях,-несколько столяров, полдюжины сапожников, около двадцати плотников и, по-видимому, сорок пять фермеров, которые обрабатывали около тысячи ста акров земли. Одпако, за исключением этих отдельных центров, которые была воспламенены проповедями Брайама Янга, «Объединенный порядок» так никогда и не смог прочно стать на ноги. Мормопы не хотели стаповиться религиозными коммунистами, им больше по душе приходился капитализм. Брайам Янг всегда выступал за полное единство мормонов; а теперь оп видел их разбитыми па классы: на тех, кто присоединился к «Объединенному порядку», и тех, кто не присоединился. Он понял, что он создал схизму, которая может причинить серьезный ущерб церкви. Если бы оп основал «Объединенный порядок» сразу же, как только мормоны прибыли в Великую низменность, когда сам он был молод и полон энергии, а здесь еще не было чужаков, тогда были бы серьезные шансы на успех; теперь же у него уже не было той энергии и личного магнетизма, которые необходимы для того, чтобы «Объединенный порядок» начал приносить плоды. «Объединенный порядок» сначала вспыхнул ярким пламенем, а потом тихо угас». В 1875 году Брайам Янг трудился также над расширением образовательного и культурного уровня своего народа. В большинстве мормонских школ обучение было платным. В Спэниш-Форк сорока молодым людям для получения образования пришлось валить деревья, обтесывать стволы, доставлять их в город, строить школу, а затем ещо мастерить столы и лавки. И только после всего этого Академия молодых людей была открыта. Брайам Янг основал академию своего имени. Он также пригласил профессора Керлесса для исполнения «Мессии» Генделя в молитвенном доме с его прекрасным органом и великолепной акустикой. Мормоны встретили его с огромным энтузиазмом, и в первый же вечер сбор составил 1200 долларов. 23 марта 1877 года весь народ с удовлетворением встретил весть о казни Джона Ли на Маунтип-Мидоуз, на том самом месте, где двадцать лет назад, в 1857 году, было учинено побоище члепов партии Фенчера. Первый суд пад Ли закончился полной неудачей из-за того, что федеральное правительство пыталось обвинить Брайама Янга и мормонов в этом побоище. На втором судебном процессе Ли был привлечен к ответственности за свои собственные преступления, а вина его была велика. Ведь это оп предложил партии фальшивые условия перемирия, оп командовал ополченцами Юты, которые были посланы на Маунтип-Мидоуз, он отдал приказ открыть огонь, и он командовал индейцами, которые добивали оставшихся в живых. Еще два человека, повинные в составлении этого предательского плана-Айзек Хейт и Уильям Дейм,-так никогда и не были привлечены к ответственности, по-видимому, потому, что их не было на месте побоища. Ни Брайам Янг, ни вообще кто-либо из церковных чинов не предприняли попытки защитить Ли. У церкви сейчас и помимо этого было достаточно забот: она защищала себя от обвинений в соучастии. Ли чувствовал себя уязвленным: он прекрасно понимал, что церковь решила принести его в жертву. И все же ни разу за все время судебного процесса с участием присяжных, полностью набран- пых из мормонов, он так н не попытался сослаться на участие церкви в побоище. 11 июля 1877 года, чувствуя приближение смертного часа, Брайам Янг составил свой последний «Циркуляр первого президентства», в котором он преобразовал «двадцать составных частей Сиона», с тем чтобы они еще теснее сплелись в единое целое. Он также распорядился о введении бесплатного обучения для всех мормонских детей, оговаривая при этом, что учебники должны быть написаны и отпечатаны в Юте и что «учителями должны быть мормоны, для того, чтобы дети могли знать только то, что им следует знать». 29 августа 1877 года в возрасте семидесяти шести лет он скончался «…с именем Джозефа Смита на устах, в окружении друзей и родных». Двадцать пять тысяч правоверных прибыли в Солт- Лейк, чтобы проследовать в траурной процессии за гробом своего вождя, который тридцать лет назад сказал о Великой низменности, что это и есть «то самое место», и привел мормонов в их дом в стране обетованпой. «Процессия была длинной, торжественной и организованной в соответствии со строгими правилами, столь характерными для этого скопированного с пчелипого улья общества. Во главе ее двигался оркестр, середину составляли клерки и работники покойного вместе с девятью из двенадцати апостолов и епископом в качестве носильщиков. Весь путь к семейному кладбищу Брайама Янга был проделан по заполненным народом улицам, многие из зрителей плакали». Некрологи, опубликованные прессой страны, были в большинстве своем дружелюбными. В них Брайама Янга называли одним из величайших колонистов. Ложкой дегтя в общем потоке этих доброжелательных статей явилась статья, опубликованная в самом Солт-Лей- ке, где антимормонская «Трибюп» не преминула заявить: «Пророчество Джозефа Смита оправдалось: Брайам Янг, став главой церкви, привел ее к вратам ада…» Внешний мир верил, что со смертью своего вождя церковь мормонов распадется.
Глава VIII
Действующее лицо - КолорадоВ марте 1870 года наступила эра колонизации Колорадо, страны столь лее необычайной, сколь оригинальными были ее местные старатели или узкоколейные горные же? лезные дороги; она настолько отличалась от Юты, Невады и Калифорнии, насколько Скалистые горы отличались от Уосач, Уошоэ или Сьерра-Невады. Первыми сюда прибыли триста немцев-кооператив, сформированный усилиями Карла Вульстена и его газеты «Штаадс цайтунг» на базе того, что, по меткому выраже- нию наблюдателя, представляло собой «зловонные боко- вые аллеи и подвалы перенаселенного Чикаго». Они наня- ли поезд на конечной станции, в форте Уоллес, штат Кан- зас, и в вагонах государственной линии Соединенных Шта- тов, в которых было свалено их имущество, направились к своим новым домам. Члены кооператива подписали кон- тракт, обязывающий их оставаться в колонии пять лет, по истечении которых общее достояние будет разделено меж- ду членами общества и они спова станут частными собст- венниками, как это ^ыло в Солт-Лейке и Анахейме. Сто семейств выбрали красивую, но изолированную гор- ную долину, походившую по ландшафту их Швейцарию, к югу от Кэнпон-Сити, между грозными Мокрыми горами иСангре-де-Кристо. Колонии своей они дали имя Колфакс и с первого же дня приступили к распашке земли. Они за- сеяли хлебом тридцать акров, совместными усилиями по- строили временные жилища, проложили дороги, построй ли мельницу и лесопильню. Среди них находилось «двад- цать светловолосых, румянолицых девушек-немок, юных и весьма привлекательных». Был у них также доктор, свя- щенник и школьный учитель, опи принципиально отказа- лись включать в свой состав юристов. Вульстен писал, что он счел своей обязанностью помочь этим беднякам немец- кого происхождения, «которые были обречены работать в грязных, плохо вентилируемых и разрушающих первную систему фабриках». Пришельцы, вдыхая знаменитый гор- ный воздух па высоте семи с половиной тысяч футов, ечн- тали, что они попали в рай. Каждая из сотни семей внесла в общий фонд но 250 долларов. За день, отработанпый па строительстве города или распиловке досок для продажи в Денвере, мужчины получали по два доллара. Но одпого райского воздуха было мало. К июлю коло- ния уже с успехом могла бы воспользоваться советами здравомыслящего юриста. Сначала взбунтовались против диктаторских замашек Вульстена. Затем один из колони- стоп пожаловался па то, «что здесь слишком много коммунизма», а второй воскликнул, что у них вообще все выманили. Долина лежала высоко над уровнем моря, а отсутствие в группе фермеров, то есть людей, знакомых с земледелием вообще, никак не помогало делу. Когда из-за ранних морозов погибли посевы, духа взаимовыручки оказалось слишком мало, чтобы помочь колонистам продержаться до весны. Многие семьи уехали. Оставшимся пришлось обратиться за помощью к федеральным властям, чтобы кое-как просуществовать зиму. Когда псжар уничтожил общественный склад, в котором к тому же сгорели и все бумаги кооператива, дух кооперативного товарищества окончательно развеялся. Оставшиеся члены кооператива разбрелись кто куда - в Пуэбло, Колорадо-Сити и Денвер. В.ульстен писал: «Для коллектива в целом предприятие закончилось полным провалом, однако для каждого индивудуума оно оказалось огромным успехом, потому что каждая семья живет сейчас в условиях обеспеченной независимости». Вторая колопия была основана в мае, всего на два месяца позже Колфакса. Основали ее выходцы из Нью-Йорка во главе с Натаном Микером. Подобно тому, как колфакс- кая группа поддерживалась и рекламировалась «Штаадс цайтупг» Вульстена в Чикаго, новую колонию поддер- живал Хорэйс Грили со своей «Трибюн» в Нью-Йорке, твердо веривший в перспективность кооперативной колонизации. На первом собрании они решили именовать себя Юнионистской колонией. В уставе ее говорилось, что «люди трезвые и порядочные могут стать ее членами, внеся вступительный взнос в размере ста пятидесяти долларов». Деньги были истрачены на приобретение хорошей земли в долине Каше-ла-Пудре к северу от Денвера и Боулдера. Соседство с фургонным трактом и железной дорогой, ведущей в Шайенн на соединение с «Юпиоп пасифик», помогло им избежать изоляции, оказавшейся губительной для экономики Колфакса.
Земля была куплена у железной дороги «Денвер пасифик», в Шайенне был приобретен дом, который перенесли из города в долину и назвали его «Отсль-де-комфорт», Здесь колонисты жили, пока осваивались с городом, прокладывали улицы, сажали деревья, построили общественный зал для собраний, школу и библиотеку, ирригационные канавы, мосты и высокую стену, огораживающую их кооперативное хозяйство. Спиртное было запрещено, для поднятия духа, как и у мормонов, устраивались танцевальные и театральные.вечера. Некоторые члены кооператива, проделав далекое путешествие, обнаруживали у себя полное отсутствие склонностей к пионерской жизни. Пейбор, один из членов-основателей, рассказывает: «Купленная земля была не обработана и простиралась на многие мили; ветер па протяжении веков сдувал всю почву, оставляя лишь гравий. Ежедневно прибывало от пятидесяти до ста человек, не имевших даже одеял или запасов провизии. Во всем городе был один-единственный колодец. Некоторые как бы забыли о том, что именно трудом колонии предстоит создать город, опи считали, что он уже построен. Ругаясь почем зря, они задерживались здесь, только чтобы дождаться обратного поезда, который отвезет их на Восток». Наиболее упорные из колонистов пережили первую трудную зиму. В лице Натана Микера они нашли странную комбинацию идеалиста и трезвого, делового человека. К исходу второго года колония продавала окрестным рудникам по хорошим ценам свою сельскохозяйственную продукцию и открывала собственные мелкие предприятия. «Общество было идеалистическим, высокоморальным и в большинстве своем весьма религиозным», а следовательно, сплоченным и склонным к самодисциплине, то есть весьма походило на мормонские поселения. Прочно став на ноги, колония изменила свое название, переименовав себя в Грили, и отказалась от общественной формы собственности; однако органы местного самоуправления сохранили прежний дух, запретив бильярдные, но поощряя при этом певческие клубы и ягодные фестивали. Успех Грили вызвал целую эпидемию строительства. Городки возникали на пустом месте. Двойник Грили был основан полковником Праттом, агентом по торговле недвижимостью железных дорог «Денвер пасифик» и «Канзас пасифик». Четыреста человек из Чикаго, внеся предварительно по сто пятьдесят долларов, основали с его помощью Лонгмонт между Грили и Денвером. С мая по июнь 1871 года они построили пятьдесят домов, зал собраний и библиотеку. Саранча уничтожила значительную часть их посевов, у них были огромные трудности из-за нехватки наличных денег на оплату земли и страховок.
построенные ИМи дамоы оказалйсг недостаточными во время разлива рек; однако земля была хорошей, организация - тоже, а люди трудились упорно. К исходу первого года было построено двести домов, склады, кирпичный завод, почта, и дела пошли хорошо. Колонии в Ивансе н Грин-Сити потерпели неудачу, люди из них перебрались в Грили и другие обжитые города. Земля здесь оказалась но такой уж хорошей, руководство не таким способным, а дух товарищества не столь уж прочным. Железные дороги и крупные землевладельцы подхватнлп идею кооперативного освоения земли: же- лезная дорога «Денвер энд Рио-Грапдо» создала колонию Фонтейн, которая затем превратилась в процветающий город Колорадо-Спрингс. Земельная компания «Платт-Ривер» разбила на участки площадь, которую они назвали Платтвиллом, лежавшую в тридцати пяти милях к северу от Денвера, рекламируя здешние богатые земли, опьяняющий воздух и полезный для здоровья климат. Чтобы избавить поселенцев от обычных мучений, приносимых первой зимой на необжитом месте, было привезено из Чикаго сто пятьдесят разборных домов. Менее чем через год - к январю 1872 года - колония уже могла похвастать восьмьюстами жителями, деловыми зданиями, газетой, двумя церквами, бесплатным читальным залом, двумя общественными парками, девятнадцатью милями каналов и землей, отведенной под строительство школ и колледжей. Когда военное министерство решило оставить форт Коллинз, лежавший к северу от Грили, генерал Роберт Камерон основал градостроительную компанию, продавая участки по цене от пятидесяти до двухсот пятидесяти долларов. К 1873 году городок разросся настолько, что смог открыть собственный банк и приступить к выпуску газеты. Правительство территории Колорадо, видя успех этих колоний, решило объявить миру о своем существовании и образовало Иммиграционное бюро. Целые караваны начали прибывать из Огайо, Мичигана и Кентукки. В складчину они покупали землю, а затем делили на участки в зависимости от платежеспособности желающих. Уильям Грин Рассел, который в 1858 году привел первую партию старателей в Колорадо, привел теперь партию из Джорджии. Члены ее приобрели землю и поселились вокруг городка Бадито на реке Хуэфрано к югу от Пуэбло. Еще целая группа поселений была основана в колорадской части Скалистых гор, на этот раз индивидуумом столь я«е непривлекательным, как неприступные горы Сан-Хуан высотой в четырнадцать тысяч футов. Героем Сан-Хуана оказался, ноя«алуй, самый пеобычный из всех типов, Появлявшихся на фопе колорадских пейзажей. Это был Отто Миэрс - «бесцветный, низкорослый, с клочковатой бородой, он остался сиротой в возрасте четырех лет, и жизнь так трепала и била его, что оп стал закаленным и безжалостным как клинок». Когда в этих местах было обнаружено золото, старатели в какой-то степени были обеспокоены тем фактом, что земля принадлежала индейцам племепи юта. Индейцы юта были отличными воинами, и, чтобы уберечь золотоискателей от столкновений с ними, федеральное правительство направило комиссара Феликса Брюно, чтобы тот предложил им отступного за их земли. Юты заупрямились, и под предлогом предотвращения войны в горы были введены войска. Комиссар Брюно в отчаянии обратился к Отто Миэрсу, сыну еврейки из России и англичанина, который разговаривал на языке юта, как, впрочем, и на английском, с сильным русским акцентом. Отто Миэрс отправился к своему другу великому вождю ютов Оури. Дэвид Лавендер в своей книге «Великий перевал» рассказывает, что Миэрс «способен был сидеть на корточках в грязной и завшпвленпой ипдейской хижине и болтать с ее обитателями, ничем не проявляя брезгливости или высокомерия». Вождь Оури долго слушал Отто, а потом взял да и отправился вместе со своим военным советом в Вашингтон для подписания договора, который гарантировал бы индейцам юта выплату двадцати пяти тысяч долларов ежегодпо. В Вашингтоне Отто Миэрс, их гид и гость, обменялся рукопожатиями с президентом Грантом, а индейцы получили приглашение в дом Гранта. Первые шаги на стезе пионерской деятельности Миэрс сделал в Калифорнии, где его в 1851 году в возрасте одиннадцати лет бросил последний из целой серии разочаровавшихся в нем родственников. Оп был жестянщиком, жил па золотых приисках в Сьерра Неваде, вступил в ряды Первого Калифорнийского добровольческого полка, служил в Ныо-Мсхико, а после окончания Гражданской войны забрался так далеко на запад, что оказался на Сугаше-Крик между Пуэбло и •западной границей Колорадо. Здесь он обзавелся домом, начал выращивать хлеб, молол его на собственноручно построенной мельнице, грузил муку на вереницу нанятых фургонов и отвозил ее вверх по реке Арканзас для продажи золотоискателям в Калифорния-Галч. Отто пе смутило то обстоятельство, что через горы высотой в девять тысяч футов не было дорог: с киркой и лопатой он пробился через перевал Понча. За этим занятием его застал бывший губернатор Уильям Джилпип, ехавший следом за ним верхом на лошади. Приглядевшись к его работе, он поинтересовался: «А почему бы вам не исхлопотать у правительства территории лицензию на постройку здесь платной дороги? А заодно почему бы вам но разровнять ее, с тем чтобы можно было уложить рельсы?» Именно так Отто и поступил. Он также построил дорогу на той тропе через перевал Кочетопа, по которой пытался пробиться Фремонт во время четвертой экспедиции. Отто Миэрс кончил тем, что построил дороги на пятнадцати различных перевалах через Скалистые горы - общей длиной почти пятьсот миль. И все это он финансировал из собственного кармана и зачастую собственноручно прорубался сквозь скалы на самых крутых подъемах па всем Североамериканском континенте. Опять-таки по совету бывшего губернатора Джилпина он переуступил права на некоторые из них железнодорожным компаниям. Теперь в Колорадо находили все новые серебряные и золотые залежи, причем в самом недоступном, юго-западном районе страны. Первый лагерь золотоискателей Сам- митвилла был разбит на высоте одиннадцати тысяч триста футов - одно из самых высоких поселений в мире. Лавен- дер приводит слова раздраженного, но весьма красноречивого старателя: «Из всех застолбленных мест Сан-Хуан и самое лучшее, и самое паршивое. Залежей там много и они очень богатые, да только ничего хорошего из этого н•) выходит. Взбираешься по таким вот склонам, - и он показывает рукой подъем градусов• в восемьдесят, - а попав туда, видишь, что вокруг одни горы и руду оттуда но вывезти никак». Рудники от поселков зачастую отделяла целая миля крутого горного склона, и поэтому в Колорадо получил распространение «лошадиный экспресс»: за определенную мзду шахтер мог верхом добраться до рудника. Затем лошад!, самостоятельно возвращалась в конюшню. Любые попытки бесплатно проехаться вниз на свободной от седока лошади неизменно терпели полную неудачу. Однако все эти очевидные трудности пикого не отпугивали: когда в игру вступает золото, нет такой силы, которая заставила бы людей отказаться от пего. Еще в 1860 году, во времена экспедиции Джона Бейксра в эти забытые богом места, индейцы племени навахо утверждали, что здесь имеется «королевский металл». Навахи не лгали - в 1870 году поисковая партия открыла золотые россыпи Литл-Джайант с содержанием золота на сумму от 900 до 4000 долларов па тонну породы, что значительно превышало все виденное в Сьерра-Неваде или на Ма- унт-Дэвидсон. Сюда хлынул ноток золотоискателей, в результате чего образовался золотопромышленный район Лас-Лнимас. Старатели начали съезжаться отовсюду, даже из Кали- форпии, которая последние двадцать лет считалась их вотчиной. Джон Мосс со своей партией нашел золото на роке Ла-Плата и заложил город Пэррот, назвав его так в честь «Пэррот энд компанн» в Сан-Франциско, фирмы, которая доставила сюда их припасы. Дсль-Норте, основанный в 1872 году па •высоте почти двенадцати тысяч футов, стал центром ото снабжению старателей и базой для возчиков, доставляющих товары через перевал к рудникам Саммитвилла. В Сильвертоне была построена примитивная камнедробилыш, а также сколочена хижина, в которой разместились почтовая контора и склад. Вскоре здесь была поставлена плавильная печь, а когда через перевал Стони проложили дорогу, по ней сразу двинулись вереницы фургонов, как это было на Калифорнийском тракте по пути к Вирджиния-Сити в 1860 году. Новую территорию просто распирало от золота. Когда Энос Хотчкисс строил платную дорогу из Сугаше в Сан- Хосе, он натолкнулся на богатейшие залежи. IIa берегу озера Сан-Кристобал вырос город Лейк-Сити; Отто Миэрс начал издавать здесь «Сильвер уорд» - первую газету в Сан-Хуане - в деревянной хижине, построенной,на песке, страстно рекламируя этот район. Через три года здесь ужо насчитывалось две с половиной тысячи жителей, а городок стал одним из самых процветающих во всем Колорадо. ???? 497 Старатель по имени Сэм Конджер, увидев, как залегают жилы серебряной руды в невадском Комстоке, при- 32 Зак. Д-,!да помнил вдруг, что такое же расположение каменных пластов он уже видел к западу от Боулдера в северной части Колорадо, когда охотился там на лосей. Подобно Джону Бидуэллу, тщательно изучившему строение пластов вокруг Коломы, а затем отправившемуся на север и нашедшему там такие же залежи па Физер-Ривер, Сэм Копджер вернулся к местам своей прежней охоты и открыл там богатейшую залежь Карибу. Ипогда горы папосили ответный удар грабящим их людям. Одпажды Билли Мэйхер оказался занесенным снегом в своей хижине в окрестностях Сан-Хуана. Внутри было настолько холодно, что его напарнику-итальянцу пришлось взять к себе в постель картошку, чтобы она не замерзла. Билли попытался отогреть динамит в печи. Последовал взрыв, которым Билли выбило глаза и всего изуродовало. Итальянец спустился с горы за помощью, одпа- ко спасательная партия из четырех человек по пути наверх была погребена снежной лавиной. Билли тоже умер. Транспорт все время был острейшей проблемой; уже самые первые изыскатели обнаружили, что Скалистые горы Колорадо никак не желают превращаться в паровозное депо. Первые линии колорадских железных дорог вились по таким узким и крутым ущельям, что по ним не согласился бы бродить ли один уважающий себя горный козел. Однако, как только обнаруживали новую богатую залежь, туда, песмотря на высоту, сразу же прокладывали железную дорогу. Подобно шахтерам и колопистам Колорадо, железные дороги здесь отличались своими собственными, индивидуальными отличиями. Ущелья здесь были обычно столь узкими и крутыми, ,что и пройти по ним было очень трудно, не говоря уже о трудностях укладки шпал и рельсов. И все-таки ?их укладывали. Стоило это огромных денег. Однако затраты никого но волновали. Каждая повая узкоколейная линия, как, например, колорадская «Сен- трал» к Блэк-Хоук в 1872 году, порождала новую серию поселений. Железная дорога «Денвер эпд Саут-Парк» столкнулась с некоторыми трудностями во время финансового кризиса 1873 года и смогла выжить лишь благодаря тому, что возила по живописным местам экскурсии воскресных школ. Конкуренты пытались высмеять се, обзывая «линией воскресных школ», однако «Денвер эпд Саут-Парк» нашла сеое занятие, приносящее доход не меньший, чем транспортировка руды. Река была богата форелью; каждое утро поезд, заполненный рыболовами, трогался с места, развозя пассажиров по облюбованным ими местам, в конце дпя обратпый поезд собирал и рыбаков, и улов. По воскресным дням приходилось отправлять по три состава с рыбаками. Железнодорожная линия зарабатывала пе только деньги, но и признательность денверцев. Впервые Денвер встретился с Ричонсом Лейси Вутто- ном - Дядюшкой Диком - в канун рождества 1858 года, когда он приехал сюда с полным фургоном бакалейных товаров и ламп «молния». Он был образованным двадцатилетним вирджинцем, отправившимся на Запад в поисках приключений. Он нашел их в изобилии, охотясь вместе с Китом Карсоном. Дядюшка Дик - «двести фунтов могучих мускулов и соответствующая им грива непокорных волос» - ¦подрядился строить двадцатисемимильпую дорогу через перевал Рейтона. Построив дорогу, он обеспечил себе значительный доход, взимая за проезд по ней по полтора доллара с фургона, по двадцать пять центов со всадника и по пять центов с головы скота. То, что пошлину эту ему зачастую приходилось взимать, взяв каждого из проезжающих на мушку. Дядюшка Дик считал вполне естествеппым; он делал исключение только для индейцев, чьи предки пользовались этим перевалом многие столетня. На колорадском конце своей платной дороги Вуттон построил нечто среднее между сараем и постоялым двором, где он размещал всех пересекающих перевал. Как и Отто Миэрс, он позже продал свои нрава железной дороге «Санта-Фе» и помог ей провести рельсы через перевал Рейтона. ???? 32• Генерал Уильям Палмер, рыжеволосый филадельфиец, получивший образование в Англии, посился с проектом строительства железных дорог: одной - через Скалистые горы в Калифорнию и второй - к Мехико-Сити. Ему удалось продать споим друзьям из Филадельфии и Англии па миллион долларов акций скромного проекта - строительства узкоколейки от Денвера к Колорадо-Спрингс. Для нее он сконструировал паровозы и вагоны пз таких легких материалов, что они весили вдвое меньше обычных. Дорога приносила огромный доход, несмотря на то, что на оерега.х озера Палмер высоко в горах разгулявшийся ве-
499
тер зачастую просто сдувал паровоз вместо с вагонами с рельсов. Позднее он продолжил эту линию на юг до Пуэбло, а затем и вверх,по долине реки Арканзас. Палмер сколотил достаточно денег, чтобы позволить себе такие «странности», которые заставили бы позеленеть от зависти и Дэна де Киля и Марка Твена. На скло- пе горы, возвышавшейся пад основанным им Колорадо- Спрингс, генерал Палмер построил себе точную копию замка герцога Мальборо, ввезя из Англии старинную церковную черепицу для придапия замку древнего вида. Чтобы замок не закоптился, Пальмер пробил в горе на задах дома туннель для отвода дыма из трубы! Когда У. Лавлэнд построил железную дорогу «Колора- до-Сентрал» и не смог протянуть рельсы через Великий перевал в Калифорпию, оп намеревался переправлять через хребет пассажиров и грузы в люльках подвеспой канатпой дороги - еще одна из «странностей». Органы управления в этих далеких районах тоже были со «странностями». Ирвинг Хоуберт, человек совершенно неопытный, был выдвинут республиканцами на пост клерка графства, демократы одобрили его кандидатуру, и он был избран на этот пост. На следующее утро оп пришел в свою контору, приютившуюся на задах неоштукатуренного здания суда, и обнаружил, что ночью замерзли чернила. Тогда оп снял хижину и перенес в псе все документы и архив. В пачале семидесятых годов переселенцы и старатели прибывали сюда непрерывным потоком; для регистрации их земельных наделов и заявок Хоуберту пришлось составить первую официальную карту графства. Ветераны Гражданской войны требовали причитающихся им пенсий, и Хоуберту с разрешения пенсионного бюро пришлось заняться и этими вопросами. Здесь не было телеграфистов, поэтому начальник телеграфной линии установил аппарат в хижине Хоуберта и научил его отправлять и принимать телеграммы. Рудокопы приносили в контору графства образцы минералов, и Хоуберт основал Геологический институт. Поскольку инспекторы и комиссары графства жили на отдаленных ранчо и рудниках, Хоуберту пришлось взять па себя также и выполнение их обязанностей. Уильям Хеймилл сколотил огромное состояние на рудниках. Оп целиком отдал Клиар-Крик в руки республиканцев и хвастал тем, что «все графство лежит у него в жи- летпом кармапе». Однажды пород выборами он объявил, что пс допустит даже выдвижения кандидатов от демократической партии на какие-либо посты в графстве. «Курьер», принадлежавший самому Хеймиллу, восстал против своего хозяипа и публично разоблачил его. Графство Клиар-Крик, где до этого республиканцы побеждали с преимуществом в семьсот голосов, на этот раз все должности отдало демократам. Хеймилл в ярости кричал: «Вы знаете, опи даже выстрелили по мне из пушки?» В труднодоступном Сан-Хуане могло случиться все, что угодно. В 1873 году партия из двадцати человек во главе с Альфредом Пакером, «высоким человеком с длинными вьющимися темпыми волосами, темными усами и бородкой и такими же темными глубоко сидящими глазами», прибыла в эти места из Солт-Лейка. Пакер был знаком с Колорадо. Когда они добрались до лагеря вождя Оури на Анкомпагре пеподалеку от индейской миссии Лос-Г1ипос, вождь посоветовал им не вступать в состязание с глубокими снегами. Десять человек послушались совета вождя, остальпые двинулись в путь двумя группами. Через несколько педель Пакер возвратился в агентство Лос-Пинос, заялив, что, когда у пего пачалась спежпая слепота и стали отказывать ноги, он был брошеп своими спутниками. Подозрения возникли, когда оказалось, что у пего есть схема Уэллс-Фарго, которая принадлежала одпому из пяти его спутников, а также охотничий нож и ружье, принадлежавшие другому. Кроме того, он слишком свободно сорил деньгами в баре. Вождь Оури пристально поглядел на него и проворчал: «Ты слишком жирен, черт бы тебя побрал». Именпо в это время сюда прибыл индейский агент генерал Чарлз Адаме. Он тут же напял Пакера проводником в партию, направлявшуюся на поиски пропавших людей. Но не успели они выступить, как Адаме уличил Пакера во лжи относительно денег, которых у него было так много. Пакер признался, что его товарищи мертвы. Под давлением улик он рассказал, что первым от голода умер шестидесятилетний Израиль Свэн, а остальные съели его, чтобы не умереть самим. Через пять дней от нстоще- пия умер Хэмпфрн, и оставшиеся четверо съели его. Фрэнк Миллер, мясник-немец, не мог быстро шагать из-за мучившего его ревматизма, и остальные решили убить его. Ёще через несколько дней Шэннон Белл застрелил шестнадцатилетнего Джорджа Нуна, и они вдвоем съели Джорджа. После этого Белл попытался убить Пакера, по сам Пакер убил его, а разрезанное на полоски мясо трупа дало ему возможность добраться до агентства. Генерал Адаме приказал Пакеру привести его к телам. Пакер ответил, что он заблудился и теперь уже не сможет найти место, где они разбили лагерь. Одпако место было найдепо без его помощи, а скелеты сфотографированы. Четыре черепа были раздроблены, по-видимому, во время сна их обладателей; пятый человек был застрелен поело борьбы. С четырех скелетов было снято все мясо. Альфред Пакер был осужден па сорок лет каторжных работ. В одной из колорадских легенд рассказывается о том, что председатель суда воскликнул: «Во всем графство Хинодейл было всего пять демократов, и ты, Пакер, паршивый республиканский сукин сын, сожрал их всех». С политической точки зрения Колорадо представляло собой довольно мирную картину, хотя бывший президент Эпдрью Джэксон и сдерживал его попытки получить статус штата. Из-за частой смены губернаторов, присылаемых из Вашингтона, возникали соперничающие между собой группировки, но серьезных противоречий между Колорадо и федеральным правительством не было. Когда в 1873 году президент Грант приехал сюда с визитом, Колорадо буквально ошарашил его, выложив тротуар, по которому оп шел к Теллер-Хаусу в Сентрал-Сити, сплошными слитками серебра, добытого в ущелье Карибу. Имея у себя под логами столь неопровержимое доказательство, Грант порекомендовал конгрессу дать ? Колорадо права штата, потому что «у пего имеются все признаки процветающего государства». Джером Чэффи, представитель территории Колорадо в конгрессе, провел билль о предоставлении Колорадо прав штата в шопе 1874 года в палате представителей, одпако сенат ушел па •капикулы до утверждения билля. В феврале сепат одобрил закон, а президент Грапт подписал его 3 марта 1875 года. 20 декабря 1875 года делегаты конституционного конвента собрались в «Олд-Фслоуз-Холле», на третьем этаже банка «Фёрст нэншл», где они н составили самую длинную из всех конституций штатов, длиннее конституции Соединенных Штатов! Женское суфражистское общество в обращепии к делегатам заявило: «Да будет Колорадо первым штатом, который войдет в состав США незапятнанным! Да будет его чистый герб не замаран несправедливостью по отношению к женщинам». Люси Стоун писала делегатам: «Ни одна из статей новой конституции Колорадо не припесет большей чести ее авторам и через столетия, чем та, которая предоставит женщинам право голоса». Одпако делегатов не тропули все эти суфражистские призывы, и они предоставили женщинам право голоса только на школьных выборах. Официально Колорадо мог занять свое место среди других штатов в день 1 августа 1876 года, через восемнадцать лет после того, как первая партия золотоискателей во главе с Расселом и Лоуренсом пришла в горы и расположилась лагерем у Черри-Крик. Но горячие головы не стали дожидаться этой даты; четвертого июля они устроили торжественный парад, на котором профессор Голдрик, в цилиндре, фраке и желтых перчатках, произнес речь, а старожилы собрались теплой компанией поболтать о «ка- равапах запряженных волами фургонов, о схватках с индейцами, о комитетах бдительпости и первых хижинах, наводпениях и саранче… а также о своих надеждах па огромное богатство». Колорадо возмужал. Однако самые тяжелые жизненные удары ему все еще предстояло испытать.Г л а в а IX
«Приезжайте, прихватив с собой пару револьверов» Депверским хозяйкам теперь по приходилось дожидаться, пока водовоз доставит им в бочках воду. Город завершил строительство водопровода, дающего в сутки два с половипой миллиона галлонов воды. Наряду с Вирджиния-Сити Денвер стал приманкой для всемирно известных путешественников; русский великий князь Алексей приезжал сюда охотиться на бизонов вместе с Буффало Биллом и поразил Денвер своим расшитым золотом мундиром. С 1860 по 1870 год улицы его были заполпепы толпами, деловая жизнь кипела, одпако постоянное население за эти годы увеличилось всего па десять душ. Теперь, в эти богатые семидесятые годы, когда все новые миллионы приплывали сюда из горных рудников, все обстояло иначе. С 1870 по 1880 год численпость населения Колорадо подскочила с сорока до почти двухсот тысяч - рост па четыреста процентов! Кооперативные колонии, железные дороги и частновладельческий капитал держали здесь группы представителей. Металлургические заводы обеспечивали работой большую массу людей. Плодородная и дешевая земля привлекала в Колорадо крупные партии эмигрантов из южных штатов, все еще охваченных судорогами реконструкции. Денвер разбогател настолько, что смог позволить себе постройку дома для бедных. Необходимые суммы были собраны Обществом помощи молодых леди. На благотворительные деньги была возведена больница графства. До 1870 года в Колорадо вообще не было никаких школ. А к 1870 году бесплатные школы были построены в трехстах сорока райопах, высшие - в Денвере, Пуэбло и других городах. В Боулдере в 1877 году открылся Колорадский университет. Колорадо благодаря золоту и серебру был настолько уверен в своем благополучии, что даже паника 1875 года, имевшая столь серьезные последствия на Востоке, прошла здесь почти незамеченной. Значительно более тяжелый удар нанес ему следующий год, когда саранча, поразившая весь Дальний Запад от Солт-Лейка до Санта-Бар- бары, сожрала три четверти хлебных посевов па севере Колорадо. Натап Микер, издатель «Трибюп» в Грили, подсчитал, что потери составили четыре миллиопа долларов; только специальный фонд помощи, выделенный конгрессом для пострадавших от саранчи, помог фермерам северного Колорадо спастись от полного разорения. Жизнь в горпых шахтерских городках, прилепившихся к склопу крутой горы, над темным и глубоким ущельем, была трудной, по яркой. Септрал-Сити, к западу от Денвера, был вторым по величипе городом территории и «в начале семидесятых годов играл ведущую роль, выделяясь как богатством, так и культурой». Когда открылся Теллер-Хаус, в нем было семьдесят комнат и на двадцать тысяч долларов изящной мебели. «Реджистер колл» заверяла мир: «Псе спальни обставлены со вкусом и обеспечены всеми современными удобствами. Большинство окон здесь без фрамуг, и поэтому гости могут спокойно укладываться спать, пе беспокоясь о том, что ночью фрамуга свалится и прошибет им головы». Для городов Дальнего «запада обряд крещения представлял собой чаще всего ©гпенную, а не водяную купель. Сентрал-Сити присоединился к целому ряду городов-фениксов выгорев дотла в 1874 году. Настолько богатым был поток поступающего из рудников драгоценного металла, что «Реджистер колл» заявляла с присущей Дальнему Западу скромностью:.«Узкие захламлеппые улочки и одноэтажные деревянные домишки были сметены. Заложены фундаменты великолепных кирпичных домов, величественных деловых кварталов, прекрасных церквей, солидных школьных зданий, отеля и оперного театра, которым па всем Западе не сыскать равпых». После 1875 года силами старателей, снующих по всему Сан-Хуану, открылись десятки новых шахт и рудников. И повсюду, где был рудник, вырастал город. В честь вождя Оури был основан город Оури, окруженный сплошпым кольцом серебряных рудников. Драгоценный металл был найден в долине Мокрых гор, и сразу же там возник городок Рисита, население которого быстро достигло полутора тысяч человек. Когда пемного севернее кто-то из старателей пашел рудную жилу, па которой был построен рудник «Голден-Чимни», рядом возник городок Керида. Всего в шести милях от Боулдера была обнаружена странная' смесь из золота, серебра и теллурия - единственная такого рода руда, самая богатая во всем Колорадо. Городок Саншайн, что означает «солнечный луч», вырос буквально за ночь, и вскоре его населяло тысяча двести жителей. Рядом с ним, подобно грибам после дождя, выросли и другие, как, например, Магнолия. Однако вскоре драгоценные металлы стали иссякать. Солнечный Луч «угас», Магнолия «увяла». Рудники пришли в запустение, города превратились в города-призраки. Каждое из графств, как только там открывали рудники, поочередно превращалось в главных поставщиков богатства территории: Джилпип с богатыми шахтами Сентрал-Сити в 1871 и 1872 годах давал половину минеральных богатств территории. Потом начали работать рудники Джорджтауна, а в 1874 году графство Клиар-Крик перекрыло по продукции всех своих предшественников. Когда были открыты серебряные залежи Лидвилла, графство Лейк обогнало и Джилпин и Клиар-Крик. Лидвйлл Представлял собой западпую вершину равпо- стороннего треугольника, в основании которого лежали Денвер и Колорадо-Спрингс. Он лежал близко к Главному водоразделу по соседству с ,полудюжиной величайших горных пиков высотой свыше четырнадцати тысяч футов. В этот район великих горных вершип Северной Америки в 1874 году пришел старатель по имени Уильям Стивене* трудившийся ранее на железорудных шахтах в Мшшег1 соте, а затем вместе с людским потоком 1859 года попал на «Грегори-Галч» и «Калифорния-Галч». В этих ранних колорадских лагерях оп зарабатывал себе па жизнь, перемывая заново песок па брошеппых заявках. В районе Лидвилла он в течение двух лет так и не нашел золота, но встретился и подружился с Альвипусом Вудом, который был опытным металлургом. Стивепс и Вуд искали золото. Люди обстоятельные, они прокапывали длинные канавы для подвода воды и вложили значительные суммы денег в разработку россыпи. Они установили, что операции их пе могут быть доходными, поскольку опи были заняты промывкой тяжелого песка, в котором трудпо отделить золото от гравия. Другие работавшие по соседству старатели ограничивались тем, что попросту кляли почем зря этот песок; однако Билли Стивене и Альвинус Вуд, подобно Алле- ну и Хозии Гроушам в Неваде, обладали паучпым складом ума. Опи изучили смываемую водой смесь, 'а потом произвели несколько минералогических и химических анализов. И тут обнаружилось, что этот досадивший всем тяжелый гравий представляет собой углефицированный свинец, то есть лучшую из всех возможных комбинаций, свидетельствующих о наличии серебра. Никому не сказав о своем открытии, Стивене и Вуд принялись пробивать пробные шурфы выше по склону горы, пытаясь обнаружить основное залегание. Опи очень быстро отыскали его: пласт руды более десяти футов толщиной нашли в том единственном месте, где рудная жила выходит па поверхность горы. Уильям Стивепс, взявший на себя деловое руководство, нанял группу старателей-неудачников и поставил их на работу. Когда рудокопы поняли, что добывают пе золото, а какой-то пикому пе нужпый минерал, они решили, что работают на сумасшедшего. Ропот становился все более громким и открытым, и пакопец Стивепс сообразил, что его вместе с ¦партнером могут просто изгнать из этого оайопа как пежелательных граждап; оп рассказал правду о своей находке старику по имени Уоллс. Уоллс быстро сообразил, что Стивене и Вуд вполне нормальные люди, но все равно тут же взял расчет и бросился на склон горы, чтобы застолбить заявку. Все остальные работники Сти- венса и Вуда последовали его примеру. Известие о богатой находке разнеслось но горам быстрее индейских дымовых сигналов. Поток людей, хлынувший сюда весной и летом 1870 года, состоял в основном из рудокопов н старателей с близлежащих россыпей; на следующую весну, когда началось таяние снегов, люди потянулись из остального Колорадо. Всему этому людскому потоку негде было найти пристанище. Старатели, которым удалось снять себе место для ночлега на полу в палатке, считались счастливчиками. Была открыта лесопильня, и люди выстаивали в очереди, чтобы схватить сырые доски для постройки навесов, ночлежек, складов, а потом - салунов и игорных домов. Разбогатевший старатель но имени Декстер купил рудпик Роберта Ли за 10 ООО ?долларов, нанял команду рудокопов и пробил штрек глубиной сто футов, так и пе найдя никакой руды. Когда синдикат предложил ему 30 000 долларов за рудник, он крикнул вниз своим рабочим, чтобы они забирали свои кирки и прочие инструменты и убирались вон. Рабочие как раз были заняты сверлением шурфов для закладки динамита; они спросили у своего хозяина, не стоит ли им произвести еще хотя бы один изрыл. «Нет, поднимайтесь наверх, - ответил Декстер. - В эту проклятую дыру я пе влои{у больше ни цента». Новые владельцы заложили динамитные заряды в уже высверленные шурфы, взорвали их, а когда дым рассеялся, обнаружили, что открыли жилу серебряной руды настолько чистую, что за первые двадцать четыре часа они добыли девяносто пять тонн руды с содержанием серебра на 118 500 долларов. Па доставку всего этого богатства на поверхность они затратили ровно (Ю долларов. Лидвилл и насилие были братьями-близнецами. В путеводителе для желающих направиться в эти места первым советом было: «Приезжайте, прихватив с. собой пару револьверов». При том что в игру входили станки в миллионы долларов, захват рудников разросся до пе видаппых в истории Дальпего Запада масштабов. Мелкие предприниматели и старатели создали шахтерскую гвардию, в состав которой вошли «те, кто известны как люди с малым капиталом, а иными словами, те, для кого единственным средством против захватчиков шахт являются пули». Когда отчаянная шайка во главе с паглецом по фамилии Уильяме ворвалась в рудник «Айрон-Силь- вер» и попыталась захватить его, под землей завязалась перестрелка, в результате которой было песколько убитых и раненых. Некоторые крупные шахты держали отряды стражников численностью до тридцати человек, вооруженных винчестерами. В первое время споры решались при помощи морских револьверов, ¦позже - в судах. Уильям Стивене, первооткрыватель всего этого серебряного царства, говорил: «Из общей суммы в 11000 000, полученной на руднике? «Айрон-Сильвер», 7 000 000 долларов были предметом судебных разбирательств». Даже священники оказывались жертвами захвата церковного имущества. Преподобный мистер Т. А. Юззелл прибыл в город, купил участок и приступил к возведению первой церкви в этом районе. Через несколько дней оп увидел, что группа незнакомых людей выгружает лес на его участке и собирается строить здесь свое здание. Проповедник объяснил им, что здесь оп строит церковь. Когда незнакомцы порекомендовали ему сворачивать свою церковь и убираться отсюда, преподобный мистер Юззелл спял сутану и, закатав рукава, рипулся на тех, кто решил лишить его собственности… В итоге церковь была построена. Город, возникший здесь, не имел пока ни названия, ни органов управления. 14 января 1878 года восемнадцать друзей Г. А. У. Тейбора, который в 1877 году прибыл сюда из Оро-Сити, где он десятилетним трудом сумел накопить денег па покупку бакалейной лавки, собрались в каретном сарае. Они решили установить закон и порядок, которых здесь явно не хватало, свидетельством чего была постоянная рубрика в местпой газете «Пули к завтраку», в которой за завтраком ежедневно можно было прочитать о ионом убийстве. Город решено было назвать Лпдвиллом. На этом первом собрапии Г. А. У. Тейбор благодаря своей прошлой политической активности в Оро-Сити был избран мэром Лндвилла. Он стал также городским казначеем и почтмейстером. Тейбор питал иллюзии, отдающие манией величия,!побил поговорить об огромных богатствах которые он рассчитывает получить, хотя два десятилетия пионерской деятельности в Колорадо с трудом обеспечили ему весьма скромные средства. Общительный, компанейский и щедрый, Тейбор был самым популярным человеком, куда бы он ни ¦попадал. Казалось, что годы но имеют над ним власти. Его жена Аугуста была опорой и основой семьи; она вела торговлю в бакалейной лавке, принимала и выдавала почту в почтовой конторе, ведала семейным бюджетом. К лету 1878 года рассказы о Лидвилле облетели весь мир. Тропы, ведущие к нему, оказались забитымн вереницами людей, как это было на дорогах через Сьерра- Неваду к Вирджиния-Сити девятнадцать лет назад. Страшные снежные заносы и мучительные холода на высоте, превышающей уровень десять тысяч футов, никого не отпугивали. Карлайл Чэннинг, который прибыл в Лидвилл в январе 1879 года с намерением выпускать газету «Кроникл», рассказывал об ужасной дорого из Денвера, когда температура все время стояла ниже нуля. В Денвере ему еще повезло - ?па ночевку он устроился в постели с совершенно незнакомым ему человеком. Дома в городе вытянулись вдоль главной дороги примерно на четыре мили, следуя очертаниям ущелья. Все они были построепы из бревен и грубо отесанных балок. Каждая вторая дверь лзела в салун, танцзал или игорный притоп. Улицы вечером освещались только падавшим из окон светом. Городское управление из восемнадцати человек выбрало шерифа и построило маленькую тюрьму, однако и тут общество Лидвилла избегало формальностей. Скотти Сломанный Нос сидел в тюрьме за дебош в пьяном виде, но ему удалось продать какому-то неизвестному свою заявку за тридцать тысяч долларов. Сломанный Нос тут же уплатил штраф за всех сидевших в тюрьме и пригласил всю компанию отпраздновать это событие в «Топтине», который в Лидвилле считался фешепебельпым рестораном. Там он купил им столько спиртного, что к полуночи пьяная компания снова оказалась в кутузке. С наибольшей изысканностью в городе обставлялись веселые дома. «Краспая лампа», по утверждению се владельцев, была самым респектабельным из заведений. «Это по-настоящему веселый дом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Девушки здесь круглее, розовее и красивее, чем где угодно. Уносясь с ними в ритме вальса, вы не станете ломать себе голову вопросом, открыты ли сейчас школы и почему девчонки из них находятся здесь, потому что плевать вам па это». Два женских парикмахера приехали из Чикаго, а «доктор», как две капли воды походивший на своих предшественников из Калифорнии - Марша, Микса и де Сандель- са, привез с собой электрический стул, оснащенный «гальванической батареей Фарадеи», который с гарантией вытрясал из пациентов все недомогания. Еще один «доктор», Чарлз Бродбент, объявивший себя френологом, изучал шишки на голове, а потом за два доллара давал квалифицированный совет, на ком именно следует жениться. Не были забыты и искусства: в Лидвилле имелся татуировщик, который вытатуировы.вал монограммы любимых женщин в двух цветах всего за пятьдесят долларов. Воскресенья проходили здесь столь же бурно, как в старательских лагерях Сьерра-Невады в Сорок Девятом, поскольку, как едко комментировал «Кропикл», «здесь имеются материалисты, позитивисты, нигилисты, неверные и.несколько последователей того, что обычно принято именовать христианством. Однако у всех у них есть одна общая религия и один общий господь бог: им является Распятый Карбонейт». Конкурирующий с ним «Демократ» по менее красноречиво сообщал: «Воскресный день всегда предоставляет предприимчивым женщинам и нетерпеливым мужчинам широкие!возможности конных прогулок на свежем воздухе. С прискорбием вынуждены сообщить, что никто из них не сломал себешею». Лидвиллу, однако, так никогда и пе удалось достичь роскоши Вирджиния-Сити. Большинство ресторанов здесь было просто салунами, где любое блюдо имело привкус прогорклого жира. Неизменным меню была баранина или бифштекс. Обед стоил десять центов, за дополнительные пять цептов можпо было выпить чашку слабого кофе. Как и в Вирджипия-Сити, процент читающей публики был здесь очепь. высок. Теккерей и Дизраэли успеха, правда, здесь ?пе имели, Диккенс тоже пе пользовался спросом, зато нарасхват шли переводы с французского: Альфонс Доде, Дюма и Эмиль Габорио с его чрезвычайно пнтерес- ным детективом мсье Лекоком. Недавно осповапное Литературное общество Лидвилла зачитывалось Жюлем Верном и Уилки Коллинзом, тогда как общество поэзии, почетным членом которого состоял Г. А. У. Тейбор, устраивало вечера с чтепием «Элегии» Грея. В онере господствовали более простые вкусы. Так, например, «Фра-Дьяволо» крайне разочаровал публику, поскольку «было сделано всего два выстрела, а убит один человек. А ведь каждый ожидал по мепылей мере сорока выстрелов и хотя бы половину этого числа элегантно уложенных трупов». В городе было полно типов, весьма напоминавших калифорнийских. Джордж Фрайер нашел залежи богатой руды, которые он назвал «Ныо-Дискавери»..Холм назвали в его честь, и сотпи людей, хлыпувших сюда, сделали заявки на ряд богатейших рудников Колорадо: «Литл- Чиф», «Карбониферос», «Гиберния», «Матчлесс». По только не Джордж Фрайер. Оп напился, чтобы отпраздновать внезапно свалившееся па него богатство, ушел куда-то в почь и больше его никто не видел. В апреле 1878 года два немецких сапожника, Аугуст Рише и Георг Хук, явились в лавку Г. А. У. Тейбора за провизией. У них была заявка на холме Фрайера, однако пока им встречалась толыко пустая порода. Запасы провизии у.пих кончились. Тейбор все еще пытался выполнить принятое ¦в Оро-Сити решение и стать поставщиком!сех шахтеров. В обмен па полученные товары Аугуст Рише и Георг Хук сделали его владельцем третьей части своего рудника. 1 мая па глубипе двадцати шести футов Рише и Хук патолкпулись на серебряную руду. Они назвали свой руд- пик «Литл-Питсбург». К июлю оп приносил 8000 долларов в неделю, третья часть этой суммы шла Тейбору. Казалось, что теперь наконец его двадцатилетняя мечта может воплотиться в жизпь. Георг Хук никогда не стремился к большому богатству. Поток серебра вселял в пего тревогу. Люди слышали, как он бормотал что-то себе под нос, потом заметили, что оп и ведет себя как-то странно. Своим соседям он говорил, что больше не может этого выпосить, что все эти депьги сводят его с ума. В сентябре он продал свою часть «Литл- ГТитсбурга» Тейбору и Рише за 98 000 долларов, купил себе ферму и умер богатым четовекомАу густ Рише, второй бедный нЯожпнк, тоже не выцер- жал первного напряжения и к ноябрю готов был подобру- поздорову убраться подальше от этого золотого дна. Он продал свою долю в руднике Дэвиду Моффату, владельцу первой книжпой и писчебумажной лавки в Денвере, который стал к этому времени богатым банкиром и строителем дорог. Получив с Моффата 262000 долларов, Рише переехал в Денпер, открыл там салун, по разорился. Теперь Тейбор был половинным владельцем одного из самых богатых в мире рудников.
Глава X
Бэби Доу находит Г. Л. У. Тейбора Тейбор воспринял свое огромное богатство как нечто совершенно естественное. В ноябре 1878 года, •после отъезда Рише, он и его партпер Дэвид Моффат присоединились к синдикату «Литл-Питсбург» и окружающих!владений, образовав компанию «Литл-Питсбург коисолидейтэд», которая па следующую весну в Ныо-Йоркс оцепивалась в двадцать миллионов долларов. К этому времени Тейбор получал в месяц сто тысяч долларов чистого дохода! Оп вкладывал деньги в любые рудники и предприятия, какие только попадались ему под руку. За 11500 долларов оп купил третью часть рудника «Вулчер», на следующий день выложил 18 000 за вторую треть, а когда ему предложили оставшуюся часть за двадцать пять тысяч, отказался платить больше двадцати. Несколько месяцев спустя он уплатил за оставшуюся треть 250 000 и был еще рад удачной сделке. Он купил половинную долю в «Мэйд-оф-Эрип» за 43 000, а затем и в «Ныо-Дискалери» за 162 ООО. К ?концу 1878 года у него были вложены деньги в «Скупер», «Данкин», «Юнион Эмма», «Дспвер-Сити», «Тэм О'Шантер», «Генриетта», «Гиберпия», «Мэй-Куип», «Элк», «Литл-Уилли», «Климакс» и «Уилл-оф-Форчп». Все, к чему он прикасался, превращалось в серебро. Одпажды человек по прозвищу Чикеп Билл, который трудился на заявке па Фрайер-Хилл, не находя ничего, кроме камня, подъехал ночыо на фургопе к принадлежавшему Тейбору «Литл-Питсбургу» и нагрузил его лея^аишей у входа серебряпой рудой. Оп разбросал руду в своем забое.а наутро отправился в город и в баре стал у стойки рядом с Тейбором. Притворившись пьяпым, он принялся хвастать своей богатой паходкой. Тейбор купил у него рудник ??а 1000 долларов. Чиксн Билл тут нее скрылся. Тейбор н зравил рабочую бригаду в свое новое владение. Он скоро понял, что его обманули, и только посмеивался. Однако, поскольку рабочие уже вели работы, он приказал им продолжать их. На глубине тридцати футов рудокопы наткнулись на жилу, руда в которой оказалась богаче, чем в «Литл-Питсбурге». Тейбор назвал рудник «Кризолитом» и вскоре продал половинную долю в нем за пятьсот тысяч долларов. Все, что Горэйс обещал Аугусте и чего она так не хотела, сбылось. Он стал мультимиллионером, и каждый новый день приближал его к положению самого богатого в миро человека. Но ему удалось сохранить скромность. Большую часть своего дня он проводил в бакалейной лавке, отвешивая сахар и рис или сортируя дневпую почту. И все же какая-то другая часть его натуры подталкивала его на то, чтобы превратить Лидвилл в один из самых процветающих городов мира, точно так, как это было с Билли Ролстоном из Сан-Франциско. Он построил первый кирпичный Дом в Лидвилле, а когда наступил час въехать в пего, пригласил духовой оркестр, который шагал во главе растянувшейся по всему городу процессии. Он купил самую дорогую телегу с пожарпым насосом в Сан-Франциско и велел притащить ее в Лидвилл, а потом пожертвовал городу здание пожарной команды и оргапизовдл добровольцев-пожарников, щеголявших в красных рубахах, у которых на груди было вышито: ТЕЙБОР. Он купил дорогой участок на Честпат ¦стрит ниже еалупа «О'кэй» и нанял всех столяров и плотппков графства. За месяц они выстроили первый общественный зал, который был назван «Вигвам». Пять тысяч зрителей следили здесь за борьбой соперничающих. кандидатов в делегаты конгресса. ???? 513 Он угощал обедами с шампанским всех приезжавших в город, а особенно - политиков; дело в том, что он носился с намерением перенести столицу Колорадо из Денвера в Лидвилл. Для осуществления этой цели он готов был пожертвовать городу целый склон горы и покрыть из своего кармана все расходы но переводу столицы. Он создал также Легкую кавалерию Тейбора, которая выполняла по- лицейские функции и содержалась на его счет?. Он купил 33 Зак. М5 1463 большой участок земли на Гаррисон-авеню главной улице города, и построил оперный театр Тейбора - широкий жест, который обошелся ему в 60 ООО долларов. На открытие театра он подъехал в роскошной карете, запряженной отлично подобранной парой лошадей, хотя и жил в соседнем доме - в великолепно отделанных апартаментах отеля «Кларендон». Чтобы обставить эти апартаменты, он нанял шесть открытых платформ, которые доставили из Денвера столы с досками из ониса, бронзовые статуи, кровать, целиком сделанную из орехового дерева, ковры из Чикаго и Нью-Йорка, массивный стол красного дерева с инкрустацией из перламутра. Когда воинственный пастор Юззелл попросил у Тейбора двести долларов на покупку пары канделябров для своей новой церкви, Тейбор вынул бумажник и осведомился: «Конечно, пастор, конечно же. Только вы уверены, что двух сотен будет достаточно?» Священник заверил его, что денег хватит. «Не знаю, не знаю, - задумчиво произнес Тейбор. - Церкви нужно поднять немалый шум, чтобы ее услышали во всем этом городе. - Он дал преподобному мистеру Юззеллу пятьсот долларов и только потом спросил: - Кстати, Том, а кто у тебя будет играть на этих канделябрах?» Тейбор становился все богаче и богаче, и газеты Чикаго и Нью-Йорка начали почти ежедневно ?публиковать его изображения и длинные статьи, рассказывающие о его характере и экстравагантности. Аугуста, которая когда-то говорила ему, что кольца будут мешать ей шить, становилась молчаливее и несчастнее. Богатство не изменило ее; бережливость была привита ей многими поколениями уроженцев Новой Англии. Она по-прежнему носила простые платья, сама чистила потрепанную обувь, а по вечерам пересматривала семейное белье, пришивала пуговицы и чашками отмеряла муку в. их бакалейной лавке. Она все очень беспокоилась о своем муже, считая незаслуженным внезапно свалившееся на него богатство. Она понимала, что все его щедрые жесты отнюдь не делают его хорошим мэром, в будучи городским казначеем, он даже и не пытается вести бухгалтерские книги. Возникали ссоры, когда Тейбор требовал у нее ответа, с какой это стати жена миллионера не одевается в шелка и сатины, особенно если ее муж может на корню купить всю шелковую промышленность Японии. И почему она не покупает все эти дорогостоящие и красивые драгоценности? Она даже не была вполне уверена в том, что по- прежнему любит своего мужа теперь, когда он становился все толще из-за богатой пищи и зачастую появлялся под утро пьяны?! от шампанского. Когда в 1879 году Тейбор добился ¦выдвижения своей кандидатуры на пост вице- губернатора, он оплатил стоимость постройки телеграф- пой линии через горы в Лидвилл, лишь бы (побыстрее узнать о результатах выборов. Когда его избрали, он крик- пул своей жене: «Я теперь губернатор!» «Нет, Горэйс, - возразила она с грустной улыбкой, - ты всего лишь вице-губерпатор». Тейбору не нравилась такая оценка его успехов. Он все меньше времени проводил с Аугустой, все больше посвящая его компании друзей-миллионеров. Сын Макси очень походил на отца, был таким же шумным, экстравагантным, стремящимся к дешевым развтечениям; оп тоже отошел от матери. Аугуста чувствовала себя-страшно одинокой в обставленных в стиле рококо апартаментах отеля «Кларендон». Во всем Лидвилле, а возможно, и во всем Колорадо, она единственная не считала Горэйса А. У. Тейбора великим человеком. Но ему все было нипочем, он купил рудник «Матчлесс» на холме Фрайера за 117 000 долларов, и рудник сразу же стал приносить ему по 80000 дохода в месяц. Тейбор перерос социальные рамки Лидвилла. Он отправился в Денвер и купил там за сорок тысяч великолепный дом и тут же израсходовал еще двадцать тысяч па его меблировку. Аугуста, которой вдруг пришла в голову мудрая мысль, сказала: «Горэйс, я ни за что не подымусь по этим ступеням, если ты думаешь, что мне когда-нибудь придется спуститься по ним снова». Ей никогда не пришлось спускаться по этим ступеням, по Тейбору пришлось. ???? 33* Когда на горизонте Лидвилла появились рудники генерала Палмера «Депвер» и «Рио-Гранде», которые по богатству перекрыли все остальные, Улисс Грант прибыл сюда в качестве почетного гостя. Его принимал наиболее выдающийся гражданин Лидвилла - Тейбор, который похлопывал бывшего президепта по спине и закатил такой пышный банкет, что весь город был буквально залит
515
шампанским. Мужчины быстро нашли общий язык и подружились. Однажды, когда вице-губернатор Тейбор сидел в лид- виллском ресторане за своим обычным столиком, он увидел прекрасную молодую девушку с шелковистыми волосами, огромными синими глазами и великолепной кожей, которая пристально глядела па него через весь зал. Он пригласил ее к своему столу, и так произошло его знакомство с Бэби Доу, дочерыо портнихи из Ошкоша, штат Висконсин, которая там вышла замуж за сына мэра, поскольку была женщиной с претензиями и желала бывать в свете. Сын мэра, однако, карьеры в Ошкоше не сделал, а отправился в Колорадо вместе с людским потоком в па- дежде сколотить состояпие, но в конце концов попал в рудокопы, зарабатывая по четыре доллара в день. Бэби Доу пока еще зашла не слишком далеко в своем падении. Ей было пемпогим более двадцати, она любила смех и развлечения, а также дорогие наряды и соответствующее окружение. Бэби Доу была полна намерений взять от жизни все возможное. Прослышав о Тейборс и его миллионах, она вложила свои последние доллары в дорожное платье и оплату проезда до Лидвилла, решив подцепить па крючок самого богатого человека Колорадо. Если бы Тейбор свалился в шахтный колодец «Литл- Питсбурга», он все равпо не испытал бы большего потря- сепия. Оп снял для Бэби Доу элегаптнеипшй номер отеля «Кларепдоп» и поддерживал с ней тайную связь. Он не мог видеться с нею так часто, как бы ему хотелось, в Лид- вилле, поэтому оп перевез ее в Денвер,!де и поселил приятную и миловидную блопдиику в дорогом номере отеля «Випдзор», осыпая ее всеми теми подарками и дорогими парядами, бриллиантами и золотом, которые Лугуста отказывалась принимать. Свою контору Тейбор открыл в баре «Бродвелл-Хау- са», превратив бар а штаб-квартиру сената штата. В Денвере говорили, как сообщал Карснер •в «Серебряном долларе», что «он всегда зпал по числу пробок и стаканов на стойке бара, есть ли кворум». Прибыли его были огромными, но еще более чудовищ ными были его траты. Оп купил «Бродвелл» в Денвере за 38 000 долларов, а потом выстроил то, что получило название «квартала Тейбора» - целую вереницу деловых контор и магазинов. Он израсходовал целый миллион на постройку этого квартала и здания Оперного театра Тей- бора, направив двух архитекторов в Европу, чтобы они ознакомились там с совремоппыми идеями, третьего человека он отправил в Бельгию за коврами, четвертого - во Францию за материалом для занасвеса и обивки, а пятого в Японию за вишневым деревом для отделочных работ. Какой-то безвестный пемецкий художник, расписывавший театральный занавес, заработал 15 ООО долларов. Во всей истории Дальнего Запада только Билли Рол- стон тратил деньги так же щедро, как Тейбор. Когда пятиэтажное здание с (высокой башпей было готово, Тейбор, войдя одпажды в театр, увидел написанный маслом портрет, который украшал иросцепиум. «Эй, а что это за малый, там, паверху?» Когда ему сказали, что это Шекспир, он воскликнул: «Л что этот парень, черт бы его побрал, сделал для Денвера? Сейчас же закрасьте его и намалюйте там меня!» Казалось, что этот финансовый магнат застрахован от любых ошибок. Когда он купил контрольный пакет акций одпой из чикагских компаний за миллион двести тысяч, все говорили, что оп просто выбросил депьги; а он па этой сделке заработал миллион. Оп вел себя так, как будто мо- петпый двор был его собственностью. Он покупал все, что ему нрашилось или ¦просто попадалось на глаза, зачастую и такие вбщи, которые ему но правились вовсе и которым оп пе мог пайти,применения. Оп пе имел пи малейшего представления о том, каковы его капиталы. Одни утверждали, что состояние его составляет!восемь миллионов, другие - двенадцать; по какая разница, если он был уверен, что ему пикогда пе придется считать? Что же касается Лидвилла и его рудников, то ничто не могло превзойти их по богатству. Так оно и было па самом деле, пока козбои-геолог Боб Уомак пе открыл в Колорадо Крипшл-Крик аз 1891 году. Теперь у Тейбора оставалось всего два пока пе.исполненных желапия. Оп хотел обвепчаться с Бэби Доу и стать сенатором Соединенных Штатов. А почему бы ему и по стать им? Разве все остальные сенаторы от Дальнего Запада пе были золотыми и серебряными магнатами? Когда оп решил развестись с Аугустой, то просто упаковал свой сундук и покинул дом. Аугуста вспомппа- ла, что опа не могла тогда пи плакать, пи упрекать его; просто она чувствовала в этот момент пустоту и боль от того, что се бросает муж после стольких лет, прожитых вместе. Когда Тейбор собирался закрыть за собой огромную парадную дверь, она выбежал^ на балкон и крикнула: «О, Горэйс, не уходи! Это будет твоей гибелью!» Так оно и случилось, но Горэйс не услышал этого пророчества из-за стука захлопнувшейся двери. Он Дал Аугусте двести пятьдесять тысяч наличными, гигантский дом, которого она никогда не желала и который ей никогда но нравился, а также несколько крупных участков земли, имевших большую цену. Он повез Бэби Доу в Сен- Луис, где ого ¦друзья!подготовили все для тайного венчания. Развод, тоже тайный, он оформил в Дюранго. Это явилось поворотным моментом в жизни Тейбора, хотя, ослепленный новой женой, он не заметил этого. Население Денвера, у которого он завоевал популярность своей безотказной щедростью, осуждало его за развод с Аугустой, хотя люди никогда не осуждали того, что в номере отеля «Виндзор» он содержит Бэби Доу. Высший свет Денвера, который так забавляли его простодушные и вульгарные поступки, теперь отвернулся от него. А затем наступили и рабочие беспорядки - первая серьезная забастовка на серебряных рудниках. Район приисков приносил в год пятнадцать миллионов прибыли, однако сюда понаехало столько народу, что людей оказалось больше, чем рабочих мест. Пользуясь этим, владельцы предприняли одновременное снижение дневного заработка до двух долларов семидесяти пяти центов в день. Шахтеры почти до единого человека оставили шахты и рудпики. По приказу Тейбора •в Лидвилл была брошена Легкая кавалерия, чтобы загнать их обратно в шахты. Когда из этого ничего не получилось, он помчался в Денвер и, пользуясь отсутствием губернатора Питкина, приказал ополченческим войскам штата подавить забастовку. Забастовка была подавлена; однако этим был положен конец популярности Тейбора среди рабочего люда Лид- вилла, который ранее считал его своим другом. Теперь он был для них капиталистом, который готов использовать войска против рабочих. Они отворачивались от него при встрече на улицах и отказывались пить с ним в баре за одной стойкой. Постепенно и капиталовложения начинали оказываться все более неудачными. Будучи избранным директором железнодорожной компании «Оверлэнд бродгоудж», он подписал чек па миллион долларов, и деньги эти пропали. Второй миллион он вложил в леса красного дерева в Гондурасе и еще третий - в пароходы и железные дороги того же Гондураса. Оба эти миллиона бесследно исчезли в джунглях. Он вложил полтора миллиона в предполагаемые золотые и серебряные рудники в Мексике, по благородные металлы оттуда не поступили; оп купил огромпые площади, на которых якобы размещались богатые залежи, в Аризоне и Колорадо. Но там была лишь пустая порода. В несколько сот тысяч долларов ему обошлась избирательная кампания, когда он пытался обеспечить за собой место в сенате Соединенных Штатов. Республиканский комитет, контролировавший местпые законодательные органы, не решался отправить на шесть лет пеотесанного и пеопытпого в политическом отпошепии Тейбора в Вашингтон, по тут, к счастью, открылась временная вакансия на месячный срок, и ему была оказана та честь, которой он так добивался. Сенатор Тейбор повез свою прекрасную Бэби Доу в Вашингтон в стоившем ему пять тысяч личном экспрессе, куда он погрузил двадцать два сундука и чемодапа. Сам он ехал в Вашингтон в ночной сорочке из шелка и батиста с золотыми пуговицами стоимостью в тысячу долларов. Имеются вполпе достоверные свидетельства того, что за проведенный в столице месяц оп истратил триста тысяч долларов. Его обвиняли в том, что оп нарушает работу сената, постоянно приглашая сепаторов выпить с ним. Поскольку его венчание с Бэби Доу было тайным, он решил придать ему респектабельность, устроив вторую церемонию венчания, и уговорил католического священника совершить брачный обряд. Тейбор спросил у президента Честера Артура, не согласится ли тот быть его почетным гостем на свадьбе. Президент, припомнив дружбу Тейбора с Грантом и его несметные миллионы, согласился. Пользуясь согласием президента Артура, Тейбор залучил на свою свадьбу ¦весь официальный и дипломатический Вашингтон. Самые строгие дамы остались дома, пропустив один из самых великолепных праздников, •когда-либо имевших место в столице. Бэби Доу пошла под венец в бриллиантовом ожерельо стоимостью девяносто тысяч долларов. Через несколько дней просочились сведения, что и Тейбор и Бэби Доу были разведенными. Обманутый священник, а заодно и вся католическая церковь были ужасно!локированы этим обманом. Президент Артур был впо себя от ярости. Но Тейбор пичуть пе смущался всем этим переполохом, посмеиваясь и говоря, что они сами виповаты, дав себя провести. А потом снял специальный поезд, чтобы с королевским величием доставить Бэби Доу обратно в Денвер. Там республиканский •комитет штата назначил нового сенатора, но зато выбрал Тейбора своим председателем: ведь он почти целиком содержал всю политическую машину Колорадо. Значительная часть семнадцати миллиопов, добываемых в виде серебра в Лидвилле, попадала в бездоппые карманы Тейбора. Теперь, как у Сэнди Бойэрса из Вирджиния-Сити, у него было достаточно денег, чтобы швырять их. Тейбор и Бэби Доу ехали по железпой дороге, когда она сказала, что ему предстоит стать отцом. Тейбор тут я{0 купил по бутылке шампанского всем пассажирам поезда И паровозпой команде. Их первая дочь, Элизабет Пирл, появилась па свет в доме, который считался самым претенциозным в Денвере: Тейбор купил себе новый дом, еще больший, чем тот, который остался у Аугусты. Оп приказал отчеканить золотые медали с надписью «Бэби Тейбор» и разослал их тем, кого считал входящими в сотню наиболее выдающихся граждап Колорадо. Второй своей дочери он дал имя Сильвер Доллар, потому что гостивший в Денвере Уильям Дженпингз Брайан сказал ему, что «детский смех звенит, как серебряпый доллар». Хотя наличных денег у него па руках становилась все меньше и меньше, Тейбор считал, что у пего имеется примерно сто миллионов долларов. Оп приказал приобрести сотпю павлинов и пустить впутрь ограды дома для развлечения двух его дочерей и считал, что настолько мало нуждается в деньгах, что отказался от покупки рудников «Минни» и «Эй-Уай». Их кушли Гугенгеймы. В скором времепн они уже получали от них по сто тысяч долларов в месяц дохода. Так было положено начало великой дипастип Гугепгей- мов. Так было положено начало концу Тейбора.Глава XI
Климат здесь само совершенство… Южная Калифорния переживала трудности. Жизнь ее двигалась короткими и слабыми рывками. Приток переселенцев несколько оживился после Гражданской войны. Около двух тысяч колонистов расселились па ее землях, но ¦потом иммиграция почти полностью прекратилась. Происходило это, по-видимому, потому, что южная Калифорния все еще экспериментировала в широких масштабах и эксперименты эти чаще всего были неудачными. Производство цитрусовых, когда появились сады в несколько тысяч деревьев, было здесь самым крупным в миро. Было обпаружено, что если фрукты срывать рано, то их можно, не опасаясь порчи в пути, отправлять па Восток. Однако апельсины здесь были «толстошкурые, горькие, жилистые и содержали мало сока; называть калифорнийский продукт имепем благородного апельсина значило бы оскорбчять ото имя. Лимоны - крупные переростки с кожей полудюймовой толщины и сухими жилистыми ¦внутренностями - достойны были скорее жалости, чем презрения». Виноградники давали более миллиона галлонов вина в год, но вино это было низкого качества и шло по очень малой цепе. Оливковые плантации развились хорошо, однако сорт маслин оказался ненригодсп для производства оливкового масла. Предпринимались попытки заготавливать сушеные абрикосы, персики и чернослив, по они почти но находили сбыта. К югу от делового района Лос-Анджелеса, почти на том самом месте, где одип из первых нуворишей южной Калифорнии, Роберт Уидни, позднее построит университет южной Калифорнии, было засеяно хлопком шесть акров. Хлопок уродился отличного качества, но покупателей на пего не пашлось. Миллионы акров плодороднейшей земли вокруг Лос- Анджелеса были безводными. Поэтому никто по хотел покупать се даже ¦по бросовым ценам. И вот в 1874 году южная Калифорния совершила рывок вперед. В Серро-Гордо, высоко в горах, простирающихся над пустыней Мохэв, куда лежал путь через двести миль совершенного бездорожья, было обнаружепо сереб ро. Восемьдесят рабочих комапд, у каждой из которых было по четырнадцать мулов и по три фургопа, доставили в Лос-Апджелес с берегов реки Оуэпс па два миллиопа долларов серебряных слитков, а транспортная компания «Серро-Гордо» ежедневно расходовала в городе тысячу долларов на оплату упряжек и возчиков. Еще больше расходовалось здесь на покупку товаров и машин для шахтерских поселений. Вывоз руды через Сан-Педро расширил судоходство южной Калифорнии. Лос-Анджелес значительно пополпился за счет прибывших сюда шахтеров, механиков, поставщиков различных товаров. «Экспресс» писала: «Оживленная торговля с окрестными горнорудными районами… способствует строительству у нас элегантных кирпичных домов и поставляет клиентов нашим многочисленным складам и ¦конторам». Население выросло с одинпадцати тысяч в 1874 году до шестпадцати в 1875-м - самый высокий темп роста за всю историю этого сонпого города. Южная Тихоокеанская, пробиваясь па юг почти по цептру штата, сыграла пема.?ую роль в этом процветании. Китайцам из ее рабочих команд удалось наконец одолеть перевал Техачапи, пробив восемнадцать туппелей в горах, и проложить линию, которая извивалась, как целая корзина змей. Вторая группа китайских рабочих!команд, работавшая к северу от Лос-Анджелеса, пробила туннель длиною семь тысяч футов в горах Сан-Фернандо. С декабря 1876 года состоялось повторение в миниатюре встречи в Промонтори, когда две линии железнодорожного полотна, идущие павстречу друг другу, встретились в точке, лежавшей в сорока милях к северу от Лос-Анджелеса. Чарли Крокер произнес речь. Триста пятьдесят лосандже- лесцев, приехавших на север в украшенных флагами вагонах, выкрикивали приветствия. Две рабочие команды китайцев проложили ¦последние семьсот пятьдесят футов полотна за восемь с половипой минут, побив этим мировой рекорд скорости укладки рельсов, а Крокер вогпал золотой костыль серебряным молотом. Этим вечером состоялся праздничный пир в «Ваффа- не», самом элегантном из сотни лос-анджелесских салупов, который к тому же считался штаб-квартирой добровольной пожарной комапды. Пнрушка пашла отражение па газетных столбцах «Экспресса»: «Это счастливое событие будет увековечепо и более значительным образом… строитель- ETfiOM 13 Пустынных пока владепиях графства Лос-Апд- желес сотен домов для процветающего населения». Однако ничего этого не произошло. Несмотря па заверения Южной Тихоокеанской, что «для путешественников нет никаких опасностей на хорошо наезженпой дорого в Калифорнию; пет здесь также и неудобств, пад которыми пе посмеялись бы ребенок или избалованная удобствами жепщипа», ¦поток туристов в этот благословенный;солнечный край так и не хлынул к билетпым кассам железной дороги. Эмигранты, отправляющиеся па Запад, попадали в долины Сакраменто и Саи-Хоакип и настолько прельщались красотой здешних ландшафтов ¦и плодородием земли, а также ее сравнительной дешевизной, что поселялись здесь, так и но доехав^до южпой Калифорнии. Рудники иссякли, плавильные печи в Сорро-Гордо закрылись из-за отсутствия руды, ручьи, которые ¦спабжали поселения водой, пересохли, а транспортная компания «Серро-Гордо» теперь ограничивалась отправкой всего одной упряжки через депь. В Лос-Анджелесе снова разразилась эпидемия оспьг. Жестокая засуха полностью уничтожила овцеводство, как это произошло со скотоводством десять лет назад. Деловая жизнь угасала. Кирпичные дома и склады стояли пустыми… Южная Тихоокеанская задушила торговлю и транспорт, взимая два с половиной доллара за проезд двадцати миль до Сан-Педро и столь же высокую плату за перевозку грузов. Возникли, было, конкурентные линии -пароходное сообщепие между Лос-Анджелесом и Сап-Фрап- циско, а также железная дорога между Лос-Анджелесом и Санта-Мо,никой, где имелся грузовой причал, но их быстро купила Южная Тихоокеанская. Медленно, но верно Лос-Анджелес относило пазад… Несколько тысяч жителей уложили свои пожитки и перебрались в другие части штата. К 1880 году число жито- леи города упало до цифры, чуть превышающей одиннадцать тысяч - уровень 1874 года. Заселение южной Калифорнии потерпело неудачу отнюдь не из-за недостаточности сделапных в этом направлении усилий, ибо пи одпа часть Дальнего Запада не проявляла столь горячей склонности говорить о себе. Для того чтобы сорвать человека с места ¦и перенести его, его сомыо и все его будущее на две тысячи миль, через прерии, горы и пустыни, требуется огромная притягатсльпая спла. Но имея поддержки и виде золотой лихорадки, трубадуры южной Калифорнии понимали, что барьер этот они смогут преодолеть только чрезмерным восхвалением климата, плодородия и красоты этих земель, заверением в том, что южная Калифорния представляет собой такую пограничную область, где но требуется особых затрат па обзаведение и где жизнь па целую треть дешевле, чем в любом другом райопо страны, что ни один человек, которого док- гора отправили на лечение на Запад, не умор здесь от своей болезни. Южная Тихоокеанская по всему миру разверпула пропагандистскую кампанию в пользу южпой Калифорнии, используя для этого лекциоппые трибуны, с которых в самых лестных выражениях произносились похвалы этой стране; она постоянно рекламировала ее земли в газетах и журналах, нанимая таких выдающихся журпалистов, как Чарлз Нордхофф и Бенджамин Трумэн, для написания статен и книг, субсидировала газеты, которые в последние известия вкрапливали материалы, призванпые способствовать осуществлению надежд железной дороги на продажу земли в этих Местах. Всю страну непрестанно заверяли ,в том, что «южпая Калифорния представляет собой лучшую часть штата и наиболее удобный район для ведения фермерского хозяйства во всех Соединенных Штатах». Торговая палата Лос Лнджелеса и промышленные бюро расходовали па рекламу последпие ¦доллары. Энтузиасты-любители писали зажигательные ?письма к родственникам и друзьям, приглашая их приехать. Иммиграционный союз Калифорнии трижды большими тиражами издавал брошюру «Все о Калифорнии и о преимуществах поселения здесь». Департамент сельского хозяйства в Вашингтоне послал миссис Тибботтс сал{енцы апельсиновых деревьев, пытаясь подпять качество произрастающих в Калифорнии апельсинов. Новые поселения, •как, например, Риверсайд, в нескольких милях от прежнего мормонского Сан-Бернардино, подвели к своим землям воду по отлично скопструироваппому ирригационному каналу и продлолшли продавать участки по цепе двадцать долларов за акр, по нашли очень мало покупателей. Братья Чэффи - ипжеперы и деловые люди - основали водопроводную компанию в той же самой долине и продавали акции компании вместе с каждым аКром земли fi их Показательной колонии. Они подвели воду по У-образ- пым желобам, как это было ¦в Неваде во времепа комсток- ского бума, а когда оказалось, что в конструкции были допущены ошибки, пробили тунпель. длиною тысяча футов чтобы подвести воду к полям. Земля братьев Чэффп лен«ала между Лос-Анджелесом и Риверсайдом, где рядом проходила ветка железной дороги Сап-Габриэль, по и они нашли мало покупателей и даже желающих ознакомиться с этими землями. Сан-Диего, лежавший в ста двадцати милях к югу, на границе с Мексикой, обладавший одной из лучших в мире гавапой, со всех сторон окруженной землей, спал крепким спом под палящими солнечными лучами. Никакие доводы не могли склонить кого-нибудь построить здесь железнодорожную ветку и таким образом открыть для заселения эти земли. Санта-Барбара, расположенная к северу примерно на таком же расстоянии, как Сап-Диего к югу, несмотря па чудесный климат, яркое солнце и опьяняющий воздух, лучшие на всем пространстве к западу от Денвера, все еще оставалась соппой деревней. Уильям Уилмор приобрел участок в четыре тысячи акров па берегу Тихого океана в двадцати милях от Лос- Апджелеса. Он пазвал это место Американской колонией, насадил деревья, разбил парки, проложил и вымостил бульвары и разделил землю па фермерские участки от двадцати до тридцати акров каждый. Затем он приобрел место для рекламы в сотне газет и тридцати пяти журналах и договорился о распространении литературы через Иммиграционный союз Калифорнии, а также направил весьма способного агента для организации экскурсий в Американскую колонию. Его агенту удалось набрать группу из шестидесяти колонистов, которые приехали сюда в туристских вагонах. И все же к концу года Американская колония насчитывала всего лишь дюжину домов и одпо складское помещение, хотя Уилмор сдержал все данпыо им обещания. Дорога для гужевого транспорта, построенная Уилмором к железнодорожной ветке Южной Тихоокеанской, была размыта весенними разливами, и в результате Уилмору пришлось расстаться со своими четырьмя тысячами акров. Железная дорога «Санта-Фе» па протяжении десяти лет предпринимала отчаянные попытки пробиться к побе- рсжыо Тихого океапа. Но па пути у псе оказалась непреодолимая преграда. После того как с помощью Дика Вут- топа ей удалось проложить рельсы по перевалу Рейтон, а затем через Аризону довести железную дорогу до ведущего в Калифорнию перевала Нидлз, «Сапта-Фе» пришлось остановиться, потому что у нее не было лицензии. Южная Тихоокеанская вовсе по собиралась прокладывать железнодорожную линию по бесперспективным землям пустыни Мохэв, однако, обнаружив, что «Санта-Фе» добралась до перевала Нидлз, она бросила сюда свои рабочие команды, обеспечив себе лицензию покупкой пятидесяти процентов акций прекратившей здесь работы железнодорожной компании «Сен-Луис энд Сан-Франциско» (Фриско), проложила и свою линию к Нидлзу. Паровоз Южной Тихоокеанской на западпом берегу реки Колорадо и паровоз липии «Сапта-Фе» па ее восточном берегу стояли, уставившись друг на друга через реку, но ни тот ни другой пе двигались с места. Весь Дальний Запад сочувствовал стремлению «Санта-Фе» достичь Лос-Анджелеса и таким образом сломить монополию Южной Тихоокеанской. И «Сапта-Фе» предпринимала героические усилия - она даже проложила линию к Гуаяма на калифорнийском берегу Мексиканского залива, предполагая провести потом линию через Мексику до калифорнийской границы. Она вела строительство, поддерживаемая деньгами и энтузиазмом железнодорожной компании «Сан-Диего» с полотном длиной сто сорок миль от Сап-Диего к Сан-Берпардино. И все- таки путь через Мексику оказался слишком длипным и трудоемким. Кроме того, если ей и удалось бы доставлять грузы из Сап-Диего в Сап Берпардино, доставить их через перевал Кейджон и пустыню Мохэв к перевалу Нидлз она не могла. У Южной Тихоокеанской на руках были все козыри: единственная лицензия на постройку дороги на восток через Калифорнию к перевалу Нидлз; контроль над перевалом Кейджон, единственным, по которому железнодорожная насыпь могла быть проведена из гор Сан-Бернар- дино; железнодорожное полотно, идущее через Калифорнию с востока на запад, пересечь которое можно было лишь с разрешения Южной Тихоокеанской. Линия, построенная «Санта-Фе» по дну каньона Темекула - единственный отрезок ее дороги на территории Калифорнии, - была смыта наводнением. Ни о какой постройке конечной станции в Лос-Анджелесе теперь не могло быть и речи. Казалось, что над Лос-Анджелесом тяготеет то же ваклятье, что и над деревенькой Йерба-Буэна в далекие сороковые годы.Глава XII
Они страдали; они проливали слезы; иногда они умирали… Ничто не способно было отвлечь Коллиса Хантингтона от непрерывного расширения его железнодорожной империи. Штаты Невада и Калифорния находились полностью под его контролем. Он был наихудшим образцом того, что.принято называть «хозяином в отъезде». Короткие наезды в Калифорнию он совершал только в тех случаях, когда возникали кризисы. Из Нью-Йорка он диктовал каждой калифорнийской семье, сколько продуктов она может съесть в течение года; какого качества одежду сможет носить, в какого типа доме ей жить и какое образование она сможет дать своим детям. Руководствуясь принципом «Ничего показного, все должно приносить пользу», Хантингтон построил по всей Калифорнии, в Неваде и Юте железнодорожные станции и склады, которые мало чем отличались от сараев, и выкрасил их в горчичную грязно-желтую краску, изуродовав ландшафты Дальнего Запада на ближайшие тридцать лет. Он твердой рукой правил не только железной дорогой, но и тремя своими партнерами. То, что Лилэнд Стэнфорд не был большим оригиналом или мыслителем, подтверждается целым рядом его максим, широко распространяемых газетными репортерами, как, например, такая: «Если целый день будет идти дождь измолотых двадцатидолларовых монет, к вечеру все равно найдутся люди, которые будут выпрашивать деньги на у;кин».Мпогие считали его скучным и глупым, но чаще всего ему удавалось скрывать свои мысли от широкой общественности, никогда по говоря ничего такого, что не было бы самым тщательным образом продумано заранее. Самый обычный вопрос, например, о том, как он себя чувствует, мог привести к подробнейшему отчету о состоянии здоровья, но обязательно через песколько дней. Одна из причин, по которым Хаптингтон называл его «проклятым старым дураком», состояла в том, что Лилэнд Стэпфорд с необычайной помпезностью пытался играть роль политического главы штата, железнодорожного маг- пата и мультимиллионера. Когда Южпая Тихоокеанская строила свою контору в «Сап-Фрапциско, Лилэнд Стэнфорд приказал архитектору составить планы великолепной столовой, которая ¦превратила бы это здание в один из самых богатых клубов страны. Хаптингтон поспел как раз вовремя, чтобы перечеркнуть этот проект краспым карандашом, порекомендовав Стэнфорду обходиться принессп- пым с собой из дому завтраком. Когда Стэнфорд переехал из Сакраменто в Сан-Франциско в 1874 году, он снял себе королевские покои ¦в повом «Палас-Отеле», а затем огородил стеной тридцать футов высотой два акра земли на склоне Ноб Хилл с прекраспым видом па Сан-Франциско, залив и Золотые Ворота и, побив рекорд века по затратам, построил там пастоящий замок, который вынудил журпалистов Сап-Фрапциско ломать себе голову, придумывая для него все повые эпитеты. Здесь была и мраморная лестница, и огромный круглый холл с куполом высотой семьдесят футов, черпый мраморный пол украшали знаки Зодиака. Была здесь и гостиная в ост-индском стиле, и бильярдная, и еще одна гостиная, нижняя, с широкими окпами па море. Через несколько лот, когда ему наскучило быть вечно привязанным к своему замку на Ноб-Хилл, он купил ссбо рапчо с девятью тысячами акров земли в Пало-Альто, ниже по полуострову, недалеко от того места, где Уильям Ролстон построил свой феодальпый Бсльмопт. Стэнфорд создал здесь еще одпо феодальное владение, с сотпями чистокровных лошадей, двумя дорожками для скачок и бегов, роскошными копюшпями и ста пятьюдесятью слугами. Шестьдесят акров земли засевались морковью только для лошадей. Оп заплатил также миллион долларов за пятьдесят пять тысяч акров земли в северной части доли аы Сакрамепто, примерпо там, где когда-то стоял форт Джона Саттора. Здесь он посадил почти три миллиона виноградных кустов. Когда он путешествовал по железной дороге, все строительные команды и станционные чиновники предупреждались заранее, чтобы они могли стать навытяжку перед личным вагоном губернатора Стэнфорда, когда вагон, у которого было даже собственное название - «Дилэнд»', проплывал мимо них по рельсам. Где бы вагон пи останавливался - у переездов или па вокзалах городских станций, - все железподорожпые служащие обязаны были являться в воскресных платьях, чтобы засвидетельствовать свое почтение. В качество президента железнодорожной компании он был лицом чисто номинальным, чем-то вроде фигуры под бушпритом корабля. Хантингтоп по доверял ому даже такие мелочи, как подкуп калифорпийских конгрессменов пли суден. По поводу одного из калифорнийских конгрессменов, которого ему хотелось заполучить целиком и полностью, Хаптингтоп писал «другу Колтону»: «Я не считаю безопасным для Стэнфорда разговаривать с пим о наших делах. Ведь для него ничего не стоит вылезти на трибуну в конгрессе и начать врать о том, что ему наговорил Стэн- форд». И все-таки позднее, после трагической смерти его единственного сына, Стэнфорд стяжает себе бессмертие основанием Стэнфордского университета в Пало-Альто, - бессмертие, подобное тому, которое взвалит потом па Кол- лиса Хантингтона его племянник Гецри Хантингтон, который»с помощью упаслодоваппых им миллионов откроет Хаптипгтонскую картинную галерою и библиотеку в Сан- Марино (штат Калифорния). Впрочем, подобный филантропический акт, хотя и обессмертил его имя, но, по-видимому, заставил Коллиса Хантипгтона многие годы переворачиваться в гробу. Трудно придумать фигуру, менее походившую па Хантингтона или Стэнфорда, чем Марк Хопкипс. Из всей четверки только оп один, известный повсюду как Дядюшка Марк, был человеком тихим, простым и нопритязательпым. Крайпе бережливый не только в личной жизни, но и в ведении дел железной дороги, он способен был пользоваться бумагой, которую его клерки выбросили в корзину. Ьсли эму случалось идти по железнодорожному полотпу, он обязательно подбирал брошенные рабочими куски ме- 34 Зап. к. 1403 коо талла. Он но ппл, но курил, по ругался и с нолпым безразличием относился к миллионам, которые все поступали и поступали иа его счет в банке. Казалось, можно сказать, что он даже был немного недоволен ими. В отличие от Сгэпфорда, приезд которого из Сакраменто был обставлен с такой помпой, Марк Хопкинс в том же Сакраменто сел па ночной пароход, утром пришел в контору Южной Тихоокеанской е проработал весь день. В обеденпый перерыв он пошел вверх но Саттср-стрит, присматривая сдающиеся внаем дома. Он пашел маленький коттедж возле Ливспуорта, проворил состояние крыши и отоплопия, узнал, что квартирная плата составит тридцать пять долларов в месяц, снял дом, внес задаток, а потом пошел пешком в контору, чтобы поработать еще часок-другой. Дядюшка Марк никогда пе пытался купить себе лошадь или экипаж. В хорошую погоду он приходил в контору пешком, в дождливые дни - нанимал извозчика. Ради физических упражнений разводил овощи позади своего кот теджаточно так же, как он это делал в Сакраменто. Человек сухощавый, он довольствовался в полдень чашкой чаю, в то время х?ак трое его компаньонов весом от двухсот десяти до двухсот шестидесяти фунтов каждый уминали обильнейшие обеды. Он редко принимал гостей, редко выводил свою жопу. Он сохранил всех своих старых друзей того времени, когда оп был всего лишь начинающим торговцем. Он не давал никаких бессмыслеппых распоряжений и не требовал себе никаких преимуществ только на ^гом основании, что в банке па ого счету лежало три или четыре миллиона долларов. Оп почти но определял главную политику железподо- рожпой компании, не покупал на корню и но подкупал политиков или судей страны, тем но менее он оплачивал эти счета и заносил их в бухгалтерские книги, никогда но опротестовывая действия Хантингтона. И все-таки в определенных случаях оп мог и заупрямиться. А уж если оп упирался, то объедипешше семьсот фунтов живого веса остальпой троицы но в состоянии были сдвинуть ого пи на сантиметр, ибо, как сказал Чарли Крокер, «когда Хопкинс хотел, он был самым упрямым человеком в мире. Это был пастоящий ад па колесах». Бездетная семья Хопкинс пять лет прожила в 35-долларовом коттедже, и за все это время Дядюшка Марк пи разу пе был в отпуске. И тут его жена, Мэри Хопкинс, ко? топая приходилась ему дальпей кузипой п которая пЫШлД за него замуж, когда он на короткое время приехал с золотых россыпей домой в Ныо-Йорк, взбунтовала?, впервые за двадцать лет их бедной событиями совместной жизни. Если все остальные партнеры живут в такой роскоши, то и мы можем себе кое-что позволить! Мэри Хопкшгс проводила время за чтением романов миссис Саутуорт и Буль- вер-Лнттона, ей хотелось иметь родовое поместье вроде тех, о которых она читала в этих романтических книгах. Дядюшка Марк решил в виде компромисса присмотреть участок земли в Северной бухте, вблизи Золотых Ворот. По тут Лплэлд Стэнфорд признался ему, что только что купил два земельных участка на безлесной вершине про- дуваемого ветрами Поб-Хилл за 60 000 долларов, и предложил продать ему половину их за 30000 долларов. Хои- кинс отправился на вершину холма, осмотрел ремонтирующуюся там канатную дорогу и решил, что Поб-Хилл в скором времени будет главным жилым районом Сап- Франциско. Оп уплатил Стэпфорду требуемые тридцать тысяч, а затем поручил своей жене постройку того, что, он считал, будет большим, но скромным домом. Мори Хопкинс наняла архитекторов, внесла в первоначальные планы мужа изменения, добавила кое-что из своих замыслов, а потом прибавляла и прибавляла их… Когда Сан-Франциско впервые узрел дом Хопкиисов, он понял, что тихонькая, похожая' па мышку Мэри Хопкинс переплюнула даже самого Лилэнда Стэнфорда, выстроив здание, которое было значительно больше, значительно претенциозней и более щедро разукрашено, чем его дом. В нем был зал - точная копия одного из обширнейших залов Дворца дожей в Венеции, столовая на шестьдесят псрсоп для семьи, которая до этого раз в месяц приглашала одпу-едипствеппую семейную пару к обеду, была спальня, отделапная полудрагоценными камнями и панелями из черного дерева с инкрустацией из слоновой кости. ???? 531 Свои соображения относительно этого усеянного башнями и высокими флюгерами чудища, самого крупного на всем Дальнем Западе, возвышавшегося на холме над его 35-долларовым коттеджем, Дядюшка Марк, как правило, держал про себя. Только однажды он высказался но этому поводу. Когда газетные репортеры пришли к нему с вопросами о том, что он думает о своем доме, опи застали его за работой в огороде на задах дома. Он оперся на мотыгу,
34• посмотрел па Сагапи с флюгерами и спросил с саркастической усмешкой: «И вы думаете, что я дождусь когда- нибудь дивидендов от этого «Отеля-де-Хопкинс»?» Ему не суждено было дожить до ответа па этот вопрос. Он умер тихо, во сне в почь перед окончательным завер- шением строительства дома. Смерть эта превратила Мэри Хоикинс, как об этом не преминули сообщить все газеты, в самую богатую вдову Америки. Вскоре она вторично вышла замуж за декоратора примерно на двадцать пять лет моложе ее, который больше всего в жизпи любил переставлять мебель. Когда газеты Сан-Франциско упрекпулп ее за этот брак, она оскорбленно покинула город и провела остаток жизни на Востоке. «Отель-де-Хопкипс» доминировал над городом до конца столетия. Архитектурный критик Уиллис Поук говорит об этих феодальных чудищах железнодорожных магнатов: «Опи стоили огромных депег, и, какой бы суровой критике их ни подвергали, этого при- имущества у них не отнять». Только Серебряных королей в Калифорпии ненавидели так же единодушпо, как Железнодорожных королей. Многие из прежних держателей акции обвиняли Мак Кея, Фейра, Флуда и О'Брайена в своих личных трагедиях. Калифорния и ее угнетеппое депрессией население не находили утешения в том, что мультимиллионеры жили па- подобие феодальпых владык. Нехватка рабочих мест в Сан-Франциско усугублялась наличием здесь тысяч китайцев, довольствовавшихся крайне низким жизпенным уровнем и готовых трудиться за маленькую плату. Когда Южная Тихоокеанская объявила о снижении заработной платы во всех своих отделениях, ее служащие пригрозили забастовкой. Массовый митипг сочувствующих собрался на песчапом участке перед городским Холлом. Этим было положено начало ожесточенной борьбе калифорнийских рабочих за свои права, получившей название «движение песчаных участков». Собрания проходили мирно. Вполне возможно, что двшкение и вовсе прошло бы незамеченным, если бы не педавние рабочие беспорядки в Питсбурге, когда были сожжены наровозпые депо и железнодорожные составы. Южная Тихоокеанская и Торговая палата Сан-Франциско сформировали Комитет общественного спасения, собрав по подписке сто тысяч долларов на его нужды, помимо винтовок и патронов. Когда они призвали сохранившего 'ьп ¦ю счапу за участие в Комитете бдительности Уильяма Гоутмена' возглавить Комитет общественного спасения, он порекомендовал им отказаться от винтовок и вооружил большую группу ручками от кирок. Противостоящие друг ДРУГУ силы па бурлящих пародом улицах обмепивались сочными эпитетами, но через несколько дней Коулмеп распустил свой отряд, который успел получить прозвище «Бригада ручек от кирок». Понемногу все вошло в свою колею, и, возможпо, все так и осталось бы по-старому, если бы пс один из членов «Бригады ручек от кирок»,? Дэпис Кирни, родившийся ¦тридцать лет назад в Ирландии, в графстве Корк, плававший матросом, а теперь владелец ломовой упряжки с телегой, настойчиво занимающийся в Лицее самообразования. Ею особенно цптересовало ораторское искусство. Кирни был плотным коротышкой, с короткими черными волосами, черными глазами и могучим голосом, вполне соответствовавшим его намерениям. Несколько дней активного участия в организованном движении пробудили его дремлющие силы. Он перешел па сторону рабочих и стал секретарем рабочего тред-юниона, возглавив движение, цели которого оп определил лозунгом «Хлеб или кровь!». Теперь, летом 1877 года, Кирни легко пашел благодарную аудиторию: тысячи безработных вымаливали хоть какую нибудь работу за доллар в день, но работы пе было. С наступлением осени и завершением полевых уборочных работ батраки и сезонные рабочие потоком устремились в город, пополняя ряды слушателей Кирни па заброшенных песчаных участках, оставшихся в наследство от Йерба-Буэны. Кирпи говорил им именпо то, что они так жаждали услышать: он резко выступал против повсеместной коррупции властей города и штата; заявлял о праве людей ца труд; о жестокой несправедливости положения, при (котором на Поб-Хилл, прямо над ними, высятся дома миллионеров, а тысячи безработных вынуждены скитаться без крыши над головой и без пищи для своих семей. Слова Кирпи находили горячий отклик в сердцах рабочего люда Сан-Франциско, который только что собственными глазами наблюдал образование «Бригады ручек от кирок», чтобы палками загнать их под ярмо. Генри Джордж, калифорнийский журналист, посвятив ший себя экономике и работавший в это время над последними главами книги «Прогресс и бедность», сообщает, что На одном из первых мптипгог! Кпргш описал картипу московского пожара 1812 года и заявил, что подобпая же участь, возможно, ожидает и Сан-Франциско. Одним из намерений Кирпи было превращение своего профсоюза в политическую партию. В следующем году намечались выборы делегатов в конвепт, который должен был переписать наново конституцию Калифорпии. Он создал Рабочую партию и решил выдвинуть от псе достаточное число делегатов, ,чтобы получить перевес в копвспте. День благодарения Кирпи отмстил тем, что во главо нескольких тысяч своих последователей направился на Ноб-Хилл, чтобы разрушить «проклятую сетку», которой Чарли Крокер окружил дом пекосго Джанга за то, что тот отказался предать его Крокеру. Кнрнц был арестован за подстрекательство к беспорядкам. Совет Сап-Фрапциско припял постановление, запрещающее собрапия па песчаных участках. Нарисованная Нэстом каррикатура изображала Кирнн вооружеппым револьвером и ножом, с табличкой на шее с наднисыо «Коммунист». Одной рукой он поднимал факел анархии, а в другой держал свиток с наднисыо «Власть толпы». Судья освободил Кирпи, поскольку оп пикого пи к чему пе подстрекал. В последующие недели Кирни арестовывали почти ежедпевпо, если он в этот день выступал с речыо, и продернеали в тюрьме в общей сложности две недели; по невозможно было пайти судыо или присяжных, которые готовы были бы вынести обвинительный приговор. С каждым арестом росло число его сторонников; был момент, когда возникли серьезные опасепия, что сторонники Кирни пойдут па штурм тюрьмы и силой освободят своего вождя. Сенат Калифорнии принял закоп, единственной целью которого было воспрепятствовать публичпым выступлениям Кирни. Закон этот в Сап-Франциско сразу же окрестили «Закопом кляпа». Все эти ограничительные меры отнюдь по способны были успокоить рабочих Сан- Франциско или самого Кирпи. На следующем же собрании оп восклицал: «Когда члены законодательных органов переступают границы приличий, я говорю: «Петля! Пеньковая петля для них!» Это прызывный клич свободы». От участия в классовой борьбе пе смогли удержаться и газеты: «Кропикл» выступала в защиту Кирни и отводила ему мпого места на своих страницах, пытаясь завоевать подписчиков из среды рабочих, которые ранее более сим- патизпровали «Колл», что же касается «Колл», то она па- ?»та па каждое его слово. В пылу борьбы газеты потом 11'1^учшлись каким-то образом поменяться местами. Несомненным результатом всех этих попыток заставить Кир- пи замолчать или отправить его за решетку был огромный рост'его последователей. В конце концов ему удалось привлечь па сторопу движения большинство среднего класса Сап-Фрапциско. Кирни выступал в одном политическом клубе за дру гим, используя их в качестве открытой трибуны и укладывая'на лопатки одного противника за другим своим могучим голосом, красноречием и знанием ораторских приемов, а также тем, что в своих речах он вскрывал подоплеку экономических и политических пороков текущего десятилетия. Генри Джордж писал: «Кирни уже сумел добиться того, что в глазах многих тысяч было грандиозным успехом. Никому не известный ломовик, без всяких преимуществ, пе имея пи средств, ни покровителей, апеллируя ко всеобщему недовольству, занял место влиятельного лидера и пользуется властью и славой». Кирпи пе выдвинул своей кандидатуры в делегаты конституционного конвента, но список кандидатов от его Рабочей партии, выступающей с требованиями «восьмичасового рабочего дня, прямых выборов в сенат Соединенных Штатов, обязательного всеобщего обучения, государственного контроля над железными дорогами, более справедливого налогообложения и устранения китайских рабочих, которые являлись штрейкбрехерами», пользовался такой поддержкой, что республиканцы и демократы объединили свои усилия, выдвинув список «беспартийных делегатов» и пытаясь противостоять его «угрожающе радикальным» требованиям. Хотя им удалось протащить многих своих делегатов из других частей штата, Рабочая партия Саи- Франциско выиграла здесь выборы с огромным преимуществом и направила в конвепт мощную группу своих сторонников. Делегаты Кирни избирались из неопытных и бесхитростных представителей трудового люда Сан-Франциско. Им трудпо было противостоять юристам Южной Тихоокеанской. Поскольку Кирни не выдвигал своей кандидатуры, он лишен был возможности участвовать в дебатах и руководить действиями своих сторонников. Рабочая партия объединилась с представителями фермеров, однако коп- понт увяз и длительных дебатах, скорее напутывая, чем решая проблемы штата. Сторонники Кирни в Сан-Франциско и центральной Калифорнии были горько разочарованы ничтожными плодами своего предвыборного энтузиазма. Кирни, который пламенными речами пытался сплотить движение, был присужден к уплате тысячи долларов штрафа и тюремному заключению. Па этот раз оппозиция позаботилась о 'том, чтобы его из тюрьмы не выпустили, а сторонники его не поднялись, чтобы освободить своего вождя. Занугапные, обмапутые и преданные, они отошли от борьбы. Первое боевое выступление рабочих Калифорнии, выдвинувших политические цели, закончилось безрезультатно. Дэнис Кирни заложил начало боевого движения рабочих Дальнего Запада за экономические и социальные преобразования. Он оказался за решеткой, однако Южная Тихоокеанская с тех пор не могла почивать па лаврах: в повых местах ей предстояло наталкиваться на ожесточенное сопротивление. К 1877 году поселенцы в долине Тыолэ превратили солончаковые пустоши в плодородную землю, и тут Южная Тихоокеанская на основании предоставленных ей правительством привилегий предъявила свои права на эту долину. Поселенцы, которым твердо обещали, что земля, которую они обрабатывают, будет продана им по цепе от двух с половиной до пяти долларов за акр, теперь узнали, что эту самую землю продают любым желающим, но уже по цене от 25 до 40 долларов за акр. Их фермы перейдут, таким образом, тому, кто предложит за них более высокую цепу. Все, что они сделали здесь: ирригационная система, каналы и дамбы, дороги, распаханные ноля, сады, дома и сараи, - принадлелепт Южной Тихооксапскои и может быть куплено только по цепам, устанавливаемым Южпойг Тихоокеанской! Привычные к взаимовыручке, которая помогала пм здесь выжить, поселенцы сформировали Поселенческую лигу и направили изложение своего дела вместе с оригиналами подписанных с Южной Тихоокеанской контрактов своему представителю в конгрессе. Только позднее выяснилось, что Южная Тихоокеанская уже давно держала этого конгрессмена в своем кармане. Поселенцы наняли адвокатов и подали заявление в федералЬш,ш суд, но и отот суд был куплен зарапее Южной Тихоокеанской и выступал па стороне железной дороги. Южная Тихоокеанская рекламировала меж тем свои земельные участки по всей страпе. Покупатели, ничего но подозревая о ситуации в долине Тыол?», приезжали сюда для поселепия. Вырастали новые дома, и новые колонисты стали перекрывать ирригационные каналы старых поселенцев. Однажды ночыо Поселенческая лига в полном составе пришла к одному из повых домов. Они вывели хозяев, вьшссли из дома все имущество, дом подожгли. Новые колонизаторы уехали. Теперь никого нельзя было уговорить купить землю в этой долине. Вскоре после того, как известия о поджоге дошли до конторы Южной Тихоокеанской, с поезда Южной Тихоокеанской сошли на платформу станции в Хэпфорде два человека. Это были Харт и Кроу; каждому из пих была предложена ферма из числа тех, что принадлежали поселенцам в долине Тыолэ, если только они сумеют ее обо- ропить от Поселенческой лиги. Харт н Кроу привезли с собой целый арсенал ружей и револьверов, а также изрядный запас патропов к пим. Утром 10 мая 1880 года судебпый исполнитель райопа, получив в суде ордер о выселепии поселенцев, прибыл сюда для исполнения предписаний суда. В то время как лига во главе с мэром Томасом Мак-Гуидц заседала в другой части долины, судебный исполнитель в одной двуколке, а Харт и Кроу во второй подъехали к дому поселенца по фамилии Врэндеп, вынесли из дома все его имущество и объявили Харта новым владельцем. Судебный исполнитель, опять-таки вместе с Хартом и Кроу, отправился к ферме, принадлежавшей Брюеру. Собранию^ Поселенческой лиги сообщили о происшедшем в доме Брэндепа. Поселенцы прямо через поля бросились к дому Брюера. Судебный исполнитель объяснил, что оп действует на основании выданпого судом исполнительного листа и, следовательно, он полномочен конфисковать имущество Брюера. Члены Поселенческой лиги заявили, что они пе могут допустить этого до тех пор, пока по данному делу не примет решение Верховный суд, и предложили шерифу добровольно пойти с ними па станцию и покинуть пределы райопа. Судебный исполнитель выразил согласие. Когда четверо поселенцев вместе с шерифом пачали удаляться, Харт схватил лежавшее па дне двуколки ружье а закричал: «Стойте! Буду стрелять!» Поселспец по фамилии Гаррис пошел в направлении цвуколки, требуя от Харта и Кроу положить оружие. Кроу зыстрелил прямо в лицо Гаррису. Харт схватил ружье и соскочил на землю. Второй поселенец, Хендерсоп, выхватил револьвер, выстрелил и подал ему в живот. Вторым выстрелом Кроу уложил па месте Хепдерсона. Тогда Кроу соскочил с двуколки и открыл огонь по тесно сбившейся группе фермеров. Каждая из выпущеппых им пуль находила цель: Дэпиэл Келли получил три рапы, Ивер Кнеутсоп был убит, когда пытался вытащить револьвер, Эдвард Хеймейкер получил пулю в голову, Арчибальд Мак-Грегор, будучи дважды раненным в грудь, попытался бежать через поле, по получил пулю в спину. Кроу начал отступать под защиту стоявшего рядом сарая. Мэр Мак-Гуиди крикнул: «Не дайте ему уйти!» За Кроу гнались до соседней фермы. Он снова прицелился в своих преследователей, по тут поселепец, отделенный от пего хлопковым полем, поймал его па мушку и спустил курок. Кроу мертвым свалился в придорожную канаву. А па ферме Брюера трое убитых - Кнеутсоп, Гаррис и Хендерсоп - были уложены па верапде. Рапепых - Келли, Мак-Грегора и Хеймейкера, а также и самого Харта -!впесли в компату. Вызвали врачей. Хеймейкер выжил. Остальпые умерли этой же ночыо. Южная Тихоокеанская пашла выход из создавшегося положения. Поскольку телеграфпые аппараты ¦имелись только па железподорожпых станциях, телеграфистам было приказано не передавать никаких материалов, кроме официальных деловых депеш компании. После этого страну оповестили о «вооруженных беспорядках, которые нарушили работу линий». В Сан-Франциско целая делегация во главе с Крокером переходила из здания одной газеты в здание другой, рассказывая представителям прессы о том, как в долине Тьюлэ байда разбойников и бунтовщиков зверски убила двух отправленных туда агентов компапии. Именно эту версию и напечатали все газеты страны. Пятеро членов Поселенческой лиги были похоронены 12 мая. Все население долины Тыолэ шло за гробами.
Южная Тихоокеанская не стала посылать пенки на их могилы. ? - Еще через несколько дней семьи уоитых были насильно
выселены. _
Однако, как это оывает, правду не удалось утаить. Еще через несколько дней репортеры заполнили долину Тыолэ, расспрашивая свидетелей, узнавая правду о Хартс и Кроу, ,а также и о телеграфных линиях. Точные отчеты Мгоссела Слоу о происшедшем были опубликованы газетами всей страны. Однако это не помогло поселенцам долины Тыолэ. Не имея возможности купить собственные дома и фермы, они были лишены принадлежащего им имущества и были вынуждены уехать из этих мест. Еще через несколько лет в другой части штата новая Поселенческая лига вступила в схватку со «спрутом». Столкнувшись с аналогичной тактикой Южной Тихоокеанской, они сумели удержать в своих руках фактическое владение своими фермами, пока не пришло решение Верховного суда в их пользу. Поселенцы купили свою землю по ценам, первоначально установленным железной дорогой, то есть именно по тем двум с половиной н пяти долларов за акр, которые Южная Тихоокеанская гарантировала поселенцам долины Тыолэ. Лоисыо, беспощадностью, мошенничеством Коллпс Хантингтон помог колонизации этой земли. Посулами богатой и дешевой земли ему удалось привлечь сюда людей, которые поднимали целину прерий, пустынь и солончаков. Он предлагал транспорт тем, кто без него не смог бы сюда попасть. Они страдали, они проливали слезы, иногда они умирали, но семьи их оставались здесь и трудились. Однако ни о какой цивилизоваппой жизпи здесь и речи по могло быть до самой его смерти, пока силы построенной им империи пе были разгромлены, а люди, которых он привез сюда и несколько десятилетий держал па положении крепостных, обрели вповь свободу, ибо только свободные люди способны создать подлинную цивилизацию. Книга шестая СТАРАЯ ЭРА ЗАВЕРШАЕТСЯ, НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯГлава I
Южная Калифорния и Восемьдесят Седьмой год Двадцать лет южная Калифорния, не жалея энергии, денег, таланта и миллионов печатных слов, вела рекламную кампанию, пытаясь продать себя миру: по скромной цене здесь были доступны миллионы ак ров земли. Страну соблазняли по всем правилам искусства, и теперь, в 1887 году, страна не устояла. И соблазнили се не золото или серебро, а железо в виде железнодорожных рельсов. Железпая дорога «Сапта-Фе», ¦которая в 1886 году дотяпулась от Капзас-Сити до Чикаго - ее восточной копечпой станции, непременно стремилась построить свою вторую ¦конечную станцию в южной Калифорнии. Опа выжидала, пока мало- мальски налаженная линия между Сап-Берпардипо и Лос-Анджелесом пе оказалась ¦в се руках. Она добилась этого, купив линию от Лос-Анджелеса до Сан-Габриэля, и получила возможность резко снизить оплату за ¦провоз грузов, то есть на практике осуществить то, чем она угрожала Южной Тихоокеанской все эти годы. «Санта-Фе» начала с того, что спизила цепу па пассажир скис билеты от Канзас-Снти до Лос-Лпджелсса со ста до евяноста пяти долларов. Южная Тихоокеанская ноннанла иену до восьмидесяти нити долларов, «Санта-Фе» - до восьмидесяти. Тогда Южная Тихоокеанская снова снизила цену до шестидесяти долларов, «Санта-Фе» назначила цену пятьдесят долларов, и снова Южная Тихоокеанская понизила цену до сорока, на что «Санта-Фе» ответила снижением тарифа до двадцати пяти долларов. Великий для пассажиров день наступил G марта 1887 года, когда ранпим утром Южная Тихоокеанская снизила цену до двенадцати долларов, чтобы не отстать от снижения, сделанного «Санта-Фе». «Санта-Фе» понизила цену до десяти, Южная Тихоокеанская ответ! ,!а тем же, но буквально через несколько минут «Санта-Фе» нони- зита цену до восьми. Пассажиры восточных городов лихорадочно метались между железподорожпыми вокзалами двух компании, заверяемые кассирами, что любое понижение цены конкурентами автоматически отразится и на цене данной линии. Кроме того, пассажиров заверяли, что в случае снижения цен на билеты во время рейса разница будет им возвращена на станции назначения. Затем перед полуднем кто-то что-то перепутал. «Санта- Фе» отказалась спижать цену на проезд от Канзас-Сити до Лос-Лнджелеса пиже восьми долларов, однако Южная Тихоокеанская, полагая, что конкуренты снопа снизили цену, понизила ее до шести долларов, а затем и до четырех, когда получила ложные сведения о том, что «Санта- Фе» пошла на снижение. К полудню страна совершенно обезумела, узнав о том, что Южная Тихоокеанская предлагает совершить трансконтинентальное путешествие по железной дороге в Калифорнию за один доллар! Внезапно все те тысячи людей, которые в мечтах своих педали того дня, когда они смогут отправиться в путешествие па берега Тихого океапа, решили, что именно теперь паступило время отправиться туда в качестве гостей Южной Тихоокеанской или «Санта-Фе». И хотя через несколько дпей цены па билеты поднялись сначала до десяти долларов, а потом остановились па двадцати пяти, это уже не отпугивало тех, кто принял решение. Люди, связаппые семейпыми, дружескими или дело-рыми узами, сколачивали группы для этого путешествия. Тс, кто мог себе это позволить, ехали пульмановскими вагонами; остальные набивались в эмигрантские, или так называемые «зулусские», вагоны с откидными койками. Иногда кто-нибудь из членов группы ехал в товарном вагоне, присматривая за скотом. Женщины жарили бифштексы, варили кофе на керосинках и здесь же стирали белье. Экскурсионные поезда, составлеппые из трех или пяти вагонов, приезжали в Лос-Анджелес буквально каждый депь, привозя с собой сотни пассажиров. Южная Тихоокеанская утверждала, что только в 1887 году своими поездами она перевезла сто двадцать тысяч пассажиров. Для ночлега люди забирались втроем в одну постель, большинство их жило в палатках, которые наподобие расположившейся на бивуак армии окружали любой населенный пункт. Торговая палата Лос-Апджелеса, который десять лет пазад имел всего восемь тысяч жителей, теперь могла похвастать двумя тысячами лихорадочно оживленных и красноречивых торговцев недвижимостью. Поток людей, стремящихся сколотить себе состояние па земельном буме, затопивший южную Калифорнию, ничуть не уступал потоку, хлынувшему в Сьерра-Неваду в Сорок Девятом под влиянием золотой лихорадки. Основание пового городка в любом месте, расположенном на расстоянии от пяти до сорока миль от Лос-Анджелеса, рекламировалось за несколько дней вперед. И хотя никто ничего не знал о ¦земле, которая будет предложена, «люди стояли в очереди по нескольку дней, боясь упустить случай первыми поспеть к распределению участков па новом месте». Карнавальный характер бума еще более усилился, когда в этих местах прогорел какой-то цирк и торговые агепты наняли всю труппу - с клоунами, львами и тиграми, слонами и жирафами - для работы в процессиях, рек ламирующих новые участки земли. Потенциальпые покупатели, которым обещали бесплатные транспорт, завтрак и развлечения, в день аукциона бросались к железнодорожным вокзалам, где их усаживали па открытые платформы, украшенные флагами и лентами. С дующим изо всех сил в трубы духовым оркестром они отправлялись по железной дороге к месту выделе- ПИЯ ¦земельных наделов, чаще всего оказывавшихся в самой настоящей пустыне, где земля, за которую всего какую-нибудь неделю назад никто не уплатил бы и доллара за акр, теперь, нарезанная на полоски в двадцать пять футов шириной, продавалась за сотни долларов, переходя из рук в руки и меняя владельцев по три раза на день. Торговый агент из Пасадены Джон Мак-Дональд организовал экскурсионные поездки при луне, во время которых под духовой оркестр, играющий романтические мелодии, люди покупали участки земли и делали это настолько поспешно, что Мак-Дональду, по словам одного из свидетелей подобной операции, приходилось брать двух помощников, пересчитывавших деньги при свете фонаря. Все это весьма напоминало спекуляции па бирже в Сан-Франциско в самый разгар золотого бума в Комстокс. R жаркие и душные летние месяцы - июнь, июль и август - торговля велась с таким успехом, что в графстве Лос-Анджелес оборот операций по недвижимости составил в общей сложности тридцать восемь миллионов долларов. На аукционе в Санта-Ана только за два часа было продало па восемьдесят тысяч долларов земельпых участков. Фул- лерон превзошел и эту цифру - в пем за полдня было продано па девяносто две тысячи. В Уитти, основанном квакерами из Иллипойса, Индианы и Айовы, за первые три дпя было продано на 400 000. К концу 1887 года общая прибыль от продажи земли составила сто миллионов долларов, иными словами, ровно столько, сколько дали золотые прииски Сьерра-Невады в 1849 и 1852 годах. «Лос-Анджелес был бурлящим городом, наполненным торговыми агептами и маклерами - пачипающими и опытными профессионалами; отели его были битком забиты, цены взмывали на астрономическую высоту и повсюду: на улицах, в печати, в домах и в клубах - непрерывно велась речь о земле».
Почти не было людей, которые не заразились бы этой лихорадкой. Видели даже полицейских, которые, совершая обход, продавали наделы прохожим, маклерской деятельностью занимались дантисты, рабочие, кучера. Встречались маклеры, которые не умели пагшеать собственной фамилии. Фруктовые ларьки размером десять на двадцать футов сдавались под маклерские конторы за сто долларов в месяц, а тысячи контор представляли собой просто стол в лавке или дома. Маклеры, которые не могли себе позво- пит г. я такой роскоши, как стол, шныряли по улицам, храня свои бумаги в шляпах. Как и в дни спекулятивной лихорадки в Сан-Франциско, уборщицы, землекопы, повара покупали участки с десятипроцентной скидкой, тут же продавали их по полной цене, а но выручепные деньги приобретали документы на новые участки. При распределении земельных участков в Монровии маклеры могли покупать участки со скидкой в 30 долларов и рассрочкой на несколько месяцев. Вкладывая совсем немного денег наличными, можно было получать прибыль в тысячи долларов. Салуны Лос-Анджелеса превратились в круглосуточные маклерские конторы но торговле недвижимостью. Вкладчики капиталов, прослышав о новом намеченном распределении, гонялись за владельцами по улицам и даже в церквах пытались заключить сделку. ?Кулики сотнями заполнили улицы Лос-Анджелеса, их здесь называли «индейцами племени эскроу». Это были самые настоящие акулы, которые пристрастились к этому ремеслу в самые разгульные дни земельного бума в Канзасе. В запасе у них имелся целый ряд отработанных приемов: они развешивали апельсины на любых деревьях и продавали потом участок как плодоносящую цитрусовую плантацию. Они заказывали литографические изображения городов, участки в которых они якобы предлагали продать. На этих литографиях в одном углу изображался санаторий, в другом - роскошные отели, улицы были об- сажрньг пальмами, а из-за домов виднелись апельсиповые рощи. Участок земли, отведенный под городок Чикаго-Парк и лежащий на песчаном откосе на берегу Сан-Габриэль, изображен был па рекламной литографии как берег полноводной реки с пароходами, устремляющимися к городским причалам. При этом маклеров совершенно не смущал тот факт, что река Сан-Габриэль четыре года из пяти пересыхала полностью, а в пору разлива глубина ее никогда не превышала нескольких дюймов. Торговые агенты клятвенно заверяли, что предлагаемые ими земли родят все, что произрастает в тропиках и субтропиках, а недра ее при этой! таят нефть, железо, золото и серебро. Участки, о которых в рекламных проспектах утверждалось, что они богаты водой, оказались распо- лоЯ'сипыми па дне водоемов; участки для постройки вилл находились па вершине какого-нибудь обрыва. Земельные владения в городах, которые в семи случаях из десяти так и оставались городами па бумаге, продавались по пятьсот долларов благодаря обещанию, что ежегодно акр земли будет приносить доход в тысячу долларов па одних только апельсинах. Для того чтобы продать участки в Лопг-Бич, бывшей злополучной Американской колонии Уильяма Уилмора, торговые агенты рекламировали не только обсаженные деревьями улицы, купальни, горячее и холодное водоснабжение, по в качестве главной приманки - бильярдную для жепщин в местном отеле. Все, что когда-то отпугивало потенциальных покупателей земли в Американской колонии, превратилось в достоинства для Лонг-Бич. «Индейцы племени эскроу», которых лос-анджелесская «Тайме» описывала как «прощелыг, попрошаек, нищих, тех, кто пытается пустить пыль в глаза местным жетелям, кто не решается закатать рукава, дешевых политиканов, отбросы делового мира и безденежных клерков», умели обвести вокруг пальца и вполне разумных людей. Солидные торговцы недвижимостью в Лос-Анджелесе бывали несколько смущены, когда им приходилось соревноваться с подобными рекламными объявлениями своих конкурентов: «Что вы предпочтете? Клочок земли площадью сорок пять на сто тридцать футов в новом городе Мульткрайз в тридцати милях от Лос-Апджелеса и трех милях от ближайшего жилья, среди самых настоящих песков ^густыпи, усеянный камнями и заросший шалфеем, за триста пятьдесят долларов или богатую, ровную, податливую землю в одной миле от Лос-Анджелеса в окружении великолепно возделаппых окрестностей по цене 350 долларов за акр?» Но и солидные торговцы не могли удержаться от чрезмерных восхвалений. На земельном аукционе в Ровене утверждалось: «Вам не придется обрабатывать землю, вам достаточно будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как она приносит вам богатство». ???? 545 Другой агент обещал: «Пол-акра лимонов вполне достаточно для содержания семьи», а третий восклицал: «Если вы захотите сорвать здесь арбуз, вам придется влезть на лошадь!» 35 Зап. К 1403
Одпа из реклам города гласила: «Здесь пет пи тумана, нн мороза, ни солончаков, ни землянок». Через несколько месяцев «то-то из остряков приписал: «ни города». Большинство новых поселении, заложенных в жарких плодородных долинах к востоку от Лос-Лпджелеса, где много лет назад возникли Эль-Мопте и Сан-Бсрпардипо, сразу же приживались. Таким городом была Азуса к северу от Эль-Монте. По поводу нее была поднята такая рекламная шумиха, что, как и при основании Рено, люди стояли всю ночь в очереди. Столь велико было стремление поспеть к началу распределения участков, что стоявший в очереди вторым отказался уступить свое место за тысячу долларов, а стоявший пятым отверг пятьсот долларов. Из стоявших в очереди даже один человек па сто не видел отведенного под город места, тем по мепео в первый нее день аукциона было продано земельных участков па 280 000 долларов. К концу лета маклеры, занятые продажей земли в Азусе, получили прибыль в 1175 ООО долларов. Предприимчивые пришельцы привозили сюда огромные капиталы, которые опи удваивали и утраивали через педелю после своего прибытия. Опи относились с насмешкой к старожилам Лос-Анджелеса из-за их робости и нежелания принимать участие в земельных спекуляциях. Население города резко увеличилось и составляло теперь уже более ста тысяч жителей. Органы городского самоуправления тоже охватила горячка деятельности. Опи с помощью команды, вооруженной кирками и лопатами, расчистили городскую площадь. Мейп-стрит, Сприпг-стрит, Бродвей и Хилл-стрит, которые были до этого пыльными проезжими дорогами, преобразились в мощеные улицы, по которым ходили новые сверкающие лаком омнибусы. Когда сгусток энергии в лице Билли Уоркмепа был выбран мэром города и владельцы недвижимой собственности отказались проявить податливость, Уоркмен под покроьом ночи, в особенности после дождя, высылал рабочие команды, которые на улицах расставляли стойки с плакатами: «Плата за переправу 25 центов» или «Охота на уток в этом болоте запрещена». Как это уже было во времена серебряного ажиотажа в Лидвилле и в Сан-Хуане, строителям приходилось стоять в очереди к лесопильням, чтобы успеть захватить свежераспиленные доски для возведения новых домов, деловых кварталов, гостиниц. Грузооборот Уэллс-Фарго поднялся с трехсот тысяч фунтов до семи миллионов. Процветали все отрасли деловой жизни. При этом бум избрал такую инерцию, что докатился и до Сан-Диего, лежащего в ста двадцати милях к югу, на самой мексиканской границе, и до Санта-Барбары, лежавшей в ста милях к северу; по центральной долине он докатился до Бекерсфилда и еще дальше иа север в долину Тыолэ; помнящую о Мюссел-Слоу. В движении на восток он прошел через долины Сап-Габриэль, Санта-Лиа и Бернардн- ио до города Сан-Бернардино; на западе он достиг океана, где у любой бухты или небольшого залива вырастали города и местечки. И все же мясник Филипп Лрмор в самый разгар этого бума объявил: «Это все еще только начало. Скоро начнется такой бум, что вся нынешняя шумиха будет выглядеть по сравнению с ним, как треск земляного ореха по сравнению с громом небесным». Северная Калифорния, которая пережила свой бум тридцать восемь лет назад, была оскорблена препебре- жением к себе. Ее газетные передовицы сухо отмечали, что «на востоке складывается впечатление о Калифорнии, как о какой-то узкой полоске земли, протянувшейся где-то возле Лос-Анджелеса. Подобное представление отражает денежное выражение наглости». Лосанджелесцы, посмеиваясь, говорили, что давно пора определить, кто из них имеет подлинную цену. Бум 1887 года в южной Калифорнии, один из самых «ярких и шумных» в истории Дальнего Запада, ограничился именно этим годом. К весне 1888 года все закончилось, как это было н со спекулятивными оргиями Уильяма Шарона в «Офире». Примерно три из каждых десяти городов, рекламируемых маклерами, получили достаточное число постоянных жителей, решивших своим трудом способствовать их развитию и росту: Глендэйл, Бербэнк, Азса, Монровия, Аркадия, Клермонт, Кюкамонга, Колтон. Последний был основан небольшой группой немцев на участке площадью триста акров. Здесь Южная Тихоокеанская построила свою станцию, паровозное депо и склады, превратив его в крупную железнодорожную станцию. Население этих городов вполне разумно выбирало для себя землю и места под застройку, они расходовали ме-
3Б* 547 слцы упорного труда и тысячи долларов на постройку ирригационных каналов, подводящих воду с холмов, на мощение и прокладку улиц, на постройку школ, церквей, городских залов, жилых домов и деловых контор. В Ингл- вуде, лежащем между Лос-Лнджелесом и морем, владельцам земли пришлось проложить одиннадцать миль водопровода и предложить покупателям бесплатный строевой лес, чтобы устроить здесь поселение. Они построили также отель и продавали участки по умеренной цене - от двухсот до семисот пятидесяти долларов, - чем привлекли примерно триста покупателей. Торговцы недвижимостью в бухте Редондо, считавшие ее потенциальной гаванью Лос-Лнджелеса, выстроили здесь стальной пирс стоимостью сто тысяч долларов. Пасадена, основанная в 1874 году па кооперативных началах группой индейце», которые устали мерзнуть в своих вигвамах после одной из исключительно холодных зим, разроста- лась со скоростью Лос-Лнджелеса. Паказательная колония братьев Чэффи превратилась в Онтарио и процветала. Риверсайд с его ирригационной системой и плодородной землей расцвел теперь пышным цветом после стольких лет запустения. Те же города, которые существовали только на бумаге и в рекламных проспектах, исчезли даже и нз памяти людской. Последние из тех, кто приобрел их бумаги, навсегда распростились с вложенными капиталами. Очень часто жертвами «индейцев племени Эскроу» оказывались местные уроженцы, которые стойко выдерживали соблазны, однако в последнюю минуту спохватывались и вкладывали все свои сбережения… а потом обнаруживали, что на руках у них документы, удостоверяющие права собственности на клочок земли где-то на пустоши пли просто в пустыне, за который им к тому же пришлось уплатить несуразно высокую цену. В большинстве же случаев жертвами оказывались богатые туристы, процветающие бизнесмены, которые прибыли сюда, чтобы ознакомиться с новыми центрами богатства, «больные или представители среднего класса, преимущественно фермеры нз центральных и северных штатов. Основным отличительным признаком этих людей было благополучие». Хотя урожайность земли была одной нз главных рекламных приманок, фермеры были слишком заняты покупкой и перепродажей земли, чтобы думать о полевых работах Несколько коммерсантов, которые оказались втянутыми в этот водоворот, оказались разоренными. Одпа из газет сетовала в редакционной статье: «Веселые времена последних лет испортили отличных механиков, фермеров и многих из наших лучших коммерсантов». Многие представители среднего класса, люди среднего возраста, которые приехали в прошлом в Калифорнию на покой, не смогли не поддаться всеобщей истерии, а теперь чувствовали себя лишними людьми. Крупные денежные суммы, предназначенные па исследования. и на газетную рекламу, перестали поступать, сотни вновь основанных торговых палат, коммерческих бюро и синдикатов но торговле недвижимостью рассеялись как дым. Карты тысячи восьмисот различных участков теперь пылились на полках суда графства в Лос- Анджелесе. Те, кто приобретал землю под влиянием бума, теперь жаловались, что невозможно жить одним лишь климатом. Южная Калифорния была явно ошарашена и никак не могла вернуться к своим прежним, мучительно медленным темпам роста. Говорили, что бум не разразился, а просто пронесся над страной; к 1 апреля 1888 года выяснились некоторые весьма неприятные факты: туристы так и не появились здесь в том количестве, которое предполагалось. Банки, встревоженные бумажным бумом, резко понизили кредиты под залог недвижимости. Многие из тех, кто получал огромные прибыли па покупке и продаже, вдруг сообразили, что все их приобретения заключаются в ничего не значащей передаточной подписи, сделанной людьми, которые занимались точно такими же спекуляциями. Те же, у кого оказалась какая то земельная собственность, обнаружили, что им нужно как можно скорее продать свою землю и получить наличные деньги, иначе они могут вообще остаться ни с чем. Покупатели перевелись. Тем, кто решил быстро продать, пришлось продать дешево; земля, продажная стоимость которой составляла 80 долларов за акр, выбрасывалась па рынок по 20 долларов за акр. Солончаки, пустынные области, каменистые долины буквально в нес- сколько дней оказались не представляющими никакой ценности. Банки, которые способствовали отъезду неудачников или случайных людей, теперь поддерживали из месяца в месяц поселенцев, решивших обратить эту землю в свой постоянный дом, и многие из них были спасены от банкротства. Одпако города-призраки - по дюжине в долинах Сан-Габриэль и Санта-Лпа, по-видимому, восемнадцать в долине Сап-Берна рдипо и еще двадцать между Лос- Апджелесом и океанским берегом - усохли на корню и исчезли. Бум, несмотря па всю его экстравагантность, па «индейцев племени эскроу», которые убрались па восток через Скалистые горы с богатой добычей, захваченной во время ?зтого набега, принес все же Калифорнии преимущества непреходящего порядка: примерно тридцать две тысячи поселепцев, твердо решивших остаться здесь, что увеличило паселепио Лос-Анджелеса в несколько раз. Этот рост потребовал и соответствующего расширения строительства и промышленности. Ежемесячно возводилось по сто новых домов, общии объем капиталовложений составлял около пяти миллионовдолларов. Были проложены многие мили местных железнодорожных линий: в восточном направлении - через долину Сап-Габриэль, па север - через долину Сан-Фернандо, на восток - к Сапта-Мопике, в Лонг-Бич и другие океанские населенные пункты. Линия «Сапта- Фе» имела теперь станции по •меньшей мере в двадцати мелких городках па линии, идущей через долину Сан-Габриэль к Сап-Бернардипо. Строилось много школ, открылось четыре колледжа. Целая дюжина новых деловых кварталов возникла в Лос- Анджелесе. Границы города расширились по всем четырем направлениям; он сделался космополитическим центром. Думке в своей книге «Бум Восьмидесятых годов в южной Калифорнии» отмечает: «Бум сыграл значительнейшую роль… он навсегда положил конец испано-мексиканской пасторальной экономике. Золотая лихорадка превратила северную Калифорнию в полноправную составную часть Соединенных Штатов; бум Восьмидесятых годов сделал то же и с южной».
«Сонный маленький городок, дремлющий на солнцепеке», был разбужен чисто американскими методами быстрого обогащения. Благодушное созерцание было изгнано навсегда Лос-Анджелес стоял сейчас на пути К превращению в такие города, как Сан-Франциско, Солт-Лейк-Сити или Денвер.
Глава II
Южная!Тихоокеанская лишается своего забора Яростная конкурентная борьба с линией «Сапта-Фе» несколько обуздала неограниченную власть Южной.Тихоокеанской в южной Калифорнии. Первую значительную победу над монополией Южной Тихоокеанской в ее вотчине удалось одержать Джону Дэйви - ковбою, рудокопу и оперному певцу на пристанях Оклепда. Совершенно невероятный тип, Дэйви держал в Окленде лавку, в которой он торговал углем и книгами - тоже довольно невероятная комбинация товаров. В 1894 году кому-то удалось убедить Дэйви, что впол- пе логично будет пополнить ассортимент его товаров еще и солью. Поэтому он решил, что для своих товаров ему следует построить склад на пристани Окленда. Он выбрал подходящее место на берегу устья, где морские суда могли бы выгружать прямо в склады привезенные товары, а затем принес планы строительства к чиновникам Окленд- ского магистрата. Поскольку Южная Тихоокеанская все еще осуществляла контроль над властями города Окленда, политикан по имени Том Кэррозерс отказал Дэйви в нраве па постройку склада: Дэйви придется строить на земле, принадлежащей Южной Тихоокеанской, с тем чтобы железная дорога могла контролировать поступление и отправку грузов и устанавливать цены на транспортировку. Вместо этого Дэйви снял два акра на маленьком зе- мельпом участке, принадлежавшем устричной компании Моргана, находящейся пгд контролем скорее штата, чем города Окленда. Он засыпал там болото и построил склад; однако, когда он отправился в Сан-Франциско, чтобы сговориться о поставках трех тысяч тонн угля, оптовый торговец объявил ему: «Мы не можем направить суда в Окленд, потому что железная дорога огородила своим забором весь город». Дэйви вернулся в Окленд и устроил совещание с груп- 551 пой молодых «устричных пиратов», в числе которых был и паренек по имени Джек Лондон, которым он разрешил держать свою штаб-квартнру иа снятой им земле. «Устричные пираты» страдали от охранников Южной Тихоокеанской и ненавидели ее с той же силой, что и фермеры или торговцы. Дэйви пакупил оружия и патропов, передал их молодым «пиратам», а затем приказал доставить три тысячи тонн угля к причалу его склада. Дэйви выгрузил свой уголь, а заодно и груз соли па берег и поместил их в своем складе. В понедельник утром он направился к пристани и обнаружил, что забор из проволочной сетки окружает два акра его земли, а целая бригада рабочих разбирает па доски его склад и швыряет эти доски в воду. Такой «мягкий» метод убеждепия использовался железной дорогой уже многие годы. Дэйви бросился с кулаками на строительную команду, по был сбит с пог ударом доски. Придя в сознание, оп выпил в ближайшем салуне, промыл рапу, а потом вернулся с ружьем в руках и двумя пистолетами на поясе. Бригада Южной Тихоокеанской, занимавшаяся разборкой склада, попяла, что шутить Дэйви пе памереп. Они отступили - не только перед его револьверами, а также пе в малой степени - перед толпой любопытпых оклендцев, которые, сочувствуя Дэйви, отправились вместе с ним к берегу. Пятерых из этой бригады сбросили в воду, после чего толпа удовлетворенно пошумела, а потом принялась помогать Дэйви валить забор Южной Тихоокеанской. К этому времени газетные репортеры из Сап-Фрап- циско успели перебраться через залив и занимались сбором материала. На следующий день Дэйви узнал из газет, что теперь он - лидер оклендской «войны на набережной», первый человек, который решился объявить войпу Южной Тихоокеанской, с тех пор, как поселенцы в Мюс- сел-Слоу схватились с Хартом и Кроу. Политический босс Кэррозерс потребовал, чтобы ок- лендская полиция арестовала Дэйви. Жители города, возмущенные открытым использованием полиции для защиты мопополии Южной Тихоокеанской, выступили на его защиту. Собралось около пятисот человек. Сплоченные и хорошо вооруженные «устричные пираты» приняли на себя первые удары полицейских дубинок и бросились в контратаку, поддерживаемые остальными сторонниками Дэйви. Полиция бежала. Это была вторая победа Дэйви. Опа позволила ему пе только сохранить его собственность, по и привела к поддержке столь единодушной, что Южная Тихоокеанская на какой-то момент растерялась и не сразу решилась в третий раз применить силу. Затем железная дорога предприняла новую попытку вышибить Дэйви из седла. На баржу посадили целый отряд охранников. Баржу эту намеревались во время прилива причалить к спятому Дэйви участку, вооруженные охранники Южной Тихоокеанской должны были высадиться па берег, прогнать Дэйви и его сторонников с нричала'и захватить его склад. Чтобы баржа быстрее двигалась к берегу, ее тянули цепями два паровоза. Весь Окленд высыпал па берег, чтобы следить за схваткой. Несколько отборных ребят сели вместе с Дэйви в лодку, доплыли до цепи и перепилили ее. «Устричные пираты» соорудили самый настоящий понтонный мост из гребных и парусных лодок, добрались по нему до баржи и задали стражникам Южной Тихоокеанской трепку, в результате которой многие из них оказались в воде. Так Дэйви выиграл третью схватку с Южной Тихоокеанской. Весь Дальний Запад ликовал. Джоп Дэйви вел себя, как и подобает истинному герою. Аплодисменты он принял скромно и с достоинством, а затем вступил в комитет оклеандцев, которым надоели медленные и дорогие паромы Южной Тихоокеанской и которые решили для переправы через залив приспособить быстроходную «Розали». Переправа на «Розали» должна была стоить всего п!ть центов. Южная Тихоокеанская приказала своим ста •ленникам в портовой комиссии штата пе разрешать «Розали» швартоваться в Сан-Фрап- циско. Когда «Розали» попыталась причалить к берегу в стороне от городской пристани, на ее пассажиров сверху стали сыпать уголь. Они попробовали высадиться в ином месте, по тут дорогу им преградили сотни ломовых телег. Тогда Дэйви набрал команду отчаянных портовых грузчиков, которые разогнали ломовиков и обязались обеспечивать свободную высадку в Сан-Франциско. На оклепдском берегу суда могли причаливать только в одном месте. Южная Тихоокеанская изменила расписание своих паромных переправ с таким расчетом, чтобы одно из его тихоходных судов постоянно оказывалось впереди «Розали» и не давало ей приблизиться к берегу. Дэйви при негласной поддержке Томаса Леймонта, воепно-морского министра кабинета президента Кливленда, гостившего в зто время в Оклепде, разработал свой план. На следующий депь, когда тихоходная «Аламейда» Южной Тихоокеанской поползла по реке, игнорируя гудки «Розали», требовавшей уступить дорогу, «Розали» па полном ходу ¦врезалась посом в корму «Аламейды». Получив пробоину, капитан «Аламейды» выпуждеп был тут же направить свое судно па болотистый берег, пассажирам его пришлось брести но колено в грязи. Хотя теперь суда Южпой Тихоокеанской быстро убирались с дороги, как только раздавался гудок «Розали», это еще не положило конец «войне за ?Розали"». Железная дорога отказывалась разводить понтонный мост между Ок- лепдом и Аламейдой, без чего «Розали» пе могла добраться до своей конечной пристапи. Капитан «Розали» неоднократно обращался к капитану обслуживающего мост буксира с просьбами, однако у того имелся приказ Южпой Тихоокеанской, и он отказывался разводить мост… Однажды какой-то прохожий, оста повившись па поп- топпом мосту, принялся глазеть па воду. «Розали» подошла к мосту, один из ее матросов кинул мечтательному прохожему копец троса, а тот закрепил его па кнехте моста. «Розали» дала задний ход и увела за собой весь мост. Джона Дэйви арестовали за этот подвиг, по дело так никогда и не было передано в суд. Его мужество пришлось по душе жителям Оклепда и Сан-Франциско, стало ясно, что и па Южную Тихоокеанскую можно найти управу. Правда, пройдут годы, пока в 1900 году не умрет направляющий деятельность железпой дороги Коллис Хантингтон и пока в 1910 году на посту губернатора пе окажется Хайрем Джонсон, противник железнодорожных компаний, проводивший свою избирательную кампанию под лозунгом изгнания Южпой Тихоокеанской из политической сферы. Однако то, что железная дорога «Санта-Фс» сделала для южной Калифорпии борьбой за Лос-Анджелес, Джон Дэйви сделал для центральпой Калифорнии. Им удалось обрубить часть щупалец у «стального спрута».Глав а III
«Это просто какой-то калечащий ручей!» Последним золотоносным райопом в Колорадо, который еще сохранял традиции Комстока и пика Пайка перед тем, как золотодобыча окончательно перешла в руки гигантских корпораций, был Криппл-Крик. Чтобы пайти его ковбою Бобу Уомаку потребовалось целых тринадцать лет. За ото время он успел стать членом известного на весь Дальний Запад триумвирата: «Безумный» Джюда, «безумный» Сутро и, наконец, «безумпый» Уомак. В богатой вариациями симфонии Криппл-Крик Боб Уомак играл роль арапжировщика и дирижера. Остальные-хотя именно им и досталось богатство, а Боб получил от своего открытия не больше пользы, чем Джеймс Маршалл в Ко- ломс шш братья Гроутн на Маунт-Дэвидсон,-играли роль простых музыкантов. Криппл-Крнк, что в переводе означает «калечащий ручей», лелсал на высоте десяти тысяч футов. В пятидесяти милях к югу от пего возвышались вершины покрытых спетом пиков Сапгре-де-Кристо, где выпуждеп был отступить Фремопт со своими спутниками, па востоке - Континентальный перевал. Горные склоны и спускающиеся вниз ущелья были покрыты здесь елями и осинами. Боб Уомак родился в Кептукки в 1844 году и был привезен в Колорадо своим отцом в 1861 году; в семнадцать лет он уже достигал шести футов высоты и был сильным и неуклюжим как медведь. Он трудился на золотых и серебряных приисках вокруг Лйдахо-Сприпгс и за шесть лет этой работы сумел стать чем-то вроде геолога-самоучки. Вторым его достоинством было умение ездить верхом. Утвернедали, что он в полном соответствии с духом и традициями калифорнийцев сороковых годов, мог па полном скаку поднять зубами с земли бутылку виски. Уомак-старший купил ферму в нескольких милпх от Колорадо-Сприпгс, поселил там семью и занялся разведением скота. Хозяйство в доме вела Лида - энергичная сестра Боба. Она пыталась сделать из Боба ковбоя. Он целыми днями где-то пропадал вместе со своей лошадью. Вместо того чтобы следить за телятами, оп все свое время посвящал ¦пробным промывкам золотоносного песка на Литл-Маунтин-Крик.В 1871 году семья Уэлти, друзей Уомакоп, приехавшая в Колорадо в поисках золота, по занявшаяся скотоводством, разочаровалась в этих местах из-за того, что железнодорожная линия генерала Палмера и возникший неподалеку город привлекали сюда слишком мпого колонистов. Левп Уэлти вместе с тремя сыповьями уехал на далекий торговый пост Флориссант, в тридцати милях от перевала Юта. Еще в десяти милях, у подножия горы Писга, они нашли красивую долину с ручьем, окруженную горами, которые не давали разбежаться скоту. Когда> Уэлти строили мост через ручей, бревно, вырвавшееся из рук одного брата, сильно ударило другого. У отца случайно разрядилось ружье и поранило ему руку. Теленок, перепуганный поднявшимся шумом, попытался перепрыгнуть через ручей и сломал себе ногу. Лови Уэлти воскликнул тогда в отчаяпии: •«Слушайте, ребята, это просто какой-то калечащий ручей!» Брат Боба, Уильям Уомак, съездил домой в Кентукки и ¦вернулся оттуда с женой Идой. Лида не ужилась с Идой, и Уильям с женой решили поселиться рядом с Уэлти на Крипнл-Крик-Калечащем Ручье и прихватили с собой Боба. Боб принялся осваивать участок площадью сто шестьдесят акров, выстроил себе бревенчатый дом в месте, которое он назвал Паверти-Галч, и как будто бы смирился с жизнью ковбоя. На самом же деле он постоянно разъезжал верхом вдоль берега Кринпл-Крик, пытаясь отыскать вкрапления кварца, которые подтвердили бы наличие здесь жил, содержащих драгоцеппый металл, и покрывая окрестные земли оспинами пробных промывок. Примерно за три года до этого экспедиция, проводившая здесь картографическую съемку, установила, что окрестности Кринпл-Крик состоит из вулкапических пород. Полуграмотный Боб Уомак был единственным, кто сделал правильные выводы: именно вулканические породы и должны содержать золото или серебро. Однажды утром в мае 1878 года Боб поил свою лошадь именно в том месте, где родилось название Крипнл-Крик. Там он поднял кусок камня длиной девять дюймов, который был только чуть тяжелее дерева. Он сразу понял, что держит в руке первый признак наличия здесь золота, потому что это была так называемая «плывучка», которая должна была отломиться от залегающего где-то рядом пласта. 1?сли в «плывучке» окажется золото, это будет означать, 4!то оно имеется и там, откуда отломился этот ку- С?Ь?Боб отправил «плывучку» по почте своему другу и попросил отдать ее на анализ. Химик, проводивший анализ, никак не мог понять, зачем человеку нужно тратить тридцать пять центов па анализ какого-то камня. Но друг Боба настоял на своем, а затем помчался на Криипл-Крнк сообщить Бобу, что его «плывучка» - золотоносная руда, содержащая па 200 долларов золота в каждой тонне. Боб пытался призвать па помощь жителей Колорадо- Спрингс. Но пикто не воспринимал всерьез попахивающего коньяком Боба. Горэйс Беннет, купивший с Джулиусом Мейерсом ранчо Брокеп-Бокс и еще четыре небольшие фермы на Криппл-Крик, отвез по настоянию Мейерса «плывучку» Боба (в Денвер для анализа. Химик Бурлин- гейм, славившийся своими безукоризненными анализами, окинул взглядом привезенные камни и выбросил их в У.ор- зипу для мусора. Л тут еще раскрылась афера горы Писга у Криппл- Крик, когда два старателя подсыпали золотоносной породы в свой рудник и пять тысяч золотоискателей бросились сюда со всех концов Колорадо. Однако Боб Уомак пе сдавался. Первую заявку он застолбил в октябре 1880 года, после шести лет поисков на Криппл-Крик. Он работал на своей заявке «Гранд-Выо», но так п пе нашел золота. В 1889 году он подружился с дантистом из Колорадо- Сприпгс Днсопом Грэннисом и отвел его в подвальное помещение «Палмер-Холла», где на стене висела карта, подтверждавшая, что район Криппл-Крик находится в самом центре вулканических выбросов. У доктора Грэнниса не было денег. Он сделал заем в пятьсот долларов в бапке и отдал депьги Бобу в обмен па половину золота, которое Боб найдет. Боб бросил работу у сестры па ферме и все свое время посвятил поискам па Гранд-Выо. В сентябре 1890 года он начал!встречать обломки «плывучкк» среди выбрасываемого им гравия. Он вырыл яму глубиной десять футов и потом начал пробивать оттуда штреки па восток, па запад и на север. Здесь он наткнулся на жилу золотоносной породы шириною два фута. В цептре шахтного забоя были какие-то блестки. Это было золото. Боб назвал свой рудник «Эль-Пасо». После недели взрывных работ он вместе с доктором Грэннисом пригла-
СИЛ профессора минералогии Гсирп Лзмба на Криппл- Крнк п попросил его обслс швать их находку. Лэмб лично взял пробы, произвел анализ и объявил, что содержание золота к этой породе составляет 250 долларов на тонну. Колорадо-Спрингс единодушно объявил: «Афера!» - и отказал ему в кредите. Коб выставил образны в витрине магазина Селдомриджа. Никто не желал на них смотреть. Доктор Гранине умолял своего друга Хайрема Роджерса из «Газстти изучить руду и написать о пей статью. Роджерс отказался. Коб был в отчаянии: у пего не быто денег для разработки рудника. Сорокачетырехлетний Эдвард де ла Корне из Колорадо- Спрингс учился проводить анализы у профессора Лзмба. Лэмб порекомендовал ему изучить породы Крнпнл-Крик. Проходя мимо витрины Селдомриджа, Эд увидел образцы руды, нашел Боба и расспросил самым подробнейшим образом. После этого он отправился на Криипл-Крик, обследовал район вулканических выбросов и выбрал места для заявок. И снова Колорадо-Спрингс по проявил пи малейшего интереса. Боб Уомак напился в очередной раз, разбил выстрелами из револьвера несколько уличных фонарей и - угодил в тюрьму. Когда оп проспался, то постучал в потолок своей подвальной камеры, чтобы расположенные наверху пожарники пришли его выпустить, как это и было принято. Однако в это воскресенье его выпустили пе пожарники, а два плотника - Джеймс Доул и Джеймс Берне. Боб высокомерно объявил им, что благодаря своему Криппл-Крик он скоро стапет богатым человеком и никто не посмеет арестовать его. Красноречивые и пользующиеся всеобщей симпатией Доил и Берне распространили по всему Колорадо-Спрингс слух о том, что золотой рудник Боба, по-видимому, дело стоящее. Впервые за четырнадцать лет Боба всерьез стали расспрашивать о Криппл-Крик солидные люди: клерк графства, городской казначей, инспектор, судья, маклер по торговле недвижимостью, юрист. И все же для того, чтобы Боб мог продолжать работы, доктору Грэппису пришлось снова брать в банке ссуду, на этот раз под залог своих инструментов.
Старатели начали появляться га Криппл-Крик. 5 апреля 1891 года па принадлежавшем Беннету и Мейерсу ранчо Брокен-Бокс было созвало собрание, на котором были приняты старательские законы Сьерра-Невады и установлены границы прииска площадью шесть квадратных миль. Боб Уомак утратил гаапс па бессмертие, когда его предложение назвать прииск Шахтерским районом Уомака не прошло. Было принято название Шахтерский район Криппл-Крик. Известие о собрании старателей распространилось с поразительной быстротой. Поток старателей из Аспепа и Саут-Парка пополнился повичками из городов. Опытным старателям приходилось давать новичкам поучения вроде «не обращаться с динамитом как с леденцом па палочке». Когда двое подорвались, одип из старых старателей заметил: «Тут говорят, будто опи и сами знают, что хотя бы в метель нужно ходить с застегнутыми штанами. Называйте меня как хотите, но я не верю этому». Боб не занимался добыванием золота, у него слишком много времени уходило на то, чтобы показывать остальным старателям лучшие места для заявок. Когда Уип- филд Скотт Стрэттон, старый золотоискатель, который работал сейчас за три доллара в день плотником в Колорадо- Спрингс, сказал Бобу, что Криппл-Крик не такое уж многообещающее место и что он видел побольше золота в любом из старательских лагерей, Боб провел Стрэттона по всему району. Стрэттон подыскал себе несколько мест для заявок, решил, что они ничего стоящего не представляют, упаковал свои инструменты и вернулся в Колорадо- Спрингс. Но ему еще предстояло вернуться сюда… чтобы продать рудник «Индепенденс» за десять миллионов долларов наличными! В мае здесь было сто старателей, в июне - двести, в августе - четыреста. Городок Криппл-Крик был основан Д. Уильямсом, который открыл ночлежку в палатке; открыт был здесь и салун - пара досок в виде навеса над двумя бочками пива. Один из мальчишек Уэлти наладил дилижансовую линию к Флориссанту - старому ютскому торговому посту на пути к Колорадо-Спрингс.
Район Криппл-Крпк представлял собой сплошной зо- лотопоспый слой. Человек по имени Джонс, не зная, где забить заявочный столб, подбросил свою шляпу, вонзпл Свою лопату в том месте, где опа упала… и нашел золото- посную жилу, содержащую на 600 долларов золота в тонне породы. И псе же очень мало золота добывалось летом 1891 года: до него трудно было добираться, а рабочей силы и машин найти было негде. Капитал все еще не желал принимать участия в авантюре Боба Уомака. К концу лета у старателей иссякли деньги и припасы. Помощь подоспела в самый последний момент в лице графа Джеймса Пурталеса, «империалиста типа Бисмарка», который прибыл в Колорадо в погопе за своей красивой кузиной, фрапцужепкой Бертой. Пурталес обвенчался с ней в Колорадо-Спрингс. Эта пара возглавила светское общество на изысканном курорте генерала Палмера. Граф Пурталес оказался способным деловым человеком: ou приобрел почти обанкротившуюся молочную ферму Бродмур и наладил в ней отличное хозяйство. Затем на земле фермы Бродмур он открыл в нюне 1891 года международное казино. Однако генерал Палмер пе захотел, чтобы рулетка подрывала высокие моральные устои Колорадо-Сприпгс. Нуждаясь в деньгах, граф Пурталес отправился в КрИпил-Крик и встретился там с Эдом де ла Берне, который сидел на одной из бесчисленных золотых жил, пе имея ни доллара на ее разработку. Граф известил колорадские газеты о том, что оп вместе со своим другом покупает заявку «Буэиа-Виста» на Балл-Хилл за восемьдесят тысяч долларов, что по самым скромным подсчетам рудник принесет не менее миллиона прибыли и что па Крпппл-Крик имеется еще по меньшей мере сотня мест, представляющих собой не меньшую цепность. Колорадо Спрингс -близлежащий сосед Криппл-Крик - дал наконец себя убедить. Начался приток капитала. Маршалл Спрэг в своей книге «Гора деиег» свидетельствует: «Умение графа правильно рассчитать время, социальный престиж и звонкое имя сделали это заявление чрезвычайно действенным. Оно полностью изменило отношение к Криппл-Крик, заставило забыть об афере горы Писга и вывело Криппл-Крик из ужасного тупика»
Боб Уомак, которому ие так уж сильпо хотелось рыться в земле, продал свою половинную долю в «Эль-Пасо» доктору Грэннису за 300 долларов, а доктор Грэннис продал четыре пятых «Эль-Пасо» за восемь тысяч, чтобы выкупить свои зубоврачебные инструменты. Судья Кол- берн из Колорадо-Спрингс купил за 10 000 долларов одну песятую долю участия в «Эль-Пасо». Уинфилд Скотт Стрэттон, который долгое время безуспсшпо пытался продать свой рудник «Вашингтон» за 500 долларов, теперь продал его одному пз партнеров Пурталеса за восемьдесят тысяч наличными. Джеймс Хейгермап, один из самых богатых людей в Колорадо-Спрингс, вложил 225 000 долларов? в разработку «Буэна-Виста» и в покупку двадцати одной заявки на Балл-Хилл для создания золотопромышленной компании «Изабелла». Горная долина, испещренная сотнями оспин пробных шурфов, вырытых Бобом Уомаком, превратилась в шумный старательский лагерь, куда в течение месяца прибывало до тысячи человек, зачастую в сопровождении жеп или целыми семьями. Горэйс Беннет, который был против покупки ранчо Брокен-Бокс, внезапно обнаружил, что старателям принадлежит практически вся земля, па которой собираются строить город. Новый город начинался с построенного Бобом Уомаком бревенчатого дома у Па- верти-Галч и был назван Фремонтом в честь Фремонта. Земля под застройку на Бепнет-авешо распродавалась по цене двадцать пять долларов за участки внутри квартала и по пятьдесят долларов за угловые. Первые покупки были сделапы непременными героями всех •золотоискательских лагерей - игроками, владельцами игорных домов и танцзалов, держателями салунов н содержательницами публичпых домов. Эд де ла Берне решил заложить город-конкурент примерно па тысяче трехстах акрах земли, большинство которой лезкало вверх и вниз по склону горы. Этот город стал известен как Криппл-Крик. Эд попытался привлечь представителей высшего общества: «Все лучшие люди строят дома в стороне от салунов и игорных домов». Как и все лагеря на Дальнем Западе, Фремопт и Криппл-Крик не имели ни органов самоуправления, пи органов юстиции, пи освещепня, ни воды, ни мощеных улиц. Беннет-авепю проходила по такому крутому склону, что ее северная сторона была на пятнадцать футов ниже южной. Это породило весьма распространенную в Криппл- Крик шутку: «Прошлой почыо человек сломал себе шею, свалившись с Беннет-авешо». На два города имелся один полицейский инспектор. Его единственным занятием было отбирать у старателей (осо- 36 Зак.,ц!ш бсныо новичков) револьверы и взимать с них пожертвования в школьный фонд. Через год оба лагеря объединились и стали городом Криппл-Крик, выбрали мэра и весьма примитивные органы самоуправления, провели водопровод и повесили на улицах фонари. Так Колорадо пополнился еще одним городом. Теперь здесь жило пять тысяч человек. Красивые рощицы были спилены и пущены на доски, улицы представляли собой сплошные ряды некрашеных двухкомнатных хижин с мезонинами в качестве спален. К 1893 году участки под застройку на Беннет-авеню шли по цене от трех до пяти тысяч долларов. Криппл-Крик жил бурной жизнью: здесь было восемь дровяных складов, двадцать шесть салунов, десять мясных лавок, девять отелей, сорок четыре юридические конторы и тридцать шесть контор по торговле недвижимостью. Фирма Горэйса Беннета и Джулиуса Мейерса выжала более миллиона долларов прибыли из Фремонта, прежде чем он слился с Криппл-Крик. Боб Уомак был теперь самым счастливым человеком. Когда он проходил по улице или садился за столик в салуне, старожилы указывали на него новичкам и говорили: «Это Боб Уомак - парень, который основал Криппл- Крик». Боб проводил время, высиживая по трое суток за ноке- ром, выпивая в салунах, танцуя в «Бон-Тоне», «Красном фонаре» и в «Казино». Криппл-Крик был его городом. За 1893 год добыча золота возросла с пятидесяти до двухсот тысяч долларов в месяц, а население к новому, 1894 году составило двенадцать тысяч человек. Пастбище, на котором ранее паслись коровы Боба, теперь кишело десятками людей, которые выкрикивали «Огонь!», а динамитные заряды взрывались настолько часто, что у хозяек вывешенное белье зачастую оказывалось испачканным грязью и пылью от взрывов. Боб сохранил за собой рудник «Уомак-Плей- сер», но не работал на нем; Когда Стрэттон продал свой рудник «Индепенденс», Боб заметил: «Бедный этот старик Стрэттон, столько денег, столько беспокойства. Нет, я ему ничуть не завидую». Криппл-Крик стал принимать космополитический облик. Ночлежка в палатке превратилась в «Апхаузер-Буш- Отель», а отдельные номера пришли па смепу общей комнате, разделенной парусиновыми занавесками. На следующий год отель «Коптинепталь» хвастался тем, что может предоставить ночлег Двумстам постоял!,нас!, если считать и тех, кто спит па столах в столовой. Наплыв посетителей в столовую «Континепталя» был настолько велик, что столовое серебро никогда не мыли, а просто подавали следующему клиенту. Подобно тому как это было в Денвере, первое занятие воскресной школы проходило в глубине салуна «Бакхорн». Владелица, более известная как крупье и хозяйка одного из публичных домов, скромно прикрыла занавесками игральные принадлежности и бар, приказала всем своим «девочкам» надеть лучшие платья, а затем усадила их рядком на стойко бара, чтобы они тоже выслушали уроки воскресной школы. В канун рождества 1893 года Боб Уомак продал «Уо- мак-Плейсер» за 500 долларов, разменял деньги на однодолларовые бумажки в салуне «Нолана», напился вдрызг, а затем стоял на углу Третьей и Беинет-стрит, раздавая по доллару проходящим детям. Жест этот, конечно, был красивым, но сам Боб пребывал теперь в полном отчаянии. Город стал теперь слишком велик для Боба Уомака - к концу десятилетия он будет насчитывать пятьдесят тысяч жителей. И слишком деловым для него - общий фонд выплачиваемой заработпой платы поднялся с пятидесяти до миллиона долларов в месяц, а добыча золота оценивалась в двадцать миллионов долларов. Люди здесь больше не обращали внимания на Боба, они уже больше пе указывали на него друг другу как на первооткрывателя Криппл-Крик. Все больше и больше они видели в нем всего лишь стареющего, вечно пьяного бродягу, шатающегося по салунам. Главпым действующим лицом на сцене Криппл-Крик теперь был Уинфнлд Скотт Стрэттон, известный как Старик Стрэттон, хотя ему было всего сорок два года, когда Боб водил его по руслу Криппл-Крик в 1891 году. Стрэттон был «человек хрупкого сложения, узколицый, с белоснежными волосами, серьезный и нелюдимый по природе, который провел семнадцать лет старателем на золотых россыпях Дальнего Запада в полном одиночестве». Старше Стрэттон сговорился с Бернсом и Доулом, у которых заявки находились рядом, объединенными усилиями и капиталами бороться с сотнями выдвинутых против пих исков. Стрэттон нанял также весьма энергичного и изво-
36* 563 ротлисого молодого юриста, с помощью которого 011 удовлетворил абсолютно все иски, что обошлось ему более чем в миллион долларов. К весне 1894 года Стрэттон и его'компаньоны-ирландцы оказались владельцами практически всей горы Бэттл, в которой скрывалось золото па десятки миллионов. Про- пускпал способность их обогатительных фабрик составляла шестьсот топп руды в день, по Стрэттоп добывал руду в ограниченных количествах, опасаясь, что хищническая эксплуатация может превратить Криппл-Крик в город призрак. Когда город выгорел дотла, Стрэттон тут же пришел па помощь. Более того, оп заявил: «Нам нужно пошевеливаться, и побыстрее! Сейчас не время водиться с займами. Пишите все расходы на мой счет. Разбираться будем потом». В 1892 году Колорадо избрал губернатором популиста Дэвиса Уэйта, шестидесятилетнего реформатора с белой развевающейся бородой. Популистское движение в Колорадо весьма походило на движепие «песчаных участков» Дэниса Кирпи и платформу Рабочей партии в Калифорнии. Оно выдвигало требования прямого выдвижения сенаторов, восьмичасового рабочего дня, тайного голосования и налогового обложения доходов. Движепие это было одной из форм протеста рабочих против экономического и политического контроля колорадских миллионеров. Недавно созданная Федерация шахтеров Запада направила сюда Джона Калдервуда, который быстро объединил две трети всех шахтеров Криппл-Крик, введя стандартные три доллара заработной платы за восьмичасовой рабочий депь. Некоторые из шахтовладельцев восприняли это как серьезную угрозу. Они решили платить те же самые три доллара, по за девятичасовой рабочий депь. В феврале 1894 года Калдервуд снял с работы пятьсот шахтеров, объединенных в его профсоюзе, с шахт с девятичасовым рабочим дпем. Шахты с восьмичасовым днем продолжали работу. Губернатор Уэйт поддержал рабочих. Калдервуд проявил себя блестящим организатором, он не умел произносить зажигательпые речи, однако собрал 1400 долларов пожертвований с бизнесменов Криппл-Крик. 4500 долларов в месяц - с работающих шахтеров, и, подкрепив это другими взпосами, организовал общественную рабочую столовую, где кормили бесплатными обедами бастующих рабочих и их семьи. Симпатии жителей были па стороне союза: все в Колорадо видели, что шахты с восьмичасовым рабочим днем дают вполне приличные доходы, и считали, что владельцы сторонники девятичасового рабочего дня проявляют жадность. Когда Джимми Берпс объявил, что он счастлив тем, что его шахтеры вступили в Федерацию шахтеров Запада, потому что «каждый рабочий имеет право улучшить свое положение, выступая коллективно», криппл- крикская газета «Крашер» со свойственным золотоискательским' лагерям юмором объявила: «Выслушав заявление мистера Бернса в клубе «Эль-Пасо», три его члена свалились под стол и скончались от апоплексии». В последующие месяцы Криппл-Крик завоевал репутацию города суровой и беспощадной классовой борьбы. Шахтовладельцы - сторонники девятичасового рабочего дня провели через суд решение об ограничении деятельности Федерации шахтеров Запада, заявив при этом, что отныне они не будут принимать на работу членов профсоюза. Шахтеры вооружились. Шахтовладельцы наняли вооруженных полицейских. Губернатор Уэйт прислал ополчение, чтобы запять позиции между полицейскими и бастующими рабочими, болыпипство пз которых пришло с динамитными зарядами и револьверами. Произошло почпое сражение. Два человека были убиты, пятерых забастовщиков схватили полицейские. Шериф Бауэре набрал тысячу двести добровольцев, чтобы двигаться из Колорадо-Спрингс в Криппл-Крик и подавить волнения. Произошло еще одно сражение, во время которого шахтеры, укрывающиеся за камнями, обстреливали добровольцев из Колорадо-Спрингс. Добровольцы в общем замешательстве затеяли перестрелку между собой. Ополчец- ческие силы штата разоружили обе стороны. Стотридцатидпевпая забастовка шахтеров Криппл- Нрнк «самое ддительпое и ожесточенное из всех рабочих выступлений Америки того времени» - завершилась победой. Все шахтеры теперь стали работать по восемь часов па основе коллективного договора, подписанного союзом и предпринимателями. Благополучие восстановилось. Криппл-Крнк принес на 432 миллиона больше, чем Комсток, и почти четвертую часть от двух миллиардов, добытых в баснословно богатой Сьерра-Неваде. Боб Уомак в самом пачале следующего столетия был разбит параличом. Оп не поднимался с постели в пристройке, которую его сестра Лида сделала специально для пего. Редактор «Газетт» в Колорадо-Спрингс объявил о подписке в фонд помощи Бобу Уомаку, пытаясь собрать для пего 5000 долларов. Каждую неделю «Газетт» на первой странице печатала статьи о том, что Боб сделал для Колорадо-Спрингс: тридцать человек благодаря ему стало миллионерами, втрое увеличилось населепие города и цепы па землю, он превратил его из летнего курорта в богатый и известный па весь мир город. Кампания принесла всего 812 долларов. Редактор «Газетт» отказался от дальнейших попыток. Криппл-Крик был «последним из великих старательских лагерей девятнадцатого века с его бешеной активностью, быстро растущим населением и воинствующим индивидуализмом». Его золотом Колорадо воспользовался в двадцатом столетии, возводя университеты, больницы, железные дороги, города, туннели, способствуя развитию скотоводства, производству сахарного тростника, добыче нефти, курортпой и туристской индустрии. Современный историк пишет: «Колорадо - счастливая страна. Кроме того, это и богатая страна. Богатство дает ее народу здоровье, хорошее образование, досуг и оптимистическое отношение к жизпи. Богатство это проистекает из двух великих событий: открытия в 1878 году Лидвилла - величайшего в мире серебряного лагеря, и открытие в 1890 год\ Криппл-Крик - величайшего в мире лагеря золотоискателей». Если добавить к этому открытие в ущельях Джексона и Чикаго в 1859 году, Айдахо-Сприпгс и Калифорния Галч, Бакскип-Джой, Сентрал-Сити и Джорджтауна, Ка- рибу-Лоуд и россыпи Сан-Хуан подле Дель-Порте, Сил- вертон и Лейк-Сити, то получится сорокалетняя новеет! о непрерывном притоке золота и серебра в кровеносную систему Колорадо, который превратил дикий край в страну цветущей цивилизации. Боги были благожелательны к Колорадо.
Глава IV
Г. Л. У. Тейбор завершает свой жизненный цикл Боб Уомак никогда не был па гребне волпы своего золотого открытия. Приливная волна Г. А. У. Тейбора также пошла на убыль. Когда Уильям Дженнннгс Брайан гостил в Денвере, он предупредил ГЛУ о том, что на восточном денежном рынке сторонники золота полны желания прекратить чеканку серебряных монет. Экономисты пачииали жаловаться, что серебра теперь больше, чем грязи, и что остальной мир откажется признавать его в качестве средства обмена. На конгресс и правительство оказывали сильное давление и требовали отказа от покупки серебра для чеканки монет. Подобный акт конгресса мог бы понизить цену на серебро настолько, что добыча его стала бы нерентабельной. Горэйс А. У. Тейбор по обратил ни малейшего внимания на слова своего друга. Деловые люди Колорадо только что избрали его президентом денверской Торговой палаты и торгового совета, но мпеиию ГАУ, эта честь была данью Колорадо его выдающимся деловым талантам. Он продол- жал содержать Гранд-опера Тейбора в Денвере и Оперный театр Тейбора в Лидвилле, оба они требовали огромных расходов, паравне с «деловым кварталом Тейбора», который никак не окупал себя. Он вел веселую и беззаботную жизнь, проигрывая по ЗГ)00 долларов за одип приссст в покер, раздавая сотни тысяч долларов друзьям, лентяям или просто мошенникам, с которыми ему приходилось сталкиваться. Он содержал свой долг по-княжески, покупал меха, драгоценности, кареты, мебель, предметы искусства. Тейбор никогда не заботился об Оплате счетов, да и- кредиторы по настаивали на этом. Ведь миллионы его были общеизвестпым фактом. Во времена всеобщей папики и депрессии 1893 года 1. А. У. Тейбор покупает трехлетней Силвер Доллар за 900 долларов вышитую розочками сорочку и сделанные па заказ башмачки в дополнение к бриллиаптовым кулону и булавке. Он также сделал альбомы с портретами ребенка и надписью «Сильвер Доллар Тейбор» на переплете литыми золотыми буквами. Альбомы эти ценою 400 долларов каждый распределялись ГЛУ и Бэби Доу между друзьями в качестве сувениров. В августе 1893 года президент Кливленд созвал специальную сессию конгресса и потребовал отмспы акта Шер- мапа 1890 года о серебре и возвращения страны к золотому стандарту. В октябре конгресс отменил акт и исключил серебро из категории драгоценных металлов. Впервые с того момента, когда два немецких сапожника Хук и Рише застолбили заявку в «Литл-Питсбурге», Тей- бор пришел в ун?ас. Оп собрал свои многочисленные бумаги и отнес их к депверскому юристу. Юристу не потребовалось много времени для того, чтобы попять, что большинство миллионных капиталовложений ГАУ пе представляют никакой цеппости. С открытия «Матчлесс» в 1879 году и по настоящее время, по свидетельству бухгалтерских книг, ГАУ израсходовал 12 000 000 наличными деньгами, помимо капиталовложений в «квартал Тейбора», два театра и дом. С исключением серебряпых монет из обращения ему пришлось закрыть «Матчлесс», которая была постоянным источпиком его реальпых доходов. Оказалось, что у пего пет денег на жизпь. Теперь, когда он попал в затруднительное положепие, па пего набросились кредиторы с ие- оплачеппыми счетами. Счета эти были самыми настоящими, хотя ГАУ, всматриваясь в пих помутившимися глазами, пе мог припомнить и десятой доли всех этих покупок. Сумма неоплаченных счетов достигла миллиона. Потом появились партнеры по карточным играм с расписками на сотни тысяч. Пришлось продать «квартал Тейбора» для уплаты долгов поставщикам, затем - Оперпый театр Тейбора в Лид- вилле и расплатиться с долгами па приисках. Гранд-опера Тейбора в Денвере ушла па оплату выданных картежникам расписок. Теперь у дверей дома на Капитол-Хилл стояли длип- ные вереницы фургонов. Вывозилась драгоценная мебель, ковры и портьеры, предметы искусства, купленные по всему миру по фантастическим ценам. Вывезли все, кромо кроватей, стульев и столов. Потом был продан и дом. Г. А. У. Тейбор был разорен. У пего оставался только один резерв - драгоценности Бэби Доу. Оп пе хотел, он просто не мог попросить ее отказаться от них, ибо без этого семья Тейбор окончательно перешла бы в разряд бедпяков. Кроме того, Тейбора Мучил еще и страх. Он знал, что Бэби Доу стала его любовпицей именно потому, что он был самым богатым человеком Колорадо, что он поселил ее в роскошных апартаментах и дарил ей прекрасные наряды, кареты, драгоценности. Десятки раз за время их супружеской жизни опа благодарила его за то, что он спас ее от бедности. Он знал, о чем говорил теперь весь Дспвер с нескрываемым торжеством: однажды утром он обнаружит, что Бэби исчезла вместе с драгоценностями и вещами, которых ей с избытком хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Зачем ей нужен шестидесятипятилетний старик со слезящимися глазами, у которого гордость сломлена, а жить не на что? Бэби Доу всех их обманула. Прекраспая блондинка тридцати трех лет с мягчайшей кожей и сияющими глазами, жепщипа, которая легко пашла бы себе место в жизни, собрала все свои драгоценности и вообще цепные вещи и отдала их ГАУ, настаивая, чтобы он продал их и выполнил свои обязательства, как это и подобает порядочному человеку. Вскоре они совершенно вылетели в трубу. Семья Тейбор сняла маленький коттедж на боковой улочке, за 30 долларов в месяц. С поразительной быстротой они из миллионеров превратились в полунищих. Зачастую единственной едой их был суп из костей. Бэби Доу приходилось экономить гроши для покупки хлеба, опа по нескольку раз кипятила чайную заварку, а роскошные платья ей приходилось перекраивать и перешивать для дочерей. Она ни разу пе пожаловалась, пи разу не упрекпула ГАУ. Она не приходила в отчаяние от такого резкого поворота судьбы. Она не уставала •повторять ему, что он - величайший человек в Колорадо, что неудачи не способны сломить его и что в один прекрасный день он снова совершит открытие и новые миллионы позволят им вернуться в роскошный дом. ГАУ не мог высидеть в своем коттедже, не мог не переживать свое падение. По утрам он выходил из дому, отправлялся на городскую окраину и проводил там весь день, сидя с отсутствующим видом на камне и глядя вдаль. С наступлением темноты он плелся домой. Аугуста могла бы оказать ему помощь. Она была богатой женщиной, умно помещала свои деньги и теперь уже вела счет на миллионы. Но Аугуста была озлоблена. Она продала великолепный дом, который ГАУ когда-то купил для них, перебралась в Пасадену, штат Калифорния, и вскоре после этого умерла. Все ее имущество перешло к сыну. Макси вначале, по-видимому, пытался помочь отцу, но вскоре исчез и больше никогда не виделся с ним. Пи один человек в Колорадо из тех, кто должен был ГАУ деньги, из тех, кто брал у него по сотне или по десять тысяч или просто жил в тени его славы все эти годы, не попытался вернуть ему долг. ГАУ был слишком горд для того, чтобы спрашивать с них деньги, а возможно, он понимал, что это было бесполезно. По Денверу расхаживали богатые люди, которые многие годы считались его друзьями, многие из пих были миллионерами. Но они не спешили ему па помощь. Когда Тейборы дошли до самой глубипы падения, когда у них уже не оставалось и пятицептовой монеты для покупки пищи, Бэби Доу пашла паруальбомов, заказанных к дню рождения Сильвер Доллар, сорвала с них золотые буквы, смяла их таким образом, чтобы нельзя было разобрать имя, и отдала ГАУ, чтобы тот обменял на деньги. Только однажды пробудился ГАУ от летаргии. Он при- помпил вдруг, что в Боулдере, к северу от. Денвера, у него имеется заявка. В этом районе золота пе находили, однако ГАУ, собрав снаряжение старателя, отправился в Боулдер, снял куртку и принялся за работу. Он копал два месяца до полного изнеможения. Но золота не было. Окончательно вымотавшись, утратив последний шанс, ГАУ бросил свои инструменты и побрел обратно в Денвер. Бэби Доу была дома с дочерьми. Она сама готовила еду, обшивала детей, мыла пол. Теперь ГАУ не был таким гордым, как прежде. Он отправился в «Палас-отель» Браупа, где сидела большая компания его богатых друзей, и быстро прошел через вестибюль, опасаясь, что его остановят и выгонят как бродягу. В фойе он увидел расположившуюся кружком группу шахтовладельцев. Он знал каждого из них: они были его близкими друзьями все эти годы. Человек, которого он выбрал, чтобы обратиться с просьбой, был Уинфилд Скотт Стрэттон, человек щедрый. Надежда вспыхнула в сердце ГАУ - старик Стрэттон не откажет ему. Он прошептал, наклонившись над плечом Стрэттона: «Не одолжите ли мне сотню?» Стрэттон отмахнулся от склоненного над его плечом лица и, пе глядя, холодно бросил: «Проваливай!» ГАУ кинулся прочь от отеля и, спотыкаясь, побежал по улице, не вытирая катящихся по лицу слез. Стрэттоп спросил, что это за тип только что просил у него депег. «Это был сенатор Тейбор», - ответил кто-то из его друзей. «Что? - воскликнул Стрэттон. - Тейбор просил сотшо?» Он вскочил и побежал по улице вдогонку за ГАУ. Оп извинился перед Тейбором, об?ьяспил, что пе узнал его, вытащил из кармапа пачку долларов в пятьсот, супул их в руку ГАУ, а потом спросил: «Тейбор, а пе хотите ли вы стать почтмейстером Дспвера? Я могу заставить сенатора Уолкотта получить для вас этот пост у президента Мак- Кипли». ГАУ сердито ответил: «Я пожертвовал городу участок, па котором стоит почтовая контора». «Помшо, помшо, - сказал Стрэттон, - но хотите ли вы быть почтмейстером?» 13 япваря 1898 года ГАУ стал почтмейстером Депвера. Он переселил Бэби Доу и двух девочек из коттеджа в «Уиндзор-отель». Жалованье его составляло 3500 долларов в год. Оп решил стать хорошим почтмейстером, лучшим, чем в Оро-Сити, где была Аугуста, выполнявшая эти обязанности. На работе он появлялся в девять часов утра и уходил позже последнего клерка. Оп приносил с собой па работу завтрак, а если выпивал что-либо, то это неизменно было пиво. Он хорошо относился к подчиненным, по и следил за тем, чтобы почта работала безукоризпенно. Как ни смешпо это звучит, по тут Г. А. У. Тейбор впервые добился эффективности. Только однажды Бэби Доу позволила себе пожаловаться - опа очень любила театр и была огорчена тем, что теперь они не могут позволить себе покупку билетов в Гранд-опера Тейбора. ГАУ дожил до конца столетия. В апреле 1899 года, прогуливаясь, он зашел в Грапд-опсра Тейбора и стоял там, глядя па свой портрет, который повые владельцы сохранили па стене. Впезаппо острая боль пронзила его. Кое-как оп добрался до дома. У него лопнул аппендикс. Умирая, оп сказал Бэби Доу: «Что бы ни случилось, держись «Матчлесс». Опа вернет тебе все, что я потерял».НиЧто по возвращает человека па родину так, как смерть. Весь Колорадо пришел на похороны. Тело было выставлено в губернаторском зале в Капитолии, в почетном карауле стояли ополченцы штата, а тысячи людей проходили мимо, чтобы бросить на пего последний взгляд. Флаги были приспущены, телеграммы и письма с выражением сочувствия приходили Бэби Доу от высокопостав- леппых лиц. Лидвилл прислал букет в виде шестифутового рога изобилия - многозначительный подарок: ГАУ был рогом изобилия для Лидвилла. Похороны превратились в торжественную процессию с четырьмя духовыми оркестрами, полицией и марширующими пожарными. За гробом шла большая часть Денвера. На кладбище Бэби Доу зарылась лицом в груды цветов, покрывающих гроб, и плакала. Плакала она в последний раз. Промаявшись в Денвере три года, она с девочками перебралась в Лидвилл на шахту «Матчлесс». Они поселились в брошенной инструменталке с выбитыми стеклами, страдая зимой от мучительного холода. Когда у них окончательно кончились деньги, Бэби Доу стала одеваться сама и одевать своих девочек в выброшенное шахтерами тряпье. Она ходила в старой рубашке, бесформенной черной одежде, мужском пальто, которое почыо служило ей одеялом. Целыми годами она пыталась отстоять «Матчлесс», откачивать воду, поддерживать машины хоть в сколько-нибудь рабочем состоянии. Она охраняла свое имущество с ружьем в руках, отгоняя тех, кто пытался нарушить ее права. Бэби Доу еще долго жила и в двадцатом столетии. Она никогда не выезжала из Лидвилла, серебряные рудники которого стояли заброшенными, за исключением редких наездов в Денвер, где она предпринимала попытки добыть денег для эксплуатации «Матчлесс». В своем полумужском наряде, в грубых черных чулках, гармошкой спускающихся на рабочие ботинки, и в шапке мотоциклиста, низко надвинутой на лоб, опа стала призраком этого города- нризрака. Бэби Доу умерла па руднике «Матчлесс», где она тридцать лет храпила верность Горэйсу Тейбору и его пос леднему завету: «Держись «Матчлесс». Она вернет тебе псе, что я потерял».
Единственным, чего оп так и не потерял, была любовь Бэби Доу• Лидвилл и Бэби Доу Тейбор вошли неотъемлемой частью в яркую и бурную юность Колорадо.
Глава V
Для мормонов наступает Судный день ' С января 1879 года Верховный суд Соединенных Штатов'вынес решение но делу Рейнольдса, которое мормоны так стремились выиграть в этой высшей судебной инстанции. И решение это явилось признанием того, что принятый в 1862 году закон, направленный против полигамии, соответствует конституции. Элиза Сноу - мормонская поэтесса - не думала о рифмах, восклицая: «Увы, теперь нам следует заклеймить как проституток тысячи любящих и честных жен, а потомство их объявить незаконнорожденным…» Но через три месяца в деле о полигамии Майлса мор- мопы одержали такую победу, что, казалось, она свела на пет решение Верховного суда. Керри Оуэне, первая жена Джона Майлса, выступила с заявлением о том, что ее выманили из родного дома в Англии, привезли в Юту и «подвергли страппой и неестественной церемонии совместно с двумя другими жепщипами», паспльно притащили в дом Аугуста Кэннопа «и там подвергли насилию во имя религии». Мэр Дэпнэл Уэллс, вызванный в качестве свидетеля для дачи показаний о женитьбе Майлса па полигамной жене Эмилии Спенсер, отказался давать их относительно этого брака или каких-либо иных тайных обрядов, совершаемых в молитвен пом доме. Когда ему пригрозили ответственностью за неуважение к суду, мэр Уэллс воскликнул: «Моим жизпеппым принципом является не продавать моих друзей, мою религию и моего бога!» В наказание Уэллса присудили к двум дням тюремпого заключения. Когда его выпустили, мормопы устроили ему торжественную встречу, во время которой Уэллс епдел вместе с призидептом Джоном Тэйлором в открытом экипаже, запряженном четверкой белых лошадей. Майлс в судебном заседании под председательством судьи-немормона был признан виновным в полигамии и осужден па пять лет тюремного заключения. Одпако Вер- ховпый суд Соединенных Штатов отмепил приговор па том основании, что единственным доказаппым браком был брак Майлса с Керри Оуэпс и что последняя, будучи жепой, пе может давать показания против своего мужа. Это была самая настоящая победа: закон не мог принудить мормона раскрывать секреты своей религии. Потерпев поражение па фронте борьбы с полигамией, федеральные власти в Юте попытались обвинить церковь в убийстве и привлекли к суду доктора Питера Клинтона и командира ютского ополчения Роберта Бэртона, которые были ответственны за морриситскую историю, происшедшую пятнадцать лет назад. Присяжные, набранные из мормонов и пемормонов, вынесли оправдательный вердикт и тому и другому; единственное, чего сумело добиться обвинение этим процессом, было то, что все газеты страны пестрели обвинениями в жестокости и убийствах в адрес мормонской церкви. Тридцать лет вся страпа пе уставала изумляться тому единодушию, которое мормоны проявляли па каждых выборах. Иноверцам в Юте удалось раскрыть этот секрет, Который они пазвали «системой шпионских бюллетеней»: на каждом избирательном бюллетене проставлялся помор, соответствующий порядковому помору в списках избирателей. Таким образом, церковные власти всегда имели возможность проверить, кто и за кого голосовал. То, что ранее именовалось церковной дисциплиной, теперь характеризовалось как церковный террор: пикто из мормонов не осмеливался парушить инструкцию церкви из страха перед репрессиями. Значительная часть страны восприняла «шпионские бюллетени» как подтверждение выдвигаемых против мормонов обвинений в том, что мормонство представляет собой комбипацию церкви и государства. В ответ на это законодательные органы, целиком состоящие из мормонов, тут же запретили нумерацию бюллетеней. Одновременно с этим они резко усилили ограничения для получения прав на жительство среди предполагаемых избирателей, снизив тем самым число иноверцев, имеющих право голоса, что вызвало возмущенные вопли либеральной партии.Государственный секретарь в правительстве президента Хейеса попросил правительства Англии, Германии н Скандинавских стран запретить обращенным в мормонскую веру выезд в Америку на том основании, что по приезде в Юту опи вступят в полигамные браки и тем самым нарушат действующие в Соединенных Штатах законы. Лондонская «Тайме» задавала но этому поводу вопрос: «Каким образом мы можем ограничивать свободу мужчин и женщин, которые не нарушали никакого закона?» В 1880 году мормоны избрали президентом семидесяти- двухлетпего Джона Тэйлора, англичанина но рождению, обращеппого в мормонскую веру Парли Праттом в Канаде. Он стал апостолом в 1838 году, организовывал Мормонский батальон па Зимпих квартирах и занимался миссионерской деятельностью в Англии, Фрапции и Германии, издавая там церковные газеты. Тэйлор был хорошо сложенным человеком, более шести футов роста, с массивной головой и глубоко сидящими серыми глазами. Цельность и постоянство нового президента церкви мормопов привели к тому, что полигамия и церковь-государство стали больным вопросом для Америки того времени. Новым губернатором Юты стал Эли Мюррей, юрист, который во время Гражданской войны доел}. лился до чипа бригадного геперала, а потом был песколько лет начальником федеральной полиции в Кептукки. Мормоиы узпали, что в речи Четвертого июля, обращаясь к пемормонам, он сказал: «Дерево свободы содержит в себе достаточно материала для досок, из которых можно сколотить эшафоты и гробы для тех, кто предательскими методами пытается нарушить нашу конституцию и наше писапое право». Ютская шайка и издаваемая в Солт-Лейке ч«Трпбюп» ежедневпо печатали новую порцию обвинепий, которую потом подхватывала пресса всей страны. Книги, осуждающие мормонство, писались авторамп, которые никогда пе бывали.в Юте; зажигательпые памфлеты бесплатно распространялись десятитысячными тиражами. По всей стране возникали группы противниц полигамии. Епископальная, пресвитерианская и методистская церкви па своих национальных собраниях и в выпускаемых ими брошюрах авторитетно заявляли, что «мормонство - это смесь дьявольства, анимализма и магометанства…» Мормоны избрали своего представителя В конгресс - Джорджа Кэннона, у которого, по слухам, было четыре жены. Губернатор Мюррей отказался утвердить избрание Кэппона па том основании, что он якобы не имеет прав гражданства, и направил в Вашингтон провалившегося па выборах кандидата от либеральной партии. Кэнпоп приехал в Вашингтон и весьма красноречиво изложил свое дело палате представителей; однако образ человека, у которого четыре жены, оказался выше понимания конгрессменов. В конгресс Кэннон допущен не был. Вся страна смертельно устала от этих непрекращающихся ссор. Ее интересовали две совершенно реальные проблемы: как раздавить полигамию и каким образом Юте добиться прав штата? Закон Эдмундса был принят 13 марта 1882 года. Закон этот был суровым, но в нем все же содержалась попытка защитить невиновных. Дети, рожденные от полигамных браков до 1 января 1883 года, то есть зачатые до принятия этого закона, признавались законнорожденными. Мормоны, которые вступили в брак до принятия этого закона, амнистировались при условии явки в федеральный суд с публичным заявлением о своих браках. Однако последующие полигамные браки, а также жизнь с полигамной семьей считались отныне преступлением, наказуемым пятилетним тюремным заключением. Впервые па борьбу с мормонством выделялись достаточные средства для оплаты судебных исполнителей при федеральных органах власти, в обязанности которых входило выслеживапие полигамных семей, сбор доказательств их совместпох-о проживания и представление доказательств в суды. Мормоны, исповедующие закопность полигамного брака, не допускались в состав присяжпых заседателей. Хотя в законе Эдмундса об этом пе было сказано пи слова, мормонов заверяли со всех сторон, что в обмен на согласие с этим законом и отказ от полигамии им в ближайшее время предоставят права штата. Церковь не поверила в то, что у федерального правительства найдется достаточно средств или сил для расправы с полигамией. Президент Джон Тейлор спокойно объявил своей конгрегации в апреле: «Давайте относиться к этой буре точно так же, как мы отнеслись к метели на пути сюда этим утром: подымем повыше воротники, поплотнее запахнемся и будем ждать, когда буря утихнет».
У федеральных органон власти и их представителей уш'го порядочно времени на то, чтобы привести механизм в действие, ибо задача, стоявшая перед ними, была огромных масштабов. Все отчеты о полигампых браках хранились в молитвеппом доме. Свидетели брачпых церемоний обязывались хранить тайну. Судебные исполнители и полицейские чиновники имели очень мало источников информации: враждебно настроенных иповерцев, мормонов-отступников или мормонов, которые поссорились с теми, чьи дела расследуются. Кроме того, им приходилось скрупулезно изо дня в день следить за каяедым подозреваемым, для того чтобы получить доказательства, кто именно является женами этого подозреваемого, где находятся его дети и какие имепно дома он содержит. Так прошло около года. В 1883 году начались первые процессы. Поскольку мормопы были уверепы в том, что федеральному правительству для установления незаконного сожительства необходимо было доказать наличие половой связи, берсмеппых женщин, подозреваемых в полигамном браке, вызывали в суд и ставили перед выбором - выдать своих мужей властям или публичпо заявить, что не знают, кто является отцом их будущего ребенка, что само по себе было моральной травмой. Отказ от дачи показаний приводил к обвинению в неуважении к суду. Федеральным судьям неприятпо было отправлять беременных жепщип в тюрьму, по закон пунктуально выполнялся хотя бы уже ради того, чтобы доказать мормопам, что все дети, которые роя;даются теперь в полигампых семьях, считаются незаконнорожденными. Одна пз женщин, осужденная за пеуважепие к суду, разрешилась от бремени в тюремной камере на второй депь после заключения. ???? 577 По мерс того как трудность сбора даказатсльств такого рода становилась очевидной, министерство юстиции в Вашипгтоне принимало соответствующие меры. Были увеличены депежпые фонды для пайма большего числа полицейских ипепекторов и судебных исполнителей для работы в Юте. Судам было разъяспепо, что доказательство наличия половой связи не обязательно для изобличения преступников, что для вынесения обвинительного приговора достаточно, «если мужчина по всем внешним признакам живет или пребывает в связи более чем с одной женщиной в качестве жены». Присяжным разъяснили, что Для вынесения обвинительного вердикта им совсем по 37 Зак. М5 1463
требуется убеждаться в наличии «постоянной» связи с женой полигамного брака; подсудимый может быть признан виповным, если он связан с такой женой хотя бы педелю. Теперь полицейские инспектора получили возможность добывать доказательства и с уверенностью предъявлять их суду, а судьи - выносить обвинительные приговоры, чем они широко пользовались. В 1884 году мормоны, состоящие в полигамных браках, начали попадать в тюрьмы для отбытия пятилетнего срока заключения. Жены их оставались без всяких средств для содержания себя и своих детей. Фермы арестоваппых приходили в запустение, а дела - в полный упадок; даже первые жены с их детьми, которых оставляли в качестве законных владелиц имущества их мужей, попадали в бедственное положение. Только теперь мормоны впервые начали испытывать пастоящий страх, наблюдая за тем, как все большее число их соседей оказывается осужденными. По всей Юте распространилось убеждение, что федеральному правительству удалось изыскать методы, при помощи которых полигамия окажется объявленной вне закона. Роберте восклицал, что «за жертвами охотились как за преступниками, а аресты их сопровождались бессмысленными жестоко- стями». Церковь возмущенно заявляла, что ловля сторонников многоженства стала самым доходным делом в Юте, поскольку инспекторам выплачивали по двадцать долларов за каждого арестованного. Мормоны были также возмущены друг другом, утверждая, что они сами наносят церкви огромный ущерб, сплетничая, упоминая имена и поставляя улики в руки федеральных властей. Мормоны протестовали против «ненавистной системы шпионажа»: полицейские инспектора выдавали себя за торговцев или туристов, пытаясь приникнуть в мормонские дома, и добывали улики, провоцируя ссоры между семьями. Опи обвиняли инспекторов в том, что те выпытывали у детей сведения об их родителях, когда дети возвращались домой из школ, заглядывали в окна спален по ночам, врывались в дома, взламывая двери топорами, захватывали беременных женщин и тащили их в другой город, где им предъявлялись обвинения. Мормоны чувствовали себя так, как будто вражеская армия из инспекторов оккупировала Юту.
В ответ на эти обвинения инспектора отвечали тем, что ни разу по делам о полигамии не было вынесено несправедливого приговора. Мормоны пе отрицали этого, но жаловались на то, что терроризируется поголовпо все население и невинные страдают паравпе с виновными. В 1884 году всем стало ясно, что от всеведущих полицейских инспекторов пет спасения: они были в каждом городе, в каждом местечке и в каждом селепии; у них имелись списки всех подозреваемых в полигамии мужчин, имеющих по нескольку домов с семьями; у пих были списки детей, рожденных от разных жен; они знали не только, в каком доме живет каждая из жен, но и в какой спальне она почует. Нелли Уайт, учительпица музыки пз Солт-Лейка, которая жила в доме епископа Джереда Раупди под видом жилицы, была арестована как его жепа, состоящая с пим в полигамном браке. За отказ от дачи показапий се отправили в тюрьму. Инспектора установили круглосуточное наблюдение за домом миссис Сюзеп Смит, охотясь за Лидией Спенсер, которая жила в этом доме и относительно которой у пих были доказательства того, что она состоит в полигамном браке. Лидия Спепсер исчезла па несколько1 дней, но, вернувшись домой, была тут же арестована. Роджер Клаусов был арестовал в качестве ее мужа. Оп открыто призпал, что опа является одпой из его жеп, но отказался признать себя виновным. Его присудили к штрафу в 800 долларов и к тюремному заключению нক пять лет. В Вивере женщина по имени Джейн, которая являлась четвертой женой, была схвачена в доме своей матери, куда она приехала для первых родов. Инспектор и его помощник вошли в дом в одиннадцать часов вечера и освещали фонарем лица спящих мормопов, пока пе пашли Джейн. Джейн и се муж, спавшие в сарае, были доставлены в суд. Случалось, что удавалось и провести инспекторов; однажды целый отряд их подъехал к двери епископа Клаусо- на с ордером на арест миссис Клаусон, одпако епископ отказался открыть дверь и впустить их в дом. Брат миссис Клаусон, переодетый в платье сестры вышел через задпюю дверь, инспекторы заметили его и бросились в долгую и безрезультатную погоню. ???? 37» В феврале 1885 года президепт Тэйлор перешел жить в укрытие. Большое число апостолов, епископов и прези-
579
делтов общин наравне с другими занимающими высокие посты лицами покипули свои дома и начали жить на тайных квартирах. Теперь церковь не имела своего главы в Солт-Лейке, к ней поступали только бумаги и инструкции от президента Тэйлора и советников, живущих в подполье. Вся страна встретила этот уход в подполье насмешками, пресса изощрялась в остроумии по поводу скрывающихся «беглых пастырей». Мормоны оправдывали действия своих вождей ссылками на Священное писание и подчеркивали, что они не бежали, а скрылись. Опи говорили: «Моисей бежал перед лицом фараона, Самуил-пророк прятался, Давид, помазанник божий, бежал, даже Иисус пе стремился понести кару». Пятьсот долларов было обещапо в награду тому, кто поможет аресту Джорджа Кэннона. По пути в Сан-Франциско Кэнноп был задержап шерифом в Неваде. Ипспек- тор из Юты отправился в Неваду, арестовал Кэпнопа и посадил его на поезд для доставки в Солт-Лейк и предания суду. Ранним утром, когда поезд подходил к Промонтори, Кэппон вышел из спального вагона на площадку и, как утверждают мормоны, «потерял равновесие и упал с поезда, который шел со скоростью двенадцать миль в час. Конечно, сразу же была распространена абсурдная версия о том, что он пытался бежать». Кэннону пришлось продолжить свое путешествие в Солт-Лейк под охраной солдат с заряженными ружьями. Сразу же после прибытия он в качестве арестованного был препровожден в суд третьего участка. Залог за пего был назначен в сумме сорока пяти тысяч долларов, которые он внес, а затем совершил новый побег. Лишь через два года он был схвачен и отнравлеп в тюрьму. Метод «сегрегации» - новый принцип, по которому повипные в полигамии осуждались по каждому из правонарушений, - впервые был опробован в деле Лоренцо Сноу, который был осужден па три срока за каждую из жен и тринеды получил максимальпый срок наказания. Это явилось новым сокрушительным ударом по духовным силам мормонов. Высказывалось и сочувствие к преследуемым, однако по мере того, как охота распаляла чувства, выражепия их с обеих сторон принимали все более резкие формы. В Солт-Лейке получили широкое распространение «грязные горшки» - пивные кружки вместимостью в кварту, полненные человеческими экскрементами, которыми забрасывали дом Уильяма Мак-Кея - комиссара Соединенных Штатов. Четвертого июля 1886 года вместо празднования Дня Независимости мормонские официальные власти приспустили флаги, ибо, как опи объяснили, «это день траура для мормонов». Джозеф Мак-Муррин, ночной сторож при конторе по сбору церковной десятины, был смертельно ранеп в живот судебным исполнителем Соединенных Штатов Гспри Кол- лином, который вел дело его отца. Коллин утверждал, что Мак-Муррин первым выстрелил в пего. По петиции немормонов на имя президента Гроувера Кливленда из Омахи была прислана артиллерийская батарея и новые воинские части, а также воеипая полиция для поддержапия порядка в Солт-Лейке. К концу 1885 года несколько сот мормонов сидело в тюрьмах. Попытки мужей, состоящих в полигамных браках, остаться в своих домах, работать па своей земле, остаться на своем рабочем месте все чаще оказывались обреченными на неудачу. Мормоны подошли к своему Судному дшо.Глава VI
Юта - сорок пятый штат В условиях, когда судебпые чиновники и полиция прочесывали каждый населенный пункт, мормоны создали подполье, которое они сравнивали с подпольными организациями эмапсииаптов. Были разработаны шифры, которыми отдаленные фермы и мелкие поселения обозначались буквами или символами. Гоццы сновали между укрытиями я церковью в Солт-Лейке, доставляя инструкции и приказы, а также последние новости. Имелись укрытия в долинах, куда вел одии-единствеиный вход; днем и ночью стояли часовые, за каждым инспектором и полицейским устанавливалась слежка и тщательное наблюдение за всеми проводимыми ими расследованиями; тайно пересылались вести, предупреждающие об их приближеиии. Железно- дорожгшки настолько хорошо были организованы, что если инспектор или полицейский садился в поезд, то люди, состоящие в полигамных браках, успевали скрыться до того, как поезд прибывал к стапции назначения. В 1885 году начальник полиции Эдвин Айирлэнд жаловался генеральной прокуратуре в Вашингтоне, что «шерифы графств, их помощники и вообще вся полиция в мормонских городах занимаются тем, что следят за передвижениями федеральных чиновников и тайно оказывают помощь преступникам и свидетелям в укрывательстве». Он докладывал, что «его помощники окружены шпионами, мормоны им отказывают в жилье и ночлеге, им приходится ходить парами, опасаясь физической расправы». В 1885 и 1886 годах части мормонов удавалось переводить своих детей и жен из одного укрытия в другое, успевая сделать это до появления полиции и судебных исполнителей. Другой части удавалось отправлять своих жен в мелкие мормонские поселения, где опи были в безопасности, если только «отдельные лица там не имели конфликтов с церковью или данной семьей и пе становились доносчиками». Джордж Мак-Кей поселил по одной из своих жен с ее детьми па нескольких ранчо, где все они, за! исключением его первой жены, жили под вымышленными именами. Многим из жен приходилось бросать мужа и детей и уезжать в какой-нибудь чужой город, поступать там на работу и жить в полном одиночестве. Храм в Сеит-Джорже, в который запрещался вход не- мормопам, служил прибежищем нескольким скрывающимся. Третья жена Адама Уиптропа, которая скрывалась здесь же, готовила для них пищу. Когда замечали, что в город направляются шерифы с помощниками, звонили в церковный колокол, и это было сигналом прятаться в укрытия. Беглецы разбегались по всей округе, предупреждая каждый дом и ферму на целые мили вокруг о приближающейся опасности. Мормопские мужчины обрезали бороды и усы, красили волосы и ходили от одпого селения к другому, торгуя под чужими именами кпнгами и всякой мелочью. Жизнь в подполье была особенно тяжела для женщин и детей. Алис, вторая жена Джорджа Йстса, которая второго своего ребенка родила, будучи в бегах, говорила: «У мепя никогда не было места, где я могла бы приклонить Голову или назвать своим». Эмори Фейрчайлд потерял пятерых детей, потому что его женам приходилось скрываться и роды у них проходили без помощи врача или акушерки. Вторая жена Сэмюэла Сиолдипга рассказывает: «При родах единственную помощь мпе оказывала первая Она не была акушеркой, но только она одна, могла гКСПЙ ь мне врачебную помощь: ведь мы боялись, что об этоммогут узнать другие. Когда ребенок начинал плакать, мне приходилось каждый раз начинать кормить его и прикрывать ему голову. Г1о ночам я лежала в тесной клетушке и старалась не дать ребенку заплакать». Дочь Стенли Уинтерса пишет: «Мы переходили с места на место; как только люди узнавали, кто мы такие, мать отправлялась в путь. Мы посещали церковь и школу, по нам не разрешали играть с другими детьми из страха, что мы себя выдадим. Мать подрабатывала стиркой» Дочь Эдварда Джилберта свидетельствует: «Полицейские иногда приходили в три часа ночи и обыскивали дом… Мы никогда не зпали, где находится наш отец, чтобы, если полиция начнет спрашивать, мы не могли бы им сказать». Сначала жены говорили, что опи твердо будут стоять за свои законпые и религиозные права, но потом одпа из матерей в отчаянии призналась: «Если преследователи нападут? на меня, я сделаю то же самое, что и остальные несчастные мормонки: схвачу ребенка и убегу с пим в поля, в горы, буду спать на земле, под кустом, где угодно, и забуду обо всем своем хвастовстве». Дети полигамных браков были лишены постоянного дома. Им не разрешалось разговаривать с кем-нибудь, называть своих настоящих имен, говорить, откуда они пришли. Им пе разрешали играть с другими детьми из боязни, что они могут выдать тайну; и они никогда пе знали, когда им снова придется бежать в еще один чужой город, дом или сарай. С отцами опи виделись всего какой- нибудь часок, да и то ночыо, раз в несколько месяцев. Они жили в бедности, ибо заботы о средствах к существованию полностью лежали на их матерях. Не было никаких церковных фондов, которыми они могли бы воспользоваться. Постепенно дети стали осознавать, что они повинны в каком-то преступлении. Возможно, что самым тяжким бременем для них было отношение других мормонов, пе состоявших в полигамных браках, по мере того как все больше и больше сторонников полигамии оказывалось в тюрьме. Им казалось, что опи хуже детей других мормонов, что они - незаконнорожденные и клеймо это останется па пих на всю жизнь. Во многих мормонских поселениях дети от полигамных браков были па положении париев. Дочь второй жеиы Джона Вэнса рассказывала, что все дети от нолигамных браков были иа «том же положении, что и все остальные дети… пока не начались облавы». После этого с ними зачастую плохо обращалась первая жена и ее дети, поскольку только они имели законн право носить имя своего отца. Дети от полигамных браков начипали ненавидеть своих отцов за то, что они принесли им несчастье. Если же отец к тому же оказывался арестованным или в тюрьме, это отнюдь не облегчало их участи. Часть сторонников полигамии, особенно из наиболее¦ экономически обеспеченной верхушки, желая избежать ареста, отправлялась в длительные поездки в Европу. Наиболее богатые мормоны отправляли своих жен в Мексику, на Гавайские острова или в соседние штаты. Жизнь в укрытии не всегда была горька; рассказывая о ранчо, па котором находился президент Джоп Тэйлор, говорят о мужчинах, проводивших время за метапнем колец, и о хороших субботних трапезах. Однако время работало на федеральных чиновников. С каждым днем накапливалось все больше доказательств против оставшихся жеп, прослеживались пути передвижения каждой из них. Понемногу все укрытия раскрывались и становились бесполезными. Не было пи одного города, в котором не проводились бы регулярные облавы и обыски. Мормонские семьи, состоящие в моногамном браке, начали возмущаться тем, что происходит с пими из-за того, что в их среде сторонники полигамии: деловая жизпь была нарушена, никого не оставляют в покое. Многие призпавали, что если в прежние годы полигамию поддерживали и практиковали в соответствии с провозглашенным принципом, то позднее в новые браки вступали про*- сто потому, что влюблялись в более молодых или более привлекательных женщин. Все чаще стали раздаваться требования отказаться от полигамии. Стали говорить, что если бы принцип полигамии был писпослап им господом, то они не подвергались бы столь длительным и тяжелым преследованиям за выполнение божественного указания: полигамия потерпела поражение, и, чем скорее с ней по- копчить, тем легче будет для всех заинтересованных. Третья жена Джона Вебера рассказывала, как в чисто мормонском поселении кто-то донес помощникам шерифа, что ее муж «всегда засветло приходит домой, чтобы папо- своих мулов». Первые жепы, которые не смогли нре- Еозмочь чувства ревности или обиды, когда мужья их брали себе новых жен, теперь доносили о местах укрытия полигамных семей. Первая жепа Джозефа Кейри донесла па своего мужа, в результате чего ему пришлось бежать в Мексику. И все-таки оставалось достаточное число верных и предаппых первых жен, настолько фапатически преданных своим мужьям, что опи готовы были скакать верхом всю ночь по совсршспно незнакомой местности, чтобы предупредить их о грозящей опасности, хотя опи паходились в укрытии вместе со второй или третьей жепой. Были среди мужчип и истинные мученики, как, папри- мер, человек, который трижды отбывал тюремное заключение, по, когда его снова спросили на суде, отказывается ли оп от своей полигампой семьи, ответил судье: «Нет, сэр, жепщнпы эти дапы мне богом. Это мои жены и мои дети». Но все чаще попадались и такие, которые говорили, подобно Джонатану Бейкеру: «Я посещал свой дом тайком по почам, не рискуя показываться при дневном свете. Очень тяжело сознавать, что за тобой охотятся, как за диким зверем или преступником». Ричард Филд, проведший в подполье четыре года, за время которых ферма его пришла в полное запустение, а дом - предмет его гордости и радости - начал разрушаться из-за недосмотра, заявил, что он «пе может больше так жить». Филд отправился в Огден со своей первой жепой и отдался в руки властям. Оп был оштрафован, но в тюрьму его не отправили; после этого оп вернулся в свой дом, где его держали под гласным надзором, желая удостовериться, что он больше пе поддерживает отпошепий со своими второй и третьей женами. Другие мужчины, устав от преследований и видя, что с Филдом не происходит ппчего страшного, тоже стали сдаваться властям, уплачивали штраф и возвращались к своим первым семьям. Правительство Соединенных Штатов было крайне недовольно результатами этой необъявленной войны, происходящей в Юте. Губернатор и судьи утверждали, что церковь мормонов все еще продолжает совершать полигамные брачные церемонии, что от этих браков все еще продолжают рождаться дети и что множество сторонников полигамии, возможно в несколько раз превосходящее число привлеченных к суду, свободно разгуливает по Юте. Не увенчались успехом и попытки конгресса сломить цер- копно-государственную организацию. Комиссия по!Ото никак не могла совладать с контролем церкви над территориальными законодательными органами или советами городов. Церковь была богатой: в ее распоряжении имелось более миллиона долларов, а кроме того, существовал еще и иммиграционный фонд, помогавший притоку новых мормонов в Юту. В феврале 1887 года в дополнение к закону Эдмундса конгресс припял билль Здмундса-?Таккера. Новый закон еще более упростил процедуру судопроизводства о полигамии, лишил женщип в Юте юлоса, запретил Легиоп Нау- ву и ввел обязательное приведение к присяге с осуждением полигамии в качестве необходимого условия для участия в голосовании па любых выборах. Но что более важно, закон Эдмундса - Танкера распускал мормонскую церковь как корпоративную организацию, запрещал сбор средств для иммигрантского фонда и конфисковывал все имущество мормонской церкви, за исключением церковных здапий и кладбищ, ипыми словами, отбирал у мормоп- ской церкви все се достояние: бапковские счета, акции и цепные бумаги, недвижимую собственность и все другие виды ее богатства, передавая их под контроль федерального правительства. Вплоть до принятия закона Эдмупдса - Таккера мормонская церковь еще настоятельно рекомендовала своей пастве крепко держаться принципа церкви и стараться не попадаться па глаза полицейским и шерифам. Е5ысокие чины церкви были уверены, что в конце концов они победят федеральное правительство. 5 апреля 1886 года находящийся в укрытии президент Джоп Тэйлор заявил: «Судебные процессы над мормонами в судах - это не суды над пошлыми преступниками, а самое настоящее религиозное преследование… И хотя война ведется под лозуп- гом борьбы с полигамией, главной ее целью является лишение мормонов всех политических йрав». Церкви был нанесен смертельный удар. Мормоны предприняли множество различных шагов, чтобы помешать проведению в жизнь закона Эдмундса- Таккера. Церковная корпорация была раснущепа и реорганизована снова в форме мпожества мелких корпораций, каждая со своим имуществом, управляемых доверенным лицом из числа мормонов. Впервые «святые» не сумели выдвипуть па выборах список делегатов, состоящий ис- очительно из членов своей партии. Они объединились с либеральной партией, внеся в единый список одного своего старейшину и трех советников-пемормонов. Единый список победил на выборах, получив вдвое больше голосов, чем его противники. Однако уловка, к которой прибегли в надежде спасти имущество и церковные фонды, была объявлена верховным судом Юты противоречащей конституции. Решение это было поддержано Верховным судом Соединенных Штатов, который объявил, что закон Эдмундса - Такке- ра целиком и полностью соответствует конституции. Федеральное правительство издало распоряжение о том, что, поскольку корпорация мормонской церкви распущена и не имеется какой-либо мормонской организации, которая на законных основаниях могла бы владеть имуществом, оно будет использовано правительством Соединенных Штатов для благотворительности и просвещения. Без соответствующих фондов иммиграция мормонов застопорилась. Члены церковной иерархии, которые находились в Канаде, на Гавайских островах, в Англии или Европе, обнаружили, что приток денег прекратился, и были вынуждены возвратиться домой. Лица, содержащие тайные квартиры в Юте, вскоре обнаружили, что укрытия эти им приходится содержать на собственный счет. После того, как Верховный суд Соединенных Штатов поддержал закон Эдмундса - Таккера, так много мормонов лишилось своих грансдапских прав из-за отказа осудить полигамию, что на следующих выборах (впервые в истории Юты) либеральная партия одержала победу над мормонами. Джордж Скотт, владелец лавки скобяных товаров, не исповедующий мормонства, стал мэром Солт- Лейка. В 1887 году президент Джон Тэйлор умер в подполье. Восемнадцать месяцев церковь управлялась двенадцатью апостолами. В апреле 1889 года она избрала президентом Уилфреда Вудруфа, в чьем фургоне Брайам Янг произнес сакраментальную фразу: «Довольно. Это и есть то место». вУДРУф принял бразды правления в период полного поражения мормопов.Федеральное правительство продолжало направлять новые средства в Юту. Теперь почти ни одному из сторонников полигамии пе удавалось избежать наказания. Сотни ведущих старейшин церкви находились в тюрьмах: это были наиболее способные люди, столь необходимые для управления делами церкви и Юты. Многие жили в изгнании, расходуя свои все уменьшающиеся средства, и были совершенно бесполезны для церкви. Тысяча триста мормонов либо находились в заключении, либо уже успели отбыть длительное заключение. Их фермы н предприятия приходили в крайпий упадок. И вот теперь, в 1890 году, в конгрессе обсуждался новый закоп. Этот законопроект Куллома - Страбла, будучи принятым, лишил бы граждапских прав каждого мормона в Юте, передав тем самым власть в каждом городе, графстве и территории иноверцам, а заодно лишил бы мор- мцнов американского гражданства. Мормоны пришли в ужас. Они дошли до предела. Большинство решило, что им лучше отказаться от своей церкви. чем от американского гражданства. Начался массовый отход. Все это было ясно понято старейшинами церкви, у которых больше не было ни денег, ни политической власти, ни влияния для контроля за своей паствой. К 1890 году апостолы увидели, что оказались на грани полного разгрома, который положит конец церкви. Пытаясь уберечь мормонскую церковь от полного уничтожения, президент Уилфред Вудруф, с согласия двенадцати апостолов и огромного большинства мормонов, издал так называемый манифест Вудруфа. Во-первых, президент Вудруф отрпцал, что церковь проповедует полигамию; во-вторых, он отрицал, что церковь практикует или будет в дальнейшем практиковать полигамные брачные обряды; в-третьих он издал декрет, который мормонская церковь должна была соблюдать строжайшим образом: «В силу того, что конгрессом введены» действие законы, запрещающие полигамный брак, и поскольку законы эти объявлены соответствующими конституции судом наивысшей инстанции, я настоящим объявляю свое решение подчиниться этим законам и использовать все мое влияние среди членов церкви, во главе которой я поставлен, для того, чтобы побудить их действовать таким же образом». Джордж Кэннон говорил от имени церкви, когда в се адрес раздавались критические замечания и у нреки в том, что она не отказалась от полигамии много лет назад и тем самым ввергла мормонов в хаос и смятение: «Мы дождались знака божьего к этом вопросе». Чтобы удостовериться в том, что церковь ие ограпи- ся пустой болтовней по поводу мапифеета Вудруфа, Лсдсратьпос правительство потребовало от старейшин присяги п подвергло их строгим перекрестным допросам. Старейшипы совершенно недвусмысленно оповестили остальную часть страны о том, что мапифсст - результат божественного откровения их президента, что он является словом божьим, адресованным церкви и запрещающим полигамию; жить в полигамном браке озпачало парушать закоп, нарушением его было и заключепне полигамных браков, поэтому полигамия запрещалась самым категорическим образом. Любой мормон, парушающпй запрет полигамии, подлежал отлучепию от церкви. Указывалось, что мормоны не отвечали ни за введепие полигамии, пи за ее отмену, бог повелепием своим ввел ее, и он же ее прекратил. Сорокалетнюю историю непрерывных споров мормопы завершили, объявив всему американскому пароду, что отказываясь от принципа, опп выполняют указапия не человеческие, а божьи. Хотя в 1891 году президенту Харрисону была паправ- лепа петиция с просьбой амнистировать всех осуждеппых за полигамию мормопов, нрезидепт выждал достаточно долгое время, чтобы удостовериться в том, что мапифест Вудруфа выполняется повсеместно. Затем, в 1893 году, после роспуска народной партии в Юте, президепт Хар- рисон подписал билль, по которому были освобождены все мормопы, отбывающие наказание за полигамию. Двпжепие за получение прав штата было начато с повой силой сразу же после подписапия манифеста Вудруфа. Рассмотрепие этого вопроса, по словам Робертса, несколько оттягивалось из-за опасений в Юте и Вашингтоне, что «церковпые власти будут паправлять политические акции своих члепов и таким образом будут осуществлять по своему промыслу и в соответствии со своими целями контроль пад штатом». В 1892 году демократами на обсунадсние палаты представителей копгресса был выпссеп закон о внутренпем управлении страны; по этому проекту мормонам возвращалось почти полпое самоуправление. Проект этот был одобреп палатой представителей, по оп так никогда и пе обсуждался в сепате, поскольку теперь предоставление Юте прав штата было лишь вопросом времени. В 189??! годузаконопроект о предоставлении Юте нрав штата протлел н в палате представителей, и в сенате. 25 октября 1894 года оп был подписан президентом Кливлендом. Фонды, цепные бумаги и имущество мормопов, небольшая часть которых была израсходована на просвещение в Юте, были теперь возвращены федеральным правительством церкви. На следующий год во время первых же выборов мормоны издали «политический манифест», в котором объявлялось, что чипы мормонской церкви не долж ны и пе могут выставлять свои кандидатуры на общественные посты, поскольку они пе смогут с должным рвепием испо шять свои обязанности на двух постах одновременно. 4 япваря 1896 года, за восемнадцать месяцев до няти десятилетнего юбилея прибытия первых пионеров в Великую низмеппость, президент Клшвлепд завершил свое торжественное послание по поводу принятия Юты на правах нового штата в состав Соединенных Штатов словами: «На равных основаниях с уже имеющимися штатами». Когда известия о послании президепта Кливленда достигли Юты, они были встречепы всеобщим ликованием и энтузиазмом. Колокола в церквах Солт-Лейка отозвались торжествеппым звопом, пушки салютовали, свистки свистели, а радостные мормоны валили валом по улицам. Война закончилась. Юта стала штатом, воссоединившись с Колорадо, Невадой и Калифорнией. Дальпий Запад снова представлял собой сдипое целое.
Глава VII
Роза Шарона Бывший сенатор Соединепных Штатов Уильям Шарон был феодальным владыкой Бельмонта и владельцем «Палас-отеля», прибрав к рукам все то, что некогда принадлежало Уильяму Ролстону. Насколько Сан-Франциско мог судить, любимым времяпрепровождением шестидесятичс- тырехлетнего Шарона все еще оставалась игра в покер. Он умудрялся занимать «безукоризненные с конституционной точки зрения» позиции до тех пор, пока жизнь пе столкпула его с Сарой Альтса Хил л. Неприятности начались для Шаропа 8 септября 1883 года, когда женщина по имени Джерти Дейтц обратилась в верховный суд Сан-Франциско с обвипепием Ша- на в прелюбодеянии. Шарон был арестован, приведен Р0На? и отпущен под залог. Члены магистрата никак немогли понять, каким это образом вдовец Шарон мог совершить прелюбодеяние с мисс Джерти Дейтц? Газетный репортер Уильям Нейлсон, который составил Цжерти Дейтц жалобу в суд, заявив, что прелюбодеяние Действительно было совершено Уильямом Шароном, поскольку у пего, у Нейлсона, имеется в распоряжении тайный брачный контракт, подписанный Шароном с другой женщиной. Судья в местном суде отказал в иске. Тогда Уильям Шароп направил своего адвоката в окружной федеральный суд Сан-Франциско с иском о призиапии этого якобы имеющегося брачного контракта поддельным. И тут перед верховным судом штата предстала мисс Сара Альтеа Хилл. Он была поразительно красивой и хорошо воспитанной жепщипой тридцати лет, уроженкой мыса Жирадо в Миссури. Мисс Хилл заявила, что она состоит в браке с Уильямом Шароном с 25 августа 1880 года и что в ее распоряжении имеется тайно составленный брачный контракт, на который ссылался Уильям Нейлсон. В качестве миссис Уильям Шароп она просила верховный суд дать ей развод, назначить алименты, возложить па Шарона расходы па адвоката и совершать раздел совместного имущества. Уильям Шароп во всеуслышание клялся, что брачный контракт подделка и сплошное мошенничество. С ним играют краплеными картами! Сара Альтеа Хилл в своих показаниях сообщила, что она получала небольшой доход от акций различных горнодобывающих предприятий, что, когда она встретилась с Шароном в Банке Калифорнии, будучи уже представленной ему в городе Рэдвуд весной 1880 года, он посетовал па скромность получаемых ею доходов и сказал, что намеревается выбросить на рынок акции, а потом предложил навестить его в «Палас отеле». Сара отказалась от подобной чести. На следующей встрече с Шароном он сказал ей, что был огорчен тем, что опа не навестила его. Сара ответила, что было бы намного уместнее, если бы он сам нанес ей визит. «Этим вечером оп явился ко мне с визитом… в мою комнату в Болдуине. Он вел себя как и подобает такому старому джентльмену, прочел мне несколько стихотворений и спел старинную песню. Потомон начал рассказывать о том, как он любит молодых девушек и как молодые девушки любят его, а затем поинтересовался, может ли мне понравиться такой старик, как он?» Образ холодпого, безжалостного Шарона с рыбьими глазами сентиментально уговаривающего полюбить его, заставил весь Сап-Фрапциско покатываться от хохота. Шарон предложил Саре стать его любовницей, за Это оп обещал ей тысячу долларов в месяц, белую лошадь своей дочери Флоры и, как говорила, Сара, «множество других вещей». Дальпий Запад, преданный и ограбленный Шароном, лхотатило чувство мести, когда он представил себе, как Шарон, пытаясь добиться благосклонности юной и прекрасной женщины, прибирает ее к своим грязным рукам. Дальний Запад начал теперь подумывать о том, что Сара Альтеа Хилл, красноречивая, полная обаяния и истиппая леди, вполне способна заставить всех поверить в свою историю. Ее стали называть Розой Шарона. «Я сказала ему, что оп обратился не по адресу,-продолжала она свои показапия, - что я честная девушка и могу сама позаботиться о себе. Он ответил, что все это он наговорил, желая испытать или подразнить меня; что он уже навел обо мне справки и узпал, что я уважающая себя девушка из хорошей семьи, и что он хочет жепиться на мне. Я ответила, что это совсем иное дело. Оп сказал, что женитьба должна быть тайной. Я ответила, что никогда пе соглашусь па это, по оп признался мне, что это со- вершеппо необходимо, ибо до этого он отослал одну девушку в Филадельфию к ее матери, которая может подпить скапдал вокруг его имени, если узнает, что он женился». Чтобы доказать правдивость своих слов относительно отправлеппой им в Филадельфию девушки, Шарон достал из кармана письмо, оторвал от пего кусок, содержащий подтверждение сказанного, и дал его Саре. Убежденная этим, Сара согласилась сделаться его тайной жепой. Тогда Шароп продиктовал ей следующее: «Дано в городе и графстве Сан-Франциско, штат Калифорния, августа 25 в лето 1880 от Рождества Христова. Я, сенатор Уильям Шароп, уроженец штата Невада, шестидесяти лет от роду, призывая в свидетели всемогущего господа, объявляю Сару Альтеа Хилл из города Сан-Франциско, штат Калифорния, моей законной и вепчанпой супругой н хем самым признаю себя мужем вышеозначенной Сары Альтеа Хилл. у м ^^ 25 августа 1880 года» Шарон посетил Сару в апартаментах «Гранд-отеля», который принадлежал ему. Они жили совместпо как муж и жепа, причем Шарон пе предпринимал попыток скрыть эту связь, оп даже взял с собой Сару па свадьбу своей дочери. Когда Шарон во второй раз за четырнадцать месяцев их совместной жизни серьезно заболел, он решил, что умирает и что будет лучше иметь у себя документ об их тайном браке. Он попросил его у Сары, она ответила, что не помнит, куда положила его. Они поссорились. Шарон схватил ее за горло и душил до тех лор, пока опа без чувств пе упала па пол. Он счел ее мертвой и затащил в гардеробную при спальне. Вскоре после этого управляющий «Грапд-отеля» приказал ей съехать. Сара отправилась в «Палас-отель», чтобы увидеться с Шароном, но ее не допустили к нему. «В этот вечер я отправилась навестить свою бабушку, а возвратившись домой, обнаружила, что все двери в моих компатах сняты с петель и унесены, звонки оборваны, а ковры сорваны. У меня осталась только мебель и голые стены. Служанка в страхе убежала, и я осталась совершенно одна». Далее Сара сообщала: «Оп сказал, что я должна подписать бумагу, иначе оп выгонит меня из отеля и опозорит. Я отказалась. В конце концов мы пришли к соглашению, в соответствии с которым оп обязывался выдать мне единовременно сто тысяч долларов и. потом выплачивать по пятьсот долларов ежемесячно. Я также должна была отказаться от брачного контракта и заявить, что у меня нет к нему никаких претензий…» Когда Уильям Шарон появился на месте для свидетелей, чтобы выступить с опровержением показаний Сары, публика, битком набившаяся в зале, была разочарована; люди пе слышали, что оп говорил, потому, что, по его словам, «он не прихватил с собой своих вставных зубов». "се?же он говорил достаточно ясно, для того чтобы судебный клерк мог разобрать и занести в протокол, что он предлагал Саре пе тысячу долларов в месяц за то, чтобы она жила с ним, а всего пятьсот, что он не подписывая 38 Зак. м иез 593 брачного контракта, что это фальшивка и подделка, что оп пикогда не предлагал ей ста тысяч долларов за отказ от брака и прекращение связи. Кто из них говорил правду? Репутация Шаропа была слишком хорошо известна в Сан-Франциско. Но что можно было сказать о Саре Лльтеа Хилл? Была ли опа, как об этом заявил Шарон группе репортеров, просто женщиной легкого поведения? От судьи Джона Уилсона с мыса Жирарду в Миссури пришло письмо, рассказывающее о происхождении Сары в опубликованное поздпее в Сап-Фрапциско в «Бголлетип». Ее отец был юристом с весьма высокой репутацией, членом законодательного собрапня Миссури, который после смерти оставил детям солидное паследство. Второй судья с Жирарду, в чьем доме Сара жила после смерти родителей, писал: «Сара обладает топким умом и весьма привлекательной внешностью, и я был поражен, услышав о ео помолвке с сенатором Шароном. Его миллионы едва ли могли компенсировать молодой и изысканной женщине его возраст и репутацию». Сара прибыла в Калифорпию за десять лет до описываемых событий с дядей и братом. Некоторое время опа жила со своей бабушкой, а затем - вместе с братом. Опа никогда пе выходила замуж. Шароп папял частных детективов и пустил их по ее следам, пытаясь добыть хоть какие-нибудь порочащие сведения о ее прошлом. Опи выудили какого-то молодого человека по фамилии Бурчард, который показал па суде, что встречал Сару в обществе Шарона в «Палас-отеле», а затем - в Бельмопте, что опи обручились и состояли в иптимных отношениях. Сара была впе себя от возмущепия и вполпе справедливо: Бурчард, подвергнутый перекрестному допросу, запутался пастолько явпо, что был привлечен к ответственности за дачу ложных показапий. Сан-Франциско был уве- реп, что Бурчарда напял Шароп. И тут суд получил новое, совершенно неожиданное подкрепление. Хотя у Сары уже имелось шесть адвокатов, Дэвид Тэрри, который застрелил Дэвида Бродерика на дуэли в Сап-Фраициско двадцать пять лет тому назад, пе- ожидаппо стал седьмым адвокатом Сары. Вдовцу Тэрри теперь было примерно шестьдесят лет, по оп все еще был человеком довольно красивым и полпым жизненных сил. Оп приходил в зал судебных заседаний с ножом, подве шенным слева под мышкой. (Ножом этим он не замедлит воспользоваться еще до окончания дела.) В 1884 году Сан- Аранцисская газета «Альта» сообщала: «Их места всегда расположены рядом… все свои показания она обсуждает с ним. Чаще всего он провожает ее на завтрак и возвращается вместе с ней, а иногда они вместе бывают в театре, при этом оба совершенно не замечают обращенных на них взглядов, как это бывает со свежевлюбленными парами». Иск Сары Альтеа Хилл в основном касался установления подлинности брачного контракта, который Сара представила суду в качестве вещественного доказательства. Он представлял собой потертую и дсстаточно измятую гербовую бумагу, на которой подпись Шарона стояла в верхней части одной страницы, предшествуемая всего четырьмя строчками текста, вся же остальная - начальная - часть текста контракта была написана на другой стороне. Представители ответчика утверждали, что это доказывает, что весь этот документ является подделкой, что подпись Шарона стоит в верхней части страницы именно для того, чтобы предотвратить подделку. Шарон же утверждал, что и сама подпись подделана. Дело Розы Шарона против Шарона длилось целых четырнадцать месяцев, из которых шестьдесят один день представлялись доказательства и контрдоказательства, которые председательствующий судья назвал «кучей лжесвидетельств». Высказывались критические замечания в адрес Сары за то, что она столь легкомысленно вступила в брачные отношения; публике также не нравилась ее несдержанность на суде. И все же дурная репутация Шарона сыграла немалую роль: все сходились на том, что Шарон подписал брачный контракт, считая, что он будет признан незаконным, что его нельзя будет предъявить в суде и что, скорее всего, он так и не будет предъявлен ®УДУ, поскольку это поставит Сару в неловкое положение- типичные манипуляции Уильяма Шарона: игра на повышение и понижение, но уже не на бирже, а на рынке секса. ???? 38• 4 декабря 1884 года судья Салливан в течение почти трех часов зачитывал в зале судебных заседаний весьма объемистое решение по делу и наконец объявил замершему залу: «Я пришел к выводу, что Уильям Шарон… на основании своего тайного брачного контракта или же пись-
595
мепного обязательства по этому предмету… стал и является поныне мужем Сары Альтеа Шароп. Он нарушил свою супружескую клятву и объявляется виновным в преднамеренном оставлении своей жены. В соответствии с законами настоящего штата, Сара Альтеа Шароп… имеет право на вынесение решения данного суда о прекращении: супружеских уз… оплата судебных издержек, но моему мнению, включается в решение о разводе… а также и раздел совместного имущества». Это была блестящая победа Сары, которая предоставляла ей права на значительную часть богатства Шарона, двадцать миллионов которого никак невозможно было скрыть и которые свободно можно было заарканить для! раздела. Шарона обязывали также выплачивать Саре две с половиной тысячи в месяц в качестве алиментов, помимо этого, он должен был оплатить ее судебные издержки в! сумме шестидесяти тысяч долларов. Невадцы и калифор- нийцы, включая и тех, которые весьма сомневались в подлинности брачного контракта, удовлетворенно хихикали. Наконец-то и Шарона обвели вокруг пальца. Шарона чуть не хватил удар от бешенства. Он заявил, что скорее бросит в залив Сан-Франциско последний доллар из всех своих миллионов, чем даст Саре хоть ломаный грош. Он снова обратился в тот самый окружной феде ральный суд, в котором он ранее пытался добиться аннулирования брачного контракта. Почти целый год он боролся за вынесение решения в свою пользу. Он умер 13 ноября 1885 года в возрасте шестидесяти четырех лет. Последними его словами перед тем, как предстать перед вечным судьей, были цветистые проклятия в адрес Сары Альтеа Хилл. Оп говорил, что пал жертвой мошенничества. Никто не скорбел о нем. Сан-Франциско, тоскующий по временам Уильяма Чэпмепа Ролстона, чувствовал себя отомщенпым. Через шесть недель после смерти Шарона судья окружного суда Диди выпес решение о признании брачного контракта фальшивым. Еще через две недели, 7 января 1886 года, Дэвид Тэр- ри обвенчался с Сарой в своем доме в Стоктоне. Целых два года трудился неутомимый Тэрри в верховном суде Калифорнии, где должны были распорядиться имуществом Шарона, н 31 января 1888 года верховный суд штата поддержал первоначальное решение, объявив брачный контракт законным и действительным. В этой тяжбе, которая продолжалась уже более пяти тет, семья Тэрри вела со счетом два-один. Наследники? Шарона снова обратились в окружной федеральный суде? требованием, чтобы теперь, после смерти Шарона, было- восстановлено решение о признании контракта фальшивым. При возобновлении слушания дела рядом с двумя судьями окружного суда сидел Стефен Филд - члеп Верховного суда Соединенных Штатов, объезжающий окружные? суды во время каникул Верховного суда в Вашипгтопе… Судья Филд принадлежал к поколению людей Сорок Девятого года. Уроженец Коннектикута, он был сыном проповедника конгрегационной церкви и получил образование сначала под руководством своего отца, а потом много путешествуя по Европе. В Калифорнию он приехал не в поисках золота, а в поисках закона. Он был близким другом и протеже Дэвида Бродерика и никогда не мог простить¦ Дэвиду Тэрри его дуэли с Бродериком и убийства последнего. Эти два человека были политическими и личными? врагами уже около тридцати лет. 3 сентября 1888 года судья Филд прибыл в зал судебных заседаний в сопровождении двух своих коллег из окружного суда, надел очки и принялся зачитывать свое изложение дела. Вскоре стало совершенно очевидно, что он намерен сохранить в силе решение окружного федерального суда и объявить брачный контракт подделкой. Сара вскочила и закричала: «Вам заплатили за вынесение такого решения!» Судья Филд, не повышая голоса, сказал: «Удалите эту женщину из зала суда». Когда один из судебных исполнителей приблизился? к Саре, Тэрри выкрикнул: «Не прикасайтесь к моей жене, получите сначала письменное приказание». Судебный исполнитель взял Сару за руку. Тэрри с криком: «Никому из мужчин, я, черт возьми, не позволю прикоснуться к моей жене!» - ударил судебного исполнителя кулаком в лицо. Присутствующие в зале полицейские схватили его, а Сару вывели в комнату судебных исполнителей. Когда Тэрри подошел к двери, судебный исполнитель Фрэнк попытался преградить ему путь. Тэрри выхватил из висевших у него под мышкой ножен точно такой же охотничий иож, каким он напес удар исполнителю Комитета бдительности еще в 1856 году. За оскорбление суда судья Филд приговорил Дэвида Тэрри к шестимесячному тюремному заключению в тюрьме графства Аламейда, а Сару Тэрри - к трем месяцам. Большую часть этого времени они провели за составлепием планов отмщения судье Филду. Летом следующего 1889 года верховный суд Калифорнии изменил собственное решение, объявив, что «сам по себе контракт, даже если считать его подлинным, сопут- ствуемый только тайным сожительством, не предоставляет оснований для того, чтобы считать эту связь супружеским браком ¦ в соответствии с законами данного штата». Это было окончательным ударом для семьи Тэрри. В их воспаленном воображении судья Филд представлялся виновником их унижения и поражения. Люди в Сан-Франциско начали проявлять беспокойство, когда стало известно, что судья Филд снова должен приехать в Калифорнию, чтобы председательствовать в окружном суде. Инспектор полиции настаивал на том, чтобы для охраны судьи был выделен помощник шерифа. 13 августа 1889 года судья Филд сел в поезд Южной Тихоокеанской, направляющийся из Лос-Анджелеса в Сан- Франциско, в сопровождении помощника шерифа Дэвида Нигла, приставленного к нему для охраны. Этой же ночью Дэвид Тэрри и Сара сели в тот же самый поезд в Фресно. Когда помощник шерифа сообщил судье Филду, что семья Тэрри находится в поезде, он спокойно ответил: «Надеюсь, что им удастся выспаться». На следующее утро поезд сделал остановку в Латорп- не, чтобы дать возможность позавтракать в вокзальном буфете. Помощник шерифа Нигл просил судью Филда позавтракать в поезде. Стефен Филд в начале пятидесятых годов сам пользовался репутацией забияки еще в Мэрис- вилле, городе, одним из основателей которого он являлся. Он не пожелал, чтобы его сочли трусом. Супруги Тэрри и судья Филд вместе с помощником шерифа заняли места за столиками на расстоянии примерно двадцати пяти футов друг от друга. Завтрак едва начался, как Сара, прошептав что-то на ухо своему мужу, поспешно покинула зал. Дэвид Тэрри встал, подошел к судье Филду и быстро напес сидящему противнику два удара кулаком-в лицо и в голову. Помощник шерифа Нигл с криком «прекратите!» бросился между ними. Дэвид Тэрри потянулся правой рукой к левой стороне груди, гДе У него поД мышкой висел нож. Нигл дважды выстрелил. Тэрри упал на пол, перевернулся навзничь, лицом к охваченным ужасом зрителям, и умер. В этот момент Сара снова появилась в дверях. Владелец ресторана отобрал у нее сумочку с заряженным пистолетом. Сара бросилась к телу своего мужа, упала па него и залилась безутешными слезами. Помощник шерифа Нигл был взят под стражу. По требованию Сары ордер на арест был выписан также и на судью Филда. Однако обвинения против них были сняты, поскольку было признано, что они действовали в пределах самообороны. Так Дэвид Тэрри, ставивший ни во что чужую жизнь, сам умер насильственной смертью. Дух Дэвида Бродери- ка был отомщен. Со смертью Шарона и Тэрри пионерская эра центральной Калифорнии, длившаяся около полувека, завершилась. Новый век еще не наступит, пока землетрясение и пожар 1906 года не уничтожат дотла Сан-Франциско Уильяма Ролстона и пока на его месте не вырастет совершенно новый город. Однако основатели страны, герои «чуть выше человеческого роста», навсегда сошли со сцены.Глава VIII
Дальний Запад позирует для портрета Жизнь на Дальнем Западе развивалась бурными темпами, с каждым днем сюда прибывали новые партии пионеров. У них не было времени, чтобы остановиться посреди распахиваемого целинного поля, прервать погоню за ?новой золотой россыпью, сделать паузу при постройке железной дороги или города, чтобы воскликнуть: «Постойте! Не дайте бесследно исчезнуть этому моменту! Занесите его па бумагу, сохраните отчеты, найдите подтверждение фактам, запишите биографии. Сделайте это до того, как образ смоется, растворится в туманной дымке, уловите все оттенки повой земли прежде, чем богатство ее растает и будет поздпо составлять документальный отчет о пей!» И все же без слова нет книги. А без книги нет человеческой истории. Губерт Бэнкрофт был фигурой, подобной Теодору Джюде или Адольфу Сутро. Он забил заявочный столб на поле истории с намерением воссоздать ее. Он отлично отдавал себе отчет в ценности всего того, что вошло составной частью в созидание Запада, бережно храня каждую часть, хорошую и плохую. Оп посвятил себя сбору и хранению документов. Бэнкрофт был типичным представителем первопроходцев: шестифутового роста и могучего телосложения, с крупным открытым лицом, огромными серыми серьезными глазами, маленьким, плотно сжатым ртом, с крупной челюстью и столь же массивпым носом, темные волосы его были разделены пробором у самого уха на одной стороне и кудрявой волной перекатывались на другую. Родился он в Грэнвилле, штат Огайо, в мае 1832 года, ровно через двести лет после того, как первый из Бэнкрофтов, покинув Лондоп, достиг берегов Новой Англии. Его родители - уроженцы Новой Англии - встретились друг с другом будучи соседями по фермам в Огайо. Мать его до замужества проработала несколько лет школьной учительницей, а сын ее, хотя и ушел из школы, поссорившись с учителем, так и не вытравил любви к образованию и книгам, которая была у него в крови. В шестнадцать лет Бэнкрофт отправился в Буффало. Там он поступил на работу в типографию своего зятя Дэрби, занимаясь подшивкой и переплетением отчетов. Через шесть месяцев управляющий типографии решил расстаться с ним; а поскольку Бэнкрофт работал без заработной платы, зять дал ему взаймы денег на обратный путь к дому. Он также снабдил его запасом книг, которые Бэнкрофт продавал по Огайо прямо с борта фургона. Вскоре Бэнкрофт отправил в Буффало письмо с просьбой прислать еще книг для продажи. Дэрби пригласил его обратно и предложил ему жалованье в сто долларов в год; здесь Бэнкрофт провел пять лет, обучаясь печати, переплетению и сбыту книг. В феврале 1852 года он по поручению зятя отправился к берегам Калифорнии с грузом книг общей стоимостью пять тысяч долларов, которые Дэрби направлял на побе- ?еж! с Тихого океана. Два предыдущих груза исчезли оес- следно, одип вследствие пожара, второй - мошеннической проделки. л., Калифорния представляла собой новый и потенциально весьма выгодный рынок сбыта, по при условии, что удастся найти нужного человека для ведения дел. Учитывая золотую лихорадку, Бэнкрофт решил, что Сакраменто открывает более широкие перспективы, чем Сан-Франциско, и написал Дэрби, чтобы тот имепно сюда адресовал груз книг. Восемь месяцев ожидания оп провел вместе со своим отцом и одним из братьев, работая на приисках Лонг-Бара. Здесь он валил деревья, перевозил лес и золотоносный кварц. В ноябре 1852 года до него дошла весть о смерти Джорджа Дэрби. Бэнкрофт остался без поддержки. Сакраменто, который совсем недавно выгорел дотла, а потом был залит во время разлива рек Сакраменто и Американской, теперь казался ему столь же перспективным, как Сан-Франциско. Он продал полученную партию кпиг целиком одной из фирм в Сан-Франциско, чтобы его овдовевшая сестра могла сразу получить деньги, а затем перебрался в Кресчент-Сити с небольшим запасом кпиг и с бухгалтерской книгой, в которой вел счета местной лавки в обмен на разрешение продавать в ней "свой товар. В 1856 году он отправился домой в Огайо навестить семью. Когда он собрался в обратный путь в Калифорнию, миссис Дэрби уговорила его взять пять с половиной тысяч долларов (все ее достояние) и вложить их от ее имепи в книжную торговлю. Бэнкрофт, которому теперь было двадцать четыре года, отправился в Нью-Йорк, чтобы договориться с книгоиздателями о кредите. Книготорговые фирмы так часто терпели убытки от отправляемых в Калифорнию грузов, что сначала ответили отказом. Однако Бэнкрофт был единственным известным им книготорговцем, знакомым с Дальним Западом, и в конце концов они отправили ему вокруг мыса Горн товары на сумму десять тысяч долларов. В декабре 1856 года фирма «Хоу Бэнкрофт и компания» открыла маленькую лавчонку, в которой Бэнкрофт ночевал на постели, поставленной за книжной полкой. Партнером у него был молодой Джордж Кенни, приехавший вместе с ним из Огайо в 1852 году; Кенни был веселым ирландцем и отличным коммерсантом. Вэнкрофт проявил блестящие деловые качества. Фирма процветала. На следующий год он вернулся в Нью- Йорк, где ему удалось убедить издателей отправить ему груз книг стоимостью в семьдесят тысяч долларов. Он снял трехэтажное здание на Мерчант-стрит, расширил штат и вызвал из дому младших братьев для помощи в торговле. Он умел привязывать к себе людей узами верности и дружбы и был достаточно умен, чтобы отбирать и обучать делу способных. Вскоре он уже мог совершать рейсы в Европу для закупки там товара, отсутствуя по нескольку месяцев. В 1868 году, всего через десять лет после открытия лавки, он приобрел большой участок земли в семисотом квартале Маркет-стрит и построил там солидное пятиэтажное предприятие. Он установил здесь печатные станки, пере- плетпую, станки для гравировки и литографии, открыл музыкальный отдел. Он печатал школьные учебники, бланки, формы для юридических документов и библейские тексты. Вэнкрофт предпринял и некоторые оригинальные издания, выпустив более трехсот книг на темы религии, истории путешествий и исследований. Книги оказались для него золотой россыпью. Он стал респектабельным владельцем самого крупного и процветающего торгового дома, снабжающего книгами и писчебумажными товарами весь Дальний Запад. Однажды он приказал кому-то из своих помощников собрать все имеющиеся в доме книги о Калифорнии. Оказалось, что таких книг набралось семьдесят пять названий. Вэнкрофт сказал: «Это очень хорошо, я и не представлял себе, что их так много». Он решил, что стоит собрать все публикации, имеющие хоть какое-то отношение к этому району. Сначала он занимался этим между делом: находил одну книжку в одном месте, другую - в другом, иногда ему попадался целый ящик с книгами. Имея довольно солидный доход, Вэнкрофт покупал все, что попадалось ему под руку, осматривал книжные лавки в других городах, следил за присланными по почте каталогами книжных издании. Когда Вэнкрофт приехал в Лондон и спросил у книготорговцев, нет ли у них книг по американскому Западу, они в свою очередь спросили: «А что это такое? Нет, таких книг у нас нет». Вэнкрофт провел несколько дней, обшаривая полки и складские помещения, и нашел десятки названий, о многих из которых он и не слыхал. Когда он привез в Сан- фрапциско несколько сот томов, то обнаружил, что коллекция его уже разрослась до тысячи названий. Только тогда перед ним начали понемногу вырисовываться подлинные масштабы задуманного предприятия. По мере того как разрасталась его коллекция, открывавшиеся перед ним горизонты становились все шире. Он начал с одной лишь Калифорнии; теперь стало ясно, что Калифорнию невозможно понять, не включив сюда все земли, лежащие к западу от Миссури. Вскоре он вынужден был прийти к выводу, что Запад не понять без знания и«5тории тех нескольких сот лет, когда страна эта принадлежала Испании, а также без пасторального периода пребывания под властью Мексики. По возвращении из Лондона он получил из Лейпцига каталог намечаемой к продаже библиотеки Андраде, состоящей из семи тысяч томов, посвященных Мексике. Библиотеку эту Андраде передал императору Максимилиану. Бэнкрофт увидел, что каталог Андраде содержиг сотни томов, крайне необходимых ему для завершения картины Запада, поэтому он поручил агенту в Лондоне отправиться на распродажу и уполномочил его израсходовать на покупку пять тысяч долларов. Из этой коллекции Бэнкрофт получил пополнение в три тысячи названий. С этого момента его агенты начали регулярно посещать аукциопы по всей Европе, скупая все, что имеет какое-либо отношение к американскому Западу: газеты, памфлеты, рукописи, отчеты. В 1880 году он приобрел большую часть крупной мексиканской коллекции за тридцать тысяч долларов; главным конкурентом его на этом аукционе был Британский музей. К 1870 году Бэнкрофт собрал библиотеку из шестнадцати тысяч томов, которой предстояло дорасти до шестидесяти тысяч, не считая пяти тысяч томов с подшивками; газет Запада. Он приобрел участок земли на углу улиц. Мишн и Валенсия и выстроил там двухэтажное кирпичное здание специально для размещения первой библиотеки по американскому Западу. Казалось, что труд его можно было считать завершенным. Однако Бэнкрофт все еще не чувствовал себя удовлетворенным. За многие годы он пришел к выводу, что простого сбора материалов далеко недостаточно. Перед ним постепенно начала вырисовываться новая задача: организовать весь этот огромный материал таким образом, чтобы ученые н историки во всем мире знали о том, что он находился здесь, чтобы писатели смогли приехать в эту новую страну, могли изучать ее и задать себе вопрос: «Что же все это означает?» Сначала он истратил тридцать тысяч долларов на неудачную затею составить энциклопедию истории американского Запада. Затем оп решил составить полный указатель для всех этих тысяч томов. Подобно Чарли Крокеру, у которого, перед тем как взяться за проектирование и строительство железной дороги, имелся опыт строительства всего лишь деревенской кузницы, Бэнкрофт не имел исторического образования, никогда не посещал высшей школы или колледжа, он никогда не занимался исследовательской работой и никогда не написал чего-нибудь большего, чем обыкновенные письма. Он ничего не знал о работе библиографов. Не было в его распоряжении и опытных библиотекарей. Для составления указателя ему* пришлось привлечь несколько десятков человек и израсходовать тридцать пять тысяч долларов. Но он считал это хорошим капиталовложением, поскольку полагал, как цитирует его слова Джон Коуи в «Губерте Хоу Бэнкрофте»: «Человек может усесться за пустым столом и сказать посыльному: принеси мне все о рудниках Невады, и сразу же, как по мановению волшебного жезла, все эти сведения предстанут перед ним в виде томов, раскрытых на нужных страницах». Собрав материал и завершив составление указателя, Бэнкрофт мог теперь приступить к осуществлению своей самой заветной мечты: «Теперь я могу сразу устремиться к самой высокой и яркой цели… " Написание истории я считаю одним из самых высоких человеческих занятий, и именно на ней я должен остановить свой выбор». Бэнкрофт основал свою «Литературную индустрию» (так он позднее назовет и свою автобиографию). Он намеревался публиковать по одному тому о каждой фазе развития американского Запада, начиная с индейских аборигенов. Он писал, стоя за большим круглым столом, покрытым массой справочного материала, ежедневно по одипнадцать-двенадцать часов. Каждый новый шаг ему приходилось делать, вскрывая целинные пласты так же уверенно, как это делали Джон Бидуэлл, Элиша Стивене или Брайам Янг. При написании каждой повой книги оп пускался в неведомое бушующее море, сквозь бури, не имея пи компаса, ни карт. Когда он был занят написапием пятитомного труда «Местные расы», на всем Западе не было пи одного антрополога, с которым он мог бы посоветоваться, не было и методологии написания антропологических работ. Двухтомный труд «Народные трибуналы» он посвятил исследованию того, как закон и управление пришли в эти земли. Для отбора фактов, разбросанных в книгах его собрания, Бэпкрофт нанял образованных людей - бывших газетчиков, учителей, путешественников, лингвистов-и разместил их на пятом этаже фирмы, обучая шестьсот мужчин л женщин искусству отбора материалов и изложения их на бумаге. Требования он предъявлял весьма высокие, он ждал от своих помощников преданности делу. Никто из них не был историком или сочинителем биографий, никто, за исключением миссис Виктор, которая до работы с Бэнкрофтом была широко известной писательницей. Для восполнения пробелов в имеющемся у него материале он нанял штат сотрудников и рассылал их по всему Западу с заданием посещать дома первых поселенцев и собирать их воспоминания. Они также спимали копии с писем, записок, дпевпиков, которые представляли собой бесценпый •материал. Для продажи томов по мере их завершения и выхода в свет Бэпкрофт провел энергичную реклампую кампанию, которая на добрые полстолетия обогнала свое время: он печатал брошюры, умело и умпо использовал рекламу, приводил цитаты и рецензии, поручал распространение опытным людям. Он разослал своих представителей по всему Западу и в Мексику. В их задачу входила продажа не просто отдельных томов «Сочинений», а целых комплектов из тридцати девяти томов; подписчики должны были получать по два или три тома ежегодно и оплачивать их по мере выхода в свет.Организация сбыта его трудов была столь же высокоорганизованной, как собирание библиотеки, составление указателя и писательский труд. С течением времени в качестве книготорговца-профессионала он сумел продать более четверти миллиона томов и получить за них мпл- лиое долларов, почти полностью вернув все затраченные на этот гигантский проект деньги. Подводя итог своей работы, Бэнкрофт писал в конце тридцать девятого тома: «В чем заключалась эта задача? В первую очередь в спасении для мира массы ценного человеческого опыта, который в противном случае в спешке и погоне за богатством, властью или местом под солнцем затерялся бы и бесследно исчез. Опыт этот имеет особую ценность своей новизной; исключительные условия, в которых он накапливался и развивал-ся, никогда не были известны в истории человечества и никогда не повторятся». В процессе воплощения в жизнь этой поставленной перед собой героической задачи Губерт Хоу Бэнкрофт и сам пережил драматические события Дальнего Запада, подобно любому из героев, описанных в его трудах, ибо ему приходилось углубляться в неизведанные области, пробивать путь через горы и белые безводные соленые пустыни. Когда Бэнкрофт сказал: «Ни одна страна и не один народ… не имеют своей ранней истории, так тщательно собранной и сохраненной», он говорил чистую правду: его собрание исторических источников по всему американскому Западу было самым полным. И все же у него нашлось достаточно противников. Два последних десятилетия своей жизни он подвергался непрерывным нападкам со стороны историков академического толка, обвинявших его в том, что методология его недостаточно четкая, что его труды ненадежны и не заслуживают доверия, что сам он человек несдержанного характера и опрометчивых суждений, который берется критиковать некоторые действия прославленных пионеров Дальнего Запада. Общество Калифорнийских пионеров, которое вначале избрало его своим почетным членом, лишило его этого звания на том основании, что «в соответствии с принципом «если неверно одно, неверно все» так называемая «История Калифорнии» Бэнкрофта, по мнению настоящего общества, не представляет ценности в качестве авторитетного труда или источника правильной информации для нынешних или грядущих поколений и заслуживает справедливого осуждения любым здравомыслящим человеком». Когда он хотел продать свою библиотеку университету Калифорнии в Беркли, чтобы сделать ее доступной для грядущих поколений, он натолкнулся на такое же сопротивление. Университету потребуются многие годы упорного и самоотверженного труда, возглавляемого блестящим и молодым его президентом Бенджамином Уи- лером, чтобы перевести тысячи так любовно собранных томов в университет. Но это произошло уже в новом сто- летии. Весьма символично: когда Марнано Вальехо приехал к Бэнкрофту, он понял чрезвычайную важность его дела и преподнес в дар библиотеке свою бесцепную коллекцию бумаг, присовокупив к ней историю своей собственной жизни, написанную им специально для архива Бэпкрофта. Таким образом, человек, который сам послужил мостом между пасторальпым и американским Дальним Западом, протянул руку тому, кто возводит мост между девятнадцатым и двадцатым столетиями, - мост, по которому целые поколения могли совершить путешествие в отошедшую в прошлое эпоху ярких, драматических, бурных и героических саг о продвижении рода человеческого по Земле.
Глава IX Время,
место и действующие лица Вс'е это история открытия страны и построения цивилизации. Это повествование о людях, которые открыли эти земли и построили эту цивилизацию, и каждая жизпеппая история - составная часть общей мозаики. Героем этой книги был Дальний Запад. Землю объединяло единство действующих лиц. Происходящее в одном районе имело огромпое значение для остальных. Их биографии, их дела и судьбы были переплетены настолько тесно, что каждый был неотъемлемой частью целого. Вначале они н были единым целым. Теперь, в 1900 году, эра эта завершилась. Создавшееся здесь на обломках разрушеипого прошлого общество будет строиться по капонам двадцатого столетия. И снова, как в 1840 году, па земли эти будет приходить беда. И снова найдутся такие, которые будут утверждать, что Дальний Запад превратился в Западный Полюс, вторую долнпу Нила, колыбель культуры, более богатой и более свободной, чем все дотоле известные па Земле.Указатель имен
????
Аберт 71 Авраам 224 Адаме, Аугуста ЗЮ Адаме, Чарлз 501, 502 Айд, Сарра 95 Айд, Уильям Б. 95, 96, 98, 108, 109, 112, 113, 129 Айшем, Уильям 204 Акстелл, Сэмюэл 484 Александер 220 Алексей, русский великий князь 503 Альворадо, Хуан Батиста 17, 21-23, 25, 26, 31, 33, 37, 38, 40, 42, 44, 67, 88- 91. 99, 100 Альгайер, Николаус 58 Амадор 170 Амелия 486, 487 Анаше 20 Андраде 603 Аидерхилл 77 Антонио 138 Аркенс 206 Аркенсы 202 Аркулета, Хуан 59 Армор, Филипп 547 Арсе 106. 107 Артур,. Честер 519, 520 Аршамбо 97 Асбюри 210 Аеторы 163 Аугуста (см. Тейлор, Аугуста) 394, 395, 509, 513, 515, 517, 518, 520. 569, 571 Аурария 274 Байглоу, Люси 487 Байере, Уильям 274, 322, 323 Баллок, Томас 148 Барби, Уильям 473 Бартлетт, Уошингтон 150, 151 Бартльсон, Джон 50-52, 187 Б псин 467, 468, 478 Бауэре 565 Баффам 360 Бейкер 277 Бейкер, Джонатан Д. 267,317,585 Бейкер, Эдвард Д. 239, 291, 292 Бек, Джон 264, 265 Белаеко, Дйвид 452 Белл, Шэннон 502 Белль (см. Райан, Лнпабела) 242 Беннет 202, 203, 206 Бепнет, Горэйс 557, 559, 561, 562 Беннет, Чарлз 160, 162 Бент, братья 61. 179 Бент, Уильям 179, 180 Бент, Чарлз 93 Бентон, Джесси (см. Фремонт, Джесси Бентон) 63, 64, 71, 186 Бептон, Томас Харт 63, 64, 72, 105, 185 Берн«, Гарриет 311 Берне, Джеймс 558, 563 Берне, Джимми 565 Бернхайсел, Джон 225 Берта 560 Берч, Джон 283, 291 Биг Чпф 341 Биглер, Генри 159 Биглер, Генри У. 211 Бпдл 469 Бидл, Бенджамин 185 Бндуэлл, Джон 47-58, 65, 73, 87, 111, 113, 114, 128, 129, 154, 158, 164, 165, 172, 187, 235, 419, 498, 605 Билл, Эдвард 124, 263 Билл, Буффало 503 Бпмаи, Луиза 311 Бирд, Мэри 51 Бирд, Чарлз 51 Бирч, Джеймс 230 Бисмарк 560 Бити, X. С. 210-212 Бичел, братья 372 Бичер-Стоу, Гарриет 308 Бишоп, Джон (Старый Вирджиния) 251 Блисс, JI. 320 Блэк, Джордж 466 Блэкберн, Эбнер 94, 211 Блэр, Джеймс 480, 481 Боггз 129 Бойэрс, Сэндп 336, 337, 520 Бол?\уип Счастливчик 443-444, 447 Большая Четверка (см. Кро- кер, Чарлз; Стэнфорд, Ли- ?чип• Хантингтон, Коллис п *Хопкпнс, Марк) 208, 209, 281 286-288, 300, 350, 361, 409-416, 418, 419, 429, 458 Боневилль 73 Борики 81 Боулс, Сэмюэл 379 Боуэи, Томас 55 Боуэн, Элиза 317 Брайан, Уильям Дженнингз 520, 567 Брайант, Эдвпн 129, 130, 151, 187 О'Брайен, Уильям 350, 429- 435, 456, 457, 532 Брайер, Джон У. 201-205 Брайер, Джульетта 202, 205, 207, 422 Брайеры 202, 207 Брассфилд, Ньютон 381 Браун 199 Браун, Алма 466 Браун, Джон 153, 393 Браун, Джордж 250 Браун, Дэвид 238 Браун, Клара 393 Брейс, Филандер 243 Бриджер, Джим 61, 63, 145 Брин, Патрик 131, 136, 137, 139, 140 Бродерик, Дэвид С. 288-291 293, 298, 320, 594, 597, 599 Броккус, Перри И. 222, 223 Брукс, Хуанита 260 Брэкенридж, Томас И. 181, 184 Брэндбюри, Лемюэл Г. 222 Брэнден 537 Брэннен, Сэмюэл 119, 120, 145, 151, 160, 162, 174, 175, 218, 219, 295 Брюер 537 Брюно, Феликс 495 Булетт, Джулия 299 Бульвер-Литтон 531 Бун, Дэниэл 61 Бургмон 60 Бурлингейм 557 Бурчард 594 Бут, Люциус 285 Бутс 235 Бушар 37 Бьюкенен, Джеймс 99, 100, 103 169, 226, 244, 247, 256, 262, 288 Ьэббит, Алмонд У. 195 39 Зак. № М63 609 Бэйли, Джеймс 285 Бэкой, Пейдж 237 Бэнкрофт 105 Бэнкрофт, Губерт Хоу 7, 120, 169, 189, 203, 412, 600-607 Бэнкс, Джон 376 Бэннипг, Финеас Т. 355, 360 Бэрджес, Элиза 311 Бэрдю, Томас 218, 219 Бэрнетт, Питер X. 199 Бэрни, Роберт 170 Бэртон, Ричард 307 Бэртон, Роберт 376, 377, 574 Бюк, Ричард М. 250, 251 Вазеуртц, Г. М. де Сандельс 80 Вальехо, Бениция 109 Вальехо, Мариано 17, 18, 21- 25, 29, 33, 34, 37, 38, 42, 54, 55, 65, 68, 70, 89, 98, 102, 104, 107-109, 111, 116, 117, 158, 159, 163, 196, 208, 235, 345, 419, 607 Вальехо, Сальвадор 108 Вае-Бруклнн, Уильям 395 Ван Гог, Винсент 5 Ван-Кортлендсы 93 Ван-Несс 240 Васкес 61, 62 Вашингтон 143 Вашингтон 159 Вебер, Джон 584 Веймар 160 Верди 346 Берн, Жюль 511 Берне, Эдвард де ла 558, 560, 561 Вернер, М. П. 144, 309 Ветлер 20 Виллард, Генри 269 Вилласура, Педро 59 Виктор, 605 Винсенталер 184, 185 Виоже 82 Вискаино, Себастьян 31, 32 Вогап 466, 468 Вото, Бернард де 131 Воукер, Марта 311 Вуд, Альвлнус 506 Вудруф, Уилфред 148, 375, 587-589 Вудруф, Феба 462 Вудс, Джордж 468, 469, 479, 484 Вудуорд, Абесалом 231, 232 Вудуорт, Джозеф 253 Вудхолл, братья 475 Вул 242 Вулли, Эдвпп Д. 248 Вульстеп. Карл 491. 492 Вуттоп, Рпченс Лейси (Дядюшка Дик) 274, 499, 526 Вэнс, Джон 584 Габорпо, Эмиль 510
Галлахтер 313
Ганписоп 263Гаррнс 538
Гаррпс, Б. Д. 222 Гаррис, Мозес 145
Гарт, Брет 7, 347, 348
Гастингс, Лэнсфорд У. 68, 69, 118, 128-136, 197 Гейпор, Джон 441 Гендерсон 116 Геркулес 198 Гилрой 74 Гиппократ 80 Глоувер, Акилла 140 Глэссок 456 Годбп, Уильям 377, 378, 465, 470, 475 Голден, Томас 268 Голдрик 503 Голдрпк, О. Дж. 275 Голдфилд459 Гомер 191 Гонсалес. Рафаэль 102 Гордой, Ричард 316 Гоуди, Алексис 182, 185 Грант, Улнсс С. 11. 438, 450, 463-465, 468, 478, 479, 481, 483, 484, 495, 502, 515, 519 Гратты 315 Грегори, Джон 267, 269, 271 Грей 511 Грейвс, Вилли 137, 138, 140 Григсби, Джон 94-96, 98, 108. 109, 112, 129, 187 Грили, Хорэйс 269. 302. 492 Грип, Тальбот X. 98, 219 Грип, Уильям 264 Грппруд, Джон 95 Грнпвуд, Калеб 61, 84, 85, 92, 94, 95, 129 Гроуш, братья 212, 245, 248, 249, 263, 296. 555 Гроуш, Аллен 245, 247, 250, 251, 294, 506 Гроуш. Хозия 245, 247, 250, 251, 204, 506 Гроэсбек, Никлас 474 Грэннис, Джон 557, 558, 560 Грэхем, Айзек 17, 22, 25, 30, 31, 37, 38, 49, 89. 122, 214 Гугепгенмы 520 Гуд. Робин 229 Гуднеар, Майлс 145, 150 Рудман, Джо 323, 339, 437 Гудунн 77 Tviih, Уильям М. 197-199, 289т 291-293 Гулд. Альва 293, 294 Гумбольдт, Александр 97 Гутьерес, Пабло 58 Гуэрра, Пабло де ла 196 Давенпорт 170 Давид 463, 580 Даггет, Роллин 459 Даггет, Стюарт 411 Данте 362 Даттон 105 Даусон. Джон 303 Дейлы 202 Дейм, Уильям 260, 489 Дейна, Ричард Генри 82, 349 Дейтц, Джертп 590, 591 Декер, Клара 310 Декер, Люси-Энн 310 Деконте, Маргерпт (см. Ma pre- рит) 27 Декстер, 507 Денвер 266 Дептон 140 Джайвен, Айзек 55 Джампс, Эдвард 276 Джанг 534 Джеймс, Джордж Уордоп 371 Джеймс, Фредерик 315 Джейн, 579 Джейхокер 188. 202-204, 207 Джейхокеры 203, 206 Дженкпнс, Джон 219, 220 Джеисен 218 Джпбсон, Томас 323 Джплберт, Эдвард 583 Джиллеспи, Арчибальд X. 103-106, 110, 116, 121, 122, 124, 126 Джиллет 455 Джилмен, Дэппэл Колт 439 Пжплшш, Уильям 180, 263, Д 324-326, 496 Яжо Бизонья Шкура (см. Хег- гииботем, Джо) 39.) Джонс,*Томас 66-68, 77, 101, М 113, 162 Джоне 266 Джонс 435 Джоне 475 Джонсон 135 Джонсон, Хайрем 242, 243,554 Джонсон, Эндрью 371, 398, 399 Джонстон 124. Джонстон, Алберт Сидни 292, 293 Джордж, Генри 409. 533. 535 Джоунс, Джон 428, 429, 436, 437 Джэксон, Джозеф Генри 229 Джэксон, Джордж А. 267-269, 271 Джэксон, Саун дере 185 Джэксон, Эндрью 374, 502 Джюда, Теодор 280-288, 293, 326-330, 332, 333, 369, 404, 409, 410, 449, 555, 600 Джюда, Чарлз 281 Дидесхаймер, Филипи 298, 335, 398, 434 Диди 596 Дизраэли 510 Диккенс 191, 339, 510 Доде, Альфонс 510 Додж 62 Допнер, Джекоб 131, 134 Доннер, Джордж 85, 129, 131, 132, 134, 147, 153, 184, 259, 402, 427 Доннер; Тамсен 130-133, 141, 422 Доннеры 136, 140 Домингес 60 Доннинг, Джекоб 397 Доу, Бэби 512, 516-520, 568-
573
Доул, Джеймс 558, 563 Доулан, Патрик 138 Друммонд, Уильям У 255 Дуглас, Джеймс 39-41, 174 Дуглас, Стефен 289-290 Дуглас, Фредерик 289, 290 Думке 550 Дэвидсон, Доналд 294 Дэвпс, Джефферсон 263, 292, 298 Дэвис, Уильям Хит 20. 44-45 Дэйви, Джон 551, 553, 554 Дэйлор, Уильям 58 Дэрби, Джордж 600, 601 Дюван 110 Дюма 510 Железнодорожные короли (см. Крокер, Чарлз; Стэнфорд, Лилэнд; Хантингтон. Кол- лис П.; Хопкинс, Марк) 532 Желтая Борода 229 Жоле 59 Иаков 224, 463.Иване 388, 389, 399 Ида 550 Идальго, Гуадалупе 198 Идальго, Мигель 10 Иеремия 374 Ингерсолл, Гоберт Г. 450 Иррон, Уолтер 137 Исаак 224 Истер, Джон 204 Кабрильо 31 Кайзер, •Уильям 415 Калверуэлл 206 Калдервуд, Джон 564 Камерон 292 Камерон, Роберт 494 Кантрелл, Джон 265 Карвер 185 Карильо, Франциска 24 Карильо, Хосе 122 Kapp 204 Карснер 516 Карсон, Кит 61, 72, 76, 77, 94, 97, 111, 112, 123, 124, 129, 181,
499
Кастро, Мануэль 122 Кастро, Хосе 31, 44, 77, 88-91, 98-102, 104, 106, 107, 112, 115-117 Кезеберг 134, 136, 139, 141 Кезеберг, Ада 140 Кезеберг, Лгоис 131 Кейзер, Себастьян 58 Кейри, Джозеф 585 Кейси, Джеймс 240, 242, 243 Келли, Дэниэл 538Келлп, Уильям 424 Колей, Бенджамин 50, 53 Келси, Сэмюэл 108, 187 Кеннеди, Джон 15 Кеннеди, Роберт 15 Кении, Джордж 601 Керлесс 489 Керн, Бен 182, 186 Керн, Ричард 264 Керц, Эдвард 111 Кертис 389 Киль, Дэн де (см. Райт, Уильям; Килль, Дэнди) 340, 341, 427, 434, 500 Килфойль 468 Кимболл. Гебср 143, 148, 195, 225, 258, 259, 306, 315, 379 Кимболл, Эллен Саундерс 148 Кинг, Генри 184, 185, 240 Кипг, Джеймс 240, 242 Кинг, Томас Старр 291 Киннан, Джон 266 Кинни 376 Кирк 203 Киркхэм 49 Кирни, Стефен Уотте 93, 94, 116, 123-127, 146, 151-153, 186 Кирни, Дэнис 533-536, 564 Клаймен, Джеймс 92, 131, 133, 155, 187 Клаппе, Файетт 226 Клаусон, Роджер 579 Клей, Генри 82 Клелланд 358 Клеменс, Сэмюэл (см. Твен, Марк) 300, 340 Кливленд, Гроувер 568, 581, 590 Клингтонсмит, Филипп 259 Клинтон, Питер 574 Кнеутсон, Ивер 538 Коварубиас, Хосе 196 Колберн 560-561 Коллин, Генри 581 Коллинз, Уилки 511 Колтон, Дэвид 418, 419 Колтон, Уолтер 117-119, 151, 152, 162, 168 Колумб 59 Колфакс, Шуйлер 464 Комсток, Генри Оладья 250- 252, 293, 294, 296 Конджер, Сэм 497, 498 Коннор, Патрик Эдвард 304- 306, 377, 380, 465, 469, 471 Кора, Чарлз 239, 242, 243, 291 Короиадо 59 Кортес 47 Котт, Мэри 311 Коуви 112 Коуди, Эдисон 232 Коуи, Джон 604 Коул, Корнелиус 285 Коулмеи, Уильям Т. 218, 219, 240-244, 533 Кофимейер, Нэд 140 Кройтцфилд, Фредерик 181, 184, 264 Крокер, Джордж 326 Крокер Чарлз (Чарли), (Чол- ли-Клоке) 208-210, 234, 281, 285, 287, 327-335, 364, 402- 405, 407, 409, 410, 412, 530, 534, 538, 604 Крокет, Дэви 62 Кроу 537-539 Крэбтри, Лотта 235, 347 Кулбрит, Ина 348 Куллом 385, 588 Кук, Гарриет 310 Кук, Ричард 376 Купер, Джон 25, 34 Кусто, Октав 21, 58 Кэп, Эдвард 94 Кэннон, Аугуст 573 Кэннон, Джордж 467, 478, 480, 483; 576, 580, 588 Кэрроэсрс, Том 551, 552 Лав, Гарри 229 Лавендер, Дэвид 495, 496 Лавлэнд, У. 500 Лаймеп, Джордж Д. 247. 426 Лаймен, Эймаса 148, 216 Лайон, Джеймс И. 396, 398 Ламех 463 Ланженес, Бэзил 94 Лаптоп, Сэпри 62, 72 Лаример, Уильям 266 Ларкин, Томас Оливер (Яикп из Бостона) 33- -38, 43, 67, 70, 79, 81, 96, 98, 99, 102-105, 114, 116, 122, V 3, 163, 169, 172, 186, 196, 197, 208 Ла-Салле 59 Левая Рука 388-390 Леви 266 8 amp;! томас 554 Лекок 511 Ли (см. СУтро Л?М26 Ли, Джон Д-260-262, 489 Ли Роберт 391, 507 Ли, Эйб 391, 392 Ливенуорт 187 Лидесдорф 103 Лиизе, Джекоб 25, 29, 44. 104, 108, 109, 235 Лиит 285 Лик, Джеймс 439 Лиллард 459 Линкольн, Авраам 131, 291, 298, 302, 324, 330, 343, 344 Лннкольн, Мэри Тодд 109, 131 Линхард 70 Линч, Джерри 336 Лонг, Стефен 61, 63, 93 Лондоп, Джек 5, 7, 552 Лорд 435 Лоу, Джордж 241 Лоуренс 266, 280 Лоуренс, Джозеф Е. 347, 348 Лоуренс, Мария 311 Льюис, Бенджамин 219 Льюис, Оскар 281, 350, 441 Лэмб, Генри 558 Лэтхэм 291 Люго, братья 221 Люгосы 23 Люси-Байглоу 311 Магомет 400 Майлс, Джон 573, 574 Мак-Алпстер 468 Мак-Грегор, Арчибальд 538 Мак-Гуиди, Томас 537, 538 Мак-Джегп, Микайя 184 Мак-Кальмонт 425-427 Мак-Кей, Дженни 316 Мак-Кей, Джон У. 350, 429- 435, 447, 448, 450, 453, 455, 457, 458, 532 Мак-Кей, Джордж 316 Мак-Кей, Уильям 581 Мак-Кип, Джеймс 464, 465, 467-469, 476-479, 483 Мак-Кинли 571 Мак-Кун, Перри 58 Мак-Кутчен, Уильям 131, 132,- 135 Мак-Лафлип, Патрик (Пат) 251, 252, 294 Мак-Магон, Грин 92, 155 Мак-Муррпп, Джозеф 581 Мак-Намара, Эйген 106 Макси (Тейбор, Макси) 394, 395, 515, 570 Максимилиан 603 Максуэлл, Джордж 470 Максуэлл, Лгосьен 94, 97 Малле, братья 60 Мальборо 500 Манаики 70, 90 Мануэль 185 Маргерпт (см. Деконте, Марге- рит) 28. 235 Мария 309, 310 Мария Магдалина 309 Маркман, Стефан 149 Марта 309, 310 Марчес 43 Марш, Джон 18, 26-30, 33, 36, 38, 43, 47-49, 53-55, 80, 82, 89-91, 93, 104, 158, 160, 172, 176, 235, 236, 510 Маршалл, Джеймс Унлсон 92, 154-159, 161, 164, 172, 173, 251, 293, 555 Мейерс, Джулиус 557, 559, 562 Мейзон, Р. Б. 160, 166, 168, 169, 193 Мейлони, Джеймс 243 Меняй 188 Мервин 114, 122, 123 Меррик, Джон Л. 322 Меррит, Эзекиль 106-108, 110 Мик, Джой 80, 95 Мик, Придди 177 Микеланджело 5 Микельторена 65, 66, 68, 77, 81, 88-92 Микер, Натан 492, 493, 504 Мнкс 510 Миллер 280 Миллер, Уильям 467 Миллер, Фрэнк 501 Миллер, Хоакин 348 Миллс, Д. О., 411, 435, 443, 447 Митчелл 144 Миэрс, Отто 495-497, 499 Моисей 142, 580 Молох 7 Монро, Джеймс 9 Монтальво, Ардонес де 32 Монтгомери, Аллен 84-87, 104-106, 110, 114-117, 120 Моптэгю, Сэмгоэл С. 326, 329, 332, 402. 404 Монтес. Лола 235 338 Морган 3S0 Морган, 551 Морип. Антуан 181 Мормон, 13 Моррис. Джозеф 375, 376 Мосс, Джон 497 Мотт, Айзек 246 Моултри, Септ 140 Мофра, Эжеп Дюфло де 44-46 Моффат, Дэвид 512 Моцарт 346 Мур 298 Муриега, Хоакпн 229 Мэггерт 326 Мэйо 361 Мэйхер, Билли 498 Мэнли, Уильям 202, 203, 206, 207 Мэри-Джейн 311 Мэрфи, 131, 141 Мэрфи, Лемюэл 138 Мерфи. Мартин 84, 85 Мэтыоз, Джозеф 109 Мюрат 273, 277 Мюрат. Кэтрин 274 Мюррей, Эли 575, 576 Наббард, Джордж 185 Най 299 Пай, Майкл 50 Найт, Роджер 317 Наполеон, Луи 88, 273, 338 Невинс, Аллан 75 Нейлсон, Уильям 591 Нефф 142 Нигл, Дэвид 598, 599 Нил 105 Нилсон, Аделаида 440 Ник, Олд 403 Нойз, Джон Хэмфри 13 Нордхофф, Чарлз 524 Нортон, Джошуа 236, 263 Нун, Джордж 502 Ньюмен, Джон 462, 463 Огдеп, Пит Скин 61 Олли, Маргерит 311 Орр, Джоп 211 Оррум, Иллиа 262 Оррум Эллп 336, 337 Осборн 295 Остнп 424 Оукс, Д. 2S0 Оукс, Тонн 347 Оурь 495. 501, 505 Оутмен 217 Оуэпс, Керри 573, 574 Падающий Лист 264 Падилья, Хуан 112 Пайк, Зебулон 60, 63, 93, 94 Пайк, Кэтрин 139 Пайк, Наоми 140 Пайпер 451, 453 Пакер, Альфред 501, 502 Палмер, Уильям 499, 500, 515, 560 Паркер 196 Парке 263, 336 Паррингтоп, В. Л. 13 Пат 275 Патридж, Эмили 310 св. Патрик 347 Патти, Аделина 450 Патти, Джеймс Огайо 61 Паунд, Дэниэл 391, 392 Педро, дон 450 Педрорена. Мигель де 196 Пейбор 493 Пенрод 294 Перальта, Луис 163 Перли 290 св. Петр 24 Пико. Андрее 122, 124, 126, 196 Пико, Пио 91, 107, 113, 115, 117 Пико, Хесус 126 Пирл, Элизабет 520 Пирс, Маргерпт 310 Пирс, Франклин 242, 253, 254 Пирс, Эпп (см. Энп) 281 Питтс 215 Поланд 482 Полк, Джеймс К. 9, 82, 103, 105, 124, 127, 146, 169 Понсе 64 Портола 32 Поук, Унллпс 532 Прайор 64 Пратт 493 Пратт, Орсон 142, 147-149, 224, 314, 462, 463, 480 п?ятт Парли П. 149, 176, 575 SSbJb. 78. 181. 185, 198 S^rJpV 108, 109 Пульман, Джордж 393, 409 Пурталес, Джеймс 560, 561 Райан, Аннабела (Белль) 239 Райли, Беннет (Черный Ястреб) 193. 199 О'Райли, Питер 2о1, 252, 294 Райолит 459 Райт, Джозеф 313 Райт Уильям (см. Килль, Дэн де) 340, 341 Ральстон 263 Рансхофф, Никлас 385 Распятый Карбонейт 510 Рассел 129, 130 Рассел, Леви 265, 266 Рассел, Оливер, 265, 266 Рассел, Уильям Грпн 264-266, 494, 503 Раунди, Джеред 579 Ревер 115 Рей, Уильям 71, 82, 92 Реймонд 475 Рейнольде, Джордж 483, 573 Ригоррет 455 Рид 139 Рид, Вирджиния 139 Рид, Джеймс Ф. 129. 131-137, 140. 147, 201 Рид, Лазарус 253 Рид, Хьюго 197, 419 Ридинг, Пирсон Б. 90, ИЗ, 165 Ридли. Роберт 58 Рииз, Джон 245, 246, 262, 295 Рииз, братья 244-246 Рипальдп 24 Рич 177. 216, 258 Ричард III 276 Рпчардс, Уиллард 148, 205 Рпчардс, Франклин 194^ 195 Ричардсон, А. А. 269 Ричардсон, Уильям 29, 104 239 Рихтгофен, фон 367 Рите, Аугуст 511, 512, 568 Роберте 461, 466, 578. 589??«™иду, Антуан 48, 49, 61 Робинсон 158 Робинсон 382 Робинсон 460 Робинсон, Алфред 79 Роджерс 206, 207 Роджерс, Хайрем 558 Роде, Джон 140 Роде, Дэниэл 140 Роквуд, Эллен 311 Ролстон, Уильям (Билли) Чэп- мен 212, 344-346, 349-352, 361-366, 368-370, 373, 423, 425-429, 432, 433, 435, 437- 448, 513, 517, 528, 590, 596, 599 Рондалл, Эндрью 243 Росс, Кларисса 310 Ротшильды 163 Роуленд, Джон 55, 56, 91 Роухайд 459 Роуэр 185 Рукер 273 Рэйбэн, братья 285 Рэндолф, Эдмунд 292 Саблетты 61, 94 Сазерлэндский 450 Салливан 595 Салливан, Джон 84, 170 Самнер 292, 293 Самуил-пророк 580 Сандельс де, 510 Сандерс, Джеймс 268 Санта-Анна 65 Сара (см. Хилл, Сара Альтеа), 593, 599 Саттер, Аугуст 173-175 Саттер, Джон Аугустус 17-23, 25-27, 30, 36-44, 46, 47, 54, 57, 58, 69-71, 74, 76, 77, 80, 87-92, 94-96, 98, 100, 102, 104-106, 110-112, 128-130, 135, 137, 139-141, 152-162, 164, 165, 171, 173-175, 197, 199, 208, 211, 235, 251, 293, 345, 419, 529 Саутуорт 531 Свифт 61 Свэн, Израэль 501 Сеймур 114 Сеймур 281 Селе, Джозеф 140 Семпл, Роберт 107, 108, 118, 151, 164, 197, 235 Сент-Врейн. Серан 61. 62, 179 Серебряная Четверка (Серебряные короли) (см. О'Брай- еп, Уильям; Мак-Кей, Джон, У.; Фейр, Джеймс; Флуд, Джеймс) 429, 431, 434, 436, 443, 444 446, 449, 457, 532 Серра, Хуниперо 24, 32, 120 Сильвер Доллар 520, 567, 570 Симпсон, Джордж 42, 43, 56 Скаутен 399 Скотт, Вальтер 43 Скотт, Джон 181, 185 Скотт, Джордж 587 Скотти Сломанный Нос 509 Слпвли, Сгозсн 311 Слоу, Мюссел 539 Слоут 104, 105, 113-115 Смайли 212, 267 Смет, Пьер Жан де 50 Смит 201, 202 Смит, Джедедиа 52, 61, 213 Смит, Джеймс 137 Смит, Джек 273 Смит, Джозеф 13, 14, 119, 142, 143, 149, 194, 223, 254, 256, 258, 309-311, 377, 462, 490 Смит, Джон 273 Смит, Джордж А. 148, 160 Смит, Сюэен 579 Смит, Хирам 14, 142, 258 Снайдер, Джон 94, 135 Споу 463 Сноу, Джорджа 463 Сноу, Лореяцо 485, 580 Споу, Элиза 311, 573 Споу, Эрастус 147, 488 Соул 170 Сненс, Дэвид 37, 102 Спенсер, Лидия 579 Спенсер, Эмилия 573 Спиэр, Натан 19, 43, 70, 104 Сполдинг, Соломон 14 Спрэг, Маршалл 560 Стайлз, Джордж П. 254, 255 Старый Вирджиния (см. Бишоп Джон) 252, 294, 296-297 Стедман, Арнольд 396 Степи, Лассен 105 Стептоу, И. Дж. 254, 256 Стпвенс, Элнша 83-87, 89, 90, 95, 129, 136, 187, 419, 605 Стпвенс, Уильям (Дядя Билли Стпвенс) 506-508 Стирнс, Эйбел 91, 116, 197, 419 Стоддард, Чарлз Уоррен 347 Стоктон 115-117, 123, 125-127 Стоуби, Чарла (Горный Чарли) 398 Стоун, Дж. Ф. 252, 320, 326 Стоун, Люси 503 Страбл 588 Стриклэнд, Оубед 464 Стронг, Дэниэл 284, 285 Строубридж, Джеймс X. (Стро) 327, 329, 331, 334, 403, 404 Стрэттоп, Уиифилд Скотт (Старик Стрэттон) 559, 561-564, 570, 571 Стэнсоп, Эдвин 351 Стэитон, Чарлз Т. 131, 132, 134-138 Стэнфорд, Лилэнд 208, 233, 281, 285, 287, 326-329, 331, 346, 404-407, 409-412, 527-531 Стэнфорд, Филипп 415 Стюард 174, 175 Стюарт, Джеймс 218, 219 Стюарт, Джордж.Р. 136 Стюарт, Уильям (Билл) М. 302, 342-344, 368, 370 Суньол, Антонио 43, 54, 174 Суоси 94 Сутро, Адольф Генрик Джозеф 335, 363, 365-373, 375, 421- 428, 436, 438, 453-456, 555, 600 Сутро, Ли 422 Сэдгуик, Джон 264 Сэнди (см. Бойэрс, Сэпди) 338 Табю, Винсент 181 Тайлер 64 Так, Эбигенл 235, 236 Такер, Ризин Дэн 140 Таккер 586, 587 Таккет, Лон 487 Тальбот, Теодор 122 Таунсенд 84-86, 89 Твен, Марк (см. Клеменс, Са- мюэл) 7, 341, 347, 348, 500 Тейбор, Аугуста (см. Аугуста) 274, 393 Тейбор, Бэби Доу (см. Доу, Бэби) 573 Тейбор, Горейс Аустин Уорнер (ГАУ) 393, 508, 511-516, 518-520, 567-572 Тейбор, Макси, см. Макси Тейбор, Серебряный Доллар (см. Тейбор, Гореис Аустин Уорнер) 336 Тейлор, Закари 195, Ш Теккерей 510 Темпль, Джон 355 Теодор 185 Терри 315 Тиббеттс 524 Тодд 94 Тодд, Александер Ш, Тодд, Уильям 109, 110 Толмейдж, Де Уитт 308 Том 31 Томас, Роберт 50 Томпсон 122 Томпсон, Айра 217 Томпсон, Джон 392 Тонопа 459 Toppe де ла 112 Тортон, Чарлз Р. 276 Траки 85 Трейн, Джордж Фрэнсис 401 Триффин, Аллен 315 Троориан, де 465 Трумэн, Бенджамин 524 Тумс, Алберт 55 Тэйлор, Джон 261, 304, 375, 481, 573, 575, 576, 579, 580, 584, 586, 587 Тэплин, Чарлз 181 Тэрри, Дэвид С. 243, 288-291, 293, 298, 320, 594, 596-599 Тэрри, Сара (см. Хилл, Сара Альтеа) 597-599 Уайды 202 Уайз, Генри Дж. 185 Уайт, Иллиа 68, 69 Уайт, Нелли 579 Уидни, Роберт М. 359, 361, 521 Уикс, Генри 220 Уилер, Бенджамин 607 Уилкс, Чарлз 45-47, 71 Уиллард 221 Уиллис, Сидни 160 Уилли сон, Джордж 398 Уилмор, Уильям 525, 545 Уплсон, Бенджамин 55, 56, 122 Уилсон, Генри 328, 330 Уилсон, Джон 17-19, 594 Уилсон, С. 281, 282 Уильяме 219 Уильяме 469 Уильяме, Айзек 122, 216 Уильяме, Бэйлис 139 Уильяме, Д. 559 Уильяме, Старый Билл 179- 184, 186 Уильяме, Томас 246 Уиндред, Роберт 218 Уитни, Элен Кимбалл 313, 466г 481 Уиттмер, Джекоб 160 Уокер, братья 380, 381, 475 Уокер, Джозеф Реддерфорд 52?,132.100,94,87,85,74,73,61 213,187,133 Уокер, Джоэл, 58, 197 Уокер, Франклин 347 Уолкотт 571 Уолл, Дэвид 269 Уоллс 507 Уолф, Джозеф 274 Уолш, Джеймс 253 Уомак, Боб 517, 555-563, 566,. 567 Уомак, Лида (см. Лида) 555… 566 Уомак-старший 555 Уомак, Уильям 556 Уонг (Уонг Сан Чи) 349 Уоркмен, Уильям (Билли) 55, 56, 91, 546 Уотсон, Джо 392, 393 Урибарри, Хуан 59 Уэбб, Энн-Элиза 311, 312 Уэйт, И. Г. 253 Уэйт, Дэвис 564 Уэллер, Джон 383 Уэллс, Генри 232, 233, 361 Уэллс, Дэниэл 465, 478, 480? 573,482 Уэлти, Леви 556, 559 Уэст, Джордж 323 Файфплд, Леви 159-160 Фальстаф 57 Фарадей 510 Фарго 232, 233, 361 О'Фарелл, Джеспер 151 Фарнхэм, Томас Джефферсон• 37, 38, 49 Фаррагут, Дэвид 242, 243 Фейр, Джеймс 1. 350, 429-435, 447, 448, 450, 453, 455, 457, 458, 532 Фенчер 258, 259, 261, 489 ?Филд, Рнчард 585 «Филд, Стефен 597-599 Филипс 27 Филлипс 4S2 Фитч 112 Фитч, Томас 423, 424, 479, 480 Фицпатрик, Томас Сломанная Рука 50, 51, 61, 63, 69, 72, 76, 123, 179-181, 221, 324 Фиш 204 Фишер, Г. У. 267 Флора 592 Флорес. Хосе 122, 125 Флотц, Гарри 339 Флуд Джеймс Клэр 350, 429- 435, 456. 457, 532 Фоллоп, Уильям 108 Фолсом 219 Фолсом, Амелия 311, 312 Форбс, Джеймс 79, 170 Фосдик 138 Фоссет 270 Фостер, 138 –Фостер, Джозеф 85-87, 141 Фостер, Джордж 139, 141 Фоулср 112 Фрай, Д'?коп Д. 351, 352 Фрайер, Джордж 511 Фремонт, Джесси Бентон (см. Бентон, Джесси) 186, 196, 197, 214, 348 ¦Фремонт, Джон Чарлз 72, 75- 78, 94, 96-116, 120, 123, 124, 126-129, 134, 144, 145, 149, 152, 153, 161, 180-186, 188. 196-200, 208, 214, 240, 244 264, 288. 293. 301, 348, 400, 402, 449, 496, 555, 561, 562 Фремонт, Лили 186, 214 Френк, Старик 247 Фри, Эммелип 310 Фритц 221 Фрост. Олив 310 Фруд 339 Фрэнк 597 Фрэнч 174 Фуллер, Фрэнк 480 ¦Фултон, Дейв 392 •Фэлпс, Уильям ИЗ Хаббел, Айзек 437 Хадсон, Уилфред 160, 170 Хадспет 129, 130 Хайд, Орсон 249, 310 Халберт 189 Халл, Спэффорд 248 Халлек 198, 199 Хамфри, Айзек 161 Хангейт 388 Хансеп, Георг 356 Хаит, Джефферсон 201, 202 Хаит, Т. Д. 168 Хантер 110 Хантер, Джеймс 317 Хантипгтон, Генри 529 Хантингтон, Зина 311 Хантингтон, Коллис П. 208, 209, 234, 281, 285, 287, 326, 328, 329, 334, 401-406, 409- 413, 415, 416, 418. 419, 527- 530, 539, 554 Хардинг, Стефен 303, 304, 377 Хардкоп 137 Харлан 129, 130 Харрисон 589 Харрисоп, Б. А. 252 Харрисон, И. Л. Т. 377, 378 Харт 537-539 Харт, Томас 263 Хартнелл, Уильям 25,.100, 102,
119, 158, 197, 235 Хатчер 179
Хаусуорт, В. А. 253, 297 Хсггинботем, (Бизонья Шкура) 392 Хейгерман, Джеймс 561 Хеймейкер, Эдвард 538 Хеймилл, Уильям 500, 501 Хейнс 448 Хейс 450. 575 Хейт, Айзек 177, 259-261, 489 Хейуорд, Алвинса 428, 429, 435 Хейфеы 400 Хендерсон 538 Хениок, Уинфилд Скотт 292 Херул 56 Хетерингтон. Джозеф 243 Хигби 260, 261 Хилз, Сильвер 279 Хилл, Мэри-Эмма 381 Хилл, Натаниэл 397, 398 Хилл, 382 Хилл, Сара Альтеа (см. Сара; Тэрри, Сара; Шарона Роза; Шарон, Сара Альтеа) 445, 590-596 Хинап, Бепишиа Бой 338 Хинкли, Уильям 19Хинслоу. Джордж 50 Хиттель 404 Холл, Мэри 274 Холл, СпэффорД 21Z Холл, Фрэнк Холмс, Рэчел dt» Х02П81?Н45? М28^ 328. 32ol S 405531.530.412,410 ',409,? Хопкпнс, Мэрн 530-532 Хопкипс, Стерлинг 243 Хотчкисс, Энос 497 Хоу, Губерт 30 Хоуард, Джон 277 Хоуард, Мэри 277 Хоуард, •Уильям 219 Хоуберт, Ирвинг 500 Хоукинс, Томас 477, 479 Хоули, Сайрус 464, 466 Хриетос, Иисус 12-14, 143, 275, 309, 310, 376. 461, 5S0 Хук, Георг 511, 568 Хупер, Уильям 462 Хэмпфрн 501
Чавес 101
Чемберлен, Джон 70 Черный Котел 388, 389 Черный Ястреб 193 Чивингтон 389, 390, 395 Чикен Билл 512, 513 Чилс, Джозеф Б. 58, 73, 74, 87, 165. 169. 187 Чингисхан 87 Чопепнпнг-младшпй, Джордж 231, 232 Чэннинг, Карлайл 509 Чэффн, братья 524. 525, 348 Чэффи, Джером 302 Шабрик 127 Шаллепбергер, Мозес 86, 87 Шарона Роза (см. Хилл. Сара Альтеа) 445, 590, 592, 593 Шарон, Сара Альтеа (см. Хилл, Сара Альтеа) 596 Шарон. Уильям М. 350-352, 361-363, 369, 371, 421-427. 429, 431-433, 435-437. 442- 447, 449, 458. 547, 590-397, 599 Шаффер, Уилсон 464, 466 шейвер, Лпонндас 253 Шексппр 339, 351, 517 Шерер, Джеймс 77-78, 244 Шеридан, Фила 465 Шерман, Упльям Текумсе 293, 327, 382 Шерман 568 Шинн, Чарлз X. 166, 167, 456 Шпрли, Дейм 226. 227 Шлпман, Генри 5 Шлнмап, Софья 5 Шпили 326 Шуилеры 93 Шуеслер X. 449 Эдаме 238 Эдди, Уильям 131, 136-139, 141 Эдмунде 386, 576. 586, 587 Эйден, Упльям 259. 260 Эйрам, Джозеф 129, 135 Элли (см. Оррум, Эллн) 338 Эллиот 109 Эллиот, Милт 135, 139 Эллис 219 Эллис, Лаура 250 Эмери, Джордж 484 Эмерсон, Р. У. 13 Эммонс, Джордж Ф. 46, 47, 54, 58, 65, 69 Энглебрехт 467-468. 478, 482 Энджел, Мэри-Энн 310 Эндрюс, Элайя Т. 183 Энп (см. Джюда, Энн; Пнрс, Энн) 282, 284, 286 Энтони 390 Эпплтон 236 Эрхарты 202 Эскаланте 60 Эшли, Упльям 61 Юзаелл. Т. А. 508, 514 Янг. Брайам 14, 15. 63, 120, 129. 130, 141-149, 153, 176, 178, 179, 188, 194, 195, 214-217, 222-225, 248, 249, 253-262. 302-312, 315, 318, 337, 345, 346, 375, 377-385, 403, 406. 460-465, 471, 474-480, 483, 484, 486-490, 587, 605 Янг, Кимбалл 312, 313, 319 Янг, Кларисса Декер 148 Янг, Финеас 143 Янг, Харриет Пейдж 148
Оглавление Ирвинг Стоун и его книга об американском Диком Западе TOC \o "1-3" \h \z Предисловие… ® Книга первая БУНТ В РАЮ Глава• I. Время, место и действующие лица 16 Глава II. Человеку хочется пеизведапного. '7 Глава III. Славиый вояка обеспокоен… 22 Глава IV. Если уж мошенники, то непременно героические 26 Глава V. Честный подлец усложняет сюжет 30 Глапа VI. Время действия наступает… 34 Книга вторая ОТКРЫТИЕ ЗЕМЕЛЬ Глава I. Джон Саттер делает решительный п!аг… 39 Глава II. «Общество пребывает в крайне распущенном состоянии» 44 Глава III. «Трудности попасть сюда - воображаемые». 48 Глава IV. Школьный учитель Бидуэлл попадает в тюрьму 53 Глава V. Гостеприимный форт… 57 Глава VI. Сцена переносится в Колорадо. «Юридическая фикция»… 59 Глава VII?. «Нет человека, которому я был бы обязан тем же, чем Фремонту»… 63 Глава VIII. Коммодор Джонс балансирует на рео… 65 Глава IX. Миллион фунтов стерлингов за изгнание американцев 68 Глава X. Фургоны? Это невозможно!… 71 Глава XI. Люди оказались достойными гор 75 Глава XII. Консул Ларкин обзаводится мупдиром и тростыо с золотым набалдашником… 78 Глава XIII. Посевы западной миграции… 83 Глава XIV. Демократическая армия выступает за неправое дело… 87 Глава XV. Партия пепреклонпых индивидуалистов.. 93 Глава XVI. «Почему капитан Фремент в Монтерее?».. 98 Глава XVII. Секретный агент… 103 Глава XVIII. В раю начинает становиться неуютпо.. ПО Глава XIX. «Опять здесь этот чертов флаг!»… 117 Глава XX. Вооруженный конфликт… 121 Глава XXI. Отмщение фурий… 128 Глава XXII. «Довольно. Это и есть нужное место»… 141 Глава XXIII. Заклятие снято. Сан-Франциско празднует день рождепия… 150 Глава XXIV. «Золото!»… 155
ifunra третья ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА Глава I «Безумие охватило мою душу!» глава И Золото найти проще, чем украсть… Глава III Какой игрок откажется от игры?… Глава IV?Люди, преданные своему делу Глава V? Верните Колорадо индейцам Глава VI Люди оказались недостойными гор… Глава VII «Как нам добраться до золота?»… Глава VIII. Новые штаты присоединяются к США. Глава IX. Долина Смерти получает свое название. Глава X. Золото в Неваде и Колорадо… Глава XI. Страна, рожденная золотом и мормонской релнгпе! Глава XII. Возникновение Комитета бдительности. Глава XIII. Дурная слава полигамии… Глава XIV. Предприимчивые молодые пепоседы Глава XV. А в Лос-Анджелесе - ни взлетов, пи падений Глава XVI. «Не стреляйте, я безоружен!»… Глава XVII. «Ребята, вы тоже вышли на эту жилу!» Глава XVIII. Побоище на Маунтин-Мидоуз… Глава XIX. «В Колорадо есть золото. Мы сами его видели!» Книга четвертая РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ Глава I. «Пик Пайка - хоть лопни!»… Глава II. «Безумный» Джюда и Большая Четверка. Глава III. Граждапская войпа приходит на Запад Глава IV. В Комстоке столько же бед, сколько золотоискателей… Глава V. Нужно очень рано вставать, чтобы застать Брайама Янга врасплох… Глава VI. У близнеца, оставшегося от варварства Глава VII…С печатными станками наготове, как только падет граница Глава VIII. «Великую Китайскую стену построили они, правда?»… Глава IX. Сатурналии в Впрджишш-Ситп. Глава X. «Приятный, веселый городок» Билли Ролстона Глава XI. Раздел страны изобилия… Глава XII. Кормушка клики Ролстона… Глава XIII. Война мормонов с иноверческими коммерсантами Глава XIV. Рождение страны - процесс трудный. Глава XV. Шпала из полированного лавра и костыль из литого золота…
Книга пятая
ГИГАНТЫ ВЫХОДЯТ НА СЦЕНУГлава I. Тигр и спрут…
!лава II. Четыре мили к минеральному ноясу… лава III. Четверо ирландцев становятся Серебряными ко-,, ролями ???? 408 421 429 437 »лава IV. Крах банка.."…'."…Глава V. Невадский цикл жизни и смерти… 447 Глава VI. «Только сила способна решить мормонскую проблему» 460 Глава VII. Пробил час Брайама Янга 476 Глава VIII. Действующее лицо - Колорадо 490 Глава IX. «Приезжайте, прихватив с собой пару револьверов» 503 Глава X. Бэби Доу находит Г. А. У. Тейбора… 512 пава XI. Климат здесь само совершенство 52! Глава XII. Они страдали; они проливали слезы; иногда они умирали… 527 Книга шестая СТАРАЯ ЭРА ЗАВЕРШАЕТСЯ, НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ Глава I. Южная Калифорния и Восемьдеся! Седьмой год 54! Глава II. Южная Тихоокеанская лишается своего забора 55! Глава III. «Это просто какой-то калечащий ручей1».. 55; Глава IV. Г. А. У. Тейбор завершает свой жизненный цикл 56? ,"лава V. Для мормонов наступает Судный день… 57•'' Глава VI. Юта - сорок пятый штат 5! Глава VII. Роза Шарона… 59!, Глава VIII. Дальний Запад позирует для портрета… 59Г I лава IX. Время, место и действующие лица… 6С, Указатель имен… 60:
Ирвинг Стоун ДОСТОЙНЫЕ МОИХ ГОР ИБ № 13759 Художественный редактор И.М. Чернышева Технический редактор Л.Ф. Шкилевич
Фотоофсет Подписано в печать 11.10.84. Формат 84x108/32 Бумага типографская Гарнитура обыкнов?. новая Печать высокая Условн. печ. л. 32,76. Усл. кр. отт, 33,08. Уч.-изд. т.33,95. Тираж 30000 экз. Заказ № 580 Цена 1 р. 70 к. Изд. № 39630- Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Прогресс" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17. Московская типография № 11 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 113105, Нагатинская, 1.
????
???? ? ? ? ?.. '//» t WWW

1 И. Стоун. Моряк в седле. Биогра-. фия Джека Лондона. М., 1962; его же. Жажда жизпи. Повесть о Винсенте Ван Гоге. М., 1980; его же. Муки и радости. Роман о Микеланджело. М., 1971; его же. Греческое сокровище. Биографический роман о Генри и Софье Шлиманах. М., 1979. 1 39 томов «West American Historical Series» были опубликованы в 1875-1890 годах. *лтпттг" ПЯМСМ! 1? ~ па«п ? ¦т. /тггггг Л rrffno ftiff¦* * *"*****»********?**!*мягтгтж'-л-гтш i-nrr.» тг/
[1] И. Стоун. Биографическая повесть. Лекция, прочитанная в Оксфордском университете. М., «Прометей», 1966, с. 336. [2] См.: С. Г. Федорова. Русское население Аляски и Калифорнии. Конец XVIII века -1867 год. М., 1971; Русская Америка в неопубликованных записках К. Т. Хлебникова. Л., 1979.
Последние комментарии
2 дней 53 минут назад
2 дней 5 часов назад
2 дней 6 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 10 часов назад